Жеральд Мессадье
«Гнев Нефертити»
ЧАСТЬ I
КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА
Пыль, запах, колдовство
Горячий порыв ветра обрушился на город Ахетатон — «Горизонт Атона». Он принес ко Дворцу царевен кисловатые запахи пивоварен и почти осязаемые ароматы пекарен. Жизнь продолжалась, а это значит, что будут еще нужны людям и хлеб, и пиво.
Зашелестели пальмы, и Великая Река покрылась рябью. На улицах новой столицы, которая осмеливалась соперничать со старой — Фивами, клубы пыли водили хороводы, дразня котов. На одной из террас Дворца царевен, находящегося недалеко от Царского, возле парапета стояла хрупкая фигурка — это была одиннадцатилетняя принцесса Анхесенпаатон. Ее изящный силуэт склонился над миром камней, людей и животных, над миром, который был закрыт для нее и который она видела только с высоты. Лишь с этой террасы она могла смотреть на владения своего отца.
Она рассматривала большую улицу, разделяющую дворцы, Великую Реку, которую много позже будут называть Нилом, еще один дворец напротив, Царский дом и немного севернее — ансамбль административных зданий. Ее губы, напоминающие фрукт кораллового цвета, разделенный на две половинки, приоткрылись от удивления. Такое скопление людей на набережной она впервые видела три дня назад, когда умер ее отец, фараон Эхнатон — «Действенный дух Атона». Но люди все прибывали: смерть фараона — большое потрясение для всех, особенно такого фараона, как Эхнатон. Это событие никого не оставило равнодушным: ни наместников в провинциях — номах — и их заместителей, ни чиновников, ни писарей всех рангов, ни землевладельцев, прибывших на кораблях, ни командиров гарнизонов, скакавших сюда во весь опор. Люди прибывали сюда со всех концов долины Великой Реки для воздания почестей останкам фараона. Ни в одной харчевне города не осталось свободного ложа; горожане сдавали даже крыши своих домов, а пивовары — зернохранилища.
Но были и такие, кто приехал с коварными планами. И, вне всякого сомнения, воры. Они спали под открытым небом, подстерегая подвыпивших завсегдатаев кабаков.
В срочном порядке предусмотрительными владельцами кабаков были приглашены танцовщицы из Хебену, Оксиринка и Гераклеополя. О том, что востребованы не только их артистические таланты, Анхесенпаатон не знала.
В толпе даже были замечены жрецы из Фив и Мемфиса, несмотря на то что между ними и фараоном в последнее время возник конфликт, ведь Эхнатон отказался от их богов, провозгласив единым богом лучезарного Атона, олицетворением которого был солнечный диск. Он и город назвал в его честь.
На самом деле всю знать интересовало лишь одно: кто будет преемником фараона. По всей видимости, им должен был стать регент Сменхкара.
Анхесенпаатон хотела спуститься, чтобы посмотреть на прибывших вблизи и поиграть с мальчишками ее возраста, которые со смехом гонялись друг за другом. Но принцессе крови, Третьей жене фараона не пристало было просто так выходить на улицу. «Как ты можешь водиться с простолюдинами!» — возмущалась ее старшая сестра Макетатон. Анхесенпаатон считала это притворством, она подозревала, что ее сестру и одну из молодых рабынь из Куша связывает крепкая дружба. Это было очаровательное создание, но такие игры Анхесенпаатон были неинтересны.
— Я умру от тоски! — воскликнула она.
От Царского дворца время от времени доносились крики плакальщиц. Анхесенпаатон, и сама готовая заплакать в любую минуту, тревожно прислушивалась.
Она все старалась отогнать всплывающую перед глазами ужасную картину: как их с сестрами привели к телу фараона. Труп был просто отвратителен!
Она еще больше расстроилась, когда вспомнила о шушуканьях, которые расползались по Дворцу царевен со скоростью сколопендр. Каждый раз при ее появлении кормилицы и служанки мгновенно замолкали.
— Что за разговоры вы ведете?
— Что вы! Мы оплакиваем фараона, — лицемерно вздыхая, отвечали те.
Но все-таки, почему эти нахалки замолкали?
Новый порыв ветра обрушился на город. На этот раз он принес горную пыль и бросил ее на ряды носилок и животных, сея разброд и смятение среди ослов и лошадей, которые успокаивались только ночью. Лошадь одного из военных с белыми страусиными перьями на шлеме поднялась на дыбы и стала лягаться, заревели ослы, раздались ругательства, и на дорогу упали горячие лошадиные лепешки. По словам кормилицы, такие ветры всегда бывают в день весеннего равноденствия, когда небесные духи начинают сражение в горах. Учитель же объяснял, что это божественный сокол Хорус взмахом крыла дает толчок возрождению природы, оттого и возникают песчаные бури. В действительности это было очень смелое заявление, потому что Хорус не считался божеством в Ахетатоне.
В любом случае результатом всех этих высших волнений была покрывающая все вокруг пыль.
Анхесенпаатон сморщилась, выплюнула скопившуюся во рту пыль и побежала во внутренние покои дворца. Пол скрипел под ее ногами. Пальцы на ногах, своей формой напоминающие лепестки миндального дерева, были серыми от пыли.
— Проклятая пыль! Полный рот этой мерзости! Это хуже, чем дыхание, вырывающееся из ноздрей Апопа!
Сейчас она была похожа на свою сестру Меритатон, когда та гневалась при появлении Главного дворцового смотрителя. Это был страдающий ожирением служитель, употребляющий к тому же каждый день чеснок и запивающий его огромным количеством вина.
— Я же просила тебя не выходить, — проворчала кормилица, ловя брошенный на ходу парик молодой госпожи.
Сначала она встряхнула его, затем расчесала плоской щеткой из конского волоса. А принцесса в это время была занята вытряхиванием пыли из складок своего платья.
Анхесенпаатон схватила маленький глиняный горшок с водой, залпом осушила его, прополоскала рот, после чего отдернула тяжелый ковер, скрывающий дверь и якобы защищающий от проникновения пыли. За дверью обнаружилась еще одна терраса, с которой открывался вид на Великую Реку. Отсюда юная принцесса выплюнула воду в сад. Вернувшись, она, приподнимая на ходу платье, направилась в ванную комнату, села на инкрустированный кедровым деревом горшок и стала слушать, как моча ударяет в его дно. После этого она, крайне раздраженная, вернулась в большой зал на первом этаже Дворца царевен. Там она присоединилась к своим пяти сестрам, которым было от четырех до семнадцати лет. Вокруг них суетились шесть кормилиц и сорок восемь рабынь.
— Сильный ветер разбудил демонов, они покинули свои логова и явились, чтобы мучить людей, — говорила одна из кормилиц.
Рабыни мыли каменные плиты, ароматизировали горшки парами ладана, собирали белье, чтобы отнести его в стирку, бросали благовония на жаровни.
Все рабыни, девушки нежного возраста — от пятнадцати до шестнадцати лет, — были полностью обнажены. И только те, у кого были регулярные женские очищения, носили на бедрах полотняные подвязки треугольной формы, в них заворачивали тряпичные прокладки, которые по требованию Меритатон девушки должны были менять три раза в день.
Снова оживились мухи.
Анхесенпаатон надела приготовленный кормилицей парик. Он был прямой и короткий — по нубийской моде. Ей не нравились эти новомодные пышные прически с локонами, такие носили жены высокопоставленных чиновников, стремящиеся казаться утонченными. Посмотревшись в зеркало из полированного серебра, царевна убедилась, что парик сидит хорошо и что контур, наведенный вокруг глаз, не смазан, несмотря на то что кожа была влажной. Затем она принялась обмахиваться веером с ручкой из слоновой кости.
— Плакальщицам не надо будет специально посыпать себя пылью, — заметила Меритатон и прихлопнула своей золоченой сандалией жирную муху, ползущую к ее ногам.
Брови сестры Макетатон, которая была младше Меритатон, от удивления поползли вверх. А четвертая и пятая принцессы — Нефернеферуатон и Нефернеферур — захихикали. Сетепенра же была еще слишком юной, чтобы заметить эту дерзость, а третья принцесса царской династии, Анхесенпаатон, едва удержалась от смеха. Старшая кормилица бросила укоризненный взгляд на свою подопечную — Первую царевну, но ничего не сказала, и вот почему: четыре года назад состоялась церемония бракосочетания царевны Меритатон с ее собственным отцом без одобрения матери. С тех самых пор она являлась Первой царской женой, а значит, именно она выйдет замуж за преемника Эхнатона. Нужно быть сумасшедшим, чтобы сознательно навлечь на себя немилость будущей царицы.
Также не следовало вызывать гнев Второй и Третьей царевен, ведь они тоже являлись царскими женами и законными продолжательницами династии. Это значит, что их мужья могли полноправно называться Царями Двух Земель. А настроение у Анхесенпаатон сегодня было как у кошки, запертой в клетке.
Две младшие сестры — Нефернеферур и Сетепенра — играли в куклы. Кормилицы делали вид, что не замечают этого: во время траура игры были неуместны. Но вот уже три дня девочки не покидали дворец, так что им позволили немного позабавиться. Утренние уроки, конечно же, были отменены.
Деревянная собака с двигающимися лапами, коза на колесиках и миниатюрная тележка, в которой сидела кукла — все это валялось тут же, на полу.
— Моя голова сейчас расколется! — простонала одна из кормилиц, усаживаясь возле стены.
— Это демон Шехакек, — с уверенностью заявила кормилица царевны Макетатон. — Он скитается вместе с песчаными бурями и насылает головные боли. Ветер гонит его с той кучи навоза, на которой он царствует.
При имени Шехакек у царевны Нефернеферуатон от ужаса округлились глаза. Этот злой дух питался экскрементами и жил в навозных кучах. Кроме головных болей он насылал такие неприятности, как желчную рвоту, прыщи и невыносимый зуд. Все это она знала не понаслышке.
— Нужно прочитать заклинание! — воскликнула Нефернеферуатон. — Иначе с нами тоже что-нибудь случится!
— Ну, так прочитайте его быстрее, и покончим с этим! — недовольно сказала Меритатон. — У меня уже болит голова от вас…
— Но я его не знаю, — простонала кормилица.
— Я знаю, — сказала кормилица Макетатон.
Она с трудом поднялась, ее грузное тело заколыхалось. Наконец она стала перед несчастной жертвой демона Шехакека.
— Посмотри на меня, — приказала она. — Хорошо. Теперь повторяй за мной: Шехакек, творение Неба и Земли, уходи! Недракксхе имя матери твоей, Чубесет имя отца твоего. Ты напал на кормилицу Паратон. Я призываю Тота, пусть он прогонит тебя. Он пронзит тебя и разбросает твои внутренности по пустыне! Прочь! Прочь! Прочь!
Несчастная повторила заклинание и уселась на место, сильно встревоженная совершенным действом.
— А у Пентью, лекаря моего отца, заклинание было длинней, — заявила Макетатон со знанием дела.
— Самое главное — назвать имена отца и матери демона, — резко возразила изгонявшая демона кормилица.
В отличие от своих младших сестер, которые не отрывали взгляда от Паратон, словно ожидали увидеть, как этот самый демон Шехакек вырвется из ее рта под действием заклятия, Меритатон наблюдала за всем этим, не скрывая насмешки.
На самом же деле кормилицу стошнило. Правда, звук при этом был такой, что наводил на мысли о сточной канаве. Макетатон вскрикнула и убежала в другой конец зала.
Паратон тяжко вздохнула.
— Как ты себя чувствуешь, Паратон? — поинтересовалась ее спасительница.
— Уже лучше, кажется, — ответила избавленная от демона женщина.
В этот момент на лестнице послышались шаги и шум голосов, и в дверях появились две нубийские рабыни. В руках у них были огромные опахала из страусовых перьев, закрепленные на разукрашенных рукоятках. У них за спиной стояли еще две рабыни.
Кормилицы поспешно спрятали всех кукол.
Вошла Нефертити.
Царица неторопливо прошла через зал. Осунувшееся, покрытое морщинами лицо. Здоровый глаз был темным, второй — таким же ужасным, как и всегда. Горькая складка у рта. Ее гордая красота увяла из-за сильных потрясений, выпавших на ее долю.
От ее свободного льняного платья, схваченного поясом с огромным узлом, исходили ароматы кедрового масла и росного ладана. Старшие царевны, как всегда, восхищались золотым лаком, которым были покрыты ногти на ногах Нефертити.
Все устремились к ней. Она обняла младшую царевну Сетепенру, затем взяла ее на руки, поцеловала и поставила на пол. Небрежно поприветствовала остальных. Самые юные пальчики схватились за ее платье, за ее руки. Лицо царицы снова приняло гордое выражение.
Служанки и рабыни оставались коленопреклоненными, при этом они практически доставали носом до самого пола, на котором ветер продолжал играть красной пылью.
— Дочери мои, царевны, слушайте меня! — произнесла Нефертити. — Завтра, в девятом часу четвертого дня будьте готовы попрощаться с земным прахом вашего отца. А вы, кормилицы, должны позаботиться о том, чтобы они явились вовремя.
Младшие сестры залились слезами, за ними разрыдались кормилицы и рабыни. Глаза Меритатон остались сухими. Беря пример с сестры, Анхесенпаатон нечеловеческим усилием воли сдержала слезы. Она уже видела тело отца, а теперь оно, должно быть, выглядело еще ужасней. Его уже давно пора было похоронить.
— Дочери мои, царевны, скоро сын Атона присоединится к своему отцу у Дальнего Горизонта, — продолжила Нефертити. — Семьдесят дней он будет готовиться к светлому путешествию на Запад.
Анхесенпаатон содрогнулась. Она вспомнила о том, что ей рассказала по секрету Меритатон. Бальзамировщики сначала разрежут живот и череп, затем достанут все, что может гнить. После этого тело будет погружено в соду, а затем натерто благовониями. Царевна снова не смогла сдержать дрожь, представив себе это.
— После прощания мы отправимся в храм на богослужение жрецов Атона, — сказала напоследок царица и удалилась в облаке благовоний, словно в доспехах.
В скором времени был подан ужин: салат из лука-порея и огурцов, жареные голуби с чесноком, утиное филе в вине с кориандром, маленькие круглые хлебцы, дыни. Это была первая горячая трапеза после смерти царя, потому что по обычаю запрещалось готовить в горшках любую еду в течение первых двух дней траура. Два дня питались тем, что было: черствым хлебом, финиками, дынями и латуком. Царевны расселись на циновке вокруг низкого круглого стола, уставленного блюдами и кубками. Там же стояли кувшины — один со свежей водой, а другой с пивом. Кувшин с пивом предназначался только для трех старших царевен.
Проголодавшаяся Анхесенпаатон приготовилась было схватить часть голубиной тушки, как вдруг взгляд ее упал на разрезанную грудь птицы. Царевна отдернула руку. Меритатон заметила этот жест и посмотрела на сестру. Анхесенпаатон отвела взгляд.
Она подумала об отце.
Он был загадочной личностью, ее отец. Внешне он был женоподобен. Он требовал, чтобы каждое утро дочери являлись к нему воздать почести, целовал их и отправлял во дворец к главному писарю, который учил их письму и вел с ними беседы на религиозные темы.
Отец… Если его можно считать таковым…
Постель вытряхнули во внутреннем дворе и очистили от возможных паразитов. Комнаты благоухали ладаном. Ароматы благовоний смешивались с пылью, висевшей в воздухе, словно символизируя два слившихся воедино события — смерть и весну. Царевны разошлись по своим комнатам, каждая в сопровождении кормилицы. Рабыни удалились в свои комнаты на первом этаже. Их юные горячие обнаженные тела были окружены ароматами сандала, а упругие ягодицы и маленькие груди покачивались в такт шагам. В опустевшем зале теперь горели шесть светильников.
Как это происходило каждый вечер, закрылись шесть цветков лотоса, плавающих в большой каменной чаше.
— Почему? — спросили однажды юные царевны.
— Потому что они тоже спят, — отвечала кормилица.
— Они закрываются, чтобы не видеть бога Анубиса, Большого Пса Смерти, который бродит по ночам, — уточнила Меритатон. — Только ты не произноси вслух его имени, — по секрету сказала она Анхесенпаатон. Из всех сестер у нее с Анхесенпаатон были самые доверительные отношения.
Имени Анубиса в царском городе Ахетатоне не упоминали. Так приказал фараон. Только один бог должен править в царстве — Атон, Солнечный Диск. Как и все остальные боги — Тот, Хорус, Хапи, Хатхор, Сехмет и другие, — Анубис был богом прошлого, богом для народа, как говорила Нефертити с презрением. Поклоняться этим богам в Ахетатоне было запрещено. Но никто не спрашивал у Меритатон, откуда она это знает.
Анхесенпаатон проснулась так же быстро, как и заснула. В ночи слышалось тяжелое ровное дыхание кормилицы, спящей в ногах, возле ложа. Царевна сначала уселась на постели, потом встала и босиком направилась в большой зал. Дверь на террасу оказалась, против обыкновения, открытой. Анхесенпаатон выглянула наружу. Над перилами склонился чей-то силуэт. Это была Меритатон, обнаженная, как и Анхесенпаатон. Вечером парики снимали, их хранили на специальных подставках. Анхесенпаатон подошла к сестре.
— Шла бы ты спать. Завтра будет тяжелый день.
— Вот поэтому я и не могу заснуть, — ответила девушка, окинув взглядом чистое звездное небо и реку, в которой отражались мириады звезд и фонари на лодках у берега.
— Ну что ты переживаешь? Ведь новой царицей придется стать мне!
— Это тебе не из-за чего переживать! — заявила Анхесенпаатон.
Тяжелый горький аромат лимона, смешанный с запахом речной воды, достиг террасы. Лягушки, как и всегда, устроили беспрерывный веселый концерт.
Меритатон ответила не сразу.
— Ты все еще не понимаешь! — прошептала она. — Теперь, когда наш отец умер, служители Амона приложат все силы, чтобы уничтожить культ Атона, основанный Эхнатоном. А так как это и наш бог, нам всем грозит опасность.
— Опасность?
— Смертельная опасность, сестра.
Анхесенпаатон вздрогнула.
— Жрецы! — воскликнула она. — Они могут нас убить?
— Тише. Здесь, в городе нашего отца, мы в безопасности. Но мы не свободны. Мы пленники. Возможно, новый царь должен будет обосноваться в Фивах. А нам там совсем не рады. Это по меньшей мере.
— А как же армия? Главнокомандующий Хоремхеб?
Это был единственный человек не из придворных, имя которого она знала. Хоремхеб был ее дядей, мужем сестры Нефертити. А еще Анхесенпаатон слышала, как кормилица рассказывала о его подвигах.
Меритатон пожала плечами.
— Этот старый хрыч? Жрецам Амона достаточно будет убедить его в том, что он станет фараоном, и армия тут же перейдет на их сторону.
После этих тревожных слов наступила тишина. Анхесенпаатон задумалась о грозящей им опасности, а затем спросила:
— Кто будет царем после отца?
— Не знаю. По праву наследования это должен быть его брат и наш дядя Сменхкара.
В памяти Анхесенпаатон возник образ молодого улыбающегося человека со слегка раскосыми глазами, с которым любил уединяться в своей царской резиденции, расположенной на другом берегу Великой Реки, умерший фараон. Сменхкара был одновременно и братом царя, и соправителем. Одно было известно точно: Нефертити его не любила. Она никогда не позволяла себе злословить в его адрес, но истинные чувства были написаны у нее на лице.
— Он очень мил, этот юноша, — мечтательно проговорила царевна.
— Так же думал твой отец, — загадочно произнесла Меритатон.
— А почему кормилицы шепчутся по углам?
— Это все равно что комары зудят. Пусть себе шепчутся. А теперь иди спать. Ты же знаешь — будет тяжелый день.
— А что говорит наша мать? — уходя с террасы, спросила Анхесенпаатон.
Меритатон снова пожала плечами.
— Мужчины. Женщины. Не знаю. Он жил со Сменхкарой.
Сплошные загадки. Анхесенпаатон замерла на мгновение — маленькая хрупкая фигурка, словно стебелек травы под ночным ветерком. А потом ушла в свою спальню.
Звезды мерцали, словно тысячи глаз. Но еще никому не удалось понять эти взгляды.
Напуганный шпион
В это же самое время в Зале для приемов, который находился на другой стороне улицы, совсем рядом с Царским домом (даже жирный гусь мог преодолеть влет такое расстояние), шесть представителей делегации жрецов из Фив беседовали за кружкой пива. От десяти лампад исходил золотистый свет. Шесть человек сидели на коленях вокруг стола, накрытого к ужину, а шестеро слуг выстроились вдоль стены.
Тихо, капля за каплей, сочилась вода из бронзовой клепсидры, отмеряя уходящее время. Среди собравшихся были Хумос, верховный жрец культа Амон-Ра в Фивах, Карнаке, Луксоре и других провинциях, самый влиятельный жрец в долине Нила, и Нефертеп — верховный жрец культа Пта в Мемфисе. Они были представителями двух некогда самых влиятельных культов в царстве, утративших свою значимость в угоду единому богу Атону. Остальные четверо были их доверенными лицами.
Еще человек десять жрецов явились в Ахетатон якобы для того, чтобы выразить соболезнование семье умершего царя. В действительности они хотели разузнать, что творится в царстве после смерти их врага. Все эти люди остановились в Павильоне для посетителей и сейчас спали.
Чтобы дворцовые слуги не шпионили за ними, Хумос и Нефертеп взяли с собой своих слуг. Уверенные в том, что они одни и могут спокойно поговорить, жрецы оставили входную дверь приоткрытой, чтобы прохладный ночной воздух проникал в зал.
Они даже и не подозревали, что рядом, в маленькой каморке кто-то может прислушиваться к их разговору. Комната, имевшая четыре локтя в длину и столько же в ширину, служила для хранения белья и скатертей. Пасар, десятилетний сын смотрителя резиденции, превратил комнату в свое тайное убежище и частенько прятался от жары в пропахшей ладаном, прохладной комнатке. Это был тоненький, как тростник, и незаметный, словно ночная бабочка, мальчик. Никто не слышал, как он вошел через ведущую в сады дверь.
— Итак, отступник наконец покинул этот мир, — произнес Хумос, крупный коренастый мужчина с плоским грубым лицом. Время от времени он бросал сумрачный взгляд из-под черных как смоль бровей. — Дело за нами.
— Тридцать семь лет… Он был еще очень молод, — заметил жрец из свиты Нефертепа.
— Говорят, сердце остановилось, — добавил его соратник, главный писарь храма Амона в Фивах.
— Это Амон оставил его без своей защиты, — съязвил Хумос.
— Боги отвернулись от всего этого рода, — в свою очередь заявил один из жрецов.
— Как бы там ни было, сейчас самое время изменить ситуацию в лучшую для нас сторону, — сказал Хумос, облизывая губы после очередного глотка пива.
— Да, тут есть над чем поразмыслить, — заметил Нефертеп и поставил свой обтянутый тисненой кожей кубок на стол.
До этого момента он не принимал участия в разговоре. Нефертеп был полной противоположностью своему собеседнику: тучный, с по-детски улыбчивым лицом, совсем не соответствующим его статусу. Пальцы на его ногах напоминали финики. Могущественный жрец пил дворцовое пиво, смешно причмокивая губами.
Остальные четверо жрецов хранили молчание.
— Возможный преемник — это Сменхкара, — сказал Нефертеп.
— Жалкий воробей, — откликнулся Хумос.
— Этот жалкий воробей возьмет в жены старшую царскую дочь — Меритатон.
— Только если мы этого захотим.
После такого угрожающего заявления наступила тишина. Все жрецы обменялись быстрыми взглядами.
— А мы разве этого не хотим? — спросил Нефертеп.
— Это зависит от того, как будет настроен регент по отношению к нам. Он и умерший фараон были близки, я бы даже сказал, слишком близки. Ему будет тяжело во всеуслышание отказаться от идеалов Эхнатона. Сначала здесь, в Ахетатоне, а потом перед всем царством, начиная с Фив.
— Если Сменхкара пожелает жениться на Меритатон, Панезию. Первому служителю Атона, останется только покориться его воле. Он послушно проведет церемонию бракосочетания и коронацию в этом городе. Я не понимаю, что мы можем тут поделать, а тем более чем мы можем объяснить причины своего несогласия.
— Прежде чем Эхнатон сделал Панезия Первым служителем Атона, — произнес Хумос, — тот был жрецом культа Амона в Гелиополе. Он умен и понимает, что теперь все изменится. Я знаю, что ему очень хотелось бы возродить наши культы. Его можно убедить отложить церемонию до тех пор, пока мы не договоримся с преемником. Нужно, чтобы Сменхкара воцарился в Фивах и чтобы он взял на себя обязательство (пусть формальное) прекратить преследования служителей культов!
Два огромных ночных мотылька кружили над этим маленьким собранием.
— Да, а он нас удивил! — заметил Нефертеп, протягивая кубок слуге, чтобы тот наполнил его.
— Еще как!
— Лучше получить половину подарка, чем не получить ничего.
— Речь не о подарке, великий и могущественный Нефертеп, а о возрождении веры. Проклятый осквернитель, чьи поступки сейчас взвешивает на своих весах Маат! Самый беспощадный враг нашего царства не причинил бы столько зла! Этот ненавистный сын Аписа приказал уничтожить все изображения священного гуся Амона во всех погребальных храмах! Он осмелился кастрировать статую бога Мина в храме города Керма. И если бы не возмущение народа, он бы разрушил и храм Анубиса! Половина второстепенных храмов закрыты! У нас забрали две трети наших земель! Пожертвования отменены! Вы не в лучшем положении, и вы это знаете.
Четверо жрецов непроизвольно отодвинулись от Хумоса. Нефертеп решил переждать, пока пройдет гроза.
— Этот женоподобный хотел нас уничтожить! — воскликнул Хумос, воздев руки к небу. — Негодяй! Какое счастье, что мы наконец избавились от злосчастного царя!
Взгляд, брошенный Нефертепом, предупредил его, что дальше говорить в том же духе опасно. Он и так сказал много лишнего. Хумос замолчал и провел рукой по своей лысой, блестящей от пота голове.
В ответ на его громко высказанное презрение к фараону, олицетворявшему бога независимо от того, жив он или мертв, присутствующие только пожали плечами — они презирали покойного долгие годы. Юный Пасар, притаившийся в своем убежище, судорожно сглотнул. Если он расскажет об этом своему отцу, то получит такую взбучку, какую не получал еще в своей жизни.
— Хочу напомнить вам, что не он один виноват в наших бедах. Эта блажь о едином боге Атоне пришла в голову еще его отцу, Аменхотепу Третьему, — заметил один из жрецов Амона, которого звали Паасу.
— Это так. Но все-таки больше всего мы пострадали именно за время царствования Эхнатона, — не согласился с ним Нефертеп. — Одиннадцать лет унижений и тяжких преследований! Ужасная бедность! И никто не вернет нам наших привилегий после его смерти. Но в конце концов, есть способы переубедить Сменхкару, этого юношу, который станет преемником Эхнатона, — надо заинтересовать его в отмене культа единого бога — Атона. Народ недоволен. На востоке царство потеряло сирийские провинции. Царь страны Куш, расположенной на юге, больше нас не уважает. В некоторых частях Верхнего и Нижнего Египта не платятся налоги. Хоремхеб не может мириться с такой ситуацией.
— Уважаемый Нефертеп, ты предлагаешь пригрозить будущему царю вторжением армии?
Пасар, который лежал в это время, скрючившись в три погибели, на ворохе надушенного белья, вытаращил от ужаса глаза. Такие имена! Регент Сменхкара! Грозный военачальник Хоремхеб! Даже его отец произносил эти имена с дрожью в голосе! А то, что они говорили об умершем фараоне… Осквернитель! Пасар подумал о царевнах, особенно о третьей, Анхесенпаатон, которой он восхищался много раз во время царских процессий. Она была прекрасней цветка лилии.
— Пригрозить — это слишком громко сказано. — Нефертеп слегка улыбнулся. — Я всего лишь поясню ему, выказывая глубочайшее уважение, естественно, что, правя царством, лучше опираться на поддержку армии, народа и священнослужителей.
Слуги снова наполнили кубки.
— Я буду удивлен, если Хоремхеб согласится на это, — заметил Хумос, посерьезнев. — Он вознесся благодаря Эхнатону. И предан культу Атона. Он не сможет так легко отречься от этого.
— Мы забыли про Нефертити, — произнес Паасу.
— Она уже давно не принимает участия в жизни царства, — отозвался Нефертеп, пожимая плечами. — Сомневаюсь, что у нее сохранилась какая-то власть. Если бы это было так, она уже избавилась бы от Сменхкары.
— Все-таки она дочь Ая.
— Да, но трон занят регентом, которого назначил Эхнатон. Вряд ли она сможет препятствовать исполнению воли своего супруга.
— А еще мы забыли про носильщика веера! И личного писаря фараона! Про отца вдовствующей царицы Ая! Так получается? — в голосе Паасу прозвучала насмешка.
— Да нет, как раз про этого старого филина мы и не забыли, — сказал Хумос.
После упоминания этого имени наступила тишина.
— Лучше иметь дело с его братом Аном. Этот остался нам верен, — снова заговорил Хумос.
— Да, но все-таки он не Ай, — заметил Нефертеп.
— Ай слишком силен, — сказал Паасу. — Он практически является царем в Ахмине. А еще он член Царского совета, и армия подчиняется ему.
— Но он тоже нечист на руку, — ввернул Хумос.
Он опустошил свой кубок, и слуга тут же снова наполнил его.
— Послушайте меня, — произнес Хумос, — мой дорогой соратник Нефертеп говорит, что на дереве еще много птиц. Это действительно так, но ни одна из них не съедобна. Все эти люди нечисты. Мы совершим страшную ошибку, если поверим, что они согласятся восстановить наши культы. Они все заодно: Царский совет, Первый придворный Тхуту, его единомышленник Первый слуга Атона Панезий, регент Сменхкара, вдовствующая царица Нефертити, а также Ай и Хоремхеб.
— Каково будет решение? — спросил Нефертеп.
— Взять инициативу в свои руки и поднять народное восстание, если они будут пытаться сохранить культ Атона. Нечто подобное уже было в Фивах во время нападения грабителей. Эхнатон пришел в бешенство. К счастью для него, Маху, начальник охраны, был его сторонником, он и спас ситуацию.
После такого предложения повисла тяжелая тишина. Ироническая усмешка тронула губы Нефертепа.
— Совсем недавно вы были удивлены, когда я предложил поговорить с преемником Сменхкарой о восстановлении могущества царства. Меня обвинили в том, что я угрожаю регенту. И что я слышу! Мой уважаемый соратник Хумос сам предлагает организовать вооруженное восстание.
Нефертеп издал звук, похожий на кудахтанье, сделал большой глоток пива и облизал губы.
— И кому же мы намекнем о восстании? — спросил он.
— Предлагаю донести это известие до ушей Ая, — ответил Хумос. — Это лучше всего. А уж он поспешит сообщить об этом Сменхкаре, Хоремхебу и другим.
— Не будем торопиться, посмотрим, что нам принесет завтрашний день, — предложил Нефертеп. — В случае чего мы предупредим Ая о надвигающейся грозе. А пока я советую всем отдохнуть, потому что завтрашний день будет тяжелым.
По уровню воды в клепсидре можно было предположить, что полночь уже миновала. Жрецы поднялись и, сопровождаемые своими слугами, направились в отведенные им покои. Три лампады остались гореть. В Зале для приемов воцарилась тишина.
Какое-то время Пасар лежал неподвижно в своем убежище. Затем он вышел в сад по малой нужде, а вернувшись, еще долго не мог заснуть.
В это же время в нескольких десятках локтей от места тайного совещания, в темном дворцовом саду сквозь пение лягушек слышались чьи-то страстные вздохи. В зарослях туи виднелись блестевшие от пота и благовонных масел два человеческих тела. Аромат нарда, которым умащивали живот и подмышки, причудливо смешивался с запахом сандала, исходившего от рук и волос. Танец страсти, сопровождаемый сотрясением кустарника, продолжался еще какое-то время.
Среди веток туи, словно ее неожиданный плод, в неверном свете звезд показалась обнаженная золотистая грудь. Затем ножка.
После пережитого экстаза два тела слились в нежных объятиях.
Теперь в саду было слышно только уханье сов, шелест крыльев летучих мышей и шорохи, издаваемые мангустами.
— Ты воплощение бога Мина!
— Всякий мужчина, которому выпала честь увидеть тебя, становится богом.
Раздался приглушенный женский смех.
— У тебя такие прекрасные жемчужные зубки!
Снова смех.
— Ты позволишь в следующий раз моему семени проникнуть в тебя?
— А что, если родится ребенок?
— Но ты ведь пользуешься мазью?
— Да, но кто знает…
— Ты скажешь, что провела ночь с богом.
В темноте снова послышался смех — как будто рассыпалось жемчужное ожерелье.
— И это называется траур!
— Что в этом плохого?
Тени разъединились. Одна медленно направилась ко Дворцу царевен. Другая вошла в реку и поплыла в сторону административных построек. Когда фигура, направляясь к реке, появилась на открытом пространстве между рекой и зарослями папируса и тростника, при свете звезд стало видно, что на стройном, словно вырезанном из металла теле блестят капли пота.
Вернувшись в свою темную спальню, влюбленная девушка сняла парик, разделась, бросила платье на кресло и вытянулась на постели. Она стала ласкать свое утомленное любовью тело, словно желая заново пережить ласки возлюбленного.
Ей вспомнилась их первая встреча.
Он был в группе писарей, прибывших через несколько часов после смерти царя по приказу Первого придворного Тхуту. Они должны были взять царские бумаги и отнести их в Архив. Она встретила его на лестнице, когда спускалась из покоев матери, которая только что прибыла из Северного дворца. Девушке сразу понравилось его уверенное нервное лицо, крепкие челюсти, красивая линия подбородка, выпуклый лоб, полные губы и округлые плечи.
Ей следовало бы отвести взгляд. Но она этого не сделала. Безумство!
А он украдкой следил за каждым ее движением. Она посмотрела на свои руки, потом показала пальцами — десять. Нет, одиннадцать. В одиннадцать часов. Безумство вдвойне! Она же царевна!
Она снова поймала взгляд юноши и указала ему на сад. Безумство втройне! Она же девственница!
Внезапная смерть фараона словно вывела ее из мрачного оцепенения, по крайней мере, на нее это так подействовало. До этого она была всего лишь куклой, игрушкой в руках отца и матери. Потрясение словно расколдовало ее — сняло заклятие.
Она была измучена вынужденным целомудрием, надоедливым вниманием кормилиц. Дворцовая атмосфера угнетала ее. Ей было семнадцать лет. Она хотела сама выбрать мужчину.
Девушка не знала, что опьянение жизнью очень похоже на смерть.
Она предусмотрительно отпустила кормилицу, ссылаясь на то, что ее храп мешает ей заснуть. Затем в назначенное время вышла на террасу. Полная луна великолепно освещала сад.
Он пришел. Жестом царевна указала на заросли кустарника — там было меньше света. Вскоре она присоединилась к нему. Это было хуже безумства!
Царевна вспомнила страх молодого человека. Ведь если бы его поймали, он бы получил сто палок. Или еще хуже. Он упал на колени перед ней. Девушка сняла платье. Это был умный и послушный юноша, к тому же очень пылкий. Он знал свое дело. Сначала действовал неуверенно, затем страстно.
Слегка хриплым голосом царевна приказала ему встать. Ее рука скользнула под набедренную повязку юноши. Безумству нет предела!
Юная царевна с удовольствием вспомнила удивленный возглас и страстное рычание молодого человека, когда она впервые в своей жизни дотронулась до мужской плоти. Она принялась ласкать его, затем целовать, а затем…
Прислонившись спиной к туе, она позволила овладеть собой. Боль. Кровь. Затем непередаваемая полнота ощущений. Объятия. Поцелуй, длящийся бесконечно.
Если бы он не ушел, она бы снова позвала его.
В это самое время в четырех-пяти часах ходу от Дворца царевен трое молодых людей, слушая хоровое пение лягушек, обдуваемые ночным ветерком, легким шагом двигались через маленький городок Хебену. Они направлялись к одноэтажному домику, расположенному на берегу Великой Реки, в стороне от других строений. Дом был заметен издали благодаря трем факелам, бросающим медные отсветы на поверхность воды, на заросли тростника и папируса у берега. При звуке цистр и кемкем, обещающих радость и блаженство, молодые люди ускорили шаг.
На пороге их встретил карлик. При взгляде на него казалось, что все его тело — это щеки и ягодицы. Он был известной личностью. Все звали его Малыш-Бес. Он и еще один такой же карлик принадлежали жене военачальника Хоремхеба Мутнезмут, которая была родной сестрой царицы. Видимо, дерзости Малыша надоели ей, и она даровала ему свободу. Через какое-то время Малыш-Бес открыл кабак недалеко от Ахетатона.
— А, наконец-то труженики Тота удостоили нас своим визитом! — воскликнул хозяин заведения. — Вы вовремя, представление начинается.
Один щелчок пальцами — и тут же появилась служанка, готовая обслужить пришедших. Девушка повела молодых людей через зал шестидесяти локтей в длину и столько же в ширину. В зале за низкими столами сидели человек двадцать-тридцать мужчин самого разного возраста. Небольшой оркестр из трех музыкантов расположился на кое-как сделанной из камней и досок сцене в центре зала. Присутствующие тем временем пили кто пиво, а кто вино или мед. Кто-то ужинал бобами или жареной рыбой, но в основном ели хлеб. Кроме того, на всех столах виднелись маленькие пучки ката. Раздались крики и смех.
— Суджо! Ренефер! Акхеру! Вот вы и попались!
Три писаря — а прибывшие были представителями именно этой профессии — выбрали наименее загроможденный столик. Их окружали друзья: торговцы, земледельцы, чиновники. Все это были люди среднего сословия. Высшая знать не посещала подобные заведения: они могли себе позволить устроить такие представления и дома.
— Что же вас так задержало?
— Составляли новые кадастры, — ответил Ренефер, у него за ухом все еще торчало перо.
Один из завсегдатаев за соседним столом закричал, перекрывая шум тамбуринов:
— Негодяи! Это надо же! Вот я расскажу вашим женам, где вы шляетесь по ночам!
— Ты мне сначала найди жену!
— Да у тебя скорее шерсть на ногах вырастет, сопляк!
Снова хохот.
Толстощекая служанка спросила, что будут заказывать новоприбывшие. Молодые люди выбрали маринованную рыбу, салат из лука, хлеб с сезамом и пиво.
— Мы вот тут думаем, что это заведение прикроют, — сказал Суджо своему соседу, писарю храма Беса, который жевал листики ката, смачивая время от времени горло глотком вина.
— Почему это его должны закрыть?
— А ты что, не знаешь? Царь умер.
— Ну и что? Я-то жив! В любом случае, он умер в Ахетатоне, а мы здесь, в Хебену. К тому времени, пока во всем царстве узнают об этом, пройдет дней тридцать. Не думаешь ли ты, что мы будем соблюдать траур тридцать дней?
— А уже известно, кто будет преемником? — спросил один из торговцев.
— Без сомнения, это будет регент Сменхкара, — ответил Акхеру.
— Ах, юная невеста! Ну-ну.
Обмен репликами был прерван грохотом дощечек и звуком тамбуринов. Карлик поднялся на сцену и жестом попросил тишины.
— Уважаемые! Сейчас вы увидите зрелище, достойное богов!
Это заявление было встречено громкими криками и шутками.
— Вот они: три танцовщицы Хатхор! — объявил карлик.
Послышался звук цистр и треск жемчужин минот, похожий на сердитое потрескивание гремучей змеи. Затем зрителей заставил вздрогнуть грохот тамбурина.
Карлик ловко спрыгнул со сцены, на которую тут же взобрались три танцовщицы. Девушки были полностью обнажены, если не считать бус, звенящих между их маленькими грудями. Танцовщицам было лет по пятнадцать. В зале воцарилась абсолютная тишина. Три девушки повернулись спинами к зрителям, они держались прямо, величественно. От вида их юных тел у всех мужчин зажигались взгляды и учащалось дыхание. И тут снова раздалось потрескивание минот. Тела танцовщиц затрепетали. Раздался грохот барабанов. Заколыхались груди. Еще барабаны. Пришли в движение ноги. Темп все ускорялся. Девушки отдалились друг от друга и стали пятками отбивать ритм. По обычаю зрители в такт щелкали пальцами. Танцовщицы начали выполнять вращательные движения. В игру вступили, заставляя дрожать деревянный помост, кемкем.
Дрожь пробрала присутствующих. Опустели кубки, а затем и кувшины. Служанки бросились наполнять их. Количество ката на столах уменьшилось.
Теперь танцовщицы казались одержимыми. Они-то причудливо изгибались, то кружились, словно весенние водовороты.
Мужчины стонали. Они все быстрее и быстрее отбивали пальцами ритм. Как ночные бабочки летят на огонь, так с каждым кругом, покачиваясь, танцовщицы приближались к столам, к горящим взглядам, к полуоткрытым ртам, к жадным, хищным рукам, хватавшим девушек за лодыжки, ягодицы и груди.
Так же, как все вокруг было заполнено звучанием кемкем и минот, так и в мужских сердцах не осталось места ни для кого, кроме прекрасных танцовщиц.
— Клянусь богом Мином! Если я заполучу одну, уж я спляшу у нее между ножек!
Оглушительный похотливый хохот сотряс воздух.
Снова заговорили тамбурины. Танцовщицы замерли. Затем, вытянув руки и хлопая в ладоши, прямые, как натянутые струны, девушки отступили в центр сцены. Жемчужины минот оглушительно затрещали в последний раз, и танцовщицы застыли, словно изваяния.
Последний удар тамбуринов. Тишина. Затем зал взорвался аплодисментами, восторженными криками, непристойностями и смехом. Танцовщицы скрылись за дверью в глубине зала. По дороге им пришлось с трудом вырываться из мужских рук, так как зрители норовили приласкать девушек.
Снова служанки наполнили кувшины и заодно угостили музыкантов.
Теперь было слышно кваканье лягушек, еще более громкое, так как шум напугал их.
Все знали, что в соседней комнате, не такой большой и не такой светлой, как общий зал, всегда ждали развеселившихся посетителей несколько продажных девиц. Но на жалованье писаря нельзя было позволить себе подобной роскоши. Они и так заплатили за этот вечер больше, чем он того стоил. К тому же один из них помнил предостережение старших: именно в таких местах быстро привыкаешь к удовольствиям.
Два зажиточных торговца удалились удовлетворить свою страсть. Остальные вернулись к прерванным разговорам.
— Возможно, управляющий объявит траур уже завтра и заведение закроют, — предположил один из писарей.
— Да ты что! Малыш-Бес дает ему на лапу предостаточно!
— И не он один!
— На самом деле, — сообщил торговец Суджо, — взяток не дают только вам, чиновникам казначейства!
— Точно! А какой в этом смысл?
Все равно все идет в казну!
В зале одобрительно захихикали.
— Лично мне все равно, жив Эхнатон или мертв, потому что налоги останутся прежними.
— Не бывает царя без налогов, — поучительно заметил Акхеру. — Даже боги нуждаются в налогах, только их сборщиками являются жрецы.
Присутствующие, согласные с этим утверждением, ухмылялись.
— А ты славный малый, угощу-ка я тебя пивком! — Торговец улыбнулся.
У лягушек наверняка был какой-то праздник, потому что их пение не утихало ни на минуту. Они же не платили налогов. Недопустимое упущение казначейства! Ведь они тоже подданные живого бога, чем они лучше других? Значит, пусть платят, как все! «То ли еще будет!» — подумал Акхеру, и на губах у него заиграла мрачная усмешка.
На следующий день посланник царского казначея прибыл в Мемфис. Он направился прямиком к городскому голове, чтобы передать ему сообщение своего господина: погребение фараона будет стоить очень дорого, а казна государства опустела, поэтому самые богатые жители города должны будут заплатить особый налог. Голова собрал после обеда самых состоятельных торговцев и землевладельцев, после чего посланник казначея изложил его требование. Лица слушающих были мрачными. Когда посланник закончил свою речь, один из торговцев заявил:
— Мы не дадим ни копейки!
От такой наглости посланник растерялся и сразу не нашелся что ответить.
— Он не был нашим царем. Его воины разрушили статуи бога Пта, покровителя и защитника нашего города, они уничтожили его изображения в наших храмах и на могилах наших родственников и друзей. Нам все равно. Пусть хоть шакалы его разорвут!
Посланник побагровел.
— Это кощунство! Речь идет о теле живого бога!
— Он не был живым богом, потому что ни один бог не позволяет себе уничтожать другого. Ты глуп, если считаешь, что мы будем платить за ленты и благовония для этой сдохнувшей гиены.
— Вы будете арестованы за святотатство!
— И кем же?
— Охраной регента.
— Нам плевать на него.
Посланник повернулся к голове.
— Приказываю тебе арестовать нечестивцев! — потребовал он.
— Ты не можешь приказывать мне. Ты приехал один, без свиты. В царстве безвластие. Царь умер, и некому занять его место. Ты просил меня созвать этих людей. Ты слышал, что они ответили.
Такое откровенное неповиновение царской власти ввергло посланника в отчаяние. Что он скажет в Ахетатоне?
— Вы еще ответите за свои слова! — гневно пригрозил он.
Присутствующие были не менее сердиты.
— А пока что получи милостыню! — сказал один из них, наклоняясь и давая ему пощечину.
Посланник в долгу не остался и влепил обидчику затрещину. Началась драка. Городской голова безуспешно пытался вмешаться, и хоть у дверей стояли человек десять охранников, ни один из них даже не пошевелился. Писарь посланника бросился на помощь своему господину, но один удар кулака распластал его на полу.
Посланник казначея был быстро побежден. Весь в крови, он сначала кричал, потом потерял сознание. Его вынесли на улицу и бросили на землю.
Три дня понадобилось несчастному, чтобы восстановить силы на обратную дорогу. Вернувшись в Ахетатон, он рассказал Тхуту об устроенной ему встрече.
В царстве хватало забот и помимо распоясавшейся знати в провинциях, но тем не менее рассказ посланника разгневал Тхуту. Торговец был прав: безвластие царило в Двух Землях.
Нельзя управлять царством, опираясь лишь на слабый чиновничий аппарат.
Дерзость мух
Мертвец — это не живой человек, лишенный жизни, это нечто совсем другое. Смерть думает, что хватает живое. Ха! Как только она заполучает его, у нее в руках оказывается не то, на что она рассчитывала.
Это осознавали шесть принцесс, пришедшие вместе с матерью, величественной как никогда, оказать почести отцу, перед тем как его тело будет перенесено в Царский дом. Там в течение семидесяти дней бальзамировщики будут работать в поте лица над его сохранением.
Тело покоилось на торжественно украшенном ложе, обтянутом вышитой тканью и снабженном позолоченной талью для переноски. Ноги отца казались крупнее и более плоскими, чем при жизни, а живот вздулся из-за начавшегося брожения. Заостренное лисье лицо. Челюсти сжаты ремнем, к которому крепилась заплетенная фальшивая борода. Мертвенно-бледная кожа.
Эта жуткая оболочка была тем не менее вместилищем власти — тиранической власти, навязавшей всей стране культ Солнечного Диска.
Царевны оцепенели, слезы навернулись на их глаза. Это был их отец. Царь. И вот что осталось от него!
Служитель Ка стоял в ногах ложа, его голый череп блестел от пота.
Пришедшие женщины расположились по правую сторону, около сводного брата покойника и соправителя царства, Сменхкары, за которым стоял его слуга с веером. Сменхкара, двадцатилетний юноша с таким же лисьим лицом и четко очерченным ртом, как и у его сводного брата, был гурманом и любителем наслаждений. У него был такой же узкий торс, как у умершего фараона, но менее растянутый живот. Сейчас Сменхкара был печален и серьезен. Он взглянул на только что вошедшую Нефертити, но тут же отвел взгляд.
Отстраненная от жизни царской семьи, затем на протяжении трех лет лишенная власти в пользу Сменхкары, Нефертити теперь являла собой лишь свою тень. Ее присутствие было необходимо только для соблюдения формальностей. Нефертити одолевали горестные воспоминания.
Прямая как струна, с мальчишеской фигурой, она была одета в просторное тонкое льняное платье, на ногах у нее были позолоченные сандалии, ногти накрашены золотым лаком. Одноглазая — так называли ее враги: жрецы и их окружение. Войдя, она окинула своим страшным взглядом собравшихся, сразу определив, кто из них враг, а кто друг.
С этим взглядом была связана одна легенда. Во время какого-то праздника во дворце один из придворных протянул Нефертити чашу с вином и допустил при этом непростительную оплошность — подошел к ней слева. Царица только взглянула на чашу, и она разлетелась вдребезги. Стали поговаривать, что ее левый глаз опасен. Нефертити знала это, и с тех пор, если она подозревала кого-либо в нечестности, закрывала правый глаз, чтобы нагнать на нечестивца страху.
Около Сменхкары стоял мальчик с нежным личиком, с ласковым взглядом и со столь тонкими руками и ногами, что они казались сделанными искусным ювелиром. На нем были позолоченные сандалии из кожи теленка, которые не позволяли этому нежному созданию прикасаться к грешной земле. Это был Тутанхатон, последний сын Аменхотепа Третьего. Он приходился двоюродным братом и усопшему, и его преемнику.
Напротив, слева, стоял Первый придворный Тхуту, человек львиного телосложения. Казалось, на его лице прибавилось морщин.
У Первого слуги Атона, Панезия, лицо и тело были как у совы.
Рядом с ним стоял Царский писарь, хозяин Царского дома, аристократ первого ранга, Главный целитель царской семьи, Приближенный к телу фараона — Пентью. Он был чересчур худым для своих пятидесяти лет, а его прищуренные ястребиные глаза так и сверлили присутствующих на церемонии.
У Майи, сорокалетнего военачальника, властителя Двух Земель, интенданта Царского дома, Усмирителя Атона, Царского писаря, Смотрителя Всех Царских Дел было бесстрастное лицо и нос с горбинкой. Он был членом Царского совета.
Нахтмин, наследный принц, двоюродный брат Ая, отца царицы, Носитель королевской печати Нижних Земель, был членом Царского совета при отце умершего царя. Теперь он возглавлял фиванские гарнизоны и отряды наемников, которые следили за порядком и в Ахетатоне.
Хоремхеб стоял насупившись. Это был краснолицый мужчина, шея и тело которого были как у быка Аписа, руки походили на колотушки для стирки, а огромные ноги имели цвет сырого мяса, пролежавшего целый день на солнце. Ему подчинялись гарнизоны Мемфиса, но больше он был известен как победитель мятежников страны Куш. Время от времени он бросал взгляды на свою жену Мутнезмут, младшую сестру Нефертити, которая держалась от царицы на почтительном расстоянии, так как не считалась членом царской семьи. Ходили слухи, что младшая и старшая сестры недолюбливают друг друга — Мутнезмут не выносила высокомерного тона своей сестры.
Еще здесь были Уерсеф, Глава гарнизона Ахетатона, сухощавый тип с постоянно меняющимся выражением лица, и Маху, Начальник царской охраны, маленький человечек с крохотным лицом, которое казалось высеченным из ядрового дерева.
И Ай. Ему было уже пятьдесят пять лет. Квадратное лицо, изборожденное тонкими морщинами. Его прозвали «принц Ахмина» ввиду его полного господства в этой провинции, расположенной к югу от Ахетатона, а также из-за огромных богатств, которыми он там владел. Командующий царской конницей.
Носитель царского веера, Царский писарь, двоюродный брат Нахтмина, зять Аменофиса Третьего, так как его сестра вышла за него замуж, тесть Хоремхеба, мужа Мутнезмут. И конечно же, член Царского совета. У него был и более важный титул: зять умершего царя, так как Ай был отцом Нефертити. Сейчас он смотрел на нее, и его взгляд был загадочным. У его дочери было не менее загадочное выражение лица. Все это заметила Меритатон.
Кроме того, здесь присутствовало большое количество высокопоставленных лиц, писарей и жрецов из сорока двух номов царства.
И разумеется, не обошлось без Хумоса и Нефертепа, чье присутствие было в некотором роде оскорблением по отношению к умершему, потому что они были представителями двух культов, наиболее преследуемых слугой Атона. Но всегда стремившийся примирить их и регента Сменхкару Первый придворный и Главный распорядитель церемоний Тхуту рассудил, что им нельзя запретить принимать участие в церемонии прощания. Все-таки Эхнатон был повелителем Двух Земель, следовательно, и всех культов. Великий жрец Панезий был такого же мнения. Но каждый знал, что все жрецы договаривались, как воры на ярмарке. Представители гонимых культов никогда не выступали против Панезия: они ненавидели только фанатика, который навязал им этот абсурдный культ Атона.
У входа выстроилась сотня вооруженных до зубов воинов, а снаружи все пространство запрудила толпа: дворцовые служащие и жители Ахетатона.
Повсюду мелькали мухи, легкомысленные, бестактные и дерзкие до невозможности. Эти младшие сестры кузнечиков пользовались тем, что непосредственно не участвовали в ритуале, и лезли везде, норовя попасть кому-нибудь в рот.
Тишина, наполненная дымом фимиама, была оглушающей. Было слышно даже урчание в чьих-то желудках. Внезапно младшая из царевен, Сетепенра, разрыдалась. Никто не двигался.
Анхесенпаатон взяла ее за руку, погладила по щеке и прижала к себе.
Служитель Ка взмахнул рукой. Писарь принес ему папирус, который извлек из футляра, торжественно развернул и протянул ему. Нефертеп отметил, что у документа был такой вид, будто его только что изготовили.
— Слава Атону, верховному властителю неба, который решил сегодня вернуться в свою небесную обитель, — начал служитель Ка.
Хумос вытаращил глаза. Это был какой-то новый текст. Нефертеп и другие жрецы внешне выглядели бесстрастными.
— В первый день первого месяца возрождения, на семнадцатом году твоего правления в Двух Землях ты решил снова завладеть своей земной душой и отправить ее в большое путешествие по твоим владениям.
Нефертеп чуть заметно скривился: ни малейшего намека на Амон-Ра, Хоруса, Анубиса, Тота, Мут. Ничего нового, все тот же фанатизм. Высокие стены зала аудиенций дрожали от зычного голоса Ка.
— Мир тебе, мир тебе, божественная живая душа, поражающая своих врагов! Твоя божественная душа и твое божественное тело с тобой в высшем царстве Атона!
Сменхкара пристально всматривался в лица служителей многочисленных культов, вне всякого сомнения, возмущенных тем, что не упоминались имена богов, которым они верно служили. Этот новый текст Эхнатон составил лично.
Нефертити оставалась бесстрастной, она держалась гордо, словно статуя. Казалось, она игнорировала взгляды, которые ее отец Ай бросал время от времени на свою дочь и внучек.
Муха села на нос царя. Слуга Ка продолжил свою речь:
— Ты не вкусишь земли, ты не растворишься в почве…
Анхесенпаатон увидела муху. Первым делом ей захотелось прогнать ее. Меритатон незаметно, но решительно остановила ее.
Хоремхеб ударил себя по щеке — муха упала на пол.
— Твоя душа в тебе, в твоей груди, твое тело принадлежит тебе…
Анхесенпаатон замерла. Ее учитель конечно же рассказывал ей, что цари не умирают, а всего лишь покидают свою телесную оболочку, чтобы достигнуть небес. И все же слова, которые произносил Ка, ничего для нее не значили.
И вдруг в этот момент ее сестра Нефернеферуатон чихнула. Чихнула! Хуже приметы просто не бывает! Тяжелый взгляд Нефертити скользнул по юной царевне. Анхесенпаатон с силой сжала руку маленькой нахалки. Девочка всхлипнула.
Еще одна муха села на левую бровь мертвеца. Дерзость этих летающих созданий была недопустимой. Неужели они не понимают, что бросают вызов царю мира?
К счастью, Ка закончил читать папирус. Панезий направился к останкам царя. Шестеро жрецов внесли на золотом подносе двойную корону, символ священной божественной власти. Но они не надели ее на Эхнатона, а продолжали держать поднос на уровне его головы. Затем подошли четверо жрецов с похоронным паланкином и, повинуясь приказу хозяина храма Атона, подняли его и медленно направились к высоким дверям. Следом за ними двинулись жрецы с двойной короной, соправитель Сменхкара, царица и ее дочери, а затем другие высокопоставленные лица. В таком же порядке они прошли мимо окаменевшей стражи и так же медленно пересекли двор.
Оказаться под серебряным небом для Анхесенпаатон было настоящим избавлением. Запах фимиама наконец улетучился, она могла дышать глубже. Царевна не знала, дышат ли мертвые, но у нее создалось впечатление, что в ее груди осталось дыхание умершего отца.
Процессия дошла до дворцовых ворот, вклинилась в толпу, которая ожидала снаружи, пересекла улицу и подошла к Царскому дому, затем пересекла еще один двор и оказалась во дворце. Войдя в большой зал, Ка сделал знак носильщикам поставить носилки на возвышение. Паланкин установили на столе с ножками в виде львиных лап. Двенадцать бальзамировщиков уже находились здесь. Ка торжественно поднял руку — золотые двери закрылись. Царской семье, высокопоставленным лицам и жрецам теперь можно было удалиться.
Бальзамировщики вооружились ножами из обсидиана и бронзы и готовы были приступить к своей зловещей и одновременно священной работе: они должны были обтереть труп кедровым маслом, очистить кишечник, затем удалить мягкие части и червей, потом погрузить его в содовую ванну, а после поместить в чашу с алебастром. Началась мумификация. Через семьдесят дней царская мумия должна будет совершить свое последнее земное путешествие к месту захоронения, куда будет доставлено движимое имущество, дары и приношения, всевозможные предметы роскоши, необходимые для того, чтобы вечная жизнь того, кого больше нет, была комфортной.
Царица и ее дочери ушли, сопровождаемые служанками, носильщиками вееров и рабами.
Какой-то мальчишка из толпы смотрел на них округлившимися от ужаса глазами.
Анхесенпаатон, довольная тем, что оказалась наконец на улице, куда она страстно желала попасть, шла позади процессии и разглядывала подданных своего отца. Они улыбались ей, умиленные ее нежной красотой. Юная царевна, в свою очередь, искренне улыбалась им в ответ.
Внезапно к ней подбежал запыхавшийся парнишка, он был такого же роста, как и царевна. Оказавшись в самом центре процессии, он приблизился к Анхесенпаатон, быстро сунул ей в руку плоский камень и исчез в толпе, поражаясь смелости своего поступка.
Удивленная Анхесенпаатон принялась рассматривать камень. Может, это какая-то игра? Беспокойное выражение лица мальчишки заставляло думать иначе. Она почувствовала, что сейчас не время рассматривать камень. Возможно, это было какое-то послание. В этот момент подошла кормилица и передала ей требование царицы присоединиться к процессии.
Часом позже, когда лучезарный Атон раскалил добела долину Великой Реки, так что исчезли все тени, царица удалилась в свои покои. Юные царевны последовали ее примеру. Меритатон пожелала слегка перекусить и потребовала, чтобы ей принесли хлебцев, инжира и миндального молока с медом. Никто не издавал ни звука. Мрачная церемония обессилила всех: царевен, кормилиц, служанок и рабынь. Казалось, что все чувства: зрение, вкус, обоняние, слух и осязание — были усыплены присутствием смерти. Вскоре Меритатон уединилась в своей комнате, чувствуя, что ей необходимо отдохнуть.
Анхесенпаатон тоже пошла к себе. Она раскрыла ладонь и стала изучать камень. На нем она обнаружила пять строчек, это было иератическое письмо.
Месть женщины
Сменхкара и те, кто отныне являлись его подданными — ведь обладая титулом регента, он по закону наследовал трон умершего фараона, — решили отправиться в Царский дом. Они обошли высокий фасад здания, вздымающийся над всей улицей, чтобы пройти через сады. В последующие семьдесят дней, пока не завершится бальзамирование, вход в большой зал частных аудиенций будет запрещен. Помимо личного писаря регента сопровождали Первый придворный Тхуту, Панезий, Первый слуга Атона, их собственные писари и носильщики вееров — всего около тридцати человек.
— Где Пентью? — спросил Сменхкара.
Никто его не видел.
— А Майя?
Этот тоже исчез.
Подходя к ведущим в сад дверям, они были удивлены, увидев там с полсотни вооруженных до зубов стражников.
— Ты вызвал стражу, господин? — спросил Тхуту.
— Нет, — ответил Сменхкара, нахмурившись.
Они еще больше удивились, когда оказалось, что страже отдан приказ не пускать их.
— Приказано не пускать регента Сменхкару в Царский дом! — заявил стражник.
Сменхкара и его спутники на какое-то время потеряли дар речи.
— Кто отдал приказ?
— Уерсеф, начальник гарнизона Ахетатона.
Сменхкаре понадобилось некоторое время, чтобы осознать услышанное. Он повернулся к Тхуту и приказал:
— Приведи моих лошадей из конюшен.
Не успел Тхуту броситься выполнять приказ регента, как командующий заявил:
— Регенту Сменхкаре запрещается использовать царских лошадей. Конюшни охраняются.
Сменхкара побледнел. Он и его свита обменялись недоуменными взглядами. Так как власть ему досталась по велению умершего царя и он все еще не был коронован, Сменхкара не имел права отдавать приказы; он зависел от Царского совета, который еще даже не собирался для подтверждения его полномочий.
— Идемте, — сказал он.
И они покинули сад. Оказавшись на улице, Сменхкара заявил:
— Мы идем к начальнику гарнизона. Я хорошо его знаю.
Будучи регентом, Сменхкара поддерживал доброжелательные отношения с Уерсефом, и теперь ему стало ясно, почему тот чувствовал себя неловко во время прощальной церемонии.
Казарма находилась в получасе ходьбы от Царского дома, в северной части города. Уличная толпа с удивлением смотрела на движущийся пешком царский кортеж.
Когда они дошли до казарм, оказалось, что у начальника гарнизона как раз время послеобеденного отдыха. Сознающий зыбкость положения регента, но знавший о его хороших отношениях с Уерсефом охранник согласился сообщить начальнику гарнизона о приходе гостей. Через несколько минут Уерсеф вышел поприветствовать Сменхкару и его свиту, на ходу поправляя парик, надетый в знак уважения к высокому гостю. Он преклонил колено перед юношей, и это был еще один знак уважения.
— Кто приказал тебе не пускать меня в Царский дом? — спросил Сменхкара.
— Царица, почетная регентша.
— Но ведь регент я!
— Я всего лишь выполняю приказы, почтенный регент. Вчера вечером неполный Царский совет назначил Нефертити преемницей Эхнатона. Там присутствовали Майя, Пентью и мой господин Нахтмин. И Ай, конечно.
— Нахтмин тоже был там?
— Да, господин.
— Но ведь он не является членом Царского совета!
— Ему вернули все его полномочия. Он ничего не мог сделать, ему оставалось лишь согласиться с решением трех остальных членов совета. Его убедили, что Хоремхеб согласен с этим.
Сменхкара опустил взгляд и задумался. Это был захват власти, устроенный в страшной спешке, несомненно, Нефертити и ее отцом. Это была месть женщины, властной женщины. Нефертити хорошо знала вкус власти. Она не могла простить Сменхкаре того, что последние три года была отстранена от управления страной, не говоря уже о том, что он отнял у нее любовь мужа. Но власть она могла себе вернуть!
Сменхкара прекрасно понимал ее. Но он не был готов к столь внезапному повороту событий.
— Почтенный регент, не испытываешь ли ты жажды? — спросил Уерсеф. — Я был бы счастлив предложить тебе и твоим спутникам холодного пива.
Сменхкара кивнул. Жара становилась невыносимой. Уерсеф отдал приказ, и тут же были принесены три глиняных кувшина и кубки.
Утолив жажду, гости поняли, что им больше нечего делать в казармах.
— Господин, — произнес Тхуту, — время не стоит на месте. То, что происходит, недопустимо. Позволь предложить тебе воспользоваться гостеприимством моего дома. У нас будет достаточно времени для раздумий.
— А не навестить ли нам прежде Нефертити?
Панезий сложил губы в лукавую усмешку.
— Господин, — отвечал он, сознательно называя Сменхкару его старым титулом, — чего ожидает женщина, которая только что нанесла поражение противнику? Протестов. Ты достаточно проницателен, и тебе известно, что это было бы еще одним признанием твоего поражения. Она считает, что у тебя много возможностей. Твое молчание будет признаком презрения, что еще больше обеспокоит ее. Верь мне, если до ночи ты не явишься к ней выразить свое возмущение, она не сможет спокойно заснуть.
— Но что мы сделаем после? — спросил Сменхкара, признавая его правоту.
— Сегодня вечером мы соберемся в доме Тхуту. — И, обращаясь к последнему, Панезий добавил: — Позволь мне привести кое-кого к тебе на ужин.
— Твои люди будут желанными гостями в моем доме, — ответил Тхуту.
«Любопытный тип этот Панезий! — подумал Сменхкара. — На чьей же он стороне? Он должен был принять сторону Нефертити, истовой защитницы культа Атона, однако примкнул к побежденным…»
Божественная царевна, верховные жрецы Хумос и Нефертеп собираются поднять восстание с помощью Хоремхеба. Вы в опасности.
Анхесенпаатон села на свою постель. Какое странное послание! И получила она его необычным способом. Она не знала, что и думать. Царевне ничего не было известно о политических интригах, она не знала, кто такие Хумос и Нефертеп, ей было известно только имя ее дяди Хоремхеба. Но девушка чувствовала, что послание очень важное.
С камнем в руке она вышла из своей комнаты на террасу и отправилась к Меритатон, чьи покои были рядом. Старшая сестра спала, лежа на спине, практически обнаженная. Ее дыхание было тяжелым. Какое-то мгновение Анхесенпаатон любовалась грудью своей сестры, кожа которой блестела от пота, а потом села на постель и положила руку на ногу сестры. Дыхание Меритатон прервалось, два или три раза она даже слегка всхрапнула. Потом открыла затуманенные сном глаза.
— Что случилось? — встревоженно спросила она.
Анхесенпаатон протянула ей камень.
— Откуда это у тебя?
— Да вот, когда мы возвращались, какой-то мальчик сунул мне это прямо в руку.
— Мальчик?
— Да, мой ровесник.
Меритатон рассматривала плоский камень. Почерк детский.
— А кто такие Хумос и Нефертеп? — спросила Анхесенпаатон.
— Верховные жрецы культов Амона-Ра в Фивах и Пта в Мемфисе.
— Амона-Ра?
Анхесенпаатон даже не знала имени верховного бога, которого ее отец изгнал из царства.
— А кто такой Пта?
— Я все тебе объясню. А ты раньше видела этого мальчишку?
— Никогда. Я не сразу поняла, что произошло, когда он положил камень в мою руку.
Меритатон казалась озадаченной.
— Самое худшее, что все это правда.
— Давай спросим у кормилицы…
— Да ты что!
— Тогда давай спросим у матери!
— Нас отлупят, как убогих немытых крестьян. Принимать какие-то послания из рук неизвестного мальчишки! Ты не в своем уме!
Меритатон встала, босиком направилась к кувшину и напилась пахнущей розовым маслом воды. Затем она взяла из вазочки абрикос и съела его с задумчивым видом.
— Мне почему-то кажется, что ты знаешь, как понимать это послание. Так объясни мне! — воскликнула Анхесенпаатон, теряя терпение.
— Тише! — приказала Меритатон. — Ты разбудишь кормилиц.
И снова села на постель.
— Раньше в царстве почитали многих богов. Амона-Ра, Пта, Хоруса, Осириса, Исиду и многих других. В их храмах служили многочисленные жрецы и их помощники. Наш отец решил уничтожить эти культы, и доходы жрецов иссякли. Поэтому они его ненавидят. Теперь, когда он умер, они плетут интриги, чтобы возвратить свои привилегии. Понимаешь теперь?
Анхесенпаатон пристально смотрела на сестру, ее глаза округлились.
— Почему нам никогда не рассказывали об этом?
— Потому что это было запрещено! — Меритатон тяжело вздохнула.
— Так вот о чем шепчутся по углам кормилицы!
— О чем только не сплетничают эти кумушки! — проворчала Меритатон.
— Почему ты разволновалась?
— Потому что это послание очень похоже на правду. Только я не знаю, что мы можем сделать, не знаю, как его понять. Это же ясно: трон пустует, и многие страстно желают его занять.
— Кто?
— В первую очередь наша мать. Затем Сменхкара. Наш дед Ай. И многие другие, я в этом не сомневаюсь.
Анхесенпаатон смотрела в небо через открытое окно. Окружающий мир был непонятным. Хуже того, он был угрожающим.
— А как же мы? — еле слышно спросила она.
— Видно будет, — философски заметила Меритатон. — Мы всегда сможем найти себе мужей, разве нет?
Анхесенпаатон хотела было возразить, но охватившее ее беспокойство помешало ей это сделать. Послание, переданное мальчишкой, ничем не могло помочь. И вообще, откуда он получил такие сведения?
Бывший Хранитель царского гардероба обливался потом не только от жары, но и от охватившего его волнения. Пот тонкими ручейками струился по его атлетическому гладкому телу с матовой кожей, по лбу, по ожерелью — символу царской милости, и стекал к пупку.
Нефертити сидела в кресле из эбенового дерева с блестящими золотыми подлокотниками и смотрела на подданного, вперив в него тяжелый взгляд.
— Значит, теперь ты без работы, — сказала она.
— Да, божественная госпожа.
Кому теперь нужны две сотни льняных одеяний умершего царя, набедренные повязки из того же материала с вырезами и без? Роскошные плащи? Дюжины сандалий из кожи и золота, инкрустированные драгоценными камнями? Золотые пояса, украшенные драгоценностями? Золотые нагрудники с редчайшими звездообразными сапфирами из Тапробана?
— С имуществом все в порядке?
— Да, божественная госпожа. Сундуки опечатаны.
— Мне нужны будут драгоценности.
— Да, божественная госпожа. Есть еще сундуки регента.
Нефертити ничего не сказала. Она должна посоветоваться с отцом насчет этих драгоценностей. Следовало уточнить, принадлежат ли они лично Сменхкаре или Царской казне.
— Они спали в одной постели? — спросила она.
Пот все сильнее струился по телу прислужника.
— Да, божественная госпожа. Царь приказал изготовить двойную постель.
— Как ты думаешь, кто из них был женщиной?
Непристойный вопрос поразил Хранителя гардероба, он как будто получил пощечину. Несчастный судорожно сглотнул. Неправильный ответ мог стоить ему не только места, но и жизни.
— Я не знаю, божественная госпожа, — ответил он сдавленно.
— Говори. Здесь только я.
— Я не прислуживал по ночам, божественная госпожа.
— Зато ты проводил с ними целые дни. Говори же!
— Божественная госпожа…
— Говори! Я точно знаю, что ты воровал у царя.
У несчастного хранителя закатились глаза.
— Наш господин… — наконец смог он выдавить из себя.
Царица помолчала, прежде чем спросила:
— А ты?
Казалось, он вот-вот потеряет сознание.
— Что я?.. — пролепетал он, вытаращив глаза.
— С кем ты спал?
Ее взгляд пронизывал насквозь.
— С ними обоими?
Он кивнул.
— Был еще кто-то?
— Иногда… Во время прогулок на «Славе Атона», — пробормотал он.
Царская лодка теперь стояла на якоре перед Дворцом царевен. Нефертити вспомнила семейные прогулки, для которых эта лодка вначале предназначалась. Радостные крики ее дочерей. Дынную кожуру, которую они бросали в воду, чтобы посмотреть, как крупные рыбы гоняются за ней…
— Кто знал об этом?
— Никто, божественная госпожа. Это было тайной.
— Иди, — сказала она, — можешь оставить у себя то, что украл. Ты остаешься на службе в Царском доме до моего решения. Если ты кому-либо передашь хоть одно слово из этого разговора, я прикажу забить тебя палками до смерти. Почему ты плачешь? — спросила царица, когда он уже уходил.
Несчастный обернулся.
— Мой господин… был добр ко мне. Я думаю о потерянном счастье…
— Я тоже.
Наконец он покинул комнату, низко опустив голову. Нефертити вышла на террасу. Ее взгляд скользнул по Великой Реке и остановился на «Славе Атона», которая вызывающе покачивалась перед Дворцом царевен. Нефертити было невыносимо смотреть на нее, поэтому царица вернулась в полумрак своей комнаты.
Она уже давно догадывалась о том, о чем только что услышала. Эхнатон был человеком с двойственной натурой. Завоеватель, высшее счастье которого быть завоеванным. Носитель двойной короны, мужчина и женщина. Бесплотный возлюбленный Диска Атона и существо из плоти и крови, любовник своего любовника. Но все-таки она познала счастье — до появления Сменхкары, сына миттанки. Словно змей Апоп, соблазнил он своего брата свежестью пятнадцатилетнего тела. Сначала он убедил Эхнатона жить с ним в Царском доме. Затем он перебрался в новый дворец, построенный для них в Меруатоне. Потом получил титул регента. Сменхкара вытеснил ее. Сначала как жену, а затем как советницу царя и хранительницу престола.
Все эти великолепные барельефы и фрески, которые изображали царскую чету в окружении детей, купающимися в лучезарном свете Атона и семейной любви, изображения царя, целующего свою самую младшую дочь… Вдруг и придворные, и народ поняли, что все это было ложью. Потом ей доложили, что появился барельеф с изображением обнимающихся Эхнатона и Сменхкары. Тогда она влепила пощечину посланнику, сообщившему об этом.
Она не впала в немилость, нет. О ней просто забыли. И причина ей была известна: своему мужу она рожала только дочерей. В подобных случаях говорили, что семя слабое. Доказательством этому был и ребенок, которого родила Эхнатону сожительница. Это тоже была девочка, и она умерла во младенчестве. Но Эхнатон отказывался признавать слабость своего божественного семени. Раздосадованный, он покинул царское ложе.
Нефертити попросила помощи у своего отца Ая, но тот ничем не смог помочь. Она обращалась к своей сестре Мутнезмут, жене Хоремхеба, и та посоветовала ей завести любовника и родить наконец мужу сына, пусть и незаконного. Но возраст, благоприятный для зачатия, уже прошел. Ее чрево отныне было так же бесплодно, как и у проклятого демона Сменхкары.
Нефертити страдала долго и молча. Слезы жемчужинами блестели в глазах царицы. А теперь жена живого бога должна была изображать траур.
Но она все еще была жива. Она заставит своих врагов испить горькое вино ее слез, унижения и гнева!
Кто-то вошел. Мужчина. Орлиный нос, военная выправка. Он сразу заметил угнетенное состояние Нефертити и бросился к ней.
— Госпожа моя! — воскликнул он. — Что происходит?
Нефертити больше не сдерживала слез. Тогда он обнял женщину и утешил ее.
Незадолго до захода солнца гонец принес в дом Тхуту царский рескрипт, в котором сообщалось, что Тхуту больше не являлся Первым придворным Царского дома. Тхуту принял посланника с насмешкой, которая удивила почетного гостя — регента Сменхкару.
— Как твое имя, гонец?
— А-Узаит.
— Поверь, пройдет несколько дней, и я вспомню, что именно ты явился ко мне с этим.
Обеспокоенный гонец ушел, а Тхуту вернулся к гостям. Словно в насмешку, он на всеобщее обозрение прикрепил сверток к бронзовой лампе, которая висела под потолком большого зала. Грозный документ болтался и крутился в воздухе, как некое бестелесное существо. Вот с каким уважением бывший Первый придворный отнесся к решению царицы! Первый раз за последнее время Сменхкара рассмеялся.
А равнодушные ко всем этим перипетиям босоногие рабы были заняты своими делами: подметали циновки, подливали масло в светильники, расставляли кувшины с пивом и вином на большом низком столе в центре зала, разжигали жаровни, выгоняли насекомых, которые бегали на каменном полу. Дым от горящих кедровых стружек держал на почтительном расстоянии от двери в сад рой мошек, привлеченных влажностью, увеличивающейся каждый раз с наступлением сумерек. Настоящий пир для птиц, которые, насытившись, прятались в зарослях смоковниц.
Опекаемый четырьмя оставшимися слугами, Сменхкара умылся, а затем обосновался в самой красивой комнате дома Тхуту. Когда он, посвежевший после расслабляющего массажа, побритый, надушенный, умащенный маслами сандала и жасмина, возвратился в большой зал, там уже были Хумос, Нефертеп и Панезий, Первый слуга Атона и их соратник. Смущенная почтительность собравшихся, полностью соответствующая придворному протоколу, наглядно демонстрировала их отношение к регенту. Известно ли им было, что он больше не регент? Сменхкара все же заметил, что они не смогли скрыть своего удивления, и даже знал, чем они были так удивлены: никогда особа царской крови, будущий живой бог, не являлась на ужин к своим подданным, какого бы высокого ранга они ни были. Естественно, они спрашивали себя, что же произошло.
Сменхкара, в свою очередь, был удивлен не меньше: как Панезий, слуга враждебного и ненавидимого всеми присутствующими здесь культа, так быстро примкнул к верховным жрецам Амона-Ра и Пта, которые испытывали к нему нескрываемую неприязнь? Затем он улыбнулся в бороду: в сущности, все эти высокопоставленные служители сговаривались, как воры на ярмарке. В создавшейся ситуации, когда приходилось срочно что-то решать, они забыли обо всех своих выдуманных или настоящих распрях.
Последний раз он видел Хумоса и Нефертепа во время ритуала прощания с умершим царем. Но он хорошо знал их, поскольку отвечал на их жалобы по поводу урезания подношений и землевладений. В его официальных ответах было ровно столько благосклонности, сколько позволял проявлять Эхнатон, но он прилагал к официальным письмам личные послания, в которых уверял верховных жрецов в том, что не безучастен к их трудностям. Это все, что он мог себе позволить, учитывая ненависть Эхнатона к недобросовестным служителям культов и свое недоверие к ним.
Хотя Эхнатон ввиду ухудшающегося здоровья доверил ненаглядному братцу существенную часть дел царства, он постоянно наблюдал за ним, поводя своими лисьими глазами. Что же касается их трудностей — помет обезьяны и сопли мангуста на них! — их надуманные претензии возникали оттого, что им больше не доставалось дани, поступавшей от завоеванных народов, по той простой причине, что не было больше никаких завоеваний.
Все уселись полукругом перед бывшим регентом. Сменхкара смотрел на них. Он больше не сомневался в их подлинных намерениях. Эти двое, Хумос и Нефертеп, являлись одними из настоящих хозяев долины, некоронованными правителями царства, а Ахетатон был всего лишь оазисом, созданным Эхнатоном. В этой ситуации они представляли и все остальные культы.
Эхнатон еще при жизни отца, Аменхотепа Третьего, будучи в Гермополе, открыто возмутился наглостью стремящихся к обогащению жрецов и размерами получаемой ими доли военных трофеев. Вершиной бесстыдства было то, что они затем одалживали эти деньги Царской казне для финансирования очередных военных кампаний, к тому же они поддерживали только те кампании, которые должны были обогатить их. Великие жрецы? Ха! Скорее дельцы, среди которых встречались и отъявленные негодяи.
Неоспоримым был тот факт, что их поддерживала знать и крупные землевладельцы, чьи связи были прочнее укрепительных сооружений. Эхнатон сначала не обращал на них внимания, затем лишил их всех полномочий, а в итоге начал уничтожать их богов. Так возник культ единственного божественного Атона, Солнечного Диска. Доходы от культа четко контролировались Эхнатоном с помощью Первого слуги Атона, Панезия. Царь воздвиг храмы, посвященные Атону, и построил неподалеку от них город Ахетатон.
Несмотря на это, Эхнатон и Сменхкара отлично знали, что почитатели других богов не приняли культ Атона, оставаясь верными Амону, Апису, Хорусу — тем богам, благодаря служению которым обогащались великие жрецы. Эти культы сохранились.
Лучшим доказательством тому было то, что их служители ужинали сейчас с наследником своего злейшего врага.
За какое-то мгновение, пока они смотрели друг другу в глаза, Сменхкара вспомнил ярость своего брата, когда тот понял, что проиграл и реформа системы не удалась. Позднее он благодарил себя за проявленную мудрость. Будучи по натуре более миролюбивым, он научился договариваться с противниками новой веры, ведь их средства были необходимы для финансирования военных кампаний. Сменхкара пытался смягчить жестокую политику брата. Но из-за ненависти жрецов, вызванной отсутствием подношений, армия оказалась неспособной сохранять господство на юго-востоке. Заявления жрецов были резкими: «Ты хочешь уничтожить культы наших богов в угоду Атону? Очень хорошо! Тогда мы подорвем твое могущество!» Месть жрецов привела к упадку военной мощи царства.
Сменхкара вздохнул, сделал собравшимся знак рукой и сел первым, как если бы он все еще был регентом. Остальные присели на корточки вокруг стола. Тхуту организовал настоящий пир.
Взгляды гостей блуждали какое-то время по потолку зала. Хумос заметил документ, который болтался в воздухе над обеденным столом. Жрец удивился и даже возмутился, так как узнал царскую печать. Тхуту весело сообщил ему, что этот только что доставленный папирус освобождает его от обязанностей придворного. Хумос и Нефертеп оцепенели. Присутствие Сменхкары окончательно запутывало ситуацию. Единственным, кто мог отстранить придворного, был взошедший на трон царь. Но этот человек сейчас спокойно сидел рядом и улыбался.
— Неполный Царский совет вчера вечером провозгласил Нефертити преемницей трона ее супруга, — объяснил Сменхкара, — и первое, что она сделала, — это устранила нашего уважаемого Тхуту.
Хумос едва не поперхнулся. Нефертеп вытянул шею, чтобы лучше видеть Тхуту. Сейчас он был похож на жабу, готовящуюся проглотить огромную муху.
— По приказу Нахтмина военный отряд не допустил меня в царские покои и конюшни. Очевидно, этого потребовала Нефертити. По крайней мере, так объяснил ситуацию Уерсеф. И Тхуту любезно предложил мне расположиться в его гостеприимном доме.
— А она действует быстро, — заметил Панезий. — Царица срочно послала за мной. Когда я пришел, она была в обществе своего отца Ая, Майи, Царского писаря, Нахтмина и Пентью. В руках у Майи было перо, которым он записывал решения Царского совета. Чернила даже еще не высохли. Нефертити сообщила мне, что Царский совет провозгласил ее регентшей до тех пор, пока принц Тутанхатон не достигнет совершеннолетия. И она потребовала, чтобы я подписал решение. Мне оставалось только подчиниться.
«Зная о действиях Нефертити, Панезий тем не менее ничего не сообщил своим друзьям, — сделал вывод Сменхкара. — И меня тоже не предупредил. Без сомнения, он любитель сюрпризов».
У Хумоса было искаженное гневом красное лицо. Тхуту испугался, что у жреца может случиться припадок.
— Я заметил, что на документе отсутствует подпись регента, — продолжал тем временем Панезий, повернувшись к Сменхкаре. — Ай сказал мне, что это не имеет никакого значения, так как он был главой Царского совета при предыдущем правителе.
Это было что-то новое. Перевернув все с ног на голову, Ай сделал свою дочь законной регентшей.
Еще раз Сменхкара спросил себя, что же за игру ведет Панезий? С одной стороны, он признал регентство Нефертити, а с другой — присоединился к лагерю ее врагов. Теоретически он должен быть на стороне регентши, ведь она была гарантом его привилегий. Прекрасно сознавая всю опасность своего положения из-за двойной игры, он все же надеялся удержаться на плаву.
Хумос в гневе ударил себя рукой по бедру — совершенно не по протоколу.
— А что там делал Пентью? — выкрикнул он. — Ведь он всего лишь Царский целитель и не является членом Царского совета!
— Нефертити в срочном порядке ввела его в состав Совета. Точно так же она восстановила Нахтмина в должности Царского советника, — пояснил Панезий.
— Я думаю, что она на этом не остановится, — спокойно произнес Сменхкара. — Ну что ж, посмотрим! Я не удивлюсь, если она будет коронована до истечения семидесяти дней.
— Но это неслыханно! — воскликнул Нефертеп.
— А то, что Царский совет в неполном составе принимает такое поспешное решение, это разве допустимо? Эта женщина способна на все.
Слуги подали вино. Из-за бурлящих эмоций кубки оказались пустыми в одно мгновенье.
— Это все козни Ая! — сказал Нефертеп. — Он посадил свою дочь на трон.
— Но она не царской крови! — воскликнул Тхуту.
— Для народа, готового впоследствии принять Тутанхатона в качестве царя, ее регентство вполне приемлемо.
— Но господин, ведь есть же ты! — возразил Хумос.
— Верно. Но Нефертити действует так, как будто меня вовсе нет. Со временем, возможно, мне это будет на руку.
Слуги принесли большую чашу и кувшин с ароматизированной водой, чтобы господа могли омыть руки, затем подали блюда. Голуби, начиненные зерном и маленькими луковицами, жареные гуси, салаты из лука-порея с маслом, латука и огурцов с кислым молоком… Все, кроме рыбы, потому что будущему живому богу, так же как и жрецам, было запрещено употреблять ее в пищу. И то, что Тхуту это предусмотрел, доказывало, что он считает Сменхкару своим господином и законным наследником трона.
— У нее
такой же характер, как и у сестры ее отца, — задумчиво сказал Нефертеп.
Сменхкара кивнул. Тиу, сестра Ая, жена Аменхотепа Третьего и мать Эхнатона, была сильной женщиной. Она крепко держала своего мужа в руках. Замечание Нефертепа было наглым, даже оскорбительным, так как хоть Сменхкара и не был сыном Тиу, его матерью тоже была царица и жена Аменхотепа — царевна из Миттании. Значит, в нем тоже текла царская кровь. В любом случае, нельзя распускать язык, говоря о царской семье, тем более в присутствии наследника. Последний сделал вид, что не заметил насмешки, — все-таки он еще не занял трон, а этих двоих жрецов можно было считать возможными союзниками в борьбе за корону. К тому же таких союзников было очень и очень мало.
— Господин, это недопустимо! — с силой произнес Хумос.
— Недопустимо! — повторил Нефертеп.
— Недопустимо! — подтвердил Тхуту.
— Недопустимо! — подытожил Панезий.
— Значит, Нахтмин присоединился к лагерю Нефертити? — уточнил Хумос у Тхуту.
Тот кивнул.
— Так же как Пентью и Майя, — добавил Сменхкара, проглатывая последний кусочек гусятины. — Они же участвовали в собрании неполного Царского совета.
Наступила тишина. Прямоугольный кусочек неба, видневшийся в приоткрытую дверь, приобрел насыщенный цвет индиго. Птицы принялись громко ссориться, выбирая места для ночлега в зарослях смоковниц и фикусов. Где-то далеко залаяла собака. Уже пришло время весеннего сбора урожая. Запах сырой черной земли и горелой соломы смешивался с ароматом кедрового масла, исходящим от жаровен.
— Мы не можем допустить, чтобы это произошло, — снова начал Хумос, не сводя пристального напряженного взгляда с Нефертепа.
Нефертеп посмотрел на него, но ничего не сказал, а лишь моргнул.
— Что вы можете сделать? — спросил Сменхкара.
— Захват трона возможен только с помощью одного человека — Хоремхеба, начальника гарнизона Мемфиса.
— И Нахтмина, начальника фиванского гарнизона, который к тому же еще и двоюродный брат Ая, — уточнил Сменхкара.
— Гарнизон Мемфиса намного превосходит численностью фиванский, — сказал Нефертеп.
— Я не понимаю, к чему вы клоните, — вмешался Сменхкара.
Нефертеп помедлил с ответом.
— Господин, как верховный жрец культа Пта в Мемфисе, уверяю тебя, что народ недоволен тем, как теперешний бог-покровитель заботится о нем. Об этом я неоднократно писал тебе, и ты обещал обратить на это свое высокое внимание.
Сменхкара покачал головой. Жрецы Амона-Ра и Пта собирались использовать против Нефертити то же оружие, каким воспользовались бы против него самого, если бы, заняв трон, он отказался возродить культы древних богов.
Нефертеп и Сменхкара обменялись пристальными взглядами.
— Восстания могут вспыхнуть и во многих других номах, — коварно заметил Хумос.
Каждый ном имел свое войско. Очевидно, случись шесть или семь волнений в провинциях, Хоремхеб и даже Нахтмин забеспокоятся. Это заставит их раскаяться. Так или иначе, они перестанут служить Нефертити как наследнице трона. Опасная авантюра!
— Это бунт против Нефертити? — спросил Сменхкара.
— Против порядка, установленного Эхнатоном, — ответил Хумос. Казалось, он забыл, что перед ним сидит двоюродный брат и соправитель этого самого Эхнатона.
Сменхкара понял сразу: он был лишь орудием. Если они возвратят ему трон и все его права, они будут диктовать ему свою волю. Первое условие даже не подлежит обсуждению: возрождение культов богов. Сменхкара не относился к ним так враждебно, как Эхнатон, к тому же он поддерживал ровные отношения с главами уничтоженных культов. Но ему казалось, что, если слишком понадеяться на успех этой интриги, можно потерять значительную часть царской власти.
Его слуга встал на колени, чтобы ополоснуть ему пальцы. Тхуту тут же решил подчеркнуть, что он союзник регента.
— Это недопустимо, — произнес он. — Недопустимо, чтобы священнослужители были настроены против власти. Фараон — это живой бог, и если его власть ослабевает, теряют силу и те, на кого эта власть опирается.
Нефертеп и Панезий согласились с ним. Хумос понял, что погорячился и совершил оплошность.
— Власть жрецов уже ослаблена, — сказал он, пытаясь оправдаться.
— Потому что ослаблена власть фараона, — стоял на своем Тхуту.
Панезий несколько раз моргнул: велась уже не двойная, а тройная игра. Чего только не сделаешь для спасения своей шкуры!
— Так что мы будем делать? — нетерпеливо спросил Хумос.
— Я полагаю, мы должны положиться на божественную мудрость нашего регента, который вдохновил уважаемого Тхуту на эти осторожные слова, — заявил Нефертеп, поглаживая свою макушку пухлой рукой.
— То есть?
Сменхкара наблюдал за жрецами, которые намеревались защищать его интересы. Он считал, что этот тайный Царский совет, собравшийся здесь, не мог сделать ничего существенного. Не имея надежной поддержки армии, можно было лишь анализировать ситуацию, а не принимать какие бы то ни было решения. Особенно такие необдуманные, как предложил Хумос. Сменхкара был доволен таким поворотом дел.
— Сомневаюсь, что царица вступит в права регента, пока не истекут семьдесят ритуальных дней, — сказал Нефертеп. — Это было бы серьезной ошибкой. Даже хуже: оскорблением. Ай не позволит своей дочери сделать это. У нас есть несколько дней, чтобы наш уважаемый господин регент принял мудрое решение.
И Нефертеп взглянул на Сменхкару, который загадочно улыбался. Он подозревал, что хитрец Нефертеп, ведя подобные речи, наверняка имеет тайные намерения.
— Почему бы не поделиться с нами мыслями, порожденными мудростью? — произнес верховный жрец Пта.
Тхуту не сдержал улыбки. Что же задумал Нефертеп?
— Я бы предложил нашему уважаемому Панезию сообщить Хоремхебу о своем беспокойстве по поводу создавшегося положения. Если бы об этом заговорили мы, он мог бы это неправильно понять.
Панезий рассмеялся, чем несколько разрядил обстановку. Кубки снова опустели.
— Этого недостаточно, чтобы отстранить Нефертити от власти, — заметил Сменхкара.
— Конечно, конечно, божественный господин! — воскликнул Нефертеп. — Но если действительно начнется восстание, Хоремхеб ее не поддержит и позиция Ая значительно ослабнет.
— Если я тебя правильно понял, волнения начнутся в Мемфисе, — сказал Сменхкара.
Нефертеп невинно захлопал ресницами и удивленно спросил:
— Разве я это сказал?
Сменхкара про себя засмеялся. Не было смысла продолжать беседу. Пусть все пока остается как есть. Нефертити пусть считает себя регентшей до поры до времени, не зная, какие настроения вызвал ее самовольный захват власти. Бывший регент не может опуститься до участия в заговоре, он будет лишь внимательно прислушиваться. А затри года совместного правления Сменхкара этому научился.
Он встал из-за стола, чувствуя, как устал за сегодняшний день, полный неожиданностей. Гости последовали его примеру, некоторые из них не смогли подняться без помощи слуг. Затем все пожелали Сменхкаре хорошего отдыха. Покидая зал, он обогнул бассейн с водой, в котором плавали шесть закрывшихся лотосов. Рабы сопроводили его в покои и помогли раздеться, после чего двое из них остались стоять на страже у дверей.
«Kherouy Apopisso!»
День был ясным, как распустившийся лотос. Позавтракав, как и другие боги, соком звезд и булочками из луны, лучезарный Атон, казалось, и не ведал о том, что оспаривалась его абсолютная власть. Поэтому он предался своему излюбленному времяпрепровождению — стал наблюдать за людьми.
Учителя пришли давать уроки царевнам. Их было двое: один для трех старших сестер, а другой — для трех младших. Но вместо того чтобы обучать языку, письму и чтению, они принялись восхвалять достоинства двух богов: Анубиса, главы божественного пантеона, проводника мертвых в другой мир, и Маат, дочери бога Ра, богини Справедливости, которая взвешивает поступки мертвых, когда они попадают в загробный мир. Учителя описали чудесную встречу, которая произошла четыре земных дня назад, когда божественный царь отправился в Царство мертвых, в обитель этих грозных богов. Их речи были настолько захватывающими, что слушательницам самим захотелось туда попасть.
И тут Маат отложила весы и улыбнулась, раздался ее нежный голосок. Она сказала, что чаша для плохих поступков пуста и весы не нужны.
Учителя также попытались сымитировать глухой голос Анубиса.
— Живой бог, живи отныне вечно среди других богов!
Они даже принесли две статуэтки, изображающие этих богов. Это были черный бог с головой шакала и заостренными ушами и грациозная маленькая богиня со страусовым пером на голове, которое и обозначало ее имя.
Царевны передавали статуэтки из рук в руки под мрачными взглядами кормилиц. Что это за истории про богов? Бог только один — Атон. И когда учителя ушли, кормилицы принялись спорить друг с другом, кто доложит царице об этих бунтарских уроках. Но, так и не придя к согласию в этом вопросе, женщины решили собраться позже и пошептаться. Одна из них между тем доложила о происшедшем старшей царевне.
Меритатон не уделила должного внимания религиозным урокам и слушала рассеянно. Да и вообще она дремала — эта ночь показалась ей более короткой, чем обычно. При жизни Эхнатона эти учителя ни за что бы не осмелились упоминать имена богов Анубиса, Тота или Маат, тем более рассказывать о них царевнам. Их бы прогнали взашей. Без сомнения, эти наглецы полагали, что единый культ Атона рухнул со смертью царя. Но Меритатон знала, что даже жители Ахетатона втайне продолжали поклоняться прежним богам. Достаточно было взглянуть на медные амулеты на груди у некоторых лицемерных кормилиц: они изображали богиню Таурет с головой гиппопотама, покровительницу плодородия и родов. Да и сестры Меритатон, особенно Вторая и Третья царские жены — Макетатон и Анхесенпаатон — знали, кому поклоняются во внешнем мире.
Она приготовилась удалиться в свою комнату, чтобы отдохнуть, растянувшись на постели, и погрузиться в мечты, вспоминая о своих недавних любовных похождениях. Но в этот момент появились цирюльник и мастер по изготовлению париков, которые приходили каждую неделю для того, чтобы побрить наголо юных царевен и позаботиться об их париках. Действительно, невозможно было носить парик, если на голове росли волосы: сначала вся голова чесалась, затем парик норовил сползти набок.
Цирюльник церемонно поклонился, выражая царевнам глубочайшее почтение. Затем его помощник поставил на пол сундучок с рабочими инструментами и открыл его. Первой на стул уселась стричься Меритатон. Ученик протянул своему хозяину чашу с водой. Цирюльник бросил туда мыльные стружки и взбил их с помощью губки до появления пены. Когда густота показалась ему достаточной, он нанес пену на голову царевны. Ученик тем временем заточил лезвие бритвы на камне и подал инструмент учителю. Цирюльник принялся брить царскую шевелюру, которая уже заметно отросла. После того как голова царевны была выбрита, он смочил губку в ароматной воде и ополоснул гладкую голову Меритатон. Остриженные волосы ученик цирюльника сжег, произнося специальное заклинание. Затем цирюльник подал царевне зеркало и поклонился.
В это время мастер по изготовлению париков приводил в порядок царские парики, придавая им блеск с помощью ароматных масел. Все парики были короткими, по нубийской моде, как того требовала царица. После окончания всех процедур каждый парик был помещен на специальную подставку.
Где-то часа через два все шесть царевен были побриты. Теперь возле париков поблескивали шесть гладко выбритых головок.
Наконец освободившись от этой неприятной процедуры, Меритатон пошла отдохнуть, Макетатон погрузилась в чтение гимнов Атону, составленных покойным отцом, Анхесенпаатон вышла на террасу понаблюдать за миром, то есть за тем, что происходило на улице. Три младшие царевны вернулись к своим играм и куклам.
Вдруг Анхесенпаатон увидела мальчика, который вручил ей загадочное послание. Он взглянул вверх, увидел ее и застыл на месте. Она помахала ему рукой. Он все еще смотрел на нее, от испуга выпучив глаза. Да что с ним такое? Не мог же он ее забыть! Она помахала рукой еще раз. Тогда мальчик быстро посмотрел по сторонам и махнул рукой в ответ. Анхесенпаатон дала ему знать, что спускается.
Она побежала через большой зал, где сплетничали кормилицы, схватила из вазы три медовых хлебца и вышла, ступая тихо, как мышь. Девушка направилась в коридор, ведущий к садовой лестнице, потому что лестница, выходившая на улицу, охранялась, стража ни за что не позволила бы юной царевне выйти одной за пределы дворца.
С хлебцами в руках она бежала по саду, и тут заметила стражников. Тогда Анхесенпаатон спряталась в зарослях туи, подождала, пока стражники пройдут, и побежала дальше. Она хорошо знала царский сад: в дальнем конце можно было пролезть сквозь заросли тамариндовых деревьев. И уже оттуда, идя вдоль административного здания, выйти на улицу.
Наконец Анхесенпаатон выбралась на улицу, поражаясь своей отваге. Теперь надо было идти в противоположном направлении, чтобы встретиться с мальчишкой. По дороге она столкнулась с женщиной, которая несла на голове корзину, полную хлеба. Женщина не обратила на царевну никакого внимания. Затем ей встретились два писаря с дощечками под мышками, поглощенные оживленной беседой. Они даже не удостоили ее взглядом. Какой-то старик верхом на осле, положив ноги на корзины с салатом и дынями, пристально на нее посмотрел. Крупная женщина говорила сама с собой, видимо чем-то очень недовольная… Происходившее на улице действительно было похоже на занимательный спектакль.
Мальчик ждал ее, и вид у него был ошеломленный. Анхесенпаатон бегом преодолела несколько локтей, которые разделяли их. Она запыхалась, но была в восторге оттого, что впервые могла с кем-то пообщаться в настоящем мире, за стенами дворца. Царевна протянула мальчику хлебцы. Он их взял, глядя на нее испуганно, растерянно, взволнованно. Глаза у него были такими же круглыми, как и несколько минут назад.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ты здесь, на улице… А если тебя увидят? — пробормотал он, запинаясь от волнения.
Они стояли недалеко от главного входа во Дворец царевен и находились практически напротив входа в Царский дом. Оба входа охраняли вооруженные копьями воины.
— Идем! — выдохнул он.
И увлек ее за собой. Мальчик тоже хорошо знал окрестности. Они нырнули в узкий переулок, разделяющий административные здания. Дети побежали к берегу реки, где их могли увидеть разве что гребцы на неповоротливых лодках, да и то если бы у них вдруг проснулось любопытство.
Взволнованная таким приключением, Анхесенпаатон только сейчас рассмотрела мальчика и нашла его красивым.
— Как тебя зовут?
— Пасар.
— А меня Анхесенпаатон…
— Я знаю, — прервал он ее. — Если нас увидят вместе, мой отец изобьет меня до крови.
— Почему?
— Я не имею права говорить с тобой.
— Почему?
— Ты — дочь царя.
— Но он же умер!
Мальчик был обезоружен столь легкомысленным заявлением.
— Ты прочитала мое послание?
— Да. Но откуда ты все это знаешь?
— Я это слышал. И что ты сделала?
— Я показала твое послание своей старшей сестре. Она сказала, что это похоже на правду, но мы не можем ничего сделать.
— Почему?
— Мы не можем никому об этом рассказать. Кто нам поверит? И кто поверит тебе?
Он положил свою руку на руку Анхесенпаатон с такой осторожностью, как будто боялся обжечься от прикосновения к царской коже.
— Если что-то случится, если ты испугаешься, беги ко мне.
— Но куда?
— Я — сын смотрителя Зала для приемов. Я обещаю взять тебя в жены. Я смогу защитить тебя! — с жаром воскликнул он.
Анхесенпаатон недоверчиво улыбнулась. Какой пылкий мальчишка! Но ей понравилось его желание жениться на ней.
— Слушай, ты должна возвращаться во дворец. Все будут обеспокоены твоим отсутствием.
Это был мудрый совет.
— Давай встретимся здесь завтра, — предложила она, очаровательно улыбнувшись.
Пасар взял ее руку и поцеловал.
— Хорошо? — спросила она.
Мальчик утвердительно кивнул и убежал. Анхесенпаатон вернулась в сад и оттуда медленно пошла к дворцу. И получила выговор от кормилицы, которая везде ее разыскивала.
— Где ты была?
— В саду, — спокойно ответила царевна.
— Я была там и не нашла тебя.
— Прекрати повышать голос на мою сестру! — вмешалась Макетатон. — Она не твоя служанка. Не забывай, что и я, и Меритатон можем тебя выгнать!
Кормилица, пораженная внезапным проявлением властности, замолчала. Другие кормилицы бросали на нее выразительные взгляды, но она лишь молча сжалась в комок в темном углу зала.
В четвертом часу после полудня к Тхуту пожаловали гонцы из дворца. Это были двое молодых военных.
— Здесь находится брат покойного Великого Фараона? — спросили они у прислуги.
— Да, здесь. Он сейчас отдыхает.
— Необходимо прервать его отдых, чтобы вручить ему царское послание.
Хорошо понимая сложившуюся ситуацию, гонцы вели себя грубо. Распри властителей неизбежно влияли на их подданных. Слуга Тхуту был счастлив дать понять царским посланникам, что они рано празднуют победу.
— Сейчас мой господин посмотрит, можно ли прервать отдых регента, — высокомерно ответил он, как будто речь шла о прошении какого-то крестьянина. — Вы будете ждать ответа регента?
— Нет, — пробубнил один из военных, удивленный такой наглостью.
— Тогда я закрываю дверь.
После этого слуга побежал к Тхуту, который как раз шел будить своего гостя, чтобы вручить ему царское послание. Сменхкара, сидя на постели, прочел свиток.
— Это приглашение, — сказал он. — Нефертити желает видеть меня немедленно.
— Какая дерзость! — воскликнул Тхуту. — Господин, позволь мне выделить тебе для сопровождения двоих слуг.
Сменхкара принял предложение, поправил парик и надел сандалии.
— Если я не вернусь к заходу солнца, поставь в известность Хумоса и Нефертепа.
Через полчаса он уже входил во дворец. Новый распорядитель, которого он никогда раньше не видел, проводил его к советнику, которого он также не знал. Нефертити уже успела заменить придворных. Советник провел его в большой зал для аудиенций. Сменхкару подвели к трону. Здесь его ждала Нефертити.
Рядом с ней стояли ее отец Ай и Царский писарь Майя. Трон возвышался на помосте высотой в три локтя. Нефертити протянула свою золотую сандалию. Каждый подданный должен был поцеловать ее. Сменхкара сделал вид, что не заметил этого.
— Целуй! — яростно приказала она.
— Целуют только сандалию царя, Нефертити. Насколько мне известно, ты не являешься царицей, — спокойно возразил он.
— Я ею являюсь со вчерашнего дня, и ты это знаешь!
— Я ничего такого не знаю.
— Стража! — позвала она.
Два стражника отделились от стены, подошли к Сменхкаре и силой наклонили его голову к ноге Нефертити. Майя ужаснулся. Ай тут же начал торопливо нашептывать что-то на ухо своей дочери. Она убрала ногу и отпустила стражу.
— Что ты хочешь от меня? — высокомерно спросил Сменхкара, оставаясь спокойным.
— Где ты теперь живешь?
— Ты прекрасно это знаешь, поскольку посланцы доставили мне твой приказ. Ты же запретила мне появляться в моих покоях.
— В покоях царя!
— Мои покои находятся рядом, — уточнил Сменхкара.
— Как член Царского совета ты был обязан предупредить о том, что сменил жилище. А так мы были вынуждены собраться без тебя.
— Я очень рад, — ответил Сменхкара. — По крайней мере, я не участвовал в преступлении.
— Что ты сказал? — спросила Нефертити сквозь зубы.
— Только то, что ты слышала.
— Меня назначил регентшей Царский совет.
Ай и Майя, который переминался с ноги на ногу, все больше и больше чувствовали себя не в своей тарелке. Сменхкара подозревал, что это не Ай посадил свою дочь на трон, а она сама вынудила его сделать это.
— Решения этого совета недействительны и неосуществимы.
— Их одобрил Первый слуга Атона Панезий.
— У него не было выбора. Как глава Царского совета я не одобряю это решение, которое к тому же было принято вопреки традициям — через три дня после смерти фараона, хотя в этом не было срочной необходимости. Поэтому я остаюсь регентом, которого назначил Эхнатон. А твои происки противоречат царской воле и закону.
— Ты бросаешь мне вызов, Сменхкара?
— Я тебе описываю ситуацию. Ты не относишься к нашей семье. Ты простолюдинка. Все, что ты сделала, вызвано чувством мести, а не заботой о царстве.
Нефертити выпрямилась на троне под ударами этих обвинений.
— У меня прекрасные советники, — ответила она глухо. — Я не хуже тебя буду править царством. Что же касается мести…
Она судорожно вцепилась в подлокотники трона. Ее голос теперь напоминал шипение разъяренной кобры.
— Ты лишил моего супруга светской власти. Тебе этого показалось мало. Тогда ты украл у него любовь. В течение пяти лет ты делил с ним царское ложе, Сменхкара. А три года ты владел скипетром.
Сменхкара оставался бесстрастным.
— Ты — узурпатор!
Он смотрел на нее, ощущая превосходство своих двадцати лет. Она возвышалась над ним, стоя на помосте, а он превосходил ее изяществом. Он был красив, она же сильно постарела. Чему же она удивлялась? Эхнатон приблизил Сменхкару к себе, потому что его юный брат в какой-то мере заменил ему сына, которого у царя никогда не было. Он был способен понять одержимость фараона одним верховным богом, накапливающим духовные силы поклоняющихся ему людей. Вместо всех этих бесчисленных божеств, являющихся в образе шакала, ястреба, крокодила, бегемота, львицы… В конце концов родство душ переросло в физическую близость. Ничто не имело значения, раз это была любовь. В глубине души он торжествовал, потому что Нефертити только что публично назвала причину своего гнева.
Сменхкара ответил ей насмешливым взглядом.
— Ты хитростью намеревался стать царем! — снова воскликнула она. — Но мне ясны твои игры.
Он невозмутимо слушал.
— Ты как бальзамировщик, явившийся из хаоса! Ты взял сердце моего живого мужа и утопил его в чаше своего вожделения!
Происходящее становилось все более интересным.
— Так чего ты от меня хочешь?
Она склонилась к нему, сверля его ядовитым взглядом:
— Я хочу, чтобы ты подписал решение Царского совета.
— Я его не подпишу.
— Ты его подпишешь!
— Я не только не подпишу его, но и не буду целовать твою сандалию, Нефертити!
Он повернулся к ней спиной, собираясь направиться к двери.
— Сменхкара!
— Нефертити, если с моей головы упадет хоть один волос, — сказал он, обернувшись, — ты ответишь за это, ты даже не представляешь, что тебя ждет.
— Что? Ты мне угрожаешь? Ты, kherouy Apopisso! — она как будто выплюнула эти слова. — Яйцо Апопа!
Сменхкара засмеялся. Даже его брат не выразился бы так!
— Нефертити, я тебя благодарю. Ты мне доставила редкое удовольствие видеть, как ты публично унижаешься перед своим отцом и этим вероломным писарем. Ты лишний раз доказала, что ты простолюдинка.
— Ched ab! — крикнула она. — Хвастливое ничтожество!
Сменхкара пожал плечами и беспрепятственно дошел до двери. Выходя, он увидел, что вид царицы, стоявшей на помосте, напоминал позу кобры. Ай в это время что-то торопливо и горячо ей говорил. Майя же застыл, потрясенный происшедшим.
Значит, пока она регентша. Но как надолго?
По дороге к дому Тхуту, несмотря на моральную победу над своей противницей, Сменхкара был охвачен неясными и противоречивыми предчувствиями. Он разберется с этим позже. А сейчас он, несомненно, был неприятно поражен тем, что Нефертити обратила на него свой левый глаз.
Над окрестностями Мемфиса в ночи раздался вой шакала. В ответ ему послышался собачий лай. Собаки были примерно в тысяче шагов. Зоркие глаза могли бы различить в нескольких местах красноватые отблески: это в низких постройках горели масляные лампы, предназначенные для того, чтобы всю ночь поддерживался огонь и утром можно было быстро разжечь его для домашних нужд. Для выпечки хлеба, например. Этот небольшой поселок назывался Три Ястреба.
Около двадцати человек шли по полю мимо соломенных куч, которые вскоре должны были сжечь, вдоль узкого оросительного канала, заставляя мышей разбегаться в разные стороны, и своим быстрым дыханием распугивая их летучих родственниц. Никто не говорил ни слова. Наблюдая за их тенями, отбрасываемыми в свете первой четверти луны, можно было сделать вывод, что у каждого из них в руках толстая палка.
Они перешли дорогу, отделяющую поля от поселка и ведущую в Мемфис, миновали несколько домов и направились к высокой стене, которая окружала одну из немногих многоэтажных построек. Там они остановились. Один из них подставил спину другому, который быстро взобрался на стену и спрыгнул по ту сторону. Залаяла собака. Послышался сильный шум, крик, предсмертный хрип ночного сторожа и скрип отодвигаемой задвижки. Люди живо просочились в открывшуюся дверь. Они пересекли двор, несколькими ударами плеч вышибли дверь и бросились по лестнице наверх. Затем они разбежались по комнатам, плохо ориентируясь в темноте. Раздались крики. Кто-то схватил лампу и заревел:
— Он здесь!
Перед ним на постели сидел голый глава поселка Три Ястреба Незер-Пта. Стоя над ним с ножом в руке, мужчина кричал не своим голосом:
— Золото! Где ты прячешь золото?
У Незер-Пта от ужаса глаза лезли из орбит. Он развел руками. Ему приставили нож к горлу.
— В комнате у писарей! Внизу!
— Ключ!
— Его здесь нет… Позволь, я найду…
— Скажи мне, где он!
Снова раздались крики и стенания женщин, детей и прислуги. Послышались ругательства.
— Ты не сможешь найти… Это внизу… Позволь мне самому пойти туда…
Мужчина, по всей видимости главарь этой банды грабителей, убрал кинжал.
— Смотри мне, я иду за тобой! — угрожающе произнес он.
Незер-Пта, все еще голый, дошел до лестницы, спустился и вышел во двор. Воры шли за ним по пятам. Взяв в кухне лампу, Незер-Пта направился к первой комнате в той части здания, где жили писари, толкнул дверь и вошел. Потом при свете своей лампы он нашел ключ, точнее, длинную резную металлическую пластину, и протянул главарю банды.
— Дверь хранилища во дворе.
Главарь вырвал у него лампу и вышел в сопровождении своих людей. Он вставил ключ в указанную дверь, поднял две задвижки и вошел.
Тут же лампа была вырвана из его рук. Он закричал. Последний раз в своей жизни, потому что в тот же миг был убит, так же как и двое его сообщников. Те, кто еще не вошел в комнату, ничего не поняли.
— Почему лампа потухла?
Вошли. Их постигла та же участь. Раздались панические вопли. Пять охранников, вооруженные изогнутыми мечами, выскочили из комнаты и безжалостно порубили на куски ошеломленных, перепуганных злодеев, которых догнали во дворе.
Незер-Пта взял из рук умирающего палку и несколькими яростными ударами добил грабителя, переломав ему кости.
Три человека из банды наверху сторожили женщин, детей и слуг. Встревоженные шумом, они выбежали во двор. Незер-Пта расправился с ними по одному. Прикончив негодяев, он тут же разбил им головы и переломал кости.
Трем удалось уйти. Охранники хотели догнать их.
— Не надо, оставьте их. Пусть они сообщат о своем приключении другим, — тяжело дыша, приказал Незер-Пта.
Две жены, шестеро детей и слуги главы поселка спустились по лестнице и увидели, что хозяин дома пересчитывает жертв при неверном свете луны. Шестнадцать.
Снова раздался плач. Подобное происходило все чаще и чаще в деревнях Двух Земель с приходом Эхнатона к власти. Главам селений приходилось самостоятельно принимать меры предосторожности.
Стеклянный взгляд
Через три дня, поздним утром, когда мухи становятся особенно нахальными, во втором, большом зале Царского дома бальзамировщики оценивали первые результаты своей работы. Это благодаря им — и они прекрасно знали это — умерший царь вступал во вторую часть своей жизни с подобающим достоинством и в состоянии, соответствующем его статусу живого бога. Теперь он мог возродиться для вечной жизни.
Два дня назад труп был вскрыт парасхистом — вспарывателем — с помощью ритуального лезвия из кремня. Это необходимо было сделать. Согласно обряду, остальные бальзамировщики должны были при этом осыпать бранью парасхиста. Ведь он совершал оскорбительные действия, посягнув на целостность человеческого тела. После завершения процедуры парасхиста палками выгнали из зала, где происходило бальзамирование. Это был прекрасный юноша, который уже несколько лет занимался вскрытием трупов и присутствовал при многих бальзамированиях. У него была твердая рука — необходимое качество для вскрытия человеческого тела. Ничто не могло противиться его кремниевому лезвию.
Также согласно обычаю бальзамировщики собрали у входа в Царский дом небольшую толпу. Люди должны были кричать, освистывать «преступника» и делать вид, что бьют его палками, правда, удары они все-таки наносили. Во время обычных мумификаций зевак зазывали специально, чтобы увеличить толпу. Они были счастливы, что получают возможность поколотить кого-нибудь, даже для виду. На этот раз зевак было не очень много, поэтому парасхист мог вернуться домой невредимым.
Глава бальзамировщиков задумчиво рассматривал лежащую на полу циновку, сложенную в три слоя, и размышлял о том, что традиции постепенно забываются. Это был сорокалетний флегматичный мужчина с вечно полузакрытыми глазами.
Поднимая кожу вдоль большого бокового надреза от левой подмышки до паха, он проверял, хорошо ли почистили изнутри царское тело. От него осталась только оболочка из кожи и костей. Омовение кедровым маслом и смолой дало хороший результат: кишки растворились, а остатки прозрачных тканей были тщательно удалены шпателем и помещены в алебастровую чашу.
Анальное отверстие оставалось заткнутым тампоном, скрученным из льняной материи. Зачем оно умершему царю? Так поступали со всеми мертвыми. Отсюда же пошло и оскорбление: «Чтоб тебе анус навсегда заткнули!» Правда, такое можно было услышать только в кварталах бедняков.
Главный бальзамировщик склонился, чтобы проверить нижнюю часть туловища. Брюшная полость была тщательно очищена. Сердце тоже изъяли и поместили в сосуд с содовым раствором, который стоял на столе рядом с мозгом. Мозг вынули еще в первый день. Этот орган наиболее подвержен порче. В любом случае, чтобы дойти до Дальнего Горизонта, мозг не нужен никому. Всем руководит божественное сознание. Поэтому черепная коробка Эхнатона, чье настоящее имя было Уаэнра Неферхеперура, была пустой. Через сорок дней ее заполнят благовониями.
Были извлечены желудок, почки, мочевой пузырь, легкие и много всяких других маленьких органов, назначение которых для бальзамировщика оставалось загадкой. Жировая прослойка тоже была надлежащим образом вычищена, особенно в брюшной полости, где она была особенно толстой. Сейчас ею была заполнена большая алебастровая чаша.
Потом все пустоты промыли пальмовым вином, наполовину разбавленным водой.
В результате всех процедур живот царя опал, да и пустая грудная клетка стала меньше. Короче говоря, большое тело, лишенное своей плоти, напоминало теперь плоских рыб из Большого Зеленого моря.
Вот только состояние сердца беспокоило главного бальзамировщика. Оно не было похоже на все остальные сердца, которые ему приходилось видеть. После смерти эти органы обычно были похожи на вялую губку. А это сердце было черным и твердым. Почему? Может, следовало сообщить об этом Пентью, царскому лекарю? Все-таки бальзамировщик решил этого не делать. Он боялся, что Пентью обвинит его в неловкости, в том, что он повредил внутренности одним из ароматических веществ.
Он позвал своего помощника и приказал приступить к обработке тела сухой содой. Нужно было удалить влагу из тканей. При контакте с содой она чудесным образом исчезала. Все-таки это была очень деликатная процедура, она требовала точной дозировки — стоило переусердствовать, и останки могли превратиться в пыль. А после того как сода впитает всю влагу, ее необходимо было извлечь. Затем согласно обычаю этот огромный бурдюк, на который теперь походило человеческое тело, необходимо было заполнить благовониями: миррой, кассией, можжевельником, табаком и другими веществами.
Три бальзамировщика принялись доставать соду из стоявших у стены сумок и готовить лопаточки для ее нанесения. Стало невозможно дышать, тела бальзамировщиков заблестели от пота. Мухи, не желавшие ничего пропустить, проявляли небывалую назойливость. Насекомые вообще были неравнодушны к этому спектаклю. По ночам тараканы просто атаковали оставленные без присмотра мумии.
Обезвоживание длилось примерно сорок дней. За это время кожа, мышцы, хрящи, сухожилия становились похожими на сухие стебельки конопли и приобретали коричневатый, ближе к черному, цвет. В таком виде они могли бесконечно долго сопротивляться мерзкому процессу гниения.
Главный бальзамировщик недовольно поморщился: кожа на животе трупа опасно растянулась и сморщилась, придется ее натягивать, когда будут зашивать покойника.
После заполнения ароматическими веществами полостей тела начиналась третья стадия бальзамирования. Мумифицированная оболочка обматывалась тонкими льняными лентами, пропитанными камедью, а затем более широкими лентами, покрытыми священными письменами.
Этот зал был настоящей кухней смерти. Царя словно разделывали для трапезы, которая никогда не состоится.
После всех приготовлений мумию клали в три саркофага, вложенных один в другой.
Семьдесят дней — это не такой уж большой срок для подобных хлопот. За эти десять недель бальзамировщики зарабатывали столько, что могли жить безбедно два года и к тому же имели возможность покупать земли — но это в случае, когда объектом их стараний были царские останки.
В это время в мастерских, находящихся в нескольких сотнях локтей от места бальзамирования, лихорадочно трудились золотых и серебряных дел мастера. Они расплавляли золото, заливали его в деревянные формы, затем полученные листы золота шлифовали с помощью полировального инструмента из кости, придавали им нужную форму, подбирали поделочные камни, и все вместе приобретало форму золотой маски. Затем так же изготавливали вторую и третью маски, все они изображали лицо фараона. Третья маска предназначалась для третьего, наружного саркофага. Один из помощников занимался лицом, другой прической, третий напальчниками для рук и ног, четвертый, пятый и шестой — крышками саркофагов, седьмой изготавливал два царских символа, которые будут помещены надо лбом. Символами Двух Земель, в которых царствовал при жизни живой бог, были кобра и гриф. Руки скрестят на груди, в правой будет скипетр, в левой — цеп. Фараон будет смотреть прямо перед собой, в вечность.
Всем известно, что боги тоже смертны. Даже преданному забвению великому Амону-Ра угрожала бы смерть, если бы его перестали почитать. Без сомнения, именно по этой причине Эхнатон заменил всех богов Атоном, который независимо от того, почитают его или нет, давал о себе знать каждый день.
На похороны фараона теперь работал каждый ремесленник, а в его распоряжении было пять или шесть подмастерьев.
Резкий запах доводил мух до бешенства. Держа в руке лопаточку с содой и не прерывая своих тайных размышлений, главный бальзамировщик тщательно пропитывал содой туловище, помещенное в ванну с солью. Он думал о сердце молодого царя. Тридцать семь лет. Так от чего же он умер? По словам Пентью, у него остановилось сердце. Это самое, очень необычное сердце.
Склонившись над своим творением, глава бальзамировщиков накладывал щедрый слой соды на гениталии трупа, в то время как двое его помощников наблюдали за тем, как ловко он это делает.
Одна из створок тяжелой двери открылась, впуская человека солидного возраста и молодого служащего. Помощник держал в руках маленький сундучок из кедрового дерева.
— Уважаемый господин Асехем, да пребудет с тобой благословение Атона! — воскликнул новоприбывший.
— Господин Судхеб, твой визит подобен восходу Атона! — поприветствовал его в ответ бальзамировщик.
Эти двое явно были рады встрече, но не стали прикасаться друг к другу — все-таки работа с трупами не считалась чистой.
— Работа сделана, — сказал Судхеб, подавая знак служащему открыть сундучок.
Асехем склонился над сундучком.
— Вы поспешили, — заметил он.
— Мы испортили одну пару, она была изготовлена неточно, но эта, на мой взгляд, просто идеальна.
Два стеклянных глаза лежали на дне сундучка. Асехем бережно взял их, рассмотрел и осторожно покатал на ладони. Потом поднес к глазам и восхищенно сказал:
— Идеально! Даже кажется, что они видят.
Господин Судхеб от радости выпятил грудь.
— Я счастлив, что они тебе нравятся.
Стеклянные глаза были идеей, нет, даже требованием Нефертити. Обычно в глазницы не вставляли ничего. Ну разве что иногда маленькие луковицы. Асехем и Судхеб согласовали этот момент с Панезием, великим мастером по ритуалам, посвященным Атону. Кстати, большая часть этих ритуалов была придумана Эхнатоном. Он рассудил так: раз уж вводятся новые ритуалы, какая разница, сколько их будет?
В этот момент раздался грохот. Двое писарей торжественно открыли двери, и в большой зал величественно вошел новый распорядитель церемоний, назначенный Нефертити. За ним шли шесть рабов и носильщик веера. Около дюжины мух тут же воспользовались возможностью вылететь на свежий воздух.
Это был всего лишь Царский распорядитель церемоний, но его переполняло осознание собственной важности, о чем свидетельствовало чрезвычайно серьезное выражение лица.
У него было замечательное имя, тут же названное писарями-глашатаями, — Уадх Менех — «крепкий папирус». В действительности же это был старый дед, которого в срочном порядке нашел Ай, торопясь подыскать замену Тхуту.
Главный бальзамировщик посмотрел на него, оценивая как профессионал. Уадх Менех пережил немало опасностей. Ему было шестьдесят пять лет. За это время в царстве прошло восемнадцать эпидемий.
Стариков было легче препарировать, чем молодых, полных жизненных соков, с прочными апоневрозами и крепкой брюшиной. А этот уже был высушен снаружи — видимо, он долгие годы работал на солнце, а теперь, благодаря новой должности, стремительно вознесся.
Взгляд Уадха Менеха упал на предметы, которые Асехем держал в руке.
— Что это такое? — спросил он.
— Глаза фараона, — ответил главный бальзамировщик.
В этот момент два стеклянных шарика столкнулись друг с другом еле слышно, но все-таки этот звук был различим. Старик содрогнулся, как будто искусственные глаза могли недобро взглянуть на него.
— Да, действительно, — произнес он, делая шаг назад.
Затем он взглянул на остальных бальзамировщиков, которые прервали свою работу при появлении придворного.
— Я пришел, чтобы сообщить вам великую новость, — начал он, торжественно взирая на присутствующих, потом остановил свой взгляд на сосуде с содой. — Наша божественная царица стала регентшей царства.
— Бесконечна мудрость Атона! — воскликнул бальзамировщик.
Ремесленники подняли головы и хором повторили:
— Бесконечна мудрость Атона!
— Наша божественная госпожа, — продолжал Уадх Менех, — послала меня, своего покорного слугу, к вам узнать, как продвигается работа.
Писари записывали все сказанное на папирус.
— Мы уложимся в отведенное время, — ответил бальзамировщик.
Уадх Менех склонил голову с жалкими остатками волос.
«Избыток жира, — подумал про себя мастер бальзамирования. — Когда он попадет в мои руки, я его хорошенько почищу».
— Значит, через девять недель.
— Через девять недель.
На этом они распрощались.
Один из бальзамировщиков начал говорить о том, что власть в царстве окончательно перешла к женщинам. Сначала женоподобный царь, а теперь еще и регентша появилась!
Асехем сделал вид, что ничего не слышит. Подойдя к телу Эхнатона, он попробовал вставить глаз в одну из пустых глазниц. Потом отошел, чтобы полюбоваться эффектом. Вид был устрашающим. Один из бальзамировщиков так и застыл с открытым ртом.
— Кажется, что он смотрит на нас! — взволнованно воскликнул он.
— Да еще и видит! — прошептал Асехем.
На втором этаже Царского дворца друг напротив друга на вышитой циновке в центре огромного зала сидели мужчина и женщина. Они завтракали. Слуги, поставив блюда на стол, тут же удалялись за пределы слышимости голосов своих господ.
— Скоро нужно будет представить священнослужителям и народу Тутанхатона, — сказал Ай, обгладывая ножку жареного голубя.
Нефертити никак не отреагировала на это замечание, даже бровью не повела. Она медленно жевала голубиную грудку. Завтрак в основном состоял из жареной птицы и салатов. Прожевав, Нефертити сделала глоток вина.
— Это единственное оправдание твоего регентства, — снова заговорил Ай, грызя маленький соленый огурец.
В ответ — тишина.
— Ты навсегда избавишься от Сменхкары.
Нефертити посмотрела в окно. В ее памяти снова возникли события давно минувшего дня. Печальный день, в который разразилась гроза. Тогда Сменхкара царским указом был объявлен регентом. Это было немыслимо! Семнадцатилетний мальчишка — регент!
Тут она заметила наконец, что отец смотрит на нее.
— Я была бы счастлива, если бы он покинул Ахетатон, — сказала царица.
— Представление Тутанхатона в качестве фараона должно поспособствовать отъезду Сменхкары.
— Подождем конца мумификации и захоронения, — ответила Нефертити. — А мы можем отправить его в изгнание?
— Кого?
— Сменхкару?
Ай скептически воспринял эту идею.
— Тогда ему будут нужны земли и дворец…
Нефертити резко опустила кубок.
— Найди ему что-нибудь в Мемфисе.
— Это же город Хоремхеба, а у него с ним сердечные отношения.
— И что же? — Нефертити нахмурилась.
— А то, что они могут договориться. От такого союза только и жди неприятностей.
— Но тем не менее Хоремхеб согласился отстранить его от трона.
— Да! Благодаря мне! — Ай вдруг рассердился.
— Тогда выгони его! В Фивы.
— Я
подумаю об этом.
Нефертити смотрела на открывавшийся за большой дверью пейзаж, на террасу царского дворца. А отец смотрел на дочь. Какая жестокость! Возможно ли, чтобы ненависть к Сменхкаре так сильно влияла на ее мысли?
— А пока я отправил ему его вещи, которые оставались в царских покоях. И его лошадей тоже.
Великодушие отца по отношению к бывшему регенту заставило Нефертити удивленно поднять брови. Она усмехнулась.
— Ну не можем же мы с ним обращаться, как с последним деревенщиной! — сказал Ай. — Священнослужители будут возмущены.
Нефертити отставила блюдо с голубиными косточками. Слуга подал ей чашу и кувшин с водой, чтобы она омыла руки, а другой слуга унес остатки кушаний и хлеба. Царица взяла красный финик из агатовой чаши с фруктами и впилась зубами в блестящий плод.
— Ты и так уже переступила допустимую черту в своих обвинениях, — добавил Ай, наклонившись к ней и хмуря свои густые брови. — Майя был потрясен.
— Я всегда подозревала, что у него душа как у старухи, — высокомерно заметила Нефертити.
Над блюдом с фигами жужжала пчела. Слуга торопливо подбежал, чтобы прогнать ее, и снова вернулся на свое место возле стены. Ай просто сверлил дочь взглядом. Он знал о ее отношениях с Майей. Если она думала, что введет отца в заблуждение такого рода заявлениями, то она глубоко ошибалась. Правда, она могла пресытиться Майей и найти другого любовника. Но кого?
— Нефертити! — воскликнул Ай укоризненно. — Достаточно того, что Царский совет назначил тебя регентшей. Ты не должна ругаться, как какая-то посудомойка! Сменхкара был регентом три года. Он сохранил связи со знатью и священнослужителями, в провинциях в том числе. Ты не должна сбрасывать его со счетов. Это было бы ошибкой.
— Я не просто не считаюсь с ним, я его ненавижу! — заявила Нефертити. — И если он в сговоре с этими проклятыми деревенскими жрецами, это лишний раз доказывает, что он изменник!
Она выплюнула финиковую косточку, и та пролетела через весь зал. Все тот же слуга побежал ее подбирать.
— Я его не люблю не меньше, чем ты, — попытался успокоить ее Ай, — но я жду от тебя, что ты сохранишь честь трона.
Нефертити повернулась к нему своим левым глазом, но эта военная хитрость не произвела никакого впечатления.
— Мы все еще не выбрали место для захоронения, — сказал Ай, меняя тему разговора.
Царица вскинула брови.
— Меня удивляет твой вопрос. Ничего решать не нужно. Это известно.
Ай прищурился.
— Стела! — надменно сказала Нефертити. — Ты что, забыл про стелу? «Пусть моя гробница будет высечена в скалах на востоке от Ахетатона. И пусть меня похоронят там, когда придет час, назначенный Атоном. Там же должна быть и царица Нефертити через годы, отпущенные ей Атоном», — процитировала она.
Ай лишь кивнул. Перевозка царского саркофага в фиванский некрополь к могилам отца и матери Эхнатона символизировала бы возвращение к традициям и могла бы смягчить суровость и непреклонность культа Атона в представлении народа. Тогда жрецы, которые не нравились Аю, уже не подвергались бы столь суровым преследованиям.
— Стела на входе в некрополь… — задумчиво произнес он. — Не многие видели ее. И еще меньше тех, кто увидит.
— Все будет так, как повелел мой муж. В любом случае было бы неосторожностью ехать до самих Фив. По дороге всякое может случиться.
— Никто не осмелится напасть на царское погребальное шествие, — заявил Ай.
— Не знаю, на что они могут осмелиться, но шествие будет пролегать по землям, где властвуют жрецы и прочая знать. А уж они с нетерпением ждут возрождения старых культов, не говоря уже о простонародье, — резко возразила Нефертити.
Ай подумал о недовольстве со стороны священнослужителей, знати и этого самого «простонародья», о чем ему неоднократно сообщали в его владениях в Ахмине. А все из-за растущих налогов и опасности нападения увеличивающегося количества разбойничьих банд. От своих шпионов он знал о налете на посланника казначейства в Мемфисе. На следующий день крестьяне небольшой деревеньки, расположенной недалеко от Фив, жестоко избили сборщиков налогов, чьи требования были для них непомерными. Городской гарнизон отказался вмешиваться, признав правоту крестьян. Короче говоря, царскую власть в Двух Землях грубо попирали.
Ай встал и принялся мерить шагами зал. Он был очень обеспокоен тем, что его дочь плохо разбирается в сложившейся ситуации. Разве она не понимает, что царь умер уж слишком вовремя?..
— О положении в провинциях я знаю лучше тебя, — авторитетно заявил он, останавливаясь перед дочерью. — У нас есть более неотложные проблемы. Разбойники опустошили наши гарнизоны на границе пустыни, в Палестине. К Уадху Менеху многие обратились за помощью.
— Разве этим не должен заниматься Нахтмин? — спросила Нефертити, рассматривая свои поблескивающие золочеными ногтями пальцы ног.
— Да, это так. Но отныне принимать решения должна ты. Нужно встретиться с Нахтмином и Хоремхебом.
— Почему с Хоремхебом?
— Не думаешь ли ты, что он смирился с потерей Сирии? Он недоволен ситуацией, сложившейся на границах. Он считает, что разбойники пользуются тайной поддержкой хеттов. Твой муж не придавал этому значения. Армия ждет, когда сможет начать действовать. Речь идет о будущем трона! — гневно воскликнул Ай.
— Я в этих вопросах ничего не понимаю.
— Я помогу тебе. Договорились?
— Это действительно так важно?
— Очень важно.
— Почему Эхнатон никогда не говорил мне об этом?
— Это его упущение. Наши союзники больше не доверяют нам.
Нефертити вздохнула.
В первый раз Аю пришло в голову, что дочь наконец становится похожа на царицу. Но царствовать она еще не готова. Да, она управляла Царским домом, принимала участие в празднествах, воспитывала дочерей и сплела много интриг, но она ничего не понимала в управлении страной.
— Из-за него армия потеряла свою мощь. Наша конница уже не та, какой была раньше. Я знаю, что говорю!
Нефертити с угрюмым видом жевала финик. Потом сказала:
— Хорошо. Я встречусь с ними сегодня вечером. Ты будешь присутствовать при этом.
Это была не просьба. Это был приказ. Ай никак не отреагировал, но задумался.
— В любом случае, — снова заговорила Нефертити, — я не собираюсь безоглядно довериться Хоремхебу. Не сразу и только после того, как пойму, что он выполнит свои обязательства. Армия достаточно могущественна. Во времена правления моего мужа она имела сильное влияние на решения Царского совета.
Она так посмотрела на отца, будто ждала от него какого-то замечания. Но Ай оставался безучастным. Он неподвижно смотрел прямо перед собой и только ворочал языком во рту, выискивая остатки пищи. Он был не против поводить за нос этого солдафона Хоремхеба, хоть и был его тестем.
Через какое-то время он встал, сказав, что ему необходимо отдохнуть, и удалился в свои покои, располагавшиеся в этом же дворце. Немного передохнув, он направился в ванную комнату. Там, сидя на корточках, он был неприятно поражен, увидев глаз ухдат над бассейном для омовения. Этот глаз, казалось, смотрел на него. И не просто смотрел, а смотрел насмешливо.
А что, если боги существуют?
Прерванное наслаждение
Месяц был так тонок, что, казалось, вполне мог косить звездные поля.
— Через пять дней нам придется прекратить наши встречи или найти другое место, — раздался недовольный женский голос. — Я даже из дворца не смогу выйти. Меня может увидеть стража. К тому же я себе всю спину изодрала этими кустами.
— Это легко, — ответил мужской голос. — В северных административных постройках ночью никого нет. Там много комнат пустует до рассвета.
— Туда еще надо добраться.
— Подземный ход.
— Какой подземный ход?
— Ты не знаешь о туннеле? Он ведет из кухни Дворца царевен прямо к Залу для посетителей, затем к зданиям Первого управления и дальше. Тебе даже из дворца выходить не придется.
Собеседница — это была Меритатон — все еще сомневалась.
— Я никогда не слышала об этом подземном ходе. Откуда ты о нем знаешь?
— А разве я не писарь Первого управления? Я знаю обо всех зданиях в Ахетатоне. Этот туннель ведет даже в Царский дворец и Царский дом. Мне нужно было сказать тебе об этом раньше. Но я думал, что ты предпочитаешь сады…
— Пойдем, давай сразу же посмотрим, — сказала она. — В этот час кухни закрыты.
Они осторожно двинулись вдоль стены дворца и, дойдя до дверей кухни, проскользнули вовнутрь. И тут же услышали легкий топоток по полу. Приглушенный крик вырвался у царевны при виде разбегающихся мышей и крыс размером с поросенка. Колеблющийся огонь двух факелов освещал просторный зал, где готовилась еда для царевен. Молодому человеку по имени Неферхеру, что означает «прекрасный день», понадобилось всего лишь мгновение, чтобы сориентироваться. Он очень осторожно открыл какую-то дверь — это было зернохранилище. За второй дверью был склад горшков для варки, глиняных кувшинов и блюд. За третьей хранились туники и полотенца. А вот с четвертой им повезло: она выходила на лестницу, ведущую вниз. Неферхеру снял со стены потухшую лампу, зажег ее от одного из горящих факелов и спустился на несколько ступеней, держа Меритатон за руку.
— Закрой за собой дверь, — прошептал он.
Она послушно прикрыла дверь. Спустившись по лестнице, они попали в широкий коридор, тщательно укрепленный подпорками, выложенный плитами, со стенами из необработанных кирпичей. Воздух был тяжелым, влажным. Они долго шли, но так и не встретили ни одной живой души. Время от времени то справа, то слева им попадались лестницы. Крысы и мыши бежали вдоль стен, напуганные вторжением людей. Затем в конце длинного прямоугольного коридора появилось разветвление.
— Этот коридор ведет в Царский дом, — прошептал Неферхеру. — Скорее всего, он закрыт.
Они преодолели еще около сотни локтей, затем молодой человек свернул на лестницу, показавшуюся по правую сторону. Дверь наверху заскрипела. Они оказались в просторном темном зале. Юноша толкнул одну из шести дверей. Пыльный и сладкий запах папируса наполнял пространство. Сотни документов лежали на полках либо плашмя, либо свернутыми в рулоны: отчеты, счета, переписка с управляющими номов, жалобы, завещания, но в основном здесь были документы казначейства и обвинения. Неферхеру втащил царевну за руку в комнату и закрыл дверь.
— Мы в Архиве, — сказал он, ставя лампу на сундук.
— Но для чего служит этот туннель?
— Твой отец приказал вырыть его для того, чтобы он мог тайно попасть в любую часть царских построек и даже посетить некоторые кварталы города.
— Но зачем?
Неферхеру пожал плечами. Не будет же он сейчас рассказывать этому очаровательному цветку о завистливом царе, следившем за своими служащими, о его подозрительной и фанатичной натуре. Он улыбнулся и обнял Меритатон, нежно погладил ее грудь и поцеловал в губы. Затем его рука скользнула к низу живота и беспрепятственно оказалась между ногами. Возбуждение охватило их, чувства обострились. Неферхеру думал о том, чтобы продолжить начатое, но более тщательно и не торопясь.
— Завтра я принесу сюда циновку, — сказал он.
Вдруг они оба застыли. В большом зале раздались голоса. Мужские голоса. Приглушенные. По плиточному полу зашлепали чьи-то сандалии. Кто-то открыл и затем закрыл дверь соседней комнаты. По полу протащили стул. Только один. Очевидно, второй человек остался стоять.
От соседней комнаты любовников отделяла только перегородка с дверью. В течение дня, без сомнения, писари ходили из комнаты в комнату постоянно.
Неферхеру потушил лампу. Погрузившись в темноту, они четко слышали каждое слово, произнесенное за перегородкой.
— Хорошо, дай мне этот флакон.
Секундой позже:
— Господин, ты знаешь, сколько ты мне должен.
— Пятьдесят медных дебенов.
— Но мы же договаривались о сотне дебенов!
— Пятьдесят, и даже этого много.
— Но, господин, ты же обещал!
— Что я обещал? Ты глух, ты плохо слышишь.
Молчание.
— Господин, я тебе продаю совершенный яд, который убивает за четыре или пять часов. Его невозможно выявить. Многие заинтересовались бы тем, как ты его используешь.
Молчание.
Затем тот же голос, голос продавца яда:
— Тем, как ты его использовал.
— И как же я его использовал?
— Господин, ты сам это прекрасно знаешь. Это благодаря мне регентом стала женщина…
— Ты говоришь вздор. Вздор! И ты смеешь мне угрожать, мужлан?
— Господин, даже такое ничтожество, как я, никогда так не поступит с человеком, который держит свое слово.
— Очень хорошо! Пятьдесят дебенов.
— Господин, этот яд очень трудно получить, мне его тайно привезли из страны Куш…
— Я могу привезти пять флаконов дурмана из Ливана по той же цене. Ты меня утомляешь.
Раздался звук отодвигаемого стула.
Затем глухой удар. Хрип. Упало что-то тяжелое. Меритатон сжала руку Неферхеру.
— Мокрица! — гневно воскликнул голос.
По звукам стало понятно, что по полу тащат тяжелое тело. Скрип. Пение лягушек стало громче. Без сомнения, открыли дверь, выходящую на берег реки. Запыхавшийся человек вытащил что-то наружу, и это что-то было, очевидно, трупом продавца яда.
Неферхеру приоткрыл дверь, которая также выходила на берег. Они увидели, как какой-то человек, согнувшись, тащил тело по саду. Потом он бросил его и перевел дыхание. Затем покатил тело среди камней и столкнул в реку. Крокодилы и грызуны быстро разберутся с останками.
Шумно дыша, человек вернулся назад, вошел в соседнюю комнату, а затем покинул зал. Неферхеру приоткрыл вторую дверь. У мужчины в руках была лампа.
Меритатон зажала рот рукой. Она узнала в этом человеке Пентью. Два дня назад она его видела на погребальной церемонии. Это был лекарь ее отца.
У нее задрожали ноги. Неферхеру стоило больших усилий удержать ее от крика. Так как они оставили лампу, им нелегко было добраться до подземного хода. В темноте им пришлось пробираться сквозь полчища крыс, а детали только что происшедшего ужасного события прочно врезались в память.
Весь следующий день Меритатон не вставала с постели. Она не поднялась даже тогда, когда ее мать, сопровождаемая полагающейся ей отныне свитой, пришла во Дворец царевен объявить, что теперь она является регентшей с согласия принца Тутанхатона. Она пришла в сопровождении придворного, носильщика опахала, шести писарей и десяти слуг.
Нефертити зашла в комнату Меритатон. На несколько минут они остались наедине.
— Что с тобой?
— Болит живот. Мне нельзя пить пиво после фиников.
— У тебя были очищения?
Странный вопрос. Может, мать знает о ее любовных похождениях?
— Да, как обычно, на двадцать седьмой день, а что?
— Тебя тошнило?
— Нет.
Женщины какое-то время смотрели друг на друга. Меритатон заставила себя улыбнуться. Знала ли Нефертити о том, что ее супруг был отравлен дурманом или каким-нибудь другим ядом?
Тут Меритатон пришла мысль, которая заставила ее сердце биться учащенно: а вдруг ее мать имела отношение к отравлению? Могла бы она отравить своего мужа, царя? И кто еще участвовал в этом заговоре? Пентью не мог совершить это преступление, руководствуясь лишь своей выгодой.
И вдруг мелькнула еще одна мысль: кого еще собрался отравить Пентью с помощью дурмана? Ведь он явно замышлял еще одно убийство! Кого же? Сменхкару? Нефертити ненавидела его, и это ни для кого не было тайной. Но кормилицы рассказали старшим царевнам о случае, происшедшем у входа в Царский дом. Сменхкары больше не было ни в этом доме, ни во дворце. Таким образом, Пентью не может к нему приблизиться, если только ему не удастся подкупить повара, который готовит пищу для бывшего регента.
По чьему же приказу Пентью готовит это преступление? Ей не с кем было об этом поговорить! Если бы она сообщила о своем мрачном открытии матери, та захотела бы узнать, при каких обстоятельствах это стало известно Меритатон, и ей пришлось бы все рассказать о своих ночных шалостях, о своем любовнике, а значит, подвергнуть Неферхеру опасности и отказаться от встреч с ним. Об этом не могло быть и речи!
Возможно, ее мать приказала Пентью стать отравителем. Эта мысль была невыносима. Сердце Меритатон забилось еще сильнее, она очень разволновалась и закрыла глаза, чтобы не видеть этой женщины — своей матери, — и застонала.
Нефертити позвала кормилицу и приказала ей посадить Меритатон на два дня на диету — поить бобовой водой.
— Я намерена поженить Анхесенпаатон и Тутанхатона, — заявила Нефертити.
Меритатон кивнула. Мальчику едва исполнилось семь лет. Его сводная сестра долгие годы сможет быть регентшей, ведь Тутанхатон был сводным братом умершего царя, младшим сыном Аменхотепа Третьего.
— А как же Сменхкара? — рискнула спросить Меритатон.
Нефертити с раздражением пожала плечами.
— Царский совет не избрал его. Теперь ему придется оставаться в тени.
Вот так! Но Эхнатон, очевидно, очень хорошо относился к Сменхкаре, раз сделал его регентом. Конечно, она не осмелилась спросить об этом мать.
Она даже не решилась спросить, кто женится теперь на ней, поскольку брак со Сменхкарой стал невозможен.
— Я оставляю тебя, — сказала Нефертити, погладив дочь по голове. — Кормилица будет докладывать мне о твоем состоянии. Хочешь, я пришлю тебе Пентью?
Ужас сверкнул в глазах Меритатон.
— Нет! — вскрикнула она. — Не надо, завтра у меня все пройдет, — уже более спокойно произнесла царевна.
Нефертити слегка подняла брови, затем направилась к двери. Только она вышла, как в комнату вошла любимая младшая прачка Меритатон забрать белье в стирку.
— Возьми то, что лежит в углу, — сказала царевна, охваченная сомнениями и тревогой.
Служанка присела на корточки, чтобы разобрать белье — набедренную повязку, в которой Меритатон спала, и льняное платье — в нем она была во время ужасного ночного приключения. На платье оставались следы путешествия по саду и подземному коридору — оно испачкалось в земле, особенно внизу, где была золотая вышивка. А на бедре оказалось какое-то подозрительное пятно, но прачка притворилась, что не заметила его. Она сложила платье и повесила на руку. Прачка замочит платье в соленой воде из шахт, грязные пятна намылит и потрет. После полоскания одежду царевны передадут гладильщицам, которые тщательно восстановят с помощью крахмала все складки.
— Желаю моей госпоже великолепия и цветения сердца, — сказала прачка и вышла.
В этот момент вошли Макетатон и Анхесенпаатон.
— Что с тобой? — спросила первая.
— В животе бурлит, — ответила Меритатон, понимая вдруг, что и она, и ее младшая сестра теперь не вправе наследовать трон. — Ты будешь царицей, — сказала она Анхесенпаатон.
— Я знаю, мать только что мне это сказала, — ответила девочка с недовольным выражением лица. — Значит… Я должна буду жить во дворце с мальчиком. Это неинтересно.
Весь день под наблюдением матери и дворцовых чиновников! И она не увидит больше Пасара.
— Ты же знаешь, когда мать что-нибудь задумает… — произнесла Меритатон.
— Хорошо, теперь только мне осталось найти мужа, — бойко сказала Макетатон.
Потом она засмеялась и добавила:
— А мама, она что, одна останется?
Этот вопрос не вызвал интереса Меритатон. Макетатон вышла из комнаты, но Анхесенпаатон осталась.
— А что с тобой случилось на самом деле? — спросила она. Для девушки ее возраста у нее был необычно низкий голос.
Меритатон медленно повернулась к ней.
— Ничего, а что?
— Я хорошо знаю тебя. Ты что-то скрываешь.
Меритатон какое-то время смотрела на младшую сестру, затем легла на спину и закрыла глаза. Надо ли посвящать в свою ужасную тайну это невинное создание? Сказать ей, что отец был отравлен? Рассказать о разговоре, который поразил ее и Неферхеру в Архиве? Об убийстве поставщика яда? Зачем? Сестра не сможет удержать свой язык. Хуже того, она будет страдать. Или сойдет с ума. Станет подозрительной. Раздраженной.
— Ты все придумываешь, — устало возразила Меритатон.
— Где ты была вчера вечером? — не отставала Анхесенпаатон, и, так как удивленная сестра не отвечала, она продолжила: — Ты вышла, когда еще не было полуночи, а вернулась незадолго до рассвета.
Меритатон удивленно смотрела на нее.
— Ты, оказывается, шпионишь за мной! — воскликнула она.
— И твое платье было грязное, — хитро улыбаясь, добавила Анхесенпаатон.
— Я тебе запрещаю следить за мной! — заявила Меритатон. — А сейчас позволь мне отдохнуть.
— Очень хорошо, — жалобно сказала Анхесенпаатон. — А я выйду замуж за Пасара. Я не хочу быть царицей, не хочу выходить замуж за Тутанхатона. Пасар мне сказал, что возьмет меня в жены.
И пошла к двери.
— Кто такой Пасар? — спросила Меритатон.
— У каждого свои секреты, — ответила Анхесенпаатон.
— Иди сюда!
Но Анхесенпаатон уже закрыла за собой дверь. Меритатон осталась одна, терзаясь муками, которые были сравнимы с коликами в животе. Теперь у нее бурлило не в животе, а в голове. Вертелся назойливый вопрос, причиняя ей острую боль: кого же готовился отравить Пентью?
На какое-то время она вспомнила о Сменхкаре. Где же он? Как переживает свою опалу? И что он думает обо всем этом? Во время их редких встреч до смерти Эхнатона он всегда демонстрировал свое хорошее отношение к ней. Она вспомнила его томный взгляд, глаза, обведенные сурьмой, сдержанные деликатные жесты, задумчивость. Все это контрастировало с авторитарным и даже грубоватым поведением его сводного брата, царя. Что их связывало? Правда ли то, что эти двое мужчин делили одно ложе? Она однажды слышала это от служанки своей матери. Что бы это значило? Ей хотелось поговорить с ним, рассказать о своих сомнениях, тайнах и страданиях. У нее было чувство, что этот обещанный и вдруг отнятый муж был единственным, кому она может излить душу. Но его не было рядом.
Она была пленницей во дворце, где никто не говорил друг с другом искренно, где правдивые слова были неслышны, потому что произносились шепотом.
Пустая статуя
Большой зал для аудиенций Царского дворца наполнился шепотом и скрипом сандалий. Двустворчатая дверь, инкрустированная золотыми пластинами, открылась.
Уадх Менех встал с золотого кресла и спустился с постамента, чтобы поприветствовать посетителей. Он не мог поступить иначе: эти люди были великими жрецами самых богатых и древних культов. Помимо жрецов Амона и Пта, Хумоса и Нефертепа, здесь были жрецы не менее важных культов: Аписа, Хоруса и Хатхор. Даже если их боги не почитались в Ахетатоне, Распорядитель церемоний не мог не оказать им должного почтения.
Он попросил Панезия, Первого слугу Атона, помочь ему в приеме гостей.
В Двух Землях почитались и религия, и власть.
Уадх Менех, сын крестьянина, с юности обученный держаться с достоинством писаря, благодаря особому расположению хозяина поместья знал, насколько переменчива власть. Еще один династический переворот, и он рискует остаться без своих титулов и привилегий. Если он не понравится новым властителям, то падет так же быстро, как и вознесся. Поэтому он относился к визитерам, как хитрый землевладелец относится к потенциальным покупателям его земель.
Каждому из жрецов полагалось по два писаря и носильщик опахала. Кроме того, каждого из них сопровождали шесть писарей второго ранга. В целом явилось около пятидесяти человек. Возглавлял эту процессию Хумос.
Бритые головы сановников блестели от жары. Возможно, их потому и брили, что с возрастом только на висках оставалось немного волос.
Менех и прибывшие стали приветствовать друг друга и выказывать знаки уважения. После этого посетители заняли пять роскошных кресел из кедрового дерева, инкрустированных слоновой костью. Уадх Менех и Панезий устроились напротив на не менее роскошных сиденьях. Слуги принесли подносы, уставленные кувшинами с вином, пивом, маленькими хлебцами в меду и медными кубками, и принялись обслуживать гостей. Другие слуги взяли на себя заботу об их спутниках.
— Мы пришли спросить тебя, почтенный, соизволит ли госпожа регентша принять нас по нашей просьбе? — обратился Хумос к Уадху Менеху.
Тот придал своему лицу приветливое выражение.
Лицо Панезия осталось непроницаемым, он стоял неподвижно, будто его мумифицировали раньше времени.
— Регентша занята решением вопросов, связанных с наследованием. Она не может принять вас, несмотря на вашу просьбу. Возможно, мои высокочтимые гости согласятся сообщить мне, недостойному, причину своего визита. Тогда ваш покорный слуга, возможно, осмелится донести ваши слова до божественно мудрой регентши.
«Божественно мудрой» прозвучало слишком напыщенно — божественность была присуща только царю, живому богу, и его деяниям. Однако всем было известно, что происхождение регентши не было божественным. Но никто из высокопоставленных лиц не обратил внимания на это несоответствие.
— Мы пришли смиренно спросить, предполагает ли регентша своей властью восстановить культы наших богов в царстве и снова взять под свое покровительство все культы.
Иначе говоря, собирается ли она пустить их в Ахетатон. Уадх Менех был поражен. Возродить, вернее, основать в Ахетатоне культ Аписа или Амона! Он знал о недовольстве жрецов, но храм Амона или Хоруса в Ахетатоне! Менех слегка повернулся ко все еще невозмутимому Панезию и, немного поразмыслив, ответил:
— Мне неведомы высшие намерения божественной регентши.
Хумос бросил на своих соратников вопросительный взгляд. Аписхем — «Апис царствует» — очевидно, верховный жрец этого бога, сдержанно улыбался. Нефертеп устремил мрачный взгляд на Панезия — жрецы мгновенно поняли друг друга. Только верховный жрец культа Хатхор слегка шевельнул ногой. Короче говоря, внешне реакция жрецов никак не проявилась.
— Ни аудиенции, ни перспектив, — подвел итог Хумос.
Это было дерзостью, но Уадх Менех воздержался от выражения недовольства. Два писаря записывали этот обмен репликами — несомненно, Нефертити потребует представить ей краткое содержание беседы.
— Ну что ж, будем считать, что отсутствие ответа и есть ответ, — заметил Нефертеп.
Уадх Менех поднял обе руки.
— Мне остается только сказать, что к сделанному вами выводу следует проявить уважение, — произнес он.
Затем снова повернулся к Панезию, но тот словно в статую превратился.
— Мы намерены возродить наши храмы, — сообщил Хумос напоследок.
На этом аудиенция была окончена. Снова произошел обмен любезностями. Визитеры встали, Уадх Менех и Панезий тоже, слуги унесли блюда.
Часом позже один из писарей Хумоса отправился к Тхуту. Бывший распорядитель и Сменхкара ознакомились с описанием переговоров.
В царстве ничего не изменилось и ничего не изменится. Солнечный Диск Атон останется единственным богом, признаваемым властью в Ахетатоне, в этом искусственном анклаве, созданном умершим фараоном. Верования остального царства настойчиво и глубоко презирались.
Во время ужина Тхуту заявил своему высокому гостю:
— Господин, отныне ты единственная надежда всех униженных священнослужителей.
Сменхкара улыбнулся и вопросительно посмотрел на него.
— Надежда подобна цветку, который должен стать фруктом. Но появится ли фрукт? Нефертити — регентша. Кто сможет сместить ее?
— Господин, наилучший пловец мира может плыть против течения какое-то время, но это не может длиться долго, — в свою очередь заметил Тхуту.
Сменхкара задумался над этим изречением и выпил глоток вина.
— Что еще?
— Господин, брат живого бога, полагаешь ли ты, что можно вечно бросать вызов богам?
Фраза была парадоксальной: ведь именно Эхнатон бросил вызов богам, а Сменхкара, его брат, был лишь регентом. Тхуту таким образом давал понять, что Эхнатон ошибся в выборе единственного бога царства и этим бросил вызов богам. Это могло показаться непростительной дерзостью со стороны бывшего Распорядителя церемоний, если бы не было продиктовано его преданностью Сменхкаре. Будучи в опале, тот не мог не прислушаться к совету союзника.
— Я намеревался вернуться в мои владения, в Мемфис. Ты думаешь, мне следует задержаться в Ахетатоне?
— Господин, принимая гостеприимство моего дома, ты оказываешь мне высшую честь, и это переполняет мое сердце и сердца членов моей семьи радостью, — с жаром ответил Тхуту. — Если твое величество согласится продлить свое пребывание здесь, я преисполнюсь высшим, божественным счастьем.
— Как ты думаешь, что может случиться?
— Господин, ты знаешь изречение Пта-Хотепа: всегда осуществляются намерения богов, и никогда — намерения людей.
Сменхкара воздержался от того, чтобы спросить Тхуту, какой смысл он вкладывал в эти витиеватые рассуждения. Было ли ему известно о заговоре? И если да, посвящен ли он во все детали? Может быть, он связан клятвой? Да и вообще, существует ли заговор? Все вопросы были излишни. Неоспоримым был только тот факт, что Тхуту ждал кардинального изменения ситуации.
— Господин, разве я не посвятил тебе свою жизнь? — спросил Тхуту.
Сменхкара был удивлен этим внезапным проявлением преданности, но это было действительно так: Тхуту демонстрировал нерушимую верность, в отличие от Пентью, Майи и многих других.
Бывший регент внимательно посмотрел на бывшего распорядителя. Коричневые глаза с белками цвета желтой слоновой кости, рот приоткрыт, будто не все сказано. Взгляд скользнул по морщинистому лбу. На лице Тхуту застыло выражение благоговения. Тхуту излучал неземную любовь к представителю царской семьи, он купался в сиянии господина. Его следующие слова это подтвердили:
— Ты красив, как сияющий день, умен, как ястреб в небе, и терпелив, как кобра, подстерегающая своего врага, — проговорил Тхуту. — Как можно не посвятить тебе жизнь, тебе, воплощению небесных добродетелей?
Неожиданные и тем более трогательные слова. Сменхкара положил руку на предплечье Тхуту.
— Я верю тебе, — сказал он, — и я не забуду твоих слов.
Он взял огурец, обмакнул в масло и соль и съел его, думая о своем. Тхуту сделал то же самое. Затем он начал есть утиную ножку, Тхуту не отставал от него.
— Как ты думаешь, сколько человек ожидают описанного тобой непредсказуемого события?
— Все священнослужители.
— Вот уже семнадцать лет они ждут. Что же изменилось?
Тхуту улыбнулся.
— Как деревья в земных садах теряют созревшие плоды, так и небесные деревья тоже. Только тем плодам нужно больше времени для созревания.
Хапи, зеленый и голубой бог, отец всех богов, был доволен: он снова стал молодым, как и каждый год. Он был душой Великой Реки, которая вздулась, как беременная женщина.
Воды, пришедшие из страны Куш, где живут люди с кожей цвета эбенового дерева и с перламутровыми зубами, были полны грязи, травы, вырванной из берегов, и гнили. Река радостно преодолела шесть водопадов. Подобно огромной руке, Великая Река распростерла свою дельту, словно растопыренные пять пальцев, до Большого Зеленого моря. Папирус и камыши на ее берегах танцевали в водоворотах паводка. Сорванные гнезда птиц теперь плыли по реке, вводя в заблуждение крокодилов, которые заглатывали их: птенцов там не было вот уже несколько недель. Коричневые воды кишели рыбой. Сети рыболовов наполнялись угрями, усатыми сомами, барабулями, карпами, вырванными из зимней спячки, оксиринками с мордой землеройки, паграми с зубами, как у собаки.
Начался сезон паводков.
Наблюдая за миром в течение многих и многих веков, просвещенные египтяне точно рассчитали время, которое проходит тень от обелиска вокруг своей оси и возвращается в точку отсчета: триста шестьдесят дней по двадцать четыре часа в каждом, плюс еще пять дополнительных дней. То есть двенадцать месяцев по тридцать дней, разделенные на три сезона, четыре месяца в каждом: весна, лето, зима. Паводок, сев, жатва.
Живительная вода начала насыщать земли. Оросительные каналы принимали ее в себя и несли это богатство дальше. Мыши спасались бегством, и крестьяне сражались с ними за свои колосья, не давая грызунам сожрать их.
Поток поднялся до корней смоковниц, которые украшали берега перед Дворцом царевен.
Страсть охватила сердце и чресла Неферхеру, возлюбленного Меритатон. Как он и обещал в ту ночь, когда она пережила ужас в зале Архива, он принес туда свернутую циновку. Они встречались там каждую ночь. Своими губами он заставлял расцветать ее грудь и щекотал пупок; он целовал пальцы ее ног и превратившиеся в сочные плоды губы. В отличие от лотосов ее лоно раскрывалось только ночью.
— Ты моя Великая Река, — шептала она ему.
— А ты мое царство, и я его наводняю.
Имея божественную сущность, она отдала ему тело. Она вверила ему свои плечи, свои руки, похожие на кобр, свой живот с единственным глазом пупка, треугольник своего лона, свои ноги, словно выточенные из орикса, и каждый пальчик своих рук.
В большом зале, где совершалась мумификация, сода делала свое дело, иссушая останки одного из властителей мира. Каждое утро мастер-бальзамировщик Асехем проверял некогда плотскую оболочку Эхнатона. Жидкость покидала это тело, по мере того как в долине Великой Реки поднималась вода. «Вода — это жизнь, — размышлял Асехем. — Грязная или хрустально чистая, сине-зеленая, голубая или коричневая — но это всегда жизнь».
Он думал о моче, которая вот уже более сорока пяти дней не выходила из этого отныне ненастоящего тела. О слюне, которая больше не увлажняла этот рот. О слезах, если только у него был дар плакать; они больше не облегчали движений его глаз. Казалось, что Атон, Солнечный Диск, высушил слезы царя еще при жизни.
«Да, приготовление мертвых к вечной жизни поневоле делает тебя философом», — думал главный бальзамировщик. Он опять вернулся к своим мыслям: через месяц царь сможет уйти. Через три или четыре дня вечная оболочка станет твердой, как статуя, и легкой, как яичная скорлупа, чего и добивались бальзамировщики.
— Начинаем заполнение, — сказал Асехем своим помощникам.
Смесь мирры, кассии, корицы, гвоздики и других благовоний из Куша была уже готова и находилась в большой льняной сумке. Все было настолько измельчено, что эта масса напоминала паштет.
Еще один раз Асехем проверил, все ли чисто внутри оболочки и не заскочила ли ночью в такое привлекательное место какая-нибудь мышь. Такое иногда случалось.
Двое молодых помощников принялись начинять брюшную полость и грудную клетку. От покойника исходил опьяняющий запах.
— Ну вот, хорошо, — сказал Асехем, прежде чем приступить к начальному моделированию форм.
Пока оболочка сохраняла эластичность, он формировал мощные мышцы на груди покойника. Затем из вздувшегося живота он сделал плоский. Постепенно тело принимало действительно красивые формы.
Примерно через час после полудня главный бальзамировщик позволил себе отдохнуть и распорядился раздать всем участвующим в процессе прохладное пиво и хлеб с сезамом. В два часа он дал знак, и наступила очередь парасхиста: пришло время сшивать оболочку. Все было готово уже много дней назад, в иглу даже была вдета нить. Асехем следил за его работой: отверстия, оставляемые толстой льняной нитью, не должны были располагаться слишком близко друг к другу, чтобы не повредить кожу.
— Уже твердеет, — сказал швец.
Действительно, каждый раз, когда бронзовое шило пронзало высушенную кожу, слышался легкий щелчок.
— На животе стягивай как можно сильнее, — советовал Асехем.
— Тогда останется много лишней кожи.
— А ты ее заверни вовнутрь.
В четыре часа, хорошо сформированный и прошитый, Эхнатон приобрел великолепный вид. Команда бальзамировщиков собралась, чтобы полюбоваться результатами своей работы.
Асехем решил, что через четыре или пять дней можно будет начинать обертывание. Необходимо было предупредить распорядителя, чтобы тот, в свою очередь, передал жрецам, что необходимо поторопить писарей с написанием священных заклинаний на лентах.
Распорядитель Уадх Менех не был подобен ни ястребу, ни соколу, ни коршуну — у него была крысиная душонка. А крысы — создания восприимчивые и сразу чуют, что где творится. Узнав о том, что бальзамирование подходит к концу, он обрадовался, что все в царстве происходит, как должно быть. Обряды, созданные выдающимися умами благодаря божественному вдохновению, были все-таки очень красивы.
Потом, как жуки-долгоносики заводятся в муке, в голове Уадха Менеха зародились сомнения. Он вспомнил о визите великих жрецов и удивился отсутствию реакции с их стороны. Он знал, что это были могущественные люди. Разве они могли так просто смириться с поражением? Да и бывший регент тоже как-то легко уступил позиции. Все шло слишком уж хорошо.
Обращение к Сехмет
Нефертеп был сама любезность. Мухи так и липли к нему в удушающих сумерках Мемфиса, поэтому носильщики веера старались изо всех сил, чтобы они не слишком докучали господину.
Напротив него разместил свое необъятное седалище Хоремхеб, за глаза его называли Бычий Зад. Удостоенный чести быть приглашенным персоной, чья духовная власть равнялась его военной власти и к тому же длилась довольно долго, Хоремхеб провел рукой по жирной шее. Цирюльник хорошо знал свою работу: его медное лезвие было, как всегда, до такой степени остро заточено, что могло одним движением рассечь муху пополам. А бальзам, который он наносил на кожу, был одновременно жирным и воздушным и не обжигал ее. Да, все-таки самый великий полководец царства заслуживал соответствующего своей славе бритья.
Военачальник подозрительно уставился на Нефертепа. Чего ему будет стоить приглашение отужинать у великого жреца, тем более один на один? Неужели Нефертеп собирается попросить большую часть добычи, полученной в последней кампании? Что, его жрецы настолько ненасытны? Разве он не получил три огромных медных блюда тонкой работы, кресло из эбенового дерева и слоновой кости и золотые нагрудные латы из сокровищ, взятых в стране Куш? Итак, он ждал претензий со стороны Нефертепа, а не мешало бы исхлестать этому лысому физиономию.
Однако ничто не говорило о том, что великий жрец собирался требовать что-либо.
— От наших вестников я узнал, — начал он таким тоном, словно речь шла о назначении нового руководителя налогового ведомства, — что бальзамирование умершего царя почти завершено.
Слуги принесли большое блюдо с жареной птицей и еще одно — с говяжьим филе с луком-шалотом и сметаной, выложенное на тонких хлебцах и посыпанное золотистыми крошками кориандра.
Хоремхеб уже осушил четыре кубка вина. Когда он увидел поданные блюда, у него загорелись глаза. Несомненно, великие жрецы питались так же хорошо, как и цари.
— Да, — подтвердил он, беря сразу два хлебца. — Регентша готовится к большой церемонии.
— А ты собираешься присутствовать на ней? — спросил Нефертеп.
Священнослужители старались не принимать участия в обрядах, да они и не испытывали особого желания присутствовать при этом.
— Ими будет руководить ваш глубокоуважаемый друг Панезий, — сообщил Хоремхеб, жадно проглатывая хлебцы.
— Погребение состоится в Ахетатоне?
Хоремхеб кивнул. Он взял большую луковицу и впился в нее зубами, как шакал, разрывающий утку. Нефертеп с восхищением рассматривал два золотых зуба военачальника — один резец и один коренной, красиво расположенные и соединенные с соседними зубами золотой нитью. Он узнал творение рук царского дантиста. Хоремхеб наполовину опорожнил кубок с вином и прищелкнул языком, явно удовлетворенный. Затем он спросил:
— Что это за вино? Я никогда не пил ничего подобного!
— Это вино из Нижнего Египта. Двойной выдержки. Его евреи делают.
— Двойной выдержки! Да это вино способно воскресить Осириса!
— Я дам тебе целый кувшин такого вина, — пообещал Нефертеп.
У Хоремхеба снова загорелись глаза, и он допил вино. В конце концов, этот жрец оказался не таким уж мерзким типом, как он предполагал. У него был по-царски щедрый стол, и он даже делал подарки. Нефертеп захрустел маленькой луковицей и приказал виночерпию снова наполнить кубки.
— Не находишь ли ты странным, что сын не будет покоиться рядом с отцом?
— Такова была воля регентши, — ответил Хоремхеб, пожимая плечами.
— Значит, гробница Дома Маат останется пустой?
Кубок Хоремхеба, однако же, пустым не оставался, за этим следил виночерпий. Хоремхеб сжевал три редиски одну за другой и громко рыгнул.
— Насколько я понял, — сказал он, — Ай намерен пустить погребальную процессию по Великой Реке.
— А чего он боится? Враждебных выступлений?
— Может быть, — ответил Хоремхеб. — Или, наоборот, нескрываемого равнодушия. У этих хлебцев изысканный вкус, — добавил он, беря еще один.
— Достойно ли это божественного царя, если он после смерти не осмелится пересечь свое царство?
— Конечно же нет, — заявил военачальник. — Мои воины огорчены этим.
— Спуск по реке должен вызвать благоговение народа перед воплощением божества. Если бы воцарился любимый преемник фараона, народ можно было бы успокоить.
— Это было бы замечательно, — заметил Хоремхеб. — Так было, когда отец Эхнатона отправился на покой, к своим родителям. Церемония продолжалась три недели!
Нефертеп кивнул.
— Что и говорить, — задумчиво произнес он, — эта страна напоминает расчлененное тело. Туловище и ноги здесь, а голова непонятно где.
Хоремхеб, в свою очередь, закивал головой.
— Это правда. К тому же ослабленное тело, я бы сказал.
— И нет Исиды, которая могла бы соединить его части.
— У нее нет тринадцатой части! — воскликнул Хоремхеб, вспомнив о фаллосе Осириса.
Он вдруг громко расхохотался. Его необъятное брюхо заколыхалось, потом на высокой пронзительной ноте смех резко оборвался.
Нефертепу ничего не оставалось, кроме как разделить веселье своего собеседника. Он сделал вид, что его тоже рассмешила эта грубая солдафонская шутка.
Хоремхеб схватил птичью тушку, оторвал ей голову и решительно впился в нее зубами. Послышался хруст костей и довольное мычание военачальника.
— А это что такое?
— Перепела, фаршированные бобами с чесноком.
Снова довольное мычание. Такие звуки издает гиппопотам в своем болоте.
Слуги сновали туда-сюда, удовлетворяя все прихоти военачальника и слушая его
восторженные высказывания во время трапезы. При этом они оставались совершенно безучастными, лишь иногда насмешливые огоньки появлялись в их глазах. Нефертеп лично с самого утра следил за приготовлениями, хотя обычно этим не занимался. Его жена была весьма удивлена. Нефертеп знал, что Хоремхеб был гурманом и что его жена Мутнезмут, дочь Ая и сестра Нефертити, кормила его не лучше, чем в казармах, восполняя качество количеством.
— Недавно я был в Ахетатоне, — наконец снова заговорил военачальник, — чтобы доложить регентше о нуждах армии, в частности по поводу нехватки колесниц. Она слушала меня, ничего не понимая, и нашла мои требования чрезмерными. К счастью, там присутствовали ее отец Ай и двоюродный брат Нахтмин.
Он с жадностью схватил вторую половину птичьей тушки, и косточки захрустели под его железными челюстями. В то время как Хоремхеб уплетал другие блюда из птицы, Нефертеп хранил молчание и, в свою очередь, разделался с двумя тушками. Он не хотел быть заподозренным в приготовлении каких-нибудь подозрительных кушаний. Наконец Хоремхеб сделал паузу, обсосал несколько ножек и положил на стол маленькие косточки.
— Так ведь это ты назначил ее регентшей, — сказал Нефертеп.
Такое замечание могло быть воспринято как невероятная дерзость, поскольку Хоремхеб был зятем Нефертити. Это мог себе позволить только такой высокопоставленный жрец, как Нефертеп. Военачальник был достаточно предусмотрительным и осторожным, чтобы не искать повода для ссоры с человеком, который управлял Мемфисом так же верно, как сам Хоремхеб командовал тамошним гарнизоном.
Хоремхеб вздохнул, от чего его брюхо сразу увеличилось в размерах, опустошил свой кубок с вином и посмотрел на говяжье филе в сметане.
— Спешу сообщить, что моя жена была совершенно ни при чем, — заявил Хоремхеб.
— Я никогда и не думал о том, что знаменитый военачальник позволит женщинам командовать собой, — дружелюбно заметил Нефертеп.
— Послушай, — начал объяснять Хоремхеб, — прежде всего, Нефертити не просто жена царя. Ты же знаешь, Эхнатон дал ей столько власти, сколько имел и он сам, и больше, чем было у регента. Это единственная женщина на моей памяти, которую изобразили на барельефах, как и ее мужа, поражающей врагов копьем. Признай, что именно он присвоил ей такой высокий ранг.
— Это было до того, как в его жизни появился Сменхкара, — произнес Нефертеп.
— Да, но он никогда не отменял свои рескрипты, — возразил военачальник. — Кроме того, меня убедили аргументы Ая. Хотя, возможно, он в этом и переусердствовал.
Нефертеп ждал, что Хоремхеб скажет дальше.
— Ай убедил меня в том, что регентство Сменхкары будет лишь продолжением прежнего правления, что Сменхкара ничего из себя не представляет, что он возвысился только благодаря чрезмерному покровительству Эхнатона и лишь приблизит упадок царства. Ай также убедил меня в том, что, если регентшей станет Нефертити, она поведет страну по пути, оставленному Эхнатоном после прихода к власти. Короче говоря, я понял, что Ай собирался использовать Нефертити. Я же, в свою очередь, гарантировал, что гарнизоны в провинциях не будут восставать в случае, если Царский совет отстранит Сменхкару от власти.
— А ваши требования, твои и Нахтмина, были удовлетворены?
Хоремхеб с наслаждением сделал глоток вина и протянул руку к говядине в сметане.
— Нет, — ответил он со смешком. — Нам достались какие-то крохи. Это значит, что ситуация такая же, как и при Эхнатоне. Приграничные гарнизоны слабы, потому что им плохо платят, снаряжения и колесниц недостаточно. Договоры о союзничестве не соблюдаются. Хетты уже отобрали наши провинции на востоке, потому что военачальники, которым плохо платили, нас предали. Теперь я боюсь, что принцы страны Куш прознают о плохой защите наших южных границ.
— Но разве Ай не командует конницей? По крайней мере, он мог бы отнестись с большим вниманием к этим проблемам.
— Только на словах! У него теперь нет времени этим заниматься. Он сейчас ушел с головой в дела и интриги, связанные с передачей власти.
Теперь военачальник говорил с большим пылом.
— Я узнал, что все больше и больше номархов нанимают за свой счет стражу, потому что соседние гарнизоны не в состоянии защитить их от банд грабителей! В стране начинается анархия! — взревел он.
Он приблизил свою массивную голову к Нефертепу:
— Мы лишимся власти и роскоши, которой мы сейчас наслаждаемся, уже завтра, если жителям страны Куш взбредет в голову нас завоевать! — Его голос стал таким низким, что скорее напоминал рев носорога.
Великий жрец остался бесстрастным — это было именно то, что он желал услышать.
— Значит, Ай не выполнил своего обещания? — спросил Нефертеп, накладывая и себе говядины.
Хоремхеб засунул в рот чуть ли не половину лепешки, и сок от лука-шалота потек по его румяному подбородку и по пальцам.
Он повернулся к слуге, который подбежал к нему с чашей для омовения рук, а еще один слуга спешил к гостю с кувшином и куском тонкого полотна. Военачальник протянул руки над чашей, и второй слуга стал поливать их ароматизированной водой с небольшим количеством сока агавы. Хоремхеб провел пальцами по губам и, умывшись таким образом, вытер лицо и руки полотном и продолжил обжираться.
— Хотя Ай прекрасно знает свою дочь, он ошибся. Я считаю, что Нефертити намерена продолжить политику своего супруга. Она хочет убедить всех в том, что он воплотился в ней. Нефертити думает только о сохранении культа Атона. Настоящая жрица!
— Культ Атона… — повторил Нефертеп. — Но откуда ты знаешь?
Хоремхеб улыбнулся:
— От своей жены. Еще я узнал, что сразу после погребения своего мужа Нефертити собирается воздвигнуть под защитой армии храм Атона в Гелиополе.
— Храм Атона в Гелиополе! — завопил Нефертеп. — Нет, эта женщина сошла с ума! Да она же может спровоцировать бунт!
— Моя жена — возблагодарим Амона! — убедила ее не делать этого, — заявил Хоремхеб, проглатывая кусок говяжьего филе. — Мутнезмут не интересуется политикой, но кое-что ей известно, и она обладает здравым смыслом.
Его губы блестели от жирного соуса. Сейчас они были цвета розового коралла и контрастировали с бронзовой кожей.
— Твой повар настоящий искусник! — воскликнул Хоремхеб. — Я бы хотел, чтобы он давал уроки моему.
В данный момент меньше всего волновали Нефертепа мысли о еде. Ошеломленный чудовищным намерением Нефертити построить храм Атона в Гелиополе, он все еще качал головой.
— Нефертити всецело поглощена тремя идеями, — снова заговорил Хоремхеб. — Она стремится сесть на трон, править так, как правил ее супруг, и отомстить Сменхкаре. Она ненавидит регента, он вызывает у нее безграничное омерзение. Не только потому, что он отнял у нее привязанность мужа, но и потому, что подозревает его в благожелательном отношении к традиционным культам. И к твоему тоже.
— Да, это вряд ли поможет управлять царством, — заметил Нефертеп. — Но как объяснить то, что Ай забыл о своих обещаниях укрепить армию? Ведь Нахтмин — его двоюродный брат. Он мог хотя бы проявить родственные чувства.
Взгляд Хоремхеба, похожий на взгляд саламандры, остановился на великом жреце.
— Мне кажется, я знаю причину его забывчивости, — сказал военачальник, пережевывая очередной кусок. — Он боится, что армия станет слишком могущественной. Он скорее пожертвует провинцией, чем поставит под угрозу власть монарха.
— Значит, все как прежде, — сделал вывод Нефертеп.
— Если я не ошибаюсь, вы все — я имею в виду жрецов — это уже поняли после беседы с Уадхом Менехом.
Нефертеп догадался, что у Хоремхеба были свои шпионы во дворце, так как он знал об этой встрече.
— Мы поняли то, что касается культов. Насчет всего остального мы остаемся в неведении.
Хоремхеб заканчивал прожевывать последний кусок говядины.
— Чего ты ждешь от меня? — спросил он так неожиданно, что этим вопросом застал врасплох великого жреца.
Нефертеп понял, что ошибался. Ни вино, ни изысканные блюда не притупили бдительности военачальника. Несколько птичек и немного вина не могут заполнить внутреннее пространство гиппопотама.
— Мне достаточно того, что ты оказываешь мне честь, приняв мое приглашение, и позволишь насладиться живостью и остротой твоего ума, — ответил с улыбкой Нефертеп. — Я понял, что армия так же ущемлена, как и священнослужители. Меня интересовало, как такой герой, как ты, оценивает ситуацию.
— Все отвратительно.
Слуги ждали от своего хозяина знака убирать со стола, а получив его, одни из них быстро убрали посуду, другие вытерли стол влажными тряпками и подали сотрапезникам мяту, чтобы они могли ее пожевать. После этого слуги принесли большое блюдо с разрезанным арбузом, красными финиками и первыми фигами.
— Если мы снова будем терпеть неудачи, — сказал Хоремхеб, — виноват в этом, естественно, буду я.
— Нам остается надеяться на дар Сехмет, — произнес великий жрец.
При упоминании жестокой богини-львицы, орудия божественной мести, улыбка сошла с лица Хоремхеба. У всех жителей Долины имя этой богини вызывало дрожь.
— Но… разве она не уничтожает врагов Солнца? — заметил военачальник.
— Она Око Ра! — ответил Нефертеп. — Она следит за Великим Равновесием.
Хоремхеб вздрогнул, подумав о схожести Ока Ра и Нефертити. Несмотря на эти мысли, он положил себе четверть арбуза и осторожно откусил кусочек.
— Сейчас мы приносим ей особые жертвы, — сказал Нефертеп, заметив беспокойство военачальника.
Его воины уже докладывали ему об активной деятельности вокруг храма в Мемфисе, где богиня Сехмет была покровительницей.
— А как ты думаешь, что произойдет? — обеспокоенно спросил Хоремхеб, беря сразу две фиги.
— Я не знаю, — ответил Нефертеп тоном человека, которому известно все.
— Царский совет передал ей все полномочия, — сказал военачальник. — Он никогда ее не отстранит.
Нефертеп обратил к собеседнику свое спокойное и загадочное лицо.
— Боги не любят, когда ими пренебрегают слишком долго.
Хоремхебу понадобилось какое-то время, чтобы осмыслить услышанное.
— Воины тоже, — наконец сказал он.
В зарослях смоковниц замолкли птицы. В небе цвета индиго, словно молнии, мелькали первые летучие мыши, проглатывая запоздавших насекомых и первых ночных бабочек.
Хоремхеб поблагодарил хозяина дома и сказал, что ему пора отдыхать. Как и все военные, он рано ложился спать. Члены его эскорта, досыта накормленные слугами, уже ждали у дверей, куда Нефертеп проводил своего гостя. Приблизился носильщик факела. Хоремхеб задержал красноречивый взгляд на жреце, как бы говоря о том, что он понял, почему упоминали Сехмет. Нефертеп ответил ему тенью улыбки, и мужчины расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.
На рассвете слуга из дома Нефертепа оседлал мула и отправился в путь с тремя лаконичными посланиями. Сначала он направился в Ахетатон, самый ближний город, где навестил Пентью. В переданном ему послании говорилось:
Пустыня свободна, и львица может атаковать.
Следующий адресат — Хамер из Гелиополя — получил такое послание.
Скоро взойдет звезда львицы.
После этого посланник отправился к Хумосу в Фивы. В предназначенном для него послании значилось:
Львица больше не боится копьеносца.
Лишь два великих жреца удостоились загадочного послания Нефертепа. Этого было достаточно. Долгий опыт научил Нефертепа тому, что язык не является верным слугой. Он больше напоминает пьяного или сумасшедшего. И только такие высокие умы, как Хумос и Хамер, могут держать его за зубами.
Что же касается третьего адресата…
Полет божественной птицы
Кормилицы пришли будить царевен со стенаниями и заплаканными лицами, как того требовали обстоятельства. Девушкам предстояло пережить очень тяжелый день.
Умытые, накрашенные, причесанные, они спустились все вместе по лестнице, чтобы присоединиться к своей матери во дворе дворца. Рядом с Нефертити стоял маленький мальчик, а позади них, удерживая мух на почтительном расстоянии, находились носильщики опахал.
Царевны принялись рассматривать мальчишку. Это был их дядя Тутанхатон. Семилетний дядя. Он украдкой посмотрел на них и застенчиво улыбнулся.
По знаку Уадха Менеха церемонимейстер попросил царевен стать по обе стороны от матери. Тут возникла небольшая заминка, так как Тутанхатон уже стоял справа от царицы. Нефертити, раздраженная всеобщей растерянностью и шушуканьем, приказала Анхесенпаатон, будущей супруге царя, Макетатон и Меритатон стать возле Тутанхатона. Кормилицы заняли место позади носильщиков опахал.
Раздались жуткие завывания плакальщиц.
Нефертити оставалась беспристрастной. Она знала, что в этот момент все смотрят на нее, а особенно внимательно за ней следит ее личный враг Сменхкара, который один стоял позади нее. Она хотела не допустить его участия в обряде, но Ай решительно этому воспротивился.
Меритатон бросила на мать встревоженный взгляд. Регентша была мертвенно бледной. Меритатон и ее младшая сестра Анхесенпаатон посмотрели друг на друга. Глаза девушек округлились, что на их немом языке означало: «Предстоит тяжелое испытание. Терпение!»
Позади царской родни расположились члены Царского совета: Ай, Майя, Пентью, Уадх Менех и Пта-Сеедх, начальник гарнизона города. Панезий, естественно, руководил обрядом. Его окружала группа из десяти жрецов, которых, в свою очередь, сопровождали двадцать два писаря. Его было видно через дверь, ведущую во двор. Панезий ждал, пока начнется шествие.
Уадх Менех отправил к нему писаря с сообщением, что все готово. Верховный жрец, Первый слуга Атона, поднял руку, и участники процессии задвигались. Им не нужно было далеко идти — всего лишь на другую сторону улицы, к Царскому дому. Но колонна была настолько длинной, что, когда появился Панезий, хвост процессии еще даже не вышел со двора.
Анхесенпаатон надеялась увидеть Пасара, но тщетно. Плотная толпа заполонила улицу. Отряд из двух сотен солдат и десяти конных командиров поддерживал порядок.
Погребальный катафалк, расположенный в паланкине, который несли восемь человек, первым покинул Царский дом. Крики стали в два раза громче. Трубы стражников издали резкий, почти отчаянный звук, как будто кричало раненое животное. Анхесенпаатон чуть не упала в обморок. У Тутанхатона глаза округлились от ужаса.
Те, кто стоял недалеко, еще могли услышать обрывки фраз Панезия: «…в твоем земном царстве… слава Атона…» Другие же не слышали абсолютно ничего.
Паланкин двинулся по улице на восток, вскоре его окружил вооруженный отряд из пятидесяти человек с десятью всадниками во главе. За ними следовал еще один отряд военных, которые несли сосуды с царскими внутренностями. Затем шли те, кто нес предназначенное для погребения имущество, включая и статую царской спутницы в натуральную величину. Это была молоденькая обнаженная девушка с деревянными прелестями из крашеного кедрового дерева. Никто не собирался лишать умерших плотских утех. Всего было двенадцать паланкинов с загробным имуществом.
Когда процессия продвинулась немного вперед по улице, Панезий забрался на носилки и присоединился к ней. Жрецы и писари шли пешком. Распорядитель церемоний пришел просить Нефертити занять место в его паланкине. Она направилась за ним, ноги у нее заплетались. С ней шла одна из служанок. Нефертити прилегла в роскошном желтом паланкине с красными занавесками, которые были тут же опущены. Стража организовала проход в толпе, и носилки тронулись с места. Тутанхатон устроился один в почти таком же паланкине. Царевны сидели по двое в следующих трех, Сменхкара и Царский совет заняли шесть паланкинов, кормилицы шли пешком. Еще один военный отряд замыкал процессию. Следом шли плакальщицы и все жители Ахетатона.
Двенадцать паланкинов с загробным имуществом и двенадцать с родственниками царя и приближенными вельможами скоро оказались в конце улицы и свернули на восток по направлению к гробницам в горах. На место они прибыли через три часа, примерно в час пополудни. Несколько коршунов с обманчивым безразличием парили в раскаленном небе.
Сотня воинов и двадцать всадников ждали у входа в новую гробницу. Панезий встал со своих носилок. Жрецы и писари присоединились к нему, чтобы встретить царскую мумию у входа в ее жилище. Шестеро жрецов уже окуривали катафалк. Чтобы начать ритуал, надо было подождать, пока все покинут носилки и сойдут на землю. Панезий вспомнил первые слова обращения к умершему: «Входи, сын Атона, властелин Двух Земель, защитник справедливости…»
Носилки Нефертити только что поставили на землю. Носильщики торопливо отдернули занавески. Служанка бросилась к своей госпоже помочь ей спуститься. Регентша успела поставить на землю только одну ногу и сразу же упала. Служанка вскрикнула и хотела поднять ее. Тутанхатон, который только что покинул носилки, стал по мере своих слабых сил помогать поднимать Нефертити. Подоспели носильщики и положили тело регентши в паланкин.
Началось настоящее столпотворение. Подбежали царевны, кормилицы, члены Царского совета, другие носильщики, писари. Пентью проложил себе дорогу. У него в руках было зеркало из полированной бронзы, которое он поднес ко рту Нефертити. Оно не запотело. Тогда он положил руку к телу регентши над сердцем. Ничего.
Он повернулся к плачущим царевнам:
— Божественная птица улетела. Атон воссоединил божественную пару! — заявил он.
Пентью повернулся к мертвенно-бледному Аю. Их взгляды, острее кинжалов, встретились, но губы сковывала тайна их злодеяний. Казалось, что старик пережевывает остатки пищи, но это не было проявлением ненависти. Вдруг они заметили, что на них кто-то смотрит: это была Меритатон, единственная из царевен, кто не поддался общей истерии. У нее дрожал подбородок, но она смотрела на двух мужчин пронзительно, ее взгляд был неподвижен, как у посмертной маски.
Ее сестры, кормилицы, служанки Нефертити рыдали навзрыд. Плакальщицы же с новой силой возобновили стенания. Подножие горы сотрясалось от невообразимого шума.
Ай и Пентью смотрели на Меритатон, очень удивленные ее поведением. Она резко повернулась и пошла к носилкам, чтобы склониться над трупом своей матери.
Посланник побежал с новостью к Панезию, который находился в трехстах шагах от места происшествия и уже заметил царящее там смятение, но не мог ничем его объяснить.
А Сменхкара стоял в пяти шагах и не пропустил ни одной детали из двойной дуэли взглядами между Аем и Пентью с одной стороны и между ними двумя и Меритатон с другой. Сначала он удивился, а потом забеспокоился. Правильно ли он понял эти немые обвинения?
Не в силах больше вынести крики, раздававшиеся вокруг, бледный Тутанхатон подошел к своему двоюродному брату и взял его за руку. Сменхкара обнял его за хрупкие плечи. Мальчик заплакал. Умершая не была его матерью, но столько эмоций за такое короткое время для него было слишком. Сменхкара обнял его еще крепче.
— Я с тобой, — сказал он. — Не плачь.
Но разве могли утешить слова? Он понял это, как только произнес их. Уже давно Сменхкара подозревал, что смерть брата наступила не сама по себе, а сейчас его подозрения переросли в уверенность. Эхнатона отравили. Те же преступники только что убили Нефертити.
Он был всего лишь игрушкой в их руках. Вдруг он понял, почему Эхнатон ненавидел служителей культов. Поэтому он и лишился жизни. Как и его вдова.
Тутанхатон прижался к своему старшему брату. Впервые за долгое время они почувствовали друг в друге близких людей. До этого они были разделены условностями и традициями дворцовой жизни.
Поднялся легкий ветерок. Вихри пыли кружились, словно злые гении среди сказочных персонажей, и только усугубляли хаос.
Ситуация становилась критической: было совершенно невозможно совершать погребение в присутствии трупа жены фараона. Не было никаких правил для такой ситуации. Но необходимо было быстро принять решение, потому что в шесть часов наступала ночь, и обратный путь мог занять в два раза больше времени. Было, конечно, сложно разместить в гробнице царское имущество за оставшееся время. С этим и так уже припозднились. Одни только молитвы, которыми сопровождается вручение чаши с землей и посеянными в ней зернами пшеницы, что символизирует возрождение фараона в другом мире, длятся полчаса.
Члены Царского совета, включая Панезия, Уадха Менеха и Распорядителя церемоний, тут же принялись совещаться. Было решено, что тело Нефертити и ее дочерей в сопровождении служанок доставят на носилках в город, а Сменхкара и Тутанхатон как братья фараона должны присутствовать хотя бы при ритуале Открытия рта. Ай решил вернуться в город и заодно сопроводить Мутнезмут, сестру Нефертити и жену Хоремхеба, которая решила последовать за носилками своей сестры.
Таким образом, семь носилок отправились в город, сопровождаемые писарями, чиновниками Царского дома, кормилицами, служанками и специальным военным отрядом. Хоремхеб в сопровождении двух военачальников бесстрастно смотрел на эту суматоху. Он помнил каждое слово из разговора с Нефертепом. Регентша теперь была мертва. И умерла она очень кстати.
Незадолго до трех часов Панезий занял свое место у входа в гробницу. По нему было видно, что он растерян. Он открывал рот и не находил слов. Писарь принялся подсказывать ему:
— Входи, сын Атона, властелин Двух Земель, защитник справедливости…
В действительности уже никто из присутствующих не следовал ритуалу, который, между прочим, со всеми мельчайшими деталями был придуман умершим фараоном. В течение всего ритуала не упоминались опозоренные боги. Каждый из присутствующих был поглощен своими мыслями. Потрясение было слишком велико. Как только завершился ритуал Открытия рта, в присутствии двух братьев Эхнатона тройной саркофаг с фараоном был помещен в каменный саркофаг, представлявший собой четыре вложенных один в другой саркофага разной величины. Сменхкара покинул гробницу измученным. Он решил, что брата необходимо отправить в город. Он уже достаточно насмотрелся.
Пленница
Голоса и огни в саду вывели Меритатон из оцепенения, в котором она находилась после возвращения из зловещей гробницы. Она встала с ложа и вышла на террасу. Два факела освещали четыре силуэта. Она узнала помощника смотрителя Царского дома, его писаря, хранительницу гардероба и хранительницу париков. По всей видимости, они только что вернулись в город и валились с ног от усталости. Когда они входили во дворец, Меритатон удалось услышать несколько брошенных кем-то слов:
— А завтра все начнется сначала…
«Действительно, — подумала девушка. — Труп матери лежит в ее комнате. Как бы ни был страшен этот день, завтрашний будет еще ужаснее». Она слушала пение лягушек и сверчков.
В последних отсветах факелов она заметила в глубине сада среди деревьев туи какую-то шевелящуюся тень. Сердце царевны застучало. Тень приветственно подняла руку. Неферхеру! Но что он здесь делает? И как долго он ждал? Меритатон надела сандалии и спустилась в сад.
— Я не могу заснуть, не увидев тебя, — сказал Неферхеру. — Я беспокоился.
Она обняла его и расплакалась. Юноша погладил ее по голове.
— Они убили ее… — еле выговорила Меритатон сквозь рыдания. — Теперь я уверена, что моего отца тоже убили!
— Тише… Тебя могут услышать.
— Убийцы, отравители! Этот Пентью…
— Я догадался, о чем ты думаешь. И беспокоился.
— Ты там был?
— Да. Я все видел.
— Они закончили обряд?
— Нет. Разместить загробное имущество можно будет завтра. А церемония в храме Атона состоится послезавтра.
— Ворам будет чем поживиться!
— Нет. Уадх Менех оставил отряд из пятидесяти человек охранять гробницу.
Царевна была подавлена. Вокруг витали приторные ароматы жасмина и резеды.
— Этот Пентью… — снова начала она с жаром.
— Тише, прошу тебя! Подумай обо мне.
Он усадил ее и сел рядом. Меритатон вытирала слезы подолом платья.
— Будь осторожна, — сказал Неферхеру. — Никто не должен догадываться о твоих мыслях. Совершенно очевидно, что Пентью действовал не один. Он наверняка выполнял чью-то волю.
— Чью?
— Жрецов.
— Как был прав мой отец, презирая их! Ты думаешь, это они приказали отравить мою мать? Но почему?
— Я слышал, что Нефертити отказалась восстановить их полномочия. В частности их право на часть военной добычи.
Меритатон задумалась, потом произнесла:
— А Сменхкара? Как ты думаешь, может, это его рук дело? Я почти уверена, что Царский совет назначит его преемником моего отца. Именно ему выгодна смерть моих родителей…
— Послушай, я же не читаю мысли людей. Но я не думаю, что он смог бы убить своего брата. Нам приходилось часто иметь с ним дело в течение последних нескольких лет. У нас сложилось о нем впечатление как о справедливом и мягком человеке, глубоко преданном своему брату… Нет, я совершенно уверен, что к смерти твоего отца он не имеет никакого отношения. — Помолчав, он добавил: — Но ведь несколько дней назад ты считала его милым и говорила мне, что быть его супругой — не такая уж плохая участь…
— Смерть матери все изменила. У меня открылись глаза. Это же очевидно — ее отравили. Я думаю, что он так отомстил ей. Она же отстранила его от власти и унизила…
Неферхеру отрицательно покачал головой.
— Подумай, — сказал он. — Единственный, кто не оставил Сменхкару, когда он попал в опалу, это Тхуту, у которого он сейчас живет. Пентью предал его сразу же. Как он может быть замешан в сговоре, результатом которого стала смерть твоей матери?
— Но тогда кто? — спросила царевна. — Кто?
— Не знаю. Возможно, жрецы.
— А что говорят об отношениях Сменхкары и моего отца?
Неферхеру задумался.
— Что касается твоего отца, то Сменхкара был для него сыном, которого он так хотел. И он сделал своего сводного брата преемником.
— И это все?
— А что тебе еще нужно?
— Они спали вместе!
— Не понимаю, что бы это могло означать.
— Они были любовниками.
Молодой человек ответил не сразу.
— Мой отец учил меня не судить о том, чего я не знаю, и не лезть ни к кому в душу, вообще не судить никого.
Они надолго замолчали. Заухала сова.
— Значит, это жрецы? И все? — прошептала Меритатон.
— Возможно, их поддержали военные. Мерит, не мучай себя бесконечными вопросами. Иди спать. Завтрашний день и последующие будут ужасными. Ты должна поддержать младших сестер. Помни: перед всеми будь невозмутимой. Ты страдаешь из-за смерти матери — и это все.
— Я рада, что ты дождался меня, — сказала она, погладив Неферхеру по щеке. — Ты придешь завтра?
— И завтра, и каждую ночь.
Он положил руки на плечи Меритатон. Она потянулась к нему, и он поцеловал ее в губы.
Нехотя она поднялась в свою комнату. Может быть, где-то существовал мир, в котором влюбленные думали только о наслаждении. Но это был не ее мир. Она была царевной. А значит, пленницей.
Несмотря на тряску носилок, Тутанхатон заснул, прильнув к своему брату. Переживания истощили его. Сменхкара подумал, что мальчик чувствовал себя сейчас, пожалуй, почти как умерший царь.
Потом его взволновали другие мысли. Первая возникла с ужасающей быстротой: его подозрения насчет внезапной смерти Эхнатона подтвердились. Он и до сего дня считал странным то, что его брат скончался в тридцать семь лет от остановки сердца. Пентью ссылался на то, что его пульс уже давно был слабым и неровным. Сменхкара не смог скрыть своих подозрений. Он столько ночей провел в постели своего брата и ни разу не заметил, чтобы у того сбилось дыхание из-за слабого сердцебиения. И вот Нефертити умирает от такой же болезни, и всего лишь три месяца спустя. Даже ребенок удивился бы! Одинаковая болезнь у двоих супругов. Это дело рук Пентью! Преступное орудие в руках жрецов. Возможно, это произошло с одобрения военных.
В этих носилках можно было задохнуться! Он приоткрыл занавески и увидел, что все вокруг окутано облаком пыли. Носильщики тяжело дышали, они были мокрыми от пота и сплевывали время от времени пыль.
Вот о чем он еще размышлял: о взглядах, которые удивили его после падения Нефертити. То, как Ай смотрел на Пентью возле царского паланкина, подтверждало худшие предположения: старый патриарх обвинял лекаря в смерти своей дочери.
Сменхкара печально склонил голову. Он вспомнил, как на двоих мужчин смотрела Меритатон. Что же было известно ей? Как она смогла прийти к тем же выводам, что и он?
Он пообещал себе непременно поговорить с ней, тем более что теперь он уже может вернуться во дворец. Он вспомнил ее хрупкую фигуру, ее пылкий взгляд и величественную осанку, которую она унаследовала от матери.
Третьей темой для размышления было поведение Тхуту. Сменхкара вспомнил их последний разговор. «Всегда осуществляются намерения богов, и никогда — намерения людей», — сказал бывший Первый придворный, цитируя Пта-Хотепа. Но так ли это? Тон его речей, его дерзкое презрение к тем, кто отправил его в отставку, — все это выдавало его с головой. Он был предупрежден о том, что Нефертити отравят. Он знал, что в скором времени его восстановят в должности, а может, даже и повысят. Значит, он был заодно с заговорщиками. С кем? Конечно же, со жрецами.
Сменхкара вспомнил об ужине у Тхуту с тремя великими жрецами: Хумосом, Нефертепом и Панезием. Тогда он вел себя сдержанно, не собираясь быть их орудием. Тщетная предосторожность! Он уже был им.
Мог ли он теперь вернуться к Тхуту? Это было равнозначно тому, чтобы признаться перед всеми, что он с ними заодно. Потом он подумал о том, что уже жил у Тхуту после того, как Нефертити его отстранила. Два месяца! Теперь ему не оправдаться!
Чего же стоили эти ложные проявления благоговения и верности Тхуту? Разве можно теперь ему доверять? Он вынужден будет дрожать каждый раз, поднося пищу ко рту. Сменхкара содрогнулся. Посмотрел на спящего рядом с ним мальчика и погладил его по голове, потому что парик у того сполз. Сменхкара осторожно положил его у ног Тутанхатона и задернул занавески.
И снова подумал о бывшем Первом придворном. Нет, Тхуту его не отравит. По крайней мере, не сразу. Он ведь рассчитывает на то, что его господин снова обретет власть и поможет ему вернуть свое положение.
Этот вывод заставил Сменхкару задуматься о насущном: что же будет с ним? Станет ли он преемником Нефертити и возьмет ли на себя груз ответственности за царство до совершеннолетия Тутанхатона? Но того еще не короновали, и его брак с Анхесенпаатон как гарантия законности его царствования еще не состоялся. Возможно, он сам будет фараоном?
А кто его назначит? Тот же Царский совет? Вряд ли можно предположить такое. Может быть, Тхуту, как хорошо проинформированный человек, просветит его по этому поводу?
И наконец, что же делать с Тутанхатоном? У Сменхкары сердце сжалось при мысли о том, что ему придется отдать мальчика в опустевший дворец, на попечение слуг и писарей, раболепных и лживых. Однако мальчик сам уладил этот вопрос. После особенно сильного толчка носилок он проснулся, посмотрел вокруг с потерянным видом, поискал глазами парик, надел его и заявил:
— Я хочу остаться с тобой. Можно?
— Думаю, да, — ответил Сменхкара. — Но нужно сообщить об этом во дворец.
— Я не хочу туда возвращаться.
Сменхкара погладил его по щеке и устало улыбнулся.
После двухчасового путешествия по пыли и жаре носильщики поставили паланкин перед домом Тхуту. Бывший распорядитель ждал у дверей, явно обеспокоенный.
— Господин! — воскликнул он, когда Сменхкара ступил на землю.
— Брат будет со мной, если это не причинит тебе неудобств.
— Буду только рад, господин!
Он поклонился, давая им пройти, и поспешил следом за Сменхкарой.
— Господин, я знаю, что произошло, — начал он со скорбным видом.
«Не узнал ли ты об этом гораздо раньше?» — подумал Сменхкара, беря из рук слуги кубок со свежим миндальным молоком. Сначала он дал напиться Тутанхатону.
— Еще один траур в царстве, — сказал он. — Иногда божественный солнечный небосклон среди бела дня окутывает полночная тьма.
После этого ни к чему конкретно не относящегося заявления наступила долгая ядовитая тишина. Все, включая слуг, замерли, не зная, как вести себя дальше.
— Мы сейчас освежимся, — нарушил молчание Сменхкара. — Это необходимо после столь утомительного путешествия. Затем нужно будет решить срочный вопрос: Царский совет остается в том же составе? Что он решит? Предвидел ли это кто-нибудь?
Тхуту был поражен спокойствием своего господина и тем, как пристально посмотрел на него Сменхкара. Последний вопрос еще звучал у него в голове: «Предвидел ли это кто-нибудь?» Это означало: если вы так точно нанесли удар, подумали ли вы о последствиях? Тхуту оцепенел. Бывший регент — а с этих пор будущий — был не просто мечтательным молодым человеком. Такой проницательности никто за ним раньше не замечал.
— Не знаю, господин. Но, по всей видимости, Совет должен срочно собраться.
Сменхкара попросил отправить одного из слуг во дворец предупредить, что юный принц до новых распоряжений останется с братом, и повел Тутанхатона мыться.
Подслушивающий мальчик
Ночью дворец стал напоминать корабль, терпящий бедствие. Его главный кормчий — Нефертити — вела его железной рукой, а теперь она лежала на своей постели в окружении дочерей, сестры, служанок, кормилиц, рабов, бесцельно снующих туда-сюда и беспрерывно плачущих. Царевны тяжело переживали смерть матери, несмотря на то что они не были с ней очень близки. Эти же чувства испытывала и Мутнезмут, а остальные скорбели о потере хозяйки их жизней. Кто теперь будет определять расходы на питание? Кто будет платить за работу? Кто побеспокоится о будущем детей, позаботится о стариках, накажет непослушных?
Человеческой душе необходимы порядок и безопасность. Если супруг Нефертити был Защитником Справедливости, то умершая царица была Защитницей Повседневной Жизни, второстепенным божеством Нут, которая на своих хрупких плечах держала небесный свод.
На первом этаже при слабом свете масляных ламп сидели двенадцать сонных писарей. Сегодняшний день оказался одним из самых мучительных в их жизни. Время от времени кто-нибудь из них поднимался и подходил к подносам с хлебом и фруктами. Там же стояли кувшины с вином и пивом. Все это принесли слуги.
В восьмом часу после полудня Уадх Менех появился в дверях, ведущих в покои царицы, и сообщил, что хочет видеть Меритатон. Она спустилась в большой зал и посмотрела на Уадха Менеха, освещенного факелами. Она не ожидала увидеть его настолько изможденным: у него тряслись руки, голос дрожал и срывался несколько раз за время их короткого разговора. Из этого она сделала вывод, что он не был ни в чем замешан.
— Печаль человеческая подобна реке, вышедшей из берегов.
Фраза, несомненно, была подготовлена заранее.
— Будет несправедливо, если люди отнесутся неуважительно к решению Матери всех добродетелей воссоединиться со своим супругом на Атоне.
Она молча смотрела на него. Неужели он явился, чтобы произносить напыщенные речи?
— Царевна, я пришел смиренно сообщить, что теперь тебе как старшей сестре предстоит заботиться о младших сестрах и Дворце царевен.
Меритатон еле заметно кивнула головой.
— И об этом дворце тоже? — спросила она.
Он поднял на нее глаза, полные слез.
— Царский совет соберется незамедлительно, чтобы принять решение по поводу наследования трона, — сказал он.
— Иди, — велела ему Меритатон. — Может быть, рассвет снимет тяжесть с наших сердец.
Уадх Менех поцеловал ей руки, и она почувствовала горячие слезы на своих пальцах.
Царевна вернулась к сестрам и кормилицам, чтобы отправить всех отдыхать во Дворец царевен. Небольшая процессия пересекла двор, разделяющий два здания.
Когда они поднялись к себе, Анхесенпаатон зашла в комнату старшей сестры. Меритатон сняла парик и расправила его на подставке. Анхесенпаатон сказала ей почти с вызовом:
— Теперь я знаю, что Пасар был прав!
Меритатон резко повернулась к ней и застыла. Она совсем забыла о загадочном послании, в котором мальчишка предупреждал Анхесенпаатон о готовящемся восстании при пособничестве верховных жрецов Хумоса и Нефертепа, а также Хоремхеба. Восстания не произошло, но мальчишка явно знал, что кому-то угрожает опасность. Кому? И какова была цель заговорщиков?
— Где он?
— Кто?
— Этот Пасар. Я должна его увидеть.
— Попробую завтра его найти, — сказала Анхесенпаатон. — А ты не запретишь мне с ним видеться?
Меритатон подумала о странной схожести того, что случилось с ними: она тайно встречалась с Неферхеру, а ее сестра — с этим загадочным мальчишкой, пусть и для более невинных игр.
— Нет.
— Ты обещаешь?
— Обещаю. А сейчас иди спать.
Совершенно изнеможенная, Меритатон легла. Потная кожа и разбитые запыленные ноги вызывали неприятные ощущения. Ни у кого не было времени помыться. Ей стало очень горько: вся мудрость мира ничего не могла изменить. Даже если бы они знали день и час, когда предатели собирались отравить Нефертити, все равно ничего бы не остановило зловещий механизм, запущенный жрецами и военными.
Это была последняя осознанная мысль — усталость одолела ее.
Рассвет застал Ая у дверей в Зал для посетителей. Его сопровождали шестеро слуг, секретарь и писарь. Ай хотел увидеть Хоремхеба, который еще не отправился в Мемфис. Военачальник уже умылся и был выбрит, на голове у него красовался свежий парик. У Ая был вчерашний парик, его помятое лицо блестело от пота. Они встретились в большом зале с клепсидрой.
— Отец! — воскликнул Хоремхеб. — Только богам известно, как мы скорбим!
Пасар спал в своем убежище. Его разбудили голоса, отражающиеся от выложенного плитами пола и звучащие высоко среди колонн. Он обещал, что придет сегодня в сад увидеться с Анхесенпаатон, а теперь был вынужден изменить свои планы.
После обмена любезностями Ай заявил Хоремхебу:
— Я желаю побеседовать с тобой наедине.
Военачальник кивнул и попросил своих военачальников оставить их.
— Ты знал?
— О чем?
«Разговор начался неудачно», — подумал Ай. Хоремхеб делал вид, что ничего не знает.
— Об этом ужасном событии… моя дочь…
— О чем знал?
Ай моргнул.
— Ее отравили! — в гневе закричал он. — Моя дочь была отравлена!
— Правда? — спросил Хоремхеб, удивленно подняв брови. — Какая гнусная интрига! Ты в этом уверен? Сразу после супруга? Какое зловещее совпадение! Моя жена была бы возмущена, услышав такое обвинение. Я бы не стал ей этого говорить. И тебя попрошу не сообщать ей о твоих подозрениях. Мутнезмут будет очень расстроена.
Ай слушал весь этот поток восклицаний разинув рот, пораженный бесстыдством и лицемерием Хоремхеба.
— Но скажи мне, — продолжал тот, — у тебя есть доказательства? Ты надеешься найти виновного? Он достоин самого ужасного наказания!
Ай был ошеломлен услышанным и ничего не сказал. Он мог бы сослаться на Пентью, но решил этого не делать. Вдруг он принимал участие в заговоре, целью которого было отравление Эхнатона, вместе с Хоремхебом, но в решающие моменты действовал сам? Ай понял, что теперь не имеет смысла негодовать и обвинять кого бы то ни было. Решив отомстить, он оказался в своей же ловушке.
— Прошу тебя, прими мои искренние соболезнования, — сказал Хоремхеб.
Ай смотрел на своего зятя. Какую игру затеял этот бык с лисьей душой?
— Положение ужасающее, — наконец произнес он, меняя тему.
— Почему?
— Царский совет в нерешительности. Они собираются сделать Сменхкару регентом, а то и царем!
— И что же?
— Но тогда у меня не будет никакой власти и я не смогу ничего сделать для тебя…
Хоремхеб слегка пригубил из кубка с миндальным молоком и поставил его на стол.
— Ты хочешь сказать, что мог бы сделать кое-что для меня, вернее, для армии? Что-то с трудом верится. Мои просьбы о денежной помощи, особенно о средствах на военное снаряжение и для формирования новых частей, остались без ответа.
Ошеломленный Ай открыл было рот, чтобы возразить, но не нашел слов. Итак, Хоремхеб переметнулся в другой лагерь! Он присоединился к преступникам, кем бы они ни были!
— Средства уже почти были выделены тебе… — пролепетал он.
— Но я почему-то об этом не знал.
Ай замолчал. Никакого решения принято не было, он это знал лучше других: его дочь беспокоило растущее могущество военных. Он понимал, хотя было уже слишком поздно, что откладывание выплаты средств Хоремхебу, и даже хуже — урезание этих выплат до такой степени, что получалась уже милостыня, было фатальной ошибкой.
— Но Сменхкара… — снова начал Ай.
— Да, я знаю, это всего лишь молодой человек, который в прошлом подвергся плохому влиянию. Тем не менее он был регентом и в курсе всех проблем армии. Регент или царь, с хорошим советником при выполнении возложенных на него задач он покажет себя с лучшей стороны.
Ай не отрываясь смотрел на Хоремхеба: наверняка ситуация, которая сложится после смерти Нефертити, обсуждалась не один раз, оценивались качества ее преемника, короче говоря, все было продумано заранее.
— Священнослужители такого же мнения? — мрачно поинтересовался он.
— Об этом нужно спросить у них.
После отбытия Уадха Менеха никто из верховных жрецов не посчитал нужным присутствовать при помещении Эхнатона в гробницу. Все жрецы вернулись в свои провинции. Чтобы узнать их мнение, нужно было ехать в Мемфис, в Фивы, а на это ушло бы два дня. Он пожалел, что его брат Анен, жрец культа Амона высокого ранга, был далеко отсюда. Он дал бы хороший совет.
— Значит, нужно будет вернуть Сменхкаре регентство, — сказал Ай, покоряясь обстоятельствам.
— Регентство — это один из вариантов, ты же сам его и предложил. Мне он кажется не самым подходящим. На востоке и юге идет война. Враги больше уважают царя, чем регента. Неужели мы оставим страну без монарха до тех пор, пока Тутанхатон не достигнет совершеннолетия? Мне это не кажется мудрым решением.
— Так значит, ты не против восхождения Сменхкары на трон? — возмущенно спросил Ай.
Хоремхеб еле заметно улыбнулся и прищурил свои желтые глаза.
— Но кем я буду, если воспротивлюсь этому? Несомненно, я поддержу любое принятое решение.
Ай выдержал удар со стойкостью борца: этот ответ зятя подтверждал его участие в заговоре. Ай услышал уже достаточно. Теперь он решил отдохнуть и подумать в одиночестве насчет Хоремхеба. Провожая его до двери, военачальник добавил:
— Отец, я считаю, что ввиду всех этих трагических событий Царский совет должен собраться немедленно и принять нужное решение.
Это был практически приказ. Ай лишь слегка прикрыл веки, попрощался с военачальником и удалился, сопровождаемый свитой. Сразу после того, как он ушел и закрыл за собой дверь, вошла Мутнезмут с осунувшимся лицом.
— Чего хотел мой отец? — спросила она.
— Он пришел узнать, согласен ли я на то, чтобы Сменхкара был всего лишь регентом.
— А кто будет фараоном? Тутанхатон?
Хоремхеб покачал головой.
— И о чем думает мой отец? Двадцатилетний юноша и семилетний мальчишка во главе царства! Даже моя сестра с ее опытом… — Тут она резко оборвала себя и внезапно спросила: — Я слышала, он говорил об отравлении. Что он имел в виду?
Хоремхеб знал, что его супруга не брезгует подслушивать у дверей. Он раздумывал, как поступить: рассказать Мутнезмут о подозрениях ее отца и высмеять их или сделать вид, что это недоразумение. Но Мутнезмут могла слышать больше, чем показывала.
— Он думает, что твою сестру отравили, — сказал военачальник.
Мутнезмут была поражена.
— Кто?
— Не знаю.
— У него есть доказательства?
— Нет.
— Кого он подозревает?
Хоремхеб пожал плечами.
— Этого он мне не сказал.
Мутнезмут села.
— А кому выгодна ее смерть? Сменхкаре? Но как ему это удалось? Он живет далеко от дворца у бывшего Распорядителя церемоний. Это могут быть люди, которым выгодно, чтобы Сменхкара вернулся к власти. А ты что думаешь?
— Я думаю, что от горя у Ая помутился разум. У Сменхкары не так много приверженцев, которые горели бы желанием видеть его на троне такой ценой. Посягнуть на жизнь царской персоны — на такое не каждый решится. Я его просил не втягивать тебя в эту гнусную историю. Когда ты с ним встретишься, сделай вид, что ничего не знаешь. Надеюсь, он достаточно мудр, чтобы не заявлять громогласно о своих подозрениях. Это только посеет панику во дворце, а проблемы не решит.
Мутнезмут глубоко вздохнула.
— Думаю, ты прав, — сказала она. — Что же касается Сменхкары, необходимо положить конец двусмысленности его положения.
— Я согласен с тобой.
— Нужно, чтобы он наследовал трон. Ему найдут хорошего советника. Такого, как ты, например.
Хоремхеб оставался бесстрастным.
Она тяжело поднялась, открыла дверь и приказала надсмотрщику прислуги подмести зал и комнаты, потом попрощалась со своим супругом и заявила, что пойдет к племянницам.
Когда она вышла, Хоремхеб с облегчением вздохнул. Ему удалось избежать грозы.
Пасар приоткрыл дверь своего убежища: никого. Слуги, вооруженные вениками и половыми тряпками, были заняты своими делами во внутреннем дворике. Пасар незаметно проскользнул в сад и побежал на набережную, к садам, примыкавшим к Дворцу царевен.
Закончив умываться, одетая в свежее платье, в красиво причесанном парике, Анхесенпаатон вышла на террасу встречать Пасара. Она заметила его фигуру за живой изгородью, которая отделяла сады от набережной. Он только что пришел и никак не мог отдышаться. Царевна помахала ему рукой и побежала в комнату Меритатон.
— Он здесь!
Меритатон встала и пошла за сестрой в сад. Она чувствовала себя изможденной, словно была старухой. Увидев, что Анхесенпаатон не одна, Пасар быстро спрятался. Придя на место встречи и не найдя мальчика, юная царевна удивленно вскинула брови.
— Да где же он? — спросила Меритатон.
— Он только что был здесь… Пасар!
Она посмотрела по сторонам.
— Пасар! — нетерпеливо крикнула она.
Шум веток привлек ее внимание. Она направилась к изгороди, где, как ей показалось, она заметила какое-то движение. Там она и нашла притаившегося мальчишку.
— Пасар! Ты почему прячешься? — воскликнула она.
— Кто эта женщина? — шепотом спросил мальчик.
— Это моя сестра. Она хочет с тобой познакомиться.
— А зачем?
— Она сама тебе скажет.
Он нехотя вылез из своего укрытия и пошел за Анхесенпаатон. Меритатон весело смотрела на него. У мальчика было узкое лицо и живой взгляд. Он был похож на мышонка и воробья одновременно.
— Это ты Пасар? — ласково спросила Меритатон.
Он кивнул.
— Я Меритатон, сестра Анхесенпаатон. Рада с тобой познакомиться.
Она смотрела на него доброжелательно, и он осмелел. Она поняла, что такой дружбы, какая связывала мальчика с ее сестрой, у нее ни с кем не будет.
— Чего ты хочешь? — спросил он.
Несмотря на сжимавшую сердце печаль, Меритатон позволила себе тихонько рассмеяться.
— Я хочу, чтобы ты сказал мне, как ты узнал то, что сообщил моей сестре.
Пасар повернулся к Анхесенпаатон, словно спрашивая ее согласия.
— Я часто прячусь в комнате для хранения белья в Зале для посетителей, чтобы поспать. Я слышу все, что они говорят.
— И тебя никто не заметил?
Он покачал головой.
— И сегодня ночью тоже.
— Сегодня ночью?
— Там сейчас живет Хоремхеб. Сегодня утром к нему приходил какой-то старик. Это отец его жены.
Меритатон вздрогнула. Ай, ее дед! Она наклонилась к мальчику.
— О чем они говорили?
— Старик сказал, что его дочь была отравлена.
Анхесенпаатон застыла от удивления.
— Моя мать?! — воскликнула она.
Пасар удивленно посмотрел на нее.
— Твоя мать? Царица — дочь этого старика? — спросил он.
Анхесенпаатон вскрикнула и схватила сестру за руку.
— А что ответил Хоремхеб? — в свою очередь спросила Меритатон.
— Что он в это не верит. И что у старика нет доказательств. И еще он не хочет, чтобы старик рассказывал об этом его жене. Но когда старик ушел, военачальник все же рассказал жене, что дочь старика… что царицу отравили. Но он в это не верит.
Меритатон была поражена. Мальчик не мог все это придумать.
Мимо «Славы Атона», которая скучала у берега, проплыла лодка. Два обнаженных человека тянули из воды сети, полные рыбы.
— О чем они еще говорили? — спросила Меритатон.
— Старик спросил, согласен ли Хоремхеб с тем, что Сменхкара станет регентом. Я не очень хорошо понял.
— И что?
— Хоремхеб ответил, что согласен. Но когда он повторил это своей жене, она возмутилась и сказала: «О чем думает мой отец? Двадцатилетний юноша и семилетний мальчишка во главе царства!»
Меритатон сдержала смешок. Она узнала манеру речи своей тети.
— Это все?
— Жена Хоремхеба спросила, мог ли Сменхкара отравить царицу. Ее муж ответил, что нет. Тогда она сказала, что пора положить конец «двусмысленному положению» и сделать Сменхкару Царем. Это были ее слова.
Меритатон задумалась. Затем она положила руку на плечо мальчика.
— Ты хорошо сделал, что рассказал нам все, что услышал. Твои уши так же благословенны, как и уши Хоруса.
Пасар гордо выпрямился и бросил взгляд на Анхесенпаатон. Дети посмотрели друг на друга, и царевна взяла его за руку.
— Если Анхесенпаатон будут угрожать, пусть она идет ко мне. Я защищу ее, — заявил Пасар.
В глазах Меритатон заблестели слезы.
— Я хочу, чтобы она стала моей женой.
На этот раз Меритатон не сдержалась и рассмеялась.
— Ты еще очень юн!
Но все говорило о том, что мальчик не отступится.
— Ты будешь великим военачальником. Как Хоремхеб. Как Нахтмин.
Он кивнул, потом побежал к изгороди, нырнул в кусты и появился с клеткой, которую отдал Анхесенпаатон. В клетке была птица. Она встрепенулась и запела. Дрозд. Лицо царевны засияло.
— Это для меня?
— Я сам его поймал. Увидишь, он певчий.
Анхесенпаатон засмеялась от удовольствия. Она поцеловала мальчика в щеку. Он удержал ее и горячо поцеловал в ответ.
Вдруг Меритатон стала серьезной. Ее взгляд уплыл к серебрящейся на утреннем солнце реке. Два коршуна парили высоко в небе.
Она спросила себя, сможет ли она когда-нибудь встретиться со своим отцом, сможет ли воспарить к этим птицам. Она вспомнила изображение золотой статуи между двумя символами Хоруса.
Клятва и обман
Устав сверх всякой меры, Главный распорядитель церемоний Уадх Менех попросил своего секретаря разложить для него складной стул — секретарь носил его с собой под мышкой — и сел. Вот прошло уже два часа, как заседал Царский совет, все это время Менех без устали мерил шагами выложенный плитами пол Большого зала дворца. Сев, он положил ногу на ногу и помассировал пальцы верхней ноги, а затем попросил кубок пива.
Писарь спустился по лестнице и подошел к распорядителю.
— Ну что? — спросил тот. — На чем они остановились?
— Ай предложил сделать Тутанхатона наследником трона и доверить регентство Сменхкаре. Хоремхеб, Нахтмин и Пентью были против. Тогда он предложил назначить его регентом. Хоремхеб, Майя, Нахтмин и Панезий снова высказались против — регентом должен быть член царской семьи. Ай потерял терпение и заявил, что отказывается участвовать в обсуждении. Панезий предложил немедленно сделать Сменхкару преемником его брата. Они сейчас обсуждают это. Мне кажется, именно таким и будет решение.
Уадх Менех схватил большой кубок с пивом, который ему поднес слуга, и жадно выпил половину. Потом поменял местами ноги и помассировал пальцы другой ноги.
— Отправляйся обратно. Доложишь мне, чем закончится совет, — сказал он писарю.
Если Сменхкара сядет на трон, тогда Уадх Менех доживает свои последние часы в роли Главного распорядителя. А Тхуту вернется на свое место. Что же будет с ним? Будет ли его преследовать новый фараон? Уадх Менех пожал плечами. Он обойдется без должностей и почестей! Он вернется на свои земли уважаемым человеком, как и всякий побывавший в высших сферах.
Он осушил свой кубок. Едва он успел отдать его слуге, как на лестнице возникло большое оживление. Уадх Менех торопливо встал и увидел, что по ступеням спускается хмурый Ай со своими писарями. Уадх Менех даже не успел переброситься с ним несколькими словами и узнать хоть что-нибудь. Ай едва поздоровался с ним и исчез за дверью со своей свитой. Потом появился Панезий. В отличие от Ая этот спускался по лестнице размеренным шагом, на ходу беседуя с Майей. Потом он направился к Уадху Менеху. Хоремхеб, Нахтмин и Пентью тоже спокойно спустились и присоединились к Панезию и Уадху Менеху. Небольшая армия писарей с табличками для письма под мышками, чернильницами на поясах, перьями за ушами и чистыми кусками папируса в руках, возглавляемая Главным царским писарем, замыкала процессию. Самый главный в Совете после Ая — Панезий — протянул распорядителю папирус, скрепленный шестью печатями.
Сменхкара был объявлен полноправным наследником трона божественного царя Двух Земель, и Уадху Менеху поручалось возглавить делегацию, которая должна сообщить Сменхкаре решение Царского совета.
Распорядитель почтительно поклонился. Остальные тоже склонили головы.
Золотая стрелка на солнечных часах во дворе дворца показывала два часа после полудня. Уадх Менех повернулся к Главному писарю, который должен был сопровождать его и нести царский рескрипт. С ним пойдут еще три писаря и двадцать пять копьеносцев. Члены Царского совета стали расходиться. Уадх Менех и Главный писарь сели в уже приготовленные для них паланкины.
Сидя перед бочкой с водой в саду Тхуту в тени огромных фиговых деревьев, Сменхкара и Тутанхатон играли в шашки, потягивая миндальное молоко, разбавленное гранатовым соком.
— Я убил твою царицу! — воскликнул мальчик, хватая белую шашку на черном квадрате.
— Где ты научился так хорошо играть? — Сменхкара засмеялся.
Хотя, по правде говоря, он играл плохо потому, что был рассеянным.
— А я только этим целыми днями и занимаюсь, — ответил Тутанхатон.
Переполненный эмоциями, Тхуту явился сообщить о приходе посетителей. Оба принца встали. Уадх Менех уже входил в двери.
— Божественный господин! — начал распорядитель. — Царский совет доверил мне сообщить тебе, что, вдохновленные мудростью бога Атона, они почтительно склоняются перед тобой, новым властелином Двух Земель и владельцем цепа и скипетра.
Он взял свиток из рук Главного писаря и протянул его Сменхкаре, а потом опустился перед ним на колени. Писари, а затем и Тхуту последовали его примеру.
Тутанхатон схватил брата за руку.
— Все встаньте! — взволнованно сказал Сменхкара. — Мое сердце переполнено радостью при мысли о том, что царский корабль обрел кормчего!
Он попросил Тхуту принести гостям стулья и чего-нибудь выпить. Уадх Менех был поражен простотой нового царя. Даже правитель провинции держался бы более торжественно. А сам фараон пригласил гостей присесть рядом с ним в саду!
Никто не мог произнести ни слова. Рассматривая шесть печатей на рескрипте, который он держал в руках, Сменхкара спросил:
— Кто был против меня?
Уадх Менех поколебался, прежде чем ответить:
— Только один член Совета.
— Кто?
— Ай.
— А чего хотел он?
— Регентства.
— Для себя?
— Он сделал два предложения. Одно — это регентство для тебя, второе — для него. И оба предложения были отклонены.
— Значит, Хоремхеб не согласился со своим тестем?
— Да. Ведь Ай не сдержал обещаний.
— Это что касается средств для армии?
— Да.
— А Пентью?
— Он был согласен на твое царствование.
— Панезий?
— Совершенно согласен.
— Майя?
— Тоже.
Сменхкара кивнул. Нефертити потеряла и трон, и жизнь, потому что не слушала советов жрецов. Ай потерял лишь часть, потому что не считался с военными. Значит, жрецы и армия были главными звеньями в этой цепи.
Он подумал о шахматной доске. Единственным, кто воспротивился ему, был Ай. Но он стоил многих. Он был не только отцом Нефертити и дядей царя — он был еще тестем Хоремхеба и двоюродным братом Нахтмина. И дедушкой всех царевен. Конечно, чувства в этом мире значили не много, но кровные узы и союзы не стоило сбрасывать со счетов. Кроме того, Ай правил самой грозной и к тому же богатой провинцией — Ахмином. Он влиял на все центры власти. Спрут, а не человек! Эхнатон тоже не любил его.
Почему же Ай против него? Это было слишком очевидно: он сам хотел власти. Он пытался влиять на Эхнатона, используя кровные связи. Также он надеялся воспользоваться регентством своей дочери. Наверняка он считал Сменхкару причастным к отравлению Нефертити. Разве не тот виновен, кто получает выгоду от преступления? Потеря власти наполняла Ая ненавистью по отношению к бывшему регенту. К тому же он с презрением относился ко всякой неестественной любовной связи, а регента считал сожителем царя. Когда Сменхкара обосновался в Царском доме, между Аем и Эхнатоном произошла бурная сцена.
Первый раз в жизни Ай не имел доступа к власти, потому что матерью Сменхкары была не Тиу, а любовница его отца. Как только бывший регент станет царем, Ай исчезнет с политической арены. Невыносимо! Но он не остановится, пока вновь не получит власть. «Он будет моим самым грозным противником», — подумал Сменхкара.
— Где сейчас Ай? — спросил он у распорядителя.
— Я узнал от его секретаря, что сразу после окончания совета он срочно уехал в Ахмин.
— Пусть там и остается!
Уадх Менех спросил:
— Где твое величество желает спать этой ночью? Я должен соответствующим образом распорядиться.
— Уже поздно что-то предпринимать. Приготовь завтра покои Царского дома, где никто нежил вот уже девять недель. А в моих бывших апартаментах будет жить принц, — добавил Сменхкара, указав жестом на Тутанхатона. — Иди.
От радости личико Тутанхатона засияло. Уадх Менех испуганно посмотрел на своего нового господина.
— Царский дом, господин?
Сменхкара понял вопрос. Этот дворец стал символом внебрачной связи умершего царя с его фаворитом. Так ли было необходимо ворошить былое? Тем более что новый фараон тоже собирается там жить со своим младшим братом!
— Да, Царский дом.
Уадх Менех встал и приготовился снова опуститься на колени, но Сменхкара остановил его. Распорядитель повернулся к Тхуту, который, улыбаясь, кивнул ему, как будто отвечая на незаданный вопрос. Сменхкара тоже все понял.
— Тхуту сообщил мне, что не собирается возвращаться к своим обязанностям, — сказал он. — Ступай с миром. Мы завтра поговорим.
Взволнованный распорядитель ушел.
Тутанхатон поцеловал своего брата в щеку.
— Господин! — обрадовано воскликнул Тхуту. — Гроза миновала!
Сменхкара задумчиво посмотрел на него и улыбнулся. Он не мог забыть, что бывший Первый придворный знал об отравлении Нефертити.
— Да, — согласился он, — одна гроза миновала.
Казалось, угрожающая полная луна заполонила собой весь мир, разделившись на тысячи маленьких лун. Невозможно было никому довериться. Было страшно остаться одной в мире, потеряв отца и мать за несколько дней. Обстановка во дворце была более угнетающей, чем в гробнице. Помещения по человеческим меркам были огромны. Как всегда, стоило лишь сестрам и их кормилицам разойтись по своим комнатам после омовения и ужина, Меритатон побежала в сад на встречу с Неферхеру. Он обещал прийти. Она надеялась, что он придет раньше назначенного часа. В ожидании она спряталась в зарослях туи, подальше от лунного света, который этой ночью казался ей невыносимым.
Он появился. Он шел медленно, понурившись, а когда бросил взгляд на террасу, царевна вполголоса позвала его. Неферхеру оглянулся, и она увидела его опечаленное лицо.
— Что с тобой? — спросила Меритатон, когда он подошел к ней.
Не ответив, он стал целовать ей руки. Девушка повторила вопрос.
— А ты не знаешь? — Юноша был удивлен. — Царский совет объявил Сменхкару наследником фараона.
Сады были покрыты лунным серебром, имевшим мертвенный оттенок. Пение жаб казалось исступленнее, чем обычно, как будто жрецы Апопа праздновали разрушение мира. Прошло какое-то время.
Она поняла печаль Неферхеру. Сменхкара не мог взойти на трон, не женившись на женщине из царского рода. На ней.
— Когда ты узнал?
— В пять часов. Мы уже хотели идти домой, и тут писарь из окружения Уадха Менеха сказал нам, что только что сообщил Сменхкаре о решении Царского совета.
После этих слов повисла тяжелая тишина.
— Ничто не разлучит нас, — произнесла она чужим голосом. — Ничто! — повторила царевна.
— Ты говоришь невозможные вещи.
Меритатон покачала головой.
— Ничто!
— Ты будешь царицей, каждый твой шаг будут контролировать…
— Ничто!
Он ужаснулся.
— Ты хочешь бросить вызов всему царству?
Девушка взвесила его слова.
— Царству? Сборищу интриганов и отравителей, которым наплевать на царство! Да их можно уничтожить в мгновение ока.
— Меритатон! Ты старшая дочь царя, ты…
— А разве я перестала быть женщиной? У меня на самом деле не было ни отца, ни матери. Я кукла, созданная парой живых божеств. Меня водили на церемонии, как будто я бесчувственная. Я смотрю на барельефы с моим изображением, на которых я кажусь окруженной сестринской и родительской любовью. Но это не я. Все это ложь! Ты думаешь, я не вижу детей на улице, детей на руках у их матерей, не вижу, как ласкают их отцы? Эти дети никогда не будут изображены на барельефах. Ты думаешь, я слепая? А может, я и для тебя только кукла?
От изумления Неферхеру не нашелся, что сказать. Потом он взял ее руки в свои и поднес к губам.
— Нет, ты не кукла.
— А теперь я должна выйти замуж за любовника своего отца.
— Меритатон, твои слова как нож в сердце…
— Я выйду за него замуж, потому что так надо. Я притворюсь. Как это делается во всем царстве. Но нас с тобой ничто не разлучит.
Молчание.
— Только если ты согласишься на это.
— Меритатон! — возмущенно воскликнул Неферхеру.
— Боги, которые повелевают тобой и мной, Неферхеру, так же сильны, как и люди, притворяющиеся перед ними.
Он дотронулся до ее щеки.
— Тогда пойдем в подземелье.
Она почти обрадовалась толпе крыс. Они были похожи на них: так же бросали вызов лицемерным, надменным людям.
Прочь! Прочь!
В жуткой темноте административных построек она словно дарила себя самому богу подземелий. Неферхеру больше не был милым и нежным любовником, а был яростной, неистовой силой, которая совершенно опустошила ее. Этой ночью между ними все происходило не так, как раньше. Пораженная разрушительным огнем страсти, Меритатон поняла: он хотел, чтобы она зачала от него. Он буквально насиловал ее. Но она была согласна! Она желала, чтобы под их телами разверзлась земля. Меритатон никогда не думала, что можно так отдавать себя. Вместе они дошли до конца.
Они с сожалением оторвались друг от друга.
— Ты права, — сказал ей Неферхеру, когда буря улеглась. — Ничто не разлучит нас.
Он поднял знамя, зовущее восстать против мира.
Провокационное знамя
Утром, в восьмом часу, когда солнце начало свой путь к зениту, чтобы ненадолго там задержаться, Сменхкара и Тутанхатон, забравшись в один паланкин, покинули жилище Тхуту и вместе со своей свитой отправились в Царский дом.
Там их встретил Уадх Менех, выглядевший более торжественно, чем накануне. В большом зале на первом этаже, где в течение семидесяти дней бальзамировали тело предшественника Сменхкары, трое жрецов в синеватом облаке курящихся благовоний читали очищающие молитвы. Целая армия слуг и рабов мыла плиты пола.
— Господин, твои покои и весь этаж уже готовы, — сообщил Уадх Менех.
В зале, куда выходили двери комнат, распорядитель поставил каменную чашу, в ней шесть цветков лотоса уже раскрывались навстречу дню. Статуя умершего монарха в натуральную величину была обращена лицом на восток. Но уже никогда не раздастся низкий, ласкающий слух голос Эхнатона!
— Знамя?
— Его заканчивают, господин. Оно будет готово к назначенному тобой сроку.
Ровно в полдень, как и было сказано, впервые через семьдесят Дней на шест, возвышающийся над зданием, было поднято царское знамя.
Разносчики воды, торговцы птицей, кузнецы, трактирщики, танцовщицы, обжигатели, погонщики мулов, кормилицы, писари, знать, жрецы — короче говоря, жители Ахетатона удивленно смотрели на большой желтый треугольник, развевающийся на западном ветру. На нем был изображен уже не красный диск, а символ нового фараона. И никто не смог его правильно истолковать.
Кормилицы увидели его из Дворца царевен и побежали к девушкам с этой новостью.
— Царь! У нас новый царь! — взволнованно кричали они.
Ни они, ни их слуги, ни даже обитатели Царского дворца ничего не знали о тайных событиях вчерашнего дня. И только кое-кому из писарей стало известно уже перед сном, что появился новый царь на Двух Землях, и его символ — это двойной священный венец: красный символизировал Верхний Египет, а белый — Нижний Египет.
Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон и их младшие сестры побежали на террасу, чтобы посмотреть на знамя.
— А что это на нем изображено? — спросила Меритатон.
Так как этого никто не знал, она велела Главному писарю дворца поскорее разузнать об этом. Сменхкара? Или же Тутанхатон? Что же решил Царский совет? Этого тоже не знал никто. Членов совета никто не мог найти, даже Уадх Менех исчез. Да куда же запропастился писарь?
Он вернулся через час и был горд тем, что получил ответ только благодаря своему брату, который в спешном порядке начертал слова: «Эхнеферура, возлюбленный Неферхеперура».
Все застыли с открытыми ртами, не понимая, что это за имя. Поняла одна Меритатон: с именем Неферхеперура короновался ее отец. Позднее оно было изменено на Неферхеруатон, а возлюбленным, конечно же, был Сменхкара. Она удивилась не меньше других. И когда царевна объяснила людям, собравшимся вокруг нее, значение имени, женщины, царевны и даже Главный писарь вытаращили от изумления глаза.
Одна образованная кормилица заметила, что ни то, ни другое имя не имели ничего общего с Атоном: первое — Эхнеферура было связано с именем высшего божества Ра, также обстояло и со вторым именем — Неферхеперура.
Культу Атона пришел конец.
А на другой стороне улицы, в Царском доме, царило невероятное оживление. Сановники и рабы, писари и смотрители, стражники, конюхи, повара, булочники, пивовары, землекопы, цирюльники, прачки, горшечники — все были рады заняться делом после нескольких месяцев вынужденного бездействия.
Для Сменхкары опыт регентства оказался бесценным. Он знал, как нужно действовать. Первым, кого он к себе вызвал, был Тхуту. Они смотрели друг на друга, улыбаясь.
Первый писарь и три его помощника стояли рядом со Сменхкарой перед двумя носильщиками опахал. Тхуту заметил, что юный Тутанхатон сидел справа от Сменхкары, его носильщик держал в руках опахало с семью перьями царского страуса. Значит, новый фараон считал Тутанхатона своим преемником.
— Назначаю тебя советником, — провозгласил Сменхкара, глядя на Тхуту. — Немедленно приступай к исполнению своих обязанностей.
Бывший Главный распорядитель засиял. Тем не менее на его лице читалось и удивление. Сменхкара знал почему: этот пост занимал Майя.
— Я отстранил его, — сказал он и добавил: — Он встал на мою сторону только потому, что боится гнева Ая, и у него нет защитников, кроме меня. Я назначу его Хранителем казны. Он будет подчиняться и моим, и твоим приказам.
Сменхкара задумался: почему Тхуту стал на его сторону? Чем он вызвал гнев Нефертити и почему так дерзко смеялся над рескриптом о своей отставке? Одним словом, как он узнал, что на трон сядет Сменхкара? Это было одной из тех загадок, которые он собирался разрешить в скором времени.
Он дал знак главному писарю, а тот, в свою очередь, указал пальцем на одного из своих помощников, который тут же присел на корточки, развернул на планшетке чистый лист папируса и принялся писать указ о назначении.
— Первым делом ты должен отправить конных вестников к жрецам всех культов, в двадцать семь номов. Скоро номов снова будет сорок два.
Это было одной из особенностей Двух Земель и открытой демонстрацией силы священнослужителей: они всегда насмехались над новым административным делением и пытались придерживаться древней традиции, согласно которой в каждом из сорока двух номов главой был жрец.
— Да, мой повелитель, — ответил явно довольный Тхуту.
Сменхкара снова сделал знак Главному писарю, и второй его помощник взял перо, торчащее у него за ухом, окунул его в чернильницу и быстро написал первые строчки указа.
— Затем после десятидневного всеобщего траура ты начнешь подготовку к свадьбе. Но об этом более подробно мы поговорим позже.
— Да, божественный повелитель.
Сменхкара заметил оттенок неуверенности в последнем ответе. И понял причину этого.
— Последнее регентство не было учреждено официально, не так ли?
— Да, господин.
— Значит, десяти дней траура будет достаточно.
— Да. А бальзамирование, божественный царь? Решать нужно незамедлительно.
При такой жаре даже и решать было нечего.
— В Северном дворце.
Это был самый отдаленный от города дворец, в котором Нефертити прожила в качестве белой вдовы три года.
— Кто будет отвечать за перенос тела и за все остальные обряды?
— Пентью.
Новый советник, услышав этот провокационный приказ, вопросительно посмотрел на своего господина. Отравитель должен будет подготовить свою жертву к вечной жизни. Значит, Сменхкара подозревал его в совершении преступления.
— Принцессы будут предупреждены об этом?
— Да.
— Письменно?
— Нет, — ответил Сменхкара, поворачиваясь к Уадху Менеху. — Ты пойдешь к ним и сообщишь обо всем как можно деликатнее.
— А саркофаг?
Сменхкара колебался. Потом он вспомнил стелу, где на камне был высечен наказ Эхнатона о том, что его жена должна быть рядом с ним.
— Будет сооружен рядом с саркофагом моего брата царя.
— Да, божественный повелитель.
Новый жест, предназначенный главному писарю, — и вот уже третий его помощник принимается за работу.
— Затем ты вызовешь военачальников.
— Да, божественный повелитель.
— Это все должно быть сделано в течение часа.
Тхуту хотел что-то сказать, но лишь открыл и закрыл рот.
— Что? — спросил Сменхкара.
— А дата твоей свадьбы, господин?
Сменхкара задумался.
— Как только мы договоримся об этом со жрецами.
Затем он повернулся к Главному писарю:
— Запиши такое послание: «Я, Эхнеферура, возлюбленный Неферхерура, волей богов-покровителей и с помощью Царского совета наследующий своего брата на троне Двух Земель, прошу Меритатон, дочь моего брата, о встрече для осуществления божественных замыслов».
Потом спросил Уадха Менеха:
— Готова моя печать?
— Господин, — сказал распорядитель, протягивая требуемую печать и при этом удовлетворенно улыбаясь, — ее только что изготовили.
Писарь поспешил взять кожаный валик с выгравированной царской символикой, чтобы пропитать его чернилами. Потом он вручил будущему царю чистый лист папируса, чтобы он сделал пробный отпечаток. Сменхкара приложил валик к папирусу цвета слоновой кости, посмотрел на оттиск и остался доволен.
На другую сторону улицы был отправлен гонец с посланием. После этого Сменхкара отпустил всех и остался один на один с Тутанхатоном. Они вышли на террасу полюбоваться пейзажем, который открывался за всеми постройками. У горизонта на востоке сверкали под лучами восходящего солнца красные горы, а на западе — золотые равнины, поля и спокойная Великая Река…
Перед Пограничной заставой на восточном берегу происходила оживленная сцена, которой не видели ни будущий царь, ни принц.
Два писаря наблюдали, как из какой-то лодки, только что приставшей к берегу, три человека тащили на берег огромную сеть с рыбой. Улов был хороший, рыба прыгала в сети, как яйцо, из которого должен вылупиться птенец. Писари направились к рыбакам. Они назвались сборщиками податей и потребовали развязать сети, чтобы отобрать у рыбаков часть их добычи. Рыбаки — толстощекий здоровяк и его сыновья — возмутились.
— Да ведь мы поймали эту рыбу в реке!
— Великая Река и все ее обитатели принадлежат царю!
— У нас больше нет царя! Вы же вчера его похоронили!
— Царь есть всегда, и вы должны ему заплатить его долю. Мы пришли за ней.
— Но царь не ест рыбы, ее только жрецы едят!
— От этого подать меньше не становится.
Один из писарей уже развязал сеть и тащил оттуда здоровенную барабулю.
— Это вы, значит, хотите съесть мою рыбу? — разгневался глава семейства.
— По поводу использования дани вопросы не задаются! — с раздражением ответил один из писарей.
— Ах так! Сейчас ты увидишь, как не задаются вопросы! — закричал здоровяк.
Он двумя руками схватил барабулю и ударил ею одного из писарей по голове. Наполовину сомлев от такого удара — рыба весила не менее двенадцати фунтов — тот возмущенно закричал. Но рыбак влепил ему две порядочных пощечины все той же барабулей. Видя такое дело, сыновья рыбака принялись лупить другого писаря, но уже используя сома. Перья для письма рассыпались, парики слетели с голов писарей, а сами они, липкие, мокрые, пропахшие рыбой, все в рыбной чешуе и усах от сома, с криками убегали от преследовавших их рыбаков. Когда они скрылись из виду, рыбаки сложили рыбу в сеть, бросили ее в лодку и торопливо отчалили от берега.
Ох уж эти царские подати!
— А мою маму тоже будут бальзамировать? — спросила Макетатон.
Анхесенпаатон слушала разговор, одевая для своей младшей сестры Сетепенры куклу, одну из «этих жутких игрушек», как говорила покойница.
— А кукол тоже бальзамируют?
Меритатон мрачно кивнула, и тут же последовал новый вопрос:
— Разве ты не хочешь, чтобы она была вечной?
В этот момент Первая служанка пришла сообщить, что Главный распорядитель вместе с Главным писарем явились, чтобы увидеться с царевной Меритатон. Обычай требовал, чтобы она приняла их.
— Пусть поднимаются, — сказала Меритатон.
Тридцать женщин разволновались, узнав о прибытии двух посланников. Коленопреклоненный писарь вручил Меритатон свиток папируса в футляре и удалился. Затем Главный распорядитель в сопровождении двух слуг, в руках у которых были две чаши с фигами и финиками, побеседовал с царевной наедине. После этого Меритатон развернула папирус, прочитала его, послушала, что ей сказал распорядитель, и кивнула. Потом позвала служанку и стала спускаться по лестнице. За ней двинулись носильщики опахал, Уадх Менех со своими писарями и две служанки.
Вскоре она уже стояла перед Сменхкарой, которого предупредили о ее приходе, и он ждал ее у дверей, как того требовал обычай.
— Добро пожаловать, царевна, моя царица! — сказал он.
Она смотрела на него очень серьезно, в ее взгляде были и тревога, и любопытство.
— Мое сердце расцветает при виде тебя, о божественный! — прозвучал надлежащий ответ.
Он пригласил ее последовать за ним в зал, через который можно было пройти в сады, и предложил ей кресло напротив своего. Они выглядели спокойными, только легкий ветерок, пахнущий жасмином, шевелил платье Меритатон и набедренную повязку Сменхкары. На высоком столе, разделявшем их, стоял кувшин с гранатовым соком и чаша с китайскими финиками.
Меритатон огляделась. Рядом с ними находилось как минимум двадцать человек.
— Может, нам лучше поговорить наедине? — прошептала она.
Сменхкара дал знак Уадху Менеху, и все исчезли. Сменхкара поднялся, наполнил один кубок и протянул его молодой женщине, затем наполнил другой, сел и осушил его.
— Ты восходишь на трон, потому что умерла моя мать, — сказала она.
— Хоть она и не любила меня, я сожалею о том, что она ушла.
— Сожалеешь? Ты?
Он посмотрел на нее.
— Я был в тот момент рядом с ее паланкином, помнишь? От меня не укрылся взгляд, который ты бросила на Пентью.
Упоминание о Пентью наводило на некоторые размышления. Из этого следовало, что Сменхкара знал виновного. Меритатон пригубила гранатового сока.
— Чем это он пахнет?
— Не ядом. В него добавлен настой цветков апельсинового дерева. Мне он очень нравится.
Она кивнула.
— По чьему приказу действовал Пентью?
— Не по моему.
— Сознался бы ты, если бы это было так?
— Если бы я был человеком, который выпил яд, то уже никогда ни в чем не сознался бы, — ответил он с улыбкой. — Но тогда меня нужно подозревать и в том, что я отравил любимого брата.
Меритатон растерялась, и у нее возникли новые подозрения: а не мог ли этот очаровательный юноша, расслабленно сидящий в кресле, отравить своего брата и его жену ради власти? Не было ли комедией невероятное страдание, испытываемое им после смерти Эхнатона? Или он просто чувствовал себя виноватым?
— Скажи мне, — снова заговорил он, — почему ты так уверена в том, что твоя мать была отравлена? И почему ты сразу же бросила на Пентью обвиняющий взгляд?
Меритатон молчала. Потом посмотрела на Сменхкару и, волнуясь, произнесла:
— Я видела, как он покупал этот яд. Дурман.
— Что? — воскликнул Сменхкара так громко, что стражники, находившиеся в пятидесяти шагах от них, повернули головы.
Меритатон продолжила:
— Тот, кто продавал яд, требовал слишком высокую цену. Сто дебенов. Пентью торговался. Тогда продавец пригрозил рассказать о том, что он уже продавал ему этот яд. — Сменхкара наклонился к Меритатон, его глаза округлились от удивления. — Потом Пентью убил его и бросил труп в Великую Реку.
— Где это происходило?
— В зале Архива, около полуночи.
— Но что ты там делала?
— Этого я тебе пока не скажу. Сейчас важно то, что я не знаю, чью волю выполнял Пентью.
Она внезапно замолчала, глядя на своего суженого. Ее глаза пылали огнем.
— Послушай меня, Сменхкара! — воскликнула она. — Скорее я отравлюсь, чем выйду замуж за убийцу своих родителей, как того требуют интересы династии. И пусть демоны потустороннего мира не оставят меня в покое миллион лет! Или ты докажешь мне, что не виновен в этих двух убийствах, или ты не взойдешь на трон. По крайней мере, царицей буду не я.
Он склонил голову без каких-либо видимых эмоций.
— Меритатон, — сказал он, — я счастлив слышать от тебя такие слова.
Царевна была поражена.
— Ты счастлив?!
— Дай мне закончить. Я могу доказать свою невиновность только одним способом. Я вызову к себе Пентью для беседы один на один, а ты спрячешься за занавесом в моем кабинете, чтобы слышать наш разговор.
На какое-то мгновение она застыла от такого неожиданного предложения.
— Ты думаешь, он признается?
— Не знаю. Но надеюсь, что разговор развеет все твои сомнения.
Девушка опустила голову, ее сердце отчаянно билось.
— Я прошу тебя: сделай вид, что ты направляешься во Дворец царевен, и сразу же возвращайся, только без свиты, через сад. Страже прикажут пропустить тебя ко мне. Дверь, в которую ты войдешь из сада, ведет в маленькую комнатку, скрытую занавесом. Там ты будешь прятаться до ухода Пентью.
У Меритатон задрожала нижняя губа.
— Хорошо, — сказала она, поднимаясь.
Он проводил ее до дверей.
Настой цветков апельсинового дерева
Одетый в свежую набедренную повязку, со знаком царской благосклонности на груди, с искусно подведенными глазами, Пентью, улыбаясь, вошел в царский кабинет.
— Господин, я невыразимо счастлив в этот день, — заявил он после того, как Сменхкара пригласил его сесть напротив себя.
Сменхкара считал преждевременным и неуместным принимать людей, сидя на троне и протягивая для поцелуя ногу в сандалии, не будучи провозглашенным царем.
Сменхкара предложил Пентью тот же напиток, что и Меритатон.
— Настой цветков апельсинового дерева — несказанное удовольствие для Приближенного к телу царя. Божественный напиток!
— Но все-таки слишком деликатный, чтобы скрыть вкус дурмана, — произнес Сменхкара, пристально глядя на своего гостя.
Улыбка мгновенно исчезла с лица Пентью. Он поставил кубок на стол рядом с собой.
— Откуда здесь дурман? — встревоженно спросил он.
— А разве не с помощью этого яда ты прервал земную жизнь царицы? — не теряя спокойствия, произнес Сменхкара.
— Мой повелитель! — воскликнул Пентью, его лицо исказил страх. — Такое подозрение!..
Сменхкара спокойно осушил свой кубок.
— Пентью, я хочу избавить тебя от унизительной лжи. У меня есть свидетель, который видел, как ты покупал склянку с дурманом в зале Архива за пятьдесят дебенов. Цена показалась тебе слишком высокой. Тот же торговец уже продавал тебе этот яд, он стал угрожать разоблачением. Ты убил его и бросил труп в Великую Реку. Десять стражников стоят за дверью, в которую ты только что вошел, готовые схватить тебя по моему приказу, если ты захочешь, чтобы меня постигла участь торговца.
Приближенный к телу царя побледнел, обмяк и облокотился на спинку кресла.
— Значит, ты все знаешь, — прошептал он хрипло.
— Нет, не все. Я хочу знать, по чьему приказу ты действовал. Я хочу знать, как ты, чья профессия обязывает защищать жизнь, превратился в убийцу царя и его жены.
— Тогда мне конец!
— Нет. Ты еще не все мне сказал. Твои преступления слишком тяжелы, чтобы сразу вынести приговор. Ты будешь удален из дворца, но никто не сможет добраться до тебя.
Сменхкара налил себе еще один кубок гранатового сока. Пентью все еще пребывал в прострации, его взгляд остановился.
— Меня заставили…
— Я в этом не сомневаюсь. Позднее мы узнаем, какие доводы были у тех, кто тебя принуждал. Кто они?
— Несомненно, их было больше, но мне пришлось иметь дело только с двумя.
— С кем же?
Пентью поднял глаза на Сменхкару. Ему с большим трудом удалось сглотнуть.
— Выпей, — приказал Сменхкара. — Кто это был?
— Хумос. Нефертеп.
— Это они попросили тебя отравить моего брата?
Пентью кивнул.
— Почему?
— Они считали, что положение священнослужителей становится невыносимым и что твой брат предал страну и ее богов-покровителей. Они намеревались разжечь восстание, собрать войска и напасть на дворец, в котором жил ты и твой брат, убить вас и поджечь здания.
— Они не смогли бы этого сделать, не имея поддержки военных.
— Именно это я им и говорил. Мне ответили, что армия не будет вмешиваться. Тогда я предпочел спасти человеческие жизни, а свою подвергнуть опасности.
После этих слов наступила свинцовая тишина.
Стало тяжело дышать. Как будто перевернули чан со зловонной жижей или разрыли яму с разлагающимся трупом. Сменхкара встал, открыл все огромные, ведущие на террасу двери и вернулся на место.
Перед его взором снова промелькнула картина, когда Ай смотрел на Пентью у трупа Нефертити. Это отравление было организовано без ведома повелителя Ахмина. А что касается отравления Эхнатона… Сменхкара вспомнил, как видел Ая и Пентью беседующими сразу после церемонии прощания с телом царя. При его приближении они прекратили разговор. Незначительный случай, но тем не менее он отложился в памяти. Почему?
— Значит, ты имел дело только с Хумосом и Нефертепом? — спросил он, предпочитая пока не задавать вопрос, который звучал у него в голове.
Лицо Пентью настолько исказили испытываемые им ужас и стыд, что было практически невозможно прочесть на нем что-либо еще. Лекарь провел тыльной стороной ладони по блестящему от пота лбу. Он не ответил.
— Я тебе задал вопрос! — настаивал Сменхкара.
— Только они отдавали мне приказ подмешать яд в пищу царя, — ответил наконец Пентью. — Но…
Сменхкара ждал продолжения. Ждать пришлось долго.
— …но, как я понял, о преступлении знали и другие.
— Кто же?
— Ай. — Пентью так тихо произнес это имя, что его едва можно было расслышать.
— Ай? — переспросил Сменхкара.
Пентью кивнул.
— И как ты это понял?
— Мне было нелегко получить дурман. Это средство очень сложно приготовить. Если оно слабое, то вызывает лишь ужасные видения, а если сильное, убивает мгновенно. Однажды ко мне пришел какой-то торговец и стал предлагать разные снадобья, в том числе и дурман. Такое совпадение показалось мне странным. Я спросил его, откуда он пришел. «Из Косеира», — ответил мне торговец. А ведь у Ая там есть лавка со специями и снадобьями. Таким образом я и купил этот яд. На следующий день Ай
настойчиво спрашивал меня, видел ли я Хумоса и Нефертепа. Так я и понял, что все трое заодно.
— А Нефертити?
— Когда она стала наследницей твоего брата, было очевидно, что, поверив обещаниям Ая, жрецы надеялись на преобразования. Они хотели поговорить об этом с ней, но Нефертити отказалась принять их. Военные тоже были разочарованы.
— Хоремхеб?
— Да.
В комнате снова воцарилась тишина. Пентью смотрел в пол, а Сменхкара не отрывал от него взгляда.
— Они намеревались и тебя убить тоже, — произнес Пентью. Его голос все больше и больше становился похожим на кваканье. — Они говорили, что в твоих жилах течет желчь и что это неизлечимо. Я напоминал им, что только ты, продолжив династию, можешь оказаться им полезен и что за время своего регентства ты уже продемонстрировал свою терпимость к ним…
— А как тебе удалось отравить только моего брата? Ведь мы ели одну и ту же пищу?
— Помнишь, иногда по вечерам он принимал снадобье, чтобы заснуть?
Сменхкара согласно кивнул.
— Так вот, оно было горьким, — продолжил Пентью. — И чтобы смягчить горечь, я добавлял мед. Этим занимался я сам.
— У тебя были сообщники среди поваров?
Пентью отрицательно замотал головой.
— Почему ты предал меня, когда Нефертити взяла власть в свои руки?
— Потому что в противном случае я не мог попасть во дворец.
Сменхкара боялся, что Меритатон может упасть в обморок в потайной комнатке и наделать шуму.
— А Майя?
— Он всегда был предан Аю душой и телом, — ответил Пентью хрипло, прерывающимся голосом. — К тому же…
Он не закончил фразу.
— Что к тому же? — настаивал Сменхкара.
— Он был очень привязан к Нефертити…
Сменхкаре не надо было пояснять, что значит «очень привязан». Он не стал ничего уточнять, щадя Меритатон и желая избежать резкой реакции царевны, которая, несомненно, была уже вне себя от гнева.
— Но Майя понял, — продолжал Пентью, — что если он воспротивится жрецам, то и он, и его семья будут вышвырнуты и никто не сможет их спасти. Поэтому он замолчал и предал Ая, который отныне смертельно ненавидит его.
«Настоящее гадючье гнездо», — подумал Сменхкара. Всем заправляют жрецы. Решив убить царицу, свою любовницу, Майя принял сторону Сменхкары на Царском совете, потому что у него не было другого покровителя. И он надеялся, что новый властитель царства простит ему измену.
— Чем же тебе угрожали Хумос и Нефертеп? — спросил Сменхкара.
— Одно старое дело. Один из моих помощников восстал против меня. Вспыхнула ссора. Я не смог сдержать себя. Я его убил. Это был брат одного из жрецов Пта. Я представил все так, как будто это был несчастный случай. Брат убитого пришел ко мне и сказал, что знает все.
— Последний вопрос: почему дурман?
Пентью поднял свои красно-желтые глаза.
— Потому что его действие похоже на естественную болезнь. Он убивает только через несколько часов. Нефертити выпила его с миндальным молоком за три часа до смерти.
Наступила долгая пауза. Сменхкара снова забеспокоился о Меритатон.
— Сейчас можешь идти, — сказал он. — Ты спас свою жизнь. Но теперь ты займешься другим делом. Я не хочу, чтобы твоя опала была слишком явной. Это вызовет скандал. Будешь начальником Царского архива. Ты уже знаешь, где это.
Пошатываясь, Пентью встал. Ноги у него подкашивались, и он без конца сглатывал слюну.
— О повелитель! — бормотал он. — Для меня это самый счастливый день…
Он медленно вышел и закрыл за собой дверь. Сменхкара встал и отдернул занавес. Меритатон была там, бледная, в слезах.
— Ты довольна? — спросил он, ласково беря ее за руку и усаживая в кресло, еще хранящее тепло Пентью.
Все ее тело сотрясали рыдания. Он протянул ей свой кубок с гранатовым соком. Она еще пила сок, когда раздался торопливый стук в дверь. Сменхкара пошел открывать. Начальник стражи стоял перед ним с потрясенным видом.
— Твое величество! Приближенный к телу царя, господин Пентью… Он упал во дворе! И умер!
— Это доказывает, что у него есть сердце, — сказал Сменхкара. — Отнесите тело в комнату стражи, и пусть Уадх Менех сообщит его семье.
Он закрыл дверь и посмотрел на Меритатон: у нее был жалкий вид. «Такие испытания способны уничтожить мужчину, не то что женщину», — подумал Сменхкара.
Сестры Меритатон увидели ее, когда она возвращалась из Царского дома и, еле держась на ногах, опиралась на руку служанки. Царевны встревожились и бросились за ней в комнату.
— Это от жары, — предупредила она все расспросы. — Дайте мне отдохнуть. Я присоединюсь к вам за ужином.
Кормилицам не без труда удалось сдержать чересчур энергично проявляющуюся заботливость царевен. Анхесенпаатон спустилась в сад и поискала глазами Пасара. Его там не было. Царевна не могла понять почему. Солнце грозило испепелить горизонт, а горы на западе казались раскаленными. Царевне мерещилось, что ее поглощает отчаянное одиночество. У нее больше никого не осталось! Впервые она поняла, что матери больше нет.
— Мама! — вскрикнула девочка и заплакала.
Но в ответ только тростник и пальмы зашелестели на берегу под усиливающимся ветром. Бегом она вернулась и застыла как вкопанная в большом зале на первом этаже.
Она увидела мать!
Носильщики под наблюдением Уадха Менеха установили во Дворце царевен статую умершей царицы. Сделана она была в натуральную величину из серого камня. Нефертити изобразили такой, какой она была в свои последние дни. Обнаженная, с осунувшимся лицом, с потерявшими упругость щеками, с обвисшей, слишком маленькой и никого не вскормившей грудью. Статуя была незаконченной. До сегодняшнего дня она находилась в Зале приемов царицы в Царском дворце, и Анхесенпаатон никогда ее не видела. По приказу Тхуту ее перенесли во Дворец царевен, чтобы новый царь не испытывал недовольства при взгляде на нее.
Анхесенпаатон смотрела на статую. Вдруг она бросилась к ней и обвила руками холодный камень.
Сорок три кобры и злая корова
Итак, понадобилось в тот же вечер найти замену Пентью, так как необходимо было провести церемонию перенесения тела Нефертити. Уадх Менех обратился к Панезию, который с должной быстротой отправил ему писаря и лекаря высшего ранга Аа-Седхема. Уадх Менех вскоре представил его Сменхкаре, который был удивлен величественной осанкой и сдержанностью преемника Пентью: это был мужчина лет тридцати; казалось, черты его лица и даже фигура несли на себе печать благородства — это был ученый человек.
— Ты будешь моим личным лекарем, — обратился к нему Сменхкара.
— Бесконечное счастье служить совершенной красоте, твое величество.
— Мы побеседуем дольше, как только ты организуешь перенесение тела усопшей царицы в выбранное мною место для бальзамирования, — добавил Сменхкара, — а пока ты устроишься на этаже, где жил Пентью, на случай, если ты мне понадобишься.
После этого он продиктовал Главному писарю приказ о присвоении Аа-Седхему титула Приближенного к телу царя и приказал Уадху Менеху сообщить ему об этом и обеспечить нового лекаря всем необходимым для выполнения его обязанностей. На следующий день, выполняя указания царя, бальзамировщики должны будут приступить к работе.
Сменхкара окинул взглядом людей, собравшихся в его кабинете: это были его слуги Тхуту, Уадх Менех, а теперь еще и Аа-Седхем. Он посмотрел в окно: на его царство лился сверху поток раскаленного серебра, то сверкающего, то припорошенного пылью. Атон был величественным богом. В отличие от Ра, он никогда не старился, а лишь укрывался от взглядов. Насколько же был прав его брат, вознеся его на абсолютную вершину мироздания!
Теперь повелевал только он один. Впервые за последние три месяца чувства переполняли его. Ему удалось избежать яда и преследований Нефертити. Сразу послебрачной церемонии он станет абсолютным царем Двух Земель. Победила любовь, которую он питал к своему брату; он станет наследником усопшего царя, душа которого вселится в него. И не важно, что Эхнатон ждал своего возрождения в горной гробнице.
Оставалось самое сложное: сменить культ Атона, которому поклоняются только в царском городе, восстановить культы, забытые за время семнадцатилетнего правления Эхнатона.
Он отпустил нового Первого придворного и лекаря, но задержал Тхуту, чтобы посоветоваться с ним.
— Священнослужители, — начал он, поглаживая рукой подлокотник кресла, который был сделан в виде головы львицы, — только и ждут случая быть обиженными. Для них это всегда повод для бунта и использования яда.
При слове «яд» сидевший перед ним в кресле из черного дерева, инкрустированном слоновой костью, Тхуту внезапно заморгал. Сменхкара это заметил. Но он и хотел предупредить своего министра о том, что знал больше, чем показывал. Тхуту также обратил внимание на то, что кресла монарха раньше не было среди мебели в царском кабинете; значит, Сменхкара приказал взять его из резервов. Была ли голова Львицы Сехмет, богини мести, предупреждением?
— Ты должен подумать, как побудить их к тому, чтобы они приехали для подготовки коронации и были доброжелательно настроены.
— Повелитель, ты поручаешь мне исполнить роль заклинателя кобр? — спросил Тхуту.
Сменхкара улыбнулся.
— Кобра — хранительница короны, — ответил он, имея в виду рептилию, голова которой была изображена на двойной царской короне. — Я хочу, чтобы ты заставил танцевать сразу сорок две кобры. Точнее, сорок три, так как мы должны учитывать и Панезия.
— Твоя божественная мудрость, твое величество, уже, наверное, подсказала тебе, что они попросят построить храм Амона в Ахетатоне и провести коронацию в Фивах.
— Я не против коронации в Фивах. Но я хочу, чтобы они, в свою очередь, сохранили Ахетатон таким, каким его задумал и возвел мой брат.
— Необходимо будет повысить дань.
— Пусть. Но я не хочу, чтобы народ Ахетатона видел, что память моего брата не чтут.
— Это одно из проявлений твоего благородства, повелитель. Но где могут собраться сорок две кобры?
— В большом храме Атона?
— Они примут это как оскорбление, господин. Позволь мне дать тебе совет: пусть это произойдет здесь, во дворце.
— Хорошо. Распорядись отправить послания.
Как и каждый вечер, Ра пересел в другую лодку, чтобы двенадцать часов плыть в мире низших духов. И каждый вечер он становился стариком, Атумом. Сидя в Ночной лодке, он предавался ностальгии. Он вспоминал безмятежность детства и музыку юности.
Его дочь Хатхор наблюдала за людьми, которых она окутывала прохладным прозрачным светом.
Она увидела, что в калитку сада у Дворца царевен вошла девушка и проскользнула в тень смоковниц, чтобы незамеченной добраться до рощи. Юноша встретил там девушку и молча обнял ее.
— Ты знаешь?
— О смерти Пентью? Да, конечно. Только об этом все и говорят. Его отравили?
— Нет. На самом деле у него остановилось сердце или же разорвался мозг. Сменхкара заставил его во всем сознаться. Он не смог вынести унижения. Не могу описать, каким испытанием это было для меня…
— Ты присутствовала при разговоре? — удивленно спросил Неферхеру.
Он положил руку Меритатон себе на грудь.
— Нет, я спряталась за занавесом.
— Как ему удалось вырвать у него признание?
— Я ему рассказала о том, что мы видели в зале Архива.
Неферхеру покачал головой.
— Какое впечатление на тебя произвел Сменхкара?
— Ты был прав: он не участвовал в отравлениях. Он прекрасно осознает, в какие тиски попал. Пентью признался ему, что жрецы хотели отравить и его. Он назвал ему имена зачинщиков. Это великие жрецы Хумос и Нефертеп. Сменхкара — умный и осторожный человек. Но я не знаю, удастся ли ему выбраться из ловушки.
— Когда состоится ваша свадьба?
— Он не сказал. Но не раньше, чем дней через десять, может, и позднее.
— Мы больше не сможем видеться.
— Я же тебе говорила: ничто нас не разлучит.
— Но ты будешь жить с ним… Царский дворец охраняется намного лучше, чем Дворец царевен.
— Неферхеру, я найду способ. Мы найдем.
Он поцеловал ей руку.
— Я заменила мать своим сестрам, — продолжила она. — Как же я их оставлю одних? Кормилицы не в счет. Недавно слуги нашли Анхесенпаатон плачущей у подножья статуи матери… Может быть, я и не покину Дворец царевен… Я не знаю. Еще рано об этом говорить.
— А если ты влюбишься в Сменхкару? — спросил он через некоторое время. — Ты же должна будешь с ним спать. Он кажется милым…
— У меня не два сердца, — ответила она. — И я не хочу даже думать об этом.
Она чувствовала себя разбитой. Было уже поздно, и она не могла попросить у Приближенного к телу царя один из тех черненьких шариков, которые принимала ее мать, чтобы уснуть и успокоить душу. Затем она вспомнила, что припрятала несколько шариков в одной коробочке.
— До завтра, — сказала она вставая.
Он ее обнял. Она положила голову ему на плечо, думая лишь об одном: для нее существовал только один бог в мире, и это был Неферхеру. Все остальные боги были эгоистичны. Атон не защитил никого из ее семьи. Хуже того, он позволил служителям культа взять верх над ними.
Кстати, эти боги дрались между собой, словно пьяные крестьяне. Стоило лишь посмотреть на Осириса и Сета…
Она подняла взгляд на убывающий в небе диск Хатхор и подумала о том, что когда-то поведал ей отец в одной из их редких бесед. Он объяснил ей, что раньше религия напоминала разъяренную корову, которую пытались представить богиней радости и танца. Она хотела уничтожить человеческий род во времена Сотворения мира, а ее отца Ра заставили ее усмирить.
«Злая корова!» — подумала она и, освободившись от объятий Неферхеру, вернулась в свою комнату.
Ей не понадобилось принимать снотворное — она уснула как мертвая.
Сменхкара решил, что Аа-Седхем будет присутствовать при омовениях, чтобы руководить массажистами, работающими с царским телом. Этим же вечером новый лекарь принес бальзам для мышц и мазь после бритья из росного ладана, которая снимала усталость и расслабляла лицо.
Обнаженный Сменхкара лежал на столе посередине ванной комнаты. Ему массировали бедра и икры, в то время как цирюльник его брил, а маникюрщик подпиливал и полировал ногти. Аа-Седхем протянул два горшочка, один — Первому массажисту, второй — цирюльнику и бросил на Сменхкару загадочный, почти веселый взгляд.
— Что с тобой?
— Мой царь, мой повелитель, господин Пентью жив!
Сменхкара отстранил перепуганного цирюльника и вскочил.
— Что?
— Когда слуги несли его домой на носилках, — рассказывал Аа-Седхем, еле сдерживая смех, — он попросил воды. Носильщики бросили носилки и убежали с криками. Только его старый слуга не поддался страху и поднял занавеску носилок. Он увидел, что Пентью действительно жив и приказал побыстрее принести ему воды. К счастью, процессия находилась недалеко от дворцовой кухни. Пентью понял, что его оставили умирать, и приказал избить убежавших.
Сменхкара захохотал. Массажисты, цирюльник и остальные слуги тут же поддержали его, согласно традиции. Он снова лег, позволяя совершать предписанные действия над своей божественной персоной.
— Как объяснить его ложную смерть? — спросил он.
— Он, должно быть, потерял сознание из-за досады…
Аа-Седхем ничего не знал о признании Пентью. Почему же он решил, что его предшественник был раздосадован?
Сменхкара задумался. Он поднял руки, чтобы цирюльник побрил его подмышки. Затем, когда массажист закончил работу, маникюрщик склонился над пальцами царских ног. Он подпилил ногти на ногах, затем на руках и, сдвинув кутикулу, смазал пальцы утиным жиром с запахом жасмина.
— А какова причина досады? — спросил Сменхкара у Аа-Седхема.
— Мне это неизвестно, мой царь, но, если его разговор с вами был благоприятным, я сомневаюсь, что с ним могло случиться такое недомогание.
Определенно, этот лекарь был так же проницателен, как и красив. Сменхкара сказал себе, что он от этой замены оказался в выигрыше.
Он поднялся и спустился к бассейну. Первый купальщик полил ему теплой воды на плечи, грудь и ноги и принялся растирать его намыленной тыквенной щеткой. Второй слуга растирал его член, ягодицы, ноги и ступни. Третий щедро ополаскивал будущую божественную особу прохладной ароматизированной водой.
Аа-Седхем бесстрастно наблюдал за этой сценой.
Первый слуга вытер будущего живого бога и натер его тело сандаловым маслом. Цирюльник нанес на лицо росное масло, после чего маникюрщик открыл царскую шкатулку из черного дерева и слоновой кости, достал горшочек и кисточку и подвел сурьмой глаза божественного величества.
Сменхкара почувствовал себя умиротворенным.
Хранитель гардероба принес одеяние из тонкого льна и помог своему господину одеться. Затем он взял из рук помощника подставку с царским париком и повернулся к своему господину, который сам надел и оправил парик. Только лекарю позволялось дотрагиваться до царской головы.
После этого Хранитель гардероба подал будущей божественной особе зеркало, чтобы тот мог оценить результат, и вскользь взглянул на Приближенного к телу царя. Наконец он подал своему господину поднос из черного дерева, на котором лежали царские серьги: две жемчужины, закрепленные в золотых дисках. Сменхкара прикрепил их к мочкам. Первый слуга помог повелителю мира обуться.
Теперь Сменхкара был полностью одет. Слуга принес ему большую чашу прохладного вина с запахом розового масла. Отпив из чаши, Сменхкара с расслабленным видом, поблескивая ногтями, повязал пояс вокруг талии и вышел из ванной комнаты. За ним последовал Аа-Седхем, сопровождаемый задумчивым взглядом гардеробщика.
На следующий день Сменхкара ужинал с Тутанхатоном, Тхуту и Аа-Седхемом. Они обсуждали предстоящие дела: собрание жрецов, похороны Нефертити, приглашение Майи и нового состава Царского совета.
Тутанхатон слушал с серьезным видом прилежного ученика, находящегося в обществе своих учителей. Сменхкара рано удалился и попросил Аа-Седхема следовать за ним в спальню. Он страдал от болей в спине, а пережитое за день возобновило эти боли, об этом он сообщил Аа-Седхему. Тот попросил разрешения исчезнуть на минутку и вернулся с кедровым ларцом. Оттуда он достал горшочек с мазью, открыл его и попросил Сменхкару лечь на живот. Острый возбуждающий запах мази заполнил комнату. Сменхкара узнал камфору, к ней примешивался незнакомый горьковатый аромат. Аа-Седхем намазал Сменхкаре спину и стал ее массировать. Он принялся разминать затылок, плечи и лопатки, опускаясь к пояснице. Сменхкара снял набедренную повязку. Аа-Седхем помассировал ягодицы, после чего занялся бедрами и лодыжками. Он снова вернулся к затылку и, надавливая ладонью на позвонки и заставляя их хрустеть, прошелся по всей спине. Сменхкара расслабленно и облегченно вздохнул. Он представил себя глиной в руках скульптора. Он перевернулся. Аа-Седхем ненадолго прервался. Затем помассировал руки и внутреннюю часть бедер, помял ступни, потянул пальцы ног, сгибая их назад и вперед, чтобы придать гибкость. Сменхкара улыбался.
— Я завершил свое дело, господин, — сказал наконец Аа-Седхем.
— Не совсем, — прошептал Сменхкара. — Приляг рядом со мной.
Вот уже несколько месяцев к нему никто не прикасался, как и он не прикасался ни к кому. Даже если Аа-Седхем и был удивлен приглашением, он этого не показал. Зато Сменхкара был приятно удивлен тем, что за этим последовало.
Богоподобный царь — хозяин и сердец, и тел. Как возможно не любить его всем своим существом? Ему оставалось лишь выбрать бога, воплощением которого он теперь станет.
Ему снилось, что царская кобра обвила его голову. Она победила.
Проснувшись, он увидел, что рука спящего Аа-Седхема лежит на его плече. Он решил назначить его членом Царского совета.
Слуга по приказу
Тхуту, Первый писарь и их соратники ждали своего хозяина, стоя у двери его кабинета. К ним присоединился Тутанхатон. Он ласково поприветствовал своего брата и протянул ему цветок лотоса, затем занял место в кресле рядом с ним. Слуга принес вазу из синего стекла, в которую поставил цветок. Сменхкара вызвал Аа-Седхема и сообщил, что назначил его членом Царского совета. Никого не удивило это назначение, поскольку воскресший Пентью был теперь Хранителем архива.
Невозмутимый, постоянно улыбающийся Аа-Седхем рассыпался в благодарностях; он выразил надежду, что его скромные знания удовлетворят царя, Читающего в Сердцах, Защитника Справедливости. Этот человек несколько часов назад спал, положив руку на плечо своего господина.
Затем Сменхкара вызвал Майю. Главнокомандующий армии повелителя Двух Земель уже подзабыл боевые навыки, так как не вел кампаний уже два года, что не мешало ему получать свое жалование. Его теперешней обязанностью было управление Царским домом. Нефертити повысила его в должности, но советником он пробыл лишь один день. В своих признаниях Пентью пояснил причины его возвращения к Сменхкаре: это было продиктовано инстинктом самосохранения.
Он должен был догадаться, что Сменхкара не строил себе иллюзий относительно его честности: его видели проникающим в царский кабинет.
Узнав благодаря быстро распространявшимся дворцовым слухам о том, что Тхуту назначен советником, он смотрел по сторонам, размышляя, очевидно, о своей участи, о том, что ждало его уже через несколько минут.
Вместе с будущим царем Тхуту Тутанхатон и писари являли собой суд в узком составе. К тому же происшествие с Пентью тоже беспокоило Майю. По слухам, лекарь бывшего царя был отравлен во время разговора с глазу на глаз с бывшим регентом, но выжил.
Кроме того, Майя оказался в явно невыгодном положении по сравнению с Тхуту, который, после того как был свергнут Нефертити, живо переметнулся к Сменхкаре, и тот его принял. Теперь он высоко нес знамя Нерушимой верности.
Основываясь на своем трехлетнем опыте регентства, Сменхкара хорошо видел ситуацию и понимал, чем вызвано беспокойство посетителя. Он принял суровый вид — он не забыл, что был предан двумя людьми, которым доверял.
Он помнил также одну существенную деталь, о которой упомянул Пентью, а его шпионы подтвердили эту информацию. Даже впав в немилость, бывший Первый распорядитель церемоний сохранил своих тайных агентов во дворце. Всем известно, что тот, кто однажды обладал властью, может снова вернуть ее.
Итак, Майя был любовником Нефертити.
— Майя, — обратился к нему Сменхкара, — я хочу, чтобы ты здесь и сейчас беспристрастно поведал нам, что заставило тебя считать меня непригодным быть регентом, а покойную супругу нашего царя признать достойной.
— Повелитель, — ответил Майя, — подданный должен следить за порядком в царстве и пресекать любые попытки нарушить крепость трона. Господин Ай сообщил мне, что служители культа настойчиво стремятся вернуть власть супруге нашего великого царя. Он также рассказал о мятежах, которые могли бы вспыхнуть в провинциях, а именно в Мемфисе и Фивах. Я же всего лишь согласился с его мнением.
— Значит, ты покинул регента, назначенного царем, из-за верности трону?
Парадоксальный вопрос заставил Тхуту удивленно поднять бровь. И он, и Тутанхатон старались не пропустить ни одного слова, произнесенного здесь, так же как и Первый писарь и все остальные. Сменхкара подумал о том, что Майя был искренен и что ему не было известно об отравлении Нефертити, иначе он последовал бы примеру Тхуту.
— Господин, ты мой судья. Если бы я поддержал тебя, меня бы исключили из Совета или со мной случилось бы что-нибудь похуже. Поскольку я не обладаю никакой властью, мой поступок был бы бесполезным для всех, да и для меня самого. Я воздержался от того, чтобы последовать призыву своих чувств. Я остался в Совете. Наверное, бог руководил моим решением, поскольку это мне помогло впоследствии подтвердить твое законное право на трон. В результате я оказался полезен твоей божественной персоне.
Выступление было ловким и все объясняло. Майя был превосходным чиновником: он беспрекословно подчинялся начальству, каким бы оно ни было. Может, это качество и заставило его стать любовником Нефертити. Он был из тех, кто предательство понимает по-своему: они предают только по долгу службы. Но задумываются ли они, кого предают, выполняя долг?
— И как ты оцениваешь нынешнюю ситуацию? — спросил Сменхкара.
— Господин, кроме божественного духа ты обладаешь опытом трехлетнего правления. Тебе известны ожидания подчиненных, служителей культов и военных. Я желаю, чтобы мир наполнил сердца священнослужителей.
— Что ты имеешь в виду?
— Твоя власть будет крепче, если ты восстановишь культ Амона.
— В Ахетатоне? — удивленно спросил Сменхкара.
— Решение зависит только от твоей божественной мудрости. Но позволь мне выразить пожелание: лучше было бы, если бы ты короновался в Фивах и там поселился.
Какое-то время царила тишина. Сменхкара вызвал Майю, чтобы публично его обвинить, но бывший советник оказался чрезвычайно осмотрительным.
— Ты хочешь сказать, что я должен оставить плод трудов моего любимого брата? — спросил Сменхкара.
— Господин, твой справедливый рассудок считает необходимым испытать меня, и я по своему разумению отвечу на все вопросы. Плод трудов твоего любимого брата был предназначен для поддержания величия царства, а не для того, чтобы создавать трудности наследникам.
Сменхкара счел необходимым на этом закончить допрос. Он также не позволил себе даже намекнуть на то, что ему было известно о связи Майи с усопшей царицей.
— Хорошо, — сказал он, — ты ответил на мои вопросы, я удовлетворен. Назначаю тебя Хранителем казны. Будешь докладывать о состоянии дел мне и моему советнику.
Майя посветлел лицом. Он пришел, рассчитывая на самое худшее, а в результате получил повышение. На самом деле должность Хранителя казны считалась самой важной после должности советника. Сменхкара подал знак Первому писарю составить указ о назначении. Новый казначей пылко поцеловал руку Сменхкары и ушел.
Когда Тутанхатон остался наедине со своим братом, он сказал:
— Значит, в наших краях не почитают культ Атона.
Сменхкара удивился зрелым суждениям мальчика, хотя понял, что он пытался хитрить.
— Это действительно так, — подтвердил он. — Наш брат хотел вытеснить всех остальных богов.
Тутанхатон понимающе кивнул.
— Умерло много людей, не так ли?
— Да, — согласился Сменхкара, удивляясь все больше и больше.
— Мой брат. Затем его жена. А затем и другие.
Он повернул к Сменхкаре свое ясное нежное лицо. Этот ребенок казался созданным для игр, а не для дворцовых интриг.
— Я не хочу, чтобы ты умирал. Думаю, что ты должен короноваться в Фивах.
Это окончательно сразило Сменхкару. Его юный брат был настоящим стратегом.
Приглашенная на ужин будущим супругом, Меритатон поспешила отправиться к нему: любой случай был хорош для продвижения своих пешек.
Она задала вопрос о дате их свадьбы. Он ответил, что считает более мудрым организовать церемонию в Фивах, но, поскольку этот город был чужим для него, он не смог еще определиться с датой. Она недоумевала. Фивы! Она выросла в Ахетатоне. Ее одиночество и здесь было велико, что же с ней будет в городе, в котором она никогда раньше не бывала? К тому же она рисковала потерять Неферхеру.
— И мы все поедем в Фивы? — вскрикнула она. — Мои сестры тоже?
Он заметил слезы в ее глазах.
— Многие фивяне счастливы жить в этом городе, — ответил он улыбаясь.
— Но… плод трудов моего отца… столица царства… Это совсем противоречит его политике. Он ненавидел Фивы!
— Мне хорошо были известны желания твоего отца, — ответил он. — Действительно, он особенно любил Ахетатон, поскольку это было его творение. Но царь не может ненавидеть свои земли и города, Меритатон. Он также был царем Фив, Мемфиса и всех городов долины.
Она все больше злилась.
— Ты уступишь жрецам, убившим мою мать и отца, твоего брата, и намеревавшимся тебя короновать? Тебе недостаточно имени, которое ты избрал для коронации? Ты представляешь моего отца избранником Ра… Что бы он об этом сказал? На тебя, должно быть, оказали давление…
Она заметалась. Его это удивило.
— Я думаю, — ответил он нарочито спокойно, — что власть будет сильней, если не использовать ее для борьбы с собственными подданными.
Затем, пристально глядя на нее, твердо добавил:
— Если мы будем упрямо сохранять Ахетатон как изолированный островок царской власти, твоя жизнь тоже будет в опасности.
Аргумент был веским. Меритатон замолчала и принялась жевать куриную ножку. Она намеревалась продвинуть свои пешки, но противник оказался слишком силен.
— Считаю, что будет полезнее, сохраняя память о твоем брате, не уронить достоинство, — сказала она.
— Такой подход более разумен, — согласился Сменхкара, зачерпывая резной деревянной ложкой из блюда бобы с луком.
— Можно провести все церемонии в Фивах и затем вернуться сюда.
— Я подумаю над этим, — произнес он. — Я жду, когда соберутся верховные жрецы и выскажут свое мнение.
— Где они соберутся?
— Здесь, в Ахетатоне.
Он приветливо посмотрел на нее и задержал взгляд на округлостях ее тела. Любила ли она раньше и любит ли сейчас?
В конце ужина подали финики. Меритатон, в свою очередь, оценивала будущего супруга, отказываясь ненавидеть человека, с которым должна будет жить. Он был соблазнителен и уж точно умен, он продемонстрировал ей это совсем недавно. Она считала его бесхарактерным, но он оказался осмотрительным, а может быть, и хитрым. Но желать его физически она была не способна. «Мое сердце принадлежит другому», — подумала она.
— Что ты решил по поводу погребения моей матери? — спросила Меритатон.
— А что же я должен был решить? — Он удивился. — Ее бальзамируют, а затем перевезут, согласно воле моего брата, в горы, ожидать возрождения рядом с ним.
— Ты будешь при этом присутствовать?
— Это же очевидно, — ответил он. — Она была супругой моего брата.
— Ты был очень привязан к моему отцу?
— Он был воплощением бога, — ответил он, как будто разговаривая сам с собой.
Она задумалась над тем, как почитание Эхнатона совмещалось у Сменхкары с тем, что она считала настоящим предательством, не говоря уже о выбранном имени. Ну надо же, придумал себе имя: Эхнеферура!
Вернувшись, она еще на лестнице услышала резкие возгласы кормилицы, обращенные к Анхесенпаатон. Та готова была расплакаться.
— Что происходит? — спросила Меритатон.
— Я застала ее в саду играющей с простолюдином!
— А ты сама не простолюдинка?
Кормилица недоуменно посмотрела на нее.
— Но, госпожа… Царица никогда бы не позволила этого!
— Отныне здесь командую я, — твердо заявила Меритатон. — Я знаю этого мальчика, моя сестра может с ним играть.
— Она позвала стражу, чтобы прогнать его! — вскричала Анхесенпаатон.
— Кормилица! Пусть стражники вернут мальчика, — приказала Меритатон. — Его зовут Пасар.
Все остальные кормилицы изумленно слушали. Через четверть часа начальник охраны пришел сказать Меритатон, что нашел Пасара. Анхесенпаатон устремилась в сад. Кормилица недовольно смотрела на Меритатон.
— Пойми, — сказала ей Меритатон, — мы живем во дворце, а не в тюрьме.
Но говорила она это скорее для того, чтобы убедить саму себя.
Она вернулась в свою комнату, окно в которой было широко открыто. Царевна еле сдержала крик. Быстрое хлопанье крыльев взбивало воздух перед окном и сопровождалось пронзительным криком. На полу билась голубка, раненая, но еще живая. Она вырвалась из когтей коршуна.
Меритатон взяла голубку в руки. Птица продолжала биться. В глазах ее отражался страх. Царевна закричала. Ее платье и руки были в крови. Прибежала кормилица.
— Воды! Мне нужно помыться! Посмотрите, может, эта птица выживет…
Она верила в предзнаменования. Кормилица взяла из ее рук птицу, осмотрела ее и повернулась к Меритатон.
— Да, — сказала она.
— Я хочу, чтобы эту голубку вылечили, как если бы она была моей.
— Да, госпожа.
Прибежали царевны. Анхесенпаатон и ее старшая сестра молча посмотрели друг на друга.
— Когда она поправится, мы поселим ее с дроздом, — через некоторое время сказала Анхесенпаатон.
Как только о нем вспомнили, дрозд принялся петь в своей клетке на террасе.
Две птицы в неволе.
Главная служанка Меритатон помогла ей снять платье и принесла другое.
Сменхкара ждал Аа-Седхема, как обычно, к началу купания. Гардеробщик Аутиб сообщил, что Приближенный к телу царя занят с поставщиками трав и редких средств, доставляемых из далеких стран, и поэтому опоздает.
Поскольку привилегия растирать божественное тело принадлежала Аа-Седхему и банным слугам, Аутиб предложил заменить его. Сменхкара согласился.
Несколько месяцев назад, можно сказать, в прошлой эре, он наградил бы этой милостью Хранителя гардероба. Смерть Эхнатона и последовавшие события помешали развитию их отношений. К тому же, как часто бывает, когда что-то привычное заканчивается, мы задаемся вопросом о причине его возникновения. Сменхкара еще раз убедился в том, что удобство не может заменить влечение. Быть может, Аутиб был слишком покорным и услужливым, чтобы держать в напряжении охотника по имени Желание. Как бы там ни было, появление Аа-Седхема заставило царя отказаться от любви со слугами.
Когда Аутиб растирал плечи своего господина, Сменхкара заметил слезы в его глазах.
— Что с тобой? — спросил он.
Слезы только и ждали этого вопроса, чтобы начать литься.
— Да что же с тобой?
Слуга-купальщик ждал с кувшином ароматизированной воды, специально приготовленной для живого бога. Аутиб не хотел говорить в присутствии подчиненного.
Когда Сменхкару должным образом вытерли и одели, он попросил Хранителя гардероба следовать за ним в опочивальню. Аутиб снова расплакался.
— Чем же я провинился, почему попал в немилость к земному божеству? — воскликнул он.
— Ты не попал в немилость, поскольку я оставил тебя на службе, — уклончиво ответил Сменхкара.
— Я был любим… — произнес Аутиб сквозь слезы.
Сменхкара не хотел рисковать и подавил в себе чувство сострадания.
— Сезон половодья длится лишь треть года, — сказал он. — Но я подумаю о твоих словах.
В этот момент появился Аа-Седхем. Мельком взглянув на него, Аутиб удалился.
Секретарь долго шептал на ухо Тхуту что-то важное. Советник нахмурил брови.
— Приведи мне его! — крикнул он.
Писари заинтригованно смотрели на него. Он их отпустил. Через несколько минут секретарь вернулся. За ним шел мужчина со связанными за спиной руками. Конец веревки держал охранник. Секретарь попросил охранника выйти за дверь и закрыть ее. Пленный дрожал всем телом.
— Опять ты! — крикнул Тхуту. — И что же это ты рассказываешь?
Мужчина ничего не отвечал, парализованный страхом.
— Ты утверждаешь, что я прорицатель?
— Говори! — приказал секретарь.
Но ни одно слово так и не вырвалось из уст несчастного.
— У тебя постоянная работа при дворе, а ты мало того что приносишь мне плохие известия, еще и позволяешь себе говорить обо мне всякий вздор! Ты явно хочешь потерять свое место! — зарычал Тхуту.
Мужчина готов был рухнуть наземь. Он едва держался на ногах.
— Удары палками будут для тебя очень легким наказанием, презренный! Ты, может быть, хочешь, чтобы я приказал отрезать тебе язык?
Мужчина застонал от страха.
— Я дам тебе совет… Ты меня слышишь?
Мужчина судорожно закивал.
— А-Узаит, ты скажешь, что потерял рассудок из-за вина. В противном случае лишишься языка. Ты понял?
— Мой господин очень добр, — сказал секретарь.
— Десять ударов палкой по ступням, и в этом месяце вычесть четвертую часть жалованья, — закончил Тхуту.
Секретарь открыл дверь и резко потянул за веревку, вытягивая мужчину наружу. Тот чуть было не потерял равновесие. Секретарь передал приговор стражнику.
— Исполнить немедленно! — уточнил он.
Мужчина издал душераздирающий стон. Стражник потянул пленного к лестнице. Секретарь, улыбаясь, закрыл дверь. Несколько минут спустя из окон стали слышны крики А-Узаита. Он крикнул десять раз.
На следующий день тело Нефертити должны были перенести в Северный дворец. На церемонию прощания с усопшей собрались те же, кто присутствовал при прощании с царем около пятнадцати недель тому назад. Все были здесь, за исключением Ая и Хоремхеба, которые отбыли в свои провинции. Даже воскресший Пентью был здесь. Сменхкара стоял в первом ряду с непроницаемым лицом.
Меритатон тихо плакала. Мать — первоначальное тело своих детей. Ее смерть для них — своего рода ампутация. Мысли о будущем возрождении матери не могли их утешить, хотя абсолютная безмятежность потустороннего мира усмиряет все чувства.
Макетатон и Анхесенпаатон тоже плакали.
Младшие сестры плакали потому, что так делали старшие.
Вместе с Нефертити исчезли интриги, а значит, никто уже не ждал вознаграждения за них.
Мать была мертва.
Волы, овцы, гуси, сернобыки, гиены и весть
«Семнадцать коров земледельца Мекетона из предместья Доброта Амона», — громко объявил писарь. Его коллега сделал запись на пергаменте, лежащем на дощечке на его коленях.
Он сидел на раскладном стуле в тени белого навеса, захватывающего пять ступенек. У его ног лежало множество длинных пергаментов с перечнями пересчитанных стад и другого имущества. Два писаря, сидевшие рядом, вели подсчеты. Сам же главный писарь не делал ничего, он обмахивался большим высушенным пальмовым листом, которому искусно была придана форма круга. Лист с помощью крахмала сделали более плотным и украсили рисунком Магического узла.
Пришли сюда и сборщики налогов, а двое из них явились из Великого храма Амона-Ра в Фивах.
Стояла удушливая жара, а поднимаемая скотом пыль делала ее невыносимой. Главный писарь, запрокинув голову, сделал долгий глоток из сосуда, стоявшего рядом с ним. Капельки пота скатывались с его блестящей лысины прямо в глаза; вытирая их тыльной стороной ладони, он уже давно стер сурьму, которой все писари для красоты подводили глаза.
Время от времени то один, то другой писарь отщипывали из пучка ката два-три листика, обмакивали их в воду и жевали, чтобы облегчить свои мучения.
Они с утра учитывали поголовье скота в западной части Фив, причем работали уже целую неделю от рассвета до захода солнца. Одни из них состояли на постоянной службе, а другие были наняты лишь временно, после выполнения работы они вернутся на фермы. Последним нельзя было полностью доверять, поскольку они нередко договаривались с земледельцами, своими работодателями, и часто нарочно занижали количество животных.
Для такой работы верховные жрецы одалживали своих писарей налогового учета. И делали это еще охотнее, когда пересчитывался скот на принадлежавших им землях.
Раз в год все скотоводы должны были предоставить свои стада комиссии налогосборщиков. Те, кто пытался уклониться, платили штраф пропорционально своему богатству.
Перепись скота проводилась с начала сезона паводков, учет урожая — в конце сезона жатвы.
Обнаженный мальчик с палкой в руках, покрытый пылью с ног до головы, вел стадо рогатого скота на перепись.
— Тридцать четыре особи. Из них десять быков, — проговорил писарь.
Другой писарь записал.
Их молодой коллега, прибывший из предместья, тяжело дыша, снял висевшие на веревках через плечо четыре сосуда с водой и мешок с десятью круглыми караваями медового хлеба.
Подогнали овец. Воздух наполнился их блеянием.
— Четыре сернобыка, — сказал главный писарь, чтобы показать, что и от него есть польза.
Величественно продефилировали рогатые животные, высоко неся свои длинные изящные рога.
В эту минуту под навесом возникла суматоха.
— Посмотри, кто идет! — крикнул один из писарей.
Счетовод быстрым взглядом окинул стадо гусей, которые, переваливаясь, шли за сернобыками, а затем, как и все, повернул голову. В это невозможно было поверить! Хумос! Сам великий жрец! И с ним глава налоговой службы! Сопровождаемые носильщиками опахал и кресел, четыре блестящих головы приближались под палящим солнцем. От храма сюда было полчаса ходу.
— Тридцать два гуся! — крикнул счетовод, разволновавшись.
Знатные посетители вскоре приблизились. Писари поспешили навстречу своим высоким повелителям и стали целовать им руки. Хумос и глава налоговой службы живо поднялись на ступеньки и укрылись под навесом. Для них поставили раскладные стулья.
— Не прерывайте своего занятия, — заявил глава налоговой службы, кладя руку на плечо счетоводу. — Я пришел посмотреть, как продвигается ваша работа. Высокочтимый Хумос пожелал лично проверить богатство края в этом году и составил мне компанию.
Он наклонился, поднял один из исписанных листов и стал изучать его.
— Кто-то уже сделал подсчеты, я полагаю.
— Да, господин, — поспешил ответить один из писарей. — На сегодняшний день и на этот час сто двадцать одна тысяча семьсот десять дебенов медью, из которых шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят дебенов с земель, принадлежащих храму Амона.
Хумос и глава налоговой службы удовлетворенно закивали головами. Налоги, которые составляли тридцать процентов от налогооблагаемых богатств, будут уплачены зерном и льном. Доля налогосборщиков предназначалась для местных нужд — на ремонт дорог и каналов, на выплаты чиновникам, содержание зернохранилищ и другие нужды. Доля священнослужителей, теоретически освобожденная от налогов, шла на содержание храмов и прихрамовых сооружений и на выплаты жрецам. Поступлений могло быть и больше, если бы не скупость чиновников Ахетатона, которые дополнительно взимали пять процентов на военные нужды, и, кроме того, отказывались повысить подати.
— Без надувательства? — поинтересовался глава налоговой службы.
— Два земледельца представили меньше скота, чем то количество, о котором нам было известно. Мы пошли к ним и отыскали скот на полях.
— Побить палками, — велел Хумос.
— Да, высокочтимый господин, и еще будет взыскан штраф.
— Хорошо.
— Но с рыбаками у нас такие же проблемы, как и в прошлом году. Очень сложно пересчитать их улов.
— Да, я знаю, — согласился глава налоговой службы, — речные
сборщики налогов не могут разорваться. У нас только двадцать кораблей.
Он опустил руки на колени и попросил пива. Для двух высоких гостей поспешили наполнить пенной жидкостью большие чаши. Хумос сделал хороший глоток и провел рукой по губам.
— Нужно будет узнать у пивоваров из Ахетатона рецепт пива, — сказал он Главному жрецу Амона. — Оно больше пенится, чем это.
Головы вновь повернулись к дороге на Фивы. Быстрым шагом, несмотря на жару, приближались двое молодых жрецов. Подходя к навесу, они наткнулись на стадо свиней, а затем козы чуть не сбили их с ног. Наконец они добрались до пункта назначения. У одного из них был сверток в чехле.
— Господин, — сказал посланец, обращаясь к Главному жрецу, — это известие пришло с царской почтой вскоре после твоего ухода.
Хумос взял чехол, достал сверток и сразу же посмотрел на печать.
— Эхнеферура, возлюбленный Неферхерура, — прочитал он с некоторым удивлением. — Над Ахетатоном и впрямь поменялся ветер.
— Я правильно понял: Эхнеферура? — уточнил глава налоговой службы.
— Возлюбленный Неферхерура, — дополнил Хумос.
Он прочитал известие и в задумчивости устремил взгляд в пространство, будто не замечая проходящих перед ним животных.
— Двадцать три свиньи! — провозгласил писарь.
Хумос отдал папирус главному жрецу Амона, который все еще пил пиво.
— Замечательно! — прочитав сообщение, сказал он и улыбнулся. — Твои старания наконец вознаграждены, господин. Одно лишь имя нового царя это подтверждает.
— Сложное имя, — буркнул Хумос. — Хватило бы и первой его части. Ну что ж, молодой Сменхкара все же дерзнул изменить имя своего предшественника.
Он на какое-то время задумался и, поднимаясь, попрощался с главой налоговой службы, воздавая ему должные почести.
— Однако же, — произнес он, — речь идет о вопросах, которые должны обсуждаться на Совете. Возвращаемся!
Он ушел со своим сопровождением и двумя вестниками.
— Шесть гиен! — объявил счетовод.
Полосатых животных держали на поводу. Они вели себя более или менее спокойно, но скалили зубы и мрачно зыркали по сторонам, погоняемые своим хозяином, полноватым молодым мужчиной. Гиены были хороши для ловли крыс, но их нужно было держать в клетках, пока весь скот не заперт подальше от них.
Пасар удрученно смотрел на Анхесенпаатон. Он держал в руке моточек веревки, на конце которой висел стальной крючок.
— Фивы? — переспросил он.
Она даже не кивнула головой. Раз он повторил вопрос, значит услышал.
— Твоя сестра хочет туда ехать?
Она отрицательно покачала головой.
— Если я поеду в Фивы, ты поедешь со мной?
Он задумался. Вопрос мирового масштаба! Как может его отец, Смотритель зала для приемов, отпустить его в Фивы? И где он будет жить? И на какие деньги?
— Нужно, чтобы моего отца перевели в Фивы.
— Я попрошу Меритатон.
Мальчик улыбнулся. Анхесенпаатон тоже.
— Фивы огромны. Мой отец говорит, что это самый большой город в мире!
Мгновение назад удрученные, дети теперь радостно смотрели друг на друга.
— Поскольку твоя сестра будет царицей, быть может, мы сможем пожениться в Фивах!
Она снова помрачнела.
— Сестра говорит, что я выйду замуж за Тутанхатона.
— За кого? Кто это?
— Брат царя.
— Ты его видела?
— Да, он моего возраста.
Пасар тоже помрачнел.
— А как же я?
— Я не знаю… Решает Меритатон.
— Ты больше не хочешь выйти за меня? Я же тебе подарил дрозда…
Она положила руку мальчику на плечо.
— Я люблю тебя.
Пасар смотрел на нее, как будто пытался прочесть зашифрованные тексты.
— Пойдем, — сказал он, указывая на моточек веревки, — будем ловить рыбу.
Они убежали к реке.
Меритатон наблюдала за ними с террасы, завидуя тому, что они могли видеться днем.
А в Северном дворце Асехем, мастер-бальзамировщик, снова принялся за дело.
Он осмотрел обнаженное, уже без внутренностей, тело Нефертити и подумал о том, что за бальзамирование царя получил лишь задаток, составляющий третью часть оплаты. «У царских особ, очевидно, было слабое здоровье», — решил он.
Сердце усопшей имело такой же фиолетовый оттенок, как и сердце ее супруга.
Асехем задумался: чем заполнить глазницы царицы? Он решил посоветоваться с Главным распорядителем Уадхом Менехом, когда увидится с ним.
Ему рассказывали много историй о левом глазе усопшей. Он вздрогнул, вспомнив о том, какие свойства ему приписывались.
Работа его была и без того деликатной, а тут еще приходилось решать, что делать со злым глазом!
Отдать себя во власть полуденного солнца в Эдфу в восьмом месяце было таким же геройством, как отправиться на войну. Миллион золотых стрел ежесекундно обрушивались на голову, поэтому парик был не столько украшением, сколько щитом.
Священные ловцы гиппопотамов, так же как и все остальные, отсиживались в прохладных тоннелях в северной части квартала писарей. Тень располагала к дремоте. Поскольку в эти дни не умер ни один богач, толстомордые левиафаны могли умиротворенно плескаться в теплой грязи болот западнее города: они не рисковали потерять одного из своих собратьев во время ритуальной охоты, которую организовывали в честь усопшего. Тем лучше. Потому что преследовать это опасное животное, стоя в шатком челноке, бросать ему рыбу, заставляя открыть пасть, хорошенько прицеливаться, запускать в нее три гарпуна и затем вытаскивать этого окровавленного монстра из воды, чтобы передать его потрошителям, было убийственным занятием в такую жару. К тому же при удобном случае одно из этих животных могло напасть на ловцов.
Иногда кое-кто все же задавался вопросом, почему это животное считали олицетворением ужасной богини Туерис и все же убивали его по случаю пышных похорон?
Как всегда в это время в период между пятым и девятым месяцами года, по примеру жрецов и писарей разного ранга Танут-Амархис, верховный жрец храма Хоруса, бога-покровителя Эдфу, оставался дома. Он выходил только около пяти часов, когда стрелы Ра летели косо и становились слабыми. К тому же в полуденный зной верующие, бедняки и дарители тоже не показывались на улице: в Эдфу дела решались в первые четыре утренних часа и в два последних часа вечера.
Танут-Амархис только что завершил скромный легкий обед: салат из огурцов с кислым молоком, маленький круглый хлебец с луком и несколько свежих плодов инжира. Устроившись на ложе на втором этаже своего владения, расположенного напротив храма, он проверял копию описания ритуала очищения жрецов:
Поклон тебе, о жертвенный сосуд! Я очистился оком Хоруса, чтобы совершать с твоей помощью ритуалы. Я очистился для Амона и окружающих его богов…
За окном он услышал голос, а затем различил свое имя. Он встал и пошел посмотреть, кто его звал. Это были двое мужчин с бритыми головами, очевидно, писари. На их лицах было написано легкое удивление.
— В чем дело?
— Царские вестники к Танут-Амархису!
— Поднимайтесь!
Царские вестники? А кто царь? С какой вестью они явились?
Он открыл дверь. В комнату вошли посланники.
— Мы прибыли из Ахетатона.
Танут-Амархис нахмурил брови. Ах да, новый город на севере, где поклонялись культу Атона!
Один из вестников церемонно протянул ему футляр.
— Какой же царь вас послал?
Вопрос, достойный провинциального тупицы. Но назначение преемника несостоявшейся царицы Нефертити произошло, правда, лишь пять дней назад, и в отдаленных уголках царства о нем узнают только через две недели.
— Брат усопшего Эхнатона. Наш новый царь — Эхнеферура, возлюбленный Неферхеперура.
Танут-Амархис открыл рот. Одно имя чего стоило!
— Как вы добрались сюда?
Услышав шум в такое необычное время, появилась жена верховного жреца.
— Прикажи подать питье царским вестникам, — сказал ей Танут-Амархис.
— На царской галере, — ответил один из них. — Две галеры отправились из Ахетатона, одна поплыла вниз по реке, а другая, наша, — вверх. Таким образом царское известие будет передано в сорок два нома.
Появились обнаженные дети верховного жреца. Они принялись разглядывать посетителей. Слуга принес поднос с кувшином и двумя чашами и наполнил их для благородных путешественников. Танут-Амархис хлопал ресницами. Наверху действительно что-то происходило. На протяжении долгих лет, так же как и его соратники из Фив, Абидоса, Коптоса, он не обращал внимания на сумасшедшего царя Атона, который делал вид, что не знает об их существовании. В конце концов, провинция спокойно жила без царского благоволения, а культы Хоруса и Туерис при этом не стали менее популярными. И вот новый царь вспомнил наконец об их существовании и послал к ним вестников!
Вестники жадно пили пиво. Слуга налил им снова. Танут-Амархис достал папирус из футляра и развернул его. Так же как и его соратники, он сначала склонился над печатью. Там было именно то имя, которое назвали. Он прочитал послание: его просили приехать в Ахетатон по случаю восхождения на трон Эхнеферура! Никогда такого не было!
Вестники попрощались: их ждали на корабле.
— Что происходит? — спросила жена Танут-Амархиса, глядя на папирус в его руках.
— Новый царь просит меня приехать в Ахетатон по случаю его коронации.
— У нас новый царь?
Жрец задумчиво кивнул. Он понимал, что только один человек из тех, кого он знает, может пролить свет на эти события: Хумос из Фив.
— Но сначала я поеду в Фивы, — объявил Танут-Амархис. Гиппопотамы умиротворенно мычали в своих болотах, а на раскаленных крышах Великого храма Хоруса грелись ящерицы, лакомясь сочными летними мухами.
Приготовления и горечь, или сова и попугай
Плоское округлое лицо с выпученными глазами, маленький горбатый нос и миниатюрный рот, узкие плечи и слегка выпуклая грудь Панезия, Главного служителя Атона, то есть высшего жреца Великого храма Атона в Ахетатоне, создавали порой впечатление, что он вот-вот взлетит и усядется на дереве или на крыше. Настоящая сова. Осторожный, наблюдательный, мудрый. Никто не помнил, чтобы он когда-либо повышал голос или не ответил обратившемуся к нему.
— Высшая честь, мой царь, — сказал он, присаживаясь за стол по правую руку от Сменхкары после его приглашения.
Тхуту подождал, пока устроится Тутанхатон, и последовал его примеру.
Десять слуп по два для каждого ужинавшего и еще два виночерпия находились в пределах слышимости в большом зале Царского дворца. Перед каждым слуги поставили алебастровые тарелки, а посередине — большое блюдо с вареными утиными яйцами, присыпанными зернами горчицы и шафраном. Большие кубки из переливающегося стекла были наполнены вином.
При первом же глотке глаза Панезия округлились. Даже его повар не умел готовить такие неожиданно изысканные блюда.
— Почтенный Панезий, — начал Сменхкара, — мы готовим церемонию коронации и хотели бы выслушать твои советы.
— Возрождение царского дерева радует сердца богов, — нравоучительно произнес Панезий.
Это был способ напомнить о существовании других богов, существующих помимо Атона. Великий жрец, у которого были свои уши во дворцах, был в курсе того, что в номы отправлены известия. Почти все провинциальные писари выполняли поручения различных чиновников, а рты у них не были на замках.
— Чтобы восстановить гармонию между земными служителями и божествами, — продолжил Сменхкара, — мы попросили высших жрецов из сорока двух номов собраться в Ахетатоне.
— Гармония — небесное благословение, мой царь, — заметил Панезий. — Ее создают сердца богов, бьющиеся в унисон.
Сменхкара жестом разрешил Тхуту говорить.
— Ты знаешь своих соратников, — сказал советник. — Правда, вы видитесь не часто. Какой, по твоему мнению, будет их реакция?
— Как они могут не откликнуться на почтенное приглашение царя? Им недоставало заботы царя Двух Земель.
Тутанхатон внимательно слушал эту витиеватую речь. Он отметил, что Панезий сказал «царя Двух Земель», а не «их царя».
— Какова твоя реакция как Главного служителя Атона, культ которого навязал Ахетатону усопший царь?
— Разве Атон не был изначально воплощением Непознаваемого Существа? — улыбаясь, вопросом на вопрос ответил Панезий. — Мудрость нашего божественного царя Эхнеферура, — он абсолютно точно выговорил имя, и это означало, что он правильно понял его значение, — состоит в том, что он понимает необходимость поливать корни нашего поклонения этому богу.
Другими словами, он не видел препятствий к тому, чтобы приравнять Атона к другим божествам.
— Что ты ответишь тем, кто не согласится с царской волей избрать этого бога высшим божеством?
Панезий проглотил последний кусок яйца с горчицей. Его лицо выражало крайнее сожаление. Затем он сделал несколько маленьких глотков вина, чтобы дать себе время подумать.
— Могущество божеств непреодолимо. Атон, слугой которого я являюсь, избрал для его проявления упокоившегося монарха. Он наполнил его своим сиянием так, что этот блеск затмил Других богов, как случается с теми, кто смотрит на солнце и не может различить ничего другого в мире. Наш покойный царь был возлюбленным Атона, — завершил он свою речь, отводя взгляд в сторону, чтобы никто не усмотрел в его словах намека на другую связь.
— Думаешь ли ты, почитаемый слуга Атона, что они выдвинут свои условия? — спросил Сменхкара.
Слуга поставил на стол блюдо с кусочками курицы — редкой птицы с белым мясом, которую подавали только по особому случаю. Панезий обратил на него взгляд гурмана и ответил:
— Я не могу знать, мой царь, что решат головы сорока двух моих соратников. Я могу только предполагать, что они будут надеяться получить знак, подтверждающий решение воплощения божества, которым ты являешься.
— Какой именно?
Поскольку Сменхкара уже положил себе мясо, Панезий взял тонкими пальцами белую грудку птицы и, улыбаясь, повернулся к хозяину.
— Разве имя, выбранное моим царем, не знак?
— Коронация в Фивах! — выкрикнул Тутанхатон.
Это были его первые слова с начала ужина. Три головы повернулись в его сторону, и Сменхкара искренне рассмеялся. Панезий наклонил голову и устремил взгляд ночного хищника на мальчика.
— Это сказал ребенок Хорус.
Он закончил жевать нежную грудку, обглодал косточки крылышка и добавил:
— Это не все, мой царь. Не находится ли сердце посредине груди?
Сменхкара удивился очевидному утверждению, а великий жрец продолжил:
— А не является ли царь сердцем царства?
Последовала короткая пауза, прерванная Тхуту:
— Значит, царь должен перенести столицу в Фивы?
Панезий утвердительно прикрыл глаза.
— А что же будет с Ахетатоном?
— Он останется подарком Атона людям.
— Ты так легко это принимаешь, почтенный слуга Атона!
— Как, господин, я могу противиться тому, что умножает славу моего царя и обеспечивает безмятежность его правления?
«Похвальная преданность, — подумал Тхуту. — Правда, есть одно уточнение: Ахетатон станет сорок третьим номом. А помимо сохранения уважения своих коллег и своего поста Панезий будет пользоваться привилегиями глав остальных номов: он уже не будет так зависеть от царя, завладеет землями и, наконец, разбогатеет».
Пока же согласно установившимся в Ахетатоне правилам ему разрешалось владеть лишь небольшими участками земли и жить практически только благодаря царской щедрости. Усопший царь держал своих служителей культа в строгости, стремясь подавить в них желание наживы, присущее всем священнослужителям.
— Готов ли ты, почтенный служитель Атона, отстаивать эту точку зрения перед твоими соратниками, когда они соберутся в Ахетатоне? — спросил Сменхкара.
— Мой царь, разве суть мудрых слов не состоит в том, чтобы отражать очевидное? Если бы я не был уверен в правдивости твоих слов еще до того, как ты их произнес, разве я принял бы твое предвидение?
Это означало, что Панезий понял, чего от него ожидали, и выразил свое согласие.
Но Тхуту казался озабоченным. Сменхкара спросил о причине его беспокойства.
— Мой царь, я считаю, что мы слишком уступаем священнослужителям. Они вообразят себе, что ты готов броситься к ним в объятья и что коронация в Фивах — твое самое сокровенное желание. Они станут требовать больше. Коронация в Фивах Должна быть представлена как большая уступка с твоей стороны, на которую ты согласишься только в случае, если твои требования будут выполнены. Это обеспечит сильную позицию почтенному Панезию на переговорах.
— Но как же нам добиться желаемого?
— Это просто, мой царь: начни приготовления к коронации в Ахетатоне.
Сменхкара был удивлен, его охватили сомнения. Это предложение казалось заманчивым, но возникал вопрос: не было ли оно свидетельством предательства Тхуту? Панезий также казался удивленным.
— Я считаю, мой царь, что это замечательная мысль. Самое сокровенное желание Хумоса — короновать тебя в Фивах. Для него стало бы большой удачей исполнить его, всего лишь отказавшись от явного противостояния культу Атона, — заявил советник.
— И каким образом я объявлю о намерении короноваться в Ахетатоне?
— В этом дворце нет коронационного зала. Прикажи мне построить такой зал. Писари почтенного Панезия возьмут на себя обязанность распространить новость о начале строительства.
— Нужно, чтобы это выглядело правдоподобно. Сколько времени займет строительство?
— Месяц, мой царь, — ответил Тхуту.
Тутанхатон пришел в замешательство от таких разговоров.
— Осмелюсь внести одно предложение, — Панезий решил рискнуть. — Для твоего царствования будет неблагоприятным, если, начиная переговоры с моими почтенными соратниками, ты проявишь слабость. Твой брат, богоподобный царь, установил культ Атона только в Ахетатоне. Посей тревогу в сердцах моих соратников, предложив построить храм Атона в одной из наиболее враждебных его культу провинций. Это будет наглядным свидетельством твоей силы. К тому же это укрепит мои позиции среди священнослужителей.
— Где ты хочешь возвести храм Атона? — спросил Сменхкара, которому стала ясна хитрость его союзников.
— В Мемфисе, мой царь.
— В Мемфисе! Но жрецы сочтут это оскорблением!
— Они должны заплатить за возможность короновать тебя в Фивах, мой царь, не правда ли? — настаивал Панезий, слащаво улыбаясь.
— Да будет так! — согласился Сменхкара. Для Тхуту он добавил: — Распорядись немедленно начать строительство — и здесь, и в Мемфисе.
Все склонили головы.
Подали десерт: финики в медово-винном соусе. Но настоящим десертом для Сменхкары было душевное спокойствие.
Ай, находившийся в своем хорошо защищенном жилище в Ахмине, пребывал в гневе.
Он был богом этих мест, владельцем огромных ячменных и пшеничных полей, больших участков земли, засаженных овощами, фруктовых садов, пальмовых рощ и бесчисленных стад. Он был также владельцем расположенных в Косейре, на берегу Тростникового моря, лавок, торгующих пряностями, благовониями, фимиамом, терпентинным и черным деревом, слоновой костью, перламутром, жемчугом, кораллами, буйволами, бабуинами и другими экзотическими животными, привезенными из Куша и Пунта. Кроме того он был братом усопшей царицы Тиу, отцом усопшей царицы Нефертити, а значит, шурином, дядей и тестем царей, а также тестем Хоремхеба, одного из самых могущественных военачальников Долины. К нему относились как к царю во всей провинции, в том числе и священнослужители. Ничего не происходило без его ведома. Ничего не решалось без его на то согласия.
Дом Ая своим величием не уступал царским дворцам. Его власть затмевала власть любого знатного вельможи от берегов Большого Зеленого моря до истоков Великой Реки. Отсюда и происходило его прозвище — «принц Ахмина».
Верховный жрец храма в Мине сообщил ему о царском послании и о его содержании. Этот презренный хлыщ Сменхкара, фаворит и любовник Эхнатона, созывал служителей культа из сорока двух номов Двух Земель, чтобы они присутствовали при его восхождении на трон.
Но он, Ай, член Царского совета, приглашен не был. Немыслимо!
Скорее всего, приказ о его смещении с поста советника просто не успели ему доставить.
Сидя в саду в кресле из слоновой кости, инкрустированном золотом, среди благоухающих роз и лилий, перед бассейном, украшенным цветущими кувшинками и лотосом, он потягивал абрикосовое вино с кокосовым ликером, пережевывая свою обиду. Он вспомнил позорное поражение на последнем заседании Царского совета.
Он надеялся, что его поспешный отъезд, его злость и мрачные угрозы, на которые он был щедр, заставят остальных членов Совета отменить решение о назначении Сменхкары царем Двух Земель.
Но этого не произошло.
Как эти царские прислужники, Пентью, Майя, Панезий, Нахтмин, сам Хоремхеб, его зять, осмелились бросить ему вызов?! Майя, обязанный ему своей карьерой? Майя, который был любовником усопшей царицы и наверняка участвовал в заговоре? Отказать ему в регентстве, ему! Этот осел Хоремхеб и самодовольный червяк Сменхкара уже забыли, что обязаны ему и только ему одному тем, что в пятнадцатый год правления Эхнатона удалось избежать восстания в Фивах после нападения грабителей? Не он ли повысил жалование военачальникам? Не он ли шестью месяцами позже погасил восстание земледельцев из Абидоса, убедив главу налоговой службы снизить налоги ввиду неурожайного года?
Разве эти безмозглые выродки, эти болотные отбросы не поняли, что именно Сменхкара организовал отравление своей невестки, царицы? Царица Нефертити! Она, дочь Ая, самая красивая, самая благородная из земных творений, умерла! И в этом заговоре участвовал Пентью, который, кстати, поплатился за это, потому как сам вскоре был отравлен этим ползучим насекомым Сменхкарой и едва остался жив.
А в это время бальзамировщики хлопотали над прекрасным телом его дочери, и происходило это в Северном Дворце, потому что Сменхкара решил отправить останки царицы как можно дальше.
Ай вытер слезу.
Он вспомнил о том, что должен, собравшись с силами, вернуться в Ахетатон, чтобы переговорить с бальзамировщиками и затем с Первым распорядителем об организации погребения.
Два бедуина вскарабкались на верхние ветки кленов, раскинувшихся над садом. С их приближением попугай стал кричать:
— Bin tchaou! Bin tchaou!
Ай снова налил себе абрикосового вина и постарался собраться с мыслями. Чтобы понять, что именно следовало предпринять, нужно было прояснить ситуацию.
Без малейшего сомнения, именно Сменхкара отравил Нефертити — здравый смысл говорил об этом: виновен всегда тот, кто получает выгоду от преступления. К тому же они с Нефертити ненавидели друг друга. И теперь, осознав враждебное отношение Ая, он исключил его из круга приближенных.
Сменхкару поддержали священнослужители и военные. Почему? Потому что он продолжатель династии на законных основаниях и потому что он, скорее всего, пообещал увеличить расходы на содержание армии.
Трудно не согласиться с тем, что у этой тряпки была голова на плечах и должная сноровка.
Значит, Сменхкара наденет корону. Затем он сам или с чьей-то помощью поспешит обрюхатить Меритатон, чтобы обеспечить продолжение своего рода. А он, Ай, навсегда будет отстранен от трона.
Но трон должен перейти к нему! Кто осмелится перечить этому? Он был самым сильным мужчиной царства, самым опытным, самым могущественным. У него было больше власти, чем у Хоремхеба и Нахтмина, вместе взятых.
Значит, он, Ай, должен убить Сменхкару еще до того, как тот упрочится на троне. В любом случае он должен его убить, чтобы отомстить за дочь.
Для начала он должен помириться с Хоремхебом и Нахтмином.
Он осушил кубок вина и пожевал губами.
В золотом ошейнике с кольцом, в которое иногда вдевали поводок, изящно переставляя лапы, в сад пробрался гепард. Он огляделся и поднял темные глаза на хозяина дома. Его морда выражала разочарование. Гепард приблизился к Аю и остановился, раздувая ноздри.
Ай бросил ему пирожок с курицей и погладил зверя по загривку.
«Все продажны, — думал он. — Даже гепарды».
Попугай снова прокричал:
— Bin tchaou!
Это означало «вонючка».
Где заканчивается Великая Река?
Отремонтированный, законопаченный и перекрашенный корабль «Слава Атона» величественно скользил по речной глади на двух больших треугольных красных парусах. По форме корабль был чем-то средним между дроу, которые были в ходу на Тростниковом море, и гаиссами моряков и торговцев, курсирующими по Великой Реке, небольших размеров. У царского корабля задний мостик был ниже, чем у дроу, но его борта были выше, чем у гаиссы. Особенностью его были высокие реи, чтобы царские особы могли избежать ударов по голове при порывах ветра.
На заднем мостике были установлены десять кресел. В них устроились Сменхкара, Тутанхатон и шесть царевен. Сзади на досках сидели три кормилицы трех младших царевен. Одно из кресел занимал не член королевской семьи — на нем сидел Пасар, и это было невероятной привилегией. Правда, на самом деле это был всего лишь раскладной стул. Анхесенпаатон вымолила у своей старшей сестры эту милость. Сменхкару это позабавило, и он согласился без пререканий. Уадх Менех, узнав о нарушении протокола, посоветовал мальчику хотя бы не ловить рыбу с борта. Анхесенпаатон всех всполошила во дворце, когда принесла большого сома, подаренного Пасаром во время их последней совместной рыбной ловли.
Утром, в девятом часу, жара была еще терпимой.
Царевны, кормилицы и, конечно же, Пасар удивленно поглядывали на оба берега. Ребятишки, купающие буйволов. Деревни, пальмовые рощи, храмы, дикие утки, бросающиеся в воду так, будто собирались утопиться.
Неожиданно показался барельеф из бронзы и серебра.
Тутанхатон наблюдал за проворным мальчуганом, он видел, как они смеялись с Анхесенпаатон, перегнувшись через борт. Меритатон же наблюдала за своей младшей сестрой и завидовала ей: она была такой радостной в компании Пасара, что позабыла о своих переживаниях из-за дерзких замечаний мальчика несколько недель назад.
Меритатон исполняла обязанности матери семейства. Сменхкара решил немного отвлечься от дел и порадовать будущую супругу — он распорядился возобновить речные прогулки, что было одной из семейных традиций. Коронация должна была состояться, но еще не были определены ни место, ни время проведения торжественной церемонии обручения, потому что они не знали, какой будет реакция священнослужителей на то, что предложил Панезий.
Сменхкара планировал спуститься по реке до города Двух Собак, сойти там ненадолго, пообедать и отправиться назад с северным ветром, чтобы вернуться в Ахетатон еще до сумерек. Без сомнения, это мероприятие не соответствовало протоколу, поскольку все во дворце должны были соблюдать траур по царице. Но прогулка позволила сменить обстановку, которая становилась невыносимой для Меритатон и ее сестер. Три младшие сестры, в частности, сохранили о речных прогулках лишь смутные воспоминания, потому для них это был настоящий праздник.
Они горевали не так сильно, как старшие сестры, потому что лишились скорее образа матери, а не ее самой. Вскормленные и воспитанные кормилицами, они видели царицу, только когда она того желала, а это случалось нечасто. По сути, они были сиротами с рождения.
Никакие условности не могли испортить удовольствия от прогулки.
— А у тебя, Макетатон, есть друг для игр? — спросил Сменхкара у второй по старшинству сестры.
Та покачала головой и презрительно скривила губы. Она не считала возможным компрометировать себя, гуляя в саду с посторонними.
Сменхкара повернулся к Меритатон, по лицу которой бродила ничего не выражающая улыбка. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять: вопрос предназначался и для нее тоже. «Правда ли, что у нее нет друга для игр?» — снова подумал он, скользя взглядом по небольшой груди и упругим бедрам Меритатон. Да, протокол исключал возможность пребывания во дворце всякого мужчины, кроме чиновников. Единственное исключение делалось во время праздников, когда сыновьям высокопоставленных чиновников позволялось обменяться с молоденькими царевнами соответствующими случаю фразами, но происходило это под бдительными взглядами кормилиц и писарей. Однако Анхесенпаатон удалось обойти запреты!
А может, Меритатон предавалась некоторым незначительным удовольствиям со слугами…
— Ты, кажется, очень привязана к этому мальчику, — заметил он.
— Это потому, что он предан нам, — ответила она вполголоса.
Сменхкара удивленно поднял брови. Она рассказала ему о том, что узнала от Пасара: о визите Ая к Хоремхебу, обвинениях в отравлении Нефертити и о притворном скептицизме Хоремхеба. Сменхкара, казалось, был удивлен. Макетатон подслушивала их разговор. Меритатон подмигнула Сменхкаре и предложила размять ноги. Он пошел за ней к борту, противоположному тому, у которого Анхесенпаатон и мальчик наблюдали за волнами.
— Откуда все это известно мальчику? — спросил он.
— Он сын смотрителя Зала для приемов. Он иногда там спит в комнатке для хранения белья, которая примыкает к главному залу. Именно оттуда он и слышал все разговоры.
Сменхкара скрестил руки и задумался. Значит, Хумос, Нефертеп и Хоремхеб сговорились устроить регентство Нефертити. Заговором, из-за которого могли возникнуть мощные восстания, безусловно, руководил Ай. Зная его упрямство, можно было предположить, что он снова попытается повернуть все по-своему.
Потому что теперь Ай стал его заклятым врагом. Сменхкара знал этого человека: гордый, амбициозный и решительный.
Пасар, повернувшись, смеялся, так что были видны его зубы. Сменхкара взглянул на него. Такой хрупкий мальчик играл столь важную роль в интригах власть имущих, значения которых он наверняка не был способен понять!
— Теперь ясно, почему ты так привязана к нему. Я найду официальный способ приблизить его к нам…
— Нет, — возразила Меритатон, — это вызовет подозрения. Пусть лучше его считают просто другом для игр Анхесенпаатон. Но послушай, где ты поселишь высших жрецов?
Сменхкара понял, что имела в виду Меритатон.
— В Зале для приемов можно разместить только пятнадцать человек. Я прослежу за тем, чтобы там поселили самых влиятельных. Мы подумаем, где поселить остальных.
— Надеюсь, Пасар сможет их подслушать.
Оказывается, этот мальчик был на вес золота.
«Какая же все-таки странная ситуация: с помощью ребенка бороться со старым тираном!» — подумал Сменхкара.
Они вернулись к креслам. У Тутанхатона был задумчивый вид. Анхесенпаатон лишь рассеянно улыбалась. Она знала, что была предназначена Тутанхатону. Меритатон, должно быть, догадалась о причине грусти мальчика, поэтому она позвала Анхесенпаатон, ссылаясь на то, что та мешала матросам. Девочка все поняла, села рядом с маленьким принцем и улыбнулась ему.
— Куда мы приплывем, если спустимся по реке до конца? — спросил Тутанхатон своего брата.
— К Большому Зеленому морю.
— Река впадает в Большое Зеленое море?
— Да, — ответил Сменхкара.
— Значит, оно большое?
— Очень большое.
— Больше всего царства?
Сменхкара не имел об этом ни малейшего представления, никогда не задавался этим вопросом и не знал никого, кто бы дал на него ответ.
— Я не знаю, — ответил он.
Это были недопустимые слова в устах будущего богоподобного царя.
— А почему мы туда не плывем?
— Это займет много времени. Я хочу, чтобы мы вернулись к вечеру. К тому же этот корабль не подходит для путешествия по Большому Зеленому морю. Мне говорили, что оно бурное и опасное.
— Я никогда не видел Большого Зеленого моря.
— Я тоже, — сказал Сменхкара, раньше об этом никогда не задумывавшийся.
— Мы не могли бы как-нибудь туда отправиться?
— Конечно.
— Где заканчивается Большое Зеленое море?
— Я не знаю.
— А кто-нибудь знает?
— Я спрошу об этом.
Еще не доплыв до города Двух Собак, все проголодались, и Сменхкара решил причалить в пустынном месте. Пассажиры разбежались, чтобы справить за деревьями естественную нужду. Затем все вернулись на корабль. Открыли корзины с едой. В них были мясо белой птицы, вареные яйца, хлеб, свежий сыр, дыни, финики и фиги, а также кувшины с пивом и вином.
На обратном пути Пасар стал бросать хлебные крошки в воду — на радость Анхесенпаатон, потому что рыбы высовывали головы из воды, хватая их. Вскоре все знатные пассажиры принялись кормить рыб, что развлекало матросов.
Макетатон предложила снова сойти на берег, но Меритатон воспротивилась этому. Тогда считалось бы, что царская семья покинула территорию дворца, а это во время траура было запрещено по протоколу.
Теплый бриз и вино убаюкали пассажиров на обратном пути. Тутанхатон заразил Анхесенпаатон и Пасара идеей увидеть Большое Зеленое море.
Сменхкара предался ностальгическим воспоминаниям о былых ночных прогулках с царем.
Какое беззаботное было время!
Меритатон думала о Неферхеру, обещая себе увидеться с ним вечером, чтобы умерить его волнения, связанные с переездом в Фивы. Они все отправятся в Фивы — она это понимала. Тактика Сменхкары состояла в том, чтобы использовать этот переезд для сближения со священнослужителями, в результате Ай окажется в проигрыше.
Она вздохнула.
Когда корабль причалил в Ахетатоне, Меритатон почувствовала облегчение. Эта прогулка вызвала у нее лишь грусть.
Она с нетерпением ждала, когда все уснут во Дворце царевен, чтобы встретиться со своим возлюбленным.
— Мой царь, мой повелитель! — шептал Аа-Седхем в сумерках при золотом мерцании лампы, — молю тебя…
Удивленный Сменхкара повернул к нему голову.
— Мой царь, мой повелитель! Эта страна опасна.
— Опасна?
— Мой царь, мой повелитель, целую ноги твои! Во многих провинциях не признают царскую власть. Разбойники нападают на гарнизоны и казначейства. Никто тебе об этом не говорит, как никто не осмеливался делать это во времена правления твоего брата, великого усопшего царя, из-за боязни разгневать его. Убей меня, но вначале выслушай.
— Убивать я тебя не собираюсь, даже напротив, — возразил Сменхкара, садясь и кладя руку своему лекарю на грудь. Но откуда тебе известны вещи, о которых мне никто не говорит?
— У писарей есть родственники и друзья в провинциях. И даже находясь в Ахетатоне, мы поддерживаем связь с писарями из министерств и других номов. Неделю назад Главный писарь храма Пта в Мемфисе написал моему брату, Главному писарю храма Атона, чтобы сообщить, что начальник казначейства из провинции Красного Ибиса сбежал вместе с деньгами.
— Что? — вскричал возмущенный Сменхкара. — Но почему же мне об этом не сообщили? Почему ты сам мне ничего об этом не сказал?
— Мой царь, мой повелитель, я знаю, что твоего советника Тхуту уведомил об этом городской голова Мемфиса. Он вызвал Маху, начальника охраны, который сообщил ему, что проворовавшийся начальник казначейства находится сейчас в гостях у сына Нефертепа. Ничего не было предпринято, так как общеизвестно, что ты пытаешься помириться с верховными жрецами.
Сменхкара был взбешен — он оказался заложником своей тактики примирения со священнослужителями.
Он встал и принялся мерить шагами комнату.
— Мой царь, мой повелитель, мой возлюбленный! — продолжил Аа-Седхем. — Неделю назад ты меня еще не удостоил своей милости. Мое имя не было тебе известно. Как бы я мог все это тебе рассказать? По какому праву? Если бы узнали о моих признаниях, меня посчитали бы сумасшедшим или просто убили бы.
— Мой брат был прав, ненавидя этих священнослужителей! — снова вскричал Сменхкара. — Они все одинаковые!
— Не все, нет!
— Значит, десятки писарей и чиновников в курсе преступлений, о которых трону ничего не известно? — Сменхкара был крайне возмущен.
— Ты об этом не знал, когда был регентом?
— Нет, мне было известно только о преследованиях священнослужителей моим братом.
— Не многие осмелились бы доложить ему о состоянии дел в царстве. Помнишь ли ты, как после смерти твоего брата Тхуту, который тогда был лишь распорядителем, приказал перевезти в Архив множество документов из Царского дворца?
Сменхкара собрался с мыслями. Он вспомнил, что целые пачки Документов тогда были вывезены, а он не обратил на это внимания, так как считал, что это были никому не нужные документы.
— Кроме всего прочего там были рапорты номархов о нападениях вооруженных банд за два последних года и отчеты о несоответствиях в налоговых счетах, — продолжил лекарь. — Тхуту было поручено их изъять.
— Кем поручено?
— Это мне неизвестно. Но подозреваемых хватает. Многие заинтересованы в распаде царства. Недовольство переходит во враждебность к трону, и найдутся желающие использовать это, чтобы показать свою силу и навести порядок.
Удрученный Сменхкара сел на ложе.
— Ты хочешь сказать, — прошептал он, — что, едва я надел корону, как она уже может достаться другому.
— Нет, мой царь, мой повелитель, мой возлюбленный! Я не хочу приносить плохие новости. Я хочу быть лишь кошкой, охраняющей твой чердак.
Сменхкара улыбнулся и погладил Аа-Седхема по щеке.
— Каких крыс ты сможешь поймать?
Приближенный к телу царя помедлил с ответом.
— Два могущественных человека нацелились на трон, мой царь, мой повелитель. А ты разве не знаешь, кто они?
— Кто?
— Ай и Хоремхеб.
Сменхкара кивнул. Он так и предполагал.
— Эта проблема не решится сегодня вечером. Отдохни, мой царь, мой возлюбленный. Грядущие дни будут долгими.
ЧАСТЬ II
ЛОТОСЫ АНУБИСА
Возвращение шакала
После десятого траурного дня прошло уже две недели, но настроение у всех в двух дворцах оставалось все таким же мрачным, атмосфера была напряженной.
Пребывая в Царском доме, Сменхкара никак не мог избавиться от подозрения, что строительство Зала коронации и храма Атона в Мемфисе были ловушками, подстроенными Тхуту, чтобы возбудить гнев священнослужителей и привести к свержению Сменхкары или к его убийству. Аа-Седхем мог успокоить его только в ночное время. Кроме того он опасался, что Панезий потерпит поражение в переговорах со священнослужителями, когда те прибудут в Ахетатон. В таком случае он будет вынужден короноваться во дворце, и тогда он окажется в изоляции, как и его умерший брат в свое время. А ведь он стремился положить конец распрям, чтобы упрочить трон, обезопасить его от бунтов священнослужителей и военных.
Во Дворце царевен Меритатон, уверенная в том, что ей придется отправиться в Фивы, и холодеющая при мысли, что больше не увидит Неферхеру, пребывала в мерзком расположении духа, и это отражалось на ее сестрах. Даже Анхесенпаатон стала неуживчивой: она устроила небольшой скандал, требуя приготовить рыбу, так как Пасар ее ел. Меритатон удалось убедить сестру в том, что от употребления рыбы руки и ноги становятся толстыми, что совершенно недопустимо для царевны.
В провинциях тоже было неспокойно. А чего еще можно было ожидать? Одни из священнослужителей опасались ловушки, других раздирало желание увидеть Ахетатон, столицу царя-еретика. Они верили, что этот город был создан самим Апопом до того, как его пронзило копье Сета, и что в нем царят порок и сумасшествие. Но они боялись нарушить обязательства перед народом. То ли набравшись смелости, то ли не в силах превозмочь любопытство, жрецы наконец стали собираться в путь с торжественной медлительностью, как и требовали обстоятельства. Почти все священнослужители отправились на кораблях с писарями. И пока они собирались, прошел целый месяц.
Уадх Менех, тайно надлежащим образом проинструктированный Сменхкарой, выбрал из священнослужителей тех, кто будет поселен в Зале для посетителей, всего их было двенадцать человек. Остальные тридцать были размещены с согласия Панезия в комнатах писарей при храмовом комплексе Атона. Панезий сиял от удовольствия, так как он выступал в роли великого устроителя национального примирения.
По совету Аа-Седхема Сменхкара отправился на собрание всех этих коротко остриженных голов и даже предоставил им большой зал дворца. Начались крики: прибывшие хотели посовещаться подальше от нескромных ушей и предпочли бы собраться в одном из помещений для писарей в храме.
Все эти перемещения проходили без особых столкновений. Распорядитель тем временем оказался в затруднительном положении из-за Нефертепа, который вышел из себя, узнав о начавшихся работах по постройке храма Атона в Мемфисе.
— Это провокация? — спросил он Панезия, как только оказался с ним наедине.
— Брат, мы хотим гармонично настроить небесные арфы.
Чтобы защитить свои тылы, Сменхкара решил поговорить с Хоремхебом, Нахтмином и Анюмесом, главой восточных гарнизонов. В присутствии Тхуту и Майи он торжественно объявил о предоставлении средств для армии и, в частности, для усиления конницы.
— Господин Ай знает об этом? — спросил Нахтмин, намекая на тот факт, что Ай был официально назначен командиром конницы.
— Нет. Я собираюсь реорганизовать конные войска, — лаконично ответил Сменхкара.
В это же время рабочие и скульпторы выбивались из сил, сооружая огромный зал для гипотетической коронации в Ахетатоне. Сменхкара посетил строительство накануне. Разве мог кто-нибудь представить, что это было всего лишь средство давления на священнослужителей?
Тем не менее он решил послать Майю и главного дворцового интенданта в Фивы осмотреть постройки, в которых будут принимать царя, царевен и их большую свиту в случае, если бы Панезий побудил жрецов покаяться. Сообщили, что Хумос, верховный жрец храма Амона в Фивах, только что сошел на берег в Ахетатоне.
Один день понадобился посланникам, чтобы убедиться в том, что бывшая царская резиденция Аменхотепа Третьего достойна нового царя и не слишком пострадала за пятнадцать лет забвения. Конечно, бывшие царские слуги, да и просто воры, завладели значительной частью имущества, которое не было перевезено в Ахетатон, но это не имело большого значения. Следуя инструкциям Сменхкары, Майя решал, какие из зданий могут стать Царским дворцом, Царским домом и Дворцом царевен. Будущий царь намеревался разделить свою резиденцию и дворец, как было при его брате и к чему он привык. Было бы верхом неприличия, если бы Аа-Седхем по утрам
сталкивался с царицей в коридорах. Главному интенданту было дано задание подготовиться к возможному переезду.
Сменхкара слушал отчет Майи как военачальник, принимающий доклад разведчиков об укреплениях города, который он собирался осаждать.
Временами ему удавалось совладать с подозрениями и страхами, и тогда он ощущал уверенность, начинал надеяться на лучшее. Коронация ознаменовала бы наконец возрождение царской власти, опирающейся на два столпа: священнослужителей и армию. Да, он стал бы достойным преемником своего брата.
Меритатон встревоженно следила за всеми перипетиями не только потому, что приближалась дата вероятного разрыва с Неферхеру, — кроме того ей казалось, что будущий царь плавает в водах, кишащих крокодилами и бегемотами.
«Возможно ли, — думала она, — чтобы отравители вдруг все исчезли?» Пентью был в конечном счете только орудием злых сил, которые, конечно, не испарятся сразу же, словно под воздействием заклинания.
Некоторые сплетни кормилиц, которые передавал слуга из Царского дома, заставили ее задуматься. Приближенный к телу царя действительно очень хорошо заботился о своем господине — он даже спал с ним.
В это время вновь объявился ее дед Ай.
Сменхкара узнал о прибытии Ая в Ахетатон от Аа-Седхема как раз когда главный повар принес ему на завтрак стакан миндального молока, булочку с медом и свежие абрикосы. Это было утро того дня, когда жрецы повторно собрались в зале для писарей, расположенном рядом с храмом.
Аа-Седхем считал, что ему удается обманывать окружающих, так как он никогда не демонстрировал свою интимную близость с будущим монархом. Поэтому его присутствие утром в апартаментах царя было исключено. При Хранителе гардероба и слугах он выказывал все требуемые обычаем знаки уважения.
— Божественный повелитель! — воскликнул он. — Я счел нужным сообщить тебе, что в царском дворце присутствует высокий гость.
Лишь один человек, не принадлежащий к правящей династии, имел покои во дворце. Сменхкара нахмурил брови и вопросительно посмотрел на Аа-Седхема, который беспристрастно добавил:
— Речь идет о господине Ае.
Старый шакал не смог оставаться в стороне от дел царства, особенно в такой ответственный момент, как назначение нового царя и выбор места его коронации. Оставалось узнать, каковы были его намерения теперь, когда в Царском совете он остался в меньшинстве.
— Я хочу, чтобы мне сообщали о каждом его шаге, — заявил встревоженный Сменхкара.
— Он сейчас во Дворце царевен, — поспешил сообщить Аа-Седхем, предугадав решение своего повелителя.
Сменхкара кивнул, встал и начал совершать омовение, чтобы как можно раньше попасть в свой кабинет. Тхуту в спешке прибежал туда — ему уже сообщили о прибытии Ая.
— Мы его заставим отказаться от царских апартаментов, божественный повелитель?
— Конечно нет. Он — отец умершей царицы и дед будущей царицы, — ответил Сменхкара. — Собери Царский совет, Ая следует исключить из него. Пусть это будет сделано до конца дня.
Открытый конфликт ничего хорошего не мог принести. Следовало вырвать когти у старого шакала.
Перед тем как встретиться с дедом, Меритатон придала своему лицу одно из любимых выражений матери — одновременно приветливое, высокомерное и огорченное. Она приказала поставить на террасе одно напротив другого два кресла, подальше от нескромных ушей.
Ее встречи с Аем были эпизодическими, а взаимоотношения поверхностными, так же как и у ее сестер. Все сводилось к банальным визитам вежливости во время праздников и траура. При этом трем возможным царицам вручались подходящие случаю подарки, например, одинаковые серьги, горшочки с нардом, зеркала. Но никогда не было личных встреч и ни малейшего намека на отеческую нежность.
А после ужасного признания Пентью она одна знала, что сделал Ай, — это он организовал отравление Эхнатона. А такие поступки отнюдь не способствуют возникновению и укреплению привязанности.
Он прибыл в сопровождении двух носильщиков опахал. Это была царская привилегия, но пока никто не осмелился ее оспорить. Ай остановился у дверей вместе со своим секретарем и двумя вооруженными охранниками.
— Девочка моя! — произнес он, обняв будущую царицу за плечи, когда они уже вышли на террасу. — Моя печаль безгранична. К моим страданиям добавляется еще и осознание того, что тебе приходится переживать в эти ужасные дни.
«Семнадцать дней испытывать удвоенную печаль! Это, пожалуй, многовато», — подумала Меритатон, которой была понятна цель визита ее деда. Она пригласила его сесть.
— Мой любимый дедушка, твое сострадание — как чудодейственный бальзам!
— Это забота о нашем будущем заставила меня покинуть свое убежище в Ахмине, — продолжил Ай, беря руки Меритатон в свои. — О, как же страдает душа твоей матери-царицы оттого, что ты выходишь замуж за такого недостойного человека!
Она чуть заметно вскинула брови. Он что, пришел, чтобы помешать их браку? Что же он может предложить взамен? Целая гамма противоречивых чувств и мыслей нахлынула на нее и стала кружиться, как скопления травы и корней на Великой Реке во время паводка. Но даже сила потока не способна разорвать эти ничтожные переплетения трав, и после беспорядочных кружений их прибивает к прибрежным зарослям.
— И чем же он недостоин? — спокойно спросила она.
— Мерит! — воскликнул он взволнованно. — Этот человек — опасный интриган! Убийца! Он отравил твою мать, я знаю это! Вдобавок ко всем своим преступлениям он собирается беспрекословно подчиниться требованиям жрецов, которых отвергал твой отец. Он намеревается сделать центром царства Фивы! Ахетатон опустеет из-за него! Он хочет отказаться от культа Атона! Неужели тебе не ясны его намерения?
Меритатон смотрела на него, не говоря ни слова, как если бы она размышляла о том, что он сказал. На самом деле она пыталась разгадать планы своего деда. Верил ли он, что ему удастся обмануть ее, обвиняя Сменхкару? Она не спешила открывать ему то, что услышала от Пентью; это лишь подвергло бы ее собственную жизнь опасности. У нее закружилась голова: в каком же змеином гнезде ей приходилось сражаться! Опасаться быть отравленной или убитой своим собственным дедом!
— Я знаю, у тебя благородная душа, девочка моя, ты достойная дочь своей матери. Ты не можешь представить черноту души Сменхкары. Но я пришел открыть тебе глаза. На тебе лежит огромная ответственность за царство, ты наследница своего отца, и власть принадлежит тебе в силу твоей благородной крови.
— Ты действительно думаешь, что он отравил мою мать?
— Я знаю это! — резко ответил Ай.
Меритатон еле сдерживалась. Вот уже много дней она испытывала страшную усталость от людей. Но это не относилось к Неферхеру.
— И что ты предлагаешь? — спросила она, внешне все еще оставаясь спокойной.
— Откажись выходить за него замуж! По тем причинам, о которых я сказал. Я смогу убедить Царский совет лишить его права наследования трона.
Он принимает ее за дурочку? Уже ничего нельзя было повернуть назад. Меритатон знала, каков состав Совета, и удивлялась, почему Сменхкара до сих пор не выгнал интригана.
— Но кто тогда будет преемником моего отца?
Ай пристально смотрел на нее. Его глаза пылали огнем.
— Разве ты не понимаешь, девочка моя? Нужен опытный человек, человек, действительно обладающий властью.
Так вот оно что — он сам хотел заполучить трон.
— Кого ты предлагаешь? — спросила она.
— А ты как думаешь?
— Себя?
Ай согласно кивнул.
— Себя.
Он снова взял ее за руки.
— Это единственный способ сохранить наследство твоего отца!
— Царство, которое он нам оставил, находится в довольно плачевном состоянии.
— Вот именно! Последние несколько лет власть была в грязных руках этого негодяя, который заявляет, что он наследник Эхнатона. Сменхкара только ускорит крах царства! Ты не можешь позволить ему сделать это!
Значит, она должна выйти замуж за своего деда для того, чтобы он мог законно наследовать трон. Ай ждал ответа; она не торопилась, выжидала.
— Но все равно необходимо найти общий язык со жрецами…
— Да, но не идти у них на поводу. Только сильный человек сможет добиться примирения и сделать это так, чтобы это не казалось трусливой уступкой.
Она с огромным трудом продолжала играть свою роль. Меритатон снова вспомнила признания Пентью в царском кабинете: Сменхкара был невиновен в преступлениях, в которых его обвинял Ай. Неужели она позволит, чтобы этот беззлобный молодой человек пал жертвой махинаций старика, сходящего с ума по власти? И для чего? Священнослужители и армия в любом случае окажутся в выигрыше. Ай был бы вынужден, так же как и Сменхкара, отказаться от культа Атона и оставить Ахетатон.
Но, в отличие от Ая, Сменхкара был невиновен.
На террасе появилась Макетатон, узнавшая о беседе своей сестры с дедом. Меритатон быстро сказала ей, что они увидятся позже.
— Надо действовать быстро! — повелительным тоном заявил Ай. — Ты должна сегодня же принять решение. А после этого Царский совет будет у меня в руках.
— Мне надо подумать, — уклончиво ответила Меритатон.
— Нет! — воскликнул Ай. — Я хочу, чтобы ты решила немедленно!
Выходит, что только она была в состоянии остановить ужасное колесо войны, которое запустил Ай.
— Отец, я считаю, что ты ошибаешься, считая Сменхкару преступником, — сказала Меритатон, глядя прямо в глаза своему деду.
— Что? — он был ошеломлен. — Ты сомневаешься в моих словах?
— Я собственными ушами слышала рассказ Пентью о заговорах, которые привели к отравлению моих отца и матери! — громко заявила она. — Это ты отравил моего отца!
— Что ты такое говоришь?
Он смотрел на нее с открывшимся от удивления и испуга ртом. Как шакал, готовящийся проглотить кролика и обнаруживший вдруг за спиной своей добычи кобру.
— Именно то, что ты только что услышал, — твердо сказала Меритатон. Ее лицо было искажено гневом.
— Ложь! — крикнул он. — Ты все придумала! Ты одержима Апопом! Ты не можешь это доказать! Пентью умер!
Значит, он не знал о воскрешении бывшего лекаря.
— Нет! — резко выдохнула она. — Пентью не умер.
Он недоверчиво смотрел на нее. Самый опасный свидетель его преступлений жив? Стена молчания выросла между старым честолюбивым вельможей и его внучкой.
— Но ведь Сменхкара отравил его! — воскликнул Ай.
— Нет, — возразила Меритатон. Теперь у нее был взгляд, как у Нехбут, богини-ястреба, чья голова возвышалась на всех коронах всех египетских фараонов. — Они пили один и тот же напиток. Хочешь, я попрошу его прийти, чтобы ты увидел его своими глазами?
Ай резко встал и покинул террасу. Носильщики опахал, ожидавшие его у дверей, поспешили за ним.
Меритатон осталась одна. Она сидела на террасе и смотрела на Великую Реку и рыбацкую лодку, которая неторопливо скользила по ней. В небе кружили коршуны.
Теперь Ай знал, что внучка была в курсе его преступных деяний. Он навсегда стал ее врагом.
Немного позже Уадх Менех попросил Меритатон о встрече. Он был растерян.
— Что же произошло, госпожа? Твой дед ушел в неописуемом гневе. Я хотел ему вручить вот этот рескрипт, но он прогнал меня, словно слугу, — обиженно произнес он.
— Где он?
— Он сел на носилки и отправился к своему кораблю.
Она кивнула и взяла рескрипт из рук Уадха Менеха, достала его из футляра и прочитала. Только сейчас она все поняла.
— Отнеси это на корабль, — приказала она. — Нет, пусть это сделает простой писарь.
Уадх Менех вытаращил глаза при мысли о таком оскорблении.
— Мой дед больше не является членом Царского совета, — объяснила она.
Уадх Менех стоял, выпятив нижнюю губу, и, казалось, не понимал, что она ему говорила.
Утомленная царевна медленно встала и в сопровождении своей главной служанки отправилась в Царский дом, чтобы рассказать Сменхкаре о, без сомнения, последнем разговоре со своим дедом.
Архивные документы
Совещание жрецов закончилось раньше, чем ожидалось: на четвертый день, ближе к вечеру они назначили трех делегатов для представления своих решений августейшему принцу Сменхкаре: это были Хумос, Нефертеп и Панезий. Их решения были сформулированы в трех пунктах петиции, которые были торжественно озвучены Панезием в царском кабинете в присутствии Тхуту, Майи, Нахтмина, Аа-Седхема и Уадха Менеха. Хоремхеба найти не смогли.
Из первого пункта следовало, что великие жрецы искренне рады восшествию принца на трон его брата, молились и совершали жертвенные возлияния богам за процветание царствования Эхнеферура, возлюбленного Неферхеперура, выбор божественного имени которого являлся счастливым предзнаменованием.
Во втором пункте выражались их пожелания, чтобы церемонии царского бракосочетания и коронации состоялись в столице царства — Фивах, согласно древней традиции.
Третий пункт касался доли жрецов от военной добычи. Почтенные священнослужители хотели, чтобы их часть составляла Десятую долю от общей добычи.
Кроме того, не могло быть и речи о строительстве храма Атона в Мемфисе и храма Амона в Ахетатоне.
Панезий отвесил глубокий поклон Сменхкаре и вручил свиток Тхуту, который, в свою очередь, передал его Сменхкаре. Будущий царь пробежал глазами написанное и отдал свиток Первому писарю.
Молчаливый и нахмуренный Тутанхатон ловил каждое слово.
Первый слуга Атона, таким образом, выполнил свою миссию: в обмен на коронацию в Фивах Ахетатон оставался неприкосновенным, ни о какой постройке храма Амона в этом городе не могло быть и речи. Здесь властвовал Атон: можно было стереть его изображение с царского знамени, но он все равно оставался единственным богом.
Лица всех присутствующих выражали удовлетворение.
Но ни у какой мумии в мире не было таких остекленевших, ничего не выражающих глаз, какие в этот момент были у Сменхкары, несмотря на его улыбку. Он усиленно избегал смотреть в глаза Хумосу и Нефертепу, двум отравителям Эхнатона. И Нефертити.
Раздался его замогильный голос. Сменхкара заявил, что его сердце также радуется решениям верховных жрецов царства, но что третий пункт должны обсудить делегаты от священнослужителей с Казначеем и Царским советником Майей.
Три верховных жреца снова поклонились. Тхуту объявил, что согласно воле принца церемонии состоятся в Фивах через восемь дней; главным будет Хумос. Это был для него настоящий реванш, он просто сиял. Верховные жрецы удалились, чтобы присоединиться к своим соратникам.
В этот же вечер Панезий организовал банкет в честь сорока двух верховных жрецов. Он обходился без писаря, который должен был доложить Сменхкаре об окончательном решении: оно было нелегким. Нефертеп просил разрушить храм Атона в своем городе и построить храм Пта в Ахетатоне. Панезий считал, что эти два требования не так уж важны ввиду большой победы, которую они одержали, обязав принца короноваться в Фивах. В конце концов Хумос согласился с этим доводом: главным было то, что трон возвращался под покровительство Амона.
Сменхкара продиктовал для Меритатон краткое содержание этих договоренностей, а затем пригласил Тхуту, Майю, Аа-Седхема и Уадха Менеха на ужин. Главный распорядитель казался таким же растерянным, как и его господин, но ему не удавалось это скрывать.
Во время десерта Тутанхатон, который сидел по правую руку от своего брата, наклонился к нему и спросил вполголоса:
— Кто выиграл? Они или мы?
— Наверняка они. Но в конечном счете и мы тоже.
— Значит, наш брат ошибался?
— Нет. Это я ошибался, поддерживая его.
— Почему?
— Потому что главное — это сохранить трон.
Юный принц задумался над этими противоречивыми словами, потом обнял своего брата и дал знак Первому слуге, что хочет уйти. День был изматывающим.
Сменхкара также ушел рано. Аа-Седхем присоединился к нему.
— Я устал.
— Но ведь все повернулось к лучшему, мой царь, — заметил Аа-Седхем. — Панезию удались переговоры. Ай потерпел поражение благодаря Меритатон, которая отныне принадлежит тебе. Твоя корона засияет на Двух Землях. После этих бурь солнце будет освещать твое царствование тысячи тысяч лет.
— Аа-Седхем, о каком триумфе может идти речь, если выигравшего возводит на престол убийца его брата?
Лекарь молчал.
— Видел ли ты то, что видел я? — снова начал Сменхкара. — Видел ли ты банду убийц, собравшихся у меня в кабинете? Помимо Хумоса и Нефертепа, отравивших царя и собиравшихся то же самое сделать со мной, там были их сообщники Майя и Тхуту, которые отправили на тот свет Нефертити, а теперь только и ждут возможности добраться до меня! В этом сборище убийц не хватало только Пентью!
— Пентью? — удивился Аа-Седхем, так как его господин ничего не рассказал об откровениях бывшего царского лекаря.
— Он был с ними заодно, — уклончиво сказал Сменхкара. — И он снова станет их сообщником, как только представится такая возможность.
— О мой царь и повелитель, мой возлюбленный, огонь победы очистит тебя от этого бесчестья.
Но Сменхкара оставался все таким же хмурым. Он был полон подозрений насчет Тхуту. Править царством с двуличным советником ему казалось хуже самоубийства. Он не прекращал говорить себе: поразительная преданность Тхуту, которую он проявлял во время его короткой опалы, объяснялась тем, что он знал о преступном заговоре. Тут же он принялся вслух возражать сам себе:
— Если бы он сообщал моему брату о докладах, которые получал! Если бы только он предупреждал об этом меня, когда я был регентом, ничего бы не случилось! Мой брат был бы жив! И нам не нужно было бы покидать Ахетатон. И я не должен был бы договариваться с отравителями и подлыми жрецами.
Аа-Седхем пораженно наблюдал за этим неистовым приступом подозрительности.
— Мой царь, мой господин, спокойная вода является более правдивым зеркалом, чем вода, потревоженная ветрами страсти.
— Почему возвратился Ай? — резко воскликнул Сменхкара, как будто не слышал увещеваний Аа-Седхема. — Вот уже три недели, как он ходит каждый день в Северный дворец, чтобы якобы наблюдать за подготовкой к погребению дочери. Там он принимает каких-то людей. Он готовит удар! Я тебе точно говорю! Наверняка Ай попытается сделать Тхуту своим союзником теперь, когда он стал моим советником. Я должен избавиться от Тхуту! Я должен представить ему доказательство нарушения его служебного долга.
Лекарь сделал очевидный вывод: яд гнева и подозрения отравлял будущего царя. Унижения тоже могут застать врасплох.
— Мой господин! — вскричал Аа-Седхем. — Тхуту будет необходим тебе, когда ты станешь царствовать! Не создавай себе еще одного врага, только если ты не намерен убить его!
Сменхкара молчал.
— Ни в коем случае, мой повелитель, — продолжал Аа-Седхем, — ты не должен обнаруживать свои подозрения. Не надо ничего ему доказывать. Прикажи убить его, пока он не переметнулся на сторону врагов и не ужалил тебя подобно скорпиону. Но время еще не пришло.
Взгляд Сменхкары был почти безумным.
— Сначала мне нужны доказательства, — настаивал он. — Я хочу его запутать. Отведи меня в Архив. Знаешь ли ты, где находятся доклады, которые он перехватил?
— Знаю. Но не можем же мы пойти туда ночью…
— Можем, — возразил Сменхкара. — Я знаю, как незамеченными добраться до зала Архивов.
— И как же? — спросил ошеломленный Аа-Седхем.
— Следуй за мной.
Сменхкара открыл сундучок из эбенового дерева, который стоял на низком столике, выбрал из большого количества ключей один, схватил лампу и, мягко шагая, подошел к двери. На лестнице храпели стражники. Волчьей поступью они вдвоем спустились по лестнице.
Аа-Седхем пытался скрывать свое удивление. Они шли по темным и пустынным помещениям Царского дома по пути, известному только проводнику. Им в ноздри ударил запах соусов и холодного мяса — они оказались в кухне, пустынной в этот час. Сменхкара пересек два зала, обогнул в третьем говяжью тушу, которая свисала с крюка, и направился к нише в стене. Ниша была высотой меньше человеческого роста. При свете лампы, которую держал Аа-Седхем, Сменхкара отодвинул кучу горшков, стоявших в глубине ниши, и вставил ключ в замок. Он несколько раз повернул ключ в замочной скважине, и с ужасным скрипом дверь поддалась. Они открыли ее. Она вела на лестницу, куда без колебаний направился Сменхкара. Очевидно, эти места ему были хорошо знакомы. Лекарь шел за ним.
Сандалии скользили по пыльным ступеням. Двое мужчин дошли До подземного коридора, который уходил в темноту и вправо, и влево. Крысы разбегались, испуганные светом и присутствием людей. Сменхкара поднял лампу, чтобы осветить гипсовую стену, которую не заметил Аа-Седхем. Теперь стали видны письмена. Это был план с указаниями, написанными торопливым почерком. Сменхкара ткнул пальцем в какую-то точку, наклонился, что-то разглядывая, затем пошел направо. Глотая слюну, Аа-Седхем поглаживал кинжал, который носил на поясе. Но если перед ними окажется черная заостренная морда Анубиса, что сможет сделать кинжал?
Они медленно продвигались по коридору. Как казалось лекарю, они шли бесконечно долго. Время от времени они проходили мимо дверей в стенах туннеля. Аа-Седхем заметил пометки над дверями, сделанные все тем же торопливым почерком. Он даже прочитал одну: «Дворец Атона». Вскоре Сменхкара остановился перед дверью и открыл ее.
— Вот мы и пришли.
Они взобрались по лестнице и проникли в просторный зал. Несмотря на кромешную тьму, царящую вокруг, Аа-Седхем узнал зал Архивов.
— Знаешь ли ты, в какой комнате хранятся доклады?
— Я полагаю, что в четвертой, в которой находятся документы времен царствования, если только их не переложили в другое место.
Они миновали три двери и открыли четвертую.
Вдруг Сменхкара повернулся к Аа-Седхему и ошеломленно посмотрел на него. Он услышал стоны. Сменхкара приложил палец к губам.
Звуки доносились из соседней комнаты. Сменхкара приблизился к двери, нащупал ручку и резко потянул ее на себя.
На циновке на полу обнаженный мужчина занимался любовью с обнаженной женщиной. Ни Сменхкара, ни Аа-Седхем не знали этого мужчину, который с ужасом смотрел на них.
Женщина вскрикнула и выскользнула из его объятий. Теперь она смотрела на чужаков.
Это была Меритатон.
Казалось, прошла целая вечность.
Меритатон встала, надела платье и сандалии, сохраняя бесстрастное выражение лица. Неферхеру надел свою набедренную повязку.
Неферхеру и Аа-Седхем посмотрели друг на друга: оба были писарями, об этом свидетельствовали их бритые головы.
— Вот другие документы архивов, — произнес Сменхкара.
— Иди за мной, — сказала Меритатон Неферхеру.
Она уже была у двери, когда Сменхкара спросил у нее:
— Кто же он, божественная царевна?
Она взглянула на него, но ничего не ответила и вышла, сопровождаемая своим любовником, который держал лампу.
Сменхкара и Аа-Седхем остались одни.
— Давай все-таки разыщем эти документы, — сказал Сменхкара, как будто ничего не произошло.
Погребальный скандал
Пасар заснул поздно, после того как верховные жрецы отправились спать и слуги убрали столы и подмели зал. Он мало что слышал — много людей говорили одновременно. Уже в конце ужина он кое-что разобрал. Чей-то голос в Зале для посетителей произнес:
— В любом случае, он не доживет до старости, и у него нет сил противостоять ни этому крокодилу Аю, ни бегемоту Хоремхебу.
Послышался шум.
— Ай мне поклялся, что сдерет с него кожу…
Комнатка для белья была потаенным местом. Пасар жестоко страдал, не имея возможности увидеться с Анхесенпаатон. Он был занят тем, что шпионил за могущественными людьми, представлявшими злые силы, которые угрожали его хрупкому счастью. Пасар вспомнил, как Анхесенпаатон говорила, что уедет в Фивы, чтобы «понравиться верховным жрецам». Не будет больше прогулок на лодке. Вечное одиночество!
На рассвете он проснулся, вышел в сад, весь наполненный ароматами резеды, и отправился спать, расстроенный тем, что не услышал ничего интересного для царевен. Но все-таки он был обязан рассказать то, что услышал. В полдень, когда солнце пылало на золотом шпиле во дворе Царского дворца и как только закончились уроки письменности, он отправился к хорошо ему знакомым садам.
Там его ждала Анхесенпаатон, держа в руках корзину винограда и лепешки.
Сняв кожуру с золотистого плода манго, подарка высокопоставленного чиновника из Буэна, который передал кораблем целую корзину этих фруктов, Меритатон откусила от ароматной и сочной мякоти.
«Грудь кормилицы», — подумал Сменхкара, глядя на плод в руках своей будущей супруги.
Сок стекал по пальцам и подбородку Меритатон, она улыбаясь смотрела на Сменхкару, затем предложила ему угоститься фруктами, лежащими в алебастровой чаше на столе.
Сменхкара был озадачен. Когда он попросил свидания с царевной, он ожидал увидеть ее огорченной, даже раскаивающейся, а на самом деле не только лицо Меритатон выражало полнейшее удовлетворение, но и ее поведение было самым обычным.
— Ты нашел документы, которые искал? — спросила она, после того как вымыла пальцы и лицо в чаше, которую ей протянула служанка, и вытерлась куском тонкого полотна.
— Кто был этот человек?
— Почему я должна называть тебе его имя?
Он осознавал свое бессилие: по какому праву он требует признания?
— Каждый ест плоды, которые он хочет, — добавила она, снова улыбнувшись.
Он тут же предположил, что паутина сплетен, которая плотно опутывала весь дворец, выявила наличие нового фаворита в лице Аа-Седхема.
— Возможно, нужно будет присвоить ему более высокий ранг, — предположил Сменхкара.
Меритатон не так легко было обмануть — Сменхкара хотел знать имя ее любовника.
— Это произойдет, если он будет официально направлен в Фи вы следом за нами.
Он задумался над этим предложением.
— Это писарь.
— Это же очевидно!
— Мы можем его назначить Хранителем духов царицы.
— Над этим стоит подумать. Не всем же быть членами Царского совета.
Такое коварство вызвало у него еле уловимую улыбку.
— Значит, ты бы хотела сделать его членом Царского совета?
— Я не думаю, что у него достаточно знаний для этого.
Второе коварное замечание имело более глубокий смысл. Сменхкара невольно задумался: а был ли Аа-Седхем достаточно образован для того, чтобы принимать участие в решениях Царского совета? Не ослепило ли его желание ощущать рядом присутствие кого-то близкого, заседая в Царском совете?
Сменхкара вдруг осознал, что Меритатон рассуждает здраво. Продвижение Аа-Седхема было связано лишь с их тайными отношениями, но теперь этот человек имел чрезмерную власть. К счастью, до сих пор он давал только хорошие советы, по крайней мере, Сменхкаре так казалось.
— Скажи мне, когда захочешь присвоить ему титул Хранителя духов царицы.
Она согласно кивнула и посмотрела Сменхкаре в глаза.
— Нам нет смысла противоборствовать. Это сделает нас более слабыми, а мы и так недостаточно защищены, намного хуже, чем мои родители. Мою мать поддерживал дед Ай, и она использовала его поддержку, чтобы усилить позиции отца. По крайней мере, так было в первые годы их брака.
— Вот почему я хотел снова помириться со жрецами.
— Но жрецы не поддержат тебя, если возникнет конфликт. Пасар мало что слышал этой ночью, потому что все говорили в один голос. Но кое-что по поводу тебя он все-таки разобрал: «В любом случае он не доживет до старости, и у него нет сил противостоять ни этому крокодилу Аю, ни бегемоту Хоремхебу».
Сердце Сменхкары учащенно забилось. Вот, значит, как о нем говорили!
— Действительно, ведь Ай теперь настроен против тебя. И против меня.
Сменхкара сглотнул.
— Ты все-таки его внучка.
— Я открылась ему, сообщила все, что знаю про него. Теперь он, не колеблясь, уберет меня со своего пути ради достижения собственных целей.
— Ради трона?
Меритатон кивнула.
Он взял ее за руки.
— Нет, я ничему и никому не позволю встать между нами. Пусть твой Хранитель духов остается с тобой.
— У нас должны родиться дети, — сказала она. — И как можно скорее.
Сменхкара часто заморгал.
— По линии моего отца рождаются только девочки, — продолжала развивать свою мысль Меритатон.
У Сменхкары участилось сердцебиение. Они замолчали. До террасы донеслось рычание львов из зверинца.
— Ты беременна?
— Я должна буду забеременеть. Это нужно нам обоим.
Сменхкара резко выдохнул. Провел рукой по подбородку.
— Твой разум постоянно настороже, — наконец сказал он.
А он считал себя бдительным и осторожным! По сравнению с Меритатон он словно спал. Она даже свои удовольствия и материнские чувства подчиняла интересам династии.
— Как горько вино этих дней! — произнесла она.
«И ядовито», — подумал Сменхкара.
— Завтра мою мать доставят в горы, к ее супругу, — сказала Меритатон, положив свою руку на руку Сменхкары. — Постарайся облегчить мне это испытание.
Сменхкара согласно кивнул.
Внизу, в саду, Пасар запустил бумажного змея, напоминающего формой ястреба. Он доверил веревочку Анхесенпаатон. Двое детей смотрели на этого Хоруса из тростника и папируса, развевающегося под легким ветром, дующим с Великой Реки. Сменхкара и Меритатон тоже смотрели на него — сверху, как боги.
Процессия и охрана покинули Северный дворец утром, в восьмом часу, для того чтобы избежать задержек, как было на последнем погребении. Впереди, сразу за паланкином с саркофагом, шли Панезий и сопровождающие его жрецы. Семь всадников следовали друг за другом: Сменхкара, Ай, Тутанхатон, Хоремхеб, Тхуту, Майя и Аа-Седхем, распорядитель погребальной церемонии. Они двигались в сопровождении отряда царской стражи, который возглавляли Нахтмин и начальник отряда. Носильщики опахал и стражники шли за ними. Примерно сто плакальщиц находились между головой процессии и носилками царевен и Мутнезмут. Затем шли высокопоставленные чиновники. Они выстроились согласно занимаемому положению. В первом ряду шел Пентью. Загробное имущество везли на двенадцати тележках. Еще один отряд царской охраны замыкал процессию длиной в несколько сотен локтей. Две или три сотни людей, главным образом мужчины, составляли вторую процессию; среди них находились Неферхеру и Пасар, но они не были знакомы друг с другом. Неферхеру удивился, увидев в толпе единственного маленького мальчика, не считая нескольких юных писарей.
К месту назначения, к подножию красных гор, прибыли чуть раньше полудня. Как только миновали ограду царских гробниц, которую охраняла небольшая группа воинов, Сменхкара, царевны и Мутнезмут покинули носилки. По приказу распорядителя церемонии плакальщицы на время прекратили рыдать, чтобы можно было услышать очищающие молитвы Панезия.
Перед храмом Атона ждали жрецы, которые там жили. Они поднялись на рассвете.
Погребальный паланкин направился к ним. Его пронесли в храм между двумя статуями Атона, которые венчали портик.
По знаку Аа-Седхема десять носильщиков взяли саркофаг и поднялись с ним по ступеням, которые вели в большой зал храма, и опустили его на пьедестал. Двадцать четыре жреца расположились друг возле друга: они символизировали двенадцать дневных часов и столько же часов ночных. Служитель Ка находился среди них, у подножия саркофага.
Должны были вот-вот приступить к обрядам очищения.
Панезий повернулся лицом сначала к присутствующим, потом к саркофагу.
— Радуйся, властелин Двух Земель! Атон явился в этот мир, начинается рассвет твоей вечной жизни…
Сменхкара вскинул брови. Так обращались к царю, а Нефертити была только регентшей. Что это за уловки придумал Панезий? Почему он обращается к ней, как если бы она была мужчиной? Он окинул взглядом присутствующих и не смог понять выражений лиц ни Меритатон, ни Тхуту, ни других. Впрочем, все пребывали в замешательстве из-за того, что Меритатон и Сменхкара стояли рядом со своим злейшим врагом Аем. Тот бросал убийственные взгляды на Пентью, который имел наглость выжить. Ай также старался не смотреть на своего ближайшего соседа, еще одного предателя — Хоремхеба, его собственного зятя. Меритатон еле сдерживала себя, чтобы не плюнуть в лицо Пентью, убийце ее матери, а Пентью бросал враждебные взгляды на стоящего рядом с будущим царем своего преемника Аа-Седхема.
Писарь принес вазу, заполненную содой, часть которой он переложил в алебастровый кубок, чтобы поджечь ее. Раздался голос Панезия:
— Твоя сода — сода Атона, и наоборот, — говорил он в едком дыму, который раздувал ветер восточной пустыни. — Ты вознесешься к нему, твоему брату Атону. Ты чиста, ты чиста…
Это были молитвы погребального ритуала, обычные в Двух Землях, с той лишь разницей, что все имена богов были заменены на имя единственного бога Атона. Двое жрецов принесли вазы с камедью и фимиамом и сделали с ними то же самое, что и с содой. Благоухающие дымы стали стелиться над пустыней.
— Твои очищения — очищения Атона, и наоборот. Твой рот — рот молочного теленка в день, когда мать производит его на свет. Чист, чист Атон, властелин Ахетатона…
Тутанхатон догадывался, что он в последний раз присутствует на похоронах, проводимых согласно ритуалу культа Атона.
— Аромат, аромат благовоний заполняет твой рот, ты пробуешь его на вкус, глава божественного зала, о Атон…
Наконец Панезий погрузил кропило в чашу с ароматизированной водой и обрызгал ею саркофаг. Чтение молитв завершилось.
Аа-Седхем снова подал знак, и носильщики приблизились к саркофагу и окружили его, собираясь поднять, вынести из храма и отнести к гробнице. Когда они вышли наружу, толпа колыхнулась, все двинулись за саркофагом и писарями.
Когда Сменхкара и распорядители погребального ритуала подошли к гробнице, саркофаг уже был поставлен на низкий стол перед входом.
Строительный мусор устилал пол; было видно, что под самой кровлей внешняя стена повреждена. Внутренняя стена наверняка тоже была повреждена. Сменхкара был удивлен этим. Он спросил у Аа-Седхема, почему Нефертити не могут положить в другом склепе, ведь их было еще семь.
— Ее отец попросил Панезия, чтобы Нефертити покоилась возле своего супруга.
Это было благим намерением, но создавало трудности при погребении.
— А там достаточно места?
— Ай заставил увеличить гробницу, — прошептал Аа-Седхем.
— За чей счет?
— За свой.
Сменхкара не мог протестовать. Он совершенно не интересовался приготовлениями к похоронам: ни мумификацией, ни местом погребения Нефертити, — так как в храме Атона главным был Панезий. Но было недопустимо то, что Ай сам занялся подготовкой к погребению персоны царского рода, не спросив разрешения у представителей этого самого рода.
Наверху жрецы, которые образовывали до этих пор плотный полукруг, разошлись, и саркофаг предстал перед собравшимися во всей красе.
Меритатон оцепенела. У нее создалось впечатление, что ее саму мумифицировали. Она не могла отвести взгляда от роскошного, покрытого позолотой саркофага, который скрывал останки ее матери.
Все были поражены этим зрелищем, за исключением Ая, потому что все, кроме него, видели саркофаг в первый раз. Уадх Менех схватился за сердце.
На лбу маски Нефертити красовались изображения голов грифа и кобры, символов царской власти в Двух Землях, а также были изображены скрещенные руки, держащие скипетр и цеп. Подбородок был украшен заплетенной в косу бородой — еще одним символом царской власти.
Это был саркофаг царя, хотя Нефертити была только регентшей.
Скандал был невообразимым.
Тутанхатон поднял глаза на своего брата. Сменхкара бросил возмущенный взгляд на Аа-Седхема, который стоял с раскрытым ртом. Очевидно, он также не видел саркофага до этого момента. Он приказал жрецам остановиться. Возмущенный Ай резко повернулся к нему. Подскочил Панезий. Ход ритуала был нарушен. Взбешенный Сменхкара смотрел на Ая, который, в свою очередь, сверлил его горящим от ненависти взглядом шакала.
Мутнезмут еле слышно вскрикнула, этот крик был больше похож на икоту.
— Что происходит? — тихо спросила Анхесенпаатон у Меритатон.
Меритатон сжала ее руку, заставляя замолчать.
Растерявшийся Аа-Седхем вопросительно смотрел на Сменхкару. Каждое мгновение было тяжелее свинца. Невозможно было наложить запрет на погребение саркофага в гробнице. Это считалось кощунством из кощунств. И ничего не решало.
Меритатон подошла к Сменхкаре.
— Позволь поместить саркофаг в склеп, — выдохнула она ему в ухо.
После их последнего разговора он был уверен, что она его союзник. Возможно, единственный в мире. Сменхкара повернулся к Аа-Седхему и коротко приказал продолжить церемонию. Носильщики подняли саркофаг и, сдерживаясь, чтобы не вскрикивать от невыносимой тяжести, направились ко входу в гробницу. Панезий и шестеро жрецов шли за ними, их было плохо видно в клубах благовонного дыма.
Проход, по которому несли саркофаг в погребальную камеру, казался нескончаемым. Но вот наконец Нефертити присоединилась к своему супругу в глубинах горы. Носильщики загробного имущества принялись размещать ложа, кресла, сундуки, деревянные статуи служанок и слуг, вазы, приношения, пищу — на тот случай, если умершая захочет утолить голод. Аа-Седхем вошел в комнату, чтобы проследить за размещением загробного имущества, и понял, что, несмотря на расширение гробницы Аем, места было явно недостаточно: загробным имуществом Эхнатона и его супруги можно было обставить небольшой дворец. Огромный саркофаг из розового гранита, точно такой, как у Эхнатона, только с другими письменами, стоял рядом с саркофагом усопшего царя. Он был открыт в ожидании, когда в него положат мумию царицы и закроют каменной крышкой. Носильщики и жрецы теснились на остававшемся свободном пространстве, чуть ли не наступая друг на друга.
Аа-Седхем, рассматривая новую гробницу, радовался тому, что Сменхкара не вошел внутрь: на стене, возле которой стоял саркофаг, была фреска, изображающая Анубиса, который передавал ключ жизни умершей, одетой в белое платье, увенчанной триадой и с бородой. Ай потратил целое состояние на эту мистификацию.
Меритатон взяла из рук служанки горшок с землей с берегов Великой Реки и вклинилась в толпу. Она ощущала удары ног плотно стоявших людей, ее окутал резкий запах пота, смешавшийся с ароматом благовоний. Она проскользнула к саркофагу и поставила свое приношение на ближайший стол. Зерна пшеницы, находящиеся в горшке, прорастут в следующем сезоне. Это было символом возрождения умершей для вечной жизни. Сестры последовали примеру Меритатон. Анхесенпаатон положила на маску венок из роз и жасмина, он зацепился за голову кобры. Царевны должны были покинуть гробницу, чтобы позволить носильщикам поставить огромный деревянный саркофаг в гранитный.
Ай прощался последним. Он положил букет лотосов рядом с той, которую он уже после смерти сделал царицей.
Выйдя наружу, Меритатон увидела, что Сменхкара разговаривает с Аа-Седхемом. О чем они говорили, она узнала позднее. На обратном пути царские охранники оттеснили Ая от членов царской семьи.
Он ехал верхом совсем один, позади плакальщиц, что не соответствовало его рангу.
Пощечина
Как только Сменхкара возвратился во дворец, разразилась гроза.
Он созвал всех: Тхуту, Аа-Седхема, Майю, Уадха Менеха, Пентью. Хоремхеб и его жена вернулись в свой дом в Ахетатоне.
Тутанхатон, Меритатон и Макетатон тоже явились на собрание. Другие царевны, в том числе и крайне расстроенная Анхесенпаатон, отправились во дворец, потому что было уже поздно. Собравшимся пришлось ощутить на себе вспышку царского гнева.
— Возможно ли, — воскликнул Сменхкара, — чтобы никто из вас ничего не знал об этом безумном и бессмысленном заговоре? Возможно ли, что мастера совершали эту мистификацию в течение многих недель, и никто из вас не замечал этого?
— Это возможно, мой царь, — ответил советник Тхуту, — и твои слова справедливы. Речь действительно идет о заговоре. Позавчера вместе с Аа-Седхемом я ходил в Северный дворец, чтобы узнать о ходе работ, но мог видеть только два первых саркофага. На них не было изображений ни грифа, ни кобры. В руках не было ни цепа, ни скипетра. На их месте были изображения лотоса и ростков пшеницы. И не было бороды. Что касается третьего саркофага, служитель Ка сказал мне, что мастера задержались с выполнением работ и что он будет готов вечером. Знаки царской власти, таким образом, были нанесены после нашего ухода, а может, в последнюю минуту. Мы даже представить не могли, какой перед нами разыграется спектакль. Мы потрясены этим.
Он говорил искренне, а выражение недоумения на лице оцепеневшего при виде саркофага Аа-Седхема не могло быть притворством.
Очевидность была жестокой: Ай тщательно подготовил план мести и поставил всех перед фактом.
Сменхкара сел.
— И у тебя не возникло ни малейшего подозрения, Тхуту?
— Нет, мой царь. Никто из слуг, находившихся в Северном дворце, мне ничего не сообщил. Возможно, они тоже не подозревали, что готовит Ай, потому что вход в зал, где происходило бальзамирование, был для них закрыт. Но я еще проверю это завтра.
— Майя?
— Мой царь, я тщательно проверил все расходы, сведения о которых мне предоставили служитель Ка и глава бальзамировщиков. Там не было никаких упоминаний о символах царской власти. За них заплатил кто-то другой.
Он явно не осмеливался произнести имя Ая.
— Пентью?
Сменхкара обратился к нему впервые после их нелицеприятного разговора.
— Я признаю, что должен был обратить внимание на одно упущение.
— Какое?
— Мне, как хранителю Архива, должны были предоставить тексты фресок из комнаты, которую вскрыл Ай. Я не сомневаюсь, что это были бы тексты, предназначенные для царского саркофага, и я обязательно обратил бы на это внимание. Но я решил, что задержка вызвана спешкой.
Сменхкара кивнул. Оплошность Пентью была простительной. Никто не ожидал такого удара. Но не слишком ли часто этот человек совершал оплошности?
— И все это время Панезий помогал скрывать совершаемое преступление.
— Ему хорошо заплатили за его неоценимые услуги, — четко произнес Тутанхатон.
Все взгляды обратились на маленького принца. Это было
замечание зрелого человека. Сменхкара сдержал улыбку. Его брат был прав: Первый слуга Атона таким образом отыгрался на Сменхкаре. Он считал себя отвергнутым, ведь восстанавливались старые культы. Кроме того, для него было унизительным вести переговоры со жрецами. Поэтому он был доволен возможностью, предоставленной Аем, нанести оскорбление тем, кто одновременно лишил его могущества и использовал для своих целей.
— Желаю, чтобы все, причастные к этому заговору, были сурово наказаны.
— Они будут наказаны, мой царь, — ответил Аа-Седхем. — Кроме одного. Самого главного.
— Так как ремесленникам, которые сделали саркофаги, уже заплатили, — сказал Сменхкара, обращаясь к Майе, — я хочу, чтобы они были изгнаны из Ахетатона.
— Неужели это такое страшное преступление — представить мою мать царицей? — внезапно спросила Макетатон.
Вопрос и высокомерный тон, каким он был задан, произвели эффект, который вызывает падение крупного камня в гущу лягушек, квакающих в пруду. Проницательный разум мог ощутить бурные водовороты в молчании, которое последовало за этим. Сменхкара повернулся к царевне и спокойным тоном произнес:
— Если бы она была царицей, преступно было бы представить ее просто супругой царя. Но обратное тоже преступно.
— Если бы моя мать не умерла, — упорствовала Макетатон, — разве не стала бы она царицей? И разве не отцовская любовь вдохновила моего деда на этот поступок?
Меритатон понимала, что ее сестра повела себя дерзко, но ведь она не знала, что за всем этим крылось. Сменхкара взял себя в руки и ответил все так же спокойно:
— Отцовская любовь — одно из наиболее благородных чувств. Но почитание правды — это высшее чувство. Божественная справедливость стоит выше всего.
У Макетатон задрожали губы. Он уже приготовилась резко ответить Сменхкаре, но, окинув взглядом собравшихся, царевна не ощутила поддержки. Ни одного союзника! Она проглотила свое поражение, попрощалась со Сменхкарой и покинула царский кабинет. Из последних сил держась на ногах, Меритатон попросила Сменхкару отпустить и ее. Он встал и поцеловал ее в щеку.
— Ты хороший советчик, — сказал он и проводил ее до дверей, думая о том, что, несмотря на доброе отношение к нему, она бесстрастно предложила забеременеть от другого.
Было действительно поздно. Сменхкара дал знак Уадху Менеху, и тот распорядился быстро накрыть ужин для всех присутствующих.
Лотосы в бассейне, устроенном в саду, уже давно закрылись, соответственно пути Анубиса.
На следующий день после погребения своей сестры, в четыре часа пополудни Мутнезмут, жена Хоремхеба, пришла с визитом к своей племяннице и будущей царице Меритатон. Две женщины обнялись, поцеловались, а затем поплакали, как того требовали обстоятельства. Потом Меритатон увела тетю в сад. Они сели друг напротив друга в беседке на берегу Великой Реки, где было не так жарко. Две рабыни принесли блюдо с фигами и разрезанный арбуз, а также кувшин с яблочным соком.
— Скажи мне правду, — потребовала Мутнезмут, схватив свою племянницу за правую руку и с силой сжимая ее. — Мою сестру отравили?
— Отравили? Какое ужасное подозрение! Кто тебе сказал такое? И как я могу знать?
Меритатон мгновенно осознала опасность ситуации: если бы она рассказала Мутнезмут о признаниях Пентью, она нарушила бы хрупкое перемирие, которое позволяло осуществить коронацию без новых, возможно катастрофических, потрясений. Ведь Мутнезмут неизбежно расскажет об этом и мужу, и отцу. А уж они, в свою очередь, тут же обвинят Сменхкару в участии в отравлении царицы, или еще хуже: заявят, что он сам отравил Нефертити, чтобы захватить власть. Последствия этого были непредсказуемы.
Мутнезмут не сводила с Меритатон пристального взгляда. Царевна выдержала его и протянула гостье кубок с яблочным соком.
— Мой отец приходил ко мне, — сказала Мутнезмут. — Он потрясен. Он уверен, что это Сменхкара отравил мою сестру. И что тебе известно об этом.
В этот момент к ним подошла Макетатон. Она их увидела, стоя на террасе и, одолеваемая любопытством, решила присоединиться к ним. Девушка услышала последние слова своей тети. Она поцеловала ее и спросила:
— Что знает моя сестра?
Отчаяние завладело Меритатон.
— Ничего я не знаю! — заявила она.
— А что ты должна знать?
— Моя тетя сообщила мне о немыслимых подозрениях! Что Сменхкара отравил мою мать и я знаю об этом! Почему меня не обвинить еще и в том, что я сама отравила собственную мать! — воскликнула она, воздев руки к небу.
Выражение лица Макетатон сделалось ядовитым.
— А меня бы это не удивило, — желчно произнесла она. — Если бы она не умерла, он не стал бы царем.
Мутнезмут огорченно вскинула брови.
— Я сожалею, Макетатон, что ты услышала наш разговор.
— А я не сожалею! Мне никогда ничего не говорят в этом дворце! Я не люблю Сменхкару и никогда его не любила. Это только внешне он ласковый, а на самом деле он вероломное создание. Вчера он продемонстрировал, как ненавидит мою мать. Он взбешен оттого, что ей соорудили царский саркофаг и устроили царское погребение! Мой дед все сделал правильно! Она настоящая царица! А этот предатель — жалкий мангуст!
Слова протеста застряли в горле Меритатон. Она ничего не могла рассказать из того, что ей было известно.
Увидев трех женщин и решив, что там происходит что-то интересное, Анхесенпаатон оставила игры с Пасаром и тоже пришла в беседку.
— Сменхкара не убивал мою мать! — в этот момент горячо заявила Меритатон.
Анхесенпаатон вытаращила глаза.
— Естественно, ты не можешь сказать ничего другого, ведь он женится на тебе, и ты станешь царицей! — кричала Макетатон.
— Я знаю, кто на самом деле виновен, — глухо произнесла Меритатон.
— Ты с ним заодно! Ты сообщница этого убийцы! — продолжала кричать Макетатон.
Вне себя от гнева, Меритатон влепила ей сильную пощечину. Макетатон вскрикнула, гневно посмотрела на сестру, резко встала и, рыдая, покинула беседку. Мутнезмут хотела было броситься за ней.
— Мутнезмут! Останься здесь! — приказала Меритатон.
Мутнезмут, пораженная столь резким проявлением властности, повернулась к ней.
— Слушай меня внимательно, Мутнезмут, — грозно начала Меритатон. Ее голос звучал глухо. — Если моя мать и была отравлена, то не Сменхкарой. Спроси у своего мужа, кто виновен, потому что как раз он это знает. И не приходи больше ко мне с мешком отбросов.
Она встала и вышла из беседки, совершенно опустошенная этой бурей бешенства. Неслыханный поворот событий: теперь она и Сменхкара подозреваются в отравлении Нефертити. Таков был результат грязных махинаций шакала Ая, глупости гусыни Макетатон и наивности ослицы Мутнезмут. Опасность была очевидной: тем, кто стремился отнять трон у Сменхкары, было только на руку представить царя и царицу преступниками.
Теперь они были так же уязвимы, как горлицы на ветке под взглядами парящих в небесах ястребов.
Анхесенпаатон взяла ее за руку.
— Мерит, Мерит! Я с тобой…
Рыдания сотрясли Меритатон. Сестра обняла ее за талию.
А внизу Пасар продолжал запускать в небо летающего змея-Хоруса.
Позор
— Мне не терпится уехать в Фивы, — заявила Меритатон в кабинете Сменхкары через несколько минут после того, как объявили о ее приходе.
Как только вошла будущая супруга, Сменхкара отпустил Майю, Аа-Седхема и писарей, так как, лишь увидев выражение лица Меритатон, он интуитивно понял, какие бурные чувства ее одолевают.
— Мне не терпится, чтобы тебя поскорее короновали, — тут же добавила она.
Он был ошеломлен происходящим.
— Сядь. Что случилось?
Она рассказала ему о вспышке ненависти со стороны ее сестры. Сменхкара вытаращил глаза. Первая царская супруга влепила пощечину Второй! Чрезвычайный инцидент.
— Нас окружают шакалы, — подытожила Меритатон. — Ты сделал ошибку, оставив Пентью у себя на службе. Те, кто не знает правды, думают, что вы заодно. А те, кто знает, что произошло на самом деле, притворяются, что верят в эти домыслы.
Сменхкара кивнул и сказал:
— В изгнании Пентью был бы опаснее. А в случае новой атаки Ая придется заставить его публично признаться во всем.
Меритатон задумалась над этим аргументом, а затем произнесла:
— Ты должен знать: я буду счастлива отправиться в Фивы с тобой. Мои сестры, за исключением Анхесенпаатон, останутся здесь, в Ахетатоне. Я не хочу, чтобы на Анхесенпаатон продолжала оказывать влияние эта безумная Макетатон.
Сменхкара снова кивнул.
— Сделай Пасара учеником в школе писарей в Фивах.
Он улыбнулся, наклонился и взял руку Меритатон.
— Успокойся. Мы победим.
Меритатон расплакалась.
Необходимость противостоять махинаторам сблизила их. Они оказались связанными обстоятельствами. Он сжал ее руку. Меритатон немного успокоилась.
— А Хранитель духов царицы? — шутливо спросил он. — Скажи мне, когда ты хочешь объявить об этом назначении. Я жду твоего слова.
— Не сейчас. В Фивах, когда все уляжется.
Он погладил ее по голове. А ей показалось странным, что ее утешает мужчина, с которым у нее не было физической близости.
— Так когда же мы отправимся в Фивы? Мы не можем уехать туда раньше?
Сменхкара понял, что она не выдерживает больше царящей здесь атмосферы.
— Можем, если тебе этого так хочется.
— Завтра?
— Хорошо, — сказал он, вставая. — Я прикажу Тхуту подготовиться к путешествию.
Охваченная энтузиазмом, она обняла его.
День начался под знаком дисгармонии.
Примерно в трех днях пути от Ахетатона, в номе Оксиринк шесть человек торопились в городскую управу, в комнату, где вели учет налогов. Это были: главный приемщик, писарь, составлявший кадастр, еще один писарь, землевладелец, занимающийся разведением сернобыков, его писарь и интендант. Из-за жары все были обнажены по пояс.
В воздухе уже висела пыль, жужжали мухи, ощущался стойкий запах коровьего навоза. Кроме того, чувствовался и горький запах пота.
Землевладелец был недоволен. Приемщик его покорно слушал. Так как жалобщик был человеком знатного происхождения, ему следовало выказывать почтение.
— Подсчет площади моих земель неправильный, — заявил он категорично, глядя на писаря, сидящего перед ним.
Последний изучал папирус, лежавший у него на коленях.
— Площадь твоих полей составляет семь тысяч четыреста двадцать четыре квадратных локтя. Я вместе с моим помощником измерял и длину, и ширину. Девяносто пять локтей в длину, семьдесят семь в ширину. Ты должен бы знать размеры своих полей. Плюс еще треугольный участок земли в сто девять локтей.
— Интересно, какой локоть ты используешь?
— Как какой локоть? Обычный локоть, какой в номе Оксиринк все используют! Что за вопрос такой?
— Ты явился из Мемфиса в прошлом месяце, не правда ли? — ядовито спросил землевладелец.
Приемщик повернулся к своему писарю, догадываясь, что произошла путаница. Писарь, составлявший кадастр, вскинул брови:
— А при чем здесь это?
— А я тебе докажу, — ответил землевладелец. — Ты использовал локоть, обычный для Мемфиса, не правда ли?
— Конечно.
— А ты разве не знаешь, что его длина на одну двенадцатую меньше, чем длина, принятая в Ахетатоне? А ведь ном Оксиринк подчиняется Ахетатону.
Писарь был озадачен.
— Ты использовал длину локтя, принятую в Мемфисе? — растерянно спросил приемщик.
— Да… Я не знал.
— Согласно твоим расчетам, которые неверны… — снова начал землевладелец, но тут писарь гневно перебил его:
— Как это — неверны?
— Абсолютно неверны! — авторитетно заявил землевладелец. — Согласно моим подсчетам площадь моих земель составляет шесть тысяч восемьсот шесть квадратных локтей, а не семь тысяч триста пятнадцать, но это еще не все…
— Мы тебе уменьшим налог на одну двенадцатую, — сказал приемщик, чтобы избежать конфликта, эхо которого разнесется по всем окрестностям.
Несколько писарей, заинтересованных происходящим, показались в дверях.
— Это еще не все, — повторил землевладелец, поворачиваясь к своему писарю. — Вы неправильно подсчитали и площадь треугольного участка земли.
Писарь землевладельца приветливо улыбнулся.
— Длина каждой стороны этого треугольного участка земли, о котором идет речь, составляет девять локтей. Значит, площадь будет двадцать четыре с половиной локтя квадратных, а не сто девять.
— Что это за расчеты? — возмутился писарь кадастра.
— Как ты определяешь площадь треугольника? — спросил другой писарь.
— Я свожу ее приблизительно к площади описанного квадрата…
— Приблизительно?
— Этот писарь — ученик мастера геометрии Сетмоса из Мемфиса! — сказал землевладелец.
— Площадь треугольника равна половине площади фигуры с прямыми углами, чья ширина равна гипотенузе треугольника, — заявил писарь землевладельца. — Гипотенуза этого треугольника составляет семь локтей, следовательно, треугольник вписывается в квадрат площадью сорок девять квадратных локтей. А его половина и есть та площадь, которую я вам назвал: двадцать четыре с половиной квадратных локтя.
Приемщик совсем запутался.
— Идите работать! — крикнул он толпившимся у дверей писарям.
— Нам полезно это знать, — заявил один из них.
У писаря, составлявшего кадастр, вытянулось лицо.
— Значит, разница в мою пользу составляет восемьдесят четыре с половиной квадратных локтя.
— Какая головоломка! — проворчал приемщик. — Ладно, я уменьшаю налог на одну одиннадцатую часть.
— А обман? — возмущенно завопил землевладелец. — А расходы? Я был вынужден пригласить писаря из Мемфиса за свой счет.
— Чума на твою геометрию! — закричал приемщик, который понял, что придется заново все рассчитывать. — Одна десятая часть! Это мое последнее слово. Ты соглашаешься?
— Очень хорошо. Если это твое последнее слово, я поставлю в известность о ваших махинациях всех землевладельцев нома.
Жестокая месть! С этим надо было что-то делать.
— Чего ты хочешь? — спросил приемщик хрипло.
— Восьмая часть.
— Не может быть и речи. Это уж слишком! Могу допустить еще девятую. Девятая часть вместо двенадцатой — это и так много.
Землевладелец задумался или только сделал вид, что задумался.
— Хорошо, я не хочу твоей смерти. Значит, девятая часть.
Второй писарь принялся составлять акт о снижении налога.
Слышно было, как остальные писари издевательски посмеивались в соседних комнатах.
— Хранитель духов… — произнес он задумчиво, с легкой иронией.
А затем:
— Как ты думаешь, в Фивах есть подземелья?
— У меня будут собственные покои.
Она ни слова не сказала ему о намерениях иметь от него ребенка. Отношение женщины к своему любовнику меняется, как только оказывается, что цветок удовольствия способен породить плод. Меритатон теперь смотрела на Неферхеру как бы со стороны.
Она думала о наивных планах Пасара, о которых ей рассказывала Анхесенпаатон. Он намеревался увезти ее далеко-далеко и защищать ее, если она окажется в опасности. Меритатон повторила эти слова Неферхеру. Он на какое-то время задумался.
— У меня не хватит наглости похитить царицу, — наконец сказал он.
— А если бы я не была царицей?
— Тогда я бы тебя уже похитил.
Это, без сомнения, прозвучало глупо, но эти слова согрели ее душу.
— И куда бы ты меня увез?
— Ты что, думаешь, жить можно только в Ахетатоне или в Фивах?
— А куда бы мы отправились?
— В Лашиш. В Азор. В Библос. В Угарит…
— На восток? К хеттам? И что бы мы там делали?
— Разве я не писарь? Я бы переводил тексты для торговцев. В Большом Зеленом море есть острова.
Острова. Она слышала при дворе ее отца, как один путешественник рассказывал об этих таинственных землях, где у людей были желтые волосы. Желтые, как золото…
Меритатон вздохнула. Неферхеру обнял ее. Она испугалась самой себя, своих желаний. Не сегодня вечером. Она могла зачать. Неферхеру проявил настойчивость.
— Не в этот вечер, — сказала она, ласково гладя его по щеке.
Когда Меритатон вернулась во дворец, она увидела, что Макетатон шагает туда-сюда по залу, в который выходили двери покоев царевен. Сестры замерли, глядя друг на друга. Затем, пылая гневом, Макетатон вернулась в свою комнату.
Вот гадюка! Она, наверное, что-то заподозрила.
Ваза из чистого золота была украшена ляпис-лазурью и белыми переливающимися камнями. Царский подарок. Маху, начальник охраны Ахетатона и всего царства, поставил ее на стол перед собой. Он оставался бесстрастным.
— Скромное свидетельство уважения моего господина Ая, — сказал слащавый посланник, который и доставил эту вазу.
— Уважение твоего господина делает мне честь. Но на данный момент у меня нет тех сведений, которые он просит.
Посланец посмотрел на него, прищурив глаза.
— Но ты можешь их получить.
— Не думаю, что об этом кому-либо известно, но для того, чтобы угодить твоему господину, я поинтересуюсь.
— Было бы желательно, чтобы ты узнал об этом в ближайшие недели.
— Понадобится много недель. Царский двор начинает перебираться в Фивы.
Посланец покачал головой.
— Нужно будет подождать, пока жизнь снова войдет в свое русло, — сказал Маху.
Посланец взвесил мысленно все за и против, оценил возможности Маху.
— Было бы удивительно, если бы женская страсть слишком долго оставалась неутоленной, — с ядовитой улыбкой произнес посланник.
Маху взглянул на вазу и спросил:
— Надежны ли ваши источники?
— Более чем.
Маху согласно кивнул и встал, давая понять посетителю, что беседа закончена. Тот последовал его примеру, хитро улыбаясь. Маху смотрел на него снизу вверх, так как был маленького роста, а его поза говорила о том, что он уже готов подталкивать гостя к двери.
— Да будет насыщенным твой день, — сказал посетитель, — и Хорус пусть следит за тобой своим оком.
— Здоровья и процветания, — пожелал ему Маху в ответ, открывая дверь.
Не успел еще посланец дойти до лестницы, как Маху позвал охранника, который стоял перед дверью.
— Ты и Мутемнес, следуйте за этим человеком, куда бы он ни пошел. Я должен знать обо всех его встречах. Пусть еще двое следят за ним ночью. Смотрите мне, не соблазнитесь подкупом, — посоветовал он угрожающе. — И никому ни слова, никому! Вы меня слышите? За это вы отвечаете головой. За хорошую работу будете вознаграждены. Идите, следите за ним!
Он окинул комнату взглядом, взял полотенце, чтобы вытереть пот с лица, затем завернул вазу в полотенце и спустился по лестнице в сопровождении своего обычного эскорта.
Он шел в Царский дом.
Мерзавец
Скрип дерева по каменным плитам; грохот палет, на которые переезжающие погрузили наиболее тяжелые вещи из царского имущества: трон, кресла, столы, сундуки; прерывистое дыхание и крики старших мастеров звучали под высокими потолками Царского дома. Пыль и резкий запах пота и джута, которым были обернуты все вещи, висели в просторных комнатах. Тараканы, мыши, скорпионы и сколопендры, которым удалось ускользнуть от бдительных слуг, носились везде, заканчивая свое земное существование под старыми сандалиями интендантов. Главный дворцовый интендант, Смотритель мебели и их помощники, ответственные за транспортировку, беспокойно следили за этой суетой. Им помогала целая армия писарей. Двое из них стояли у дверей и отмечали на папирусе каждую вещицу, каждый сундук и каждый тюк, которые покидали дворец. Вооруженный пером и чернильницей, еще один писарь вносил в список номер каждого свертка. На выходе из дворца все свертки и тюки грузились на тележки, которые везли к кораблям. Все имущество должны были отправить на лодках вверх по Великой Реке до самых Фив под присмотром все тех же писарей и охраны. Все прекрасно знали, что на реке разбойничали пираты и что драгоценное царское имущество неизбежно вызвало бы у них приступ жадности. Кроме того, на каждой лодке было по пять вооруженных стражников, а на двух больших кораблях были размещены по сорок вооруженных до зубов воинов, готовых отразить возможную атаку пиратов.
— А статуи? — спросил главный интендант.
— Согласно воле принца статуи умерших царя и царицы останутся здесь.
Интендант кивнул головой.
— Архивы дворца?
— Их присоединят к общим архивам, пока царь не примет другого решения.
Спустился Маху, начальник охраны. Он направился к Уадху Менеху, который следил за ходом работ, и заявил:
— Я должен немедленно видеть царя.
Первый распорядитель моргнул.
— Это будет трудно сделать, он сейчас составляет список своих вещей, которые хочет взять в Фивы.
Четыре человека, тяжело дыша от усталости, тащили вниз по лестнице со второго этажа огромный ящик.
— Это очень важно, — сказал Маху.
Уадх Менех направился к лестнице. Спустя несколько мгновений он вернулся и пригласил Маху подняться. Сменхкара вместе со своим Хранителем гардероба рассматривал одежду и другие предметы туалета, разбросанные везде — на постели, на полу, на сундуках. Как только вошел посетитель, удивленный Сменхкара прервал свое занятие. Маху поклонился и попросил позволить ему побеседовать с будущим царем наедине. Сменхкара предложил ему выйти на террасу.
Не говоря ни слова, Маху вытащил завернутую в тряпицу вазу и поставил ее на край ограждения. Сменхкара взял ее в руки, внимательно изучил, а потом посмотрел на Маху.
— Красиво. Что это?
— Плата за выполнение тайного задания, которое я считаю бесчестным, мой царь.
— Кто ее предложил?
— Некий посланник, мой царь.
— Кто его к тебе направил?
— Я еще не знаю точно.
— Что за тайное задание?
— Следить за будущей царицей, мой царь.
Сменхкара удивленно вскинул брови.
— С какой целью?
— Я не осмеливаюсь сказать, мой царь.
— Я слушаю! — нетерпеливо произнес Сменхкара.
— Прости меня, мой царь, но задание состоит в том, чтобы узнать, есть ли у нее любовник, и если да, то выведать, кто он.
Лицо Сменхкары покраснело от гнева. Значит, уже его личная жизнь поставлена на карту. Его разыгрывают, как кусок свинины.
— И что ты сделал? — спросил он, когда к нему вернулось самообладание.
— Я притворился, что принимаю его предложение, мой царь, чтобы он не обратился к кому-либо другому, кого легче будет уговорить.
— Ты правильно сделал.
— Мой царь, еще я приказал своим людям следить за этим человеком днем и ночью и докладывать мне обо всех его действиях и о тех людях, которых он посетит в Ахетатоне.
— Очень хорошо.
— Итак, как только он ушел от меня, он отправился во Дворец царевен и попросил о встрече с царевной Макетатон от имени господина Ая.
Сменхкара сделал глубокий вдох.
Значит, вот оно что! Раз у него ничего не вышло с Меритатон, Ай пытается повлиять на Вторую царскую супругу. У него появилась еще одна цель: теперь он намеревался отомстить и Меритатон. Нет никакого сомнения в том, что в лице Макетатон он нашел преданного союзника.
Впервые Сменхкара задумался, не отдать ли распоряжение убить Ая. Этот старый шакал вел против него настоящую войну. Но почему он стремится узнать, есть ли у Меритатон любовник? Как он хочет использовать эти сведения? Какую роль в его планах по завоеванию трона могла играть супружеская измена царицы? Сменхкара смог предположить лишь одно: ребенка мужского пола, рожденного Меритатон, хотят признать незаконнорожденным. Но кто может это сделать? Ай больше не является членом Царского совета.
Сменхкара не находил удовлетворявшего его объяснения.
— Меня поразила одна деталь, мой царь, — снова заговорил Маху. — Я спросил у этого посланника, надежен ли источник информации. Он ответил мне, что эти сведения являются более чем точными, поэтому я сделал вывод, что некто очень близкий царице подло клевещет на нее.
Некто… Сменхкара даже знал кто: Макетатон.
Возможно, верность памяти матери так внезапно озлобила Вторую царскую супругу, настроив ее против Меритатон? Или же это была ревность, которая зрела в ее душе? Но как бы там ни было, только она могла рассказать Аю о любовной связи своей сестры.
Надо было бы следить за этой ядовитой маленькой мегерой, потому что она становилась опасной. Но были и другие срочные дела.
— Ты хорошо сделал, что вызвал доверие у этой крысы, — сказал Сменхкара. — Вскоре он появится вновь.
Маху был заинтригован и внимательно слушал.
— Ты ему скажешь тогда, что знаешь, кто любовник царевны.
У Маху округлились глаза.
— Но кто это, мой царь?
— Ты.
Маху открыл рот, но не смог издать ни звука.
— Я? — произнес он наконец.
— Ты, ты! Ты придумаешь какую-нибудь историю о том, как вошел в доверие к одинокой царевне и добился ее привязанности.
Маху захлопал ресницами.
— Таким образом, — подытожил Сменхкара, — мы будем знать, для чего это ему нужно.
Маху ненадолго задумался.
— Мой царь хитрее самого Тота! — наконец воскликнул он и засмеялся.
— Признайся в этом как можно быстрее. И я хочу, чтобы ты следовал вместе с двором в Фивы, — приказал Сменхкара.
— Да, мой царь.
Сменхкара посмотрел на вазу, которая сверкала на солнце.
— Возьми ее, она твоя, — сказал он, протягивая ее Маху.
— Но, мой царь…
— Возьми ее. Это награда за твою верность.
Маху поцеловал руки Сменхкары и ушел, сопровождаемый взглядом заинтригованного Хранителя гардероба.
Это была последняя ночь Меритатон во Дворце царевен в Ахетатоне. Она горела желанием видеть Неферхеру, но знала, что за ней следит Макетатон. Сменхкара рассказал ей о разговоре с Маху.
Значит, Макетатон была заодно с Аем.
Меритатон раздирали противоречивые чувства: она была вне себя от гнева и в то же время страстно желала увидеть своего любовника. Не в силах больше терпеть муки, она решила спуститься в сад.
Когда она попала в восточную часть сада, за деревьями мелькнула тень. Видела ли ее Меритатон? Как только появилась царевна, тень направилась ей навстречу, к густым зарослям туи. Меритатон и тень встретились там. Ночные хищные птицы несколько раз испуганно вскрикнули.
Третья тень отделилась от стены дворца и тоже направилась к зарослям туи. Этот человек держал в руках лампу и старался I рукой прикрыть ее свет. Но слабый свет позволял все же различить черты лица. Это была Макетатон.
Она добралась до деревьев и там перестала загораживать свет лампы.
Обнаженная Меритатон вскрикнула.
Можно было хорошо рассмотреть голого мужчину, который, казалось, задыхался от стыда. Он быстро спрятался в тень.
Выражение лица Макетатон было злым и торжествующим.
— Ха! — воскликнула Вторая царская супруга. — Я хотела знать, с кем ты путаешься, грязная шлюха! Я задержу этого мерзавца!
Она подняла лампу, чтобы рассмотреть лицо любовника Меритатон.
Два стражника появились из глубины сада.
В то же мгновение знакомый голос произнес:
— Этот мерзавец — я, Макетатон.
Она пронзительно вскрикнула.
Это был Сменхкара. Он со злостью вырвал лампу из рук Макетатон.
— Ты хотела задержать меня, змея? — спросил он со смехом и влепил хорошую пощечину незваной гостье. Уже вторую за этот день.
Она закричала и, ошалев от страха, задрожала всем телом. С вытаращенными от ужаса глазами она судорожно глотала слюну.
— Ты собираешься оклеветать перед Аем собственную сестру? — продолжал Сменхкара, приближаясь к шпионке. — С какой целью, ты, горшок с ядом?
Она снова вскрикнула, ожидая новой пощечины. Макетатон заикалась, ее лицо было перекошено от ужаса и унижения.
— Может быть, ты завидуешь ей из-за того, что она должна сесть на трон?
Теперь Макетатон задыхалась от бешенства, словно гиена, застигнутая на месте преступления.
— Возвращайся в свое логово, кладбищенская тварь! — бросил он ей.
Макетатон убежала, размахивая руками, как будто за ней гнались ночные демоны.
Сменхкара, смеясь, стал одеваться.
— Теперь нас оставят в покое. По крайней мере, на какое-то время. Я запрещу ей покидать дворец.
Стражники удивленно смотрели, как Макетатон бежала к дворцу.
— А сейчас я оставляю вас вдвоем, — сказал Сменхкара.
Он поднял лампу и осветил лицо другого мужчины, который до этого времени держался в тени. Это был остолбеневший Неферхеру.
— Мой царь… — пролепетал он.
— Как тебя зовут?
— Неферхеру, мой царь…
— Неферхеру, завтра ты последуешь за нами в Фивы. Я разберусь со стражей, — пообещал Сменхкара, покидая их и унося с собой лампу.
Увидев человека, которого они собрались арестовать, стражники ускорили шаги.
Сменхкара поднял лампу.
Узнав будущего царя, оба вскрикнули от ужаса и собрались было бежать.
— Идите сюда! — крикнул Сменхкара.
Дрожа от страха, стражники остановились.
— Приказываю вам не выпускать царевну Макетатон из дворца.
Меритатон и Неферхеру слышали этот приказ.
— Я не понимаю… — пролепетал Неферхеру.
— Трон, — кратко пояснила Меритатон. — Власть. Понимаешь?
Она была восхищена хитростью Сменхкары. Он догадался, что, прежде чем отправиться в подземелье через кухню, она встретится с любовником в саду. Сменхкара подстерег ее и предложил разыграть комедию.
Теперь, как он и сказал, Макетатон вышла из игры.
План Ая провалился с треском.
Но какова же была настоящая цель этого плана?
— Ну и жизнь! — воскликнул Сменхкара, обращаясь к Аа-Седхему после того, как вернулся в свои покои.
Он рассказал ему о происшедшем. Лекарь стал целовать ему руки.
— Теперь нужно найти способ сообщить Аю о его поражении.
— Ты прав. Мы это сделаем, как только приедем в Фивы.
Позднее, уже перед тем, как заснуть, Сменхкара думал о том, что Эхнатон каким-то образом сдерживал весь этот ад. А после его смерти вокруг так и кишели подонки.
Вино власти
Во всем Ахетатоне царило небывалое волнение. Официально объявили о перемещении трона в Фивы всего неделю назад: Тхуту приказал вывесить соответствующий указ у входа в городскую управу на столбе, предназначенном для царских уведомлений. Новость привела в замешательство тысячи придворных и служащих и еще несколько тысяч их близких. Только появление кометы могло бы наделать столько же шуму.
Никто не помнил ничего подобного. Они истощили свои мозги, но им не хватало воображения понять причину и следствие происходящего.
Прибывшие из провинции лет пятнадцать тому назад, эти люди считали, что на века обосновались под защитой власти Атона. Они создавали здесь собственные царства подобно второстепенным божествам, каковым бы ни было их состояние. Себя же они считали представителями высшего общества: они были близки к власти, и к какой власти! Той, что является воплощением Атона! Иными словами, они мнили себя частью божества, которое их озаряло.
А разве могло быть иначе? Им посчастливилось родиться в долине. Им достаточно было лишь вскинуть руку в повелевающем жесте, и их управляющие, слуги и рабы добывали из этой земли целые состояния, израсходовав на это всего лишь пару мешков семян. Их рабы спаривали животных и обеспечивали своих господ мясом, увеличивали их табуны. А их талантливые полководцы завоевывали чужие земли, откуда привозили небывалые трофеи.
Их жизнь была в высшей степени безмятежной. Конечно же, последние годы правления Эхнатона были отмечены военными поражениями на Востоке и Юге. Хетты и кушиты отняли у царства целые провинции. Но это были мелкие потери, поскольку каждому известно, что война — как шахматная партия: один раз выиграешь, потом проиграешь. Они также знали о том, что происходило на территориях обеих Земель. Говорили, что появились вооруженные банды, которые наводили ужас на целые провинции. Бунтовали гарнизоны. Чиновники убегали с выручкой. Но все это были мелочи заурядной жизни. Все знали, что, к сожалению, человек несовершенен, особенно если он выходец из низов.
Таким образом, невозмутимый цинизм заменял им реализм.
Впрочем, испокон веков мир состоял лишь из страхов и желаний, и в этом отношении жители Ахетатона ничем не отличались ни от своих предшественников, ни от своих последователей.
Они предпочитали наслаждаться сплетнями о супружеской жизни царской четы, о чем, кстати, шептались с большой осторожностью, опасаясь своей дерзости. В последнее время Эхнатон мало виделся с супругой и проводил время в чрезмерной близости со своим сводным братом Сменхкарой; он даже назначил его регентом. Царица жила одна в Северном дворце. Особой милостью она одарила Майю, Главного смотрителя дворца. Царь с регентом часто совершали ночные прогулки по реке на «Славе Атона» без женщин. И даже сам Панезий… Слова приобретают значение только благодаря взглядам и интонациям, с которыми они произносятся, так же как и согласные формируют слово только вместе с гласными.
Перенести столицу? Ну кто бы мог такое предположить? И зачем? Разве жители Ахетатона не процветали в этой империи хороших манер? Под сенью царской власти они возделывали новые земли и выращивали неведомые ранее сады: так, они ели яблоки, привезенные Хиксосами, еще не ставшие общедоступными; розовую гуаяву, завезенную из Куша; абрикосы неприлично изысканной формы, произраставшие на землях хеттов, и щелкали фисташки, привезенные оттуда же. Они строили изысканные дворцы — большие, двух- или даже трехэтажные сооружения, окруженные благоухающими в любое время года садами. Кстати, жители Фив и Мемфиса научились у них позволять себе роскошь содержать садовников. Ахетатонцы измеряли свои земли божественными локтями. Они вводили моду, которую спешили перенять жители провинций: окрашивали золотой пудрой ногти, носили короткие парики и тонкие льняные туники в складку. И кто же, как не они, научили жителей Фив использовать стульчики с дырами посредине, вместо того чтобы приседать на корточки над дыркой или горшком?
И конечно же, они пользовались неслыханной привилегией лицезреть царя, царицу и царевен на празднествах храма Атона, что было недоступно другим жителям страны, которым приходилось довольствоваться лишь ликами божеств с головами зверей.
По крайней мере, так было до смерти Эхнатона и его супруги. Но, ничего не зная о теперешних конфликтах в верхах, которые подтачивали авторитет власти, они надеялись, вернее, даже искренне верили, что с приходом нового царя жизнь наладится.
И вдруг такое огорчение! Кто бы мог подумать, что придется переезжать в Фивы, город торговцев, мужланов и разбогатевших крестьян, которые выпячивали брюхо и жрали чеснок и чьи жены носили длинные парики?
— Что же с нами будет? — вопрошал лучший мастер париков в Ахетатоне.
— И правда, что же с нами будет? — вторили ему маги и заклинатели, жившие за счет состоятельных людей Ахетатона.
Все знали, что богачи обожали парики и к тому же были излюбленной мишенью злых духов, потому что вызывали у других зависть.
Огорчались представители не только этих профессий: астрологи, торговцы цветами и специями, портные, водопроводчики, маникюрщики и педикюрщики, пивовары, бальзамировщики, краснодеревщики, продавцы кошенили для декоративной косметики и противозачаточной пасты, наемные музыканты, лекари, купальщики, ювелиры, поэты, писавшие на заказ, изготовители ароматических масел, владельцы кабаков волновались: последуют ли их клиенты за двором в Фивы? В таком случае необходимо было ехать вслед за ними. С меньшим волнением приняли новость женщины для развлечений: им нужно было захватить лишь ларец с косметикой и духами и несколько легких платьев.
Больше всех огорчались чиновники: в официальном сообщении Тхуту уточнял, что чиновники остаются в Ахетатоне. Не могло быть и речи об их переезде в Фивы.
Вопрос, который больше всего обсуждался в бесконечных дискуссиях состоятельными жителями Ахетатона на званых обедах: переезжать или не переезжать?
Дворцовая знать не сомневалась: немыслимо было оставаться здесь, жить в опустевшей столице. Они уже подготовились к переезду. Они поедут в Фивы хотя бы для того, чтобы присутствовать на церемонии коронации. Обустраиваться они начнут позже.
Кстати, на Великой Реке больше не было ни одного свободного корабля: все суда, достойные этого звания, были наняты придворными. Узнав о дате коронации, они отправили секретарей и писарей в Фивы, чтобы снять там лучшие дома, и приказали придать даже рыбацким лодкам надлежащий вид. Они надеялись ослепить провинциалов своей изысканностью.
Постепенно переезд превращался в настоящий праздник. Не распустил ли царский астролог слухи о том, что расположение Пяти Вращающихся Планет и сближение Сириуса с Юпитером предвещают безмятежное царствование?
Так же как и в городе, во всех трех дворцах царило волнение. Только самые старые слуги помнили нечто подобное. Тогда царь покинул Фивы, столицу царства своего отца, чтобы основать Ахетатон.
Анхесенпаатон была счастлива, потому что могла играть с Пасаром в комнатах, в которых никогда не бывала раньше. Предвидя сложности, связанные с переездом, Уадх Менех и Главный управляющий дворцом решили, что царевны возьмут с собой только личные вещи, а мебель они оставят — ее перевезут позже.
Во дворцах в Фивах было достаточно спальных мест и шкафов, чтобы обеспечить подобающий комфорт новым хозяевам.
Перед отъездом первый этаж Дворца царевен был почти пуст. Кормилицы трех младших царевен в расстроенных чувствах вместе со своими подопечными покинули дворец, чтобы временно устроиться на пришвартованном в тени судне. Все эти носильщики, сновавшие туда-сюда как у себя дома, действовали им на нервы. Конечно же, царские кормилицы уже забыли, что сами они из простонародья и, лишь освоившись в царских хоромах, развили в себе аристократическую чувствительность. Что же касается служанок Анхесенпаатон, то они ждали ее в саду, вдыхая ароматы роз и поедая арбузы.
Не в силах ни секунды видеть Макетатон, особенно при свете дня, Меритатон удалилась со своими служанками в Царский дом.
Единственная комната на этаже оставалась закрытой, это была комната Макетатон. Как объяснила ее кормилица Анхесенпаатон, царевна не может отправиться в путь, потому что плохо себя чувствует.
Ничего не зная о недоразумении, происшедшем накануне, но будучи свидетельницей первой пощечины, Анхесенпаатон догадалась, что недомогание сестры было лишь предлогом. Из-за беззаботности, присущей ее возрасту, она не обратила на это особого внимания. Уже давно она приняла сторону старшей сестры, и ее преданность была безграничной, поскольку Меритатон все же нашла повод официально отправить Пасара в Фивы. Отныне мальчик был неразрывно связан с царской семьей. А значит, его будущее было обеспечено.
— Ты будешь жить со мной, — сказала Меритатон своей младшей сестре.
Анхесенпаатон и Пасар исследовали этаж. Они попадали в таинственные помещения, обнаруживая там всякие сокровища. Они побывали в том числе и в комнатах, в которых какое-то время жила усопшая царица. Флаконы духов и забытые горшочки с мазями, статуэтки, спрятанные в углах шкафов, старые письма на помятых папирусах, а кроме того несколько мертвых высохших мышей…
Пасар нашел сундучок в комнате царицы и открыл его. Анхесенпаатон заметила его замешательство и увидела, что он держал в руке вещицу из слоновой кости.
— Что это?
Он смутился и покраснел.
Это был фаллос.
— Член, — прошептал он.
— Это никогда не бывает такого большого размера, — нравоучительно заметила Анхесенпаатон.
Он лукаво посмотрел на нее.
— Иногда бывает, — заметил он.
— Я видела твой, — ответила она.
Этот интересный разговор был прерван внезапно возникшим шумом.
Дети находились за высоким комодом, когда дверь открыла Макетатон. Не понимая сами почему, они присели за комодом.
Макетатон оглянулась по сторонам и никого не обнаружила. Царевна вышла в коридор. Анхесенпаатон и Пасар видели, что она вошла, осторожно шагая, в комнату Меритатон. Они прислушались: почти ничего не было слышно. Через некоторое время Макетатон вышла со шкатулкой в руках и отнесла ее в свою комнату. Затем снова вышла и направилась в покои своей матери, но остановилась на пороге, прислонилась к косяку и стала рассматривать просторные комнаты. Какое-то время она предавалась воспоминаниям, которые были пищей ее одиночества, затем вернулась к себе, хлопнув дверью.
И Анхесенпаатон, и Пасар облегченно вздохнули и вышли из своего укрытия.
Наконец в полдень царское семейство, кормилицы и слуги во главе с Уадхом Менехом прошествовали через сад и направились к пристани. Сменкхара, Меритатон и Тутанхатон, а также следовавшие за ними носильщики опахал уже готовы были подняться на борт. Кормилицы поспешно выплевывали арбузные косточки, брали за руки царевен и присоединялись к остальным. Пасар проводил Анхесенпаатон до пристани; он должен был отправиться на другом корабле под присмотром Аа-Седхема.
Восточный ветер позволил бы гребцам прикладывать меньше усилий, чтобы плыть вверх по Великой Реке. Но кто мог предвидеть, каким будет ветер?
Как только «Слава Атона» причалила к пристани в Фивах, заревели медные трубы, сопровождаемые барабанной дробью и грохотом тарелок. На пристани выстроился гарнизон бывшей столицы. Городской голова, начальник гарнизона, великий жрец Хумос, знатные вельможи, высокопоставленные чиновники встретили Сменхкару, Меритатон и их свиту изобилием приветственных речей. Уадх Менех решил, что согласно протоколу Сменхкара и Меритатон отправятся во дворец в одном паланкине.
Командующий гарнизоном и городской голова восседали на белых лошадях с золотыми попонами. Головы лошадей украшали страусовые перья. Каждые пять минут трубы начинали выводить одну и ту же мелодию: падам-дам-дам, заканчивающуюся оглушительным грохотом. Занавески носилок были раздвинуты, и оба пассажира могли наблюдать за плодами трудов Тхуту и Уадха Менеха. Из огромной толпы, теснившейся по обе стороны главной улицы, выкрикивали благословения. На этой улице впервые были высажены деревья из Куша, а к случаю она была еще и украшена цветами. Треугольные желтые знамена с именем нового царя развевались на ветру на столбах, обвитых лентами.
Въезд царя в город был действительно триумфальным.
В конце улицы кортеж, состоящий из более чем трехсот персон,
включая почетных гостей, повернул налево и, миновав алтарь Первородного бога, оказался перед дворцом.
Вид зданий, которые были знакомы ему с детства, удивил Сменхкару. Он едва их узнавал. Память сохранила воспоминания о нескольких зданиях, о дворе, лестницах, а он увидел большую крепость с высокими стенами. Не так ли бывает со всеми воспоминаниями о давно прошедших днях? Затем Сменхкара вспомнил о худощавом задумчивом юноше, чьим прирожденным величием любовался, будучи ребенком. Тогда его еще звали не Эхнатоном, а Аменофисом, как и его отца. Его молчаливость интриговала уже тогда, а загадочная улыбка заставляла верить, что боги нашептывают ему что-то на ухо.
Эти воспоминания были прерваны толчком носилок, которые опустили на гранитные плиты.
Сменхкара выглянул из-за занавески. Носильщики остановились перед большим портиком с двумя огромными колоннами: это были два изображения Аменофиса Третьего, великолепного в своей вечной молодости. Он выставил вперед левую ногу, словно намеревался идти на запад. Это был вход во дворец.
После двух дней пути дух Ахетатона испарился. У Сменхкары закружилась голова. Он был в чужой стране. Да и сам он был другим — он уже ощущал себя царем. Прошло семнадцать лет царствования Эхнатона. Было много всего, были конфликты и любовные интриги. После всего этого остались только воспоминания о словах и объятиях, и эти воспоминания постепенно растворялись и уносились ветром с вековой пылью пустынь. Забывались дерзкие признания, предательства, интриги и удушливое зловоние историй об отравлениях.
Очевидным было лишь одно: он отмечен божественной милостью. Через пять дней он станет Властителем Двух Земель, живым богом, высшим воплощением божественной власти над жителями долины.
Осознание своей власти опьяняло и успокаивало.
Почетные придворные вышли встречать будущих супругов. Меритатон, Тутанхатон, остальные царевны и Сменхкара прошли через большой двор и вошли в зал с колоннами. Там их встретили торжественной музыкой. Звуки арф и лир раздались у подножья колонн, похожих на огромные папирусы, завитки которых касались разукрашенного потолка на расстоянии тридцати локтей от пола.
Он слушал. Меритатон слушала. Анхесенпаатон тоже. И Тутанхатон.
Но Сменхкара очень устал после двухдневного путешествия. В три часа после полудня он захотел остаться один. Уадх Менех догадался об этом, глядя на него. Музыкальные инструменты смолкли. Главный управляющий пришел засвидетельствовать новому царю свою нижайшую покорность и предложил проводить его в отведенные покои. Сменхкара повернулся к официальным лицам — это были Тхуту, Майя, Хумос, Хоремхеб, Нахтмин, Пентью, городской голова, командующий гарнизоном, высокопоставленные чиновники — и медленно и степенно произнес текст, написанный Тхуту и тайком проверенный Аа-Седхемом. Сменхкара выразил удовлетворение тем, что здесь собрались вместе первые люди царства, благодаря доброжелательному покровительству Амона-Ра и ради долгого царствования, затем он сказал, что будет рад всех снова увидеть на званом ужине в честь своего прибытия. Все поклонились, опахала из страусовых перьев зашелестели, словно от легкого ветерка, руки поднялись в восхваляющих жестах. Будущий царь повернулся и пошел вглубь дворца.
Пот живого бога
Золотая диадема с изображением головы покровительствующей богини Нехбет украшала ее парик. На затылке вздрагивали два священных пера.
Хумос стоял справа от жертвенного стола в большом зале храма Амона-Ра в Карнаке. Все остальные жрецы сидели у ее ног. Присутствующие, в том числе Тутанхатон и царевны, сидели чуть дальше, напротив нее. Осознавая торжественность момента, они застыли, словно изваяния.
Со своего кресла она могла видеть сквозь дым благовоний толпу, собравшуюся перед входом в храм Амона. Если бы Великая Река не разделяла Карнак и Фивы, здесь собрался бы весь город.
Верховный жрец заканчивал читать воззвание к Осирису.
Она спустилась с трона и подошла к жертвенному столу, налила из золотого кувшина молока в золотую чашу и левой рукой взяла маленький круглый хлебец с золотого подноса. Потом подошла к будущему супругу, который сидел рядом с ее троном, и протянула ему сначала хлеб, а затем молоко.
Он съел хлеб и выпил молоко.
Она села возле того, кто теперь был ее супругом и кого она посвятила в цари прежде, чем он надел корону.
— Возрадуйся в своем божественном доме, Амон, — прогремел голос Хумоса, — поскольку ты родил земного наследника для твоего царствования в Двух Землях.
В сопровождении двух жрецов Хумос, тяжело и медленно шагая, направился в закрытый придел в большом зале храма: это был наос, святая святых, центр вселенной; в нем находилась статуя бога.
Хумос поднялся по трем ступенькам и взломал печать, соединявшую две створки дверей.
— Скользит палец Сита, — вновь раздался зычный голос Хумоса, когда он открыл первый замок. — Скользит палец Сита, — повторил он, открывая второй замок. — Оковы сняты, печать взломана. Обе двери на землю открыты. Божественный пантеон сияет. Амон, повелитель Карнака, проснулся на своем великом троне.
При дневном свете позолоченная статуя бога сверкала, переливались драгоценные камни, которыми была украшена статуя. Отблески священного огня у ног как бы оживляли ее.
Но великий жрец должен был успокоить потревоженного бога.
— Я тот, кто поднимается к богам. Я пришел не уничтожить бога, а исполнить его волю, — произнес он перед распахнутой дверью.
Служители культа придерживали створки дверей, а Хумос вошел в наос.
— Земная печать сорвана, небесная вода укрощена, взойди на свой великий трон, Амон-Ра, повелитель Карнака! Твоя корона сияет величием твоего могущества. Ты прекрасен, повелитель Карнака и вселенной!
После этих слов он надел маску Амона.
Второй жрец надел маску Хоруса с горбатым клювом.
Третий — маску Сета с вытянутой мордой.
Хорус, наклонившись к подножию божества, взял корону Верхней Земли, а Сет — Нижней Земли. Держа короны в вытянутых руках, они торжественно спустились по ступенькам. Сзади шел Амон-Ра. Они взошли на пьедестал. Сменхкара встал.
— Прими наследство твоего отца Осириса, Эхнеферура, — прогремел голос Хоруса.
— Я принимаю душу моего отца Амона-Ра. Крыло Нехбет охраняет меня, кольца Уаджет охраняют меня. Душа моего отца Амона-Ра вселяется в меня.
Хорус возложил корону Верхней Земли на голову Сменхкары, а Сет возложил сверху корону Нижней Земли. Хорус протянул ему скипетр, а Сет — цеп. Амон ему сказал:
— Я повелеваю тебе, Эхнеферура, стать царем Юга и Севера и взойти на трон Амона, как вечное солнце. Властелин корон дает тебе жизнь, постоянство, силу, вечную, как солнце.
— Дух Амона во мне, — произнес Сменхкара, — сердце Амона во мне, его рука поддерживает мою, его нога управляет моей.
Он направился к наосу. Теперь все могли видеть ритуальный хвост пантеры, прикрепленный к его поясу. Сменхкара стал на колени и поднял руки.
Заиграли лютни и лиры.
— Фараон Эхнеферура пришел к тебе, — начал жрец. — О бог всех богов пантеона Двух Земель, бог, правящий рукой своей, Амон-Ра, повелитель Двух Перьев, возвеличенный коронами на твоей голове, царь среди богов внутри Апиту, статуя Амона возвышает твое имя, Амон, господствующий более, чем над богами…
Сменхкара встал. Меритатон подошла, протягивая ему кадило. Жрецы положили жертвоприношения на стол, а один из них зажег огонь. Сменхкара бросил в него жертвоприношения.
Ему подали чашу с вином. Он выпил.
— Радуйтесь, жители страны! — провозгласил Амон. — Настали счастливые времена. Появился хозяин всех земель. Река поднимется высоко, дни будут долгими, ночь будет наступать в свое время, луна будет регулярно возвращаться…
Существование царя было залогом гармонии в мире.
Амон сошел с пьедестала и прошел через зал. Все расступались, давая ему дорогу.
За ним последовали Сет и Хорус.
Вслед за ними шел фараон.
Он делал символический круг по храму Амона, как бы обходя свои владения.
За жрецами и фараоном следовали поэты, распевающие гимны под аккомпанемент музыкантов.
Фараон вернулся на свое место в сопровождении тех же богов и сел на трон.
Он больше не был Сменхкарой — он был Эхнеферурой. Он был солнцеподобным. Он был божеством.
По его обнаженному торсу струился пот.
На золотом обелиске, возведенном его отцом, было пять часов после полудня. Церемония длилась пять часов.
Склонившись до самого пола, Тхуту пришел спросить, не хочет ли царь отдохнуть.
Сменхкара согласился. Царь и царица встали. Перед ними шли советник и Первый распорядитель. Конюх подвел царя к белой лошади с золотой попоной и помог ему сесть.
Царица села в свои носилки. Придворные последовали ее примеру.
Анхесенпаатон онемела от восхищения и изумления. Глазами она искала Пасара. Он стоял в толпе и не решался подойти из-за избытка эмоций.
Так же как и Неферхеру, испытывавший что-то похожее на страх.
Ужин, организованный Уадхом Менехом по приказу царя, не принес ни малейшего удовлетворения ни Сменхкаре, ни Меритатон. Лица их, согласно протоколу, представляли собой застывшие маски, на которые все восхищенно смотрели, ничуть не смущаясь.
Ночь, сошедшая на землю, не принесла спокойствия.
Придворные чувствовали себя не лучше. Они приехали в Фивы лишь пять дней назад, размещение во дворце еще не было завершено. Царил полный хаос. Поговаривали, что, уезжая из Ахетатона, переселенцы оставили там свои души. Все здесь было непривычным, например, терраса или купальная комната располагались совсем не там, где их ожидали найти. Выражения многих лиц изменились. Даже запахи в обновленных помещениях были чужими.
Несомненно, у каждого места есть своя душа, и она властно управляет владельцем этого места.
Сразу после приезда всем стало не хватать больших садов Ахетатона, раскинувшихся на берегах реки, и нежного вечернего бриза. Дворец в Фивах был построен вдали от воды, днем на него обрушивались испепеляющие солнечные лучи, а за целый день камни вбирали жару, отдавая ее ночью. Короче говоря, это было настоящее пекло. В стенах имелись маленькие окошки, причем на самом верху. Они служили только для освещения помещений и не давали жаре проникать внутрь. Безусловно, это было мудрое решение, но вечерняя прохлада тоже через них не проникала. Перед сном нужно было устраивать сквозняки, чтобы освежить воздух в комнатах. Спать приходилось с распахнутыми дверями.
На следующий день после коронации вспотевшие монархи поспешили в купальни, чтобы освежиться. Сменхкару беспокоило состояние Тутанхатона, который буквально варился первую половину ночи в своей комнате, прежде чем Первый слуга посоветовал перенести его ложе в Зал для приемов на первом этаже, где было прохладнее. Сменхкара решил отдать Тутанхатону временно две комнаты писарей, примыкающие к этому залу.
Он спрашивал себя, как могли его отец Аменофис Третий и его жена Тиу выносить эту парилку. Правда, Аменофис болел в последние годы своего правления. Что же касается Тиу, она хорошо переносила жару и даже чувствовала в самое пекло прилив жизненной энергии, которая в ней уже угасала.
Сменхкара понял, как мудро поступил Эхнатон при строительстве Ахетатона: все дворцы там были возведены на берегу реки, все здания имели большие террасы, их окружали сады.
Несмотря на свою божественную сущность, Эхнеферура страдал от жары так же, как и последний из рабов.
Теснота была еще одним неудобством, усугублявшим зной Верхней Земли. Основная часть этого дворца была построена усопшей царицей Тиу, женой Аменофиса Третьего, и служила домом для царской семьи. В каждое помещение можно было попасть в любой момент. Так, в комнатах Меритатон было слышно, как суетятся кормилицы, поскольку они расположились в комнатах, смежных с покоями царевен. По этой же причине кормилицы были лишены возможности поболтать и посплетничать, чем занимались почти все время. Что же касается покоев Сменхкары, расположенных в восточной части здания, с самого утра они наполнялись шумом, доносящимся из кабинетов чиновников, стуком колес тележек поставщиков, ревом ослов и криками стражников.
Здесь было совсем не так спокойно и уютно, как в трех дворцах Ахетатона: в Царском дворце, Дворце царевен и Царском доме, построенных отдельно.
Особенно ужасным было то, что личной жизни как таковой у новых жильцов не было.
Кроме как в Ахетатоне, нигде больше не было садов, в которых устраивались ночные свидания, не было подземных ходов, позволяющих незаметно проникать в разные комнаты; а здания, в которых трудились чиновники, прилегали к дворцовым постройкам.
Меритатон виделась с Неферхеру всего лишь несколько минут в присутствии нового управляющего, когда тот пришел узнать, где будет находиться комната с ароматическими средствами. Но это пока не было определено, еще даже не закончили распаковывать все вещи, привезенные из Ахетатона. А должны были привезти еще. Она знала только, что новый Хранитель духов жил в общих комнатах над пивоварней, пекарней и кухнями, так же как и все придворные служащие. Ночью она бы туда точно не пошла. Она вызвала его на следующий день, когда установка гардероба, потребовавшая немало усилий, была завершена.
Пасара разыскали только через два дня после многочисленных просьб Анхесенпаатон. Он присутствовал на церемонии коронации и дрожал от страха, опасаясь, что его изобьют до смерти за то, что он осмелился играть с Третьей женой царя, сестрой царицы. Но не было больше садов, где они могли бы бегать, и берегов, с которых могли бы ловить рыбу.
А о том, чтобы порезвиться на гальке в тени чудом выживших под палящим солнцем нескольких смоковниц, не могло быть и речи: всем было известно, что там водились черные скорпионы и змеи.
Когда они снова увиделись, то, стоя друг напротив друга, не знали, что говорить и что делать. Она взяла с блюда горсть винограда и протянула ему, как могла бы протянуть тиару; он взял ее, как нечто священное.
— Пойдем посмотрим дворец, — сказала она ему, чтобы привести его в чувство. — Почему ты так держишь виноград? Я дала тебе его, чтобы ты ел.
Непосредственность и открытость Анхесенпаатон исчезли.
Сменхкаре удалось сделать так, чтобы Аа-Седхем оказался поблизости. Ему отвели две комнаты, прилегающие к царским покоям, ведь он был лекарем царя. Но, несмотря на крепкое здоровье, несчастный Аа-Седхем проснулся в первое утро, испытывая такие же муки, как и все остальные.
— Повелитель, мы здесь расплавимся, — прошептал он.
Сменхкара кивнул, это было и так понятно. На первом заседании Совета он приказал, чтобы позвали царских архитекторов. Он хотел поручить им сделать проект нового дворца. Сменхкара предполагал построить его на одном из островов, расположенных напротив Фив, но ему сказали, что они затоплены четыре месяца в году. Что ж, оставалось строить на берегу.
Вскоре должны были приступить к строительству.
Пора было заняться государственными делами.
На это утро было запланировано принять восемнадцать посетителей, а после обеда — одиннадцать, причем Тхуту многим пришлось отказать.
Призрачный демон
На нижних этажах божественного пантеона, намного ниже того уровня, где обитают величественные божества с головами свирепых или бесстрастных животных, народ Двух Земель оставил место для презираемых и опасных демонов. Это были чудовища, гнусные и порочные, с бесформенными телами. Они не обрели воплощений при сотворении мира.
Эти сверхъестественные чудовища не только грозились отобрать вечность у умерших, но еще и вмешивались в дела живых, пытаясь заставить сомневаться в тех вещах, которые до этого казались понятными и чистыми. Они постепенно вселяли неудовлетворенность в сердца, мучили амбициями и желаниями, устраивали выкидыши у коров и заставляли молоко прокисать, портили снесенные на рассвете яйца, изменяли цвет кожи молоденьких девушек, ожидавших своих возлюбленных, и внезапно делали беспомощным член любовника в самый неподходящий момент. Только опытный маг мог противостоять этим демонам.
Некоторые из этих демонов свирепствовали после коронации. Наверное, они были оскорблены красотой, молодостью и божественностью, царившими в храме Амона в Карнаке.
Один из них отправился в Ахмин наводить страх во дворце, сравнимом с царским, который принадлежал господину Аю.
— Это было величественно. Это было действительно божественно. Они оба купались в небесной красоте.
Так завершил свое описание Аю церемонии восхождения на трон главный жрец храма Мина. Как и все главные жрецы царства, он присутствовал на этой церемонии, потому что она свидетельствовала о возрождении забытых культов.
Ай слушал его с угрюмым видом, полулежа на диванчике, заваленном подушками, в тени деревьев, и поглаживал пальцы ног. Гепард спал, сытый и утомленный от жары. Даже попугай молчал.
Сидя на низком стуле, Шабака, доверенное лицо Ая, также слушал рассказ, вычисляя в уме предположения и реакцию своего господина. Время от времени его лицо морщилось, а тело содрогалось. Всем в Ахмине было известно, что отношения господина Ая с новым монархом были далеко не идиллическими; кое-кто даже догадывался, что они были взрывоопасными. Наверняка было известно только то, что после того как он имел значительное влияние при дворе Аменофиса Третьего, а затем и его сына, Эхнатона, Ая не интересовали дела Сменхкары, ставшего Эхнеферурой, даже несмотря на то что царица была его внучкой. Самые осведомленные шептались о том, что возник спор по поводу погребения Нефертити, но кроме этого ничего не было известно. Возможно, это были обычные семейные неурядицы.
— Присутствовали все царевны? — спросил Ай.
— Нет, не было Второй царской супруги, — ответил верховный жрец, удивившись вопросу.
— Известна ли причина?
— Царевна была больна.
Ай скривился. Накануне он получил от Макетатон письмо.
…Когда я сказала сестре, что она знает имя того, кто отравил нашу мать, и что это Сменхкара, ты не поверишь, но она дала мне пощечину на глазах у нашей тетки Мутнезмут. После этого ужасного оскорбления я ушла. В ту же ночь я попыталась отомстить ей и, согласно твоим инструкциям, хотела застать ее в саду с любовником. Я увидела ее обнаженной с мужчиной. Это был Сменхкара. Он дал мне пощечину, обвинил во лжи и обозвал бочкой яда. Теперь я понимаю, насколько ужасен поступок моей сестры. На нее, безусловно, навели порчу, и она попала под действие чар этого злодея и подлеца…
Он едва не подпрыгнул от ярости, вспомнив об этом письме. Бочка яда? Скорее бочка глупости! Эта юная дурочка все испортила. Целью было не застать Меритатон на горячем, а узнать, кто ее любовник. Конечно же, Макетатон не смогла присутствовать на церемонии коронации в Фивах.
Ай задумался о последних строках письма Меритатон. Он находил странным, что будущая царская чета предавалась любовным наслаждениям ночью в саду, подобно простолюдинам. Разве у них не было постелей, в которых им было бы намного удобнее? Все это выглядело странно и даже подозрительно.
Находя, что господин стал уж слишком мрачен, великий жрец сказал, что оставляет его отдыхать, распрощался и ушел вместе со своим секретарем.
Ай остался наедине с Шабакой.
— Этот червяк способен задержаться на троне на долгие годы. Он переманил на свою сторону служителей культа, затем военных.
— Господин, противники, которые кажутся непобедимыми, часто предают сами себя.
— Что это означает?
— Что необходимо, господин, подождать, пока этот червяк совершит ошибку.
Ай подумал над советом и сказал:
— Есть ли у нас новости от посланника?
— Нет, после его встречи с начальником охраны, который с удовольствием принял твой подарок, но не догадывается о его происхождении, он отправился с двором в Фивы.
Ай надкусил яблоко и принялся жевать с угрюмым видом. Гепард потянулся, перевернулся на другой бок и снова заснул.
Стоило только вспомнить о посланнике, как слуга сообщил о посетителе. Шабака встал, чтобы его встретить и представить хозяину: это был посланник.
Он низко поклонился своему господину.
— Какие новости ты мне принес? — спросил Ай.
— Неожиданные, мой господин. При нашей первой встрече в Ахетатоне Маху ответил мне, что о том, о чем его спрашивали, пока ничего не известно и не будет известно еще несколько недель, до тех пор, пока двор окончательно не устроится в Фивах и пока каждый не вернется к своим привычным делам. Во время второй встречи он, улыбаясь, сказал, что любовник царицы он сам.
Ай нахмурил брови.
— Маху — любовник Меритатон? — Он был поражен.
— Он так говорит.
Утверждение это было сомнительным, если только Маху не стремился к трону, что делало его еще одним противником Ая. Если бы он на самом деле был любовником Меритатон, он никогда бы в этом не признался. Ай принялся интенсивно чесать большой палец ноги.
— Ты ему сказал, чего мы от него ждем?
— Нет, господин.
Ай откинулся на подушки.
— Я решил подождать, так как посчитал его ответ неправдивым. И я подумал, что мы всегда успеем сделать ему предложение.
— Ты поступил правильно.
— Он спросил у меня, почему для нас эта информация так важна.
— И что ты ответил?
— Что мне это неизвестно, но что, по моему мнению, это связано с интересами династии.
Ай кивнул, но успехи посланника его не радовали, даже наоборот. Маху наверняка доложил обо всем Сменхкаре.
Он, Ай, все еще не знал, кто был любовником Меритатон.
А ему это было крайне необходимо'. Значит, ему нужен был шпион во дворце.
Не мог же он вечно ждать корону. С каждым днем увеличивался риск того, что эта бесстыдница Меритатон забеременеет от незнакомца, родит наследника этого обескровленного род и тем самым лишит Ая возможности взойти на трон, которого он заслуживал больше кого бы то ни было. Да, больше, чем кто-либо другой!
Именно в этот момент попугай встрепенулся и прокричал:
— Bin tchaou!
Он, несомненно, почувствовал близость духа неопределенности.
— Но что же с тобой такое? — спросила Меритатон, удивляясь робкой почтительности Неферхеру.
Она вызвала его среди бела дня. Он, застыв, стоял в стороне.
За дверью раздавался гул голосов и топот сандалий: по коридорам сновали стражники, писари, слуги.
— Божественная, — наконец начал он, — я в твоем распоряжении.
— Это же я, Меритатон! Ты меня не узнаешь? Ты больше не испытываешь ко мне никаких чувств, потому что я стала царицей?
— Божественная…
— Достаточно! Еще две недели назад ты загорался от одного моего взгляда, а теперь похож на провинившегося писаря. Что с тобой случилось?
Глаза Неферхеру наполнились слезами.
— Однажды вечером нас застал твой муж… Затем он сам… толкнул нас в объятия друг к другу. Пойми, для меня это потрясение. За две недели, проведенные здесь, нам ни секунды не удалось побыть наедине… А теперь ты царица, пойми…
Она смягчилась. Конечно же, быть любовником царицы совсем не просто. Два ночных происшествия, о которых он упомянул, а затем вынужденная разлука были для него испытанием.
— В Ахетатоне было лучше, — сказал он. — Не говоря уже о моем жилище. Я здесь задыхаюсь.
— Думай обо мне, — предложила она. — Я тоже лишена тебя. И мои комнаты тоже настоящее пекло.
Он поднял на нее глаза и улыбнулся.
— Нам нужно найти способ видеться в более подходящем месте, — продолжила она. — Я могла бы переселить тебя на первый этаж. Там прохладнее.
— Но лестница охраняется и днем, и ночью.
— Я прикажу построить другую лестницу. Потерпи. Ради нас.
Глаза Неферхеру опять наполнились слезами. Он подошел и обнял ее. Она погладила его по голове.
На нее явно напал Призрачный демон. Она подумала, что, хотя она и была царицей, все же теряла силы в этой древней крепости и даже не могла тайком видеться с единственным человеком, доставлявшим ей истинное наслаждение. В голову ей пришла безумная мысль: а что, если сбежать с ним?
Постучали в дверь. Они отодвинулись друг от друга. Она пошла открывать: явилась кормилица младшей царевны, Сетепенры, вся в слезах. У девочки было ужасное расстройство желудка.
— Распорядись позвать царского лекаря, Аа-Седхема, — сказала Меритатон, торопливо шагая вслед за кормилицей, чтобы взглянуть на младшую сестру. — Подожди меня здесь, — бросила она Неферхеру.
Сетепенра лежала бледная и дрожала, несмотря на жару. Меритатон присела к ней на ложе. Аа-Седхем не заставил себя ждать. Он вбежал в комнату, а за ним слуга внес его ларец. Лекарь попросил, чтобы ему показали горшок царевны, затем открыл свой ларец и достал оттуда мешочек с очищенной белой глиной, а слугу послал в свою комнату за сосудом с очищенной водой. Когда слуга вернулся, Аа-Седхем насыпал немного глины в чашу, добавил воды, размешал и дал все это выпить царевне.
— Я вернусь через два часа, — сказал он. — До завтра не давайте ей ни есть, ни пить — ничего, кроме очищенной воды с настоем полыни. Всего несколько капель. Завтра она поправится благодаря бдительности Тота.
— В чем причина ее болезни? — спросила Меритатон.
— Твое величество, я боюсь, что местная жара усугубила недуг, который в других условиях мог пройти сам по себе.
Меритатон задумчиво посмотрела на Аа-Седхема. Иметь такого лекаря под рукой было удачей.
Затем она вспомнила, что забыла в Ахетатоне свой ларец с драгоценными шариками снотворного, которые взяла у своей матери Нефертити.
Три архитектора, почтительно замершие перед монархом, внимали его желаниям.
— Я хочу построить дворец на берегу Великой Реки, который будет окружен садами.
— Твое божественное величество! — начал Главный архитектор. — Все земли на берегу реки очень низкие. Каждый год их затопляет до самого фиванского холма. Из этого следует, что необходимо будет поднять дворец и прилегающие сады по всей площади как минимум на два локтя выше уровня самого высокого половодья. А из-за того, что размывается нижний слой почвы, она становится опасно подвижной. Из этого также следует, что необходимо будет сделать насыпи по берегам и построить каменный фундамент под здания.
Фараон догадывался, что предстояло проделать колоссальную работу.
— Это возможно?
— Твое божественное величество, любое твое желание может быть исполнено. Вопрос только во времени. В любом случае мы сможем начать работы только через три месяца, когда земля высохнет как следует, поскольку половодье закончится через пять недель!
— Сколько же нужно времени для строительства?
Главный архитектор повернулся к коллегам и после короткого совещания с ними сообщил:
— Твое божественное величество, все это может быть построено только через два года.
Два года! На протяжении двух лет изнывать от жары в этом жутком дворце!
— Хорошо. Я подумаю.
Затем фараон принял высокопоставленного чиновника, который просил для своего сына место при дворце. Сам проситель служил счетоводом и был убежден, что сыну навыки счета передались по наследству.
После этого настала очередь защитника, который просил царского помилования для своего клиента, схваченного за кражу.
Затем был принят фиванский мастер-бальзамировщик, сетовавший на то, что его жалование не соответствует расходам на соду и ароматические вещества; его выпроводил Майя.
После этого пришла очередь главы сообщества рыбаков, который просил понизить налоги на уловы, поскольку с рыбаков взимали дань даже за те дни, когда улов был ничтожным.
И это участь живого бога?
Обращение к перевернутой голове
Вдалеке завыла собака, протестуя против прихода ночи, и этот вой вызвал беспокойство у одиноких людей.
Первый вечерний ветер коснулся веток деревьев и кустов роз в царских садах Ахетатона и надул паруса рыбацкой лодки. Заходящее солнце позолотило Великую Реку, гладь которой из-за паводка напоминала морские просторы. Природа взывала к откровению сердец и чувств.
Но для Макетатон это было невозможно. Она смотрела на пейзаж, пленницей которого была. У дверей стояла стража. Она подумала, что могла бы сбежать на лодке. Вот только куда бежать?
Она имела право принимать посетителей, но что это значит, если ты лишен свободы? Ей были неинтересны разговоры, которые она вела с двумя-тремя дочерьми знатных чиновников. Девушки приходили к ней, чтобы затем хвастаться знакомством со Второй царской супругой, и говорили только о нарядах и любовных похождениях. Также ей было абсолютно неинтересно беседовать с женами высокопоставленных чиновников, которые остались в Ахетатоне или уже успели вернуться. Они горели желанием знать, почему Вторая царская супруга не последовала за двором в Фивы. Но Макетатон держала язык за зубами, помня заповеди своей матери: царевна не должна посвящать посторонних в дела семьи. Поэтому она говорила этим сплетницам, что чрезвычайно утомлена и поэтому не смогла участвовать в празднествах, посвященных коронации.
Но ведь их нельзя было обмануть, поэтому все то и дело сплетничали о царевне, заключенной в Ахетатоне.
Макетатон написала деду, жалуясь на свое заточение. Получил ли он ее письмо? Или его перехватил интендант? Все еще не было никакого ответа. Несомненно, Ай смог бы противостоять царскому гневу и силой освободить свою внучку.
Как долго она еще будет оставаться пленницей по приказу царя? Ее гнусная сестрица и ее ненавистный супруг, без сомнения, ждали, когда она попросит прощения. Пусть себе ждут. Она к ним испытывает лишь чувство глубокого отвращения. Она не хотела участвовать в жизни двора: они все отравители, предатели и интриганы!
Знатные вельможи, возвратившиеся из Фив, чтобы подождать, когда там все устроится, рассказывали своим домочадцам о грандиозной церемонии коронации. А слуги Дворца царевен, собрав то тут то там разные новости, в свою очередь, рассказывали все Макетатон.
Пришли слуги. Одни из них зажигали лампы в почти безлюдном дворце. Другие подавали ужин. Только кухарки, прачки да дворцовые служители еще что-то делали. Пивовары и пекари последовали за царской четой в Фивы. Пиво и вино, которое подавали последней обитательнице дворца, были куплены в городе.
Макетатон рассеянно поужинала салатом из огурцов с маслом и жареной свининой. Она с нетерпением ждала, когда уйдут слуги.
Когда убрали со стола, кормилица тихо сказала ей:
— Она пришла.
Макетатон быстро встала и приказала впустить посетительницу. Через несколько мгновений робко вошла женщина. Она была закутана в темный плащ, который скрывал ее фигуру и почти полностью — лицо. Луч света скользнул по ее лицу, похожему на адскую маску. Женщина пала ниц перед Макетатон, коснувшись лбом пола.
— Встань.
Женщина повиновалась.
— Я хочу увидеть твое лицо.
Тощая рука откинула капюшон: женщине было лет пятьдесят, у нее было морщинистое лицо и большие глаза, обведенные сурьмой, стекающей по морщинкам. Никакого парика, темные волосы, сильно поседевшие.
— Как тебя зовут?
— Судха Хекет, божественная царевна.
Славящая Хекет, богиню с головой лягушки.
— Садись напротив меня, — приказала Макетатон, усаживаясь на низкий табурет. — Дай ей вина, — велела она кормилице. — Наша встреча должна остаться тайной, ты слышишь меня, Судха Хекет?
— Божественная царевна, я умру в то же самое мгновение, как мой язык предаст меня. Мне уже больше полсотни лет. Подумай, достойна ли я твоего доверия.
Макетатон кивнула.
— Я хочу проклясть тех, кто предал моих отца и мать, — сказала она.
— Божественная царевна, разве кровь Осириса не течет в твоих жилах? Боги на твоей стороне.
— Нет. Оставим в покое богов. Мне нужно заклятие против предателей.
— Это другое дело.
— Они могущественны.
— Кто может быть могущественнее вечных, божественная царевна? Нам нужно будет использовать зло против зла.
Макетатон хлопала глазами. Она ничего не понимала.
— Нам нужно будет вызвать Апопа, — сказала чародейка, — царя демонов.
Апоп, великий змей! Повелитель Зла!
Макетатон глубоко вздохнула. Отступать было некуда.
— Пусть он покарает предателей, — пробормотала Макетатон, — пусть он заставит их жрать пыль!
Чародейка достала из складок своего плаща небольшой кусочек воска.
— Сколько их? — спросила она.
— Двое.
— Кто они — мужчины, женщины, божественная царевна?
— Мужчина и женщина.
Чародейка достала из своего плаща нож и разделила кусочек воска на две части. Потом стала мять одну из половинок. Макетатон смотрела на костлявые длинные пальцы, которые мяли и сворачивали черноватый воск и придавали ему форму, напоминающую человеческую фигуру, фигуру мужчины с огромным фаллосом.
Макетатон вздрогнула и вспомнила ту ночь, когда она застала Меритатон и Сменхкару в саду. У нее запылали щеки. Потом она вспомнила другую ужасную ночь, когда отец сделал ее Второй царской женой, соединясь с ней в ее покоях.
Он лишил ее девственности! Ее собственный отец! Она вспомнила его извращенные ласки. Как после такого Меритатон может переносить прикосновения мужского члена? А эта липкая и отвратительная жидкость, которая вытекала из него после этих ужасных движений! Действительно, ее сестра была развратной особой.
Макетатон спросила себя: а Анхесенпаатон? Ее тоже лишил девственности отец? Она задала этот вопрос матери, но та на него не ответила. Анхесенпаатон решительно отказалась отвечать на вопросы, которые задавала ей старшая сестра.
— Здесь есть жаровня? — спросила колдунья у кормилицы. — Принеси ее. А еще мне нужно немного дров и жар.
Кормилица отправилась в кухню на поиски требуемых предметов, которыми пользовались только зимой. Прошло много времени. Ночь нашептывала что-то, используя негромкое кваканье лягушек, которые праздновали окончание паводка. Колдунья и ее клиентка смотрели друг на друга через пустыню холодной ненависти. Сколько жизней извела эта женщина? К тем, против кого были направлены ее заклинания, она не испытывала никаких чувств. Она была лишь инструментом страстей человеческих и обращалась как к добрым, так и к злым силам. А они действовали по собственной воле, слишком занятые собой, чтобы показываться и вмешиваться в дела людей.
Так же как и боги, силы Зла умирали, если люди не оказывали им почестей.
Наконец вернулась кормилица. Судха Хекет закончила делать вторую фигурку. Она поставила жаровню между собой и Макетатон.
— У тебя есть какие-нибудь предметы, которые принадлежат предателям? — спросила она, когда первая статуэтка была слеплена и она принялась за вторую.
Макетатон задумалась. В пустой комнате ее сестры не осталось практически ничего, а в покои Сменхкары у нее никогда не было доступа. Но все-таки она встала, собираясь порыться в комнате своей сестры в присутствии испуганной кормилицы. По дороге она взяла лампу. Что она может найти в комнатах, которые были чисто выметены? На ложе, естественно, ничего не было. Сундуки увезли. Она открыла шкаф и посветила там тусклой лампой. Что-то блестящее привлекло ее внимание. Это была золотая булавка, затерявшаяся на полке. Она достала ее и принялась рассматривать. Да, булавка для фиксации короны на парике. Вполне возможно, что она принадлежала ее сестре.
Но у нее не было ничего, что принадлежало бы Сменхкаре.
Она вернулась и протянула булавку Судхе Хекет.
— Я нашла только это. Это принадлежит одному из предателей. Никакой вещи другого у меня нет.
— Тогда напиши его имя на обрывке папируса, божественная царевна. На маленьком клочке.
Папирус? Что это выдумала ведьма? Он был предназначен только для царских и других официальных документов. Ей с трудом удалось выпросить у писарей лист папируса, на котором она написала письмо деду. А теперь, когда писари уехали, во всем дворце не сыскать и следа папируса.
— Если у тебя нет папируса, напиши на кусочке дерева, — сказала Судха Хекет, протягивая Макетатон щепку, которую она достала из жаровни.
Но у царевны не было ни пера, ни чернильницы. Она должна была спуститься в зал писарей на первом этаже, чтобы поискать их.
— Тогда нацарапай его булавкой, так даже лучше, — сказала Судха Хекет.
Макетатон принялась за дело. Когда имя было написано, колдунья осушила кубок с вином, зажгла веточку от пламени лампы и подожгла дрова. Потом она достала пакетик из своей котомки и высыпала его содержимое в огонь. Дым стал плотным и приобрел синеватый цвет. Макетатон узнала запах камеди.
— Аура, — воскликнула колдунья хриплым голосом, — я знаю твое имя, я призываю тебя!
Слово «аура» означало «перевернутая голова».
— Хемхемти, я знаю твое имя, я призываю тебя.
Ворчун.
— Кету, я знаю твое имя, я призываю тебя.
Причиняющий Зло.
Чуть живая от страха, кормилица вытянула шею, чтобы лучше слышать.
— Амам, я знаю твое имя, я призываю тебя.
Пожирающий.
— Саатет-та, я знаю твое имя, я призываю тебя.
Погружающий Землю во Тьму.
Кормилица икнула. На террасе захлопала крыльями какая-то птица.
— Иубани, Кермути, Унти, Каруемемти, Кесеф-хра, Сехем-хра, Най, Уай, Бетешу, Каребуту, я знаю ваши имена, я вас призываю.
Над жаровней затрепетало пламя.
— Апоп, ты видишь, я знаю все твои имена, приди к твоей слуге Макетатон, которая умоляет тебя помочь ей. Два человека должны быть наказаны.
Крупный ночной мотылек летал возле огня. Может, он отравился дымом. Он упал в огонь, как жертвенная птица. Макетатон наблюдала за этой сценой не мигая. Колдунья взяла у нее из рук щепку с нацарапанным именем и проткнула ею голову фигурки с фаллосом. Во вторую фигурку она вонзила золотую булавку.
— Апоп, хранитель Великого Равновесия, уничтожь могущественных, причинивших вред твоей рабе Макетатон, которая признает тебя и просит твоей силы для их уничтожения.
Откуда она знала, что они могущественные?
Макетатон внезапно подпрыгнула. Она могла поклясться, что видела тень, мелькнувшую в глубине зала. Небольшая тень, горбатая и безобразная.
— Я чувствую, — сказала колдунья. — Апоп пришел.
Кормилица, онемевшая от ужаса, вытаращила глаза. Колдунья бросила первую статуэтку в огонь. Воск таял быстро, пропитывая дрова, из углей вырвался длинный язык пламени. Вечерний ветер закружил его, и над ним поднялся черный дым.
Вторая фигурка, в которой была золотая булавка, отправилась за первой. Она таяла, огонь метался. Короткие языки пламени дергались в жаровне. Колдунья вскинула брови.
— Один из этих людей защищен, божественная царевна, — Апоп не может до него добраться…
Сердце Макетатон отчаянно забилось. Она проглотила слюну.
— Никто не может приказывать Апопу. Его можно только просить…
Прошло неизвестно сколько времени. Пламя утихло.
— Вот и все, божественная царевна. Я сделала все, что было в моих силах.
Макетатон кивнула. Она разжала кулак, который все это время был сжат. В ее руке оказалась золотая пряжка, украшенная большим красным камнем. Она протянула ее колдунье.
— Иди, — сказала ей Макетатон.
Колдунья посмотрела на пряжку, и ее глаза округлились. Это была царская награда. Она встала, пала ниц перед царевной и поцеловала ей руки. Потом она завернулась в свой плащ и ушла, обойдя большой бассейн, в котором плавали давно закрывшиеся лотосы, потому что здесь уже прошел Анубис.
В глубине жаровни все еще краснела головка булавки, как глаз какого-то жука.
Проснувшийся кошмар
Меритатон, ее супруг, Тутанхатон и Анхесенпаатон почти каждый день ужинали вместе. Для них это был способ почувствовать себя естественно в чуждом мире, а особенно в этом неуютном дворце.
— Снадобья Аа-Седхема творят с Сетепенрой чудеса, — сказала Меритатон. — Ей стало лучше уже на следующий день, к ней даже вернулся аппетит.
— Аа-Седхем великолепный целитель, — произнес Сменхкара.
Меритатон не стала называть другие причины, по которым Аа-Седхем получил благосклонность царя.
— А теперь заболела Нефернеферур, — сообщила Анхесенпаатон.
— Все больны, — философски заметил Тутанхатон.
— Аа-Седхем обратил мое внимание на то, что мы питаемся только дынями, огурцами и хлебом, — добавила Меритатон. — Он говорит, что слабость желудка из-за этого.
Сменхкара подумал о том, что с момента его приезда в Фивы он ни разу еще не спал спокойно. Мало того, что он просыпался от обильного потоотделения, так на рассвете его будили крики сменяющейся стражи и грохот прибывающих тележек с провизией. Все искусство Аа-Седхема было бессильно, и все его очарование не могло привести в чувство возлюбленного.
А Меритатон не могла выделить и пару часов для свидания с Неферхеру. Она изнемогала от усталости, потому что ее забрасывали просьбами об аудиенции бывшие придворные дамы. Они надеялись восстановить давно прерванные отношения с царской семьей. Приходили жены жрецов и представителей городской знати.
Жена Хумоса навязала ей свою Хранительницу гардероба, хотя это место уже было занято. Шпионка, без тени сомнения. Что касается косметических принадлежностей, которые хранились в небольшом помещении рядом с гардеробом, то они казались бесполезными: краски держались на лице не больше часа.
По-прежнему скрытный Тутанхатон ни на что не жаловался, но был бледнее обычного и выглядел не таким бодрым, как в Ахетатоне.
Анхесенпаатон была мрачной: она виделась с Пасаром, который полностью занимал ее мысли, только по окончании уроков, в пять часов. Единственным местом для игр, какое им удалось найти, была крыша дворца. Но там было невыносимо жарко, блестевшая на солнце крыша просто ослепляла. Кроме того, там постоянно находились сонные стражники.
Интуиция помогла ей установить связь между мучительной сценой в саду в Ахетатоне и переездом в Фивы. Объяснения Меритатон по поводу пощечины, которую она влепила сестре, удовлетворяли Анхесенпаатон лишь частично: «Макетатон потеряла рассудок. Она считает, что я и Сменхкара отравили мою мать».
Все это было непонятно.
После смерти отца, а особенно после смерти матери, мир вокруг становился все более мрачным. Три недели пребывания в Фивах превратили ее жизнь в скучное утомительное существование.
В итоге она пришла к такому выводу:
— Нам было лучше в Ахетатоне.
После этих слов наступила долгая
тишина.
— Действительно, нам было лучше в Ахетатоне, — подтвердил Сменхкара.
Все присутствующие обменялись вопросительными взглядами. Все об этом думали вот уже много дней, но еще никто не осмеливался произнести это вслух.
— Мы могли бы время от времени бывать там, — произнесла Меритатон. — Так было бы лучше для моих сестер.
— Но не для Макетатон, — сказала вдруг Анхесенпаатон.
Тутанхатон рассмеялся.
— Ну что ж, я понял, — заявил Сменхкара. — Завтра и отправимся.
Все изумленно посмотрели на него.
— Навсегда? — ошеломленно спросила Меритатон.
— Нет, на две или три недели, а там посмотрим, — неопределенно ответил Сменхкара.
Это решение вызвало неудовольствие царских приближенных.
— Ты же только три недели назад прибыл сюда, мой царь, — заметил Тхуту. — И еще не все чиновники переехали в Фивы. Зачем же отправляться в Ахетатон?
— Но в Ахетатоне я пробуду недолго, — неуверенно ответил Сменхкара.
Этот ответ озадачил Тхуту.
— А царские приближенные, мой царь? Они тоже должны последовать за тобой в Ахетатон?
— Нет. Если будет необходимо принять важные решения, отправьте гонца.
«Если нужно будет принять решение после полудня, — думал Тхуту, — гонец доберется до Ахетатона лишь на следующий день к вечеру. Столько же понадобится времени, чтобы доставить ответ. Всего четыре дня для получения царского одобрения!»
Вмешался Майя:
— А дворцовые служащие, мой царь? Интендант, Первый распорядитель, прислуга? В Ахетатоне остался только один повар для обслуживания Второй царской супруги…
Сменхкара ненадолго задумался и сказал:
— Часть прислуги последует за мной.
«Значит, придется увеличить вдвое количество слуг во дворце», — подумал Майя.
— Что я должен сказать Хумосу, мой царь? — спросил Тхуту.
— Правду. Что в Фивах очень жарко даже во время Паводка, а ведь во время сезона Сева будет еще жарче. Поэтому по совету своего лекаря я должен на какое-то время переехать в прохладное место — в Ахетатон.
— От твоей великой мудрости, мой царь, не ускользнет то, что достигнутое перемирие со жрецами стало возможно не только благодаря твоей коронации в храме Амона, но и из-за переезда всего двора в Фивы. Твое возвращение в Ахетатон может быть расценено как шаг назад.
— Было бы полным абсурдом, — резко возразил Сменхкара, — если бы мир в царстве зависел от каждого моего передвижения. Твоей задачей будет убедить моих советников и фиванскую знать, что я еду в Ахетатон на время и связано это исключительно с состоянием моего здоровья. К тому же дворец в Фивах слишком тесен, а строительство нового займет не менее двух лет. А пока можно использовать более удобные здания, которые уже построены в Ахетатоне. Я буду иногда отдыхать там вместе со своей семьей.
— Мы можем использовать административные здания, мой царь, — предложил Тхуту. — Это все же лучше, чем позволить знати думать, что ты не можешь устроиться во дворце, который подходил твоему божественному отцу.
Сменхкара потерял терпение.
— Чтобы мне было достаточно комфортно, нужно будет занять все административные здания и перестроить их. Это непосильная задача, и я не думаю, что это лучший вариант. В Фивах недостаточно места для двора. Население здесь удвоилось за двадцать лет. Ты это знаешь так же хорошо, как и я. Здания нужно полностью перестроить. Фивам также не хватает садов. Я уже приказал, кстати, разбить один сад в южной части территории дворца. Но это лишь малая толика того, что необходимо сделать. В любом случае, я прошу тебя не думать, будто я сбегаю в Ахетатон. Этот город тоже часть царства, насколько мне известно. Поэтому я не вижу причин беспокоиться только потому, что я время от времени буду проводить там две или три недели.
Это было сказано тоном, не терпящим возражений. Тхуту предпочел больше не настаивать. Очевидно фараон не до конца представлял себе символическое значение Ахетатона для придворных, священнослужителей и знати, особенно для тех, кто проживал в Фивах. Фивы чувствовали себя брошенными, даже забытыми во времена правления Эхнатона.
Тхуту поклонился.
— Когда мой царь желает отбыть?
Вопрос удивил Сменхкару: он же отдал приказ Уадху Менеху еще утром приготовить «Славу Атона» к отплытию после полудня.
— Сегодня после полудня, — ответил он.
— Могу я высказать одно пожелание по этому поводу, мой царь?
— Я тебя слушаю.
— Не стоит ли подумать над тем, мой царь, чтобы дать твоему кораблю другое имя?
Сменхкара решил, что к мнению своего советника стоит прислушаться. Теперь судно следовало назвать «Слава Амона».
— Для смены имени понадобится один день, мой царь. Столько же времени мне нужно, чтобы подготовить жрецов.
Советник мрачно посмотрел на Сменхкару, ожидая, какой будет его реакция.
— Говори же, — приказал Сменхкара.
— Прости меня, мой царь, но как долго Вторая царская супруга будет пребывать в Ахетатоне?
— Я этого не знаю, — ответил Сменхкара. — Почему ты спрашиваешь?
— Царские придворные и городская знать интересуются причиной ее долгого отсутствия, мой царь. Никто во дворце не в силах объяснить этого. И эти загадки могут только повредить твоей славе.
Сменхкара внимательно посмотрел на Тхуту. Знал ли тот о перехваченном писарями Маху письме, которое Макетатон написала Аю? Эта глупая болтунья решила, что может доверить капитану баржи послание на папирусе, что он отправит его в Ахмин и что об этом никто не узнает.
— Я подумаю, что можно предпринять, — ответил Сменхкара.
На самом деле ему не приходило в голову, как поступить в этом случае. К тому же ему не давали покоя нерешенные вопросы. У него хранились документы, изъятые из зала Архива Ахетатона той ночью, когда он застал Меритатон с Неферхеру. Аа-Седхем сказал правду: Тхуту скрывал от Эхнатона донесения о проблемах царства. Почему? Какова была его цель? Неужели он пытался таким образом ослабить царскую власть? Если он планировал изолировать фараона, то почему он изменил тактику? Почему сейчас он прикладывает все усилия для укрепления царского авторитета? Какие игры он ведет?
Сменхкара долгое время откладывал беседу с ним по этому поводу. Просто он не хотел отталкивать от себя человека, который оставался верен ему во времена опалы. Но теперь необходимо было получить ответы на все вопросы.
Он вздохнул.
Оставалось сообщить Меритатон и остальным участникам путешествия о досадной задержке. Потом составить список тех, кто поедет с ним. Уадх Менех? Нет, ведь речь идет не о переезде Двора, поэтому в присутствии Первого распорядителя не было необходимости. Главный интендант? Да, потому что придется обживаться во дворце. Хранитель гардероба? Нет, потому что царь берет только самые необходимые вещи на время своего пребывания в Ахетатоне, ему не будут нужны церемониальные одеяния. Кроме того, Сменхкара был доволен тем, что пресек нескромные посягательства Аутиба. Второго хранителя гардероба будет достаточно. Повара? Конечно — трое.
Он подумает и об остальных.
Меритатон наверняка тоже составляла список, и, несомненно, Хранитель духов уже был включен в него.
Глядя, как коричневые потоки скользят вдоль бортов «Славы Амона», Меритатон думала об ожидающей ее в Ахетатоне проблеме — о том, как ей поступить с сестрой. Она не сомневалась, что найдет там разъяренную львицу. Но не могли же они выделить для содержания этой мегеры целый дворец!
На носу корабля стояли Анхесенпаатон и Пасар, отпущенный из школы по личной просьбе Главного царского писаря, и смотрели на Великую Реку, более спокойную, чем во время пути в Фивы.
«Как все меняется! — думала Меритатон. — И как быстро!» С течением времени менялись даже ритмы движения солнца и луны. Ей казалось, что за несколько месяцев она прожила несколько лет.
Аа-Седхем, сидящий на корме вместе с кормилицами, казался бесстрастным.
Ситуация повторялась, отметила Меритатон. С той лишь разницей, что она больше не злилась на Приближенного к телу царя. На самом деле она даже была ему благодарна за то, что он гасил царский пыл. Она не испытывала никакого физического влечения к этому человеку с хрупким нежным телом. Особенно царь был ей неприятен, когда она думала о Неферхеру и представляла его крепкую фигуру. Она боялась, что в Фивах Сменхкара захочет разделить с ней ложе, но опасения были напрасны.
Она посмотрела назад: лодка, на которой плыли Неферхеру, несколько писарей, чиновники и дворцовые служащие, в том числе и повара, была недалеко. Меритатон была рада, что оставила в Фивах Хранительницу гардероба, навязанную ей женой Хумоса.
— Что же делать с Макетатон? — прошептала она на ухо своему супругу.
— Я думал об этом. Отправим ее в Северный дворец.
— Она наверняка написала Аю.
Сменхкара был удивлен: она сама догадалась или ей кто-то сообщил?
— Он ничего не может сделать для нее, — заявил он. — Разве что начнет военные действия, а это только хуже для него. И он это хорошо знает. Гарнизон остался в Ахетатоне, охрана тоже сможет дать отпор. Итак, Дворец царевен будет снова в распоряжении твоих сестер.
— А как же она?
Сменхкара вопросительно посмотрел на нее.
— Что будет с ней?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Лучшее, что она может сделать, это попросить у нас прощения.
Смелое предположение.
— У меня есть доказательства того, что она с Аем заодно.
— Но что они могут предпринять против нас? — воскликнула Меритатон.
Он снова пожал плечами.
— Самое большее — будут нашими врагами, находясь каждый в своих стенах. Макетатон подрывает авторитет царской семьи, и это плохо.
— Ее настроил против нас Ай. Мы должны следить за ним, — предположила Меритатон.
— Хорошая идея, — поддержал ее Сменхкара. — Я поговорю об этом с Маху.
Но Маху остался в Фивах. Ну что ж! Он вызовет его в Ахетатон.
Сменхкара был счастлив покинуть столицу хотя бы на несколько дней.
Несколько дней.
Вдруг, ни с того ни с сего, ему показалось, что он блуждает в одиночестве, борясь с враждебными потоками, и что «Слава Амона» — погребальный корабль, который несет его в иной мир.
Царство ему представилось чудовищным животным, которое совершает опасные прыжки. Возможно даже, что царство было самим Апоном…
Демон добрался до него…
Пленница, дерево, сумасшедшая змея
Забыв о приличиях, Анхесенпаатон первая спрыгнула с борта «Славы Амона» на деревянную пристань. Пасар прыгнул следом за ней. Жизнь в Фивах была такой же мучительной, как и траур по матери. Здесь царевна чуть ли не танцевала от радости. Она бегала по саду, уже не такому ухоженному, как раньше, среди кустов роз из Куша, по саду, стены которого поросли резедой и жасмином.
Сменхкара и Меритатон смотрели на знакомый пейзаж и позолоченные стены Царского дворца и Дворца царевен. Они пребывали в умиротворении. Нет, Фивы не разрушат Ахетатон! Потом их внимание привлекло какое-то движение на террасе Дворца царевен. Макетатон. Она увидела, что они вернулись.
Вскоре на берег сошли пассажиры второй лодки: интендант, три повара, Второй хранитель гардероба и, конечно же, Неферхеру. Главный интендант бросился к своему господину, чтобы встретить его. Решение о поездке в Ахетатон было принято так быстро, что ни Уадх Менех, ни интендант не успели отправить гонцов, чтобы организовать встречу царской семьи. Интендант молил Сменхкару простить его за это.
— Так даже лучше, — ответил Сменхкара.
Целое утро понадобилось для того, чтобы навести порядок в царских покоях. К счастью, в Фивы увезли не все имущество. Многое даже пришлось вернуть, потому что там не нашлось места для всего.
После того как все быстро перекусили, Меритатон сказала своему супругу:
— Необходимо решить судьбу Макетатон.
Сменхкара согласился с этим и приказал интенданту позвать взбунтовавшуюся царевну в сад.
Та посмотрела на посланника, как на попрошайку.
— Иди, — сказала она наконец, — я спущусь за тобой.
Она неторопливо прошла в сад и уселась перед Сменхкарой и Меритатон. Потом заявила царской чете:
— Вы хотели меня видеть. Зачем я вам нужна?
Ничуть не растерявшись, Сменхкара ответил:
— Твое отношение к нам обоим было недопустимым. Я бы хотел услышать, что ты сожалеешь об этом.
— Я ничуть не сожалею об этом. Я не отказываюсь ни от одного своего слова.
И она смерила презрительным взглядом и царя, и его супругу.
— Ты распространяешь клевету и оскорбления, ты в заговоре с господином Аем против короны, — продолжал Сменхкара. — Письмо, которое ты ему отправила, было перехвачено и скопировано для меня.
Она содрогнулась, услышав, что ее разоблачили.
— Из этого следует, что я был слишком добр, разрешив тебе общаться с внешним миром. Возвращайся к себе и жди, тебя отвезут на носилках в сопровождении охраны в Северный дворец.
Побледнев, Макетатон встала, с ненавистью глядя на свою сестру и Сменхкару.
Сменхкара позвал интенданта и приказал ему передать в гарнизон Ахетатона, чтобы направили отряд охраны во дворец.
— Она там не выживет, — сказала Меритатон, потрясенная разговором с сестрой. — Или попытается сбежать оттуда.
— Я не допущу, чтобы она присоединилась к Аю.
После этого все отправились в свои покои.
Анхесенпаатон с сестрами и их кормилицы направились во Дворец царевен. Нужно было найти рабов, которые будут прислуживать им.
Пасар, конечно же, пошел к родителям, которые очень гордились тем, что их сын теперь входит в царскую свиту.
Сменхкара был счастлив попасть в свои покои в Царском доме, а Меритатон обосновалась в покоях матери в Царском дворце. Теперь ей не нужно было спускаться в подземелья, чтобы увидеть своего возлюбленного.
Вскоре она отправилась во Дворец царевен, чтобы проследить за тем, как устроились ее сестры. В большом коридоре на первом этаже она заметила недалеко от террасы жаровню, пепел из которой ветер разметал по полу.
— Что здесь делает эта жаровня? — спросила она.
Служанка поспешила убрать ее. Меритатон удивилась, что по такой жаре разводили огонь. Она заметила, что пепел был совсем свежим и с любопытством склонилась над жаровней. Она разглядела блеснувший кусочек золота. Меритатон достала его из пепла и увидела, что это была оплавленная огнем золотая булавка.
Царица удивленно вскинула брови. Для чего был нужен этот огонь? Заподозрив неладное, она подошла к закрытой двери, ведущей в комнату Макетатон. Это был знак: ее сестра, снедаемая ненавистью, стала походить на закрытую комнату. Значит, она занималась колдовством.
Меритатон пообещала себе расспросить обо всем кормилицу.
«Словно спелый сочный фрукт», — подумала она. Вот уже несколько месяцев она не притрагивалась к возлюбленному. Он прерывисто дышал. Ему не нужны были ласки. Она положила руку ему на плечо.
Она изнемогала от его страсти.
Ее дыхание тоже стало прерывистым.
— Сейчас, — сказала она.
Два времени слились в их телах — время Паводка и время Сева.
Когда все закончилось, он не выпустил ее из своих объятий. Они сцепились, словно когти гигантской птицы. Их губы слились, он полностью растворился в ней.
Снова они отделились от мира, утонув друг в друге. Солнце растворилось в Луне, они вдвоем создали новое светило — Луну-Солнце.
Все начиналось снова.
К нему постепенно вернулось дыхание.
Ночной ветер освежил их тела, возродил их души.
Она нежно отстранилась.
— Я чуть не умер, — прошептал он, пододвигаясь к ней и снова сжимая ее в своих объятиях. — В этот раз ты отдала мне все. Она долго ласкала его, гладила пальцами ухо, бровь, нос, рот. Она точно высчитала свой день.
Пел комар, наверное, в ознаменование этой ночи — ночи зачатия.
Прошло несколько дней. Однажды после полудня Сменхкара присоединился к своей супруге в ее спальне. Она отдыхала, как обычно после обеда. Он сел рядом с ней и стал гладить ее ноги. Они обменялись взглядами. Просьба и удивление.
Свершилось! Она так боялась этого визита! Но этот молодой мужчина был и царем, и ее мужем. И он был красив. К тому же они были союзниками в борьбе против могущественных недоброжелателей.
Он снял с нее платье и стал ласкать бедра. Потом поднялся выше. Он был ловок. Сменхкара избавился от своей набедренной повязки и лег рядом с ней.
Она запретила себе делать любые сравнения.
Ему даже удалось вырвать у нее несколько стонов.
Потом она забылась ненадолго, а он лежал рядом с ней. Она смутилась, подумав, что Неферхеру был похож на дерево, а Сменхкара — на тростник. Тростник вызывал у нее беспокойство и нежность.
Он пришел к ней в поисках того, чего ему не мог дать Аа-Седхем: ему нужен наследник, который был бы гарантией выживания.
Ребенок был более ценен, чем искусство лучшего бальзамировщика царства.
Она снова открыла глаза. Он тоже заснул. Меритатон смотрела на его хрупкие плечи, такие же, как и у его брата, тонкую нежную кожу, ноги почти как у женщины. Она погладила его по щеке и спросила себя, гладил ли его по щеке Аа-Седхем.
Позже, когда он встал, собираясь вернуться в Царский дом, чтобы помыться перед ужином, она чуть не сказала ему, что гнездо уже занято, но не стала этого делать. Зачем причинять ему боль?
Сейчас, как никогда, она осознавала ранимость царя.
Дни складывались в недели. В дневное время дул ласковый ветер, который становился прохладным по вечерам, между мужественными объятиями Амона-Ра и материнскими объятиями Нут, поддерживающей ночное небо и звезды.
Был месяц Койяк, четвертый и последний в сезоне Паводка.
Из Фив прибыли два гонца с посланием от Тхуту: в большой провинции Абду вспыхнуло восстание крестьян, которые считали условия своего труда невыносимыми. А охранники центра провинции отказывались вмешиваться, считая восстание оправданным. Вскоре начинались дни странствования Осириса, это был самый большой праздник в царстве. Тхуту спрашивал, согласен ли царь отправить в Абду гарнизон или фиванских охранников?
Сменхкара продиктовал одному из писарей следующий ответ:
Отправьте охранников. Армия не должна сражаться с подданными царя. Прикажите землевладельцу от имени номарха облегчить условия труда крестьян. Такое восстание не должно повториться.
Тогда один из гонцов задал царю вопрос от имени Тхуту: сообщит ли божественный царь своему слуге дату его возвращения в Фивы?
— Я вернусь очень скоро, — ответил он.
Через три дня гонцы прибыли снова. В Абду все закончилось очень плохо. Крестьяне убили землевладельца и его семью. Так как это было преступлением, начальник фиванских охранников спешно направился в Абду, чтобы восстановить порядок, и посадил зачинщиков в тюрьму. Хуже того, номарх провинции, в которой вспыхнуло восстание, не стал слушать советов начальника охраны, а начал вести подстрекательские речи и тоже был заключен под стражу. Верховный жрец храма Осириса весьма обеспокоен ситуацией. Советник предлагал отправить в Абду часть фиванского гарнизона, чтобы обеспечить мир во время праздника Осириса.
Сменхкара понял: надо действовать быстро. Это царство охватили конвульсии, подобные движениям гигантской змеи. Он решил ехать на следующий же день и приказал подготовить «Славу Амона» к отплытию.
Враги Осириса
По округе разносились рыдания.
«Они кричат! Они сеют раздор! Они совершили убийство! Они бросают в тюрьмы!»
Это священнослужители читали ритуальный текст, следуя за процессией.
Перед ними восемь жрецов несли на плечах платформу, обитую красной тканью, на которой возвышалась позолоченная, похожая на мумию статуя Осириса. Она вся была обвешана украшениями.
Во главе процессии торжественно шествовал царский посланник, мало изменившийся за прошедшие годы, и верховный жрец храма Осириса.
Тысячи людей — чиновники, землевладельцы, торговцы, ремесленники, крестьяне, рыбаки, мужчины и женщины, дети и старики, богатые и бедные — повторяли текст, который они знали наизусть с тех самых пор, когда стали устраивать этот праздник.
«Несчастье, несчастье! Они многочисленны, враги гармонии! Они многочисленны, враги бога богов!»
Звучание цистр и тамбуринов завораживало.
На празднике присутствовало не только почти все население нома Абду, но и большое количество жителей соседних номов. Были даже люди из оазисов и из поселений, расположенных возле Тростникового моря. Никто не собирался пропускать праздник Осириса. Представляя страсть первичного бога, это богослужение, самое распространенное в Двух Землях, символизировало трагедию людей и самых почитаемых простых духов.
Осириса, доброго и красивого бога, сына богов Нут и Геба, его брат Сет возненавидел за то, что он был любим всеми. Тайно он измерил Осириса и сделал очень красивый сундук. Потом на одном из празднеств, которые он устраивал, Сет заявил, что подарит сундук тому, кому он подойдет по размеру. После того как все гости попробовали полежать в сундуке, туда лег Осирис. В этот момент сообщники Сета захлопнули крышку сундука и, залив замок расплавленным свинцом, бросили сундук в море.
Это была аллегория предательства, жертвами которого становятся все люди на земле.
Исида, сестра и возлюбленная Осириса, начала поиски его тела. Она нашла сундук в Библосе и велела доставить его в Две Земли, чтобы похоронить.
Это была аллегория совершенной любви, которая побеждает смерть.
А Сет, отыскав место погребения Осириса, достал его тело и разделил на тринадцать частей. Потом Сет спрятал их в разных местах царства. Бедная Исида снова начала поиски. Она нашла все части, кроме одной, без которой Осирис не мог воскреснуть: это был фаллос. Наконец с помощью сочувствующего ей бога Ра, который направил ей в помощь Тота и Анубиса, она нашла недостающий фрагмент.
Вместе с Нефтидой они вернули его телу Осириса, и тот вознесся на небо к вечной жизни; которой он достиг благодаря любви и могуществу богов.
История Осириса примиряла людей с их земной судьбой, показывая, что даже боги испытывают такие же страдания. Конец истории символизировал исполнение извечной мечты смертных людей о вечной жизни.
По обе стороны процессии двигалась плотная толпа. Все хотели увидеть происходящее во главе процессии. Люди шли за ней до самого Священного холма.
Уже был третий день богослужений: В первый день тысячи людей наблюдали за прибытием бога на золотой лодке вместе со своей собакой Уапуута. Он охотился за злыми силами. Все восхищались человеком в собачьей маске, который с лаем гонялся за людьми с выкрашенными в черный цвет лицами. Потом состоялось погребение земных останков Осириса.
Под предводительством Уапуута двадцать человек, ритмично взмахивая палками, «избивали» чернолицых, которые пятились от них на четвереньках. И те и другие издавали возгласы:
— Ха! Хо! Ха! Хо!
Эти «побои» продолжались около часа, после чего на помощь небесным воинам пришли, согласно ритуалу, праведники. Потом появились персонажи в белых гипсовых масках. Это были души мертвых.
Праведники тоже принялись бить палками людей в черных масках. Изначально двойной ритм стал тройным: удары воинов, затем удары праведников, третий двойной удар наносили своим противникам злые силы:
тук-тук, тук-тук, тук-тутук…
Души мертвых хлопали в ладоши, соблюдая ритм.
«Они сеют раздор! Они совершают злые деяния! Они сеют несправедливость! Гибельный день, когда потухло Солнце! Гибельный день, когда упала Луна!»
И вдруг все услышали незнакомый текст, который произносили люди с выкрашенными охрой лицами.
«Они среди нас! Они преследуют справедливых! Они преследуют слабых! Горе врагам Солнца! Горе врагам Луны! Справедливые восстают и бьют их!»
Краснолицые были вооружены палками.
Несколько жрецов и священнослужителей повернули головы в их сторону. Краснолицые вырвались вперед и начали с криками избивать воинов. Другие, оказавшиеся в голове процессии, взялись за царского посланника. Они пытались сорвать с него золотые нагрудные латы. У посланника слетел парик. Раздались крики, завязалась драка. Носильщики опахал принялись защищать своего господина, нанося удары рукоятками опахал.
Тут же откуда-то сбоку из толпы выскочили охранники и попытались отогнать краснолицых от процессии. Их было много, около двухсот человек. Толкотня превратилась в потасовку. Статуя Осириса угрожающе раскачивалась на платформе. Раздавались крики паники и боли. Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем стража скрутила порядочно избитых краснолицых и отправила их в управу.
Раскрасневшийся после потасовки царский посланник подобрал свой парик, отряхнул его, как мог, от пыли и надел на голову. Не менее красный верховный жрец беспрерывно изрыгал ругательства. К счастью, охранники быстро справились с ситуацией. Церемония продолжилась. До Священного холма оставалось несколько минут ходу. Пока толпа распевала гимны, верховный жрец, царский посланник и священнослужители приступили к погребению бога — это был ритуал только для посвященных.
«Появились Четыре Стражника! Четыре Стражника восстановили порядок!» — пели священнослужители. Толпа пела вместе с ними.
Четверо мужчин в масках с головами ястреба, льва, змеи и быка отделились от толпы и стали заковывать в цепи злых людей с черными лицами. Ястреб символически пронзил их заостренной палкой.
«Хорус поразил их! Хорус вернул Солнце на место! Хорус вернул Луну на место!»
Львиную долю доходов Ай получал от торговли фимиамом, миррой, специями, жемчугом, кораллами и другими экзотическими товарами. У него была лавка в порту Косеира, на берегу Тростникового моря. Поставщики приплывали из таких далеких стран, что никто даже не знал их названий, но было точно известно, что их жители не умели получать бронзу. Десять наконечников стрел, выкованных в Мемфисе, стоили сто жемчужин или десять мешков гвоздики.
Один раз в месяц торговые представители господина Ая уезжали продавать свои товары в Фивы. Горожане были помешаны на предметах роскоши. Большим спросом пользовались масла цивета и мускуса для женских духов, перец и шафран, необходимые для приготовления жареной утки и для сохранения мужской силы, розовый жемчуг для нежных ушек и другие разорительные безделушки.
Торговые представители чаще всего останавливались в Ахмине, чтобы отчитаться, что они продали и что купили. Иногда Ай оказывал им честь и приглашал к себе на ужин. А если дела шли великолепно, то он устраивал для них представление с обнаженными танцовщицами.
Однажды, вернувшись из Фив, один торговый представитель доложил своему господину, что, вопреки бытующему мнению, царь находится не в древней столице.
Ай удивленно поднял брови и спросил:
— Кто-нибудь знает, где он?
— Я слышал, что он вернулся в Ахетатон.
Властелин Ахмина, отец жены военачальника Хоремхеба и умершей царицы теперь конфликтовал и с членами Царского совета, и со священнослужителями. У него были все причины подозревать Хумоса и других верховных жрецов как соучастников убийства своей дочери, поэтому он был очень осторожен и спал на своем корабле.
На следующее утро Ай отправился в трактир, где его никто не знал, и спросил у хозяина, не слышал ли тот о том, что правители перебрались в Ахетатон. Трактирщики и цирюльники лучше всех были осведомлены о делах в царстве.
— Нет, они все еще в городе, — ответил трактирщик.
Ай задумался. Ему были нужны более подробные сведения. Единственным человеком, с которым он смог бы об этом поговорить, был Пентью. Но бывший лекарь не знал, что Меритатон известно, что он отравил Нефертити. С Аем его связывало лишь то, что они оба участвовали в отравлении Эхнатона. Собственно говоря, у Пентью не было причин отказаться от разговора с Аем.
Ай отправился в зал Архива и попросил судебного исполнителя предупредить Пентью, что его у входа ждет «друг из Ахмина».
Через какое-то время пришел Пентью. Когда он увидел Ая, его лицо вытянулось.
— Господин Ай! — воскликнул он. — Какое счастье!
Ай ничего не ответил и лишь иронично смотрел на него.
— Пойдем в трактир, выпьем пива, — предложил он.
Пентью не мог ему отказать. Он знал, где находится ближайший трактир, в котором за большой кубок пива, вина или меда можно было заплатить маленьким медным колечком. Около дюжины торговцев утоляли жажду, сидя за столами, по которым ползали мухи — те тоже утоляли жажду, жадно набрасываясь на пролитые капли напитков. По вечерам здесь молоденькие девушки с разукрашенными грудями зажигали взгляды мужчин. Ай и Пентью выбрали столик в дальнем углу. Когда они уселись, Ай все так же иронично произнес:
— Я думал, что ты умер после разговора со Сменхкарой.
— Как видишь, нет, — сказал Пентью, пытаясь сохранить жизнерадостный тон. — Мне тогда стало плохо от жары.
— От твоих жарких признаний?
— Каких признаний?
— Меритатон спряталась за занавесом в кабинете Сменхкары. Она мне все рассказала.
Пентью побледнел. От страха пот выступил у него на лбу и над верхней губой. Онемев, он растерянно склонился над столом, вытянув шею.
— Ты рассказал Сменхкаре все, и он отдалил тебя, чтобы избежать скандала. Это ты дал яд моей дочери, — заявил Ай. Его голос дрожал от холодной ненависти.
Пентью оцепенел. Ай сделал большой глоток пива.
— Пей, тебе полегчает, — сказал он.
Ай спрашивал себя, может ли в этот раз Пентью не выдержать и умереть. В любом случае, бывший лекарь больше не разыгрывал комедию, пытаясь казаться жизнерадостным. Он взял кубок и долго пил из него.
— Как и все подлецы, Пентью, ты толстокожий, — равнодушно произнес Ай. — Ты столько людей втянул в свои махинации, что даже преступники не могут сдать тебя из боязни попасться.
— Царь простил меня, — хрипло сказал Пентью.
— Царь! — презрительно повторил Ай. — Этот земляной червь! Он простил убийцу своего брата. Какое великодушие! Он пощадил тебя, потому что ты помог ему избавиться от моей дочери!
Пентью сжал челюсти. Он не мог открыто объявить войну господину Аю, одному из самых могущественных людей страны. Ай был решительным человеком. Его агенты могли и не использовать яд, а просто пырнуть жертву кинжалом.
— Чего ты от меня хочешь?
— Я ничего не хочу. Я хочу знать, где Сменхкара?
— Он отправился отдохнуть в Ахетатон.
— Я знаю. Но что из этого следует?
— Дворец в Фивах очень мал для него и его семьи.
— Его семьи! Кто уехал с ним?
— Меритатон, ее сестры, Тутанхатон и кое-кто из приближенных, чиновники, слуги.
— Кто именно?
— У меня нет списка.
— Но ты можешь его получить.
— Что ты хочешь узнать?
— Кто любовник Меритатон?
Пентью удивился. Почему Ай интересуется такой ничтожной деталью?
— Не знаю.
— У тебя есть предположения?
— Есть один писарь, которого недавно сделали Хранителем духов, но я не уверен, что он ее любовник.
— Как его зовут?
— Неферхеру.
Ай кивнул.
— А Сменхкара?
— Насчет его похождений я вообще ничего не могу сказать. Но мой преемник, кажется, довольно близок к нему.
— Как его зовут?
— Аа-Седхем.
— Он занимает эту должность уже шесть месяцев?
Пентью удивлялся все больше и больше.
— Да, с того самого времени, как я был переведен в Архив.
— А до этого? Кто был его любовником?
— В конце концов, Ай, ты что, думаешь, я сплю под кроватью царя? Я не знаю!
— Но у тебя есть предположения, Пентью. Я же тебя знаю. Ты привык следить за всем. У тебя наверняка есть предположения.
Измученный Пентью осушил свой кубок.
— Есть у меня одна мысль, но это всего лишь мысль. Хранитель гардероба.
— Его имя?
— Аутиб.
Ай моргнул. Это имя ему называла Нефертити.
— Он еще занимает эту должность?
— По крайней мере, его имя присутствует в списке приближенных царя.
Пентью смотрел на своего собеседника и недоумевал: неужели господин Ай рассчитывает захватить трон, используя такие сведения? Но у него не было никаких сомнений: шакал Ахмина страстно желал сесть на трон.
— Я возвращаюсь к своей работе, — сказал Пентью, вставая из-за стола.
Он стал рыться в кошельке в поисках медной монеты.
— Оставь, — сказал Ай, — я тебя угощаю.
Пентью вышел, надеясь, что больше никогда в жизни не увидит Ая.
Ай тер подбородок. Хранитель духов. Приближенный к телу царя. Аутиб. Три мишени.
Тысяча золотых колец
Человеку свойственно считать, что, подобно богам, стоит ему только захотеть, и его желания исполнятся. Каждый человек живет в мираже своих иллюзий. Через десять веков на другом берегу моря, которое стали называть Средиземным, один греческий философ по имени Аристотель меланхолически укажет на склонность себе подобных к самообольщению, заявляя, что люди не хотят знать, они хотят верить.
Если бы Пентью подавил свое желание не видеть больше Ая, тот расспрашивал бы его дольше. Ведь Пентью был так же хитер, как и его собеседник, интересовавшийся внебрачными связями царя и царицы Двух Земель. Если бы он был хоть чуточку мудрее, он ничего бы не рассказал Аю. Но в истории царства Пентью был лишь второстепенным персонажем. У него недоставало сил сопротивляться потрясениям, которые устраивает злополучный змей Апоп, пытаясь перевернуть царскую ладью. Еще один мечтатель!
Расставшись с бывшим царским лекарем, Ай направился к северному входу в административные здания, находящиеся рядом с дворцом. Там он одному из стражников оставил сообщение: такой-то ожидает на судне из Ахмина. Потом он вернулся на «Счастье Атона». Через час на пристани показался гость; он узнал корабль и, поднявшись на него, церемонно поклонился Аю. Тот пригласил его присесть на одну из скамей на мостике и предложил ему пива.
— Ну как все прошло? — спросил Ай.
— Чудесно. Жуткий скандал. Впервые праздник Осириса был омрачен. Номарх сходит с ума от ярости. Он прибыл в Фивы требовать от Тхуту, чтобы он удвоил количество охранников в Абду. Последние события вынудили царя вернуться из Ахетатона. Но в Фивах он пробудет лишь пять дней. Ознакомившись с результатами расследования, он приказал усилить охрану в Абду.
Ай довольно улыбнулся.
— Было даже расследование?
— Охранники задержали семьдесят три человека, которые учинили беспорядки во время шествия. Их допрашивали, но они отвечали, что сами являются жертвами Сета и воинами Хоруса. Тогда охранники спросили, кто главарь, но ответа не получили.
— А землевладелец?
— Это знатный человек. Его, конечно же, отпустили после того, как он подписал показания, опровергающие тот факт, что он оскорблял номарха, начальника охраны и царя.
Ай кивнул.
— Хорошо. Теперь ты должен следить за тремя людьми. Запомни хорошо их имена. Одного зовут Неферхеру, он Хранитель духов и, без сомнения, любовник царицы. Второго зовут Аутиб, он Хранитель гардероба и, возможно, бывший любовник царя. Третьего зовут Аа-Седхем…
— Это царский лекарь. — Гость вздохнул. — Он не отходит от фараона ни на шаг.
— Да. Ты понимаешь, что я имею в виду.
— Понимаю. Нужно заслужить их доверие.
— И сделать так, чтобы они были готовы немедленно выполнить требуемое. Обещай не только золото, но и земли.
— У меня есть человек, который может нам пригодиться.
Он допил свое пиво, поблагодарил хозяина, поклонился, поцеловал ему руку и ушел.
По знаку своего господина капитан «Счастья Атона» отвязал веревки, с помощью которых судно удерживалось у пристани. На борту прозвучало несколько приказов, и корабль поплыл по мерцающим водам. Паруса надулись, и моряки забегали по палубе.
Прошло сорок дней. Шел первый месяц сезона Сева. Меритатон посмотрела в зеркало из полированной бронзы, и ей показалось, что ее лицо стало немного бледнее.
В положенное время очистительного кровотечения не было.
Она рассказала об этом Неферхеру. Тот просто засветился от счастья. Он целовал ей руки и ноги. Если когда-либо смертный и занимался любовью с богиней, то все равно он не был ей так предан, как Хранитель духов — Меритатон.
— Ты моя Нут, только моя! — сказал он ей. — Твой живот — это небо, земля и море. Твои груди — это солнца днем и луны ночью. Твои глаза — звезды. Твой рот — это лира Хатхор.
— Мин, — поправила она его, улыбаясь. — Ты каждую ночь возвращаешь меня к жизни. Когда ты дотрагиваешься до меня, мне кажется, что я умираю и потом снова рождаюсь.
Сменхкара не сразу понял причину радости своей супруги. Он сказал ей, что воздух Ахетатона более бодрящий, чем в Фивах. Она чуть было не ответила, что бодрит ее не воздух, а дыхание Неферхеру.
Впервые за свои восемнадцать лет жизни она почувствовала, что действительно живет.
— Что это значит? — взревел Хумос, шагая по залу своего дома в Карнаке. Там же находились еще один жрец, главный интендант земель Амона, секретарь начальника всей охраны Маху и старший сын Хумоса. — Он уже три месяца в Ахетатоне! В этом еретическом городе! Такие ужасные беспорядки произошли во время праздника Осириса, а он приехал только на пять дней! Он должен был присутствовать на празднике сам, по крайней мере в первый год своего правления.
Присутствующие были приглашены на неофициальное собрание, организованное верховным жрецом для подготовки необходимых царю сведений. Он лично пригласил Маху, но тот, как всегда осторожный, отправил вместо себя секретаря, чтобы сначала узнать, чего от него хочет верховный жрец.
— Он знает ситуацию, почтенный господин, — сказал секретарь. — Никакое решение не было принято без царского разрешения. Когда в Абду начались беспорядки, он приехал на следующий же день.
— Храм Амона является средоточием власти самого великого из богов, а царская власть происходит от божественной власти, — торжественно заявил Хумос. — Храм в Карнаке бросает свою тень и на Фивы, вот почему на протяжении веков этот город является столицей царства.
Второй жрец утвердительно кивал головой. Другие слушатели были удивлены такой принципиальностью Хумоса. Очевидно, в глазах верховного жреца ситуация выглядела весьма сложной.
— Разве не в Фивах короновался царь? — продолжал Хумос. — Разве не просил он о примирении всех жрецов царства? Разве мы не заключили договор с посланниками царя? Разве мы не отказались от постройки храма Амона в Ахетатоне, получив его согласие короноваться в Фивах? Что значит это возвращение в город Атона? Разве Фивы не достойны его царского присутствия? Наш божественный царь не может привыкнуть к городу, который вполне подходил его отцу?
После такой резкой критики повисло молчание. Всех охватило беспокойство: неужели снова начнется противостояние трона и жрецов, так вредившее Эхнатону в последние годы его правления?
— Фиванский дворец, почтенный господин, — наконец заговорил секретарь Маху, — мал для правителя, который привык к просторным дворцам Ахетатона. Ведь он попросил архитекторов изучить возможность постройки нового дворца на Великой Реке.
— Нам не нужен новый дворец, — возразил Хумос. — Нам нужен порядок в стране. Народ должен ощущать присутствие Царя, как ощущается присутствие бога в храме.
Последнее замечание задело секретаря Маху.
— Население Фив увеличилось за последние двадцать лет, почтенный господин, — настаивал он. — Мой господин Маху принимает меры по увеличению отрядов охраны с одобрения царя и советника Тхуту. Но этого не сделаешь за одну или две недели.
Хумос не стал продолжать свою резкую критику. Он не собирался спорить с Маху через его подчиненного. Было ясно: Хумос очень недоволен таким поворотом событий.
Несомненно, недовольны были и другие жрецы, начиная с его коллеги Нефертепа.
Слуги начали расставлять блюда на большом столе в центре зала. Собравшиеся устроились за столом, и разговор пошел на другие темы.
— Нард из Пунта, о высокочтимый господин! Понюхай, и ты никогда его не забудешь! Он предназначен только для божественных людей.
Неферхеру забавляло хвастовство маленького человечка, открывшего перед ним горшок с нардом. Оттуда вырвался сильный аромат, метнувшийся в ноздри, как спасавшаяся от врага птица. Торговец сказал правду: запах, мягкий и острый одновременно, был несравненным. В отличие от нарда, к которому Неферхеру привык, этот не был маслом. Он был похож на мазь почти белого цвета. Неферхеру догадался, каким образом она была приготовлена: цветы экзотического растения сдавливали между досками, смазанными говяжьим жиром. И так продолжалось до тех пор, пока жир не пропитывался ароматами цветов. Эту процедуру повторяли, видимо, несколько раз, потому что запах был очень сильным.
— Сколько?
— Восьмая часть от его цены. Один дебен, господин.
— За что я плачу? За вес горшка тоже?
— Что тебя беспокоит, господин? Ведь не ты платишь.
— Я счетовод моей госпожи царицы.
— Земные блага — дым на ветру. Сегодня корона, завтра крышка.
И снова крысиный взгляд.
— Что за речи такие?
— Птица чувствует грозу, змею торопит дрожь земли. Ты предпочитаешь быть птицей или змеей, господин?
Неферхеру посмотрел на торговца.
— Что ты пытаешься мне сказать?
— А ты, господин, что пытаешься не услышать? Твоим преемником станет тот, у кого слух будет тонок.
Может, это был сумасшедший? Неферхеру пошел во дворец, чтобы достать из сундука в комнатке для хранения косметики золотое кольцо — эквивалент одного дебена. Он был обеспокоен. Хоть Неферхеру и состоял на службе у царицы, он не принадлежал к чиновникам третьего класса, а значит, не мог арестовать этого хулигана и силой заставить его сказать то, на что он намекал. Правда, он мог сообщить какому-нибудь дворцовому чиновнику, но его реакция могла быть слишком жесткой. Лучше всего было узнать, что за сообщение ему пытался передать этот торговец благовониями, и понять, правдиво оно или нет.
Торговец взял кольцо, иронически осмотрел его, сделал вид, что изучает, а затем спрятал в складках пояса.
— Тысячу золотых колец получишь ты, господин, если у тебя тонкий слух.
Предложение было очевидным.
— Что я должен сделать?
— А! Звон золота радует сердце и смягчает чувства! Тысяча золотых колец, господин, за то, чтобы взять лодку Сета, когда он будет пронзать копьем змея Апопа, вместо того чтобы сесть в лодку мертвых, сопровождающуюся плакальщицами.
Неясная и в то же
время тревожная речь.
— Что я должен сделать, я тебя спрашиваю?
— Быть постоянно на службе Великой Всевидящей Нехбет, от ока которой не ускользнет и мошка.
Неферхеру вздрогнул. Нехбет была еще и богиней-защитницей родов. Было ли это намеком на беременность Меритатон? Но как этот уродец узнал бы об этом? Только он и она были хранителями этой тайны.
— Говори! — приказал он. — Или я заставлю тебя сказать.
— Господин, разве бьют собаку, чтобы заставить ее петь? Я взываю к твоей мудрости, чтобы ты понял, что жизненные циклы людей и богов совсем разные. Твои ноздри чисты, и ты учуял запах золота. Успокой свою душу. Я чувствую, что она взволнована. Очисть свой разум, и ты оценишь возможность, предоставленную тебе богами посредством моей несчастной персоны: прежде чем выжить в схватках небесных, выжить в земных.
Неферхеру еле сдерживал бешенство, опасаясь, что последствия могут быть очень серьезными. Он еще раз сказал себе, что лучше выслушать предложение этого посланника. А в том, что это был именно посланник, он не сомневался.
— Что я должен сделать?
— Узнаешь в свое время, господин.
— Но все-таки?
— Если бы я знал, господин! Скажу тебе только, что время придет.
Неферхеру не смог удержаться от вопроса, хотя знал, что на него не получит ответа:
— Кто тебя послал?
Обезьянья ухмылка расколола лицо продавца нарда на две части.
— Возможно, это был Хапи, господин? Или Хатхор? Анубис? Шу? Как я могу знать имена всех божественных сил? Разве я колдун?
— А как я могу знать, что время наступило?
— Птица спустится с неба, кот с чердака, оксиринк высунет голову из воды. Ты это узнаешь, господин, будь уверен. Когда увидишь тысячу золотых колец, надетых на обруч.
— Дай мне подумать.
— Кто я такой, чтобы мешать тебе думать, господин? Я вернусь, чтобы предложить тебе мускус, которым натирается лишь одна Исида.
Торговец закрыл свой сундук, церемонно поклонился и вышел за дверь.
Возбуждение Пасара, возбуждение Анубиса
Подобно свежему потоку крови, которая при пробуждении орошает тело, грязная вода паводка вдали от плодородных земель и каналов пробудила спавшие ростки, семена сорняков и зернышки, брошенные птицами. Она заставила расцвести даже дикие земли на севере от Ахетатона. Теперь там все зеленело. Тамариндовое дерево и олеандр господствовали там над плевелами и над экзотическими овсом, шафраном и тимьяном. Густые заросли укрывали гнезда куропаток и прятали норы кроликов, зайцев, кротов, мангустов и других скрытных животных.
Однажды в послеобеденное время Анхесенпаатон и Пасар, снедаемые жаждой приключений и скучающие в близких к дворцу садах, отправились открывать незнакомые земли. По правде говоря, они сбежали, воспользовавшись тем, что дворцовых служащих было меньше, чем прежде. Прогулка оказалась более впечатляющей, чем они представляли. Анхесенпаатон села, чтобы перевести дыхание. Они взяли с собой две дыни и лепешки, которые были моментально уничтожены, как только им захотелось пить и есть. Царевна прилегла в высокой траве в тени дикого фигового дерева, чьи ветки почти доставали до земли, и вскоре уснула.
Проснулась она оттого, что ей было очень хорошо. Она была в объятиях Пасара. Они еще никогда за все то время, что она его знала, не были физически так близки друг к другу. Более того, он отважился забраться рукой ей под платье и стал ласкать ее там.
Впервые в жизни она испытывала такие ласки. Рука мальчика путешествовала от лобка вверх, по животу, затем к грудям и снова вниз. Иногда она оказывалась между слегка раздвинутыми бедрами, проникая в самую интимную часть ее тела, в нее саму. Ее соски набухли. Невыносимые и в то же время головокружительные ощущения! Она повернулась к нему, их ноги переплелись. Анхесенпаатон открыла глаза, потом снова закрыла их и обняла Пасара.
Их лица были на расстоянии дыхания. Ей хватило одного небольшого усилия, чтобы добраться до губ Пасара. Как только их губы соприкоснулись, она больше не хотела отстраняться от них. У них было одно дыхание на двоих. Он застонал. Она ласкала его, удивленная, у нее закружилась голова оттого, что она повелевала телом Пасара. Он перевернул ее на спину, продолжая самые нескромные ласки. Анхесенпаатон вскрикнула, ее тело выгнулось дугой, и она затрепетала в руках мальчика, как пойманная птица, которая хочет улететь. Он сделал движение, которое ему показалось очевидным и неизбежным. Пасар был лишь на пороге своего желания, когда жидкость полилась из него. Он еще не умел сдерживать горячность своего тела. Хриплый стон вырвался из его рта. Он упал на Анхесенпаатон, тяжело дыша. Она обняла его. Он сжал ее тело с такой силой, которой даже не подозревал в себе.
Они расцепили руки. Пасар упал на спину, и они так лежали какое-то время, безразличные друг к другу. Она открыла глаза. Раскаленное небо сверкало. Анхесенпаатон положила руку на член Пасара. Он застонал. Царевна засмеялась. Потом погладила мальчика по голове.
— Ты моя, — прошептал он.
— Нет, это ты мой.
— Да.
Он поцеловал ее.
Мальчик протянул руку, сорвал несколько фиговых листьев, затем осторожно и нежно вытер живот Анхесенпаатон, потом вытерся сам.
Пасар сел, сжал ноги и обхватил их руками.
— Мы должны пожениться, — сказал он.
Анхесенпаатон ничего не ответила. Меритатон никогда не согласится на это. Она должна будет выйти замуж за Тутанхатона, и она знала, что это неизбежно. Анхесенпаатон сомневалась, что будет когда-либо бегать по полям с юным принцем.
— У тебя муравьи на плече.
Она согнала их несколькими щелчками, выбралась из-под дерева и распрямилась. Ее слегка шатало.
— Надо возвращаться, — сказала она.
— Торговец снадобьями хочет тебя видеть, твое превосходительство, — сообщил слуга Аа-Седхему. — Он говорит, что у него есть эликсиры и мази, подобных которым не сыскать во всем царстве.
— Где он?
— Он ушел. Сказал, что ты найдешь его на рынке в двенадцать часов возле стены с царскими указами. На груди он носит Гнездо Исиды.
Аа-Седхем удивился.
— Почему он не остался?
— Я предложил ему подождать, твое превосходительство. А он сказал, что такой исключительный товар, как у него, он может предложить только тайно.
— На кого он похож?
— На обезьяну, твое превосходительство, — ответил слуга с легкой улыбкой.
— Сумасшедший?
— Тебе виднее, мой господин. Но его товар был с ним. В черном сундуке.
Аа-Седхем пожал плечами и больше об этом не думал. Тайная встреча на рынке… Нет, это не для него! Царский лекарь не опустится до таких встреч.
К одиннадцати часам любопытство его все-таки одолело. Что это за таинственный товар, о котором говорил незнакомец? Аа-Седхем знал, что некоторые торговцы привозили с юга и востока редкие товары, даже неизвестные. Так он однажды купил мазь в виде белых шариков, которые чудесным образом убирали опухоли на коже, а еще был ликер, восстанавливающий кровотечения у женщин.
Вот только почему этот торговец так подозрительно себя ведет?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, а еще в надежде найти новое снадобье, Аа-Седхем решил пойти на рынок в сопровождении одного из слуг.
Он дошел до квартала, куда слуги из богатых домов и женщины низшего сословия приходили по утрам купить необходимые продукты. Рынок располагался на нескольких улочках по обе стороны от большой улицы, на которой возле прилавков стояли сонные ослы и мулы. Здесь на крючках висели вязанки лука и чеснока и кольца колбасы. Дальше стояли в ряд кувшины с маслом, сезамом и сафлором. Еще дальше мухи оживленно кружились над кусками говядины, баранины, мяса сернобыков, которые были подвешены под потолком самой большой мясной лавки Ахетатона. Над корзинами с красными финиками, привезенными с юга, и коричневыми из оазисов летали пчелы, они тоже явились на рынок чем-нибудь разжиться. Здесь же продавался мед в глиняных горшках. Сидевший на корточках ребенок предложил Аа-Седхему певчую птицу и большую красную ящерицу. И та и другая были заперты в клетки.
Он сразу нашел торговца снадобьями. Человекообразная обезьяна сидела на циновке в стороне от людей, золотое, или очень похожее на золотое Гнездо Исиды болталось у нее на груди. Сундук стоял рядом с торговцем.
— Посланник Тота пришел обогатить меня своими знаниями, — сказал торговец, широко улыбаясь.
Аа-Седхем сел рядом с ним.
— Почему ты не остался во дворце, если хотел меня видеть?
— Господин, твоя доброта безгранична, но я боялся, что меня, недостойного, прогонят из величественных покоев.
— Что ты продаешь?
— Посмотри, господин, — предложил торговец, открывая сундук.
Он достал оттуда небольшой флакон продолговатой формы, запечатанный воском и заполненный мутной жидкостью. Цвет стекла не позволял разобрать, какого цвета было содержимое флакона — желтого или серого.
— Знаешь ли ты, господин, о веществе, которое способно за несколько дней остановить скрытую медленную боль, которая незаметно растет внутри человеческого тела и приводит к смерти через несколько недель? Вот оно, господин.
— Из чего оно?
— Из целебной земли, господин. Из некоторых видов земли, обладающих целебным свойством.
Аа-Седхем кивнул, он уже слышал, что сероватый порошок, который добывают из земли, лечит истощение и болезни легких, но впервые ему предлагали его в жидкой форме.
— Сколько стоит это лекарство?
— Для такого знающего человека, как ты, нисколько, господин. Но никакие, даже самые чудодейственные снадобья не в силах противостоять воле богов.
Аа-Седхем вопросительно посмотрел на торговца. Что означали эти слова? Торговец еле заметно улыбнулся.
— Из-за своей безграничной доброты, господин, боги иногда останавливают человека, который препятствует их намерениям. Хотя кажется, что он совершенно здоров, собирается долго жить и произвести многочисленное потомство.
Аа-Седхем не понял этих слов, таких же странных, как и предыдущие. Но он не отрывал взгляда от торговца.
— А еще, господин, боги вознаграждают того, кто угадывает их волю. Ему достаются богатство и почести, он долго живет и восхваляет Амона, Тота, Хоруса и Анубиса.
Взгляды обоих стали тверже железа, но ни один не отводил глаз. Так они и сидели друг напротив друга, как две статуи.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил наконец Аа-Седхем.
— Когда дерево падает под ударами топора, господин, лучше не становиться на ту сторону, куда оно упадет.
— Какое дерево?
Он хотел услышать подтверждение своим опасениям.
— Большое дерево с трухлым стволом, которое вот-вот упадет от бурь. Брось его на землю.
Аа-Седхем сглотнул, внутри у него все сжалось. Его просят уничтожить Сменхкару?
— Кто тебя послал?
— Кто еще может послать одного человека к другому, как не бог? Ты меня больше никогда не увидишь, господин. Бог не повторяется. Слушай его весть из моих уст.
— Но что ты хочешь, чтобы я сделал?
— В назначенный час, господин, отправь его последнее сновидение к указанному человеку.
— Его последнее сновидение?
Торговец достал флакон из сундука и положил его в руку Аа-Седхема. Совсем маленький, флакон помещался в ладони.
— Этот сок растений, господин, вызывает сладострастные мечты, мечты об объятиях Анубиса.
Объятия Анубиса! Упоминание имени бога мертвых, обнимающего умершего, не могло быть случайным. Хозяева этого торговца, явившиеся из ада, знали больше, чем казалось на первый взгляд.
— Но как я узнаю время?
— Мир полон знаков и предзнаменований, господин. Ты не пропустишь его. Но будь бдительным! — повысив голос, произнес торговец. — Если ты не услышишь божественного предупреждения, окажешься под падающим деревом!
Сердце Аа-Седхема чуть не выскакивало из груди. Он неподвижно сидел перед торговцем.
— Подожди немного, — сказал тот, — я принесу тебе еще одно снадобье.
Он поднялся и пошел на соседнюю улочку. Вскоре Аа-Седхем спохватился, встал и приказал слуге позвать охранников. Через несколько минут они пришли на место, но торговец не вернулся.
— Вор скрылся в этом переулке, — сказал им Аа-Седхем. — Найдите его. Вы его узнаете — он похож на обезьяну.
Стражники отправились на поиски, Аа-Седхем пошел за ними. В переулок выходила только одна дверь. Стражники толкнули ее и обнаружили за ней лишь удивленную женщину, которая кормила грудью своего ребенка. Она никого не видела. Они пошли дальше по улочке, которая выходила на пустынный берег Великой Реки.
Пораженный Аа-Седхем вернулся. У него в руках все еще были два флакона. Сундук все еще стоял на циновке на том же месте. Лекарь открыл его: там было пусто. Он нашел только маленький бронзовый амулет. Он был сильно поврежден, как будто даже расплавлен, но Аа-Седхем без труда различил голову Сехмет.
Богиня мести. Кто собирался мстить? Кому? Сменхкаре?
Он вернулся во дворец, снедаемый мрачными предчувствиями.
«Если ты не услышишь божественного предупреждения, ты окажешься под падающим деревом!» — звучало у него в голове.
Одного взгляда Сменхкары на силуэт его супруги было достаточно, чтобы ему стало ясно: Меритатон беременна.
Он улыбнулся и нежно обнял ее за талию, потом поцеловал в щеку. Меритатон погладила его по щеке, обняла за шею и вернула ему поцелуй.
— Я рад, — сказал он.
Она поцеловала его еще раз. У него хватало деликатности не задавать вопросов. Он приходил к ней в спальню только три раза в первый месяц их пребывания в Ахетатоне. Считал ли он себя отцом? Она сомневалась в этом — он был слишком хрупок для этого, и к тому же слишком осторожен.
Но он был рад, и Меритатон ни капельки не сомневалась в этом. Наследование трона было обеспечено, не важно, каким образом. По крайней мере, для него. Ощущение полноты жизни, которое она испытывала, было вызвано не только уверенностью царицы в сохранении династии, но и уверенностью женщины. А этим она была обязана Неферхеру.
«Красивый мальчик, покоряющий сердца»
Много раз в детстве от женщин своей семьи Неферхеру слышал, что беременной женщине нельзя сообщать плохие новости, потому что тогда она могла родить безобразного ребенка. Через месяц после того, как Меритатон призналась ему, что носит его ребенка, наблюдательный взгляд мог определить, что третий месяц беременности проходит нормально.
Поэтому Неферхеру решил ничего не говорить Меритатон о встрече с продавцом благовоний.
Но более чем когда-либо он был настороже. Неферхеру понял мрачные намеки посланника: готовилось какое-то ужасное событие, и его просили принять в этом участие, то есть совершить преступление. Какое же? Убить Меритатон? Или Сменхкару? И как?
Его преследовала одна фраза: «Тысяча золотых колец, господин, чтобы взять лодку Сета, когда он будет пронзать копьем змея Апопа, вместо того чтобы сесть в лодку мертвых, сопровождаемую плакальщицами».
Но не воспоминания о тысяче колец, предложенных за неизвестный поступок, сверлили его мозг, а слова «лодка Сета». Да, лодка, на которой можно убежать. Он обманывал Меритатон, утверждая, что прогулки по Великой Реке действовали на него успокаивающе. Они были чересчур торжественными, а «Слава Амона» была слишком заметным кораблем из-за своего красного паруса. Они рисковали привлечь внимание дурных людей. Почему бы Меритатон не приобрести маленькую скромную лодку для них двоих? Они могли бы совершать на ней интимные прогулки.
Предложение понравилось Меритатон. Тайно Неферхеру договорился о покупке и подготовке к плаванию одной лодки, которая стояла у причала с южной стороны Царского дворца. Меритатон решила назвать ее «Улыбкой Хатхор».
Они совершали на ней прогулки, беря иногда с собой Анхесенпаатон и Пасара. Сначала Меритатон забавляли эти тайные побеги двух пар. Она не сомневалась, что привязанность, которая существовала между двумя детьми, перерастала в нечто большее. Потом она забеспокоилась: их взаимные чувства были окрашены страстью. Было достаточно посмотреть на Пасара, на то, как он пожирал глазами свою подругу. А ведь Третья царская супруга никогда не сможет выйти замуж за этого юного писаря; она предназначалась Тутанхатону. Анхесенпаатон испытывала к юному принцу дружеские чувства с налетом снисходительности, которые вряд ли могли перерасти в нечто большее.
Во время одной из таких прогулок — Меритатон была уже на четвертом месяце беременности — она заметила, что Неферхеру стал хорошим моряком. Он научился управлять не только штурвалом, но и парусом. Он долгое время изучал речные течения и овладевал искусством их использования. Вдруг у нее возникло подозрение.
— Каково в действительности предназначение этой лодки? — спросила она у него, когда он сел рядом с ней, тяжело дыша.
— Разве это неясно? Для прогулок.
— Нет, ты учишься управлять ею сам.
Неферхеру, слегка смутившись, улыбнулся.
— Ты фантазируешь.
Наступила тишина.
— Ты готовишь побег? — продолжала Меритатон.
— В случае необходимости я готов бежать вместе с тобой, — ответил он.
Меритатон была поражена. Они когда-то говорили о бегстве, но это были всего лишь разговоры двух влюбленных.
— Что происходит?
— Если бы я знал, я бы тебе сказал, но я не знаю. Все, что мне известно, — что-то готовится.
— Но что? Ты от меня скрываешь это, потому что я беременна?
Над ними пролетели утки.
Неферхеру вздохнул. Он решил поделиться тайной, которую не мог дольше держать в себе. Он рассказал о визите торговца благовониями и о его просьбе быть готовым исполнить загадочные приказы, которые будут отданы в назначенный час.
Выражение лица Меритатон менялось так быстро, что Неферхеру пожалел о том, что рассказал ей это.
— Ты согласился на тысячу золотых колец?
— Конечно нет, мне их даже не показали. Но я не отказывался. Я решил, что следует проявить заинтересованность, чтобы узнать, что готовят наши враги.
— Необходимо предупредить царя! — воскликнула Меритатон.
— И что я ему скажу?
Меритатон задумалась над его словами. Визит торговца благовониями настолько встревожил Неферхеру, что он стал готовить лодку. Но все-таки угроза была неясной. Что на это может сказать Сменхкара? Что незнакомец пытался подкупить Неферхеру?
— Возвращаемся, — сказала она. — Все-таки его нужно предупредить.
В ночи раздался ясный переливчатый голос:
Где ты, мой возлюбленный?
Мои ночи светлее дня,
Со мной плачет луна,
Потому что моего солнца нет.
Где ты, мой возлюбленный?
Чьи глаза отвернули тебя от моих глаз? Чьи губы тебя пьянят?
Чьи руки обвивают тебя?
Странное пение. Это был голос мужчины; чистый и звонкий, но все-таки мужской. Значит, певец обращался к любовнику.
На террасе в интендантской части дворца появилась тень, она склонилась над ограждением. Темнота была кромешная, и только два факела, горящие неподалеку, позволяли различить человеческую фигуру.
— Для кого ты поешь в такой час?
— Для тебя, мой возлюбленный.
Возвращайся, успокой луну,
Возвращайся, мое прекрасное солнце,
Иначе завтра ты будешь плакать
По исчезнувшей луне.
Все это было странно, и, без сомнения, тень на балконе тоже так считала.
— Кто ты? — спросила она у певца.
— Голос твоего сердца.
— Замолчи. Подожди! Я спускаюсь.
Через несколько минут из маленькой двери вышел мужчина с лампой в руках. Он направился к певцу и поднял лампу, чтобы осветить его лицо. Внезапно тот сделал то же самое. Как это часто бывает, можно больше узнать о человеке по вопросам, какие он задает, чем по ответам: это был Аутиб. Трепыхающееся на ночном ветру пламя осветило приветливое, улыбающееся лицо молодого человека.
— Что ты говорил? Ты для меня пел?
— Разве это было непонятно, господин?
Аутиб замолчал.
— Кто ты?
— Я певец, господин. Меня зовут Анакиб.
«Красивый мальчик, покоряющий сердца». Наверняка это прозвище, потому что уж очень удачно подобрано.
Аутиб улыбнулся.
— Так о чем же ты пел?
— Я был твоим голосом. Я пел об отсутствии твоего солнца.
— А откуда ты знаешь, что мое солнце не со мной?
— А разве это не так?
Аутиб не знал, что ему делать. Он забеспокоился: что же у него была за репутация, если даже какой-то юнец осмелился петь ему среди ночи серенады под балконом?
— Я надеялся, что в награду за мою песню ты мне предложишь стакан вина.
— Кабаки закрыты.
— А у тебя в доме вина не найдется?
Аутиб растерялся. Но этого загадочного певца нужно было вывести на чистую воду. Правда, время было позднее.
— Иди за мной, — сказал он.
Когда Аутиб проснулся, он был один.
Ему что, все приснилось?
Голубой флакон, стоящий на сундуке, свидетельствовал о том, что это не сон.
Он сел и задумался о сделанном ему предложении отомстить. А еще он задумался о тысяче золотых колец.
Второй распорядитель объявил о приходе Меритатон. Она пришла в сопровождении Неферхеру и носильщика опахала. Сменхкара встал, чтобы поприветствовать ее. Писарь поторопился предложить кресло сначала царице, а потом и Хранителю духов.
Аа-Седхем и Сменхкара видели, что Меритатон была мрачнее тучи. В свою очередь, Меритатон и Неферхеру заметили скверное настроение Сменхкары.
— Твой визит — настоящая честь для меня, моя царица.
— Боюсь, что, узнав о цели моего визита, ты не станешь радостнее, мой царь, — сказала она.
Потом повернулась к Неферхеру.
— Хранитель духов рассказал мне о странном человеке, с которым он встретился несколько недель назад. Он не говорил мне о нем до сегодняшнего дня, боясь расстроить.
Неферхеру рассказал о посещении торговца благовониями и его предложении.
— Похож на обезьяну? — уточнил Сменхкара.
— Да, божественный царь, — ответил Неферхеру, широко раскрыв глаза от волнения. — Именно на обезьяну.
Сменхкара повернулся к Аа-Седхему.
— У него было на груди Гнездо Исиды? — спросил лекарь.
— Да, господин, — почти крикнул Неферхеру, все больше и больше тревожась.
— И черный сундук в руках?
— Господин, но откуда ты знаешь?
— Ко мне он тоже приходил. И я тоже не сообщал об этом божественному царю, чтобы раньше времени не волновать его.
Меритатон встрепенулась.
— Значит, этот человек приходил к вам обоим? Что же ему нужно?
— Понятнее всего он говорил с Аа-Седхемом, — сказал Сменхкара. — Он дал ему задание отравить меня по сигналу, которого еще не было.
Он раскрыл ладонь и показал маленький флакончик. Неферхеру глубоко вздохнул. Меритатон вскрикнула.
— Пусть боги защитят нас! — воскликнула она. Ее голос дрожал. — Если я правильно поняла, Неферхеру должен отравить меня!
— Боги нас защитили, это правда, — произнес Сменхкара, — потому что Неферхеру и Аа-Седхем доказали свою преданность. Я желаю знать о других подобных посещениях.
Меритатон удивилась.
— Не понимаю… — пробормотала она.
— Сомневаюсь, что Ай ограничился двумя преступными попытками подкупить двоих самых близких нам людей, — сказал Сменхкара, обращаясь к царице.
— Ай? — вскричала она.
— А кто же еще? Кто еще хочет, чтобы ты исчезла из этого мира? Он знает, что ты осведомлена о его участии в отравлении твоего отца и моего брата.
— Нужно схватить его и предать суду! — заявила Меритатон.
Сменхкара покачал головой.
— Он бы не действовал без согласия, пусть молчаливого, священнослужителей и, вероятно, военных. И я не сомневаюсь в том, что его зять Хоремхеб и кузен Нахтмин согласятся на это.
Утверждение было ужасающим. Какое-то время никто не произносил ни слова.
— Тогда его надо убить, — медленно произнес Аа-Седхем.
— Это не остановит ни священнослужителей, ни военных. Я не должен был покидать Фивы. Это моя ошибка. Я возвращаюсь. Ни Тхуту, ни Майя не смогут ничего предотвратить.
Все выразили желание ехать с ним.
— Нет, мы не поедем все вместе. Для наших врагов это будет тревожным сигналом. Достаточно того, что со мной поедет Аа-Седхем, все-таки он мой лекарь.
Тогда Неферхеру задал вопрос:
— Кто же, божественный царь, мог рассказать Аю, кому больше всего доверяют божественные царь и царица?
Никто об этом даже не подумал. Кто-то очень хорошо знал о близких отношениях в кругу царской семьи и назвал имена Аа-Седхема и Неферхеру.
— Я этого не знаю, — ответил царь.
— Речь может идти о большом лжеце, потому что он не мог не знать, что открывает тайны врагу.
Сменхкара склонил голову.
— Верно говоришь, — заметил он.
— Пентью! — воскликнула Меритатон.
Сменхкара задумался.
— Возможно.
— Я дрожу при мысли, что ты отправляешься в Фивы, мой царь, — сказала Меритатон.
— Присоединишься ко мне через несколько дней. Я пришлю за тобой «Славу Амона». А пока давайте пообедаем вместе.
Когда они вчетвером спускались по лестнице в большой зал, где был накрыт стол, Аа-Седхем отвел Сменхкару в сторону и тихо сказал:
— Есть еще один лжец, мой царь.
— Кто?
— Аутиб.
Сменхкара снова задумался.
Возвращаясь в Царский дворец, Меритатон смотрела на здания и сады, особенно красивые в летнее время. Вечерний ветер наполнил воздух ароматами роз и жасмина.
Но магия Ахетатона испарилась. Тень врага нависла над этим идиллическим пейзажем.
Анхесенпаатон бежала ей навстречу, но вдруг резко замедлила бег, заметив, что ее сестра погружена в глубокие раздумья.
— Что случилось? — спросила она, беря Меритатон за руку.
В глазах Меритатон блестели слезы.
— Я тебе все объясню, — сказала она.
Надо было все-таки открыть Третьей царской супруге, какова на самом деле жизнь царей.
«Он писал гимны…»
Редко человеческое лицо выражает такое внимание, какое выражало лицо Тхуту в тот момент, когда Сменхкара впервые рассказал ему об интригах Ая.
Раздосадованное выражение, появившееся затем на его лице, убедило Сменхкару в том, что Тхуту искренен.
— Не могу поверить, что преступные планы Ая объясняются только моим отсутствием в Фивах. Тем более я не думаю, что он затеял все это опасное дело без поддержки жрецов и военных.
— Нет, божественный царь, эти планы вдохновлены только его собственными амбициями. Возможно, твое отсутствие в Фивах обеспокоило Хумоса и поспособствовало сближению его с Аем. В глазах жрецов Ахетатон — рассадник ереси, возникший во времена правления Эхнатона, твоего божественного брата. Твое возвращение туда встревожило их.
Слышат ли мухи человеческую речь? Можно было подумать, что да: около двух дюжин этих насекомых до этого мирно летали в воздухе, а тут вдруг их охватило непонятное нервное оживление. Раздалось громкое жужжание. Носильщик опахала ждал снаружи, он ничего не мог с ними поделать. Оставалось только добавить в маленькую жаровню, стоявшую в ближнем к окну углу, ромашки, что и сделал советник. Незадолго до своей кончины насекомые, забытые мифические создания Двух Земель, осознали, что страсти могут привести к фатальным последствиям.
Беседа проходила в царском кабинете дворца в Фивах, душном, как обычно. Беседа была личной, не присутствовали даже писари.
— Значит, мы ничего не можем противопоставить Аю?
— Божественный царь, ты знаешь ситуацию гораздо лучше твоих самых осведомленных слуг. В своей крепости в Ахмине Ай практически непобедим. К тому же он пользуется молчаливой поддержкой своего зятя Хоремхеба и своего брата Нахтмина, а это два могущественных военачальника. То есть он заручился поддержкой армии. Следует добавить, что за долгие годы он ощутил вкус власти. Его сестра Тиу была супругой твоего отца, божественного царя Аменофиса Третьего, а его дочь Нефертити была страстно любимой женой твоего божественного брата. Долгие годы он имел огромное влияние на все, что совершалось в Двух Землях. Потом он был внезапно лишен всего этого после смерти своей дочери. В этом причина его враждебности. Я не знаю обстоятельств, в результате которых он потерял влияние на царицу, твою супругу, и тебя, божественный царь. Но его печаль глубока: сейчас он всего лишь богатый старик, и я предполагаю, что для него это невыносимо.
— А в результате получается, что Ай могущественнее царя, и теперь он пытается отравить меня, чтобы заполучить трон.
Это было жесткое заявление.
— Божественный царь, если трон крепок, он устоит, так как власть Ая ограничена. Одни из самых могущественных союзников царской власти — это священнослужители. Хумос и его соратники сильнее Ая. Если он им разонравится, он утратит власть.
Сменхкара подумал, что он слишком старался понравиться и тем и другим. Он практически предал память своего брата, он короновался в Фивах и восстановил культ Амона. А теперь что ему остается: быть заложником своих врагов и заключенным в фиванском дворце?
Сейчас была хорошая возможность уладить старое дело об утаивании докладов во времена правления Эхнатона. Сменхкара наклонился и подобрал связку папирусов — ту, которую он взял в зале Архива уже несколько месяцев назад во время той памятной ночи. На глазах Тхуту он развязал ниточку, которой были перевязаны папирусы, и разложил их на ближайшем к нему столе.
— Вот доклады о беспорядках в царстве, они были адресованы божественному царю, моему брату, но их никогда не получали ни он, ни я, регент, в последние три года его правления. Могу я спросить почему?
Когда Тхуту увидел эти документы, его рот расплылся в разочарованной улыбке. Он поднял на монарха усталый взгляд и ответил:
— Потому что, божественный царь, он приказал мне не давать их ему.
Он удивления Сменхкара надолго потерял дар речи.
— Он приказал тебе не показывать их?
— Мой божественный царь, я сохранил этот приказ, скрепленный царской печатью. Этот приказ гласил: не докладывать ему о неприятных и тягостных делах царства, поскольку они были в моем ведении и ведении царского кабинета, а не в его. Также я не должен был пускать к нему посетителей, которые приходили с прошениями решить противоречивые вопросы. Например, такие как содержание личной охраны.
Крайне удивленный, Сменхкара захлопал ресницами. Выходит, Аа-Седхем ошибался по поводу намерений Тхуту.
— Но почему до сих пор ты не предоставил их мне?
— Приказ гласил не предоставлять эти доклады ни царю, ни его супруге, ни регенту.
Сменхкара был оглушен. Он протянул руку к кувшину и долго пил ароматизированную воду.
— Мне пришлось пережить мучительные моменты, мой царь, — пролепетал Тхуту. Он резко повернулся к Сменхкаре и продолжил: — Везде, на востоке и на юге, у нас есть союзники, которым приходилось тяжело. Наши враги догадались о небоеспособности армии вашего брата. Их шпионы докладывали им, что он не интересуется делами царства. Поэтому они удвоили атаки на наших союзников. Нам следовало отправить туда военную помощь, а мы не сделали этого, и наши союзники потерпели поражение. Когда об этом узнали военные, особенно Хоремхеб, Нахтмин, Анюмес, командующий Восточными гарнизонами, и другие военачальники, они страшно разгневались. При мне они говорили об убийстве царя! И так как наши враги понимали, что мы не представляем для них угрозы, они стали действовать еще жестче.
— А я ничего этого не знал… — прошептал Сменхкара.
— Естественно: прошения направлялись на имя царя. Самое мучительное воспоминание — это история Риб-Адди, царя Библоса, который оставался нам верен несмотря ни на что. Он заплатил за это жизнью. Я лично умолял твоего брата спешно отправить туда военный отряд под командованием Анюмеса. Он ответил мне: «Нет. Всем этим людям нет до нас никакого дела. Им остается только молить своих ужасных богов избавить их от беды».
Совершенно отчаявшись, Сменхкара не мог сказать ни слова. Реальность была ошеломляющей: Эхнатон уничтожил политическое могущество царства так же, как уничтожил его богов.
— Ты помнишь, — продолжал Тхуту, — о восстании в Фивах?
— Эхнатон сказал, что эти беспорядки спровоцировали грабители…
— Племена бедуинов напали на город. Надо было послать туда войска. Но твой брат стал насмехаться над Фивами. Население восстало против царя, который оставил их без защиты. Были такие, кто предлагал организовать поход и убить тебя, царя и всю вашу семью, засевшую в Ахетатоне! Жрецы приносили жертвы в храме Амона, чтобы накликать смерть на царя. К счастью, Маху взял инициативу в свои руки, он защитил город и отбросил бедуинов.
Тхуту, в свою очередь, схватил кувшин и залпом выпил воду.
— Твой брат оставил царство в чудовищном состоянии.
— Поэтому его и отравили.
Тхуту ничего на это не сказал, что само по себе явилось подтверждением.
— Возможно, ты предполагал, божественный царь, что я был безразличен к твоим проблемам и даже двуличен?
Все еще ошеломленный, Сменхкара не ответил. Тхуту, задумавшись, ходил по царскому кабинету.
— В течение десяти лет, пока я был Главным распорядителем, я должен был улаживать все неприятности в царстве, подавлять восстания писарей то одного, то другого храма, восстания того или иного гарнизона, забастовки бальзамировщиков, пивоваров и моряков, контролировать налоги, взимаемые с увеселительных заведений, проверять подозрительные сделки между управлением охраны и некоторыми правителями провинций, не допускать предательства царских послов в иноземных странах, восстаний населения оазисов против сборщиков налогов, гражданской войны между жителями Эбре и крестьянами Нижнего Египта из-за использования шахт для производства кирпичей и много чего другого. А царь, божественный царь, как тебе известно, интересовался лишь доходами от сбора налогов.
Это была правда. Единственное царское дело, которым занимался его брат, была проверка доходов. Ахетатон стал городом, построенным на Луне.
Сменхкара был подавлен.
Две или три мухи, отравленные парами ромашки, бились в агонии, перевернувшись на спину.
— Военные, — продолжал Тхуту, — прекрасно видели, что божественный царь совершенно не интересуется армией, кроме тех моментов, которые касались добычи, от которой он получал свою часть, и военнопленных, если они были, становившихся рабами. Ему никогда не хватало средств, и он постоянно требовал повысить налоги. За это время номархи и крупные землевладельцы поняли, что царь не интересуется и внутренними делами царства. Вельможи осознали, что совершенно безнаказанно могут держать личную охрану для защиты от грабителей, которые бесчинствовали в провинциях. У них иногда даже было больше людей, чем в отрядах охраны. И, что было совершенно невыносимо, стражники, случалось, покидали казармы, чтобы идти служить личными охранниками, потому что тем платили больше. Всех купив, такие номархи становились царями в своих провинциях. Вот так Ай и смог настолько разбогатеть, что теперь способен противостоять самым сильным номархам.
Сменхкаре стало нехорошо от всего этого, он почти задыхался.
— Получается, что это ты был настоящим царем.
— Божественным царем, — уточнил Тхуту с саркастической ухмылкой. — Скорее я был царским рабом.
— И я ничего этого не видел, — снова сказал Сменхкара.
— Мой царь, мы все видели, как ты удостоился царской милости. Тебе было всего пятнадцать лет. Что может пятнадцатилетний мальчишка понимать в царских делах? Ты знал и видел то, что царь хотел тебе показать.
Да, он видел роскошь, знал, как достаются привилегии, ласки.
Царь посвящал целые часы беседам с верховным жрецом Панезием, после которых он писал гимны Атону.
— Божественный царь, я не хочу оскорблять твою братскую любовь, но все это время царство разрушалось. Министры и я, мы пытались предотвратить всеобщее восстание. Мы выбивались из сил, чтобы избежать скорого конца. Теперь ты понимаешь, что, как только твой брат, божественный царь, умер, мы ждали, что его преемник крепко возьмет в свои руки жезл и цеп.
— Их унаследовала Нефертити.
— Она так же мало интересовалась делами царства, как и ее супруг, — заметил Тхуту. — Поэтому все надежды мы возлагали на тебя.
Наступила тишина. Царь и советник дошли до деликатных моментов истории трона.
— Ты был уверен, что правление Нефертити будет коротким, — сказал Сменхкара.
Тхуту с упреком посмотрел на Сменхкару.
— Поэтому ты так спокойно отреагировал на свое изгнание и принял меня у себя, — закончил Сменхкара.
Тхуту задумался над ответом, потом сказал:
— Мой царь, древние культы являются гарантией единства царства, а значит, его силы. Даже если бы отец Нефертити Ай был ее советником, то есть фактически регентом, она только продолжала бы опустошать царство. Она действительно признавала единственный культ — культ Атона. Ай не осмелился бы противостоять ей. Это была властная женщина: она вполне могла изгнать его из своего окружения, как изгнала тебя из твоих собственных апартаментов в Царском доме.
Сменхкара был согласен с этим.
— Ты знал о том, что ее собираются отравить, — сказал он. — Но я тебя не упрекаю.
— Это было неизбежно. Для царства так было лучше.
— Я так и понял.
Сменхкара слукавил. Нет, он ничего не понял. Нефертити и его возлюбленного брата убили во имя высших интересов, чтобы сохранить могущество царства.
Царь был ничем, или почти ничем, так — пустым местом, марионеткой. Царство было важнее царя. И его слуги не колеблясь преждевременно лишили жизни монарха, потому что его смерть могла спасти единство и могущество Двух Земель.
Убийство было законным.
Жестокость и ужас этого открытия будто парализовали Сменхкару.
Он вспомнил признания Пентью и Майи, одних из лучших чиновников. Они пожертвовали всем, всем, даже своими личными привязанностями, ради спасения царства.
Как он мог быть таким наивным? Слова Тхуту звучали у него в ушах: «Что может пятнадцатилетний мальчишка понимать в царских делах?» Там, где он видел только хитрость или слабость, жрецы, Хоремхеб, Майя, Пентью и другие, действовали по расчету.
Но Эхнатон тоже был наивным: он действительно считал себя царем и выбрал себе личного бога, в ущерб жрецам и всему народу.
Тхуту смотрел на молодого царя, откинувшегося на спинку кресла: напряженная поза, стеклянные глаза. Взгляд Сменхкары сосредоточился на его внутреннем горизонте. В девятнадцать лет он вдруг почувствовал себя старым и одиноким.
Он думал о Меритатон: даже она подчинила свою жизнь высшим требованиям, когда решила забеременеть от Неферхеру, а не от супруга.
Сменхкара подумал об Аа-Седхеме. Чего стоила его любовь?
Слезы навернулись ему на глаза.
Тхуту посмотрел на него, и царь взял себя в руки.
Отец по доверенности
Приезд Меритатон, Анхесенпаатон и Тутанхатона двумя неделями позже вырвал Сменхкару из меланхолического состояния, в котором он пребывал после разговора с Тхуту. Аа-Седхем был этим очень обеспокоен и установил суровый надзор за питанием царской персоны, а также отдал тайный приказ о том, чтобы Аутиб никогда не оказывался на пути, по которому перевозили и Переносили предназначенную для царской семьи пищу из царских кухонь. Но Сменхкара не чувствовал себя от этого лучше. Совершенно отчаявшись, Аа-Седхем приготовил для своего господина отвар собственного изобретения на основе можжевельника, дигиталиса, морских водорослей и раувольфии. Этот отвар он смешивал с вином.
Его вкус не был противным, поэтому Сменхкара охотно принимал лекарство. Но эффект от него длился всего лишь два или три часа. Так, в начале долгой церемонии приношения огня в храме Амона царь выглядел вполне спокойным и уверенным, но когда в конце он направился к своему трону, его походка была вялой и какой-то разболтанной.
Меритатон, заметив пассивность своего супруга, забеспокоилась.
— Что с ним? — спрашивала она у Аа-Седхема. — Он болен?
— Если он и болен, то мне кажется, что это болезнь души, а не тела. Она возникла сразу после его долгой беседы с советником, но он мне рассказал лишь немногое из этого разговора. Меня поразила одна фраза, только она была связной: «Я менее важен, чем моя статуя, и у меня столько же власти, сколько у нее». Не знаю, что такого ему сказал Тхуту, чтобы Сменхкара пришел к столь мрачным выводам.
— Может, это от жары?
В этом году сезон Сева был невыносимо знойным, особенно в Фивах.
— Я думал, что воздух Ахетатона ему был бы полезен, но, когда я предложил ему вернуться туда, он отказался.
К великому неудовольствию Неферхеру, Меритатон ужасно нервничала и решила сама расспросить своего супруга.
— Все обеспокоены твоим состоянием, — начала она без обиняков. — Ты нас повергаешь в отчаяние, меня и Аа-Седхема. Что с тобой?
— Ну вот, у царя нет даже права задуматься, — ответил он со слабой улыбкой.
— Ты не задумчив, ты выглядишь больным.
— Может, и так.
— Какой болезнью ты страдаешь? Аа-Седхем не смог найти для нее названия.
Царь равнодушно обмахивался веером.
— Болезнь называется «быть царем», это совершенно точное название.
Меритатон потеряла дар речи. Разве ноша царя может восприниматься как болезнь?
— Я не понимаю тебя.
Сменхкара положил веер на колени.
— Мой брат и твоя мать были убиты ради спасения царства. Мы лишь жертвенные животные.
Впервые рассуждения супруга ужаснули ее. Приоткрылась дверь таинственной могилы, которой является сердце всякого человека. В данном случае это было сердце ее супруга, царя.
— Мы не являемся повелителями царства, — продолжал Сменхкара. — Это царство наш повелитель.
Он повернулся к ней. Холодный взгляд, горькая складка у рта.
— Даже ты принесла жертву на алтарь царства. Помнишь, что ты мне сказала: «По линии моего отца рождаются только девочки».
Поэтому ты забеременела от мужчины, чье семя, как ты надеешься, принесет тебе мальчика.
Меритатон судорожно сглотнула, ее сердце часто билось. Нет, Сменхкара не болен. Его поразило озарение.
— Если я и сделала это, то и в твоих интересах как царя, — заявила она и добавила: — В интересах нашего правления.
Он кивнул.
— И ради стабильности царства.
— Даже если все так, как ты говоришь, — сказала Меритатон, — твой отец правил долго, годы его правления были мирными. Он умер
своей смертью, и не важно, был он жертвенным животным или нет. Неужели ты хочешь, чтобы все: твоя семья, министры, придворные, жрецы — считали тебя человеком с угасающим здоровьем, ни на что не годным?
Сменхкара бросил на нее загадочный взгляд.
Она была его союзником. Возможно, она им и останется. Меритатон его поддерживала в противостоянии с Аем. Сейчас она пришла подбодрить его. Она хотела, чтобы он хорошо играл роль царя. Но кем же он мог быть, кроме как царем?
— Твоя печаль все подвергает сомнению. Она дает преимущество твоим врагам. Ты этого хочешь?
— Нет, — тихо ответил он.
— Возьми себя в руки. Ты ведь должен защищать и меня.
Говоря это, она подумала, что потомки мужского пола Аменофиса Третьего были почему-то хрупкими созданиями. Меритатон вспомнила мечтательный взгляд ее отца Эхнатона и его походку: он скользил над землей, словно тень.
Даже юный Тутанхатон был далеко не таким, каким должен быть мальчик его возраста.
— Ты права, — согласился Сменхкара.
Он поднялся и обнял ее. Потом поцеловал.
Меритатон спросила себя, следует ли ей оставаться рядом с супругом в Фивах в течение всего сезона Сева.
Для чего же тогда нужен Аа-Седхем?
Царская чета и представители высшего сословия были не единственными, кто страдал от жары в сезон Сева в Фивах. В полуденные часы город превращался в раскаленную жаровню. Люди даже не выходили на улицу между полуднем и четырьмя часами, а если и выходили, то лишь для того, чтобы освежиться в Великой Реке. Некоторые, в основном писари из-за своих лысых голов, получали апоплексический удар, пробыв на солнце не более четверти часа. Кроме этого, их часто кусали гадюки или скорпионы, попадавшиеся на пути. Аа-Седхем был удивлен, найдя на террасе царских апартаментов стеклянный флакон, который искривился, пролежав на солнце на каменном ограждении несколько часов.
Помучавшись какое-то время, Меритатон решила все же вернуться в Ахетатон вместе с Анхесенпаатон, Неферхеру и Тутанхатоном. Она была уже на шестом месяце беременности, и это было хорошо заметно. Хумос явился поздравить ее, произнести молитвы и совершить жертвоприношения богам для процветания династии. Придворные дамы тоже присоединились к поздравлениям, желая счастливого протекания беременности. Каждый день к Уадху Менеху поступали подарки от землевладельцев, в основном это были фрукты, символизирующие плодородие. Уадх Менех, в свою очередь, передавал их управляющему Дворца царицы.
Невообразимая жара не способствовала нормальному течению первой беременности. Обеспокоенная тем, что моча у нее стала темной, Меритатон узнала от Аа-Седхема причину этого: через кожу она теряла большое количество воды, которая должна была выходить другим путем. Он посоветовал ей много пить или дождаться сезона Жатвы в Ахетатоне, потому что опасался за ее здоровье и здоровье еще не рожденного ребенка. Она решила ехать.
Провожая ее на корабль, Сменхкара уверял, что не сможет долго жить без нее и что в скором времени он присоединится к ней, пусть и ненадолго. Поцеловав ее, он сказал:
— Ты моя сила.
Она поднялась на «Славу Амона» скрепя сердце и смотрела на силуэт своего царя, стоявшего на пристани, до тех пор, пока он не исчез из виду.
Странная ситуация: быть привязанной к одному мужчине, а любить другого.
— Bin tchaou!
Шабака, сидящий в кресле в закрытом саду, возвел глаза к небу и спросил, кто научил попугая таким непристойным словам.
— Ir herou nefer! — крикнул он, надеясь улучшить речь попугаев.
Это означало: «Сделай так, чтобы твой день был счастливым».
Попугай не ответил. Шабака повторил попытку. К его удивлению, ему ответила подруга попугая:
— Ir herou nefer!
Нубиец захлопал в ладоши, и самка повторила свое пожелание и прилетела к нему. Шабака взял финик из вазы и протянул его птице, чтобы вознаградить ее.
В сад, сопровождаемый гепардом, вошел Ай. Он сел на свое обычное место на скамье. Вид у него был озадаченный. Гепард улегся с выражением вечной печали на морде. Так они и сидели в тягостной тишине, пока Шабака не сделал то, что должен сделать всякий придворный: поинтересовался настроением господина.
— Мой господин задумчив, — начал он.
Ай замахал веером, возможно, он хотел этим выразить свое настроение.
— Все так, как я и думал. Жена этого земляного червя беременна. — Через некоторое время он добавил: — Уже шесть месяцев.
Шабака уже знал об этом: Ая только это и занимало. Но это было еще слишком мягко сказано, ведь он был одержим властью. То, что царица беременна, не так уж много значило; не это было причиной мрачного настроения Ая. Шабака решил подождать, пока тот сам расскажет ему, что его огорчало.
— Ни одна из трех встреч нашего агента не увенчалась успехом. Любовник царицы и любовник царя не сказали ни да ни нет. Хранитель гардероба, несомненно самый уязвимый из всех, может что-то сделать только тогда, когда этот земляной червь находится в Фивах. Хумос, который вроде бы сначала поддержал мои планы после беспорядков на празднике Осириса, в конце концов успокоился, потому что власть снова в Фивах. Так может продолжаться бесконечно.
— Терпение, господин, — это мужество сильных. Плоды зреют на дереве. Ты соберешь их в нужное время.
Ая слегка успокоил этот мудрый совет.
Меритатон должна была родить в конце сезона Сева. Оставалось только гадать: будет ли это еще сезон Сева или начало сезона Жатвы? Естественно, никто не мог этого сказать наверняка, но Хумос решил праздновать рождение ребенка в последний день сезона Жатвы в присутствии царя и царицы и, конечно же, уже жизнеспособного ребенка.
Два раза Сменхкара побывал в Ахетатоне, чтобы наблюдать за развитием ребенка, чьим отцом он не был, но которого принял всем сердцем. Каждый раз он видел вблизи комнаты царицы Неферхеру, напоминавшего Анубиса на страже царского сокровища. Аа-Седхем сказал Сменхкаре, что Хранитель духов узнал у него все необходимое о том, как ухаживать за беременной женщиной, а потом и про роды. Рассказав ему об этом, лекарь также порекомендовал использовать для личной гигиены роженицы и ребенка очищенную воду.
Настоящий и мнимый отцы все это время разыгрывали комедию, словно пребывали в неведении. Во время второго визита, после того как Сменхкара пожаловался на то, что ему опять приходится возвращаться в Фивы, Неферхеру ему сказал:
— Божественный царь, не бойся, я охраняю две души подобно Нехбет и Уаджет.
Царские Ястреб и Кобра.
Они обменялись долгими взглядами. Все было сказано.
На второй день сезона Жатвы у Меритатон начались схватки. Прибежали две повитухи, которые вот уже несколько дней жили в комнатах кормилиц. Царица сидела в специальном кресле для родов. Через час появилась головка ребеночка.
Неферхеру стоял за дверью.
Меритатон кричала, как никогда в жизни. Анхесенпаатон и младшие сестры были в ужасе от этого.
— Первые роды всегда самые тяжелые, — сказала одна из повитух.
Когда ребенок наконец родился, а пуповина была перерезана и перевязана, повитухи объявили:
— Это мальчик, божественная царица!
Измученная Меритатон кивнула. Она думала, что не выдержит и что ее разорвет на кусочки.
Потом вошел Неферхеру, неся в руках два горшка со специально очищенной водой, ведь царский лекарь приказал использовать для гигиены роженицы только такую воду. Повитухи были поражены мудростью Хранителя духов. А еще больше они были поражены тем, с каким благоговением он относился к малышу, которого пеленали при нем.
Потом он подошел к изголовью царицы с флакончиком ароматизированного бальзама и дал ей его понюхать.
Она приоткрыла глаза, и взгляд Неферхеру утонул в них.
«Как мед», — подумала Меритатон о глазах своего возлюбленного.
«Как вино», — подумал Неферхеру о глазах своей возлюбленной.
В комнату вошла Анхесенпаатон, светясь от счастья, и сразу же побежала к кровати, чтобы погладить Меритатон по голове.
Потом пришли младшие царевны.
— Значит, Макетатон не придет, — сделала вывод Анхесенпаатон.
Меритатон отрицательно замотала головой.
— Хочешь, я пойду расскажу ей?
Меритатон снова помотала головой. Она не могла забыть о том, что видела здесь по возвращении из Фив следы колдовства.
Сначала новость стала известна во дворце, потом в городе. Тут же был отправлен гонец в Фивы, чтобы уведомить царя о рождении наследника.
Когда гонец вернулся через два дня, он сообщил, что царь объявил день ликования в Фивах и приказал раздать жителям города зерно и угостить всех желающих пивом.
Обеспокоенность Неферхеру и Аа-Седхема из-за появления зловещего торговца благовониями стала постепенно исчезать. Возможно, Ай смирился и решил не бороться с неизбежным. Но скорее всего, его союзники отказали ему в поддержке, когда он настойчиво попросил их об этом.
Еще до прибытия царицы и до начала церемоний, которые должны были состояться в храме Амона, Тхуту и Уадх Менех кроме раздачи зерна устроили перед дворцом шествие, возглавлял которое ребенок-Хорус.
Трубы провозгласили приближение процессии.
— Божественный царь, не хочешь ли ты полюбоваться праздником с террасы? — спросил Тхуту.
Сменхкара вышел на террасу. Все министры последовали за ним и склонились над ограждением. Чиновники расположились на крышах или на улице.
Большая улица перед дворцом была заполнена людьми. Под звуки цистр и тамбуринов танцовщицы совершали немыслимые акробатические номера. За ними ехала роскошная телега, запряженная лошадью. Верхом на лошади сидел ребенок-Хорус. Совершенно голый, он ехал между Исидой и Осирисом. Толпа бурно приветствовала их. Когда они поравнялись с дворцом, все трое повернули головы к царю и заулыбались. Он протянул к ним руки.
За телегой, друг за другом, следовали музыканты. На платформе под звуки барабанов символически боролись два человека, у одного на голове была корона Верхней Земли, а у другого — Нижней Земли. Корона Нижней Земли венчала голову взрослого Хоруса, а корона Верхней Земли — голову Сета, убийцы Осириса. Музыканты прерывались только для того, чтобы позволить чтецу прокомментировать происходящее. Подойдя к дворцу, все смолкли и замерли, повернувшись к царю. Все знали, что благодаря ему прекратились распри. Затем раздались приветственные крики. Женщины бросали цветы воинам. Немного пройдя вперед, они опять начали бой для увеселения публики.
Снова заиграли музыканты. На этот раз звучали лиры. На третьей платформе был представлен ареопаг богов. На каждом была соответствующая маска, и все слушали, как Хорус просит рассудить его и вернуть ему земли, украденные его дядей Сетом. Так рассказывал чтец.
На четвертой и последней телеге, украшенной рогами, восседал на золотом троне Хорус во всем своем величии. Чтецы пели дифирамбы тому, кто завоевал вселенную для бога богов Ра.
Поравнявшись с царской террасой, он тоже повернул голову и поклонился монарху. Тот вскинул руку в приветствии. Снова раздались радостные крики, и на террасу полетели цветы.
Сменхкара все же был задумчив. Ведь приветствовали отца принца, а он им не был.
Но все равно он был царем, а значит отцом: по доверенности.
Время бальзамировщиков
Через месяц после церемонии в храме Амона в Фивах две тени встретились в переулке по соседству с царским дворцом.
— Дело сделано, — прошептала одна тень. — Где мое вознаграждение?
— Ты уверен?
— Я был в кухне перед тем, как виночерпий разлил вино по кувшинам, и сделал то, что ты мне сказал. Где мое вознаграждение?
— Но ты уверен, что они выпили вино?
— Я только что был в их спальне. Они заснули вечным сном в объятиях друг друга. Я дотронулся до них. Они холодные. Где мое вознаграждение?
— Вот оно, — ответила вторая тень и вонзила в живот первой тени кинжал.
Жертва тихо вскрикнула от боли и упала, держась обеими руками за живот.
Вторая тень исчезла в ночи.
На следующий день мало кто говорил об убийстве Хранителя царского гардероба Аутиба, потому что утром того же дня было обнаружено безжизненное тело царя Сменхкары. Аутиб был всего лишь второстепенным персонажем и удостоился только иронических комментариев.
После полудня по Фивам поползли невероятные слухи: на одной постели нашли мертвыми царя и его лекаря.
По приказанию Тхуту и Уадха Менеха дворцовые чиновники опровергли эти слухи. Они объявили, что умер лишь царь, а лекарем в действительности был назначен другой человек, который служил Сменхкаре с момента его воцарения.
Хумос был единственным, кто не поверил этим россказням. Целый день он был не в состоянии осознать случившееся. Кто же так резко переиграл шахматную партию властителей царства? Он не знал, кого подозревать в первую очередь, — Ая или Хоремхеба. Расстроенный, он предпочел не знать ничего, так как вряд ли вообще можно было узнать правду.
Между тем, ему еще предстояло удивляться. Он спрашивал себя, за кого же выйдет замуж царица Меритатон, вдова и мать наследника.
Для Тутанхатона Сменхкара был внимательным и нежным братом. А теперь, убитый горем, он с ужасом наблюдал за толпами высокопоставленных особ, суетящихся во дворце. Некоторые приходили выразить ему свое нижайшее почтение, граничащее с подобострастием, а другие даже не пытались скрывать свое пренебрежение к этому принцу без будущего.
Его юность закончилась со смертью царя. Он слишком хорошо играл в шашки, чтобы не понимать, что отныне он стал пешкой.
Зато фиванские бальзамировщики радовались: наконец-то им было чем похвастаться перед своими собратьями из Ахетатона, которым достались сразу два царских трупа в течение нескольких недель.
Правда, на этот раз у бальзамировщиков был один труп. Они ждали такого момента восемнадцать лет, зарабатывая тем временем на высокопоставленных чиновниках и придворных.
Это было для них очень хорошее время.
На следующий день вечером в Северном дворце в Ахетатоне Вторая царская супруга, как обычно, изнывала, заключенная заживо в гробницу, когда одна из ее рабынь шепнула ей во время ужина:
— Божественная царевна, твое освобождение близко.
Макетатон удивленно посмотрела на нее.
— Что ты такое говоришь?
— Царь умер! — прошептала рабыня.
— Что?!
— Мне велели сказать тебе, что он умер вчера в Фивах. Новый повелитель царства, твой дед Ай, скоро освободит тебя.
Царевна потеряла дар речи.
Вдруг котел, в котором долго томились злоба и обман, забурлил. Теперь она отомстит! Все те, кто унижал ее, эти заговорщики, предатели, отравители, ее развратная сестра и этот ее нежноликий извращенец муженек — все они испытают огонь ее ярости!
Потом она вспомнила, что этот нежноликий извращенец как раз умер, а ее сестра стала наследницей трона, потому что она родила ребенка.
Какая разница! Макетатон расскажет Аю о подлости, жертвой которой она стала. Ее сестру прогонят! Потом в воспаленном мозге Макетатон возникла другая дьявольская идея: Меритатон участвовала в отравлении Нефертити? Так вот, ее постигнет та же судьба! Да, ее отравят!
Волнение, в которое повергли ее эти размышления, полностью прогнало сон. А она в нем очень нуждалась.
Она вспомнила об усыпляющих шариках в сундучке матери, найденном в комнате Меритатон во время подготовки к переезду в Фивы.
Когда ее мать не могла заснуть, она принимала по два таких темных шарика. Макетатон так и поступила, запив шарики водой.
Она не знала, что это были именно те шарики, которые обманным путем подложил в сундучок Нефертити Пентью.
Когда через два дня Ай прибыл в Северный дворец в сопровождении Шабаки и группы стражников из гарнизона Ахетатона, его встретили плачущие служанки:
— Увы, наше солнце погасло! — причитали они. — Наша царевна мертва!
Анхесенпаатон появилась через несколько минут. Она встретила своего деда с почти враждебным равнодушием.
— Последнее время в моей семье много смертей.
— Где Меритатон? — закричал Ай в бешенстве.
— Не знаю. Она наверняка предпочтет тебя не видеть.
И резко отвернулась.
Бегство из Египта
В ту же ночь, когда Сменхкара и Аа-Седхем выпили по последнему в своей жизни глотку вина, Неферхеру проснулся среди ночи в своей комнате в Царском дворце Ахетатона.
Ему что, послышался звук цистры? Или это ему приснилось? Но он не помнил, чтобы ему снился музыкальный сон.
Неферхеру открыл глаза. Слабый свет лампы освещал комнату. Небо в окне было черным. Он прислушался. И снова услышал звук цистры. Одинокая цистра, да еще среди ночи?
Он вышел на террасу и внимательно вгляделся в сад, потому что этот звук мог доноситься только оттуда.
И в третий раз прозвучала цистра, а затем как будто раздалось уханье совы.
Он вернулся в свою комнату, прошел по коридору, выходящему к лестнице, мимо комнаты Меритатон, потом мимо комнаты кормилицы и ребенка. Снова прислушался, ничего не услышал, но спустился по лестнице.
В дверях, ведущих в сад, Неферхеру остановился и еще раз посмотрел в темноту. На фоне ночного неба вырисовался силуэт, который что-то показывал.
Сердце Неферхеру заледенело. Это была не цистра. Он понял. Это был большой обруч с огромным количеством нанизанных на него маленьких колец. Но держал его не обезьяноподобный торговец, который сделал Неферхеру ужасное предложение, а какой-то здоровяк.
— Время настало, — сказал вполголоса этот человек. — Ты готов?
— Что я должен сделать?
— Влить вот это завтра в чашу предательницы.
Неферхеру моргнул. Человек сунул ему в руку маленький флакон и снова приподнял дьявольскую «цистру».
— Прекрати звенеть! — приказал Неферхеру. — Ты всех разбудишь.
Он сжал в ладони флакон, чувствуя большим пальцем восковую пробку, которой он был закупорен.
— Завтра, договорились? Тогда ты и получишь свое вознаграждение.
Грубоватый южный акцент.
— Почему вы так долго тянули? Твой приятель приходил ко мне много месяцев назад.
— Потому что царь умер именно сейчас.
Сердце Неферхеру снова чуть не остановилось. Он облокотился о каменный дверной косяк.
— Умер? — переспросил он.
— Умер. Он и его любовник, лекарь.
Неферхеру с трудом удавалось сохранять спокойствие. Он снова искал, на что бы опереться. В темноте его рука наткнулась на деревянную ручку. Он незаметно ее потрогал. Точно — лопата, забытая садовником, но прежде всего толстая палка из крепкого дерева.
— Хорошо, завтра. Не забудь мое вознаграждение.
— Мой господин никогда не забывает своих слуг.
И визитер отвернулся. Неферхеру схватил лопату и ударил ее ручкой мужчину по голове. Здоровяк пошатнулся и упал вперед. Он был только оглушен. Неферхеру нанес ему еще один удар. Мужчина остался неподвижно лежать на животе. Неферхеру подождал какое-то время. Он тяжело дышал. Потом он перевернул упавшего, открыл ему рот, с помощью его же зубов выдернул восковую пробку, закрывающую флакон, и вылил его содержимое в горло своей жертвы.
Неферхеру взял золотые кольца, поставил лопату на место и поднялся к себе, не в состоянии умерить дыхание. Он вошел в комнату Меритатон и посмотрел при свете ночника на свою любимую, лежавшую на постели. Видимо, Меритатон что-то услышала, потому что она вздохнула, а потом резко села на постели и воскликнула:
— Что такое?
Она растерянно смотрела на Неферхеру. Потом заметила обруч с золотыми кольцами, который он держал в руках. Без сомнения, она поняла причину вторжения.
— Что случилось? — спросила Меритатон. Ее голос дрожал.
— Готовься, мы должны бежать.
Она ничего не понимала.
— Прямо сейчас? Ночью? Почему?
— Ко мне приходил человек. Он дал мне яд, чтобы я вылил его тебе в вино. Он сказал мне, что они убили Сменхкару и Аа-Седхема. Я убил его.
Меритатон вскрикнула.
— Это неправда!
— Разбуди кормилицу, если хочешь, чтобы она поехала с нами. Принеси свой сундук с драгоценностями. Я забрал у этого человека золотые кольца. Нам нужно уйти как можно быстрее. Наверняка Ай будет здесь завтра вечером или после полудня. Хочу надеяться, что он не отправил других гонцов.
— Мои сестры…
— С ними ничего не случится. Он ненавидит только тебя. Анхесенпаатон — супруга царя. Он ее не тронет.
Меритатон встала, совершенно растерянная. Она не могла контролировать свои действия. Сундук с драгоценностями был приготовлен уже давно. Хранитель гардероба, естественно, спал. Она зажгла от ночника лампу и неуклюже стала собирать первую попавшуюся одежду.
— Возьми темный плащ, — посоветовал Неферхеру. — Я тоже соберу необходимые мне вещи. Потом разбуди кормилицу.
— Она поедет с нами?
— А ты будешь кормить ребенка сама?
Она подумала.
— Я буду его кормить. Или мы найдем другую кормилицу там, куда мы едем. Эта нам не подойдет. Она слишком болтлива.
Примерно через час Неферхеру перенес последний сундук в «Улыбку Хатхор». Потом он поднялся за Меритатон и их сыном. Тихо шагая, они пересекли большой зал, где в бассейне плавали закрывшиеся лотосы.
Меритатон вспомнила, как она объясняла когда-то своим сестрам, почему цветы закрываются каждый вечер: Анубис проходит мимо.
Неферхеру спустился в кухню, чтобы взять припасы: хлеб, сыр, колбасы, фрукты и воду. Неясный свет возвещал скорый рассвет. Меритатон увидела труп, лежащий на садовой аллее, и отшатнулась от него, как от гадюки.
Хранитель духов помог царице подняться на лодку с ребенком на руках, погрузил две корзины с припасами, отвязал веревки и прыгнул на борт. Лодка медленно поплыла по течению. Через час Неферхеру поставил парус, и они поплыли быстрее. Закричал ребенок. Меритатон вспомнила действия кормилиц и впервые сама покормила грудью своего сына.
В полдень они были в Мемфисе, но Неферхеру совсем не собирался там останавливаться. Он отвечал за жизнь двух любимых созданий, спасающихся от смерти. Солнце было в зените, когда он направил лодку к берегу, гораздо выше Мемфиса, и наконец причалил к большому понтону. Взлетела цапля. Они оказались в слишком маленьком поселении, чтобы его можно было назвать портом. У причала стояли всего три или четыре рыбацких лодки. Примерно в трехстах шагах от них дети купали буйволов и лишь бросали на незнакомцев любопытные взгляды. Неферхеру помог Меритатон сойти на берег, чтобы справить нужду. Затем они подкрепились взятыми с собой продуктами. После этого Меритатон прилегла в лодке и заснула, прижав к себе ребенка.
Ближе к полуночи она проснулась и сказала Неферхеру:
— Поспи немного. Я покараулю и разбужу тебя, если будет необходимо.
Они снова отправились в путь незадолго до рассвета. Меритатон стала из взятых вещей мастерить одежду для ребенка. Она старалась не думать о том, что их бегство приведет Ая в бешенство и он отправит по их следам всех своих людей. Но еще она знала, что Аю не было известно о существовании «Улыбки Хатхор», поэтому он не сможет догадаться, что они сбежали на лодке. Кроме того, они на целых два дня опередили преследователей.
— После Мемфиса ему будет труднее всего нас разыскать, — сказал Неферхеру, догадываясь о ее мыслях, — потому что он не сможет узнать, по которому из пяти рукавов Великой Реки мы отправились.
Меритатон восхищалась мудростью Неферхеру и его умением все предвидеть. Как же он был прав, купив ей эту лодку и сохраняя все в тайне!
— Так ты знаешь, куда мы плывем?
— К хеттам. Там ты будешь только моей царицей, и тебя больше не будут звать Меритатон, — улыбаясь, сказал он. — Какое имя ты хочешь взять?
— Хертеп, — ответила она, подумав.
Та, кто владеет своей головой. Неферхеру засмеялся. Впервые за все это ужасное время она улыбнулась. Она запретила себе думать о Сменхкаре, боясь потерять последние силы, еще оставшиеся у нее.
— А ты?
— Думаю, мое имя мало кому известно. Я все еще твой Неферхеру. Запомни хорошо, что мы скажем: мы потеряли все свое имущество в Двух Землях и решили начать новую жизнь в другом месте.
На рассвете Неферхеру посмотрел на тень от палки, закрепленной на скамье лодки.
— Что это?
— Моя солнечная игла. Пока лодка неподвижна, я должен определить курс.
Он смотрел на это устройство и тогда, когда лодка двигалась. Меритатон вспомнила, что Неферхеру был ученым. Он выбрал самый восточный рукав Великой Реки, и к вечеру они достигли озер, называвшихся Большое Черное Море.
Меритатон спрашивала себя, доведется ли ей еще когда-нибудь спать в постели, и ее охватила страшная тоска по ванным комнатам дворца в Ахетатоне и по горячим обедам! Ее волосы отрастали под париком, который побелел от соли, свалялся и еле держался на голове. У нее сломались почти все ногти, и она уже перестала их подпиливать.
Самое важное — она могла кормить грудью своего сына.
Она смотрела на это маленькое создание, не веря, что сама родила его.
Во время одной из остановок на берегу Большого Черного Моря она заметила бродячего кота. Он повернулся к ней, и Меритатон поразилась: его левый глаз был затянут белой пленкой.
Она вспомнила злосчастный глаз Нефертити.
Меритатон вздрогнула, подумав о том, какой силой наделяли глаз царицы. Она никогда не признавала всякие суеверия, но факт был неопровержимым: ее мать, находясь на том свете, уничтожила Сменхкару. Но она не смогла уничтожить ее саму, так как Меритатон не была ее соперницей при жизни матери.
Меритатон прогнала кота, который убежал, душераздирающе мяукая.
Наконец она позволила себе думать о Сменхкаре.
Образ раненого голубя, который спрятался в комнате, вдруг ясно возник у нее перед глазами. Он и был этим голубем. У него никогда не было ни желания, ни силы, свойственных их роду властолюбцев. Созерцатель, как и его брат.
Потом она подумала и об Ае. Без сомнения, он потерял терпение, когда узнал о рождении ребенка. Он видел, что власть ускользает от него, и решил поставить перед свершившимся фактом священнослужителей и военных. Так он когда-то поступил и со своим зятем Эхнатоном.
Через восемь дней, несколько раз останавливаясь, чтобы купить хлеба, сыра, воды, пива и фруктов, они пересекли озера и увидели перед собой море — впервые в жизни. Меритатон была поражена его мощью и, оцепенев, вдыхала соленые капельки. Кричали чайки. Это было Большое Зеленое море, которое когда-то — да, это было уже давно — хотел увидеть Тутанхатон во время прогулки на «Славе Атона».
Это тоже была вода, но совершенно не такая, как в Великой Реке. Река была мужской силой, а в этой неизвестной субстанции она ощутила женское неукротимое могущество, которого никогда не будет у богини Хатхор. Но она тут же испугалась этой мощи, грохота, волн и сильного ветра, который одержимо, даже ожесточенно, надувал их парус.
«Улыбка Хатхор» не была предназначена для морских путешествий. Поэтому ее подбрасывало и крутило так сильно, что Меритатон, промокшая до костей и цепляющаяся за борта лодки, не раз думала, что им пришел конец. На дне лодки собиралась вода, и по просьбе Неферхеру Меритатон пришлось ее вычерпывать с помощью чаши. Путешествие становилось действительно опасным. Неферхеру старался плыть как можно ближе к берегу. А другие лодки, покрупнее, и корабли с квадратными парусами, казалось, смело противостояли стихии в открытом море.
Наконец, через две недели после бегства из Ахетатона, они заметили впереди какой-то порт. Неферхеру взял курс на него.
— Это должен быть Акко, — прошептал он.
Моряки на берегу с любопытством рассматривали незнакомую лодку. Истощенная женщина с ребенком на руках сошла на берег и пошатнулась. На голове у нее был странный парик в ужасном состоянии. Кожа на ее руках потрескалась, ногти были поломаны, а ноги стали белыми от соли. Никому и в голову не могло прийти, что эта женщина когда-то была царицей.
Мужчина привязал лодку к причалу.
Он обратился к людям на набережной, и они поняли его речь. Он спросил, есть ли недалеко отсюда какая-нибудь харчевня. Когда ему ответили, он принялся разгружать лодку.
Анубису пришлось ждать их еще несколько лет. Они обошли стороной его царство.
Биографические заметки о персонажах романа
Период правления XVIII-й династии вот уже несколько десятилетий является предметом исследования египтологов. По многим вопросам до сих пор не удалось прийти к единому мнению. Даты, которые мы приводим, исчисляются с момента смерти Тутанхамона, определенного выдающимся египтологом Кристиной Дерош-Ноблькур как 1342 год до н. э. Благодаря более или менее известной продолжительности предыдущих и последующих правлений можно восстановить «разумную» хронологию.
Эхнатон
Сын Аменофиса, или Аменхотепа III и царицы Тиу, Эхнатон был одним из самых известных фараонов Древнего Египта. Он правил семнадцать лет, теоретически с 1373 г. до н. э. по 1356 г. до н. э., и умер приблизительно в возрасте тридцати четырех — тридцати семи лет. Его мумия не была найдена, что не позволило уточнить время смерти и определить болезнь, которая, возможно, стала причиной его смерти. Есть предположения, что при жизни у него была болезнь Марфана, и это влияло на его психику и поведение. Эхнатона ошибочно называют «изобретателем монотеизма», хотя политеизм древних египтян был основан на вере в единого бога, имеющего множество проявлений, а бог Ра был его первым воплощением. Исключительный культ Солнечного Диска Атона был основан его отцом, и вернее было бы считать его «поклонением единому богу». На шестом году своего правления Аменхотеп IV взял имя Эхнатон. Построив новую столицу — город Ахетатон, «Горизонт Атона», сейчас известный как Тель аль-Амарна, он поселился в ней примерно в 1349 г. до н. э. Эхнатона не признавали жрецы, обвиняя его в том, что по его приказу были разрушены памятники и предметы традиционных культов; также он не находил общего языка с военными, так как абсолютно не интересовался военным делом. Его губительное правление было ознаменовано потерей таких провинций, как Палестина, Сирия и Судан, а также непрерывными мятежами в провинциях.
Нефертити
Дочь Ая, супруга Эхнатона, Нефертити не менее знаменита, чем ее супруг. Она имеет славу, сопоставимую со славой Джоконды, из-за своей необычайной красоты. Ее имя значило «прекрасная женщина идет». Она стала знаменитой благодаря ее бюсту из Берлинского музея египтологии и многочисленным амариским изображениям. Она была преемницей Сатамон, дочери Аменофиса III, чей отец сделал ее Царской женой, соединившись с ней. Ее брат Эхнатон женился на ней, и она стала царицей. Многочисленные изображения, относящиеся к периоду его правления, восхваляют их супружеское и семейное счастье. Но, принимая во внимание царские указы, приходится сомневаться в их правдивости. В действительности на двенадцатом году царствования Нефертити была отстранена от двора. Примерно в это же время рядом с Эхнатоном появляется Сменхкара Вскоре он становится регентом. По многим признакам можно судить, что Нефертити пыталась править или правила после смерти своего мужа и защищала культ Атона. Существуют неподтвержденные гипотезы, идентифицирующие ее как Сменхкару. Многочисленные находки убедили многих египтологов в том, что это ее мумия, сильно поврежденная, был найдена в 2003 году в гробнице KV 35 в Долине царей Верхнего Египта.
Тему «дурного глаза» нас вдохновило развить отсутствие левого глаза на бюсте Нефертити, хранящемся в Берлине. Насечка в углублении говорит о том, что глаз был потерян не случайно.
А это могло быть только актом недоброжелательности. Так у статуи отбирали силу вредить.
Сменхкара
Сын Аменофиса III и его миттанской супруги — цари могли заключать несколько браков — сводный брат Эхнатона, Сменхкара, несомненно, является самым загадочным и самым «беспокойным» представителем XVIII династии. Он был фаворитом Эхнатона, предполагается, что он состоял с ним в любовной связи. Их отношения носили кровосмесительный и одновременно гомосексуальный характер. Это объясняет то, что его мумия была найдена в женском, не царском саркофаге. Исследование мумии позволило установить возраст усопшего — от двадцати до двадцати пяти лет. Следовательно, регентом он стал в возрасте от шестнадцати лет до двадцати одного года. В некоторых царских списках опущено его имя. Но тем не менее можно предположить, что он царствовал, правда, срок его правления был недолгим — менее двух лет, между 1354 и 1352 гг. до н. э. Придя к власти, он женился на Меритатон, старшей дочери Эхнатона и Нефертити, Первой царской жене.
Меритатон
Старшая дочь Эхнатона и Нефертити. Возможно, Меритатон родилась на втором или третьем году царствования Эхнатона (1370 или 1369 год до н. э.). Первая царская жена обрела этот статус после брака с отцом — понятия кровосмешения в Древнем Египте не существовало. В шестнадцать или семнадцать лет она выходит замуж за Сменхкару в начале его царствования и таинственно исчезает после его смерти. Об их детях ничего не известно.
Макетатон
Младшая сестра Меритатон и Вторая царская жена, Макетатон известна лишь по редким упоминаниям. Возможно, она родилась в конце четвертого года правления ее отца. Дата ее смерти неизвестна. Предположительно она умерла на двенадцатом году царствования Эхнатона.
Анхесенпаатон
Родилась на шестом году правления Эхнатона. Третья царская жена является самой известной из дочерей Эхнатона. Ее жизнь была самой бурной. В тринадцать лет она становится женой Тутанхамона. Некоторые египтологи считают ее матерью шестой царевны, Сетепенры, отцом которой был Эхнатон. Мы не поддержали эту шокирующую по современным меркам гипотезу по этическим причинам: когда умер Эхнатон, ей было, скорее всего, около одиннадцати лет — ведь не на смертном же одре он сделал ее матерью. Вряд ли девятилетняя девочка смогла бы выносить ребенка. Но тем не менее Сетепенра родилась на девятом году правления.
Нефернеферуатон Ташери, Нефернеферур, Сетепенра
Младшие из шести дочерей Эхнатона и Нефертити. Они не сыграли какой-либо важной роли в истории того времени.
Ай
«Некоронованный принц» провинции Ахмин, нубиец по происхождению. Ай имел огромное влияние во времена правления Аменофиса III и Эхнатона. Этому способствовали его родственные связи: брат царицы Тиу, отец Нефертити, тоже царицы, отец Мутнезмут, супруги Хоремхеба, самого могущественного военачальника царства, к тому же двоюродный (или родной) брат другого могущественного военного — Нахтмина. Совершенно очевидно, что у Ая был вкус к власти. Амбиции, которые ему приписываются в этом романе, не преувеличены: будучи зятем царя, дядей его преемника и союзником двух самых могущественных военачальников царства, он не мог не стремиться к власти.
Тутанхамон
Даты рождения и смерти этого царя, так же как и личности его родителей, являются предметом многочисленных домыслов. Нам показалось разумным сослаться на мнение Кристины Дерош-Ноблькур: дата рождения 1361 г. до н. э., смерти — 1342 г. до н. э.
Хоремхеб, Нахтмин, верховный жрец Панезий, Тхуту, Пентью, Майя и Маху являются историческими лицами.
Чтобы не слишком запутывать читателя, мы сохранили традиционные греческие названия многих городов: Фивы, Мемфис, Гермополь, Гелиополь, Абидос и т. д.
Жеральд Мессадье
«Маски Тутанхамона»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СТРАНА, ЦАРЕМ КОТОРОЙ БЫЛ РЕБЕНОК
1
ТАИНСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Приветствуя восход солнца, белые ибисы, свившие гнезда в смоковнице на берегу Великой Реки, напротив храма великого Амона в Карнаке, как обычно, гортанно кричали и усыпали пометом расчищенную землю под деревом. Тот, что оставался со вчерашнего дня, садовники верховного жреца Хумоса старательно собрали; произведенный священной птицей, земным воплощением бога всех знаний Тота, помет и в самом деле высоко ценился как удобрение.
Птицы взлетели, хлопая могучими крыльями, и приступили к поискам своей обычной пищи: мальков, головастиков, слизняков, волочащих лапки сколопендр и других подобных этим лакомств.
С корабля, причалившего к понтонному мосту перед домом верховного жреца, проворно сошел мужчина. Быстрым шагом он направился по выстланной плитами дороге, ведущей к жилищу августейшего. Прошел через портал крепостной стены, затем пересек розарий и подошел к монументальному крыльцу. Слуга встретил его с нескрываемым удивлением и исчез в глубине дома, но вскоре вернулся. Он проводил посетителя из внутреннего дворика, увитого виноградной лозой и обсаженного кустами жасмина, к личным покоям верховного жреца.
В ванной комнате Хумос предоставил свое холеное тело служителям, совершавшим ритуальные омовения. После того как прислуживающие мальчики-банщики намылили его с головы до пят и ополоснули, цирюльник приступил к процедуре бритья сановника: головы, лица, торса, лобка, подмышечных впадин, рук и ног; даже маленькие волоски на больших ушах были безжалостно принесены в жертву: отсутствие волосяного покрова на теле Первого служителя бога из богов было обязательным условием ритуала очищения.
Писарь, стоявший снаружи, возвестил о прибытии посланника. Хумос вскинул брови. Кто посмел побеспокоить его в столь важный момент? Он повернул голову, и его удивление возросло, когда он узнал посетителя: это был сын Уадха Менеха, Главного распорядителя церемоний.
— Досточтимый верховный жрец, мой отец решил, что мне необходимо поспешить к тебе, дабы сообщить очень важную и прискорбную новость: царь мертв.
Хумос, писец, приведший посланника, два мальчика-банщика, цирюльник и его подручный застыли на месте.
— Когда? — спросил, наконец, Хумос.
— Сегодня утром его нашел слуга, который относил царю первый завтрак. Его лекарь Аа-Седхем, тоже мертвый, лежал подле него. Я немедленно сел на дворцовый корабль, чтобы переплыть Великую Реку и сообщить тебе об этом.
Хумос нахмурил брови: эта двойная смерть означала убийство с помощью яда.
Хуже всего было то, что в этот раз не царица поставила его в известность. Кто же без его одобрения осуществил столь рискованный план? Разумеется, он не скрывал своего недовольства восшествием на престол Сменхкары, но он никогда не одобрял такого жестокого способа устранения царской особы. В этом случае он вдвойне был не согласен: в конце концов, Сменхкара пытался возродить древние обряды.
Смерть молодого царя была тем более досадной, что наступила почти сразу после внезапной смерти предшественника Сменхкары Эхнатона, а затем и его супруги Нефертити, которая намеревалась продолжать дело мужа.
— Подожди меня, я скоро буду готов, — сказал он посланнику. — Накройте легкий завтрак для сына Главного распорядителя церемоний, — приказал он писцу.
Цирюльник торопливо закончил выбривание, и Хумос еще раз встал в облицованную плитами кабину под струю воды, которую раб лил на него сверху; затем вода просачивалась в песок через каменную плиту с отверстиями. Избавившись на этот раз от последних клочьев волос, прилипших к телу, верховный жрец надел сандалии и закрепил набедренную повязку. Затем он вызвал жреца и писца и присоединился к сыну Уадха Менеха, который сидел во внутреннем дворике и доедал последние кусочки медовой хрустящей лепешки.
— Пойдем, — сказал он. — Переплывем через реку вместе.
Часом позже они входили в ворота царского дворца. Безутешный Уадх Менех незамедлительно принял их. Узнав о присутствии в стенах дворца верховного жреца, Первый советник Тхуту поспешил явиться в Зал судебных заседаний, где находился Уадх Менех.
Четверо мужчин обменялись полагающимися в таких случаях уважительными высказываниями, причем те, что прозвучали из уст сына Уадха Менеха, были более продуманными, нежели произнесенные его отцом. Это было естественно: он стремился сделать карьеру при дворе. Главный распорядитель, Советник и верховный жрец обсудили разные моменты этого предвещавшего бурю события. Все были потрясены и охвачены гневом.
— Итак, — произнес Хумос в своей обычной резкой манере, — это — убийство.
Его заявление наполнило Уадха Менеха ужасом. У него открылся рот, отвисла челюсть.
— В этом нет ни малейшего сомнения! — продолжал Хумос властным тоном. — Царь и его лекарь были найдены мертвыми в постели царя, понятно?
Тхуту покачал головой.
— Известно ли, кто мог это организовать? — спросил Хумос, и в его голосе слышались раскаты грома.
Он гневно обвел взглядом своих собеседников, и этим усилил угрозу, которая таилась в его вопросе. Никто не ответил. Было очевидно, что совершивший двойное отравление отныне становился злейшим личным врагом верховного жреца Амона.
Хумос направил взгляд на Первого советника. Тхуту спокойно выдержал его взгляд.
— Даже не представляю, досточтимый верховный жрец. Смерть нашего царя — это трагедия, которая вызовет у всех его подданных печаль и тревогу. Царство в опасности. Необходимо, чтобы царица быстро назначила преемника, который возьмет власть в свои руки. Я созову Царский совет для того, чтобы провести обсуждение этого вопроса с военачальниками.
— А Начальник тайной охраны, у него тоже нет никаких идей относительно того, кто преступник? — спросил Хумос.
Тхуту поднялся с места и направился к двери. Он позвал своего писаря, который ожидал снаружи, и велел ему пойти в дом Маху, Начальника тайной охраны; писец ответил, что тот только что прибыл во дворец и хотел бы видеть Первого советника. Несколькими секундами позже в комнату вошел взволнованный Маху. Он бросил взгляд на собравшихся сановников, и его смятение стало еще более очевидным.
Хумос взял слово.
— Высокочтимый Начальник охраны, все указывает на то, что смерть царя произошла в результате отравления. Есть ли у тебя какие-либо предположения, кто мог совершить столь подлое преступление?
Маху отрицательно покачал головой.
— Возможно ли, что это царица организовала отравление супруга, дабы сделать наследником короны своего любовника?
Предположение было чудовищным, и Уадх Менех даже подскочил от негодования. Ошеломленный вопросом верховного жреца, его сын вытянул шею. Маху вытаращил глаза и даже Тхуту казался захваченным врасплох. Только законченный циник мог подумать, что Меритатон организовала убийство супруга ради возведения на престол писаря Неферхеру — своего Хранителя благовоний и любовника. Неужто царица сошла с ума?
Или же она унаследовала ненависть своей матери Нефертити к Сменхкаре?
— Мой разум отказывается воспринять такое предположение, — заявил Маху.
Выражение лица Хумоса стало ироничным, если не снисходительным — он ожидал от Начальника охраны другой реакции, чего-то помимо глубочайшего огорчения.
— Где сейчас царица? — спросил он.
— В Ахетатоне. Я послал ей извещение о смерти супруга, чтобы она прибыла в Фивы как можно скорее и приняла участие в собрании Царского совета.
— Нет, я не верю в то, что царица могла совершить подобное злодеяние, — настаивал Маху. — Я знаю, как сильно она была привязана к царю. В любом случае, речь идет о крупном заговоре.
Взгляды присутствующих были устремлены на него. Все ждали объяснений.
— Этим утром был найден труп Аутиба, Хранителя царского гардероба. Смерть наступила ночью, — сообщил он. — Его убили ударом ножа в живот.
— Что все это означает? — спросил Хумос.
— Я не знаю. Возможно, это он дал яд царю и его лекарю Аа-Седхему, — ответил Маху. — И он за это поплатился — его убрали как ненужного свидетеля.
Все размышляли над этим предположением.
— Аутиб водил знакомство с сомнительными людьми, — добавил Маху.
— Как бы то ни было, я отдам приказ о том, чтобы не объединяли смерть Аа-Седхема и смерть царя, — сказал Тхуту.
Хумос кивнул.
— Где сейчас Ай? — спросил он.
— В Ахмине, — ответил Маху.
— Вы его пригласили на собрание Царского совета?
— Он больше не член Совета, — пояснил Тхуту. — Царский совет теперь неполный: царица, Майя и я.
— А Тутанхатон? — снова спросил Хумос.
— Он здесь, в Фивах, во дворце. Несомненно, ему сообщили о случившемся, как только он прибыл сюда.
— Хорошо, — бросил Хумос и встал. — Я возвращаюсь в Карнак. Вы должны держать меня в курсе всего, что узнаете.
— Мы обязательно так и сделаем, — сказал Тхуту, поднимаясь с места для того, чтобы проводить верховного жреца до двери.
Он заметил, что верховный жрец не повторяет больше своих обвинений в адрес супруги царя, и воздержался от предъявления их в адрес Ая.
На пороге двое мужчин столкнулись с заплаканным принцем Тутанхатоном. Верховный жрец нашел, что у мальчика чрезвычайно задумчивый вид.
— Как такое возможно? — спросил принц тоном, в котором звучали и возмущение, и боль. — Как?.. Кто?..
— Я как раз стараюсь это узнать, — ответил Тхуту, тронутый чувствительностью молодого принца.
Они стояли лицом к лицу достаточно долго, пока верховный жрец в сопровождении свиты выходил из дворца. Наконец Тхуту пригласил в свой кабинет брата умершего монарха.
Сможет ли он объяснить принцу, почему неотвратимо политическое убийство?
Спустя два дня осунувшийся Тхуту в своем кабинете слушал отчет гонца, спешно отправленного в Ахетатон, чтобы сообщить царице Меритатон о смерти ее супруга.
Тхуту не знал, что сказать.
— Как это — исчезла? — спросил он, наконец.
— Досточтимый господин, утром, не найдя маленького принца в его колыбели, кормилица отправилась сообщить об этом царевне. Та его не нашла. Напрасно она искала его по всему дворцу, и усилия Первой придворной, так же как и Хранительницы гардероба и всех слуг, присоединившихся к поискам, были тщетными. Наконец царевна Анкесенпаатон пошла в спальню своей старшей сестры, осмотрела комнату, после чего объявила о том, что сестра исчезла и что все усилия найти ее ни к чему не привели.
— А Хранитель благовоний, Неферхеру?
— Также исчез. Более того, в саду был найден труп, который не удалось опознать. На его голове были следы ударов.
— Но что означает вся эта история? — воскликнул Тхуту, хлопнув себя по ляжке. — Как могла исчезнуть царица, не оставив следов? Да еще и с наследным принцем?
— Ничего не знаю, досточтимый господин.
Тхуту велел своему секретарю пойти за Маху.
— Это еще не все, досточтимый господин, — снова заговорил гонец. — Пока я был там, пришли заплаканные слуги из Северного дворца, чтобы сообщить царице о том, что царевна Макетатон, ее младшая сестра, сосланная в этот дворец, была найдена мертвой в своей постели. Не найдя царицы, они сообщили об этом царевне Анкесенпаатон…
В кабинет Тхуту вошел Маху. Гонцу велели все рассказать заново. Начальник тайной охраны слушал, разинув рот.
— Ситуация становится смертельно опасной! — вскричал он. — Царь мертв, царица исчезла! Царство обезглавлено!
— Следует действовать незамедлительно, пока эти события не получили огласки, — заключил Тхуту. — Ничто из того, что было сказано здесь, не должно выйти за пределы этих стен. В течение трех дней смерть царя следует скрывать. Исчезновение царицы также должно пока оставаться в тайне — на неопределенное время.
Он попросил писаря, чтобы тот незамедлительно передал Хумосу его просьбу оказать ему честь своим визитом в связи с исключительными обстоятельствами.
— Послушай, досточтимый господин, — обратился к нему гонец. — Во время моего пребывания в Ахетатоне я узнал, что господин Ай несколькими часами раньше вернулся в Северный дворец и, обнаружив царевну Макетатон мертвой, направился в царский дворец, чтобы повидать царицу. Ее исчезновение его очень удивило. У него была краткая беседа с царевной Анкесенпаатон…
— Известно, о чем они говорили? — спросил Маху.
— Да, я тихонько расспросил кормилицу. Царевна Анкесенпаатон неуважительно отнеслась к своему деду. Она резко заявила ему, что с некоторого времени его близкие часто умирают, и повернулась к нему спиной, не поклонившись.
Тхуту не сдержал короткого смешка.
— Где сейчас находится Ай?
— Как я слышал, досточтимый господин, он тотчас же отправился обратно в Ахмин, очень разгневанный.
Маху поднялся и объявил, что немедленно отправляется в Ахетатон, чтобы раздобыть больше информации относительно исчезновения царицы и наследного принца, а также Неферхеру.
События приобретали неожиданный поворот.
2
ТО, ЧТО ЗНАЛА ЦАРЕВНА
Легкий бриз наполнял паруса на лодках, плывущих по Великой Реке, тем же дыханием, что и всегда. Тилапиасы, окуни и сомы кишели в мутной воде, пытаясь ухватить неосторожных стрекоз и муравьиных львов, низко кружащихся над водной гладью.
На улицах Фив, как и в Мемфисе, Гелиополисе, Абидосе и других городах, зеленщики превозносили в одних и тех же выражениях достоинства своих огурцов, салата, редиса, лука, дынь и арбузов. Торговцы пористыми сосудами и мелким песком для очистки воды воспевали замечательные свойства своей продукции.
Используя медные кольца в качестве печати и не забывая учитывать стоимость папируса, писцы в своих лавках, как всегда, занимались составлением запросов в налоговое ведомство, писем живущим вдали от детей родителям, коммерческих контрактов и любовных записок девицам или богатым вдовушкам.
Наступил вечер, и в трактирах под звуки цитр, потрескивание жемчужин минот, тамбурины и кемкем танцовщицы, едва достигшие брачного возраста, принялись колыхать своими лишенными волосяного покрова стройными телами, дабы радовать взоры — и не только взоры — посетителей, сидящих на циновках и потягивающих пиво или пальмовое вино.
Но в царстве Двух Земель умы многих были охвачены беспокойством — так цепкая плесень пожирает лес, и остановить уничтожение может только огонь. Встревожились именитые граждане, крупные землевладельцы и торговцы, а номархи хорошо знали, каково влияние этих господ на развитие событий в стране.
И когда новость о смерти царя Сменхкары, которого официально называли Анхкеперура Неферхеперура, разошлась по всей Долине, вдоль берегов Великой Реки до границ со страной Куш, люди были потрясены. И вовсе не потому, что царя особенно любили: он так недолго правил страной — всего лишь семнадцать месяцев, что не было возможности узнать его как правителя. За три последних года уже в третий раз трон пустел из-за совершенного насилия.
Более того, в этот раз ситуация оказалась особенно сложной. После смерти Эхнатона назначенный им при жизни наследник трона — сводный брат Сменхкара, который, впрочем, был регентом царя на протяжении трех лет, — все предусмотрел для того, чтобы взять власть в свои руки.
Вне сомнения, он был устранен от власти вдовствующей Нефертити и совсем недолго носил царскую корону после царицы. Правда, вряд ли она непосредственно управляла страной после смерти своего мужа.
Время правления Нефертити было коротким. Когда она прибыла на церемонию захоронения своего супруга, ее постигла загадочная смерть. Сменхкара вновь получил похищенный трон, и его царствование было узаконено союзом с Меритатон, самой старшей из шести дочерей царской четы Эхнатона и Нефертити. Результатом их союза стало рождение ребенка мужского пола.
Впрочем, в этот раз заранее наследник не был назначен, но был еще один сын этой царской пары, Тутанхатон, сводный брат умершего царя; ему было чуть больше десяти лет. У большей части духовенства он вызывал недоверие, поскольку воспитывался в духе культа Атона. Именитые граждане Фив, Мемфиса и других крупных городов беспокоились, что на трон взойдет новый фанатик Солнечного Диска. Они натерпелись в свое время — когда Сменхкару короновали в Фивах. Стоит ли снова бороться ради того, чтобы отдать с таким трудом отвоеванную власть?
И все же ситуация была тревожной: кто будет управлять страной? Утром, когда было обнаружено безжизненное тело Сменхкары, ощущаемое во дворце Фив смятение быстро распространилось по Долине, а когда стало известно еще об одном убийстве, беспокойство усилилось.
В действительности секреты очень похожи на запахи: они проходят сквозь двери. Разумеется, авторитет Тхуту и Маху в Фивах был достаточно велик для того, чтобы попридержать на несколько дней слухи о смерти Аа-Седхема, случившейся в той же самой постели, где умер и его господин, а также об исчезновении царицы и наследного принца. Правда, последняя новость не была тайной в Ахетатоне: все слуги во дворце знали об исчезновении царицы Меритатон, ее новорожденного и Хранителя благовоний. Они рассказывали об этом любому, кто хотел услышать. Слухи разлетались, словно лесные мыши, бегущие из охваченного огнем дома.
Так, например, первый жрец Пта в Мемфисе, Нефертеп, был проинформирован об этом исчезновении, слухи о котором не должны были выйти за границы страны, и о таинственной смерти царевны Макетатон. Потрясенный, он явился к военачальнику Хоремхебу для того, чтобы расспросить его об этих необычных событиях. Тот опешил. Ему было известно только о смерти царя, а об остальном он слышал впервые. Внезапно он осознал, что трон пуст. Все это подымало вопросы большой важности.
Вместе с Нефертепом Хоремхеб отправился на корабле в Фивы, намереваясь потребовать разъяснений от Первого советника Тхуту. Тот пребывал в замешательстве. Все то, что, как он думал, держалось в тайне, вдруг стало явным. Он оказался в положении супруга, который единственный не знал о том, что рогат.
Справившись с растерянностью, возникшей в первые мгновения, Тхуту решил организовать чрезвычайное совещание с Хумосом и Майей в присутствии принца Тутанхатона, как только Маху вернется из Ахетатона и предоставит достаточно информации для того, чтобы можно было принять решение.
Сидя со сложенными на коленях руками в обвитой зеленью беседке, которая находилась в саду Дворца царевен, Анкесенпаатон рассматривала посетителя, Начальника тайной охраны царства. Он совсем растерялся: последний раз он видел Третью царскую жену, когда она еще была жизнерадостной девочкой, не сознающей своего положения, и так же живо начинала смеяться, как и обливаться слезами. Теперь перед ним сидела царевна, резко повзрослевшая из-за потрясений, выпавших на долю ее семьи.
Какая степенность! Какое высокомерие! Какие горькие складки в уголках рта!
Она бросила взгляд на мальчика, находившегося здесь же, как будто именно он определял необходимость ее присутствия.
— Пасар — мой друг, — заявила она твердо. — Он может и должен присутствовать во время всех бесед.
Маху был удивлен. Он пытался понять, какова природа уз, связывающих этого мальчика с нежным и, несомненно, умным лицом, с царевной. В позе Пасара чувствовалась необычная для выходца из народа уверенность. Затем Начальник тайной охраны вспомнил о молодом писце, который, согласно рескрипту Сменхкары, был допущен в царскую семью. Но каковы были истинные причины этого?
— Он был первым, — продолжила Анкесенпаатон, — кто предупредил меня об опасности, которая угрожала моей семье. Я сожалею, что не придала этому большего значения.
Она говорила тоном, не терпящим возражений. Будучи хорошим сыщиком, Маху осознавал важность этой информации, поэтому согласился с присутствием незнакомца, который бросал на него такие взгляды, будто принадлежал к царской семье.
— Пусть будет так, как ты желаешь, царевна. Что ты знаешь об исчезновении твоей сестры — царицы?
Анкесенпаатон задумалась на мгновение и ответила:
— Кому принесут пользу эти сведения?
— Царству.
— Царству?
Она выговорила это слово с таким презрением, что Начальник охраны замер.
— Царству, именно так, — повторил он.
— А что такое царство?
Тишина. Анкесенпаатон посмотрела на реку.
— Люди жадны до власти, — продолжила она, — и не брезгуют воспользоваться ядом, чтобы устранить тех, кто мешает удовлетворению их амбиций.
— Царевна, царство — это отображение всех страстей человеческих. Это божественная территория на земле.
Какое-то мгновение она размышляла над ответом, после чего заметила:
— Какое значение для меня имеет царство? Мой отец был отравлен. Моя мать была отравлена. Царь отравлен. Моя сестра Макетатон отравлена.
Эти слова, звучащие из уст одиннадцатилетней девочки, слышать было невыносимо. Но Анкесенпаатон уже не была девочкой.
— Вторую царскую жену отравили? — спросил Маху, хотя он был в этом убежден.
— Как только пришли слуги, чтобы объявить мне о ее смерти, я отправилась в Северный дворец. Я нашла на ночном столике открытую шкатулку с лекарствами, которая принадлежала моей матери. Эта шкатулка была одним из тех предметов, которые Меритатон разыскала с помощью прислуги нашей матери. Макетатон ее похитила во время переезда в Фивы.
— Откуда ты знаешь, царевна, что она похитила ее? Не могла ли ее прислать царица Меритатон?
Анкесенпаатон покачала головой.
— Нет. Я знаю, что она ее выкрала. Мы с Пасаром видели ее входящей в спальню Меритатон, а затем она вышла со шкатулкой в руке.
Маху был поражен.
— Из всего этого можно заключить, — продолжила Анкесенпаатон, — что моя сестра приняла те же самые отравленные пилюли, которые были доставлены моей матери. Они обе умерли от одного и того же яда.
Она бросила суровый взгляд на Маху, будто обращалась к вздорному и неразумному мальчишке. Он почувствовал себя неловко. Ему были понятны зловещие намеки Анкесенпаатон, когда она заговорила о царстве; ей казалось, что она окружена отравителями и, к сожалению, он не мог доказать ее неправоту.
На какое-то время Маху задумался. Умозаключения молодой царевны трудно было опровергнуть. Тем не менее он хотел узнать, действительно ли Макетатон приняла пилюли сознательно.
— Почему Вторая царская жена была сослана в Северный дворец, царевна?
На самом деле это оставалось для всех загадкой — Сменхкара никогда не объяснял этого публично.
— Она думала, что Сменхкара отравил мою мать, и между ней и Меритатон вспыхнула из-за этого ссора.
— Откуда ты это знаешь, царевна?
— Потому что я там присутствовала, — дерзко ответила она. — И я доверяю своей сестре Меритатон. Она твердо убеждена, что Сменхкара никоим образом не причастен к смерти моей матери. А мой дед Ай вбил в голову Макетатон, что Сменхкара убил мою мать, чтобы занять трон.
Речи молодой царевны все больше и больше беспокоили Маху, и он стал ерзать в кресле. Тот образ мира, который создала эта очаровательная девочка, был таким же мрачным, каким видел его старый сыщик! Ему пришлось столкнуться и с подлостью, и с гнусными преступлениями, и с корыстными поступками!
Но, несмотря на объяснения царевны, обстоятельства смерти Макетатон для него так и не прояснились.
— Царевна, эти пилюли, — стал пояснять он, — как считалось, обладали снотворным действием. Если эта шкатулка была у нее со времени переезда в Фивы, то она давно должна была умереть. Переезд в Фивы состоялся два года назад. Как могло случиться, что она приняла эти пилюли только четыре дня назад?
Анкесенпаатон повернула к нему свое очаровательное личико.
— Макетатон никогда не испытывала трудностей со сном. Я думаю, что она проглотила эти пилюли в тот вечер, когда была особенно возбуждена.
— Что могло заставить ее так разволноваться?
Анкесенпаатон бросила взгляд на Пасара и ответила тоном, в котором чувствовался вызов.
— Сообщение о смерти Сменхкары.
— Что?! — воскликнул Маху.
— То, что слышал, Начальник охраны.
— Но когда?
— На следующий день после смерти Сменхкары.
— Но это невозможно! Царь умер в Фивах, а чтобы туда добраться, надо день плыть на корабле, и новость о его смерти была разглашена только десять дней спустя. Как могла царевна Макетатон столь быстро узнать о смерти царя?
— Ее об этом известили во время позднего ужина, — спокойно ответила Анкесенпаатон.
— Но тогда эта новость еще хранилась в тайне!
— Ну и что? Эта смерть была предрешена.
В течение нескольких секунд Маху пребывал в оцепенении.
— Но откуда тебе это известно, царевна? — наконец спросил он, когда немного пришел в себя.
— Я допросила слуг, и они рассказали о том, что произошло накануне. Кормилица мне сообщила, что одна рабыня рассказывала шепотом что-то своей госпоже, а моя сестра после этого пришла в сильное возбуждение. Я велела позвать эту рабыню и допросила ее. Она созналась, что гонец должен был известить мою сестру о том, что скоро произойдет ее освобождение, так как царь накануне умер, и новый господин царства, ее дед Ай, сам приедет ее освобождать.
Маху недоверчиво смотрел на царевну, вытянув шею.
— Рабыня так и сказала?
— Именно так.
— Но ее надо арестовать!
— Мы с Пасаром привели ее сюда под надежной охраной. Она теперь пленница в этом дворце.
Маху попытался воссоздать картину событий: смерть Сменхкары ускорил Ай, и это означает, что властелин Ахмина незамедлительно сообщил об этом своей внучке, а затем прибыл в Ахетатон с намерением освободить Вторую царскую жену. С какой целью? Понятно, что не отеческое сострадание стало причиной его поспешного, точно рассчитанного приезда. Слова рабыни так и звучали в голове сыщика: Ай уже видел себя владыкой царства! На что он рассчитывал? Кто должен был стать супругом Макетатон и получить таким образом доступ к трону? Но еще жива Меритатон… Только один вывод представлялся бесспорным: вне всякого сомнения, Ай устроил это отравление с тем, чтобы наконец освободить себе путь к власти…
Тыльной стороной руки он вытер капельки пота, блестевшие над его верхней губой.
— Царевна, где сейчас царица?
— Она уехала.
— Уехала? Куда?
— Мне это не ведомо.
— На чем она уехала?
Маху удивился, заметив, какими взглядами обменялись Анкесенпаатон и Пасар.
— Мне это не ведомо.
Он подозревал, что царевна знает правду, но замалчивает ее.
— Она жива?
— Она уехала с Неферхеру и ребенком.
— Почему она уехала? Она боялась за свою жизнь?
— Она не предупреждала меня о своем отъезде. По-видимому, решение было принято поспешно.
Маху вспомнил о трупе, который был найден в саду.
— Царевна, я беспокоюсь о твоей безопасности. Не лучше ли тебе находиться в Фивах?
— Почему? — Вопрос был задан высокомерным тоном. — Ты думаешь, что в Фивах меня не отравят?
На крышу беседки сел ибис, не обращая внимания на находившихся в ней людей.
Внезапно Маху почувствовал усталость. Он поднялся, простился с царевной и ее загадочным другом и направился к кораблю, ожидавшему его.
«Чем все это закончится?» — спросил он сам себя, глядя на перевозчика, отдающего швартовые, и на журавлей, что летели над мутными водами Великой Реки.
3
«ЛУЧШЕ КУПИ ОБЕЗЬЯНКУ»
Собравшись в зале заседаний Первого советника Тхуту, верховные жрецы Хумос и Нефертеп, военачальники Хоремхеб, Нахтмин и Анумес и Первый писарь Майя слушали сообщение Начальника охраны Маху. Предварительно проинформированный о заключениях, сделанных на основании собранной Маху информации в Ахетатоне, Тхуту посчитал благоразумным держать принца Тутанхатона в стороне от всех этих разоблачений, которые могли ранить его чувствительную натуру.
Действительно, на протяжении недели после смерти царя молодой принц неизменно пребывал в меланхолии.
Косые лучи, проникающие через расположенные в верхней части стены амбразуры, рассекали пространство зала; один из них упал на лицо стоявшего Маху, что придало его повествованию характер божественного разоблачения. Закончив свой отчет, при этом пытаясь быть бесстрастным, он сел.
На какое-то время установилась тишина, все размышляли над тем, что узнали. Появились слуги, чтобы подать тамариндовый сок и маленькие лепешки с изюмом, потом они вышли, последний старательно закрыл за собой дверь — собрание было тайным.
Тхуту взял слово.
— Наша задача — как можно скорее найти преемника царю Анхкеперуре. Армия, — сказал он, обращаясь к Хоремхебу и Нахтмину, — царская охрана, — продолжил он, глядя на Маху, — и именитые граждане обеспокоены тем, что почти три года царство страдает от нестабильности власти. Это наносит ему вред, как за пределами страны, так и внутри нее. Наш посол в Угарите сообщил мне о сомнениях, охвативших иностранных царей — они не знают, есть ли в Двух Землях монарх. Такая ситуация не может продолжаться долго. Мы сейчас находимся в положении, похожем на то, что известно из нашей летописи, когда четыре столетия назад царская власть начала слабеть и фараоны менялись так быстро, что едва успевали записывать их имена. Тогда появились властители в областях и провозгласили свою независимость от трона. Именно в то время гиксосы завладели нашей страной и навязали своего царя.
Он обвел взглядом собрание и продолжил тем же официальным тоном:
— Как мне кажется, наша обязанность — не только обеспечить продолжение династии, что гарантирует торжество закона, но и восстановить стабильность в царстве. Вот почему я предлагаю, чтобы нашей целью стало возведение на трон принца Тутанхатона после заключения им брака с царевной Анкесенпаатон, Третьей царской женой. Остается решить, кто возьмет на себя регентство. Прежде чем раскрыть имя того, кто мне кажется подходящим кандидатом, я хочу услышать, что скажете вы. Высокочтимый верховный жрец? — обратился он к Хумосу.
— Я полностью согласен с твоими предложениями, Первый советник. Но я хочу выделить два момента. Во-первых, речь идет не только о том, чтобы поправить ситуацию, образовавшуюся из-за смерти царя, но также и ту, что сложилась еще в результате смерти его отца, Аменхотепа Третьего.
Он вперил тяжелый взгляд в Тхуту и продолжил:
— Ситуация действительно неустойчивая. Большая часть органов власти снова размещается в Ахетатоне, в частности, налоговое ведомство. Когда одна голова находится в Фивах, а другая — в Ахетатоне, царство напоминает монстра о двух головах — такие иногда рождаются у околдованных женщин. Более того, официально культ Атона во многих наших храмах и жилищах не упразднен, а наши культы забыты. Умерший царь готовился к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, но не успел этого сделать. Это ослабляет наше царство! — гневно закончил он, всем телом подавшись вперед.
Тхуту слушал его внимательно. Военачальники Нахтмин. Хоремхеб и Анумес истово поддакивали. Хумос окинул зал горящим взором и продолжил:
— Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, — то, что принц Тутанхатон и царевна Анкесенпаатон обеспечат продолжение династии, я в этом убежден. Но они оба воспитаны в духе культа Атона, и поэтому им не будут доверять не только духовенство, но и, в той же мере, большая часть знати. Ты спросил меня, кого бы я хотел видеть регентом. Я тебе его опишу. Он должен отвечать двум требованиям: во-первых, этот человек должен вызывать доверие у большинства жителей царства, и, во-вторых, он должен согласиться с возвращением традиционных культов, и тогда при достижении соответствующего возраста Тутанхатон не сможет поддаться искушению повторить пагубные ошибки своего брата Эхнатона.
В зале воцарилось длительное молчание. Все понимали, что в словах верховного жреца Амона был заключен здравый смысл, идеи его всеми были одобрены.
— Верховный жрец Нефертеп? — продолжил опрос Тхуту.
Верховный жрец Пта заявил, что полностью согласен с выводами своего коллеги, но хотел бы обратить внимание на следующее: Фивы не представляют собой единственный в своем роде центр древней власти, в Мемфисе тоже сосредоточено много центральных органов управления, а влияние и богатство этого города возросло со времен правления царя Аменхотепа Третьего. Ведь именно в Мемфисе, а не в Фивах, находится ведомство речной торговли.
Этот момент, как считал он, очень важен, поскольку влияет на принятие решения относительно места коронации будущих царей.
Такое заявление было сделано некстати, и то, что оно прозвучало из уст верховного жреца бога Пта, покровителя Мемфиса, было неожиданностью: Нефертепа всегда отличало стремление к примирению. Впрочем, противопоставление Мемфиса Фивам напоминало о прежнем соперничестве между Нижней Землей, столицей которой был Мемфис, и Верхней Землей, столицей которой были Фивы. Между тем было решено, что столица будет находиться в Фивах. Противопоставление одного города другому представляло угрозу целостности царства.
Похоже, все встревожились.
Даже на лице Хумоса, верховного жреца Амона, появилось выражение недовольства: притязания Нефертепа затрагивали один из самых неприятных моментов, и жрец царства никогда не мог открыто высказаться по этому вопросу: кто был создателем мира — Пта или Амон? Амон — тайный бог — безраздельно властвовал в Верхней Земле, о чем свидетельствовало великолепие его храма в Карнаке. Но для Нижней Земли истинным создателем мира был Пта.
Может быть, оба эти творца были одним и тем же божеством? Однако Амон был супругом Мут, которая подарила ему сына Хонсу — лунного бога. А Пта был супругом великой богини Сехмет, она подарила ему сына Нефертума — благоухающего бога-лотоса. Они были совершенно разными богами, и каждый из городов — и Фивы, и Мемфис — признавал только своего бога-творца.
В этом была одна из причин, почему Эхнатон стремился навязать своему царству единственного бога — Атона. И в этом крылась причина вражды двух верховных жрецов, а их полное согласие было мнимым.
По мнению Хумоса, Нефертеп допустил непростительную оплошность, возрождая спор, который велся только между посвященными.
Все участники собрания знали об этой проблеме. Она была причиной нескончаемых теологических дебатов. Не стоило ее затрагивать: это было все равно что пытаться распутать клубок змей! Особенно в тот момент, когда духовенство намеревалось возродить древние культы и предать культ Атона забвению.
Хумос высказал свои соображения, не скрывая недовольства: при данных обстоятельствах лучше было бы, чтобы его уважаемый собрат не оспаривал публично превосходство Фив, поскольку это может закончиться тем, что место коронации перенесут в Мемфис.
Понимая, к чему это может привести, он решил не продолжать дебаты.
В результате раскола, по мнению Хумоса, в царстве появится три, а не две головы. К тому же существовала еще одна проблема, и это прекрасно сознавал Тхуту, но счел неуместным излагать ее до формирования сильного правительства.
Он повернулся к Нефертепу:
— Мне понятны твои чаяния, верховный жрец, но сегодня мы обсуждаем другой вопрос.
Довольный тем, что удалось внести свои предложения, Нефертеп выразил сожаление, что больше двух лет после смерти царя Эхнатона потеряны, поскольку так и не началось осуществление, даже в минимальном объеме, истинной реформы. В своей дерзости он зашел достаточно далеко, заявив:
— Иногда я сам себя спрашиваю, уж не ради ли собственной выгоды царь не желает, чтобы его власть строго контролировали, и оставляет за собой право назначать Царский совет?
Это предположение было почти святотатством. Неужто Нефертеп хотел все поменять коренным образом?
— Мы ищем регента? — продолжил он. — Ориентируясь на сильного человека, не рискуем ли мы ограничить свою власть, если этот человек не будет выражать наши интересы? Зачем нам тот, кто укрепил свою власть за время предыдущих правлений? Тогда он создавал альянсы, становясь их заложником, а его действия препятствовали осуществлению коренных реформ.
Это был приговор Аю, не подлежащий обжалованию. В действительности Ай, отец будущей царицы Нефертити, обрел власть во времена Аменхотепа Третьего. Он был пылким приверженцем культа Атона, исключающего поклонение другим богам, и выразителем интересов группы вельмож. Слова Нефертепа дали пищу для размышлений.
— Военачальник Хоремхеб? — произнес Тхуту.
Будучи человеком военным, тот высказал свои мысли сдержанным тоном:
— Я разделяю мнение верховного жреца Хумоса, а особенно мне близко то, что высказал верховный жрец Нефертеп.
Это никого не удивило: все знали, что, пребывая в Мемфисе, военачальник поддерживал тесную связь с верховным жрецом культа Пта. После паузы Хоремхеб продолжил:
— Ни один из верховных жрецов не назвал имени человека, который, на их взгляд, способен быть регентом. Но я добавлю: непозволительно, чтобы этот человек пытался вернуть страну в прошлое, а также чтобы он был опорочен преступными действиями, о которых говорил Начальник охраны.
Все поняли намек: Хоремхеб не хотел, чтобы его тесть Ай был регентом. И это неудивительно. Одинаково амбициозные, зять и тесть ненавидели друг друга, как собака и кошка.
— Военачальник Нахтмин? — после паузы произнес Тхуту.
Нахтмин откашлялся и заявил:
— Я полностью придерживаюсь того же мнения, что и мой уважаемый коллега Хоремхеб. Но и он не назвал имени человека, которого хотел бы видеть регентом. Советник Тхуту справедливо заметил, что ситуация чрезвычайная, и меня беспокоит то, что мы теряем драгоценное время, рассматривая ту или иную кандидатуру в ожидании знака свыше. Верховный жрец Нефертеп желает видеть регентом человека, не обладающего большой властью. Тогда кто же может быть этим человеком? Очевидно, незнакомец. В таком случае, никто не знает, каким образом он достиг своего положения. Доверим ли мы регентство незнакомцу? Или же отправимся на поиски этой таинственной личности к хеттам?
Он выдержал паузу, чтобы присутствующие оценили его умозаключение. Затем продолжил:
— Хочу еще сказать, что выбор очевиден: никто, на мой взгляд, не внушает такого доверия, как господин Ай. У него огромный опыт ведения дел как внутри страны, так и за ее пределами, к нему с большим уважением относятся в армии как к командующему конницей, и он знает — очень хорошо! — что такое царская власть, поскольку его сестра была великой царицей Тиу, а его дочь носила имя, заслуживающее не меньшего восхищения, — Нефертити.
Ошеломленный Хоремхеб вытаращил глаза: военачальник Нахтмин издевался над всеми? Хумос явно пребывал в замешательстве. Поэтому именно Хоремхеб взял слово.
— Все мы слышали отчет Начальника царской охраны Маху. Именно Ай назван виновником отравления Сменхкары. Он не может претендовать на это место, так как опорочен участием в преступных действиях.
— Назван виновным? — возмущенно воскликнул Нахтмин. — Человек спешил предупредить свою внучку о том, что она могла быть коварно отравлена, и это воспринимается как преступные действия?
Он притворно засмеялся.
— Но его осведомленность? — возразил Хоремхеб. — Как мог Ай так быстро узнать, что царь мертв? Новость еще не была оглашена…
— Послушайте, но это легко объясняется! — сердито заявил Нахтмин. — Господин Ай часто посещает Фивы по своим делам. Мне также известно, что он приезжал в Фивы в то утро, когда мы узнали о смерти царя Сменхкары. Всем известно о его связях с царской семьей. Кто-то из дворцовой прислуги известил о глубоком трауре того, кто постучал в дверь. Что может быть более естественным? Господин Ай машинально послал лодку с гонцом, чтобы предупредить внучку Макетатон о том, что она скоро будет освобождена. Одного дня достаточно, чтобы по реке добраться от Фив до Ахетатона. Во время последнего ужина Макетатон получила предупреждение. Во всем этом я не вижу ничего преступного или невероятного. Скорее я нахожу преступным подозревать такую личность как Ай, это просто козни врагов!
Будто поперхнувшись, Нефертеп опустошил свой кубок с соком. Хумос сощурился и удобно устроился на своем месте.
— И разве он не представился Макетатон как будущий повелитель царства? — возмущенно спросил Хоремхеб. — Что в таком случае хотела продемонстрировать царица Меритатон своим исчезновением, или в этом все же был какой-то смысл?
— Уважаемый военачальник, — въедливо заметил Нахтмин, — мы говорим здесь о делах царства. Ты предлагаешь нам поверить словам рабыни и позволить им повлиять на мнение, которое складывалось у нас на протяжении многих лето таком человеке, как господин Ай? И все только потому, что эта нахалка вообразила, что господин Ай, вне всякого сомнения, мог бы стать повелителем страны?
Он возмущенно пожал плечами.
Хоремхеб казался одновременно и задумчивым, и раздосадованным. Все знали, что он желал стать регентом. Но у него не было ни известности, ни влияния его тестя.
Ни Тхуту, ни Майя, ни Маху не вмешивались в эту перебранку, и для этого были серьезные основания: прежде всего, они были совершенно уверены, что разговор будет дословно передан Аю преданным ему человеком, Нахтмином, и если Ай станет регентом, то лучше не испытывать на себе его крутой нрав. К тому же их роль заключалась лишь в том, чтобы узнать мнение присутствующих мужей и принять соответствующее решение. Наконец, в назначении Ая, увы, многие были заинтересованы.
Тем не менее ситуация была скандальной.
В частности, Тхуту считал, что Ай к смерти Сменхкары и его лекаря имел непосредственное отношение. Советник помнил, какие использовал господин Ахмина методы для того, чтобы положить конец правлению Эхнатона, и он прекрасно знал человека, чья рука способствовала их претворению в жизнь, — Пентью.
Более того, он сам был замешан в отравлении Эхнатона и Нефертити, и он признался в этом Сменхкаре.
Но Нахтмин был прав: Ай был тем человеком, который больше других имел шансы на регентство. Во время короткого правления своей дочери Нефертити он надеялся фактически выполнять функции регента, как это было в последние годы правления Эхнатона. Теперь, преступные или нет, но его действия привели к желаемому результату: он мог официально стать регентом при юном Тутанхатоне.
Пока не высказался только военачальник Анумес. Это был степенный человек, его лицо было темным от палящего солнца пустыни, жесты размеренными.
— Как человек военный, я в течение многих лет сокрушался по поводу упадка нашей армии и думал о том, что если такая ситуация сохранится, то мы рискуем, как сказал Советник Тхуту, снова подвергнуться оккупации. И все это из-за ошибочного понимания, что такое доверие и царская забота. Если Ай и есть тот сильный человек, который нам необходим, ну тогда его надо назначать. Но пусть будет покончено с этими бесконечными интригами, которые мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет. Необходимо действовать быстро.
Со своего места поднялся писарь и направился к двери, чтобы потребовать принести другую чернильницу.
Тхуту снова взял слово.
— Я хочу сейчас передать вам рекомендации, которые этим же утром мне были предоставлены делегацией из Верхней Земли. Я не сообщил вам о них раньше, дабы не оказывать на вас давление. Шесть именитых граждан приходили, чтобы просить меня назначить регентом сильного человека, уважаемого во всей стране, и свой выбор они остановили на Ае.
Хоремхеб шумно вздохнул. Ай, шансы которого, казалось, пошатнулись после выступления Маху, уже через два часа представлялся реальным кандидатом на регентство.
Оба верховных жреца казались задумчивыми.
— Последнее замечание, — сказал Нефертеп. — Предположим, то, что мы спланировали, свершится. Тутанхатон и Анкесенпаатон поженятся, и юный принц будет назначен преемником своего брата Сменхкары. Ай возьмет на себя регентство. И вот внезапно явится Меритатон с законным наследником — своим сыном. Что тогда будем делать?
Майя рассмеялся.
— Это действительно проблема, — заметил Тхуту. — Но я не думаю, что мы с ней столкнемся.
— Почему? — спросил Хумос.
— Потому что, как мне кажется, царица отказалась от власти.
— Не понимаю… — пробормотал Хоремхеб. — Как можно отказаться от власти?
Это замечание заставило улыбнуться даже Нефертепа.
— Думаю, членам этой семьи свойственна мечтательность, — пояснил Тхуту. — Меритатон унаследовала это качество от своего отца. Короче говоря, власть не интересовала Эхнатона. Его единственной страстью было написание гимнов Атону. Не думаю, что царица Меритатон вернется, чтобы отстаивать свое право на власть.
Казалось, что это замечание привело в замешательство всех присутствующих.
— Я уверен, что мы решили этот вопрос, ведь досточтимый Нефертеп рассудил мудро, — продолжил Тхуту. — Мы организуем через какое-то время похороны царицы Меритатон.
— Похороны? — вскрикнул Майя.
Тхуту покачал головой.
— Не добавляет трону славы то, что царица оставила его. Через три месяца мы приступим к процедуре погребения царицы. Мы объявим, что она скончалась от печали, а ребенок умер от болезни.
От такого решения все присутствующие оцепенели.
— Но саркофаг будет пустым? — уточнил Хоремхеб.
— Достойно ли для царицы исчезнуть? — бросил Тхуту, чуть заметно улыбнувшись.
— А Макетатон?
— Мы приступим к процедуре ее захоронения через полгода.
«Даже смерть — меланхолично размышлял Маху, — принадлежит государству».
Существует множество видов смерти, и Начальник охраны решил не придавать значения тому, как умер Сменхкара, он понял, что пора расстаться с иллюзиями. Маху восхищался взлетом этого юного царя и надеялся преуспеть в тени его величия. Он также знал, что отныне — при Ае — он будет лишь второстепенным персонажем.
В то же время в своих покоях во дворце в Фивах Тутанхатон играл в шашки с личным управителем, юным писарем, который держался очень напряженно. Принц уже забыл о своей печали.
— Что станет со мной? — пробормотал он. — Он был моим единственным другом.
— Принц, если ты ищешь друга, лучше купи обезьянку или собачку. У принца не может быть друзей.
Тутанхатон поднял на писаря глаза, покрасневшие от слез.
— А ты? — спросил он. — Ты — кто?
— Твоя обезьянка, принц.
Тутанхатон покачал головой и улыбнулся. За всю неделю это была его первая улыбка, которую вызвало столь откровенное высказывание.
4
К ЧЕМУ ЭТОТ МАСКАРАД?
Бальзамировщики были довольны своей работой.
Тхуту заказал саркофаги и пышное погребальное убранство, достойное смерти его мечты. Он вызвал скульптора, ответственного за изготовление золотых масок и продиктовал ему инструкции:
— Создай образ, который будет символизировать погубленную юность и разбитые надежды. Нечто вроде Осириса, которого ты представишь в тот момент, когда он понял далеко от родной земли, что предан и убит своим родным братом Сетом.
Скульптор казался несколько удивленным; он еще никогда не получал таких указаний от высочайших особ.
— Должен ли я его приукрасить?
— Нет, он и так прекрасен. Ты бы его исказил. Придай ему такой вид, словно он предстал перед богами в тот день, о котором я тебе говорил.
Скульптор покачал головой.
— Не судьба ли людей, господин, воплощает несбывшуюся мечту?
— Нет, — ответил Тхуту. — Большинство стремится к удовлетворению своих слепых амбиций — до самой старости.
Одна навязчивая идея мучила скульптора, но он не осмелился обсуждать с Советником столь возвышенные вопросы, как смысл человеческого существования.
И все же про себя он недоумевал: неужели функция царей состояла в том, чтобы мечтать?
Ему доставили одну из редких статуй, изображавших Сменхкару, чтобы он мог ее изучить. Она находилась в одной из часовен храма Амона в Карнаке. Скульптор, рассматривая ее, узнал руку одного из своих наиболее уважаемых коллег. Изображение поражало своей правдивостью: это был молодой человек с горестным лицом, слабым торсом и мягким животом.
Во многом это соответствовало образу божественной красоты.
В это время Тхуту, казалось, был поглощен своими мыслями; он вспоминал долгий разговор с умершим царем, его обоснование законности политического убийства: раз он слишком слаб, то должен быть устранен. После этой беседы Сменхкара стал мрачным, впал в меланхолию.
Вне сомнения, его недолгое правление было предопределено судьбой, и преданность лекаря не защитила его от убийц.
Наконец Советник вышел из состояния мечтательности и проводил скульптора до двери, пообещав посмотреть его наброски.
Военачальник Нахтмин и гепард обменялись осторожными взглядами; Нахтмин предпочел бы видеть на его месте небольшую рыбку, но знал, что необходимо проявлять учтивость к животным, принадлежащим видным людям. Рычание зверя свидетельствовало о том, что посетитель ему не понравился. Наконец эта вероломная кошка улеглась у ног своего господина.
Двое мужчин сидели в тени деревьев в огромном огороженном саду, который принадлежал господину Аю. Две раскидистые смоковницы и баньяны образовали высокий свод над розарием. Цветущие кусты жасмина окружали беседки, подмешивая к благоуханию роз свой аромат.
Беседа была приватной, нубиец Шабака, доверенное лицо Ая, не был допущен.
— Вот, пожалуйста, хорошие новости, — сказал Ай военному, который был не кто иной, как один из его
двоюродных братьев.
На самом деле Нахтмин постарался прийти как можно быстрее после разговора у Тхуту, чтобы отчитаться перед Аем.
— Эти люди, — продолжил Ай, — не могут не согласиться с очевидным. Чтобы управлять страной, нужен сильный человек, и пусть он придет к власти как можно скорее! — заявил он запальчиво.
— Этого мнения также придерживается Хоремхеб, — заметил Нахтмин. — Было ясно, что он стремился к регентству.
— Хоремхеб справился бы только с частью обязанностей регента, — сказал Ай. — Все, на что он способен, — это защитить и даже расширить наши границы, но он не смог бы установить порядок в стране.
Нахтмин выразил удовлетворение тем, что он добился окончательного провала двух его самых яростных соперников в царстве — вторым был военачальник Анумес, возглавляющий гарнизоны Востока. Двое мужчин отпили по глотку прохладного пальмового вина, которое слуга налил в их кубки.
— Тебе я обязан тем, что ты открыл глаза Тхуту и остальным, — сказал Ай.
— Я ценю твое влияние и опыт. С моими доводами не мог не согласиться Хоремхеб.
— Я благодарен тебе за это. Печально, что необходимо напоминать об очевидном людям, обладающим властью.
— Хочу надеяться, мой прославленный брат, что ты это учтешь, когда сам будешь властвовать.
На лице Ая появилась ироническая гримаса: товар еще не доставлен, а за него уже требуют заплатить!
— Как бы не так! — отрезал он. — У меня нет интереса к этому маскараду, который сводится к тому, чтобы посадить на трон двоих детей, — продолжил Ай. — Два или три раза я видел юного Тутанхатона, он не производит сильного впечатления. Прежде всего, он хилый, как ночная бабочка; затем, как мне показалось, У него нет характера, и я сомневаюсь, что и к двадцати годам он изменится к лучшему. Воспитанный в духе поклонения Атону, он не вызывает доверия у людей, с которыми считаются в этой стране, включая духовенство. И наконец, он никому не известен, даже во дворце. Откуда он будет черпать силы? От кормилицы? И хуже всего: найдена кормилица детей!
— Несомненно, было бы лучше, если бы Макетатон была еще жива, — заявил Нахтмин. — Ты бы на ней женился и занял трон.
При упоминании о Макетатон лицо Ая омрачилось.
— Как могли ее отравить? — спросил Нахтмин.
— Она приняла несколько отравленных шариков, которые предназначались ее матери.
— Но кто изготовил это лекарство?
— Пентью.
— Пентью? Он уже…
— Я знаю, — сухо оборвал его Ай.
— Ir berou nefer bin tchao! — кричал попугай.
Что означало: счастливого тебе дня, грязный пердун!
Когда смысл этих слов дошел до Нахтмина, он поднял брови, а затем начал хохотать. Ай едва заметно улыбнулся.
— Я мог бы жениться на Бакетатон, — заметил он, как будто размышлял вслух. — Но она, как мне кажется, очень несговорчива…
Всеми забытая сестра Эхнатона, царевна, внезапно вызвала интерес у Ая. Он даже нанес ей визит, но она его приняла как утка кошку: Бакетатон была потрясена смертями, которые обрушились на ее семью одна за другой.
— Известно ли, что произошло с Меритатон? — спросил Нахтмин.
Ай покачал головой.
— Это полная тайна. Думаю, что этой несносной девчонке Анкесенпаатон что-то известно, но она не проронила ни слова.
— Нефертеп обеспокоен тем, что она может вернуться, но Тхуту в это не верит.
— Почему? — спросил Ай, сощурившись.
— Он утверждает, что она отказалась от власти. У нее больше нет желания быть царицей.
Какое-то время Ай обдумывал это предположение. На самом деле, разве можно отказаться от власти? Какое-то время она, скорее всего, будет где-то скрываться со своим ребенком и любовником, Неферхеру, и вновь появится в подходящий момент для того, чтобы сеять раздор.
— Чей это труп нашли в саду в то утро, когда исчезла Меритатон? — спросил Нахтмин.
Ай бросил на своего двоюродного брата удивленный взгляд, как будто не понимал, что тот хотел сказать.
— Маху сообщил, что в саду был найден труп со следами побоев, к тому же этого человека отравили.
— Отравили?
— Да, слуга передал Маху флакон, который был найден возле тела. Вне сомнения, в нем был дурман.
Ай нахмурил брови; он решил проигнорировать эту информацию. Это было нелегко сделать, но он все же взял себя в руки. Этот мерзкий слуга ничего ему не сообщил, когда он прибыл в Северный дворец! Это посланец Ая был избит, да еще и вынужден был выпить яд, который предназначался Меритатон! Очевидно, Неферхеру не удалось подкупить, и он сбежал с Меритатон и ребенком. И этот провал стоил ему, Аю, тысячи золотых колец и жизни одного из самых умных и преданных слуг.
Он заскрежетал зубами. В конце концов, главным было то, что он снова получит власть в свои руки. Он заметил, что Нахтмин наблюдает за ним.
— Я не в курсе, — сказал он.
Нахтмин решил промолчать, хотя не переставал об этом думать. В Северном дворце была совершена попытка отравления, и все наводило на мысль, что жертвой должна была стать царица. А в саду обнаружили труп посланца, который потерпел полную неудачу. Если бы этого не случилось, Ай нанес бы двойной удар: он избавился бы одновременно от Сменхкары и Меритатон. Ему открылся бы прямой путь к власти, а пока он вынужден играть роль второго плана. Но господин Ай был не из тех, кто позволяет давать себе советы.
— Мне необходимо поехать в Фивы, чтобы доказать несостоятельность их планов, — процедил сквозь зубы Ай.
— Ты женишься на Анкесенпаатон?
— Как мне кажется, это единственно правильное решение.
Ему вновь придется добиваться согласия этой нахалки!
Шум в ветвях над головами, сопровождавшийся неистовым птичьим криком и ударами крыльев, заставил обоих мужчин поднять глаза. Одна из обезьян, содержащихся в питомнике, принадлежащем господину Аю, бросилась вслед за попугаем, который неистово кричал:
— Bin tchao! Bin tchao!
Спектакль завершился. Нахтмин пришел предоставить отчет и попросить вознаграждения; его миссия была выполнена. На прощание они обнялись, что было честью для военачальника, ибо мало кто удостаивался подобного знака расположения со стороны владыки Ахмина.
5
ВОРОБЕЙ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ЯСТРЕБОМ
Когда Маху покинул дворец царевен в Ахетатоне, Анкесенпаатон и Пасар еще какое-то время оставались наедине, не произнося ни единого слова. Они следили за полетом птиц, рассматривали цветы и Великую Реку, как будто ожидали от них подсказки. Наконец заговорил Пасар:
— Ты сейчас оказалась в той же ситуации, что и твоя сестра Меритатон. Буря.
Они были настолько близки, что слова мало что значили. Она устремила на него взгляд, печальный, исполненный горечи, обозначающий одновременно, что сказанное им ей тяжело слышать и что она не собирается обращать на это внимания.
— Ты обречена стать царицей. Как самая старшая из царевен. Династия должна продолжиться, ты вынуждена будешь выйти замуж за этого Тутанхатона, к которому ты относишься, как к пористому сосуду. Ай намеревался жениться на твоей сестре Макетатон и таким образом взойти на трон. Теперь он вынужден стать вашим регентом, твоим и Тутанхатона, и вы будете действовать согласно его прихотям.
— Ты меня раздражаешь! — воскликнула она. — Маху должен передать Тхуту все, что я ему рассказала. Они не смогут назначить этого убийцу Ая регентом!
Он пожал плечами.
— Ты мне не веришь? — спросила она вызывающе.
— Нет.
— Почему?
— Потому что у тебя нет никакой власти. Даже то, что ты говоришь, для них неважно. Ты думаешь, что они могут быть откровенными друг с другом. Ничего подобного! Они уничтожили твоего отца, затем твою мать, а потом Сменхкару.
На какое-то мгновение эти признания заставили царевну задуматься.
— Ну так что же? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Чтобы я сбежала с тобой? Это твоя давняя мечта?
Он вновь пожал плечами.
— Мне всего лишь двенадцать лет, у меня нет денег, нет лодки, и ты тоже без денег. Не сейчас. Вот что я хочу тебе посоветовать: не поворачивайся спиной к этому старому шакалу Аю. Мой отец говорил, что он и Хоремхеб — самые могущественные особы в царстве. С ним надо лукавить.
— Ты хочешь, чтобы я договаривалась с этим отравителем? — вскричала она негодуя.
— Он не единственный отравитель, Анкен, доказательством этого является смерть твоей матери и сестры Макет, причем не от его руки. Ты не защищена. Договаривайся с ним до того момента, когда сможешь ему противостоять.
Она не сводила с мальчика взгляда.
— Когда ты сможешь его отравить, — добавил он.
Она задумалась.
— Возможно, ты прав, — наконец согласилась она.
Они больше не рыбачили и не запускали воздушных змеев, отказались от любимых когда-то забав. Они повзрослели. Единственным их удовольствием было остаться в уединенном месте на севере от дворца и, сплетясь обнаженными телами, кататься потраве, познавая прелести преждевременной любви.
Она поднялась и медленно направилась к тому месту, где заканчивался сад, к реке, туда, где за стеблями камыша и папируса скрывались тайны дикой природы, где птицы вили гнезда, водились лесные мыши и молодые крокодилы.
Он взял ее за руку.
— Они не станут долго ждать, — промолвил он. — Поверь мне.
Она повернулась к нему и покачала головой. Это было очевидно. Они вскоре явятся во дворец.
Внезапно сады наполнились возгласами: в сопровождении своих кормилиц неожиданно появились три младшие царевны, освобожденные своими наставницами от занятий.
Спустя пять дней они прибыли. Алые паруса «Славы Амона» сверкали на фоне серебристого неба, и вскоре старинный парусник, сооруженный для царских прогулок, прославляющий имя древнего бога, причалил к пристани дворца в Ахетатоне.
Находясь на верхней террасе, Анкесенпаатон, Пасар и три младшие царевны смотрели этот спектакль.
Старшая кормилица Меритатон, Сати, тоже наблюдала за прибытием судна.
Оставшись без работы, ощущая себя после исчезновения царицы вместе с ребенком более несчастной, нежели вдова, она теперь окружила Анкесенпаатон неусыпной заботой и даже испытывала ревность, если не жажду мести.
Первым пассажиром, сошедшим на берег, был юный принц Тутанхатон. Он споткнулся на сходнях, и только проворство матроса и его личного управителя не позволило ему упасть в воду. Остальную часть пути он преодолел неровной походкой, а за ним следовали на близком расстоянии управитель и молодой мужчина, которого Анкесенпаатон не знала.
Следом за ними шла молодая женщина, которую Анкесенпаатон разглядывала с удивлением: Бакетатон! Ее родная тетушка! Сестра Эхнатона, Сменхкары и Тутанхатона! Как говорится, женщина, состарившаяся от страданий. К тому же она передвигалась, опираясь на руку горничной. Она жила уединенно в своем доме, что находился в Нижней Земле, и почти ни с кем не виделась. Но кто же заставил ее покинуть свое уединение? И зачем?
В сопровождении писца появился Хумос и этот проныра Панезий, который всегда знал, когда ветер меняет направление.
Впрочем, это был забавный спектакль, поскольку в нем участвовали два верховных жреца, которые готовы были разорвать друг друга на куски, съесть заживо! Затем появился Тхуту и двое писцов. Следом шел Майя и с ним также двое писцов. Этот кортеж пересек сад и направился к дворцу; несколькими мгновениями позже Второй советник, живущий здесь со времени, когда дворец снова стал местом пребывания Сменхкары, сообщил Третьей царской жене о том, что принц, царевна, Советник, казначей и верховные жрецы Амона и Атона просят оказать им честь, побеседовав с ними.
Она искала глаза Пасара, но он исчез. Позади нее стояла только Сати с напряженным выражением лица, какое бывает у хищной птицы — грифа или ястреба.
Тутанхатон сделал три шага вперед и с застенчивой улыбкой вручил своей невесте три украшенных лентами цветка лотоса. Она улыбнулась в ответ, передала цветы кормилице, которая вручила их служанке, а та умчалась прочь и вернулась через какое-то время уже с наполненной водой вазой, в которой стояли цветы.
— Рад тебя увидеть вновь, — сказал принц.
— Я тоже, — отозвалась царевна.
Что они могли сказать друг другу под взглядами взрослых людей, которые следили за ними с выражением вожделения на лицах, какое бывает у владельцев породистых собак, когда они представляют своих любимцев?
Бакетатон наклонилась к своей племяннице и обняла ее. На плечо Анкесенпаатон, которая стояла близко к царевне, полились слезы, и она увидела перед собой преждевременно увядшее лицо. Но отчего же она так страдает?
— Такая печаль… слишком много печали… — пробормотала та. — Все эти похороны…
Заставив себя улыбнуться сквозь слезы, она повернулась к служанке, взяла у нее кожаную сумочку и протянула ее Анкесенпаатон. Та ее открыла: там оказался украшенный голубыми камнями золотой браслет. Он был настолько тяжелым, что девушке пришлось приложить усилия, когда она подносила ко рту чашу той рукой, на которую был надет браслет.
— Это подарок твоей матери, — сказала Бакетатон. — Ей его подарил Тушратта… Отныне он твой.
Тутанхатон и его неизвестный компаньон наблюдали за этой сценой. Поймав любопытный взгляд Анкесенпаатон, который она бросила на его товарища, Тутанхатон представил его ей: его звали Рехмера, и он принадлежал к роду знаменитого Советника и был сыном Главы ведомства общественных работ, а также одним из товарищей принца по учебе. Рехмера скрашивал его одиночество.
Принц огляделся вокруг, как будто искал кого-то, и Анкесенпаатон поняла, что он искал Пасара.
Тхуту велел, чтобы всех усадили на террасе, и когда места были подготовлены и все расселись, — только кормилица осталась стоять, — он заговорил, и ею голос звучал одновременно и приветливо, и торжественно; было очевидно, что он произносил старательно заученную речь:
— Царевна, печальные события последних дней привели к тому, что трон твоих предков опустел. Царство пребывает в смятении, поскольку пустой трон означает, что боги покинули нас. Мы прибыли просить тебя исправить это положение, отдав свою руку брату умершего царя, который явился сюда, чтобы просить тебя об этом. Ваше счастье будет гарантией счастья всего народа, так как люди увидят в царствовании юных особ несомненный знак возвращения благосклонности богов.
Хумос покачал головой. Очень похожий на задумчивую цаплю Панезий старался изобразить на лице одобрение, но получилась лишь глупая улыбка. Тутанхатон вытянул шею. Тхуту и Майя ожидали с отеческим видом вежливого застенчивого ответа, которого в подобных обстоятельствах ждут от юной девушки царских кровей.
Но этот случай был иным. Она догадалась, что на ее свидетельства, которые она представила Начальнику охраны, решили не обращать внимания, как и предвидел Пасар. Она уже выразила Начальнику охраны свое презрение к тем людям, которые, ссылаясь на высочайшие цели, преследовали корыстные интересы. Она поняла, что говорить об этом снова бесполезно. Из всего, что сказал Тхуту, правдой было только одно: страна была в опасности и трон пустовал. Она посмотрела на присутствующих с видом наивной простушки.
— Регентом будет Ай, не так ли? — спросила она.
Вопрос прозвучал как пощечина. Все оцепенели. Кормилица выпрямилась. Хумос не отрывал взгляда от девушки — так, пожалуй, смотрел бы сам Амон, если бы ему сказали, что у него на носу сидит муха. Эта маленькая царевна действительно была тем яблоком, что падает недалеко от яблони.
Конец комедии.
Если они хотели обвести вокруг пальца наивную девушку, чтобы втянуть ее в свои махинации, то они явно просчитались.
Тхуту догадывался, о чем думали его компаньоны. Они надеялись, что царевна предстанет перед ними в виде осиротевшего воробья, а обнаружили молодого ястреба. Впрочем, Маху предупреждал его о том, что Анкесенпаатон изменилась. Именно он нарушил тишину:
— Регент необходим, царевна. Вы оба слишком молоды, чтобы взять на себя управление царством.
Она вовремя вспомнила совет Пасара: «Не поворачивайся спиной к этому старому шакалу Аю».
— Значит, регентом будет Ай, — только и сказала она.
Тхуту еще раз почувствовал, что его застали врасплох: эта девица определенно оценивала ситуацию так же четко, как старый волк ведомственной канцелярии. Лучше не терять времени на то, чтобы хитрить с ней.
— Это точно, царевна. Царский совет уже предупредил его о том, что на него возложены обязанности регента. Он ответил, что примет это предложение, как только будет заключен брак между принцем Тутанхатоном и тобой.
Она покачала головой, затем краем глаза кое-что заметила. Она подняла голову и скорее догадалась, нежели увидела Пасара в окне второго этажа; он следил за происходящим.
— Почему он не пришел с вами?
— Кажется, прием, который ты ему оказала бы, скорее всего был бы прохладным, — ответил Тхуту.
Она тряхнула головой, словно ретивая лошадь. «Вылитая мать», — подумал Майя. Хумос не переставал изумляться; его взгляд был прикован к Анкесенпаатон, как будто он пытался разгадать тайну этой юной женщины.
Тутанхатон не участвовал в разговоре. Он следил за всеми своими огромными печальными глазами, а затем снова доказал, что его нельзя считать слабоумным. Все удивились, когда он произнес тихо и печально:
— Все зависит от тебя, Анкен.
Анкен. Именно этим кратким именем он называл ее во время путешествий на «Славе Атона» в беззаботные дни. Именно так, ласкательно, он называл своих сестер и Сменхкару. Ее умилило это напоминание.
Двое сирот вынуждены были играть назначенные им роли.
— Дорогая моя племянница, — вмешалась Бакетатон, — на твоих плечах действительно лежит ответственность за династию. Атон даст тебе силы.
Вдруг Анкесенпаатон осенило. Бакетатон заставила ее вспомнить о том, что существует альтернатива ее союзу с Тутанхатоном: Ай мог также жениться на царевне и получить трон. Вне сомнения, старая дева Бакетатон, высохшая от горя, зная, как хорошо воспроизводятся тутмосиды, отказалась от ужасов царской власти.
Тутанхатон и юная царевна встретились взглядами. Она снова нашла принца трогательным. Если бы он предназначался ей только в мужья… Но царь? Разве эта тростиночка может быть царем? Вот из Пасара получился бы царь царей! Она размышляла над тем, что попала в такую же ситуацию, как и ее сестра Меритатон, когда та была вынуждена выйти замуж за Сменхкару: ее не привлекал слишком деликатный принц. Она сразу поняла, почему: хрупкий молодой мужчина, который был царем, не мог сравниться с сильным обаятельным Неферхеру. И этот мальчик, которому не удалось даже сойти по сходням, чтобы не споткнуться, никак не мог соперничать с мускулистым и ловким Пасаром.
Все повторялось. Но ее положение не было таким отчаянным, как в случае с Меритатон. Нет, она не допустит, чтобы ее вынудили бежать.
— Все зависит от тебя, — повторил он.
— Ты же знаешь, что наше царствование будет недолгим.
— Да, я это знаю, — подтвердил он.
Тутанхатон неплохо играл в шашки и вполне мог представить, что их ждет.
Он понимал: они были двумя молодыми плененными ястребами.
Молчание становилось тягостным.
— Я действительно хочу вступить в брак с тобой, Тутанхатон, — сказала она. — Но при одном условии.
Тхуту, Майя, Хумос, Панезий, юный принц и его товарищ подались вперед. Бакетатон захлопала ресницами.
— Я хочу получить подтверждение в письменной форме, документ, подписанный Царским советом и будущим регентом, моим дедом Аем, согласно которому ни одно решение, затрагивающее интересы царской четы и ее окружения не будет принято без моего письменного одобрения.
Удивление Хумоса было неописуемым. Он просто сиял.
Тхуту вновь чувствовал себя застигнутым врасплох. Он размышлял над этим условием, которым не мог пренебречь: Анкесенпаатон была превосходным игроком, и всем стало ясно, что она как раз та женщина, которая способна разрушить все их хитроумно выстроенные планы, если не будут удовлетворены ее требования.
— Я согласна, — продолжила она, — с тем, чтобы регент вел внутренние и внешние дела страны, как это принято, но не вмешивался в дела дворца.
— Но если между вами возникнет конфликт? — спросил Хумос, который заговорил впервые за все время.
— У нас не может быть конфликта в том, что касается царской четы или дворца. Относительно этого, я повторяю, будет преобладать мое мнение. Более того, я намереваюсь присутствовать с моим будущим супругом на собраниях Царского совета.
— Так и будет, царевна, — согласился Тхуту.
— Ни одно собрание Совета не должно проводиться в случае отсутствия, по крайней мере, одного из нас двоих.
— Это совершенно очевидно, — сказал Тхуту и добавил: — Я прикажу подготовить этот документ, царевна.
Она кивнула. Тутанхатон поклонился и подал ей руки. И тут все увидели, что царевна проигнорировала этот жест и сжала руки принца в своих руках.
— Отныне и впредь я прошу для вас благословения Амона, — сказал Хумос.
Они встали. Принц поцеловал царевну в щеку. На самом деле он приходился ей дядей, хотя был на два года младше ее.
К двери ее повел Второй советник, и, выходя, она бросила на кормилицу вопрошающий взгляд. Та ей улыбнулась.
— Ты все сделала правильно. Я узнала кровь твоей матери.
Силуэт Пасара исчез из окна; вне сомнения, он не спешил присоединиться к свите своей любимой.
Несколько раньше он ей сказал:
— Только боги сочетают семейными узами, но не люди.
6
НОЧЬ ЛИС И НОЧЬ В АСТАРТЕ
Когда военачальник Хоремхеб вернулся домой, в Мемфис, слуге-карлику его жены, Менею, достаточно было лишь взглянуть на его лицо, чтобы понять, какая буря разразилась у него внутри.
Раскачиваясь, как бабирусс,
[1] он помчался в покои госпожи Мутнехмет, владелицы дома, и стал возмущаться, как обычно, гнусавя.
— Сегодня боги перднули!
Мутнехмет давно привыкла к солдафонским выражениям и крысиному чутью своего карлика, к его выпученным глазам. Он рассматривал каждого, а потом громогласно сообщал секреты, которые, как он думал, смог разгадать. Это создание являло собой настоящий скандал на коротких ножках.
Она повернула к уродцу свой надменный профиль.
— Что ты сказал?
— Что он злой, как шакал. Он не получил регентства, я в этом уверен. Он сейчас в компании своего домашнего лиса.
Она нахмурила брови и направилась в покои своего супруга. Там она нашла его и командира Хнумоса, которого Меней прозвал «домашним лисом». Ей было известно, что этот командир отвечал за армейскую разведку и проводил расследования по поручению своего начальника, который занимался не только делами армии. Вне сомнения, Хнумос был так же разочарован, как и его господин: если бы тот получил регентство, его бы назначили главой охранного ведомства.
Двое мужчин сидели на корточках друг перед другом, склонившись над двойной доской для игры в зенет,
[2] расчерченной на тридцать клеточек, держа в руках кружки с пивом. Еще издали Мутнехмет услышала стук шашек, как обычно, сопровождаемый ругательствами. Кружки с пивом были наполовину опустошены. Игроки подняли глаза, и командир, который был хорош собой, поднялся, чтобы сделать комплимент супруге своего начальника.
— Ужин готов. Командир присоединится к нам?
Хнумосу это приглашение польстило. Хоремхеб какое-то время рассматривал оставленную игровую доску, а затем тоже встал.
— Маат щедро одарит тебя своими благодеяниями, — сказал он, обращаясь к жене.
Его тон был довольно холодным. Мутнехмет пристально посмотрела на мужа.
— День был неблагоприятным, — произнесла она.
— Да, — подтвердил он хрипло, опустил голову и последовал за ней в главный зал.
— Мой отец назначен регентом?
— Да, — снова подтвердил он, садясь на корточки перед низким столом, который уже был накрыт.
Карлик ужинал в одиночестве за столом, стоявшим неподалеку, ничего не пропуская из разговора.
Командир был доверенным лицом Хоремхеба, поэтому уже слышал по крайней мере половину повествования; пока подавали огуречный салат со сметаной, лук, приправленный маслом и уксусом, и бобы, тушеные в свином жире, Мутнехмет вопросительно смотрела на мужа. Стол в доме Хоремхеба не славился изысканными блюдами.
— Верховный жрец Нефертеп был против назначения господина Ая, — пояснил Хнумос, — но военачальник Нахтмин посчитал, что твой отец — единственный человек, который обладает достаточным опытом и авторитетом как внутри страны, так и в иностранных державах, и только он может взять на себя регентство.
Прожевав с хрустом ломтики огурца в сметане, Мутнехмет заметила:
— Моему супругу тридцать шесть лет, а отцу — пятьдесят шесть. Он достаточно долго и терпеливо ждал.
— Терпение нужно, когда мечтаешь о хлебе насущном! — прокричал из-за своего стола карлик.
— Сегодня же вечером я надеру тебе задницу! — воскликнул Хоремхеб, притворяясь разгневанным.
— А удовлетворение получаешь, когда вкушаешь тот хлеб, которого не было накануне!
Сделав вид, будто поднимается, дабы выполнить обещанное, Хоремхеб повернулся к Менею, который стал кричать как ошпаренный.
— Мне не понятно, — продолжила Мутнехмет, — почему отец не взял в супруги Бакетатон, сестру Сменхкары? Ведь она царевна! Таким образом он мог занять трон вместо того, чтобы стать регентом.
Хоремхеб бросил вопросительный взгляд на Хнумоса. Его самого привлекал этот план, и он от него пока не отказался.
— Вероятность этого еще существует, — ответил командир. — Совсем недавно Ай нанес визит царевне в ее резиденции в Нижней Земле.
— Ну и что?
— Точно не известно, что он ей говорил, но слуга царевны сообщил одному из моих людей, что ее силы истощены из-за следовавших одна за другой смертей двоих братьев и Нефертити. Она глубоко страдает и не желает становиться царицей. Она уверяет, что груз такой ответственности ее прикончит.
— Еще одна отказавшаяся от власти! — бросил Хоремхеб.
— Во всяком случае, если мой отец не окажется у власти, он будет еще опаснее, — заметила Мутнехмет, отведав бобов в свином жире. — Слишком долго он о ней мечтал.
Хоремхеб бросил на нее задумчивый взгляд.
— Возможно, это так, — сказал он. — Какое-то время торговцам ядами будет явно недоставать клиентов.
На ее лице молниеносно отразилось неодобрение. Такое замечание в присутствии постороннего! Хоремхеб это осознал и, тяжело вздохнув, продолжил:
— Хнумос мне сообщил, что в последнее время в Фивах и Мемфисе часто видел торговцев ядами, которые представлялись поставщиками опиума и благовоний. Один из них направлялся в Царский дворец незадолго до смерти Сменхкары.
Мутнехмет вытаращила глаза: одно упоминание слова «яд» приводило ее в ужас. Не говоря о том, что этому слову сопутствовали несчастья. Даже то, что она сообщила своей племяннице Меритатон о подозрениях относительно роли Сменхкары в отравлении Нефертити, привело к страшной ссоре между Меритатон и ее сестрой Макетатон, в результате чего последнюю сослали в Северный дворец, а затем она якобы отравилась. Она знала, что в последнее время в истории ее семьи яды играли фатальную роль.
— Все еще неизвестно, что случилось с моей племянницей, царицей? — спросила она, чтобы сменить тему.
— Похоже, она уехала вместе со своим любовником и ребенком.
— Уехала? Куда?
— Никто не знает, кроме, разумеется, твоей племянницы-ведьмы Анкесенпаатон. Маху и Тхуту утверждают, что она отказалась от власти. Подумать только — отказаться от власти!
Казалось, Мутнехмет была чем-то обеспокоена.
— Надеюсь, с ней не случилось ничего плохого, — пробормотала она.
— Если с ней и произошло несчастье, то не по вине твоего отца, — заявил Хоремхеб. — Узнав о ее исчезновении, он пришел в ярость. А ведь, кроме него, у нее не было других врагов.
Мутнехмет отступила; в этот вечер, определенно, откровения лились потоком.
Командир покончил с остатками бобов, а Хоремхеб допил вино. После ужина все пребывали в мрачном настроении.
Мутнехмет думала о своей сестре и умершей племяннице, и о другой племяннице, которая исчезла. Она пообещала себе выпытать все, что знала об этих родственницах еще одна ее племянница, Анкесенпаатон.
Военачальник Хоремхеб размышлял о том, в каком затруднительном положении оказался его победивший соперник.
Командир Хнумос прикидывал, удастся ли военной разведке обезвредить военачальника Нахтмина.
Карлик Меней выкрикнул:
— Лисы охотятся ночью!
Все в удивлении повернулись к нему. Фраза вполне соответствовала их мыслям.
Власть провозглашают днем, но завоевывают ночью.
Жрец Исма попросил Второго служителя храма помешать раскаленные угли под приношениями, сложенными на большом алтаре богини Астарты в Мемфисе: там были четверть барана, застывший в форме статуэтки жир и пиво. От всего этого шел удушливый запах, и Исма отступил от клубов дыма, из-за которых становилось трудно дышать.
Затем два жреца спустились по пяти ступенькам алтаря и присоединились к верующему, который сделал это пожертвование. Он дал каждому из них по три медных кольца, как и было договорено, и трое мужчин молча смотрели на пламя, наконец охватившее пожертвование.
Позади очага, на расстоянии двух локтей от него, чтобы до нее не доходили клубы дыма, триумфально возвышалась статуя богини — втрое больше человеческого роста, полностью обнаженная, с выпуклым лобком и улыбающимся ртом. Лучи заходящего солнца позолотили ее конусообразную грудь. К ее бедрам был прикреплен лук, в правой руке она держала стрелу, а в левой руке — розу.
Утром Астарта была богиней войны, а вечером — богиней любви.
Статуи двух ее слуг-музыкантов, Нинатты и Кулитты, как полагалось, размером вдвое меньше, стояли по обе стороны от нее, один держал в руках лиру, а второй — тамбурин.
— Смотри, вспыхнул огонь, значит, богиня приняла твои пожертвования, — сказал Исма.
— Она более великодушна, нежели Хатор, — откликнулся мужчина.
Жрецы воздержались от каких-либо сопоставлений возможностей богинь; это было неучтиво, ведь Мемфис оказал им гостеприимство. Если бы верховный жрец Пта Нефертеп узнал, что они позволили вести неуважительные речи в отношении богов страны, их бы строго отчитал Начальник тайной охраны культов.
— Я ей трижды делал пожертвования, — сообщил мужчина, — но напрасно. Моя сила не вернулась.
Исма незаметно взглянул на верующего: мужчина был молодым и с виду крепким. В конце концов, у сильных мира сего тоже были свои тайны.
— Наши боги не хотят заниматься нами, — продолжил мужчина. — Они недовольны. Нет порядка в Двух Землях, как нет властителя на троне.
Оба жреца не вымолвили ни слова. В действительности они, как и многие люди в Мемфисе, были согласны с тем, что царский корабль опасно раскачивается.
— Скоро, — сказал Исма, — солнце зайдет, и ты сможешь убедиться в силе Астарты.
— Как?
— Возвращайся сюда ночью, храм будет открыт.
После этого оба жреца засвидетельствовали свое почтение жертвователю и исчезли в глубине храма.
Верующий вышел из храма и двинулся по улице, на которой раздавались крики торговцев, продающих кто пиво, кто дыни страдающим от послеполуденной жары.
Вскоре цвет неба изменился с голубого на черный.
Взошла звезда Астарты.
Храм богини покинула дневная толпа. Но он не был таким уж пустым. Пламя двух факелов на паперти от дуновения легкого вечернего бриза извивалось, как души людей в тисках сладострастия, словно разоблачая помыслы присутствующих. То там, то здесь двигались тени, мелькали отблески пламени. Мужчины, женщины. Это были верующие, которые знали закон Астарты: по крайней мере один раз в жизни всякий поклоняющийся богине должен был явиться ночью в храм и ожидать незнакомца или незнакомку, и этот человек бросит ему колечки и скажет:
— Именем богини я призываю тебя!
И тогда женщина должна отдаться мужчине.
Некоторые жрецы Пта протестовали против такой практики, но, руководствуясь здравым смыслом, именитые люди Двух Земель считали, что это отнюдь не вызывало у девушек желания продавать свою любовь, а у мужчин — стремиться к мимолетным любовным утехам.
Придя в храм, мужчина остановился перед тенью фигуры, сидящей на цоколе статуи богини. Он наклонился вперед, чтобы рассмотреть ее черты и формы, и у него вырвался крик удивления:
— Но ты совсем юная!
— Если ты ищешь старух, тогда тебя самого надо выставить на продажу.
Мужчина расхохотался.
— И у тебя злой язык!
— Не говори плохо о моем языке, он может причинить боль твоему члену.
Снова смех.
— Твой любовник, должно быть, беден, если ты пришла сюда?
— Отнюдь, у него просто нет больше сил.
Он задумался. Затем через какое-то мгновение произнес ритуальную фразу:
— Именем богини Астарты…
Девушка покачала головой и стала рассматривать медные кольца, которые звякнули на каменном полу, затем схватила их и нацепила на палец на ноге. После этого она встала.
Их поглотила ближайшая тень — от часовни, в которой давались обеты.
В ночной тишине слышались учащенное дыхание, сдавленные крики, похожие на всхлипывания, хрипение и радостные возгласы.
— Именем богини, осел! — шептал женский голос.
— Именем богини, осел наконец пробудился!
Взрыв сдавленного смеха приветствовал удачный ответ.
— Завтра я вернусь, чтобы снова принести жертву, — сказал мужчина, выходя из тени и надевая набедренную повязку.
— Лучше приходи послезавтра, — попросила девица. — Дай мне время прийти в себя после такого натиска.
7
КОБРА
«Возможно ли ненавидеть свою собственную кровь?» — думала Анкесенпаатон.
Расположившись на террасе Дворца царевен вместе со своим верным Шабакой, Ай, насупившись, рассматривал кормилицу Сати и Пасара, которые стояли позади Анкесенпаатон.
— Что оправдывает присутствие этих людей? — спросил он властно.
Это единственное замечание заставило Анкесенпаатон забыть о намерениях примириться, что советовал сделать Пасар.
— Моя воля, — ответила она сухо.
Ответ озадачил, а затем вызвал раздражение у деда. Во время своего предыдущего визита в Ахетатон он уже имел возможность столкнуться с наглым поведением своей внучки, но теперь он понял, что наглость стала чертой ее характера.
— Нам необходимо обсудить дела большой важности, — заметил он. — Это не должны слышать чужие уши.
Он окинул Сати взглядом с головы до ног, удивившись тому, что в такую жару на ней была свободная черная накидка, скрывавшая руки. Затем его взгляд переместился на Пасара, о существовании которого шпионы уже доложили Аю.
— Эти дела касаются меня, и так же, как ты привел с собой человека, которого я не знаю, я хочу, чтобы с моей стороны присутствовали Сати и Пасар, — заявила она. — Не забывай о том, что ты подписал документ, принятый Царским советом, согласно которому я обладаю абсолютным правом решать все вопросы, касающиеся моего окружения и персонала дворца, и что моя воля преобладает над твоей.
— Ты еще не царица, — заметил он. — Этот документ пока не вступил в силу.
— И ты пока что не регент, — парировала она. — У тебя нет никаких прав ни в этом дворце, нив каком-либо другом. Ни в Ахетатоне, ни в Фивах, ни в Мемфисе.
Это был вызов. Почувствовав, с какой уверенностью говорила внучка, Ай наклонился вперед и впился в нее взглядом. Его темные глаза полыхали огнем. Если он думал, что сможет испугать ее, то глубоко ошибался; она приняла вызов старика с холодностью, которая, как она знала, раздражала его.
Стоявшие позади нее Сати и Пасар не спускали с него глаз.
Он откинулся назад, сжав челюсти.
— Ты уже проявил неучтивость, — сказала царевна, — не выразив ни единым словом сострадания по поводу смерти моей сестры Макетатон и исчезновения моей сестры Меритатон, что было вызвано известными тебе событиями. Если ты намереваешься стать регентом таким способом, то совершаешь серьезную ошибку, дед Ай, поскольку в случае, если ты не изменишь своей позиции, я не буду вступать в брак с Тутанхатоном, и ты не станешь регентом. Тогда тебе надо будет прибегнуть к другим уловкам, дабы заполучить власть, которой ты добиваешься так давно.
Ай был ошеломлен; на протяжении пятидесяти шести лет его жизни никто никогда не разговаривал с ним таким тоном. Хуже того, эта девчонка, не достигшая еще двенадцати лет, намеревалась провалить его далеко идущие планы. И она могла это сделать.
Он считался мастером маневра, и отлично понимал, к чему это приведет. Она знала его очень хорошо, но и он видел ее насквозь.
Для него невыносимым было осознавать, что в этот момент истинная власть царства находилась в руках этого хрупкого, как цветок боярышника, создания. Деньги, связи, преданные люди ничем не могли помочь. Все, что мог сделать Ай, так это убить ее и сочетаться браком с Бакетатон или самой старшей из трех царевен.
О, если бы он мог жениться на Бакетатон, то уже сделал бы это, но этому помешало одно обстоятельство. Что касается Сетепенры, ей исполнилось семь лет, и династический брак был вполне возможен. Но этот союз вызвал бы у большинства только чувство отвращения и насмешки.
К тому же она знала: теперь Ай подозревался в совершении большого количества убийств. Царский совет вполне мог отклонить его кандидатуру, и именно Хоремхебу досталось бы регентство, а возможно, и трон. Он рисковал даже закончить свою жизнь в тюрьме.
И Шабака присутствовал при его унижении!
Снова в голове раздался крик попугая: «Грязный пердун!»
На какое-то мгновение он задумался. И решил выбрать другую тактику.
Заметив сверкание молнии в ее взгляде, он поднял глаза к небу и воскликнул:
— А ты действительно дочь своей матери!
Затем он рассмеялся, и Шабака тоже разразился резким смехом.
Ни у Сати, ни у Пасара не дрогнул ни один мускул на лице. Но Анкесенпаатон неодобрительно поджала губы.
— Тот же характер кобры.
— Это покровительствующее нам животное.
— Ты права — я не выразил тебе соболезнований, что должен был непременно сделать. Но ты же знаешь, какая меня охватила печаль после смерти Макетатон, и в какое смятение меня повергло исчезновение Меритатон.
Шакал вилял хвостом.
— Все эти события подвергли царство опасности, — продолжил он. — Я брат твоей бабушки Тиу, отец твоей матери, царицы Нефертити. Как мог я не осознавать всю опасность данной ситуации?
Она слушала его, нахмурившись.
— Нет, — заключил он, — я не намерен превращать регентство в дуэль с тобой. Я думал, что разговариваю со своей внучкой, и забыл, что говорю с Третьей царской женой.
— Тогда все в порядке, — сказала она безразличным тоном.
Она повернулась к кормилице и велела подать прохладительные напитки. В дверях террасы появились слуги. Один из них принес высокий стол.
— Что же стало с Меритатон? — спросил Ай.
Она подчеркнула взглядом неуместность вопроса.
— Мне это неизвестно.
— Мне все говорили, что вы были привязаны друг к другу. У тебя должно быть какое-то предположение.
Слуги подали напиток из фиников. Анкесенпаатон снова повременила с ответом.
— Явился убийца, — сказала она.
У всех застыли лица.
— Его труп был обнаружен в саду, — пояснила она. — Я думаю, что именно Неферхеру убил его. Не знаю только, что произошло потом. Меритатон взяла своего ребенка и убежала вместе с Неферхеру.
— Убежала? Ночью? — воскликнул Ай.
Она смотрела на него все так же хмуро.
— Мне это неизвестно.
— Тебе это неизвестно? Неужто она с тобой не попрощалась?
— Мне это неизвестно, — повторила она, повернувшись лицом к Аю. — Да, она не попрощалась со мной.
— Тогда откуда ты знаешь, что она убежала?
— Я думаю, что она испугалась, — ответила Анкесенпаатон с такой яростью, что он вздрогнул.
Разумеется, она знала больше, чем говорила. И он не хотел, чтобы она заявила об этом во всеуслышание. Поэтому он решил больше не задавать вопросов, так как ее внезапное молчание говорило о многом.
— Труп лежал в саду, — сказала она.
Этот сад некогда был местом ее игр с одним мальчиком по имени Пасар, который был выходцем из народа, и вот в этом саду произошло нечто ужасное, после чего нашли мертвого человека с обезображенным лицом и ртом, полным яда.
— Я знаю.
Послеполуденный бриз всколыхнул тишину. Пасар отхлебывал напиток из фиников.
— Ты все же собираешься вступить в брак с Тутанхатоном… — возобновил разговор Ай.
Намеревалась ли она действительно стать его женой? И вновь она подумала о том, что если бы могла убежать с Пасаром, как ее сестра с Неферхеру, то не колебалась бы ни одной секунды.
— Да. И ты будешь регентом.
Ай, тот самый господин Ай, который в своей жизни столько получил и столько нанес оскорблений, думал о том, что у него, вне сомнения, не было врага более грозного, чем эта юная девушка, которая только-только вступила во взрослую жизнь.
— Итак, царство будет сохранено, — сказал он. — Амон смилостивился.
«Амон! — подумала она. — Но ты же всю свою жизнь превозносил Атона, пока это было в твоих интересах!»
Он встал, за ним поднялся Шабака, она также встала, довольная тем, что этот высокомерный старик уходит, наконец, отсюда. Он заключил Анкесенпаатон в объятия, а затем протянул ей тяжелый золотой браслет, на котором был выгравирован глаз Хоруса.
— Держи, милая, в знак моей признательности.
В тот момент, когда он уже собирался выйти с террасы, к нему направилась Сати.
— Господин Ай, — заговорила она, — в лице Меритатон я потеряла дочь, и отныне являюсь защитницей этой девочки.
Он слащаво усмехнулся.
— Я была свидетельницей несчастий, случившихся в этой семье.
Он внимательно смотрел на кормилицу, удивленный тем, что издевательским тоном она говорила о серьезных вещах.
— Если что-нибудь случится с Анкесенпаатон, ее враги за это поплатятся.
Ай закричал, и следом за ним вскрикнул Шабака. Из-под своей черной накидки Сати вытащила кобру.
Вот почему она прятала руки!
Кобра метнула свою овальную голову к застывшему от ужаса Аю.
— Эта Кобра, господин Ай, — хранительница короны, тебе это известно. Ия — одна из служанок Кобры.
Служанки Кобры! Ай от изумления открыл рог. Он знал об этом сообществе колдунов и колдуний, которые официально дали обет защищать честь и верность. Для них не
важно было, к какому сословию принадлежала жертва, чье преступление нарушало законы морали. Ни начальник охраны, ни охранник, ни знатный торговец — никто никогда не мог уйти от служителей Кобры, и даже один из его продавцов был ими сильно напуган, когда они обнаружили, что он продавал яды.
— Сати! — испуганно прошептала Анкесенпаатон.
— Кобра, господин Ай, повсюду найдет врагов Третьей царской жены, — произнесла кормилица хрипло.
Ай тяжело дышал. Шабака оцепенел.
— Ты мне угрожаешь? — воскликнул Ай.
— Я? Никогда! Разве посмела бы я угрожать господину, такому, как ты? Это Кобра тебе пригрозила, — сказала Сати, — покачав головой рептилии с лицом властителя.
Ни для кого не секрет: только те, кому было подвластно течение жизни, могли безнаказанно манипулировать кобрами; рептилии их почитали, подчинялись им и даже защищали от воров и убийц. Впрочем, Сати обладала не воображаемыми полномочиями; она действительно являлась одной из служительниц Кобры.
— Спи спокойно, если твоя душа чиста, — продолжила она, — но расскажи всем: Анкесенпаатон под защитой Кобры.
Змея посмотрела направо, затем налево. Сати спрятала ее под своей накидкой. Ай в ужасе вытаращил глаза и быстро пошел к двери в сопровождении Шабаки.
Пасар смеялся во весь рот.
8
МЫШОНОК — ЦАРЬ ЛЬВОВ
Растянувшись на траве, обнаженный Пасар рассматривал пушинку одуванчика, что едва заметно дрожала на его колене, изящно соскользнув по бедру, и, словно усомнившись в том, что следует оставаться на его ноге, неожиданно слетела на блестящие, уже отросшие волосы на лобке Анкесенпаатон, которая лежала подле него, тоже нагая. Явно легкомысленная летающая пушинка на какое-то мгновение замерла и задрожала, прежде чем снова взлететь в воздух и умчаться в сопровождении шмеля.
Эта легчайшая блуждающая звездочка пробудила в нем легкую грусть. «Вот так и я оторвался от своего дома, — пришло ему в голову. — В никуда».
Он повернулся к Анкесенпаатон, затем накрыл ее своим телом и осыпал безумными поцелуями. Она отбивалась, смеясь.
— Два раза подряд, ты — сумасшедший!
— Почему нет? Ты принадлежишь мне.
— Но я также принадлежу себе! — заявила она, с силой отталкивая его. — Если бы я тебя не останавливала, то забеременела бы.
— Ну и что тогда?
— Совсем сошел с ума!
Она оделась и надела сандалии. Он неохотно закрепил свою набедренную повязку и пошел за девушкой обратно к дворцу.
После визита Ая прошло десять дней и девятнадцать — со дня смерти Сменхкары. На протяжении шестнадцати дней бальзамировщики трудились над телом усопшего царя. Во время траура нельзя было заключать браки, то есть в течение семидесяти дней бальзамирования и недели похорон. Это означало, что брак мог быть заключен не раньше, чем через два месяца, где-то в начале сезона Паводка.
Такая задержка могла изменить планы. И у такого человека, как Ай, всегда имелись запасные варианты.
— А если бы он заключил брак с Бакетатон? — процедила сквозь зубы она, когда они пришли в сад.
— Тогда мы были бы свободны! — воскликнул он.
«Интересно, позволили бы мне вступить в брак с Пасаром?» — подумала она.
Они нашли кормилицу, которая их явно ожидала, она была чем-то огорчена.
— Прибыл гонец, — сообщила она.
Это был управитель Бакетатон, он сообщил, что его госпожа умерла.
Чувствуя неизбежность конца, она велела вручить своей племяннице диадему: странные камни были оправлены в золото, и у этих камней беспрерывно менялся цвет.
Анкесенпаатон расплакалась.
— Нашу семью преследует смерть! — вскрикнула она. — И никто не рождается!
Спустя три дня другой гонец прибыл из Фив, чтобы вручить Третьей царской жене послание от Царского совета, согласно которому ее брак с принцем Тутанхатоном должен быть заключен на седьмой день второго месяца сезона Паводка.
План начал исполняться.
Двумя месяцами позже посол Ассирии в Фивах составлял для своего царя, Ашурубали, его шурина, длинное послание, в котором описывалась политическая ситуация, сложившаяся после недавних событий в царстве Двух Земель.
На этот момент Ассирия только что стала независимой. Пользуясь тем, что владыка соседнего государства — бравый император Суппилулиумас Первый — всячески пытался подчинить себе другое сопредельное государство во главе с царем Маттивазой Миттани, сыном известного Тушратты, бывшего союзника фараонов, Ассирия перестала быть зависимой от Суппилулиумаса. Это послужило подтверждением правильности старой поговорки — невозможно быть одновременно в печи и на мельнице.
Посол повиновался настоятельному требованию своего царя, понимая, что тот хочет быть информированным о положении дел в соседних странах, особенно в Мисре,
[3] для того чтобы определиться, на кого он может рассчитывать и где чем можно поживиться.
Самый блистательный монарх, любимец Истар, слава тебе в настоящем и вечности, в твоем дворце, на твоих землях и на небесах.
В стране Миср, куда я направлен по твоей милости, чтобы представлять тебя, только что прошли две важные церемонии, которые в другие времена считались бы исключительными, но теперь для народа, именитых граждан и двора стали уже почти банальными: похороны одного царя и возведение другого на престол.
На протяжении сорока месяцев после смерти царя Эхнатона Миср пережил трое царских похорон и две коронации. Вскоре после захоронения царя Эхнатона, который с фанатизмом продолжал реформу, предпринятую его отцом, Аменхотепом Третьим, намеревался заменить всех богов египетского пантеона единственным богом, Солнечным Диском Атоном, состоялись похороны его супруги Нефертити, затем его сводного брата и сторонника, Анхкеперуры, более известного под именем Сменхкара.
Так как жители страны не представляют себе, что можно положить кого-то в землю, не вынув его внутренности, не высушив и не покрыв плотно повязками тело для того, чтобы конкретная личность сохранилась в целости для загробной жизни, существующей, по их мнению, на Западе, бальзамировщики в последнее время загружены работой. И речь идет не о царевнах из семьи Тутмосидов, которые часто умирают, причем незаметно или таинственно.
Двор наводнен всевозможными слухами о непонятном исчезновении вдовы царя Анхкеперуры. Объявленная Первым советником умершей, также, как и ее сын, по неизвестным причинам, так что не предусмотрены похороны, царица Меритатон, согласно некоторым слухам, убежала не только с сыном, но также с ее Хранителем благовоний.
Похороны царя Анхкеперуры, который правил только семнадцать месяцев, были очень пышными, что не соответствовало его известности. Мало кто из простых людей в действительности помнит его имя, и некоторые именитые жители провинции утверждают, что он скончался задолго до того, как об этом сообщили, и был он лишь формальным правителем, не обладающим реальной властью. И именно я, иностранец, подтверждаю, что видел его в Фивах за восемь дней до объявления о его кончине. Справедливости ради надо сказать, что он не отличался хорошим здоровьем. Скорее хилый, как большинство последних Тутмосидов, он мне показался пребывающим в глубокой печали.
Всем известно, что в течение своего правления он организовал только одну-единственную охоту, и при этом убил только нескольких уток!
Позволь мне, самый блистательный монарх, отметить, что я увидел там не только монарха, являющего собой полную противоположность твоей атлетической фигуре, живому отражению легендарного Гильгамеша, но, главным образом, вопиющий признак ослабления Мисра как государства. Это царство походит на судно, потрепанное бурей, которое плывет без капитала. Оно уже не представляет собой того былого уверенного в себе союзника, каким мы его знали во времена последних лет правления царя Аменхотепа Третьего.
Тем не менее Первый советник Тхуту придал смерти Сменхкары блеск, достойный великого монарха, который в течение долгих лет правления удерживал свое царство на вершине могущества. Для него были изготовлены четыре саркофага, три из них украшали золотые маски ослепительного великолепия, а четвертый саркофаг из позолоченного дерева был достоин умершего бога. В Фивах была остановлена работа в день похорон, хотя мало кто смог наблюдать за церемонией прощания, так как она проводилась в храме Амона, что расположен на противоположном берегу Великой Реки. Затем общий саркофаг был доставлен на парадном корабле, который спустился до пределов Верхней Земли, к месту захоронения царских особ, которое народ Мисра называет Местом Маат. Анкесенпаатон — единственная оставшаяся в живых из этой семьи — следовала на другом корабле, действительно великолепном, названным «Славой Амона». На протяжении всего пути, который я преодолел на взятой внаем лодке, предоставленной высокопоставленными лицами двора, по приказу Советника Тхуту раздавался плач жалобщиц.
Мне не известно, почему Советник казался очень огорченным смертью этого монарха. Некоторые высокопоставленные лица, присутствовавшие на церемонии, и которых я видел по возвращении, сказали мне, что он обливался слезами, когда запечатывали гробницу.
Упадок Мисра мне стал казаться еще более очевидным десятью днями позже, во время брачной церемонии преемника Сменхкары и церемонии возведения на трон, которая происходила, как всегда, в храме Амона в Карнаке. Самый блистательный монарх, ты не поверил бы своим глазам, если бы увидел царя, который будет возглавлять столь мощную в былые времена страну Миср, или Туи, как они сами называют себя, которая изгнала гиксосов со своей территории и заставила дрожать хеттов.
Представь хилого мальчика, который едва держится на ногах, чье нежное лицо больше напоминает девичье; этот мальчик меньше всего похож на будущего царя. Официально его возраст десять лет, но в любом из наших сыновей в таком возрасте уже чувствуется мужчина. Он последний сын Аменхотепа Третьего и его наложницы, таким образом, он сводный брат покойных Эхнатона и Сменхкары. И это единственный вариант, устраивающий настоящих правителей страны, желающих сохранить династию Тутмосидов.
Его зовут Тутанхатон, то есть «Милостивый Атон», но вышел указ об изменении его имени на Тутанхамон для того, чтобы не было неприятных воспоминаний о культе Атона. Некоторые высокопоставленные лица двора сообщают по секрету, что этот маленький принц при жизни Эхнатона никогда не появлялся на официальных церемониях, и о его существовании было известно только нескольким приближенным к царской семье людям. Это все равно, как если бы в Стране львов смог сгодиться на роль монарха только мышонок.
В конце церемонии возведения на трон новый правитель, как предполагалось, должен был в сопровождении жрецов, несущих маски богов, обойти вокруг храма, что символизирует вступление во владение царством. Эта важная церемония может пройти как следует только в случае, когда монарх — сильный, энергичный мужчина. Но на сей раз чуть не произошел конфуз, так как обнаружили, что юному царю не под силу выдержать тяжесть двойной короны, одна из которых была красного цвета, а другая — белого, что символизирует Две Земли. Пришлось прерывать церемонию, чтобы поставить рядом писца, который бы заботился о том, чтобы корона не упала на землю, иначе это стало бы зловещим предзнаменованием. Он действительно ничем не напоминает своих храбрых предков, таких как Аменхотеп Второй, который хвалился тем, что ни у кого не было в руках такой силы, чтобы они могли натянуть его лук.
Если приближенные, главным образом жрецы, высокопоставленные особы и именитые граждане, удерживались от каких-либо непочтительных высказываний, то их взгляды были весьма красноречивыми.
На следующий день после церемонии Советник Тхуту велел организовать грандиозное шествие в Фивах: царь, стоя в колеснице, покрытой электрумом[4] должен был возглавлять колонну из тысячи воинов: пехотинцев, конников и лучников. Я находился на террасе дворца в компании высокопоставленных лиц двора, когда этот мальчуган проезжал по главной дороге города, вдоль которой толпились люди. Каждый мог видеть, что Тутанхамон действительно держал вожжи четырех лошадей, везущих колесницу, но управитель должен был обеспечить его равновесие, держа его за пояс, ввиду сильных толчков. И я услышал, как один посол пробормотал себе в бороду:
— Вот это и есть живое воплощение бога?
Самый блистательный монарх, ты, без сомнения, спросишь о причине столь явного вырождения династии Тутмосидов. Из этого следует извлечь урок твоей бессмертной империи, и я излагаю тебе здесь причины этого: бесчисленные браки между родственниками разрушают эту династию уже на протяжении нескольких поколений. Мужчины сочетаются браком с кем угодно: со своими тетями, сестрами, со своими дочерьми и племянницами, так как они думают, что царская доблесть определяется только тем, кто жена монарха, а не умом, смелостью, авторитетом и физической силой. Чтобы их правление было законным, они идут на протяжении всей своей жизни на кровосмесительные браки.
Эхнатон вступил в брак с тремя своими дочерьми, чтобы дать им статус царских жен, затем его сводный брат Сменхкара, который сменил его на троне, женился на своей племяннице, теперь это же сделал новый царь Тутанхамон. Он вступил в брак с другой племянницей, которая, сверх того, старше юного царя. Итак, мы знаем, что сила слияния двух тел, крови и семени истощается в закрытых вазах семейных союзов.
Самый блистательный монарх, я не могу не думать о том, что кровосмешение разрушает династии, и я тебя умоляю смиренно принять во внимание мое сообщение. Запрети кровосмесительные браки.[5]
Жена нового царя, четвертая дочь Эхнатона и Нефертити, на два года старше его. Она кажется более проворной, чем он, но, конечно же, она не настолько сильна в политике, чтобы Миср мог бы надеяться на восстановление своего могущества. К тому же Царский совет, фактически состоящий из деятелей предыдущего режима, — в том числе в него входит и Первый советник Тхуту — доверил регентство человеку в возрасте пятидесяти шести лет, господину Аю, брату покойной царицы Тиу, отцу покойной царицы Нефертити, который достаточно искушен в искусстве управления. Впрочем, Эхнатон в свое время назначил его командующим конницей. Его поддерживают военные, в частности, один из наиболее могущественных военачальников страны Хоремхеб, его зять, и Нахтмин, его двоюродный брат. Все считают, что под началом Ая страна вернет свою былую славу.
Самый блистательный монарх, считаю своим долгом сообщить тебе, что могу поверить, хотя и не безоговорочно, в обещаемое благополучие, но у меня большое сомнение относительно способности Ая восстановить военное могущество Мисра, и вот почему: несмотря на приписываемое ему влияние, этот человек не смог замедлить упадок армии. Вот уже более десяти лет влияние Мисра уменьшается драматическим образом в Сирии и Палестине.
Как известно твоей августейшей мудрости, хетты пополнили со времен правления Аменхотепа Третьего свои завоевания несколькими египетскими крепостями на севере Сирии и в Палестине. Не получив поддержки царя, эти крепости пали легче, чем местные принцы, которые, оказавшись покинутыми Мисром, начали ссориться между собой и заключать новые союзы, причем в основном с хеттами. Другие, за неимением лучшего, укрылись в Мисре, оставив свои царства вместе с царскими командирами, которых переполняет чувство горечи.
Итак, Ай был силен под покровительством Эхнатона, и он охотно демонстрирует в качестве доказательства своих былых заслуг пару красных перчаток, которые были подарены ему царем.
Однако за время короткого правления его дочери Нефертити Ай ничего не сделал, чтобы выправить ситуацию.
Что касается внутреннего положения страны, общеизвестно, что в Мисре будет царить беспорядок и что правители и продажные чиновники будут очень притеснять крестьян. За исключением знатных особ, существование которых зависит от власти, народ очень мало заботят их цари, простые люди часто не знают их имен. И я сомневаюсь, что имеющий определенные обязательства перед своими сторонниками регент Ай будет расположен наводить порядок, более того, он не в силах это сделать.
Вот такая, самый блистательный монарх, сложилась ситуация в царстве Миср, описание которой твой слуга и преданный посол предоставил на рассмотрение твоей августейшей мудрости.
Семнадцатый день двадцать второй луны второго года правления самого могущественного и самого почитаемого царя Ашурубали…
Вместе с посланием посол отправил царю из Мисра несколько традиционных сувениров: позолоченную статуэтку Исис, нагрудное украшение с кусочками стекла и сердолика, браслет с выгравированным глазом Хоруса…
9
СИРОТЫ
Ай и Тхуту обменялись взглядами: у одного направление взгляда было нисходящим, а у другого восходящим, так как, усевшись на трон, регент оказался на возвышении, а Советник сидел в кресле внизу. Носителям опахал было велено ожидать снаружи.
Ходатайство, которое было подано Аю и Тхуту на рассмотрение, в действительности требовало не только размышления, но должно было держаться в тайне. Оно было весьма неожиданным. И просителем был, ни много ни мало, сам верховный жрец Амона Хумос, сидящий в кресле лицом к тем, кому он соответствовал по своему рангу.
Он просил регента и Советника рассмотреть возможность его отдаления от царя. Именно он несколькими месяцами раньше возмущался тем, что предшественник Тутанхамона Сменхкара проводил много времени в Ахетатоне и редко бывал в столице, а теперь он обратился с ходатайством, прямо противоположным по смыслу.
Следует заметить, что регент и Советник, как ни странно, были готовы согласиться с его мнением.
И не только они: многие высокопоставленные особы двора также поддерживали Хумоса. Не говоря уже о простых людях.
Церемония коронации и особенно царское шествие, состоявшееся на следующий день после возведения Тутанхамона на престол, произвели удручающее впечатление.
— Вы понимаете, — пояснял Хумос, — у меня мало оснований уверять народ, что этот мальчик — живое воплощение бога.
— Он действительно немного слаб, — осторожно высказался Ай, у которого такое положение дел вызывало глухую тревогу.
— Ты хочешь сказать, что он не держится на ногах, — поправил его Хумос.
Тхуту воздержался от того, чтобы напомнить присутствующим о заключении лекаря Сеферхора, более суровом, нежели утверждение верховного жреца. Приближенный к телу царя был вызван вечером после шествия, потому что у молодого царя были невыносимые боли в спине и он слег в постель. Массажи с применением мака и растирания камфорным маслом после теплой ванны способствовали тому, что на следующий день ему стало немного легче.
Но было очевидно, что проблема со здоровьем царя существует.
Благодаря своим знаниям и опыту, Сеферхор считался одним из лучших лекарей царства, его приглашали во многие богатые дома. Поставленный им диагноз оказался неутешительным: у Тутанхамона был слабый позвоночник и врожденный дефект бедра; непривычные мышечные усилия привели к тому, что возникли сильные боли. Кроме того, так как в предыдущие годы молодой царь мало занимался физическими упражнениями, его ноги были плохо развиты, они походили на две жерди, которые больше держались за счет сухожилий и связок, нежели благодаря мышечной массе.
Сеферхор рекомендовал вести такой образ жизни, чтобы можно было постоянно выполнять соответствующие физические упражнения, чередующиеся с отдыхом. Но такого распорядка не мог придерживаться монарх, даже если бы регент взял на себя большую часть его обязанностей.
Кроме того, в своем заключении, которое держалось в тайне, Сеферхор отметил, что, учитывая развитие гениталий царя, нельзя ожидать крепкого потомства. «Половые органы пятилетнего ребенка», — написал он.
— Но он не закончил расти, — заметил Тхуту.
— Тогда, пока он не вырастет, я попрошу вас как можно меньше показывать его публике.
— Это серьезное решение, — заявил Ай. — Оно вызовет столько же критических высказываний, сколько и его пребывание в Фивах.
— Послушайте, — сказал Хумос, — мои писцы слышали во время возведения на престол, и главным образом со стороны иностранных послов, комментарии, которые были откровенно нелестными. Не желаете ли, чтобы я велел им повторить их?
— Нет, — отрезал Ай.
— Если царь не закончил расти, отправьте его в уединенное место до тех пор, пока он не подрастет и не наберет немного в весе.
«
Отправьте его! В действительности то, что верховный жрец Амона сказал о живом боге, почти оскорбительно!» — подумал Тхуту.
— Таким образом, ты желаешь, чтобы он обосновался в Ахетатоне? — спросил он.
— Ты меня убедил в том, что там климат лучше, — ответил Хумос ироническим тоном.
— Значит, ты одобряешь его возвращение туда?
— Я готов одобрить что угодно, лишь бы только не подвергаться больше таким испытаниям, которые пришлось выдержать во время возведения его на трон и шествия! — воскликнул сильно раздраженный Хумос. — Как могли вы оба не почувствовать то же, что и я?
— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — ответил Ай, — все это ни у кого не вызвало одобрения. Но я бы предложил Мемфис.
— Этот город больше, чем Фивы, поэтому еще труднее будет изолировать царя, — не согласился Хумос.
Ай без труда представил, как знать спешит повидать молодого монарха, словно экзотическое животное в зверинце.
— Итак, решено; мы собираемся перевезти царя, как частное лицо, в Ахетатон. Ему знакомы те места, и там он не будет доступен высшему свету.
Верховный жрец встал и попрощался.
Ай и Тхуту снова обменялись взглядами.
Их задача усложнялась.
Регент вспомнил о своих впечатлениях от предыдущих коронаций. Он чувствовал себя нянькой двоих детей, один из которых был явно отстающим учеником.
Советник в это время снова испытал горечь от того, что смерть Сменхкары наступила так быстро и внезапно.
Он обратился к Сеферхору, чтобы тот помог морально подготовить Тутанхамона к тому, что ему придется переехать. Царю пояснили, что его отправляют не в ссылку, что переезд связан с его физическим состоянием. Лекарь начал с того, что заявил молодому царю, используя красочные выражения, что климат Фив слишком изнурителен для его организма и что ожидающий его тяжкий труд на царском троне потребует от него много сил, поэтому необходимо укрепить здоровье в более благоприятной среде.
Тутанхамон внимательно его слушал.
— Ты полагаешь, что климат поможет устранить дефекты моего телосложения?
Сеферхор стал часто моргать.
— У меня слабо развита спина, я это знаю, — продолжил мальчик.
— Государь, об этом я тоже хотел с тобой поговорить. Необходимо заставить работать мышцы твоего тела для того, чтобы они развивались. Царю в связи со своими обязанностями приходится долго стоять и преодолевать пешком большие расстояния, а также ездить в колеснице. Желательно, чтобы ты постепенно укрепил свои ноги. Есть один армейский командир, у которого богатый опыт в этой области, он будет чрезмерно польщен, если его попросят служить тебе.
— И ты действительно думаешь, что более мягкий климат может благоприятно сказаться на состоянии моего здоровья и сделает меня менее подверженным усталости? — настойчиво расспрашивал лекаря молодой царь.
— При бодрости тела и духа, государь, выздоровление наступает скорее.
— Куда, как ты полагаешь, мне следует отправиться? — спросил Тутанхамон после некоторых размышлений.
— Очевидно, государь, надо бы поехать в такое место, чтобы оно было достойно твоего одобрения и чтобы там имелись помещения, соответствующие царскому статусу.
— На мой взгляд, таким местом может быть только Ахетатон. Но этот город, как ты знаешь, не любит духовенство и другие влиятельные люди.
— Государь, я уверен, что регент Ай сможет их убедить в необходимости твоего пребывания в Ахетатоне, так как именно этот город тебе подходит, а связан этот переезд только с твоим здоровьем.
Тутанхамон думал об унижениях, выпавших на долю Сменхкары, когда он также укрылся в Ахетатоне, потому что теснота во дворце Фив и жара, царящая в столице, доставляли ему много неудобств. Его удивило то, что так неожиданно отпали все причины ненавидеть Ахетатон — как по волшебству.
— И как долго мне надо будет там находиться? — спросил он, внезапно насторожившись.
— Очевидно, государь, намного дольше, чем несколько дней, если мы хотим получить ожидаемые результаты. Исходя из моего опыта, для этого могут потребоваться недели, даже месяцы, а не дни.
Тутанхамон стал внимательно рассматривать лекаря, пытаясь угадать, что скрывалось за его речами. Сеферхор с трудом выдерживал этот одновременно и пытливый, и взволнованный взгляд.
— Но мне придется тогда отказаться от выполнения всех моих обязанностей. Во время религиозных праздников… Я должен участвовать. Что подумают люди при дворе? Духовенство…
— Государь, я уверен, что для них важнее хорошее самочувствие царской особы, и что они согласятся с твоим отсутствием, так как желают царю процветания.
Тутанхамон не был в этом убежден.
— Ты говорил об этом с регентом?
— Он был обеспокоен из-за усталости, охватившей тебя после церемонии коронации, и расспрашивал меня о причинах этого. Я собираюсь побеседовать с ним о том, чтобы были приняты все меры для улучшения твоего самочувствия.
Какое-то время Тутанхамон оставался задумчивым, затем он отпустил лекаря и отправился в покои царицы.
Анкесенпаатон в обществе Первой придворной дамы перебирала драгоценности своей матери, которые принес охранник Ая, чтобы передать их новой царице. По озабоченному виду своего супруга Анкесенпаатон поняла, что он хотел поговорить с ней с глазу на глаз, и она отпустила придворную даму.
Драгоценности были разложены на столе по видам: нагрудные украшения, диадемы, браслеты, ожерелья, кольца, броши на плечо, украшенные камнями булавки.
Тутанхамон кратко рассказал о том, что говорил ему Сеферхор. Анкесенпаатон стала задумчивой.
— Ничто, ты это знаешь, не решается без согласия Ая. Именно он посоветовал это Сеферхору.
— Но почему?
Она посмотрела ему в глаза, не осмеливаясь сказать правду, потому что не хотела ранить этого мальчика, к которому уже привязалась.
— Я полагаю, что Ай и Тхуту действительно переживают за тебя, — ответила она.
— Но все же, почему?
— Физические нагрузки, связанные с церемонией коронации и, главным образом, шествием, были чрезмерными для тебя…
— Это из-за моей усталости?
— Не только.
На какое-то мгновение в комнате установилась тишина.
— Не только? — повторил он.
— Знаешь, создалось впечатление, что ты немного слаб для своей роли.
Он проглотил эти слова, как горькую микстуру.
— Я оказался не на высоте?
— Правду говоря, физически — да. Послушай, тебе только десять лет, и ты еще не вырос. Все, что Сеферхор хотел сказать, так это то, что через год или два ты будешь больше соответствовать образу живого бога, а ведь именно таким ты должен предстать перед народом и духовенством. Тебе надо развиться физически.
— Год или два! — воскликнул он. — А почему не три?
— Действительно, почему не три?
Он казался удрученным.
— Три года? — повторил он, недоверчиво и возмущенно одновременно.
— Послушай, ты знаешь очень хорошо, что мужчина достигает зрелости и соответствующего физического развития только к пятнадцати годам.
— Но это — ссылка! — протестовал он.
— Есть гораздо худшие места для ссылки, нежели дворец в Ахетатоне.
— Таким образом меня лишают трона!
Она пожала плечами.
— Разумеется нет. Ай будет привлекать тебя к некоторым церемониям. Во всяком случае, твои права в Фивах были в большей степени ограничены.
— А ты? Ты собираешься оставить меня там одного?
И ее снова охватило чувство сострадания.
— Нет, я поеду с тобой.
Лицо Тутанхамона прояснилось. Затем омрачилось.
— Ты возьмешь с собой Пасара?
— Да, — ответила она.
Он казался задумчивым.
— Он нам составит компанию…
Она не обратила внимания на его слова.
— Ты не хочешь пригласить своего товарища, с которым приезжал в Ахетатон?
— Рехмеру? Я его спрошу. Нам нужен будет управитель.
Она не испытывала большого желания вернуться в Ахетатон. Слишком много воспоминаний было связано с тамошними дворцами…
— Захвати тогда и твоих сестер, — предложил он.
Она покачала головой. Он встал и сжал ее в объятиях, а затем разрыдался.
— Больше никого не осталось! Никого! — воскликнул он. — Они все ушли… Ушли…
Она гладила его по голове и плечам. Царь и царица сейчас ощущали себя сиротами. Она вспомнила, как на похоронах Сменхкары он рыдал на руках у Тхуту, который сам обливался слезами. Обняв его, она не могла не подумать о том, что ее муж был ужасно худым. Более того, через плечо Тутанхамона она посмотрела на драгоценности, разложенные на столе, и вдруг ей показалось, что она видит вместо них останки людей: сердолик принял вид свернувшейся крови, а электрум напоминал хрящи, какие она видела в скелетах расчлененных животных.
Он отстранился от нее и всхлипнул.
10
ПРОБУЖДЕНИЕ ДЕМОНА АПОПА
Переезд осуществили тайком. На рассвете Тутанхамон, Анкесенпаатон, Сати и Пасар отправились в порт Фив в сопровождении своих личных слуг и приближенных, а также лекаря Сеферхора. Три младшие царевны остались в Фивах под присмотром своих кормилиц, что вызвало некоторое сожаление у Анкесенпаатон. Ай действительно считал необходимым избежать массового перемещения, чтобы в Фивах снова не создалось впечатление, что царская семья в полном составе перебирается в бывший царский город, — это было в свое время предметом многих разногласий — и не вызывать у жителей Ахетатона ненужного любопытства.
Ай, Тхуту и Уадх Менех ожидали их у пристани. Несколько сундуков составляли весь багаж, и его быстро погрузили на корабль «Слава Амона». К счастью, в Ахетатоне оставалось достаточно имущества, чтобы избегать дорогостоящих переездов, которые были достаточно частыми в первые месяцы правления Сменхкары.
Ай велел доставить корзину с фруктами, украшенную цветами, Тхуту — двенадцать глиняных кувшинов вина.
Путешественники были обеспечены едой и питьем до вечера.
В связи с чрезвычайными обстоятельствами отъезд, очень скромный, был осуществлен скрытно, в духе Тебаин.
Днем один высокий, бородатый, с величественной осанкой мужчина лет пятидесяти явился во дворец и через Уадха Менеха попросил аудиенции у регента. Его звали Сосенбаль, и прибыл он в сопровождении своего сына. Уадх Менех его знал, так как несколькими неделями раньше также передавал Тхуту просьбу об аудиенции от этого человека. Это был сирийский принц, который три года назад укрывался сначала в Ахетатоне, затем в Фивах, когда его земли захватили хетты из-за отсутствия помощи гарнизонам Палестины.
Ай также знал этого посетителя, который обвинял военачальников Анумеса и Нахтмина в том, что те пропустили захватчиков хеттов, лишивших его всего.
Итак, Ай принял Сосенбаля и его сына. После взаимных приветствий посетители сели в кресла, которые им придвинули слуги. Носитель опахала находился возле трона, слева от сидевшего на корточках секретаря. В глубине зала нубиец Шабака был занят сортировкой ведомостей. Два писца то входили, то выходили из зала. Слуги принесли посетителям прохладительные напитки.
— Регент, — начал Сосенбаль, — это мой четвертый визит в царский дворец.
— Но ко мне, принц, ты явился впервые.
— Это правда. Первый раз меня принимал Первый советник Тхуту. Второй раз — царь. Третий раз — снова Тхуту.
— Какова цель твоих визитов, принц?
— Ты не можешь этого не знать, регент, так как военачальник Нахтмин — твой брат. Я потерял свои земли, потому что Миср не откликнулся на мои просьбы о помощи. Трех тысяч воинов было бы достаточно, чтобы отстоять крепость Акшич, которая защищала мои границы. В ваших гарнизонах в районе Синая насчитывалось более десяти тысяч человек. Ко мне не направили ни одного. Благодаря защите Бааля я сумел спасти свою шкуру и жизнь своего сына, который теперь здесь со мной. Я бежал морем в страну, которая обещала мне помощь, согласно договору, подписанному рукой вашего царя Эхнатона.
Ай покачал головой.
— Это обязательство царя.
Сосенбаль повысил голос.
— Получается, что царская власть — это купцы, долги которых погашаются с их смертью? Я прав, регент? — Теперь он говорил еще громче. — Первый советник Эхнатона сейчас твой Первый советник. Это ему я направлял свои требования помочь. Он на них не отреагировал. Я считаю, что с него не снимается ответственность за случившееся.
— Мы не можем объявить войну хеттам, чтобы вернуть тебе твои земли, принц, — сказал Ай, притворившись, что у него нет намерения указать на неуместность речей Сосенбаля.
Право же, сравнить царскую власть с купцами!
— Этого я не прошу. Вы не сдержали данное слово, поэтому я требую компенсации.
— Почему ты не обращаешься к Первому советнику, принц? Я ничего не обещал и не подписывал договор, о котором ты говоришь. Поэтому я ничего не обязан тебе возмещать.
— Я уже обращался к Тхуту, регент! — воскликнул Сосенбаль, выходя из себя. — Он мне ответил, что это не его ошибка, раз царь Эхнатон не направил мне помощь, и что относительно моего требования должен был принимать решение царь Анхкеперура. Меня принимал царь. Он подчеркнул, что не знает причин, почему предыдущий царь, его сводный брат, не послал войска, чтобы защитить Акшич, и что именно к тогдашнему Первому советнику поступило мое обращение. По его мнению, именно Тхуту надлежало решить, предоставлять ли мне возмещение, в крайнем случае, он сам готов был это сделать.
— И что же?
— Тхуту меня уверил, что изучит мой запрос и подаст свое решение царю, — продолжил Сосенбаль горячась. — Затем царь внезапно умер. С тех пор не последовало никакой реакции с вашей стороны! В течение трех лет вы выражали мне свое презрение! Ни одной попытки выразить сочувствие или помочь! Ни малейшей компенсации за потери, понесенные мной и моей семьей, за утрату моих территорий и ценностей! У меня нет больше ничего! Вчера пришли кредиторы, чтобы забрать кое-какое имущество, еще оставшееся у меня! Я доведен до нищеты из-за того, что Миср не сдержал своего слова! Уже не один месяц я бегаю по приемам, и меня вежливо выпроваживают, давая одни и те же уклончивые ответы и отделываясь отговорками! Так не может больше продолжаться, регент! — прогремел Сосенбаль, вставая.
Ай встревожился, как и его секретарь и писец, который вел запись беседы.
— Принц, — заявил регент твердо, — царство не может предоставлять компенсации всем тем, кто не смог защитить свои территории!
— Тогда вы — люди без чести! — вскричал Сосенбаль, продвигаясь к трону.
— Была ли компенсация предусмотрена в договоре?
— Именно такой вопрос поставил Анхкеперура! Это отговорка! Измена!
— Принц, мы не можем продолжать беседу в таком тоне. Вернись на свое место, я прошу тебя.
— Я требую здесь и сейчас, регент, чтобы ты мне предложил компенсацию! Я не намереваюсь соглашаться на другие условия.
Сын Сосенбаля также встал и подошел к отцу.
— Я не могу, принц, дать ход прошению, подаваемому в таком тоне! Разговор закончен.
— Он закончен для тебя, гиена! — закричал Сосенбаль, бросившись на Ая с кинжалом в руке.
Его сын тоже метнулся к регенту.
Секретарь схватил опахало и нанес жестокий удар Сосенбалю, из-за чего тот потерял равновесие. Шабака также поспешил на помощь своему хозяину. Сын сирийца бросился на секретаря. Слишком поздно! Шабака схватил хозяина за руку и потащил его подальше от трона. Услышав крики, на помощь прибежали охранники. Секретарь получил удар кинжалом в плечо от Сосенбаля, после чего сириец побежал вдогонку за Аем. Но в этот момент двери открылись и шестеро охранников ввалились в зал судебных заседаний. И так как Сосенбаль и его сын отбивались с оружием в руках, один из охранников пронзил сирийского принца копьем. Сын с отчаянным криком прыгнул на охранника. Его почти обезглавил другой охранник, попав ему копьем в шею.
Два тела рухнули на залитый кровью пол. Ноги Сосенбаля дернулись, и он застыл. Сын его умер мгновенно. Уадх Менех, прибежавший с охранниками, был мертвенно-бледен. Вскоре появился Тхуту.
— Но это же война! — воскликнул он.
— Вызовите срочно лекаря! — закричал Ай, склонившись над своим секретарем, который истекал кровью.
Одни слуги стали вытаскивать трупы из зала, другие принесли бадьи с водой и половые тряпки, чтобы вымыть пол.
— Вот результат политики Эхнатона! — кричал Ай, дрожащий от ужаса и гнева.
Шабака возвратился с лекарем, который взял с собой набор инструментов для операций. Лекарь подложил под голову секретаря, который растянулся на полу, маленькую подушечку. Рана была глубокой, как сообщил вскоре лекарь, но кинжал пронзил только плечо, поэтому ни один жизненно важный орган не был задет.
— Необходимо предотвратить распространение информации об этом инциденте, — заявил Тхуту. — Иначе все ссыльные из Палестины и Сирии начнут здесь буянить и попытаются совершить то, что не удалось сделать сирийцу.
Но было поздно: более двадцати человек, находившихся во дворце, среди которых были трое знатных особ, также ожидали аудиенции, и они сразу же узнали о нападении двух сирийцев на регента. Разумеется, аудиенция была перенесена на следующий день.
Вечером все Фивы знали об инциденте. Слухи распространялись невероятные: регент был тяжело ранен двумя посетителями и даже в результате этого скончался. Несколько разгоряченных голов дошли до того, что уверяли, будто Тхуту взял на себя регентство. Дворец, действительно, вдруг превратился в крепость, оттуда выходило слишком мало информации, и посему неизвестность будоражила воображение людей.
Хумос узнал об этой новости только вечером; она его встревожила, поскольку он как раз получил другую, подробную и достоверную, информацию о более серьезной проблеме. На следующее утро он переплыл Великую Реку, чтобы прояснить ситуацию. По воле случая он прибыл во дворец в тот самый момент, когда Ай и Тхуту отправлялись в Зал судебных заседаний в сопровождении своего обычного эскорта.
На мгновение оба мужчины повернулись к посетителю, и то удивление, которое отобразилось на лице верховного жреца, как нельзя лучше показало регенту и Первому советнику, какова цель этого визита. Было очевидно, что Хумос поверил слухам.
— Вне сомнения, тебе сообщили, что я умер, — сказал Ай слащавым тоном, усаживаясь на трон.
После он поведал верховному жрецу о случившемся.
Но Хумос оставался все таким же озабоченным.
— Я велю принести жертву, чтобы поблагодарить Амона за то, что он отвел оружие этих сирийцев, — сказал он. — Но, регент, я пришел, чтобы побеседовать с тобой на малоприятную тему.
Он смотрел на Ая и Тхуту, удобно расположившихся на своих местах с таким видом, будто им удалось спастись от бури.
— Вы, вероятно, знаете господина Апихетепа?
— Конечно! — воскликнул Ай. — Это самый богатый человек в Нижней Земле. Он присутствовал по моему приглашению на церемонии коронации.
Хумос сокрушенно покачал головой.
— Он преподнес царю роскошный подарок, — добавил Ай, — тройное ожерелье из электрума, инкрустированное голубыми камнями, равного которому я не видел, особенно если учесть его величину.
— Апихетеп, — продолжил Хумос, — намеревается пойти на штурм Мемфиса и провозгласить себя царем Нижней Земли.
Ай захлопал ресницами. Тхуту вытянул шею.
— Я не знал, что Апихетеп безумен. При наличии войска в несколько десятков человек его попытка не может увенчаться успехом, — заметил регент.
— Несколько десятков человек?! — воскликнул Хумос, поднимая брови. — В распоряжении Апихетепа ополчение из тысячи двухсот человек.
— Что?!
Ай открыл рот от изумления.
— Подожди, прошу тебя, я позову Маху, — попросил Тхуту, сделав знак своему секретарю, чтобы тот пошел за Начальником охраны.
Когда Маху прибыл, Ай сразу же спросил его:
— Ты знал, что Апихетеп располагает войском в тысячу двести человек?
— Я лично спрашивал господина Апихетепа об этом, — ответил Маху, — потому что действительно ходило много слухов об этой его личной армии. Он меня уверил, что содержит ради собственной безопасности личную охрану из девяноста человек. Я подозревал, что у него больше людей. Но чтобы тысяча двести? — недоверчиво произнес он, подняв брови. — Это мне кажется слишком. Откуда такая цифра?
— Наши писцы, что живут в том месте, — пояснил Хумос, — очевидно, лучше информированы, чем ваши соглядатаи. Вчера я принимал двоих из тех, кто закреплен за маленькими храмами Амона в Пашнамоне и Метенисе. Владения Апихетепа охватывают шесть номов.
[6] В каждом номе он призвал на службу по двести человек. Эти воины великолепно вооружены и организованы. У них даже шесть колесниц.
— Шесть колесниц! — воскликнул Маху. — Но это невозможно! Откуда он их взял?
— Оттуда, откуда и вы, — спокойно ответил Хумос. — Из Сирии. Они ему были доставлены на корабле, чтобы ваши пограничные посты и таможни об этом ничего не знали. У Апихетепа есть в наличии пехотинцы, легкая конница, тяжелая конница, и все они регулярно обучаются военному делу.
— И номархи нас не проинформировали об этом! — воскликнул Тхуту.
— Неудивительно, — заявил Хумос. — Они продали свои тела и души Апихетепу.
Напряженная тишина воцарилась в зале. Даже писцы осмелились запечатлеть на своих лицах изумление.
— Это еще не все, — продолжил Хумос. — Известно ли вам, сколько ивритов проживает в Нижней Земле?
— Около шести тысяч, — ответил Тхуту.
— Когда проводилась последняя перепись, Советник? — издевательским тоном спросил верховный жрец. — Во времена регентства Сменхкары? С тех пор прошло около восьми лет. Ивритов теперь более двадцати тысяч. С тех пор как наши предки прогнали гиксосов — много лет тому назад, — они размножились.
— Ивриты всегда враждебно воспринимали перепись, — вмешался Маху. — Они утверждают, что их бог этому противится, так как он один имеет право пересчитывать свои создания. Кроме того, мы знаем, что при последней переписи они сообщили только о взрослых.
Хумос нетерпеливо пожал плечами.
— К тому же каждый год неопределенное число ивритов прибывает из Палестины и требует от пограничной охраны пропустить их, чтобы они могли пасти свои стада. Около двух месяцев они живут на одном месте, а потом снова отправляются в пустыню, а затем на другой берег Тростникового моря, простирающегося перед страной Пунт.
Ай внимательно слушал верховного жреца, удивляясь полноте информации, которой он обладал. Сам по себе этот человек стоил целого учреждения!
— Но они не все возвращаются, — возобновил свой рассказ Хумос. — Многие из них, особенно те, кто еще только начинает строить свою жизнь, тайно остаются в Нижней Земле, соблазненные природой зеленой страны и избытком воды. Следует заметить, что господин Апихетеп обещал им выплачивать жалованье наемников, если они присоединятся к его ополчению. Впрочем, «ополчение» — неточное название, так как фактически это — войско. В общей сложности Апихетеп может мобилизовать около двух тысяч пятисот человек. Вот почему он хочет, как сообщили мне писцы, атаковать Мемфис внезапно, на рассвете. Он думает, что с такими силами он сможет захватить город к полудню. Тогда он провозгласит себя царем и полностью отделит от царства Нижнюю Землю.
— Но откуда ты все это знаешь, верховный жрец? — спросил Маху.
— У одного писца брат служит командиром у Апихетепа, у другого — зять. Вино развязывает языки. Первый из писцов полагал вначале, что его брат бредит, но когда второй ему сообщил почти те же самые сведения, они встревожились, и, будучи преданными слугами Амона, решили проинформировать меня.
— Знает ли об этом намерении Апихетепа Нефертеп? — поинтересовался Ай.
— Вряд ли. Он мне об этом не говорил.
— И когда Апихетеп намеревается взять Мемфис?
— Во время Праздника сева, как сказали мне писцы. Но Апихетеп может изменить свои планы и пойти в наступление раньше.
Праздник сева должен был состояться через двадцать три дня. По времени это было и много, и мало одновременно.
Тхуту был задумчив: по всей видимости, Апихетеп вел себя агрессивно из-за того, что царская власть была неустойчивой, монархи сменяли один другого после смерти Эхнатона, к тому же катастрофой стало возведение на престол Тутанхамона. Маленький царь был живым подтверждением вырождения династии и развала царства — так думал Тхуту, не зная, что использует почти те же термины, что и посол царя Ассирии. Но что он мог сделать? Кто мог бы что-то сделать? Все свои надежды он возлагал на правление Сменхкары, но после его смерти надежды рухнули.
И чего теперь ждать? Хватит ли хитрости, целеустремленности и силы воли Ая, чтобы спасти царство?
— Я тебе глубоко признателен, верховный жрец, — заявил Ай.
— Я счастлив, что ты придаешь большое значение союзу со мной, — ответил Хумос. — Между тем, регент, любой труд застуживает вознаграждения, и я полагаю, что наиболее подходящим могли бы стать средства, которые позволят восстановить не только храм в Карнаке, но также и те, что находятся в других номах.
— Ты получишь эти средства, верховный жрец, — подтвердил Ай. — Я сразу же приступлю к переговорам с казначеем Майей, и к концу недели мы проведем собрание Совета. Я только прошу тебя об отсрочке, чтобы мы могли предотвратить опасность, о которой ты нам сообщил.
Хумос кивнул и встал. Ай, Тхуту и Маху также встали, чтобы сопровождать его до двери.
Теперь все усилия надо было бросить на противостояние монархическим планам Апихетепа.
Попытка убийства и угроза восстания определенно взволновали демона Апопа.
11
НЕНАСТОЯЩИЙ МУЖ И РАЗДОСАДОВАННЫЙ МУЖ
«Муж ли он мне или младший брат? Может, даже сын?» — печально размышляла Анкесенпаатон на следующий день после прибытия в Ахетатон.
Знакомый с детства пейзаж пробуждал в Анкесенпаатон только демона грусти. Повсюду ей виделся образ Сменхкары: в розариях, в садах, в беседках и на террасе, где, бывало, они вместе играли в шашки.
У товарища по учебе, которого царь привез с собой, чаще всего было хорошее настроение, и он всегда старался найти себе развлечение. К счастью, лекарь Сеферхор, которому Тхуту с согласия Ая поручил заботиться о царской особе, быстро нашел в Ахетатоне двух необходимых для физических упражнений специалистов. Оба они состояли в прошлом на службе в личной охране Эхнатона, один был лучником, а другой — конником, и оба обладали необходимыми знаниями о теле, что способствовало точному следованию советам Сеферхора.
В зале цокольного этажа царь занимался физическими упражнениями.
Отдыху также придавалось большое значение: по приказу Ая и Тхуту визиты во дворец были запрещены, и если кто-либо расспрашивал о живущих во дворце, Второй управитель, слуги и охрана обязаны были отвечать, что никто не пребывает там постоянно. Представители высшего света, все еще проживавшие в бывшей царской столице, не пытались наносить нескромные визиты по поводу или же в отсутствие такового, дабы еще раз увидеть воплощение живого бога. Только Панезий был в курсе этой тайны, и он уверил жителей города в том, что царские дворцы при случае использовались как место отдыха для внуков и племянников регента. Даже некоторые из тех, кто был занят работой в кухнях и складских помещениях, полагали, что во дворце проживали только незначительные особы.
Сеферхор все свое время посвящал тому, чтобы успешно осуществить поставленную перед ним задачу. Утром, после уроков истории богов и царства, которыми Тутанхамон занимался вместе с его товарищем, царь попадал в руки тех, кто призван был развить его тело.
— Надо укреплять ноги, руки и спину, — предписал лекарь.
Таким образом, мальчик должен был делать упражнения на сгибание и разгибание, поднимать тяжести, выполнять другие упражнения. Но первые занятия были укороченными, так как быстро утомляли ученика. Они больше развивали терпеливость наставников, нежели его мускулатуру, несмотря на то что он охотно шел на эти пытки.
Подумав о том, что плавание могло бы стать более приятным средством развития всего тела подопечного, Сеферхор велел построить для царя большой бассейн — глубиной четыре локтя и двадцать локтей длиной.
[7] Лекарь и наставники находились в воде, когда обучали своего ученика координации движений и искусству держать голову над водой для того, чтобы дышать. Но узкая грудь мальчика не позволяла легким выдерживать нагрузки более десяти минут, после чего надо было извлекать запаниковавшего пловца из воды, поскольку тонкая вялая кожа не позволяла телу держаться на поверхности. Он шел ко дну, как мешок зерна.
Конные прогулки, предложенные наставниками как средство для укрепления мышц бедер, не дали никаких убедительных результатов. Молодой всадник боялся, к тому же даже легкая рысь, которую командир конников считал наименее изнурительной, вызывала у него неприятные ощущения в спине. Решено было ехать шагом. Но взбираться на лошадь и слезать с нее — эти действия являли собой предмет наибольшего беспокойства.
[8] Когда Тутанхамон наконец усаживался на лошадь, он то и дело норовил соскользнуть с нее на ту или другую сторону. Вместо того чтобы научить его ездить верхом без седла, как наставник надеялся, велено было изготовить по заказу седло, которое удерживало бы его ягодицы.
В то время как лучники царской армии пытались защитить царство от мятежников, царь упражнялся в стрельбе из лука. Ему было не под силу даже натянуть лук размером в три локтя. Потребовалось изготовить лук в два с четвертью локтя из более гибкой древесины, а к нему пришлось изготовить и более легкие стрелы.
В приватной беседе Сеферхор рассказывал Анкесенпаатон о результатах всех этих занятий.
— Понятно, что за несколько дней мы не могли достигнуть желаемого, — сказал он, стараясь казаться спокойным. — Его величество сообщил тебе о своих ощущениях после занятий?
— Царь осознает, что ему потребуется терпение, — ответила она.
На самом деле Тутанхамона периодически охватывало уныние, и она изо всех сил пыталась вернуть ему уверенность в себе. Был риск, что большие надежды приведут к разочарованию.
— Посмотри, — сказал он однажды, указывая на свои голые ноги при выходе из бассейна, — я немного окреп, не так ли?
Действительно, он держался немного тверже на ногах, но трудно было не заметить, что левое плечо было явно ниже правого. Она пыталась исправить перекос, надавив рукой на плечо, но тогда он становился кривоногим. Очевидно, в этом была повинна левая нога, которая была короче правой. Или что-то было не так со всей правой частью тела? Она не могла этого понять. Тогда она спросила об этом у Сеферхора.
— У твоего величества острый глаз, — заметил он. — Действительно, есть врожденный дефект — левая нога более короткая, и тело приспособилось к этому, а я стараюсь исправить перекос.
Все, что она могла, — так это поверить Приближенному к телу царя.
Тем временем она возобновила интимные отношения с Пасаром. Ввиду того что вся территория дворцов усиленно охранялась, влюбленным трудно было пробраться в уединенные места, которые находились на севере от дворцов. Они встречались в одной из комнат, предназначенных для прислуги, пустующих уже долгие годы и занимающих большую часть дворца. Их встречи происходили реже, чем раньше, но стали более страстными. Между тем они практиковали прерванный половой акт, что всегда сильно огорчало Пасара.
— Сейчас, если бы родился ребенок, ты вполне могла бы сказать, что это ребенок царя, — заявил он однажды.
— Ты шутишь? Всем известно, каково его состояние.
Во время уроков плавания Тутанхамон был голым, и его жена, так же как и ее любовник, могли удостовериться в правдивости выводов Сеферхора, в конфиденциальной беседе обратившего внимание регента на этот недостаток.
Тем не менее Пасара сильно раздражала зависимость от сексуальной неспособности другого мужчины, пусть даже это был царь.
— Он никогда не сможет зачать ребенка! — воскликнул он.
— Замолчи, он еще продолжает расти. Увидим. В любом случае, сейчас я не могу вынашивать ребенка, даже думать об этом нельзя. Тогда пришлось бы оставить царя здесь и возвратиться в Фивы под наблюдение Ая.
Чем больше она размышляла, тем больше понимала, какую ответственность взял на себя Ай. Постепенно она осознала, что он прибег к убийству, чтобы иметь возможность защитить царство.
Даже с точки зрения своего места расположения суд храма Пта в Мемфисе пользовался авторитетом, равным авторитету Большого дома, то есть общего гражданского суда. В принципе, суды храмов рассматривали только второстепенные дела, но из-за того что, как правило, девять судей из десяти были постоянными писцами храма, либо по указанию верховного жреца Нефертепа привлекались утонченные образованные люди, во время судебных заседаний в храме Пта всегда присутствовала многочисленная публика. Туда приходили, как на спектакль, чтобы наслаждаться красноречием выступавших и мудрыми заключениями судей.
В тот день публики было даже больше, чем обычно. Жалоба, зарегистрированная в канцелярии суда неделю назад, стала достоянием гласности из-за бестактности людей, имеющих отношение к этому делу, и аудитория готовилась насладиться подробностями процесса.
Дело касалось супружеской измены: Хемтот, мужчина пятидесяти лет, в полном расцвете сил, подал жалобу одновременно и на свою супругу Хатсатит, и на своего соседа Секхемку, виновников супружеской измены. Он намеревался развестись и получить возмещение от любовника жены. Это было любопытное дело, но, с другой стороны, все обстояло достаточно серьезно, так как супружеская измена, согласно закону Двух Земель, в некоторых случаях каралась сожжением на костре.
Участники процесса прибыли. Сначала, войдя в большой зал, Хемтот, приземистый и ворчливый мужчина, окинул взглядом по очереди всех десятерых судей, которые, как он предполагал, были ему знакомы как покупатели его товара в Мемфисе и потому должны быть к нему хорошо расположены. Они сидели на возвышении вместе с секретарем суда, двумя писцами по правую руку и человеком, который расследовал дело, — по левую.
Хемтот буквально оцепенел, когда узнал верховного жреца Пта, Нефертепа, который находился в центре возвышения. Нефертеп в суде храма? Невиданно! Ведь на процессе рассматривают супружескую измену! Хемтот разволновался. Более того, справа от Нефертепа восседал человек, к которому явно все присутствующие относились с большим уважением.
Между тем в дверях храма была выставлена утроенная охрана. Может быть, из-за этого загадочного судьи? Истец рассматривал неизвестного, но так и не смог понять, кто это мог быть. Нефертеп велел Хемтоту сообщить, каков мотив его жалобы.
— Прошло девять дней после той ночи, когда я проснулся от недомогания. Я позвал мою жену Хасати. Она не ответила. Тут я обнаружил, что ее ложе пустует. Я искал ее по всему дому и не нашел. Мое беспокойство возрастало, и неожиданно я заметил, что задвижка на двери поднята. Я вышел на улицу. Громко позвал жену. Чуть позже я увидел, что она выходит из дома моего соседа — торговца Секхемки. Я спросил у нее, что она там делала. Она ответила: «Он мне дает то, чего не даешь ты». Я расценил это как признание супружеской измены. Я не могу больше жить с женщиной, которая меня обманывает вместе с моим соседом. И я требую возмещения от Секхемки. Решение относительно суммы возмещения я оставляю за судом.
— Сколько лет твоей жене? — спросил неизвестный судья.
— Двадцать три года.
— Есть ли у вас дети?
— Трое.
— Какого возраста?
— Шесть, четыре и два года.
Нефертеп наклонился, чтобы что-то сказать на ухо неизвестному судье, и тот отрицательно покачал головой. Истец занял место на одной из скамей, сев лицом к судьям. Секретарь суда велел привести Хасати.
Это была красивая женщина с правильными чертами лица и стройной фигурой, несмотря на то что три раза рожала.
— Тебе известна жалоба твоего мужа. Так ли все было, как он рассказал?
— Да, — ответила она. — Со времени рождения моего последнего ребенка мой муж относился ко мне как к кормилице и служанке. Торговец Секхемка предложил мне стать его второй супругой, но я не хотела оставлять своего мужа, потому что он не смог бы сам заботиться о детях.
Снова Нефертеп с соседом обменялись шепотом несколькими фразами.
— Знаешь ли ты, почему твой муж не почитает тебя?
— Мне это неизвестно. Он мне часто говорил, что, учитывая его возраст, к вечеру ощущает себя очень утомленным. Но соседи мне рассказывали, что он часто ходит в трактир.
— Мужчина имеет право развлечься! — крикнул муж.
Нефертеп велел ему замолчать и обратился к женщине с очередным вопросом:
— Где ты живешь в настоящее время?
— У моей матери, вместе с детьми.
Судья покачал головой, и женщина направилась к противоположному краю скамьи, на которой сидел ее муж. К судьям подвели любовника, Секхемку. На вид ему было чуть больше тридцати лет, он был красивым крупным мужчиной. Его дела шли хорошо, о чем говорил браслет из чистого золота, который он носил на запястье.
— Тебе известно, что рассказали Хемтот и его жена, — заявил ему Нефертеп. — Можешь ли ты что-нибудь добавить к сказанному?
— Мне известно, в чем состоит жалоба Хемтота, но я не знаю, о чем он тут говорил. Я уверен, что Хасати не все рассказала. Я встретил ее на рынке, и она мне понравилась. Мы разговорились. Я сказал, что нахожу ее привлекательной. Она призналась, что считает меня красивым мужчиной. Я спросил ее, замужем ли она. Она ответила утвердительно. Я заметил, что вряд ли доверился бы женщине, которая спит с другим мужчиной. Она мне объяснила, что вот уже на протяжении двух лет она для мужа не более чем служанка. Я предложил ей стать моей второй женой, но она отказалась, потому что не хотела бросать мужа — ей было его жалко, она считала, что он будет несчастнее, если она его оставит. Но так как нас очень сильно тянуло друг к другу, она согласилась прийти ночью втайне от своего мужа, который спит в другой комнате, чтобы не доставить ему огорчений из-за того, что его оставили.
— А дети?
— Я был бы рад оставить всех троих детей у себя, если их отец не в состоянии ими заниматься. Тем более что у меня только одна дочь. Трое моих детей умерли от болезней. Я думаю, что много детей — это благодать.
— Что думает об этом твоя жена?
— После последних родов у нее не может быть больше детей, и она огорчена тем, что у нас только одна дочь. Она согласна принять в дом вторую супругу.
Теперь все судьи стали качать головами, и Секхемка направился к скамье и сел рядом со своей любовницей. Муж бросил на них недобрый взгляд, затем отвернулся и стал смотреть прямо перед собой, видимо надеясь на то, что суд примет его сторону.
Судьи отправились в другой зал для обсуждения, установив время на песочных часах — тридцать минут. Затем они вернулись на свои места, и Нефертеп зачитал решение суда.
— Мы, судьи храма Пта в Мемфисе, постановили по делу о жалобе Хемтота, торговца, на его жену Хасати и Секхемку, торговца, что данное дело должно быть завершено разводом.
Хемтот поднялся с места, победно вскинув голову, и бросил презрительный взгляд на свою смущенную супругу.
— Между тем, — продолжил Нефертеп, — Хемтоту не полагается никакого возмещения от Секхемки, учитывая небрежное отношение истца к своей супруге и почтительность последней, которая отказалась публично унизить своего мужа, отнеслась к нему с состраданием и не оставила его.
Хемтот был ошеломлен.
— Но это же немыслимо! — воскликнул он.
Нефертеп велел ему замолчать и сказал:
— Мы даем Секхемке разрешение взять Хасати второй супругой с согласия его первой супруги. Принимая во внимание, что дети Хемтота и Хасати малолетние, они последуют за своей матерью и смогут, если пожелают, возвратиться к своему отцу, когда достигнут возраста семи лет.
Он окинул взглядом зал и добавил:
— Такое решение суда направлено и на то, чтобы предупредить всех подающих жалобу по подобной причине о необходимости прежде подумать, соответствует ли это духу правосудия, которому нас учит Пта. Не следует обращаться за правосудием к богу понапрасну, и его судьи не должны тратить свое время на беспредметные ссоры. Заседание закрыто. Советник, — произнес он, поворачиваясь к неизвестному судье, — вы оказали нам огромную честь, возглавив это заседание.
Только теперь изумленная публика узнала, что этим судьей был Тхуту — собственной персоной.
12
ПЫЛЬ ПРОШЛОГО
Первый советник обладал правом присутствовать на всех судах царства, но было вполне очевидно, что Тхуту отправился в Мемфис не затем, чтобы рассматривать дело о супружеской измене.
После визита Хумоса в зале судебных заседаний незамедлительно состоялся настоящий военный совет с участием регента Ая, Тхуту и Начальника охраны Маху. Обсуждалась необходимость принятия мер для того, чтобы нейтрализовать господина Апихетепа, прежде чем он начнет операцию по завоеванию Мемфиса. Даже предположив, что в подавлении повстанцев будут задействованы армии Севера и Юга, трое мужчин прекрасно осознавали, что захват Апихетепом города с таким местоположением приведет к многочисленным жертвам и политическим потрясениям огромной силы.
Подобную катастрофу необходимо было предупредить любой ценой.
Вызвали военачальника Нахтмина и поспешили отправить верхом гонца к военачальнику Анумесу, который накануне уехал в восточные пограничные районы, где нападения бедуинов на гарнизоны доставляли много забот. Ему был дан приказ срочно завербовать две тысячи наемников и держать их наготове, чтобы в случае необходимости они могли спуститься к дельте Великой Реки.
По мнению Ая, единственно верная тактика состояла в том, чтобы послать войска в Нижнюю Землю и разместить их в тех шести номах, где Апихетеп сосредоточил свое ополчение, затем начать боевые действия и уничтожить его отряды. Тхуту настаивал на другом варианте. Он считал, что лучше подождать, когда Апихетеп встретится со своими командирами в одном месте, и тогда напасть на них, захватить и доставить в Фивы, где они будут осуждены за государственную измену и убиты.
— Судить такого негодяя — только понапрасну тратить время судей! — пробормотал Ай.
Эта операция требовала предварительного сбора информации о регионе, который в Фивах знали плохо, к тому же в тех местах всегда ощущалось настойчивое стремление отделиться от центральной власти. Например, разузнать, где находится командный пункт Апихетепа, можно было только у местных жителей или используя разведчиков. Сведения Хумоса были ценными, имена писарей, сообщенные им, были тщательно записаны Маху; без сомнения, они могли предоставить больше информации. Но, как утверждал Нахтмин, намного больше можно было узнать, подробнее расспросив первого жреца Пта в Мемфисе, Нефертепа. Действительно, культ Пта охватывал также храмы в Нижней Земле, и вполне вероятно, что их жрецы и писцы могли быть в курсе того, что происходило в тех местах. Впрочем, Тхуту выразил удивление по поводу того, что Нефертеп не послал гонца в Фивы, более того, он уже мог бы прибыть сюда и сам.
Собрать нужные сведения с помощью Нефертепа представлялось для Тхуту весьма ответственным делом. Обычно сбором информации занимался Начальник охраны. Тхуту считал, что он как Первый советник сможет добиться большего от верховного жреца. Он прибыл в Мемфис вместе с Маху и дюжиной тайных соглядатаев, тщательно им отобранных для разведки в тех населенных пунктах, где Апихетеп готовился осуществить свои зловещие замыслы. Там они должны были проникать всюду, не привлекая внимания.
Первый советник прибыл в главный храм Пта в тот момент, когда Нефертеп собирался в суде храма заменить заболевшего судью. Не раскрыв сразу цели своего визита, Тхуту выразил удивление по поводу присутствия верховного жреца в суде храма.
— Моя задача, — пояснил Нефертеп, — состоит в том, чтобы остановить поток жалоб по поводу супружеской измены, которыми завален суд. Всякий обманутый муж видит в этом возможность не только освободиться от своей супруги, чтобы взять другую, но, главным образом, чтобы законно получить от любовника весьма значительную сумму. В наши дни любовников больше не убивают — их разоряют. Так как судьи — мужчины, к тому же жрецы, то есть защитники общественной морали, истец рассчитывает на их солидарность, и действительно, большая часть обманутых мужей выигрывает дело. Я нахожу это опасным, потому что именно судьи устанавливают сумму штрафа, а истцы умеют договариваться с некоторыми из них, а потом делятся с ними средствами, полученными от ухажера. Дошло до того, что пришли в упадок некоторые торговые предприятия в городе лишь потому, что их владельцы согрешили с замужними женщинами.
Несмотря на то что на первом месте у него были другие заботы, Тхуту заинтересовали аргументы Нефертепа.
— Раз уж ты в Мемфисе, Первый советник, пойдем со мной на заседание суда. Ты возглавишь суд. Это займет у тебя только час времени, и затем мы вместе пообедаем.
Вот так Первый советник Тхуту спас неверную жену от позора, а влюбленного торговца от разорения.
При выходе из суда он заявил верховному жрецу:
— Дело, о котором я хочу побеседовать с тобой как можно быстрее, чрезвычайно важное.
— Я в этом не сомневаюсь, если ты сам приехал в Мемфис, дабы увидеть меня. Но у меня также есть что тебе сказать.
Едва они уселись за обеденный стол в доме Нефертепа, как жрец сразу же спросил:
— Встретил ли ты моего посланника?
— Нет. Какого посланника?
— Пять дней назад я направил к тебе писца, чтобы предостеречь от сирийца по имени Сосенбаль.
Тхуту был настолько ошеломлен, что Нефертеп забеспокоился:
— Что происходит?
— Я тебе объясню, когда ты закончишь рассказ. Почему ты хотел предостеречь меня от этого сирийца?
— Потому что его подстрекает один из любимчиков Ая, которого я считаю опасным искателем приключений. Более того, это самый богатый человек в Нижней Земле, Апихетеп…
При этом имени Тхуту, который пил пиво, поперхнулся. Он закашлялся и с трудом восстановил дыхание.
— В конце концов, что происходит, Советник? — воскликнул верховный жрец.
Восстановив, наконец, дыхание, Тхуту произнес:
— Три дня тому назад этот Сосенбаль и его сын совершили попытку убить Ая в зале судебных заседаний дворца.
— Как?! — вскрикнул Нефертеп.
Теперь наступила его очередь изумляться, ему не удалось сохранить спокойствие. Он подался всем телом вперед, и его выпуклые глаза готовы были выскочить из орбит.
— Регенту удалось ускользнуть в последний момент. Стражники убили сирийца и его сына. Секретарь регента был ранен в плечо.
Нефертеп лишился дара речи. Достаточно долго он пребывал в задумчивости. И тогда Тхуту подробно рассказал ему о том, что произошло.
— Дело оказывается намного серьезнее, нежели я думал, — произнес наконец Нефертеп. — Получается, что Апихетеп подослал Сосенбаля, чтобы освободить путь себе.
Тхуту уже понял, что эти события взаимосвязаны.
— Освободить путь?
— Убить Ая, чтобы создать беспорядок в стране и захватить трон.
— Что ты знаешь об Апихетепе? Цель моего визита состоит в том, чтобы узнать о нем как можно больше.
— В своем послании я просил тебя направить ко мне Маху, ибо мне стало известно от моих писцов о подозрительных действиях Апихетепа.
— Маху в Мемфисе.
— Почему он не с тобой?
— Он сейчас в управе, занят организацией противодействия планам Апихетепа.
— Значит, вы в курсе?
— Благодаря Хумосу, а ему сообщили об этом писцы храма в Дельте.
— Думаете ли вы теперь опираться на духовенство? — иронически бросил Нефертеп.
Тхуту довольствовался тем, что улыбнулся и спросил:
— Но куда же тогда делся твой писарь?
— Это меня тоже интересует, — озабоченно сказал Нефертеп, — теперь я склонен думать, что он выполнял приказы Апихетепа. Очевидно, он понял, что послание могло помешать выполнению планов его нового хозяина. Он был подослан в мой храм.
Оба ели без аппетита. Тхуту машинально пережевывал нарезанное кусочками мясо ягненка и отхлебывал из кубка пиво. Нефертеп задумчиво грыз лук. Неожиданно он прекратил жевать.
— Верховный жрец, ты знаешь, где обосновался Апихетеп?
— Нет. Я знаю, что его дом находится в Саисе, и думаю, что он его использует в качестве командного пункта. Но вполне возможно, что он собирает единомышленников в другом месте. Во всяком случае, необходимо как можно быстрее послать людей в те храмы, которые я тебе укажу. Пусть эти люди выдадут себя за родственников моих писцов и поживут с ними несколько дней. Возможно, писцы узнали об этом больше уже после того, как приходили ко мне. Как только им станет известно, где Апихетеп встречается со своими командирами, их можно будет арестовать.
Верховный жрец составил точно такой же план сражения, как Тхуту и Маху. Это показалось странным; Первый советник пристально посмотрел на Нефертепа.
— Все это серьезно, очень серьезно, — пробормотал верховный жрец.
Обед уже чересчур затянулся, и Тхуту поднялся, чтобы позвать своего секретаря и отправить его в управу с тем, чтобы известить Маху. Затем он снова сел.
— Ай, — сказал Нефертеп, — не смог остановить развал страны. После смерти Эхнатона надо было посадить на трон сильного человека. Вместо этого, как мы видим, безжалостно столкнулись личные амбиции в борьбе за трон, который с каждым днем теряет свое влияние. И Ай принимал участие в этих бесконечных интригах и намеревался продолжать игру.
Он опустошил свой кубок с пивом и сам налил себе еще.
— Кто же тот сильный человек, которого ты хотел бы видеть на троне? — спросил Тхуту.
— Не знаю… Возможно, им мог быть Хоремхеб. Нужен человек военный, не участвовавший в дворцовых интригах, ведь в них все, включая Ая, запутались, как дети, играющие с куклами, которых дергают за бечевки.
Тхуту грыз хлебец с кунжутом, запивая пивом. Он так почти ничего и не съел.
— Ай вел себя как человек старой закалки, — продолжил Нефертеп. — К тому же он был почитателем Атона, жертвой колдовства этого разрушителя устоев Эхнатона, охватившего все его окружение. Сначала Ай пытался править, используя свою дочь, не замечая, что та была не способна осуществить самую незначительную реформу. Эта тщеславная и властная женщина стремилась сохранить то зыбкое положение в стране, которое сложилось после правления ее мужа. Когда мы с Хумосом попросили Нефертити об аудиенции, чтобы поговорить о восстановлении культов, она отказалась нас принять. Затем Ай был занят организацией заговоров против Сменхкары. И в конечном счете он нам навязал этого отставшего в развитии мальчика, из которого он хочет сделать марионетку! Как и его зятя Эхнатона, Ая не волнует, что происходит со страной. А мы… Мы потеряли три года. И теперь Двум Землям угрожает этот заговор. Возможно, было бы не так уж плохо, если бы Апихетеп захватил трон.
Тхуту, до тех пор казавшийся подавленным, вздрогнул.
— Как ты можешь такое говорить, верховный жрец?
— Если он достаточно отважен, чтобы планировать захват трона, тогда он, возможно, сумеет осуществить и необходимые реформы.
Первый советник наконец понял, почему таким беспокойством были охвачены умы людей: если сам верховный жрец Пта благоволит заговорщикам!..
— Самой ужасной была коронация Тутанхамона, — продолжил Нефертеп. — Показать стране мальчика, который не в силах держаться на ногах, — это уж слишком!
— Ты, кажется, недоволен Аем, — заметил Тхуту. — Почему ты тогда сотрудничаешь с нами?
Нефертеп посмотрел Тхуту в глаза, это был взгляд проницательного и хладнокровного человека.
— Я боюсь, что Апихетеп откажется от своих намерений, и тогда беспорядок в стране усугубится! Поэтому я предпочитаю сохранить порядок тем, что мешаю его нарушить.
Такое объяснение неприятно поразило его собеседника.
Прибыл Маху, запыхавшийся и потный. Нефертеп предложил ему пива. Тхуту кратко изложил Начальнику охраны некоторые моменты беседы с верховным жрецом, представляющие для него интерес.
План был определен: в каждый из шести номов, в которых было сосредоточено ополчение Апихетепа, направлялись по три тайных соглядатая. Имея на руках рекомендательные письма Нефертепа, они должны были явиться к писарям храмов Пта в этих номах. Как только они удостоверятся в том, что повстанцы готовятся перейти к действию, они должны будут направить гонцов к Нахтмину, три тысячи воинов которого станут в Саисе лагерем в готовности пойти в атаку на номы для того, чтобы помешать отрядам ополчения объединиться. Но узловым пунктом операции и условием ее успеха был захват Апихетепа и его окружения в их командном пункте, с тем чтобы обезглавить заговорщиков.
До Праздника сева, завершающего сезон Паводка и выбранного Апихетепом датой захвата Мемфиса, оставалось девятнадцать дней.
Вернувшись в город, Тхуту и Маху были удивлены тем, что жизнь там продолжалась как ни в чем не бывало. Зеленщики, торговавшие на улицах, расхваливали свой товар, а двуколки, запряженные ослами, развозили по лавкам разделанные коровьи туши и глиняные кувшины с вином.
Тхуту, все еще пребывавший в задумчивости, получил несколько больших кусков мяса, которые были приготовлены для него в царском дворце Мемфиса. Он обдумывал то, что сказал ему Нефертеп. Да, время тех, у кого он ранее находился на службе, миновало. И время Сменхкары. И время Ая.
Даже его время.
Было впечатление, что пыль прошлого опустилась на его плечи. Подумав о своей жене и четверых детях, он почувствовал растерянность: не занесет ли их этой пылью вместе с ним?
13
СОРОК ВТОРОЙ ПРЕСТУПНИК
Ночью, за четырнадцать дней до Праздника сева, один из тайных соглядатаев, которому Маху поручил следить за домом Апихетепа, расположенным в северной части Саисы, услышал, как залаяли собаки. К их лаю добавилось гоготанье гусей.
Состарившись на военной службе, этот соглядатай, командир по званию, мастерски мог перевоплощаться из одного образа в другой. При необходимости он вполне мог сойти за писца при храме, продавца дынь и огурцов или военного в отставке. Теперь он выдавал себя за освобожденного раба, который за несколько золотых колец желал вместе с сыном, роль которого играл молодой охранник, купить землю под огород и обосноваться в этих местах. Они снимали комнату у второго жреца храма Пта в Саисе, в поселке Белых Ибисов, что находился на расстоянии меньше одного хетта
[9] от дома Апихетепа.
Сведения, полученные от писарей, подтверждались: именно там собирались заговорщики. Задача соглядатая состояла в том, чтобы узнать дату ближайшего собрания и сообщить о намерениях преступников.
В течение дня оба охранника помногу гуляли, притворялись, будто испытывают слабость к питию и отпускали скабрезные шуточки. На самом деле они изучали прилегающую к дому местность и все, что происходило вокруг него. Ночью они спали по очереди, чтобы ни на одно мгновение не упускать здание из виду.
Как только кто-либо из них замечал признаки необычной активности в жилище, его компаньон отправлялся в форпост, который находился в расположении одного из лагерей Нахтмина, в трех хетах в восточном направлении.
Этот соглядатай по имени Нефербека, что означает «Красивое утро», знал, что животные, в отличие от людей, не будут беспокоиться по пустякам. Дело шло к полуночи, когда это произошло. Что могло заставить лаять собак и гоготать гусей в такой час? Ветер принес запахи и звуки. Нефербека смочил палец слюной и поднял его повыше: ветер дул с северо-запада. Находясь в южной части города, он посмотрел в западном направлении, так как не мог видеть дороги, подходившей к дому с севера. Ночь была безлунная, и ничего не было видно. Он двинулся к виноградникам, которые простирались вдоль канала, в сотне шагов от дома, где он снимал комнату. Оставаясь невидимым, он также не мог увидеть больше.
Он крался в течение приблизительно двадцати минут, напрягая зрение.
Приблизившись к дому, он отчетливо разглядел там свет. Много света. В полночь? Собаки и гуси продолжали шуметь. Нефербека подошел еще ближе.
Наконец он различил за виноградниками движущиеся тени. Очертания людей. Он притаился и стал наблюдать. Они направлялись к дому. Попытался их сосчитать: судя по всему, их было около тридцати человек. Разве может столько людей прийти ночью в дом? Даже трактиры в Фивах не знали подобного наплыва людей. Он покачал головой и вернулся к своему жилищу.
Кто-то сумел заставить замолчать собак, но не гусей. Священное животное Амона не поддалось уговорам.
Он решил разбудить своего товарища.
— Тридцать человек только что подошли к дому с запада. В доме много света. Мчись туда, куда следует. Я буду тебя ждать.
Второй охранник сразу же поднялся, поправил набедренную повязку, надел сандалии, извлек из своей сумки несколько стеблей ката и отправился в путь.
Нефербека также вытащил из своей сумки стебель ката, который всегда использовался для бодрости, если надо было вести наблюдения, оторвал от него три листочка, положил их в рот и разжевал, затем сел на корточки. Он почувствовал терпкий вкус ката, и не сомневался, что теперь он будет оставаться настороже.
Он очень надеялся, что военачальник Нахтмин добьется успеха. Иначе будет бардак. Словом, еще более страшный беспорядок. Это насколько же должна ослабеть власть, чтобы у землевладельца внезапно появилось намерение захватить трон?
Человек, поднятый по тревоге, проходит пешком порядка четырех хетов в час. Два человека, идущих вместе, едва ли достигают такой скорости, потому что они болтают по дороге и еще потому, что большая часть двуногих животных не умеют делать надлежащим образом две вещи одновременно — двигаться и говорить. Но тогда чего уж требовать от военных! Если их не подгонять во время пути с помощью командиров и тамбуринов, которые задают ритм, это будет сороконожка на прогулке.
Нескольким сотням пехотинцев и лучников Нахтмина потребовалось три часа, чтобы преодолеть три хета, которые отделяли Саису от дома Апихетепа. Конников в этой операции не использовали, так как стук копыт и неизбежное лошадиное ржание могли спугнуть заговорщиков. Вначале солдат надо было разбудить, подождать, пока они справят нужду, попьют воды, возьмут оружие и выстроятся в колонну. Кроме того, они шли со всей осторожностью, так как ночью опасались побеспокоить гадюк.
Нефербека и его товарищ проявляли нетерпение.
— Ты уверен, что они отправились в путь?
— Уверен. Командир сразу же пошел будить Нахтмина, с которым я потом сам разговаривал. Он отдал приказ будить солдат и отправляться в путь.
— Не понимаю… Уже больше часа прошло после твоего возвращения, а они все еще не прибыли. Ты полагаешь, что они сбились с пути?
— Слушай! Нахтмин сам делал пометки, определяя направление, и я уточнил детали.
Время от времени один из них выходил посмотреть. Оба ждали, когда раздастся лай собак и гогот гусей, но внезапно Нефербека подумал, что ветер дул в направлении, противоположном тому, откуда должны были прийти войска, и поэтому животные ничего не чувствовали. Как просто! Он снова вышел на дорогу, и на этот раз он отчетливо различил движение большого количества людей в близлежащих полях. Он заметил приготовившихся к бою лучников. Атака была неизбежна.
Он возвратился, чтобы предупредить своего товарища, и они оба направились туда, где расположилось войско. У них был приказ Маху войти в дом и позаботиться о том, чтобы Апихетеп был взят живым.
Еще не забрезжил рассвет, но небо уже достаточно прояснилось, чтобы во время операции можно было действовать согласованно. Раздался приказ о наступлении. Атака началась. В течение нескольких минут около восьмисот пехотинцев и лучников окружили дом; этого количества воинов было достаточно для проводимой операции, но вряд ли они смогли бы противостоять даже четвертой части ополченцев Апихетепа. Часть солдат стояли в стороне, на случай, если понадобится прийти на выручку. Одновременно Нахтмин поднял по тревоге подразделения еще в пяти номах, отдав приказ занять управы и арестовать всех городских голов.
Шесть вооруженных стражников стояли у ворот. При виде пехотинцев, сомкнутыми рядами продвигающихся к зданию, они закричали и укрылись во дворе. Ворота были крепкими и вполне могли выдерживать атаки извне, но несколько мощных ударов смели это препятствие. С насыпей, заняв удобную позицию, по войскам стреляли лучники. Двое пехотинцев упали, но дождь стрел, который посыпался со стороны нападающих, быстро уничтожил защитников. Очевидно, Апихетеп не был готов к операции столь большого размаха. Самое большее, чего он ожидал, так это появления людей из охраны, и взять над ними верх для него не составило бы большого труда.
Пехотинцы и лучники ворвались в просторный двор и бросились к главному зданию. Лучники Апихетепа попытались оказать сопротивление, но также пали.
В поисках Апихетепа Нефербека и его товарищ попытались проникнуть в жилище. Повсюду происходили рукопашные стычки, так как в коридорах и комнатах было трудно сражаться иначе. Часто трое или четверо нападали на одного, и это, конечно же, были неравные схватки. Нефербека заметил Нахтмина, который, прыгая через несколько ступенек, взбирался по лестнице, ведущей на верхний этаж, — он разыскивал Апихетепа. Охранник бросился туда. Военачальник натолкнулся на закрытую дверь, но с помощью командира выбил ее.
Там укрывался Апихетеп вместе с двумя своими командирами; у них в руках были кинжалы.
— Стражу сюда! — крикнул Нахтмин.
— Военачальник, — сумел перекричать его Нефербека, — эти люди должны быть захвачены живыми! Таков приказ Начальника охраны.
— Ты кто такой?
— Я командир охранников, Нефебека.
— Ты — лгун и лазутчик! Арестуйте этого человека!
Товарищ Нефербеки появился в то же время, что и стражники. Он возмутился грубым обращением с Нефербекой.
— Господин Нахтмин! Это я тебя своевременно предупредил! Этот человек — мой командир!
— Я тебя не знаю. Арестуйте и этого человека тоже!
И велел стражникам, указывая на Апихетепа и его сообщников:
— Убейте этих троих!
Позади стражников, готовых уничтожить заговорщиков, возникло движение. В комнате, в которой благодаря взошедшему солнцу было довольно светло, прогремел грозный голос.
— Военачальник Нахтмин, я тебе приказываю пощадить этих людей!
Нахтмин вытаращил глаза: Первый советник Тхуту собственной персоной только что появился между стражниками. За ним показался Маху.
— У меня приказ регента убить этих людей, — заявил Нахтмин.
— Военачальник Нахтмин, если ты мне не подчинишься, я тебя разжалую, — холодно сказал Тхуту.
Не понимая, что происходит, командир стражников наблюдал за этой сценой.
— Отошлите стражников! — приказал ему Тхуту.
— Нет! — крикнул Нахтмин.
Но командир стражников повиновался приказу Первого советника.
— Отпустите этих людей, — приказал Маху, указывая на своих агентов.
Их отпустили.
В доме причитали женщины. Плакали дети.
— Охрана! — закричал кто-то.
В проеме двери появился командир охранников. Маху его узнал и бросил взгляд за его спину: с ним прибыли тридцать вооруженных охранников. Столкновение между охранниками и военными стражниками было исключено. Тхуту покачал головой.
— Начальник охраны, — произнес Тхуту, — я тебе приказываю арестовать военачальника Натхмина.
— Нет! — выдохнул Натхмин, растерявшись. — Нет, вы не можете меня арестовать! Я брат регента! Не троньте ни меня, ни моих людей!
Упомянутые люди были научены соблюдать иерархию и знали, кто обладал настоящей властью; они не двигались.
— Разоружите бывшего военачальника Нахтмина и свяжите ему руки, — приказал Тхуту.
Нахтмин пытался отбиваться. Три человека схватили его и вывернули руки за спину, потом один из них связал ему руки. Он закричал от боли. Кинжал, которым он
надеялся зарезать Апихетепа и его командиров, упал на пол.
Почему он пытался убить на месте главаря заговорщиков и его единомышленников?
Апихетеп наблюдал за этой сценой в полной растерянности.
— Ты и твои командиры, бросьте свои кинжалы! — приказал Маху.
Но бывший претендент на трон Двух Земель, казалось, не понимал, что ему говорили.
— Ты хочешь, чтобы я позвал подмогу? Тогда придется тащить в Фивы раненых людей.
— Нет! — закричал Апихетеп хрипло.
Он выпустил из рук свой кинжал. Командиры колебались, потом поступили так же.
— Свяжите их, — приказал Маху.
Тхуту спустился по лестнице, и все последовали за ним.
Шесть командиров заговорщиков уже были схвачены на цокольном этаже, да еще целый отряд приспешников. В общей сложности было не тридцать заговорщиков, а сорок один, их всех удалось схватить благодаря наступлению Нахтмина. Нефербека хорошо поработал: эти люди собирались атаковать Мемфис утром.
— Отправьте их всех сначала в тюрьму Мемфиса, — приказал Тхуту. — Я сообщу, когда их надо будет перевести в Фивы.
По подсчетам самого Нахтмина, в действительности преступников было сорок один человек.
14
ВЕРХОМ НА СЛОНЕ
— Как тебе пришла идея проследить за нами во время атаки? — спросил Маху.
«Мудрость Хоруса», корабль Первого советника, спокойно поднимался по Великой Реке под огромным желтым парусом, раздувающимся над белым корпусом.
Двое мужчин пили пиво, глядя на ибисов, которые тоже на них смотрели, насмешливо и разумно. Сидя лицом к корме корабля, Маху не сводил глаз с обеих шедших следом лодок, в каждой из которых было приблизительно по двадцать пленников, находившихся под охраной такого же количества вооруженных стражников.
Гхуту не считал необходимым сообщать Маху обо всех причинах, заставивших его наблюдать за атакой и ради этого мучиться в душной комнате в доме одного мещанина Саисы, от которого потребовали держать язык за зубами. Будучи хорошим сыщиком и не доверяя даже военным, Маху внедрил в окружение Нахтмина своего разведчика, велев тому предупреждать его незамедлительно о любых подозрительных действиях военных, в любой час дня и ночи. Как только явился разведчик, Маху разбудил Тхуту, так как, в свою очередь, получил от него такой же приказ. Двое мужчин верхом на лошадях помчались к дому Апихетепа. Тридцать охранников устремились следом за ними, отставая на несколько минут.
Они прибыли вскоре после того, как солдаты Нахтмина вломились в дом. И как раз вовремя, чтобы спасти жизнь заговорщикам.
И чтобы узнать тайну этого заговора, а также его связь с попыткой убийства Ая.
— Возможно, Маху, мне самому неведомы все причины, по которым я выбрал эту стратегию, — пояснил Тхуту. — Но, разумеется, я был заинтригован связью между действиями Апихетепа и попыткой Сосенбаля совершить убийство, о которой мне сообщил Нефертеп. Я вспомнил о том, что Апихетеп хорошо знал Ая, — ведь именно регент пригласил его на праздник коронации. Если верить словам Нефертепа, он был даже любимцем Ая. Мне показалось, что Апихетеп мог прояснить ситуацию.
— Но что он мог сообщить? Почему Нахтмин так старался заставить Апихетепа замолчать? Почему Ай дал ему такой приказ?
Тхуту окинул начальника охраны долгим ироничным взглядом.
— Ты — умный человек, Маху. Почему задаешь мне вопросы, на которые ты, кажется, знаешь ответ?
У Маху вырвался короткий смешок.
— Потому что разоблачения Апихетепа могли скомпрометировать Ая, не правда ли?
Тхуту вздохнул.
— Первый советник, — продолжил Маху, — я прошу твоей помощи при допросе Апихетепа и его командиров. Ведь ты возглавишь чрезвычайный суд, не так ли?
Тхуту покачал головой.
— Может ли Ай помешать ведению этого процесса?
— Это то, что нам предстоит узнать, — ответил Тхуту.
— Может ли он возглавить суд?
— Нет, если только Царский совет не изменит своего решения.
— У меня голова идет кругом, ведь я приказал арестовать Нахтмина, — сказал Начальник охраны.
Тхуту улыбнулся.
— Маху, пока мы у власти, головы у нас безостановочно будут идти кругом.
Маху подумал, что однажды ему уже довелось обманывать Ая, когда тот пытался любой ценой узнать, кто был любовником царицы Меритатон. И вот он обманывает его во второй раз. И снова с благословения Амона!
Ох, уж этот старый шакал!
Выгрузка арестованных в порту Мемфиса проходила при большом скоплении народа. По внешнему виду многие из заключенных никак не напоминали обычный сброд, среди них были даже двое с величественной осанкой, хотя руки у них были связаны за спиной. Охранникам неустанно задавали один и тот же вопрос:
— Кто они?
Но те были немы, так как получили приказ молчать.
Арестанты под конвоем потянулись к тюрьме Мемфиса.
Тхуту отправился к Хоремхебу в казарму.
Военачальник принял его, оказав все подобающие почести.
— Советник, какая честь быть удостоенным твоего визита! — воскликнул он.
Он собственноручно придвинул Первому советнику кресло и по знаку Тхуту удалил помощника и писца, которые находились в зале. Первый советник сел.
— Сегодня утром я арестовал военачальника Нахтмина, — заявил он с бесстрастным выражением лица. — В этот час он находится на пути к тюрьме Мемфиса.
Выражение, которое приняло лицо Хоремхеба, в других обстоятельствах показалось бы комичным. Он достаточно долго сидел с разинутым ртом и застывшим взглядом.
— Что он сделал? — сумел наконец он выговорить.
Тхуту рассказал ему о произошедших событиях.
Для Хоремхеба это стало еще большей неожиданностью.
— Тебе было известно что-либо о замыслах Апихетепа? — спросил у него посетитель.
— Абсолютно ничего. Но этого можно было ожидать. Распад страны — это все, чего могли добиться искатели приключений, пытающиеся захватить трон. И кем же он теперь занят? Детьми! Причем один из них уж очень чахлый. А власть? Старик, являющийся порождением предыдущих режимов, не может остановить расхитителей и обуздать непомерные амбиции господ из номов, таких, как он сам или как этот Апихетеп.
— Могла ли у него быть связь с Апихетепом?
— Вполне. В течение нескольких месяцев правления Сменхкары они замышляли вместе установить власть в стране. И мне это известно из достоверного источника, — добавил Хоремхеб, не называя этот источник, которым был не кто иной, как Хнумос, именно ему Хоремхеб обещал место Первого советника в случае своего прихода к власти.
Для Тхуту сказанное было словно удар кулаком в лицо; он побледнел.
— Ты этого не знал? — спросил военачальник, заметив, как разволновался его собеседник.
— Нет. — Он продолжил: — Все ясно. Так как Ай, вероятно, забыл о своем обещании Апихетепу, тот решил отомстить. Руками одного из своих людей он намеревался убить Ая, пообещав, скорее всего, тому также место Первого советника, а потом он хотел заставить Нефертепа провозгласить себя царем, как только обоснуется в Мемфисе.
— Нефертеп пошел бы на это?
— Нефертеп короновал бы любого человека, который восстановил бы порядок в стране.
Тхуту вспомнил слова верховного жреца: «Я боюсь, что Апихетеп откажется от своих намерений, и тогда беспорядок в стране еще усугубится. Поэтому я предпочитаю сохранить порядок тем, что мешаю его нарушить».
— Мне необходима твоя помощь, — сказал Тхуту.
— Я в этом не сомневаюсь. Ай будет требовать освобождения своего двоюродного брата Нахтмина. Он не может им поступиться. Именно Нахтмин настоял на назначении Ая и вытащил его из Ахмина. И если ты организуешь судебный процесс над Апихетепом, он попытаться тебя сместить. Тебе необходима теневая власть. Она у тебя уже есть. Ты можешь пригрозить Аю арестом за препятствие правосудию и соучастие в отравлении Эхнатона. Я окружу дворец войсками.
Тхуту был поражен определенностью целей и ясностью ума Хоремхеба. Это был настоящий военачальник и стратег.
— Ты действительно пошел бы на это?
— Да, — ответил Хоремхеб.
— И взял бы на себя регентство?
— Да.
Тхуту задумчиво покачал головой.
— Тогда желательно, чтобы ты отправился со мной в Фивы и сообщил об этом Аю.
— Я охотно это сделаю, — откликнулся Хоремхеб, слишком довольный тем, что может, наконец, взять реванш над своим тестем. — Когда ты хочешь ехать?
Тхуту думал над тем, что ему надо было вновь отправляться в путь, возвращаться в Фивы, где он отсутствовал вот уже три дня.
— Можешь ли ты выехать этим утром?
— Да. Дай мне час на сборы.
— Встретимся на паруснике «Мудрость Хоруса».
Тхуту встал. Первый советник и военачальник пожали друг другу руки.
— Не опасайся моего тестя, — сказал Хоремхеб. — Он уже не столь грозен, как раньше. Он знает, что с помощью яда нельзя решить все вопросы. Он закрылся в клетке, из которой теперь не может выйти. Но поверь мне, Нахтмина необходимо освободить. Я не могу подписать арест военачальника столь высокого ранга, пусть даже противника. Довольствуйся тем, что он будет отстранен от власти. Потребуй, чтобы ты мог полностью его контролировать. Направь его в пограничный гарнизон.
— Хорошо.
Спускаясь по лестнице казармы, Тхуту заметил про себя, что у него впервые за долгое время появился союзник такого веса. Настоящий слон.
Тхуту нашел Маху в управе. Они вывели Нахтмина из тюремной камеры и вместе с ним поднялись на «Мудрость Хоруса». Затем стали ждать Хоремхеба. Защитная перегородка скрывала арестованного и двух стражников, назначенных его охранять.
15
НИЗШИЕ БОГИ И ВЫСШИЕ ДЕМОНЫ
В коконе сна стали появляться просветы, которые быстро разрастались, и затем буквально в одно мгновение он был разрушен.
Анкесенпаатон проснулась и села в постели. Ей это не приснилось. Поблизости слышались голоса. Она узнала голос Сати. С бьющимся сердцем Анкесенпаатон поднялась.
Лежавший подле нее Пасар тут же проснулся.
— Что это?
Она повернулась к нему и приложила палец к губам.
— Во дворце люди, — прошептала она.
Осторожно открыв дверь, она выглянула в коридор, который через определенные промежутки освещался масляными светильниками. Голоса явно доносились со стороны покоев Тутанхамона. Там же находилась и Сати. Пасар хотел было пойти вместе с ней.
— Нет, останься, — тихо сказала она. — Никогда не знаешь…
Босая, с сильно бьющимся сердцем, она двинулась вперед.
Голоса звучали гневно. Она едва сдержалась, чтобы не закричать. На полу, в луже крови, лежало тело стражника. Он не шевелился. Чуть дальше она разглядела еще одно тело. Выходит, убили стражников. Ее охватила дрожь. Она дошла до покоев Тутанхамона. Дверь была открыта, но комната оказалась пустой. Голоса доносились из комнаты Сати, дверь в которую также была открыта. От увиденного у нее застыла кровь. Восемь мужчин с кинжалами в руках замерли у двери, Сати и Тутанхамон, мертвенно-бледные, стояли у окна.
— Отдай нам царя! — требовал один из этих восьми.
— Нет! — отвечала Сати.
— У нас нет приказа убить тебя, но мы это сделаем, раз уж на то пошло, — сказал тот же человек, продвигаясь к Сати.
Она повернулась, быстро сняла крышку с большой, стоявшей возле окна корзины и испустила крик, напоминавший рычание.
— Взять!
Выступивший вперед мужчина испустил вопль и замер.
Из корзины появились головы двух кобр. Мгновенно их капюшоны раздулись от ярости. Рептилии вывалились из корзины, быстро поползли к двери и подняли головы, остановившись перед незнакомцами. Они были более чем в две руки длиной и в обхвате более толщины руки.
— Что это такое? — закричал другой.
Еще двое попятились к двери и увидели Анкесенпаатон.
— Вот она, царица! Хватай ее! — закричали они.
— Подождите…
В это мгновение кобра прыгнула на одного из них и яростно впилась в его тело. Тот взвыл и попытался оторвать рептилию от своей руки, но она извивалась, как хлыст. Через несколько секунд мужчина упал, рептилия оставила свою добычу и направилась к другому нападавшему, который бросился прочь из комнаты, в ужасе отталкивая двоих, державших Анкесенпаатон.
Она краем глаза заметила движение неподалеку и, присмотревшись, увидела лекаря Сеферхора, который, прижавшись в тени к стене, прижал ко рту кинжал в знак молчания. Один против восьми он ничего не мог бы сделать и лишь понапрасну рисковал бы своей жизнью. И все же он выжидал подходящего момента, чтобы начать действовать. Возле него, тоже прижавшись к стене, замер соученик Тутанхамона.
Вторая кобра прыгнула на того, кто, кажется, возглавлял нападающих. Она добралась до его лица, нанося одновременно жестокие удары по телу.
— Нет! — взвыл мужчина, падая на пол, стараясь оторвать рептилию от своей щеки и вырывая вместе с ней чуть ли не половину лица.
Он выронил кинжал. Сати наклонилась и резким взмахом руки указала на четверых оставшихся мужчин.
В этот момент из корзины появились головы трех маленьких кобр.
— Взять! — раздался рык Сати.
Взрослая кобра, та, что убила первого мужчину, впилась еще одному в лодыжку. Малыши извивались по полу, уже раздув капюшоны и выискивая жертв.
Вскоре воздух уже сотрясался от завываний. Мужчина, которого еще не укусила змея, быстро развернулся и кинулся в дверь. Сати всадила ему в спину кинжал. Он свалился на других, попытался ползти, но вскоре рухнул на пол.
В комнате остались только двое из нападавших, глаза у них готовы были выскочить из орбит. Один из них, обезумев от ужаса, бросился на Сати. Тутанхамон, стоявший около кормилицы, схватил кинжал. Он ткнул им перед собой и попал мужчине в живот. Тот посмотрел на царя недоверчиво, открыл рот и подхватил руками свои внутренности, которые стали вываливаться из раны.
Еще одного из нападавших укусила за икру одна из маленьких кобр. Его лицо исказилось от ужаса. Взмахнув руками, он завыл и упал, пытаясь оторвать рептилию от своей икры ножом.
В этот момент те, что схватили Анкесенпаатон, отпустили ее. С дикой силой Сеферхор нанес удар одному из них. Другой бросился бежать. Он споткнулся, зацепившись за плиту пола, потерял сандалии и продолжил свой бег уже босым.
Пять кобр медленно ползли по полу, залитому кровью и заваленному телами. Некоторые раненые вздрагивали и хрипели. Капюшоны кобр медленно сдувались. Сати поставила корзину на пол и стала заговаривать змей, размахивая перед ними золотой погремушкой.
Почти обезумевшая Анкесенпаатон искала взглядом Пасара. Наконец она позвала его.
Его голос донесся из сада. Но вместе с ним там раздавались и другие сердитые голоса, удары металла об металл, ругательства, горестные вскрики. Она перешагнула через тела на полу, через кобр и выбежала на террасу.
В саду происходила ужасная драка. Гарнизон, поднятый по тревоге Пасаром, уже завершал рукопашный бой с другими нападающими. Но сколько же их было? В свете факелов она увидела стражников, разящих врагов, освобождающих себе дорогу ударами мечей. Ее стошнило, и она возвратилась в комнату.
Появился Пасар. Она бросилась в его объятия и зарыдала, сотрясаясь всем телом от пережитого ужаса. Тутанхамон тоже дрожал. Сати и соученик царя обняли его и пытались успокоить, затем Сати отвела его в ванную, а оттуда направилась с ним в его покои, подальше от умирающих.
Пасар тоже увел Анкесенпаатон в большой зал.
Медленно ступая, Сати снова вошла в комнату. Она погладила каждую кобру и посадила змей по очереди обратно в корзину. Затем накрыла корзину крышкой и пошла к Тутанхамону.
Крики в саду постепенно смолкали. Вскоре Начальник охраны спустился туда и осмотрел сад и его окрестности.
— Но кто убил всех этих людей? — вернувшись во дворец, спросил он, глядя ошеломленно на шесть трупов, валявшихся в комнате кормилицы.
— Царь убил одного, я убила другого, и Уаджиит расправилась с остальными, — ответила Сати.
Уаджиит — богиня-кобра. Командир посмотрел на Сати как на сумасшедшую.
— В садах их было около тридцати! — воскликнул командир. — Мы их уничтожили. Другие убежали. Они убили четырех стражников, охранявших покои царя. Чего они хотели?
— Похитить царя или убить его, — ответила она, совершенно обессиленная.
— Но кто были эти убийцы? — спросил Пасар.
Командир покачал головой.
— Не знаю. Действительно не знаю. Но, к счастью, ты вызвал нас.
По распоряжению Сеферхора командир вышел на террасу и позвал своих людей, чтобы они вынесли трупы. Слуг, разбуженных грохотом битвы, заставили подогреть молоко. После, когда уже забрезжил рассвет, они явились, чтобы вымыть комнату, в которой произошло массовое убийство.
Тутанхамона уже уложили в постель. Анкесенпаатон с Пасаром пришли его навестить — у царя был жар. Сидя в его изголовье, Сеферхор казался озабоченным и рылся в своем сундучке с флаконами. Мальчик произносил бессвязные слова.
Анкесенпаатон, Пасар, Рехмера, соученик Тутанхамона, и Сати перешли в зал, что находился на нижнем этаже. Анкесенпаатон села на край большого фонтана, где вскоре должны были распуститься лотосы. Эти цветы, как ей когда-то говорили, закрывались во время шествия Анубиса.
Все четверо пили теплое молоко, наблюдая за тем, как разгорается день. Стояла полная тишина.
Вскоре из покоев царя вышел Сеферхор и обратился к царице:
— Шок от стольких убийств и от того, что он сам убил человека, вызвал у него повышение температуры. Я дал ему снотворное, чтобы он успокоился. Он что-то бормочет о дочери Амона, но я не смог этого понять, и вполне возможно, что он не вспомнит более об этих событиях.
— Тем лучше, — сказала Анкесенпаатон.
Когда занялся день, Сати наполнила чашку молоком и отнесла ее в свою комнату, где уже было чисто.
Не было необходимости что-то говорить: все знали, что она понесла молоко кобрам.
Низшим богам.
Но действительно ли это были низшие боги?
Анкесенпаатон уловила связь между кобрами и дочерью Амона, это же ощутил и ее бредивший супруг, что было очевидно.
Во время коронации, держа в руках маски богов Некабита, Буто, Нейта, Исис, Нефтиса, Хоруса и Сета, жрецы, да и она сама, наблюдали, как согласно ритуалу совершалось проникновение принца в святая святых Великого дома, часовню Юга.
Там его действительно ожидала дочь Амона, Великая Колдунья, богиня-змея, и Сати была одной из ее служительниц. С венчавшей голову огромной коброй из золота с раздутым капюшоном, богиня, покровительствующая царской власти, приблизилась к царю и обняла его, сжав голову царя руками.
Позже Тутанхамон сообщил Анкесенпаатон, что этот момент произвел на него самое большое впечатление во время церемонии. Он готов был упасть в обморок. Затем он понял, что это был доброжелательный жест. Амон направил свою дочь, чтобы подтвердить, что взял принца под свою защиту.
Всегда, согласно ритуалу, именно в этот момент принц становился царем. И фактически тогда жрец Инмутеф и его помощники подошли к принцу и надели на его голову двойную корону Двух Земель.
Но царь навсегда запомнил, как он разволновался, испытав объятия этой кобры с женским лицом.
Она стояла в изголовье молодого царя.
— Дочь Амона… — шептал он, положив дрожащую руку на белую простыню, — ты меня защитила… Мама…
В горячке он перепутал богиню-змею со своей матерью, пропавшей без вести в то время, когда ему было четыре года.
— Да, она тебя защитила, — со слезами на глазах сказала Анкесенпаатон, кладя руку на пылающий лоб мальчика.
Плачущая Сати стояла возле его постели. Царица оплакивала царя, свою пропавшую сестру, саму себя.
— Не беспокойся, — сказала кормилица девушке. — Уаджиит спасет его от лихорадки.
Анкесенпаатон вышла из комнаты, вытирая слезы и вопрошая, почему, будучи всемогущей, богиня не сделала ее супруга достойным человеческим существом?
Находясь в Фивах, регент не принимал участия во всех этих событиях. Он был очень сердит. Вот уже три дня прошло с тех пор, как уехали Первый советник и Начальник охраны. Могли бы послать к нему гонца!
Когда он увидел их, прибывших утром четвертого дня в сопровождении Хоремхеба, то нахмурил брови. Что здесь делал его зять и соперник?
— Какие новости вы мне принесли? — спросил он тоном, подобающим царю.
Пока все рассаживались, он вглядывался в лица троих мужчин. Шабака делал то же самое; эта бесцеремонность придала Тхуту сил.
— Заговор Апихетепа задушен в зародыше, — сообщил Тхуту. — Вместе с восемью его командирами он был арестован в своем доме в Саисе. Были также арестованы чуть больше тридцати младших командиров.
— Нахтмин провел операцию искусно, — произнес Ай. — Где он?
— Под арестом, в главной казарме Фив, — ответил Тхуту, глядя Аю в глаза.
Ай, сбитый с толку, захлопал ресницами и наклонился вперед.
— Я не понял: я спросил, где военачальник Нахтмин!
— Я тебе ответил, регент: военачальник Нахтмин освобожден от должности, арестован и находится в настоящее время в главной казарме Фив.
— Но почему?
— Он не подчинился моему приказу сохранить жизнь Апихетепу и его командирам, чтобы мы могли их судить, и, более того, он приказал арестовать командиров охранников, которые его информировали о собрании заговорщиков, утверждая, что они лгали.
Ай почувствовал неладное. Намереваясь подчеркнуть, в чьих руках власть, он, сильно ударив ладонью по подлокотнику трона, закричал:
— Это недопустимо! Арестовать военачальника Нахтмина, героя этой операции! Вы оба потеряли голову!
Крик — признак слабости. Тхуту и Маху не дрогнули.
— Когда военачальник отдает приказ арестовать командиров охранников, благодаря которым стала возможна эта операция, это — вероломство, — спокойно заявил Маху.
Ай больше не сдерживал гнева.
— Вероломство? Это вы вероломны! Вы сохранили жизнь людям, которые хотели уничтожить трон! Вы…
— Мы сохранили жизнь человеку, которому ты предлагал место Первого советника, регент, — прервал его Тхуту.
Ай вытаращил глаза и откинулся назад. Шабаку словно разбил паралич. На мгновение воцарилось молчание.
— И кроме того, — продолжил Тхуту, — так как ты не сдержал своего обещания, Апихетеп послал к тебе единомышленника, сирийца Сосенбаля, чтобы тебя убить.
У Ая чуть не случился апоплексический удар.
— Что?! — зарычал он.
— Это — факты, регент. Вот за что я собираюсь судить Апихетепа, и это будет поучительный процесс.
— Апихетеп — лгун и подлец! — гремел Ай. — Этот процесс станет для него возможностью распространить клевету. Я против этого.
— Этот процесс состоится, регент. Я вправе принимать такие решения.
— Я тебя сниму с должности, Первый советник! — заявил Ай, сжав губы, и его лицо исказилось от ненависти.
— В таком случае, — вмешался Хоремхеб, — на первом же заседании я велю Начальнику охраны Маху арестовать тебя еще и за отравление царя Эхнатона и регента Сменхкары. В течение часа дворец будет окружен военными. Тхуту будет способствовать тому, чтобы тебя осудили во время венценосного процесса. Твоя голова слетит с плеч, регент.
— Но это немыслимо! — закричал Ай взволнованно. — Это — мятеж! Это обвинения негодяев! Я никогда никого не заставлял давать яд. Как вы осмеливаетесь?..
— У нас есть показания Пентью относительно отравления Сменхкары, регент, и мне, мне лично дал показания твой продавец снадобий с маленькой обезьянкой Кобе. — Он повернулся к Шабаке, который замер, выкатив глаза. — Шурин твоей проклятой души.
У Маху начал подергиваться глаз. Именно этой информации ему не доставало, но ему также было известно, что у военных была собственная разведка. Каждый старался изо всех сил.
Ай под тяжестью обвинений обмяк в своем кресле.
— Время ядов истекло, тесть, — продолжил Хоремхеб. — Тебе понадобилось отравить многих людей, и ты сам слишком рисковал. Процесс все-таки состоится.
— Чего вы хотите? — выговорил Ай хрипло. — Чего вы все хотите, вы — все?
— Мы хотим лишь одного — защитить страну, — ответил Тхуту. — Этого нельзя добиться посредством подкупов, чем ты и занимался. Вместе с Апихетепом ты хотел разделить царство, не так ли?
Ай склонил голову, словно почувствовал недомогание. Шабака кинулся к нему. Регент велел, чтобы его лекарь принес укрепляющее средство. Шабака побежал отдать приказ.
— Вы хотите меня убить, — произнес Ай тоном умирающего. — Вы хотите заполучить трон, вы оба…
— Нет, регент, я не жажду сесть на трон, ты его запачкал, — возразил Тхуту, которого жалкий вид Ая совсем не растрогал. — Если ты хочешь его сохранить, позволь мне управлять без всяких хитростей, которые привели тебя к потере власти, а Две Земли к опустошению.
Пришел лекарь, держа в руках кубок и флакон, содержимое которого он тут же вылил в кубок, после чего протянул его регенту.
— Если бы это был яд! — Ай вздохнул, выпив микстуру.
Тхуту пожал плечами и встал.
— Давайте оставим регента в покое, — сказал он и направился к двери, за ним последовали Маху и Хоремхеб, в то время как Шабака и лекарь продолжали оказывать знаки внимания своему хозяину.
Всемогуществу Ая пришел конец.
Высший демон был обуздан. По крайней мере, на данный момент.
16
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЯСТРЕБ
Между тем беспокойство Ая и Тхуту лишь усиливалось, и совершенно очевидно, что то же самое испытывали все остальные — их соратники и подчиненные.
На следующий день после бурной встречи с Аем Тхуту принимал у себя верховного жреца Хумоса, которому кто-то из его людей сообщил о возвращении Первого советника, и он пришел узнать новости об исходе военной операции против Апихетепа. Встреча была конфиденциальной, поэтому на ней не присутствовали ни секретари, ни писцы. Велено было ни под каким предлогом не беспокоить Советника.
Тхуту как раз рассказывал Хумосу о том, что ему поведал Нефертеп, когда негромко постучали в дверь. Первый советник бросил в сторону двери раздраженный взгляд и продолжил свое повествование:
— Нефертеп сообщил мне очень важную деталь, которая указывает на связь между Сосенбалем и Апихетепом…
Стук в дверь стал более настойчивым. Хумос казался раздосадованным, и, резко встав, Тхуту направился к двери. Открыв ее, он увидел своего секретаря, у которого был растерянный вид.
— Я же велел меня не беспокоить!
— Твое превосходительство…
И секретарь наклонился, чтобы прошептать что-то Тхуту на ухо. Казалось, что Советника чрезвычайно заинтересовало это сообщение.
— Впусти его сейчас же!
Почти сразу в комнату вошел юноша, еще не успевший стряхнуть с себя дорожную пыль. Посматривая то направо, то налево, этот почти еще мальчик, явно из крестьян, совсем растерялся, не зная, который из двоих вельмож был Первым советником.
— Вот — Советник, — подсказал ему секретарь. — Говори.
— Господин главнокомандующий, — произнес юноша, который, очевидно, не знал другой формы выражения почтительности, — я служу в коннице гарнизона царского дворца в Ахетатоне. Накануне вечером мой командир отправил меня к тебе предупредить о том, что вчера вооруженная банда пыталась убить царя.
Если всадник на лошади добрался сюда так быстро, значит, он мчался во весь опор. Тхуту и Хумос от неожиданности оцепенели.
— Случилось ли что с царем? — воскликнул Тхуту.
— Нет, мой господин. О том, что во дворце несколько человек захватили в заложники царя, царицу и кормилицу, нас предупредил писец. Когда командующий Хенекту отдал приказ об атаке, мы обнаружили в садах еще тридцать человек. Мы всех уничтожили, за исключением двоих, взятых в плен.
Тхуту не знал, что сказать.
— Вот оно что… — задумчиво произнес он и обратился к секретарю: — Пусть этот человек отдохнет и восстановит силы, и дай ему вознаграждение, а затем отправь его обратно в Ахетатон. После предупреди об этом регента.
— В письменной форме, твое превосходительство?
— Нет, устно. Затем пошли писца, чтобы тот вызвал Маху ко мне в кабинет.
Оставшись вдвоем, Тхуту и Хумос какое-то время сохраняли молчание.
— Царство действительно в опасности, — произнес верховный жрец. — События, происшедшие накануне, со всей очевидностью это подтверждают.
— Того же мнения придерживается Нефертеп, — сказал Тхуту. — Вот почему мне нужна твоя помощь.
— Но не ты устанавливаешь правила игры.
— Со вчерашнего дня регент уже не всемогущ. Я заручился поддержкой Хоремхеба.
— А Нахтмин?
Мгновение Тхуту колебался, прежде чем ответить.
— Он находится под арестом в главной казарме.
— Под арестом? Нахтмин? Брат Ая? — переспросил Хумос недоверчиво.
— Я собираюсь освободить его из-под ареста и отослать сюда. Нахтмин больше не является главной фигурой в игре. Сомневаюсь, что он смог бы ею снова стать.
— Если ты хочешь заручиться поддержкой духовенства, необходимо совершить нечто такое, что для народа означало бы полное восстановление древних культов. Того, что вы с Аем сделали в этом отношении, недостаточно.
Тхуту одобрительно закивал. Снова раздался стук в дверь.
— Но что же такое происходит? Скоро мне сообщат, что сам бог Амон спустился в Фивы! — воскликнул Тхуту, лишаясь терпения.
Он пошел открывать дверь и оказался лицом к лицу с военачальником Хоремхебом и посыльным. Тогда он шире открыл дверь, и командующий вошел. Посмотрел пристально на Хумоса и выразил ему знаки уважения, согласно протоколу.
— Я пришел попрощаться с тобой, — сказал он Тхуту, — потому как не могу долго оставаться в Фивах.
— Военачальник, в тот момент, когда я сообщал первому жрецу о результатах проведенной операции, из гарнизона Ахетатона прибыл отправленный в срочном порядке гонец, дабы известить меня о том, что позавчера ночью вооруженная банда совершила попытку захватить или убить царя и царицу.
Хоремхеб казался удрученным. Затем он поднял глаза на Тхуту.
— Как ты собираешься сохранить царство, которое рушится с каждым днем?
— Я рассчитываю на твою помощь. С такой же просьбой я обращаюсь к верховному жрецу.
— И тебе нужна поддержка армии. Прежде чем уехать, я пришел к тебе, чтобы заверить в поддержке армии и просить незамедлительно освободить Нахтмина.
Просьба казалась парадоксальной: ради сохранения сплоченности армии Хоремхеб просил о помиловании своего злейшего врага.
— Я прошу тебя сделать это сразу же, чтобы я сам мог освободить Нахтмина.
Тхуту задумался. В конце концов, это было не такое уж плохое решение. Проявив снисхождение, Хоремхеб тем самым привлек бы на свою сторону врага. Советник вышел, чтобы позвать писца, затем продиктовал ему приказ об освобождении Нахтмина и еще один приказ о направлении его в пограничный гарнизон, и, наконец, о назначении военачальника Анумеса командующим гарнизоном Фив вместо Нахтмина. На всех трех документах стояла печать Первого советника.
Пришел Маху. Тхуту коротко проинформировал его о попытке убийства Тутанхамона и велел сопровождать Хоремхеба в главную казарму. Первый документ Маху должен был вручить коменданту казармы, а второй приказ Нахтмину вручит Хоремхеб. Третий будет отправлен Анумесу помощниками Советника. Затем Маху должен отправиться в Ахетатон расследовать преступление.
Хоремхеб попрощался и ушел в сопровождении Маху. Изнеможенный Тхуту вновь сел на свое место и оказался лицом к лицу с верховным жрецом.
— Надо вскрыть нарыв, — сказал Хумос. — Ты прав. Процесс следует вести при закрытых дверях. Наконец-то! — добавил Хумос с едва заметной улыбкой.
То есть в присутствии верховных жрецов.
Близился полдень. Хумос простился с Первым советником. В тот момент, когда он уже собирался выйти из кабинета Тхуту, прибыл секретарь Советника и проинформировал своего хозяина о том, что регент Ай слег в постель и в течение дня так и не появился.
Хумос и Тхуту воздержались от улыбок. Оказаться вдруг взнузданным — это суровое испытание для того, кто, как считалось, обладал безграничным могуществом.
Потрясенный такими событиями, Тхуту наконец остался один.
Именно тогда произошел любопытный, казалось бы, почти ничего не значащий инцидент.
На балюстраду, окаймлявшую террасу кабинета, сел ястреб. Он повертел головой в разные стороны, а затем с видом вершителя судеб уставился на Советника. Обычно эти хищники пугливы, но этого, казалось, нисколько не тревожил находящийся рядом человек. Тхуту улыбнулся.
Бог Хорус явился засвидетельствовать свое покровительство. Стало быть, он доброжелательно настроен по отношению к Советнику.
По возвращении из тюрьмы Маху тут же отправился в Ахетатон, получив указание усилить его гарнизон и засвидетельствовать монарху внимание официальных властей.
Сразу по прибытии он отправился к начальнику гарнизона. Тот его успокоил: в соответствии с отданными им приказами никаких сведений о чрезвычайном ночном происшествии в город не просочилось; это было крайне важно. Даже Панезию было не известно о том инциденте, который чуть не стоил жизни молодому царю. Затем Начальник охраны попытался составить общую картину случившегося по рассказам свидетелей.
Тутанхамон говорил бессвязно.
— Я спал с Сати, кормилицей. Явились они. Велели кормилице отдать им меня. Она отказалась. Я не знаю, что произошло потом. Я видел кобр. Они убили нападавших. Я убил человека. Затем вмешались стражники. Все закончилось.
Он забыл уточнить, что в течение двух последующих дней страдал от сильного жара, сопровождавшегося бредом, и что лекарь Сеферхор с большим трудом улучшил его состояние, используя самые сильные средства из тех, что у него были. Маху недоумевал. Кобры?
Встретившись с Анкесенпаатон, Начальник охраны был поражен. Когда он был допущен в комнату, где царица согласилась его принять, он застал ее сидящей на банкетке и читающей «Мудрость Ани», — рукопись, которая, как ему казалось, не может привлечь внимание столь молодой девушки, — положив ее на скрещенные ноги. Она выпрямила ноги, отложила рукопись и подняла на посетителя скептический взгляд. Можно было сказать, что перед Маху женщина зрелого возраста. Она слегка улыбнулась и, отвечая на вопросы охранника, дала ему более реалистичное и более разумное описание событий, нежели ее супруг:
— Меня разбудили крики. Когда я вышла в коридор, то увидела там двух убитых стражников. Я пошла в комнату кормилицы. Она защищала моего супруга от восьми человек, которые направили на нее свои кинжалы и требовали отдать им царя. Сати обладает искусством приручать кобр. Она выпустила пять кобр, которые атаковали нападающих. Те упали. Вместе с царем она схватила выпавшие из их рук кинжалы. Одного человека убила она сама, и царь убил другого. В это время меня схватили двое мужчин, закричав, что поймали царицу, но они не успели мне навредить. Когда кобры убили нападавших, донесся шум из сада и с террасы, и я увидела других бандитов, которых собиралась уничтожить стража. Полагаю, что мы никогда не узнаем, кто руководил этими преступниками, — сказала она гневно.
— Заблуждаешься, твое величество, Первый советник намерен установить имена тех, кто их послал. Они будут наказаны со всей строгостью.
Маху не лгал: двое нападавших, которые выжили в этой бойне, были допрошены начальником стражников, и Маху намеревался отправить их в Фивы, согласно выданному ему указанию. Начальник охраны начал связывать воедино недавние события и безумие последних дней, но не считал себя вправе разглашать свою версию.
— Эти люди, — продолжила она, — по всей видимости, были посланы убить царя, а не царицу.
Маху слышал в ее голосе те же нотки, что звучали когда-то в голосе Нефертити. Анкесенпаатон была создана царствовать.
— Стало быть, они явились, — заключила она, — по приказу того, кто стремится захватить трон, и для этого намерен вынудить меня вступить с ним в брак.
Она бросила на Начальника охраны мрачный взгляд.
О ком же она думала? О своем дедушке Ае?
Наконец Сеферхор, Сати, Пасар и соученик царя подтвердили то, что Маху уже понял.
Но больше всего Начальник охраны был озадачен участием в этом событии кобр. Маху пребывал в растерянности: как сообщить Первому советнику о роли этих рептилий, чтобы у него при этом не заподозрили галлюцинаций? Но он понимал, что кобры сыграли решающую роль, поразив шестерых из восьми убийц.
Он захотел увидеть кобр и отпрянул, когда Сати подняла крышку корзины. Ему пришлось сделать над собой усилие, когда кормилица взяла в руки одну из кобр, погладила ее и повернула голову кобры в сторону Маху.
Заниматься безопасностью царства и так было сложной задачей, а тут еще приходилось принимать в расчет участие колдовских сил.
Тем не менее он решил просить для кормилицы исключительное вознаграждение: она действительно спасла жизнь царя.
Наступил Праздник сева, и никто — ни в Фивах, ни в Мемфисе, ни в других местах — не подозревал о трагических событиях, которые могли обагрить этот праздник кровью. Никто ни из служителей Первого советника, ни из дворца не задавал вопросов, и если таковые появлялись, то они были безобидными. Тайна настолько хорошо хранилась, что, казалось, от нее уже не осталось и следа. Тем, кто был в курсе этих событий, было велено принять версию, которая считалась бы несущественной: якобы в окрестностях дворца в Ахетатоне были замечены несколько воров, а в Нижней Земле нейтрализована шайка разбойников — в общем, дело выеденного яйца не стоит. Документов, попавших в руки охраны и армии, было мало, и все они хранились в сундуке Первого советника. Родственникам обвиняемых было велено держать язык за зубами. Впрочем, они в этом были заинтересованы, ибо никто не желал иметь хоть какое-то отношение к «разбойникам».
В царстве Двух Земель не должно происходить ничего разрушительного или тревожного — ведь боги не могли этого допустить.
В течение недели по всей Долине веселились и кутили. Храмы не пустовали, так как в них чествовали богов, отвечающих за плодородие. Среди них главенствовали итифаллический Мин, а также всемогущий Амон-Ра, без которого вообще ничего не существовало бы.
Во время шествий изображали убийство гнусного Апопа, представив его в виде огромной змеи, которая злобно угрожала царству: это была цилиндрическая труба из ткани, в которой двигались танцоры.
«Что случилось бы, — спрашивал себя Тхуту, — если бы Апихетеп захватил власть?» Без сомнения, Ай был бы убит. И Тутанхамон. И многие другие. Остался ли бы сам Тхуту в живых? Его пробрала дрожь. Но он был не из тех людей, кто долго мог предаваться мрачным мыслям. Он предпочитал незамедлительно действовать.
Мудрость поколений говорит о том, что необходимо ковать железо, пока оно горячо. Будучи уполномоченным защищать правосудие, он попросил Сехеджру, главу всех судов царства, организовать судебный процесс над Апихетепом. Он сам составил список, включающий десять судей, и, кроме себя самого, вписал в него верховного жреца Хумоса и военачальника Хоремхеба. Ай с раздражением отклонил предложение председательствовать на суде, и Тхуту счел этот отказ знаком того, что он не в состоянии был присутствовать на судебных заседаниях.
В тюрьму Фив, где в одиночной камере томился Апихетеп, была направлена целая партия преступников, которые могли бы стать большими людьми в царстве: помимо восьми командиров, арестованных в Саисе, пяти начальников охраны из номов Нижней Земли и четырнадцати их единомышленников, были еще шесть городских голов из этих номов и двое бандитов, уцелевших после бойни в Ахетатоне. Итого тридцать шесть обвиняемых.
Размышляя, Тхуту посчитал, что верховному жрецу Нефертепу он мог бы предложить только место рядом с его коллегой на судейской скамье.
Ай не ошибся: это был процесс над проводимой им политикой. Он сослался на то, что должен в это время возглавить Праздник Долины и объяснил этим свое отсутствие на процессе. Он снизошел только до просьбы допустить Шабаку в зал судебных заседаний и без труда получил на это согласие. Ему необходимо было знать, какие обвинения ему предъявляют, чтобы понять, как себя вести.
Тридцать пять из тридцати шести обвиняемых предстали перед судом до появления главного обвиняемого, Апихетепа, и первыми были те, кто участвовал в нападении на дворец Ахетатона. Один из них был сельским жителем семнадцати или восемнадцати лет, которого без труда можно было представить участником стычек пьяных крестьян; второй, ко всеобщему удивлению, был одним из ивритов Нижней Земли, который не подозревал, что вмешивается в дела государственной важности; он был не намного старше первого. Первого звали Несерпта, что значит «Огонь Пта», это имя казалось уж слишком амбициозным; второго звали Джефуннех.
Находясь между двумя верховными жрецами, Хоремхеб оказался справа от Нефертепа. Тхуту спросил первого обвиняемого, кто был его начальником. «Апихетеп», — ответил тот, не колеблясь. Сколько этот последний заплатил ему, пытаясь завербовать? Десять медных колец и пообещал двух рабов в случае успеха. Какова цель этого заговора? Захватить царя, убить и доставить его труп в Саису.
Судьи содрогнулись. Кроме Маху, Шабаки и двух писцов, что были приведены к присяге в канцелярии суда, других свидетелей не было.
— И царицу?
— У нас был приказ оставить ее невредимой и также доставить в Саису.
— Вам известно, зачем?
— Апихетеп нам этого не сказал, но мы знали о его намерении вступить с ней в брак, чтобы получить трон.
Это был настоящий скандал, и шепот возмущения раздался на скамье судей. Накладные бороды задрожали.
Джефуннех оказался более словоохотливым. Помимо того что его признания совпадали с признаниями сообщника, он уточнил, что Апихетеп убеждал их в необходимости выполнить божественную миссию, так как люди, в руках которых оказался трон, а значит, и власть, были жестокими существами.
«Надо избавить страну от этих дьявольских кровопийц, которые бросают вызов богам и презирают народ», — повторил он слова Апихетепа.
— Мы удостоверились в справедливости его речей, так как именно змеи, создания ада, помешали нам достичь цели.
Некоторые из судей покачали головами. Эти признания доказывали связь между тремя операциями, задуманными Апихетепом: попыткой убить регента, попыткой захватить Мемфис и попыткой убить царя. Относительно змей Тхуту решил пояснить судьям, что это были всего лишь беглецы из зверинца дворца, выпущенные во время нападения, которые оказались вовремя в нужном месте. Не
рассказывать же судьям всю правду.
Было единодушно решено немедленно обезглавить преступников сразу же после их возвращения в тюрьму Фив.
Затем перед судом предстали один за другим восемь командиров Апихетепа, арестованных в его крепости. Их речи были похожи на предыдущие: якобы захват Мемфиса был бы первым серьезным шагом в укреплении в стране народной власти, и это неотвратимо привело бы к развалу гнилого режима, возглавляемого несправедливым властителем, ренегатом Атона, являющим собой позор богов, и его жалкими марионетками — Советником Тхуту, казначеем Майей, секретарем правосудия Сехеджрой, Начальником охраны Маху, всеми продажными вельможами, которых надо безжалостно казнить.
Фразы, которые произносили подсудимые, похоже, были заученными. Тхуту нервно сглотнул: он был включен в список людей, подлежавших уничтожению.
Одним из командиров был сын Апихетепа. Представ в роли обвиняемого, он разразился злобной тирадой:
— Мы знаем, что пощады нам не будет, но если бы так случилось, мы ответили бы отказом, так как нет большего стыда, чем быть помилованными такими, как вы, блюдолизами.
Подавленность, охватившая судей, быстро прошла. Снова было решено незамедлительно привести в исполнение смертный приговор.
День близился к концу. Вызов в суд остальных обвиняемых судьи перенесли на следующий день. Тхуту организовал банкет в своих покоях. Все участники пира были сдержанно бодрыми; они хорошо понимали суть рассматриваемых дел, но размах заговора, решимость и пыл обвиняемых и значимость их целей, особенно касающихся жизни царя, надолго выбили их из колеи.
Следующий день начался с того, что в суд явились четырнадцать заговорщиков.
Тхуту решил проявить великодушие по отношению к младшим командирам, которые оказались вовлеченными в преступные деяния, соблазнившись обещанным им вознаграждением, а также из-за клеветнических речей их начальников. Ударов палками, по его мнению, было бы достаточно для их возвращения на путь истинный.
— Подождите, сначала послушайте их, — посоветовал ему Нефертеп.
Верховный жрец знал свое дело.
— Кто вы такие, чтобы нас судить? — воскликнул один из этих заговорщиков, зеленщик из Саисы. — Мы живем в Нижней Земле, а вы — в Верхней Земле. Никто из вас никогда не ступал по земле Саисы. Ваши сборщики податей приходят забрать часть наших доходов, чтобы вас задобрить. И когда мы пытаемся защитить себя и отвоевать власть на своих землях, вы нас арестовываете и бросаете в тюрьму. Вы нас приговорите к смертной казни без тени сомнения! Да будьте вы съедены Апопом! Вы — захватчики! Нам легче договориться с чужеземцами — ивритами — чем с вами!
Тхуту испугался. Он видел вытаращенные глаза Шабаки. Эти люди оспаривали принцип единства Двух Земель!
Стало быть, смертный приговор этим людям был неизбежен.
Слушание объяснений шести городских голов не принесло утешения. Они были на службе у царя, и должны были бы раскаяться в содеянном. Но их речи об отделении были почти такими же, как у других.
— С точки зрения богов, разве желание управлять своей собственной страной — зло? — заявил один из них, голова Себена.
— Вы приняли золото Апихетепа, — возразил Тхуту. — Это — пассивное участие в заговоре. Вы продались искателю приключений и согласились с тем, что необходимо ниспровергнуть священную корону.
— Ах! — ехидно воскликнул голова. — Апихетеп только и сделал, что определил нам достойную оплату, в чем нам отказал ваш управитель. И он не больший искатель приключений, чем цари, которые прогнали гиксосов! И вы подобны гиксосам: вы незаконно заняли наши земли.
«Неужели придется приговорить шестерых городских голов к смерти? Но если этого не сделать, — размышлял Хоремхеб, — они будут продолжать вести свои мятежные речи, и их идеи заразят другие умы».
По мере того как смертные приговоры следовали один за другим, Первого советника охватило уныние.
Оставался один Апихетеп.
Так был ли ястреб, севший на террасе, хорошим предзнаменованием? Или он бросал вызов?
Тхуту вспомнил совет царя Хети Третьего, труды которого он изучал, когда учился на главного писца: «Придерживайся правосудия, пока будешь жить на этой земле…»
Придерживался ли он законов правосудия? Или защищал царя? Есть ли различие между двумя этими задачами?..
17
ОБВИНЕННЫЕ СУДЬИ
Во второй половине второго дня слушали зачинщика всех этих беспорядков, Апихетепа.
Тюрьма его не сломила. Мужчина в возрасте приблизительно сорока лет, хорошо сложенный, подтянутый, с обнаженным торсом, босой, на теле которого была только набедренная повязка, предстал наконец перед судьями. У него были ровные и плотные бороды, а парик, очевидно, исчез во время неожиданного нападения, так же как и драгоценности, которые были на нем во время ареста. Люди Нахтмина не отказали себе в удовольствии разграбить дом, который они осаждали. Апихетеп поднял голову. У него было скуластое лицо с широким крупным носом и тонкими губами. Он посмотрел вокруг.
— Привет всем в этом зале, всем тем, кто, в сущности, свободен от лжи, кто живет по законам справедливости! — крикнул он несколько театрально.
Это было начало старинной молитвы мертвых.
— Вот пришел к вам без грехов, без правонарушений, без низости…
— Достаточно! — прервал его Тхуту. — Ты еще не умер, и твоя молитва оскорбляет богов!
Апихетеп улыбнулся.
— Стало быть, процесс проходит при закрытых дверях, — ухмыльнулся он. — Опасаетесь, что правда станет известна всем.
Согласно обычаю, в царстве обвиняемый защищался сам, но ему позволено было только отвечать на вопросы. Уже с первых слов каждый мог почувствовать разницу между Апихетепом и предыдущими обвиняемыми. Он изъяснялся легко и ясно, блистал красноречием.
— Наглость не приемлема в речах на суде, — возразил Тхуту. — Лучше скажи нам, что тебя толкнуло на такое преступное предприятие, как взятие Мемфиса и убийство царя.
— Какого царя?
Никто не соизволил ему ответить.
— Вы называете Тутанхамона царем? Вашим затуманенным мозгам не доступно даже понимание того, что собой представляет царь. Это тот человек, который стремится дать своему народу благосостояние и благополучие, защищает его от врагов и заставляет уважать богов. Но этот бедный мальчик не способен даже вытащить стрелу из колчана, и если бы он смог это сделать, то не знал бы, куда сначала стрелять: враги столь же многочисленны внутри страны, как и за ее пределами.
— Избавь нас от своих тирад, скажи, что ты намеревался сделать, случись это несчастье и твои наемные убийцы убили бы нашего суверенного правителя.
— Вступить в брак с царицей. Я завладел бы тогда Мемфисом и был бы провозглашен царем Нижней Земли.
— Кто тебя короновал бы?
— У Нефертепа, без сомнения, хватило бы здравого смысла, чтобы возвести меня на трон. Он умеет различить настоящего правителя, когда видит такового перед собой.
Он остановил взгляд на верховном жреце; последний оставался бесстрастным. То, что говорил Апихетеп, почти соответствовало истине — Нефертеп сам признался в этом Тхуту.
— Но почему ты пытался убить регента руками своих людей — сирийца Сосенбаля и его сына?
— Как я мог не попытаться убить его? Кто из здесь присутствующих не мечтал прервать дни этого старого шакала? Во времена господства флейтиста Сменхкары он меня сначала очаровал речами о необходимости реформ в царстве. Обещал назначить меня Первым советником, как только освободится от этой куклы для сераля и возьмет власть в свои руки. Потом он предполагал заключить брак с сестрой царицы, Второй царской супругой, Макетатон. Ведь так, Шабака? — бросил он нубийцу, которого заметил в зале. — Ты присутствовал при этих переговорах. Ты же все помнишь, разумеется?
Шабака окаменел. Его гортань сжимали спазмы в то время, как он старался проглотить слюну. Никто не осмелился спросить у него подтверждения заявлений обвиняемого.
Писцы канцелярии суда качали головами.
На лбу Маху крупными каплями выступил пот, и Начальник охраны осторожно стирал его куском полотна.
— Мне не все известно, — продолжил Апихетеп, — но его план не сработал. Он поставил на трон Тутанхамона. И полностью забыл свои обещания. И о реформе в том числе.
Судьи пристально смотрели на Апихетепа, как будто надеялись единственно силой своих взглядов заставить его замолчать. Правда может быть невыносимой для тех, кто ее знает. Казалось, защищенный невидимыми доспехами, обвиняемый не боялся стрел, которые летели со всех сторон.
— Почему среди вас нет божественного отца Ая? — спросил Апихетеп насмешливо. — Он боится услышать то, что я буду говорить?
Он выдержал паузу.
— Верно то, — затем продолжил он, — что я не должен был более существовать. Тем, что я еще жив, я обязан только Первому советнику, — он указал пальцем на Тхуту, — и Начальнику охраны, — он показал подбородком в сторону Маху, — которые в последний момент позволили мне избежать участи быть растерзанным конниками командующего Нахтмина.
Некоторые судьи проигнорировали это замечание, но направили на Тхуту вопрошающие взгляды.
— Почему военачальник Нахтмин, брат регента, так торопился отправить меня на попечение Анубиса? Именно это я вам собираюсь объяснить, уважаемые судьи. Чтобы избежать моих разоблачений — вот причина! Не моих признаний, а моих разоблачений!
Манера, в которой обвиняемый вел дебаты, сильно раздражала Тхуту.
— Апихетеп, ты здесь предстал в качестве обвиняемого в ужасных, кощунственных преступлениях! Тебе никто не позволял задавать вопросы и выдвигать обвинения. Продолжи свой рассказ.
Человек, который мечтал стать царем, бросил долгий взгляд на Тхуту и продолжил:
— Тогда я понял, что Ай — ужасный негодяй, подобный тем хищникам, на которых охотятся крестьяне, защищая свои стада. Он не знает, что означает служить царству, — негодовал Апихетеп, — он все делал исключительно для себя и ни для кого больше! Он раздавал обещания и яд ради своих махинаций! Он получил то, чего желал более всего на свете, — власть, и вы, вы служите этому шакалу и обвиняете пастуха!
Судьи были озадачены. Опасаясь того, что обвинения прозвучат и в их адрес, они горели желанием приговорить подсудимого к обезглавливанию на месте. Они готовы были убить его прямо в помещении, где проходил суд. Они не могли более слышать столь откровенное осуждение того режима, которому сами служили.
Они слишком хорошо знали, на чем основывается режим: они все были сообщниками. Они предполагали осудить самого заклятого врага царства, но дело повернулось таким образом, что они сами оказались подсудимыми.
Шабака, похоже, готовился к тому, что на него может обрушиться потолок. Маху размышлял о том, что он мог бы действительно сообщить регенту о заговоре.
— Итак, я сам решил, — продолжил Апихетеп, — воплотить план, которым Ай неосторожно поделился со мной: устранить приверженцев власти, истинных и мнимых, его самого и Тутанхамона, и захватить для начала власть в Нижней Земле. Этот план я разработал не для личной выгоды — я стремился сделать страну процветающей, государством, где главенствует закон. После этого потребовалось бы не так много времени, чтобы захватить Верхнюю Землю. Кто бы вас защитил? Ваша армия? Долгие годы она находится в унизительном состоянии. Военные видят слишком хорошо, как распределены трофеи прошлых завоеваний. Но для завоеваний армия мало что сейчас делает, — добавил Апихетеп, вызывающе глядя на Хоремхеба.
На самом деле владетель провинции хорошо знал этого военного; он видел его во время многих церемоний и праздников, они, без сомнения, обменивались похвалами и вкушали одно и то же вино ликования. Он только что выступил непосредственно против него. Хоремхеб даже не пошевелился.
— А боги? — спросил Хумос. — Что ты сделал бы для наших прадавних культов?
— Ты же хорошо знаешь, верховный жрец, что я их приверженец. Они всегда справедливы к нам. Я бы не только поклонялся нашим богам, но и возвысил бы их. Поверишь ли ты в то, что в Нижней Земле нет покинутых храмов? Они все еще держатся, и только благодаря набожности своих приверженцев и их пожертвованиям. В том числе и благодаря мне, — заявил он, обращаясь к Нефертепу. — Неужто ты забыл, верховный жрец, о моих пожертвованиях на восстановление храмов Пта?
«Да, — подумал Тхуту, — духовенство одобрило бы замысел Апихетепа, если бы он добился успеха». На какое-то время они становились союзниками. Они также были замешаны в заговорах, которые привели к смерти Эхнатона.
— Я знаю, — сказал в заключение Апихетеп, — что мне не стоит ждать милости от вас. Вы собираетесь послать меня на смерть. Но моя смерть не освободит вас, судьи, от мук совести. Вы знаете слишком хорошо, что мой приговор не будет соответствовать духу правосудия, он будет вынесен из чувства страха, чтобы отомстить мне. Вы будете слышать мой голос весь остаток своей несчастной жизни. Вы вспомните о гневных словах Ра: «Я остерегал людей от совершения несправедливости. Но их сердца разрушили то, что предписывало мое слово». Мне больше нечего сказать.
Он скрестил руки на груди. Мучимые жаждой судебные делопроизводители опустошили глиняный сосуд. Тхуту приказал страже вывести заключенного. Маху велел принести дюжину глиняных сосудов. Хотя судьи не произнесли ни слова, у них также пересохло в горле. Их могущество и слава были подвергнуты суровому испытанию. Они принялись пить сверх всякой меры.
— Итак, приступим к обсуждению, — произнес Тхуту.
Ответом на это предложение было гробовое молчание.
— Определена ли цель обсуждения? — спросил один из судей Главного суда Фив. — Согласно закону правосудия этот человек совершил два в высшей степени безбожных преступления: он пытался убить двух самых именитых особ царства — регента и царя. Но…
Он не закончил фразы, но все поняли то, что не было сказано: согласно разуму правосудия, его следовало назначить царем.
Хоремхеб вздохнул.
— Смерть, — сказал он.
Это предложение было поддержано единодушно.
Апихетеп был обезглавлен в помещении суда центральной тюрьмы Фив до захода солнца.
Ни у кого не было настроения участвовать в банкете. Между тем Тхуту из вежливости пригласил судей отужинать. Как это обычно бывает на официальных приемах, девушки, играющие на лирах, разбавляли звучанием своих инструментов установившееся молчание. Но в какой-то момент контраст между этими нежными аккордами и тем, что собравшимся здесь только что довелось услышать и что еще звенело в их ушах, показался разительным. Двое судей, одним из которых был Хумос, попросили Первого советника приказать музыкантам смолкнуть.
Так что банкет был больше похож на поминки.
18
САМЫЙ ПЛОХОЙ ВЕЧЕР ШАБАКИ
Толи госпожа Несхатор носила предопределенное ей имя, то ли она его придумала, но оно означало «Язык Хатор», а Хатор была одновременно богиней любви и танца. Она держала в Фивах, неподалеку от главной улицы Амона, заведение, предназначавшееся для зажиточных мужчин, которое называлось «Милый дом». Некоторые жены называли его пренебрежительно кабаком, те мужчины, кому было не по карману пойти туда — борделем, а его клиенты — домом танцев.
То, что имело столько оттенков на языке царства, грамотеи наперегонки обсуждали в Домах Жизни. Определяется ли предмет тем, как фактически его использует индивидуум? Или он наделен универсальным смыслом? Таким образом, палку можно использовать по-разному: если воткнуть палку в землю, то отбрасываемая ею тень будет указывать время дня; на нее может опираться инвалид и старик; ею можно поколотить противника. Так что же это такое: полезный инструмент, подпорка или оружие?
Еще красивая, несмотря на заметное утяжеление прелестей, приближающаяся к своему сорокалетию, Несхатор готовилась в это утро к двум событиям: одно относилось к ее профессии, а другое носило частный характер. Первым событием было прибытие трех новых танцовщиц, одной нубийки и двух сириек, с которыми накануне она удачно заключила контракты. Ими она решила заменить трех своих служительниц, которые покидали ее заведение, так как не научились пользоваться противозачаточной пастой. А ведь это было делом нехитрым: пропитывали тампон смолой акации, мякотью финика и медом и вводили его в деликатный проход. С незапамятных времен это действовало безотказно. Но эти тупицы забеременели.
Она была очень рассержена. Не засовывать же ей самой тампоны во влагалища этих дур!
Вполне возможно, что дело было не в их глупости. Несхатор гнала от себя подозрения, вызвавшие столько огорчений: эти неумехи, как выяснилось, удачно вышли замуж. Одна вступила в брак с мужчиной из живущего в достатке семейства, другую взял второй супругой столь же удачливый, сколь и развратный старикашка, а третья вступила в брак — кто бы мог подумать! — не с кем иным, как со вторым писцом Советника царя! Понятно, почему они забыли воспользоваться тампонами! В результате «Милый дом» потерял троих очень выгодных клиентов, настоящих ценителей женской красоты.
В комнату вошла женщина. Несхатор была полностью обнажена.
— Ну вот, — сказала она вошедшей, — я готова.
Женщина поставила на треножник чашу, под которой установила масляный светильник. Вскоре из чаши стал подниматься ароматный дымок. Женщина внимательно следила за содержимым чаши, осторожно помешивая его длинной палочкой, затем взяла из чаши небольшую порцию полужидкого вещества коричневого цвета и ловко положила его на ногу своей клиентки.
— Ой! — закричала Несхатор. — Слишком горячо!
— Оно должно быть горячим, тогда воск пропитывает волос, а масло размягчает его.
— Чертовы волосы!
Новая порция, затем еще и еще, пока голень Несхатор не покрылась этой смесью до колена, что сопровождалось теми же нареканиями. Затем женщина, удалявшая волосы, неожиданно резко сорвала затвердевший слой смеси. Несхатор испустила такой крик, что в комнату вбежала служанка узнать, что происходит.
— Сначала ты меня обожгла, а теперь живьем сдираешь кожу! Что ты положила в этот раз в свою адскую смесь?
— Я добавила пчелиный воск, который лучше пропитывает волосы, и уменьшила порцию смолы акации, — ответила женщина, невозмутимо срывая следующий затвердевший слой.
— Ой! Они снова не вырастут, как было последний раз?
— Они растут всегда, но с каждым разом все слабее и слабее.
— Через две недели после того, как ты мне удаляла волосы последний раз, у меня вскоре появилась щетина!
— Ты сбрила волосы. Не надо брить. Это лишь укрепляет волос.
Несхатор промолчала — она действительно побрила ноги. Более того, она при этом поранилась.
Закончив с ногами, женщина перешла к лобку, волосы на котором были предварительно сбриты. Вот когда ее клиентка стала испускать ужасающие крики. Но когда закончилась эта процедура, она внимательно рассмотрела гору Хатор, которая была теперь ярко-розового цвета, и, проведя пальцами по ее поверхности, объявила, что довольна результатом.
— Гладкая, как слоновая кость, — заключила женщина, подчеркивая уровень своего мастерства при обработке промежности клиентки. — Попробуйте найти в Фивах другого такого специалиста по удалению волос.
В конце сеанса она занялась подмышками, где волосы у Несхатор были очень густыми.
Наконец можно было искупаться. После этого, благоухая маслами сандала и жасмина, госпожа Несхатор отдалась в руки своему парикмахеру. Как все модницы, она носила парик, но природа снабдила ее обильной блестящей шевелюрой, которая была предметом ее гордости. Существовала единственная проблема — седые волосы, которых было уже очень много.
Когда появились первые серебряные нити, Несхатор велела своей главной служанке выдергивать их одну за другой. Но когда их стало очень много, пришлось прибегнуть к услугам парикмахера.
Ахшен, что значило «Сверкающая шевелюра» и больше напоминало название лавки, на самом деле звали Туерис — по имени богини, помогающей при родах. Она была самым известным в Фивах парикмахером и поэтому наиболее дорогим. Ахшен обладала бесценной тайной сокрытия седых волос. Она не использовала хну, медные отблески которой при ярком солнце прямо говорили о применяемой уловке, но свой секрет отказывалась открыть. Ахшен пропитывала волосы чернильной жидкостью каракатицы, и после их высыхания протирала смесью, в состав которой входило масло можжевельника и жировая смазка змеи, что позволяло сохранить цвет и придать волосам блеск.
В конце первого часа манипуляций она попросила служанку оценить результат; та пришла в восторг. Несхатор решила сама проверить, что получилось, с помощью зеркала в серебряной оправе, и согласилась с тем, что метод Ахшен был на самом деле эффективным.
Ко всему прочему Несхатор готовилась ко второму упомянутому выше событию: прибытию одного из женихов. Все, что она знала об этом мужчине, который нанес ей ответный визит месяц назад, ограничивалось тем, что он жил в Нижней Земле и был богат. Очень богат. И он не слишком поддавался обольщениям хрупких танцовщиц; в отличие от своего товарища, молодого неискушенного юноши, он не был, как он говорил, любителем незрелых плодов. Он бросился в атаку, пытаясь завоевать хозяйку этого заведения. Так как он был столь же щедр, как и горяч, настоящий царь соблазна, и у него были великолепные манеры, Несхатор дрогнула, наконец сдаваясь его ухаживаниям.
Он действительно ею обладал. Их ночь была жгучей, и страстные соития довели их до изнеможения лишь на рассвете. Это был воистину дьявольский любовник! Одновременно и завоеватель, и ненасытный и искусный любовник, Апис собственной персоной!
Он отказался назвать свое имя.
— Жди меня, — сказал он при расставании. — Я возвращусь в следующем месяце. Ты будешь моей женой. Ты ничего не знаешь обо мне и не можешь представить себе, что тебя ожидает. Каждый день благодари богиню Хатор, которая хотела нашей встречи.
И он оставил на постели ожерелье из маленьких золотых дисков, которому могла позавидовать любая из царских наложниц, если таковые были.
С волнением в сердце она ожидала своего любовника и жениха.
Наступил вечер, и ее волнение усилилось.
Прибыли музыканты, и старый слепой арфист, которого вели коллеги, устроился на подмостках. Затем бывшая танцовщица, ставшая музыкантшей, пристроилась возле него, присев на корточки, и достала двойную флейту. С левой стороны расположился мужчина, играющий жемчужинами минот, а также на цистре — эти инструменты непрерывно поддерживали ритм. Место справа от арфиста занял его коллега, играющий на кемкем.
Несхатор велела подать им пива. Она потребовала, чтобы глиняные кувшины с вином и пивом были хорошо охлаждены на дне колодца, чтобы пиалы с поджаренными зернами арбуза были полными и чтобы было достаточно хлебцев в кунжуте на случай, если клиенты захотят ими подкрепиться.
Затем она отправилась побеседовать с новыми танцовщицами.
В этот вечер всего было вдоволь. Сразу после ужина, примерно через час после наступления сумерек, стали подходить клиенты.
Они заполняли зал, входя в обе двери, рассаживаясь на скамьях, по два или три человека за столом, или устраивались на обитых кожей табуретах, чтобы выпить молодого вина или пива или же отведать, если таковое имелось, выдержанного вина, изготовленного ивритами в Нижней Земле.
Вскоре пришел Шабака, который за два дня судебного процесса испытал столько, что не мог себе этого даже представить. Не дождавшись возвращения своего хозяина, он к концу недели казался обескураженным, словно не находил себе места.
С тех пор как он прибыл в Фивы со свитой регента, нубиец так и не смог преодолеть чувство потерянности в новой, непривычной обстановке; он тосковал по размеренной жизни в Ахмине и спокойному течению жизни в большом доме Ая, сладострастным сиестам с одним из рабов, по благоуханным вечерам с выступлениями музыкантов. Но больше всего ему не хватало ощущения безопасности, которую обеспечивало всемогущество его хозяина. Кто бы мог подумать, что ему будет недоставать криков попугая, не устававшего повторять: «Bin tchao». В Фивах он испытывал только волнение и раздражение.
Он был уже не среди тех, кто привык к большим вольным пространствам; как только такие люди оказывались в городах и на их горизонте то и дело появлялись чужаки, они никак не могли смириться с тем, что не являются более царями.
Несхатор, видевшая его не раз в своем заведении, благосклонно поприветствовала его, не зная в действительности, кем он был, кроме того, что он служил во дворце. Он заказал чашу дорогого вина, дважды перебродившего, и стал с удовольствием его смаковать.
Затем она направилась поприветствовать других клиентов, тех, кто всегда оставлял одно или два медных кольца.
Волнение цистр и грохот кемкем возвестили о начале представления. Появилась первая танцовщица, сирийка. С обнаженной грудью, окрашенными кармином сосками и бедрами, подпоясанными ярко-красным платком, скорее для красоты, а не для того, чтобы прикрыть свои прелести, она появилась, сплетя руки над головой и чуть заметно извиваясь телом.
Клиенты заведения видели ее впервые; они ее рассматривали как знатоки. Ее тело отличалось от тел египтянок: более светлая кожа, более округлые груди и более пухлые ягодицы. В общем, как понял Шабака по комментариям, тонувшим во взрывах смеха, ее тело напоминало абрикосы, покрытые нежным пушком.
Среди клиентов появился чужестранец, о чем свидетельствовала его раскидистая борода цвета светлой бронзы, и лицо Несхатор засияло.
Это был компаньон ее жениха, значит, тот был где-то рядом.
Шабака смутно почувствовал связь между хозяйкой заведения и чужестранцем.
— Ты довольна моими танцовщицами? — спросил последний.
— Две жемчужины!
Мужчина сел неподалеку от Шабаки. В это время танцовщица исполнила фигуру, которую все ожидали: большую арку. Она отклонилась назад, сделала прыжок и уперлась руками в пол. Затем, подняв в такт музыки одну ногу, потом другую, и заставив дрожать обручи из жемчужин минот на лодыжках, стала вращаться, как будто вокруг невидимой оси. Казалось, эта поза доставляет ей невыразимое наслаждение.
В действительности выполнить вращение было неимоверно сложно.
— Ах, абрикос! — бросил один клиент.
Раздался взрыв смеха. Затем быстрым движением, подобно тому, как скорпион отбрасывает хвост, танцовщица выпрямилась и заняла прежнюю позицию, заставив дрожать все тело и жемчужины минот на лодыжках и запястьях.
Артистку благодарили бурными аплодисментами и медными кольцами, полетевшими к ее ногам. Шабака бросил два. Кто-то бросил даже золотые кольца, и танцовщица их быстро разглядела; зажав их между большим и указательным пальцем, она триумфально подняла их над головой, очаровательно при этом улыбаясь.
Последовала музыкальная пауза, и Несхатор воспользовалась этим, чтобы подойти к столу, за которым сидел чужестранец. Шабака был рассеян и не слышал их речей. Очевидно, Несхатор о чем-то спросила. Повернув голову, Шабака вдруг увидел, что ее лицо приняло напряженное, трагическое выражение.
— Он не придет, — произнес чужестранец.
— Почему? Его что-то задержало?
— Он не придет больше никогда.
— Но почему? — почти закричала хозяйка заведения.
— Он женился на Астарте.
— На Астарте? — переспросила она, наклоняясь к мужчине.
— Он умер, — сказал мужчина, характерным жестом проведя по своей шее.
Слезы брызнули из глаз Несхатор, и она быстро ушла. Шабаку увиденное сначала заинтриговало, а затем он ощутил смутную тревогу. Кто был тот человек, которого она ждала, и чья голова слетела с плеч? Возможно, он был одним из заговорщиков, которые попали под лезвие меча?..
В этот момент чужестранец перехватил его взгляд и стал смотреть на Шабаку бесстрастно, но с упрямством.
— Кажется, я видел тебя с регентом, — сказал он.
Шабака, не на шутку встревожившись, не ответил. В его голове промелькнула мысль о том, что танцовщица была сирийкой, что именно этот чужестранец привел ее в «Милый дом», что он тоже был сирийцем и что… Друг Сосенбаля? Апихетепа? Обоих?
— Ты только что видел одну из рабынь Сосенбаля, — снова заговорил мужчина. — Одну из тех, которых он обязан был продать. Сосенбаль — тебе не известно это имя? — Этот вопрос прозвучал одновременно и насмешливо, и оскорбительно.
— Чего ты хочешь от меня?
— Чего я мог бы хотеть от бабуина?
И он плюнул в лицо Шабаке. Перепалка привлекла внимание других клиентов. Нубиец встал, задыхаясь от гнева. Схватил свою чашу и выплеснул остатки содержимого в лицо сирийцу. Тот, в свою очередь, тоже поднялся и попытался сразить противника ударом кулака. Шабака уклонился от удара и направил свой удар в грудь противника.
Цистры и тамбурины стали играть громче, чтобы заглушить шум драки.
Сириец вытащил кинжал. Раздались крики, клиенты повскакивали с мест, чтобы растащить дерущихся. Прибежала Несхатор. Оба мужчины не собирались отступать. Сириец не выпускал из руки кинжал. Кто-то попытался его удержать, но он отбился и снова стал плевать в лицо Шабаки. Тогда тот ударил его ногой, и это вызвало крик боли у пострадавшего и заставило его согнуться пополам.
Без сомнения, кто-то из клиентов позвал охранников, всегда патрулировавших в этих местах, где часто случались неожиданные потасовки. На входе появились двое толстомордых охранников. Музыканты умолкли.
— Я — секретарь регента, — кричал Шабака, заглушая шум голосов. — Я вам приказываю арестовать этого человека и бросить его в тюрьму, пока Начальник охраны не решит его судьбу.
Мужчина пришел в ярость. Его передали охранникам, которые быстро скрутили ему руки.
Шабака ушел. Он не увидел выступления еще двух танцовщиц. В конечном счете, этот вечер плохо закончился для всех.
19
МАСКИ ЦАРЯ
Анкесенпаатон решила поговорить с Тхуту. «Что ты хочешь ему сказать?» — в один голос спросили Тутанхамон и Пасар.
Товарищ царя, Итшан, чье имя означает «Тысяча красавиц», слушал с серьезным видом. Допущенный к тайнам жизни царя, он хорошо знал, что от ушей больше пользы, чем ото рта.
Закат солнца сопровождался щебетаньем птиц. В саду можно было видеть носимые бризом облачка, переливающиеся всеми цветами радуги — там летало множество мошек. Сидя на террасе, трое молодых людей наслаждались прохладой, смакуя неразбавленное пальмовое вино с пряным вкусом, которое позволяло утолить самую мучительную жажду. Скоро должны были подать ужин. К ним собирались присоединиться Сеферхор и Сати, и после трапезы Тутанхамон хотел поиграть в шашки с Сеферхором, Рехмерой или Итшаном, в то время как Анкесенпаатон предпочитала игру «собаки и шакал»: вместе с Пасаром или Сати она будет колоть палочкой бегемота из голубого фаянса.
— Мы здесь как жертвенные животные. Нам ничего не сообщают, — вновь заговорила она. — Нам не известно, наказаны ли заговорщики.
Со времени ночного нападения иллюзия безопасности и беспечности жизни в Ахетатоне была разрушена. Визит Маху ничего не прояснил, кроме того, что к этому нападению причастны власти Фив. Но кто спланировал попытку убийства? И ради чего? Быть царем, царицей — и ничего не знать!
— Да, надо бы поговорить с Тхуту, — согласился Тутанхамон. — Но как мы доберемся до Фив? У нас нет корабля.
«Слава Амона» возвратился в Фивы сразу же после того, как доставил их в Ахетатон.
Упоминание о корабле пробудило в Анкесенпаатон воспоминание о той лодке, которая была у ее сестры и Неферхеру
[10] и позволила им спастись от ада.
Пасар вернулся к вопросу о корабле.
— Мы могли бы воспользоваться кораблем Управления финансов, который курсирует два раза в месяц.
Она размышляла над тем, что в Фивах ей неизбежно придется встретиться с Аем, которого она подозревала в организации попытки убийства. И эта перспектива ее совсем не привлекала.
«Я прекрасно все понимаю! — заявила она Пасару на следующий день после ужасной ночи кобр. — Он хотел убить Тутанхамона, чтобы вступить со мной в брак».
— Нет, — возразила она. — Нас некому будет защитить. — Она повернулась к супругу и, немного помолчав, добавила: — Напиши Тхуту, чтобы он приехал сюда. Тхуту — хороший человек. Полагаю, мы сможем поговорить с ним. Послания в Фивы отправляют каждую неделю.
Он покачал головой. Пришел Сеферхор, чтобы присоединиться к ним. Они поужинали и, как и было предусмотрено, закончили играть за час до отхода ко сну.
На следующий день письмо было готово, свиток старательно скрепили царской печатью, затем вручили начальнику гарнизона, несколько удивленному, так как послание такого рода ему доверили впервые.
Распечатывая послание, Тхуту испытал шок, ибо такое он тоже читал впервые. Он чувствовал себя виноватым. Как он не подумал о том, что после ужасной ночи, которую им довелось пережить, надо было поехать к ним, чтобы успокоить и утешить царскую пару? Но он вспомнил, что был поглощен организацией захвата дома Апихетепа, проверкой сил, способных противостоять Аю, и судебными процессами, которые за всем этим последовали. Он вздохнул: кроме Маху, у него не было доверенных лиц, да и тот побывал в Ахетатоне только в качестве Начальника охраны.
Ай только что вернулся с Праздника Долины и закрылся с Шабакой, вне сомнения, заставив того предоставить отчет о процессах. Тхуту решил не предупреждать его о своем отсутствии и велел незамедлительно снарядить «Мудрость Хоруса». Часом позже он уже был на борту корабля вместе со своим секретарем и писцом.
Маху говорил ему о том, что случившееся произвело на Анкесенпаатон сильное впечатление. Человека, имеющего влияние на царя, трудно было чем-то поразить. Но Тхуту растрогался.
Он окинул взглядом царя. Несомненно, тот выглядел менее болезненным, чем во время церемонии коронации. И ноги, и руки у него были теперь более мускулистыми, но при этом стала заметнее хромота, ранее приписываемая слабости ног. Невозможно было не заметить, что мальчик ходит вразвалку.
Тутанхамон решил провести собрание в Зале судебных заседаний Ахетатона, который не использовался вот уже почти четыре года. Он не сел на трон, так и стоявший на возвышении, пыльный, слегка облезший.
У Тхуту было впечатление, что мир перевернулся. Ни одного носителя опахала, Второй придворный рассеян, единственный писец ждет, когда ему прикажут приступить к своим обязанностям. В зале оказалось только три парадных кресла.
Перед ним предстали двое серьезных и печальных детей.
«Высшие божества, — подумал он. — Являлись ли они хозяевами Царства Тау?»
Он мысленно сопоставил массу интриг, измен и убийств, которые совершались на протяжении всей его карьеры, с образом этой царской пары, трогательной и беззащитной. Неужто все его тяжкие труды напрасны?
Вдруг его поразило лицо царя. Оно скорее напоминало маску, было ожесточенным из-за страданий, а взгляд, казалось, был обращен не на людей, а к божествам, которые руководят их судьбами.
Между тем Тутанхамон сразу же задал вопрос своему Первому советнику:
— Скажи, что известно об этом ужасном нападении, жертвами которого мы чуть не стали? Начальник охраны нам сообщил, что ты пытаешься найти виновников. Добился ли ты в этом успеха? Кто они такие? Наказаны ли они? Почему нас не проинформировали о результатах расследования?
Тхуту показалось, что это говорит Сменхкара. Умерший царь был для Тутанхамона образцом для подражания, юный царь перенял даже его интонации. Советник был взволнован.
Анкесенпаатон довольствовалась тем, что слушала, сложив руки на коленях.
— Государь, безбожный замысел, жертвой которого ты чуть было не стал, на самом деле оказался более масштабным и безумным, нежели это мог вообразить самый искушенный ум. У меня не было возможности раньше сообщить тебе об этом, ибо судебные процессы по этому делу закончились несколько дней назад.
Он вкратце рассказал о попытке захвата власти Апихетепом и результатах судебных процессов, умолчав все же о связи Ая с заговорщиком, а также о помиловании военачальника Нахтмина. На самом деле он не хотел, чтобы ненависть властвовала в царстве.
Царь и царица слушали его со всей серьезностью.
— Итак, в царстве над троном нависла опасность, — сделал вывод Тутанхамон.
— Наша бдительность воспрепятствовала бунту, государь.
— Такое уже случалось во время правления Сменхкары, — добавил царь.
Как он мог об этом знать? В то время ему было всего лишь восемь лет.
— Природа царской власти, как и всего сущего, несовершенна, государь. Часто властителей обуревают амбиции и жадность.
— Присутствовал ли на этих процессах регент Ай? — спросила Анкесенпаатон.
Вопрос прозвучал кстати.
— Нет.
— Почему?
— В тот момент он должен был возглавить Праздник Долины.
— А сейчас почему он не прибыл вместе с тобой?
— Он только что возвратился в Фивы, к тому же недопустимо оставлять царство без властителя.
Спасительная ложь… Тхуту чувствовал себя не вправе заставлять молодую пару испытывать всю тяжесть измен, махинаций и оскорблений, который обрушились на него за последние несколько недель. Но эта ложь не убедила молодую царицу: по выражению ее лица было видно, что она именно на Ая возлагала ответственность, в той или иной степени, за жестокое нападение ночью. И следовало признать, что отсутствие Ая выглядело не только странным, но, определенно, подозрительным. По возвращении в Фивы Тхуту решил сообщить об этом регенту.
Нарушив молчание, Тутанхамон спросил:
— Не мне ли надлежало возглавить шествие на Празднике Долины?
— Да, государь. Но мы посчитали, что это было бы сложным испытанием для тебя, подобным твоей коронации. Мы предпочли уберечь тебя от этого.
— Как долго вы намереваетесь, ты и Ай, удерживать нас здесь?
— Необходимо время, государь, чтобы твоя божественная особа смогла возложить на себя в полном объеме обязанности царя. Твое пребывание в Ахетатоне ничего не меняет.
— Но ведь это сделано для того, чтобы я со своей женой находился подальше от любопытных взглядов, не так ли?
Вопрос сопровождался пытливым взглядом монарха.
— Желательно, государь, чтобы взоры твоих подданных останавливались на тебе только тогда, когда твоя божественная особа будет на вершине своего великолепия. Я прошу твою божественную мудрость учесть то, что эта мера продиктована только соблюдением твоих интересов и интересов царства, слугами которого являемся мы с регентом.
Царь, нахмурившись, согласно покачал головой и прикрыл веки. Он, без сомнения, правильно оценивал свое состояние. Но его лицо-маска снова ожесточилось.
— Однако, — продолжил Советник, — тебя вскоре вызовут, чтобы ты возглавил очень важную, исключительную церемонию.
Он вдруг решил, что пора приступить к осуществлению того проекта, который вынашивал вот уже несколько дней.
— Какую?
— Это будет воззвание, государь. Воззвание ко всем почитать прародительские культы твоего царства.
Царь покачал головой.
— Что мы можем сделать для тебя, государь, и для твоей божественной супруги? — спросил Тхуту.
Царь задумался.
— Мы здесь как в заключении, — внезапно заговорила Анкесенпаатон. — Я прошу, чтобы в нашем распоряжении был корабль «Слава Амона». Тогда мы сможем, по крайней мере, совершать прогулки по реке. И сможем приехать в Фивы в случае необходимости.
От перспективы неожиданного прибытия царской четы в столицу Тхуту охватила дрожь. К тому же присутствие царского корабля у пристани дворца служило бы подтверждением слухов о пребывании здесь царя и царицы.
Наконец, Ай теперь распоряжался кораблем, на котором спускался на Праздник Долины. Но Тхуту не мог отказать этой паре в привилегии пользоваться кораблем. Он решил действовать иначе.
— Насколько мне известно, божественная царица, «Слава Амона» используется для всяких официальных мероприятий. Этому кораблю уже тринадцать лет. Поэтому я думаю предоставить в твое распоряжение один из недавно построенных кораблей.
Ее это устаивало. Прием был закончен. Ценой обмана, путем умалчивания Тхуту сберег спокойствие царской пары.
И потом, ему совершенно незачем было усложнять ситуацию рассказами о своей тревоге, о преследованиях преступников. Этим он бы только усилил беспокойство двух молодых людей!
Поднявшись на борт «Мудрости Хоруса», Первый советник пожалел о том, что не увидел загадочной Сати, на которую ссылался Маху в своем интригующем отчете. А ведь только благодаря ей и ее кобрам жизнь царя была спасена. Разумеется, она получила вознаграждение в виде ожерелья царской милости, состоящего из золотых дисков.
Но Советник продолжал пребывать в задумчивости: во все времена жизнь членов царской семьи и двора могла быть прервана с помощью ядов. Не просматривалась ли, таким образом, некая преемственность в том, что и сейчас помог яд кобры?
Состоялась первая встреча Советника и регента со времени драматической пробы сил. При этом присутствовали Хоремхеб и Маху. Тхуту опасался худшего.
Но он нашел, что Ай был достаточно приветлив. Блеск, с которым был проведен Праздник Долины, почести, которые ему оказала знать провинции, подарки как признание его превосходства, без сомнения, польстили ему. Успокоенный ощущением своего могущества, он, вероятно, решил, что жестокое противостояние с Первым советником и Хоремхебом было только временным.
Между тем он заметил вытянувшееся лицо Шабаки, сидевшего, как обычно, в углу зала.
— Итак, Советник, вот уже много дней, как мы не видели друг друга. Что случилось в мое отсутствие? Мне сообщили, что ты отправился в Ахетатон. Был ли ты принят, как подобает твоей особе?
Сколько бесцеремонности и лицемерия!
— Было необходимо официально справиться о благополучии царя и царицы после ужасной попытки убийства царя.
Это было напоминанием о приличии, которого требовал этикет царского двора.
— Ты правильно сделал, — сказал Ай.
— Следовало бы и тебе, регент, нанести визит с той же целью.
Похоже, это предложение не прельстило Ая. Он продолжил разговор:
— Как чувствует себя царь?
— Мне показалось, он стал сильнее и достиг большой зрелости ума.
— Что это значит?
— Что у него сложилось более ясное понимание целей нашего правления. Я ему рассказал о
событиях, которые были связаны с посягательством на его личность. Он понял, что враждебные силы взбудоражили царство. Без сомнения, он начинает понимать причину своего пребывания в Ахетатоне и значение внешнего вида божественного царя.
Отчет был преднамеренно поверхностным: Тхуту не упомянул о том, что молодой царь показался ему сильно изменившимся, лишенным той живости, которая была свойственна молодости.
— Стало быть, мальчик поумнел.
Холодная снисходительность вызвала у Тхуту раздражение.
— А ты, ты знаешь, что творится в царстве? Кое о чем Шабака мне вкратце рассказал, — продолжил Ай ироническим тоном.
— Именно так, я во многом разобрался, регент, — ответил Первый советник бесцеремонно.
Искал ли Ай повод для нового столкновения?
— Но что еще?
— Ты предусмотрел все возможные средства захвата власти, — устало ответил Тхуту, — и убрал всех соперников. Но люди не хотят отказываться от привычного. Подобно всем учрежденным органам управления, духовенство и армия не приемлют слишком сильных потрясений.
Это была самая мягкая форма описания положения в стране.
Ай долго качал головой.
— Теперь, — заключил Советник, — следует ублажить их, поступившись чем-то существенным.
— Признать официально возвращение древних культов, хочешь ты сказать? Хорошо, — одобрил Ай.
— Это надо будет сделать быстро. Апихетеп — далеко не единственный честолюбивый человек в царстве.
— Это очевидно. Представь мне свой проект.
Тхуту попрощался. Возвращаясь в свой кабинет, он ощущал, что его всюду преследует маска Тутанхамона. Что скрывалось за этой невероятной невозмутимостью, несвойственной мальчику такого возраста? Высшая мудрость? Или же удовлетворенное слабоумие? Если справедливо первое, как удалось мальчику обрести совершенное спокойствие души? А если второе, — как случилось, что никто не замечал врожденной слабости тела, которая восторжествовала также над разумом?
Неужели это была цена славы золотого мальчугана, который распутал столько интриг?
20
САДОВНИК ДОМА ЖИЗНИ
Обхватив тонкий ствол пальмы сильными ногами, мальчишка высоко забросил веревку, по которой собирался подниматься, и, схватив скользнувший вниз конец, прикрепил его к одному из выступов — очевидно, это был обрубок упавшей или отрезанной пальмовой ветви. После этого он подтянулся почти на целый локоть, используя силу ног, каждым пальцем вцепившись в шероховатую поверхность ствола и стремясь изо всех сил удержаться.
Под пальмой стоял, наблюдая за ним, писец, несколькими годами старше, с выражением интереса и тревоги на лице.
Мальчишка подбирался к вершине пальмы. Там он схватил большой нож, висевший у него на шее на ремешке, и срезал у основания ветку с финиками, ставшую предметом вожделения. Затем он сбросил ее вниз своему старшему товарищу, который схватил ветку на лету.
Мальчишка спускался быстрее, чем поднимался, но не забывал при этом использовать веревку.
Невзирая на то что он тяжело дышал от напряжения, у него был сияющий вид.
— Писцу не пристало выполнять такую работу, — сказал мальчишке его старший товарищ. — Для этого есть садовник.
Садовник как раз наблюдал за ними издалека.
— Я знаю, — ответил мальчишка, потирая руки. — Но у меня тогда было бы чувство, что я ниже садовника, если не умею сделать так же, как он.
— Посмотри, ты ободрал руки. У писца они должны быть гладкими.
— Я предпочитаю иметь менее гладкие, но более сильные руки.
Он оторвал от ветки один финик, обгрыз его и выплюнул косточку настолько далеко, насколько позволяло это сделать его учащенное дыхание.
— По меньшей мере три локтя! — воскликнул он.
Тот, что был постарше, принялся смеяться и гоже сорвал финик с ветки.
— Ты, может, еще собираешься стать плотником?
— Почему бы нет? Я люблю тренировать свое тело. Я уже сильнее, чем ты!
Он толкнул локтем товарища, который ткнул ему ветку с финиками в лицо.
Не прекращая смеяться, они зашли в дом, расположенный неподалеку от храма Амона в Карнаке, окруженный огромным садом, с которым соседствовала пальмовая роща.
Это был Дом Жизни.
При всех крупных храмах были Дома Жизни.
Рабочие комнаты писцов с первого взгляда производили впечатление мест, где властвует разум. Там не только переписывали религиозные тексты, их там и составляли. Следовательно, именно там находились люди окрыленные, способные управлять сердцами тех, кто не был достаточно просвещен, кому пот физических усилий застилал глаза, ослепляя их. Чеканили там не только слова, но и неосязаемое золото мысли, являющееся кровью богов.
В частности, в Карнаке копировали версию Книги мертвых. Это было очень выгодное занятие, приносившее хороший доход Домам Жизни. Даже неграмотные покупали экземпляры этой рукописи, считая, что она должна стать одной из погребальных принадлежностей, когда их уже не будет больше там, где эти книги читают глаза живущих. Самые богатые заставляли писцов читать ее вслух, за это они платили. Что касается грамотных людей, то почти все они знали ее наизусть.
Совершенствовали также в Доме Карнака надписи, использующиеся художниками и скульпторами, ибо чего стоит вечность камня, если на нем неумело отображено слово? По этой же причине там придумывали изображения для украшения храмов, часовен и гробниц. Никому не приходило в голову строить гробницу, не предоставив набросок в виде образов и иероглифов на рассмотрение писцам ближайшего Дома Жизни.
Создание образов, сочинение последних слов человека, составляющих завершающую главу его жизни, считавшихся единственно достойными быть открытыми Анубису, когда он явится величественной поступью, требовало много знаний, но одновременно и скромности.
Для этого надо было обладать знаниями о небе и земле: изучить теологию, мать всех наук, так как все науки являются только законами, предписанными богами, согласно их желаниям, но по наущению Верховного мастера знаний, Амона-Осириса. А также следовало знать астрономию, математику, архитектуру, металлургию.
Совершенно очевидно, что в Домах Жизни накапливались также медицинские знания. Наиболее процветающие Дома Жизни находились вблизи больших городов. Там имелись каталоги с описанием всего того, что было известно о каждой части человеческого тела и о каждой болезни, которая могла его поразить, обо всех возможных средствах лечения от этих болезней — с помощью растений, минеральных порошков, веществ животного происхождения и заклинаний.
Впрочем, именно в Доме Жизни возле Карнака вначале учился лекарь Тутанхамона, Сеферхор, а затем уже он применял на практике полученные знания.
Именно в Доме Жизни, находившемся в Фивах, некогда блистал Имхотеп, ныне обожествленный. Он ближе всех смертных подошел к знанию математики, наиболее чистой формы божественного промысла. Имхотеп был образцом для всех писцов царства на протяжении многих поколений.
В этом Доме был необычный писец. Его приятное и улыбающееся лицо не соответствовало воинственному имени Уджбуто, что значит «Дубина Буто». Ему было двадцать восемь лет. Необычным, собственно, было его занятие: в течение трех сезонов он наблюдал за растениями и ухаживал за ними, пропадая все свободное время в лекарственном саду.
С наступлением времени ужина, когда древний Ра, покидая землю, заставлял пламенеть горизонт, возле него усаживался мальчишка, умеющий лазать по деревьям. Он рассматривал его с дерзостью, присущей молодости, и его горящий взор свидетельствовал о том, что ему не терпелось поговорить.
— Я тебя слушаю, — сказал Уджбуто весело, достав пшеничный хлебец и положив на него маленький кусочек утки.
— Что ты делаешь в саду? Ты здесь работаешь с тех пор, как я пришел сюда, и, как мне говорили, ты и раньше этим занимался.
— Я изучаю мужчин и женщин.
— В саду?
Уджбуто рассмеялся.
— Все живые существа ведут себя одинаково, они повинуются одним и тем же законам. Растения же не перемещаются и не лгут, поскольку не говорят.
Мальчишка был заинтригован.
— Ты изучаешь мужчин и женщин, глядя на растения? Расскажи!
— Я тебе завтра кое-что покажу.
Писарь не забыл о своем обещании.
— Посмотри, — сказал мальчику Уджбуто на следующий день, указывая на клещевину высотой более десяти локтей. — Видишь ли ты желтые листы, готовые упасть с этого кустарника? Знаешь ли ты, почему они пожелтели? Да потому, что садовник чересчур обильно полил дерево.
— Но какое отношение это имеет к людям?
— У растений все происходит, как у людей. Они все нуждаются в воде, но если ты им дашь ее слишком много, они слабеют. И тогда у них начинают загнивать корни. Слишком изнеженные мужчины слабеют так же, как и те, кто выпивает слишком много вина, они теряют свою силу. Растение, которое ты поливаешь бережно, будет сильным, так же, как и мужчина, воспитанный в строгости, — это закалит его характер.
Мальчик казался задумчивым.
— Посмотри теперь на этот страстоцвет, — продолжил Уджбуто, указывая на лиану с бледно-розовыми цветами. — Природа сделала так, что у этого растения нет ствола, и оно не может расти иначе, кроме как цепляясь своими усиками за дерево или любой высокий и твердый предмет. Она подобна женщинам, нуждающимся в том, чтобы рядом был сильный мужчина, и тем мужчинам, которые не умеют существовать без питающей их власти, как, например, чиновники.
Мальчик расхохотался.
— Если ты понаблюдаешь за растениями, — продолжил Уджбуто, — то заметишь, как мало больших деревьев дают красивые душистые цветы. Цель их существования состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами своей высоты и создать лес. Некоторые из них живут много десятков лет, в то время как растения с большими цветами требуют постоянной заботы, могут пострадать от хищных насекомых и живут намного меньше.
— И как это надо понимать?
— Подумай немного. Какой ты из этого делаешь вывод?
— То, что нравится, не может длиться долго?
Теперь наступила очередь писца расхохотаться.
— Почти так. Люди, желающие блистать, оставляют после себя мало долговечного, в то время как те, кто продолжает идти своим путем, лишенные тщеславия, создают прочные и полезные творения.
— Но неужели ты полагаешь, что растения знают, что такое дисциплина и мужество?
— Именно эти слова мы используем для описания некоторых особенностей растений. Подойди, посмотри на эти опунции. Они дают сочные плоды, не так ли? Они — спасение для путешественников, которые находят их в самых засушливых уголках пустыни. Они не привередливы, их колючки отпугивают хищников, и они размножаются без помощи человека.
— Обладают ли они мужеством?
— Ты можешь это и так назвать. Они очень бережливы, что касается воды. Они сохраняют самую малую каплю и не испаряют ее. Таким образом, они могут выдержать засуху, которая доводит до изнеможения даже закаленного человека. А знаешь ли ты, что мужество сопротивления солнцу материализуется в их соке? Если ты сумеешь срезать один из этих крупных листов, не поранив себя колючками, и покроешь его соком кожу, обожженную слишком жарким солнцем, то быстро умеришь боль от ожогов.
Мальчик оставался задумчивым, он был восхищен услышанным. Уджбуто увел его в другую часть сада.
— Посмотри на эти маки, из которых мы извлекаем вещество, успокаивающее возбужденные души. Что ты можешь отметить?
Ученик писца внимательно посмотрел на большую поляну ярко-красных цветов и сделал вывод:
— Мне кажется, что некоторые растения выше других, и есть такие, что плохо растут.
— Ты наблюдательный. Растения не рождаются равными. Некоторые начинают развиваться из сильных семян, другие с трудом прорастают, получаются хилые ростки.
— Можно их удобрить?
— Да, но удобрение лучше использовать только для укрепления тех, кто уже силен и вряд ли позволит другим выжить. Хороший садовник выбирает ростки мощные, потому что их семена будут более плодовитыми.
— Это означает, что ничего нельзя сделать, чтобы помочь хилым растениям?
— Без сомнения, можно, но если взять в расчет время, которое нужно им посвятить, начинаем думать о том, что легче воспитывать, укрепляя имеющиеся достоинства.
Мальчишка становился все более и более задумчивым.
— Но, Уджбуто, мы же не растения! Считаешь ли ты, что мы можем изменить свою природу знанием?
— Конечно, — ответил писец, срывая на ходу сухие листья папайи, — знание всегда полезно. — Но оно только и способно, что укреплять слабых в сознании своей слабости и сильных в сознании своей силы. Оно, таким образом, подобно удобрению, и его необходимо использовать сознательно.
— Тогда мы ничего не можем сделать вопреки нашей природе? — спросил ученик писца, подразумевая, что все в жизни предопределено.
— Не так это следует понимать. Разумнее развивать данное природой. Напрасными были бы намерения куста роз возвыситься над баобабом, а смоковницы — благоухать, как жасмин.
— И когда ты видишь человека, то можешь сказать, баобаб он или розовый куст?
— Если я изучаю его поведение, то действительно иногда могу понять его суть, но не могу быть в этом абсолютно уверен.
— Почему?
Уджбуто некоторое время помолчал, прежде чем ответить. Затем с полуулыбкой сказал:
— Потому что человек иногда увлечен идеей, которая не свойственна его природе. Бывают мужчины-розовые кусты, которые берутся за дела мужчин-баобабов.
Мальчик посмотрел на него недоуменно.
— А я, Уджбуто, кто я? Человек-розовый куст или человек-баобаб?
Писец тихо засмеялся.
— Я могу ошибаться, но ты не являешься ни тем, ни другим. Ты мне скорее напоминаешь будущего мужчину-пальму, подобно той, на которую ты взбирался вчера. Ты гибкий, стойкий и сильный. Между тем, тебе надо будет обломать много пальмовых ветвей, прежде чем ты доберешься до ветки с финиками.
Ученик писца искренне рассмеялся, схватил руку Уджбуто и по-дружески потряс ее.
— Почему ты мне никогда не предлагаешь делать то, что делаешь с Пасаром?
Вопрос, прозвучавший на террасе во время послеобеденного отдыха, поразил Анкесенпаатон как камень, упавший с неба. Как Тутанхамон мог знать, что она делала с Пасаром? Она и ее любовник всегда соблюдали исключительную осторожность, занимаясь своими шалостями. Чаще всего они это делали ночью в помещениях для прислуги, давно уже пустовавших. И если случалось, что Пасар спал с нею, как в ту «ночь кобр», он украдкой уходил на рассвете и возвращался в свою комнату прежде, чем пробуждались домочадцы.
Пасар ушел осматривать корабль, предоставленный царской чете по требованию Анкесенпаатон, который этим утром причалил к пристани дворца — «Правосудие Маат». С высоты террасы она наблюдала за тем, как мальчик шагает по пристани и беседует с корабельной обслугой.
Эта картина навеяла ей воспоминания о Неферхеру, который полагал, что никто его не видит, когда он поднимался на борт своей лодки. На этой лодке около полутора лет назад он убежал из Ахетатона, спасая Меритатон и их сына от коварных властолюбцев, а возможно, и от смерти.
Вопрос Тутанхамона остался без ответа. Но Анкесенпаатон чувствовала, как взгляд супруга заставлял гореть ее щеки. Она повернулась к нему и от растерянности стала часто моргать. Она не собиралась ни лгать, ни протестовать; но она не считала необходимым признаться.
— Когда он с нами, я хорошо вижу, какие между вами отношения, — продолжил он. — Вам нет необходимости разговаривать. Вы и так понимаете друг друга, это очевидно.
Была ли это сцена ревности? Но никаких требований, никаких упреков Тутанхамон не высказал. Он говорил спокойно, почти бесстрастно, и его лицо-маска оставалось невозмутимым.
Именно маска. Со времени «ночи кобр» у него изменилось выражение лица. Черты стали не столь подвижными. Он теперь казался увереннее. А также часто подолгу интригующе молчал. О чем он думал, когда длительное время смотрел в пустоту?
— Я — твой муж, — произнес он. — Разве у меня нет права делать это?
Его право. Стало быть, это не приступ ревности; он требовал вознаграждения за согласие на присутствие и привилегии Пасара.
— Конечно, — наконец ответила она.
Не
«да», а
«конечно». Пропасть разделяла эти слова.
Да — это подтверждение права мальчика обладать ее телом,
конечно означало, что это само собой разумеется и что она этому не придавала особого значения.
Ощутил ли он разницу? Без сомнения, нет. Молния блеснула в глазах под маской.
К своему супругу Анкесенпаатон испытывала глубокую привязанность, привязанность сестры и матери, но только не влечение. Ей не были известны рассуждения Уджбуто, садовника Дома Жизни в Карнаке, но в ее тайном мире дерево Пасара несомненно доминировало над лианой Тутанхамона.
Один давал ей силу, другой ее отбирал.
Пасар беседовал с матросами, которые убирали парус. Он собирался к ним присоединиться.
— Конечно, — повторила она.
Тутанхамон покачал головой.
Все произошло в тот же вечер.
Он был ласков и щедр на неловкие поцелуи. Но он не знал не только женского тела, но даже приятных поз. И наоборот, она хорошо знала, что надо делать, она им управляла и не испытала никаких неожиданных ощущений. Он перешел к делу быстро. Она пыталась принимать участие, раз уж это происходило с ней. Также быстро он завершил свои усилия, издал крик и вскоре заснул. Очевидно, она испытала только неистовое волнение.
Она пребывала в задумчивости, взгляд ее кружил вокруг масляного светильника, тени от которого танцевали по всей комнате. Разумеется, этому мальчику покровительствовал Уаджит, но не Хатор.
К счастью для нее, это не был один из ее плодоносных дней.
«Я родила бы на свет карлика, — произнесла она про себя, прежде чем отдаться во власть подступавшему сну. — И он был бы принцем. А я, царица ли я на самом деле?»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КРОВАВАЯ ДОРОГА
21
ЦАРЬ-БАБОЧКА С БРОНЗОВЫМИ КРЫЛЬЯМИ
По прошествии нескольких дней после визита Тхуту с борта «Мудрости Хоруса» сошел представитель Первого советника в Фивах.
В тот день Тутанхамон и его соученик Итшан, которого он взял с собой в ссылку, отдыхали, позанимавшись гимнастикой и борьбой. Во время этих опасных занятий Итшан проявлял должное почтение к царю. Будучи юношей крепкого телосложения, он был обязан под контролем Сеферхора обучать царя оказывать сопротивление противнику, который мог схватить его за плечи или даже — неслыханное преступление! — сбить с ног. Сотни раз ему приходилось сдерживать свою силу, чтобы не отбросить партнера-царя на другой конец зала. Оба мальчика отдыхали на террасе, пробуя напиток, изготовленный по рецепту Сеферхора из меда и пальмового вина, разбавленного водой с добавлением настоя роз.
Анкесенпаатон и Пасар играли в «собаку и шакала». Сати гуляла с кобрами в саду, наводя на садовника священный ужас.
Представитель вручил Второму придворному два папируса в футлярах и тот поднялся на террасу, чтобы, в свою очередь, передать их Тутанхамону. Первый папирус информировал его величество о том, что Хоремхеб назначен командующим. Затем следовали похвальные слова в адрес военачальника, имевшего давние связи с царской семьей.
Во втором папирусе сообщалось о том, что Царский совет высказал пожелание царице согласовать свое имя с именем супруга и отныне именоваться Анкесенамон.
— Атон, Амон, — бормотала она, когда Тутанхамон сказал ей о послании.
Солнечный Диск, обожаемый ее отцом до умопомрачения, не внушал ей никакого особенного уважения. Могло ли изменение имени сделать ее другой?
К тому же богов было много. Который из них должен был умолять женщину, чтобы она пожелала ребенка от своего мужа? Фаллический Мин в странном плотно облегающем одеянии или безобразная Туерис с глупой улыбкой бегемота? Тому, кто хотел передать послание, требовалась помощь писца. С тех пор как она начала размышлять над этими вещами, а особенно со времени смерти своего отца, она стала смутно ощущать, что на самом деле есть только один-единственный бог, как некогда написал писец о том, что сказал ему учитель во время урока:
Ты не прекращаешь извлекать
Миллионы форм из себя самого.
Продолжая существовать в своей целостности.
При оповещении послания Царского совета она подавила в себе желание пожать плечами, так как за ней наблюдали Второй придворный, единственный служащий царского дома, пребывающий в Ахетатоне, Сеферхор и Итшан.
— Командующий… что это значит? — спросил царь своего лекаря Сеферхора, который был достаточно зрелым и опытным человеком, чтобы знать, что это за звание, к тому же он был одним из немногих приближенных царской четы. Ситуация была парадоксальной: царь не знал, какова роль его командующего.
— Государь, в действительности это означает, что он является заместителем регента.
Анкесенамон выразила удивление. Ай согласился, таким образом, с тем, что будет с кем-то делить власть? Как Тхуту удалось навязать ему это решение? Она стала думать о Советнике. Очевидно, в нем больше силы, нежели она предполагала.
В действительности тройной преступный замысел Апихетепа убедил Тхуту в том, что у него не было выбора: для предотвращения опасности, угрожавшей царству, молчаливой поддержки духовенства и армии было уже недостаточно. Нужно было предпринять что-то кардинальное. Впрочем, Ай, пыл которого охладили недавние потрясения, потерпевший поражение в столкновении с Первым советником и, более того, в душе уже пресытившийся регентством, казался теперь безучастным ко всему. Он напоминал шакала, который раздирал добычу вместе с собаками, но перед этим съел ягненка и был занят в основном его перевариванием. Он оказывался странно неэффективным на свету; он выжидал, подыскивал объяснения, лукавил.
Назначение своего зятя он принял довольно спокойно. В конце концов, в случае необходимости армия защищала от происков мятежников и его тоже.
Сразу же после назначения Хоремхеб занял дом в Фивах и принялся осуществлять план, который вот уже три года ждал своей очереди: он занялся реорганизацией армии. Целыми днями он сидел в своем кабинете вместе с казначеем Майей. Они решали вопросы набора наемников, закупки колесниц и оружия, восстановления хозяйственных служб и казарм, определяли регулярное жалование, полагающееся помимо трофеев.
Наконец страна начала перевооружаться.
Только несколько злых духов беспутной ночью в трактире подтрунивали над тем, что следует ожидать прихода царя-бабочки, раз вооружаются бронзой. Шутка, попавшая с доносом разведывательных служб Маху, вопреки своей непочтительности, рассмешила Долину: Хорус, представ в облике ястреба, проглотил муху, но из-за несварения желудка его стошнило. Освобожденная муха сказала ему:
— Я не знала, что боги едят мух.
Хорус ответил:
— И я не знал, что цари бывают мухами!
Но насмешники никогда не смогли бы взять верх над теми, кто превозносил царя, иначе об этом бы узнали и смеялись еще больше.
Были созваны начальники гарнизонов Фив, Мемфиса и других городов, в том числе явился и военачальник Нахтмин. Официально цель собрания состояла в том, чтобы решить вопрос стимулирования командиров. В действительности речь шла о том, чтобы донести до высших военных чинов, какова новая политика царства, и заручиться их поддержкой. Со времен правления Эхнатона, то есть в течение шести или семи лет, руководство армии пребывало в неопределенности; царство напоминало ему лодку, плывущую по течению. Они долго пребывали в страхе, опасаясь любого нападения — никогда Две Земли не были настолько уязвимы. Враги, которые явились бы со стороны Синая, чтобы захватить Нижнюю Землю, лишили бы их податей от подчиненных территорий в Азии, среди которых несколько уже пали. К тому же мощь армии сильно зависела от золота, серебра, меди, олова и крепкой древесины, поставляемых из этих территорий. Помимо того, все вооружение получали из Сирии. Лишившись дееспособной армии, царство разрушится.
Точно так же, если бы в стране Куш, которая охранялась в настоящее время гарнизонами царя, начался бунт и была захвачена Верхняя Земля, страна оказалась бы разорванной пополам, а значит разоренной, и это, опять же, привело бы к крушению царства.
Узнав о том, что один из военачальников, причем наиболее известный, Хоремхеб, отныне возглавляет армию и, более того, принимает срочные меры по восстановлению ее могущества, эти командиры были непомерно счастливы. Такому командующему они согласны были оказать всестороннюю поддержку. Армейское братство было выше распрей и соперничества, к тому же военных объединяли общие цели. Хоремхебу удалось вдохнуть новую силу в армию — с севера до юга.
Это стало заметно даже по лицам солдат на улицах; в течение многих месяцев они бродили с видом нищих, выжидающих возможности кого-нибудь ограбить, и вдруг стали ходить, выпятив грудь, и улыбаться девушкам.
Тхуту, которому были поданы на рассмотрения эти решения, испытывал противоречивые чувства: с одной стороны, эти предложения исходили не от него, но, с другой стороны, он не мог их не поддержать. Очевидно, Хоремхеб предоставил ему эти решения только из вежливости, не ожидая от него никаких препятствий. Наконец кто-то со знанием дела ставил перед властью вопросы, которые сам не мог решить. Некоторые правители находили эту власть даже диктаторской.
Первый советник пошел еще дальше.
— Командующий, ты восстановил одну из опор монархии. Остается еще одна, — заявил он ему.
Хоремхеб устремил на него вопрошающий взгляд — другой опорой было духовенство. Итак, ему предлагали взяться за то, что входило в сферу деятельности Советника.
— Я добился их поддержки, насколько это вообще было возможно, — сказал Тхуту. — Надо теперь скрепить этот союз.
Он поднялся и стал шагать взад-вперед по кабинету.
— Мы не можем больше допускать, чтобы трон принадлежал царю-призраку. Каким бы он ни был, его надо будет показать народу.
— Уже была попытка. Ты видел результат, — возразил Хоремхеб.
— Это так. Но если именно царь вернет власть духовенству и займется восстановлением храмов, критика отпадет. Негативное отношение верховных жрецов было также продиктовано их предубежденным отношением к Эхнатону и его семье, а не только физическими недостатками царя. Когда предубеждения будут стерты, им ничего не останется делать, кроме как отмечать достоинства царя.
Поразмыслив, Хоремхеб заулыбался.
— Мы собираемся начать с воздвижения стелы в знак восстановления забытых дедовских культов. Она будет торжественно открыта царем.
Хоремхеб покачал головой.
— И я прошу тебя составить воззвание, командующий.
— Меня?
— Ты можешь взять в помощь одного из писцов Дома Жизни в Карнаке.
— Хорошо, Советник, — сказал Хоремхеб.
Он спросил Тхуту взглядом: «Ты готовишь свой уход?»
— Нет, — ответил Тхуту, вновь садясь на свое место. — Я еще могу быть полезным.
Но его взгляд говорил о многом.
— Ты мне полностью доверяешь? — спросил Хоремхеб.
Тхуту покачал головой.
— Тогда не хочешь ли ты поговорить о царе?
«У этого военного, решительно, тонкий ум», — подумал Тхуту.
— С тех пор как я увидел его в Ахетатоне, — произнес он наконец, — я не прекращаю думать о выражении его лица. Не лицо, а маска. Странно застывшее лицо.
— Ты опасаешься, что он стал бесчувственным?
— Я опасаюсь, чтобы он не оказался малокровным, как его братья, — прошептал Тхуту чуть слышно.
22
СТЕЛА И СУМАСШЕСТВИЕ
На девятнадцатый день четвертого месяца Ахета, с которого начинался сезон Паводка, необычная и многочисленная толпа собралась у храма Карнака, на противоположном Фивам берегу. Там было порядка трех тысяч человек — военные и гражданские чины, высокопоставленные лица двора и царства, верховные жрецы и жрецы рангом ниже, знать вместе со своими женами.
Более сотни кораблей, великолепных и более скромных, зафрахтованных для этого случая, были пришвартованы перед храмом.
Все не могли поместиться в большом зале с колоннами. Предусмотрев эту ситуацию, Хоремхеб отправил триста конников с заданием сдерживать толпу и создать барьер на проходе между пристанью и храмом.
Царь находился в зале перед большой стелой. Хумос, Ай и царица держались позади него, за ними — Хоремхеб и Тхуту. Затем стояли вторые и третьи жрецы, многочисленные писцы, чиновники, знатные особы. Среди женщин Анкесенамон заметила свою тетю Мутнехмет и супругу Тхуту, нарядившихся так, что стали похожи на статуи Исис.
Жертва уже была принесена на алтаре перед изображением Амона.
Царь потянул за шнурок, который удерживал большой кусок желтого льна.
Появилась стела.
Она находилась под полумесяцем арки, а слева и справа стояли цветы и другие подношения богу Амону и богине Мут.
Верховный жрец приблизился к стеле и начал торжественную речь:
Год первый, четвертый месяц Ахета, девятнадцатый день, во времена его величества Хоруса, Мощного Быка, радуясь рождению двух Богинь, Исполнитель Закона, который господствует в Двух Землях, Хорус золотой, в приятном виде и радует богов.
Сын Ра, любимец Амона, Тутанхамон, правитель Гелиополиса Юга…
Последовало перечисление всех титулов царя, который слушал с застывшим лицом, более бесстрастным, чем когда-либо. Его величали «хорошим сыном, сыном Амона, сыном Камутеф», что означало «Бык своей Матери», называли Хорусом и определили как «святое яйцо, созданное Амоном, отец Двух Земель» и другими божественными званиями.
Он настоящий царь, который сделал то, что хорошо для его отца и всех богов. Он восстановил все то, что было превращено в руины, и это станет памятником ему навсегда и навечно. Он победил хаос на всей земле и вернул Мут на достойное место. Он объявил ложь преступлением, и вся страна стала такой, какой была в день создания…
Анкесенамон слушала этот странный текст, впав в оцепенение: сочинитель говорил, что царь сразу после прихода к власти с радостью начал осуществлять задуманное, собираясь отменить зло во всей стране и «заставить снова зацвести руины», превращая их в памятники вечности.
«Он?» — спросила она себя недоверчиво и встряхнула головой, чтобы вырваться из умственного оцепенения.
Когда его величество стал коронованным царем, храмы и земли богов и богинь от Элефантина до болот Нижней Земли были в руинах.
Их алтари были разрушены, превратились в развалины и поросли травой…
«И как он об этом узнал?» — подумала она. Вне Ахетатона он был только в Фивах! Кроме того, она не находила, что храмы Карнака были похожи на развалины.
…Их святилища, казалось, не существовали никогда, через их храмы проложили дороги. Народ был неуправляем, и боги повернулись спиной к этой стране…
Зачем же все так преувеличивать! Почему же боги снова обратили на них свои взоры? И в ночь кобр — это тоже была благосклонность богов? Она посмотрела на Ая и заметила его стеклянный взгляд. Может, вокруг нее были одни мумии?
Если бы армия была послана в Джаху[11] чтобы расширить границы страны, ей бы не сопутствовал успех. Если бы вы спросили совета у бога, он бы вам не ответил, и если бы вы обратились к богине, она бы тоже не ответила. Сердца слабели в телах, потому что все то, что существовало, было разрушено. По прошествии нескольких дней после этого его величество поднялся на трон своего отца и стал управлять обоими берегами Хоруса,[12] Черная земля и Красная земля оказались в его власти, и вся страна склонилась перед его могуществом…
Она удержалась от возгласа. Услышала легкое покашливание сзади и повернулась: Тхуту строго смотрел на нее.
Его величество был в своем дворце, который находится в Аахеперкаре,[13] подобно солнцу на небе, и его величество выполнял все то, чего Две Земли требовали каждый день. Затем его величество спросил свое сердце и разыскал то, что было бы полезно для его отца Амона…
«Я сойду с ума!» — говорила она себе. Но он никогда не был в Мемфисе! Все это чистые выдумки! Было странным также то, что сочинитель этого текста датировал его первым годом правления ее супруга, в то время как шел уже второй год. Она решила больше не слушать, посмотрела на потолок, затем на ноги, и снова покашливание сзади напомнило ей о необходимости соблюдать приличия.
Он велел сделать величественную статую, каких не было никогда прежде. Он представил своего отца Амона в виде статуи святого высотой тринадцать палок,[14] инкрустированной лазуритом, бирюзой и другими благородными и ценными камнями…
«И где же эта изумительная статуя?» — заинтересовалась она, ошеломленная такими подробностями.
Все это продолжалось больше часа. У нее чуть не началась истерика, когда сочинитель стал уверять, что царь заставил строить новые лодки бога из лучшего дерева и покрывать их золотом. И все это было выгравировано на камне!
Ее не интересовало, что сочинил текст стелы Хоремхеб, просвещенный человек, который в молодости учился в Доме Жизни. Там он постиг мудрое правило:
Если ты недоволен реальностью,
преобразуй ее в новую.
Если ты этого не можешь сделать,
измени себя самого.
Используя непочтительные термины, можно было бы сказать иначе: «Лги до тех пор, пока не окажешься прав». Ее не интересовало, что ложь, запечатленная на стеле, была программой реформ. Она не училась в Доме Жизни, так как женщин туда не брали.
«А он, — подумала она, — что он думает обо всех этих изобретениях? Неужели он хочет начать свое правление с такого невероятного хвастовства?»
…Его величество, который является таковым от своего отца Осириса, сыном Ра, сыном, который поклоняется тому, кто его породил, щедрым создателем памятников, творящим чудеса, прообразом своего отца Амона.
Речь была закончена. Помощники расслабились. Предусмотрены были банкеты в храме, во дворце, у Первого советника. В Фивах все должны были ликовать. Людям раздавали зерно и вино. На улицах появились музыканты, танцоры и танцовщицы. Пригласили певцов. Наступала белая ночь.
Тутанхамон повернулся к своей супруге. Лукавый взгляд, который она на него направила, неожиданно застыл, она оцепенела. Перед ней была маска. Остановившийся взгляд, высокомерная, словно специально подобранная улыбка. Он поверил в то, что услышал. Он поверил в тот образ, который описали придворные! У Анкесенамон кровь застыла в жилах. Болезнь семьи дала о себе знать.
— Пойдем, — сказал он ей высокомерным тоном, как будто действительно был воплощением Амона.
Она повернулась и заметила серьезное выражение лица Тхуту. Он гоже понял? И почему Мутнехмет выставила напоказ эту циничную полуулыбку?
Она расположилась рядом со своим царственным супругом и, соблюдая церемонию, прошла к выходу размеренным шагом, не преминув заметить хромоту мальчика, который двигался, опираясь на высокую трость.
23
НАЧАЛЬНИК КОНЮШЕН
Фраза упала, как метеорит, в зале дворца Ахетатона, где после ужина царь играл в шашки с Пасаром:
— Ты — мое истечение.
Итшан это услышал. Рехмера также.
И, очевидно, Анкесенамон. С бьющимся сердцем она подняла глаза от свитка.
— Ты — испарение моего тела. Несомненно, ты будешь прославлен в соответствии с твоим рангом.
Со времени коронации прошло более двух лет. Тутанхамону исполнилось двенадцать лет, Анкесенамон четырнадцать, Пасару было около пятнадцати. Царская чета уже не была настолько изолирована, как в течение первого года их так называемого правления. Действительно, со времени установления стелы Реставрации Тутанхамон часто посещал разные места царства, чтобы торжественно открыть работы по благоустройству и расширению того или иного храма, по установке статуй Амона, Пта, Осириса, Маат, Мут и других богов. После десятилетий покоя Две Земли ощутили несколько подземных толчков — судороги Апопа, как называло их духовенство. Несколько строений были повреждены, другие обрушились; архитекторы, бездельничавшие уже многие годы, возобновили работу, тысячи рабочих и рабов трудились по всей Долине. Были повреждены статуи, и скульпторы также приняли участие в их восстановлении. Назначались новые жрецы, снова перераспределялись земли.
Получив согласие Хоремхеба, Тхуту тайно велел отчеканить несколько барельефов во славу Атона для Фив и Мемфиса. Храмы Атона были снова освящены, хотя во время поездок управители, которые сопровождали царя, искусно проводили юного монарха мимо этих отступнических мест.
На самом деле официальное отречение от культа Атона еще не было провозглашено.
Тутанхамон выполнял свои обязанности по мере сил. Он воспринял речь у стелы Реставрации буквально. Ни один бог не был оставлен им без внимания. Отныне его время было разделено между группами архитекторов и скульпторов.
От такого заявления Пасар застыл.
Анкесенамон ему сообщила, что после трех или четырех столь же жалких попыток, как и первая, царь отказался от своих супружеских прав. Он слишком хорошо осознал свою непригодность выполнять такого рода обязанности, и если у него возникала в этом потребность, несколько возмущенных вздохов его супруги подтверждали ему эту непригодность.
Он не был способен к продолжению рода, не говоря уже об удовольствии.
Выход из затруднительной ситуации был предложен самой Анкесенамон. Итшан и Тхуту сумели скрасить пребывание царя в Долине с помощью нескольких наиболее опытных и соблазнительных проституток. Их приводил в его комнату Хранитель гардероба. Иногда их быстро спроваживали без всяких церемоний, но бывали дни, когда они выбивались из сил, угождая животным инстинктам его величества.
— Целый час ради одного чиха! — осмелилась заявить одна из этих несчастных Хранителю гардероба, который передал это Тхуту, а тот в более деликатных выражениях сообщил об этом царице.
Царь возложил те свои обязанности, которые касались тела царицы, на Пасара. Получалось, что последний занимался любовью по доверенности, стараясь всячески угождать царице.
И вот произошла официальная передача полномочий. Так как Пасар занимался любовью с царицей, он был его истечением.
— Я начну с того, что прославлю твоего отца, — сказал он, двигая шашку на доске.
Пасар не растерялся.
— Это огромная честь, государь.
— Твой отец Гуя прежде работал во дворце, как мне сказали.
Анкесенамон не могла больше прочесть ни одного слова. Тутанхамон предварительно навел справки об отце Пасара.
— Он был писцом наместника страны Куш, Мериме, назначенным твоим августейшим отцом Аменхотепом Третьим, — сказал Пасар.
— Он был посланцем государя во всех землях, — уточнил царь. — И его отец был начальником таможен моего отца.
Анкесенамон была изумлена. Скоро пять лет, как они знали друг друга, но Пасар никогда не рассказывал ей ни о своем отце, ни о своей семье. Случайно она узнала имя его отца. Скромность или скрытность заставила Пасара не афишировать отношения со своей любимой и свою преданность ей с того памятного дня, когда ему была вверена обязанность носителя камня в качестве предостережения.
[15] Опасался ли он прослыть лицом заинтересованным? Никогда он не просил другой милости, нежели принадлежать той, кем была тогда эта девочка, Анкесенпаатон.
Между тем разоблачения, которые она только что услышала, открывали ей возможную причину преданности Пасара: если его отец был высокопоставленным чиновником Аменхотепа Третьего, следовательно, преданность царской династии была наследственной в его семье.
— Тхуту мне рассказывал, — продолжил Тутанхамон, — что Гуя занимал место между носителями опахала, справа от моего отца. И он был Храбрецом его величества в коннице моего брата Эхнатона.
Сконфуженный Пасар бросил украдкой взгляд на Анкесенамон; у нее были широко открыты глаза: оказывается, ее любовник принадлежал к богатой семье царства. Он с трудом сосредоточился на игре.
— Я решил, — заявил Тутанхамон, «съев» шашку противника, — что твой отец будет моим посланником в стране Куш. Мы так постановили с моим Первым советником.
Нет, уже больше не походило на то, что в комнату упал метеорит, пожалуй, с небес свалилась луна.
— Ты будешь Начальником моих конюшен. Ты больше не играешь?
— Государь… — бормотал Пасар. — Столько почестей…
— Ты человек благородных кровей. И ты — мое истечение.
— Позволь, государь, поцеловать твою руку.
Тутанхамон протянул свою тонкую нежную руку над игровой доской, и Пасар ее поцеловал.
— А что по этому поводу говорит регент? — спросила Анкесенамон, поднявшись.
— Он с этим полностью согласен.
Анкесенамон подумала о том, что Ай и Гуя на самом деле должны были знать друг друга уже давно. Она задумалась над тем, не является ли это назначение продуманным ходом регента, или Первого советника, или их обоих. Но ей трудно было это представить. Возможно, они хотели удалить от нее Пасара?
— И Пасар уедет в Куш? — спросила она.
— Нет, так как он — Начальник моих конюшен.
Она мимоходом отметила, как символично, что ему досталась именно должность Начальника конюшен, и была настолько озадачена, что не могла соединить эти две идеи вместе.
— Все это вызвало у меня сильную жажду, — сказала она.
И велела слуге принести им пива.
— Если ты больше не играешь, — заявил Тутанхамон, — значит я выиграл.
— Простите, государь, — сказал Пасар, возвращаясь к игровой доске.
Анкесенамон вспомнила об их с Пасаром шалостях в окрестностях северной части дворца. Казалось, что это происходило давным-давно. Теперь, когда этим отношениям придали официальный характер, их у нее словно украли.
Вступление Гуя на должность произошло двумя неделями позже в Фивах. Анкесенамон удостоверилась в том, что ее супруг задействовал не только Главного распорядителя церемоний, Уадха Менеха, но и все службы регента и
Первого советника.
Церемония началась в большом Зале судебных заседаний. Находясь на таком возвышении, что падение оттуда было бы смертельным, царь и царица сидели под балдахином на тронах, отделанных электрумом.
Ай восседал на третьем троне, стоящем перед ними на более низком возвышении между двумя носителями опахал. По сторонам царских тронов стояли Тхуту, Хоремхеб и Майя.
По этому случаю на Тутанхамоне было просторное одеяние из льна, заложенного в складки, из-за чего он казался полнее, чем когда на нем была набедренная повязка. К поясу за спиной был прикреплен хвост пантеры. Он настоял на том, чтобы Анкесенамон надела, как и он, полностью позолоченные сандалии. И самое главное, он надел торжественную корону голубого цвета, ту, что называли «военным шлемом». В одной руке он держал одновременно скипетр и цеп, знаки царской власти, а в другой — анх, крест жизни. Несмотря на то что теперь он всегда относился к своим обязанностям очень ответственно, в том числе и к организации церемоний и их оформлению, Анкесенамон была удивлена тем блеском, с которым Гую вводили в должность. Что это могло бы означать?
Она взглянула на него: как всегда, перед ней была бесстрастная маска.
«Но кто же скрывается за этой маской?» — размышляла она. Она считала, что знала мальчика, когда он был только робким принцем, но теперь он становился для нее загадкой.
По обе стороны просторного прохода молчаливо, в торжественных одеяниях стояли чиновники, придворные и другие высокопоставленные особы.
В первом ряду стоящих с правой стороны Анкесенамон заметила двух пожилых женщин с гордой осанкой, на каждой был сверкающий нагрудный крест, золотые браслеты, сандалии, украшенные камнями. Она решила, что это, должно быть, Унхер, мать Гуи, и Таемуадхису, мать Пасара. Неужто они добились этой милости ее мужа? Или это были не те, о которых она думала? Она была заинтригована.
Зычным голосом Уадх Менех сообщил о прибытии Гуи. Вошел отец Пасара, также в длинном одеянии из льна, заложенного в складки. Она внимательно его рассматривала. «Пасар через тридцать лет», — сказала она про себя. По такому случаю у него было непроницаемое выражение лица.
Следом за Гуем вошли два его сына — у Пасара был старший брат. Затем помощники Гуи. Все шли согнувшись, со склоненными головами.
От имени царя Гую вышел встречать Майя. Он заявил Гую:
— Тебе передается местность, простирающаяся от Нехена до Несут Тау.
[16]
— Пусть Амон, покровительствующий Несут Тау, сделает так, чтобы все, что ты приказал, осуществилось, о государь, мой повелитель, — ответил Гуя.
После этих слов помощники стали нараспев произносить:
— Ты — сын Амона. Пусть он сделает так, что к тебе придут правители всех стран, неся свои дары.
Анкесенамон пыталась перехватить взгляд Пасара. Но в этот момент Майя торжественно протянул золотое кольцо, символизирующее ответственность Гуи, и оба его сына внимательно следили за заключительной частью церемонии возведения в сан.
Ее охватили новые сомнения. Она не решалась предположить, что Тутанхамон организовал всю эту церемонию, только чтобы утвердить Пасара как ее любовника. Участвовал ли в этом Тхуту? И Майя? Нет, наверняка была другая причина, более серьезная.
Новый наместник царя снова рассыпался в благодарностях царю.
«Наместник…» — размышляла она. И внезапно ей все стало ясно. Аю дали в помощь заместителя регента, а Тутанхамону — наместника. Все было именно так! Теперь Ай опирался на армию, а Тутанхамон получал доходы из Куша в виде золота, слоновой кости, древесины, рабов. Как она об этом не подумала раньше!
Новый наместник бросил последний взгляд на своего господина и вышел из зала, а затем и из дворца, сопровождаемый членами своей семьи и многочисленными высокопоставленными особами. Снаружи звучали здравицы служащих, которые его ожидали. Все эти люди сопровождали его до пристани.
Там он поднялся на борт роскошного корабля с кабиной на корме для него и сопровождающих и еще одной кабиной для его лошадей в носовой части корабля, за скульптурой царя, подчиняющего себе Чернокожего. Певица воспела его великолепие, и он велел поднять парус, чтобы наконец отправиться в удивительную страну Куш. Ему вменялось в обязанность отправлять оттуда золото, медь, слоновую кость, драгоценные камни, эбеновое дерево, рабов и скот, которого было много в этой завоеванной стране.
Анкесенамон могла снова увидеть Пасара только вечером, но, вероятнее всего, на следующий день. «Начальник конюшен», — повторила она про себя.
Когда зал опустел, Итшан, ставший Первым секретарем царя, помог ему спуститься по ступеням, забрав у него символы царской власти, после чего протянул ему трость.
Получив трость, царь больше с ней не расставался, так как она помогала ему увереннее передвигаться. Это была не обычная палка, а достаточно длинная трость с изогнутым концом, ручка которой была украшена горестными лицами Сирийца и Чернокожего, традиционными врагами царства.
Внезапно, когда Анкесенамон спускалась с возвышения, ухватившись за руку, протянутую Первой придворной дамой, ее осенило: этот мальчик, который был ее супругом, все предусмотрел. В том числе и супружескую неверность. Он даже предвидел, каким станет он сам: царь, сын божий, все существование которого сводилось только к участию в непрерывных торжественных церемониях и представлениях. Но он был очень хитрым: он обеспечил себя источниками, с помощью которых будет удовлетворять свою тягу к роскоши.
Она посмотрела на Ая, который беседовал со своим секретарем, а затем присоединился к Тутанхамону. Старому шакалу предстояло придумать, как лучше загрызть кролика.
И она поняла, что Тутанхамон не простил ему смерти Сменхкары. Он ему никогда ее не простит.
24
НЕСКОНЧАЕМАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Иногда во снах являются близкие люди, но их поведение бывает настолько невероятным, что это вызывает у спящего тягостное ощущение; он внезапно просыпается и начинает опасаться того, что кошмар является предзнаменованием чего-то ужасного. Неужели заболеет или умрет близкий человек?
Точно так видение Тутанхамона вырвало Анкесенамон из сонного состояния. Ей приснилось, что он сидел перед ней, совсем один, и играл в шашки, а его окружало огромное и мрачное пространство. Она резко села в постели, и тут же проснулся Пасар.
— Что случилось? — спросил он, положив руку на руку своей госпожи.
Она рассказала ему о сне, добавив:
— А что, если он умрет?
— Он не может умереть. Он уже мертвый.
— Как?! — воскликнула она.
— Разве ты этого не видишь? Его немощное тело неживое. Его взгляд — это взгляд посмертной маски. В нем нет никакой страсти. Когда я вижу, как он ест, у меня иногда создается впечатление, что он глотает не пищу, а раскрашенный гипс, который кладут в гробницы для якобы приемов пищи душами умерших. Он превратил свое существование в нескончаемую похоронную церемонию.
— Замолчи, — сказала она неуверенно.
Но большей частью это было правдой, в глубине души она это знала. Во взаимоотношениях с супругом больше не было места ни волнениям, ни другим человеческим чувствам: все встречи проходили будто по ритуалу, и как только что-то начинало происходить не по правилам, впрочем, установленным им самим, он становился немым, выражая свое неодобрение молчанием. Во время их первой встречи, утром, он неизменно спрашивал у нее:
— Хорошо ли спалось моей божественной супруге?
Иногда раздраженная тем, что мальчик в возрасте двенадцати лет был до такой степени церемонным и так мало в нем было непосредственности, она говорила, что ее беспокоили комары или что у нее плохо с пищеварением, даже если это было не так. Но он держал маску каменной невозмутимости, не отвечая и не предлагая никакого утешения.
Она знала: бесполезно сообщать ему о чем бы то ни было, что не соответствовало определенному ритуалу.
Иногда она ела рыбу, которую готовили только для нее, поскольку он ее никогда не употреблял в пищу. Рыбу не ели только те, для кого она была священным животным, но царь считал, что должен соблюдать ритуалы тщательнее всех. Он не ел также лук, узнав, что это растение было запрещено принимать в пищу жрецам, готовящимся к совершению обрядов. Но к каким обрядам готовился он? Анкесенамон ела лук чаще, чем хотела, чтобы ему досадить. Удавалось ли ей это? Он ни разу не упрекнул ее, только отводил глаза от недостойной пищи, и его взгляд витал над столом.
Но она понимала причины этой жесткости. После смерти его брата Эхнатона мальчика-сироту выволокли из дворца, как статую из лавки, и бросили в битву монстров. Его мать Сатамон, дочь отца маленького принца, умерла вскоре после его рождения. У него не было тогда другого утешения, кроме сострадания слуг и рабов.
Затем убили другого его брата, Сменхкару, его единственную поддержку.
И он знал организатора убийств и не мог рассчитывать на правосудие.
Затем его женили и короновали. И заставили осознать слабость своего тела.
Наконец, его пытались убить.
Поэтому он замкнулся в себе. Вот откуда маска и хитрость.
Она подумала, что явно проявилось это изменение, по всей видимости, в «ночь кобр», когда священные животные Сати его защитили. Верил ли он тогда в свою божественную суть? Было ли это причиной его холодности, этой духовной смерти, и поэтому ли он слишком рано надел маску?
Она продолжила размышления, вспомнив то, что сказал Пасар.
Супруг иногда вовлекал в свои занятия Анкесенамон, но для нее предшествующая жизнь исчезла, как будто ее отсекли долотом рабочие фараона, приказавшего уничтожить следы своего предшественника. Так бросают камень в воду: после нескольких волн он уходит на дно, а поверхность над ним снова становится гладкой.
Никогда и никаких больше напоминаний о Сменхкаре, исчезновении Меритатон, Неферхеру и их сына, о «ночи кобр», о попытке переворота, предпринятой Апихетепом. Ничего подобного не было. Таков был закон царства. Жили только настоящим и готовились к смерти. О реальности не упоминали никогда.
Прошлого не было. Ничего, кроме совершения нескончаемого ритуала.
Ощутив покой, исходящий от вновь заснувшего Пасара, она погрузилась в сон.
— Этим утром я получил отчеты о церемонии открытия стелы Реставрации, — заявил Ай удовлетворенным тоном.
Вокруг него собрались Тхуту, Хоремхеб, Майя, Маху и некоторые чиновники, а также один из его новых протеже, Усермон.
— Это, — продолжил он, — доказывает, что демонстрации власти и немногих подарков бывает достаточно, чтобы развеять печальные настроения. Отныне царь любим, как и положено, всей страной.
Это утверждение было принято без особого энтузиазма.
— По поводу подарков, — отозвался Майя. — Мы преподнесли много даров храмам. Помимо статуи золотого Амона высотой в тринадцать палок, сделана еще одна на четыре палки, а также статуя Пта на пять палок, четырнадцать золотых и серебряных статуэток, инкрустированных… Я уже не говорю ни о гранитных статуях, ни о художниках и ремесленниках, которым надо заплатить… Казна царства почти пуста.
— Мы пополним ее золотом, которое нам пошлет Гуя, — возразил Ай. — Он опытен в части сбора сокровищ. Главное, чтобы духовенство было довольно.
Тхуту хранил молчание: именно царь впредь будет контролировать получение податей из страны Куш. Иначе золото юга никогда не попадет в хранилища казны. Все эти люди, за исключением Майи, в назначении Гуи не видели особых перспектив.
— Надо думать о колесницах и вооружении, которое мы покупаем в Сирии, — заявил Хоремхеб. — Если казна истощена, у армии появятся проблемы. Мы не сможем завербовать наемников, в которых нуждаемся.
— Я уже сказал, Гуя пополнит казну, — повторил Ай. — Мы ему направим послание с просьбой сделать это быстро. Поступили налоги?
— Последние поступили три месяца назад, но эти средства уже израсходованы, — ответил Майя с некоторым нетерпением. — Ты знаешь, регент, что теперь налоги будут собирать только через восемь месяцев, и они не поступят в казну раньше, чем через десять месяцев.
— Надо будет их немного увеличить.
— Это противоречит мнению номархов, — вмешался Тхуту. — Они уже находят их чересчур завышенными.
Все утро ему пришлось выслушивать нарекания Майи по поводу излишних расходов на содержание Тутанхамона и двора и о необходимости чаще общаться с монархом.
Со времени правления Эхнатона казна значительно опустела, и последующие годы ситуацию не исправили.
Настала очередь Ая сердиться.
— Все это несущественно, — заявил он твердо. — Главное то, что в царстве снова спокойно. Царь отныне должен чаще восседать на троне. Желательно предложить его величеству оставить Ахетатон, чтобы предстать перед народом.
— Ты намереваешься привезти его в Фивы? — спросил Хоремхеб.
Ай казался неуверенным. Он понимал, что его речи были чересчур самонадеянны. Был риск того, что слабая природа царской персоны может снова проявиться. По молчаливому согласию никто об этом не заговорил, но никто не мог больше отрицать, что у царя врожденный дефект, поэтому он во время передвижения всегда опирается на свою большую трость.
— Скорее в Мемфис, — сказал он.
Тхуту не мог понять, в чем преимущество Мемфиса перед Фивами.
— И надо будет подумать об организации праздника Опет, который возглавит царь, — заключил Ай.
Никто не считал, что стоит обсуждать праздник, который состоится только через шесть месяцев. Этот праздник длился одиннадцать дней, и он будет столь же изнурительным, по крайней мере для Тутанхамона, как и церемония коронации.
Собрание закончилось.
Найдя Первого советника в коридоре, Хоремхеб ему сообщил:
— У меня такое чувство, что регент слишком ретиво взялся за дело. Спокойствие в стране только кажущееся и временное. Он говорит, что повысит налоги! Хочет получить нового Апихетепа?
Тхуту покачал головой.
— После открытия стелы Реставрации у меня сложилось впечатление, что он пользуется царем как пластырем, чтобы перевязать израненную страну, — продолжил Хоремхеб.
— Возможно, он еще пожалеет о том, что решил воспользоваться этим пластырем, — заметил Тхуту с легкой улыбкой.
Он не забыл слова Сменхкары: странный маленький царь был хорошим игроком в шашки.
25
СЫН СОПРОВОЖДАЕТ СВОЕГО ОТЦА В ГАРЕМ
Миновал сезон Сева. На серебристом небе первые стаи перелетных птиц чертили иероглифы, направляясь на север.
Оставалось больше двух месяцев до праздников Паофи и Опет. Их суть заключалась в том, что Амон и его супруга Мут в сопровождении их сына, лунного бога Хонсу, что значило «Великодушный», отправлялись в свой Южный Гарем.
[17]
Для народа это был повод увидеть мельком Творца мира или, по крайней мере, его изображение на монете.
Тутанхамон там не бывал никогда. Когда Ай, члены Царского совета и верховный жрец Карнака обратились к нему с просьбой возглавить церемонию, он не заставил себя уговаривать. Не он ли велел построить, согласно стеле Реставрации, три лодки бога?
— Это — мой отец, — сказал он вполне серьезно ошеломленным Анкесенамон и Пасару.
Тотчас он отправился в Фивы в сопровождении Сеферхора и Итшана с тем, чтобы верховный жрец объяснил ему, каковы этапы этого праздника и что их символизирует. Анкесенамон и Пасар должны были присоединиться к нему накануне выхода бога.
Как раскат грома восприняли они новость о том, что царским Рескриптом Таемуадхису, родная мать Пасара, назначена матроной царского гарема. Ни царица, ни Начальник конюшен об этом не были проинформированы. Этот необдуманный поступок, казавшийся недопустимым, их поразил.
— Он делает из моей матери содержательницу! — гремел Пасар.
Но затем он расхохотался.
— И для чего нужен этот гарем? — прошептала Анкесенамон, действительно не понимавшая этого.
Цари всегда держали гарем. Но Тутанхамон, он же так молод… Ради плотских удовольствий монарха Таемуадхису необходимо было собрать самых красивых девушек страны.
Для кого? Ее удивлению поступкам этого мальчика, похоже, никогда не будет конца.
Вместе с Пасаром она прибыла в Фивы. Во дворце царило возбуждение. Главный распорядитель церемоний, Уадх Менех, пытался успокоить знатных особ, которые на грани истерики требовали того или иного места на празднествах в храме. Пасара словно в воронку затянуло это сумасшествие; будучи Начальником конюшен, он обязан был организовывать шествие царя от дворца до пристани. Эта часть церемонии предположительно должна была занять только четверть часа, но казалось, что речь шла о военном наступлении с участием ста колесниц. Его задача состояла в том, чтобы находиться при царе и управлять четырьмя лошадьми царской колесницы, и так как царь должен был в ней стоять, необходимо было заставить лошадей идти легкой рысью, дабы избежать толчков. После того как царь поднимется на борт корабля, на котором он пересечет реку, Пасар должен был отвести лошадей в конюшню.
У Анкесенамон появилась возможность снова увидеть своих трех сестер, Нефернеферуатон-Ташери, Нефернеферуру и Сетепенру, с которыми она не встречалась со времени коронации. Им было одиннадцать, десять и девять лет: они уже почти не играли в куклы. Встретившись после разлуки, они залились слезами и очень разволновались. Оставленные на попечение кормилиц, иногда опекаемые их тетей Мутнехмет и женой Тхуту три молодые царевны казались потерянными: райские пташки были далеки от реальных событий. Они справились о Меритатон и удивились тому, что не увидят ее на празднике, затем они спросили о Сменхкаре. После они расспросили о своем отце и матери.
— Ты — царица? — спросила Сетепенра.
Неужели они лишились разума? Испытание оказалось слишком тяжелым для Анкесенамон, она оставила сестер в слезах и стала ожидать возвращения Пасара.
На следующий день началось новое испытание.
Царица, все чиновники и другие высокопоставленные особы уехали рано, чтобы ждать царя на пристани. Они были заняты пустячными разговорами под любопытными взглядами толпы, отмахиваясь от надоедливых мух.
К десяти часам Тутанхамон отъехал от дворца на колеснице под грохотание труб. Пасар, на котором была простая набедренная повязка, привел лошадей. Командир небольшого роста, тоже с обнаженным торсом, один, чтобы не огорчать царя, подвинул колесницу, пытаясь помочь монарху. Находившемуся между двумя молодыми людьми Тутанхамону в длинном одеянии из белого заложенного в складки льна необходимо было удержать равновесие, проходя этот путь, при этом держа в одной руке цеп, а в другой — скипетр. Ему не за что и не за кого было уцепиться.
Вдоль всего пути толпилось множество людей, кричащих здравицы сквозь грохот труб, мычание коров и ритмичные удары тамбуринов. Все бросали цветы.
На мостках, окруженных древками, на вершине которых хлопали белые и красные орифламмы, Пасар и командир помогли царю спуститься. Уадх Менех взял у него из рук символы царской власти и протянул царю его трость. Тутанхамон поднялся на борт вместе с царицей. Неподалеку стояло на якорях множество лодок. Получасом позже, оказавшись на другом берегу, кортеж отправился пешком к храму Амона. Играли военные музыканты.
Верховный жрец ожидал царя. Он повел его совершить жертвенные возлияния и подношения. Затем в храм направились группы жрецов и писцов за первой из трех божественных лодок, о которых упоминалось на стеле Реставрации, подняли лодку на плечи и направились к берегу спускать ее на воду. Каждый мог пощупать лодку: она действительно была сделана из кедра, инкрустированного золотом. Затем тот же путь проделала вторая лодка, больше размером. Затем третья.
Сделать это было не просто, так как пространство между храмом и берегом было занято уличными торговцами, которые предлагали толпе всякие вкусности: поджаренные ломтики рыбы и мяса, огурцы в уксусе, хлебцы с кунжутом или медом, финики, пиво в кружках — для всех желающих. Обливаясь потом, сгибаясь от тяжелого груза, порядка двухсот человек, несущих лодки, должны были пробираться через лотки, сопровождаемые ругательствами, более или менее заглушаемыми музыкой.
Жрецы и писцы возвратились в храм и уложили на огромные носилки большую статую из золота высотой тринадцать палок, чтобы отнести ее на вторую лодку, «Усерхет Амон».
Сотни рук напряглись, прикоснувшись к богу, который улыбался, глядя на небо.
Статуя Маат, также золотая, была следующей.
Затем статуя Хонсу.
На берегу уже собралась толпа. Но что уж говорить о тех, кто был на лодках! Некоторые лодки вырвались вперед, чтобы любопытные, сидевшие в них, оказались поближе к месту главных событий. Дикие крики смешивались с громкой музыкой, создавая невообразимый шум, расстилающийся над водой от одного берега до другого.
Жрецы и писцы выбивались из сил, помещая статуи в лодки и закрепляя их там. Им пришлось также разыскивать церковную утварь, которую должны были установить на божественных лодках, сзади и в передней части, так как пассажиры собирались плавать на лодках в течение двух недель.
Наконец, к четырем часам после полудня, царь поднялся на борт «Усерхет Амона» в сопровождении Итшана, Хранителя гардероба, лекаря Сеферхора, на всякий случай, и жреца лодки. Затем гребцы, от которых зависела большая часть успеха этого предприятия, заняли место на борту.
Амон сверкнул на солнце.
Царевны сияли. Анкесенамон часто моргала.
Был дан сигнал отправления. Лодка Амона пошла первой и направилась к середине Великой Реки, туда, где в результате паводка образовалось много коварных течений, а волнение было сильным. Лодки, на которых находились жена и сын божества, отправились следом и вскоре присоединились к первой лодке. Так как божественные лодки были без парусов и плыли против течения, которое усилилось во время паводка, они продвигались только за счет того, что гребцы старались изо всех сил.
Амон, его жена и сын раскачивались в лодках, как пьяные гуляки. Правда, это соответствовало их образу жизни.
Лодки высокопоставленных особ шли следом.
В этот момент все зрители с обоих берегов могли увидеть, как царь располагается на корме «Усерхет Амона» с помощью молодого человека, в котором Анкесенамон узнала Итшана. Поддерживаемый им, он схватился за весло и стал делать вид, что вертит им, словно сам управляет лодкой своего отца.
Раздался взрыв аплодисментов. Анкесенамон опасалась, как бы царь не поплатился за эту дерзость, оказавшись в воде. Между тем он ничем не рисковал, так как после символического управления лодкой царь поднял руку, чтобы поприветствовать народ, и возвратился в свою кабину.
Итак, все благополучно добрались до Южного Гарема, и в течение одиннадцати следующих дней царь сопровождал своего небесного отца на обратном пути, чтобы возвратить его вместе с женой и сыном в Карнак.
Выбившаяся из сил от усталости, жары, волнения и шума, Анкесенамон была безмерно счастлива возвратиться обратно. Она спрашивала себя, вернется ли Тутанхамон живым из этой экспедиции. Со своей стороны, она охотно оставила сына бога, чтобы тот сопровождал своего отца в Гарем.
Ее поразило совпадение: отец отправился в Гарем, когда сын следовал к своему гарему. Два мнимых гарема.
26
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВООБРАЗИЛ СЕБЯ БОГОМ
Будучи сыном Творца, царь считался центром мира, и никому не могла прийти в голову мысль обвинять его в этом. Между тем дочь живого бога, божественное существо, Анкесенамон не могла избавиться от ощущения, что поведение ее божественного супруга уже противоречило некоторым представлениям о нем.
Он еще не возвратился с праздника Опет; таким образом у нее было время поразмышлять о земной и божественной природе Тутанхамона.
Во время беседы о качестве зеркал, которые можно было раздобыть в Долине, Первая придворная дама сказала ей:
— Накануне твое величество беспокоилось, не зная, сумел ли народ разглядеть августейшее лицо твоего божественного супруга во время церемоний. Могу тебе сказать, что даже если его не видят из-за большого расстояния, которое отделяет народ от царя, людям кажется, что они действительно узнают его черты.
Анкесенамон не поняла того, что хотела этим сказать придворная дама.
— Его изображения теперь столь многочисленны, — объяснила та, — что уже мало кто не знает облика твоего любимого супруга.
Действительно ли только это она имела в виду?
— Там, где проживают тебаины, их очень много, — добавила придворная дама, явно восхищенная этим.
Удивленная Анкесенамон призналась, что не знала об этом. Она изъявила желание их увидеть. Обе женщины решили вместе с Уадхом Менехом и Главным управителем организовать туда прогулку на один день. Они отправились верхом на мулах в сопровождении всего лишь двух стражников, поскольку днем пригороды столицы не были опасны. Оделись женщины прилично, но без ненужной пышности, не желая привлекать внимание, но в любом случае лицо царицы было почти никому не известно.
Примерно через час после того, как они покинули дворец, придворная дама указала царице на две новые статуи, которые стояли по обе стороны городских ворот. Они остановились. Анкесенамон увидела две колоссальные статуи своего супруга, причем формами они совсем не напоминали царя. Но больше всего ее поразила корона, которой монарх был увенчан в этих представлениях, — нетрадиционная двойная корона Верхней и Нижней Земель, а корона Осириса, которую еще называют венцом атеф: белого цвета, возвышающаяся над двумя расположенными по бокам перьями страуса и закрепленными горизонтально рогами барана.
Божественный венец.
Странная деталь: венец Геба, бога Эннеады
[18] и первого фараона страны до появления царей в людском обличье, получил иную интерпретацию: лунный шар, который обычно возвышался между двумя перьями страуса, размещался непосредственно на голове царя.
Она была обеспокоена. Прежде всего, шар был намного больше, чем положено, и очень напоминал тот, что был у Атона; и потом, даже Эхнатон был изображен увенчанным царской короной, а не божественным венцом. Но она воздержалась от вопросов и комментариев; ее спутница, судя по всему, плохо разбиралась в царских атрибутах, так что лучше было не обращать ее внимания на эти особенности.
Небольшой кортеж продолжил свой путь и вскоре добрался до пристани; через полчаса все, включая мулов, были уже на другом берегу. Придворная дама направилась к новому храму. Он был посвящен Хонсу, сыну Амона, за золотой статуей которого во время праздника Опет по реке следовала статуя бога-царя. Скульпторы заканчивали полировать две грандиозные статуи, которые стояли по обе стороны от входа, и художники раскрашивали их в желтый, белый, охровый и красный цвета: это были еще два изображения царя. Совершенно свежие надписи на постаменте придавали им божественности. Но вместо голов ястреба там были головы с чертами Тутанхамона. Между тем ястреб тоже присутствовал: он распростер крылья за головой царя. Традиционный образ был изменен в пользу монарха.
Снова Анкесенамон сумела скрыть свою тревогу. Она притворилась, что восхищается зданием, и вошла внутрь, чтобы рассмотреть барельефы. Оцепенев, она уставилась на расположенные в локте одно от другого изображения своего супруга, воюющего против врагов страны. В тринадцать лет? Когда? Где?
Возможно, придворная дама также была удивлена. Когда их взгляды скрестились, Анкесенамон заметила, что в глазах сопровождавшей ее дамы что-то мелькнуло, возможно, ирония. В любом случае, их молчание было красноречивым.
— Твое величество, без сомнения, пожелает увидеть также комплекс из трех статуй в храме Амона, — сказала придворная дама.
Анкесенамон кивнула, и они направились к этому храму. Они прошли вдоль белоснежной часовни Аменхотепа Первого и дошли до храма Атона. Анкесенамон выразила желание остановиться. Законное желание: она решила, что это храм, который построил ее отец. И к тому же визит был неофициальным. И храм казался покинутым. Ни одного верующего. Ни одного жреца.
Как только она вошла, у нее захватило дух. Гигантское изображение Эхнатона возвышалось в огромном зале. С бьющимся сердцем она рассматривала портрет, излишне стилизованный, но все-таки достаточно правдивый: искривленные губы, удлиненные глаза и это лисье лицо, застывшее в упорной решимости. Ее отец. Она сдержала слезы. Тот отец, который всегда отсутствовал. В памяти промелькнули последние годы, его мистическое сумасшествие, заточение в собственном доме в обществе Сменхкары, дни, прошедшие в написании гимнов Атону, которые царь поручал Панезию переписывать в Доме Жизни. Она вспомнила мать, высокомерную, таинственную и злопамятную, жившую в уединении, в компании кормилиц и слуг.
Она ощутила острую тоску по Меритатон. Хотелось горячо обнять сестру и поплакать на ее плече. Она была настоящей царицей.
На алтаре, где совершались жертвоприношения, виднелись давние следы сожжения. На цоколе темнели следы последних возлияний. Между плитами пробивалась трава. По барельефам бегали ящерицы.
Анкесенамон проглотила слезы и вышла. Смоковницы отбрасывали освежающую тень, пели птицы, мелькали бабочки. Но окружающая обстановка казалась похоронной.
Обе женщины и стражники направились к храму Амона.
Там сверкали на солнце золотые верхушки обелисков. Бились желтые орифламмы на легком ветру. Они прошли через двор, где фараон совершал ритуал очищения, прежде чем попасть в первый зал. Суетились жрецы. Слуга подметал пол. Жрец в окружении верующих приносил жертву, и воздух был наполнен запахом пригоревшего мяса и молока.
Придворная дама повела свою госпожу к стене часовни. Там была огромная скульптура. У Анкесенамон перехватило дыхание. Тутанхамон стоял между Мут и Амоном, держа их фамильярно за руки, как равных, и якобы тянул за собой на сельский танец. На его голове был венец атеф.
Он занял место бога Хонсу.
Сирота обзавелся родителями.
Придворная дама предложила посетить другой храм, но царица сослалась на то, что была утомлена, и пожелала возвратиться в Фивы.
Когда царь по возвращении, в середине третьего месяца сезона Паводка, нанес ей визит, он триумфально улыбался. Погладив ее по щеке, он заявил:
— Я возвратил своего отца.
Она чуть не спросила его, получил ли он удовольствие в Южном Гареме. Ее снова охватили сомнения относительно психического здоровья супруга.
Во время ужина он вел нескончаемый рассказ, почти монолог, о своей поездке и возвращении.
Три дня спустя в конце беседы с Аем он заявил, что скоро переберется в Мемфис.
— Но твой гарем где будет находиться? — спросила она внезапно.
— Везде, где я буду, — ответил он.
Пасару она рассказала, что один этаж крыла дворца Фив, где она никогда не бывала, приспособлен для размещения приблизительно двадцати девиц из Долины, Куша и Пунта, отправленных Гуей. Но, ради Мина, что он с ними делал?
— Что об этом говорит твоя мать?
— Что он провел там три или четыре ночи.
Она почувствовала раздражение. Ситуация казалась все более и более непонятной.
На следующий день Тутанхамон уехал в Мемфис с целой свитой, куда входили архитекторы, скульпторы, писцы Дома Жизни Карнака. Он давал советы, как строить новые храмы и воздвигать новые статуи своей обожествленной особы. Он увез с собой Пасара, так как ему казалось, что следует уезжать и возвращаться в колеснице из электрума.
А может, он решил, что во время его отсутствия царица не имела права на удовольствия, будь то телесные или сердечные? Даже по доверенности. Она осталась вдвоем с Сати. Бывшая кормилица, ставшая ее доверенным лицом, рассказывала ей о своих кобрах и высоком разуме животных.
— Они читают твое сердце лучше, чем ты читаешь рукописи.
Тремя месяцами позже Анкесенамон была срочно вызвана к супругу в Мемфис. Сначала она обрадовалась возможности встретиться с Пасаром, но ее радость была омрачена тем, что с ней обращались как с частью движимого царского имущества. Что ему было надо от нее?
— Я проклинаю царскую власть и не хочу подчиняться царю! — воскликнула она вечером, оставшись наедине с Сати.
— Жизнь твоей сестры со Сменхкарой была спокойнее, но она уехала, — заметила та.
— Но я же не могу уехать! Как бы я уехала? Куда?
— Давай представим, что он всегда будет в Мемфисе, — сказала Сати, положив руку на плечо той, которую знала еще ребенком, и чья история была ей известна лучше, чем кому бы то ни было в мире.
Анкесенамон заплакала.
— Ты как моя мать, — сказала она.
Кормилица ее обняла.
Когда слезы высохли, Анкесенамон позвала Тхуту, чтобы узнать больше, попытаться разобраться в этой путанице — между божественным и реальностью, чему никакое воспитание и образование не поможет.
Тхуту охотно откликнулся:
— Его величество проникся божественной природой своей личности и величественным характером миссии Реставрации. Он стремится восстановить влияние божеств в царстве.
Предчувствуя по настойчивому взгляду царицы, что его ответ ее не удовлетворил, он осторожно добавил:
— Мне кажется, что иногда я вижу в его величестве исключительную страсть его покойного брата, царя Эхнатона.
Первый советник не мог больше об этом говорить. «Тутанхамона захватила та же мистическая страсть, — подумала она, — что и ее отца».
— Как к этому относится регент? — спросила она.
— Думаю, он доволен гармонией в царстве, которой способствуют труды царя.
Иными словами, духовенство было покорено этой бурной деятельностью, а регент, мучимый тревогами на протяжении нескольких месяцев, теперь чувствовал себя удовлетворенным.
— А Хоремхеб?
В глазах Советника появился блеск:
— Командующий надеется, что восстановление гармонии в царстве распространится и на армию.
Открытым текстом он говорил о том, что армия также не процветала, как и духовенство.
Она опустила голову, частично в знак согласия, частично в знак уважения к Советнику. «Воображаемое, — сказала она себе, — есть форма прожитого, которая принадлежит реальности». Она это осознала с невыносимой ясностью. Весь мир сознавал бред ее супруга, но весь мир к этому приспосабливался, потому что он был царем и его излишний религиозный пыл льстил духовенству — ведь все любят, когда их гладят по шерсти.
Ее отец жил в воображаемом мире семнадцать лет. А сколько же выдержит Тутанхамон?
27
ЭСКИЗЫ БОТАНИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ БУРИ
— Увезу моих сестер в Мемфис, — проговорила Анкесенамон, глядя в сторону.
Она сама не знала, к кому обращалась: к придворным дамам? К Хранительнице своего гардероба? Никто не мог ей в этом отказать. Уадх Менех не в состоянии был найти Тхуту. Хоремхеб находился в Мемфисе вместе с царем. Ай уехал на несколько дней в Ахмин отдохнуть. Во всяком случае, решение этого вопроса было в ее власти, и только. Она велела кормилице приготовить сундуки царевен для отъезда на следующий день.
Она не могла оставить трех своих сестер пропадать в равнодушии и сумасшествии дворца Фив. «Но разве атмосфера во дворце Мемфиса здоровее?» — спросила она себя.
На следующее утро царевны, болтающие без умолку от радости из-за появившейся возможности что-то изменить, по крайней мере, переехать, поднялись со своей сестрой на борт «Мудрости Хоруса». На идущей следом лодке находились сундуки царицы и царевен, а также служащие царского дома, срочно созванные для отправки в Мемфис.
На самом деле в то время, когда царица, ее сестры и их свита поднимались на борт корабля, Тхуту и Хоремхеб вели беседу в садах дворца, подальше от нескромных ушей. Они оба только что получили одно и то же послание регента, в котором сообщалось о повышении Пентью до уровня чиновника, ответственного за дипломатические контакты. Иными словами, он должен был налаживать отношения с союзниками. Престижный пост.
Сосланный после своих гнусных признаний около четырех лет назад в недра царских архивов, куда Сменхкара его великодушно перевел в качестве начальника, отравитель вновь оказался на первых ролях.
[19] И как будто ради того, чтобы уклониться от неприятных объяснений, Ай сразу же уехал в Ахмин.
— Как ты думаешь, что означают эти перестановки? — спросил Тхуту. — Мне кажется, что это своего рода хитрость. И если я не ошибаюсь, это не предвещает ничего хорошего. Вспомни, как во время чашей встречи с Аем после поездки в Саис, когда мы настаивали на судебном процессе над Апихетепом, он ни за что не хотел этого допустить. Тогда я пригрозил ему арестом за отравление Эхнатона и Сменхкары и неосторожно упомянул о признаниях Пентью. Над ним нависла опасность. Ай не мог этого вынести. Само существование Пентью и риск быть разоблаченным ограничивали его свободу в принятии решений. Он искусно обманул Пентью и, теперь повысив его в должности, завладел его душой и телом. Пентью считал себя навсегда обездоленным. И неожиданно появляется возможность вернуться к публичной жизни, поэтому он не предаст своего благодетеля. Отныне он приговорен к молчанию, понимаешь? Мы не сможем больше угрожать Аю его признаниями.
Тхуту, размышляя, качал головой. Выводы были очевидными. Но противоречивыми.
Командующий казался задумчивым.
— Между прочим… — произнес он.
Тхуту ждал продолжения.
— Между прочим, — снова заговорил Хоремхеб, — мы, возможно, ошиблись, заставив казнить Апихетепа. Следовало сделать вид, что его казнили, и держать его в тайном месте.
Предположение было неожиданным. Советник нахмурил брови.
— Я не знаю, рассказал ли Апихетеп нам все, — продолжил Хоремхеб. — Я думаю, что не только Ай обещал ему пост Первого советника, хотя именно он побудил его к тому, чтобы захватить Мемфис и Нижнюю Землю.
Тхуту размышлял над подозрениями военачальника. Он покачал головой: регент пытался таким образом разорвать царство, чтобы было легче его пожирать!
— Вот в чем истинная причина, — сказал Хоремхеб. — Из-за этого, как только Апихетеп потерпел неудачу, Ай отдал Нахтмину приказ уничтожить Апихетепа на месте, вот почему он так неистово выступал против этого судебного процесса. Это дело имело более глубокие корни. Если бы Апихетеп был жив, мы смогли бы заставить его заговорить. Попытка разделить царства — преступление более серьезное, чем просто сговор знати из провинции и опрометчивые обещания. Мы смогли бы заставить осудить Ая.
Командующий энергично махал своим опахалом на ручке из слоновой кости, чтобы отогнать назойливых насекомых.
— И казнить его, — добавил он.
Еще раз Тхуту мог оценить силу ненависти, которую Хоремхеб питал к своему тестю. Командующий продолжал рассуждать.
— Практически Ай является хозяином Верхней Земли. И он еще больше упрочил свое положение с тех пор, как убедил царя назначить Гуя наместником в стране Куш. Но для захвата власти ему этого не достаточно. Ему нужна поддержка Нижней Земли и в первую очередь Мемфиса. Итак, именно я возглавляю гарнизон этого города и являю собой ту теневую власть, которой он опасается.
Тхуту как Советник недооценил этот нюанс в расстановке сил.
— Вот почему он не возмущается чрезмерными расходами царя в Мемфисе и номах, а также повсеместному появлению статуй Пта, а затем и статуй Амона. Он хочет примириться с Нефертепом и вельможами Мемфиса и Нижней Земли. Он уже заручился поддержкой верховного жреца Амона, но пока его не поддерживает верховный жрец Пта.
Тхуту раздумывал над тем, как можно было затормозить этот демонический механизм.
— В течение всех этих месяцев он старался усыпить нашу бдительность, — заключил он, — позволяя нам предполагать, что он якобы согласен с нашими планами. И внезапно он лишает нас главного оружия — признаний Пентью. Надо отдать ему должное: он маневрировал искусно.
— Это значит, что он готовится к тому, чтобы снова перехватить инициативу, — заметил Хоремхеб.
— Но на что он нацелился?
— На трон. А ты что думал?
— Но он занят царем!
Командующий Хоремхеб бросил на Советника иронический взгляд.
— Эхнатон и Сменхкара тоже были на троне.
Это означало, что Тутанхамон рискует последовать за ними раньше времени. Убийство вновь становилось возможным. Горькая гримаса исказила лицо Тхуту.
— Впрочем, не сразу, — добавил Хоремхеб, опережая вопрос своего собеседника. — Это снова привело бы к нестабильности в стране, и для него это было бы опасно. На данный момент он получил то, что хотел. Заставил нас работать на себя…
Легкая улыбка тронула губы Хоремхеба. Тхуту ожидал объяснения.
— Царь щедро осыпает духовенство милостями и преуспевает в их усмирении, чего Ай смог бы добиться только ценой утомительных бесконечных торгов. Тутанхамон у регента отвечает за культы. Что касается меня, я реорганизовал армию, усилил боевую мощь войск. В стране, похоже, жизнь налаживается.
— Только похоже?
— Налоги чересчур завышены. Мы рискуем получить новые волнения.
— Что мы можем сделать?
— Не терять бдительности. На твоем месте я бы поостерегся этого Узермона, который стал новым фаворитом царя.
Тхуту это уже заметил, он принял предостережение.
— Он уехал вместе с ним в Ахмин, — добавил военачальник. — Только богам известно, что они там замышляют.
Вновь Тхуту ощутил непонятное утомление.
Когда он появился на пороге своего кабинета, он обнаружил там огорченного Уадха Менеха в обществе Панезия, верховного жреца забытого культа Атона. Удивленный Советник поприветствовал верховного жреца.
— Могу ли я зайти к тебе ненадолго, Советник?
Тхуту пригласил его войти, предложил ему кресло и сел сам. Несколько секунд они смотрели друг на друга.
— Я направил два послания регенту, — наконец сказал Панезий. — Он мне не ответил.
Тхуту мог предвидеть эту ситуацию.
— Я написал царю, — продолжил Панезий. — Это было два месяца назад. Все еще нет ответа. Теперь я пришел к тебе. Мне с моими жрецами больше нечего есть. Мы живем за счет милосердия нескольких верующих.
На протяжении семнадцати лет верховный жрец был Солнцем правосудия и царства. При Сменхкаре именно он добился объединения верховных жрецов, что стало началом примирения. Он смотрел на Первого советника с той же ясностью во взгляде, как в былые времена. Неблагодарность
регента, та поспешность, с которой он отказался от культа Атона, молчание царя, — из-за этого, как ему казалось, не стоило огорчаться. Это вызывало лишь легкую, немного печальную улыбку.
— Должен ли я просить о помощи верховного жреца Амона? Теперь он процветает.
Тхуту отрицательно покачал головой. Он вызвал своего секретаря и дал тому распоряжение о выделении зерна из резервов Фив, покупке десяти говяжьих туш, двадцати баранов, достаточного, по его мнению, количества глиняных кувшинов вина и об их погрузке на корабль Первого советника. Все это предназначалось верховному жрецу Ахетатона. Панезий покачал головой. Он поблагодарил Советника и на прощание сказал ему:
— И все-таки Атон существует. Несправедливо, что он подвергается унижению.
— Несправедливо, — согласился Тхуту. — Несправедливо, что раздоры людей влияют на богов. Пиши мне, когда у тебя не будет ответа от других. Пока я буду на этом посту, ты можешь на меня рассчитывать.
Услышав последние слова Первого советника, верховный жрец поднял брови, но воздержался от вопросов.
После ухода Панезия Тхуту остался сидеть, размышляя над тем, что же боги думали обо всем этом.
На другом берегу Великой Реки верховный жрец Хумос покинул свой дом и в сопровождении секретаря отправился в Дом Жизни при храме Амона. Его внимание привлекли двое слуг, которые развешивали белье для сушки в дальней части сада, и затем он вошел в первый из залов, где находились писцы. Они подняли головы и пожелали ему счастливого дня. В ответ он произнес такие же пожелания. Он подошел к одному из писцов по имени Уабмерут, что означает «Чистая любовь», и склонился над ним.
— Брат, могу ли я поговорить с тобой?
Уабмерут быстро встал. Это был молодой человек двадцати семи лет с живым взглядом и лицом, на котором слишком рано стали заметны следы долгих размышлений.
— Сочту за честь, верховный жрец.
Он положил свою дощечку на пол, закрыл чернильницу и, заткнув перо за ухо, последовал за верховным жрецом в сад. Хумос наблюдал за ним, пока он все приводил в порядок, затем едва заметно улыбнулся и сказал:
— Уабмерут, я уполномочен тебе сообщить, что его величество высоко оценил твое прилежание и понимание, с каким ты отнесся к его выбору, и назначил тебя своим переводчиком при общении со скульпторами и художниками.
Уабмерут низко склонил голову.
— Именно ты выбрал меня, верховный жрец, и тебе я обязан этой честью.
— Царь просил вручить тебе это кольцо в знак оценки твоих достоинств.
Писец положил украшение на ладонь: скарабей на золотом кольце, покрытый глазурью красного цвета, символизировал Настоящее и Будущее, то есть Вечное Повторение. Затем он бросил пристальный взгляд на верховного жреца.
— Именно к тебе должен вернуться столь великолепный предмет, верховный жрец.
— Я уже вознагражден, — сказал Хумос.
По выражению лица верховного жреца было понятно, что ему необходимо еще что-то сказать, и писец был достаточно сообразительным, чтобы сделать вид, будто этого не заметил. Он ждал.
— Ты видел статуи, заказанные царем? — возобновил разговор верховный жрец.
— Я много раз бывал в мастерских скульпторов с тем, чтобы направлять их в соответствии с моими скромными знаниями. Но я не видел всех установленных статуй, за исключением тех, что находятся в храме Хонсу, и, конечно, большой триады храма Амона.
Хумос покачал головой.
— Не показалось ли тебе, что слишком много венцов атеф?
Собственно, это и было целью беседы. Уабмерут так и предполагал.
— Это венец богов, — напомнил верховный жрец. — В первую очередь им отмечен Геб.
— Это — правило, — согласился писец.
— Я насчитал восемь изображений царя, увенчанного венцом атеф.
— Но именно царь этого потребовал.
«Мальчик тринадцати лет отроду возомнил себя богом, — подумал Хумос. — Он заражен той же манией величия, что и его брат Эхнатон. В сравнении с ним Сменхкара был олицетворением скромности! И кому достанет смелости напомнить ему о приличиях?» Хумос вздохнул.
— Ты ему сказал о несоответствии?
— Я не знал, как это сделать, верховный жрец. На моих эскизах для триады была только корона. Он лично все исправил и снова нарисовал венец атеф. Более того, — продолжил Уабмерут, — на рисунке, который скульптор предложил для триады, были изображены бог Амон и богиня Мут, возлагающие руки на плечи царя. Царь этот вариант отклонил и навязал композицию, которую мы потом увидели.
— Она непочтительна, — сказал Хумос. — Будто это царь увлекает за собой богов.
— Царь также потребовал от скульптора, чтобы тот сделал лицо бога, насколько возможно, похожим на свое.
Отвага уже граничила с кощунством.
— Надо будет тверже настаивать на соблюдении правил, — заявил Хумос. — Эти скульптуры предназначены для прославления богов, а не только царской персоны.
— Тогда в Мемфис должна быть направлена соответствующая инструкция, — сказал Уабмерут. — Царь забрал с собой чертежи статуй и барельефов, которые были выполнены для него здесь.
— Мы рискуем обнаружить множество венцов атеф в Мемфисе и прилегающей местности.
— Возможно, ты мог бы обратить внимание верховного жреца Нефертепа на это. Хотя у его величества очень сильное желание украсить свои изображения венцом.
Да, царь отличался упорством. Озабоченный Хумос взялся руками за голову.
— Тогда надо будет привлечь внимание регента к этому вопросу, — сказал Уабмерут.
На повороте аллеи оба мужчины встретили Уджбуто, писца-садовника, который держал в руках стебель мяты. Он почтительно склонился перед верховным жрецом и задумчиво ему улыбнулся. Затем он стал покорно ждать.
— Что ты думаешь о новых статуях, которые украшают наши храмы? — спросил у него Хумос.
— Что они великолепны, верховный жрец, и свидетельствуют о возвращении нашего культа. Особенно заметен прилив набожности у его величества, нашего царя.
Фраза была подобрана довольно искусно, и Хумос это оценил. Ему было известно о проницательности Уджбуто. Он внимательно посмотрел на писца-садовника и увидел, что его губ коснулась легкая улыбка. Уабмерут тоже украдкой улыбнулся. Все трое думали об одном и том же, но не произносили этого вслух.
— Разве это не восхитительно, что черты повелителя Двух Земель будут узнаваемы в облике Хонсу? — заговорил наконец Уджбуто. — Вплоть до венца атеф.
Трое мужчин обменялись понимающими взглядами.
— Изучая растения… — начал Уджбуто.
Но он не закончил фразы, опасаясь показаться непочтительным.
— Изучая растения… — повторил Хумос.
— Изучая растения, верховный жрец, я заметил, что когда росток из семени получился с изъяном, то случается, что все семена этого стручка также дают неполноценные ростки.
О том, что проблемы Тутанхамона имели те же самые причины, что и у Эхнатона, нельзя было лучше сказать.
Хумос жестом выразил нетерпение.
— Уабмерут прав. Надо уведомить об этом регента.
На горизонте определенно стало видно скопление облаков, как это часто бывает в начале сезона Паводка. Впрочем, сразу за ним наступит сезон Жатвы.
28
БОЖЕСТВЕННОЕ СЕМЯ
Приехав в свои покои во дворце Мемфиса, Анкесенамон была изумлена: передвигаться было почти невозможно, так как комнаты были переполнены движимым имуществом и статуями. Кресла, столы, сундуки, занавеси, шкуры пантер, статуи золотые, деревянные, каменные, которые, впрочем, почти все представляли Тутанхамона в облике Осириса, Хонсу, Пта.
Она отметила, что ни одна статуя не была сделана по ее подобию. Но она и не была богиней.
И, несмотря на то что покои были просторными, не нашлось места даже для сундуков, привезенных из Фив. Сати держала руку на крышке корзины с кобрами, так как суета их взбудоражила, и заливалась безудержным смехом. Первая придворная дама не удержалась от улыбки. Хранительница гардероба растерялась. Другие также были озадачены таким скоплением вещей, которых хватило бы на два или три дворца.
— Но это — мебельный склад!
— Где царь? — вскричала Анкесенамон.
Первая придворная дама отправилась на поиски Уадха Менеха, который доставил их в царские покои.
Три младшие царевны и кормилицы расположились на террасах, с которых открывался вид на Великую Реку. Они ждали, когда разрешатся затруднения, вызванные загромождением помещений. Анкесенамон рассматривала имущество. Это были незнакомые вещи. Такого великолепия она никогда еще не видела, даже в Ахетатоне, где Эхнатон сосредоточил несметные богатства. Чего стоили только эбеновое дерево, инкрустированное слоновой костью, отделанный золотом и серебром кедр, художественные обивки электрумом или золотом, белоснежные вазы и лампы красивой формы, головы и лапы льва, буйвола и бегемота, высеченные где только было возможно — в изголовье ложа, на подлокотниках кресел, на ножках мебели… Спинки и подлокотники четырех кресел были украшены золотом, поделочными камнями и бисером различных цветов: там были изображены царь и царица, которая протягивала супругу цветок лотоса, а еще царь на охоте, поражающий копьем крокодила. Чистой воды вымысел: именно царь преподнес ей как-то, причем единственный раз, цветы лотоса. Что же касается сцен охоты… Она пожала плечами.
Она вспомнила о барельефах и красивых вещах, которые ее отец размещал во дворцах и храмах в то время, когда жил отшельником в своем доме, отдельно от Нефертити, и давным-давно уже не ходил на охоту.
Появился сконфуженный Уадх Менех: царь уехал на рассвете на освящение храма Пта и возвратится только вечером.
«Наверняка снова венцы атеф», — подумала Анкесенамон.
Первый придворный заявил, что как только его величество возвратится, он сразу же ему сообщит о прибытии царицы и царевен.
— А пока, — сказала Анкесенамон, — пришли нам слуг, пусть вынесут мебель, чтобы мы смогли устроиться.
— Вынесут мебель? — повторил придворный встревоженно. — Но эти сокровища по приказу его величества были изготовлены лучшими ремесленниками Мемфиса и теми, которых ему послал из Куша наместник…
— Это замечательно. Но я не могу все это хранить в своих покоях.
Удрученный Уадх Менех повиновался. Прибыли слуги и начали сносить мебель в большой центральный зал. Анкесенамон оставила только статую царя на лодке с копьем в руках, готового поразить какое-то чудовище. Затем она решила что-нибудь съесть и немного отдохнуть.
Слуги принесли салаты, жареное белое мясо домашней птицы, хлебцы, фрукты.
В то время, когда Анкесенамон вместе с Сати собиралась перенести угощение на террасу, раздались взволнованные крики.
В комнату, смежную с комнатой царицы, где Хранительница гардероба развешивала вещи ее величества, вбежал лев и стал с удивлением всех рассматривать. Полумертвая от страха, Хранительница гардероба стала оседать, и ее подхватил один из слуг. Хищник обнюхивал вещи и внимательно смотрел на кормилиц, примчавшихся на крики и замерших от испуга. Следом за львом появился леопард, так же пренебрежительно поглядывая вокруг. Оба зверя прошли в комнату Анкесенамон. Сати застыла, не сводя глаз с корзины кобр. Глаза царицы расширились.
«Новые чудачества», — подумала она. Если эти хищники гуляли на свободе, значит, им в еду добавляли мак, чтобы ослабить их агрессивность.
Кормилицы, придворная дама, Хранительница гардероба в ужасе наблюдали за дверью в соседнюю комнату, не зная, как царица Тау встретит двух хищников.
Но откуда они появились?
Анкесенамон вспомнила, что животные читают в сердце, как утверждала Сати. Ну что ж! Она бросила льву и леопарду два больших куска белого мяса домашней птицы. Они их проглотили, посмотрели одобрительно и ожидали еще.
— Остальное — для меня, — сказала она им.
Вне сомнения, они ее поняли, так как разлеглись у ее ног и наблюдали за ней, пока она ела. На другом краю террасы три царевны не могли оторвать глаз от этой сцены, не осмеливаясь ни пошевелиться, ни заговорить.
— Я хотела бы вина, — сказала она напуганным слугам.
Она погладила льва по спине, тот зажмурился и поднял к ней морду. Слуги подавали вино, остерегаясь, как бы хищники не схватили кого-нибудь из них за ногу.
— Откуда они пришли? — спросила царица.
Ответ ей дал человек, который, запыхавшись, появился на террасе.
— Твое величество… — еле выговорил он, заметив зверей. — Прости меня… Они сбежали из зверинца.
Сетепенра рискнула приблизиться ко льву и склонилась над ним, чтобы рассмотреть. Огромная кошка, повернув голову, смотрела на нее. Обмен взглядами хищника и царевны длился недолго. Зверь признал свою госпожу и пошел к ней.
— Они меня не беспокоят, — заметила царица, обращаясь к мужчине. — Что еще есть в зверинце?
— Два жирафа, твое величество. Два слона. И носорог.
Она подумала про себя, нет ли там также людей.
— Пойду взгляну на них.
Венцы атеф. Гарем. Изобилие мебели. Зверинец.
Лев и леопард последовали за своим главным кормильцем, не таким прижимистым, как только что прибывшие.
Тутанхамон возвратился через несколько дней. Так что у Анкесенамон было время с помощью Уадха Менеха обойти дворец: он был полон мебели, подобной той, которую она нашла в своих покоях. Много ее было и в той части дворца, где располагался гарем. Она не захотела, чтобы ее представляли девицам, щебетавшим в покоях, наполненных всевозможными ароматами.
Пришел Второй придворный, чтобы сообщить ей о прибытии его величества. Она встретилась со своим супругом в просторном зале цокольного этажа, разделенном колоннами. Они не виделись уже более грех месяцев. Он изобразил на лице улыбку и пошел к ней, заметно прихрамывая и опираясь на высокую трость. Упражнения, разработанные Сеферхором, мало что дали. Возможно, потому что они не были достаточно продолжительными. Казалось, Тутанхамон был счастлив снова видеть ее. Он поцеловал ее в щеку по-братски и по-детски одновременно.
Пасар держался позади вместе с носителями опахал. Хранителем гардероба и двумя командирами из царской свиты. Около двадцати человек присутствовало во время встречи супругов после длительной разлуки. Было заметно, что они волновались.
С блеском в глазах царь объяснял, что во время последней поездки они спустились до Бусириса, чтобы торжественно открыть новый храм Осириса и Исис. Она не сомневалась, что у статуи Осириса были его черты, и размышляла над тем, зачем она явилась в Мемфис с такой поспешностью.
— Почему же твоя мебель стоит в большом зале? — спросил он удивленно. — Она тебе не нравится?
— Она очень красивая. Но мне нужно пространство, чтобы я могла передвигаться.
— Она была изготовлена по моему указанию в мастерских благодаря податям, которые мне выслал Гуя.
«И, разумеется, также благодаря мешкам золотого песка, отправленных наместником», — подумала она.
— А статуи? — спросил он печально.
— Они великолепные, но подумай, ведь я не смогу жить с бесконечным числом портретов моего супруга, которые расставлены через каждые десять шагов. Я оставила скульптуру, которая изображает тебя стоящим в лодке.
Его лицо снова превратилось в бесстрастную маску. Без сомнения, он был оскорблен.
— Я подарю их храмам, — заявил он.
Он приказал организовать ужин в зале цокольного этажа; следовательно, это была торжественная церемония с множеством слуг. Она сказала, что предпочла бы интимный ужин на верхнем этаже вместе с Пасаром и царевнами и с минимальным количеством слуг. Упоминание о царевнах, казалось, не вызвало у Тутанхамона особенного интереса.
Когда он их увидел, то все же любезно поприветствовал, обнял и попросил рассказать новости, не слушая их ответов. Затем он сел, и все остальные последовали его примеру.
Он сразу же принялся описывать храм Пта, который велел восстановить, и установленные там статуи, затем перешел к описанию церемоний и праздников, которые были устроены по этому случаю. В какой-то момент он заметил, что Анкесенамон больше не слушает его монолог.
— Ты меня слушаешь? — спросил он.
— Время от времени, — сказала она сухо. — Ты — царь. Царство — это не только храмы и статуи.
Он казался удивленным.
— Религия — основа царской власти, без которой не было бы царства. Царь — хранитель божественной власти, разве ты этого не знаешь? Он — воплощение бога на земле.
Она была поражена.
— Но у нас есть территории, которые надо контролировать.
— Для этого есть командующий, пусть он этим и занимается. Моя миссия состоит в том, чтобы придать власти в царстве сияние моего божественного отца. Я восстановил мир в душах жителей Двух Земель.
И он снова начал говорить о тех делах, которые его любимый брат Сменхкара не успел завершить.
— Впрочем, надо отнестись к нему с тем почтением, которого заслуживает его земная оболочка.
Интересно, какого еще почтения заслуживал этот так мало правивший царь? Или это было сказано в адрес его отравителя?
Царевны были ошеломлены услышанным. Пасар не произнес ни слова. Тутанхамон прервал молчание, спросив:
— А вы двое, вы еще не сделали ребенка?
Куски мяса во рту показались Анкесенамон и Пасару свинцовыми. Оба недоверчиво посмотрели на Тутанхамона. Впрочем, он улыбался и сказал это явно без какого-то тайного умысла.
— Я уже сделал двоих, — сообщил он.
Анкесенамон сглотнула.
— Две мои наложницы это подтвердили. Они забеременели от меня. Дети от божественного семени родятся через семь месяцев. Матрона гарема мне это сообщила.
Он посмотрел на Пасара с благосклонностью, то ли напускной, то ли искренней, никто не мог этого сказать. Три царевны не могли выговорить ни слова.
Анкесенамон сдержанно сказала:
— Я желаю им счастливого рождения, долгой жизни и процветания.
Время милосердно — ужин подошел к концу. Царь встал и отправился в свои покои. Войдя в свою комнату, Анкесенамон повернулась к Пасару, шедшему за ней.
— Но он потерял разум! Воистину, божественное семя!
29
НИКТО НЕ ВЛАСТЕН ПОМЕШАТЬ ПРИХОДУ НОЧИ
Минуло несколько недель. И как это случается чаще всего, обычная череда дней и ночей побудила некоторые умы заключить, что если они в один из дней находятся в состоянии бодрствования, значит и на следующий день они будут в том же состоянии. Возможно, они будут даже лучше себя чувствовать. Но в любом случае, все, что им уже довелось испытать, могло бы научить их не подвергать снова свою жизнь опасности.
Во всем царстве старались пореже вспоминать поговорку, утверждающую, что плод созревает месяц, а портится за три дня.
По-видимому, мало что менялось в мире, разве что некоторые детали.
Так же было этим утром. Присутствие во дворце Шабаки говорило каждому, что регент возвратился в Фивы. Правда, этого не знал Первый советник Тхуту. Он уехал на другой берег вместе со своим старшим сыном шестнадцати лет, секретарем и одним из лучших погребальных зодчих столицы, дабы сделать то, что любой разумный человек должен был сделать, достигнув зрелого возраста: выбрать место для погребения, которое его устраивает. Это должен быть довольно большой кусок земли, чтобы семья могла там встретиться ради вечной жизни. Когда выбор был сделан, готовилось место и по совету писцов делались соответствующие надписи и другое оформление, что обычно длилось месяцами.
Тхуту не позволил себе там опечалиться; и он, и его отец, и отец его отца поступали в этом случае так же, как и все мужчины, которых он знал. Последние месяцы службы на такой должности раскрыли ему перспективу его существования, подобно тому, как с высоты храма под ослепительным солнцем открывается обширный вид. В течение шести лет он служил уже при третьем царе. Он отдавал делу все свое умение и силы, и теперь он видел, как уничтожается плод его тяжких трудов.
Он знал, что мог заблуждаться, стремясь к власти, поэтому старался умерить свои амбиции. И теперь он видел, что на открывшемся взгляду горизонте стали удлиняться тени. Никогда никто не властен помешать приходу ночи.
Рано или поздно в череде бесконечных битв за власть он станет жертвой или павшим. Он опасался не смерти, но яда: только звери-вредители могут быть отравленными. Он был слишком гордым человеком, чтобы закончить свою жизнь как крыса или пасть как предатель.
Именно это он объяснял своему сыну:
— Все то, что я сделал для Эхнатона, оказалось напрасным. Его имя предано позору, воспоминания о нем уничтожены, поклонение Атону запрещено, и город, который он построил, все больше и больше приходит в упадок. Все свои надежды я возлагал на Сменхкару. Его правление было слишком коротким, чтобы можно было что-то изменить.
— А Тутанхамон? — спросил сын. — Он молодой, у него будет время…
— Меня не интересует, к чему приведут мои усилия, но я опасаюсь не увидеть этого.
Повернувшись спиной к красной горе, они направились к своим вьючным животным, ослам, которые мирно щипали траву. Секретарь и зодчий последовали за ними.
— Почему?
— Снова сталкиваются слишком мощные силы. Лучше не вмешиваться в битву между слонами.
— Какие силы?
К ним присоединились секретарь и зодчий, и Тхуту сделал знак сыну, что они возобновят разговор позже.
На следующий день регент созвал общее совещание правителей. Наконец собрались почти все — не было только заместителя регента Хоремхеба. Помимо Первого советника там был Майя, Маху, Пентью и новый фаворит, Усермон. Сам того не ожидая, присутствовал также Нахтмин. Что здесь делал военачальник, несущий ответственность за границы?
Тхуту был поражен: отодвинув в сторону Майю и Маху, которые считались нейтральными, Ай объединил вокруг себя тех, кого шепотом называли «бандой Верхней Земли». Нахтмин был его двоюродным братом, Усермон был родом из богатой семьи, проживающей в Верхней Земле, к тому же племянником Гуи, еще одним вельможей из Верхней Земли, в настоящее время наместника страны Куш. И Пентью был его новой продавшейся дьяволу душой. Как и предсказывал Хоремхеб, господин Ахмина готовился взять инициативу в свои руки.
И собрание состоялось в отсутствие Хоремхеба, господина Мемфиса, считавшегося главой Нижней Земли. «Какая же цель этого?» — спрашивал себя Тхуту.
Первый раз с того времени, когда бывший царский лекарь оказался в немилости, Тхуту снова увидел Пентью при обстоятельствах отнюдь не случайных. Двое мужчин обменялись любезными приветствиями, но сдержанно. Первый раз Тхуту увидел и Нахтмина после той ночи в доме Апихетепа в Саисе, когда приказал его арестовать и отстранить от должности. В этом случае приветствия прозвучали весьма холодно.
— Я вас созвал, — начал Ай, — чтобы сообщить о решениях, принятых в результате размышлений, пока я был несколько дней в Ахмине. Порой бывает полезно, — отметил он с легкой улыбкой, — оторваться от улья и посмотреть на все со стороны.
С довольным видом он пробежался взглядом по собравшимся.
— Я решил назначить военачальника Нахтмина Управителем охраны царства.
Маху старался сохранять спокойствие.
— Военачальник Нахтмин, — продолжил Ай, — обладает большим опытом и высоко почитаем в армии Двух Земель. После смерти царя Сменхкары его усилия по наведению порядка в царстве были бесценны. Этот человек отличается прекрасным знанием обстановки не только в городе, как считает Начальник охраны Маху, но также и за его пределами.
Иными словами, Нахтмин, получив это назначение, стал бы выше Маху на голову и полностью контролировал бы охрану. Таким образом, регент решил нейтрализовать Маху.
Ай повернулся к Пентью с таким видом, будто ему очень нелегко поднимать этот вопрос.
— Наш уважаемый Пентью, — начал он, произнося каждое слово с едва заметной саркастической интонацией, — руководил до сих пор царским архивом, и теперь он хорошо изучил это дело. Не сомневаюсь, что он приобрел ценный опыт.
Он выдержал паузу.
«Ценный опыт!» — подумал Тхуту. Разумеется, он теперь знает, к чему могут привести тесные взаимоотношения с богом Атоном и каким непростительным был поступок Эхнатона, когда он в то время отказался ответить на просьбы союзников о помощи! Он узнает также, что милость властителей не может защитить от немилости их преемников.
— Думаю, — снова заговорил регент, — что опыт такого человека можно лучше использовать, нежели для хранения документов прошлого. Поэтому я решил, что отныне на него будет возложена ответственность за дипломатические контакты.
Начальник ведомства иностранных дел. Это был престижный пост.
И внезапно Тхуту посетило озарение. Пентью был единственным человеком, который мог разоблачить Ая, подтвердив его вину в отравлении Эхнатона. Помиловав его, он заставлял его молчать! Никто не мог больше ему угрожать вызовом для дачи свидетельских показаний бывшего лекаря, как это делали он сам и Хоремхеб!
Гениальный ход. Сильным был тот, кто умел договариваться, а это старый шакал делал превосходно — он тоже играл в шашки.
Впрочем, иронический взгляд регента так и сверлил его. Ай ожидал, какова будет реакция Первого советника. Тхуту внешне не проявил ни малейшего волнения; он придал своему лицу выражение мягкого одобрения. Маху бросил на него взгляд, который говорил: «Как? Ты ничего не скажешь? Неужели собираешься согласиться с тем, что этот отравитель станет главой ведомства?» Но он ни на что не реагировал.
— Наконец, я решил сделать еще одно представление, — продолжил Ай. — Здесь присутствует Усермон — племянник наместника Гуи. Совсем недавно он был цветком Дома Жизни при храме Осириса в Омбосе. Оценив его глубокие знания в делах божественных и людских, я решил вырвать его из родной почвы ради пользы царства.
Взгляды были направлены на молодого человека, который скромно улыбался.
«Еще один новобранец Верхней Земли», — подумал Тхуту.
— Я решил его назначить заместителем Первого советника, помощником нашего уважаемого Тхуту.
Взгляды обратились на бесстрастного Тхуту.
— Он будет оказывать содействие своему наставнику со всем пылом своего сердца и поможет ему выдерживать груз обязанностей, который, опасаюсь, не стал легче за последнее время.
Ай устремил взгляд на Тхуту, ожидая, по всей видимости, ответа.
— Усермон может рассчитывать на такую же благосклонность с моей стороны, регент. Между тем, я сожалею… — сказал Тхуту, не заканчивая незамедлительно фразы.
Пауза была великолепной. О чем же сожалел Советник? Все ждали резкого замечания. Нахтмин напрягся.
— Я сожалею, что не смогу в полной мере воспользоваться знаниями Усермона, так как в ближайшее время, регент, я намереваюсь сложить свои полномочия.
Это решение он вынашивал уже в течение нескольких месяцев; теперь ему представился удобный случай.
Все в зале молчали. Было заметно, что большая часть присутствующих огорчены. Это означало многое. Все осознавали, что это заявление свидетельствовало о пренебрежительном, если не презрительном, отношении Советника к устремлениям Ая. Очевидно, Тхуту ясно видел цели банды Верхней Земли и не стремился участвовать в сражении ни с одной, ни с другой стороны.
— Но что ты собираешься делать? — спросил Ай раздраженно, в то время как он, казалось бы, должен был радоваться отставке Тхуту.
Неужели это тот человек, который после нападения на дом Апихетепа привел его в ярость? Ирония судьбы: теперь он был раздосадован его уходом! Но Тхуту не строил иллюзий относительно причин этой досады: Ай хотел сохранить спокойствие в стране до того момента, когда будет в состоянии осуществить окончательную атаку и захватить трон. Получается, что именно он, Тхуту, был одним из гарантов этого спокойствия?
— Регент, в стране много мужчин, которые не являются советниками.
Нахтмин нахмурил брови и спросил, явно пытаясь спровоцировать скандал:
— Таким образом, наше дело не достойно твоих усилий, если ты нас покидаешь, Советник?
Все было предельно ясно. Но наглость Нахтмина разозлила Тхуту.
— Военачальник, я буду молиться за успех твоего дела, если твои интересы будут совпадать с интересами царства.
Ответ был столь же ясен.
— Не желаешь ли ты другой должности? — спросил Ай.
— Да, регент, должности отца семейства от восхода до заката солнца. До сих пор служба царству была моей настоящей супругой. Желаю спать спокойно.
Нахтмин сдержал глупую ухмылку.
— Хорошо, — сказал Ай недовольно. — Теперь я хочу, чтобы мы выслушали соображения Управителя казны.
Майя взял слово.
— Вы знаете, так как уже выслушали мой отчет, что со времени последних двух лет правления царя Эхнатона казна опустела. Три последующих года не исправили положение. Действительно, военные подати снизились по известным всем причинам, и они не превышают пятой части от тех, которые были при правлении царя Аменхотепа Третьего. Я надеялся, что назначение наместником Гуи поможет справиться с этими трудностями. Гуя может действовать эффективно как представитель царской власти. Действительно, за шесть месяцев, прошедших с тех пор, как он получил назначение, мои служащие подсчитали, что он отправил в столицу порядка семи тысяч дебенов
[20] золота, не считая говядины, эбенового дерева, слоновой кости, жемчуга, кораллов и поделочных камней.
Майя выдержал паузу; даже Тхуту его слушал.
— Однако, — продолжил казначей, — в казну попала только десятая часть от этого.
— Куда пошло остальное? — спросил Усермон.
— Наместник направляет собранное непосредственно царю, — ответил Майя. — Отсюда следует, что около шести тысяч дебенов золота пошли на строительство и восстановление храмов и на создание статуй, а также приобретение мебели.
Усермон широко раскрыл глаза. Майя продолжил:
— Военачальники Нахтмин, Хоремхеб и Анумес требуют от меня средств для оснащения армии согласно обещаниям, которые им были даны. Но я не могу удовлетворить их требования.
— Расходы на восстановление культов были необходимы для поддержания порядка в царстве, — заметил Ай. Но мне кажется, что основное уже сделано. Я собираюсь попросить царя направить большую часть податей Куша в казну.
Казалось, Майя был разочарован, так как ожидал другой реакции. Тхуту такой поворот был ясен. Регент не желал, чтобы армия, возглавляемая Хоремхебом, снова надела шкуру зверя. Задерживая обещанные средства, он также наносил вред репутации командующего. Кроме того, он бросал тень на самого Тутанхамона, выставляя его виновником безудержного перерасхода резервов казны, и усиливал недружелюбное отношение Хоремхеба к молодому царю.
Тхуту поздравил себя с тем, что своевременно принял решение: конфликт казался неизбежным.
Без сомнения, будучи очень раздраженным, Майя сделал неожиданное разоблачение:
— Мне кажется, стоит упомянуть о том, что беспокоит верховного жреца храма Амона в Карнаке, — заявил он.
Ай нахмурил брови; ему было известно о жалобах верховного жреца, но он предпочел бы не слышать об этом на совете. Но он не мог заставить Майю замолчать.
— Верховного жреца и все духовенство Амона беспокоит то, что скульптуры царя имеют много божественных символов, как-то венец атеф бога Геба с рогами барана. Возможно, следовало бы напомнить царю о правилах использования символов, особенно венца. Эти нарушения не способствуют возрождению культов.
— Речь не идет о скульптурах, изображающих царя, — запротестовал Ай. — Речь идет о статуях, представляющих богов.
— У верховного жреца другое ощущение, — возразил Майя. — В Триаде храма Карнака царь представлен вместо бога Хонсу. Скульптура была сделана такой по приказу царя.
— Я объяснюсь с верховным жрецом! — воскликнул Ай. — Это просто недоразумение. Во всяком случае, это никак не касается казны!
Тхуту сдержал улыбку. Сначала Майя привел Ая в ярость. Затем он посеял раздор между членами «банды Юга», чего ни Нахтмин, ни Усермон, ни другие, без сомнения, не ждали: Хумоса, что, очевидно, было на руку этим бандитам, стали выводить из себя эксцентрические наклонности царя.
Возможно, Ай был очень рад тому, что Тутанхамон дискредитирует себя, позволяя всевозможные излишества.
30
БИТВА БОГОВ
В царстве наступило время жатвы.
С вечно непроницаемым лицом-маской Тутанхамон слушал рассуждения регента. Тот испытывал неловкость; ему казалось, что он разговаривает со статуей, которая не способна на обычные чувства — сострадание, сомнение, а тем более волнение. Ай хотел вовлечь царя в дискуссию, а затем направить разговор в нужное русло с помощью своих обычных хитростей — сочетанием ласки и угроз. Напрасно. Царь проявлял только безразличную холодность. Интересно, не ошибся ли Ай, приняв мальчика за дурака и решив, что тот не разгадал настоящих причин смерти Сменхкары, к которому, как регент знал, Тутанхамон был привязан. Поэтому он решил придержать свои упреки относительно его излишних расходов и злоупотреблений властью, не упоминая об изображениях царя с венцом атеф на голове.
Он ушел, будучи недовольным и встревоженным.
В течение нескольких последующих недель царь все-таки снизил темпы строительства, изготовления скульптур и мебели и велел передавать в казну большую часть тех сотен дебенов золотого песка, которые ему направлял Гуя.
Время, казалось, все-таки его чему-то учило.
Вечером Пасар пришел тихонько сообщить Анкесенамон, что у одной из беременных наложниц царя на седьмом месяце произошел выкидыш. Он узнал об этом от своей матери. За ужином они собирались выразить царю сочувствие. Она посоветовала царевнам, своим сестрам, не веселиться за столом, так как это был неподходящий случай.
Он сел; Анкесенамон, ее сестры и Пасар также сели и стали внимательно вглядываться в лицо царя, но не нашли никаких изменений. Он говорил о колдовской силе своего скипетра, который по мановению ока мог переносить в другой мир приношения, предназначенные для богов.
Возможно, ему не сообщили о выкидыше?
— Одна из твоих наложниц потеряла ребенка, — сказала ему Анкесенамон.
— Я об этом знаю, — откликнулся он, не выказывая большого разочарования. — Это был мальчик. Жаль. Я отдал приказ сделать мумию.
Анкесенамон не промолвила ни слова. Царевны вытянули шеи.
— Происходят странные вещи, — добавил царь.
И возобновил свой рассказ о магической силе царских атрибутов и о свечении, которое появилось вокруг его головы, когда он надевал корону.
Анкесенамон было его жаль: он потерял не только сына, он лишился слез. Ему столько довелось вынести, что он отвергал любое проявление страдания. А у нее на глаза навернулись слезы.
— Почему ты плачешь? — спросил он.
— Я оплакиваю тебя и потерянного сына.
Он направил на нее бесстрастный взгляд.
— Но ведь еще один на подходе, — сказал он.
— Никакое существо никогда не заменит другое.
Он не ответил. Его взгляд был отсутствующим. О ком он думал? Кого он любил и кого потерял?
Царь выпил немного вина. До конца трапезы он почти не говорил, правда, попросил Пасара сыграть с ним в шашки. И проиграл. Кормилицы увели изумленных царевен готовиться ко сну.
Не каждый день жизнь во дворце Мемфиса была праздником.
— Что нам теперь мешает зачать ребенка? — спросил Пасар, когда они остались одни в комнате.
Это была, в конце концов, их комната. Она отослала Хранительницу гардероба, которая ее раздевала в те дни, когда она спала одна. Ее связь с Пасаром не была секретом для их близких людей.
— Какой смысл рожать этого ребенка? — ответила она, садясь на постель.
— Мы.
Ответ был неясный, но она поняла, что он хотел сказать. Он тоже был растерян. Он больше не был ребенком, ему скоро исполнится семнадцать лет. У него не было ни супруги, ни очага. Он зависел от царицы. И вот уже три года, как они занимались любовью. Ребенок был бы одновременно их воплощением и связывал бы их сильнее, чем брак.
— Это будет царский ребенок, — сказал он.
Это значило, что Тутанхамон его не отвергнет. И представит как своего.
— Ребенок, у которого будет два отца, — произнесла она задумчиво. Затем добавила: — Я опасаюсь того влияния, которое этот ребенок окажет на него.
Он, вот кто был ее супругом.
— Он как хрупкий сосуд, — продолжила она. — В прямом и переносном смысле. Ты обратил внимание на его запястья? Его лодыжки? Ему четырнадцать лет, а у него кости девочки десяти лет. Такое впечатление, что он изувечен бурей. Мысль о том, что другие могут зачать детей, а он нет…
— Все же он может… почти, — сказал Пасар, улыбаясь и садясь около нее.
— Сок его рода известно какой.
— Ты говоришь, как моя мать.
Она сняла парик и надела его на подставку. Затем расстегнула платье, кинула его на чересчур разукрашенный стул и сбросила с себя сандалии. Растягиваясь на постели, она заявила, что ее в этот вечер растрогал разговор с супругом, поэтому она не хочет и думать об удовольствиях тела, и более того, этот день не был для нее днем плодородия. Она заснула, свернувшись калачиком, в объятиях Пасара. Ее последняя мысль была о том, что счастливая всегда бывает на другом берегу.
В сопровождении своего преемника Узермона Тхуту шел прощаться с царем.
— В чем причина твоей отставки? — спросил Тутанхамон, бросая на него пронизывающий взгляд.
— Государь, когда наступает вечер, пастух возвращается к себе домой, — ответил Первый советник, улыбаясь.
— Вечер не наступил, и ты не пастух, а Советник. Ты в расцвете сил.
— Государь, в жизни каждого человека наступает время, когда он четко осознает, на что способен. Тогда мудрость советует ему уступить место тем, кто будет полезнее, чем он. Таков, например, Узермон, представить которого тебе я считаю большой честью.
Тутанхамон повернул лицо-маску к вновь прибывшему и одарил его видимостью тени улыбки. Могло показаться, что он смотрит в окно.
— Ты поссорился с Аем?
Тхуту не удержался от улыбки.
— Нет, государь.
— Ты самоотверженно служил моим братьям Эхнатону и Сменхкаре, которые навсегда остались в моей душе. Особенно это относится к Сменхкаре, который был для меня и братом, и отцом. И вдруг ты бросаешь меня. Как же это?
Тхуту стоял не шелохнувшись: у Тутанхамона были те же интонации, что и у Сменхкары, та же склонность нарушать протокол, игнорировать принятый при дворе язык и обнажать душу своего собеседника.
— Уж не присутствие ли твоего преемника мешает тебе говорить?
«Этот мальчик, — подумал Тхуту, — говорит так, будто действительно является богом. Анубис. Маат. Тот, кто взвешивает души»…
— Государь, ты отметил мою самоотверженность, — проговорил он взволнованно. — Позволь выразить тебе признательность.
— Мне надо удалиться, государь? — спросил Усермон.
— Ты можешь остаться, если твоя душа чиста, — ответил Тутанхамон. — Но если ты имеешь отношение к политическим распрям, которые отравляют жизнь двора, я тебе разрешаю удалиться до конца нашей беседы.
Это был вызов. Усермон это отметил.
— Государь, я — прежде всего твой слуга.
— Тогда слушай.
И повернулся к Тхуту.
— Что случилось с Аем?
Тхуту перевел дыхание. Он никогда не мог представить, что этот хилый мальчик может уподобиться ястребу, роющемуся в сердце своей добычи. Он медлил.
— Государь, со времени смерти нашего царя Эхнатона царство разрушалось. Твой брат Сменхкара правил слишком мало времени, чтобы его восстановить. Божественная любовь позволила тебе выполнить то, что он мечтал сделать. Затем вмешался демон Апоп. Нижняя и Верхняя Земли оказались под угрозой разделения. Господин Нижней Земли решил, что сумеет провозгласить себя ее царем. Его схватили, и он лишился жизни. Но уже началось противостояние двух правителей.
— Хоремхеб и Ай, — проговорил царь. — Хоремхеб — господин Нижней Земли и Ай — господин Верхней Земли.
Усермон раскрыл рот и застыл от неожиданности. Тхуту издал короткий смешок.
— Я — слуга гармонии, — заявил Тхуту. — Не судья разногласий между Сетом и Осирисом, между Анубисом и Хатор, между Сетом и Апопом. Я хочу спокойно спать.
Тутанхамон чуть заметно покачал головой.
— Ты устал. И я тоже. Ты понимаешь, почему я ищу спасение в могуществе богов.
«Это речи Эхнатона», — подумал Тхуту.
— Но, как ты сказал, — продолжил царь, — даже обиталище богов омрачено конфликтами. Все началось с бесчестного убийства Осириса Сетом. Мы вроде бы должны ненавидеть Сета, но именно он спас мир от ярости Апопа.
Усермон казался опустошенным. Вне сомнения, Ай описал царя как физически и психически больного мальчика. И вдруг он услышал серьезные размышления о самой первой трагедии — трагедии создания мира.
Тхуту некогда сам сказал Сменхкаре, что идея убийства лежит в центре мира, и тогда отравление Эхнатона было узаконено как совершенное в интересах царства. Ничто не могло продлить жизнь фараону. Осознания им своих недостатков было не достаточно!
— Атон заменил изъян великолепия единственного существа, — продолжил Тутанхамон.
Усермон не верил своим ушам. Впервые величественный монарх заговорил об Атоне.
— Изъян? — переспросил Тхуту.
— Изъян, — повторил царь. — Изъяном является неспособность изменять свои привычки. Это самый большой из всех изъянов. Царство не может избавиться от привычного. Духовенство хотело, чтобы их боги были главными. И тогда нам снова надо будет думать над тем, что Сет убил и расчленил своего брата Осириса, что Анубис отрезал голову своей матери Хатор и что именно этот братоубийца спас мир от хаоса.
Тхуту покачал головой.
— Твоя божественная особа долго размышляла о богах, — произнес он восхищенно.
— И теперь, — продолжил Тутанхамон, — намечается конфликт между Амоном и Пта. Между Творцами мира. Между отцом Осириса и отцом Нефертума.
[21] Конфликт между Верхней Землей, находившейся под властью духовенства Амона, и Нижней Землей, где властвовало духовенство Пта. Неужели я провозгласил Реставрацию, чтобы получить этот результат? А что касается тебя, — сказал царь Усермону тоном, в котором чувствовался оттенок презрения или снисхождения, — неизвестно еще, будешь ли ты солдатом Амона.
Он знал, что его речи будут переданы Аю. Возможно, он этого и хотел — напомнить старому шакалу, что он уже не покорный и слабый ребенок, как считали некоторые.
Интуитивно Тхуту понял высокий замысел монарха: как и оба его брата,
один из которых поклонялся высшему богу, а другой пытался примирить разные культы, он надеялся возродить в царстве ту гармонию, которая отсутствовала в его жизни.
— И чем ты собираешься занять свое время? — спросил он бывшего Советника.
— Государь, неужели я не заслужил немного отдохнуть на земле, до того как настанет время вечного покоя?
— Если я попрошу тебя стать моим личным Советником, не будет ли тебе это в тягость? Ты будешь получать оплату из моих собственных средств и будешь отчитываться только передо мной.
Он его просил о выполнении тех же обязанностей, что были у него при Сменхкаре.
— Честь велика, государь. Как я могу от нее отказаться?
— Действительно, — сказал царь. — Можете идти.
Двумя месяцами позже вторая беременная наложница царя родила ребенка, который прожил три дня. Когда Анкесенамон отправилась успокоить мать, она увидела, что нубийка была столь же хрупкого телосложения, как и царь.
31
МОЛЧАНИЕ И МОЛОТОК
Слова военачальника Хоремхеба гремели в большом зале его дома в Мемфисе.
— Если этот старый шакал думает, что снова сможет усыпить мою бдительность своим притворством и представляя себя умирающим, он ошибается!
Командир Хнумос и верховный жрец Нефертеп, тем не менее, именно этого и ожидали от Ая. Хоремхеб только и делал, что срывал на них свою досаду, если не гнев.
Съежившись в углу, карлик Меней с громадными выпуклыми глазами наблюдал за этой сценой.
— Он воспользовался моим отсутствием, чтобы назначать Нахтмина главой ведомства по иностранным делам! А Усермона — Советником!
— Он выстраивает свои войска, — прокомментировал Нефертеп, как обычно, ровным тоном, — банду Юга. Нахтмин — его двоюродный брат, а Усермон — племянник Гуи, их давнего сообщника.
— Жаль, что Сосенбаль его не уничтожил! — Хнумос вздохнул.
Нефертеп украдкой взглянул на него. Верховный жрец прекрасно знал, что перехват посланника, которого он направил к Тхуту, чтобы предостеречь того от Апихетепа и Сосенбаля, было делом рук Хнумоса. Ничего другого он сделать не мог, но он предупредил, к тому же секретно, Хнумоса, назначенного по приказу Хоремхеба Начальником охраны армии, о содержании послания и личности посланника.
— Сосенбаль был на содержании у Апихетепа, который намеревался перебежать мне дорогу, — заметил Хоремхеб. — Если бы Апихетепу удалось захватить Мемфис и Нижнюю Землю, ситуация стала бы катастрофической. Апихетеп был честолюбивым и нетерпеливым человеком. Дурак.
Хнумос повторно наполнил чаши пивом.
— Не позволим уткам отвлечь наше внимание от крокодила, — сказал Нефертеп. — Назначения регента мы не можем отменить. Опасно то, что в будущем году царь достигнет своего совершеннолетия. Он сможет управлять уже без регента, полномочия которого закончатся. Итак, Тутанхамон злобно настроен по отношению к Аю. Не знаю, как он об этом узнал, но, судя по всему, ему хорошо известно о причастности того к смерти Сменхкары, к которому царь был очень привязан.
— Откуда ты знаешь, верховный жрец, что ему известно об участии в этом Ая? — спросил Хнумос.
— Ибо он это сказал писцу нашего Дома Жизни, которого я ему направил в качестве советчика: они говорили о правосудии загробной жизни, и царь сожалел, что оно не распространяется на земное царство, поскольку отравители Эхнатона и Сменхкары остаются безнаказанными. И писец мне это, разумеется, сообщил и спросил меня, кто эти отравители. Впрочем, не надо быть пророком, чтобы разгадать причину преступления. Тогда Сменхкару и его лекаря обнаружили мертвыми в одной постели. Как только Тутанхамон станет абсолютным хозяином страны, ставлю на кон быка, он сместит Ая.
Хоремхеб вспомнил, как во время столкновения с регентом он сам ему угрожал, обещая, что, если не состоится суд над Апихетепом и его бандой, его арестуют и будут судить за отравление Эхнатона и Сменхкары. Что с ним тогда творилось!
Он велел карлику сходить в кухню за хлебцами в кунжуте.
— Я не сомневаюсь ни на мгновение, — возобновил разговор Верховный жрец, — что Ай тоже осознает опасность, когда на стороне царя будет большинство, в том числе и мы трое.
— И что тогда? — спросил Хоремхеб.
— Ай, как нам известно, не тот человек, который может признать себя побежденным. Ты его называешь шакалом, но у него душа лисы. Слишком давно он страстно желает захватить трон. Он его не упустит, не исчерпав всех своих хитростей.
Карлик возвратился с блюдом с хлебцами и поставил его на стол. Хоремхеб его спровадил и велел не подслушивать под дверью. Карлик уходил, изображая сильное разочарование.
— Он все-таки собирается избавиться от царя, — заявил Хнумос.
Нефертеп повернулся к нему и часто заморгал. Вывод был очевидным.
— Вне сомнения, с помощью яда, — произнес командир.
— Это уже чересчур, — сказал Нефертеп, грызя хлебец. Царь хрупок. Любое неудачное падение может оказаться роковым.
Хоремхеб, казалось, находился под впечатлением от умозаключения верховного жреца.
— Это не будет большой потерей! — воскликнул он.
Отстраненное выражение лица верховного жреца говорило о том, что тот, возможно, не разделяет это мнение.
— Мальчик не глуп, — заметил Нефертеп.
— Он транжирит все золото Куша на храмы, которые строит по всему царству, и заставляет изображать себя в виде бога!
— Он действительно успешно завершил восстановление культов. И он осознает, что возможно столкновение между Пта и Амоном, — настаивал верховный жрец.
Хоремхеб пожал плечами.
— Ты говорил, что ему угрожает преждевременная смерть от руки регента. И что тогда? — спросил он во второй раз.
— И тогда произойдет столкновение между тобой и Аем. Клан Верхней Земли уже достаточно силен. Тебе придется решать, является ли клан Нижней Земли, по крайней мере, настолько же сильным.
Трое мужчин знали: пусть он был заместителем регента, союзников во власти у Хоремхеба не было. Тхуту, чья враждебность к регенту была ему известна, только что отошел от власти. Что касается его многочисленных союзников в Мемфисе и Нижней Земле, они очень хорошо усвоили, что случилось с Апихетепом, и больше не стремились к отделению Нижней Земли.
Но у него в распоряжении был год, чтобы создать свой клан.
В окрестностях Дома Жизни в Карнаке сладковатый запах смешивался с другим, немного тошнотворным. Его источник был очевиден: на солнце сохло несколько десятков листов папируса. Самые свежие и влажные были желтыми, более сухие — почти белыми, припорошенными пылью.
В соседней мастерской писец, сидя на корточках около пучка тростника, очищал его стебли и при помощи острого края иглы осторожно разделял их на аккуратные тонкие полосы. Рядом с ним другой писец брал готовые полосы и выравнивал их по длине на деревянной подставке из пропитанного водой кедра. Он прикладывал одну полосу к другой с точностью хирурга, и когда подставка была ими полностью покрыта, он обдавал полосы горячей водой, в которой были разведены крупчатка и уксус. Затем быстро клал сверху другие полосы папируса — поперек нижних. Когда с этим было покончено, он отрезал медным ножом края полос, а затем смазывал их клеем из муки.
После этого деревянной колотушкой он отбивал полосы и подставлял всю деревянную доску под пресс с зажимами, которым управляли два раба, чтобы хорошо выровнять лист по всей площади. Затем лист аккуратно снимали и на тонких решетках клали сушиться на солнце в тростнике.
Для изготовления листа папируса двоим мужчинам требовалось добрых три часа. И десять часов, включая сушку, на то, чтобы получить лист, на котором не расплываются чернила.
Сладковатый запах, который ощутил Уджбуто, исходил из сердцевины папируса, а тошнотворный — от клея из муки.
Писец, который в это время клал лист на решетку, поднял глаза, узнал Уджбуто и поприветствовал его.
— Все это, чтобы увековечить слова! — заметил, негромко рассмеявшись, писец.
— Не все, благодаря милости Тота! — возразил Уджбуто таким же приятным тоном. — Только те, которые этого заслуживают!
Писец пощупал листы, которые сохли.
— Разве вечность не является собственностью богов? — спросил он.
— Безусловно, брат, — воскликнул Уджбуто нарочито строгим тоном. — И кто же решает, какие слова заслуживают вечного существования? — спросил он, поднимая указательный палец.
— Люди, — ответил писарь, перевернув несколько сухих листов.
Они оба тихонько рассмеялись, также заметив, что не знают действительно, какие слова заслуживают вечности, и кто были те люди, которые определяли божественное. Писарь унес сухие листы в мастерскую и разложил их перед своим коллегой, который их сначала рассматривал при боковом освещении, затем, взяв плоский кусок пемзы, стал их окончательно выравнивать.
Именно с помощью такого же куска пемзы с папируса, на который наносили чернилами слова, их затем стирали, чтобы повторно использовать ценные листы.
В конечном счете, пемза была наделена той же властью, что и слова. И молчанием, также как и мужеством, слов. В Домах Жизни и в мастерских скульпторов, которые вырезают слова на камне, это стали замечать в последние годы.
Много слов приходилось соскабливать и сбивать молотком. И это не заканчивалось.
32
ПЛАТА ЗА СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Еще не минул год, отделявший царство от достижения Тутанхамоном совершеннолетия, а Анкесенамон была беременной. Она сообщила об этом Пасару на середине второго месяца, как раз в то время, когда сезон Сева близился к концу. Это было вечером во время приема во дворце Мемфиса, где Нефертеп публично чествовал Тутанхамона как бога-лотос царства.
Пасар сжал ее в объятиях и поднял над собой, так что она чуть не коснулась украшенного орнаментом потолка их комнаты.
— Ты — моя Исис! — воскликнул он.
Она почувствовала легкое опьянение, которое испытала когда-то в полях за пределами дворцов Ахетатона. В детстве. Тогда они наконец соединились, как дерево и земля. И когда он занялся с нею любовью, возникло такое чувство, будто это не он сплетается с нею, а небо сливается с землей, дабы проникнуть в нее и заставить ее сиять. Мир вокруг них померк.
Тутанхамон понял это сразу, как только увидел ее.
— В тебе зарождается новый день, — сказал он.
И маска царя показалась ей более приветливой, нежели обычно.
Оставалось только дождаться рождения ребенка, а оно могло совпасть с пятнадцатым днем рождения Тутанхамона.
— Мы устроим грандиозный праздник в царстве, — заявил он.
Он уехал с Пасаром в поля, раскинувшиеся севернее Фив, учиться запускать, как во время охоты, вращающуюся палицу.
[22]
Она была изготовлена из эбенового дерева и напоминала по форме маленькую арку, за одним исключением — она слегка напоминала шаг спирали. Странно, как бы далеко ее не запускали, она всегда описывала большой полукруг, достигнув своей цели, и возвращалась в исходную точку. Царь восхищался тем, что неодушевленный предмет несся к своему хозяину, как ястреб или одна из борзых, которые каждый раз следили за его полетом.
Будучи не у дел долгие годы, так как Сменхкара почти не охотился, а Тутанхамон только-только начал осваивать это приятное занятие государей, Смотритель царской охоты теперь обучал царя искусству запуска этой палицы. Надо было выбрать цель, определить траекторию и скорость полета, затем бросить палицу, прикинув, за какое время она достигнет цели. Искусство запуска состояло, таким образом, в быстроте и точности определения точки, где палица пересечется с траекторией движения животного.
— Вращающаяся палица, — сообщил Смотритель охоты, — предназначена для охоты на утку и зайца. Все-таки, — добавил он, — попасть в зайца труднее, так как при этом палица летит низко над землей, и преуспеть в этом позволяет только длительная практика.
Вначале Тутанхамон запускал палицу слишком рано или слишком поздно, слишком низко или слишком высоко, или недостаточно сильно. Затем не раз бывало, что по возвращении это оружие чуть не попадало ему в голову или по телу, и только ловкость Пасара и Смотрителя охоты позволяла избежать несчастного случая. Но со временем, а особенно благодаря соперничеству с Пасаром, он все лучше и лучше осваивал тонкости запуска и несколько недель спустя убил свою первую утку.
Маска царя, как отметил Пасар, изменилась; теперь она излучала гордость. Птица была доставлена в кухню дворца, где ее поджарили и приправили специальным соусом с имбирем, которого до этого никогда не удостаивалась на памяти повара ни одна утка. Анкесенамон, смеясь, попробовала дичь.
Тутанхамон скоро стал приверженцем вращающейся палицы; практика ее запуска была ему более доступной, чем стрельба из лука, которая вытягивала из него все силы. После трех выпущенных стрел, даже со специально изготовленным для него луком, он уже не мог больше натянуть тетиву.
Смотритель охоты стал приближенным монарха. Через какое-то время он сообщил царю, что знать Мемфиса давно стремилась удостоиться чести участвовать с его величеством в охоте на газель.
Смотритель дал понять, что эти люди уже давно удивлялись тому, что царь не охотится, и им интересно, в состоянии ли он это делать.
— Я не стреляю из лука, — ответил Тутанхамон. — Можно ли охотиться на газель вращающейся палицей?
— Такое вполне возможно, твое величество, но это противоречит традиции. На газель охотятся с луком, как это делали все цари.
— Что даст мое присутствие на охоте, в которой я не могу принять участие?
— Твое величество, — тонко заметил Смотритель охоты, — кто знает, откуда летит стрела? Твое величество натянет лук и выпустит стрелу. А стрела более опытного в этом искусстве лучника настигнет животное, и мы уверим всех, что в этом заслуга твоего величества.
Тутанхамон размышлял.
— Царю не пристало пользоваться обманом, — ответил он.
В глазах Пасара он прочел одобрение.
— Твое величество, — настаивал Смотритель охоты, — неужели нельзя допустить невинный обман, проявляя благосклонность к знати Мемфиса?
Так как на многих барельефах Тутанхамон заставил изобразить себя во время охоты с луком, это звучало убедительно. Но все же Тутанхамону претил обман.
Несколькими днями позже по Мемфису пошли слухи, что царь собирается устроить большую охоту на газелей. Пасар не сомневался, что Смотритель охоты был автором этих слухов, Пытаясь таким образом принудить царя организовать охоту. Но каждый горел желанием принять участие в первой царской охоте с собаками, и Первый придворный был завален прошениями, если не угрозами. Тутанхамон позволил себя уговорить; иначе он разочаровал бы многих.
Выехали утром. Знать охотилась верхом, всего было около пятидесяти человек, все со своими егерями и собаками. Царь же воспользовался привилегией охотиться со своей колесницы, управляемой Пасаром. Как во время парадов, на платформе колесницы также должен был находиться командир — для того, чтобы поддерживать царя во время толчков, когда тот будет натягивать лук.
Тхуту, верхом на лошади, следил за колесницей вместе со Смотрителем охоты.
Около десяти часов наблюдатели заметили стадо газелей на расстоянии в тысячу шагов. Пасар взмахнул кнутом, и лошади помчались галопом. Местность была ухабистой, и было опасно мчаться в колеснице. Командир с трудом успевал поддерживать Тутанхамона, который, вытащив стрелу из колчана, старался натянуть тетиву.
Неожиданно мчавшийся галопом всадник задел колесницу, и, опасаясь столкновения, Пасар стал кричать неосторожному охотнику, чтобы тот отъехал в сторону. Услышал ли он его? Всадник внезапно наскочил на лошадей колесницы. Те запаниковали, заржали и резко рванули в сторону. Колесница опрокинулась, наскочив на крупный камень. Подобно камню, выпущенному из пращи, Пасара подбросило в воздух, и он рухнул на каменистую почву. Командир крепко обхватил царя руками и своим телом защитил его при падении, когда оба мужчины вывалились из перевернутой колесницы. В тот момент лошади продолжали бег, таща за собой с адским грохотом остов повозки на разбитой оси, затем они остановились.
Всадник исчез.
Только что примчавшийся Тхуту соскочил на землю. Он помог Тутанхамону подняться.
— Государь, как ты себя чувствуешь? Ощущаешь ли ты боль?
Собравшись с духом, Тутанхамон пытался определить, не сломаны ли у него конечности. Поступок командира спас ему и кости, и жизнь — он только ушиб плечо.
— А ты как себя чувствуешь? — спросил он командира, который лежал на земле.
Не получив ответа, он наклонился к своему спасителю. На нем не было видно крови, но глаза были широко открыты. Царь задрожал. Потормошил командира, и по тому, как у того дернулась голова, понял, что тот умер, ударившись о камень затылком. Царь зашатался. Тхуту подхватил его.
Прибежал запыхавшийся Смотритель охоты.
— Государь… Что случилось?
Тутанхамон посмотрел на него, не отвечая, и положил руку на кинжал.
— Где Начальник конюшен? — спросил он наконец.
Прибежали другие охотники. Распластавшееся на камнях неподвижное тело Пасара обнаружили быстро.
— Пасар! — закричал царь.
Пятно крови вокруг головы уже пропитало почву. Пасар умер — у него был разбит череп.
Царь выпрямился и посмотрел вдаль. Его мертвенно-бледное лицо, как показалось Тхуту, было похоже на каменную маску.
— Кто этот всадник, который нас задел и стал причиной несчастного случая? — спросил царь у потрясенной знати.
Все были ошеломлены. Никто из них не задевал колесницы — они все бросились вперед, по обе стороны колесницы, оставляя свободное место для стрел царя. Никому из них царь не нанес оскорбления, даже непроизвольно, так что им не из-за чего было бросаться на колесницу.
— Ну что ж, — произнес царь. — Пусть двое из вас повезут на своих лошадях тела этих прекрасных людей, которые спасли мне жизнь, и пусть один из вас уступит мне свою лошадь, а сам сядет с другим.
Он сказал это тоном, не терпящим возражений, и трое всадников спешились, чтобы повиноваться и поднять мертвых, хотя прикосновение к трупам вызывало у них отвращение.
Смотритель охоты поспешил помочь царю подняться.
— Нет, не ты! — закричал царь. — Ты помоги мне! — велел он, указывая на Тхуту.
Смотритель охоты попятился в ужасе. Царь публично его оскорбил. Советник соединил руки так, чтобы помочь царю взобраться на лошадь. Уже сидя верхом, Тутанхамон снова окинул взглядом горизонт, и все остальные последовали его примеру: вдали, на западе, двигалось облако пыли, уже очень далеко.
— Всадник! — закричал кто-то из знати. — Я попытаюсь…
— Нет, — сказал царь, — он уже слишком далеко. Возвращаемся.
Это была похоронная процессия, все двигались шагом. В течение всего пути, занявшего три часа, никто не проронил ни слова.
Оба трупа сняли с лошадей во дворе дворца с помощью стражников.
Тутанхамон незамедлительно приказал арестовать Смотрителя охоты.
— Ты организовал это покушение, — заявил он ему.
— Твое величество, я…
— Как только отрубите ему голову, — сказал Тутанхамон, указывая на стоящего перед ним осужденного, — положите ее в сундук и отправьте его регенту Аю вместе с посланием, которое я вам передам!
Затем он направился в свои покои в сопровождении Первого придворного и Тхуту, повергнутого в ужас.
Тутанхамон сам решил сообщить новость своей супруге. Впрочем, не было необходимости что-то объяснять — его вид был достаточно красноречив.
По мере того как царь приближался, ужас разрастался в глазах Анкесенамон; кульминация наступила, когда Тутанхамон ее обнял. Такое проявление нежности было исключительным.
— Пасар? — прошептала она.
Он кивнул.
Она стала оседать на пол.
Сати закричала. Появилась придворная дама, и они вдвоем отнесли царицу в постель.
В дверях появился Тхуту.
Царь взялся за его руку, так как не знал, куда делась трость, и повел его в свой кабинет.
Там он сел, вызвал секретаря и начал диктовать тому послание. У писца был испуганный взгляд: ссылаясь на достижение совершеннолетия, царь освобождал регента от его обязанностей и просил принять по этому случаю подарок, который он прилагал к рескрипту, незамедлительно принятому к исполнению. Затем он приложил свою печать и велел секретарю передать документ нарочному, который должен был его доставить вместе с сундуком Аю.
Царь посмотрел на Тхуту.
— Государь, тебе незамедлительно надо заручиться поддержкой Хоремхеба, прежде чем это послание будет отправлено.
На какое-то мгновение Тутанхамон задумался и кивнул.
— Ты прав. Задержи посланника и попроси секретаря вызвать командующего. И вели принести нам пива.
33
ВЗБУЧКА
Было около семи часов вечера, когда секретарь царя вошел в большой зал, где ужинали Хоремхеб, Хнумос и Мутнехмет. Удивление командующего и заместителя регента, его супруги и командира было безмерным. Карлик Меней выкатил глаза еще больше, чем обычно. Как правило, при необходимости из дворца направляли гонца, но в этом случае именно высокопоставленный писец явился с сообщением; кроме того, по негласному соглашению было принято не заниматься делами царства после захода солнца. Ночные посланцы принимались незамедлительно. И только чрезвычайное событие оправдывало прибытие царского секретаря. Верхом!
— Что произошло?! — воскликнул Хоремхеб.
— Твое превосходительство, случилось неслыханное…
— Но что?
Огорченное лицо писца еще больше встревожило троих сотрапезников.
— Что-то случилось с царем? — спросил Хоремхеб.
— На самом деле чуть было не случилось. Наш царь требует, чтобы ты явился, и как можно быстрее, ему нужен твой совет.
Встречи Хоремхеба с монархом были эпизодическими и чаще всего формальными. Но царь есть царь и, в любом случае, заместитель регента не мог проигнорировать событие, которое угрожало трону, а следовательно, царству, и наконец, ему самому. Хоремхеб встал, направился к конюшням, вскочил на свою лошадь и, подъехав к дому, присоединился к секретарю. Они вместе отправились во дворец в сопровождении небольшого эскорта.
Военачальник никогда не видел, чтобы у царя было такое выражение лица. Тутанхамон застыл в кресле со столь мрачным взглядом, как будто ему пришлось испытать все гнусности ада. Перед ним сидел бывший Советник, Тхуту, также чрезвычайно подавленный. Последний встал, чтобы встретить Хоремхеба и секретаря, и предложил кресло посетителю.
— Должен ли я остаться, государь? — спросил секретарь.
— Да. Закрой дверь.
Царь рассказал Хоремхебу обо всем, что могло помочь понять причины несчастного случая. Глубоко потрясенный, командующий повернулся к Тхуту и сказал:
— Я это предвидел.
Тхуту сокрушенно покачал головой.
— Шакал снова взял инициативу в свои руки.
— Он не хотел, чтобы я дожил до своего совершеннолетия. Эта поспешность будет стоить ему регентства, — сказал царь.
Хоремхеб вытаращил глаза.
— Я приготовил рескрипт об отстранении его от должности, — объяснил Тутанхамон.
Шире открыть глаза Хоремхеб уже не мог.
— Было бы желательным, чтобы ты дал свое согласие.
Желательным? Обязательным! Мысленно Хоремхеб попытался оценить сложившуюся ситуацию. Царь не намеревался проигнорировать попытку убийства. Будучи отстраненным от должности, Ай попытается восстановить свою власть при поддержке армии под командованием Нахтмина. Он захочет вернуть себе регентство, а может, и того хуже. Только Амону известно, что за этим последует, возможно, воцарится хаос. В любом случае, Ай снова приблизился бы к трону и Нахтмин получил бы полную власть над армией. Этого нельзя было допустить. Следовательно, надо защитить царя с помощью армии и посоветовать Нахтмину держаться в стороне от конфликта, так как противостояние армий, возглавляемых Хоремхебом и Натхмином, нанесет только вред обоим военачальникам.
Очевидно, интересы трона и Хоремхеба совпадали. Следовало незамедлительно проучить этого старого шакала.
«Ах, если бы только Сосенбаль смог всадить ему кинжал в сердце!» — подумал военачальник.
— Отстранения Ая недостаточно, надо бы устроить над ним судебный процесс, — сказал он.
— Это приведет к непредвиденным последствиям, — возразил Тхуту.
Хоремхеб покачал головой. Верховный жрец Нефертеп его об этом предупреждал: у него не было поддержки, необходимой для противостояния силам Юга. В настоящий момент стоило ограничиться поддержкой царя и воспользоваться затишьем для укрепления обороны Севера.
— Государь, — сказал он, — рассчитывай на меня.
Царь сделал знак секретарю и велел ему отправлять сундук и рескрипт.
— А что в сундуке? — Хоремхеб был удивлен.
— Голова Смотрителя охоты, — пояснил Тутанхамон.
Военачальник подскочил от неожиданности: стало быть, царь способен на насилие! Хоремхеб спросил Тхуту взглядом; тот — тоже взглядом — ответил, что пора публично предупредить регента и его прислужников.
— Ай, — заявил Хоремхеб, — сделает попытку повести армию на Мемфис, чтобы вернуть себе регентство.
— Что еще? — спросил царь.
— Наилучшие сражения — это те, которые не происходят, государь. Я постараюсь объяснить Нахтмину, что это не в его интересах.
Заседание было закрыто. Хоремхеб простился с царем и поцеловал ему руку. Он удивился, ощутив в столь тонких пальцах энергию и заметив жестокость на этой застывшей маске. Тхуту и секретарь проводили его до двери.
Царь вместе с Тхуту ужинал поздно; скорее это была легкая закуска, чем основательный прием пищи: два мясных шарика, каждому по хлебцу и финики.
Несколько тускло освещенных лодок плавали по реке, напоминая светлячков. Боги, казалось, спали. И кто же тогда наблюдал за миром?
Тутанхамон вызвал своего Хранителя гардероба, и Тхуту, такой же изнуренный за этот день, как и он, поздравил себя с тем, что может отправиться ко сну.
Гнев Ая, получившего сундук с головой Смотрителя охоты и царский рескрипт, Шабака счел одним из самых ужасных бедствий, при которых он когда-либо присутствовал.
Старик вскочил и заорал. Он орал во все горло.
Стражники, охраняющие кабинет регента в Фивах, подвергали себя опасности, подглядывая в щель в двери, дабы удостовериться, что их хозяина не убили.
В некотором смысле так оно, несомненно, и было. Ай был удручен.
Мало того что заговор, организованный с участием Смотрителя охоты, старого верного друга Ая со времен Эхнатона, потерпел неудачу. Тутанхамон выжил.
И он, Ай, лишался регентства.
Наконец с него сорвали маску!
Смотритель охоты был обезглавлен, и его голова, уже затвердевшая и вонючая, лежала в сундуке, стоявшем на столе. Покойник словно скалил зубы.
— Это — война! Война! — гремел Ай. — Он у меня получит, этот несчастный земляной червь, происходящий из гнилого дерьма Апопа!
Когда соки животного, которые тридцать пять веков спустя Мыслители Домов Жизни назовут адреналином, исчерпались в теле пятидесятишестилетнего человека, Шабака, по собственной инициативе, отправился за Усермоном.
Войдя в просторный кабинет регента, новый Первый советник обнаружил хищника в человечьем обличье распластавшимся в своем кресле. Хищник бросил на него недобрый взгляд. Затем Усермон вздрогнул от ужаса при виде открытого сундука. Шабака ему указал на рескрипт об отставке, лежавший на столе; Советник его прочел. Он ничего не знал о заговоре во время охоты на газелей. Между этим ужасным трофеем и рескриптом, разумеется, была связь, но какая? Шабака коротко изложил факты, которые были ему известны, но ничего не сказал о заговоре.
— Упразднить регентство? — удивился Советник. — Он это может?
— Через несколько дней он достигнет совершеннолетия, — выговорил наконец Ай.
— Он должен чувствовать себя уверенно, чтобы продиктовать подобный рескрипт, — заметил Усермон.
— Вызови Нахтмина, — приказал ему Ай.
Часом позже в комнату с мрачным видом вошел военачальник. Ему пришлось оставить в срочном порядке направленного к нему посланца от Хоремхеба. Он уже все знал. Посмотрел на голову Смотрителя охоты и рескрипт, не проявляя удивления.
— Можем ли мы окружить Мемфис? — резко спросил у него Ай.
— Нет, — сразу же ответил Нахтмин.
Ай опешил.
— Как — нет?
— Его защищает гарнизон города и войска подкрепления, которые в пути или уже прибыли в Мемфис по приказу Хоремхеба.
Ай недоверчиво посмотрел на него.
— Тогда я буду отстранен и ничего не смогу сделать? Я? Никто ничего не может сделать?
В его голосе появились тревожные нотки.
— Тутанхамон не смог бы так действовать, если бы не рассчитывал на поддержку Хоремхеба, — пояснил военачальник. — Было бы сумасшествием поднимать половину войска царства против другой.
— Можешь ли ты переубедить Хоремхеба?
Нахтмин посмотрел на регента, как если бы тот лишился разума. Такой вопрос! Убеждать злейшего врага регента встать на его сторону! Он не потрудился даже ответить.
Ай съежился.
— Лучшее, что мы могли бы теперь сделать, — это вести переговоры, — заявил Нахтмин.
Усермон вытянул шею.
— Вести переговоры? — повторил Ай.
— Подключить Хумоса и получить должность Советника Верхней Земли.
Что означало определить бывшего регента в подчинение Первому советнику, которого он сам назначил, — Усермона.
Ай издал звук, который походил на рычание. У него больше не было сил кричать.
— Мемфис теперь будет гудеть от невероятных слухов, — продолжил Нахтмин. — Пятьдесят представителей знати присутствовали на этой охоте. Действия неизвестного всадника привели к тому, что царская колесница перевернулась. Оба человека, находившихся в ней, скончались, но царь остался невредимым. Значит, его защитили боги. Но кто же этот коварный изменник, который предпринял столь наглое нападение? Тем, кто не был в курсе дела, болтливость стражников дворца позволит это узнать: человек, которому царь велел отправить голову Смотрителя охоты…
— Хватит! — закричал Ай.
— …Для пробы сил момент был выбран плохо, — продолжил Нахтмин невозмутимо. — Все сорвалось и закончилось плачевно, как и в случае с Апихетепом.
Военачальник направился к двери и остановился на пороге:
— Необходимо похоронить этот кошмар, — сказал он, обращаясь к Шабаке и указывая на отрубленную голову.
Затем он вышел, оставив троих мужчин в подавленном состоянии.
Шакал получил взбучку.
34
ПРИКАЗ, ОТДАННЫЙ ЛЬВОМ
Мутнехмет, Сати и повитуха находились у изголовья Анкесенамон. Лежа с приоткрытыми глазами, та слабо дышала.
На рассвете у нее случился выкидыш.
Сати первой услышала стоны и ринулась к постели царицы. Она сразу же поняла, что произошло непоправимое. Она подобрала недоношенного ребенка, проделала необходимые процедуры, затем позвала на помощь. Прибежала служанка, они подняли неподвижно лежавшую царицу и перенесли ее на ложе.
Сати вызвала Сеферхора и повитуху. Лекарь прописал царице целебные снадобья и сам принялся за работу: с помощью трубочки из золота он ввел во влагалище порцию воды Туерис, то есть экстракта лишайника, фиалки и белой ивы с очищенной водой. Затем заставил царицу выпить смесь вытяжек из хмеля и мака, успокаивающих душу и сердце и оказывающих снотворное действие.
Дрожь и сильное потоотделение, мучившее царицу в течение первых утренних часов, уменьшились. Частота дыхания замедлилась. Но царица оставалась очень бледной. Могло отказать сердце.
Мутнехмет, пришедшая выразить царю свою преданность и возмущение совершенным покушением, узнала, что царица, ее племянница, больна. Она поднялась наверх, чтобы повидать ее, и узнала о несчастье.
Анкесенамон взглянула на лица трех женщин, стоявших возле ее ложа. Никто не мог представить себе ее горе. Она отняла руку, за которую ее взяла Мутнехмет, и сказала со слабой улыбкой, что хочет спать.
В действительности она желала вечного сна.
Сати проводила Мутнехмет и повитуху до двери. Увидела мельком в коридоре царевен, которые пришли узнать, могут ли они повидать сестру.
— Позже. Сейчас она отдыхает.
«Ей необходим долгий отдых, — говорила она себе, — чтобы восстановить силы». Уж она-то знала, насколько слаба царица.
Она отправилась в свою комнату и подняла корзину с кобрами. Одна из взрослых кобр устремила на нее любопытный взгляд.
— Я вас просила защитить ее, — сказала Сати. — Надо было понять, что вы должны защищать также того, кого она носила в себе и кого любила. Это — несчастье, — добавила она со слезами на глазах. — Очень большое несчастье.
Показались слезы и из глаз рептилий, которые смотрели на Сати, словно они были в отчаянии.
Нет, они ничего не поняли.
Большой зал дворца и Зал судебных заседаний были заполнены знатью, высокопоставленными особами и послами иностранных государств, пришедшими засвидетельствовать свою скорбь. Секретари и писцы не знали, куда складывать послания и подношения, и когда царь, опираясь на трость, появился ненадолго, чтобы выразить благодарность собравшимся, его осыпали уверениями в верности, криками горя и возмущения и призывами наказать виновников. Без конца целовали его руки и платье. Сопровождаемый Главным распорядителем церемоний Уадхом Менехом, еще более безутешным, чем когда-либо, а также Тхуту, своим секретарем Итшаном и носителями опахал, он говорил слова утешения и благодарности.
Для провозглашения его совершеннолетия обстановка была подходящей.
Но он желал это сделать при других обстоятельствах, не таких трагических. Он поднялся на верхний этаж и стал беседовать с Сеферхором.
— Государь, — сказал лекарь, — Ее величество спит, и я постарался сделать так, чтобы она спала как можно дольше. Сон — отрада для души. Я не думаю, что она поправится раньше, чем через несколько дней.
После этого царь отправился в гарем. Там царила гнетущая тишина. Место плотских удовольствий стало местом траура. При появлении царя наложницы поднялись. Затем они стали падать ниц, целуя его ступни и обнимая ноги. Они сетовали по поводу несчастного случая и ликовали из-за того, что божественные силы спасли его.
— Где Таемуадхису? — спросил он.
— Возле покойника.
Тогда он пересек дворец, чтобы попасть в то крыло, где находились покои Начальника конюшен. Там было людно, родители и друзья, рыдая, окружили ложе покойника, прежде чем его телом займутся бальзамировщики. Все расступились, чтобы дать дорогу царю. Матрона гарема с большим усилием, шатаясь, поднялась на ноги.
— Не вставай, — велел ей царь.
Она упала на колени и схватила руку, протянутую ей царем, целуя ее и покрывая слезами.
— Я словно потерял брата, — сказал он.
— Какая честь, твое величество…
Она не смогла закончить фразу, залилась слезами. Знала ли она, что ее траур был двойным? Ведь она потеряла и внука. Но царю не надлежало сообщать ей об этом.
Он долго рассматривал лицо Пасара.
Если его супруга любила этого человека, значит, он также должен испытывать к нему любовь и печалиться по поводу его утраты. Кроме того, Пасар был его товарищем, они вместе проводили счастливые деньки. Царь ему часто завидовал, но никогда не ненавидел.
Он был молод. Осирис снова и снова падал под ударами Сета.
— Я построю храм в его честь, — сказал царь.
Она покачала головой. Храм. Тело одного из двух ее сыновей через два дня будет передано бальзамировщикам.
Тутанхамон покинул ее. Ему хотелось поместить в сундук не только голову Смотрителя охоты, но также голову свергнутого регента.
Вечера стали вдвое длиннее в отсутствие Анкесенамон и Пасара. Не считая редких официальных ужинов, Тутанхамон чаще всего трапезничал вечером в обществе Итшана, единственного оставшегося близкого друга, и царевен. После одной или двух партий в шашки, сопровождавшихся рассуждениями о событиях дня, о продвижении строительства того или иного храма, о талантах скульптора, золотых и серебряных дел мастера или еще кого-нибудь, а также о закупке лошадей или борзых, царь уходил, справлялся о здоровье Анкесенамон и ложился спать.
Иногда Итшан украдкой наблюдал за ним. Он изучал маску, доброжелательную по отношению к нему, но царь всегда держался отстраненно. «Соблюдал ли царь обет жреца?» — спрашивал он себя. Спал он один, посещал гарем только по обязанности, а со времени несчастного случая больше вообще не показывался там. Только однажды вечером он позволил себе высказать свои соображения.
— Боги возвысили мою семью и заменили мне ее собой.
Между тем непреходящая грусть во взгляде его царственного компаньона убеждала Итшана в том, что Тутанхамон ощущал большую потерю, которая выпала на долю Анкесенамон.
Три царевны могли бы в какой-то степени компенсировать отсутствие царицы, но Тутанхамон делился с ними только воспоминаниями о речных прогулках на борту «Славы Атона». Они не знали, чем заняться. Когда они заканчивали болтать о пустяках с дочерьми знатных особ, они наряжались и пробовали благовония. Болезнь сестры сделала их более серьезными. Он пытался узнать, есть ли у них воздыхатели, и не обнаружил таковых. Они ожидали, что царь — а кто другой отныне мог это сделать, если не он? — позаботится об их бракосочетании с венценосными особами. Тутанхамон заметил проявление интереса у Итшана к одной из них. Старшей из трех царевен, Нефернеферуатон-Ташери, шел пятнадцатый год, красотой и горделивой осанкой она напоминала свою мать. Случалось, Итшан устремлял на нее более теплый взгляд, чем предписывала вежливость.
Царь был бы счастлив, если бы Итшан стал его шурином. Он пытался подготовить к этому царевну. Она его выслушала с удивлением.
— Мои сестры сочетались браком с царями, — сказала она. — Почему я должна довольствоваться простым человеком?
— В этой стране только один царь.
— Неужели нет такового в других странах? — возразила она. — Попроси одного из твоих иностранных послов найти того, кто бы мне подошел.
Он не настаивал.
Оставаясь живым, можно было ощущать себя мертвым. На самом деле траур — это расчленение.
Испытывая легкую затуманенность сознания от хмеля и мака, к чему привело лечение Сеферхора, Анкесенамон была подобна еще не лишившейся сознания утопленнице, которая смотрит на поверхность без желания туда всплывать.
Что там было, наверху? Пасар ушел. И будущее покинуло ее тело. Она легко поддавалась сну, желая, чтобы он был еще глубже и никогда больше не нарушался. Без пробуждения.
Но Сеферхор прятал свои микстуры.
Видения охватили ее пассивное сознание. Она снова видела Меритатон на террасе дворца в Ахетатоне. Неферхеру в лодке. Пасара, протягивающего ей послание с предостережением. Обнаженного Пасара на траве. Она чувствовала даже его сладкий запах. Она снова увидела похороны Сменхкары и плакала, так как из-за сумятицы в мыслях полагала, что это были похороны Пасара.
Она покидала свою постель только затем, чтобы, оставаясь в полубессознательном состоянии, поддерживаемая Сати, осуществить основные потребности.
Однажды в полусне ее охватил смутный страх: если она умрет, тогда в ней умрет Пасар.
— Нет! — закричала она.
Она открыла глаза и увидела озабоченное лицо Сати, склонившейся над ней.
Посоветовавшись с Сеферхором, Сати предприняла нечто странное: она пошла просить начальника зверинца привести льва к подножию постели больной.
— Я это сделаю только с разрешения царя, — ответил тот.
Она обратилась к Тутанхамону. Ему не ведомы были тайные намерения Сати. Но ее кобры спасли его от убийц. Она заверила его, что действует по совету Сеферхора. Он согласился.
Лев послушно остался у постели царицы. Растерянный, немного обеспокоенный начальник зверинца приносил ему на террасу еду. Утром Анкесенамон открыла глаза и увидела смотревшее на нее животное, словно ожидавшее от нее приказа. Его желтые глаза ей это говорили. Она протянула руку, и он ее лизнул; она улыбнулась и положила руку ему на морду. Он вскинул голову. Казалось, он что-то понял. Но что? Он опускал и поднимал голову.
— Что ты говоришь? — шептала она.
Он властно положил одну лапу на постель. Было неизвестно, чего от него можно было ожидать. Сати и Сеферхор следили за этой сценой на расстоянии.
— Что он говорит? — спросила она у Сати.
— Он тебе советует подниматься, — ответил Сеферхор.
Она приложила усилие, чтобы приподняться, и кормилица ей помогла. Хищник теперь смотрел на нее с большей настойчивостью. Она снова улыбнулась. Это произошло впервые за несколько дней. Она встала и попыталась сделать несколько шагов. Ее лицо было повернуто к нему, она едва держалась на ногах. Сати помогла ей выйти на террасу, чтобы там сесть. Лев последовал за ними и лег у ног Анкесенамон.
В первый раз она почувствовала легкий голод. Ей принесли хлебцы и фиги. Лев смотрел на нее, пока она ела.
— Но он замечательный покровитель! — воскликнула Анкесенамон на следующий день.
— Да, — прошептал Сеферхор, который только что прибыл для утреннего осмотра. — Он — знахарь. Он внушает силу. Поэтому твой дедушка умножал его изображения.
[23] В царстве их шестьсот. Я — один из его жрецов.
Таким образом Анкесенамон узнала, что лекарь — один из жрецов Сехмет, членов наиболее древнего братства лекарей царства.
Но как львы и львицы сами излечиваются?
35
МОГИЛА НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
Прошло двенадцать дней с того рассвета, когда она потеряла своего ребенка следом за потерей его отца, и наконец Анкесенамон пришла в себя. Сати, не оставлявшая ее ни днем, ни ночью, наблюдала за ней настороженно. Лев тоже. Буквально за час до этого начальник зверинца приходил его кормить. Казалось, хищник считает покои царицы своими.
Первым желанием Анкесенамон было приступить к полному омовению. Сати была очень рада этому: уход за телом поддерживает душу. Позвали двух служанок, и целое утро посвятили очищению тела царицы от остатков пота — соли, служившей признаком ее прохождения через ад. Она удивленно рассматривала свое тело, руки, ноги и груди, как если бы она их хранила в сундуке бесконечно долгое время.
Наиболее неприятным было омовение половых органов. Она не понимала, зачем нужна была эта щель?
Лев наблюдал за суетящимися
служанками.
Цирюльник явился побрить голову царицы. Наконец она смогла надеть парик.
Одетая во все чистое, она вышла посидеть на террасе. От земли, насыщенной влагой, так как уже наступил сезон Паводка, поднимался пар и окутывал серебряной дымкой прибрежные районы Мемфиса; на севере за пальмовыми рощами едва виднелись большие пирамиды и отдыхающий сфинкс. «Попрошу Тутанхамона, — подумала она, — построить пирамиду для нас». Служанки принесли ей легкий завтрак.
— Что стало с ребенком, которого я потеряла? — спросила она у Сати.
— Он у бальзамировщиков, госпожа. Это распоряжение царя.
Она назвала ее госпожой, как в былые времена.
Анкесенамон удивила забота, которую ее супруг проявил по отношению к недоношенному ребенку, в то время как к своим детям он отнесся с холодностью.
— Через неделю он будет готов для захоронения, — продолжила Сати.
Захоронение? Где? Анкесенамон повернулась к кормилице и растерянно посмотрела на нее.
— В Ахетатоне? — спросила она.
Но в каком склепе? В том, где покоится Эхнатон? Она понимала, что было бы странным хоронить это несчастное дитя подле царя и царицы, окруженных похоронным блеском. И открывать склеп? И кстати, где царь велел захоронить своих умерших детей? Она упрекнула себя за то, что так и не удосужилась спросить его об этом.
— Госпожа, царь собирается построить храм в Мемфисе, чтобы почтить память Начальника конюшен. И он сообщил об этом его матери.
Начальник конюшен. Льва досаждали мухи, поэтому он резко поворачивал голову и щелкал челюстями.
Сати заговорила об этом, считая, что наступил подходящий момент. Довольно долго царица оставалась безмолвной, поглощенной своими мыслями. Она не плакала; возможно, у нее больше не осталось слез. Или она поняла их тщетность — слезы были напрасны. Снова и снова она размышляла о маске Тутанхамона. Ему также пришлось много вынести, прежде чем его глаза лишились слез.
Кормилица рискнула высказать предположение:
— Так как погребение будет проходить в Мемфисе, возможно, мы сможем поместить ребенка рядом с его отцом.
Анкесенамон покачала головой.
— Когда будет готова мумия Начальника конюшен?
— Через шестьдесят два дня, госпожа.
— И как долго…
Она не закончила фразы, потому что не находила слов. Она собиралась спросить: «И как долго я умирала?» Сати выручила ее — не дала произнести тягостные слова.
— Двенадцать дней, госпожа.
Анкесенамон пыталась представить себе эти похороны — рядом с родителями, и этот маленький саркофаг. Посмотрим. Печальные размышления совершенно вымотали ее.
— Должна ли я предупредить царя и царевен, что царица оправилась от болезни?
— Нет, сделаешь это завтра.
Она не готова была встретиться ни со своими сестрами-простушками, ни с супругом-сфинксом.
Во время очередного утреннего визита Сеферхор порадовался результату своих усилий. Он походил на садовника, который поздравлял себя со спасением яблони. Он советовал своей подопечной чаще бывать на людях, но она, казалось, так не считала. Он напомнил ей о том, что она не сможет долго избегать общества своих близких, это было бы воспринято как бестактность.
— Нехорошо оставаться наедине с собой, твое величество. Одиночество — как влажная тень: оно порождает плесень души.
Лев зевнул. Она пыталась представить себе покрытую плесенью Ка и, не сумев это сделать, покачала головой. Предупреждение Сеферхора растворилось в мыслях царицы, как порошок, брошенный в воду. Она погладила гриву хищника, этого брата Сехмет Милосердной. Анкесенамон согласилась на завтра.
На следующий день Первая придворная дама отправилась предупредить царя о том, что царица поднялась и что она выздоравливает.
Это было в день провозглашения его совершеннолетия. Тутанхамон велел раздавать подданным зерно и пиво в связи с этим событием. Праздничные песнопения были слышны в покоях Дворца. Представление ремесленников на большой рыночной площади было посвящено богу Пта. Он, одетый в плотно облегающее платье, создавал род людской. Человек, исполнявший роль бога, отливал из расплавленной бронзы землю в форме шара, и жрецы воспевали бога и царя, затем, когда бронза охлаждалась, Пта разбивал шар и размахивал статуей царя под радостные крики.
Тутанхамон встал, прервал свою беседу с Тхуту и Нефертепом и поднялся на верхний этаж. Анкесенамон сидела на террасе вместе со львом, расположившимся у ее ног. Она старалась улыбаться и попыталась встать, завидев супруга. Она сильно похудела и была очень бледной. Он склонился к ней, погладил ее лицо и обнял ее.
За долгое время это было первое проявление нежности после того, как он сделал ей предложение на террасе Ахетатона. Она вспомнила, что они остались одни, и заплакала.
— Думай о завтрашнем дне, — сказал он, долго не отрывая от нее взгляда.
Что он ожидал от будущего? Она указала на льва:
— Поприветствуй моего знахаря.
— Ты видишь могущество богов, — ответил он, улыбаясь.
И он наклонился, чтобы погладить хищника по голове, а тот потянулся к нему, как крупная кошка.
— Ты велел строить храм… — произнесла она.
Царица не решалась произнести имя Пасара.
Он кивнул.
— Скоро он будет готов, — сказал он. — Мы там почтим память отца и ребенка.
— А похороны?
— В конце сезона Паводка.
— Откуда их повезут?
— Конечно, из дворца.
— А твои?..
— На горе, неподалеку.
Ей было интересно, выбрал ли он также место для своего погребения.
— А мы? — спросила она.
— Я еще не решил. У нас есть время, — ответил он, улыбаясь.
Затем он схватил свою трость и спустился по лестнице, так как должен был встретиться с Нефертепом.
Вскоре она получила большой букет голубых лотосов, на стебель одного из которых было надето кольцо, украшенное золотым скарабеем; на его панцире были выгравированы в двух рамках имена, они были соединены. Символ будущего.
Царевны явились, чтобы окружить ее заботой и лаской. Они даже предложили ей совершить прогулку по реке. Неуместная идея: Анкесенамон отгоняла от себя душераздирающие воспоминания.
36
ОТКРЫТИЕ РТА
После провозглашения совершеннолетия необходимо было решить некоторые вопросы. Для начала, возложив отныне на себя управление царством, царь должен был возвратиться в столицу, Фивы. Затем ему надо было определить круг обязанностей своего врага, Ая, и своего союзника, Хоремхеба, поскольку его титул заместителя регента больше не имел смысла.
Накануне первый жрец Амона, Хумос, направил царю послание, где заявил о том, что царство может пострадать, если к Аю будет проявлена немилость, и просил его найти для бывшего регента должность соответственно его статусу.
Тхуту вызвал Нефертепа, чтобы посоветоваться с ним.
— Я считаю необходимым сохранять мир, с таким трудом приобретенный, — сказал верховный жрец. — Тебя поддерживает Мемфис, теперь тебе надо заполучить Фивы, которые все эти годы находились в тени Ая.
Тхуту кивнул — это были разумные слова.
— Относительно Ая, — продолжил Нефертеп, — я поддерживаю мнение моего уважаемого коллеги Хумоса. Ему необходима должность, достойная его статуса.
Таким образом, цели Пта и Амона объединялись. Верно, что оба бога считались творцами мира, но бывало, что один из них считался главнее.
— Я предлагаю, чтобы эта должность действительно отражала его реальную власть: Первый советник Верхней Земли. Это ничего не изменит.
Тутанхамон кивнул.
— И Хоремхеб — Первый советник Нижней Земли, — добавил он.
Пришла очередь Нефертепа кивнуть.
— Твое величество, страна сейчас более всего нуждается в мире. И еще в снижении податей.
Тутанхамон стал размышлять над предположением верховного жреца. Безусловно, это было бы гарантией равновесия, а значит, и мира.
— Я вижу определенную проблему: Фивы — столица Верхней Земли, так же как Мемфис — столица Нижней Земли. Я не понимаю, как бывший регент будет жить в Фивах в то же время, что и я.
— Конечно, твое величество, — согласился Нефертеп. — Именно в этом случае будет ценной помощь моего коллеги Хумоса.
— Что он может сделать?
— Он убедит Ая в необходимости покинуть Фивы и являться туда только в тех случаях, когда ты его вызовешь, — ответил Нефертеп с улыбкой. — Позволю себе заметить, что у него роскошный дом в Ахмине. Его отъезд будет пышным.
Тутанхамон согласился. Тхуту также. Царь задержал верховного жреца до обеда.
Небо, наконец, прояснилось. Царь пребывал в превосходном настроении.
Оставался один вопрос, который Тхуту поднял во второй половине дня: состав правителей.
Первый советник Усермон? Творение Ая. Но можно было пока оставить его на этой должности, ничего не давая делать и превращая в дурака.
Казначей Майя? Он не принадлежал ни к одной группировке и действовал эффективно. Бывший любовник Нефертити прекрасно знал, как изменчива власть, и верно служил тем, кто ею обладал.
Маху? Преданный и надежный человек. Но надо бы его освободить от опеки Нахтмина. Его необходимо было отослать подальше — назначить Начальником пограничной охраны. Если последний захочет отправить послание, Нахтмин сможет его получить только через несколько дней.
Пентью? Вопрос был деликатным. Одно только упоминание его имени взбудоражило царя. Он узнал от своего брата, что бывший лекарь Эхнатона был виновен и в его смерти, и в смерти его жены Нефертити.
— Но не в смерти Сменхкары, государь, — заверил царя Тхуту.
И он упомянул о признаниях Пентью Сменхкаре.
— Стало быть, Ай сам убил Сменхкару? — спросил Тутанхамон.
— Вероятно, государь. Пентью тогда был удален из дворца. Твой брат отправил его управлять архивом. У него, насколько я знаю, не было никакого доступа к царю Сменхкаре.
— Но он преступник!
— Наверняка. Но он жив. Оправдав его, Ай тем самым заставил его молчать. Мы можем заставить его служить нам, не выказав ему немилость. Иначе он вновь будет служить Аю.
Это был тот случай, когда за признания в преступлениях дерутся два противоборствующих лагеря. Сама идея вызывала у Тутанхамона отвращение.
— С какой целью заставить его служить нам?
— Нам с Хоремхебом его признания послужили оружием, когда необходимо было вынудить Ая согласиться на судебный процесс над Апихетепом. Мы можем это сделать снова в случае, если Ай будет слишком непокорным.
Царь неохотно согласился с этим.
Что касается наместника Гуи, то даже при том что он примкнул к лагерю южан, он находился далеко, в стране Куш, и не смог бы оказать Аю существенной помощи в случае нового конфликта.
Тхуту торопился отправиться в Фивы в качестве официального советника, чтобы торговаться с Хумосом относительно отъезда Ая.
В Фивах распространялись явно преувеличенные слухи о покушении. Говорили о невероятных битвах, в которых бог Амон в знак благодарности за набожность царя вложил в руку Тутанхамона оружие, дабы помочь ему сразить всадника, пытавшегося его обезглавить, и якобы царь сам отрезал голову напавшему на него. Представители знати шепотом сообщали друг другу, что убийца был послан регентом.
Этого было достаточно, чтобы Тхуту смог убедить Хумоса в том, что ситуация для Ая была неблагоприятной. Регентства больше не было. Если верховный жрец действительно хотел выступить посредником между царем и Аем, он должен был убедить последнего поскорее убраться из Фив, взамен чего царь предоставил бы впавшему в немилость вельможе должность Первого советника Верхней Земли. И еще господин Ай должен был сидеть смирно в своих землях.
Ай на это не соглашался. Он пытался защитить своих союзников, а именно Нахтмина и Пентью. Хумос ему объяснил, что сейчас не время прибегать к уловкам. И в Фивах, и в Мемфисе его подозревали в самом страшном преступлении — посягательстве на жизнь живого бога. Бывший регент проглотил унижение и убрался восвояси в сопровождении Шабаки.
По окончании своей трехнедельной миссии Тхуту вернулся в Мемфис сообщить царю, что Фивы свободны. Тутанхамон отдал приказ о переезде двора в Фивы. На это едва хватило трех месяцев, так как царь хотел увезти все собранное во дворце имущество. Таким образом, в Фивы прибыли к началу сезона Сева.
Новость об отъезде Анкесенамон восприняла без грусти. Мемфис был вторым городом ее любви с Пасаром; чтобы продолжать жить, не испытывая слишком большого горя, ей необходимо было сбросить груз воспоминаний.
Она еще не оправилась после погребения сына и Пасара.
Кортеж выехал из дворца. Это могло показаться странным, но именно там, где Пасар служил Начальником конюшен, он и жил.
На повозке, запряженной двумя белыми лошадьми, были установлены два саркофага — большой и маленький. Это также могло показаться странным, так как у Пасара не было супруги. Но его отец, наместник Гуи, и мать, Таемуадхису, догадывались о связи их сына, и им достало приличия не добиваться подробностей. Исключительная честь присутствия царя и царицы на погребальной церемонии смягчала их недовольство этим двусмысленным положением. Это также вызывало удивление у большинства людей, но все знали, что Начальник конюшен погиб, когда покушались на монарха. То, что царь провожал своего слугу в последний путь, свидетельствовало только о его справедливости и щедрости.
Впрочем, за первой похоронной процессией следовала вторая: одновременно хоронили командира, защитившего царя во время падения. Его погребение должно было совершиться сразу за первым.
Устроившись рядом с Тутанхамоном на носилках, направлявшихся к гробнице, под непрекращающийся крик плакальщиц, Анкесенамон вновь пережила путь прощания, который приходилось проделывать так часто. Эхнатон. Нефертити. Сменхкара. Макетатон. А теперь Пасар и ее сын. Без слез, напичканная снадобьями Сеферхора, она говорила себе, что вся ее жизнь — это длинная похоронная процессия. «Даже живыми, — думала она, — мы их сопровождаем к смерти».
Подошли к только что построенному по приказу царя храму. Внутрь вела единственная дверь с двумя статуями по бокам. Осирис и Исис. Она была ошеломлена: у Осириса были черты Пасара. У Исис — царя.
Саркофаги сняли с повозки. Анкесенамон смотрела на маленький саркофаг белого цвета, покрытый позолоченными надписями, и Тутанхамон остановил ее, когда она собралась выйти вперед и склониться над ним. Гуя и Таемуадхису, а также брат Пасара, окруженные другими членами своей семьи, стояли в первом ряду.
Богослужение совершали трое жрецов. Двое из них обкуривали фимиамом саркофаги, третий, держа в одной руке кремниевые вилы, а в другой — белый кроличий мех, коснулся поверхности саркофага: это было Открытие Рта.
[24]
Мать Пасара выполнила следом за Анкесенамон обряд прощания. Опустившись перед саркофагом на колени, она обхватила его руками. Гуя поднял ее, всю в слезах, и Анкесенамон тоже разрыдалась. Впрочем, плакали многие женщины. Другой жрец произнес текст мертвых:
Я, писец Пта, это я тебе говорю, что ты очищен. Я выполнил обряды под взором бога, ты очищен и твоя слава сияет. Ты отдал богу то, что он тебе дал…
Ветер уносил его слова, а возможно, Анкесенамон перестала что-либо воспринимать. Носильщики подняли саркофаг и вошли в храм. Гуя повернулся к царю и пригласил его войти первым. Пространство внутри храма было заполнено дымом фимиама, смолы и запахами роз и жасмина. В земле была вырыта огромная яма, и в ней ожидали четверо мужчин. Тутанхамон сделал знак своему секретарю, и двое мужчин принесли статуэтку лошади, покрытую золотом. Ее опустили в яму.
— Ты отдал свою жизнь в битве против Сета, — сказал Тутанхамон. — Она теперь вечная, Пасар, Начальник конюшен, так как Осирис, Хорус и Пта принимают тебя к себе.
Начали спускать саркофаг. Члены семьи Пасара бросили цветы. Анкесенамон подошла и бросила букет резеды и жасмина. Затем опустили приношения, статуи слуг, которые будут прислуживать покойнику в загробной жизни, искусственные продукты…
Тутанхамон повернулся к своей супруге. Теперь ее лицо превратилось в маску.
Носильщик поставил на подмостки белый саркофаг, в котором покоился ребенок. Она подалась вперед. Тутанхамон сжал ее руку. Растерянная, она слушала одного из жрецов, объяснявшего правила Открытия Рта. Таемуадхису повернулась к ней и протянула курительницу, которую взяла у жреца. Это выходило за рамки обряда. Анкесенамон схватила курительницу и держала ее в вытянутой перед саркофагом руке. Заметив непорядок, жрец осторожно забрал у нее курительницу и прочитал молитву за умерших новорожденных.
Ты преодолел два порога, прежде чем цветок твоей жизни увял. Возрадуйся, так как ты праведен и чист и не познал ни несправедливости, ни порочности. Пта берет тебя в свои руки…
Вдруг она поняла, что у нее больше никогда не будет ребенка от Пасара, и разразилась неудержимыми рыданиями. Не думая о соблюдении протокола, вместе с ней плакали Тутанхамон и Сати.
В яму спустили второй саркофаг. Так как у нее не было цветов, Таемуадхису протянула ей букет лилий. У царицы не было сил бросить его, и тогда Тутанхамон сделал это за нее. Нарушив еще раз протокол, Мутнехмет, не сводившая с этого мгновения глаз со своей племянницы, и Сати вывели ее наружу и отвели к носилкам.
Сати понимала, что у нее уже не было сил присутствовать на погребении командира. Достаточно одной царицы, умершей во время похорон. Совсем ни к чему, чтобы при Открытии одного Рта, закрылся другой. Ни кобры, ни львы не были настолько сильны, чтобы защитить людей от избытка горя.
37
ВЕЛИКОЛЕПИЕ И ПОЗОР
Между двумя танцами на середину зала в заведении Несхатор вышел рассказчик. Иногда она заполняла паузы такими выступлениями, пока ее танцовщицы подкрашивали глаза или соски.
У мужчины был довольно большой живот, раскосые глаза и чувственный рот.
— Знаете ли вы историю яйца и горшка? — спросил он, как бы ни к кому не обращаясь.
Никто ее не знал.
— Яйцо затеяло ссору с глиняным горшком, который оскорбил его достоинство, насмехаясь над его хрупкостью. «При первом же ударе ты трескаешься и теряешь жидкость, как женщина, собирающаяся рожать», — говорил рассказчик хрипло, с акцентом, присущим жителям Верхней Земли. «А ты, — теперь его голос стал гнусавым и тонким, — кем ты себя вообразил? В голове у тебя пусто. Ты постоянно жирный, а когда тобою попользуются, то ставят в угол, и лицемеры приходят проверить, не прилипло ли что-нибудь к твоим бокам!» Горшок из глины занервничал: «Ну и яйцо, оно же меня еще и оскорбляет! Ты забыло, что вышло из задницы птицы? — А ты, ты — глиняная задница!» — нагло заявило яйцо.
Публика начала веселиться. Появилось вино и пиво.
— Яйцо почувствовало себя в опасности. Оно отправилось к Медному горшку. И говорит тому: «Привет, дружище! Сегодня ты очень красный! — Дело в том, что меня натерли». В этом месте для медного горшка рассказчик использовал третий голос, энергичный и звонкий. «По крайней мере, ты красивый, когда тебя натирают. И у тебя хорошие манеры. Не то что у некоторых. — О ком ты говоришь? — Вообрази, накануне я встретил глиняный горшок, который, не переставая, плохо отзывался обо всех. — Обо всех? Даже обо мне? — Даже о тебе. — И что же придумала сказать по моему поводу эта деревенщина? — Он сказал, что если тебя не натереть, ты становишься отвратительнее, чем дыра в земле. И что, несмотря на вид здоровяка, ты гнешься при малейшем ударе и создаешь адский шум, чтобы привлечь к себе внимание. — Он так и сказал? — Клянусь Осирисом! Он и мне сказал, что я уязвим, как живот беременной женщины и вышел из задницы птицы. Говорю же тебе, это неучтивый субъект».
Несхатор не знала этой истории и села ее послушать, потягивая из кубка пиво. Она уже начала успокаиваться после потери любовника. Рассказчик продолжил:
— В гневе медный горшок отправился на поиски глиняного горшка. Нашел того, и сходу говорит ему: «Слушай, деревенщина, кажется, ты плохо отзывался обо мне? — Эй ты, хвастун, по какому праву ты обзываешь меня деревенщиной? — Я к тебе обращаюсь так, как хочу, старый бурдюк!» И вот ссора переросла в драку. Совершенно очевидно, что медный горшок оказался немного помят, но вскоре он доказал свою правоту глиняному горшку, который развалился на мелкие части.
Публика ожидала морали.
— Знаете, что я вам скажу, добрые люди? Будьте осторожны с яйцами. У них часто бывают сильные союзники!
Клиенты расхохотались. Раздавались взрывы неудержимого смеха, доходившего до икоты. Слепой арфист тоже смеялся. И музыканты. Клянусь Амоном, они действительно поняли, что означала басня! Только знаки: яйцо — это царь, глиняный горшок — Ай, а медный горшок — Хоремхеб. Несхатор тоже смеялась: хорошее настроение побуждало ее клиентов больше пить. К рассказчику полетели кольца. Тамбурины и кемкем отбивали ритм. Должен был начаться танцевальный номер. Рассказчик нашел себе место, и Несхатор велела подать ему вина.
Фивы вновь радовались тому, что являются оплотом царской власти. Остававшиеся заброшенными на протяжении уже двадцати лет, редко посещаемые царем Сменхкарой, недолго бывшие местом регентства Ая, они наконец принимали в своих дворцах царя.
В течение нескольких недель, пока царская семья размещалась во дворце, представители знати и высокопоставленные особы внимательно разглядывали невообразимое количество мебели, статуй и вещей, которые царь привез с собой в Фивы. Ничего подобного они никогда не видели. Имущество последнего находившегося в Фивах царя, Аменхотепа Третьего, разумеется, было достойно царской особы, но по сравнению с тем, что велел изготовить Тутанхамон, оно казалось деревенским. Какое великолепие! Сколько эбенового дерева, кедра, слоновой кости, кораллов, электрума! Какая тонкая инкрустация! Какая изысканность! Только взгляните на этот эбеновый табурет, инкрустированный розами из слоновой кости! А эти кресла из кедра со спинками, украшенными золотом! И не только золотом, но и разноцветными поделочными камнями в чеканке!
Они изнемогали от восхищения при виде стола из эбенового дерева со столешницей, изготовленной из слоновой кости, разделенной серебряными перегородками, поднятыми на лапах льва, которые, в свою очередь, держались на рифленых цилиндрах из золота. И иероглифы, наполненные золотом, на планке вокруг ножек! Чтобы играть в «гусек»!
[25]
При виде трона лишались чувств даже самые пресыщенные знатоки: покрытые золотой фольгой головы львов на подлокотниках и ножки в виде лап того же хищника; спинку украшал барельеф, инкрустированный поделочными камнями и стеклом, изображающий сидящего царя и царицу, покрывающую ему плечо мазью. Получив привилегию быть принятым монархом, надо было ожидать, когда он встанет и тогда лихорадочно мчаться к возвышению, чтобы восхищаться этим чудом.
Деревянный сундук, плакированный слоновой костью с вырезанными на ней иероглифами черного цвета, стоял в зале царских аудиенций и вызывал столько же комментариев, сколько ссылка бывшего регента: на нем были вырезаны знаки, означающие «Любая жизнь божественна».
И эти кубки из голубого стекла, привезенные из Сирии, которые подавали приглашенным во дворец!
В действительности, претендуя на совершенство, эти вещи были божественными!
Все больше людей признавали этот стиль. Ему не были свойственны преувеличения, в былые времена ценимые Эхнатоном, которые осуждал здравый смысл; нет, он идеализировался, не отходя слишком далеко от реальности, он совершенствовался, не будучи обескровленным. И он был роскошен!
Город Фивы, столь же богатый, как и Мемфис, поблек на фоне этих чудес. Из-за отсутствия эбенового дерева довольствовались кедром, за неимением кедра переходили на смоковницу. Не достает золота? Сделаем из меди. Нет слоновой кости? Тогда используем обычные кости! Беря пример с жителей Мемфиса, жители Фив взяли в привычку использовать обивку из крашеной и вышитой шерсти, класть на пол шкуры зверей и ставить высокие столы для трапезы.
Женщины внимательно рассматривали каждую деталь в одежды царицы, начиная с парика и заканчивая новыми сандалиями с загнутыми носами, которые не давали возможности пыли набиваться при каждом шаге, делая черными пальцы ног. В то время в Фивах считались модными нубийские парики, которые начала носить Нефертити; при первом публичном появлении царица изумила всех своим роскошным париком из длинных волос, заплетенных в две толстые косы, спускающиеся по спине, с голубыми жемчужинами на кончиках волос. Они приняли высокий крой платья; очень длинные пояса, вышитые золотом для самых богатых; убранные разноцветными жемчужинами золотые или серебряные сетки для украшения живота; рукава, спускающиеся до запястий и шали с обилием бахромы, украшенной золотом или жемчужинами согласно средствам супругов.
Эти последние рвали на себе волосы, так как несли невиданные расходы, но поскольку они не хотели отставать от других, то и сами надевали золотые браслеты на оба запястья, как это делали царь и высокопоставленные особы при дворе.
Тутанхамон, появившись в Фивах, позаботился о том, чтобы понравиться жителям столицы!
Встреча с Пентью откладывалась на последний момент, чтобы он понял: царь не торопится получить удовольствие, принимая его.
Вместе с Тхуту, который нарочито стоял подле него, Тутанхамон принимал одного за другим Усермона, Майю, Маху и других вельмож.
Усермона — дабы заявить ему, что отныне именно от воли царя зависит судьба страны, и что при первом же проявлении благодарности к бывшему регенту он рискует навлечет на себя царский гнев.
Майю — чтобы поблагодарить его за стойкость, которую он проявил в выполнении своего долга, и просить его позаботиться о том, чтобы налоги взимались с богатых в полном объеме, что возлагало на него ответственность за взнуздание повального взяточничества в стране. Ему было также предложено привлечь к сотрудничеству Маху для того, чтобы расследовать открыто или тайно, на его усмотрение, сговор крупных землевладельцев со сборщиками налогов.
Наконец, Маху, чтобы проинформировать его об освобождении от опеки Нахтмина и о назначении его Начальником охраны царства. Отныне перед ним ставилась задача преследовать банды разбойников, часть из которых, как подозревали, были созданы крупными землевладельцами. Отряды ополчения высокопоставленных лиц, насчитывающие каждый свыше пятидесяти человек, были упразднены, и их обязанности были переданы управам, а также чрезмерно угодливым городским головам.
Хоремхеб, вызванный в Фивы, был назначен главнокомандующим, что позволяло ему распространить свою власть и на гарнизоны Верхней Земли и покончить с влиянием, на любом уровне, Первого советника Верхней Земли.
Наконец был принят Пентью. Тутанхамон едва узнал его, так как не видел со времени правления Сменхкары. Тхуту узнал. Он заметил следы прошедших лет в облике этого человека, который превратился в инструмент власти: так царапины с годами появляются на ножках мебели. Бросались в глаза отвислые щеки, а взгляд приобрел обычную мутность, свойственную тем людям, кто опасается взглядов охранников.
Он вошел в кабинет царя одновременно и с усталым, и с наглым видом. Это проявлялось в обдуманной медлительности его походки, в посадке головы. Как если бы она теперь была слишком тяжела.
Ему достаточно было увидеть Тхуту, и он уже знал то, что ему собирались сказать.
Он опустился на колени перед царем и поцеловал ему руку. Затем он поднялся, и его взгляд, ясно говорящий о грехе предательства, переместился к бывшему Первому советнику.
— Пентью, — сказал Тутанхамон, узнавший от Тхуту о прошлом человека, который был приближенным к телу царя, — бывший регент назначил тебя главой дипломатического ведомства.
Пентью сохранял молчание — протокол не требовал никакого ответа.
— У Ая, — продолжил царь, — было несколько причин опорочить тебя.
Пентью заморгал; без сомнения, он не был готов к такому точному пониманию своего положения.
— Стало быть, у него были серьезные мотивы, заставившие его преодолеть неприязнь к тебе, раз он назначил тебя на эту должность. Твое назначение явилось, таким образом, неким контрактом верности, — заключил царь.
Тхуту забеспокоился — он рекомендовал Тутанхамону ни в коем случае не припирать противника к стенке. Он сдержанно кашлянул.
Преданный слуга попавшего в немилость человека, как его только что описали, Пентью выдержал взгляд, брошенный на него юношей с неумолимой маской царя. Неужели ему придется провести оставшуюся жизнь, давая гнусные признания? После исповеди предыдущему царю он отказался расставаться с жизнью.
[26] Он подбирал слова.
— Государь, — произнес он после глубокого вздоха, — твоя божественная мудрость осведомлена о том, что в высоких сферах власти часто случается служить двум господам и навлекать на себя недовольство одного или другого.
Тхуту вспомнил разговор с Майей: хамелеон, который менял цвет в соответствии с его окружением. Власть портила тех, кому доставалась; она накапливала в их сердцах тайны, и они там гнили, и обагряла их руки кровью преступлений, которые они были вынуждены совершать, и следы от которых оставались на них вечно. Разложившееся сердце и руки, обагренные кровью, — вот с чем они представали перед Анубисом. Бывший Советник спросил себя, как ему самому удалось избежать этой мерзости, окружавшей трон.
— Твоя верность оказалась ненужной, ты это знаешь, — возобновил царь свое обращение к Пентью.
— Государь, твоя власть — солнце. Она открывает цветы лотоса и сердца людей.
— А ночь их закрывает вновь, — добавил Тутанхамон.
Предупреждение было сделано.
— Иди, — велел царь.
И снова Пентью опустился на колени и поцеловал руку царя.
Когда он ушел, Тхуту смотрел на блеск царской обстановки и почувствовал ее контраст со спокойным бесчестием человека, который только что ее покинул. Неужели монарх окружил себя таким количеством золота ради того, чтобы не думать о грязи, окружавшей трон?
Но бывший Советник знал не обо всем.
В последовавшие месяцы Тутанхамон затеял нечто странное: переделать гробницу Сменхкары. По его мнению, как он объяснил Тхуту, преждевременно ушедший царь был настоящим творцом и сделал много для восстановления царства, уподобившись Осирису, который был принесен в жертву Сетом. И соответствующим образом необходимо было отметить его посмертную славу.
Для начала необходимо было устранить некоторые недочеты. Разумеется, в гробнице были три саркофага, положенные царю. Но имущества, необходимого в загробном мире, было недостаточно.
— Да, я знаю, ты сделал все возможное при организации похорон, — сказал Тутанхамон. — Благодарю тебя за это. Но такой царь достоин особенного почтения, гораздо большего.
Итак, царь задумал соорудить наос, куда потом поместят саркофаги.
— Наос? — удивился Тхуту.
— Увеличенный в четыре раза наос, — уточнил Тутанхамон.
— Но как он войдет в гробницу? — встревожился Тхуту, который помнил, что гробница Сменхкары была заполнена до краев.
— Я увеличу склеп, — спокойно ответил Тутанхамон.
Тхуту не осмелился обсуждать его решение. В таком случае пришлось бы на время земляных работ вынести из гробницы все, что там находилось. Для того, чтобы сберечь сокровища, необходимо было привлечь уйму людей, не меньше ста человек.
Но заказ был сделан, и архитекторы взялись его выполнять. Месяц спустя они представили царю проект действительно увеличенного в четыре раза наоса: четыре деревянные наоса, покрытые золотой фольгой, помещенные один в другой, символизировали дворцы Севера и Юга. Внешний наос был одиннадцати локтей длиной, семи локтей и одной трети шириной и шести локтей высотой.
[27] Все вместе они оберегались четырьмя богинями: Исис, Нефтис и защитницами внутренних органов мертвых Нейт и Селкет.
Это был монументальный проект. Тхуту это озадачило: как перевезти эти небольшие дома до Места Маат?
Пятью месяцами позже ансамбль был завершен. Царь повез царицу и своего Советника полюбоваться им.
Тхуту рассматривал стенки наосов, которые еще не были вставлены один в другой. На панно того, что представлял Северный дворец, он обнаружил сцены из Книги мертвых, где Амон объяснял, как создан мир и какова его божественная природа, и из Книги Амдуат.
[28] Он не сумел расшифровать надписи и спросил у царя, для чего так сделано.
— Это чтобы невежда не смог завладеть тайной загробной жизни, — ответил Тутанхамон, подняв торжественно палец, как жрец.
Тхуту покачал головой.
— Семь слов… — произнес он.
Семь слов, которые позволяли душе умершего принять в загробной жизни ту форму, которую он пожелает, — птицы, животного или другого человека. Они придавали глубокий смысл Открытию Рта; если умершему не дать речь, он не сможет воплотиться в другое существо.
— Да, — подтвердил царь, очевидно, удивленный тем, что Советнику они известны.
Тхуту не переставал поражаться. Анкесенамон рассматривала статуи четырех богинь размером в человеческий рост, которые простерли руки перед внутренними стенками внешнего наоса в защитном жесте и повернули головы к левой стороне; ее это привело в восторг.
— Но… — прошептала она, — у всех четверых черты Меритатон!
Тутанхамон улыбнулся. Так было задумано.
— Как ты это сделал? — спросила она.
— Мы воспользовались изображениями твоей сестры, — объяснил он. — Затем я повез скульптора посмотреть на Нефернеру и объяснил ему, в чем различия между ними.
Эта преданность прошлому поразила ее. Для Тутанхамона Сменхкара не умер, Меритатон не исчезла, ничто не изменилось со времен тех счастливых дней. Все было запечатлено в нереальном и незыблемом великолепии.
Праздник Осириса, отмечавшийся в четвертый, последний, месяц зимы, зимы Хояк, был хорошим поводом совершить второе, блистательное захоронение Сменхкары в присутствии царской семьи.
Хумос признался, что озадачен такой инициативой. Но Тхуту добился его согласия, выдвигая в качестве аргумента то, что для царя имя Сменхкары связано с Реставрацией и что он считает себя всего лишь его преемником.
Гробница в некрополе Фив была предварительно открыта и опустошена под постоянным наблюдением военных. Рабочие спешили увеличить втрое пространство гробницы. Наосы были погружены на большой корабль и накрыты чехлами, чтобы сияющее на солнце золото не вызвало вожделения у воров.
Некоторые ящики с дополнительным количеством имущества и погребальных вещей, еще более роскошных, чем те, которыми обеспечил Тхуту усопшего царя при первом захоронении, были погружены на другой корабль.
Царская семья отправилась в путь на «Славе Амона». К счастью, паводок спал, течение успокоилось. Наконец прибыли к месту погребения. Наосы были выгружены, каждый установили на повозке, запряженной четырьмя быками, затем их доставили к гробнице. Трое жрецов, армейский командир с подразделением из ста человек и городской голова ожидали перед отверстием, проделанным в красном камне горы. Начали совершать обряды. Царь велел читать текст мертвых, который составил сам.
Боги захотели, причащенный трижды сын Осириса, чтобы твоя судьба осветила путь людям, как он освещает Восток славой Амона. Этот обряд не подвластен времени, он будет совершаться миллионы лет в твоем учетверенном наосе. Таким образом, Исис будет управлять твоим восхождением на Востоке, Нефтис твоим восхождением на Юге, Нейт твоим восхождением на Западе и Селкет твоим восхождением на Севере, и таким образом боги позаботятся о вечном возрождении Осириса…
Ветер трепал края одежды. Коршуны следили за церемонией. Целая армия рабочих внесла первый, самый большой, наос в увеличенную гробницу. Затем второй, третий и, наконец, четвертый. В этот последний внесли саркофаг и спустили его в каменное углубление. Два помощника жреца поочередно закрыли двери наосов, и совершающий богослужение царь их запечатал. Затем поместили четыре статуи богинь в порядке, указанном в царском тексте по совету писцов. Затем внесли имущество — и то, что было в гробнице раньше, и то, что велел добавить царь. Снова гробница была заполнена до краев.
В какой-то момент Анкесенамон задалась вопросом: зачем было нужно это нагромождение вещей, которые постепенно портились, находясь внутри горы.
Начавшись в десять часов утра, церемония закончилась в четыре часа после полудня. Погребальное жилище было запечатано. Городской голова, командир и верховный жрец также отдали почести усопшему.
Царь и его свита возвратились на «Славу Амона» в тот час, когда золото Ра превращалось в медь.
Пассажиры отужинали при свете факелов и отправились на свои судовые ложа.
Несмотря на усталость, Анкесенамон еще долго бодрствовала. В царстве гробниц было больше, чем дворцов. «Столько роскоши сопровождает смерть, — подумала она. — И как мало радостей в жизни!» Впервые она почувствовала себя одинокой, несмотря на присутствие всех этих людей вокруг нее.
— Bin tcbao!
Шпион бросил оскорбленный взгляд в сторону птицы, невидимой в высоких ветвях, затем продолжил свой отчет:
— …Учетверенный золотой наос с большими, ростом, как наши девушки, статуями, представляющими богинь Исис, Нефтис, Нейт и Селкет для ее охраны… Это было очень красиво… Надо было увеличить прежнюю гробницу…
Заинтригованные Ай и Шабака слушали рассказ о втором захоронении Сменхкары.
— Такой же, как братья! — заключил он. — Вообразили себя жрецами! И все это золото упрятали в дыру!
38
ГНЕВ АПОПА
Один за другим проходили сезоны.
Ритм жизни стал размеренным, и Ай, похоже, отказался от своих мрачных планов. Маска царя снова стала безмятежной.
Вместе с царевнами и несколькими придворными дамами, которые держали ее в курсе жизни столицы, Анксенамон проводила длинные дни в садах. Оказавшись наедине с собой, она всегда думала об утраченных любимых людях — о Пасаре и Меритатон.
Ее любовь к Пасару была такой полной и чистой, что она не могла вспомнить ничего неприятного, связанного с нею, она так и видела перед собой его взгляд, губы, его руки. Словно два ястреба, они вместе парили в небе.
И один из них был сражен стрелой. Яйцо, которое они высиживали, выпало из гнезда и разбилось.
Воспоминания о Меритатон, наоборот, было связано с тайной, которая сопровождала ее исчезновение. Была ли она еще жива? И появится ли у нее возможность послать весточку? Иногда Анкесенамон брала дощечку из слоновой кости для письма — единственный оставшийся у нее предмет, принадлежавший пропавшей царице, который она взяла из вещей последней. Она положила ее на колени и стала гладить пальцами, как будто надеялась, что послание может как по волшебству появиться на поверхности дощечки. Или Меритатон опасалась, что благодаря этому посланию найдут ее, Неферхеру и их сына, наследника трона? Появление наследника трона, действительно, очень встревожило бы Ая.
На самом деле исчезнувшей было неведомо, что Ай нейтрализован. Демоны возвратились в свои логова.
Казалось, Апоп засыпает.
Но за несколько дней до наступления праздника Осириса, в девятый год правления Тутанхамона, утром в спальню Анкесенамон вошла Сати и сказала ей испуганно:
— Госпожа, приготовься к ужасной новости.
— Какой?
— Торговцы, прибывшие из сельской местности, говорят, что из земли выползают змеи. Это знак гнева Апопа!
Действительно, за час до полудня, почти через три часа после предупреждения Сати, жесточайший подземный толчок заставил содрогнуться север царства.
Во дворце Фив были оторваны карнизы, разрушены статуи, со стен и потолков летела штукатурка, с полок падали светильники, а те, что висели под потолком, лихорадочно раскачивались. Но этот грохот не так ужасал, как тот гул, который шел из земли.
Лев Анкесенамон тут же вскочил, грива стала дыбом. Его хозяйка побледнела. Крики слуг, рабов и служащих сливались в один крик.
Царь вместе с секретарями и Тхуту быстро выскочили из зала аудиенций. В огромном внутреннем дворе он оказался в то же самое время, что и чиновники высшего ранга, повара, стражники. Земля под их ногами дрожала. Колебание стен напоминало движение рептилий.
Стали доноситься крики из города, а затем к ним добавились завывания. Мужчины, женщины, дети, собаки — все издавали душераздирающие вопли. Рушились дома, жители оказывались погребенными заживо под развалинами.
Когда волнение улеглось, стали подсчитывать ущерб. Появлялись группы спасения, занявшиеся извлечением выживших из-под развалин.
Все были заняты работой, когда перед наступлением сумерек второй толчок, ко всеобщему ужасу, завершил уничтожение зданий, которые уже не могли сопротивляться разрушению.
Сати прибежала в спальню Анкесенамон и воскликнула:
— Госпожа, не надо оставаться здесь! Собери царевен и скажи им, чтобы они шли за мной!
Держа в руках корзину с кобрами, она бросилась к лестнице. Вскоре за ней последовали Анкесенамон и кричащие и плачущие царевны. Лев бежал впереди. Все собрались в садах, некогда созданных по приказу Сменхкары. Туда снесли скамейки и кресла. Решили провести ночь в саду и послали слуг наверх за одеялами. С наступлением темноты появился кортеж, сопровождаемый носителями факелов, — это были царь, Тхуту и Усермон. Слуги принесли еду и напитки.
Тутанхамон и Анкесенамон смотрели друг на друга при свете факелов. Она подумала, что, возможно, так друг на друга смотрят мертвые, встретившись в загробной жизни. Все ощущали дуновение смерти. Не той смерти, которая забирала конкретного человека, а той, что стирала все, ибо никто не выживал, чтобы хранить воспоминания. Царь обнял Анкесенамон. Их охватило оцепенение, и холод ночи притупил чувства.
Рассвет не принес новых потрясений. Ночевавшие в саду начали шевелиться. Тутанхамон поднял глаза и стал рассматривать фасад дворца. Повсюду были видны большие трещины сквозь лопнувшую штукатурку, так как толчки были большой силы. Но тяжелые каменные стены и колонны оказались прочными. Усермон пошел за главным архитектором, чтобы с ним проверить надежность зданий.
Когда царица, царевны и их свита возвратились в свои покои, им пришлось
идти по грудам мусора, на них не прекращая сыпалась пыль, как будто они готовились к трауру. Анкесенамон нашла на полу разбитые туалетные принадлежности. И статуя Тутанхамона на лодке, размахнувшегося копьем, чтобы сразить Апопа, упала с тумбы.
На нее это произвело тяжелое впечатление.
Осунувшиеся придворные дамы прибыли позже и принялись за работу, пытаясь восстановить порядок.
Целыми днями группа архитекторов исследовала стены и перекрытия, проверяя их надежность. Прибыли художники для восстановления фресок, которые оторвались от плит.
На протяжении нескольких дней по городу разносились крики плакальщиц.
Это была угроза не только дворцу, но всему царству.
Апоп действительно сотворил ужасающий кошмар.
В течение этих дней у Сати было мрачное лицо.
— Что с тобой?
— Ничего, госпожа.
Этот диалог повторялся до того дня, когда Сати призналась, что одна из ее кобр умерла, а это было плохим предзнаменованием.
— Змеи тоже умирают, — заметила Анкесенамон.
— Да, госпожа. Но эта умерла ночью, когда я увидела двойника царицы.
Застыв, Анкесенамон на какое-то мгновение онемела.
— Что ты говоришь?
— Что я увидела двойника царицы. Не Ка, а двойника, ту, что вечно бродила в окрестностях своего жилища.
— Какая царица?
— Царица-мать, госпожа.
Анкесенамон хотела пожать плечами, но вспомнила, как Сати приказала кобрам спасти жизнь царя в ту ночь в Ахетатоне, и как она ускорила ее выздоровление, приведя к изголовью льва.
— Ты видела двойника моей матери?
— Да, госпожа. Она была очень печальна.
— Почему?
Странный вопрос. Двойники не говорили. Да впрочем, Сати и не ответила; она только устремила тяжелый взгляд на царицу.
— Откуда ты знаешь, что она опечалена? — настаивала Анкесенамон.
— Это было видно по ее лицу.
Анкесенамон сомневалась в том, что, несмотря на маски, которые на них надевали, у мертвых могли быть радостные лица.
— И когда она ушла, я нашла на земле эту повязку.
Она вытащила какую-то вещь из складок своего платья. Отвратительно грязная лента. Царица отказалась прикасаться к ней.
— Прочти то, что написано на ней, госпожа.
— Я не хочу прикасаться к этому кошмару.
Сати растянула повязку между своими пальцами, чтобы госпожа могла разобрать так называемое послание. Анкесенамон вытянула шею. Вначале, кроме следов грязи, она ничего не увидела. Но вглядевшись, она разобрала слова, из которых можно было составить фразу, явно написанную второпях. Она приблизила лицо к ленте.
— Стражники… царства… — читала она, — слабы. Апоп собирается напасть.
Она подняла к кормилице встревоженные глаза.
— Ты это нашла на земле?
— Да, госпожа.
— Возможно, кто-то ее потерял… Или она была где-то сверху и упала во время землетрясения.
— Никто не приклеивает похоронные повязки к потолкам, госпожа, и не носит их на себе. И этот текст не представляет собой священной формулы. Ничего подобного.
Это было верно. Такой текст был вызовом царской власти. Никакой писарь никогда бы не составил этот текст, никакой бальзамировщик никогда бы не воспользовался такой повязкой. Тревога охватила Анкесенамон.
— Это было до землетрясения?
— Нет, восемь дней назад. Когда умерла кобра. Защитница не смогла противостоять Апопу. Царица пришла меня предупредить.
Анкесенамон задумалась.
Стражники царства слабы… Собирались ли они вскоре взвалить вину за все на Тутанхамона?
— Но что это может означать?
— Мне неизвестно, госпожа.
— Спрячь эту ужасную повязку и никому об этом не говори.
— Хорошо, госпожа.
Спустя месяц Сетепенра тяжело заболела. Страшная рвота извлекла из нее все, что могло вмещать ее тело, после чего она слегла в постель, обессиленная от жара. Как сообщила Нефернеферуатон-Ташери, она съела нечистые финики, то есть запачканные землей. Срочно вызванный Сеферхор использовал все известные ему рецепты и все свои заклинания. Серая глина, чтобы прогонять демонов, травяные отвары для снижения температуры, цветочные вытяжки для стимуляции сердечной деятельности — все было опробовано.
Ничего не помогало. Сетепенра бредила, затем впала в бессознательное состояние. Пять дней спустя она умерла.
Анкесенамон выплакала все слезы.
— Но когда же это закончится?! — восклицала она. — Когда?
Сати, потрясенная и задумчивая, смотрела на нее.
Траур. Бальзамировщики. Саркофаг. Похоронная процессия. Плакальщицы. Поездка в место захоронения Маат. Гробница, жрецы, чтение молитв, погребальное имущество…
После всего этого надо было лечить уже царицу, так как ее охватила меланхолия.
Вечером Анкесенамон удалилась в свою спальню с верным львом, который растянулся у ложа. У нее болела вывихнутая лодыжка, и она направилась к Сати попросить мазь, которую кормилица хранила в одном из своих сундучков.
При ее входе та, склонившись над сундучком, что-то быстро спрятала под тканью, очевидно, дощечку для письма.
— Что ты прячешь?
— Ничего, госпожа, ничего.
— Над чем ты тогда наклонилась?
— Я рассматривала сундучок…
Анкесенамон подошла ближе и, отодвинув руку кормилицы и ткань, обнаружила деревянную дощечку для письма, покрытую белой эмалью с выгравированными на ней черными цифрами. Она взяла ее в руки, рассмотрела при свете ламп и ничего не поняла.
— Что это такое?
Через мгновение Сати, смутившись, ответила:
— Расчетная таблица.
Анкесенамон внимательно рассмотрела дощечку и увидела там столбики цифр.

Все это не имело никакого смысла. Анкесенамон не знала математики, но беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что цифры не были расположены последовательно ни в одном, ни в другом столбце. Кроме того, она сомневалась, что Сати увлекалась расчетами на досуге.
— Что это за дощечка? — повторила она вопрос.
Сати вздохнула.
— Магический способ узнать судьбу.
— Узнать судьбу? Как?
— Надо знать дату рождения человека и имя, которое он получил при рождении. Затем подсчитываем количество лунных месяцев, которые он прожил, и количество дней, оставшихся до конца текущего лунного месяца. Если первая цифра в количестве месяцев, которые он прожил, оказывается среди цифр в верхнем столбце, он будет жить. Если она среди цифр в нижней части, он умрет. Если количество дней, которые остаются в лунном месяце, фигурирует вверху, этот человек будет жить. Если внизу, он умрет.
[29]
Анкесенамон нахмурила брови.
— Для кого ты сделала эти расчеты? — спросила она.
— Ни для кого.
— Для меня?
— Нет, госпожа, я тебе в этом клянусь.
— Для кого тогда?
Сати подняла на нее опечаленный, но упрямый взгляд. Охваченная неистовой тревогой, Анкесенамон стала трясти опустившуюся на корточки кормилицу.
— Ответь мне! Я не уйду из этой комнаты, пока ты мне не ответишь!
Сати закрыла лицо руками.
— Я их сделала для мужчины, — сказала она наконец.
Анкесенамон отступила.
— Какого мужчины?
Сати покачала головой.
— Для мужчины.
Почему она отказывалась отвечать? Очевидно, это означало, что мужчина был важным человеком.
— Это мужчина, — упорствовала она.
— Царь? — выговорила Анкесенамон подавленно.
Сати поднялась с таким трудом, как будто ей было сто лет, и скрестила руки на груди.
— Царь? — повторила Анкесенамон, словно спрашивая саму себя.
Реакция Сати указывала на то, что это был действительно он.
Женщины посмотрели друг на друга. Выражение лица кормилицы было таким мрачным, что Анкесенамон бросилась к ней и схватила за руку, в ее глазах застыл немой вопрос. В красноватом свете ламп лицо Сати напоминало лицо статуи богини ночи. Анкесенамон пронзила дрожь.
— Он тоже?
Она вспомнила проклятую повязку и явившуюся кормилице ее мать.
— Сколько дней? — спросила она хрипло.
— Двадцать один.
Анкесенамон прислонилась к стене. Три недели.
— Я умру, — прошептала она.
— Нет, не ты. Кобры тебя защищают.
— Чем так жить, лучше умереть.
— И знание — тяжкий груз.
— Ты не могла ошибиться? — спросила Анкесенамон, снова беря в руки дощечку для письма.
— Он прожил пятьсот семьдесят лунных месяцев. Пять — в нижней части. И ему остается двадцать один день до конца текущего месяца.
— Но, может быть, это не для него?
— Какой еще есть стражник царства? Он единственный. Это на него указывала царица. Неужели ты думаешь, что ради какого-нибудь чиновника она явилась бы сюда?
«Как я смогу теперь посмотреть ему в лицо?» — думала Анкесенамон. Она попросила у Сати мазь и натерла себе лодыжку. Но это не принесло пользы: она почувствовала облегчение в лодыжке, но сон ушел.
Во дворце началась большая суматоха по случаю предстоящего визита в Фивы иностранного принца, преемника Азиру, царя аморитов. Этот царь был известен со времен Эхнатона своей трагической судьбой. Он оспаривал власть царства в Азии и начал с того, что объявил войну царю Библоса, Рибадди, союзнику Двух Земель. Затем он присоединился к бедуинам-грабителям, которые даже попытались напасть на Мемфис. Когда армия царя Двух Земель усмирила Азиру, его вынуждены были отправить в Фивы, где держали в качестве заложника. Так как он неистово бунтовал и угрожал своим тиранам, Хоремхеб велел выколоть ему глаза. Наконец Ай, посчитав, что он больше не представлял опасности, отослал пленника в его царство песков, где тот умер.
Больше известий об аморитах не было. И вот принц, представившийся наследником Азиру, сам явился просить милости у царя.
Но был ли он на самом деле преемником Азиру? У этих людей было многочисленное потомство, и достаточно трудно было установить, кто является наследником и обладает ли он достаточной силой, чтобы требовать корону своего народа. Не подписывать же договор с первым явившимся претендентом!
Он отправился к Маху, Хумосу и, очевидно, Пентью, чтобы те помогли установить законность его притязаний, что, впрочем, могло быть подтверждено пышностью, с которой его приняли бы, и подарками, сделанными ему, а также союзным договором.
Утром Пентью предоставил царю наиболее свежую информацию, собранную агентами в Азии. Начальник дипломатического ведомства был вызван в отдельный кабинет царя, находящийся на этаже, и поднимался за ним по лестнице в зал аудиенций, где должен был встретиться с Усермоном и Тхуту.
— У нас сложилось мнение, — говорил Пентью, следуя за царем, согласно протоколу, отставая на одну ступеньку, — что амориты всегда поддерживают союзнические отношения с бедуинами и делят с ними награбленное…
По какой-то непонятной причине трость, на которую опирался царь, скользнула по гладкому камню ступеньки и выскользнула из его рук. Тутанхамон потерял равновесие и стал падать. Лестница была крутой.
Он летел вниз головой, пытаясь схватиться за стены, и скатился по лестнице, не управляя своим падением, в большой зал цокольного этажа. Его голова ударилась об угол пьедестала опорной колонны.
Он лежал бездыханный.
Пентью был уже рядом с ним.
— Твое величество! Твое величество!
Шум заставил прибежать людей, которые оказались в большом зале. Он скоро разросся и охватил весь дворец.
Царь умер.
39
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДВОРЦА, ОХВАЧЕННОГО ТРЕВОГОЙ
Анкесенамон находилась в своих покоях в обществе двух придворных дам и Сати, когда Уадх Менех пришел сообщить ей новость. Вид придворного все сказал за него. Царица стала мертвенно-бледной.
— Твое величество… — проговорил он.
Она бросила на него ужасающий взгляд, полный безысходности. Начиная с той ночи, когда Сати сообщила ей о своих расчетах, она мало спала. Двадцать один день, до этого события.
— Царь умер.
Сати ее поддержала.
— Когда?
— Он упал с лестницы несколько минут назад.
Донесся шум голосов с нижнего этажа: слуги несли тело царя в его комнату.
Анкесенамон последовала за ними. Там были Усермон, Пентью, Тхуту, Майя, писцы, слуги, рабы. Словно змеи, изгнанные из своих дыр подземным толчком. Слуги положили тело царя на его ложе, натянули одеяние на ноги и подложили под них сандалии, потерянные во время падения. Хранитель гардероба хотел привести в порядок парик, тоже слетевший, но Тхуту его остановил, так как он скрыл бы рану. Придворные дамы, а затем и царевны, кормилицы, слуги столпились перед дверью.
Царица склонилась над своим супругом. У него были открыты глаза, словно он был чем-то удивлен. Он надел на свое лицо маску в последний раз. Она взяла его за руку, и слезы брызнули из ее глаз.
Очередной раз Осирис был убит.
Она стояла подле его ложа бесконечно долго, плача безмолвно. Затем пришел Сеферхор. Он взял руку монарха за запястье, чтобы прощупать пульс, и положил ее на прежнее место.
— Твое величество, ты хочешь, чтобы это была ты или я?
Она повернулась к нему, не понимая.
— Хочешь ли ты закрыть ему глаза?
Она склонилась к этому нежному и мечтательному лицу и опустила веки, чтобы он мог спать. Затем покинула комнату.
Без сомнения, в такие моменты из дворца посылали гонца, и вот он мчался во весь опор, направляясь на север, чтобы добраться в тот же день, ближе к вечеру в Ахмин.
[30] Его срочно ввели к тому, кого он должен был проинформировать.
При его виде Ай встревоженно выпрямился в своем кресле. Он вопросительно посмотрел на посланца:
— Господин, Тутанхамон умер.
Ай встал.
— Когда?
— Этим утром.
Шабака поставил на стол кубок с пивом, из которого собирался пить. Ай повернулся к нему.
— Пусть выведут из конюшни трех лошадей. Как можно быстрее, — приказал Ай. — Надо, чтобы я самое позднее завтра был в Фивах.
Какое-то мгновение Шабака колебался. Ни много ни мало, десять часов галопом, ночью, без луны. Такое испытание было бы слишком суровым для человека в возрасте его хозяина. Без сомнения, Ай знал, на что способен.
— Это — обязательное условие, — сказал он. — Раньше Хоремхеба.
Шабака понял: прежде чем Хоремхеб, тоже проинформированный о смерти царя, попадет в Фивы и прежде чем его войска перекроют сопернику доступ в город. Он вышел.
Меньше чем через час Ай, секретарь и Шабака мчались на юг на лучших лошадях. Приближаясь к своему шестидесятилетию, бывший командир конницы не утратил навыков верховой езды. Важность цели придавала ему сил.
Они перешли на галоп и сохраняли темп, пока небо было ясным. Но к рассвету Ай все же вынужден был перейти на рысь, причем Шабака, который скакал впереди двух других всадников, высоко держал факел, освещая им путь в эту самую черную ночь. С наступлением рассвета они все-таки отпустили поводья. Вскоре они уже увидели, как вырисовываются в хрупком золоте утра храмы Карнака.
Хумос был поражен. Его проинформировали о смерти царя только накануне; он оценил физическую силу своего посетителя. Разумеется, на этот подвиг тот решился не ради покойного царя. Хумос принял троих мужчин во внутреннем дворе своей резиденции и предложил им молоко и хлебцы. Затем он обменялся долгим взглядом с Аем. В словах не было надобности. Цель визита была очевидна: определиться с наследником Тутанхамона.
— Важно, — сразу заявил первый жрец, — чтобы ты шел во главе траурной процессии.
— Армия?
— Здесь, в Фивах, официально главнокомандующим является Хоремхеб. Но старые связи прочны. У тебя в распоряжении семьдесят дней, чтобы их возобновить.
Семьдесят дней! Время, необходимое для бальзамирования тела царя.
— Это слишком долго. У Хоремхеба будет время расставить своих людей так, чтобы я не смог даже пересечь реку.
— Но это срок, предписанный ритуалом, — заметил Хумос с удивлением.
— Может быть, ты примешь меры, чтобы приспособить требования ритуала к интересам царства?
Хумос задумался. Сокращать срок бальзамирования царя — это считалось бы оскорблением памяти усопшего. Клан Юга собирался предложить главе клана Севера изменить обряд? Рискованное занятие.
— Еще надо, чтобы ты был на месте, — ответил он осмотрительно.
— Узермон еще Первый советник? — спросил Ай.
Хумос кивнул. Ай не ждал от него еще каких-то слов. Он поднялся.
— Поеду туда, — сказал он.
Лошади и их всадники были погружены на первый корабль, пересекший Великую Реку. Часом позже трое мужчин были уже у ворот дворца. Шабака решил проверить, сохранилось ли здесь влияние его хозяина, и пошел передать своих лошадей Начальнику конюшен. Теплый прием его успокоил.
— Господин Шабака! Пусть расцветает твоя жизнь! Какие причины удерживали тебя так далеко от Фив?
Шабака сослался на выполнение обязательства его хозяином. Было ясно, что слухи, распространившиеся после несчастного случая во время охоты на газель, рассеялись без следа.
— Тебе известно о глубокой печали, поразившей нас? — спросил Начальник конюшен.
Шабака объяснил, что именно по этой причине бывший регент возвратился в Фивы. Его собеседник уловил, что обстановка может резко измениться.
— Пусть мир Амона будет с ним! Пожалуйста, передай, что я ему полностью повинуюсь.
Шабака присоединился к Аю и секретарю в большом зале дворца. Представители знати уже спешили выразить Уадху Менеху свои соболезнования. Но, увидев бывшего регента, Главный распорядитель церемоний их оставил и поспешил принять Ая. Тогда и знатные особы заметили присутствие Ая; они забыли о былых сплетнях и стали тесниться вокруг него. Через несколько мгновений траурные фразы уже переплелись с поздравлениями.
Итак, именно Усермона пришел повидать Ай. Счет шел на минуты, и бронзовые водяные часы в углу зала свидетельствовали о неумолимом течении времени. Несколько позже прибыл Первый советник в сопровождении Пентью. Он увел посетителей в отдельное помещение.
— Перемирие формулировок, — заявил Ай. — Время торопит. Царский совет?
— Я, Майя, Маху, Тхуту и Хоремхеб, — ответил Усермон. — И царица.
Ай бросил взгляд на Пентью. Царь не причислял его к членам Царского совета. Без сомнения, Тхуту его об этом предупредил.
— Входит ли теперь Тхуту в Царский совет? — спросил Ай.
— Царь навязал его кандидатуру.
Таким образом, Ай мог рассчитывать только на два голоса из шести — это были Усермон и Майя. Остальных надо было срочно привлечь на свою сторону.
— Нам предстоит сделать выбор, — сказал Усермон. — Либо я назначаю тебя Первым советником, либо Царский совет назначает тебя регентом.
Ай задумался. Только регентство могло обеспечить полномочия, необходимые для возглавления траурной процессии.
— Регентство, — заявил он.
— Это зависит от воли царицы.
Ай заставил себя войти в покои Анкесенамон медленно, демонстрируя свою усталость. Он обнаружил царицу сидящей между придворными дамами и Сати, у ее ног лежал лев. Хищник повернул голову, чтобы изучить прибывшего. Царица склонилась и стала его успокаивать.
— Девочка моя… — начал Ай, охотно оставляя фразу незаконченной.
В последний раз, когда он ее видел, это была очаровательная упрямая девушка. Но тогда Анкесенамон было шестнадцать лет. А теперь ей двадцать один год. Печаль и сдержанность делали ее красоту трагической. Две тонкие морщины, наметившиеся по обе стороны рта, напомнили ему его дочь в конце жизни. Он готовился к тому, чтобы изображать волнение. Но он на самом деле волновался. Его самого это озадачило.
— Входи, дед.
Она бросила на него взгляд, словно издалека. Стало быть, он выиграл. Станет ли он тем сильным защитником, который был необходим копии Нефертити? Предложив кресло посетителю, женщины удалились. Лев неотрывно наблюдал за незнакомцем.
Она встала, Ай ее обнял с порывом, который вызвал у нее удивление. Если он симулировал привязанность, тогда он был умелым актером. Он ее поцеловал.
— Потеря супруга — такое же испытание, как и потеря отца.
Она смотрела на него, не отвечая. Он был ответственен за смерть Пасара. Но она отказалась добиваться правосудия. С точки зрения богов, отныне она это знала, интересы царства перевешивают правосудие.
— Я понимаю твое горе, дитя мое.
«Он пришел говорить не о чувствах, но о царстве», — сказала она себе. Впрочем, лев не казался смущенным присутствием посетителя; он вытянул шею, приблизив голову к его ногам. Ай их отодвинул.
— Тебе придется принять решение, — продолжил он, — так как момент опасен и царство в твоих руках.
Она оказалась в таком же положении, как ее мать, а затем и Меритатон после смерти матери. И кроме него, больше не было подходящего человека, чтобы надеть корону.
— Каким образом царство находится в моих руках? — спросила она наконец. Это были первые слова, которые она произнесла.
— Тебе хорошо известно, дитя мое, что Хоремхеб рвется к власти. Хотела бы ты видеть его царем?
— На каком основании он потребовал бы трон?
Ай изобразил на лице улыбку.
— Ни на каком. Он его захватит — и все.
Такое было вполне возможно. Перспектива увидеть Хоремхеба на троне никак не устраивала Анкесенамон, хотя его супруга была ее тетей. Она знала, с каким отвращением он относился к Нефертити, Сменхкаре, Тутанхамону. Иногда придворные дамы позволяли себе откровенности.
Она выпрямилась.
— Чего ты хочешь?
— Ты входишь в состав Царского совета. Поддержи решение о назначении меня регентом. Это возможность не дать Хоремхебу захватить трон. Иначе он все разрушит. Сего приходом к власти династическое наследование прервется.
Анкесенамон это понимала, но теперь ей было очевидно: Хоремхеб даже не потрудился бы вступить в брак с женщиной из царской семьи. С династией Тутмосидов было бы покончено.
— А армия?
Дед заметил, что его девочка была информирована о делах царства больше, чем он думал.
— Лучшие войска находятся под командованием Нахтмина, который мне верен. Остальные — под командованием Хоремхеба. Необходимо действовать быстро: Хоремхеб будет в Фивах в ближайшие часы.
Не только траур и горе, но еще надо было срочно принимать решение. Несмотря на некоторое недоверие, которое она испытывала по отношению к своему деду, она знала, что он говорил правду.
— Объедини Царский совет.
— Сколько у тебя там голосов?
— Три вместе с твоим. Но я хочу надеяться, что Тхуту и Маху присоединятся к твоему мнению.
Она редко присутствовала на собраниях Совета. В последние годы правления ее супруга обсуждения решений правительства проводились без доклада об этом в высшие инстанции. Но она знала, как это все действует: для утверждения решений необходимы были две трети голосов.
— А Хоремхеб? — спросила она.
— Он пока ничего не будет знать. Твой супруг поступил неосторожно, назначив его Первым советником Нижней Земли. Надо будет, чтобы Совет аннулировал эту должность: я ведь не буду больше Первым советником Верхней Земли.
Она поинтересовалась, когда следует приступить к оповещению; он предложил послать своего секретаря предупредить Усермона. Спустя час в зале судебных заседаний собрался Совет.
Быстрота, с какой он был созван, не удивила никого из членов Совета. Вначале каждый ожидал появления Хоремхеба в Фивах, как крыса ожидает атаки кошки. Затем все во дворце узнали о присутствии в его стенах Ая.
Анкесенамон старалась не смотреть на соседнее кресло, где всегда сидел Тутанхамон.
— Вопрос, который мы собираемся обсуждать, — начала она, — это назначение господина Ая, бывшего регента, регентом царства. Если мы не расположены предоставить корону военачальнику Хоремхебу.
Ей было непривычно слышать свой голос, свои соображения относительно судьбы царства. Она больше не была собой; она стала второй Нефертити.
— Мы его ему не предоставим, твое величество, — сказал Тхуту саркастическим тоном. — Но он может захватить его силой.
Она кивнула.
— Я тоже расположена принять такое решение. Советник? — обратилась она к Усермону.
— Я очень благосклонно к нему отношусь.
— Казначей?
— Господин Ай, — ответил Майя, — обладает опытом регентства, и я считаю его в высшей степени способным управлять царством. Если мне позволено будет высказаться по этому поводу, то думаю, что в этот раз он не будет довольствоваться только этим и станет претендентом на корону.
— Это в интересах царства, — заметил Усермон. — Мы не можем оставить надолго Две Земли без царя.
— Начальник охраны?
— Ее величество оценила ситуацию мудро. По моим последним сведениям, военачальник Хоремхеб держит три гарнизона Нижней Земли в состоянии боевой готовности, планируя осаду Фив.
Последовало встревоженное молчание.
— По крайней мере три дня уйдет на то, чтобы эти гарнизоны спустились к Фивам, — продолжил Начальник охраны. — Но к этому времени мы уже примем решение. По моему мнению, регентство господина Ая желательно.
— Советник царя?
Тхуту выдержал паузу, прежде чем ответить. Он видел, как рушится равновесие, сохранявшее мир в Двух Землях в течение более чем четырех лет. Он пытался уравновесить силы Юга и Севера. Даже дошел до того, что угрожал лично Аю, причем при поддержке Хоремхеба, только чтобы добиться этого равновесия. Отныне такое видение политики царства упразднялось. И он должен был согласиться, что регентство, а значит и царствование Ая были бы менее разрушительны, чем грубый захват власти Хоремхебом. Он не отличался от всех этих людей, которых внезапно обуял страх перед открывшейся пропастью.
Неужели подземный толчок, потрясший царство, был предзнаменованием?
Он сказал просто:
— Я — за регентство господина Ая.
Главный писец составил документ об этом назначении. Он был скреплен царской печатью и печатями советников.
— Второе решение, мне кажется, тоже требует срочности, — сказала Анкесенамон. — Новый регент был Советником Верхней Земли. Больше он таковым не является. Как мне кажется, должность Советника Нижней Земли должна быть упразднена.
Мнение было общим. Второй документ вскоре был составлен. Тогда Усермон предложил лишить опасного Хоремхеба звания командующего армиями; идея была также одобрена. Третий рескрипт подписали единодушно.
Тхуту с горечью понимал, что собственной рукой разрушает то, что сам сделал. Царь умер, и он сам более не существовал как политик.
Анкесенамон выразила мнение, что в результате принятых решений военачальник больше не входит в состав Царского совета.
Четвертый рескрипт.
— При этих обстоятельствах, — произнес Усермон, — мне кажется необходимым назначить нового главнокомандующего. Я предлагаю, чтобы им стал военачальник Нахтмин.
Пятый и последний рескрипт. Главный писец смотрел на него, кося глазом.
Едва высохли чернила на документах, как Усермон покинул зал и направился предупредить нового господина царства, который ожидал в кабинете Главного распорядителя церемоний в обществе последнего. Ай вошел в зал, опустился на колени перед царицей, поцеловал ей руку, затем встал и долго смотрел на нее. Он склонился к ней, чтобы поцеловать ее в обе щеки. Затем он поблагодарил каждого из членов Совета. Дольше всего он задержался перед Тхуту.
— Советник, я знаю, что ты голосовал за меня. Я тебе за это благодарен. Но я сожалею о потерянном времени.
Почти десять лет правления Тутанхамона.
— Я был предан царской власти, божественной по своей сути, — ответил Тхуту.
— За работу, без промедления! — сказал Ай, поворачиваясь к Усермону.
Тхуту больше не был Советником царя, отныне он был не у дел. Он возвратился к себе.
Заседание Совета закончилось к обеду. Членам Совета была предложена легкая закуска, поданная в бывшем кабинете регента, который он вновь занял.
Во второй половине дня дворец охватило волнение: двадцать иностранных конников с саблями наголо были выстроены перед дверями и контролировали всех посетителей. Только что прибыл Хоремхеб. В сопровождении четырех командиров он вошел твердым шагом в большой зал, вызывая удивление, а затем и беспокойство у суетившихся служащих и представителей знати; это не была поступь человека, пришедшего выражать соболезнования. Он попросил о встрече с царицей; придворный сказал ему, что она пребывает в трауре. Тогда он попросил о встрече с Первым советником Усермоном; очевидно, он не знал о собрании, которое закончилось несколькими часами раньше.
Его удивила невозмутимость Усермона.
— Советник, на основании своего членства в Царском совете, я прошу немедленно его собрать.
— Военачальник, — ответил ему Усермон слащаво, — собрание закончилось перед обедом. Я, к сожалению, должен сообщить, что ты больше не являешься членом этого Совета.
Казалось, молния поразила Хоремхеба.
— Собрание уже состоялось? — спросил он недоверчиво.
Усермон кивнул.
— Совет единогласно решил немедленно назначить господина Ая регентом царства.
Лицо Хоремхеба стало пурпурного цвета, он еще более встревожился. Лица четырех стоявших за ним командиров исказились от изумления. Усермон был доволен тем, что около тридцати стражников находились за дверью. На самом деле военачальник мог наброситься на Советника и покалечить его.
— Ты насмехаешься надо мной?
— Я не мог бы вести себя так невежливо, военачальник.
— Но Ай… он находится в Ахмине… Как он может?..
— Он прибыл сюда утром, военачальник.
Хоремхеб забыл афоризм своего карлика: власть завоевывается ночью. Ночная спешка его врага оказались весьма своевременными.
Усермон не сомневался, что военачальник намеревался не допустить регента в город.
— Как главнокомандующий…
Что он собирался приказать и в качестве кого? Усермон поднял и опустил брови и сказал с равнодушным видом:
— Военачальник, этим утром тебя лишили этой должности, как и должности Советника Нижней Земли.
Хоремхеб смотрел на Первого советника, как если бы тот превратился в грифа или в крокодила.
— Но кто теперь возглавляет армию?
— Военачальник Нахтмин.
Хоремхеб сжал челюсти. Ай воздвиг все возможные препятствия, чтобы преградить ему путь к власти.
Тогда Усермон прибег к одной хитрости, которая позже будет пользоваться успехом и называться блефом.
— Мне известно, что ты привел в состояние боевой готовности три гарнизона. Но пять других гарнизонов в таком же состоянии.
Именно такой приказ Усермон намеревался отдать сразу после ухода своего импульсивного собеседника.
— Я тебя попрошу, — сказал в заключение Первый советник, — увести с собой конников, которых ты расставил перед входом во дворец.
Хоремхеб взглядом разорвал Советника на части. Затем он резко развернулся, не придерживаясь протокола, и в сопровождении своих четырех командиров прошел к выходу.
За двадцать четыре часа мир стал вращаться в другую сторону. Даже Апопа это должно было бы удивить. Воистину справедливо, что у больших рептилий меньше разума, чем у маленьких, поскольку они больше переняли от людей.
40
ДЕТИ ИСИС
Одетая в траурное платье темно-синего цвета, Анкесенамон меланхолически рассматривала разложенные на столе продукты: всегда холодная пища траура — хлебцы, огурцы, дыни, финики, — так как в течение трех дней после смерти царя было запрещено готовить пищу. «Неужели все женщины — вечные вдовы?» — подумала она. Затем подняла глаза на Ая, сидевшего напротив нее. Устраивая эту трапезу с глазу на глаз, он имел тайные намерения. Анкесенамон охотно бы от нее отказалась — она очень устала. Впрочем, знаки привязанности, которые он ей оказывал, ее удивили. Был ли он искренним? И в таком случае, почему старый шакал поменял свою тактику в отношении к ней? Потому что намеревался подняться на трон и заключить с нею брак? Или по другой неясной причине?
— Поешь немного, — сказал он. — Ты пережила ужасные часы.
— Хоремхеб уехал? — спросила она, беря приправленный уксусом лук.
— Да. Не думаю, что он незамедлительно начнет действовать. Но это упорный противник. Порой я думаю, что именно по этой причине я его выбрал в качестве зятя!
Он сокрушенно покачал головой.
— Он попытается еще раз поднять войска Верхней Земли, — продолжил он. — Поэтому нам надо действовать быстро.
«Нам надо», — подумала она. Ай таким образом делал ее своей сообщницей.
Он выпил немного вина и добавил:
— Дитя мое, это последний шанс избежать всеобщей катастрофы. Если бы Хоремхеб захватил трон, с миром в Двух Землях было бы покончено. Я его знаю.
В голове Анкесенамон прозвучала вторая часть фразы:
«Действовать быстро».
— Что ты имеешь в виду, говоря «действовать быстро»?
— Семьдесят дней бальзамирования — это слишком долго. Трон не может оставаться пустым так долго при нынешних обстоятельствах. Это предоставляет Хоремхебу слишком много возможностей изменить ситуацию.
Вдруг ее охватила паника: не от перспективы того, что Ай будет коронован, а оттого, что коронованным мог оказаться Хоремхеб. Она представила это слишком хорошо: вместе с сестрами она должна будет умолять тетю, чтобы их не выгнали из дворца, чтобы не обращались с ними как с наследницами павшей династии, чтобы не уничтожали тех, кто принадлежал к этой династии в течение всех лет правления. Воспоминания. Бесчисленные барельефы, которые увековечивали память мертвых царей. Статуи. Все.
Фактически она оказалась сторонницей человека, который некогда был ей ненавистен.
— Можно сократить период бальзамирования? — спросила она.
— Я обращался ранее за советом к Хумосу. Он не наложил запрет.
— Каким количеством дней ты хочешь ограничиться?
— Как можно меньшим. Уже завтра я намереваюсь поговорить об этом с главой бальзамировщиков.
Она сочла почти неприличным обсуждать подобную тему. Смерть и все, что было с ней связано, обсуждалось гораздо чаще, чем рождение.
— Но… похороны? Перенос в место погребения?
— Необходимо все организовать заранее, так чтобы все прошло как можно быстрее.
— Один месяц?
— Самое большее.
«Этот бег в склеп напоминает заключение пари», — подумала она. И внезапно она вспомнила, что ее супруг не выбрал место своего погребения. Он говорил, что времени у него для этого достаточно.
Но кто знает размеры песочных часов своей жизни?
Слушая его со всеми приличествующими знаками уважения, мастер Асехем, знающий все тонкости бальзамирования, рассматривал регента Ая с плохо скрываемым любопытством: уже второй раз этот дьявол во плоти менял царя; как ему это удавалось?
Несколько лет назад мастер Асехем оставил Ахетатон; представители высшего света больше там не жили, так как власть — как мед для мух: когда ее носители перемещаются, люди следуют за ними. Его репутация осталась с ним. Он стал главным бальзамировщиком дворца, и тело Тутанхамона представляло собой пятые по счету царские останки.
Когда регент закончил излагать свои пожелания, мастер-бальзамировщик ответил:
— Самая августейшая светлость, я могу уступить твоему желанию сократить период бальзамирования, хотя сам бы я этого никогда не сделал, и мне не ведомо, каковы будут последствия. Но есть определенная стадия подготовки божественного тела, ускорить которую я не могу.
Ай понимающе кивнул.
— Саркофаги, — сказал он, сопровождая это слово нетерпеливым взмахом руки с опахалом от мух.
— Не только саркофаги, августейшая светлость. Повязки. Значительное время уходит на их изготовление. При подготовке тела божественного царя Сменхкары писцы смогли нам их поставить только через шестьдесят дней.
— Я распоряжусь насчет этого, — заявил регент.
Но выражение лица Ая говорило, что он не уверен. Саркофаги были целой проблемой. Изготовить за один месяц три саркофага, достойных царя, и маски для них, искусно украшенные золотом, уже было бы чудом, но столяров-краснодеревщиков и золотых и серебряных дел мастеров всегда можно было потормошить. Повязки — это было делом более деликатным, так как писцы Домов Жизни были недовольны, когда их торопили с работой, поскольку в составлении священных текстов повязок…
Он понимал, что решить эту проблему можно было только с помощью Хумоса. Повернувшись к Усермону, присутствующему во время беседы, он сказал:
— Советник, вели мастеру Асехему определить размеры саркофагов, чтобы мы могли их заказать сегодня же.
— Они те же самые, что и у его божественного брата, — сказал мастер-бальзамировщик.
— Тогда сразу же закажи внешний деревянный саркофаг.
Когда похоронных дел мастер ушел, регент сказал Усермону:
— Возможно, что в чем-то мастер Асехем прав. Нам не хватит времени изготовить все необходимые похоронные принадлежности. Пошли писца в место захоронения Маат, чтобы открыть могилу Сменхкары, которую, как меня уверяли, покойный Тутанхамон наполнил принадлежностями с чрезмерным изобилием. Пусть писец заберет часть, и мы используем их для Тутанхамона. Выдай ему для необходимых разрешений чистый бланк с подписью.
Несхатор выполнила указания Начальника охраны Фив не открывать Дома танцев в течение трех дней траура, что, впрочем, касалось всего царства. Более того, за кварталом, где находились увеселительные заведения, следили патрулирующие лучники, и шум музыки, разумеется, привлек бы их внимание. Штраф или взятка — все было бы из ее кармана.
Но на четвертый день она решила открыть свое заведение, рассчитывая на наплыв посетителей. Обычно царский траур привлекал многочисленных посетителей из провинции, наиболее зажиточные из них ближе к вечеру искали более или менее законный способ восстановления сил. Она предупредила клиентов, чтобы они не ожидали представления с танцевальными номерами. Ничего, кроме рассказчика. Многие были разочарованы, но, в конце концов, они уже пришли туда и потому остались. Слепой арфист, единственный музыкант, сидя на подмостках, мечтательно перебирал струны.
Наконец вперед вышел рассказчик.
— Знаете ли вы, мои друзья, что вот уже несколько дней как в царстве стало намного меньше крыс?
Наигранное удивление. Мужчина выдержал паузу.
— Да, и все из-за большого праздника у ястребов. Но надо вам сказать, что праздник ястребов начался с праздника крыс. Об этом вам тоже не известно? Тогда это правда, что вы не очень-то слушаете крыс. Но у них накануне был большой праздник. На самом деле, крысы царства узнали, что царь кошек уже очень стар и потерял свои зубы. В знак освобождения от своего злейшего врага они решили устроить самый большой праздник в истории крыс, которая, как вам известно, достаточно продолжительна. Их было не перечесть. Некоторые меня уверяли, что порядка десяти тысяч. Там было столько сыра, сколько ни одна крыса никогда не видела. Был даже сыр в форме кошки, так как крысы умеют шутить. А также вино и пиво. Оркестр сверчков играл веселую музыку и мыши танцевали. А танцуют они очень забавно.
Рассказчик повертел бедрами. Раздались взрывы смеха.
— Один мой друг-крыса сообщил, что у его приятелей было много планов. Они собирались захватить такое-то поле, такую-то сыроварню, такой-то чердак. Они уверяли, что, наконец, наступил Век Счастья крыс. Они пировали до рассвета. Даже солнце удивилось, увидев столько крыс. Но это вам никак не объясняет, почему теперь в стране меньше грызунов. Оказывается, над местом проведения праздника пролетал ястреб. Он увидел всех этих собравшихся вместе приятелей, и помчался поднимать свое племя. «Летите быстрее! Есть чем вас попотчевать, как когда-то бывало!» Сначала ястребы ему не поверили, но все же решили узнать, так ли все было на самом деле. Ах, какую они закатили пирушку!
Рассказчик погладил свое брюхо.
— Вот так праздник крыс превратился в праздник ястребов.
Снова разразился смех.
— Хотите ли услышать, что я вам скажу, мои друзья? Узнав о празднике, поинтересуйтесь, кто оказался в результате сытым.
Теперь смеялись исподтишка. Все понимали, что он говорил не о каком-то празднике, речь шла о похоронах. И хотя известие об этом еще не вышло за двери храмов, все знали, что регент Ай еще раз сменил царя.
Это становилось привычным.
Посмеявшись над еще несколькими нескромными баснями, Несхатор закрыла заведение раньше, чем было предусмотрено. Она была разочарована: царский траур не приносил дохода. А в последние годы цари умирали слишком часто. И последний из них не был так уж популярен у народа. Очевидно, публику привлекало представление, называвшееся похоронами, — оно ей ничего не стоило.
Она вспомнила о своем утраченном любовнике. Ах, какой бы из него получился красивый царь!
Покидая дворец с надеждой, что он уходит отсюда в последний раз, Тхуту забыл захватить из своего бывшего кабинета дощечку для письма, подарок Сменхкары. Роскошная вещь, окаймленная тонкими полосками слоновой кости, украшенная золотом, а в центре — рамка с выгравированным и покрытым золотом его именем. Неожиданно опечалившись, он подумал, что вряд ли сможет найти ее. В суете последних дней, скорее всего, кто-то непорядочный прибрал ее к рукам. Он поднялся на верхний этаж, ощущая себя мертвецом, оказавшимся в мире живых. Между тем секретарь царя его успокоил: он обнаружил эту вещицу на полке и поместил ее в надежное место; он ему протянул ее вместе с чернильницей из алебастра с позолоченной тростниковой крышечкой. Он даже дал ему кожаный чехол, чтобы их было удобно нести.
На лестнице, которая вела к большому центральному залу, он обратил внимание на отполированные ступени и подумал о несчастье, случившемся с царем. Действительно ли трость выскользнула? Или ее подтолкнули? И узнают ли об этом когда-нибудь?
Спустившись с лестницы, он столкнулся с Пентью. Совпадение вызвало гул в голове Тхуту: ведь царь совершил фатальное падение, поднимаясь по лестнице именное Пентью. Оба дольше обычного пристально смотрели друг на друга, прежде чем обменяться положенными в таких случаях приветствиями.
— Какие отныне у тебя обязанности? — спросил Пентью.
— Нет никаких обязанностей.
Пентью казался удивленным.
— Ты был Советником царя. Мог бы теперь стать Советником царицы.
Тхуту покачал головой.
— Должность была бы почетной, но, в конечном счете, смешной. Отныне власть в руках будущего царя. Мои советы были бы напрасны.
— Советник Тхуту уходит, стало быть, из власти? — произнес Пентью слегка насмешливо.
Тхуту взглянул на него спокойно.
— Ступени
слишком скользкие, Пентью.
Лицо начальника ведомства внезапно передернулось. Он побледнел и явно не знал, что ответить.
— Коварство требует привычки, — продолжил Тхуту.
— Остерегайся!
— Я не опираюсь на трость.
Больше не задерживаясь, Тхуту направился к выходу. Теперь он все понял. Как неповоротлив человеческий разум! В глазах Ая Пентью искупил отравление Нефертити. Очередное убийство, чтобы простили другое!
Выйдя на улицу, он вздохнул с облегчением. Отовсюду раздавались крики продавцов и грохот двуколок, развозивших дыни. Он устал от блеска золота и ссор божественных особ. Ни бальзамировщик, ни убийца не знали, как тяжко бремя Советника.
Утром Сати, как обычно, вошла в спальню царицы, чтобы принести ей легкий завтрак. Она посмотрела на свою госпожу. Анкесенамон знала этот взгляд.
— Что такое?
Сати заморгала, затем извлекла из-под своего пояса маленький футляр, — такой использовали для сохранения папируса в долгой дороге — и протянула его хозяйке.
— Утром гонец принес это для тебя.
Анкесенамон сняла крышку футляра, достала указательным пальцем папирус и развернула его. Он был маленьким — сообщение в несколько строк:
Я узнала новость от торговцев. Мое сердце обливается кровью при мысли о тебе. Когда ты пойдешь к его могиле, оставь за меня мою дощечку для письма среди подарков. На ней указано мое имя. У нас, у всех троих, все хорошо. Пусть Исис даст покой твоему сердцу.
— Кто это принес?
— Иностранец.
— Можно его найти?
Сати отрицательно покачала головой.
— Я не знаю даже его лица. Он передал это Начальнику стражи.
— Прочитала ли ты послание?
— Конечно нет, госпожа.
Анкесенамон заплакала. Но это были слезы радости. Она знала, от кого пришло послание: единственный человек в мире мог попросить ее поместить свою дощечку для письма в могилу царя.
[31] Сати взяла послание и прочитала его.
— Она жива, — сумела выговорить Анкесенамон.
— Все трое живы.
— Как бы мне хотелось, чтобы она была рядом со мной.
— Если бы это произошло, ее участь была бы еще тяжелее.
Царица подняла глаза на кормилицу.
— Золото жжет вам руки, — сказала кормилица.
— Это самые хрупкие останки из всех, которые нам когда-либо доводилось обрабатывать, — сказал помощник мастера Асехема.
Останки царя покоились на кедровом столе в зале дворца, предназначенного для такого случая. После смерти юношеское и хилое тело царя еще уменьшилось. Когда после вскрытия тело очистили от внутренних органов, поместив их в сосуды с алебастром, оно стало походить на призрака.
— Это хорошо, можно будет ускорить процесс сушки, — отозвался мастер Асехем.
На рассвете пришли столяры-краснодеревщики и золотых и серебряных дел мастера, чтобы сделать замеры. Чтобы добиться подобия в изображении умершего царя, у них было достаточно образцов: во дворцах и храмах их было множество. Они предлагали взять за образец скульптурный портрет царя, который был установлен в храме Карнака между Амоном и Мут. Первый советник Усермон сам контролировал ход всех работ. «Дело государственной важности», — предупредил мастера секретарь.
— В черепе дыра, — сказал помощник бальзамировщика. — И сломана грудная кость.
— Из-за падения.
Один из учеников притащил к кедровому столу чан с серым, немного липким месивом; именно это была неочищенная и не полностью высушенная соль, которую добывали со дна Северных озер. При помощи деревянной лопаточки мастер Асехем набрал ее полный горшок и начал покрывать царские останки.
«Эти цари, — подумал он, — и на самом деле постепенно исчезают. И был ли этот действительно носителем божественной власти?»
— Госпожа! — воскликнула Сати. — Мне невыносимо видеть, как ты томишься.
— Дважды вдова двоих мужчин. И теперь заключаю брачный союз со львом, — сказала Анкесенамон, рассматривая хищника, лежащего в ее ногах.
— Заведи любовника!
Только благодаря давней привязанности к царице кормилица могла позволить себе такую невиданную дерзость. Будучи застигнутой врасплох ее предложением, Анкесенамон удивленно посмотрела на Сати. Затем она вспомнила послание Меритатон. Кормилица советовала ей последовать примеру сестры.
— Порадуй свое тело, — продолжила кормилица настойчиво.
— И сердце?
— Одно не живет без другого. Если все будет так продолжаться, ты превратишься в живую мумию. Кто тогда тобой прельстится?
— И где я найду любовника?
Лицемерный вопрос, она это знала: сотни мужчин бросились бы добиваться неслыханной чести быть любовником царицы.
— Хочешь, чтобы я отправилась его разыскивать?
Мысль о том, что ее бывшая кормилица превратится в сводницу, вызвала у Анкесенамон короткий смешок. Сати тоже рассмеялась, но ее смех был больше похож на икоту.
— Нужен мужчина, которому я могла бы доверять. Все во мне видят только царицу.
— Итшан, — сказала кормилица.
Анкесенамон удивилась. Бывший соученик Тутанхамона. Пока был жив Пасар, она его не замечала. Но молодой человек был приятным и сдержанным.
— Итшан, — повторила кормилица. — И ты успокоила бы свою печаль.
— Тогда я похороню Пасара дважды.
— Предпочитаешь похоронить себя живой?
Очевидно, это было одно из тех семян, которые распространяются воздушным путем, так как имя Итшан зацепилось в мыслях Анкесенамон. «Если я не останусь верна его памяти, — подумала она, — это мне будет упреком навсегда. Если я останусь верной, у меня забальзамируется сердце».
И что сказала бы Исис?
Через две недели после смерти царя Ай забеспокоился. Что с бальзамированием? Саркофаги? Похоронное имущество? Гробница? Узермон пришел к нему в кабинет с отчетом.
— Писец, которого я послал в Место Маат, вчера возвратился, твоя светлость. Его восхитило количество богатств, которые помещены в гробницу Сменхкары.
— Чтобы Апоп съел Сменхкару не раздумывая! — воскликнул Ай. — Что изъял твой писец?
— Он ничего не взял из того, что я заказывал, твоя светлость, потому что нет такого безопасного места, где можно было бы держать эти сокровища. Он только составил список и затем предусмотрительно вновь закрыл гробницу, которую оставил под наблюдением нубийцев
[32] и их собак. Мы сами выберем те вещи, которые необходимо будет забрать, в зависимости от скорости выполнения работ золотых и серебряных дел мастерами. Или, скорее, их задержки, — добавил Усермон. — Ибо они опаздывают. Завершается изготовление только внешнего саркофага, деревянного. Возможно, что каменный саркофаг будет сделан вовремя.
Ай раздраженно взмахнул опахалом от мух. Он сидел на низком табурете, обнаруженном им в покоях царя. Он явно был изготовлен в его местности, об этом можно было догадаться. Щуря крысиные глазки, Шабака следил за этой сценой молча.
— Пусть изымают из могилы Сменхкары все, что необходимо, если это позволит ускорить приготовления! — воскликнул Ай. — Это был воображаемый царь. Гробницу, по крайней мере, закончили?
— Она будет готова задолго до окончания остальных работ, твоя светлость.
— Понимаешь ли ты, что мне надо идти во главе траурной процессии? Тогда только я смогу подняться на трон! Похороны должны состояться как можно раньше. Этот демон Хоремхеб все никак не успокоится. Нахтмин мне сообщил, что армейская охрана задержала нескольких лазутчиков, пытавшихся поднять гарнизоны Омбоса и Гебтиу.
[33] И он достаточно силен, чтобы с помощью других посланцев завербовать наемников среди ивритов Нижней Земли. Эти люди были союзниками гиксосов, они готовы на действия, направленные против трона Двух Земель. Надо, чтобы через две недели все было закончено.
— Я все сделаю, твоя светлость, чтобы удовлетворить твои пожелания. Но я — не мастер золотых и серебряных дел.
Ай с мрачным видом покачал головой. Усермон вышел, Шабака сказал:
— Господин, ничто не будет готово так, как надо. Мы не закончим все приготовления. То одного, то другого будет не хватать. Усермон — писец, но не политический деятель. Уж не позволяем ли мы мертвым хоронить живых? Ты думаешь, Хоремхеб терзался бы сомнениями? Готовься к коронации.
Ай стал покусывать губы. По сути, именно Шабаку следовало назначить Советником. Того бы не смутили такие детали.
— Ты прав. Я собираюсь поговорить об этом с Хумосом.
Он посмотрел через дверь террасы. Начинался паводок, река разлилась до размеров моря. Столько силы! И ему приходится так изворачиваться!
Как соблазнить мужчину?
Столько вопросов возникло, когда она решилась на это похождение! Словно она была неопытной девицей.
Итшан, приглашенный на поздний ужин, держался очень почтительно. Он говорил о мудрости, которой обладал царь, об оказанной ему чести разделить с царем ссылку в Ахетатоне, о набожности Тутанхамона, которая была подтверждена его блестящими архитектурными творениями и подарками храмам…
Слушая его речи, лев зевнул. Великолепный придворный. Она его внимательно рассматривала. Приятное и прилежное лицо. Скорее, великолепный служащий.
Была ли у него женщина, спросила она. Он смутился. Покойный царь намекал ему на союз с Нефернеферуатон-Ташери, но он не имел чести привлечь внимание царевны. От этого он пришел в отчаяние. Но печаль, вызванная трауром по царю, наполнила его еще большим огорчением… У него не было опыта в таких вещах…
Слуги убрали со стола. Она их отпустила. При свете масляных светильников, который привлекал ночных бабочек, они остались с Итшаном наедине. Пол был усыпан почти неосязаемыми телами этих бесполезных насекомых, сгоревших от любви к огню.
Снаружи при свете луны жабы читали свои молитвы.
Она взглянула на юношу. Вне сомнения, он был сбит с толку, задаваясь вопросом, что он здесь делает в столь поздний час наедине с царицей. Он не мог удалиться, не получив на это позволения. Она наслаждалась его смущением и даже усилила его при помощи вина. Скоро он уже испытывал муки. На его лбу выступил пот.
Это не означало, что она его сильно желала. Скорее хотела вспомнить тех, которые были подобны Осирису.
Речь Итшана становилась замедленной.
— Ты хочешь спать? — спросила она у него наконец.
— Я ожидаю, когда ее величество меня отправит.
— Спать здесь? — уточнила она.
Он отпрянул столь внезапно, как если бы она его хлестнула. Он не понимал.
— Я не услышала твоего ответа, — тихо сказала она.
— Где?
Она встала.
— Следуй за мной.
Это никогда не закончится! Шабака точно заметил. Золотых и серебряных дел мастера изготовили только первую маску для саркофага, они просили еще тридцать дней для инкрустации стеклом второй и изготовления третьей. Тридцать дней! Ай потерял терпение. Он велел снять маску с одного из саркофагов Сменхкары. Усермон был повергнут в ужас нетерпением Ая и его кощунством.
— Немедленно! Пусть немедленно отправляются и привезут нам маску!
— Но будет заметно, твоя светлость, что она сделана по подобию Сменхкары!
— Кто это увидит? Апоп? Поместим этот саркофаг между первым, который уже закончен, и третьим. Деревянный саркофаг будет закрыт.
— Но третий, твоя светлость, еще даже не инкрустирован!
— Значит, он не будет инкрустирован! И замечательные золотые наосы тоже заберем из могилы Сменхкары. Они укроют саркофаги Тутанхамона.
— Но, твоя светлость, на них надписи с именем Сменхкары!
— Пошли туда ремесленников, чтобы они их поменяли — пусть впишут имя Тутанхамона.
Усермон растерянно моргал. Он никогда бы не решился на подобное разграбление, на такое оскорбление царской особы.
Снимать изображение одного усопшего царя, чтобы представить его изображением другого! Почувствовав прилив ярости, он обрушил его не на своего хозяина, а на подчиненных. У писцов и посланников было ощущение, что они несут в своих мешках всех демонов мира. Через четыре дня они возвратились с Юга, мертвенно-бледные, словно заключали сделку в стране мертвых. Они доставили не только маску Сменхкары, но и некоторые из вещей, требующие изменения надписей в мастерских Фив. Они были обычными ремесленниками, совершившими покушение на увековеченную личность мертвеца, который к тому же был царем. Они понимали, что совершили кощунство.
Ай лично присутствовал при установлении маски Сменхкары на второй саркофаг. Это верно, что его изображение не напоминало Тутанхамона, и любой служащий дворца мог узнать Сменхкару. Но Ай сказал так: никто этого не заметит, так как саркофаги будут уже вложены один в другой и закрыты во время помещения в гробницу.
Только проблема саркофагов и похоронного имущества была почти урегулирована, как возникла проблема повязок. Хумос отказался вмешиваться. Писцы в привычном темпе писали священные формулировки и тоже просили дать им от трех до четырех недель. Составить такие тексты — это ведь не гуся зажарить! К тому же официально работы выполнялись семьдесят дней, через семьдесят дней все и будет готово! Об этом они сообщили мастеру Асехему, который передал их слова Усермону, а тот дрожал при мысли, что необходимо сказать об этом регенту.
— Каким количеством повязок ты располагаешь в настоящее время? — спросил он бальзамировщика.
— Тонких повязок едва хватает на то, чтобы завернуть тело. У меня почти нет широких повязок для внешнего обертывания.
— А бальзамирование?
— Оно почти закончено. Это не было тяжелым делом.
Усермон размышлял. Сразу после ухода Асехема он вызвал писца, которого посылал ограбить гробницу Сменхкары.
— Послушай: ты сейчас возвратишься туда. Снимешь внешние повязки с мумии Сменхкары.
Писец от ужаса вытаращил глаза.
— Но это равнозначно разрушению мумии, Советник!
— Ты предпочитаешь разрушить мумию или погубить нас, себя и меня?
Писец глубоко задумался.
— Но я буду нечистым перед вечностью, Советник!
— Я тебе устрою очищение, которое совершит верховный жрец лично.
— Мне надо снимать все повязки?
— Только широкие.
— Они удерживаются с помощью воска.
— Придумай что-нибудь. И отправляйся туда немедленно.
Спустя четыре дня писец возвратился, растерянный, напуганный, мрачный. Он протянул Усермону мешок. Советник развязал веревку и осмотрел содержимое: груда широких повязок.
— Саркофаг был запечатан, — сказал писец замогильным голосом. — Теперь он испорчен. Мне пришлось оставить его открытым. Проклятия ада будут меня преследовать вечно.
Усермон продиктовал своему секретарю письмо, в котором просил верховного жреца храма Амона выполнить обряды очищения своего служащего, невольно ставшего виновником этого кощунства, затем вручил это послание несчастному человеку и отправил его к Хумосу. Сделав это, он захватил мешок с повязками и незамедлительно отправился в зал, где проводилось бальзамирование.
[34]
Со дня смерти Тутанхамона прошло уже сорок три дня. Нетерпение Ая скоро могло превратиться в стихийное бедствие.
Усермон бросил взгляд на мумию: обертывание узкими повязками было уже на стадии завершения. Сильный запах ароматических веществ, смешанный с отвратительной вонью соли, наполнял воздух. Асехем повернулся к посетителю, его взгляд упал на мешок. Советник протянул ему его, не говоря ни слова. После изучения содержимого Асехем спросил неуверенно:
— Откуда это взялось?
— Ты его не знаешь. Закончи обертывание. Завтра.
Бальзамировщик не нашелся, что сказать. Во всяком случае, записи на повязках поведают о своем происхождении.
Анкесенамон открыла глаза. Одна. Воробьи чирикали на террасе, где лев нетерпеливо ходил взад-вперед, ожидая смотрителя зверинца, который должен был принести ему еду.
Она вспомнила, как он целовал ее ноги. Итшан. Его оцепенение. Его страх. Его неловкость. Его волнение. Его благодарность. Его губы. Его тело.
Она вспомнила о том, что в одном из залов этого дворца бальзамируют тело ее супруга. Находясь в нескольких сотнях шагов от этого места, она отдала свое тело другому. Но ведь уже месяцы прошли с тех пор, как настоящий супруг умер. Неужели она рождена для вдовства? И как можно жить без тела мужчины?
Как смогла выжить Исис после смерти Осириса?
«Но я — не Исис», — решила она.
Сати подала ей чашу молока и фрукты. Смотритель зверинца принес льву большой кусок мяса и пиалу с водой и стал ожидать, пока зверь поест, чтобы отвести животное на берег реки справить нужду.
Кормилица изучала свою госпожу взглядом.
— Бальзамирование скоро будет закончено, — сообщила она.
— Так быстро?
— Сорок четыре дня прошло. Регент спешит.
Как обычно, слуги во дворце все узнавали первыми.
— Из-за Хоремхеба, — сказала Анкесенамон.
Сати ее расспрашивала, как всегда, взглядом. Она хотела услышать, что произошло ночью.
— Тело отвлеклось, — сообщила кормилице Анкесенамон. — Я ожидаю, когда и с сердцем произойдет то же.
Через три дня уже с раннего утра она была готова. Синее траурное платье. Белая повязка на лбу. Белые сандалии.
Уадх Менех пришел торжественно сообщить царице о визите регента. Ай появился в сопровождении носителя опахал, своего секретаря и Усермона. Он опустился на колени, поцеловал руку царицы и встал.
— Твое величество, тело царя, твоего супруга, готово отправиться на Запад. Он ожидает твоего визита, прежде чем закроют саркофаги, — объявил он.
Она должна была возложить цветы. Накануне ее об этом предупредили. Первая придворная дама протянула ей венок из цветов мандрагоры и васильков; она уже держала в руках сверток, в котором лежала дощечка для письма, переданная Меритатон. Она вышла из своих покоев в сопровождении носителей опахал, двух своих сестер и двух придворных дам; за ними следовал регент, Первый советник и свита. Она отправлялась в многодневное путешествие, но сначала — в зал бальзамирования.
Мастер Асехем, его помощники и ученики расположились вдоль стены. Они склонились в низком поклоне. То же сделали Хумос, служитель Ка и все присутствующие многочисленные жрецы.
Царица сделала несколько шагов, которые отделяли ее от мумии, уложенной на позолоченное ложе. Вокруг было нагромождение кресел, сундуков, сосудов, статуй, глиняных кувшинов для вина, статуэток, различных приношений. Как предусматривал ритуал, Нефернеферура стала в изголовье, чтобы играть роль Нефтис, сестры Осириса, которая помогла Исис похоронить бога.
Анкесенамон смотрела на хрупкое тело, подготовленное для вечности, на пальцы в золотых кольцах и золотую маску. Та же маска, какую он надел при жизни, теперь была увековечена в золоте, украшена ожерельями и драгоценными камнями, а изображения кобры и грифа должны были защищать усопшего. Почти не было видно собственно мумии под грудой драгоценностей, ожерелий, браслетов, кинжала в золотом футляре с ручкой из горного хрусталя…
«Осирис…» — снова подумала она.
Она положила на лоб мумии венок из цветов мандрагоры и васильков.
Ай произнес ритуальные прощальные слова. Отчетливо произнося каждое слово, чтобы хорошо слышали все жрецы, он приветствовал царя, который отправлялся во владения своего отца Амона. Анкесенамон также произнесла ритуальные фразы в знак прощания с царем.
Затем жрецы подняли царские останки и уложили их в первый саркофаг, который стоял на подмостках, сверху поместили крышку и запечатали ее.
Анкесенамон вздрогнула: на саркофаге было изображение Сменхкары. Она пыталась поймать взгляд Ая, но он отводил глаза. Ее оцепенение было настолько глубоким, что когда она смогла его преодолеть, было слишком поздно. Но что она могла бы сделать? Еще один раз царский саркофаг использовался для обмана. Но на этот раз благодаря предательству два брата соединились в смерти. Возможно, так пожелали боги.
Подняли первый саркофаг и осторожно поместили его во второй, на который также надели крышку. Затем в третий.
Носильщики подняли все саркофаги на свои плечи, чтобы на этот раз поместить их в каменный саркофаг, стоящий на волокушах. Затем этот каменный саркофаг подняли и поставили на повозку, которая ожидала во дворе. Началась погрузка похоронного имущества. «Сколько предусмотрели повозок?» — размышляла Анкесенамон. Хоры плакальщиц уже были слышны из дворца.
Пропустив вперед верховного жреца, Ай возглавил процессию. Он пересек большой зал, затем двор, переполненный служащими и слугами, и, наконец, вышел через монументальные ворота. Понадобилась сотня мужчин, чтобы установить каменный саркофаг на повозку, запряженную рыжими быками.
Когда Анкесенамон добралась до порога дворца, она увидела огромную толпу, ожидавшую на улице. Царевны, чиновники всех рангов, высокопоставленные особы в белых сандалиях следовали за ней. Царил неизбежный при формировании процессии беспорядок. Она повернулась, чтобы разыскать глазами Итшана, и не нашла его. У нее не было времени долго его искать, так как ведомая Хумосом и Аем процессия тронулась под грохот труб и крики плакальщиц. На корабль, отплывающий к месту захоронения — Месту Маат, ее сопровождал отряд военных, другой отряд замыкал шествие, следуя за девятью повозками, на которых везли саркофаг и похоронное имущество. Затем шли простые люди.
Время тянулось бесконечно. Она шла вместе со всеми, размышляя об одиночестве своего супруга в этих саркофагах. Наконец, прибыли на берег Великой Реки. Несколько парадных кораблей, среди которых она узнала «Славу Амона», были привязаны к опорам мостков. Еще одна людская толпа образовалась на берегу.
Но здесь были не только гражданские лица. Анкесенамон различила лес копий, которые блестели на солнце, как и головные уборы командиров. И вдруг раздались крики. Это военные кому-то преграждали путь. Кому? Внезапно вырвавшись из оцепенения, она увидела регента, бурно спорящего о чем-то с разводящим; судя по перу страуса на его голове, это был младший командир. Происходило что-то непредвиденное.
Хумос продвинулся к командиру.
— Любой человек, который намеревается преградить дорогу живому богу к месту его вечной жизни, будет проклят до третьего колена! — заявил он громко.
Командир, перекрывший дорогу, отступил.
— Все те, кто преграждает дорогу усопшему к вечной жизни, и их начальники никогда не узнают покоя в загробной жизни — с севера до юга этого царства! — заявил верховный жрец.
Это было высшее проклятие. И притом публичное. Тот, на ком был такой позор, не осмелился бы никогда показаться людям на глаза.
Растерявшись, солдаты стали шептаться, их ряды нарушились. Командир повернулся к ним и поднял руку. Придворная дама вскрикнула. С бьющимся сердцем Анкесенамон смотрела на происходящее, опасаясь столкновения.
Солдаты отступили.
После недолгого колебания Ай отдал приказ подниматься на корабль и первым взошел по сходням. Командиры стражников помогли присоединиться к нему супруге бога, затем поступили так же с царевнами и придворными дамами. За ними последовали жрецы, за исключением Хумоса, который жил в Карнаке. В то время как на корабль грузили их дорожные сундуки, пассажиры наблюдали с борта за успешной погрузкой саркофага и похоронного имущества. Другие участники процессии — высшее чиновничество, представители знати, послы следили за этим с других кораблей, в том числе и с «Мудрости Хоруса».
Таким образом, Ай сумел оказаться во главе траурной процессии. Отныне весь мир знал, что он будет царем.
По окончании четырехдневной церемонии в Месте Маат были запечатаны похоронные покои, затем вход в гробницу, и все присутствующие стали возвращаться в Фивы.
В темноте склепа под присмотром всех богов, которые его окружали, последний из Тутмосидов размышлял над этим парадоксом: мир в его царстве зависел от победы его врага.
Его жизнь была принесена в жертву Порядку. Точно как же, как и жизнь Осириса.
Он действительно был сыном Исис.
Эпилог
Исис была только любовью. Но вместе с Осирисом они составляли небесную пару. Когда он умер, и она собрала его останки и похоронила их с помощью Нефтис, она посвятила свою жизнь лечению детей, пострадавших от укусов скорпионов.
Анкесенамон не собиралась объезжать царство в поисках таких детей, как впрочем, не обладала и полномочиями Исис.
Она смотрела, как закат придавал коже Итшана медный оттенок. Он задумчиво ел фиги.
— О чем ты думаешь?
— Я думаю, что любовник — всегда слуга, — ответил он, улыбаясь, — но муж — всегда хозяин.
— Ты об этом сожалеешь?
— Нет, потому что хозяин несет груз обоих.
Она подумала о грузе печалей, которые ей пришлось вынести. Этот юноша говорил правду: она нуждалась в слуге. Он поддержал ее Ка. И с этого момента она его называла слугой Ка.
Кратко о событиях этого романа
Главные исторические персонажи те же, что и в романе «Гнев Нефертити», первой книге трилогии. К ним добавился Усермон, Первый советник, который сменил на этом посту Тхуту, и Гуя, наместник царя в стране Куш, которая находилась приблизительно на территории современного Судана. Гуя поставлял в царство золото и рабов, а также редкие ценные изделия.
Относительно описываемых событий необходимо сделать следующие уточнения.
Регентство Ая
Если обратиться к истории Древнего Египта, можно сделать вывод, что господин Ахмина, дедушка Анкесенамон, исполнял обязанности регента дважды. В действительности при своем восшествии на престол в 1332 году до н. э. Тутанхамону было приблизительно девять лет, а его супруга, которая тогда еще носила имя Анкесенамон, была на два года старше. Если бы Ай был Первым советником, как считают некоторые исследователи, он не смог бы фактически править царством до совершеннолетия царя, наступившего в пятнадцать лет. Когда царь достиг этого возраста, регентство было упразднено. Второй раз Ай становится регентом только на короткий период, на несколько недель или чуть более, после смерти Тутанхамона и до своего восшествия на престол.
Соперничество между Аем и Хоремхебом
Фактически это соперничество обеспечивало равновесие сил. К соперничающим сторонам примкнуло духовенство — жрецы бога Пта в Мемфисе, чья власть распространялась на Нижний Египет, поддерживали Хоремхеба, а жрецы Амона в Фивах, официальной столице страны и Верхней Земли, — Ая. В этом соперничестве армия играла двойственную роль, то выступая в качестве захватчика, то сдерживающей силы.
Недуг Тутанхамона
В общем допускается историками — Кристина Дероше-Ноблекур считает его человеком физически неполноценным, дебилом. Недуг, мне кажется, подтвержден некоторыми свидетельствами, среди которых наиболее существенны следующие:
а) на одном из изображений, в изобилии украшавших трон, плакированный золотом (египетский Музей Каира), видно, как царица Анкесенамон прикладывает мазь к плечу царя. Вот что странно: традиционным жестом царицы было предложить цветок своему супругу, но она действует так, как будто царь болен;
б) на сундуке из слоновой кости в Музее Каира видно, как царь опирается на трость, посох командира, повторяя, впрочем, странную позу своего брата Сменхкары (барельеф Staatliche, Берлинский музей);
в) помимо церемониальных тростей из золота и серебра, в его гробнице было обнаружено большое количество других тростей, что само по себе необычно.
Все эти факты делают вероятным предположение о дефекте телосложения царя.
Добавим, что, как и у его сводного брата Сменхкары, у Тутанхамона не было детей, и это довольно странно, если подумать о том, что они оба сочетались браком в юном возрасте с девушками, которые, как и их предки, в частности Нефертити, описаны как очень привлекательные.
Стало быть, нельзя исключать дефекты физического развития у Тутанхамона и у его брата, повлекшие ослабление сексуальной функции. Нежизнеспособное потомство было результатом кровосмесительных браков.
Неслучайная смерть Тутанхамона
В 1968 году профессор Ливерпульского университета Жорж Харрисон сделал рентген скелета Тутанхамона и обнаружил присутствие фрагмента кости в черепной впадине, характерное повреждение стенки черепа за ухом, а также отсутствие грудной кости и части грудной клетки. Три египтолога, Боб Бриер, Сирил Олдред и Эйден Додсон, выдвинули тогда гипотезу, что эти аномалии являются подтверждением того, что было совершено убийство, жертвой которого стал молодой царь. Одним из подозреваемых мог быть, очевидно, Ай, который, сменил его на троне.
Другие гипотезы появились, скорее всего, как противопоставление этой версии. Согласно одной из них, Тутанхамон умер из-за стремительно развивающейся болезни, ведущей к декальцинации и известной под названием «болезнь стеклянных костей». Согласно другой, эти аномалии были вызваны тем, что бальзамировали этого фараона в юном возрасте, и это стало причиной карбонизации останков и, таким образом, скелета. Но тогда его повредили бы при бальзамировании, и характер повреждений был бы совсем другим.
Помимо того что в черепе присутствует фрагмент кости, Тутанхамон умер очень молодым, девятнадцати лет. Это объясняли тем, что средняя продолжительность жизни в те времена была небольшой, что вполне вероятно. Но некоторые данные заставляют думать, что средняя продолжительность жизни тогда составляла около сорока лет, а возможно, и намного больше: Рамзес I и Рамзес II дожили до преклонного возраста (последний царствовал до шестидесяти пяти лет).
Выбор болезней, от которых Тутанхамон мог быстро угаснуть, конечно, огромный: от брюшного тифа и малярии до полиомиелита, от менингита до сепсиса. Фактически это ничего не меняет: двоюродный дедушка Тутанхамона Ай мог воспользоваться его смертью или же сократить жизнь своего племянника. Беспорядок, царящий в гробнице Тутанхамона, усилил подозрение.
Беспорядочные похороны и дело масок
То, что в Долине Царей в местах, обозначенных KV 55, KV 62, KV 65, царил необычный интригующий беспорядок, хорошо известно египтологам и тем, кто интересуется Древним Египтом. Обнаруженные в этих погребальных помещениях следы чьего-то присутствия, и в саркофагах, и среди движимого имущества, не позволяют понять, что там произошло. Многие похоронные помещения в Долине Царей, кажется, использовались главным образом как склады, куда сносили только самое лучшее, что содержалось в царских гробницах, чтобы уберечь их от жадных грабителей. То же обнаружили и в KV 62, где Картер и Карнарвон сделали свое памятное открытие саркофага и движимого имущества Тутанхамона, причем было много такого, что не могло быть отнесено к времени его правления.
К тому же некоторые детали, как отмечалось многочисленными египтологами, начиная с Картера, и не однажды Кристиной Дероше-Ноблекур, указывают на то, что бальзамирование и погребение Тутанхамона было проведено ускоренными темпами, если не сказать халтурно; мумификация велась в режиме шесть-четыре-два, что привело к сильной карбонизации останков.
Итак, при такой спешке невозможно было вовремя изготовить наосы и маски.
А ведь изготовление четырех похоронных наосов, плакированных золотом, первый из которых был 5 метров длиной, 3,3 метра шириной и 2,73 метра высотой, представляет собой значительный объем работы; современные кустарные мастерские со всеми их техническими приспособлениями не смогли бы обеспечить выполнение этой работы менее чем за три месяца.
Более того, эти наосы были повреждены задолго до их обнаружения Картером и Карнарвоном. Двери первого были сломаны, о чем свидетельствует исчезновение обычной земной печати. Ворами? Это предположили вначале при виде вторичной штукатурки на проемах в стене и в местах крепления саркофага. Но спрашивается, почему воры потрудились взломать первый наос и оставили три остальные наоса и замечательные саркофаги нетронутыми?
Для взлома, таким образом, были другие причины, не кража. Этот взлом может быть связан с исчезновением одних и появлением других элементов в гробнице этого царя.
Хотя эти заимствования сами по себе, кажется, свидетельствуют о многих загадочных событиях в истории Древнего Египта, остающихся до сих пор нераскрытыми. Два наиболее интригующих добавления были обнаружены в могиле Тутанхамона. Первое, которое поначалу не очень привлекло внимание специалистов, имеет отношение к саркофагам. Для справки: царская мумия, лицо которой уже было покрыто маской, помещалась в три последовательно вставленных один в другой саркофага, на каждом из которых была закреплена маска, как предполагается, изображающая царя. Для лучшего понимания того, что затем я последует, я назову маской I ту, которая помещена на мумии, маской II ту, которая находится на втором саркофаге, маской III — маску третьего саркофага, внешнего, и маской IV ту, которая находится на саркофаге из позолоченного дерева, внутри которого и находились три саркофага.
Итак, невозможно не заметить, что эти маски отличались одна от другой.
Золотая массивная, украшенная инкрустациями из сердолика и стекла, маска I наверняка являет собой одно из наиболее знаменитых изображений в мире. Это лицо мальчика в юные годы, с тонкими женственными чертами, задумчивым или печальным выражением. Брови у него тонкие. Возраст модели, по-видимому, между двенадцатью и четырнадцатью годами.
Маска II разительно отличается от маски I: лицо более взрослого человека — ему более двадцати лет — рот волевой, в изгибе губ больше горечи, глубоко прочерчены две идущие от носа морщины, называемые «львиными». Брови гуще.
В маске II очень заметно важное физиономическое различие с масками I, III и IV. В трех масках нижняя челюсть со скошенным подбородком уходит под верхнюю, что указывает на то, что верхний ряд зубов выдавался вперед. На маске II, наоборот, нижняя челюсть слегка выступает вперед. Антропометрические исследования не дают точного доказательства, но это отличие кажется убедительным.
Маска III более близка к первой, но лицо здесь полнее, более зрелое; губы изогнуты пренебрежительно, брови снова тонкие. Поразительная деталь: полосы из стекла и сердолика, которые украшают прическу, на масках I и II полностью отсутствуют; глаза также отсутствуют, тогда как на масках I и II им придана удивительная глубина.
Маска IV еще больше вводит в заблуждение: здесь ничего не осталось от мечтательного или пренебрежительного выражения, запечатленного на трех остальных. Это портрет болезненного и слабосильного молодого человека с вжатой в плечи головой и жалким выражением лица. Именно эта маска из всех четырех, кажется, больше всего соответствует тому образу Тутанхамона, который нам известен, с учетом его физического состояния, согласно исследованиям и рентгеновским снимкам скелета: от восемнадцати до девятнадцати лет, рост до 1 м 67 см. Абсолютно ничего не понятно с маской II. Очевидно, что эта последняя не соответствует двум другим портретам.
Трудно избежать следующего вопроса: действительно ли маски II и III изображают Тутанхамона?
Необъяснимая странность: протокол требовал, чтобы царь носил ритуальное ожерелье, представляющее собой три ряда дискообразных жемчужин; это справедливо в случае маски I, но не маски III, на которой видно только два ряда ожерелья. Это означало бы отобрать у Тутанхамона часть его царских привилегий…
Три маски не могут не удивлять еще по одной причине. Помимо того что они прекрасны и бесценны, их изготовление требует колоссального объема работы: сотни часов для группы опытных мастеров. Отсутствие инкрустации на маске III как раз свидетельствует о том, что она не закончена.
Итак, поспешность, которая объясняет эту незаконченного, не соответствует великолепию масок I и II. Следовательно, можно заключить, что по меньшей мере одна из них или две «были заимствованы» из погребальных принадлежностей другого фараона; наиболее очевидно, что это маска II.
У кого эта маска II, наименее напоминающая Тутанхамона, могла быть «заимствована»? Разумеется, ни у Ая, ни у Хоремхеба, которые на тот момент еще были живы и чьи изображения известны. Остается предшественник Тутанхамона Сменхкара. Морщины, начинающиеся более высоко, и горькие складки у рта напоминают, впрочем, таинственного «сидящего царя» из желтого стеатита в Лувре, личность которого долго оставалась неопределенной.
Это было не единственное заимствование: при обнаружении саркофага и мумии Картер отметил, что широкие повязки были ранее использованы на другой мумии, вероятно мумии Сменхкары.
При исследовании внутренней части миниатюрного саркофага 39 сантиметров высотой, покрытого золотой фольгой, хранящегося в Музее Каира, обнаружили, что рамка с именем Тутанхамона заменила рамку с именем Сменхкары, фараона, упомянутого выше, который был предшественником Тутанхамона.
Значение трех «заимствований» огромно: гробница Сменхкары, таким образом, была разорена, по крайней мере, взята одна из масок с саркофага, а также были изъяты широкие повязки, статуэтки саркофага и, без сомнения, много других объектов. По египетским обычаям это считалось самым тяжким осквернением. Саркофаги фараона должны были защитить его для вечной жизни и гарантировать, что он останется нетронутым при своем возрождении в загробном мире. Это — безусловное убийство. Кто-то хотел таким образом погубить духовно Сменхкару. Саркофаг Сменхкары так и не был обнаружен, возможно, он был разрушен и осквернители на этом остановились, а сама мумия, также обнаруженная в KV 62, спит своим последним сном в витрине Музея Каира, вызывая недоумение египтологов.
«Дело трех масок» не является, таким образом, второстепенным вопросом, который в состоянии заинтересовать только придирчивых ученых или любителей полицейских загадок, это важный вопрос: он отражает жестокую беспощадную борьбу за власть, которая на щадила даже память об усопших, что свойственно цивилизации фараонов. Перед нами открывается совершенно другой Египет, не идеализированный и не приукрашенный.
Жеральд Мессадье
«Триумф Сета»
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
МОГУЩЕСТВО СЕТА
1
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
Воспользовавшись моментом, лев неожиданно завалился на спину и стал крутиться, стараясь потереться гривой о ноги своей госпожи Анкесенамон. Он запрокинул голову с открытой пастью и не сводил с нее влюбленных глаз. Перебирая лапами, он урчал от удовольствия.
Небо было безмятежным. Легкий, как девичье дыхание, ветерок прошелся по террасе дворца Фив, приподняв подолы платьев находящихся там женщин, — трех придворных дам и царицы Анкесенамон. Держа в руках кубки из синего сирийского стекла, филигранно отделанные золотом, они смаковали гранатовый сок и обсуждали новости двора и городские сплетни.
Улыбаясь, Анкесенамон наклонилась к зверю и слегка коснулась рукой его морды. Лев лизнул изящную кисть, тронул языком массивное золотое кольцо, подарок Тутанхамона: скарабей из бирюзы, несущий на спине двойной картуш с именами царя и царицы.
— Это животное предано тебе как собака, — заметила Первая придворная дама.
— Он меня вылечил, — откликнулась Анкесенамон.
Она имела в виду ту ужасающую слабость, что овладела ею после известия о смерти ее возлюбленного Пасара, после чего у нее случился выкидыш. Пасар погиб в результате несчастного случая, подстроенного во время царской охоты.
[35] Получив согласие лекаря Сеферхора, ее кормилица Сати, служительница Кобры, привела к изголовью царицы одного из двух содержавшихся в питомнике львов. Вскоре об этом стало известно всему двору. Разумеется, в присутствии царицы никогда не говорили о постигшем ее несчастье, чтобы не вызывать у нее печальных воспоминаний.
— Доброта Секмет безгранична, — произнесла одна из придворных дам.
При упоминании имени богини с лица Анкесенамон сошла улыбка. Она задумалась о тайнах богов. Львица Секмет была богиней мщения, а последние годы царство потрясали преступления, вызывавшие у Анкесенамон отвращение. Неужели все это происходило с благословления Секмет? Может быть, она послала одного из своих сыновей царице в утешение?
Но как бы иначе она смогла утешиться после столь печальных событий?
Жрецы древних культов отомстили ее отцу Эхнатону за предание их забвению — он надеялся, что пески пустыни поглотят их вместе с богами. Он умер. Месть жрецов? Военных? Самой Секмет? Нефертити, ее мать, отомстила сводному брату и фавориту своего супруга Сменхкаре и стала бороться за власть. Причиной ее смерти стал яд. Поцарствовав семнадцать месяцев, Сменхкара последовал за нею в могилу — он тоже стал жертвой отравления. Пыталась ли отомстить ее сестра Мекетатон? Старшая сестра Меритатон испытывала к ней неприязнь, поскольку Мекетатон считала, что она соучастница отравления Нефертити; как бы то ни было, Меритатон исчезла.
[36] А кто отомстил Сменхкаре, ей было доподлинно известно: ее собственный дед Ай, жаждавший оказаться на троне. Но преемником Сменхкары стал Тутанхамон. И кто же отомстил ему? Опять Ай.
Действительно ли Секмет была ее защитницей?
Она вспомнила, в каком гневе пребывала Меритатон, когда по возвращении в Ахетатон обнаружила следы проведения магических обрядов, которые совершались, очевидно, по настоянию Мекетатон и были направлены против нее и ее супруга Сменхкары.
Колдовские чары оказались действенными: Меритатон и ее любовнику пришлось бежать — только так они могли спастись.
Она была слишком молода, чтобы поддаться всепроникающему ужасу, который воцарился во дворце. Частая смена власти превратила людей в хищников. Любой конфликт заканчивался смертельным поединком. Только сейчас, став вдовой после смерти Тутанхамона, она это поняла. Но она овдовела дважды — ведь она потеряла и Начальника конюшен Пасара — друга детства, а затем ее любовника. Горячо любимый Пасар, пусть твоя вечная жизнь будет спокойной!
«Я потеряла саму себя», — подумала она.
Наконец Ай сел на трон, чего он так долго ждал.
Напрасно она пыталась отогнать мысли о коронации, на которой должна была присутствовать, сидя неподвижно на троне в качестве супруги собственного деда. Второй раз ей пришлось занять это место во время церемонии: в первый раз она
была супругой жертвы, а во второй — супругой убийцы.
Сати вытащила из шкафчика Сеферхора снадобье, приготовленное из горькой травы, и протянула его своей госпоже:
— Выпей. Тебе это необходимо.
Со времени смерти Пасара она доверяла своей кормилице как никому другому на этом свете.
— Что это?
— Вытяжка ката. Она укрепит твои силы и сделает тебя менее чувствительной — для того, чтобы ты смогла выдержать испытание.
Она выпила снадобье. На этот раз бесконечные ритуальные обряды в храме Карнака стали для нее настоящим кошмаром. Самым ужасным был момент, когда кровожадный старик начал обходить храм, что символизировало вхождение во власть. За ним следовали жрецы в масках богов. Сидя на троне, она с нетерпением ждала окончания этого маскарада.
«Клянусь Амоном, сущий кошмар!» Когда торжественное шествие завершилось и Ай вернулся в храм, важно шагая впереди выстроившихся в колонну жрецов, представителей знати и послов, возбужденный от их грубой лести, ей привиделось, что Анубис — божество с заостренной черной мордой шакала — набросился на старика и разорвал его на куски! Она готова была поклясться, что видела волочившуюся по узкому проходу ногу нового фараона, которого расчленили, как барана.
Чтобы сдержать неуместное веселье, она выпрямилась и вцепилась пальцами в подлокотники. Безумное видение! Увенчанный двойной короной, Ай вернулся, чтобы сесть рядом с ней. Она догадалась, что видение было вызвано снадобьем Сати.
Последняя из трех царственных жен второй раз становилась царицей. Самая старшая из них, Меритатон, сбежала вместе со своим любовником и отцом ее сына Неферхеру, а средняя, Мекетатон, покончила с собой, сама того не желая, став жертвой своего злобного ликования, когда узнала о смерти Сменхкары.
[37]
Она смотрела на восток, в сторону Великой Реки, вспоминая, какой вид открывался ей в детстве: полные роз сады, простирающиеся от дворца вдоль берегов Великой Реки.
Вновь увидела воздушного змея, которого Пасар запускал для нее, и ей даже почудился запах ила — как тогда, когда он ловил для ее развлечения рыбу. Ей снова виделись бьющиеся в корзине рыбы, которых он поймал.
Анкесенамон исполнился двадцать один год, но ей казалось, что она прожила все сто лет.
Царица без царя. Без ребенка. Без ничего. Почти статуя, вылепленная для украшения дворца.
Она вновь ощутила ужас, который испытала на похоронах Тутанхамона, организованных Аем наспех.
Когда она вошла в гробницу своего супруга в месте Маат, то оцепенела, узнав ритуальные предметы и часть погребального имущества своего отца Эхнатона, матери Нефертити и шурина Сменхкары!
И действительно, ввиду нехватки времени посланники Ая разграбили три царские гробницы, и даже те, что находились в усыпальнице Эхнатона, там, где покоились саркофаги Эхнатона и Нефертити. Не зная, где срочно взять необходимое для захоронения, они изымали оттуда все, что попадалось под руки, включая деревянные и алебастровые скульптуры, вазы и многое другое, что требовалось царским особам для вечной жизни. Но поди знай, кому какие вещи принадлежали в этих похоронных складах, которыми, по сути, являются гробницы!
Они обобрали покойников, дабы обустроить место для только что усопшего! Невиданное святотатство!
Да, времени было мало, так как Ай очень спешил со своей коронацией. Он боялся, как бы его соперник Хоремхеб, столь же яростно жаждавший занять трон, не опередил его. Положенный срок траура в шестьдесят дней был сокращен до сорока, что вызвало возмущение всех придворных и служителей культа.
Но верхом неприличия стало то, что у Ая не оказалось царской печати, которой следовало опечатывать двери погребальной часовни — не было времени ее изготовить. В результате пришлось использовать печать Тутанхамона. Такого никто никогда не мог представить — покойник сам опечатывал свою усыпальницу!
Еще она вспомнила о погребальной еде, доставленной в спешном порядке, — настолько Ай торопился возвратиться в Фивы.
Она ни о чем не хотела знать, но ее любовник Итшан, который был преданным товарищем Тутанхамона, рассказал о том, что при установке крышки на саркофаг Тутанхамона рабочие случайно разбили ее, и тогда Ай приказал ее починить и покрасить, чтобы замаскировать трещину! Ай заявил, что не может быть и речи о том, чтобы ждать изготовления новой крышки.
Итшан ей также рассказал, что Ай пришел в ярость, когда узнал, правда, слишком поздно, что его посланцы разграбили гробницу его собственной дочери ради обустройства склепа Тутанхамона.
Она также вспомнила, что еще привело ее в изумление во время посещения гробницы. В сопровождении Сати и одной придворной дамы она оказалась там одновременно с Аем, которого сопровождали Первый советник Усермон, казначей Майя, начальник охраны Маху и глава ведомства по иностранным делам Пентью, наместник Гуя и многие другие, пришедшие выразить свои соболезнования.
Она подняла глаза на потолок: роспись не завершена. Даже штукатурка не была отшлифована! Анкесенамон стала рассматривать фрески: у богинь Исис и Хатор были черты ее лица. Чуть дальше были изображены богиня-кобра Уаджет и богиня-коршун Нехбет, и обе с ее лицом. Еще она была представлена в образе богини Куеретхикау — госпожи Небесного Дворца! Какой смысл в этой лести, даже подхалимстве? В особенности учитывая размах этого сумасбродства.
Сати остановилась перед живописными панно и слегка подтолкнула локтем свою госпожу: Ай заставил изобразить себя в образе бога Амона!
— Я понимаю: все делалось в спешке, — позднее доверила она свои сомнения Итшану. — Но зачем столько имущества покойному царю? К чему все эти заботы?
— Ай хотел доказать двору, что он почитает царскую династию. Ты прекрасно знаешь, что многие люди, не только придворные или жрецы, а даже простые жители страны считают смерть Тутанхамона преждевременной и очень подозрительной. Показная набожность должна служить ему оправданием.
Охваченная гневом, она вдруг гордо вскинула голову. Этот человек, ее дед, был виновен в смерти Пасара из-за подстроенного по его указанию несчастного случая на охоте. А ведь погибнуть тогда должен был Тутанхамон! Заговор провалился. Но Ай не сдался, и некоторое время спустя, неведомо как, произошло падение Тутанхамона с дворцовой лестницы, ставшее причиной его смерти. Она интуитивно чувствовала: этот несчастный случай произошел не без участия Ая.
Следовательно, этот старик был первопричиной ее несчастий. Почему она не может пойти против него? Вот уже несколько лет она испытывает на себе трагические последствия борьбы за власть. Несомненно, организатором отравлений и покушений на жизнь царственных особ был этот отвратительный интриган. Если Секмет действительно была благосклонна к ней, послав одного из своих сыновей ради ее выздоровления и для ее защиты, сейчас она должна дать ей силу, чтобы она могла мстить.
Анкесенамон приняла твердое решение отправиться в храм Мут, чтобы принести богине жертву.
Она ожидала с нетерпением наступления сумерек, когда Итшан присоединится к ней во время вечерней трапезы, а потом останется на всю ночь.
По иронии судьбы или с каким-то дальним прицелом Ай назначил преемника Пасара на должность Начальника конюшен. Во дворце всем было известно, что Итшан стал новым любовником Анкесенамон.
Выкупавшись, побрившись и умастив кожу, он явился к Анкесенамон свежим и благоухающим. Церемонно поклонился ей. Мягкость жеста и искрящийся взгляд молодого человека, когда он поднял голову, привели ее в восторг. Итшан действительно был хорош собой, даже превосходил по красоте Пасара. Но он не был Пасаром.
— Хочу надеяться, моя царица, что этот день прошел благополучно.
Она неубедительно кивнула. Этот ритуал главным образом предназначался для придворных дам, находившихся возле царицы до наступления времени позднего ужина, затем они с ней прощались, если не получали от царицы приглашения остаться.
Она заметила украшенную цветами корзину, которую он держал в руке.
— Что это такое?
— Хлебцы, которые мне прислал царь.
Она нахмурила брови.
— Покажи.
Он поставил корзину к ногам Анкесенамон. Сорвав кусок материи, которой та была накрыта, она обнаружила там три стопки политых медом аппетитных хлебцев и посмотрела на них так, как хозяйка, обнаружившая мышей в горшке с овощами, которые готовила для семьи.
— Ни к чему не прикасайся!
Он встревоженно посмотрел на нее.
— Ты думаешь?.. — прошептал он.
— Я не думаю, я в этом уверена. Подарок! Хлебцы! Да неужели?
Она позвала слугу.
— Положите эти хлебцы где-нибудь в укромном месте. Пусть никто к ним не прикасается.
— Не хотел же он меня… — Итшан запнулся.
— Кто его знает. Надо постоянно быть начеку. Неизвестно, которая из попыток окажется смертельной. Возможно, уже эта.
Наутро она велела повару скормить один хлебец свинье. Животное прожило до вечера без каких-либо признаков недомогания. На следующий день с ним тоже ничего не произошло. Тогда свинье скормили оставшиеся хлебцы, так что та даже обожралась. Без особых последствий.
Эта тревога была ложной, но в любом случае хлебцы от царя хороши только для свиньи.
Позже Итшан дал ее телу ощутить воздействие бальзамов ночи. Чудесные, но кратковременные утешения. Оба любовника слишком хорошо знали: ситуация была шаткой.
Некому было наследовать трон.
2
НА МЕСТЕ СОЛНЦА — ЛУНА
Носить под сердцем ребенка и видеть, как его выдирают из твоего лона…
Ребенок Пасара. Ребенок, зачатый от мужчины, которого она любила как саму себя. Первый ребенок, которого она так ждала!
И потеряла в тот миг, когда ей сообщили о смерти его отца.
Она вспомнила те горькие мгновения, когда повитуха тянула бедное существо, набросок человека, которому бог всех богов, творец мира Амон отказал в существовании.
Воспоминания об этих ужасных днях возвращались к ней, подобно стае воронья, набрасывающейся на пшеничные поля, клацая клювами и шумно хлопая черными крыльями. То ли этих стервятников приносил порыв ветра, то ли они чувствовали, где могут поживиться. Она могла по нескольку часов и даже дней находиться в невменяемом состоянии, пока Сати или Итшан не принимались упрекать ее.
Царица! Нельзя же так, царица!
Однажды вечером Итшан нашел ее в состоянии безучастности ко всему, отчаяние охватило ее, будто она ощущала дыхание смерти.
Как обычно, он стал расточать нежные слова и ласки — ничто не действовало на нее.
— Твоя печаль бессмысленна, — сказал он.
И это говорил тот, кто прежде проявлял столько понимания! Она взглянула на него удивленно.
— Это ты мне говоришь? Ты же знаешь причины моей грусти.
— Да, действительно знаю. Ты считаешь себя бессильной жертвой, статуей. Ошибаешься. Большая часть придворных и знати Фив и Мемфиса воспринимают тебя как последний оплот божественной царской власти.
У нее широко открылись глаза.
— Что означают эти речи? — спросила она. — С каких пор я стала тем, кем, как ты говоришь, меня считают?
Бывший товарищ Тутанхамона по учебе и играм, новый Начальник конюшен был к тому же одним из сыновей военачальника фиванского гарнизона. Его старший брат был первым писцом Казначейства и вторым при казначее Майи. Его семья считалась одной из самых богатых в стране и возглавляла один из самых влиятельных кланов Верхней Земли, уступавший по значимости лишь клану Ая. Он не говорил необдуманных слов.
— Ты — некоронованная царица, но твоя власть реальна. Ай не может воспользоваться своей властью без твоего согласия. Наступило время осознать это. Доказательством является то, что Хумос, верховный жрец храма в Карнаке, сдержанно поинтересовался в присутствии моего отца вашими с Аем взаимоотношениями.
Оцепенение, в котором она пребывала всю вторую половину дня, неожиданно отпустило ее. Анкесенамон горделиво выпрямилась.
— Ай все это хорошо понимает, — заключил Итшан. — Он знает, насколько почитаема династия в стране. Это и есть причина, по которой он выставляет напоказ свое уважительное отношение ко всему, что касается царственного образа. Ты — не угроза для него, напротив, ты гарантия законности его власти. Ты напрасно ведешь себя так, будто безоружна.
Она вспомнила фрески в гробнице, на которых была изображена в образе божеств.
— Но что может дать мне эта власть, если я действительно обладаю ею? — произнесла она вполголоса.
Спустя два дня из витиеватых речей своего распорядителя церемоний Анкесенамон стало известно, что занимающий такой же пост в доме Ая старый Уадх Менех — живая мумия, повидавшая на своем веку достаточно ужасов, — сообщил ему о визите правителя.
Она насторожилась. Если Ай сдвинулся с места специально для того, чтобы ее увидеть, значит дело было действительно серьезным. На протяжении трех месяцев с тех пор, как он взошел на трон, они виделась только на дворцовых праздниках и обменивались лишь короткими фразами, звучавшими из ее уст весьма холодно.
Анкесенамон решила принять его на террасе, своем любимом месте во дворце. Она наблюдала за тем, как ее дед шел через анфиладу в сопровождении секретаря, носителей опахал и двух стражников. Перед дверью в прихожую он обернулся, что-то коротко приказал и продолжил свой путь один. Две придворные дамы также наблюдали за продвижением царя по отделанным плитами ступеням — он осторожно ставил ноги в золотых сандалиях, в такт шагам постукивая тростью.
Сначала расстояние в тридцать, затем в двадцать и вскоре в десять шагов отделяли ее от этого человека. Тяжелая походка. Кажется, две морщины, спускающиеся от крыльев носа к уголкам рта, стали более глубокими за прошедшее время. Складка между бровями уже не могла быть глубже — она прорезала кожу почти до кости. Горестно изогнутые губы, словно рассеченные саблей. Глаз не видно. Да, у этого человека не было глаз: только две дыры, которые, как две съежившиеся крысы, следили за тем, что происходило снаружи.
«Человек, которого надо уничтожить, — подумала она. — И это будет истинным удовольствием!»
На расстоянии в пять шагов он остановился и широко улыбнулся. Раскрыл объятия.
— Царица Анкесенамон! Внучка моя дорогая!
Только уже за это она готова была отдать его на съедение льву, который, между прочим, поднялся и сел у ее ног при виде посетителя. Словно наткнувшись на бдительный взгляд хищника, Ай остановился.
— Так ли необходимо присутствие здесь этого животного? — спросил он елейным тоном.
— Чистой душе нечего опасаться.
Фраза была рассчитана на то, чтобы посеять беспокойство в душе притворщика-царя.
— Впрочем, мне говорили, что в своем дворце в Ахмиме ты держишь гепардов, — добавила она.
Он покачал головой и подцепил на палец массивное кольцо, держа его так, будто предлагал ребенку лакомство, потом приблизился на один шаг и стал еще приторнее улыбаться.
Она не пошевелилась, взглядом отметая подарок.
— Это кольцо — для тебя, — сказал он, хотя это было очевидно. — Взгляни.
Она соизволила опустить глаза на кольцо — точно такое подарил ей Тутанхамон, она постоянно носила его, но только этот скарабей был красного цвета.
— На нем выгравированы два картуша с нашими именами, — произнес он, решившись преодолеть последний шаг, который отделял его от нее.
Она поднялась; он приблизил к ней лицо, которое точнее было бы назвать мордой. Тогда она подставила свою щеку для поцелуя. Он снова протянул ей кольцо, и она взяла его, раскрыв ладонь. Притворилась, что рассматривает. Он посмотрел на придворных дам.
— Наша беседа не для посторонних ушей, — сказал он серьезно.
Она повернулась к дамам и качнула головой.
— Чем обязана чести лицезреть тебя? — спросила она.
— Но… удовольствие видеть тебя… — начал он с той же приторной улыбкой. — Мои обязанности изнурительны. Столько накопилось документов! Столько приходится принимать решений! Ни минуты свободной.
Она подала ему кубок с гранатовым соком, он взял кубок и бегло осмотрел его.
— Судьба этой страны, Анкесенамон, в наших руках, — продолжил он. — Нам необходимо действовать сообща.
Во время их последней беседы перед коронацией он убедительно говорил о том, что будущее царства находится в ее руках; теперь он заявляет, что оно — в руках их обоих. Она оценила его ход. На самом деле в прошлый раз он хотел получить ее поддержку для того, чтобы иметь больше шансов занять трон. А теперь речь зашла об объединении их усилий. С каких это пор?
— Со времени смерти твоих родителей династия уже не так сильна, и тебе это известно, — заявил Ай. — Нелепая смерть Тутанхамона стала серьезным ударом по царству.
Ее охватило негодование: ведь именно он подстроил эту смерть после неудачи с якобы несчастным случаем на охоте. Как он смеет сожалеть об этом? Она почувствовала, что ее лицо стало багровым от гнева. Заметил ли он это? Его взгляд остановился на ней, Ай запнулся, но вскоре продолжил:
— Амон защитил меня для того, чтобы я остался жив и смог взять бразды правления в свои руки.
«Неужели это чудовище считает меня дурочкой? Организовал смерть Тутанхамона, так как существовала угроза того, что Хоремхеб свергнет царя, устроив военный переворот!»
— Ты ничего не отвечаешь мне, — заметил он.
— Я слушаю тебя.
Он покачал головой.
— Без сомнения, тебе известно о намерениях Хоремхеба захватить трон, — сказал он.
Но он же сам взошел на трон именно таким способом! Она высказала свое мнение.
— Ты не можешь игнорировать последствия, какие будет иметь для царства захват власти этим человеком, — заявил он грозно. — Династия окончательно потеряет влияние. Вместе с сестрами ты будешь изгнана из дворца, и вам придется вести жизнь простолюдинок. И это в лучшем случае. Все статуи, фрески, монументы — все то, что обеспечивает вечную жизнь твоим родителям и предкам, будет разбито, разрушено, упразднено.
— Он, между прочим, женат на моей тете, — напомнила она.
— Мутнехмет никогда не имела на него ни малейшего влияния. Сомневаюсь, что и нынче у нее есть возможность заставить себя слушать.
— Надеюсь, она не умерла? — воскликнула Анкесенамон встревоженно.
— Нет, моя дочь не умерла. Но он возьмет в супруги другую, помоложе. Артистку из дома танцев. Мутнехмет отправят жить во владения твоего отца, которые он ей оставил, — это недалеко от Мемфиса. Она ничего не сможет сделать, чтобы тебя защитить.
Анкесенамон пребывала в раздумьях. Она должна была признать, что, переполненная печалью по поводу смерти близких ей людей и ненавистью к Аю, не задумывалась о последствиях захвата власти Хоремхебом. Она подозревала, что этот жадный до власти солдафон более жесток, нежели Ай.
Он почувствовал, что, наконец, разбил раковину презрения, в которой она укрылась. И соизволил отведать гранатового сока.
— В настоящий момент, — продолжил он, — трон наш. Но сможем ли мы его удержать? Наше положение непрочно.
Он сделал ударение на последнем слове. И повторил его:
— Слишком непрочно.
Его крысиные глаза — или, может быть, глаза хорька? — так и буравили царицу, его родную внучку.
— По мужской линии никого больше не осталось.
Он приблизил свое лицо к ее лицу, скорее маске, и сказал, рисуя жуткую перспективу:
— Если я завтра умру, что тогда? Хоть под пыткой, но он вынудит тебя сочетаться с ним браком. Ты и ребенок, которого он тебе сделает, обеспечат ему трон!
Ее охватил ужас. Тысячи ситуаций, одна другой хуже, представляла она. Анкесенамон видела себя изнасилованной Хоремхебом. Но самым ужасным было то, что Ай, очевидно, намеревался сделать ей ребенка, дабы предотвратить эту угрозу. Она вытаращила глаза.
Лев поднял на нее взгляд.
«Секмет, приди на помощь!»
— Надо сделать тебе ребенка, — снова заговорил Ай. — И даже не одного.
Она в ужасе отпрянула.
— Но не я этим займусь. Я знаю, что ты мною гнушаешься, — сказал он с горькой усмешкой. — Ты меня ненавидишь, не понимая, кто виновник твоих несчастий. Но сейчас не время об этом говорить.
Она и правда не знала, что сказать.
— Если ты родишь ребенка, возможно, он успеет вырасти, чтобы мы могли заставить принять его как наследника.
Он снова склонился к ней.
— Иначе Хоремхеб захватит трон! — воскликнул он угрожающе.
Его громкий голос заставил льва настороженно вскинуть голову. Последовало молчание. В небе над Фивами парили два коршуна. Как зеркало, блестела поверхность Великой Реки. Проплывающие мимо лодки с парусами, казалось, клевали воду.
Анкесенамон уже не знала, что и думать. Она была растеряна.
— Все, что я делаю, пойдет тебе лишь на пользу, — сказал он устало. — Царской династии будет от этого только выгода. Ты не хочешь этого понять, но так оно и есть.
Она чувствовала себя опустошенной. Ощущать, как из тебя выветривается ненависть, столь же тягостно, как ощущать разрушение любви. Страсти подобны корсету, который придает жесткую форму; при отсутствии страстей душа становится бесформенной. Север оказывается на юге, а на месте солнца — луна.
— А годно ли семя Итшана? — спросил он.
Она была озадачена.
— Ты еще не забеременела? Если родится ребенок, я его, конечно же, признаю. Нам необходим наследник. Или наследница.
Она чуть не задохнулась. Это было уже слишком.
— А твои сестры? Если у тебя не будет потомства, так может, они об этом позаботятся? При условии, что отцом будет сильный мужчина.
У нее оставалось только две сестры — Нефернеруатон-Ташери и Нефернеферура. Анкесенамон ничего не было известно об их жизни. Неужели она должна навязать им любовников? Мужей? Последние слова Ая звоном отдавались в ее мозгу: если она не сможет обеспечить продолжение династии, произведя потомство, то должна будет уступить свое место одной из сестер.
Стало быть, царица является прежде всего самкой.
— Но как же твои сыновья? — спросила она, не узнавая своего голоса.
Насколько ей было известно, от всех жен гарема в Ахмиме у него было шесть или семь сыновей и столько же дочерей. И, без сомнения, в два или три раза больше внуков.
— Тогда надо, чтобы один из моих сыновей заключил брак с одной из твоих сестер. Это — крайний случай. Не знаю, как такое решение воспримут в стране.
Вновь молчание.
Наконец он заявил:
— Мне надо было тебе это сказать. Разумеется, нам много чего необходимо обсудить, но мне кажется, тебе трудно говорить. Мы скоро увидимся, так как это срочные вопросы. Бог Тот даст тебе совет.
Он встал. Будто следуя правилам хорошего тона, принятым у людей, лев тоже поднялся.
Анкесенамон смотрела, как царь в одиночку дошел до большого зала, а там уже носители опахал, Первый царский писец и остальные из его свиты двинулись следом за ним.
Она пребывала в растерянности, одна на террасе дворца.
Убийца мужа стал ее защитником. Теперь они были связаны друг с другом. Она даже стала его сообщницей.
Она должна была проглотить свою ненависть. Такого вероломства она не ожидала от Секмет. Да, богиня ее защищала, но какой ценой!
3
ТЕМНОЕ ДЕЛО ДОМОВ ТАНЦЕВ
С незапамятных времен яд считался излюбленным оружием почтительных людей, соблюдающих приличия; таких людей еще называют лицемерами. Он позволяет избежать скандала, часто сопровождающего убийство, и недоразумений, ложных обвинений и лживых оправданий, которые обычно за этим следуют. Зачастую случившееся объясняют превратностями судьбы. И только бальзамировщики по состоянию внутренних органов распознают жертв дурмана, белладонны, белены, цикуты, змеиного яда или яда жабы, а в целом яд позволяет сохранить спокойствие в обществе и соблюсти внешние приличия — в отношении как покойника, так и его убийцы.
У ядов существует определенная иерархия. Главенствуют здесь соки некоторых растений и яды, получаемые из разных органов животных. Это эффективные средства, действующие более или менее быстро; достаточно иметь немного опыта, и жертва никогда не догадается, что против нее используют яд. Таким образом, роза, шипы которой смочены ядом гадюки или крысы, легко отправит в ад любого, кто уколется о шипы.
За ядами следуют заразные заболевания. Они менее надежны и менее удобны в применении, да к тому же жертва может обладать достаточно крепким здоровьем и справиться с болезнью. Например, чахоточный плевок на хлебец может показаться радикальным средством. Но ведь потом можно измучиться от одного только вида человека, который меньше всего пострадал от этого, и существование которого бросало тень на его врага, приводя того в ужас. Даже самые зловредные советники только в крайнем случае предлагают такой способ избавиться от проблемы.
Магия, призыв карающих божественных сил — это тоже яд, хотя и неосязаемый. Его использование все-таки представляет некоторые неудобства: он эффективен, если истец уверен в своей правоте, но редки случаи, когда человек — конечно, человек неглупый — может поклясться, рассуждая по совести, что вся вина действительно полностью лежит на обидчике. Иначе божество, которому все известно, может рассердиться из-за того, что его побеспокоили напрасно. Таким образом, можно часто видеть, как колдовство поворачивается против тех, кто его применяет.
Список ядов завершает самый быстрый, имя которому злословие.
Госпожа Несхатор, хозяйка «Милого дома» — дома танцев, расположенного недалеко от главной улицы Фив,
[38] испытала его на себе. Растирая ноги, она размышляла над тем, как лучше отомстить одному из своих бывших клиентов, который воспользовался этим ядом.
Этот тип, назвавшийся Птапеседжем, что означает «Свет Пта», на самом деле был богатым землевладельцем. Он часто бывал в «Милом доме» до того дня, как в прилегающем здании у него случилась интимная близость с одной из танцовщиц. На следующий день вечером во время большого наплыва посетителей он вернулся, чтобы устроить скандал под предлогом, что его связь с девицей стоила ему воспаления полового органа. Скандал разгорелся, когда девица бесстыдно заявила, что наглец всем морочит голову, так как не имея члена нельзя пострадать от воспаления. Крики, на сей раз сопровождаемые тумаками, усилились. Несхатор уже сталкивалась с большими трудностями, которые могли уничтожить дело, поэтому надо было заставить удалиться незваного гостя и соблюсти приличия.
И все-таки с тех пор клиентов поубавилось. Действенность злословия как раз в том, что оно оставляет после себя грязь. И для госпожи Несхатор последствия скандала были серьезными.
Она решила открыться одному из своих постоянных, но тайных клиентов — это был нубиец Шабака, о теперешнем положении которого во дворце ей уже стало известно: доверенное лицо царя. Аю достало мудрости не назначать его на официальную должность — на самом деле Шабака обладал властью куда большей, нежели кто-либо из глав ведомств.
К счастью, в тот вечер он как раз пришел в заведение. До него дошли слухи об этом происшествии, но он не знал имени смутьяна. Она назвала имя.
— Птапеседж? В честь покровительствующего Мемфису бога? — уточнил он.
Пта был покровительствующим богом столицы Нижней Земли. В действительности мало кто из жителей Фив решился бы дать своему ребенку подобное имя.
— Да, думаю, он из Мемфиса, — ответила она. — Два раза в месяц он приезжает в Фивы по делам.
— Тебе известно, по каким делам?
— Кажется, он торгует льняной пряжей.
Шабака покачал головой.
— Я соберу о нем сведения, — пообещал он.
Несхатор горячо поблагодарила его за участие.
Спустя три дня явился Шабака, его лицо лучилось насмешкой. Ищейки Маху предоставили ему интересные сведения.
— Этот клиент, — сообщил он хозяйке заведения, — твой соперник. У него в Мемфисе такое же заведение, как у тебя, рядом с храмом Астарте. Оно называется «Сад розовых лотосов». Птапеседж вовсе не торгует льняной пряжей!
Он расхохотался.
— «Сад розовых лотосов»! — Он хохотнул. — Неплохо придумано.
Несхатор подала ему большую чашу прохладного вина. Умолчал он, правда, о том, что новая супруга Хоремхеба была танцовщицей в Мемфисе, так как это его заинтересовало по другим причинам, не имеющим никакого отношения к заботам содержательницы дома танцев.
— Но для чего он устроил скандал у меня? — возмущенно спросила она.
— Потому что он рассчитывает открыть такое же заведение в Фивах, недалеко отсюда. Он уже приступил к делу. Это большая барка под названием «Лотосы Мина», на которой дают не очень пристойные представления не только с участием девушек, но и юношей.
Несхатор широко раскрыла глаза.
— Юноши?
Шабака стал трясти головой с таким видом, будто это его сильно развеселило. Он понимал: у него есть возможность использовать данную ситуацию против Хоремхеба, но еще не знал, как это сделать, и решил рассказать об этом Аю.
— Что же мне делать? — со стоном спросила Несхатор. — Похоже, этот негодяй столь же могуществен, как и богат, а я…
— Позволь мне этим заняться, — сказал Шабака.
Этого Птапеседжа, должно быть, с Хоремхебом связывало нечто большее, нежели простое знакомство. Без сомнения, стоит бросить ему наживку, дабы все выяснить.
Неделю спустя на барке «Лотосы Мина» под натянутым над палубой тентом несколько молодых щеголей и девиц, почти голые, извивались под неистовые аккорды музыкантов. Места для зрителей были все заняты. Вдруг на танцевальную площадку выскочила коза. Животное явно было возбуждено. Оказавшись на подмостках, коза завертелась, и танцовщицы с криками отбежали в сторону. Один из зрителей попытался схватить козу, опасаясь ее копыт, но обескураженно отступил. Сам Птапеседж пытался удержать животное. Он раньше запретил провести козу на барку, когда один весельчак появился с нею на входе плавучего дома терпимости.
— Эй, Птапеседж! Надеюсь, ты доволен! Я привел тебе твою женушку! Она тебя всюду искала!
Зрители разразились смехом. Коза продолжала скакать по кругу и то и дело бодалась.
— Понятно, что у тебя воспаленный член, ты ведь на это жаловался! — бросил весельчак.
Несмотря на беспорядок, присутствующие стали хохотать еще сильнее. Тогда помощники владельца заведения бросились на этого несносного человека, чтобы его выставить. Их действия посеяли среди публики семя раздора. Вскоре началась потасовка. Один танцор свалился в воду, девушки стали кричать. По удивительному стечению обстоятельств мимо проплывала лодка речной охраны. Поздний час не помешал им составить протокол на хозяина барки за неуплату речного налога и учиненный скандал. Держась на значительном расстоянии, Шабака наблюдал за происходящим. Заведение «Лотосы Мина» вскоре было закрыто.
На следующий день, слушая рассказ главного зачинщика — человека с козой — о происшедшем, госпожа Несхатор смеялась, довольная великолепным результатом мести, и потчевала провокатора и яствами, и напитками. Шабаке же досталась самая длинная гирлянда комплиментов, какие он когда-либо слышал. Хозяйка заведения объявила, что отныне выпивка и услуги обитательниц «Милого дома» будут предоставляться ему бесплатно.
Этот случай развеселил Ая, которому в последнее время не часто доводилось смеяться. На его взгляд, с человеком, которому покровительствовал Хоремхеб, ловко поквитались.
Как и рассчитывал Шабака, этим дело не закончилось. По возвращении в Мемфис Птапеседж направился с жалобой к новой супруге Хоремхеба, которая раньше трудилась в «Саду розовых лотосов». Он был уверен, что скандал был подготовлен при участии фиванской охраны, то есть к этому делу приложил руку Маху, если не более высокие особы. Новая супруга пожаловалась своему мужу.
Полководцы не занимаются делами домов танцев, чтобы не рисковать своей репутацией, но Хоремхеб посчитал, что должен защитить Птапеседжа — богатого собственника, принадлежащего к его клану. Более того, истец свел его с очаровательным созданием, с этой женщиной он впоследствии сочетался браком, и это заслуживало благодарности с его стороны.
— Открывай снова свое заведение на барке, — сказал он Птапеседжу. — Больше к тебе не явятся козы с визитом.
По прошествии нескольких дней заведение «Лотосы Мина» вновь открылось. На входе стояла охрана — два наемника, состоящие на службе у Хоремхеба.
О повторном открытии этого заведения повсюду кричали городские глашатаи, дошло это известие и до Несхатор, Шабаки и Маху. Дело приняло серьезный оборот, так как агенты Маху быстро определили, чьи наемники стоят на входе. Только военачальник мог направить двух своих солдат для охраны подобного заведения, и кто, кроме Хоремхеба, мог это сделать? Больше не было сомнения в том, что теперь ни одна коза не сможет испортить удовольствие зрителям. Надо было придумать что-нибудь похитрее.
Именно Маху этим занялся. Вскоре после открытия «Лотосов Мина» он поручил одному пловцу уладить проблему в тот момент, когда музыканты заиграют на полную мощь. Пловца снарядили коловоротом и долотом. Как только раздались удары кемкем и волшебные звуки минот, флейт и лютней, он принялся за работу. Хлопанье в ладоши и стук каблуков о палубу перекрыли шум инструментов. Проделав в барке дыру достаточных размеров, пловец мощными гребками отплыл от этого места и выбрался на берег.
Сначала вода медленно заполняла корпус барки, и пассажиры, бдительность которых приглушили выпивка и веселье, не заметили, что судно начало крениться. Но вдруг кувшины с вином покатились на правый борт, и танцовщики с танцовщицами потеряли равновесие. Отовсюду послышались крики, вся публика кинулась к сходням. Но было слишком поздно: потерявшая равновесие из-за того, что все пассажиры оказались с одного борта, барка быстро стала тонуть. Кроме тех, кто уже выбрался на берег, все остальные попадали в воду. А был уже месяц Атир,
[39] когда вода в реке достаточно холодная. Просто чудом было то, что никто не утонул. Человек тридцать-сорок неверных супругов и легкомысленных сыновей богатых родителей возвратились домой промокшими и раздосадованными.
В последующие недели дела заведения госпожи Несхатор пошли в гору.
Птапеседж смог ускользнуть только от рыб и крокодилов. На следующий день начальник тайной охраны приказал арестовать хозяина заведения за то, что его клиенты и работники подверглись риску утонуть, и помимо запрета использовать в будущем барку в качестве дома танцев на Птапеседжа был наложен очень большой штраф. Судебный процесс провели быстро, и хозяин заведения вынужден был подчиниться.
Шабака доложил Аю об этом случае, и тот был доволен тем, что Хоремхеб остался в неведении по поводу его разоблачения. Отныне информированные круги в столице знали, что Птапеседж обеспечил Хоремхеба супругой, и подтрунивали над уничтожением барки, прозвав ее «баркой Апопа». Не меньше были довольны таким исходом дела жены, так как они считали дома танцев причиной разрушения супружеской гармонии и погибели сыновей.
Птапеседж разгадал, почему произошло кораблекрушение, но барка была сильно повреждена во время этого злоключения, поэтому он не мог обнаружить, что именно привело к ее потоплению. Преисполненный ярости, он вернулся в Мемфис и выразил свое негодование Хоремхебу.
Полководец подозревал, что это дело рук людей Маху, но произошло это не без участия самого Ая. Однако он не был человеком, который быстро сдается.
— Почему ты мне не говорил, что в Фивах есть еще один дом танцев? Выкупи его, — заявил он Птапеседжу.
— На какие деньги? За этот год я почти разорился!
— Я тебе выделю средства.
Птапеседжу уже хватало неприятностей, поэтому у него не было большого желания оспаривать у Несхатор возможность управлять похотью фиванцев. После их взаимных выпадов он не стремился вновь встретиться с ней. Но, с другой стороны, его поддерживал не кто иной, как самый влиятельный вельможа Нижней Земли, самый известный человек в армии Двух Земель! Да и сам он жаждал реванша. Не желая являться к Несхатор собственной персоной, он направил к ней одного из своих людей. Это был его подручный, достаточно хитрый, чтобы суметь принять важный вид и сыграть роль влиятельной особы.
Мужские хитрости, разумеется, таят в себе угрозу, но тонкое чутье сводниц позволяет их нейтрализовать. После крушения «Лотосов Мина» Несхатор поняла, что смысл ее соперничества с Птапеседжем не ограничивается возможностью ублажать развратных фиванцев и развлекать Шабаку. До нее дошли слухи о связи Птапеседжа с грозным Хоремхебом. Она вежливо встретила засланного к ней человека, притворившегося заинтересованным в сделке. Он якобы хотел поскорее удалиться в свой загородный дом и предложил сногсшибательную сумму — пять тысяч золотых колец. Она никогда не могла даже подумать, что этот дом терпимости может столько стоить. Придерживаясь инструкций Шабаки, она попросила время для размышлений и предложила посланнику прийти на следующий день. Как только он ушел, она спешно отправила гонца к Шабаке.
Шабака тотчас же прибыл, все больше возбуждаясь от всех этих перипетий. Это была его особенность: за двадцать лет службы у Ая в нем развился необычайный талант интригана и заговорщика. Он выслушал Несхатор и сказал:
— Постарайся немного увеличить сумму, но прими предложение.
— Как?! — воскликнула она удивленно.
— Ты слышала, что я сказал. Продавай.
— И что после этого? Я окажусь не у дел?
Он покачал головой.
— Ненадолго, — ответил он загадочно.
Со времени крушения «Лотосов Мина» она старалась прислушиваться к советам своего собеседника: он был не только влиятельным человеком, но и хитрым как змея. Она заметила, что он едва сдерживает улыбку.
— Скажи только своему покупателю, что тебе необходимо две недели, прежде чем ты уступишь ему свое дело, и что ты хотела бы, чтобы он подобрал другое название этому заведению.
Она приняла все к сведению, сгорая от любопытства и одновременно пребывая в растерянности.
Шабака обсудил это дело с Аем.
— Не хватало только, чтобы Хоремхеб держал дом танцев вблизи дворца! — возмутился последний.
Шабака изложил ему свой план. Ай его выслушал, затем разразился смехом и попотчевал преданного сына Апопа, ценя его ловкость и коварство лиса. Они расстались в приподнятом настроении.
Как только сделка была заключена, Несхатор сообщила об этом нубийцу. Тотчас же появилась группа рабочих. Они, оставаясь незамеченными, вырыли под «Милым домом» огромную яму. Шабака посоветовал Несхатор вывесить на двери дощечку с надписью, поясняющей, что заведение закрыто в связи с его продажей, но скоро снова распахнет свои двери.
В назначенный день прибыл новый хозяин в сопровождении писца. Договор о продаже был подписан. Несхатор притворилась, что едва умеет читать и писать, но разобрала имя настоящего покупателя: как она и предполагала, это был Птапеседж. Она взяла обручи, на которые были нанизаны пять с половиной тысяч золотых колец, — она все же сумела поднять ставку, — изобразив очаровательную улыбку. В конце концов, это состояние отныне принадлежало ей, и даже Шабака не мог бы это оспорить.
Вечером следующего дня «Милый дом» снова был открыт, но уже под названием «Лотосы Мина». Мужчины безумствовали, пытаясь попасть в заведение. Любители ночных удовольствий, которых в Фивах было великое множество, вспомнили, что в заведении под этой вывеской также предлагали привлекательных юношей.
К полуночи клиенты уже горели желанием лицезреть танцовщиков.
В это время пол заведения, теперь висевший над котлованом, что был вырыт рабочими Шабаки, провалился.
На сей раз были жертвы.
Как и в случае с крушением барки на реке, стражники явились незамедлительно. Они арестовали хозяина заведения, коим оказался Птапеседж, и посадили его в яму, но другую.
По городу распространили слухи, что в результате землетрясения прошлого года в земле образовались пустоты, а хозяин публичного заведения Птапеседж должен был убедиться в безопасности этого места. Несколько дней спустя заведение под названием «Милый дом» было открыто в другом месте, на другой улице. Госпожа Несхатор наконец утешилась после всех несчастий, выпавших на ее долю. Ей досталось пять с половиной тысяч золотых колец и новое заведение, которое обошлось ей всего лишь в пятьсот колец.
Рассказ об этих перипетиях вызвал у Ая злорадный смех. Когда в Мемфисе Хоремхеб узнал о таком исходе дела, он пришел в ярость.
Иногда сильные мира сего используют в своих целях подставных лиц, но так как в этом случае были задействованы сводники, ему пришлось смириться с невозможностью отомстить.
Вот такие методы использовали властители в начале правления царя Ая.
Может быть, и великие боги позволяли себе подобное. В конце концов, Сет также использовал хитрости для того, чтобы заткнуть рот Осирису.
4
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЕ ДЕВЫ
Сначала Анкесенатон не узнала пожилую женщину, о визите которой сообщил распорядитель церемоний. Неужели это действительно Мутнехмет? Они не виделись со времени последних похорон, но тогда румяна и приличия не давали проявиться человеческой сути. И вот открылась печальная реальность. От былой красоты, ставшей трофеем знаменитого полководца Хоремхеба, не уступающей красоте Нефертити, сестры Мутнехмет, мало что осталось. И только роскошные украшения свидетельствовали о былом великолепии этой женщины.
Посетительница протянула для приветствия обе руки, и Анкесенамон ответила тем же. Тетя и племянница обнялись, а затем расплакались. Женщины изливали душу в объятиях друг друга. Неужели независимо от того, царица женщина или булочница, ее судьбой рано или поздно становится одиночество? Вдова и отвергнутая, они теперь были одинокими.
Но одиночество не было единственной причиной их слез, потеря близких и необходимость смириться с неизбежным лишь усугубляли печаль.
Придворные дамы, не желая мешать, удалились. Лев, только что расправившись со своей едой, которую ему доставил смотритель Зверинца, лежал, изнемогая от удовольствия. Он соизволил открыть один глаз и взглянуть на посетительницу, но тут же его закрыл.
— Где твои сестры? — спросила Мутнехмет.
Царица велела позвать Нефернеферуру и Нефернеруатон-Ташери. Излияния чувств возобновились.
Первая супруга Хоремхеба прибыла на корабле в сопровождении одной только горничной. Анкесенамон велела приготовить
для них покои. Слуги отнесли наверх дорожный сундук гостьи.
— Мне необходимо было вас повидать, — серьезно сказала Мутнехмет, когда все четверо устроились на террасе. — Династия в опасности.
«Если она решилась на эту поездку ради того, чтобы меня об этом известить…» — подумала Анкесенамон.
— Ай стареет, — продолжила Мутнехмет. — Исчезни он сегодня, и вас уничтожили бы! Я это знаю, поскольку Хоремхеб часто заявляет о том, что с него достаточно этих манекенов, свидетельствующих о вырождении царской семьи: Сменхкары, Тутанхамона и даже вас! Что плевать он будет на Царский совет, когда захватит власть, и что он не собирается жениться на одной из вас, чтобы узаконить свою власть.
У Нефернеферуры и Нефернеруатон-Ташери округлились глаза. Они поняли, что могут быть отданы на съедение крокодилам, поэтому ничего не могли сказать, настолько сильно они испугались. Их нежные лица исказились от страха, ярко накрашенные кошенилью губы открылись, девушки стали истерично трясти перед собой благоухающими ручками.
— Но он не сможет этого сделать! — пронзительно вскрикнула Нефернеферура. — Страна этого не допустит! Жрецы…
Мутнехмет пожала плечами и прервала поток сетований:
— Те, кто попытается ему противостоять, будут преданы мечу. Вот и все. Вы знаете довод лучше?
Воцарилась напряженная тишина. Медленно пережевывая кусочек фиги, Анкесенамон раздумывала о том, что услышанное от Ая соответствовало тому, что говорила Мутнехмет.
— Из-за того, что я возмущалась этими речами, он оставил меня, — снова заговорила Мутнехмет. — Единственной защитой для вас будут дети и мужья, достаточно сильные, чтобы противостоять Хоремхебу. Надо, чтобы вы вышли замуж, причем срочно.
— Выйти замуж? Но за кого? — возразила оскорбленная Нефернеруатон-Ташери.
— При дворе достаточно мужчин, — заметила ее тетушка.
— Уж не о простолюдинах ли идет речь? — воскликнула пренебрежительно Нефернеферура.
— Именно о них. Иначе смерть, — заявила Мутнехмет угрожающим тоном.
Обе царевны конвульсивно дернулись, как марабу в момент заглатывания рыбы. Было очевидно, что они еще не задумывались о замужестве.
— Вы мне не верите? — настаивала Мутнехмет, призывая Анкесенамон подтвердить ее правоту.
— Я тебе верю, — сказала та.
Обе девицы посмотрели на свою сестру недоверчиво: как, она тоже придерживается этого мнения?
— Проблема состоит в том, чтобы найти сильного человека, — продолжила Анкесенамон.
— Я об этом думала, — отозвалась Мутнехмет. — На примете есть несколько достойных мужей. Прежде всего командующий Нахтмин. Хорошо то, что он военный, к тому же он человек опытный и с характером. Впрочем, именно за это Хоремхеб его ненавидит.
Напуганные царевны слушали, как их сестра и тетя обсуждают их будущее. От одного имени Нахтмина их бросило в холод: военный! Быть супругой военного!
— Мне нездоровится, — простонала Нефернеферура. — Простите… Пойду прилягу… — сказала она, поднимаясь.
— Ты останешься здесь, — заявила Анкесенамон категорично, хотя она редко демонстрировала власть по отношению к сестрам.
Озадаченная непривычным тоном старшей сестры, царевна снова села.
— Никогда не выйду замуж за военного, — процедила она сквозь зубы. — Я уверена, что он грязный и грубый тип!
— Речь больше не идет ни о твоих обонятельных предпочтениях, ни о твоей изнеженности кувшинки! — закричала Мутнехмет возмущенно. — Речь идет о том, чтобы ты осталась в живых! О сохранении нашей династии!
— Наплевать на династию! — заявила Нефернеферура тем же тоном.
Не сдержавшись, Анкесенамон влепила ей пощечину. Та завыла.
— Замолчи! — грозно приказала ей Анкесенамон. — Я тебя отучу кощунствовать! Тебе наплевать на династию, дрянная девчонка? Если бы мать это услышала, она бы отстегала тебя до крови, маленькая дурочка! Теперь слушай меня внимательно, Нефернеферура, и ты тоже, Нефернеруатон. Это царица говорит: вы выйдете замуж, и одна и другая, за кого я велю. Вы меня поняли? Если понадобится, вас повезут в храм связанными!
— Ты — палач! — закричала Нефернеферура. — У тебя нет права распоряжаться моим телом!
— Пусть лучше я буду распоряжаться твоим телом, нежели бальзамировщик!
— Я убегу!
— Никуда ты не убежишь. С этого момента я запрещаю тебе покидать дворец. А теперь возвращайтесь в свои покои, я вас больше видеть не желаю!
Сопящие от раздражения, девушки направились к двери, волоча ноги. У Мутнехмет был удрученный вид.
— Что ты хочешь! — раздосадованно сказала Анкесенамон. — Со времени смерти нашего отца над ними не было никакой власти. Они все делали по своему разумению.
— Но они… они еще никогда не испытывали влечения к мужчине?
— Нет. Они даже не знают, чем с ним заниматься.
У Мутнехмет вырвался короткий смешок.
— Их обеих непросто будет выдать замуж, — заметила она.
— Ну, придется мужьям брать их силой! — воскликнула Анкесенамон. — Хотя ты права, Нахтмин был бы хорошей партией. Жаль, что я сама не могу стать его супругой.
Мутнехмет бросила на нее удивленный взгляд.
— Допустим, одна из них выйдет замуж за Нахтмина, — сказала она. — Тогда надо подыскать подходящую партию для другой. Еще есть Маху. Я также думаю о бывшем Первом советнике Сменхкары, Тхуту. Опытный человек.
— Он теперь не у власти.
— Почему?
— Мне не известно.
— А ты еще не беременна?
— Было бы неплохо, если бы так случилось.
Распорядитель церемоний известил о том, что кушать подано. Племянница и ее тетя поднялись.
Сытый лев блаженно спал.
5
ВЕЧЕР ВО ВРЕМЯ БУРИ У ПОЛКОВОДЦА ХОРЕМХЕБА
Пасмурное небо и тяжелые времена предвещали вспышку гнева всевышних, что редко бывало в Двух Землях даже в конце сезона дождей. Может быть, несвоевременное проявление чувств Апопа препятствовало перемещению Ра на Запад.
Гром грянул в тот момент, когда Хоремхеб вместе с преданным ему Хнумосом, начальником армейской разведки, прибыли в резиденцию военачальника, расположенную вблизи Мемфиса. Слуги торопливо поставили рядом с лошадьми табуреты, и всадники спешились. Вдруг по листве смоковниц забарабанил дождь. Оба мужчины поспешили войти в дом, а слуги повели лошадей в конюшню. Совсем близко молния расколола небо, и в следующее мгновение ужасный грохот наполнил ночь.
На этот раз уж точно Ра или Амон вступили в рукопашный бой с неутомимым Апопом, Глубинным Змеем.
— Где госпожа? — спросил Хоремхеб у дворецкого, который, с трудом поборов страх, отвел взгляд от неба.
— В своих покоях, высокочтимый господин.
Хоремхеб проследовал через внутренний дворик к той части дома, которая была отведена для его новой супруги. Он нашел ее укутанной в одеяло и забившейся в угол, с округлившимися от страха глазами. Вместе с ней в комнате были служанка и двое рабов, тоже напуганные.
— Да будет твой вечер счастливым, моя маленькая госпожа! — сказал он бодро. — Как твое самочувствие?
Она бросилась в его объятия. Прогремел гром, сопровождая молнию, которая словно целилась в этот дом. Женщина вскрикнула. Он погладил ее по голове.
— Это пустяки, маленькая госпожа. Буря.
— Молния поразит дом!
— Нет. Это ребячество! Ты уже поужинала?
И в этот момент следующая вспышка молнии залила все вокруг устрашающим мертвенно-бледным светом, так что даже храбрый полководец вздрогнул. Его жена завыла еще пронзительнее, и крики бедствия зазвучали во всех уголках жилища. От удара молнии прямо перед домом загорелась смоковница.
Прошло четверть часа.
— Ну хватит! — наконец сказал Хоремхеб. — Уйми свои волнения, я голоден.
Он оставил заплаканную жену, вышел и уже на другой стороне внутреннего дворика разглядел дворецкого, еще больше оцепеневшего от страха.
— Ужин готов?
— Да, высокочтимый господин! — прокричал несчастный, исчезая в глубине строения для прислуги, безусловно ожидая самого плохого, как и все остальные.
Хоремхеб присоединился к Хнумосу, находившемуся в том же зале, где он его оставил. Спасаясь от дождя, мошки тучами носились между лампами и полом, усеянном их мертвыми собратьями.
— Принесите нам вина! — прогремел Хоремхеб. — Ивритского!
Мужчины сидели друг напротив друга за столом, наскоро уставленным блюдами и кубками. Там же были горки хлебцев и кувшин вина.
— Вот люди! — сказал Хоремхеб, делая глоток вина. — В бурю они, можно сказать, уподобляются крысам, которые удирают от шакала!
Смешок Хнумоса напоминал хрюканье.
— Поверь мне, жителей этой страны необходимо загнать в казармы. Это позволило бы сделать из нее великую державу. Ничто так не придает силы человеку, как военная власть.
— Возрождение Двух Земель — дело даже не завтрашнего дня, — с сожалением произнес Хоремхеб. — Во всяком случае, вряд ли это произойдет при этом старом хрыче Ае. В этом доме, в конце концов, найдется что-нибудь поесть? — возмущенно крикнул он. — Я голоден!
— Да, господин, — с дрожью в голосе проговорил дворецкий. — Жареная баранина. Сейчас принесут.
Слуга поспешно поставил на стол блюдо с огурцами и еще одно с луком-пореем, сдобренным маслом.
— Ты считаешь, что солдат питается огурцами и луком? Где обещанная баранина? — гневно возмущался Хоремхеб.
Прибежали двое слуг с большим блюдом, на котором благоухал бараний окорок.
— Ну наконец подали то, что называется едой. Нарезай! — приказал полководец дворецкому. — И накладывай!
— Слушаюсь, высокочтимый господин.
И он отрезал от окорока четыре огромных куска, два из которых положил на блюдо своего господина, а два — гостю.
— А вино? Кувшин пуст.
Слуги поспешили принести еще вина.
— Да, Ай не сможет подстегнуть людей! — заметил Хнумос. — А он еще крепок, старый шакал, и вряд ли скоро подохнет.
Хоремхеб схватил кусок окорока и впился в него зубами.
— Досадно, — сказал он, выковыривая остатки жесткого мяса, застрявшие между зубами, которые были искусно укреплены придворным лекарем. — Пока он жив, моя племянница может родить одного или даже парочку детей, которые станут продолжателями династии.
— У нее уже был выкидыш, а это плохой знак.
— Да, но это случилось из-за сильного волнения. Вторая беременность может завершиться успешно. И две ее сестры тоже ведь могут родить.
— Ты имеешь в виду, что Анкесенамон родит от любовника?
— Вот именно, от небезызвестного Итшана, — сказал Хоремхеб, наливая себе еще вина. — Разумеется, не от Ая. Не думаю, что он пойдет на то, что обрюхатит родную внучку. К тому же она его ненавидит.
— Это точно. Но когда Ай умрет, противостоять армии не сможет ни Анкесенамон, ни ребеночек.
— Конечно, — согласился Хоремхеб. — Я почти убежден в этом. В любом случае, лучше, если бы вообще не было наследника трона.
— А что говорят жрецы?
— Они довольны, потому что Тутанхамон и Ай сделали все для того, чтобы их ублажить. Поэтому они ничего не говорят. Что-то мне подсказывает, что в данный момент они не желают ничего менять. Вряд ли меня сейчас поддержит даже бывший мой союзник Нефертеп, разве только некому будет наследовать трон.
— Получается, что мы теперь заложники утроб трех женщин, — заключил Хнумос.
Хоремхеб рыгнул и принялся за второй кусок баранины.
— Еще мы зависим от богов.
— От богов? — переспросил Хнумос удивленно.
— Да, от богов. Жители этой страны относятся к богам так, как будто те являются высокопочитаемыми членами их семейств. Именно по этой причине они не выносят, когда длительное время один бог имеет преимущество перед другими. Царь является воплощением Амона, поэтому трон можно будет захватить, только когда он окажется пустым. Народу всегда нужен бог на троне.
Дождь прекратился. Запах влажной земли проник через высокие окна и распахнутые во внутренний дворик двери. Хоремхеб позвал дворецкого.
— Госпожа ужинала?
— Нет, высокочтимый господин.
— Скажи ей, что буря прошла и ночь будет спокойной. И подай ей ужин.
— Слушаюсь, высокочтимый господин.
— Вот почему, — продолжил Хоремхеб, обращаясь к Хнумосу, — в наших интересах, чтобы у царицы и царевен не было потомства.
— Но как мы это сделаем?
— А я жду, что ты придумаешь, каким образом действовать.
Хнумос не удержался от улыбки. Ай действительно мог лишить его привилегии возглавлять армейскую разведку Нижней Земли, поэтому он был заинтересован поддерживать дружеские отношения с теми, от кого он зависел. Он всегда старался услужить им.
И у Хнумоса был план, каким образом оставить утробы царственных особ пустыми.
На поиски Тхуту, бывшего Первого советника Сменхкары, у Анкесенамон ушла неделя. Ему было доставлено ее послание с просьбой нанести визит в Фивы.
Она ожидала Тхуту во дворце. Но в это время прибыл юноша, который ничего не хотел сообщать ни стражникам, ни придворному, так как у него было для царицы устное послание. Никто не смог вырвать из него ни сути послания, ни имени того, кто его отправил к царице. Он казался слишком молодым для того, чтобы подозревать его в недобрых намерениях, в конце концов его отвели в покои царицы в сопровождении придворного и двух стражников, перед этим тщательно его обыскав. Его приняла Сати. Ее умилил вид посетителя: похоже, ему было лет девять или десять, и лицо его выражало обеспокоенность, взгляд был серьезным.
— Кто ты?
Он покачал головой.
— То, что я должен сказать, предназначается только для ушей царицы.
Сати пошла сообщить Анкесенамон о необычном посетителе, и та, заинтригованная, вскоре появилась. Мальчик посмотрел на нее так, будто испугался собственной дерзости, затем взглянул на Сати.
— Оставь нас, — сказала Анкесенамон кормилице.
Посланник напомнил ей Пасара, когда тот также пришел к ней, чтобы передать жизненно важное сообщение.
— Тот, кого ты ожидаешь, не явится во дворец, — сказал наконец мальчик.
— Ты — его сын?
Он энергично закивал.
— Почему он не хочет прийти?
— Во дворце полно шпионов. Он просит тебя назначить день и место, так, чтобы это было известно только тебе, и прийти туда одной в одежде простолюдинки.
Анкесенамон встревожили такие предосторожности. Но она также хорошо знала того, кто послал к ней своего сына, — некогда он был доверенным лицом во дворце. Она и сама подозревала, что дворец и прилегающие территории просто кишат шпионами, следящими за каждым ее шагом, за всеми ее поступками, чтобы сообщать о них Аю.
Между тем предложение Тхуту поставило ее в тупик. Города она почти не знала, поскольку покидала пределы дворца только для посещения храмов на другом берегу реки или участия в официальных шествиях, которые всегда проходили по одному маршруту: от улицы Амона к большому дворцу на берегу Нила.
— Он предлагает, — сказал мальчик, — встретиться через три дня на овощном рынке в одиннадцать часов.
Это время действительно было подходящим, и это мог знать только тот, кто был знаком с дворцовой жизнью и ее распорядком: в одиннадцать часов все слуги и рабы отправлялись трапезничать, значит, и слежка до трех часов дня велась не так тщательно.
— Я приду с кормилицей, — сказала она. — Города я не знаю, не хочу заблудиться.
Он захлопал ресницами. Анкесенамон размышляла, почему Тхуту не подумал о том, что появление этого странного посетителя вызовет у обитателей дворца подозрение. Сейчас шпионы должны были ломать себе голову над содержанием секретного послания, которое мальчик пришел передать. Она позвала Сати.
— Проводи этого мальчика до выхода из дворца, и когда он будет уже далеко, расскажи тем, кто окажется поблизости, что приходил сын бывшей кормилицы Меритатон сообщить о том, что ее сестра выходит замуж.
Один взгляд Сати сказал ей, что кормилица все поняла. Она взяла ларчик с румянами, которыми давно не пользовалась, и передала его мальчику.
— Скажешь, что это мой подарок к свадьбе.
На лице мальчика появилась едва заметная улыбка. Он взял ларчик.
— Как тебя зовут? — спросила Анкесенамон.
— Имамон.
«Нежность Амона». Она умиленно смотрела ему вслед, думая о Пасаре.
6
«ИСИС — ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА ПЕЧАЛИ…»
Спустя три дня две женщины, покрыв накидками головы для защиты от солнца, с корзинами в руках шли не торопясь, шлепая сандалиями по каменным плитам большого двора. Сопровождаемые безразличными взглядами стражников, держащих копья у ноги, они миновали высокие ворота дворца. Это были Анкесенамон и Сати. Царице пришлось прикладывать усилия, чтобы не вертеть головой, рассматривая все вокруг. Прошло слишком много времени с тех пор, как она выходила на улицу. Она правила Двумя Землями, но почти ничего не знала о своей стране. Сати обернулась два или три раза, чтобы убедиться, что никто не идет за ними по пятам.
Анкесенамон с интересом разглядывала одноэтажные и двухэтажные дома; женщин, несущих корзины на головах; едущих верхом на осликах представителей знати; двух куражащихся на лошадях всадников; мастеров, возводящих дом; белье, которое сушилось на крыше. Спокойные и чистые в окрестностях дворца, дальше улицы становились более оживленными и захламленными. Громко разговаривали люди, смеялись дети, в водосточном желобе было полно мусора.
Через полчаса две женщины добрались до рынка. На огромном пространстве, прилегающем к берегу Великой Реки, в больших и маленьких лавках торговали вином, пивом, маслом и молоком, разлитыми в глиняные кувшины разных размеров. Тут и там стояли мешки с зерном, мукой, фасолью, горохом, чечевицей. Здесь же торговали шафраном, солью, пряностями из Пунта и Куша, оливками, солеными огурцами и медом. Разносчики держали над головами сплетенные из ивовых прутьев подносы со свежими или зрелыми сырами, хлебцами, лепешками, пирогами, яйцами… Торговцы мясом, стоя у жаровен, предлагали уток, разделанные на четверти туши ориксов, коз, баранов, свиней, обжаренных как на вертеле, так и в масле. Анкесенамон опьянела от вида жареной и вареной пищи, как голодный человек, только что вышедший из пустыни. Зловонный запах сопровождал женщин, пока они шли через ряды мясников, а дальше на прилавках засверкала чешуей рыба. Мухи также заключали сделки, летая повсюду, и мальчишки махали жесткими веерами, отгоняя их. Вход в мясные лавки застилал густой дым от горящих в расположенных на земле жаровнях листьев эвкалипта. Этот дым лучше мальчишек удерживал мух на расстоянии. Отовсюду доносились крики продавцов, восхваляющих свой товар.
Сати хорошо ориентировалась на рынке, поэтому Анкесенамон шла, держа ее за руку. Затем ее охватило беспокойство: как Тхуту сможет их отыскать в этой сутолоке? Они с Сати остановились перед прилавком, где продавали салат-латук и лук.
Вскоре прямо перед ними появился мальчуган. Анкесенамон подняла глаза и сразу узнала улыбающегося Имамона. Она почувствовала пристальный взгляд небритого мужчины в поношенной одежде, стоящего в трех шагах от нее. Она признала в нем переодетого Тхуту. Неспешным шагом он направился в сторону двух женщин, держа в руках вязанки лука и чеснока. Однако осанка и острота взгляда заставляли усомниться в том, что это простолюдин.
— Следуйте за мной, — шепнул он Анкесенамон. — За крайним строением на берегу никого нет.
Сати шумно торговалась, сбивая цену на огурцы и кабачки, но не сводила глаз с госпожи, чтобы не потерять ее из виду.
— По твоему приказанию я здесь, твое величество, — сказал Тхуту, когда они уже были на берегу реки за складскими помещениями, где хранились сосуды из-под масла и бочонки для сельди.
Она удивленно разглядывала его и, казалось, прочла во взгляде горечь и печаль. Он будто отстранился от мира.
— К чему все эти предосторожности?
— Мой сын тебе об этом говорил, твое величество. Во дворце полно шпионов. Мой визит встревожил бы Ая и его приспешников. Их бы заинтересовало, чего царица хочет от меня.
Мне известно слишком много секретов. Над тобой нависла бы опасность. Что касается меня, то я живу уединенно и не вижусь ни с кем из дворца.
— Ты не думал о том, что появление твоего сына тоже вызовет подозрения?
— Я подумал, что ты найдешь, как оправдать его визит. Ты придумала великолепное оправдание. Чем я могу быть тебе полезен, твое величество?
— Как умер мой супруг? — неожиданно спросила она.
Он обеспокоенно взглянул на царицу.
— Зачем тебе это знать? — произнес он устало. — Нынче ты находишься под защитой того, кому была выгодна смерть нашего царя. Ты — его последняя опора. Зачем пытаться проникнуть в опасные тайны? В твоем вопросе кроется ответ, твое величество.
— Но теперь Ая нет поблизости, — настаивала она. — Я узнала, что тогда он появился возле царя через четверть часа после случившегося.
— Я не был там в тот момент, твое величество, — сказал Тхуту после вздоха. — Но там был Пентью. Он сопровождал царя. Лестница, ведущая из царских покоев в Большой зал, достаточно крутая. Ступеньки скользкие. Царь опирался на трость. Он потерял равновесие. Пентью мог его поддержать, но не сделал этого. По крайней мере, я так думаю.
— Может, это Пентью его толкнул? — спросила она.
Тхуту пожал плечами.
— Мне это не ведомо, твое величество. Я не могу обвинять без доказательств. Виновный предстанет перед Маат и Анубисом. Я не смею заменить этих судей.
— Пентью действовал по приказу Ая?
— А кого же еще? Точнее будет сказать, что он действовал в интересах Ая. Я предполагаю, но это только предположение, что он лишь воспользовался случаем, представившимся тогда на лестнице, он ведь шел следом за царем, через одну ступеньку.
Она думала над сказанным, пытаясь восстановить эту сцену в своем воображении, и какое-то время молчала.
— Но зачем? — воскликнула она, словно очнувшись. — А перед этим был еще подстроенный несчастный случай во время охоты…
Ненадолго бывший Первый советник умолк и стал наблюдать за работником, разгружавшим барку, — тот переносил на спине тяжелые мешки с камнями.
— По причинам, носящим безотлагательный характер и имеющим далеко идущие последствия, твое величество, — ответил он. — Безотлагательность была вызвана тем, что Ай и Хоремхеб были увлечены жесточайшей схваткой за власть. Ай спешил занять трон, чтобы полководец не успел устроить государственный переворот. Тот уже предпринял безумную, но неудавшуюся попытку захватить Мемфис штурмом, который должен был возглавить бывший единомышленник Ая Апихетеп. Между прочим, именно при помощи Хоремхеба нам с Маху удалось овладеть ситуацией. Ай, тогда еще регент, испугался повторения такой попытки, которая на этот раз могла завершиться победой Хоремхеба. Я тебе уже говорил, что не могу быть судьей, но стоит задуматься, а не предотвратил ли он, действуя таким образом, крах династии? Но если бы это было так на самом деле, нам не пришлось бы сейчас беседовать с тобой скрываясь.
Династия! Она никогда прежде не придавала значения этому понятию, а в последнее время особенно.
— И что собой представляют эти далеко идущие последствия?
Он колебался с ответом.
— Твое величество, царь походил на голубя, из-за которого ссорятся два ястреба. У него не было сил противостоять ни одному ни другому.
Она часто заморгала.
— Я не понимаю…
— На троне должен быть человек сильный, твое величество. В последние годы своего правления царь — твой отец — ослабел. Царство также. Смерть пришла к нему вовремя. Его супруга — твоя мать — ненадолго сменила его, но и она покинула этот мир. Затем Сменхкара, а потом Тутанхамон…
Слезы хлынули из глаз Анкесенамон.
— Но кто же убил мою мать? — спросила она сквозь рыдания.
— Жрецы и военные, твое величество. Она намеревалась продлить правление своего супруга. Но это стало невозможным.
— Но тогда мы — не цари! — воскликнула Анкесенамон. — Мы — принесенные в жертву!
Тхуту тревожно огляделся. Никто на них не обращал внимания. Тем не менее он приподнял руку в знак того, что следует понизить голос.
— Я уже говорил, твое величество: корона не может держаться на клонящейся голове.
Она оперлась спиной о стену склада, опустошенная от этих разоблачений.
— Почему ты удалился из дворца? — спросила она. — Устал от власти?
Его губы тронула горькая улыбка.
— Человек должен уважать себя, твое величество. Сначала я защищал царя Сменхкару от Ая и твоей матери Нефертити. Затем должен был объединиться с Хоремхебом, чтобы защитить царя от Ая. Если бы я остался во дворце, сейчас мне пришлось бы защищать Ая от Хоремхеба… Я был предан короне. Мои усилия оказались напрасными. Все, что я защищал, рухнуло. Я служил чести. Думаю, что в настоящее время во дворце такая служба никому не нужна. Честь — это роскошь, не нужная покорным слугам.
Какое-то время они молчали. Она размышляла о горьких признаниях бывшего советника. Предложение Мутнехмет выдать замуж Нефернеруатон или Нефернеферуру за Тхуту было неосуществимо — этот человек больше не желал властвовать. Он сломался.
Они услышали крики — между работником и хозяином барки вспыхнула перепалка, так как последний считал, что разгрузка идет слишком медленно.
— И что теперь? — спросила она.
Тхуту долго смотрел на нее.
— Ай у власти, не так ли? Он знает, как защититься.
— Но он стареет.
— Пока жив Ай, твое величество не может сочетаться браком с другим. Пусть одна из твоих сестер станет супругой Нахтмина, ибо это единственный человек, по моему мнению, который способен противостоять Хоремхебу и сохранить власть династии. Об этом ты спрашивала, твое величество, или нет?
Она покачала головой, затем тяжело вздохнула. Итак, все эти убийства были совершены во благо династии; сама мысль об этом была невыносима.
— Но не женат ли Нахтмин?
Тхуту пожал плечами.
— Это не имеет значения, когда речь заходит о короне.
— Могу ли я тебя видеть чаще? — спросила она.
— В случае необходимости пошли кормилицу предупредить об этом зеленщика Сеннеджа. Я обитаю за городом — простым смертным лучше держаться от богов подальше. Кстати, жизнь вдали от золота и скипетра мне более приятна.
Такое признание удивило Анкесенамон.
— Что ты хочешь этим сказать?
Он мягко улыбнулся.
— Представь, твое величество, что кто-то из смертных был верным другом Сета или Осириса до начала их противостояния. Он выступил бы в защиту того или другого, и после убийства Осириса ему пришлось бы воевать за его приверженцев или против них. Теперь мы знаем, что Сет и Осирис установили перемирие между собой, но народ уже разделился. Сторонники и того и другого, в былые времена фанатики, оказались в результате не у дел. Как я уже говорил, их служба потеряла смысл. Разве цари не являются живыми богами? Разрушая свои союзы, люди вновь обретают изначально присущую им природу рабов.
Появились Имамон и Сати.
— А я? — спросила она. — Какова тогда моя роль во всем этом?
— Ты, твое величество, — богиня Исис, вечная невеста печали. Пасар умер. Умер Тутанхамон. Ты — вдова, твое величество. Всякая женщина — вдова с первого дня замужества.
Анкесенамон схватила его руку. Она готова была расплакаться. Он поднял на нее взгляд, как всегда улыбаясь — отстранение и опечаленно.
Почему она не сочеталась браком с Тхуту? Вдруг, подумав о бегстве Меритатон и Неферхеру, она поняла, что ее сестра была права, оставив этот народ, живущий в условиях вечного противостояния сильных мира сего. Своего сына она вырастит в мире и любви, возможно, родит еще ребенка, и не одного.
— Госпожа, — обратилась к ней Сати, — пора идти.
Она положила в корзину царицы мешочек с бобами, еще один с миндалем и три пучка салата-латука. Анкесенамон бросила последний взгляд на Тхуту и закрыла лицо покрывалом. Затем она последовала за кормилицей, которая несла тяжелую корзину с овощами. Вскоре женщины смешались с толпой. Слова Тхуту продолжали звучать в голове царицы:
«Ты — богиня Исис, вечная невеста печали».
7
ПОЖАР
Посреди ночи раздались крики. Люди выбежали из дворца во двор. Кругом гремели приказы. Чуть позже раздались сильные удары в дверь комнаты Итшана. В ту ночь Начальник конюшен спал в своих покоях, в западном крыле дворца.
Он открыл дверь и увидел запыхавшегося конюха.
— Господин, конюшни горят!
Итшан закрепил набедренную повязку и надел сандалии. Несколько секунд спустя он уже сбегал по лестницам следом за конюхом.
— Пожарные! — кричал он. — Вызвали их?
— Да!
Оба мужчины кинулись бегом к конюшням, находящимся рядом с дворцом, с южной его стороны. Пламя окрасило небо в темно-красный цвет, густой дым поднимался над постройками. По этим двум признакам Итшан понял, что горит солома.
— Лошади?
— Не знаю!
В конюшнях содержалось до тридцати ценных животных — гордость кавалерии. Их потеря была бы невосполнимой, а кроме того Итшан был к ним очень привязан. Те, что не сгорели заживо, рисковали задохнуться в дыму. Но, возможно, они сумели сломать засовы, на которые закрывали ворота конюшен?
Когда он оказался перед конюшнями, его сердце сжалось: сквозь дым было видно, что некоторые ворота еще оставались закрытыми. Сквозь рев пламени и грохот обрушивающихся перекрытий слышалось душераздирающее ржание. Итшан кинулся к воротам и отодвинул засов. Его чуть не затоптали выбежавшие лошади, обезумевшие от ужаса, с горящими попонами, гривами, хвостами.
Он побежал к следующим воротам. Там уже вовсю полыхал огонь. Лошади изнутри били копытами по воротам. Отодвигая засов, Итшан вскрикивал от отчаяния. Он тотчас же укрылся за одной из створок ворот. Сбившись в кучу, лошади выскакивали, толкаясь и издавая пронзительное ржание.
Теперь их надо было догнать. Но каким образом солома загорелась?
В дыму, который продолжал сгущаться, он почти уже не видел построек. Он закашлялся и побежал к третьим воротам. Но почему конюхи, эти придурки, не отодвинули засовы? С большим трудом ему наконец удалось открыть ворота.
В это время двое мужчин, чьи лица были обмотаны кусками полотна, бросились на него и стали заталкивать его в самое пекло, туда, где солома была охвачена огнем.
Завязалась борьба, в результате чего Итшана свалили, и он получил еще удар дубинкой по голове. Эти двое собирались уже закрыть ворота снаружи, но он сумел подняться, оттолкнул створку ворот и схватил одного из них за мужские органы. Он крутил их с такой силой, что чуть не оторвал. Пострадавший пронзительно кричал. Тогда Итшан нанес ему удар кулаком в лицо, и мужчина, согнувшись пополам, упал. Второй нападавший, вооруженный дубинкой, явно намеревался нанести Итшану смертельный удар, но из-за того, что ничего не было видно, он колебался лишние мгновения. Итшан увернулся, и удар пришелся выше его головы, и тогда он резко ударил нападавшего по печени. Тот потерял равновесие и упал. Итшан бросился на него, прижал лицом к земле и выкрутил ему руку, намереваясь сломать ее. Хруст ломающейся кости и крик боли свидетельствовали о том, что он добился желаемого. Первый из нападавших хотел было схватить дубинку. Итшан оказался проворнее: уже задыхаясь от дыма, который к тому же разъедал глаза, он нанес этому человеку сильный удар в грудь. Мужчина также упал. Итшан оттащил его подальше от горящей соломы и стал бить его по лицу до тех пор, пока тот не перестал двигаться.
Затем он возвратился к другому, со сломанной рукой, который пытался убежать. Итшан сделал ему подножку. Тот упал плашмя. Итшан схватил его за ногу и оттащил подальше от огня, как и первого.
Когда дым немного рассеялся, он увидел, что к нему приближается армейский командир. Причастен ли он к заговору? Продолжая держать за ногу нападавшего со сломанной рукой, он рассматривал военного, будто по выражению его лица можно было понять, предатель этот человек или нет.
— Что происходит? — вскричал армейский командир.
Итшан задыхался.
— Ты с ними заодно? — сумел он выговорить, хрипя.
— Что? — Командир растерялся, видимо не понимая, о чем его спрашивают.
— Держи этих двоих, пока я буду тушить пожар. Ты отвечаешь за них своей жизнью! — выкрикнул Итшан. — Они должны выжить!
Он закашлялся, сплевывая черную слюну, ударил ногой в висок мужчину со сломанной рукой и побежал к конюшням.
Пожарные сначала залили водой те отсеки конюшен, которые меньше пострадали от огня. Теперь они гасили пламя в других отсеках.
Нельзя было продохнуть от дыма.
К четырем часам утра пожар наконец удалось погасить.
Потеряв набедренную повязку и сандалии еще во время схватки, Итшан гасил огонь, будучи абсолютно голым. Когда пламя было побеждено, он направился к армейскому командиру, которого оставил охранять нападавших на него мужчин. Итшан нашел веревки и связал обоим задержанным лодыжки. Военный с трудом узнал Начальника конюшен в этом человеке, испачканном с головы до ног землей и сажей.
— Дай мне свою набедренную повязку, — приказал Итшан.
Тот повиновался, и Итшан закрепил повязку на бедрах. Затем он склонился к первому из нападавших, который уже пришел в сознание. Он вытаращил от ужаса глаза. Итшан обрадовался тому, что этот человек не умер. Ему еще предстояло сознаться во всем.
Затем он заметил, что перед конюшнями собралось несколько человек. Они направились к нему. Впереди шел Ай. За ним следовали Первый советник Усермон и начальник охраны Маху. Итшан пошел им навстречу. Ай его узнал и, сцепив зубы, протянул ему руку.
— Итшан! Но что…
— Твое величество, это был поджог. Я схватил двоих заговорщиков. Они пытались бросить меня в огонь!
Затем он долго отплевывался черной слюной. Ай издал рык.
— Где они?
Он пошел посмотреть на нападавших. Затем, указывая на них пальцем, он повернулся к Маху.
— Я хочу, чтобы их пытали до тех пор, пока они не заговорят, — сказал он. — Пытать! — вскричал он. — Я хочу знать имена их сообщников и организатора всего этого!
Он помолчал, восстанавливая дыхание. Затем схватил Итшана за руку:
— Начальник конюшен, Амон тебя защитил! Теперь ими займется Секмет.
Никогда прежде Итшан не замечал у него столь тяжелого взгляда.
Теперь вокруг конюшен собралась толпа. Конюхи уже догнали некоторых из убежавших лошадей. Только две лошади погибли от удушья.
Маху был поражен реакцией Ая. Он размышлял в течение дня и пришел к выводу, что именно любовник царицы был целью нападавших, а не конюшни. Со смертью Итшана рухнула бы надежда на появление потомства.
Осознав значимость происшедшего, он неутомимо помогал своему господину, проявляя, как и Ай, неслыханную жестокость при допросе захваченных преступников.
Оба заключенных были помещены в камеру в здании царской охраны, которое прилегало к дворцу. Надсмотрщик, то ли из сочувствия, то ли измученный стонами мужчины со сломанной рукой, велел закрепить на месте перелома дощечку.
Ай и Маху отправились взглянуть на заключенных. Их сопровождали два писца и два охранника, вооруженных топориками.
При виде топориков у обоих заключенных вырвался сдавленный крик. Ай сказал им:
— Вы посягнули на царское имущество. Вы пытались убить Начальника царских конюшен. Каждое из этих преступлений заслуживает единственного наказания — смерти. Вам ее не избежать. Этот приговор невозможно исполнить дважды, и поэтому перед смертью я заставлю вас страдать от пыток. Более того, вы не удостоитесь погребения. Не надейтесь, что вам удастся как-то выпутаться. Я приказал арестовать всех членов ваших семей: отцов, матерей, ваших жен, братьев, сестер и ваших детей. Их будут пытать на ваших глазах до тех пор, пока вы не сообщите, кто организатор заговора и кто ваши сообщники. Я велю им отрезать носы, уши, затем вырвать глаза — одному за другим. Мужчины будут кастрированы, а у женщин будут отрезаны груди. Затем я велю отрезать им руки, после — ноги.
Заключенные вскрикивали от отчаяния.
Оба писца, обязанностью которых было записывать признания заключенных, замерли от ужаса.
Маху велел привести родственников заключенных, которые непрерывно издавали душераздирающие крики. Все они, связанные, напуганные, не сомневались в неизбежности смерти.
У Ая в руке был кнут. Он стегал оголенные тела обвиняемых.
— Молчать! — кричал он. — Вас будут слушать, только когда вы будете отвечать на мои вопросы. Кто был организатором заговора?
Они оба медлили с ответом. Тогда один из охранников схватил старика, который был отцом одного из обвиняемых. Отец кричал своему сыну, чтобы тот пощадил их жизни.
И сын потерял сознание. Его привели в чувство струей холодной воды и пощечинами.
Этот заключенный все же заговорил.
Признания были короткими: оба обвиняемые были конюхами. У них был сообщник, но он сбежал. Охранники тут же бросились на его поиски. Военный, которого конюхи не знали, представился им как Хнумос, он пообещал каждому из них пять золотых колец за поджог конюшен и за то, чтобы в суете они бросили Начальника конюшен в огонь.
Ай покачал головой.
— Посадить их на кол! — приказал Маху.
Ай что-то прошептал начальнику охраны на ухо, и тот кивнул.
Столбы высотой в шесть локтей были установлены возле конюшен, восстановление которых уже началось.
К удивлению Итшана столбов оказалось четыре. А ведь были задержаны только два преступника. Анкесенамон, которой были известны результаты расследования, ввела его в курс дела.
После пожара гой ночью она больше не спала. Они с Мутнехмет были разбужены шумом и оставались настороже, пока Главный распорядитель церемоний Уадх Менех, трясясь всем своим немощным телом, не пришел к ним, дабы сообщить, что Начальник конюшен цел и невредим.
— Враг не дремлет, — мрачно заметила Мутнехмет.
Анкесенамон осыпала своего любовника нежностями, как никогда прежде: ведь на самом деле целью заговорщиков была она. Она это хорошо понимала. Любовник царицы был наиболее уязвимым из всех ее приближенных. Вновь она подумала о бегстве Меритатон и Неферхеру.
8
ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ЗАУПОКОЙНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ ПРЕДАННОГО, НО БЕЗРАССУДНОГО КОМАНДИРА
Стоя во дворе казарм Мемфиса, Хоремхеб нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Вот уже почти полчаса он ждал появления бывшего начальника армейской разведки Хнумоса, отныне занимающегося, по крайней мере официально, хозяйственными делами в гарнизоне. Во время последней бури крыши протекли, и теперь их надо было срочно починить. Хоремхеб договорился с Хнумосом обсудить последствия бури утром, в восемь часов.
Обычно Хоремхеб не вникал в хозяйственные дела, но почему-то захотел воспользоваться случаем, чтобы проверить вместе с Хнумосом перекрытия в собственных жилых помещениях.
— Кто-нибудь видел Хнумоса? — спросил он одного из командиров.
— Нет, полководец. Обычно он приходит сюда в одно и то же время, но сегодня я его еще не видел.
Хоремхеб нахмурил брови. Если бы Хнумос заболел, то, разумеется, его бы предупредили об этом.
— Пошлите к нему кого-нибудь, — велел он.
Часом позже посланец возвратился, вид у него был растерянный.
— Полководец, Хнумоса увезли на рассвете со связанными руками четверо приехавших из Фив военных.
— Что?! — вскричал Хоремхеб, выпучив глаза.
— Это сообщила его супруга, вся в слезах. Она как раз собиралась отправиться к тебе, полагая, что это ты приказал его арестовать.
Лицо Хоремхеба стало необычного цвета — нечто среднее между цветом резеды и зрелого плода фиги.
В прихожей раздался женский голос.
— Кажется, это она, — сказал посланец. — Все-таки пришла.
— Приведи ее.
И действительно, вошла супруга Хнумоса. Следы слез были заметны на ее щеках. Едва завидев Хоремхеба, она бросилась к его ногам.
— Полководец, умоляю тебя, какую бы ошибку он ни совершил, я заверяю тебя, что этот человек предан тебе, как собака! Молю тебя, прости его!
Опешив, Хоремхеб попросил посетительницу подняться.
— Женщина, ну сама подумай: если бы я приказал арестовать твоего мужа, то, очевидно, не заставлял бы после этого разыскивать его в собственном доме!
Выражение страха на лице женщины сменило отчаяние.
— Но тогда… — пробормотала она.
— Ты сказала моему посланцу, что его арестовали четверо прибывших из Фив военных. Откуда ты знаешь, что они из Фив?
— Они сказали, что увозят его туда… И он кричал, что не хочет ехать в Фивы…
Хоремхеб с яростью стукнул кулаком по столу. Слетел и покатился по полу свиток папируса. Два находившихся в комнате младших командира слушали, остолбенев от изумления.
— В Фивы? — гремел Хоремхеб. — Почему ты считаешь, что я мог отправить твоего мужа в Фивы?
— Но… разве не ты посылал его туда на прошлой неделе? — допытывалась она.
Удивление Хоремхеба возросло.
— Я посылал его в Фивы?
— Он мне сказал, что едет туда выполнять твое задание. Он взял с собой пятнадцать золотых колец…
— Пятнадцать золотых колец?
Эта деталь была важна, так как было очевидно, что кольца предназначались для официальных расчетов, потому как все платежи осуществлялись исключительно через писцов.
— Где он их взял? — спросил Хоремхеб.
Этого никто не знал.
На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Стали слышны команды, отдаваемые младшим командиром, он обучал новобранцев во дворе, за казармами. Это были отборные новобранцы: берберы ценились наравне с ливийцами.
— Что это еще за история? — ворчливо произнес Хоремхеб. — А вы знали, что Хнумос ездил в Фивы на прошлой неделе? — спросил он у командиров.
— Он действительно мне говорил, что отправляется туда по твоему заданию, полководец, сказал, что ты его отпустил, — ответил один из них.
Женщина удовлетворенно кивнула. Хоремхеб покачал головой.
— Я ему не поручал никаких дел в Фивах. Он вам сказал, чем собирается там заниматься?
— Нет, полководец.
— А тебе? — спросил Хоремхеб женщину.
— Он никогда не рассказывает мне того, что касается службы.
Все стало проясняться: Хнумос ездил в столицу по собственной инициативе. Вероятно, он разработал тайный план, но этот план провалился, раз арестовывать его из Фив явились четверо военных.
Супруга Хнумоса еще больше встревожилась.
— Значит, он арестован по приказу царя! — воскликнула она. — Он в опасности! Я тебя умоляю…
— Не надо меня умолять! — гаркнул Хоремхеб. — Мне ничего не известно об этой истории, поэтому я ничего не могу
для него сделать.
— Но что с ним произошло?
— Мне это неведомо.
Он нервно барабанил пальцами по столу.
— Один из вас должен отправиться в Фивы, чтобы узнать, по какой причине арестован Хнумос и какая судьба ему уготована. Мерикей, — обратился он к одному из командиров, — отправляйся к полководцу Нахтмину.
После восшествия Ая на трон Нахтмин стал главнокомандующим армии царства. Двоюродный брат Ая и, конечно же, член его клана, он был заклятым врагом Хоремхеба. Хоремхеб не мог больше оставаться в неведении, ведь могли счесть, что он причастен к тому, что совершил Хнумос.
Он вызвал писца и продиктовал ему следующее послание:
Досточтимый главнокомандующий армии, полководец Нахтмин, глава военного ведомства царства,
Этим утром четыре человека, скорее всего военные, посланные из Фив, арестовали в своем доме младшего командира Хнумоса, занимающегося хозяйственными делами в гарнизоне Мемфиса. Буду тебе обязан, если ты сообщишь моему посланцу, командиру Мерикею, причину ареста, так как я об этом не был уведомлен.
Выражаю тебе, досточтимый полководец, свое уважение, — он запнулся и добавил: — и повиновение, — но потом велел вычеркнуть это слово. — Прими пожелания благополучия и славы от полководца Хоремхеба, начальника гарнизона Мемфиса и главнокомандующего армии Нижней Земли.
Седьмой день месяца Шему первого года господства нашего горячо любимого царя Ая.
Горячо любимый царь Ай! Эти слова кололи ему глаза! Он приложил свою печать. Когда краска высохла, папирус был скручен, после чего его вручили командиру Мерикею.
После многократно повторенных просьб защитить ее супруга женщина удалилась. Хоремхеб остался один, снедаемый мрачными предчувствиями.
По прошествии трех дней командир Мерикей возвратился в гарнизон Мемфиса.
Представ перед Хоремхебом, он вытащил из сумки свиток и протянул его своему начальнику. Тот поднял на посланца вопрошающий взор. По одному только выражению лица командира он понял, что новости были плохими. Он развернул папирус.
Досточтимому Хоремхебу, начальнику гарнизона Мемфиса и главнокомандующему армии Нижней Земли.
Я принял твоего посланца командира Мерикея и описал ему устно причины, по которым младший командир Хнумос был арестован по моему приказу четырьмя военными из армейской разведки царства.
После очной ставки с тремя его сообщниками, которым он обещал расплатиться пятнадцатью золотыми кольцами, младший командир Хнумос признался в совершении самого подлого преступления против царского имущества и посягательстве на жизнь Начальника конюшен царя. Разбирательство проводилось под руководством царя. Хнумос приговорен к смерти и посажен на кол этим же утром, чему был свидетелем командир Мерикей.
Я возмущен тем, что один из твоих командиров оказался способен на такое вероломство, и я догадываюсь об истинных причинах этого преступления. Я приказываю тебе не допускать среди твоих командиров и солдат подобных настроений.
Я отправил с твоим посланцем двенадцать из пятнадцати золотых колец, выделенных из царской Казны на обеспечение всем необходимым твоего гарнизона и изъятых у преступников. Мои службы не нашли трех недостающих колец. Я требую навести порядок во вверенном тебе гарнизоне.
Одиннадцатый день месяца Шему первого года правления нашего горячо любимого царя Ая.
Ни приветствий, ни уважительного обращения… Хоремхеб поднял глаза на посланца.
— Он посадил на кол одного из моих командиров! — воскликнул он.
— Я был вынужден при этом присутствовать. Это было чудовищно. Я попытался добиться, чтобы эту казнь заменили на обезглавливание, как подобает командиру, — сказал Мерикей, извлекая из своей сумки двенадцать золотых колец и раскладывая их на столе перед начальником. — Но Нахтмин был непреклонен. Без сомнения, он выполнял приказ Ая.
— Что Хнумос натворил?
Мерикей сокрушенно покачал головой.
— Много чего, полководец. Он организовал поджог конюшен. Ущерб оказался значительным. Двое конюхов подтвердили, что пытались бросить Начальника конюшен в огонь. Но этот человек дал им отпор. В результате он схватил нападавших. Охранники разыскали третьего сообщника. Им устроили очную ставку с Хнумосом. Вчера утром они были посажены на кол на площадке перед конюшней.
Хоремхеб вспомнил свой разговор с Хнумосом, состоявшийся около двух недель назад. Теперь он разгадал план Хнумоса. Командир попытался устранить любовника царицы, чтобы лишить ее возможности произвести потомство, чего не способен сделать Ай. Хнумос приступил к выполнению плана, не предупредив об этом своего начальника. Неужели он это сделал для того, чтобы Хоремхебу не были предъявлены обвинения в случае, если заговор будет раскрыт? Или же он стремился к громкой славе, надеясь, что его план сработает? Но этого не произошло.
Хоремхеб пришел к заключению, что отныне следует лишать власти тех, кто способен стать потенциальным родителем наследника.
— Хнумос признался, что им двигало? — вдруг обеспокоенно спросил он.
Мерикей был ему предан, но он не входил в круг доверенных лиц и потому не знал обо всех его тайных планах.
— Да.
Хоремхеба пробрала дрожь.
— Приближенный к Нахтмину командир сообщил мне, что Хнумос заявил о своей ненависти к нерадивым фиванским военным, из-за которых армия царства терпела поражения, покрывая себя позором. Он хотел уничтожить конюшни, которые были предметом гордости военных, считал, что те не заслуживали таких лошадей.
Хоремхеб перевел дух. Хнумос держал язык за зубами даже перед лицом смерти. Оставалось узнать, попались ли на эту удочку Ай, Маху, Нахтмин и другие. Они прекрасно знали, что, как бывший начальник армейской разведки Нижней Земли, Хнумос прекрасно мог отличить лошадей царя от тех, что принадлежали армии. Они догадались об истинных мотивах этого заговора. Нахтмин прямо заявил: «Я догадываюсь об истинных причинах этого преступления».
— Нахтмин был очень разгневан, — снова заговорил Мерикей, не отрывая взгляда от своего начальника. — Странно, какая муха укусила Хнумоса?
Неужели Мерикей сомневался в правдивости своего казненного товарища? Это было вполне возможно, так как многие военные в Мемфисе подозревали о существовании противоречий между полководцем и царем. И Хнумос поступил неосторожно, рассказав, что едет в Фивы по заданию своего начальника.
Хоремхеб покачал головой.
— Мне тоже не известно, что подтолкнуло Хнумоса на это. Но в результате мы потеряли превосходного командира.
Это была единственная заупокойная речь в честь командира Хнумоса. Они не раз пировали вместе, опустошили много кувшинов вина и волочились за многими девушками, но теперь Хнумос был мертв. Как заметил Тхуту, защита сильных мира сего — дело бесполезное и рискованное.
9
ЦАРИЦА ПОДЫСКИВАЕТ ЦАРЯ
Когда страсти, вызванные пожаром, улеглись, причина его стала явной, подобно пятнам плесени, которые проступают на стенах, похожие на раздавленных страшилищ. Избавиться от них можно, только заново отштукатурив стену, а для укрепления династии необходимо было царское потомство.
Неожиданно для себя Анкесенамон проявила заботу о династии. Она сделала все что могла, стараясь забеременеть. Теперь она понимала, что даже ребенка мужского пола будет недостаточно, чтобы защитить династию от посягательств Хоремхеба, — тот попытается захватить трон сразу же после смерти Ая. Надо было выдать замуж своих сестер, царевен.
И мужьями должны стать сильные мужчины.
Стремление найти наиболее подходящих кандидатов занимало ее полностью, первый раз в жизни Анкесенамон не волновал ее внешний вид, душевное состояние, разговоры о румянах и слабительных средствах, размышления относительно гардероба и сплетен придворных дам.
Нужен был такой человек, который одними только своими достоинствами, не обладая царской властью, смог бы противостоять сильным мира сего, и чьего единственного взгляда было бы достаточно, чтобы подчинить себе верхушку знати и верховных жрецов.
Она попросила Ая о встрече. Беседовали они в царском кабинете, Анкесенамон попала туда впервые после смерти Тутанхамона. Пришлось подавить тяжелые воспоминания. Ай ничего там не изменил, только статую покойного царя заменил на свою. Можно было подумать, что с минуты на минуту появится Тутанхамон, хрупкий, с серьезным выражением лица, и сядет в одно из находившихся в кабинете роскошных кресел.
В кабинете был Шабака. Он низко поклонился царице, придвинул ей кресло и по едва заметному знаку своего хозяина удалился.
Она села и расправила складки платья.
— Даже если у меня родится мальчик, этого не достаточно, чтобы защитить трон, когда тебя не станет, — сказала она сразу же.
Он поднял брови, затем улыбнулся.
— Кто из твоих сыновей способен стать твоим преемником? — спросила она.
— Трудно сказать, — задумчиво произнес Ай.
Такой искренний ответ удивил Анкесенамон.
— У меня два сына, Себамон и Сагор, двадцати шести и двадцати лет, — продолжил Ай. — Образованные и разумные юноши. Но я не подвергал их испытаниям. Был чересчур поглощен делами царства в последние годы. В любом случае, невозможно ягненка превратить в шакала.
«Странное сравнение», — подумала она. Стало быть, все мужчины должны быть шакалами? Ай смолк, как будто вдруг какая-то мысль пронзила его мозг. Она помнила обоих молодых людей, Себамона и Сагора. Они ведь были ее дядьями и присутствовали на похоронах и Эхнатона, и Нефертити. Два воплощения красоты, равной красоте их знаменитой сестры, но, как ни странно, от их красоты было мало проку. Они были красивы сами по себе, как если бы смыслом их существования было обольщение. Вероятно, чрезмерная красота не идет человеку на пользу, превращая его в хищную птицу желаний. Вовсе не такой красотой обладал Пасар. В его облике ощущалась душевная чистота и сила воли.
— Порой мне интересно, — снова заговорил Ай, — почему мужские достоинства в моем роду передаются только женщинам. Тиу, моя сестра. Нефертити, твоя мать. Мутнехмет. — Он вздохнул и потер подбородок. — Да, действительно, их мать была выдающейся женщиной. — Он посмотрел на свою внучку. — И ты, — добавил он с улыбкой.
Она была уверена, что у ее дедушки было еще много детей. Ей это стало известно от матери и из сплетен кормилиц еще в Ахетатоне: у Ая был гарем наложниц в Ахмиме. Впрочем, из них добрый десяток последовал за ним в Фивы, заняв целый этаж во дворце. Следовательно, у него должно быть по меньшей мере два десятка сыновей и дочерей. Почему же он упомянул только о двоих своих детях?
— Итак, — произнес Ай, — мы говорили о Себамоне и Сагоре. Разумеется, они женаты, но это препятствие преодолимо. Ты имеешь в виду себя или своих сестер?
Буквально на мгновение она задумалась.
— Первое место среди сильных мужчин этого царства по праву принадлежит Нахтмину, — стала рассуждать она. — Он из твоего клана и предан тебе.
Ай снова улыбался.
— Я молил Тота вернуть тебе мудрость, — сказал он. — Он внял моей просьбе.
— Мутнехмет также придерживается этого мнения, — добавила Анкесенамон. — Было бы неплохо, если бы Нахтмин сочетался браком с Нефернеферурой.
— Я об этом думал. Он женат, и у него четверо детей, но это препятствие преодолимо. Он может отвергнуть свою милую супругу, сделать ее наложницей. Однако характер твоей сестры может этому воспрепятствовать.
— Я ей все растолкую, — решительно заявила Анкесенамон.
— Ладно. Таким образом, нам остается обсудить это с Нахтмином.
— Причем срочно.
— Я это понимаю.
— Остается найти мужа для Нефернеруатон.
— Мне кажется, что с нею будет еще больше проблем.
— Я уже сказала, что это мое дело. Если придется, брошу их связанными на брачное ложе.
Ай едва удержался, чтобы не засмеяться.
— Надеюсь, нам не придется прибегать к таким крайностям!
Он придвинул круглый эбеновый столик, инкрустированный золотом, на котором возвышалась чаша с засахаренными финиками, начиненными миндалем. Жестом он предложил своей внучке угощаться, затем сам взял финик. У нее голова шла кругом от всего того, что произошло менее чем за два месяца.
— Сагор, — сказал он, — сделал бы лучшего преемника, чем его старший брат. Я его считаю более решительным и более дальновидным.
— А Маху?
Ай снова заулыбался: царица со знанием дела рассматривала все возможные партии.
— От него бы получился превосходный преемник, но он моего возраста, и я опасаюсь, что его здоровье оставляет желать лучшего. Кто-то помоложе должен заниматься защитой трона, пока Хоремхеб не присоединится к своим предкам. В действительности оба они мужчины опытные и с характером, но, как ты уже говорила, не первой молодости. Более того, это люди, отравленные ядом власти, как и наш драгоценный Тхуту, который выращивает нынче лук-порей и салат-латук!
— А Майя?
При упоминании этого имени лицо Ая перестало выражать добродушие.
— Мне он вовсе не кажется подходящей кандидатурой, — заявил он недовольно.
Он покусывал нижнюю губу. Для Анкесенамон его реакция была неожиданной.
— Я не уверен в этом человеке, — сказал он.
Она ждала объяснений.
— Майя тайно общается с Хоремхебом.
— Что они обсуждают?
— Мне это не известно. Они обмениваются устными посланиями посредством доверенных лиц, иногда Майя отправляется с визитом в Мемфис. Очевидно то, что не мы одни озабочены будущим династии. Я старею. Многие люди, как и Майя, задумываются над тем, что случится после моей смерти. Некоторые строят далеко идущие планы, поддерживая Хоремхеба, так как у нас нет потомства. Майя позволил себе бестактность: он сообщил о своих предпочтениях Гуе, наместнику царя в стране Куш, а тот мне об этом сообщил. Я не могу предъявить претензии Майе, потому что тогда он открыто станет на сторону Хоремхеба. Я предпочитаю вести за ним наблюдение. Во всяком случае, он не может быть подходящей партией ни для одной из твоих сестер.
«Снова интриги и интриганы, — подумала Анкесенамон. — В конечном счете, без этого не обходится наша жизнь». Она взяла еще один финик, вспоминая о встрече с Тхуту. Верно, этот человек уже ни на что не был годен. Ситуация становилась абсурдной: не было подходящей партии для царевны Мисра, прекрасной, как лотос в полдень и роза ночью! «И глупой, как паук», — добавила она мысленно. На самом деле речь шла о будущем царе, а не о подходящей партии для царевны.
— Должен тебе сказать, что лучшим моим преемником был бы Шабака.
Это заявление вызвало удивление у Анкесенамон. Она воспринимала нубийца как некое домашнее животное в человечьем обличье.
— Шабака?
— Он сведущ в делах царства так же, как я. У него характер хищника и ловкость змеи. Он — мой духовный сын.
— Ты видел когда-нибудь нубийца на троне?
Всех чернокожих она считала рабами.
Ай расхохотался.
— Он не намного чернее, чем твоя покойная прабабка Тиу, моя сестра.
Она казалась озадаченной.
— Мне надо над этим подумать. Давай начнем с того, что поговорим с Нахтмином.
Он охотно согласился.
— Я организую с ним встречу.
Анкесенамон встала. Она считала, что, без сомнения, Нахтмин недолго будет раздумывать, принять ли ему корону Двух Земель, гораздо труднее будет убедить в необходимости этого Нефернеферуру.
Она нашла Шабаку в приемной — он ожидал окончания беседы. Он снова с почтительностью поклонился царице и казался удивленным тем, что она задержала на нем свой взгляд. Это длилось мгновение, но все осознали важность этого момента. Как известно, судьбы целого народа иногда зависят от пустяка. Она направилась к выходу. Впереди шел Уадх Менех, а за ней — носители опахал.
Глядя на шедшую через Большой зал Анкесенамон, Нахтмин был удивлен: она смеялась, но смех вряд ли был позволителен в этом месте.
Анкесенамон ощутила его взгляд, хотя Нахтмин находился в двадцати шагах от нее. Она была восхитительно одета, парик украшала диадема из электрума и бирюзы, на груди — в несколько рядов жемчуг и бирюза, на запястьях — браслеты, на ногах — золотые сандалии. Ее платье из заложенного в складки льна, вышитое золотыми нитями, было схвачено в талии широким поясом, обшитым маленькими жемчужинами, что подчеркивало стройность фигуры. Молодая царица больше напоминала божественное видение, нежели земное создание.
Нахтмин был изумлен. Он видел царицу во время многочисленных церемоний, но сейчас она была особенно красива. Тонким вкусом и обольстительностью она превосходила даже свою мать, несравненную Нефертити.
По мере ее приближения четче вырисовывались нежный овал ее лица, небольшой подбородок, маленький карминный рот, глаза, подведенные сурьмой до висков.
Ай оценил эту сцену: царица не пожалела усилий, чтобы соблазнить полководца. Ай сдержал улыбку.
Даже Главный распорядитель церемоний Уадх Менех и слуги были обескуражены ее видом.
Она улыбнулась царю и произнесла:
— Пусть твой вечер будет наполнен удовольствием и радостью, мой царь.
— Твоя красота, моя царица, достойна Исис, и меня переполняют чувства, подобные тем, что испытывает Ра, когда Моат играет на лютне, чтобы очаровывать его.
Нахтмин не успел прийти в себя от вида Анкесенамон, как испытал новое потрясение. Не вникая в личную жизнь царской четы, он, тем не менее, знал о неприязни, испытываемой Анкесенамон к Аю, что было темой бесконечных сплетен во дворце. Не веря тому, что видели его глаза, он начал сомневаться и в том, что слышали его уши.
Анкесенамон повернулась к Нахтмину. Красивый мужчина. Массивная голова, тонкие черты лица, волевой подбородок.
— Свет славы полководца падает и на нас, — сказала она. — Добро пожаловать.
Он низко поклонился и поцеловал протянутую ему руку.
Она села и подала знак гостю сделать то же самое.
Ай также сел.
Помимо дворецкого, смотрителя блюд, виночерпия и пробующего пищу, еще человек двадцать слуг замерли в десяти шагах в ожидании малейшего знака своих хозяев. Анкесенамон едва приподняла руку.
— Виночерпий!
Тот подбежал.
— Подай мне сок граната пополам с вином, — велела она.
— Я тоже отведаю этот напиток, — подхватил Ай.
Полководцу ничего не оставалось, как выбрать то же самое.
Анкесенамон вновь повернулась к полководцу. Обменялись очередными официальными пожеланиями благословения богов, славы царству, здоровья и наслаждения царственной паре. Постепенно Нахтмин стал понимать, что обольстительные улыбки царицы, ее благосклонность, елейные речи, демонстрация уважения, пышность обстановки преследовали какую-то цель. Хозяева явно намеревались просить его об одолжении. Вряд ли он ошибался: готовилась сделка.
Наконец все расселись за столом. Три кресла, два из которых были роскошно украшены, стояли вокруг большого круглого подноса, установленного на подставке и покрытого пурпурной тканью, расшитой золотом. Нахтмин не знал, как себя вести. Прославленный полководец, он, даже будучи кузеном Ая, привык за ужином с сильными мира сего сидеть на корточках перед подносом с угощением. Он был озадачен и еще больше насторожился.
Слуги расставили перед гостями алебастровые блюда, ложки и кубки из голубого сирийского стекла, украшенные золотой сеткой. Все наблюдали за пробующим пищу. Тот стоял рядом и брал с огромного керамического блюда, которое поднесли двое слуг, по куску от каждого кушанья, чтобы затем заявить о том, что он удовлетворен их качеством. После этого дворецкий, в свою очередь, сообщил их величествам, что они могут приступить к трапезе. Тогда слуги поставили блюдо посреди стола. На нем были разложены жареные тушки молодых голубей, начиненные зерном и миндалем, обвязанные виноградными листьями. Тушки были обложены кусочками жаркого. Нахтмин наблюдал за тем, как царь, а затем и царица отведали кушанье, и только потом взял тушку птицы с блюда. Тогда виночерпий принес большой серебряный сосуд с прямой ручкой, сверкающий в свете лампы, и наполнил кубок, который ему протянул слуга; он попробовал вино, поднял глаза, поцокал языком и заявил, что напиток достоин живых богов. Слуги наполнили кубки. Затем все слуги отошли на десять шагов.
— Нахтмин, — заговорил Ай, снимая виноградные листки, в которые была завернута тушка птицы, — твое присутствие здесь в этот вечер — знак судьбы. Я попрошу Анубиса, хозяина снов и видений, о том, чтобы он помог тебе представить, как ты однажды будешь сидеть на моем месте рядом с божественной супругой и — а я этого страстно желаю — обретешь сына, который впитает твою мудрость и приумножит твои могущество и славу.
Полководец оценил изысканный вкус блюда и понял суть разыгрываемого фарса. Он был потрясен и, посмотрев на царя, затем на царицу, увидел две улыбающиеся маски.
— Как мне следует понимать эти речи? — спросил он.
— Когда я отправлюсь в свое вечное жилище, — начал пояснять Ай, — стране потребуется правитель с чистым сердцем и сильной рукой. Ты ведь с этим согласен? Мне хорошо известна острота твоего разума, чтобы предположить, что ты не видел себя в этом качестве. Итак, мы с царицей убеждены, что нет никого, кроме тебя, кто лучше бы подходил на роль правителя.
Держа кусок мяса в руке, Нахтмин смог отреагировать на эти слова только частым морганием.
— Твое величество, это честь для меня. Но разве я могу претендовать на это высшее звание?
— Да — заключив брачный союз с царевной, — ответила Анкесенамон.
Нахтмин стал осмысливать услышанное. Он наклонился вперед. Подбежал слуга и подал ему кусок полотна для того, чтобы он мог вытереть руки — хорошо, что Нахтмин вовремя вспомнил об этом редком обычае. Он перевел взгляд с царя на царицу.
— Твое величество, я — твой слуга. Разве могу я претендовать на эту неслыханную честь?
Ай, улыбаясь, покачал головой.
— Надеюсь, это не испортит тебе аппетит, — сказал он.
Он взял себе еще одну тушку голубя. То же самое сделала Анкесенамон, затем Нахтмин.
— Твоей супругой могла бы стать моя сестра Нефернеферура, — промолвила Анкесенамон.
— Меня смущает…
— Я тебя официально признаю своим сыном, — добавил Ай.
— Мне казалось, что такая благодать возможна только в загробном мире. Но вот меня не только позвали за стол богов, но еще и предложили воссоединиться с ними.
Он часто общался с влиятельными людьми и знал, как польстить правителям. Анкесенамон грациозно качнула головой, подставив пальцы под струю ароматизированной воды, которую слуга лил в чашу. Потом она отпила немного вина и стала есть лук-порей в масле.
— Ты знаешь, какая опасность угрожает трону, если со мной что-нибудь случится, — вновь заговорил Ай.
— Хоремхеб, — бросил Нахтмин.
— Вот уже многие годы он стремится захватить власть и стать единоличным правителем страны. Хочу надеяться, что когда ты взойдешь на трон, Маху, Пентью, Гуя и Усермон еще будут пребывать в этом мире. Все они люди опытные и преданные.
При имени Пентью Анкесенамон едва заметно вздрогнула. Она заметила, что Ай не назвал Майю.
— Хоремхеб — враг решительный, — подчеркнул Ай. — Он даже пытался, как ты знаешь, помешать мне возглавить процессию во время погребения царя. Тебе нужно будет заручиться поддержкой жрецов, чтобы заставить его относиться к себе уважительно.
— Но его поддерживает Нефертеп, — сказал Нахтмин.
— Я скоро объясню Нефертепу, что он ошибся, выбрав союзником Хоремхеба, ведь тот, придя к власти, ограничит влияние жрецов.
— Этот преступник спланировал поджог конюшен, — добавила Анкесенамон. — Он готов совершить любое злодеяние.
Нахтмин посерьезнел.
— Мы подвергли Хнумоса пыткам, чтобы вырвать у него признание, — сказал он.
— Он знал, что в любом случае его ждет смерть, — заметил Ай.
— Но мы даже пообещали ему помилование.
— Нет, — возразил Ай, — армия Нижней Земли не позволила бы, чтобы выдающийся военачальник был обвинен по доносу младшего командира. Мы обязаны были не допустить несвоевременное проявление силы. Казнь Хнумоса стала пушечным выстрелом. Хоремхеб был, таким образом, предупрежден о том, что мы не простим ему ни одной выходки.
— Тем не менее его поддерживает армия Нижней Земли.
— Как я понимаю, ты продолжишь чистку его окружения. Маху тебе в этом поможет.
Полководец кивнул.
— Она уже проводится.
— Время не терпит, — сказал Ай.
Нахтмин опустошил свой кубок, и виночерпий тут же подбежал к нему. Слуги поставили на стол еще большее, нежели первое, блюдо, на котором шипела нога ягненка, натертая чесноком. К аромату дичи примешивался запах гвоздики. Как только Смотритель блюд порезал мясо на куски, пробующий пищу выполнил свои обязанности, и его напарник обслужил царя, царицу, затем их гостя.
— У меня такое чувство, твое величество, — сказал полководец, когда слуги отошли на положенное расстояние, — что нам не будет покоя, пока Апопа не поразит копье Сета.
Последовало молчание. Анкесенамон широко открыла глаза. Снова об убийстве говорилось как о способе решения проблем царства.
— Как же взяться за это дело?
— Разве наш Апоп не отверг своей первой супруги, твоей дочери, чтобы взять другую?
— Танцовщицу, — уточнил Ай.
— Женщину легкого поведения, — заметил Нахтмин непринужденным тоном.
— Не мешало бы знать о нем побольше.
— Возможно, почтенная Мутнехмет даст нам совет относительно того, как действовать.
Анкесенамон рассматривала Нахтмина. Это был жестокий человек. Да, он смог бы зачать сильного царя.
— Мы это обсудим с Маху, — сказал Ай. — Но вернемся к главному вопросу. Ты расположен сочетаться браком с Нефернеферурой?
— Да, — ответил Нахтмин.
Вечер удался — цель была достигнута. Царица улыбнулась и удовлетворенно кивнула.
10
«КАКОВ ВЫСКОЧКА!»
— Этим вечером к нам на ужин придет командующий армией Нахтмин, — сказала Анкесенамон. — Разумеется, ты будешь присутствовать на ужине и станешь любезничать с ним.
Сидя перед нею на террасе, Нефернеферура упрямо хранила молчание.
— Я не хочу, — наконец произнесла она.
— Никто не спрашивает о твоем желании. Это — твоя обязанность. Недавно я тебе об этом говорила.
Анкесенамон мрачно наблюдала за своей сестрой; она замечала у нее те же отвратительные черты характера, что и у Мекетатон: деспотизм, упрямство, чрезмерное самомнение, высокомерие. Ей пришло в голову, что у нее все было по-другому: она встретила Пасара, у них одновременно пробудилась чувственность, они полюбили друг друга. Удовольствия тела были как роса для иссохшей души; как только ночь призывала жасмин источать аромат, душа раскрывалась, таяла, оживала. Она устремила на сестру взгляд ястреба. Да нет, тайного любовника у Нефернеферуры не было. Суховатые губы, ломкая жесткость в осанке свидетельствовали о том, что она девственница.
— Я неважно себя чувствую, поэтому не хочу видеть людей, — возразила Нефернеферура.
— Ты всегда готова болтать о пустяках, тогда ты чувствуешь себя прекрасно. Мне все равно, кто тебя притащит на ужин, будь то мои придворные дамы, слуги или даже стражники. Ты знаешь, что я не шучу.
— Я не понимаю, почему ты хочешь, чтобы я вышла замуж за чужого мне человека.
— Потому что это в интересах династии.
На этот раз Нефернеферура не стала заявлять, что ей плевать на династию.
— Пусть Нефернеруатон выходит замуж вместо меня.
— Вы обе выйдете замуж. Ты увидишь, какое это утешение в жизни — иметь рядом мужчину, который сжимает тебя ночью в объятиях. Когда-нибудь ты чувствовала влечение к мужчине?
Нефернеферура посмотрела на нее так, как если бы она произнесла невероятную глупость.
— Да, я знаю, — сухо сказала Анкесенамон, — что ты развлекаешься с рабами.
Вновь оскорбленный взгляд.
— Я не хочу, чтобы ты стала старой девой. Тебе скоро двадцать лет. Уже пять лет назад ты должна была выйти замуж. Весь двор обсуждает вопрос: нет ли у тебя физических изъянов.
Удар попал в цель. Нефернеферура подскочила и бросила на сестру возмущенный взгляд. Ее самолюбие было задето, а проблемы полов ее не очень занимали.
— Ты это только что придумала.
— Я ничего не придумала. Супруга городского головы Фив думает, что у тебя какое-то врожденное уродство.
— Ах эта старая сова! Больше я не буду с ней здороваться!
— Сплетен от этого не станет меньше. Накануне жители Ахмима спрашивали у Ая, почему им не сообщили о твоих похоронах и по какой причине ты умерла.
Нефернеферура испустила ужасающий крик.
— Ты подрываешь наш авторитет, — с осуждением заявила Анкесенамон.
— Потому что я не хочу раздвинуть ноги перед мужчиной? — прокричала Нефернеферура.
— Как грубо! Нет, как грубо! Где ты воспитывалась? Со свинопасами? Ты полагаешь, что отношения с мужчиной сводятся только к этому? Тогда у тебя сердце из камня и влагалище из старого папируса! Люди правы. Ты испорченная. Но у тебя нет выбора. Ты выйдешь замуж за Нахтмина.
Нефернеферура бросила на нее полный ненависти взгляд.
— Пойди отдохни, — сказала Анкесенамон. — Я хочу, чтобы вечером ты хорошо выглядела. Я пришлю свою Хранительницу гардероба, она тебя оденет и подрумянит лицо.
Несмотря на то что в Большом зале дворца звучала музыка, танцовщицы развлекали приглашенных и не стихал гул голосов около сотни гостей, ужин в честь бракосочетания царевны проходил в тоскливой обстановке.
Нефернеферура, очаровательная, наряженная как статуя Осириса во время праздника, казалась бесчувственной. Она не могла связать и двух слов. Нахтмин же сиял. С подведенными глазами, в блестящем парике он оживленно отвечал на поздравления глав ведомств, своих первых помощников, представителей знати и их супруг и, вполне осознавая, что не мил своей супруге, время от времени склонялся к ней, чтобы прошептать что-нибудь приятное.
Сидя напротив них, Ай и Анкесенамон, как ястребы за добычей, следили за каждым жестом молодой супруги.
— Как обижена! — сердито шептал Ай царице. — Как будто ее тащат на казнь!
— Самое ужасное будет происходить в постели, — холодно заметила Анкесенамон, и царь хохотнул.
Праздник в честь бракосочетания царевны длился неделю.
Для брачной ночи был подготовлен небольшой дворец в северной части Фив.
Перед началом ужина накануне брачной ночи, на котором присутствовали высокопоставленные особы, в том числе Усермон, Майя, Маху, Пентью, оба сына Ая, Себатон и Сагор, и их супруги, Анкесенамон отвела Нахтмина в сторону.
— Моя сестра по духу — старая дева.
Он лукаво посмотрел на нее.
— Я это заметил, твое величество, она не удостоила меня ни одним многообещающим взглядом.
— Вас будет сопровождать одна рабыня.
Нахтмин казался удивленным.
— Это я отдала такой приказ.
Удивление жениха росло.
— Прежде чем идти в спальню к молодой жене, пошли туда рабыню. Она знает, что делать.
Нахтмин не мог сдержать короткого смешка.
— Когда молодая куропатка созреет, ты насадишь ее на вертел и приготовишь кушанье. Сделав дело, не позволяй ей подмываться до следующего утра. И надо будет усилить наблюдение за тем, чтобы она не пользовалась средствами, предупреждающими беременность.
Последовало молчание. Полководец потерял дар речи.
— Не забывай, полководец, главная цель — ребенок.
— Да, твое величество.
— Не подведи нас.
— Да, твое величество.
Раздавшиеся звуки цистр и флейт прервали их разговор. Появились танцовщицы. Анкесенамон присоединилась к Аю, а Нахтмин подошел к своей новой супруге. Царица бросила взгляд на сестру. То же похоронное выражение лица. Другая сестра, Нефернеруатон-Ташери, от которой не отходили две придворные дамы, была неподвижной как статуя.
«Очевидно, ты размышляешь о том, когда придет твоя очередь. Очень скоро, моя перепелка! Очень скоро», — подумала Анкесенамон.
Затем она бросила заговорщический взгляд на Итшана, который сиял почти так же, как и Ай. Наконец она повернулась, чтобы спросить взглядом Сати все ли в порядке, и увидела ее улыбающейся.
Придворные дамы и гости шептались по поводу пополневшей фигуры Анкесенамон.
Она была беременна.
С благословения богини Туерис, покровительницы беременных и рожениц, чуть меньше чем через месяц во дворце предполагалось отметить два счастливых события.
Время было подходящим: начинался второй год правления царя.
По прошествии двух недель, в начале сезона Сева, вышел царский рескрипт, согласно которому его величество царь Ай признавал полководца Нахтмина своим сыном и преемником.
Полководец и его супруга как раз возвратились из путешествия.
Официальная церемония признания наследника трона проводилась с невероятным блеском. Во дворе дворца были выстроены конный полк, полк лучников и полк пехотинцев. Все главы ведомств, другие высокопоставленные лица страны и иностранных государств, верховный жрец Амона Хумос и жрецы храмов Амона, Секмет и Мут в Карнаке расположились перед дворцом, напротив парадного входа, по бокам которого стояли огромные статуи покойного царя Аменхотепа Третьего.
В полдень лучи солнца отразились огненным блеском от золотых пирамидальных верхушек обелисков, стоящих перед дворцом. Раздались звуки труб. Ай и Нахтмин вышли из дворца. За ними шел Главный распорядитель церемоний Уадх Менех. Он выкрикнул их имена. Анкесенамон и обе ее сестры шли следом, соблюдая иерархический порядок: царица шла впереди в сопровождении носителей опахал и четырех придворных дам, Нефернеферура, супруга наследника престола, шла в трех шагах за ней, сопровождаемая носителями опахал и двумя придворными дамами, за ними вместе с Мутнехмет шла Нефернеруатон-Ташери в сопровождении двух придворных дам и без носителей опахал.
Глашатай дворца зачитал царский рескрипт: командующий Нахтмин отныне считался сыном его божественного величества и его преемником на троне Двух Земель. По тому же случаю его теперь следовало называть царевичем.
Трубачи завершили церемонию пронзительными триумфальными аккордами. Словно эхо им стали вторить рожки, когда на улице зазвучали здравицы в честь наследника.
Начался банкет для приглашенных. Анкесенамон, воспользовавшись случаем, поговорила с новоиспеченной супругой наследника, так как они не виделись после ее брачной ночи.
— Как себя чувствует моя горячо любимая сестра? — спросила она, наблюдая за тем, как гости занимают свои места.
— Как истерзанная кинжалом жертва, — прошипела Нефернеферура.
Анкесенамон была рада, что этого не могли слышать придворные.
«Истерзанная кинжалом». Стало быть, она узнала, что такое плотские утехи, и, без сомнения, не раз.
— Это бесчеловечно! — заявила Нефернеферура в том же тоне. — И он это делает снова и снова!
«Ну что ж, — подумала Анкесенамон, — главное, чтобы она забеременела. Плохо то, что она от этого не получает удовольствия». И она решила поговорить с Нахтмином, как только представится возможность.
Пришло время рассаживаться по своим местам, и разговор прервался.
Вскоре на улицах Фив зазвучала веселая музыка, по приказу Ая жителям города стали раздавать зерно, жареную свинину и баранину, вино и пиво. Люди были рады по случаю праздника вдоволь напиться и наесться за счет властей. Каждый квартал гордился своими музыкантами, певицами и танцовщицами. Гулянье продолжалось до глубокой ночи. Госпоже Несхатор, которая подготовила представления для этого праздника, удалось совершить выгодные сделки.
На следующий день глашатаи отправились в провинцию сообщать народу новости из дворца.
— Каков выскочка!
Таким был единственный комментарий Хоремхеба, когда он узнал о новом статусе Нахтмина. Майя и его собственные шпионы сообщили ему об этом.
В этом слове было столько ненависти, что она отзывалась потом веками.
11
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И ОБЫЧНЫЕ МАХИНАЦИИ
К северному крылу дворца Фив пристроили помещение, чтобы там принять наследника трона с супругой.
Утром Анкесенамон отправилась туда в сопровождении двух придворных дам для того, чтобы побеседовать с Нефернеферурой и узнать, есть ли какие-либо признаки беременности, хотя со времени брачной ночи минуло всего лишь сорок дней.
Ничего радостного Нахтмин не сообщил.
— Соитие проходило тяжело, твое величество, — поведал полководец. — Несмотря на мою осторожность и нежность, не говоря уже о том, что рабыня ее подготовила согласно твоим рекомендациям, все сопровождалось громкими криками, и не думаю, что она притворялась. У нее слишком узкий ход к любовной утехе.
Анкесенамон скорчила недовольную гримасу. Да, ей была известна такая особенность организма ее сестер Нефернеферуры и Макетатон — еще с тех пор, когда они вместе принимали ванны в Ахетатоне. Она надеялась, что с возрастом все придет в норму.
— Но стрела достигла своей цели, твое величество, — добавил военный.
«Судя по всему, — подумала царица, — Нефернеферура не очень этому обрадовалась».
— Стало быть, соитие было только однажды? — уточнила она.
— Нет, твое величество. За двадцать три дня это произошло одиннадцать раз.
Одиннадцать раз. Неужели они такие невезучие, что за все эти разы Нефернеферура так и не была оплодотворена?
— И все одиннадцать раз было так же тяжко?
Полководец улыбнулся.
— Нет, твое величество. Гимен был прорван. Но и в последующие разы моя супруга была все же очень напряжена. Лекарь Сеферхор предписал средство, которое надо было подливать ей в вино во время ужина. Разумеется, без ее ведома.
— И что же?
— Я склонен думать, что после этого она кричала скорее не от боли, а от избытка чувств.
Царица знала, что следовало учитывать, как могут обманываться мужчины из-за своего тщеславия. Но оба собеседника улыбнулись.
— Пожалуй, — заключила Анкесенамон. — Будь же всегда с нею ласков.
Вместе со свитой она явилась в покои Нефернеферуры. Та была в обществе Нефернеруатон. Анкесенамон попросила придворных дам ожидать в прихожей. Обе царевны смотрели на свою сестру довольно мрачно. Так как ей не предложили напитков, Анкесенамон напомнила им о приличиях.
— Я хотела бы выпить миндального молока с соком граната, — заявила она.
Был вызван слуга, и ему велели принести напиток.
— Ты пришла увидеть, каково состояние жертвенного зверя, — сказала Нефернеферура.
— Довольно забавно звучит, — заметила Анкесенамон. — Чем ты отличаешься от тысяч женщин этой страны, которые, выйдя замуж, не считают себя жертвами, совсем наоборот?
— Я — не такая, как эти тысячи женщин! — возразила Нефернеферура. — Я — дочь божественного царя Эхнатона.
— В таком случае, ты не отличаешься ни от своей царицы-матери, ни от царицы-бабушки. Царственное происхождение не мешает зачать ребенка ни женщине, ни мужчине. Больше не желаю слышать этих речей. Я тебе объяснила причины твоего союза с военачальником Нахтмином и больше к этому не хочу возвращаться. Я пришла справиться о твоем состоянии.
Нефернеферура сердито отвернулась.
— После того как этот солдафон проникал в меня не знаю сколько раз, я полагаю, что результат достигнут, и надеюсь, что больше не увижу этот чудовищный член. Теперь мой живот будет все раздуваться и раздуваться, и я стану походить на бегемота.
— Многие женщины были бы этим довольны. Были у тебя месячные?
— Нет! — яростно бросила Нефернеферура.
— Сколько дней задержки?
— Шесть.
«Хороший знак», — подумала Анкесенамон.
— Неприлично называть военачальника Нахтмина солдафоном. Это твой муж, и отныне он — наследник трона. Такие речи скорее подходят деревенщине самого низкого происхождения, хотя ты считаешь себя выше всех. Кроме того, он ведь был нежен с тобой.
Нефернеферура посмотрела на царицу, вытаращив глаза.
— Ты заставляешь шпионить у меня в спальне?
— Если бы в этом была необходимость, то я непременно именно так и сделала бы. Твое отвращение к любовным утехам не только противоречит природе, Нефернеферура, оно неискренне. Вполне возможно, что первая ночь стала для тебя испытанием, так оно бывает для всех женщин, но не думаю, что потом тебе было так уж неприятно.
«Да, нелегко быть царицей!» — подумала она.
У Нефернеферуры вырвался крик возмущения. Она встала и вознесла руки к небу.
— Но это немыслимо! За мной следили до самого влагалища!
Анкесенамон и Нефернеруатон, не вымолвившая до тех пор ни слова, не смогли удержаться от смеха.
— Твое влагалище — это один из источников божественной царской власти, — возразила на это Анкесенамон. — Вот почему оно является предметом оправданного внимания. И не только для меня, но и для всей страны.
— И как ты управляешься со своим? — вскричала Нефернеферура.
— Я им пользуюсь. Я беременна.
Она считала, что это чудесно. Придворные дамы в прихожей не могли знать причин взрывов смеха за дверью.
Предложение Нахтмина, высказанное во время ужина с Аем и Анкесенамон, не было забыто. Впрочем, сначала это семя пустило ростки в голове Ая. Если немного поторопить судьбу и заставить Хоремхеба исчезнуть, то во дворце все могли бы спокойно спать. Следовало отплатить этому гнусному вояке его же монетой, совершить нечто подобное тому, что сделал беззаветно преданный ему Хнумос, который пытался сжечь конюшни, чтобы устранить Итшана.
Оставалось решить, как действовать лучше всего. Проще устранить человека, делая сообщниками приближенных к жертве людей, так как им известны привычки этого человека. Зачем искать наемных убийц в чужих землях, ведь они о враге мало что знают. Но в Мемфисе жизнь протекала совершенно иным образом, нежели в Фивах, и, несмотря на отчеты шпионов Маху, о жизни Хоремхеба было известно совсем немного.
По этой причине Ай назначил встречу с отвергнутой военачальником супругой, своей дочерью Мутнехмет. Разговор он начал издалека.
— Моя любимая дочь, — сказал он, когда та вошла в царский кабинет и они обнялись, приветствуя друг друга, — ты знаешь, моя ноша весьма тяжела. Из-за постоянных забот не остается времени на то, чтобы побеседовать с тобой и узнать о твоем состоянии с тех пор, как ты покинула и супруга, и Мемфис. Я об этом очень сожалею.
Она бросила взгляд на Шабаку, стоящего в почтительной позе около двери; она хорошо знала нубийца,
темную часть души своего отца, и знала также отца: назначив ей встречу, он преследовал тайную цель. Она не сомневалась в отцовской привязанности, но ей также был хорошо известен его талант махинатора.
Слуги придвинули кресло для дочери царя. Ай сел, и дочь последовала его примеру. Шабака остался стоять. Слуги подали разбавленное абрикосовым соком вино.
— Мне нужен твой совет, Мутнехмет. Когда ты видела Хоремхеба в последний раз?
Итак, ее отношения с Хоремхебом были темой, которая интересовал ее отца.
— Шесть месяцев назад у судьи при разделе имущества.
— Какие у тебя теперь чувства к нему?
— Отец! — произнесла она тихо, с упреком.
Он удивленно поднял брови.
— Что случилось, дочь моя?
— Отец, мы же достаточно хорошо знаем друг друга. Давай перейдем к сути дела. Хоремхеб — твой заклятый враг, и для тебя ничего не значат мои чувства к нему. Но вот что я могу сказать: несмотря на то что он отец двоих моих детей, уверяю тебя, этот человек — бешеный ястреб. Он не только твой враг, но также враг династии. Ты желаешь его уничтожить, не так ли?
Ай посмотрел на свою дочь, затем подавил смешок, сделав вид, что у него першит в горле, и опустошил свой кубок. Он бросил взгляд на Шабаку и заговорил, повысив голос:
— Я уже говорил Анкесенамон, что у меня иногда возникает такое чувство, будто таланты нашего рода перешли к женщинам.
Казалась, это ее озадачило. К женщинам? Без сомнения, он имел в виду Тиу и Нефертити. Тиу, вправду, была властной женщиной, но что касается Нефертити, Мутнехмет никогда не считала, что она обладала каким-либо талантом. Она и ее странный муж с женским телом думали, что могут изменить мир, но они только то и делали, что будоражили его.
— Да, — подтвердил Ай, — хочу его уничтожить. Не знаю лишь, как лучше это сделать. Что ты думаешь о его новой супруге?
— Танцовщице? Глупая болтушка. Как только он привел ее в дом, она испугалась своей тени. Хоремхеб вызывает у нее ужас. Не рассчитывайте использовать ее как сообщника. Однажды она скажет «да», но уже на следующий день — «нет».
— Яд?
Мутнехмет бросила на своего отца долгий взгляд. Яд. Может, уже хватит отравлений?
— Вся прислуга в его доме завербована в солдаты. Хоремхеб для них бог. Они с нетерпением ждут, когда он захватит власть, ибо даже повара мечтают стать полководцами.
Она покачала головой.
— Нет, не яд, они неподкупны.
— Но должно же быть какое-то действенное средство, — настаивал Ай. — В любых доспехах есть изъян. Можно ли представить это как бунт в армии? Группа командиров решила покончить с врагом царствующей власти?
— Можно представить, — ответила Мутнехмет. — Но и только. Все командиры, которых я видела в доме, преданы ему душой и телом.
В это время как раз вмешался Шабака:
— А ивриты? Их около двадцати тысяч. Судьба у них незавидная. Они могли бы поднять мятеж. Хоремхеба направили бы на его подавление, и во время боя или в другой подходящей ситуации он получил бы фатальный удар.
Мутнехмет повернула голову к нубийцу. Шабака снова подтвердил неисчерпаемость своего вероломства.
— Мне не ведомо, возможно ли это, — сказала она.
Но, очевидно, эта идея понравилась Аю.
— Да, — сказал он, наконец, — именно этот вариант годится. Ивриты.
Он предложил дочери позавтракать с ним, но после того, как она ушла, сразу же велел вызвать Маху и Нахтмина.
12
ДРЕССИРОВЩИКИ КРЫС
Не произнося ни слова, Маху, Нахтмин и Шабака слушали Ая до тех пор, пока он не закончил излагать свой план. Во вторую половину дня было душно, клубились облака пыли, досаждали мухи. Это был обычный час послеобеденного отдыха, и то, что царь его нарушил, вызвало недовольство и даже беспокойство.
— Это превосходная идея, — заявил Нахтмин. — Как только конфликт начнет разрастаться, мы направим туда войска, и тогда…
— Но с чего начать? — спросил Ай. — Из того, что мне приходилось слышать, можно сделать вывод, что этих ивритов не так-то легко приручить.
Только один раз за свою жизнь он побывал в Нижней Земле, сопровождая Эхнатона. Тогда они прибыли на корабле, как и вся царская свита. Знакомство со второй половиной царства ограничилось лицезрением украшенного по случаю коронации храма Атона в Аварисе, бывшей столице, основанной «принцами-пастухами».
[40] Он не припоминал, чтобы ему когда-нибудь доводилось видеть хоть одного иврита. Ему они были знакомы только по отчетам охраны и жалобам управляющих провинциями. Этих людей действительно отличал мятежный дух, поэтому сбор налогов в местах их проживания часто заканчивался столкновениями. Более того, они с презрением относились ко всем богам, кроме своих. Богиня-луна, которую они называли то ли Син, то ли Суен, щедро одаривала страстью ивритов, которую они берегли для отца солнца, Шамаша. Короче, люди одержимые и бунтовщики.
Эти кочевники прибыли следом за захватчиками, с которыми у них был общий язык, с ними они поддерживали дружеские отношения. После того как захватчиков изгнали, ивриты упорно продолжали приходить в Нижнюю Землю пасти свои стада, но возвращались в свои земли далеко не все. Некоторые из них затем присоединились к своим соплеменникам, которые остались в Двух Землях после изгнания захватчиков. По некоторым оценкам численность ивритов достигала двадцати тысяч. Большей частью это были скотоводы, хотя при необходимости их использовали как рабов — к примеру, при осушении каналов или строительстве административных зданий.
— Это вполне осуществимо, — заявил Маху, — но дело требует деликатного подхода. Мы внедрим в их среду своих агентов, которые заставят ивритов поверить, что их всех собираются вербовать на строительство нового храма и что в случае уклонения у них будут отбирать стада и дома. Это вызовет в их среде волнение, и с помощью двух или трех умельцев можно будет подбить их на мятеж. В Мемфисе этому только обрадуются, ведь ивриты там как бельмо на глазу, — с тех пор как они приняли участие в мятеже Апихетепа.
[41] И тогда нам останется только одно — послать войска на подмогу гарнизону Мемфиса.
— Как быстро можно осуществить этот план? — спросил Ай.
— Потребуется от десяти дней до двух недель. Одна неделя уйдет на вербовку агентов, так как необходимо найти тех, кто умеет говорить на иврите, а также на распространение слухов, другая — на разжигание страстей и организацию восстания.
— Немедленно приступайте к делу. И никому ни слова вне этих стен, — приказал Ай.
— Надо будет также позаботиться о том, чтобы Хоремхеб не использовал восстание для своих целей и не попытался захватить Мемфис, — заметил Нахтмин.
— Это — твоя забота, — сказал Ай.
Шабака улыбался — как кот, который только что загнал крысу в ловушку.
Господин Гемпта, землевладелец, проживающий в окрестностях Авариса, походил на большого — очень большого — ребенка. Вспыльчивого ребенка. Он размахивал перед городским головой, весьма представительным мужчиной, пухлым кулаком.
— Я попрошу, — говорил он задыхаясь, — чтобы этих людей изгнали из принадлежащих мне земель. Они разводят крыс! Хуже того: они их ловят и выпускают ночью в мои поля!
Обвинение казалось странным, если не надуманным. Голова удивленно поднял брови и спросил:
— Это действительно так?
— Я знаю, что говорю! Они посылают крыс пожирать мой урожай!
Даже предположение, что ивриты настолько ловки, что могут принудить лесных мышей разорять поля своего знатного соседа, было столь смехотворным, что это не стоило обсуждать. И все-таки у городского головы не было права выставить такого важного человека, как Гемпта, у которого были дружеские связи с влиятельными людьми в Аварисе и в самом Мемфисе.
— Какая выгода ивритам гнать крыс уничтожать твой урожай?
— Потому что они бедные, а я — богат, все просто! Из-за ненависти и зависти! Тебе же известно, что они все бедные? Кто видел когда-нибудь богатого иврита? Я требую, чтобы ты их изгнал из прилегающих к моему имению территорий.
— Чтобы я мог выполнить твои пожелания, ты должен подать иск. И еще нужны доказательства. Если ты их предоставишь, суд примет решение в твою пользу, и вот тогда я мог бы вмешаться и вынудить этих людей перенести свое поселение в другое место.
— Как я могу предоставить доказательства? Если направить людей в их поселение, они временно перестанут заниматься преступной деятельностью!
— Тогда я ничего не могу сделать, — заявил голова.
— Стало быть, моего слова не достаточно?
— Боюсь что нет.
— Ну а твоей власти? — спросил оскорбленный Гемпта.
— Мои полномочия определяет царская власть и закон, а не желания жителей царства. Если бы я принял неоправданные меры, притесняя ивритов, такие как снос домов, у них были бы основания требовать судебного разбирательства, меня сместили бы с должности или заставили бы отстроить им жилища в том же месте.
— Ты хочешь сказать, что ивриты подали бы иск против головы Авариса? — воскликнул Гемпта, еще больше распаляясь.
— Именно так. Такое бывает.
— Но это же чужеземцы, нищие!
— Да, но они имеют право взывать к нашему правосудию, — ответил голова, начиная сердиться.
Ему хватало банд разбойников, которые рыскали в округе, чтобы еще реагировать на бессмысленные требования, больше напоминавшие капризы сумасшедшего. Жалобщик уставился на голову, выпучив глаза. Голова поймал его взгляд, подумав при этом о том, как много времени уйдет на бальзамирование этой свиной туши.
— Очень хорошо, — надменно произнес Гемпта. — В таком случае я сам улажу это дело!
Голова подумал, что в этом районе Нижней Земли, вдали от столиц и царской власти, такие люди, как его собеседник, воображают себя вершителями правосудия. Неужели не сохранилось в памяти то время, когда знаменитый Апихетеп готовил масштабную операцию по захвату Мемфиса, чтобы заставить провозгласить себя царем Нижней Земли? Правда, ивриты тогда были наемниками.
— И как ты намереваешься его уладить?
— Я все улажу, — повторил Гемпта, вставая. — Я, между прочим, не собираюсь позволять подобной сволочи скармливать мои поля крысам! Я поеду в Мемфис и буду просить командующего Хоремхеба прислать отряд солдат, чтобы уничтожить их жилища.
«Это могло бы послужить причиной столкновения», — подумал голова. В окрестностях Авариса проживало около двадцати тысяч ивритов, и не было ни малейшего сомнения в том, что они придут своим на помощь. Надеяться можно было только на то, что командующий благоразумно постарается отделаться от этого взвинченного Гемпты.
С оскорбленным видом жалобщик ушел. У него была утиная походка, так как он не мог близко ставить свои ноги, настолько они были большими.
Голова надеялся, что за ночь этот толстощекий человек перестанет бредить. Он ошибся: двумя днями позже начальник охраны Авариса сообщил ему, что двое людей Гемпты пытались глубокой ночью поджечь дома в ивритском поселении, находящемся недалеко от имения их хозяина, но лай собак вовремя разбудил ивритов. Встревоженные появлением людей с факелами в руках, они подняли на ноги весь поселок. Людей землевладельца месте с хозяином изрядно поколотили, причем один из них так и остался лежать на земле — скорее мертвый, чем живой. На этот раз ивриты подали жалобу, и начальник охраны обязан был арестовать Гемпту и бросить его в тюрьму за поджог.
У городского головы округлились глаза.
— Ты бросил Гемпту в тюрьму?
— На рассвете я отправился туда со своими людьми. Слуги пытались оказать сопротивление, пришлось их утихомирить палками.
Дело принимало серьезный оборот.
— К тому же мне стало известно, что Гемпта отправил посланца в Мемфис к командующему Хоремхебу.
Голова скорчил гримасу. Начальник охраны выполнил свой долг, но все же было досадно, что он отправил в тюрьму столь знатного человека.
— В каком он состоянии?
— У него на теле кровоподтеки и глаз заплыл. Он еще жалуется, что ивритская собака искусала ему ягодицы. Я разрешил лекарю оказать ему помощь в тюрьме.
— Ты хорошо сделал. Но будет еще лучше, если ты прикажешь его отпустить.
— Ты думаешь?
— Он поднимет на ноги весь наш город а затем и Мемфис.
— Но этот тип безумен!
— Без сомнения. Но у него дружеские отношения с теми, кто наверху.
На следующий день Аварис гудел от слухов. Якобы освобожденный из тюрьмы Гемпта обратился к командующему Хоремхебу с просьбой снять с должности городского голову Авариса, который отказался защитить знатного человека от притязаний ивритов.
Голова пожал плечами: командующий Хоремхеб был начальником гарнизона Нижней Земли и не обладал властью, позволяющей снять с должности чиновника. Все это знали, за исключением, разумеется, Гемпты. Но это лоснящееся жиром чудовище могло оказать давление на наместника и все же отомстить городскому голове, который не внял бредовым требованиям господина из провинции.
Голова не сомневался, что этим дело не закончится.
13
ПРОВОКАЦИЯ, СМУТА И ПОТАСОВКА
Прибыв в Нижнюю Землю и выдавая себя за бригадиров строителей и каменщиков из Мемфиса, провокаторы Маху, разумеется, даже не мечтали о столь подходящей для бунта обстановке. Ивритские поселения, расположенные вокруг Авариса, были полны слухов, более или менее приукрашенных, о попытке слуг землевладельца по имени Гемпта поджечь дома местных жителей. Агенты Маху старались подлить масла в огонь, рассказывая о том, что их начальники, царские зодчие, планируют завербовать всех ивритов на строительство громадного храма Амона. Когда ивриты начали еще громче кричать, возмутители спокойствия стали говорить о том, что в случае уклонения от работы на стройке их скудное имущество будет конфисковано властями Авариса.
Опасаясь худшего, ивриты не могли больше спать. Власти Нижней Земли уже десятилетия использовали их в качестве рабов. Чаша терпения была переполнена. Ночами в своих жалких харчевнях они обсуждали, как защитить себя. Чтобы усилить возбуждение, агенты Маху указали жителям поселения на грозящую им опасность: войска гарнизона Мемфиса под командованием известного военачальника Хоремхеба непременно вмешаются, чтобы подавить мятеж. Военная хитрость возымела действие, и звучавшие речи переросли в бахвальство:
— Да из этого полководца я сделаю корм для моих собак!
— Конники гарнизона не способны даже крысу убить!
И еще много чего говорили. Наиболее здравые умы советовали вооружиться на случай конфликта. Но чем? Было очевидно, что ивриты не могли купить себе оружие из бронзы, которое надо было заказывать сирийским оружейникам, — стоило оно очень дорого. К тому же они получили бы его не раньше, чем по прошествии нескольких недель. На что они могли надеяться, так это на изготовленные ими самими луки. Оставалось узнать, было ли у них на это время, а ведь еще надо было изготовить стрелы. Прозвучали также высказывания в пользу деревянных пик с закаленными в огне остриями, которые предназначались для того, чтобы проткнуть сразу нескольких солдат.
Провокаторы лицемерно охали.
На вторую ночь лихорадочных тайных приготовлений один иврит, имеющий опыт в военных сражениях, предложил взять штурмом арсенал казарм Авариса. Предложение было принято единогласно. Провокаторы притворились, что возмущаются готовящимся против царской власти мятежом, тогда как это было их целью. Им стали угрожать, требуя держать язык за зубами. В конце концов будущие повстанцы, удовлетворенные, отправились спать.
На следующий день в соседние ивритские поселения были отправлены посланцы с сообщением о наборе добровольцев для создания отряда в пятьсот человек, способного взять штурмом арсенал Авариса. Близилась к концу первая неделя подготовки к мятежу, и агенты Маху начали падать духом: обсуждение грядущих событий продолжалось. Они считали, что подготовят мятеж за три дня, но вот уже прошло почти две декады,
[42] а кроме воплей и битья себя в грудь ничего не происходило.
Наконец отряд был собран, назначены командиры, но однажды вечером провокаторов заключили под стражу: по иронии судьбы их подозревали в измене, в том, что они собираются сообщить обо всем властям Авариса. Их пообещали отпустить после захвата арсенала.
Итак, они стали ждать, находясь под охраной нескольких крепких матрон и мальчишек, вооруженных кинжалами и дубинками, потягивая пиво, дабы убить время.
На рассвете они увидели, что налетчики возвращаются, вооруженные копьями, луками, стрелами и несколькими щитами, которые они захватили в арсенале, охраняемом несколькими сонными солдатами. Воспользовавшись суматохой, провокаторы сумели убежать. Наконец-то их план сработал! Они прыгнули в лодку и поплыли вверх по Великой Реке — в сторону Фив.
В семь часов утра взволнованный писец, выполняющий поручения в казармах, поднял городского голову Авариса с постели: ночью разбойники ограбили арсенал. Какие разбойники? Писец этого не знал, так как застигнутые врасплох солдаты не смогли четко описать нападавших. Итак, ситуация была тревожной: налетчики похитили пятьдесят одно копье, большое количество колчанов и стрел, двадцать шесть кривых сабель, сорок два кинжала и одиннадцать щитов. Кому и для чего понадобилось это вооружение? Голова послал гонца в Мемфис для того, чтобы предупредить наместника и командующего армией Хоремхеба. Было очевидно, что готовилась крупная операция: дерзкое ограбление арсенала позволяло предположить худшее.
Через два с половиной дня из Мемфиса прибыл отряд пехотинцев, затем подтянулся второй отряд, состоящий из пеших конников, и еще отряд лучников. Командиром трех отрядов был состарившийся на военной службе некто Соадж. Все же конница не спешила на подавление бунта в провинции, о котором, впрочем, ничего не было известно.
Маху холодно принял агентов: вот уже двадцать три дня, как они отбыли с заданием, а явились с новостями только сейчас! Кроме того, почему возвратились все трое? Достаточно было отправить одного в качестве нарочного. Итак, им было приказано отправляться обратно, чтобы оперативно, сменяя друг друга, информировать Фивы о происходящем.
Они добрались до Авариса почти в то же самое время, что и три отряда Хоремхеба. Узнав, что командовал этими отрядами Соадж, агенты Маху были разочарованы; на самом деле именно командующий должен был возглавить эту операцию, а не простой командир.
К тому же положение мятежников было неясным. Никому из властей Авариса и Мемфиса не было известно, кто похитил оружие, для чего налетчики намереваются его использовать, а особенно когда и где. Обладание красивым и добротным оружием придало ивритам еще больше решимости и пыла, но теперь возник вопрос, против кого и где они должны сражаться.
В этих обсуждениях прошла еще одна неделя. Агенты Маху не могли придумать, о чем же им сообщать в Фивы.
И в этот момент на сцене появился опечаленный Гемпта.
Узнав об ограблении арсенала, он застыл от ужаса. Убежденный в том, что это оружие попало в руки ивритов, — а в этом он действительно был прав — он лишился сна. Ибо именно во сне он отчетливо увидел себя мелко изрубленным саблей царя, находящейся в руках чужестранца. Он упрекал себя за то, что не последовал примеру других землевладельцев, которые создали отряды добровольцев, чтобы защищаться от разбойников. Он побывал у этих знатных особ и умудрился нагнать на них страху. Он уверял их, что ивриты намереваются атаковать следующей ночью. Что касается городского головы, то ему нечего было опасаться, так как он, по сути, не обладал реальной властью. Гемпте удалось собрать в одном месте десять человек, в другом пятерых, а в третьем — двенадцать добровольцев.
В конце концов в его распоряжении оказался отряд, состоящий из пятидесяти молодцев, готовых в любой момент броситься в рукопашный бой.
Около тысячи шагов отделяло его владения от поселения ненавистных ивритов, которых он так и не сумел изгнать. После ночной атаки на арсенал ивриты настороженно за ним наблюдали, не упуская ни малейшей детали. Увидев землевладельца, возвращавшегося с пятьюдесятью крепкими мужчинами, они решили, что час битвы близок.
И неизбежное случилось: Гемпта повел своих наемников в атаку. В поселении, как было известно, едва насчитывалось три или четыре сотни душ, включая женщин и стариков. Полсотни решительно настроенных мужчин вполне смогли бы вырезать всех и таким образом совершить то, что не удалось сделать несколько недель назад. На этот раз Гемпта укрылся в своем имении, ожидая результата операции.
Однако дело приняло неожиданный поворот: когда полсотни наемников толстощекого с факелами и дубинами в руках были уже около поселения, на них набросились ивриты, вооруженные не только кольями, но и копьями и саблями, похищенными из арсенала. Нападающие растерялись: Гемпта их не предупредил, что они будут иметь дело с вооруженными людьми, им сказали, что придется поколотить лишь нескольких инородцев, их детей и жен, затем поджечь дома. Они сразу же сообразили, что их дубины ничто по сравнению с копьями и саблями.
Впрочем, они недолго пребывали в растерянности: когда ивриты были уже в ста шагах, они повернули обратно и пустились наутек. Во время бегства они роняли факелы, и поля занялись огнем. Ивриты их преследовали до имения землевладельца, где наемники, очевидно, намеревались найти убежище.
Из окна Гемпта наблюдал за поражением своего отряда, а затем понял, что ему грозит настоящая катастрофа: поля — в огне, а ивриты окружают дом. Он побежал в конюшню, сел верхом на лошадь и помчался галопом в сторону Авариса. Он прибыл к спящей казарме и своими криками разбудил не только охранника, но и командира Соаджа, так как окно помещения, в котором он спал, выходило во двор.
— Война! Война! — вопил Гемпта.
Выслушав его бессвязный рассказ, Соадж заключил, что действительно что-то случилось и надо вмешаться. Впрочем, он уже начинал скучать и задавал себе вопрос, что он делает в Аварисе. На побудку и построение в походную колонну ушло более часа. Дав необходимые указания младшим командирам, Соадж решил с двумя из них и Гемптой отправиться к месту столкновения.
Минут через десять они увидели линию огня на горизонте, что свидетельствовало о масштабе ущерба: горели не только поля Гемпты, пламя перекинулось на имение. Гемпта чуть не сломал себе позвоночник, спешившись с лошади. Охваченный ужасом, он побежал к своему дому. В то время как слуги, выстроившись цепочкой, старались потушить пожар, передавая в сосудах воду из канала, заплаканные члены его семьи сгрудились на берегу, а наемники рассеялись по полям.
Никого подозрительного поблизости не было. В любом случае, никого не было видно, так как ночная тьма и дым скрывали все вокруг. Не было ни малейшего признака того, о чем вопил Гемпта. Но никто не собирался упрекать этого беднягу, который потерял все свое имущество по своей же вине. Командир Соадж был растерян. Не заметив поблизости врага, он все же решил дождаться прибытия своих людей.
Через час отряды прибыли на место, и забрезживший рассвет открыл панораму пожарища. Воняло сгоревшей соломой.
— Но как все это началось? — спросил Соадж наемников Гемпты: они имели плачевный вид, волоча свои дубинки по земле.
— Ближе к полуночи мы отправились к этим сыновьям Апопа, чтобы с ними поквитаться, но они оказались хорошо вооружены, и нам пришлось бежать. Они нас преследовали до дома нашего хозяина, но вскоре пламя охватило дом…
— Значит, именно вы напали на ивритов?
— Ну… да, — признался один из наемников, как будто это было вполне естественным делом — идти выяснять отношения к ивритам глубокой ночью.
— Но почему загорелись поля? — спросил Соадж.
— От факелов, — ответил другой наемник. — Убегая, мы роняли их на землю.
— А зачем вы брали с собой факелы?
— Чтобы поджечь поселение ивритов, командир!
Соадж и другие командиры были оглушены таким заявлением.
— Значит, именно ваши факелы подожгли поля и дом вашего хозяина?
Гемпта заметил, что командир расспрашивает его людей, и пошел к ним.
— Насколько я понял, — сказал ему командир устало, — ты послал своих наемников поджечь поселение ивритов, но они пытались защититься и стали преследовать твоих людей. Те побросали свои факелы на поля. Таким образом, именно твои люди виновны в пожаре! И более того, ты явился ко мне глубокой ночью, крича, что началась война. Это ивриты должны были меня призывать на помощь! К счастью, ты не мой командир; ты хотел сжечь поселение, а сжег собственные поля и свой дом!
Гемпта был ошеломлен. Он понял, что военные настроены против него.
— Они преследовали моих людей вплоть до моего имения! — заорал он.
— Разумеется! Вы ведь пошли поджигать их поселение! Я поступил бы точно так же!
— У них было оружие! — кричал Гемпта. — Спроси моих людей.
— Какое еще оружие?
— Огромные сабли, копья…
Это была единственная полезная информация из всего услышанного: если ивриты действительно угрожали наемникам оружием, тогда становилось ясно, кто разграбил арсенал. Соадж решил обыскать ближайшие ивритские поселения и начал с того, которое Гемпта пытался сжечь.
Ивриты наблюдали за происходящим издалека. Впрочем, они предусмотрели визит военных. Золото и оружие были закопаны в землю или спрятаны в разных местах. На виду остались только дубинки. Ивриты спокойно смотрели, как военные роются в их жилищах и дворовых постройках. В это время женщины занимались своими делами: пекли хлеб, чистили лук, рыбу и ощипывали домашнюю птицу.
— Что произошло этой ночью? — спросил командир у старейшины поселения.
— Приблизительно в два часа после полуночи мы увидели, что наемники господина Гемпты направляются к нам с факелами в руках. Это не походило на мирный визит, — заявил флегматичный старик. — Они уже пытались поджечь наши дома несколько недель тому назад. Мы их обратили в бегство. Они побросали факелы на поля своего хозяина.
— Как же вы их обратили в бегство?
— С помощью вот этого, уважаемый командир, — ответил старик, схватив лежавшую в углу дубинку.
Соадж рассмотрел ее: было очевидно, что это не оружие из арсенала, а сделали ее из ветки смоковницы.
Военные обыскали поселение и не нашли ни одного копья, ни одной сабли. Обыски еще трех ивритских поселений оказались столь же безрезультатными. Измученный, считая землевладельцев Нижней Земли сумасшедшими, командир решил со своими тремя отрядами возвращаться в Мемфис.
Во время привала в Аварисе ему нанес визит городской голова. Соадж не скрыл от него своего гнева:
— Страна дураков, господин голова! Отправляем три отряда из Мемфиса, чтобы решить проблемы землевладельца, у которого в голове долгоносики — ведь он хотел поджечь поселение ивритов!
— Ты пришел сюда вовсе не ради какого-то землевладельца, командир, — возразил голова. — А потому что разграбили арсенал.
Соадж отреагировал на это заявление, как взнузданный конь.
— Я не нашел этого оружия, — сказал он, вдруг успокоившись.
— Это меня беспокоит.
Когда командир со своими отрядами покинул Аварис, спокойствие возвратилось в город. Жители хохотали до упаду над тем, что Гемпта сжег дотла свой урожай, желая уничтожить поселение ивритов.
Агенты Маху сконфуженно признали, что их хитроумный план полностью провалился. Они долго спорили по поводу того, кому из них отправляться в Фивы с неутешительными новостями.
В своих бредовых предположениях Гемпта не так уж и ошибался: ивриты действительно умели приручать крыс, правда, в переносном смысле. Они сберегли свое оружие. Когда они вспомнили о слухах относительно принудительной вербовки, ставшими причиной паники, провокаторы были уже далеко.
Но был еще один господин в Нижней Земле, у которого однажды появится потребность в них как в наемниках и в их оружии, чтобы бросить вызов царской власти. Желание влиятельных господ из провинции избавиться от покровительства Фив приводило к смене многих правителей.
14
«У ТРОНА ВСЕГДА ТОЛЬКО ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ»
При известии о неудаче у Нахтмина и Маху вытянулись лица. Была упущена благоприятная возможность, и усилия за два прошедших месяца пошли насмарку.
Они собрались в приемной царя и только приступили к слушанию отчета посланца, как вошел Первый советник Усермон, которого Ай в конце концов тоже посвятил в тайный план. Узнав об исходе дела, он разочарованно застонал.
— Я не раз предупреждал, — пробормотал Ай. — Этими ивритами не так легко манипулировать.
Шабака отметил, что дело еще не завершено: раз ивриты настроились на войну, надо было поторопить зодчих и мастеров, чтобы те на самом деле начали вербовать этих людей на рытье траншей и изготовление кирпичей. В общем-то, пока единственным их врагом был взбалмошный землевладелец, но никогда не поздно возобновить операцию. Но Ай ничего не хотел знать. Он отказался от намерения поймать в ловушку Хоремхеба.
Возраст брал свое: с течением времени у стариков действительно в одних уголках мозга зарождается стойкое упрямство, а в других — отвращение, и все это кардинально меняет мир вокруг них. Однако Ай приближался к своему шестидесятилетию, будучи в прекрасной физической форме.
Иными словами, ненависть к Хоремхебу его грела и даже взбадривала.
Посланец ушел, и четверо первых лиц царства удрученно посмотрели друг на друга. Шабака, в свою очередь, тоже на них посмотрел, впервые осознавая, насколько шатко положение людей во власти.
«У трона, — подумал он, — всегда только три точки опоры».
Уже шел четвертый месяц беременности Анкесенамон и заканчивался третий месяц беременности Нефернеферуры. Последняя раздумывала над тем, стоит ей радоваться или огорчаться по поводу того, что ее спокойствие то и дело нарушалось чувственными атаками супруга. Сеферхор посоветовал Нахтмину пока прекратить осаду, поскольку цель была достигнута.
Речи Тхуту о вечной печали Исис потерялись в повседневной суете. Анкесенамон снова ощутила подъем, какой испытывала во время своей первой беременности. Но тогда она действительно чувствовала себя царицей. Она носила в своем чреве будущее царства. Она воплощала в себе царскую власть и питала ее своей сутью. Она была важнее, чем сам царь. Традиционно считалось, что царской властью могла наделить только женщина.
Она поручила Сати провести все необходимые обряды, чтобы ее беременность прошла успешно. Кормилица торопилась делать различные пожертвования, общие и частные, чтобы обеспечить успешные роды своей госпоже; она выполняла указания жрецов Туерис, богини родов, а также следовала требованиям тайного обряда слуг Кобры.
По мнению Сати, предзнаменования были замечательными: появились на свет три молодые кобры.
Чтобы узнать, кто родится — девочка или мальчик, — Анкесенамон решила прибегнуть к старому способу. Надо было взять два мешка, один с ячменем, а другой — с пшеницей. Каждый день она мочилась на них и следила, где раньше появятся ростки, — у ячменя или у пшеницы. Ячмень пророс раньше. Согласно этой примете у нее должен был родиться мальчик.
Она стала подыскивать ему имя.
Отныне вместе с Нефернеферурой они проводили большую часть своего времени в обществе их сестры Нефернеруатон и придворных дам. Как только спадала жара, часам к пяти пополудни, они устраивались на террасе, куда слуги подавали им свежие напитки, фрукты и хлебцы.
Лев все более бесцеремонно вел себя со своей хозяйкой, и теперь он дремал, сунув морду под ее платье, потому что оно защищало его от назойливых мух.
— Как ты чувствуешь себя теперь? — спросила царица свою беременную сестру однажды, в редкие минуты их доверительного общения, когда придворные дамы были заняты разными делами — готовили оригинальные смеси напитков или беседовали с хранительницами гардеробов о пустяках, например о париках, румянах и ароматизированных кремах.
Было очевидно, что Нефернеферура сильно изменилась. На ее лице отражались глубокие внутренние переживания, она как бы светилась изнутри. Изменилась походка: она больше не волочила ноги с печальным видом и немного сутулясь, а двигалась величаво и неторопливо. Если порой она и позволяла себе капризы и проявление высокомерия, то теперь это случалось намного реже, нежели необычные для нее проявления любезности. Она уже почти не грубила, и это наводило на мысль, что она взялась за ум.
— Да, я изменилась, и я еще к этому не привыкла, — сказала Нефернеферура.
— Ты по-прежнему ненавидишь Нахтмина?
Та лукаво взглянула на сестру.
— Нет, — призналась она. — Я скучаю, когда он не спит со мной. Мне нравится, когда он кладет руку мне на грудь или живот. Для чего нужен мужчина?
— Мужчина как мать.
Ответ удивил Нефернеферуру.
— Как это?
— Он согревает, он пробуждает тело женщины и защищает ее от опасностей. Еще он дает жизнь. — Она вспомнила о Пасаре и продолжила: — Женщине всегда нужен его сок…
Нефернеферура размышляла над этим объяснением, ее лицо выражало недоумение. Взяв себя в руки, она спросила:
— А ему для чего нужна женщина?
— По той же причине. И потому что мы бережем и взращиваем ту жизнь, которую он дает.
Царевна вздохнула.
— Стало быть, мы всегда жалели нашу мать?
Анкесенамон ответила не сразу.
— Мать — да.
— Но не царицу? — уточнила Нефернеферура, уловив оттенок смысла произнесенной фразы.
Анкесенамон посмотрела на сестру.
— Да, она прежде всего была царицей, и лишь потом женщиной. Когда мне исполнилось десять лет, она перестала быть для меня матерью.
— Это когда она уехала в Северный дворец обустраиваться?
Анкесенамон покачала головой.
— В тот момент, когда в жизни нашего отца появился Сменхкара, не так ли? Но скажи мне тогда, что наш отец нашел в Сменхкаре? Ведь он не был для него матерью!
— Нет. Я часто об этом думала и пришла к заключению, что Сменхкара был для него одновременно и сыном, и супругой.
Снова Нефернеферура недоумевала.
— Как это? — воскликнула она.
От приступа смеха у Анкесенамон подпрыгивали груди.
— Надо знать человеческую природу, моя дорогая. У мужчин также есть влагалище. Только они не могут рожать.
Увидев, что Нефернеферура возмущена, она искренне расхохоталась. Наконец Нефернеферура заставила себя улыбнуться.
В это время к ним подошла Нефернеруатон с компаньонками, и они прервали свой разговор.
Раз в месяц Майя ездил в Мемфис по делам царства: он проверял, каков доход от земледелия, скотоводства и от речных промыслов. Его не интересовало, известно ли было Аю и этому невыносимому Маху о тайной цели этих визитов, впрочем, ему до этого не было дела. Он навещал их злейшего врага, командующего Хоремхеба. Если бы Ай или этот нахал Усермон когда-нибудь упрекнули его в этом, он сослался бы на необходимость обсуждать расходы на содержание гарнизона Нижней Земли с его начальником.
Он прибыл в казармы Мемфиса, уважительно поздоровался со стражниками и прошел в кабинет Хоремхеба. Командующий принял его как обычно — крепким поцелуем, объятиями и рассыпался в любезностях.
— Какие новости? — спросил Хоремхеб, когда они сели.
— Я думал, это ты мне что-то расскажешь. Что это за история с налетом на арсенал в Аварисе?
Хоремхеб казался удивленным.
— Как ты об этом узнал?
— В последнее время Ай не однажды проводил в своем кабинете совещания с Маху и Нахтмином, на которые меня не приглашали, вероятно, скрывая что-то от меня. Кроме того, на этих совещаниях не присутствовали писцы, следовательно, не велись записи, чтобы никто не мог узнать о чем шла речь, порывшись в отчетах. Но я обнаружил в архивах Маху последнее сообщение городского головы Авариса об ограблении местного арсенала. Было похищено большое количество оружия.
— Знаю, — отозвался Хоремхеб. — Я посылал командира Соаджа разобраться с этим, но он не нашел похищенного оружия. Землевладелец из тех мест клянется, что именно ивриты его похитили, но этот человек явно не в своем уме, и нет доказательств того, что в арсенале побывали ивриты. В любом случае, не вижу связи между этим сообщением и тайными совещаниями у Ая. Ясно только то, что Ай сомневается в тебе.
Об этом Майя уже знал. Что касается истории с похищением оружия, то объяснения Хоремхеба его, казалось, не убедили.
— Но кто же тогда похитил оружие?
— Землевладельцы восточной части Нижней Земли почти все содержат отряды наемников для защиты от набегов разбойников из Сирии. Я не удивлюсь, если какой-то из этих отрядов совершил это ограбление.
— Ты проводишь расследование?
Хоремхеб пожал плечами.
— Оружие, скорее всего, спрятали, закопав в землю. А у меня нет полномочий, чтобы обыскивать землевладельцев, среди которых у меня есть друзья. Впрочем, я не думаю, что стоит придавать этому такое значение. Около пятидесяти сабель, несколько копий и щитов мало что изменят в случае столкновений.
— А что твои разведчики?
— После смерти Хнумоса я не занимался армейской разведкой.
Он настойчиво расставлял сети для ловли мух.
— Царица и ее сестра все еще беременны? — справился он.
— Да.
— Это также мало что изменит.
Он напоминал бегемота, который, рано или поздно, все равно погрузится в воду. Майе он показался слишком невозмутимым. Неужели этот человек полагает, что никто не помешает ему захватить власть?
Он воспринял размышления командующего с недоумением. Ему было известно, что излишняя самоуверенность свойственна властным людям и часто приводит к фатальным последствиям.
15
СРАЖЕНИЕ У ДЕРЕВНИ «ПЯТЬ СВИНЕЙ»
Вероломный Шабака никак не мог успокоиться. Он не мог примириться с провалом операции в Аварисе и безостановочно думал о том, как выправить ситуацию.
Вскоре после того, как взбудораживший ивритов посланец сообщил плачевные новости, Ай решил побеседовать с нубийцем по поводу того, что его волновало.
— Шабака, надо, чтобы ты соблазнил царевну Нефернеруатон.
— Твое величество, мой господин, я хотел бы обсудить с тобой безотлагательное дело.
— О чем ты?
— Как вытащить Хоремхеба из его логова.
— Снова за свое!
— Твое величество, мой господин, необходимо обезопасить еще не родившихся наследников.
— Ах да! Ты заботишься о том, что случится с тобой, когда меня уже не будет, негодяй. Как ты собираешься это осуществить?
— Подослать к нему секретного агента, который расскажет о том, что именно мы подстрекали ивритов похитить оружие из арсенала Авариса. Якобы мы хотим поднять ивритов против него. На этот раз информацию передаст один из его командиров.
Его это наверняка зацепит, и он сам отправится проверять достоверность сообщения. Тебе известно, какая у него тяжелая рука, поэтому ивриты взбунтуются. Тогда у Нахтмина появится основание вмешаться.
Какое-то мгновение Ай не подавал голоса. Только Шабака мог задумать столь опасный план. Затем он улыбнулся.
— Это план сумасшедшего. Но давай все же вызовем Маху, чтобы узнать его мнение.
Маху пришел в восторг. Он оценил хитроумный план Шабаки.
— Я предлагаю внести некоторые изменения. Мы передадим информацию Хоремхебу с помощью Майи.
На этот раз уже Шабака расхохотался.
— Как мы за это возьмемся? — спросил Ай.
— Есть несколько вариантов. Один из них — сообщить информацию секретарю Майи, якобы случайно.
— Он часто бывает у госпожи Несхатор в «Милом доме», — вмешался Шабака. — Если твое величество, мой господин, действительно позволит мне это сделать…
— Никаких письменных свидетельств! — посоветовал Ай.
— Ничего, кроме нашептывания! — поклялся Шабака.
Три дня спустя секретарь Майи входил в «Милый дом». Он посещал его обычно три или четыре раза в месяц, в основном когда получал жалованье. Он вдохнул запах сандала, которым был пропитан большой зал, еще более красиво украшенный, нежели в прежнем здании, с опорами изящной формы, выразительными фресками на темно-красных стенах. Он огляделся и увидел человека, лицо которого ему показалось очень знакомым. Так оно и было, потому что тот кивнул ему и улыбнулся. Секретарь направился к нему.
— Прости, не могу вспомнить, где я тебя видел, — сказал он.
— Я — помощник Маху, мы иногда видимся с тобой во дворце. Могу ли я предложить тебе отведать этого вина?
Секретарь принял предложение и устроился возле своего сотоварища. Вино лилось рекой, слышался хруст хлебцев в миндале. Сидящие за столом обменивались впечатлениями, глядя на танцовщиц. Затем пошли комментарии по поводу обитателей соседнего учреждения. Так как разговор стал доверительным, принялись обсуждать своих господ.
— Надеюсь, твой хозяин не такой требовательный, как мой, — сказал помощник Маху. — Что за гиена этот человек!
— Они все похожи. Наш тоже не дает ни минуты передышки. У него пятеро писцов, но иногда нет времени отойти спокойно справить нужду.
— Мой, кажется, полностью занят Хоремхебом, и не понятно почему. Этот командующий находится в Мемфисе и не занимается нашими делами.
Секретарь Майи насторожился.
— Занят Хоремхебом? — переспросил он.
— У меня иногда такое впечатление, что они хотят его сместить с должности. Пусть бы уже сместили, но только бы больше не говорили об этом!
— С чего ты так решил?
— Вот слушай, накануне… Но ты никому это не расскажешь?
— Я тебе клянусь.
— Накануне ивриты ограбили арсенал Авариса. В результате…
Секретарь Майи впитывал каждое слово своего собеседника.
— Именно они его ограбили?
— Конечно! Ты разве не знал? Представляешь, Усермон отказался проводить операцию, чтобы забрать это оружие! Он пришел к Маху и сказал: «Пусть у них остается это оружие. Они его повернут против Хоремхеба». Ух ты, взгляни на эту девицу! Посмотри, какая она гибкая!
Он вытащил из кошеля медное кольцо и бросил его девушке, которая поймала его животом. В зале расхохотались, и помощник Маху тоже хохотнул.
— Ты уверен в том, о чем говоришь? — спросил секретарь Майи.
— В чем? Что я втюрился в эту девицу? С благословения Мина…
— Нет, в том, что ты мне рассказал об ивритах.
— Как я могу быть в этом не уверен? Я как раз помогал писцам сдавать в архив их отчеты.
— Есть ли отчет об этом?
— Очевидно нет, как я тебе уже говорил. Но ты же не
проболтаешься?
— Нет, я же тебе пообещал.
— Скажи мне, почему у них такое отношение к Хоремхебу? — спросил помощник Маху, стараясь, чтобы это прозвучало наивно.
— Они думают, что он хочет захватить власть.
— Хоремхеб? Захватить власть? — переспросил помощник, вытаращив глаза.
Секретарь Майи ломал комедию до того момента, пока их разговор не прервался выступлением рассказчика, который заполнял паузы дерзкими и веселыми историями.
Большие водяные часы дворца показали полночь в тот момент, когда двое мужчин, выйдя из дома танцев, расставались, причем помощник Маху притворялся пьяным. Секретарь Майи направился к себе домой, другой же, смеясь украдкой, стал стучаться в дверь соседнего учреждения.
На следующее утро Ай и Шабака с трудом сдерживали улыбки — Майя отправился в Мемфис. Военная хитрость сработала. Оставалось ждать, что за этим последует.
Сойдя на берег, взволнованный Майя сразу же явился к Хоремхебу.
— Ты видишь! — заявил он командующему, удивленному тем, что тот так скоро появился у него. — Я был прав!
Майя сообщил ему о секретах, которые его секретарь выудил у помощника Маху. Хоремхеб побледнел. Он долго не мог промолвить и слова, а потом стал бормотать:
— Эти дураки думают, что могут меня свалить с помощью нескольких крестьян, вооруженных саблями!
— В любом случае тебе лучше отправиться туда незамедлительно, чтобы забрать это оружие.
— Я пошлю туда Соаджа.
— Ты его уже туда посылал. Его там высмеяли.
— Хорошо, тогда я поеду туда сам.
На следующий день ивриты из поселения, которое называлось «Пять Свиней», — без сомнения, такое название поселению дали, чтобы досадить его жителям, так как те с отвращением относились к нечистой свинине, — вели свою скотину на водопой, когда увидели столбы пыли на дороге из Авариса. Вскоре они различили несколько всадников, затем следовавший за ними отряд конников и огромное количество пехотинцев. Всего воинов было, по крайней мере, человек пятьсот. Этот отряд свернул с основной дороги и стал двигаться по той, что проходила вдоль канала.
— Выкапывайте оружие! — крикнул один из ивритов.
— Нет! — приказал другой, постарше. — Мы покажем оружие только в крайнем случае. Давайте сначала узнаем, чего они хотят.
Все вышли из домов и стали смотреть, как приближаются солдаты.
Командир отряда остановился перед первыми домами поселения. Ивриты его не знали. Это был Хоремхеб. Он держал в руках кнут. Его окружала дюжина всадников.
— Где оружие, которое вы украли из арсенала Авариса? — закричал он.
Пожилой человек, который дал приказ не выкапывать оружие, вышел вперед.
— Один из твоих командиров, господин, уже приезжал несколько дней тому назад, он расспрашивал об этом оружии. Он перерыл все в поселении и не нашел его.
Удар кнутом — и пожилой человек упал.
— Оружие! — вскричал Хоремхеб.
— У нас нет оружия! — крикнул в ответ тот, который предлагал его выкопать.
Снова удар кнутом, но этот иврит оказался ловким: он ухватил на лету кожаные ремешки, сплетенные из буйволиной шкуры, и дернул так сильно, что вырвал кнут из руки Хоремхеба. Тот едва не упал с лошади. Выхватил из-за пояса саблю. Иврит хлестнул лошадь, та встала на дыбы, и снова Хоремхеб едва удержался на ней. Подтянулись конники. Бесстрашный иврит хлестнул по двум-трем лошадям. Началась схватка, сопровождавшаяся криками и лошадиным ржанием, не говоря уже о воплях женщин и детей. Конники пытались попасть в поселение, обогнув его. Человек сто ивритов загородили проезд, вооружившись кольями, которыми можно было вспарывать животы лошадям. Покрепче усевшись на лошади, Хоремхеб бросился на человека, который вырвал у него кнут, и попытался нанести тому удар саблей. Мужчина нагнулся, и удар пришелся по стволу пальмы. В ответ мужчина ударил еще раз хлыстом по лошади, и на этот раз Хоремхеб свалился с нее.
— Конники! К бою! — выкрикивал он, понимая непригодность лошадей на узких улочках поселения.
Конники уже сражались с ивритами врукопашную. Каждый раз, когда они пытались проткнуть кого-то из ивритов, один обороняющийся хватал копье двумя руками, а другой вонзал в конника заостренный конец кола.
Уже не пытаясь взобраться на лошадь, Хоремхеб преследовал человека с кнутом. Вдруг тот повернулся, и в тот момент, когда нападавший уже наседал на него, он нанес ему удар хлыстом, который заставил военного завыть от боли. В этот раз Хоремхеб чуть было не лишился сабли.
— Огонь! — закричал он в ярости. — Поджигайте!
Но ни у кого из его людей с собой не было ничего, чтобы можно было развести огонь. Кто-то из конников попытался взять головешку в очаге одного из домов. Хозяйка дома убила его ударом дубины.
У конников было неудобное оружие — копья были слишком длинными для улочек поселения. Единственная надежда была на поддержку пехотинцев. Вместе они сумели бы буквально раздавить всех ивритов. Между тем пехотинцы не могли приблизиться к месту схватки, а несколько ивритов, взобравшись на крыши своих домов, осыпали нападавших градом камней. Три конника уже лежали на земле — то ли мертвые, то ли раненые, никто не знал. Всадники повернули обратно и спешились.
Хоремхеб заметил старика с пикой в руках, которого он видел вначале. Он бросился на него и проткнул его саблей. Старик рухнул, хрипя. Тогда тот, что был с кнутом, подскочил к Хоремхебу и хлестнул его по лицу. Почти ослепленный, так как кровь стекала со лба, командующий был обязан своим спасением двум конникам, которые образовали вокруг него щит своими телами.
— Пехотинцы! — кричал Хоремхеб.
— Они пытаются пробиться, командир.
Они действительно пытались. Но в этот момент поднялся какой-то шум. Откуда он шел, Хоремхеб не мог понять. Он стер липкую кровь с глаз, но не мог разобраться, что происходит.
— Командующий! Подходят другие ивриты! Мы — в ловушке! Надо бежать.
Действительно, из соседнего поселения прибежали ивриты, поднятые по тревоге гонцами. Царские воины оказались в тисках, и пехотинцам, прибывшим последними, теперь предстояло с ними столкнуться. Сколько их было? На равнинной местности это невозможно было определить. Хоремхеб мчался по полю. Он видел своих пехотинцев, которых прибывающие рубили саблями. Они были вооружены саблями — в этом не было сомнения! И копьями. Началось массовое убийство. Царские войска численностью пятьсот человек сражались против более чем тысячи ивритов. Надо было организовывать отступление.
— Сюда! — кричал Хоремхеб Соаджу.
Он узнал свою лошадь, которая бежала от места схватки, и сумел, превозмогая боль, взобраться на нее. Всадники последовали за ним. Хоремхеб выстроил часть конников в полукруг, который выпуклой частью был направлен на все прибывавших ивритов. Он хотел прикрыть отступление конников и пехотинцев.
Солнце закатилось за горизонт. Последние солдаты царского войска бежали в направлении Мемфиса.
Хоремхеб вернулся в Мемфис мертвенно-бледный.
Потерпел поражение! Он! И исхлестан! По лицу! Он задыхался от ярости.
16
УНИЖЕНИЕ И НЕНАВИСТЬ
Ивриты направили в Фивы делегацию. Она прибыла туда в то же время, что и шпион Нахтмина, принимавший участие в атаке на ивритов у «Пяти Свиней». Ему повезло — он остался в живых.
Царское войско потеряло убитыми восемьдесят два человека из пятисот бойцов.
На радость Аю и Нахтмину, Хоремхеб все же угодил в капкан. Хуже было то, что он из него выбрался, но он был унижен, и это было им на руку. Престиж царской армии пошатнулся.
Ивриты просили у царя защиты от жестокого преследования и разорения их скромного имущества, что безосновательно происходило на протяжении вот уже нескольких недель.
Действовать надо было быстро, чтобы не упустить шанс спровоцировать второе сражение, в котором, согласно пожеланиям Ая, Нахтмина, Усермона и Маху, было бы возможно нанести Хоремхебу фатальный удар. Следовало также предупредить новое наступление Хоремхеба, ибо, с одной стороны, оно давало ему шанс стать победителем, что подняло бы его престиж, а с другой — могло помешать Нахтмину принять участие в схватке, в которой он намеревался уничтожить врага трона.
Все это требовало определенной сноровки, осторожности и чрезвычайной хитрости. От исхода этого хитроумного дела, возможно, зависела судьба династии. Нахтмин, Усермон, Маху и Шабака были вызваны в царский кабинет на срочное совещание.
Ивритов выпроводили, заявив, что подозрение в ограблении арсенала Авариса с них не снято и что необходимо провести расследование.
На рассвете Нахтмин выступил во главе трех тысяч солдат, имея при себе письмо царя, адресованное командующему Хоремхебу. Суть послания сводилась к тому, что царь встревожен неудачными действиями полководца, направленными против ивритских поселений, неопределенностью мотива таких действий, а также тем, что причиной поражения стало недостаточное количество сил. В связи с этим царь и главнокомандующий, царевич Нахтмин, считают необходимым восстановить порядок в Нижней Земле, как и престиж царской армии. Для этого направляются в помощь войска под командованием полководца Нахтмина.
Нахтмин с отрядом в шестьсот конников отправился по суше. Шестьсот лучников и восемьсот пехотинцев спускались к Мемфису на кораблях. Были мобилизованы все имеющиеся в наличии корабли, в том числе и очень старый корабль «Слава Амона», перестроенный для переброски войск. Нахтмина неотступно терзала мысль, что Хоремхеб уже предпринял очередное опрометчивое наступление.
Но это было не так. Укрывшись в казармах Мемфиса, Хоремхеб переваривал горечь поражения, которая постепенно превращалась в яд. Он обдумывал свою тактическую ошибку. Почему это он решил, что налет военных на ивритскую деревню сродни загородной прогулке? Местности он не знал, поэтому не предусмотрел того, что не сможет задействовать там конников. Небывалый случай: он потерял почти шестую часть своего войска и столько же своего престижа. Более того, ненависть к ивритам усиливалась из-за странного Гемпты, который теперь, очевидно, торжествовал. С руин своего наполовину сожженного имения толстощекий наблюдал за бойней и вскоре приехал в Мемфис выразить сочувствие Хоремхебу в связи с провалом его операции. В действительности Гемпта лишь разжигал гнев командующего, доказывая тому, что причиной неудачи стали недостаток информации и плохой совет городского головы, подставившего его тем самым под удар.
Хоремхеб тайно готовил новое наступление, которое раз и навсегда решило бы проблему ивритов. Досадно было то, что численность этих людей доходила до двадцати тысяч, а он располагал в общей сложности только десятью тысячами солдат, именно столько было войска во всей Нижней Земле. Кроме того, у ивритов не было крепости, падение которой означало бы их поражение: они жили на обширной территории — от Буто до Атрибиса и Мендеса, в тридцати поселениях, подобных «Пяти Свиньям», где всякое столкновение могло завершиться в их пользу. Хуже того: в нескольких поселениях проживали добропорядочные и верные царю ивриты. Вторжение могло повлечь за собой смерть невинных людей и таким образом спровоцировать мятеж большего масштаба.
Прибытие Нахтмина в Мемфис на колеснице под грохот труб и завывание рожков, под здравицы толпы, собранной вдоль большой дороги, не убавило, конечно же, ярости Хоремхеба. «Выскочка», как он прозвал Нахтмина, направился с визитом вначале к наместнику царя в Нижней Земле, чтобы сообщить тому о решении монарха, и только затем прибыл в казармы.
— Вот наконец прибыл главнокомандующий для наведения порядка, — прокомментировал военачальник, еще не отошедший от испытанного у «Пяти Свиней» унижения.
Посланный в кабинет Хоремхеба часовой едва успел доложить о визите царевича Нахтмина, главнокомандующего царской армии, как тот уже вошел.
Пару секунд они смотрели друг на друга в упор: молодой и сильный Нахтмин, олицетворяющий власть, и Хоремхеб — его подчиненный, старший по возрасту, толстый, с выступающим брюхом, более того, плохо выбритый, так как раны на лбу, щеках и шее, полученные собственным кнутом, еще не зарубцевались. Один раз в два дня ему приходилось терпеть обжигающую боль от бритвы, так как по уставу щеки должны быть выбриты. Нахтмин, впрочем, заметил характерные следы от удара кнутом, но не опустился до того, чтобы расспрашивать об этом собеседника. Хоремхеб вытянулся перед своим начальником.
— Добро пожаловать в твои владения, командующий, — зловеще пробормотал он и поклонился.
— Да будет счастливым твой день, — ответил Нахтмин на приветствие ледяным тоном.
Он обернулся и приказал закрыть дверь. У Хоремхеба было время заметить шестерых стражников-тебаинов, стоявших снаружи. Нахтмин принял необходимые меры предосторожности. Писец поспешил придвинуть кресло главнокомандующему, и тот сел.
— Садись, — бросил он Хоремхебу.
Это была мелочь, но Хоремхеб воспринял сказанное как унижение: начальник разрешал подчиненному сесть.
— Что же случилось, командующий? — спросил Нахтмин, держа в руке свиток папируса с царским письмом.
Увидев свиток, Хоремхеб догадался, что послание адресовано ему.
— Из тайных источников, — начал он, — мне стало известно, что это ивриты разграбили арсенал в Аварисе. Я взял людей…
— Пятьсот человек, — уточнил Нахтмин. — Насколько достоверно это сообщение?
— Такие сведения всегда сомнительны. Но эти оказались достоверными, так как я сам видел оружие в руках ивритов из первого поселения, как и у тех, кто прибежал к ним на помощь. Так вот. Действительно, я взял с собой пятьсот человек и отправился в поселение «Пять Свиней». Жители оказали сопротивление. Из-за тесноты мы не смогли ни задействовать конников, ни воспользоваться копьями. Бой длился больше часа. Несколько сотен ивритов примчались из соседних поселений и напали на пехотинцев с тыла. Нам пришлось отступить.
— И мы потеряли восемьдесят два человека.
Хоремхеб поднял брови: «выскочка» был хорошо информирован.
— Стало быть, ты не знал, на какой местности предстоит сражаться, — заметил Нахтмин.
Хоремхеб сжал челюсти. Неужели этот дурак собирался преподать ему урок тактики? Да, он совершил ошибку, надо было вначале послать кого-нибудь на разведку.
— Я не ожидал, что эти люди набросятся на нас с такой свирепостью.
— Сначала надо было выбрать позицию, — с укором сказал Нахтмин. — Как раз это мы собираемся сделать. Если выдвинутые нами требования не дадут результата, за дело возьмутся лучники.
Он протянул Хоремхебу царское письмо.
— Значит ли это, что я снят с должности? — спросил Хоремхеб.
— Читай.
Хоремхеб плохо знал грамоту, но не хотел вызывать писца для чтения послания, так как это было бы унизительно для него; он развернул папирус и с большим трудом попытался его прочесть. Дойдя до конца, он поднял глаза. Он получил выговор, еще один после того, который был ему объявлен за неудачный план Хнумоса. Значит, власти Фив в настоящий момент избегают открытого конфликта.
Вскользь он размышлял о представившейся ему возможности избавиться от Нахтмина прямо на этом месте. Он мог бы накинуться на него и задушить своими руками, а затем сообщить командирам, что царевич Нахтмин скончался из-за остановки сердца. Но такая военная хитрость вряд ли бы сработала. Командиры царевича потребовали бы предъявить труп своего начальника, и тогда начался бы кромешный ад. К тому же Нахтмин предусмотрительно оставил шестерых стражников у двери: они ворвались бы сюда при первом его крике. Этот смелый шаг мог бы стоить Хоремхебу жизни. Пришлось проглотить свой гнев, ожидая более подходящего случая его излить.
Только на следующий день, когда лучники и пехотинцы выгрузились с кораблей, Нахтмин смог собрать все две тысячи солдат, которыми он командовал. Он возглавил армию, за которой следовал Хоремхеб и собранное им войско. Таким образом, около двух тысяч четырехсот человек были задействованы для захвата поселения, численность жителей которого составляла от четырех до пяти сотен.
Ивриты с тревогой наблюдали за подходом войска, почти втрое большего предыдущего. Несомненно, военные были решительно настроены на то, чтобы изъять оружие. Ивриты не стремились к новому сражению, памятуя, что в последнем бою смерть настигла их предводителя Нахума, уважаемого старейшину, и еще тринадцать человек. То, что они убили намного больше царских солдат, доставляло ничтожное утешение. Они не желали постоянно жить в состоянии войны.
Но на этот раз военные применили другую тактику. Конники выстроились на расстоянии в двадцать шагов один от другого, окружив поселение. Затем один из командиров направился к поселению, пожелав говорить со старейшиной, и заявил ему о том, что его господин, командующий Нахтмин, дает полчаса по маленьким песочным часам на возвращение оружия, похищенного в Аварисе. В противном случае царские войска перевернут в поселении все и отдадут жителей в рабство. Сказав это, командир возвратился к своим.
Нахтмин надеялся на сопротивление.
Хоремхеб тоже. Он этого желал так сильно, поскольку задумал точно такой план, как и его соперник: убить его во время боя. Кроме того, он, наконец, смог бы проучить того человека, который хлестнул его по лицу кнутом, его, мужественного героя царской армии! Где бы тот ни был, он отыщет его — хоть в аду — и с наслаждением проткнет саблей насквозь!
Ивриты спорили между собой.
Через десять минут именно тот мужчина, который стегнул Хоремхеба его собственным кнутом, вышел вперед вместе с двумя другими ивритами. Они несли ту часть похищенного оружия, которая досталась их поселению.
Хоремхеб как раз находился возле Нахтмина, когда узнал иврита. Значит, именно он теперь был главным вместо сраженного саблей старика. Хоремхеб оскорбительно обругал его, крутясь на своей лошади, затем метнул в своего обидчика свирепый взгляд; тот выдержал его взгляд.
— Главнокомандующий! — прорычал Хоремхеб в то время, как три иврита передавали оружие пехотинцам, назначенным Нахтмином. — Главнокомандующий! — повторил он громогласно, указывая пальцем на иврита. — Я требую, чтобы этого человека убили!
Нахтмин холодно посмотрел на него.
— Командующий, мы здесь затем, чтобы забрать оружие, а не мстить безоружным после проигранного боя.
Снова пришлось Хоремхебу проглотить свой гнев.
Главный ивритов пошел к своим, даже не обернувшись.
За два дня девять ивритских поселений, расположенных в окрестностях Авариса, возвратили почти полностью оружие, похищенное из арсенала. Не доставало только двух копий, одного щита, пяти кинжалов и двух сабель. Нахтмин решил, что не стоит считать это
casus belli.
[43]
Трудно представить более напряженную ситуацию: с одной стороны, Нахтмин уже не мог рассчитывать на мятеж, с другой — Хоремхеб публично был унижен «выскочкой», преподавшим ему урок тактики в присутствии его солдат, изъяв оружие, которое Соадж не смог найти, и отказавшись отомстить обидчику Хоремхеба.
Дело «Пяти Свиней» было закрыто. В результате взаимная ненависть военачальников лишь усилилась.
Как и предполагалось, действия военных вызвали нездоровые настроения в близлежащих деревнях. Проклятия сыпались в адрес ивритов, армии, городского головы, Гемпты, других землевладельцев и личных врагов одних и других; они остановились только тогда, когда «добрались» до царя. Как всем известно, вовремя стычки двух человек на улице порой достаточно одного неосторожного слова, чтобы началась общая потасовка.
На следующий день один крестьянин, шедший по дороге, разделявшей два хутора под названием Баран Пта и Щедрый Инжир, обнаружил труп кота Бубе, который был священным животным хутора Баран Пта и всегда выходил победителем в битвах с крысами, лесными мышами, полевыми мышами и другими грызунами. Крестьянина это не только поразило, но и возмутило. Вместо того чтобы идти своей дорогой, он взял останки Бубе и принес их в хутор. Вокруг него собрались люди. Женщины причитали, дети плакали.
— Но кто же мог убить Бубе?
— Слушайте, что тут не понятно? Это люди из Щедрого Инжира. Они всегда завидовали тому, что у нас такой кот.
— Они пытались его утащить, а он вырвался.
— Бедный Бубе, его никогда не заменит ни один кот!
— Ему и года не было, он уже гонял мышей… И вот уже шестнадцать лет, как он ни на мгновение не оставлял этого занятия!
— Эти люди из Щедрого Инжира просто преступники!
— Они убили наше божество! Это им не сойдет с рук!
— Да уж, надо высказать им наше возмущение!
И пятеро человек, вооруженные палками, отправились в Щедрый Инжир, решив разобраться с обидчиками.
— Это вы убили Бубе?
— Кого?
— Нашего кота!
— Почему вы решили, что мы убили вашего кота?
— Потому что вы завидовали нам!
— Вы считаете, что мы станем завидовать из-за кота?
— Разумеется, но вы в этом не признаетесь! Вы — не только преступники, но еще и трусы!
В центре хутора образовалась толпа.
— Но чего хотят эти люди? — спросила одна матрона из Щедрого Инжира.
— Они утверждают, что мы убили их кота.
— К черту их кота! Пусть убираются долой!
Один человек толкнул другого, тот ответил тем же, затем они обменялись тумаками, и вскоре завязалась драка. Люди из Барана Пта уже были изрядно помяты, когда к ним присоединились их соседи. Дрались все, даже матроны и мальчишки. В ход пошли палки. Два человека были убиты. Женщины кричали, возможно, предполагая, что их вопли подбадривают мужчин. Две женщины катались по земле, царапая друг друга.
Несколько стражников, оказавшихся поблизости, заметили драку и подбежали к драчунам. Удары хлыстом сменились ударами палками, и крики стражников перекрыли крики женщин. Спокойствие было восстановлено, но какой ценой! Сломанные конечности, шишки, разорванные губы, глаза с черными кровоподтеками. По приказу начальника стражников люди из Барана Пта отправились, наконец, в свой хутор.
Тело Бубе было поручено бальзамировщику, который отнесся к усопшему с тем трепетом, который всегда вызывали эти магические животные. Ему устроили красивые похороны и поместили в маленькую гробницу с трогательной надписью: «Бубе, божественному благодетелю хутора Баран Пта, который посвятил свою жизнь защите хлебных амбаров людей».
Никому не пришло в голову, что несчастный герой мог умереть от старости или его ужалила гадюка в тот момент, когда он схватил за хвост лесную мышь.
17
ОБОЛЬЩЕНИЕ ЦАРЕВНЫ
Хитрость не удалась. Хоремхеб остался невредим. Во всяком случае, появление Нахтмина послужило мятежнику из Мемфиса напоминанием о том, что власть находится в крепких руках.
Ай все свое внимание перенес на беременных женщин — царицу и царевну. Согласно расчетам, первая должна была родить в начале сезона Сева, а вторая — двумя или тремя декадами позже.
Советовались с астрологами: роды царицы должны пройти в благоприятный час, тогда как роды царевны доставят некоторые хлопоты.
Анкесенамон попросила Сати проверить по ее таблицам, как пройдут роды ее сестры. Кормилица отказалась.
— Речь не идет о событии, которое зависит от нашего желания или которое требует принятия решения, госпожа. Беременность твоей сестры протекает нормально, но если мы вдруг узнаем из таблиц что-то нехорошее, тогда именно твоя беременность окажется в опасности.
Однажды, когда Итшан был в отъезде, чтобы скоротать время ожидания, Анкесенамон организовала прогулку по Великой Реке на борту «Славы Амона», как бывало в прежние времена. Она взяла обеих своих сестер и, разумеется, Сати, но не решилась отрывать от дел ни Нахтмина, ни Ая даже на один-единственный день. Ай вместо себя прислал Шабаку.
— Это находчивый человек, — сказал он, — и умеет быть интересным собеседником, когда надо.
Нефернеферура сначала смотрела на нубийца пренебрежительно, а Нефернеруатон — с плохо скрываемым любопытством. Что же было поручено доверенному лицу царя?
Между тем Шабака сумел развеселить пассажиров, прикрепив к корме корабля двух бумажных змеев на очень длинных тоненьких веревках; один был сделан в виде кобры, длинный хвост которой комично извивался в воздухе, а второй изображал ястреба. Даже речников это рассмешило.
Затем он стал рассказывать разные веселые истории. Одной из таких историй была басня про кота, которому стало известно, что мыши льстят ему, чтобы не быть съеденными. Но когда кот поссорился со своей женой, та, устав слушать похвалы в адрес неверного супруга, сама съела певиц.
Слегка опьяненная от свежего ветра и качки, Сати расхохоталась, Анкесенамон погрузилась в воспоминания. «Как жаль, что нет с нами Пасара, — подумала она. — Ему бы понравилась эта басня».
Внезапно она очнулась и вспомнила, что Пасар умер.
Снова нахлынули воспоминания о прогулках и о том, как маленький Тутанхамон расспрашивал Сменхкару, где заканчивается Море. У нее навернулись слезы на глаза. Сати это заметила и склонилась к ней.
— Больше думаем о мертвых, чем о живых, — прошептала она.
Снова она тосковала по детству, своему и близких людей. Возле нее не было детей, но скоро у нее с сестрой будут дети. Детство убивали взрослые. Она устала от этого мира стариков и военных, обезумевших от власти. Впервые она ощутила тоску по своему отцу, который посвятил жизнь созерцанию Атона, и этому подростку, который пришел ему на смену и не смог избежать яда стариков. А эти последние считали, что обладают мудростью, в то время как пребывали во власти безумия.
Ей приятно было слышать неожиданный смех Нефернеруатон, когда Шабака рассказывал какую-то прибаутку. Вопреки легкомыслию и невыносимым капризам баловницы, младшая сестра сохранила остатки былой веселости, когда она разыгрывала сценки со своими куклами и деревянными собаками.
Итак, у Шабаки получалось ее укрощать. Но сможет ли он ее соблазнить?
Лишь бы это все хорошо закончилось!
По возвращении в Мемфис Анкесенамон велела своему распорядителю заказать лучшим ремесленникам столицы изготовление статуи ребенка Хоруса, приложившего свой перст к улыбающимся губам. Она хотела установить эту статую в своих покоях.
По прошествии десяти дней распорядитель представил ей изображение бога — сына Исис и Осириса — в алебастре, высотой до предплечья, с инкрустацией глаз гематитом. Скульптура вызвала у нее восторг, и она приказала щедро заплатить мастеру и сделать в ее спальне нишу, где бог стоял бы на возвышении с постоянно зажженным светильником у подножия.
Сати также выразила восхищение скульптурой.
— Это племянник Сета, — сказала она мечтательно.
— Сета? — переспросила Анкесенамон.
— Сет — брат Осириса. Раньше говорили, что он должен был скрываться в болотах и у бедняков Нижней Земли, потому что его дядя хотел убить наследника трона. Иногда Сет его находил, и два бога сражались, но Сет никак не мог убить своего племянника. Наконец разгневанный Хорус отправился жаловаться в суд богов…
Анкесенамон слушала, словно зачарованная. Сати знала все истории обо всех богах; она была неистощимой рассказчицей, поэтому ее хозяйке приходило в голову, что та была не только поклонницей Кобры, но еще и жрицей.
— И что потом?
— Хорус пожаловался, что Сет лишил его царства. Он выиграл дело и получил в качестве компенсации Нижнюю Землю, в то время как Сет оставался богом Верхней Земли.
— Но это несправедливо! — воскликнула Анкесенамон.
— Так же думали и жрецы. Поэтому изменили историю. Хорус стал наследником всего царства. Теперь они говорят, что Сет правит только воздухом, и что именно он заставляет гром греметь.
— Сет не должен быть богом, — уверенно заявила Анкесенамон.
— Однако он таковым является, — заметила Сати. — И его могущество безгранично. Он — бог, который устраняет тех, кто слишком силен и будоражит мир, как змей Апоп, и тех, кому не достает бдительности, как его брат Осирис. Мудрость Сета жестока, но необходима.
Анкесенамон пребывала в задумчивости. Был ли потаенный знак в том, что Ай был родом из Нижней Земли, царства Сета? И что именно он ускорил смерть Эхнатона, Сменхкары и Тутанхамона? И почему Сати думала, что мудрость Сета необходима?
От этих вопросов у нее началось головокружение. К счастью, пришло время умываться, а затем — ужинать.
Сияя улыбкой и драгоценностями, окутанная облаком благовоний, госпожа Несхатор вышла навстречу своему именитому гостю. Шабака пришел в сопровождении юноши. «Очаровательный молодой человек», — решила хозяйка «Милого дома». Неожиданно мелькнула мысль: уж не изменились ли у Шабаки предпочтения? Где нашел он столь красивого и изысканного молодого человека? Когда она провожала своих гостей к лучшим местам в заведении, в уединенный альков, у нее появилось подозрение относительно пола компаньона Шабаки.
Инстинкт сводницы ее не обманул. Таинственным компаньоном была не кто иная, как Нефернеруатон.
Сумев развлечь царевну во время путешествия, что уже было нерядовым событием, Шабака на этом не остановился. Догадавшись о том, что она скучает во дворце, постоянно видя одни и те же лица, он убедил ее познакомиться со своим царством. Уже сама идея была для нее сюрпризом: царевны покидали пределы дворца только в торжественной обстановке и со свитой — того требовал протокол, чтобы не давать им соприкасаться с реальностью. Но недозволенная шалость приятно возбуждала.
— Переоденься в одежду простолюдинки без каких-либо украшений, и мы потихоньку выйдем через помещение для прислуги, — посоветовал Шабака.
Позаимствовав платье у одной из своих служанок, она в сопровождении нубийца вышла за пределы величественного двора. Приключение началось со знакомства с рынком. Вид лавок и лотков, всевозможные запахи и простые лица словно перенесли ее в другой мир. Грубые выражения, крики, сочные шутки, вульгарные жесты, а больше всего смех, откровенный или плутовской, от которого тряслись животы у мужчин и груди у женщин, — все это изумляло ее. Она совсем не понимала этих людей. Во дворце так не смеялись; улыбались высокомерно или искусно трещали, и это было признаком принадлежности к высшей знати. И любой слуга, который осмеливался на шутку или оскорбление, столь же жесткое как те, что мимоходом ловил ее слух, был бы выпорот за это.
— Эй, мужик, твоя задница, как у бегемота, загородила мне проход! Здесь же не приливной канал!
Или еще:
— Это ты мне говоришь, дерьмо крысиное? Ты что, родился от трусливого пердуна?
У нее округлились глаза, а Шабака хохотнул.
— Они всегда так разговаривают? — спросила она.
— Царевна, это не боги, а люди.
Она была поражена. На рыбном рынке они остановились у прилавка торговца, который продавал порезанное маленькими кусочками поджаренное мясо. Шабака купил порцию и подал ей на большом листе инжира. Потом она пробовала рыбу, показывая удовольствие, как это делают кошки. Тогда торговец жареным мясом сказал Шабаке:
— Мой друг, твое сердце не устоит перед этой красотой!
У Шабаки на лице появилась понимающая улыбка, и царевна расхохоталась.
— Цветок, упавший с неба! — усердствовал торговец жареным мясом. — Он мог бы заставить лотосы устыдиться!
На обратном пути одна продавщица цветов, широко улыбаясь, подала лотос Нефернеруатон.
— Дарю тебе его, небесная красавица. Ты осветила мой день.
Шабака все же дал той монету.
— Тебе не показалось, что она меня узнала? — спросила царевна.
— Она тебя никогда не видела, царевна. Это было искреннее восхищение твоей красотой.
День за днем Шабака водил Нефернеруатон по кварталам золотых и серебряных дел мастеров, скульпторов. В квартале ювелиров он подарил ей браслет из слоновой кости, инкрустированный камнями, которые переливались всеми цветами радуги, в зависимости от того, под каким углом на них смотреть. В квартале скульпторов мастер предложил Нефернеруатон сделать ее портрет со следующим комментарием:
— Она прекрасна, как царевна!
На следующий день Шабака пошел за миниатюрным бюстом из терракоты, который явно имел портретное сходство с царевной, причем мастер передал очень тонко черты ее лица. Она поставила бюст в своей спальне и долго не сводила с него глаз.
Анкесенамон заметила, что царевна позволяет себе шалости, уликами стали браслет из слоновой кости, который та не снимала с запястья, и маленький бюст, занявший место в ее комнате. Она разгадала, что инициатором проделок был Шабака, но воздержалась от упреков. Любая защита не была излишней в том положении, в котором оказалась она со своими сестрами, а защита Шабаки была бы, конечно, очень кстати. К тому же, если родится ребенок от нубийца, это стало бы щитом, защищавшим от…
От чего? Смутное беспокойство, возникавшее иногда по ночам, облачалось не только в гнусную маску Хоремхеба, но и в маску Сета. Разговор с Сати о небесном враге тех, кто был слишком силен или слишком слаб, не шел у нее из головы.
Дело дошло до того, что Нефернеруатон уже не могла больше обойтись без Шабаки; он стал для нее недостающим развлечением, лукавым гением, который сорвал пелену, скрывающую мир. До поры до времени он не осмеливался ни на малейший неуместный жест, но возникающие во время их прогулок ситуации сближали их порой больше, чем это могло бы случиться в благоприятных условиях дворца. Однажды, оказавшись в середине толпы, они были прижаты друг к другу, лицом к лицу. В другой раз он должен был схватить ее за талию, чтобы отдернуть от мчащейся прямо на них тележки. Он испытывал волнение, хотя в свои тридцать четыре года ему довелось подмять не одну девицу. И она ничем не выражала неприязни.
Если его эбеновая маска с красноватым отливом иногда делала его обезьяноподобным, то, с другой стороны, точеные, почти аскетичные черты лица придавали ему обольстительную загадочность. Ни разу не взглянув на себя в зеркало, он об этом ничего не знал, так как только один цирюльник заботился о его лице. Но ему было ясно: он не внушал отвращения Нефернеруатон.
Они становились все ближе друг к другу. Вскоре уже осталось мало мест, которые он мог бы предложить посетить, чтобы вызвать любопытство у царевны. Однажды он спросил у нее:
— Царевна, ты повидала свое царство днем. Не желаешь ли увидеть его ночью?
— Ночью? — удивилась она. — Но тогда весь мир спит.
— Не весь, — ответил он с улыбкой. — Есть такие, кто только и делает, что развлекается.
— Каким образом?
— Музыка, танцы, созерцание гармоничных или сладострастных вещей, или и того и другого.
— Но как я выйду ночью? Только шлюхи выходят ночью.
— Ты можешь переодеться в мужчину.
— В облике мужчины! — воскликнула она, смеясь над собственным испугом, уже соблазнившись этим крайним нарушением правил. — Но моя грудь?
— Царевна, ее можно так перетянуть широкой лентой, что она расплющится, и никто ничего не заметит.
Предложение ее увлекло.
— И куда мы пойдем?
— Туда, где развлекаются мужчины.
Вот в таком виде — без румян, только с подведенными сурьмой глазами и с синеватыми мазками на подбородке и щеках, чтобы имитировать свежевыбритую кожу, Нефернеруатон появилась в «Милом доме».
18
ЛУКАВСТВО И БОГИ
Из глубины алькова она одинаково жадно смотрела на мужчин в зале и на танцовщиц на сцене. Дважды перебродившее имбирное вино, которое госпожа Несхатор берегла только для именитых клиентов, усилило ее ощущения.
О, эти мужчины с глазами, пылающими желанием!
И эти тонкие, как стрекозы, танцовщицы, которые исполняли безумные акробатические трюки! И эта непристойность! Да, рабы во дворце были нагими, но они не извивались так, разве что в руках своих хозяек, когда сон бежал от этих бездельниц. По большим праздникам во дворце также выступали танцовщицы, но плутовки становились целомудреннее перед влиятельными людьми. Здесь же они под звуки кемкем и тамбуринов привселюдно с неистовством изображали движения любви, поблескивая своими круглыми ягодицами и тряся маленькими карминными грудями…
Нефернеруатон никогда не слышала прежде звучания кемкем; оно никак не сочеталось с нежным звучанием лир и лютен, на которых играли во дворце. Звуки кемкем терзали ей сердце, а неистовые крещендо во время последних немыслимых фигур обжигали горло, как перец. Тогда она отпила немного этого дьявольского вина, чтобы восстановить дыхание.
Шабака видел, как воздействует представление на его спутницу. Госпоже Несхатор редко доводилось видеть столь зачарованное ее представлением лицо, за исключением нескольких юнцов из провинции, которых отцы привозили с собой, чтобы их обессолить, а скорее подсолить.
— Какой вечер! — воскликнула царевна, откинувшись на подушки. — Мы ничего не знаем во дворце о мире! — И, обернувшись к Шабаке, поинтересовалась: — Моя мать подозревала о существовании подобного места?
— Мне это не известно, но такое маловероятно.
— А мой отец? Приходил ли он сюда?
— Царевна, я не могу даже подумать об этом.
— Мне следовало бы привести сюда наших рабов, — сказала она со смешком.
— Царевна, сомневаюсь, что распорядители и, тем более, царь и царица на это согласились бы.
— Почему?
— Нежелательно подстрекать живого бога и его семейство к излишеству в удовольствиях.
Между тем вечер продолжался, и возбуждение Нефернеруатон немного улеглось. Она стала задумчивой.
— Как долго это длится? — спросила она.
— Иногда до рассвета.
— До рассвета! — воскликнула она.
— Соседнее заведение вообще почти не закрывается.
— Какое соседнее заведение? — спросила она с любопытством.
Шабака сомневался, стоит ли о нем рассказывать. Но у него было поручение от царя: он отвечал за соблазнение последней из внучек царя девственницы. Ай желал, чтобы было как можно больше наследников, и по возможности мужского пола.
Она с нетерпением повторила свой вопрос, он затягивал молчание.
— Заведение любви, царевна. Тебе не стоит такое видеть.
— Почему? Я хочу пойти туда!
Скрывая некоторое волнение, он расхохотался. Старый лис приготовился съесть утенка. И вдруг его охватило сомнение, стоило ли продолжать. Они поднялись, и Шабака на ходу подмигнул госпоже Несхатор.
Соседнее заведение отличалось от всех подобных мест для развлечений только своей роскошной обстановкой. Просторный зал, освещенный несколькими лампами, наполненный опьяняющими причудливыми запахами, переходил в альковы, одни из них были затянуты шторами, другие нет. В тех, которые были раскрыты, находились девицы, большей частью молодые и нагие, в расслабленных позах — они поджидали клиентов.
При появлении Шабаки, которого, очевидно, здесь знали, они поднялись и окружили пару.
— Ой, какой очаровательный молодой человек! — раздались восклицания.
И одна из них — сирийка со столь бледной кожей, что ее считали покрашенной свинцовыми белилами, — положила руку на грудь Нефернеруатон. Та едва не вскрикнула от неожиданности.
— Но…
Взглядом Шабака приказал ей молчать. Другие продолжали восхищаться нежными чертами лица мальчика; другая девушка взяла ее за руку.
Тогда пары имбирного вина ударили в голову и пробежали волной по телу Нефернеруатон.
— Пошли, выпьем вина в алькове, — предложила сирийка, которая обнаружила, что перед ней переодетая женщина.
Нефернеруатон последовала за нею. Было ли это жестом обольщения или боязни, но она повернула голову и посмотрела на Шабаку. Он пошел за нею. Почти подтолкнул ее к алькову.
Он задернул штору.
Сирийка подала питье, затем растянулась около Нефернеруатон и стала поглаживать ее лицо. Затем коснулась грудей, потом живота. Шабака, прислонившись к одной из трех стен, наблюдал за этой сценой. Девушка скользнула рукой под одеяние своей клиентки, затем приподняла его край, так что стало видно лобок. Тогда со знанием дела она начала ласкать его. Нефернеруатон закрыла глаза и издала стон.
— С разрешения госпожи Несхатор… — произнесла сирийка насмешливым тоном.
Без сомнения, хозяйка была против пребывания женщин-клиенток в стенах своего заведения.
Затем она добавила к ласкам рук ласки губ и языка. Казалось, Нефернеруатон забыла о присутствии Шабаки. В любом случае, ее это не беспокоило. Вскоре тела девушек сплелись, они крепко обняли друг друга. Опытной рукой сирийка развязала на спине Нефернеруатон повязку, которой была перетянута ее грудь, и прильнула губами к груди. Было очевидно, что Нефернеруатон неопытная девушка: она разделась полностью и отдалась ласкам, которые ей расточали.
Шабака неотрывно наблюдал за этой сценой. Над головами мерцал свет единственной лампы. Он быстро разделся.
Закрыв глаза и издавая стоны удовольствия, Нефернеруатон на коленях предоставляла себя любовным атакам сирийки. Вдруг она почувствовала другую атаку, совершенно незнакомую ей. Всем телом, на котором ощущалась выпуклость, Шабака прижался к ней сзади. Крик боли был задушен ртом сирийки.
Эта последняя атака была внезапной и жестокой, но боль смешалась с волнами удовольствия, которое сирийка усердно доставляла своей клиентке. Нефернеруатон не бунтовала. Напротив, она откинулась в объятия нубийца. Затем приспособилась к его ритму. Он был неутомим. Она издала крик, который снова был задушен поцелуем сирийки. Поняла ли последняя цель этого соития? Всегда отличавшаяся послушностью служанки, она подчинилась молчаливым требованиям постоянного клиента.
Раздался еще один крик, и Нефернеруатон ощутила спазмы находящегося в ней члена. Она уже поняла, чем обладает отныне — в настоящем и в будущем. Оставаясь на коленях и прижимаясь спиной к груди своего завоевателя, она расслабилась в руках Шабаки, в то время как сирийка продолжала воспламенять ее ощущения. Мужчина обхватил ее вокруг талии своей эбеновой рукой. Она хотела его ненавидеть, но не могла. Ее руки легли на его предплечье, в то время как другой рукой он гладил грудь своей добычи, а потом подставил ее губам сирийки.
Он был удивлен этой покорностью. Она подняла лицо к лампе, как если бы готовилась отдать богу душу. И вдруг почувствовала, что тело мужчины натянулось как струна. Буря закончилась. Наконец насытившись, она медленно опустилась на сирийку.
Перевернувшись на спину, она посмотрела на черное мускулистое тело, расположившееся возле нее на коленях, на которое падали отблески раскаленной
меди лампы. Она нашла его красивым. Он тоже смотрел на ее трогательное хрупкое тело, на лоно, познавшее удовольствие, на груди, набухшие, как почки на деревьях после дождя, на преобразившееся лицо. Он понял, что никогда не испытывал подобного чувства. Их взгляды встретились. Она улыбалась.
Он чувствовал себя опустошенным.
Снова она положила ладонь на руку Шабаки.
— Ты, — прошептала она. — Значит, это должен был сделать ты.
Она притянула его к себе и вынудила своего любовника наклонить к ней голову. Затем обняла его.
Сирийка пыталась понять, что это значит. Ей было невдомек, что в ее присутствии, возможно, решалась судьба царства. Она получила три золотых кольца — неслыханную сумму.
Бывший Первый советник Тхуту наносил иногда визит Хумосу, верховному жрецу храма Амона в Карнаке. Он приносил тому несколько корзин с плодами своего урожая, в действительности в знак верности тому, кто был вначале его врагом, затем союзником, а нынче — всего лишь верховным жрецом. Когда-то пролитая ими кровь высохла, так как кровь тоже высыхает, и слова, написанные красным, со временем также покрываются пылью, как и те, что были начертаны черным.
Слуги, сопровождавшие его, доставили в резиденцию верховного жреца плоды сезона: яблоки и груши из собственных садов, поздние красные финики из своей пальмовой рощи, мешки с бобами, оливками и нутом, дыни, овощи с огорода… Хумос горячо его поблагодарил. За подарками явились жрецы, чтобы распределить их между Домом жизни, резиденцией верховного жреца и хранилищами, а часть выделить для бедняков.
— Стало быть, ты только обрабатываешь землю, — констатировал Хумос неуловимо снисходительным тоном.
— Ее щедрость меняется, но она никогда не бывает неблагодарной, — заметил Тхуту, понимающе улыбаясь.
Хумос задумался.
— Ты, должно быть, разочаровался в деле, которому служил. Вот что я тебе скажу: некогда мы действовали по-разному, но ты не понимал того, что, несмотря на все различия, мы служили одному и тому же.
Впервые верховный жрец предался воспоминаниям. Тхуту скорее догадался, нежели действительно понял смысл речей жреца.
— Ты защищал воплощения богов, меня, самого бога, — пояснил Хумос.
— Значит ли это, что эти воплощения были несовершенны? — спросил Тхуту с коварной улыбкой.
— Боги, советник, вечны, они везде. Мы видим только самую малую часть мира до тех пор, пока бальзамировщик не поместил наши внутренние органы в чаши и пока бог Тот рукой жреца не открыл наши рты, чтобы дать выход слову, отныне неслышимому для смертных. Боги являют собой мир. Вот в чем была ошибка Эхнатона, когда он намеревался их всех заменить единственным — Солнечным Диском, как если бы луна, к примеру, не была их проявлением. Он обеднял божество.
— И это привело к преждевременной смерти, — сказал Тхуту.
— На самом деле так и есть.
Цинизм, с каким делается признание, не заслуживает порицания; только люди с сильным характером безоговорочно признают свои преступления. Оба мужчины окинули друг друга ироничными взглядами.
— Он ослабил божественный разум, пребывая на троне. Это было преступлением не перед людьми, а перед богами. Вдова, как тебе известно, не исправила его ошибку. Для тебя не было секретом, что она готова была опрокинуть лодку Осириса.
Тхуту покачал головой. Именно по этой причине он защищал Сменхкару.
— Однако преемник пытался восстанавливать лодку, — отметил он.
Хумос покачал головой.
— И в это время начался последний акт. Сменхкара осознал необходимость сильной армии. Он мог сделать ее такой только при поддержке самого злостного врага Ая Хоремхеба. Этот человек, получив власть, стал бы неприступен. Ай не мог такого стерпеть. Яд сделал свое дело.
Они прогуливались по саду верховного жреца между кустами роз и лилиями, привезенными из Куша, с фиолетовыми сердцевинами. Трудно представить более жуткий контраст, чем между их разговором и окружающей красотой.
— Дальнейшее было предопределено, — продолжил Хумос. — Став совершеннолетним, Тутанхамон лишил бы Ая шансов взойти на трон. Ведь этот царь был намного моложе, чем Ай. Он мог оставаться на троне долго, и к тому же Хоремхеб не бездействовал. Неудачный государственный переворот Апихетепа показал, насколько ослаблено царство.
— Тогда ты ничего не сказал, — заметил Тхуту с упреком.
— Что я мог сказать? И что это изменило бы? Надо было, чтобы победил сильнейший, тот, кто сможет защищать трон. И ты, советник, сам тогда этого не понимал. Ты полагал, что Тутанхамон способен противостоять нападениям хищников, которые рыскали вокруг трона. Ты объединился с Хоремхебом, чтобы противодействовать планам Ая. Вспомни! Ты даже хотел, чтобы Ай предстал перед верховным судом.
Подавленный, Тхуту покачал головой; он слишком хорошо все это знал.
— Иногда я думаю вот о чем, — продолжил верховный жрец. — Как ты мог позволить бросить командующего Нахтмина в тюрьму! Командующего, который будет единственным сильным человеком в Фивах после исчезновения Ая! Единственного защитника династии! И еще более удивительно то, что ты повелел его освободить по указанию Хоремхеба!
[44]
Хумос говорил насмешливо, и теперь Тхуту это раздражало.
— Мне не было известно, что жизнь царя Тутанхамона окажется такой короткой! Смерть не была предусмотрена, — оправдывался он.
— Ну уж нет, советник! — протестовал Хумос. — Ведь ты — умный человек! Ничто не было столь предопределено, как смерть Тутанхамона! Она была неизбежна!
— Я это понял, но слишком поздно, — безутешно произнес Тхуту.
Слуги принесли на большом блюде фрукты, привезенные в подарок бывшим Первым советником. Хумос протянул руку за фиником и сразу же раскусил его на две части, чтобы вытащить косточку. Затем съел мякоть.
— Сочный, — отметил он. — Разумеется, советник, теперь ты понимаешь, что монархи и первые лица страны никогда не могут предвидеть, какие судьбы им ткут боги. Никогда. Они создают союзы, потом их разрушают и называют удачей то, что чаще всего не зависит от них, а является намерением богов, а в защиту своих интересов упрямство называют мужеством.
— По-твоему, все мы слепы?
— Все люди слепы, — ответил Хумос.
— И ты? — спросил Тхуту прямо. — Когда же твои глаза открылись?
— Глаза открываются для созерцания богов, Первый советник, в результате приложенных усилий, направленных на то, чтобы воссоединиться с ними и понять их желания. Тогда ты не возмущаешься тем, что ястреб сел на куропатку, клюющую зерна. Добыча привлекает хищника.
Оба замолчали. Тхуту думал о том, что понапрасну прикладывал усилия в течение стольких лет. Его преданность только способствовала созданию такой ситуации, которая, как он теперь признавал, была катастрофической.
— Что я должен был делать?
— То, что ты делал, Первый советник, ничего другого. Ничего другого. Избавь себя от сожалений и угрызений совести. Ты был игрушкой в руках небесных сил, и твоя мудрость позволит тебе это понять. Ты ушел из власти, потому что у тебя утонченная душа. Но все власть предержащие не могут поступить так же. Боги не могут обойтись без игрушек. Попроси сейчас у Амона для себя душевного спокойствия.
Именно об этом с горечью подумал Тхуту: служба трону была делом бесполезным.
— Теперь, — снова заговорил Хумос, — полагаю, эти битвы закончились. Нас ожидают другие.
«Что он хотел этим сказать?» — задумался Тхуту. Он спросил об этом взглядом у верховного жреца. Хумос пожал плечами и многозначительно улыбнулся.
— Кто остался во дворце? Старик и две беременные женщины.
— И Нахтмин! — возразил Тхуту.
— Да, Нахтмин, — согласился верховный жрец. — Было бы лучше, если бы он велел убить Хоремхеба, дождавшись подходящего случая, который один раз он уже упустил. Но он не осмелился. Жаль. Теперь Хоремхеб окопался в Мемфисе, поддерживаемый Нефертепом, который всегда надеялся, что командующий позволит ему перенести столицу в Мемфис.
Какое-то время Тхуту смотрел на него озадаченно.
— Ты хочешь сказать, что Ай проиграл партию?
— Он ее проиграл уже давно. Еще со времен Эхнатона. Но тогда он был слишком занят тем, что пытался снискать милость царя. Давай не будем забывать, что он был одним из самых фанатичных сторонников культа Атона. Не по личным убеждениям, как это было у царя, а потому что ему это было выгодно. Он думал, представь себе, править, опираясь на женщин. Сестра Тия. Дочь Нефертити. Еще одна дочь, Мутнехмет, которую он выдал замуж за Хоремхеба, надеясь таким образом его нейтрализовать. Внучку Мекетатон, единственную, кто был к нему привязан, он намеревался выдать замуж за Тутанхамона. За семнадцать лет он ни разу не поддержал ни одного мужчины, до Нахтмина. Слишком их боялся. Он ошибся.
Он схватил другой финик и проделал с ним то же самое, что и с первым.
— Лукавство — признак слабости, Первый советник. Какое-то время богов это может забавлять, но долго они не будут защищать такого человека.
19
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРОСТОЛЮДИНА
Столь поздно и с помощью такого пылкого мужчины познав удовольствия тела, Нефернеруатон стала яростно этим упиваться.
Следующим же вечером она тайно привела Шабаку в свои покои. Объятия с первым ее мужчиной были более продолжительными, чем в первый раз.
В следующую ночь все повторилось.
Анкесенамон и Нефернеферуру удивляли круги под ее глазами, блаженный или сонный вид, заметно изменившаяся походка. До недавних пор она ходила вразвалку, с неизменно скорбным выражением лица, шлепая сандалиями по плитам и время от времени выставляя напоказ ягодицы или груди.
— Что-то с ней случилось, — прошептала Нефернеферура.
— С ней может случиться только одно, и ты об этом прекрасно знаешь, — заявила Анкесенамон.
Они захихикали.
— Но с кем?
— Я почти уверена, чем это Шабака.
— Шабака? — воскликнула Нефернеферура возмущенно.
— Таково было пожелание Ая, и я полагаю, что трое основных заинтересованных в этом лиц довольны.
— Но он же слуга Ая! — возмутилась Нефернеферура.
— Разумеется. Но он сильнее, чем сам Первый советник.
Пришла Мутнехмет и стала со своими племянницами обсуждать эти перемены. Прием, который ей оказала царица, побудил ее к тому, чтобы занять свои покои во дворце, вместо того чтобы скучать в загородном доме. Таким образом, несчастье объединило всех, кто еще остался от их семьи.
Бывшая супруга Хоремхеба привезла с собою карлика Менея, и он, к удивлению всех, ладил со львом. Довольно забавно было смотреть, как хищник с карликом в обнимку катились по террасе или как насмешливый Меней сидел верхом на своем новом товарище.
— О чем вы говорили? — справилась Мутнехмет.
— Что Нефернеруатон теперь бурно проводит ночи, — ответила Анкесенамон.
— С каких пор?
— Наверно уже три или четыре последних ночи.
— Но известно, кто это? — забеспокоилась Мутнехмет.
Когда Анкесенамон поделилась с ней своими подозрениями, та воскликнула:
— Но он не может быть подходящей партией!
— Твой отец придерживается другого мнения, — возразила Анкесенамон. — Он также считает, что в крайнем случае он мог бы стать преемником, достойным его самого.
— А мой муж? — воскликнула, встревожившись, Нефернеферура.
— Ай еще не умер, и я тоже, поэтому, как говорится, бесполезно ждать пения жаб на заре.
— Но почему нам не говорят, что может произойти после смерти Ая? — настаивала Нефернеферура.
— Очевидно, Нахтмин будет назначен регентом.
— А Царский совет?
Анкесенамон пожала плечами. Со времени смерти Тутанхамона и прихода к власти Ая Царский совет более не действовал. Мутнехмет казалась задумчивой.
— Наилучшей новостью, которую я хотела бы услышать, могло бы стать сообщение о смерти Хоремхеба, — прошептала она.
Анкесенамон притворилась, что не расслышала этого. Она устала от смертей и насилия.
— Кажется, я чувствую, как ребенок шевелится во мне, — сказала она.
Ей было известно это ощущение — она его испытала, вынашивая ребенка Пасара. И снова она носила в себе будущего царя. Плодовую почку их потомства.
Теперь каждую ночь Шабака проводил у Нефернеруатон.
Первый подвиг был результатом лукавства, к которому он прибег по приказу хозяина. Но теперь он с нетерпением ждал ночи, чтобы отправиться в покои царевны.
За всю свою взрослую жизнь он всегда был лишь инструментом в руках властителя провинции, ставшего царем. Он знал, что о нем говорили: «проклятая душа», «исполнитель низких дел», «слуга». И смирился с презрительным отношением к себе.
Затем хозяин указал ему на исключительную добычу: царевна, более того, его собственная внучка. И для завоевания столь знатной персоны необходимо было сделать следующее: соблазнить ее и сделать женщиной.
Но произошло неожиданное: отношение царевны странным образом очистило его. Она влюбилась в человека, который не только ее растлил, но также открыл в ней женскую природу. Она постоянно ему об этом напоминала. Осыпая ласками, она возвела его в ранг царственного любовника.
А ведь она славилась своей красотой!
И отныне Нефернеруатон принадлежала Шабаке.
Бушевавшие в нем чувства быстро достигли неистовой силы. Он был безумно влюблен в царевну.
И вероятность того, нет, уверенность в том, что он оплодотворил Нефернеруатон, подстегивала его страсть. От него — «слуги» — появится царевич или царевна, и этот ребенок, возможно, наследует трон.
Он этого он приходил в лихорадочное возбуждение.
Как только они оказывались в постели, он щедро осыпал свою госпожу ласками, чего никогда не доставалось ни одной женщине. Он один стоил десяти чувственных рабов. Теперь он был одновременно и рабом, и господином.
На исходе десятой ночи, когда он уходил украдкой, карлик Меней поднялся с постели по острой нужде. Направляясь в уборную, он вышел в коридор и заметил нубийца, покидающего покои Нефернеруатон.
На следующее утро, подпрыгивая от нетерпения перед царицей, ее сестрами, Мутнехмет и придворными дамами, карлик кричал гнусаво:
— Это действительно дворец Амона-Ра! Черная тень покидает его на рассвете.
Анкесенамон зажала рукой рот, чтобы скрыть улыбку. Нефернеферура захлопала ресницами. Нефернеруатон улыбнулась, а Мутнехмет вытаращила глаза.
Новость быстро распространилась по дворцу. Вскоре царица сообщила своей младшей сестре, что намеревается поговорить с царем относительно того, что следует придать официальный статус ее связи с Шабакой.
Нефернеруатон не промолвила ни слова.
— Очень хорошо, — заключил Ай.
Какое-то время он пристально смотрел на Шабаку. Нубиец выдержал его взгляд, не моргнув.
— Если она беременна, — возобновил разговор Ай, — надо, чтобы ты с ней сочетался браком.
Главный распорядитель церемоний Уадх Менех возвестил о приходе царицы. Ай встал, чтобы оказать ей должное уважение.
— Моя царица желанна вдвойне, — заявил он. — Я беседовал с Шабакой о ситуации, которая, возможно, тебе уже известна…
— Я об этом знаю, — подтвердила она, глядя на Шабаку с полуулыбкой.
Он низко поклонился и опустился на одно колено.
— Поднимись, — повелела она.
Какое-то время все хранили молчание, Анкесенамон нарушила его. Она предложила:
— Думаю, следует позвать Нефернеруатон.
Ай передал приказ Уадху Менеху.
Несколькими минутами позже пришла Нефернеруатон, запыхавшаяся, обеспокоенная, вопросительно глядя на присутствующих.
— Давайте сядем, — предложил Ай.
Шабака выдвинул кресла для царицы и царевны.
— Ты тоже садись, — повелел ему Ай.
Впервые Шабака сел в присутствии царицы.
— Хочешь ли ты выйти замуж за Шабаку? — спросил Ай у Нефернеруатон.
От волнения лицо царевны порозовело. Она открыла рот, но не смогла произнести ни звука, а потом расхохоталась.
— Это мое самое заветное желание! — выговорила она наконец.
— Это хорошо. Шабака — человек опытный, так как всегда принимал участие в моих делах. Это также человек изворотливый, поэтому много раз мне приходилось призывать его на помощь. Вот уже многие годы он мой советник. Он тебе будет так же предан, как предан короне.
Он выдержал паузу.
— Стало быть, извещаем двор и царство о бракосочетании царевны Нефернеруатон и царевича Шабаки.
Последний подскочил. Царевна смотрела на него сияя.
— Как, на твой взгляд, такой титул ему подойдет, моя царица? — спросил Ай у Анкесенамон.
— Мне кажется, стоит опасаться реакции некоторых придворных, — сказала она.
— Я об этом предупрежу Нахтмина, — подытожил Ай.
Бракосочетание царевны взбудоражило Фивы. Буквально все задавали тот же самый вопрос, что и Нефернеферура, когда узнала о появлении Шабаки в жизни ее младшей сестры: Нахтмин или нубиец сменит Ая, когда того не станет? Некоторые из толпы придворных, существование которых проходило в ожидании царской милости, теперь, когда Шабака официально достиг таких высот, принимали важный вид, встречая нового царевича, надеясь в последующем добиться для себя определенных преимуществ. Другие, из тех, кому уже приходилось делать ему подношения, сожалели о том, что поскупились.
Во время церемонии бракосочетания вокруг храма Амона собралась большая толпа: каждый хотел увидеть того, кого злые языки называли бывшим слугой царя и уверяли, что именно его подвиги в постели позволили ему вознестись на такую высоту — стать царевичем и потенциальным наследником трона. Чем выше рангом был сплетник, тем более непристойным оказывался повод.
Удивление вызвало то, что среди почетных гостей был Гуя, наместник царя в Куше, и не было командующего армией Нижней Земли Хоремхеба. Бурно обсуждали беременность царицы: был ли это действительно плод ее дедушки? С умным видом рассуждали о семени стариков. Некоторые выдвигали предположение, что тот, кто оплодотворил царицу, как-то связан с командующим Нахтмином. Всё заметили, всё превратно истолковали, а чего не знали, то придумали.
На Празднике долины, который начали отмечать в некрополе Фив, не было ни Анкесенамон, ни Нефернеферуры, так как лекарь Сеферхор считал, что в их состоянии нельзя долго стоять, а этого требовали церемонии в храме предка, Аменхотепа Третьего. Кроме Ая, Нахтмина, Шабаки и Нефернеруатон, тоже беременной, но со сроком только в три месяца, там присутствовали также главы ведомств.
Итшан находился при Анкесенамон, он был еще более предупредительным, чем Сати, если такое вообще возможно.
Майя также был на празднике, наблюдая за всем, как сорока, — вороватым глазом. Придворные нашли, что он был необычно бледен.
Во время пиршества, которое сопровождалось принесением жертвы и украшением статуи царя розами, драгоценностями и цветками лотоса, в клубах дыма от фимиама, некоторые отметили, что Усермон, Маху, Пентью и Нахтмин находились в окружении большого числа людей, в то время как вокруг царского казначея было мало народу.
Говорили, что Майя беспокоился о том, как бы ему удержать литоту. Время шло, проходили месяцы, годы. Он мог убедиться в том, что царь находил все больше приверженцев, красавец Нахтмин тем более, и те несколько командиров, что теснились вокруг него, это также отметили. Этот лис Шабака стал царевичем, следовательно, был теперь защитником трона. Три дочери Эхнатона были беременными, и каждый ребенок мог стать продолжателем династии. Ай мог прожить еще много лет. И Хоремхеб не молодел. Но по выражению лиц придворных, казавшихся одновременно хитрыми и отстраненными, было ясно, что они, как и царь, разгадали его игру и знали о пособничестве Хоремхебу. Отныне он рисковал оказаться в немилости у царя.
Но что же предпринимал Хоремхеб? Майю охватывало отчаяние.
Когда он был очередной раз в Мемфисе, Хоремхеб показался ему чрезмерно флегматичным. Очевидно, буйвол не хотел атаковать старого шакала, так как рисковал быть искусанным — стать предметом грязных насмешек.
Все же Майя возвратился в Фивы, обдумывая, насколько удачным был его выбор. Его больше всего беспокоило то, что теперь он не мог уже перейти в другой лагерь.
Через два дня после начала сезона Сева, в шесть часов утра у Анкесенамон начались схватки. Ее поместили в кресло для родов, изобретенное ее бабушкой по материнской линии, Тиу, и Сати привела обеих повитух, которые уже несколько дней безотлучно находились в соседних комнатах.
Итшан пренебрег приличиями и присутствовал при родах, держа руку Анкесенамон в своих руках. Нефернеферура тоже сначала была рядом, но все же не выдержала и убежала, ужаснувшись мысли, что ей предстоит перенести то же самое. Чтобы наблюдать за тем, как головка новорожденного выходит из влагалища сестры, ей надо было принять успокаивающую микстуру.
По прошествии почти девяти часов царица родила мальчика. В Фивах, в Мемфисе и в других городах были организованы большие празднества. Царь повелел всем наливать вино и раздавать угощения. На празднике, как обычно, выступали певицы и танцовщицы, и это было еще не все.
От глашатаев народ узнал имя, которое царица дала принцу: Хоренет, «Тот, кого накормил Хорус».
«Неужели Амон отныне защищает эту семью?» — мысленно причитал Майя.
Позднее он возрадуется, но не будет этого показывать.
Минули две декады сезона Сева, когда судьба нанесла удар царской семье: родив девочку, царевна Нефернеферура умерла от потери крови, которую не смогли остановить ни Сеферхор, ни повитухи.
«По крайней мере, — сказал себе Майя, — хоть от нее больше не будет отпрысков этого проклятого рода».
На тридцать дней двор погрузился в траур.
«Нас было шестеро, а теперь осталось двое», — подумала Анкесенамон. Впрочем, на какое-то время она забыла о царстве и об остальном мире. Для нее существовали только ее сын, Итшан и Сати. И печаль.
Она гнала от себя видения, как бальзамировщики потрошат прелестное тело сестры, которое оказалось слишком хрупким для жизненных реалий.
Вечером, сидя вместе с Нефернеруатон на террасе, она плакала. К ее удивлению, лев стал лизать ей руку.
— Ты тоже моя семья? — сказала она ему ласково.
Расстроенные придворные дамы забеспокоились: уж не потеряла ли царица разум?
Нет, она не сошла с ума. Она возглавила похоронную процессию и держалась с надлежащей торжественностью. Нахтмин стоял в гробнице по другую сторону саркофага. Она возложила на золотую маску своей сестры венок, сплетенный из кувшинок, а он — венок из роз, они потом еще долго смотрели друг на друга.
У Нахтмина были влажные от слез глаза. Постепенно узнавая свою супругу ближе, он полюбил ее.
— Это Сет ее убил, — сказала ему Анкесенамон. — Будь сильным, защити тех, кто остался.
Тот Сет, который не любил слабых.
Она думала о словах Тхуту: «Исис, вечная невеста печали».
Спустя полторы декады после смерти Нефернеферуры гонец доставил во дворец свиток папируса для царицы. Стражники хотели его задержать, но гонец ускользнул от них.
Послание было передано по назначению.
Моя любимая сестра, нас снова постигло несчастье, и как я могу тебя утешить, если сама скорблю? Я могу только тебе сказать, что плачу вместе с тобой и Нефернеруатон, которая, как я знаю, сочеталась браком с Шабакой, без сомнения, по настоятельному желанию нашего предка. Не проходит и дня, чтобы я не думала о тебе и обо всех вас, и мое сердце горит желанием воссоединиться с вами, с тобой и Нефернеруатон, и сжать вас в своих объятиях. Но я знаю, что если я это сделаю, то снова попаду в ад, из которого Неферхеру мудро меня вырвал. У меня два сына, которые великолепно себя чувствуют, и наше возвращение в это царство ядов подвергло бы наши жизни еще большей опасности, чем в былые времена. Дело Неферхеру процветает, и мы живем в достатке.
Пусть Амон и все боги, которыми он управляет, принесет тебе душевный покой и здоровье.
Твоя любящая сестра.
Анкесенамон долго пребывала в задумчивости. Стало быть, Меритатон не сожалела о том, что покинула Две Земли, даже тоскуя о родных. Она выбрала судьбу женщины, а не царицы.
Для нее оказалось невозможным быть одновременно и женщиной и царицей. Царская власть лишала женщину плоти — она больше не принадлежала себе, становясь жертвой махинаций мрачных властителей, которыми боги управляли по своей прихоти.
Исис, вечная невеста печали! Слова Тхуту то и дело приходили Анкесенамон на ум. Он понял цену власти и удалился.
Посетила ее и другая мысль: сестры были вместе, даже находясь в разлуке. Возможно, они воссоединятся в загробной жизни.
Ее не удивило бы получение подобных посланий от тех, кто ушел навсегда: от Мекетатон, Нефернеферуры и Сетепенры.
Но как удавалось Меритатон быть настолько хорошо информированной о событиях во дворце в Фивах?
20
НЕЗАКОНЧЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Нефернеруатон родила в середине сезона Жатвы.
Она постоянно опасалась худшего после смерти своей сестры при родах. Потребовались невероятные усилия Сати, Мутнехмет, Анкесенамон и Шабаки, чтобы убедить ее в том, что не все женщины умирают во время родов, иначе ни у кого не было бы матерей.
Анкесенамон была рядом с момента начала у сестры схваток. Шабака ее поразил: каким образом эта обезьяна, этот лукавец, смог превратиться в трепетного и заботливого мужа? Она видела, каким внимательным он был по отношению к своей супруге и какое смятение его каждый раз охватывало, когда Нефернеруатон кричала.
— Так всегда бывает, разве ты не знаешь? — говорила она, кладя свою руку на руку нубийца. — Первые роды наиболее мучительные.
Но она сама опасалась худшего, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица.
Итак, роды прошли очень хорошо.
Родился мальчик.
Акушерка перерезала пуповину и завязала ее, обмыла кричащего ребеночка и запеленала.
Шабака не мог сдержать дрожи. «Неужели он действительно любит Нефернеруатон?» — размышляла взволнованная Анкесенамон.
Служанки обмывали роженицу.
Анкесенамон и Шабака столкнулись головами, наклоняясь над новорожденным. Они рассмеялись. За столько часов это был первый смех. Шабака взял ребенка на руки, посмотрел на царицу, преисполненный почти небесной радости, затем подошел к постели своей супруги, сел на корточки и прошептал:
— Нефер. Мальчик. Посмотри!
Роженица повернула голову и недоверчиво взглянула на сморщенное и красное существо, которое вышло из нее. Она улыбнулась и взяла на руки орущего ребенка. К ее удивлению, крики стали раздаваться реже, затем постепенно стихли. Ребенок заснул.
«Итак, три ребенка», — подумала Анкесенамон.
В комнате находились три молодые кормилицы. Сати, притихшая и молчаливая, отошла от стены, на которую до сих пор опиралась, и подошла к одной из кормилиц.
— Ты, — произнесла она, указав пальцем.
Сеферхор держал в руках кувшин с кипяченым молоком, разбавленным кипяченой водой, с добавлением эликсира, тайну которого он бережно хранил. Он тоже сел на корточки около роженицы, наполнил чашу питьем и протянул ее царевне.
Внезапно в комнате воцарилась тишина. Сати увела двух кормилиц, повитух и служанок. Нефернеруатон и ее сын заснули. Анкесенамон осторожно забрала ребенка из рук матери и передала его кормилице, затем сказала Шабаке:
— Пусть она поспит немного.
Она вернулась к себе, чтобы заняться Хоренетом.
Дочери Нефернеферуры дали имя Неферибамон. Как объяснил Нахтмин, это имя выбрала ребенку покойная царевна-мать.
Сына Нефернеруатон назвали Аменхотепом, так как этого потребовал Ай. Такой выбор привел в задумчивость царицу: имя принадлежало основателю династии. Это вызвало волнение во дворце, оно передалось через придворных дам за пределы дворца. Все задавались вопросом: может ли сын нубийца дописать долгую историю, которая, как казалось, оборвалась, когда Аменхотеп Четвертый поменял свое имя, назвавшись Эхнатоном?
Анкесенамон решила не отвечать на эти вопросы: некоторые из придворных были, определенно, в большей степени монархистами, чем сам царь.
В конце второй половины каждого дня, когда слабел суховей, дующий из пустыни, и поднимался легкий бриз, обе матери, Мутнехмет и три кормилицы собирались на террасе. Двое младших детей оставались на руках у кормилиц, но Хоренет пытался проползти хоть несколько шагов под бдительным взглядом своей матери. Тогда Меней уводил льва на прогулку в сад, а затем его забирал смотритель Зверинца на кормежку и отдых в клетке вместе с его самкой. Правда, один или два раза хищник лизнул молодого царевича, но никогда не стоило пренебрегать мерами предосторожности.
Анкесенамон ощутила атмосферу своего детства: кормилицы и дети. Погремушки, которые Итшан принес своему сыну, вызвали у нее слезы на глазах; эти первые игрушки были такими же, как и у нее когда-то очень давно.
Несмотря на ощущение счастья, как царица Анкесенамон больше не могла избегать вопроса, который питал сплетни двора. И к тому же это в первую очередь касалось ее самой: когда не станет Ая, который из двух мальчиков будет наследником трона? Казалось очевидным, что это должен быть ее сын Хоренет, так как он официально был объявлен наследником. Но звучное имя, которое выбрал Ай для сына Шабаки, достаточно ясно указывало на то, что он видел в нем продолжателя династии.
Кроме того, она задумывалась над тем, кто станет регентом. В последний раз, когда она беседовала об этом с царем, они сошлись на кандидатуре Нахтмина, но в следующий раз всплыло имя Аменхотепа. Согласится ли отец царевича, которому поставили задачу возродить династию, остаться в тени?
Наступил месяц Хойяк, а вместе с ним и праздник Осириса.
Праздничное шествие традиционно проходило перед дворцом и было как никогда многолюдным. Царская семья находилась за балюстрадой большой террасы, выходящей на улицу Амона. Рядом с Аем, справа от него, стояла царица, держащая на руках молодого Хоренета, а слева расположились Нахтмин и Шабака, у которых на руках были, соответственно, Нефериб и Аменхотеп. Раздавались восторженные крики, в воздух летели цветы. Вот уже многие годы народ Двух Земель не видел детей на террасе дворца; казалось, что сок старого династического дерева высыхает. Тебаины и другие подданные короны, пришедшие со всех уголков Двух Земель, Омбоса, Йеба, Нехена, с воодушевлением отмечали первые плоды такого возобновления.
Трубный звук известил о том, что наступил час мужчинам из царской семьи возглавить кортеж. В этот момент Анкесенамон оказалась в Большом зале на нижнем этаже. Она видела, как Уадх Менех долго разговаривал со вторым распорядителем церемоний, заметила озабоченное лицо Шабаки и как тот удалился с раздраженным видом.
— Что происходит? — спросила она Уадха Менеха.
— Вопрос старшинства, твое величество.
Итак, не было сомнения, что это была ссора из-за старшинства между Нахтмином и Шабакой по поводу того, кто и в какой последовательности должен идти за монархом. Шабака намеревался идти в том же ряду, что и Нахтмин, но Ай этого не разрешил: как главнокомандующий царства и царевич Нахтмин был выше по рангу. На следующий день Анкесенамон отправилась расспросить обо всем царя.
— Я полагаю, будет полезно, если ты мне назовешь имя регента на случай, если с тобой что-то случится.
— Ты об этом знаешь, я не изменил своего решения. Нахтмин. Как главнокомандующего его уважают и ценят не только военные. Он полон энергии.
— Кажется, Шабака оспаривает его старшинство.
— Он немного перегибает палку, — заметил Ай, улыбаясь.
— Почему ты выбрал имя Аменхотеп для его сына? Это стало для него поводом питать большие надежды.
Ай вздохнул.
— У меня сложилось впечатление, что мы освобождаемся от кошмара после стольких лет распрей и полуцарей у власти!
«Полуцари» — это слово звенело в голове Анкесенамон. Это верно, Сменхкара и Тутанхамон были слабыми людьми. Но «полуцари»!
— Я хотел вернуть уважение этому знаменитому имени — Аменхотеп. Шабака из породы сильных людей. Его сын будет таким же, какими были основатели династии. Мне представился случай. Я его не упустил.
— И кто же будет наследным принцем? — спросила она.
— Если мои пожелания будут исполнены, то твой сын Хоренет должен будет сочетаться браком с Нефериб, дочерью твоей покойной сестры. Они образуют царскую пару под регентством Нахтмина.
— А Аменхотеп?
— Излишек товара не повредит, моя царица. Я предпочитаю, чтобы у нас были два принца вместо одного. Я не могу предусмотреть всего, что произойдет после моего ухода. Главное, чтобы у нас в роду были сильные мужчины.
Возможно, он был прав.
Несколько недель прошло без особых событий, не считая традиционных праздников.
То ли из-за того, что Нефернеруатон стала матерью, то ли в результате внезапного осознания себя женщиной, у нее все больше менялся характер. Безрассудная и странноватая девушка, какой она была в предыдущие годы, стала прекрасной матерью, внимательной ко всем моментам жизни своего ребенка.
Во время долгих бесед с сестрой и кормилицами она, некогда занятая лишь прическами, румянами и благовониями, интересовалась количеством молока и временем отнятия от груди.
— По крайней мере, по истечении года, — ответила Анкесенамон.
Но Сати покачала головой.
— Госпожа, поверьте мне, лучше пораньше приучить ребенка к обычной еде. Я советую отнять от груди на девятом месяце. Это делает детей сильнее.
Стало быть, для Хоренета наступил этот момент.
Совместные ужины также способствовали восстановлению былой семейной атмосферы. К ним присоединялся Нахтмин или Шабака, бывало что и сразу оба, а иногда и царь.
Как-то вечером Нахтмин пришел к царице на ужин, хотя знал, что будет и Шабака. Он казался озабоченным. Анкесенамон поинтересовалась у него о причине такого настроения.
— Когда ты видела царя последний раз? — спросил он.
Она встревожилась.
— Но… Этим утром…
— Я только что от него. Мне он показался очень усталым.
Анкесенамон резко поднялась.
— Не торопись, твое величество, — сказал ей Нахтмин. — Он попросил дать ему отдохнуть до завтра. Сеферхор рядом с ним.
В ту ночь во дворце никто не спал. На рассвете следующего дня царица, ее сестра, Мутнехмет, Шабака и Нахтмин встретились перед покоями царя, все были обеспокоены. К ним вышел спокойный Сеферхор. Несколько мгновений он молча на них смотрел, а затем сообщил, как будто его об этом спросили:
— Этим утром его величеству намного лучше. Он только что встал, чтобы умыться. Разумеется, он будет тронут вашим вниманием, но не заходите туда все одновременно.
Было очевидно, что именно Анкесенамон должна войти первой, а вместе с ней и Шабака. Они услышали голос Ая, доносящийся из ванной комнаты. Он отдавал приказы слугам. Все успокоились. Вскоре Ай вышел из ванной в сопровождении слуги, который вытирал ему поясницу. Царь окинул всех взглядом и весело сказал:
— Это случится, но не сегодня.
Шабака расхохотался.
— Как я этому рад, мой царь, мой господин!
Анкесенамон подошла к царю и поцеловала его в щеку. Он положил руку на ее плечо.
— Это Нахтмин вас встревожил? Вчера у меня было легкое недомогание. Думаю, сказалась загруженность работой. Или заботы.
— Заботы? — переспросила Анкесенамон.
— Маху сообщил мне, что вот уже на протяжении нескольких дней наблюдается непонятное передвижение войск от Мемфиса к Стене Принцев. Завтра я ожидаю донесения гонцов. Теперь позвольте мне одеться.
Царица сообщила тем, кто ожидал своей очереди за дверью, что царь восстановил свои силы. Все с облегчением вздохнули и вернулись в свои покои.
— Стена Принцев, — объяснил Шабака царице, когда они были в большом зале, — это высокая стена, выстроенная на востоке, чтобы помешать вторжению бедуинов. Какой же была причина передвижения войск, о чем сообщили шпионы Маху?
Следующий день прошел без инцидентов. Анкесенамон успокоилась, по крайней мере внешне.
На рассвете следующего утра она и Итшан были разбужены сдержанным, но настойчивым стуком в дверь. Анкесенамон встала, чтобы узнать, в чем дело. Приоткрыла дверь. В неясном свете вырисовалось лицо Уадха Менеха. Мертвенно-бледное. Перекошенное.
— Твое величество, — проговорил он с дрожью в голосе, — прости меня, но…
Он не мог говорить, но ему уже не надо было заканчивать свое сообщение.
— Подожди. Я сейчас оденусь, — сказала она.
Она набросила на плечи накидку и последовала за старым Распорядителем церемоний по еще прохладному коридору.
— Хранитель гардероба нашел его этим утром в своей постели… бездыханным…
Он не осмелился сказать «мертвым».
— Надо разбудить полководца Нахтмина и Первого советника, — повелела она, не узнав своего собственного голоса.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
УЗНИЦА
21
ЦАРИЦА НА БАРЕЛЬЕФЕ
Слишком хорошо ей было знакомо это гробовое молчание, прерываемое шепотом и скрипом сандалий на усыпанных песком плитах, — она его прочувствовала после смерти своего отца. Затем матери. Сменхкары. Мекетатон. Пасара. Сетепенры. Тутанхамона. Нефернеферуры.
«За что это мне? Всегда мне?» — возмущенно думала она.
Войдя в комнату Ая, она была потрясена видом Мутнехмет.
В изголовье ложа виднелся ее одинокий силуэт, окутанный клубами дыма от благовоний, которые уже расползлись по комнате. Одетая во все белое, она стояла неподвижно, с цветком лотоса в руке. Шабака и Хранитель гардероба, как хранители Ка, стояли по другую сторону ложа.
Анкесенамон совсем упустила из виду, что супруга Хоремхеба была дочерью Ая. Но в этом дворце, где интересы династии стояли на первом месте, кровное родство уже мало что значило.
Мутнехмет думала об отце, которого она никогда не знала. Она повернула голову к царице, которая некогда была ее племянницей, прежде чем формально стала мачехой. Они встретились взглядами. У обоих глаза помутнели, но были сухими.
Впрочем, надо было оплакивать царя, но слезы не приходили. Анкесенамон не могла вспомнить ни одного волнующего события, связанного с покойным. В течение четырех лет правления их объединяла только власть.
Возможно, те же самые чувства испытывала Мутнехмет. Неужели он не брал ее на руки, когда она была ребенком? Неужели никогда не позволял ей прыгать у себя на коленях?
Но детство — это другая страна.
Мутнехмет положила цветок лотоса на грудь усопшему и удалилась, чтобы уступить место царице.
«Где она нашла лотос в это время года? — размышляла Анкесенамон. — Ах да, разумеется, в большом бассейне в здании дворца». Она остановилась перед теперь уже покойным царем, — одним из последних силуэтов на длинной фреске. Странно бледный, как будто освобожденный от всего земного, сам по себе ставший мумией. Сеферхор закрыл ему глаза.
Она рассматривала тело царя, которым должны были заняться бальзамировщики. Этот человек был ее дедушкой, затем врагом, потом царем и официальным супругом. Странной была их связь. В Анкесенамон поднялась новая волна возмущения. Он дошел до того, что сделал ее циничной, почитающей интересы династии превыше всего. Он навсегда сделал ее узницей дворца. Она теперь даже не могла сбежать, как Меритатон. Ее прижали к стене судьбы тутмосидов, сделав одним из персонажей барельефа.
Во время весьма символического брака с Тутанхамоном она была случайной царицей. Ай превратил ее в главную, вечную царицу. Он украл у нее молодость.
«Он из меня сделал живую мумию!» — прозвучало у нее в голове.
Почему она его не оттолкнула!
Она подняла взгляд и увидела полные ужаса глаза Шабаки. Смерть Ая открыла ему истинность его положения: бывший раб, он стал проклятой душой хозяина, а отныне будет преследоваться за преступления, которые совершил в своей жизни.
Теперь ей следовало приступить к ежедневной процедуре умывания, затем облачиться в траурные одежды, износившиеся из-за частого употребления.
Выходя из комнаты, чтобы предупредить распорядителя о том, что этим утром не следует приводить льва, она увидела Шабаку в обществе Нефернеруатон и Мутнехмет. Они все собрались в зале первого этажа, там же были и кормилицы. На их лицах она прочла тревогу. Даже карлик Меней сидел неподвижно с расширенными от страха глазами.
«Что же с нами будет теперь? — казалось, кричало их молчание. — Что нам теперь делать?» Она понимала, что они ждали ее, но ограничилась тем, что сказала:
— Нам всем потребуется мужество.
Она собиралась возвратиться в свои покои, когда появился Нахтмин и направился к ней:
— Твое величество, он велел тебе провозгласить волю царя: он считал, что управление делами царства должно быть возложено на меня.
Он не терял времени. Ни малейшего следа печали на лице. Она покачала головой. Ей это было знакомо: четырьмя годами раньше она пережила подобное после смерти Тутанхамона.
— Пригласи Усермона и глав ведомств, — обратилась она к нему. — Мы должны составить провозглашение. Будет действительно лучше, если ты незамедлительно возьмешь власть в свои руки.
— А ты созови Царский совет, — сказал он.
Она пожала плечами. Неужели он не знал, что больше не было Царского совета? Ай его упразднил. Он сконцентрировал всю власть в своих руках. В результате теперь имело законную силу только слово царицы. Ай хотел, чтобы его преемником стал сильный мужчина, но по иронии судьбы в Двух Землях властвовала женщина.
— Что это за передвижения войск к Стене Принцев, что так встревожило царя? — спросила Анкесенамон.
— Утром должны вернуться гонцы, которых я отправил на разведку. По всей видимости, это исходит от Хоремхеба, но я не улавливаю в этом смысла.
— Держи меня в курсе.
Часом позже она вошла в кабинет Ая, где собрались главы ведомств. Все были напуганы. Лицо царицы являло собой маску, скрывавшую ее чувства.
— Царь желал, чтобы его сменил царевич — командующий Нахтмин, — сказала она. — Я хочу знать, все ли вы согласны с этим.
Все ответили, что согласны.
— Таким образом, мы должны составить воззвание, в котором будет сообщено о смерти царя и о том, что регентство взял на себя полководец Нахтмин.
Главы ведомств и Первый советник Усермон немного расслабились: власть в стране оставалась в руках династии.
— Могу ли я со всем уважением напомнить ее величеству, что объявлять о наследовании трона нельзя, пока не истекут семьдесят дней
официального траура? — вмешался Майя.
Последовало несколько секунд молчания. Лица глав ведомств стали по меньшей мере озадаченными, даже растерянными.
— Казначей Майя, — заговорила царица тоном, не терпящим возражений, — я знаю обычаи своей страны. Я говорила не о наследовании трона, а о регентстве. В связи с опасностями, которые подстерегают страну и о которых ты информирован лучше, чем я или кто-либо из присутствующих, необходимо, чтобы в стране был сохранен порядок. Так вот, именно командующий Нахтмин будет за это отвечать. Твое замечание бестактно.
Майя побледнел.
Анкесенамон повернулась к Нахтмину, увидела улыбку одобрения в его глазах, затем обратилась к Первому советнику Усермону:
— Первый советник, — сказала она тем же властным тоном, — царевич-регент, главнокомандующий Нахтмин, скоро попросит тебя поторопить казначея Майю с отъездом в Мемфис, где его ждут новые обязанности.
Она бросила на Майю грозный взгляд. У казначея задрожала челюсть. Он поднялся, чтобы покинуть собрание. Когда он уже был у двери, Нахтмин остановил его:
— Казначей, ты удалишься, когда я дам тебе на это разрешение. Потрудись занять свое место.
— Царица выразила мне недоверие, мне нет больше места среди вас, — заметил мертвенно-бледный Майя.
— Казначей, твои тесные связи с полководцем Хоремхебом известны всем, — заявил Нахтмин. — Царица лишь сделала из этого вывод. Показав свое двуличие, рассчитывая на нашу наивность, ты пожелал, чтобы в течение семидесяти дней отсутствовала власть. Такого не будет.
Майя не знал, что сказать.
Писец попросил соблюдать регламент собрания.
Нахтмин прикусил губу.
— Все уже сказано, — заявил он.
Он направился к двери, чуть ли не оттолкнув Майю, и крикнул:
— Четырех стражников сюда!
— Командующий! — вскричал Майя.
Но Нахтмин его больше не слушал. Когда прибыли стражники, он указал пальцем на казначея:
— Этого человека следует арестовать. Увезите его в тюрьму дворца, там он будет ждать приговора.
— Это подлая клевета! — кричал Майя.
— Это не клевета, Майя, — возразил Нахтмин, — всего лишь нелицеприятная правда.
Стражники увели казначея. Усермон, Маху и Пентью были потрясены. Только глава судебного ведомства Пертот сохранял спокойствие. Царица оставалась бесстрастной; она являла собой пример стойкости и не собиралась обвинять командующего в том, что он последовал ее примеру, даже если он действовал грубо.
— Теперь, — обратился Нахтмин к Маху, — я хочу, чтобы ты установил, кто те люди, что были посланцами между Майей и Хоремхебом, и обезвредил их. Нет ни малейшего сомнения в том, что Хоремхеб осведомлен обо всем, что происходит в столице.
— Они мне известны, — ответил начальник тайной охраны. — Твое величество, я займусь этим незамедлительно.
Первый советник Усермон продиктовал воззвание об отбытии на Запад царя Хеперхеперуре — это имя получил Ай при коронации. К документу в присутствии царицы была приложена царская печать. Затем Усермон вызвал начальника глашатаев и велел ему, чтобы воззвание было прочитано на площадях города и по всему царству.
Анкесенамон обрадовалась, что теперь наконец-то могла возвратиться в свои покои и немного отдохнуть, прежде чем идти принимать соболезнования. Однако в большом зале первого этажа к ней подошли Нефернеруатон и Шабака. Сестры обнялись.
«У нее хотя бы есть муж», — подумала Анкесенамон. Итшан, естественно, не мог официально быть ее мужем, по крайней мере не при теперешней ситуации. Она рассказала им о решениях, принятых на совещании. Разговор прервал Уадх Менех, который напомнил царице о необходимости выставить тело царя на всеобщее обозрение на три дня, до того как бальзамировщики займутся им.
— Сократи церемонию до двух дней, — приказала она.
Эти три дня могли стать критическими для царства; за эти дни Нахтмин должен был перекрыть дорогу к Фивам, чтобы противостоять проискам Хоремхеба. Не следовало надолго открывать во дворец доступ толпам знатных особ и придворным, как обычно это происходило после смерти правителей. Из большого нижнего зала уже доносился шум голосов первых посетителей.
— И прикажите спрятать все ценные вещи, которые остались в покоях царя.
Ей это было известно из собственного опыта; некоторые посетители не могли устоять от соблазна прихватить из царских комнат какие-нибудь ценности, которые можно было незаметно зажать в руке или спрятать на себе.
— Царевич Шабака это уже сделал, твое величество, — сказал Главный распорядитель церемоний.
Она кивнула. Он поклонился и стал спускаться по лестнице.
Верхушки обелисков уже освещало полуденное солнце, но никому не хотелось есть. Анкесенамон отдала распоряжение подать обед кормилицам. Что же касалось ее самой, то вполне достаточно было хлебца, чаши теплого молока и яблока.
Она вернулась в свои покои вместе с Мутнехмет, привела себя в порядок и покормила Хоренета тем, что приготовила Сати: кашей на молоке с яблоком и половинкой хлебца.
Предстояло долгое ожидание.
22
ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОГОВ
Несмотря на суматоху, царящую в окрестностях дворца из-за непрерывно увеличивающегося потока посетителей, поскольку время для выражения дани уважения усопшему было сокращено до двух дней, весь город, казалось, был окутан плотной пеленой немой тоски.
На улицах не было привычного оживления. Немногие прохожие разговаривали шепотом. Грохот тележки, которого накануне никто и не заметил бы, сейчас представлялся почти непристойным. Даже лай собаки, казалось, требовал вмешательства стражников.
Анкесенамон не помнила, чтобы такое было после смерти ее отца в Ахетатоне, Сменхкары и Тутанхамона в Фивах. Может быть, тогда она не обратила на это внимания? Неужели царь Ай был настолько любим? Или животный инстинкт говорил людям о приближении бури? Но какой бури?
С десяти до двенадцати часов, сидя на высоко установленном троне в Зале судебных заседаний, окруженная стражниками с копьем у ноги, носителями опахал и придворными дамами, она принимала соболезнования придворных и представителей знати.
Нахтмин, у которого еще не было права сидеть рядом с царицей, стоял у подножия трона и принимал соболезнования в качестве названного сына почившего монарха. К Первому советнику Усермону, стоящему слева от него, подходили люди попроще.
Писец, сидевший на корточках позади трона, присутствовал только для того, чтобы описать исключительное событие.
Мутнехмет была не в состоянии выполнять свои обязанности, так как слишком много вынесла испытаний.
Соболезнующие переводили взгляды с командующего на царицу, и она догадывалась, о чем думали эти люди: он теперь был вдовцом, она — вдовой, она и Нахтмин одного возраста, почему бы им не пожениться. По городу, вероятно, уже поползли всякие слухи.
Такого поворота событий Ай, очевидно, не предусмотрел.
Потом царица поднялась в свои покои, совершенно разбитая.
Во время обеда Нефернеруатон заговорила о том, что ее сестра, Мутнехмет и придворные дамы смутно ощущали.
— Но что же все-таки происходит? Город онемел! — сказала она.
Никто не мог ей ответить. Вечером, перед ужином, чтобы разузнать о непонятных передвижениях войск, она повелела вызвать к себе Нахтмина; ей сообщили, что он в гарнизоне Фив и возвратится позже.
Тогда она вызвала Маху.
— Что уже известно?
Он ничего не мог толком объяснить.
— Ничего определенного, твое величество. Один из командиров Хоремхеба сказал нашему посланцу, что его разведка заметила бы передвижение войск хеттов на территории страны Амки. Я не вижу причины для беспокойства. Мы заключили с царем Суппилулюмасом договор о добрососедских отношениях. Даже если там происходит переброска войск, это не может представлять для нас угрозу. Я не понимаю смысла происходящего.
— Что же это может значить?
— Твое величество, я решительно не знаю.
— Следовательно, Хоремхеб планирует какие-то махинации.
— Я тоже склонен так думать, твое величество.
— Сообщил ли ты о твоих сомнениях главнокомандующему Нахтмину?
— Как оказалось, наши мнения сходятся. Он в настоящее время пребывает в казармах гарнизона Фив, чтобы при необходимости организовать отпор войскам Нижней Земли.
Анкесенамон задумалась, потом продолжила:
— Полагаешь ли ты, что у командующего Хоремхеба хватит наглости повести войска Нижней Земли против войск Верхней Земли, которые защищают Фивы?
— Мне это не ведомо, твое величество. Этот человек решил захватить власть, и нам это известно. Но я не сомневаюсь, что как военный он понимает: командиры Нижней Земли никогда не согласятся направлять своих людей против людей Верхней Земли, даже под нажимом.
— Но что тогда означает это мнимое передвижение войск вдоль Стены Принцев? Выманить защищающие Фивы войска?
Она удивилась своей способности думать как военный стратег. Без сомнения, Маху был тоже удивлен.
— Возможно, не войска, твое величество. Не войска.
Она от напряжения вытянула шею.
— Но тогда?..
— Царевича — командующего Нахтмина, твое величество. Если твое величество соизволит вступить в брак с царевичем, путь Хоремхеба к власти будет перекрыт окончательно.
Она подалась вперед. Таким образом, гипотеза приняла определенную форму.
— Царевич Нахтмин об этом знает?
Начальник тайной охраны отрицательно покачал головой. Она велела слуге вызвать Главного распорядителя церемоний. Когда тот явился, она ему приказала:
— Отправьте гонца к главнокомандующему Нахтмину в казармы гарнизона. Он должен незамедлительно прибыть во дворец.
Она повелела не подавать ужин до появления Нахтмина. Он прибыл через час, удивленный, с трудом скрывая свое недовольство.
— Царевич! — обратилась она к нему. — Только ты можешь противостоять планам Хоремхеба. Не позволь обмануть себя так называемой переброской хеттских войск у Стены Принцев. Это лишь повод вытащить тебя из Фив.
И тут его удивление перешло в изумление.
— Твое величество, проявленное тобой внимание для меня большая честь… Но…
— Царевич, больше всего Хоремхеб опасается только одного — нашего с тобой союза.
Он потерял дар речи.
— Царь этого не предусмотрел, — наконец выговорил он.
— Царя больше нет. Мы с тобой, ты и я — стражники царства. Ты не должен рисковать собой.
— Ты права, твое величество.
Смотритель блюд пришел сообщить, что ужин подан.
— Мы не можем поступить иначе — нам необходимо вступить в брак, царевич, — сказала она.
Он улыбается, видимо смущенный этой перспективой.
— Твое величество, возможно ли, чтобы у смертного возникло иное желание?
Она думала о том, что таким образом жертвует Итшаном. Но Начальник конюшен не был представителем власти. А ныне речь могла идти только о власти. Единственным человеком в Фивах, способным противостоять Хоремхебу, был Нахтмин.
Она поднялась и проследовала впереди него в столовую, где их ожидали Мутнехмет, Нефернеруатон и Шабака.
Стойкий запах пота, жареного лука, чеснока — привычная для казарм вонь стояла в длинном нижнем зале, полном сидевших на корточках солдат; здесь была столовая гарнизона Мемфиса. Плотный шум голосов эхом отражался от потолка. Солдаты вносили огромные чаны с бобами и нутом, перемешанными с кусочками отварного мяса и приправленными бараньим или свиным жиром. Другие разносили кувшины с пивом, весьма неплохим, даже по мнению постоянно всем недовольных ворчунов.
У присутствующих в зале явно было хорошее настроение. К солдатам царя уважительно относились в царстве Миср. Им предоставлялось жилье, положено было пропитание и жалованье. Никаких забот — все хлопоты командиры брали на себя, впрочем, получая за это достойное жалованье. Армейская служба состояла в том, чтобы во время военной кампании подвергаться ударам копий, кинжалов или сабель, так же как и стрелам врага, и конечно же, оказывать достойный прием пехотинцам, конникам и лучникам противника. Но войны теперь были редким событием, что, впрочем, вызывало недовольство у командиров. Вот уже девять лет не было настоящей войны с крупными трофеями, как это бывало когда-то: полные тележки добра, колонны пленников, которых продавали в рабство. «Да, красивое зрелище война!» — заявляли командиры. Мирное время неумолимо приводило к упадку в армии, и время правления Эхнатона это доказало: тот не любил войн, и в результате этого царство потеряло территории в Азии, а также уважение к себе и союзников, и врагов.
К счастью, армией отныне командовали настоящие мужчины. Солдаты могли заставить врага умыться собственной кровью, могли вывалять его внутренности в пыли, полоснуть точно по шее, отсечь ногу или руку. Командующий Хоремхеб был отличным воякой. Даже брат Эхнатона, малолетний царь Тутанхамон, который, впрочем, сам не был великим полководцем, пожаловал ему тройное золотое ожерелье в знак признания его исключительных заслуг. Тройное золотое ожерелье! На него можно купить десять самых процветающих скотоводческих хозяйств в Нижней Земле. Но — слава богу Пта! — Хоремхеб был лишен пристрастия к скотоводству.
В военной жизни не хватало лишь одного — возможности удовлетворить плотские желания. Если часть новобранцев имела шанс оказаться недалеко от своих домашних очагов, то остальные могли попасть домой только по разрешению командира один раз в месяц или вообще не побывать там ни разу.
Но своей энергии всегда можно было дать выплеснуться на занятиях борьбой или в тренировочных боях.
Командир Рамзес сел на корточки напротив своего начальника, недалеко от того угла, где разместились берберы, которые считались великими воинами и поэтому имели свою собственную кухню и кашеваров. Они ели только мясо, которое жарилось на открытом огне. Впрочем, Хоремхебу такая еда нравилась. Мясо, приготовленное на огне, сверху покрывалось хрустящей корочкой, а внутри было нежным. Оно было вкуснее, чем отварная свинина, пресная до тошноты. Но нельзя же жарить мясо для целого полка — тогда придется вырубить все деревья. Достаточно того, что солдатам готовили горячую пищу на торфяном костре.
Тридцати лет от роду, пяти футов ростом, с выпирающими мускулами и массивным лицом, человек-кремень, командир Рамзес был боевым товарищем командующего. Они вместе сражались в Амки, и там у них была возможность узнать друг другу цену. Мчась на колеснице, командир конников Рамзес сеял смерть на своем пути. Ему не было равных в умении проткнуть копьем пехотинца, отбросить его со своего пути, вытащить копье из трупа и заняться следующим противником. Однажды он пробил одним копьем двух человек сразу! Двух сразу! Тогда он с трудом вытащил свое копье.
— Что ты ответил посланцам? — спросил Хоремхеб, наливая вино в глиняную чашу.
— Что не вижу смысла в манипуляциях хеттов и что твои отряды патрулируют вдоль стены.
Солдат поставил перед ними большое блюдо с крупными кусками жареной баранины, затем блюдо с салатом-латук, вымытым колодезной водой согласно требованию военного лекаря, отвечающего за здоровье командиров. Хоремхеб схватил кусок мяса и впился в него зубами, но не передними, так как они у него шатались, в отличие от коренных зубов. Его челюсти двигались с таким ожесточением, будто полководец жевал ляжку главнокомандующего Нахтмина.
Поглощение пищи Рамзесом было не менее впечатляющим — он ел, как настоящий хищник.
— Их там, в Фивах, это беспокоит, — возобновил разговор Хоремхеб, выковыривая застрявшее в зубах мясо ногтем. — Это будоражит выскочку. Глупо думать, что я собираюсь бросить свои войска на Фивы. Есть, конечно, шанс, что нервы у него сдадут и он рискнет явиться сюда. И тогда…
Он выпучил глаза, и Рамзес хохотнул.
— Как долго ты намереваешься держать их в напряжении? — спросил командир.
— У меня достаточно времени. Согласно протоколу, царица не может сочетаться браком с выскочкой, пока не истекут семьдесят дней траура, не пройдут похороны.
— Майя тебя будет держать в курсе.
Лицо командующего омрачилось.
— Два дня назад выскочка приказал его арестовать. Надо будет найти другого информатора.
— Они арестовали Майю?
Хоремхеб сокрушенно покачал головой.
— Он поступил опрометчиво.
— Думаю, мы найдем в Фивах того, кто тебе подойдет, — сказал Рамзес.
Хоремхеб внимательно посмотрел на собеседника. Пока он не нашел достойной замены Хнумосу.
— Полагаешь, ты мог бы организовать слежку в Фивах, чтобы при этом сильно не отвлекаться от твоих постоянных обязанностей?
— Это не займет у меня много времени, — ответил Рамзес. — Дело не очень сложное.
— Во дворце мне очень бы хотелось иметь своего человека, — заявил Хоремхеб.
Он опустошил свою чашу, громко рыгнул, схватил лист салата и съел его с задумчивым видом.
Он вспомнил о том, что ему когда-то говорил Нефертеп. Пта был богом Мемфиса, а Амон — богом Фив. Стало быть, сейчас они противостоят друг другу. Он решил, что при случае нанесет ответный визит Нефертепу.
23
ЖЕНЩИНА ПРОТИВ КОЛОССА
Прощание с царем, который отбывал на Запад, происходило в большом зале цокольного этажа, который использовался для этих целей еще со времен Аменхотепа Третьего. Именно там четыре года назад Фивы прощались с Тутанхамоном. Сразу после этого царские останки перенесли в другой зал, расположенный с северной стороны дворца, и отдали во власть бальзамировщиков, и вовремя: от жары труп постепенно приобретал зеленый цвет. Вокруг вились мухи.
На этот раз на церемонии присутствовали главы всех ведомств, начальник гарнизона Фив, командующий Анумес, начальник стражи дворца, сорок один дворцовый служащий, смотритель царской Казны, начальник Службы рта, Первый помощник, хозяйка гарема, Начальник конюшен, секретари, писцы и члены царской семьи. С рассветом Усермон послал верховых гонцов в Ахмим известить Себатона, Сагора и других детей Ая, а также наместника царя Гуя. Они не успевали на церемонию прощания, так что должны были прибыть уже на похороны.
Анкесенамон стояла одна в первом ряду. За нею стояли Мутнехмет и Нахтмин, а дальше Нефернеруатон и Шабака. Главному распорядителю церемоний Уадху Менеху с трудом удалось расположить их по старшинству. От отчаяния он выстроил их согласно старому протоколу: царственная супруга, дети, родственники второго ранга. Шабака не должен был находиться впереди, но как супруг сестры царицы он занял место среди родственников второго ранга.
Хумос и пять жрецов, явившиеся вознести молитвы, сгрудились вокруг пышного ложа, которое было обтянуто пурпурной тканью, расшитой золотом.
В большом дворе раздались причитания плакальщиц. Жрец запел:
Фараон идет к тебе, Амон-Pa, владыка Карнака. Он говорит, что ты творишь добро, что ты избавляешь от всего плохого и пагубного…
Услышав, как кто-то всхлипнул, Анкесенамон обернулась и увидела, что у Шабаки от напряжения сведено судорогой лицо; он едва сдерживал рыдания.
…Он идет созерцать твою красоту. Он на борту твоей лодки Сакти для того, чтобы обойти подводные камни нижнего мира и подняться к тебе. Когда он отправится на Запад, и Маат и Анубис его очистят, они приведут его к тебе, чтобы он впитал твое великолепие и твою силу…
Молились в течение часа. Затем в зале судебных заседаний снова стали звучать соболезнования. Необычным было то, что Шабака также принимал соболезнования. Ничто не позволяло предположить, что он воспринимал происходящее с иронией. Он остался на ужин и казался растерянным.
Итшан во время трапезы ощутил беспокойство Анкесенамон. Когда ушли гости, он спросил:
— Могу ли я увидеть Хоренета?
Она была удивлена просьбой — обычно он навещал ребенка, не спрашивая позволения.
— Ну конечно же! — ответила она. — Почему ты у меня об этом спрашиваешь?
— Ты знаешь почему. Со смертью Ая все изменилось. Нет сильного мужчины, кроме Нахтмина, чтобы защитить трон. Все во дворце говорят о том, что по окончании траура ты выйдешь за него замуж. Было бы удивительно, если бы ты этого не сделала. Для этой ситуации такое решение самое благоразумное. Значит, ребенок принадлежит только тебе. Династии.
«Снова династия!» — подумала она. Неужели у нее отнимут последнее утешение, которое еще оставалось? Интересы династии перечеркивали ее собственное существование. Вот уже ребенок и его отец становятся всего лишь изображениями на барельефе, и они тоже.
У Итшана был живой ум. Теперь в его речах звучала то ли грусть, то ли горечь. Она положила руку ему на плечо.
— Я страдаю не меньше тебя. Давай навестим ребенка, — сказала она, снимая сандалии. Он сделал то же самое.
Он спал в своей колыбели. Сати, лежа в углу комнаты, около корзины с кобрами, притворилась, что не слышит, как они вошли, хотя слух у нее был тоньше, чем у мыши, и ее госпожа об этом знала. Что касается кормилицы, то та действительно спала — она очень шумно дышала. Анкесенамон не мешало присутствие Сати.
Итшан склонился над ребенком и погладил пальцем маленькую ручку, лежащую поверх простыни.
Они вышли из комнаты так же тихо, как и вошли туда, то и дело касаясь друг друга.
— Давай пойдем спать, — предложила она Итшану. — Если ты не можешь быть защитником трона, то, по крайней мере, будешь защитником моего сна.
Она страстно отдалась ему. Он щедро осыпал ее ласками. Она мимолетно подумала о Меритатон, затем заснула на плече у Итшана.
На следующий день Главный распорядитель церемоний сообщил о том, что солдаты смерти — как иначе их можно было назвать? — под командованием мастера-бальзамировщика Асехема прибыли во дворец.
Они явились со своими инструментами — кремневыми орудиями, скребками, крюками, а также взяли с собой подстилки, чаши, сумки с содой и пряностями, нитки для шитья и расположились в бывшем складе, одном из наиболее удаленных строений.
Обитателям первого этажа было трудно не думать о похоронных действах, которые проходили в цокольном помещении.
Единственным убежищем была терраса. На какое-то время Анкесенамон велела перенести туда свое ложе. Когда становилось прохладней, легкий бриз прогонял эти ужасные мысли и видения трупа, который солили, как морскую сельдь. Шабака был первым, кто присоединился к царице. На этот раз он вызвал у Анкесенамон жалость.
— Он только вывел меня на вершину жизни, как сам оттуда сошел, и теперь все рушится! — жаловался он.
— У тебя есть супруга, о которой ты не смел прежде мечтать, и здоровый ребенок.
— Это только усиливает мою печаль, — пробормотал он.
Так прошло десять дней. Нездоровое затишье, время от времени вызывающее приступы беспокойства, царило во дворце.
Во второй половине дня, в то время, когда Анкесенамон дремала, за дверью комнаты послышались приглушенные голоса. Она узнала голос Итшана и стремительно вскочила, чтобы открыть дверь. Это действительно был он, но она его едва узнала. Шабака маячил за ним, как черный призрак.
Выпучив глаза и раскрыв рот от страха, он не мог произнести ни единого звука. Она не удержалась и выругалась.
— Что?
— «Мудрость Гора», — начал говорить Итшан.
Корабль Первого советника.
— Нахтмин? — воскликнула она.
— «Мудрость Гора» затонул. Нахтмин был на борту.
Она распахнула дверь. Нефернеруатон как раз подошла и стала рядом с Шабакой.
— Когда?
— Приблизительно два часа тому назад.
Позади Итшана, Шабаки, Нефернеруатон сгрудились кормилицы. Скоро к ним присоединился Уадх Менех.
— Неужели он не мог спастись?
Было время паводка, она знала неистовую силу течений.
— Его нашли?
Итшан покачал головой; в это время года тело человека, утонувшего в Мемфисе, могло вынести возле Авариса. Значит, царевич Нахтмин, главнокомандующий, не мог быть даже погребен.
Ему было отказано в вечной жизни. Навсегда лишь немая тень.
— Но куда он направлялся? — спросила она.
— Я слышал, что он собирался посетить гарнизон на севере Фив, — ответил Итшан.
Она вернулась в комнату, поправила парик и снова вышла в коридор.
— Предупреди глав ведомств, — приказала она Уадху Менеху. — Мы собираемся в царском кабинете.
У них также еще продолжался послеобеденный отдых. Потребовался целый час на то, чтобы их собрать. Никто не знал о смерти Нахтмина, и поэтому все были недовольны тем, что их так срочно собирали.
Анкесенамон сообщила им новость. Казалось, это их убило.
Она вызвала писца.
— Первый советник, — сказала она Усермону, — продиктуй воззвание: ввиду смерти царевича Нахтмина, назначенного покойным царем регентом, царица становится регентшей.
Усермон, еще не придя в себя после сообщения о смерти царя, нерешительно повернулся к главам ведомств.
— Это наиболее разумное решение, — согласился Маху.
Преемник казначея Майи, Хапон, потерял дар речи. Мертвенно-бледный Пентью заявил, что согласен с мнением начальника тайной охраны. Глава судебного ведомства Пертот подтвердил законность решения. Тогда Усермон продиктовал воззвание.
— Вызовите командующего Анумеса, — приказала Анкесенамон.
Он был начальником гарнизона Фив, другом Нахтмина.
Его прибытия ожидали молча. Маху незаметно посматривал на царицу, будучи удивлен этим внезапным проявлением властности. Внезапно он вспомнил о другом кораблекрушении, малозначащим по сравнению с тем, что случилось с «Мудростью Гора», о крушении плавающего дома терпимости «Лотосы Мина», который был собственностью сеида Хоремхеба. Судно Первого советника не могло затонуть случайно — это был новый корабль, на который он поднимался много раз. Если бы нашли обломки судна, вероятно, обнаружили бы дыру, просверленную коловоротом. Нахтмин был обязан накануне своего визита сообщить о нем в северный гарнизон, а шпион Хоремхеба сделал свое дело.
Наконец прибыл Анумес, расстроенный, так как узнал об этой новости в пути. Нахтмин был его товарищем в юности и армейским другом; они вместе участвовали в двух кампаниях в стране Куш. Он хмуро, с безысходностью окинул взглядом глав ведомств и царицу. Он еще не успел заверить ее в своем полном подчинении ее власти, как она ему заявила;
— Я тебя назначаю главнокомандующим армии царства, ты теперь преемник царевича Нахтмина. На этом основании я тебя обязываю подавлять любой бунт и воспрепятствовать всякой угрозе трону.
Анумес подавил вздох и повторил заверения о своей преданности трону и царству в целом. Он знал, какова ситуация в Двух Землях, но почему-то заговорил о том, что Хоремхеб не затеет никакого бунта, так как дорожит единством армии. Он двинулся на Фивы, и его поступь была неудержимой и размеренной, как у одного из тех колоссов, что украшают входы в храмы. Анумес заявил, что надо начать с ним переговоры.
Когда он ушел, царица и главы ведомств обменялись мрачными взглядами.
— Твое величество, — наконец, сказал Маху, — оплот трона не Анумес, а ты.
Анкесенамон ничего не ответила. Она это уже поняла.
Одинокая женщина противостояла колоссу.
24
ПРЕЗРЕНИЕ
Новость о гибели Нахтмина распространилась в городе со скоростью нашествия мышей. В три часа пополудни уже не было ни одного человека, кто бы об этом не знал.
В последующие часы Фивы и дворец готовились к вторжению войск Хоремхеба, по крайней мере, к появлению его разведчиков. Но ничего не происходило. Ни малейшего намека на передвижение войск по дороге или на кораблях.
Атмосфера за ужином во дворце была зловещей. Единственно о чем поговорили, так это об удочерении царицей маленькой Нефериб, дочери Нефернеферуры и Нахтмина, которая осталась сиротой.
Заведение Несхатор пустовало.
И на следующий день войска не появились.
Обломки потерпевшего крушение корабля «Мудрость Гора», обнаруженные речной охраной, Маху изучил сам. В корпусе была большая дыра.
— Не мог ли это быть сучок дерева, который просто вывалился? — предположил кто-то при осмотре обломков корабля.
— Это невозможно, — возразил Маху.
Он восстановил картину покушения: дыра, вероятно, была временно закрыта, и эта затычка выскочила, когда пассажиры поднялись на борт судна.
Спустя два дня Анкесенамон вызвала Маху, чтобы узнать, насколько вероятно наступление войск Хоремхеба.
— Согласно сообщениям, которые я получил этим утром от гонцов, войска командующего Хоремхеба остаются в Мемфисе, твое величество. Между тем хозяйственные службы получили приказ о подготовке к перемещению трех тысяч человек в неопределенный день.
— Три тысячи человек? — удивилась Анкесенамон. — Стало быть, он готовится к военным действиям.
По прошествии восьми дней после смерти Нахтмина Маху пришел сообщить Анкесенамон о том, что командующий Хоремхеб прибыл на колеснице во главе отряда конников и что он отправился в казармы гарнизона Фив, где был принят главнокомандующим Анумесом. Его проезд по северным окрестностям столицы сопровождался радостными криками толпы. Но еще важнее было то, что появление Хоремхеба в казармах также было встречено здравицами солдат. Анумес организовал пир в честь Хоремхеба и его командиров, который длится до сего момента.
— Отряд кавалерии? Это не похоже на наступление войска, — заметила царица.
— Действительно, твое величество. Но я уже выражал сомнение относительно захватнических планов командующего Хоремхеба.
— И Анумес дал в его честь пир?
— Он не мог этого не сделать, твое величество: Хоремхеб — командующий армией Нижней Земли и герой, которого почитают все военные.
— Почему он пришел в Фивы?
— Он был приглашен советом командиров.
— Командирами Фив?! — воскликнула она.
Маху сокрушенно покачал головой.
— Они считают, что после смерти Нахтмина только Хоремхеб может быть главнокомандующим армии Двух Земель.
Это сообщение встревожило Анкесенамон. Она верила, как и все, что гарнизон Фив был предан Нахтмину и враждебно настроен по отношению к Хоремхебу. Но в среде военных было свое понимание преданности и чести, которое не соответствовало принятому во дворце.
Если он был в казармах, значит, вскоре появится в городе. Уже все во дворце, представители знати и тебаины только и говорили что о его прибытии. Никто не знал, зачем он явился, но предполагали, что Хоремхеб пришел взять в свои руки управление царством, если не корону.
Все-таки вторая половина дня прошла спокойно. Не было ни малейшего намека на то, что Хоремхеб намерен явиться в город. Неужели он решил начать осаду дворца ночью? Стражники были приведены в состояние боевой готовности. Ночью ничего не произошло.
На следующий день, около полудня, Маху сообщил царице, что Хоремхеб и его люди провели ночь в казарме, затем командующие Анумес и Хоремхеб отправились в Карнак, чтобы там принести жертву Амону-Ра, покровителю армий царства. Они долго беседовали с верховным жрецом Хумосом.
В это время бальзамировщики продолжали свою работу. Внутренние органы усопшего царя были изъяты и помещены в чашу из алебастра. Были заказаны саркофаги. Приступили к делу золотых и серебряных дел мастера. В месте Маат готовили гробницу для царя.
Мутнехмет была на грани нервного срыва: само присутствие во дворце делало ее заложницей бывшего мужа. Вызвали Сеферхора, чтобы он дал ей успокаивающей микстуры. Шабака, казалось, был парализован — настолько его охватила тревога. Он поделился своими предчувствиями с супругой, Нефернеруатон.
— Чего вы опасаетесь? — раздраженно спросила Анкесенамон. — Он же не собирается вас убить!
— Разве ты не понимаешь, что означает отсутствие у него интереса к дворцу? — заговорила Мутнехмет. — Он считает, что ты для него ничего не значишь! Он приезжает в казарму гарнизона на колеснице, его тепло встречают, и он ведет себя так, как будто дворца не существует! Он нами пренебрегает!
Анкесенамон согласилась с тем, что в ее словах есть доля правды, но, тем не менее, она не переживала по этому поводу, как муха под чашей.
Итак, прошла еще неделя, и Хоремхеб направил наконец командира Рамзеса к Первому советнику Усермону. Тот, удивленный, принял его, оказав почести, соответствующие его рангу. В действительности командиру высокого ранга разрешалось просить аудиенции у Первого советника, тем более что Рамзес представился как посланник командующего армией Нижней Земли.
— Мой начальник, командующий Хоремхеб, — начал Рамзес, — просил сообщить тебе, что он расположится в этот вечер во дворце, в помещении, которое раньше занимал покойный командующий Нахтмин, причем останется там на весь срок своего пребывания в Фивах.
Усермон был ошеломлен. Неужели Хоремхеб действительно намеревался расположиться во дворце? Волк вознамерился устроиться в хлеве? Такая наглость свидетельствовала о том, что могли оправдаться самые худшие опасения тех, кто был близок к царской семье. Но Первый советник оказался в затруднительном положении: на самом деле, это помещение было отдельно стоящим строением, которым распоряжались военные. Принимая во внимание то, что Анумес получил звание главнокомандующего, он имел право устраивать там всех, кого сочтет нужным. Разве что после отстранения Анумеса Усермон мог пойти против его желания.
— Но этими помещениями распоряжается главнокомандующий Анумес, — возразил он.
— Главнокомандующий Анумес уступает их командующему Хоремхебу, — заявил Рамзес, насмешливо глядя на Первого советника. — Я здесь только потому, что командующий Хоремхеб решил оказать тебе любезность, предупредив об этом.
Это означало, что Анумес был заодно с Хоремхебом. Главнокомандующий отвечал за то, чтобы в стране был порядок, и обязан был подавлять любые попытки бунта. Но до сих пор не наблюдалось никаких признаков бунта. Но позиция Анумеса все же была шаткой: будучи главнокомандующим, он также являлся и главой военного ведомства. Что касается предупредительности Хоремхеба, то его действия скорее перевернули все с ног на голову. Дворец и главы ведомств были поставлены перед уже свершившимся фактом.
— И что дальше? — спросил Усермон.
— Я не понимаю твоего вопроса, Первый советник.
— Что намеревается делать командующий после этого?
— Об этом надо спросить у него, Первый советник, — ответил командир Рамзес, вставая. — Желаю тебе приятного вечера.
Он направился к двери и в сопровождении четырех младших командиров, выполняющих функции охранников, прошел через Большой зал. Пятеро мужчин энергично спустились по лестнице, шлепая сандалиями и бряцая саблями. Вскоре торопливо вышел Усермон, но направился в другую сторону — к царице.
Вначале она слушала его недоверчиво.
— Но это совершенно невозможно! — воскликнула она. — Неужели Хоремхеб собирается устроиться во дворце? Но как ты мог допустить это?
— Твое величество, что я мог сделать? Царь Ай передал это помещение главнокомандующему. Теперь только Анумес им распоряжается.
Она сделала сотню шагов, задыхаясь от гнева.
— Ты отдаешь себе отчет! — кричала она. — Хоремхеб — во дворце!
Ее крики встревожили Нефернеруатон. Узнав, что произошло, она с трудом подавила крик ужаса. Прибежав вслед за нею, Мутнехмет оставалась на удивление бесстрастной; без сомнения, это был результат действия микстуры Сеферхора.
— Но это помещение не является частью дворца, — настаивал Усермон.
— Как это оно не является его частью? — снова закричала Анкесенамон. — Оно прилегает к дворцу!
Вскоре прибыл Шабака, и Нефернеруатон ввела его в курс дела. Он вытаращил от ужаса глаза.
— Вызови главнокомандующего Анумеса! — приказала Анкесенамон.
Усермон не ответил; он опустил глаза и, выждав момент, сказал:
— Я настоятельно прошу твое величество успокоиться. Я не верю в полезность пробы сил. Это нас ослабит. Уже очевидно, что Анумес примкнул к Хоремхебу. У нас нет ни малейшего шанса противостоять размещению Хоремхеба в помещениях, которые принадлежат военным.
Спокойствие Усермона привело в оцепенение царицу. Установилась тягостная тишина.
— Предупреди глав ведомств, — сказала она.
Весь вечер было слышно, как по плитам двора перетаскивают мебель, которую Хоремхеб привез с собой.
В эту ночь во дворце мало кто спал.
Впрочем, обитателям царского дворца стоило поберечь силы для того, что их ожидало на следующий день.
25
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП И ВОЕННОЕ МОГУЩЕСТВО
Хранительнице румян пришлось потрудиться, чтобы придать свежесть лицу царицы. Надо было сделать маску из огурца, затем другую — из белка. Круги под глазами были искусно скрыты сурьмой. Наконец царственное лицо посвежело. С помощью румян было завершено сокрытие результатов недовольства и бессонницы.
В десять часов Усермон попросил царицу об аудиенции.
— Твое величество, — начал он, — главнокомандующий Анумес просит провести совещание в царском кабинете.
— Чего еще хочет этот предатель?
— Мне сие не ведомо, твое величество. Он уточнил, что будет говорить только перед твоим величеством и всеми главами ведомств.
— Тогда собери их.
— Я это сделаю с твоего разрешения, твое величество. Как только они соберутся, твоему величеству сообщит об этом посланец.
Она подозревала, что в действительности на тот момент все уже собрались, ибо приблизительно через двадцать минут посланец пришел сообщить о том, что ожидают только ее величество.
В сопровождении носителей опахал и секретаря она покинула свои покои. При ее появлении в царском кабинете все главы ведомств поклонились, высказали царице полагающиеся в этом случае пожелания и заявили о своей преданности. Она села и окинула взглядом собравшихся, задержав взор на Анумесе. За исключением последнего, у всех были слегка помятые вытянувшиеся лица; без сомнения, все они спали не намного больше, чем царица. Вероятно, причина была важной, если они собрались так быстро. Усермон открыл заседание.
— С позволения ее величества мы выслушаем главнокомандующего, который просил об этом собрании.
— Мое дело простое, — сказал Анумес. — С согласия ее величества я прошу назначить вместо меня преемника.
Это было сказано бесстрастно, лицо Анумеса выражало смирение.
— Главнокомандующий назначен ее величеством с одобрения глав ведомств, — заметил Усермон.
— Поэтому я уточнил: с согласия ее величества, — ответил Анумес покладисто.
— И кто бы им мог стать? — спросила Анкесенамон.
— Командующий Хоремхеб.
В течение нескольких секунд никто не произнес ни слова. Просьба была оскорбительна. Но Анумес явно не собирался спровоцировать скандал.
— Ты предоставил ему помещение главнокомандующего Нахтмина и теперь хочешь отдать ему свою должность, — сказал Усермон.
— Я делаю это не потому, что так хочу. Меня заботит единство армии, — пояснил Анумес. — Вчера на совете командиров мне сообщили о том, что после смерти главнокомандующего Нахтмина его место должен занять наиболее мужественный из военных, командующий Хоремхеб. Как бы уважительно они ко мне ни относились, в чем меня заверили, они все же считают, что мое назначение на этот пост не более чем хитрость, придуманная, чтобы не отдать эту должность Хоремхебу.
— Наверняка эти командиры прибыли из Мемфиса, — заключил Усермон.
— Нет, Первый советник, это командиры фиванского гарнизона. Те самые, которые пригласили сюда командующего Хоремхеба. Ее величество возложила на меня ответственность за армию царства Миср с тем, чтобы обеспечить в стране спокойствие. Я надеюсь выполнить мою задачу при условии, что царская власть откажется от попыток разделить армию.
— Почему ты говоришь о разделении? — спросила царица.
— Твое величество, то, что командиры просят о назначении начальника столь высокого уровня — это уже исключительное событие. Командиры фиванского гарнизона столь же благосклонны к Хоремхебу, как и командиры Мемфиса. Никто не может игнорировать их мнение. Если они будут разочарованы, то, полагаю, разделение армии произойдет незамедлительно. И более того, я опасаюсь, что тогда моя власть будет оспорена. Это вряд ли будет способствовать единству армии.
Это не была речь мятежника. Анумес говорил спокойно, несомненно, он очень устал, но его аргументы звучали убедительно. Тем не менее такое назначение открывало Хоремхебу путь к абсолютной власти.
— Неужели никого из командиров не удивила гибель командующего Нахтмина? — спросил Маху.
— Насколько мне известно, никого, — ответил Анумес.
— И тебя?
— Почему я должен был удивиться?
— Я лично осматривал обломки корабля. В днище была дыра, которую явно кто-то пробил.
— Начальник охраны, — сказал Анумес после размышления, — я не подвергаю сомнению то, о чем ты говоришь, но тебе хорошо известно, что этот факт не может быть использован против Хоремхеба. Это вызвало бы только скандал и подозрение, что этим его враги пытаются опорочить командующего. Главнокомандующий Нахтмин был моим другом, самым дорогим моему сердцу. И то, что ты мне говоришь, подобно игле, пронзающей его. Но тот же Нахтмин не допустил бы разглашения всего того, о чем ты мне поведал.
«Как и в других подобных случаях», — подумала Анкесенамон. Больше всего страдали те, кто выступал в роли обличителя.
Она посмотрела на Усермона. Тот казался поглощенным своими размышлениями.
— Я думаю, — заключил Усермон, — что в интересах династии благосклонно отнестись к предложению главнокомандующего Анумеса.
«Опять династия, — подумала Анкесенамон. — Стало быть, в интересах династии мне следует впустить во дворец человека, который собирается ее уничтожить. Неужели действительно в интересах династии? Или, скорее, в интересах страны?»
Усермон, который, впрочем, многое перенял от Ая, горел желанием выпутаться из создавшегося весьма опасного положения. С минуты на минуту во дворец могли ворваться военные, отныне преданные Хоремхебу, уничтожить глав ведомств и даже царицу и навязать свою волю стране. Если они этого еще не сделали, так только потому, что опасались реакции жрецов. Ибо проклятие, которое могло быть наложено на них в этом случае, привело бы к тому, что возмущенный народ жестоко расправился бы с ними. Все-таки этот трус не решился на такой риск.
— Что думает начальник охраны Маху? — спросила царица.
— Я думаю, наш долг — избежать конфликта, который может угрожать стабильности царства,
на укрепление которого великая династия потратила столько сил.
Анкесенамон уловила нюанс: Маху имел в виду, что династия служила интересам страны. Тогда династия, по крайней мере, заслуживала определенных привилегий.
— Наши союзники и наши враги, — продолжил Маху, — достаточно быстро узнают о ситуации в Двух Землях. Я опасаюсь, что, если мы откажемся уступить пожеланию главнокомандующего Анумеса, они воспользуются этим, чтобы напасть на нас.
— Что думает глава судебного ведомства?
Сдержанный сорокалетний мужчина с гладким и задумчивым лицом, Пертот, медленно наклонил голову, как если бы именно такой угол наклона черепа был наиболее благоприятным для появления светлой мысли. Затем он поднял ее.
— Я просто хотел бы отметить, что сложившееся положение, на мой взгляд, не соответствует нашим традициям: военная власть, как мне кажется, навязывает решение божественной власти, которая воплощена здесь в ее величестве. Божественная власть — простите меня за то, что напоминаю об этом, — вдохновитель принципов правосудия, в то время как военная власть обязана придерживаться их и быть гарантом их исполнения.
Он сделал паузу, посмотрел на собравшихся и отстраненно улыбнулся.
— Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, возможно, это уже слишком — спрашивать об этом, главнокомандующий? — он повернулся к Анумесу. — Пожелает ли командующий Хоремхеб после назначения подтвердить свою беспрекословную верность ее величеству?
Воцарилось молчание, смутившее всех. Главы ведомств растерянно переглянулись. Пертот им напомнил о самых священных принципах царской власти: именно военные должны выполнять приказы царя или царицы, а не наоборот. Охваченные тревогой, но в то же время стремясь любой ценой предотвратить опасность, исходящую от Хоремхеба, они были готовы уступить.
— Я хочу надеяться, — быстро сказал смущенный Анумес, — что командующий Хоремхеб не видит причин поступить иначе.
Маху покачал головой.
— Стало быть, клятва верности будет произнесена перед всеми нами? — грозно спросил он.
«Но чего может стоить клятва такого человека?» — подумал он. Анкесенамон начинала понимать: Хоремхеб уже проник во дворец и вскоре получит доступ в царский кабинет.
Писец переписал указ об отставке главнокомандующего армии Анумеса и назначении на эту должность командующего Хоремхеба.
Вечером от неистовых здравиц дрожали стены зданий гарнизона. На следующий день постоянные поставщики хозяйственной службы гарнизона узнали эту новость. Она незамедлительно распространилась за пределы Фив. Никто не умеет так быстро распространять новости, как зеленщики.
В тот вечер клиенты, пришедшие развлечься в «Милый дом», наткнулись на закрытую дверь. И в следующий вечер. И еще, и еще. Заведение открылось через неделю, под уже известной вывеской «Лотосы Мина». Почувствовав, что ветер поменялся в пользу властителя Мемфиса, бывший хозяин заведения Птапеседж, чья барка при загадочных обстоятельствах затонула, примчался в Фивы, чтобы взять реванш над своей соперницей. Найдя помещение пустым, он его захватил, не теряя времени.
Почуяв опасность и устав ощущать на себе судороги дворца, госпожа Несхатор отбыла в неизвестном направлении вместе с бесхвостой макакой, которая досталась ей от Шабаки. Некоторые клиенты пытались разузнать, куда она уехала, но напрасно: никто об этом ничего не знал, даже ее бывшие танцовщицы.
Она добралась на лодке до Авариса и оттуда, уже на торговом судне, отправилась в северную часть страны. Несколькими неделями позже одна недавно прибывшая в эти края госпожа открыла в Библосе, что на хеттской земле, дом танцев под названием «Улыбка Астарты». Богиня ей действительно улыбалась.
Очевидно, это была госпожа Несхатор.
Было похоже, что нетерпеливый Хоремхеб уже приступил к исполнению новых обязанностей. Каждое утро после того, как Хоремхеб въехал в помещение, принадлежавшее военным, Начальник конюшен Итшан видел, как конюх командующего приходит в восстановленные конюшни за лошадьми своего господина и командира Рамзеса и ведет их к хозяевам, которые отправлялись затем в гарнизон. Хоремхеб не изменил своих привычек даже после своего необычного назначения главнокомандующим армии.
Вновь этот человек относился к властителям страны, как к слугам.
Задетые такой бесцеремонностью, главы ведомств все же воздержались от того, чтобы противоречить ему. Хорошо знавшая своего бывшего супруга, Мутнехмет была права: Хоремхеб вел себя так, как если бы его назначение было всего лишь вопросом времени и простой формальностью. Вскоре он уведомил глав ведомств о том, что отныне они подчиняются ему. Он не был главой военного ведомства, но командовал всеми остальными.
Минуло тридцать дней с тех пор, как бальзамировщикам были переданы останки Ая. Приближенных царицы волновало то, что произойдет через четыре декады, когда бальзамирование будет завершено и саркофаги будут готовы. Все задавались вопросом, кто тогда возглавит траурную процессию, иными словами, кто публично объявит себя духовным наследником монарха? И буквально все, начиная с Усермона, размышляли над тем, не собирается ли Хоремхеб водить всех за нос до этого момента, чтобы тогда нанести сокрушительный удар.
Вряд ли раньше мог представиться ему случай. Через неделю после своей отставки командующий Анумес сообщил Усермону о том, что Хоремхеб пожелал, чтобы его наконец ввели в должность главнокомандующего. Первый советник предупредил царицу, и она повелела созвать глав ведомств.
Словно парализованные, обитатели дворца смотрели, как командующий в сопровождении двух командиров, одним из которых был Рамзес, проходил через парадную дверь дворца, после чего распорядитель церемоний побежал предупредить Уадха Менеха, и тот, встретив посетителя, пошел перед ним к парадной лестнице, ведущей к царскому кабинету. Главный распорядитель церемоний сообщил ее величеству и собравшимся в кабинете главам ведомств, что командующий Хоремхеб ожидает приема.
Усермон напомнил Анумесу: Хоремхеб может быть облечен властью, только если соблюдет все требуемые церемонии. Он должен опуститься на колени перед царицей, выразить ей свою безграничную преданность и не подниматься до тех пор, пока она не разрешит это сделать.
Вошел улыбающийся Хоремхеб, окинул взглядом место действия, направился к царице и, действительно, опустился перед нею на колени, затем произнес стандартные фразы о своей верности и по приглашению царицы поднялся. Его место было между Маху и Пертотом.
Он спокойно занял свое место, тогда как остальные были напряжены. Анкесенамон внимательно смотрела на него: ее все в нем отталкивало. Крестьянское телосложение, широкое плутоватое лицо, большие волосатые руки, массивные ноги, наглая уверенная ухмылка — он был воплощением грубой силы, противоположностью аристократической утонченности, которой она дышала с детских лет. Он принадлежал к другому миру.
Именно он заставлял сжечь живьем Итшана и утопить Нахтмина.
— Командующий, — сказал ему Усермон, — ее величество дает свое согласие на то, чтобы ты был назначен главнокомандующим армии и главой военного ведомства. Тебе разрешено принимать участие в заседаниях глав ведомств. Пожелание ее величества, которое для всех нас закон, заключается в том, чтобы ты сохранял верность трону, как того требует традиция.
— Я знаю эту традицию, и она мне кажется необходимой, — отозвался командующий.
Он снова стал на колени перед царицей.
— Клянусь Амоном служить трону с совершенной преданностью и защищать его всеми силами своей души и тела.
Всех это смутило. Значит, об этом военном у них сложилось превратное мнение? А он, как оказывается, человек достойный. Анкесенамон попросила его подняться. Он вновь сел на свое место и продолжил:
— Считаю за честь и счастлив сообщить ее величеству и главам ведомств о мерах, которые собираюсь предпринять, чтобы поднять на новый уровень возглавляемые мною армии. Армия Двух Земель является гарантом единства страны и расширения ее границ. Никто из здесь присутствующих, как я предполагаю, не желает больше видеть нашу страну униженной тем, что некоторые наши провинции вырваны у нас врагами и союзниками.
Это было открытое осуждение той политики, которой придерживались правители со времен Эхнатона и которая так и не была изменена последующими правителями. Анкесенамон понимала, что правомерность этой политики снова ставили под сомнение.
— Действительно, никто этого не желает, — парировала она. — Ты это обсудишь с Первым советником и казначеем.
Хоремхеб нагло посмотрел на нее, приняв затем простодушный вид.
— Коль уж мы заговорили о казначее, твое величество, — продолжил он насмешливым тоном. — Не кажется ли тебе странным то, что Майя находится в тюрьме по обвинению в дружеских отношениях с главнокомандующим?
Удар был жестоким.
То, на что указывал Хоремхеб, действительно было за пределами здравого смысла. Достаточно было начать процесс по делу Майи, и судей осмеяли бы. Теперь, когда Хоремхеб стал главой ведомства, трудно было обвинить его в бунте. Он мог бы ответить: «Если вы меня считаете предателем, почему тогда назначили на должность? Потому что испугались?»
Лицо Усермона стало цвета проваренного лука-порея. У Маху был вид помятого салата-латук. Пентью прикусил губу: он одобрил арест Майи, и, разумеется, тот его за это не поблагодарит. Только Пертот сохранял спокойствие.
— Командующий, — сказал он, — ты не можешь не знать, что многие люди в Фивах подозревали тебя в том, что ты готовишься к осаде города. Похоже, они были плохо информированы, и настоящее собрание это доказывает. Но все же это допускал главнокомандующий Нахтмин, который попросил об аресте Майи. Мы все рады тому, что подозрения относительно тебя оказались необоснованными. И я считаю, что, действительно, заточение казначея Майи теперь неправомерно. Я собираюсь обратиться к ее величеству с предложением освободить его без проведения судебного процесса.
Анкесенамон оценила умение Пертота огибать острые углы, соблюдая внешние приличия. Она заявила:
— Я оставляю решение за Первым советником.
Усермон выглядел не лучшим образом.
— Я думаю, что довод главы судебного ведомства благоразумен. Я собираюсь отдать приказ об освобождении казначея Майи.
Хоремхеб наблюдал за ними словно перекупщик, который рассматривает корову, желая ее перепродать.
Анкесенамон испытала чувство отвращения к себе. Та же Исис не захотела бы подвергнуться такому позору.
Командующий Хоремхеб одержал победу по всем пунктам.
Главам ведомств пришлось проглотить недовольство: месть Майи оказалась приправленной перцем.
26
ОСКОЛКИ СТЕКЛА, РАЗБРОСАННЫЕ ДИКОЙ СВИНЬЕЙ ВОЗЛЕ ЛАП ЛЬВА
Этот нелепый обычай соблюдался строго, как закон. Труп старика, который весит столько же, как и половина маленького мешка бобов или две вязанки лука, или три куропатки, короче говоря, человеческую оболочку, пропитанную содой и набитую дорогостоящими пряностями, следовало по традиции поместить в три, вставленные один в другой, еще более дорогостоящих саркофага, которые, в свою очередь, вставляли в четвертый саркофаг из розового гранита. Затем в окружении невероятно роскошной обстановки, при участии целого войска жрецов, в сопровождении армейских отрядов и представителей знати, эти пустые объекты, внутри которых находился пустой труп, доставляли к месту захоронения царей — место Маат — и устанавливали в разукрашенную гробницу. Стоимость захоронения была такой, что можно было бы в течение целого года кормить приблизительно миллион жителей Долины.
[45]
Также огромное богатство превращается в клубы дыма при сожжении благовоний во время чтения наизусть писаний, позволяющих царю Аю слиться с вечностью после осуществления всевозможных договоренностей с богами Тотом и Анубисом и грозной богиней Маат.
Всю свою жизнь каждый крестьянин Долины тяжко трудился только ради того, чтобы хотя бы приблизиться к этой безумной роскоши — вечности. По достижении возраста пятнадцати лет жителей страны усердно готовили к их последнему путешествию — на Запад, куда каждый вечер, все больше и больше старея, направлялся Ра, чтобы снова и снова возрождать рассвет. Как только появлялась возможность скопить какие-то средства, люди покупали участок, где для них строили гробницу, затем ее украшали с большей роскошью, нежели свое земное жилище. Жилище Вечности стоило многих жертв.
Что же касается Ая, то его имя, увековеченное на фресках гробницы, на барельефах храма, который был построен перед ней, бесчисленные скульптурные изображения его божественной личности в период пребывания на земле могли сохраняться миллион лет.
От поселений на юге до тех, что расположены в Дельте, там, где теряется главное русло Великой Реки, растекаясь по нескольким рукавам, безостановочно обсуждали один и тот же вопрос: кто пойдет во главе траурной процессии? Царица или Хоремхеб?
С неистребимой верой в земную гармонию подданные ее величества, царицы Анкесенамон, надеялись, что она возглавит церемонию вместе с храбрым героем Хоремхебом. Союз с представительницей династии воплощенных богов позволил бы воину узаконить свою власть и этим укрепить свое могущество. Прекрасная царица, хранительница царских традиций, расцвела бы возле прославленного защитника трона.
Нефертеп, верховный жрец Пта в Мемфисе, на это надеялся.
Хумос, верховный жрец Амона в Фивах, тоже на это надеялся.
Наконец, Панезий, верховный жрец бога Атона во всеми забытом городе Ахетатон, нынче согнутый преклонным возрастом, на это также надеялся.
И что уж говорить о верховных жрецах других культов — Сехмет, Хатор, Туерис, Тота, Монту Геба, Бес, Нефтис, Гармакис, Мина?..
Кто возглавит траурную процессию?
В течение десяти дней обитатели дворца и больше всех представители знати гадали об этом. Уадх Менех — Главный распорядитель церемоний — заламывал в отчаянии руки.
Расспрашивать об этом главную участницу действа было бы оскорблением.
В связи с этим Хоремхеб попросил царицу об аудиенции.
Она его принимала на террасе, с лежащим у ног львом.
Ничто ничего не могло изменить: она была царской крови и дважды царица. И этот убийца, настоящий мужлан, не заставит ее изменить свою линию поведения и отказаться от традиций династии.
Он прибыл со своей свитой, и Анкесенамон показалось знакомым лицо мужчины, который следовал за ним как тень, этого Рамзеса. «От них, должно быть, от обоих разит луком», — подумала она.
Хоремхеб поклонился и снова заговорил о своей бесконечной преданности короне.
Слуги придвинули кресло.
В соседних комнатах, затаив дыхание, прислушивались Мутнехмет, Нефернеруатон, Шабака, Сати и кормилицы, жующие сухие абрикосы и семя люпина, вымоченное в воде для того, чтобы из него вышла горечь.
Он сел. Она увидела пальцы его мужицких ног.
— Твое величество, — начал он, — твоя мудрость объемлет небо и землю.
Кто-то научил его этой фразе. Любопытно, кто?
— Небо и земля, — продолжил он, — созданы для того, чтобы воссоединиться.
«У него, определенно, был хороший наставник», — подумала она.
Слуга принес кувшин с гранатовым соком и наполнил два кубка.
Царица не произнесла ни слова. Серебрилась нестерпимая лазурь Долины, и по небу в поисках жертвы беспокойно летали ястребы.
— Останься Нахтмин жив, — говорил он дальше, — разве смог бы он стать настоящим защитником трона?
«Ты сделал серьезную ошибку, упомянув имя Нахтмина, командующий, — подумала она. — Во-первых, он был иным по своей сути, нежели ты, во-вторых, ты его убил. Ты украл у него вечность, вот твое главное преступление, непростительное. Когда ты умрешь, я хочу надеяться, что Маат и Анубис отдадут тебя на растерзание демонам, которые суетятся вокруг Апопа в вонючих клоаках хаоса».
Она отпила сок граната, растения, которое по прошествии многих столетий будет запрещено священниками тех народов, которые проживают по другую сторону Моря, ибо гранат станет знаком богини ада.
Она снова ничего не сказала.
— Соединение наших судеб, — заговорил он вновь, — усилило бы великолепие твоей династии.
Она представила этого бесчестного солдафона проникающим в нее и наполняющим ее тело своими мутными соками, издающим в сиянии ночи стоны от предпринимаемых усилий. Запах! Именем Амона и Хатор, от этого зверя в человечьем обличье воняет чесноком! Она скорее предпочтет совокупляться со львом, лежащим в ее ногах!
Он спросил ее взглядом. С таким же успехом он мог ждать реакции на каменном лице Исис в храме Карнака. Презрение в углах ее губ лишь подчеркивало ее неприязнь.
Внезапно Хоремхеб подскочил и бросил свой кубок об пол. Осколки стекла полетели на льва, и тот зарычал. От гранатового сока почернели плиты на террасе.
Главнокомандующий выскочил с террасы так, словно пронесся ураган. Царица не проронила ни слова.
Анкесенамон погладила льва и позвала слугу, чтобы тот вытер пол и собрал осколки стекла, пока хищник не поранил свои изящные лапы.
Прибежала Мутнехмет и увидела, что слуги подметают осколки после инцидента. Анкесенамон подняла на нее беспечный взгляд.
— Ты выйдешь за этого человека замуж? — спросила Мутнехмет.
Ответ был очевиден.
— Я — не жертвенный зверь.
Пришла, вытянув шею от напряжения, Нефернеруатон, которая прислушивалась к звукам во дворце, как крот к шагам охотника возле норы.
— Что случилось?
— Приходил Хоремхеб просить меня сочетаться с ним браком.
Нефернеруатон затаила дыхание.
— Нет, — сказала сестра с улыбкой сострадания, — я не приняла его предложение. Царица Мисра не сочетается браком с дикой свиньей.
Три женщины пребывали на террасе в безмолвии, терзаясь от противоречивых, но возвращающих гармонию душе чувств. Мутнехмет размышляла над тем, что царица назвала дикой свиньей человека, с которым она, дочь Ая, некогда согласилась сочетаться браком, и который ее затем отверг. Нефернеруатон думала о том, как бы эта дикая свинья не явилась к ней с теми же намерениями, — ведь она была царевной. В таком случае Шабака был бы, разумеется, отправлен в ад с помощью кинжала или яда. Наконец, Анкесенамон думала о том, какую же военную хитрость применит эта дикая свинья для того, чтобы завоевать трон, который она решительно не желала ему уступать.
Даже думала о том, чтобы призвать его и воткнуть кинжал в живот. Разве она не царица? Никто не смог бы ее осудить.
Одна только мысль о физической близости с этим человеком вызвала зуд. У нее зачесалось бедро, затем живот, затем голова, и, больше не в силах терпеть это, она отправилась в свои покои, сняла всю одежду, позвала служанку и попросила ту проверить, нет ли в одежде блох. Служанка позвала еще одну, и обе стали все тщательно рассматривать. Впрочем, они проделывали это каждое утро, прежде чем передать одежду царицы Хранительнице гардероба.
В это время Анкесенамон нервно ходила по комнате — она сделала сто шагов.
— Ни одного паразита, твое величество, — сообщила наконец одна из служанок.
Тогда Анкесенамон решила натереться настоем росного ладана.
Право же, одна только мысль об этом мужике сразу же вызывала у нее желание почесаться.
27
ПОРАЖЕНИЕ ЦАРИЦЫ
Деревянный засов, на который была закрыта дверь тюремной камеры, пронзительно заскрипел и тяжело ударился о наличник. Трое мужчин, сидевших внутри на корточках, подняли глаза: вор, пытавшийся стащить драгоценности у одинокой вдовы и застигнутый врасплох ее сыном, внезапно возвратившимся домой, торговец, который уклонялся от уплаты налогов, и казначей.
— Заключенный казначей Майя! — крикнул главный тюремный смотритель, пришедший с двумя стражниками. — Выходи. Ты свободен.
Майя вытаращил глаза, встал и вышел наружу — как хищник из своей клетки. Ему не была известна причина освобождения. Уж не было ли это подвохом?
— Приказ главы ведомства Пертота, — ограничился начальник тюремщиков таким объяснением.
По прошествии четырнадцати дней тюремного заточения его платье было грязным, а парик несвежим. Майя отправился к себе домой, чтобы выкупаться и освободиться от обычных для тюрьмы запахов — вони людских экскрементов и пота, крысиной мочи, гнилой соломы. С восторженными криками и слезами на глазах его встретила супруга, как, впрочем, и остальные домочадцы. Он все еще не знал, какому чуду он обязан своим помилованием.
— Хоремхеб — во дворце, — объяснила ему жена.
Стал ли он царем? Нет, она об этом ничего не знала. Чуть позже пришел командир Рамзес, чтобы ввести его в курс дел.
— Я отправился разыскивать тебя в тюрьме, а тебя там уже нет, — сказал офицер с улыбкой. — Да будут благоприятны твои дни на воле!
— Что случилось?
— Отныне Хоремхеб — главнокомандующий армией царства. Он добился твоего освобождения.
— Главнокомандующий?
— Как только ты будешь готов, мы отправимся к нему с визитом. Я привел для тебя лошадь.
Встреча после разлуки была шумной: главнокомандующий и казначей не удержались от радостных возгласов, затем они обнялись и стали похлопывать друг друга по плечам. Рамзес и еще несколько командиров наблюдали за этой сценой с радостным видом. На полдень Хоремхеб заказал банкет: отныне в его распоряжении были царские кухни.
— Но… а остальные? — спросил Майя, когда они устроились перед подносом, уставленным блюдами с угощениями.
— Кажется, они уловили сложившуюся ситуацию: они ничего собой не представляют. Постепенно мы их заменим.
— Как?
Хоремхеб одним махом проглотил кусок рыбы в чесночной заливке, затем повернулся к сотрапезнику:
— Майя, все решает власть, и она — в моих руках. Разумеется, они станут создавать мне разные препятствия. Тем лучше: быстрее поймут, что уже не могут изменить положение, как мухи не могут препятствовать движению лошади.
Казначей тщательно обдумал услышанное, затем спросил:
— И царица?
— Она воображает себя царицей!
И главнокомандующий разразился громким смехом.
— Надо, чтобы ты с ней сочетался браком…
— В настоящий момент у нее нет такого намерения, но все закончится тем, что она приползет к моим ногам. Иначе…
— Иначе? — переспросил Майя встревоженно.
— Иначе я поднимусь на трон один.
Это заявление ошеломило казначея. Поднимется на трон один? Не заключив брачных уз с хранительницей царственных традиций? Это невиданно! Он об этом ничего не сказал, но его беспокойство было очевидным.
— Я буду придерживаться традиций, — сказал главнокомандующий, — но при условии, что эти традиции полезны.
Никогда еще Майя не слышал, чтобы высказывались так определенно и так просто, или упрощенно. Он знал Хоремхеба уже не один год, и их отношения, походившие на дружбу, крепко их связали. Содружество, возникшее в судорогах конца правления Тутанхамона и в начале правления Ая, продолжалось. Они оба были не согласны с теми режимами правления, когда личные амбиции поглощали львиную долю основных ресурсов в ущерб престижу и единству страны.
— Со времен Эхнатона, — заявил Хоремхеб, — дворец живет в мире интриг и вымыслов, в то время как внешние враги выжидают удобного случая, чтобы напасть на нас и захватить наши территории. В стране то же самое. Видя упадок династии, знать из провинции стала мечтать о том, как бы от нее избавиться.
И оба мужчины снова были единодушны. Попытка властителя провинции, небезызвестного Апихетепа
[46] захватить Фивы доказывала, насколько монархию разрывали распри.
И в этом их мнения совпадали: сделка Ая с Апихетепом подтверждала духовную продажность режима.
Но никогда Майя не мог представить, что Хоремхеб бросит вызов правителям, причем будет действовать настолько хладнокровно. Он так пристально смотрел на него, что главнокомандующий расхохотался.
— Что ты на меня уставился, как заяц на шакала?
— Я восхищен твоей отвагой.
Хоремхеб покачал головой.
— Помни, что завтра мы будем присутствовать на заседании глав ведомств.
Прибытие Майи вместе с Хоремхебом в царский кабинет произвело эффект появления призрака во время пира. Всем, разумеется, было известно, что он освобожден по решению Пертота, принятому на последнем заседании. Но думали, что, довольный помилованием, он, по крайней мере некоторое время, будет вести себя тихо.
Он уважительно опустился на колени у ног царицы, сохраняя бесстрастное выражение лица. Она взглянула на него, потрясенная. Обвинила его в дерзости, неслыханном оскорблении. И — вот он, явился! И более того, она в первый раз после неудачного предложения Хоремхеба безбоязненно встретилась с ним.
— Майя, — сказала она резко, наклонившись к нему, — ты помилован, но не восстановлен в своей должности. Ты больше не являешься казначеем. Что ты здесь делаешь?
Преемник Майи, Хапон, позеленел. Усермон стал белым как мел. Маху покраснел.
— Твое величество, — заговорил Майя, не поднимаясь с колен, — разве помилование не является доказательством моей невиновности? Против меня никакого дела не было возбуждено. Какую я совершил ошибку, чтобы стать виновным в глазах твоей высшей мудрости?
Она оказалась в ловушке. Снова.
— Первый советник, спроси мнение главы судебного ведомства.
Усермон повиновался.
— Если я не ошибаюсь, — произнес Пертот слащаво, — казначей был обвинен в связях с командующим Хоремхебом, нынешним главнокомандующим; необоснованность подозрения является очевидной, так как главнокомандующий находится среди нас. Итак, если главнокомандующий виновен, в этом случае за ним не могут сохраняться его обязанности, и казначея тогда следует снова отправить в тюрьму, если же он таковым не является, то в этом случае отставка казначея Майи не имеет основания, и он должен быть восстановлен в своей должности.
Он поочередно посмотрел на собравшихся.
Царица пронзила его взглядом.
Хоремхеб сощурился.
— Стало быть, Хапон больше не является казначеем? — спросил Усермон, чтобы хоть что-то сказать.
— Знания моего уважаемого коллеги Хапона, несомненно, пригодятся на другом посту.
— Поднимись, казначей, — сказала царица Майе, раздраженная его насмешливым взглядом.
Для всех было очевидно: отныне Хоремхеб будет командовать и армией, и финансами. Майя занял свое место и остановил одновременно угрожающий и иронический взгляд на том, кто заставил его арестовывать, — на Маху. Этот последний больше не мог оставаться в кабинете. Он встал.
— Твое величество, так как я теперь оказываюсь осужденным, то прошу тебя принять мою отставку.
— Сядь, Маху. Если ты хочешь отказаться от должности, назови своего преемника Первому советнику.
— Люди, которых я подобрал, твое величество, больше не могут быть полезными нынешней власти.
Наглая и циничная фраза, означающая, что царица больше не обладала властью. «Еще один, испытывающий отвращение, — подумала она. — Сначала Тхуту, а теперь Маху. Они служили трем царям и в результате остались в дураках. Вне сомнения, Маху уже дошел до такого состояния, что скоро начнет выращивать огурцы и салат-латук».
Сцепив руки под брюхом, Хоремхеб наблюдал за этой сценой, не говоря ни слова.
— Я могу предложить преемника Маху. Думаю, что военная охрана работает не хуже, чем гражданская.
«Их уже трое», — подумала Анкесенамон.
— И кого ты предлагаешь? — спросил Усермон.
— Командира Рамзеса.
— Само собой разумеется, что, в случае назначения, командир Рамзес должен будет подчиняться Первому советнику, а не главнокомандующему, и в этой должности он не сможет заниматься делами армии.
— Само собой разумеется, Первый советник, — согласился Хоремхеб. — Но дело от этого выиграет, это точно.
Пустые фразы, все были уверены в обратном.
— Ее величество разрешит мне удалиться? — спросил Маху.
— Разрешаю.
— Ее величество разрешит мне вызвать сейчас сюда командира Рамзеса? — спросил Хоремхеб.
— Разрешаю.
Рамзес не заставил себя долго ждать и чуть ли не столкнулся со своим предшественником.
Того же типа, что и его хозяин, но, пожалуй, более породистый. Возможно, у него не было тех же амбиций. Он опустился на колени перед царицей. Она посмотрела на гладкие блестящие плечи и уловила смутный отблеск желания в глазах командира. Затем велела ему подняться; он остался стоять возле трона. Она ощутила исходивший от военного запах пота и сморщила нос. Пентью и Пертот внимательно наблюдали за Рамзесом.
Хоремхеб объяснил, что предложил его кандидатуру в качестве преемника покинувшего свой пост начальника охраны.
— Чем ты занимаешься в качестве начальника военной охраны? — спросил Усермон.
— Вот уже два года я собираю свидетельства о нарушениях установленных правил в казармах, лагерях и за их пределами. Дисциплина солдат ее величества должна быть безупречной.
«Интересно, себя самого он судит по тем же меркам? — подумала Анкесенамон. — Участвовал ли он в покушении на жизнь Нахтмина?»
Усермон заметил, что он теперь не сможет выполнять эти задачи, поскольку должен полностью посвятить себя работе в гражданской охране, в том числе речной.
— Я подчиняюсь приказам ее величества, — ответил он.
В конечном счете эти армейские оказались не такими уж страшными людьми, как все предполагали.
— Садись, начальник охраны Рамзес, — сказал ему Усермон, указывая на место Маху.
Командир быстро сел и улыбнулся Пентью, который был справа от него, и Пертоту, сидевшему слева. Писец составил акт о назначении Рамзеса начальником охраны, и к документу была приложена царская печать.
Все оказали ей полагающиеся знаки уважения, и царица покинула царский кабинет, в котором теперь оставалось лишь несколько глав ведомств, назначенных Аем. Она уже не сомневалась в том, что скоро не останется ни одного из них. Но если Хоремхеб думал, что она беспомощна, он ошибался; вскоре она ему это докажет.
28
«МАРГИ»
Беседуя с Рамзесом и еще одним командиром, Хоремхеб шел по двору, чтобы попасть в помещение, где он обосновался. Внезапно он столкнулся с Шабакой, возвращавшимся из конюшни. Оба мужчины остановились и пристально посмотрели друг на друга.
Хоремхеб один или два раза видел нубийца стоящим позади Ая, но информаторы подробно рассказали ему о той роли, которую Шабака играл при его враге, и тех интригах, которые числились на его счету, как в случае с «Лотосами Мина». Ему также было известно, что Шабака сочетался браком с Нефернеруатон и был провозглашен царевичем.
Он смерил Шабаку взглядом с головы до ног и бросил ему высокомерным тоном:
— Царевич Шабака, если не ошибаюсь?
Тот с трудом справился со страхом, вдруг охватившим его, заставил себя улыбнуться и сделал три шага в сторону Хоремхеба.
— Досточтимый главнокомандующий, какая удача! Позволь поздравить тебя с назначением на новую очень видную должность.
Согласно правилам, принятым при дворе, Хоремхеб был обязан сделать три шага к собеседнику, но он этого не сделал.
— Благодарю тебя, — ответил он, оставаясь на месте.
Затем пошел дальше.
Возвращаясь во дворец, Шабака обернулся и увидел, что командиры рассматривают его.
Он быстро вошел в покои, которые занимали они с Нефернеруатон. Ее обеспокоило его раздражение.
— Если я умру, — сказал он, не отдышавшись, — то лишь потому, что именно с тобой Хоремхеб захочет сочетаться браком, чтобы подобраться к трону. Стало быть, я скоро умру.
Она вскрикнула:
— Что ты такое говоришь?
— То, что слышала. Я только что столкнулся с Хоремхебом. По его отношению ко мне я все понял. Только одного того, что я служил царю Аю, достаточно, чтобы меня поторопить в ад, тем более что я — твой супруг.
Она запричитала:
— Раз царица ему отказала, он теперь будет думать только обо мне.
На какое-то время их охватило оцепенение.
— Шабака, — сказала она, — я никогда не выйду замуж за Хоремхеба.
— Я умру, и для меня это уже не будет иметь значения. И это произойдет скоро.
Она схватила его за плечи и встряхнула.
— Перестань так говорить!
Но она слишком хорошо понимала, что даже преувеличенное из-за страха беспокойство ее супруга было обоснованным. Она села и снова запричитала:
— Но что мы можем сделать? Я пойду к сестре…
— Твоя сестра ничем нам не поможет. Она беззащитна перед Хоремхебом.
— Неужели мы обречены?
— Нет, — ответил он, — послушай меня.
Даже не открывая глаз, Анкесенамон догадалась, что кто-то вошел в ее комнату. С бьющимся сердцем, напряженно прислушиваясь, она ждала, что будет дальше. Пришли убить ее, пока она спит?
Она открыла глаза, выпрямилась и увидела Сати, которая прислонилась к дверному косяку. По выражению лица бывшей кормилицы, так же как и по ее внезапному появлению, она поняла, что произошло чрезвычайное событие.
— Сати! Что случилось?
Через щели в ставнях пробивался рассвет. Льняные шторы покачивались от легкого бриза.
Сати сделала шаг к ней.
— В эту ночь я услышала шум в коридоре. Приглушенные голоса. Когда я встала, чтобы узнать, что происходит, никого уже не было. Я не могла снова заснуть. И отправилась в покои твоей сестры. Вначале я вошла в комнату кормилицы. Та крепко спала. Колыбелька Аменхотепа была пустой.
Анкесенамон вскрикнула.
— После этого я подошла к двери спальни твоей сестры и Шабаки. Прислушалась. Тишина. Я открыла дверь. На ложе никого.
Я огляделась — многие вещи исчезли. На сундуке лежало вот это.
Она протянула Анкесенамон сложенный лист папируса, на котором было написано:
«Только для царицы Анкесенамон».
Она развернула папирус.
Меритатон была права. Шабака в опасности. Аменхотеп и я будем также в опасности. Я храню тебя в моем сердце.
Анкесенамон лишилась дара речи.
— Она уехала, — вымолвила она.
Сати покачала головой.
— Она правильно сделала.
— Но куда? И оставила меня одну! Одну! — вскричала Анкесенамон.
Сати приложила палец к губам.
— Никому не надо об этом говорить. Дай им время отъехать как можно дальше.
Анкесенамон растерянно посмотрела на кормилицу. Сати была права. Надо было дать беглецам время скрыться.
— Но как мы это утаим?
— Ты скажешь, что они отправились на прогулку на «Славе Амона». По прошествии нескольких дней ты притворишься удивленной из-за того, что корабль до сих пор не вернулся. Сейчас я принесу тебе молока.
Анкесенамон проделала сто шагов по комнате. Одна! Отныне она осталась одна! Узница дворца. Она снова взяла записку сестры: «Меритатон была права».
Шабака чувствовал угрозу своей жизни. И если бы сестра стала вдовой, Хоремхеб попытался бы с нею сочетаться браком, так как она была царевной. «Аменхотеп и я будем также в опасности».
Возвратилась Сати, неся чашу с молоком и блюдо с хлебцами и фигами.
— Поешь, — сказала она. — Тебе надо набраться сил. И ни слова своей тете.
— Почему?
— Чем меньше она будет знать, тем будет для нее лучше. И не забывай, что Мутнехмет все же связана с Хоремхебом. Радуйся, что этой ночью ты была одна.
Стало быть, Итшана она не должна посвящать в тайну.
— Сожги это послание, — посоветовала Сати.
Анкесенамон протянула ей лист и смотрела, как пламя лампы съедает прощальные слова сестры, и от прошлого остаются лишь пепел и дым.
Она пила молоко маленькими глотками и размышляла над случившимся. Вдруг она словно опомнилась и пошла в комнату Нефернеруатон. Все ценные вещи исчезли, а также большая часть одежды. Беглецы должны были подготовиться к своему побегу, им на это потребовалось, по крайней мере, два дня.
Кормилица продолжала спать — очевидно, они дали ей снадобье. В десять часов раздался крик. Она прибежала взволнованная в комнату царицы:
— Твое величество! Твое величество! Ребенка нет! Царевна…
Как раз вошла Мутнехмет. Она тоже была взволнована. Анкесенамон смерила взглядом кормилицу:
— Ты что, забыла? Моя сестра вместе с супругом и ребенком уехала в Мемфис, у царевича Шабаки там дела. Они возвратятся через несколько дней.
У нее в голове внезапно созрел план: она превратит бегство своей сестры в подводный камень для Хоремхеба.
Кормилица смотрела на нее, оторопев.
— В Мемфис? Без меня?
Царица принялась смеяться.
— Она тебя не предупредила? Она взяла другую кормилицу в поездку. Успокойся и запомни на будущее: поменьше надо спать.
Кормилица ушла, пристыженная и сбитая с толку. В этот момент Анкесенамон вспомнила, что Шабака убирал драгоценности из комнаты покойного Ая. Разумеется, он их тоже захватил с собой.
«Тем лучше, — подумала она. — Это не достанется Хоремхебу!»
Внезапно она вспомнила: через двенадцать дней должны состояться похороны Ая. Хоремхеб и Рамзес, не говоря уже о придворных, заметят отсутствие Нефернеруатон и Шабаки. Она решила дать беглецам хотя бы четыре или пять дней, чтобы те могли добраться до того места, которое выбрали. Только после этого она станет проявлять беспокойство.
— Но что они собираются делать в Мемфисе? — спросила Мутнехмет.
— Не знаю, насколько я понимаю, у Шабаки там дела, связанные с долговыми обязательствами.
Она считала, что он намерен отправиться в страну Куш, и обрадовалась тому, что отвела все подозрения, указав северное направление. Навестит ли беглец наместника Гую? Тот был другом Ая. Но будучи очень осторожным, Шабака усомнится даже в нем.
Бесчисленное количество торговцев пересекали границу в обоих направлениях. Этот был черным, как и таможенники, которые высовывались, будто крысы, в окошки, проделанные в высоких зубчатых стенах, защищавших границу. Он дал монету. Они его пропустили вместе с двумя мулами, на одном из которых сидело самое очаровательное создание, какое они когда-либо видели, с ребенком на руках; она называла мужчину Марги, то есть «лекарь». Без сомнения, торговец из Фив спускался по реке, чтобы покупать золото, терпентинное и эбеновое дерево, слоновую кость и экзотических птиц.
Добравшись на корабле до первого водопада, он купил мулов. Он возвращался в страну своего детства с четко определенной целью: обосноваться на берегу моря, за пределами тех территорий, которые контролировала армия Хоремхеба. Супруга с ним в этом согласилась. Теперь они излечатся от смертоносного блеска дворцовых великолепий.
Две Земли, живущие по указке Хоремхеба, стали совсем иной страной.
Смелая душа должна принять то, что в жизни есть свои сезоны, правда, все они именуются «Прошлое».
29
ВРЕМЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ
Когда до похорон оставалось девять дней, Анкесенамон вызвала Уадха Менеха.
— Моя сестра принцесса Нефернеруатон уехала в Мемфис вместе с супругом неделю назад и почему-то задерживается. Пусть направят посланца в Мемфис, во дворец, где она находится. Необходимо поторопить ее с возвращением. Нам еще кое-что надо обсудить.
Пришедший в смятение Главный распорядитель церемоний выкатил глаза.
— В Мемфис? Как она туда добралась, твое величество?
— Но… без сомнения, на «Славе Амона».
— Прости меня, твое величество, но «Слава Амона» стоит у набережной с начала паводка. Я расспрошу начальника хозяйственной службы, но, насколько мне известно, никто не заказывал поездку в Мемфис.
Анкесенамон нахмурила брови и продемонстрировала все признаки беспокойства, какие только пришли ей в голову.
— Что это означает? — пробормотала она. — Расспроси всех, кто может что-нибудь знать, и возвращайся ко мне с отчетом.
Минутой позже Уадх Менех, на этот раз чрезвычайно взволнованный, возвратился вместе с начальником хозяйственной службы.
— Твое величество, — сказал тот, — «Слава Амона» пришвартован у набережной, ни царевна Нефернеруатон, ни царевич Шабака не отдавали указаний о подготовке судна для поездки в Мемфис. Когда царевна уехала?
— Вот уже восемь дней прошло с тех пор.
Она проделала свои сто шагов, как будто охваченная волнением.
— Очень странно, — сказала она Уадху Менеху. — Попроси начальника охраны Рамзеса прийти ко мне.
Прошел час, прежде чем Рамзес появился у входа в царские покои.
— Начальник охраны, — обратилась она к нему, — прошло восемь дней с тех пор, как царевна Нефернеруатон и ее супруг царевич Шабака известили меня о том, что отправляются в Мемфис, где у царевича были дела. Я полагала, что они воспользовались царским кораблем, но только что узнала, что корабль стоит у набережной. Начальник хозяйственной службы мне, к тому же, сообщил, что не получал приказа готовить судно к отплытию. Все это очень странно. Моя сестра, ее супруг и их ребенок исчезли. Я тебя попрошу как можно быстрее узнать, где они находятся.
Рамзес казался потрясенным. Само исчезновение царевны уже было неординарным событием, но исчезновение супружеской пары вместе с ребенком за несколько дней до похорон царя — это была катастрофа. Он опасался, что это дело рук кого-нибудь из безрассудных приверженцев Хоремхеба.
— Хорошо, твое величество.
Несколькими минутами позже он докладывал об этом деле Хоремхебу. Главнокомандующий был озадачен.
— Можно ли опасаться, что кто-то из наших людей пошел на преступление без нашего ведома, как это сделал когда-то Хнумос? — спросил Рамзес.
— Но именно тебе надлежит ответить на этот вопрос. Однако я не думаю, что среди наших людей найдется такой безумец.
— Я тоже так считаю.
— Двор заявит о покушении на жизнь сына Нефернеруатон, Аменхотепа, — озабоченно сказал Рамзес.
— Мнение двора мало что значит. Но все же постарайся пролить на это дело свет.
Буквально на следующий день в Фивах распространился слух об исчезновении второй царственной пары, а самое главное, второго возможного наследника трона. Также высказывались предположения об убийстве царевны, ее супруга и их ребенка.
До похорон Хоремхеб оставался мрачным. Среди других причин было и то, что таинственное исчезновение Шабаки лишало его возможности устроить показательную месть, которую он готовил для нубийца.
Двор гудел от слухов. Похоронная церемония имела множество нюансов, и это лишь подливало масло в огонь. Впервые во главе траурной процессии шли только женщины — дочь и
внучка покойного. В царской семье не осталось ни одного мужчины, так как Себатон и Сагор не были наречены царевичами. В Большом зале дворца присутствовали почти все главы ведомств и высокопоставленные лица.
За исключением одного единственного человека — Хоремхеба.
Был ли он лишен милости царицы? Но в таком случае что там делали преданные ему люди, Рамзес и Майя? Его имя было внесено в протокол, он должен был шествовать вместе с главами ведомств. Почему он отсутствовал?
Хумос поднял руку. Молитвы очищения и обращения к Амону-Ра были произнесены. Дымились благовония. Царица склонилась над первым саркофагом, пока его не закрыли, созерцая золотую маску, представляющую улыбающегося молодого царя, каким его, без сомнения, никто не помнил, и положила на грудь покойного, туда, где лежали скипетр и боевой цеп, гирлянду из роз и незабудок. Мутнехмет возложила венок из лотосов.
Ввиду ожидаемой вечности крышку первого саркофага запечатали гвоздями. Он был вставлен во второй саркофаг, второй — в третий, затем все саркофаги поместили в деревянный гроб. Тройную укладку установили на тот же паланкин, обтянутый сукном, расшитым золотом, который уже не однажды использовался для похорон. Все это подняли на плечи десять мужчин и понесли к выходу головой вперед, как предписывал протокол.
Именно тогда царица, Мутнехмет и ее братья, Себатон и Сагор, стали демонстрировать, насколько они горюют — они пытались не дать унести саркофаг. Им полагалось кричать: «Не уходи!» Но душа Анкесенамон была далеко, и ее губы едва шевелились, когда она положила руки на саркофаг. Мутнехмет казалась настолько потерянной, что можно было опасаться, как бы она не сошла с ума. Несколько громче звучали просьбы ее молодых братьев.
Впрочем, плакальщицы оглушительно вопили, и больше ничего не было слышно.
Процессия пересекла большой двор и добралась до парадной двери со статуями Амона по обе стороны.
Если бы кто-нибудь поднял глаза, то увидел бы Хоремхеба, наблюдающего за процессией с одной из террас.
Анкесенамон и Мутнехмет взобрались каждая на свой паланкин, вслед за ними потянулась вереница паланкинов других участников процессии, — наместника Гуи, Себатона, Сагора и их жен, Усермона, глав ведомств, затем везли тележки с царским имуществом. Как обычно, нелегко дался проезд по улицам, между выстроившимися с обеих сторон рядами зрителей, которые следили за каждым жестом участников процессии.
На протяжении всего шествия к месту Маат Анкесенамон размышляла о причине отсутствия Хоремхеба. Что предвещала такая дерзость и пренебрежение священной церемонией, самой важной в жизни человека, тем паче царя, — его переезда в жилище для вечной жизни? Это вызывало у нее тревогу. Или, возможно, Хоремхеб решил пренебречь участием в церемонии, которую возглавлял не он?
Процессия остановилась перед новым храмом, все выстроились согласно ритуалу: во главе жрецы, за ними члены семьи покойного, затем высокопоставленные лица. С земли поднимался тонкий позолоченный слой пыли, делая все вокруг нереальным.
«Возможно, все эти люди также умерли, — думала Анкесенамон. — Возможно, эти обряды выполняются уже в загробной жизни. Возможно, я умерла…»
Сквозь мерцающую пыль она перехватила чей-то взгляд: это был взгляд Итшана, озабоченный, тоскливый. Протокол запрещал ему находиться рядом с нею. Мимолетно она подала ему знак, слегка наклонив голову.
— Чей это храм? — прошептала она, обращаясь к Мутнехмет.
Усталость от поездки и выпавшие на ее долю испытания последних дней притупили ее слух и зрение. Ее походка стала жесткой и механической. Дойдя до храма, она стала напоминать сомнамбулу. А до обрядов завершения церемонии было так далеко! Она охотно прилегла бы прямо здесь, на пол.
— Это храм моего отца, — ответила Мутнехмет.
Ай давно уже подготовил свой переход в другое царство. Он заставил построить храм недалеко от своей гробницы. В часовне, где предстояло проводить обряд Открытия рта, возвышались четыре статуи, у которых были его лица. Саркофаг поместили у подножия статуи Амона, сверкающего новой позолотой, и жрецы приступили к обряду Очищения четырьмя чашами.
Очищенный, очищенный Амон-Ра, господин Карнака, Амон-Ра, Камутеф, хозяин своего великого места. Я тебе бросаю глаз Хоруса, чтобы пришел его запах к тебе…
Крики плакальщиц отдавались эхом в горах.
Анкесенамон пошатнулась. Сати, которая следила за нею, стоя позади, незаметно поддержала ее за талию.
И вот наступил момент, когда жрец установил конец небольшой лопатки на рот маски, украшающей гроб.
Дай ему теперь слово, Амон-Pa, дай слово своему сыну Аю, чтобы он распространял твою власть у твоих ног на протяжении миллионов лет…
Наконец свершилось: безбоязненно встретив заклятых врагов, поджидавших ее в хаосе, блуждающая душа царя Ая воссоединилась с его прахом. В загробной жизни теперь могла возобновиться его земная деятельность. Ему необходимо было подкрепиться. Два жреца поставили у подножия саркофага блюдо с мясом, блюдо с луком-пореем в масле, блюдо с хлебцами, фрукты, кубок, кувшин вина.
По знаку жреца, совершающего обряд, плакальщицы запели гортанно и громче, чем прежде.
Он говорил, говорит и будет говорить! Могущество Амона бесконечно! Царь говорит. Царь ест и будет есть!
Слуги из дворца развернули циновки на земле и поставили сверху низкие столы для поминальной трапезы, возглавляемой Хумосом, царицей и дочерью покойного.
Сати наклонилась к царице и прошептала ей на ухо:
— Поешь немного.
Она сгрызла хлебец, поела фруктов и выпила вина с налетом пыли. Мутнехмет съела не больше царицы.
Затем все встали, слуги убрали блюда и скатали циновки. Оставалось отнести саркофаг в гробницу.
Хумос и жрецы устремили свой взор на царицу.
— Шевелись! — прошептала ей Мутнехмет властным тоном.
Анкесенамон вспомнила, чего от нее ожидали: она опустилась на колени у подножия саркофага и произнесла священную фразу:
Не оставляй меня, не оставляй меня, мое сердце в этом гробу.
Она не могла подняться, наместник Гуя поспешил ей помочь. Подбежала Сати и придворные дамы, чтобы отвести ее на место. Затем снова подняли громадный гроб на паланкин, и процессия возобновила свое медленное передвижение по пустыне. К счастью, теперь уже было не далеко.
Подходя к гробнице, Анкесенамон и Мутнехмет пришли в изумление: ее помещения были столь просторными, словно это был дворец для загробной жизни. Семь комнат были соединены коридорами, в которых свободно разместилась похоронная процессия. Ай заставил перенести туда из Ахетатона саркофаги и имущество своих отца и матери. Фрески и статуи украшали комнаты родителей и его собственную. Но он не осмелился нарушить волю Нефертити, которая пожелала в загробном мире находиться рядом с Эхнатоном. Там также было место для всех его детей. Возможно, даже для Шабаки.
У Анкесенамон помутилось сознание, такое с ней случалось во время этих нескончаемых церемоний.
К кому обращается сейчас этот человек, который посвятил лучшую часть своей жизни завоеванию власти и который, возможно, видел, поражаясь, как сразу же после его ухода стало рушиться все, чего он добился, и царством начинает править его заклятый враг? Что сказал бы он Амону? «Я восстановил твой культ, и вот такая за это благодарность?» Вышел бы он за границы смерти и преодолел бы ужасные испытания Маат, Анубиса и Тота, чтобы нанести оскорбление божественному величеству?
Она смотрела на изображения богов, которые были в гробнице повсюду, даже на потолках. Беспорядочно перемешавшись из-за волнения, поток вопросов разрушил плотины. Так как рот ее еще не был запечатан, что сказала бы она этим богам, появись они теперь, как в смертный час? С каким прошением обратилась бы она к ним? Почему ей действительно приходится расходовать свою яростную энергию на Хоремхеба? Чтобы сохранить свое потомство? Защитить эту династию, жертвой которой она себя несколькими днями раньше считала? А Исис, разве пыталась она сохранить свое потомство, когда Осириса убил Сет?
Боги тоже убивали друг друга. Получается, что убийство было изобретено богами. В основе мира было подлое убийство, убийство бога своим братом.
Она содрогнулась, понимая, сколь кощунственна эта мысль. Ее взгляд скрестился с взглядом Рамзеса. Она взяла себя в руки. Он рассматривал с равнодушным видом роскошные вещи, которые слуги нагромоздили вокруг. Кресла, столы, письменный прибор, сундуки из кедра или слоновой кости, статуи… Да, на все это была возложена ответственность за вечность Ая.
— Как ты себя чувствуешь? — прошептал чей-то голос рядом.
Итшан. Он пробрался через толпу. Она покачала головой. Ей необходимо было выспаться. Сто часов. Сто лет. Впрочем, выбившись из сил из-за шума, пыли и долгого пребывания на ногах, она задремала в паланкине, когда уже возвращалась во дворец.
«Слишком много мертвых, — думала она, — слишком…»
30
НЕВОЗМОЖНАЯ ПОДПИСЬ
— Они сбежали, вот и все, — сообщил Рамзес. — Никаких указаний насчет корабля и времени отплытия не было. Усыпили кормилицу, которая, очевидно, не имела никакого отношения к этому.
Хоремхеб провел рукой по голому черепу. Когда он был в своем кабинете, его парик, как обычно, находился на этажерке.
— Бегство?
— Они последовали примеру Меритатон и ее любовника, Хранителя благовоний, которые сбежали около пятнадцати лет назад.
— Почему те все же сбежали?
— Я расспросил старых кормилиц. Они думают, что Меритатон боялась быть отравленной Аем.
Хоремхеб хохотнул.
— А эти, куда они направились? — спросил он.
— Пока это невозможно установить, по крайней мере, в настоящий момент. Перевозчики лодок заметили, что пришвартованная рядом с ними лодка отплыла ночью, но в каком направлении? Загадка. Это тебе как-то может повредить?
— Наоборот, расчищает место. Повредить мне может предположение, что их убили, это может подтолкнуть царицу убежать. Ты думаешь, она действительно в это поверила?
— Я в этом сомневаюсь. Она не могла не заметить, что ее сестра и шурин прихватили с собой много одежды и драгоценностей.
— Драгоценностей?
— Большую часть из тех, что принадлежали Аю. В основном это статуэтки и массивный золотой Хорус, который находился в комнате Ая. Мне известно также, что Нефернеруатон хранила у себя пятнадцать тысяч золотых колец, которые тоже исчезли. Что касается слухов, будет достаточно сообщить нескольким представителям знати правду.
— Так почему, по-твоему, они убежали? — снова спросил Хоремхеб.
— Вероятнее всего, Шабака испугался.
— Эта обезьяна была права! Ладно, заботу о слухах поручаю тебе. Теперь — о деле. Нам остается выдернуть этого олуха Усермона.
— И Пентью? Разве ты его решил оставить?
— Этот нам пригодится. Он всегда на стороне власти. Когда ты соберешь нужную информацию, Майя нам будет весьма полезен.
Аакед — господин из Омбоса, один из самых богатых землевладельцев Верхней Земли — был давним другом покойного Ая. В былые времена он его поддерживал во многих выпавших на его долю испытаниях. Естественно, он присутствовал на похоронах. Сидя напротив Усеромона, он казался недовольным. Сжав подлокотник рукой с инкрустированным камнями золотым браслетом, настолько тяжелым, что всем было любопытно, снимал ли он его перед сном, он воскликнул:
— Три тысячи золотых колец! Ты себе можешь такое представить?
Вначале Усермон не вымолвил и слова. Аакед был уже пятым землевладельцем или торговцем, пришедшим к нему за последние шесть дней, чтобы опротестовать повышение налога. Определенно, можно было говорить о тенденции. Прежде за год являлись только трое или четверо, с ними договаривались полюбовно, правда, после ожесточенных споров. Но пятеро за шесть дней!
— Но все точно подсчитано, да или нет? — спросил, в конце концов, Первый советник.
— Да что же я об этом знаю! Не я занимаюсь этими вопросами, а мой помощник. Они только предъявили ему сумму.
— Именно ты отвечаешь за него, а не он за тебя. Аакед, давай будем благоразумными.
— А если он ошибся, что я могу сделать? Прийти ко мне, чтобы требовать три тысячи золотых колец? Но это — сумасшествие, Усермон! Надо, чтобы ты вмешался.
Защищать в суде Аакеда, против которого выступал Майя, у Усермона не было намерения; это было бы столь же неприятно, как и бесполезно. Кроме того, в его обязанности не входило разрешение споров относительно налоговых штрафов.
— Твой брат, — настаивал землевладелец, — меня уверил, что ты можешь уладить это дело.
Усермон нахмурил брови.
— Мой брат?
Упомянутый брат был городским головой Омбоса, и Усермон был удивлен тому, с какой уверенностью проситель ссылался на его имя. Аакед покачал головой с умным видом. Усермон понял, что пора завершать беседу. Он пообещал подумать и отпустил посетителя.
— Но действуй быстро, — настаивал Аакед, — потому что я должен выложить три тысячи колец в течение декады.
Когда он уехал, озадаченный Усермон стал шагать из угла в угол по своему кабинету. Наконец он решил вызвать своего секретаря:
— Предупреди секретаря казначея, что я желаю его видеть.
Казначейство занимало самую большую часть нижнего этажа во дворце и бывшие служебные помещения военных, впрочем, именно по причине нехватки места те перебранись в пристроенные здания. Спустя четверть часа Майя появился на пороге кабинета Первого советника. После обычных приветствий Майя сел, и Усермон спросил:
— Не припоминаешь ли ты дело по налогам, касающееся богатого землевладельца из Омбуса?
— Конечно. Это об Аакеде ты хочешь со мной поговорить? Вот уже многие годы он уклоняется от уплаты налогов, без сомнения, при соучастии некоторых наших сборщиков налогов и других его защитников. Он весьма занизил реальные площади обрабатываемых земель и поголовье стад. Очевидно, мои службы раньше не замечали этого. Но в охранное ведомство поступил донос. Провели расследование на месте, и все раскрылось. Поэтому на господина Аакеда был наложен штраф в размере трех тысяч золотых колец, который следует выплатить в течение десяти дней. Это один из твоих друзей?
Усермон покачал головой.
— Нет, он был приближенным покойного царя. Он только что приходил ко мне с визитом. Он просит о снисхождении. Как он говорит, ошибку допустил его помощник.
Майя расхохотался.
— Они все так говорят! Можно подумать, что землевладельцы не знают ни площадей своих полей, ни количества голов в своих стадах!
Усермон не стал говорить об уменьшении штрафа. В конце концов, Аакед был достаточно богатым, чтобы его заплатить, а Первому советнику не пристало просить о снисходительности для мошенников. И, тем более, не у казначея Майи.
Таким образом, он перестал думать о деле Аакеда. Но то, что он ссылался на брата, оставило у него тягостное впечатление.
Прошло около двух декад, когда во время заседания в царском кабинете, в присутствии царицы, Рамзес поднял вопрос о работе своего ведомства за прошедший месяц.
— Слишком долго в этой стране царил хаос, — сказал он. — На севере многие господа провинций нажили значительные состояния благодаря всевозможным подлогам. За последние годы некоторые из них, не ощущая влияния Фив и Мемфиса, потеряли всякое уважение к власти и решили в своих провинциях стать единоличными правителями, независимыми от короны.
Анкесенамон слушала, все больше удивляясь. Насколько она помнила, и достаточно четко, против царской власти восстал только Апихетеп, тогда наемные убийцы пытались убить молодого Тутанхамона. Еще было столкновение некоего Гемпты, господина Авариса, со своими соседями ивритами, и больше ни о каких других мятежах и ни о чем подобном она не слышала. Откуда у него такая информация?
— В архивах доверенного мне ее величеством ведомства были обнаружены документы, свидетельствующие, что в течение прошедшего года произошло семнадцать более или менее серьезных инцидентов между вооруженными силами ее величества и господами из Нижней Земли, — продолжил Рамзес. — Мои посланцы в архивах Мемфиса и Авариса нашли подтверждение о еще семи происшедших инцидентах. Итак, это всего двадцать четыре конфликта, в результате некоторых гибли люди, в среднем два человека в месяц.
В его высказываниях чувствовалась озабоченность, но говорил он спокойно, что произвело должное впечатление на Анкесенамон. Она никогда не интересовалась этими вопросами, а Маху об этом говорил мало, так что она ничего не знала о деловых качествах Маху. Но этот Рамзес проявил власть и явно разобрался в порученном деле.
— Господа Нижней Земли, — продолжил Рамзес, — извлекли выгоду из присутствия чужеземцев на их территориях, я имею в виду ивритов. Якобы опасаясь их, они создали свои отряды охранников. Иногда они больше напоминают небольшую армию, так как в них насчитывается до двухсот человек и даже больше. Предыдущие правители закрывали на это глаза, ведь речь шла о вторжении банд разбойников из восточных и западных пустынь. Но эти отряды использовались и для того, чтобы воспрепятствовать нашим служащим из налогового управления выполнять свои обязанности. На те суммы, что не выплачивались царской Казне, эти господа на протяжении долгих лет содержали частные армии.
Анкесенамон не сказала ни слова. Рамзес только что произнес обвинительную речь, по сути, направленную против нее, ведь именно она сейчас представляла царскую власть.
— Я решил покончить с таким положением дел, — заявил Рамзес тоном, не терпящим возражений. — Я распустил эти отряды. С позволения главнокомандующего Хоремхеба для этого были направлены два армейских подразделения. Это привело в некоторых случаях к кровавым столкновениям, но недопустимо, чтобы эти господа продолжали насмехаться над властью короны. Я хочу надеяться, что через месяц в Двух Землях не останется больше ни одного частного отряда охраны.
— А разбойники? — спросил Усермон.
Вмешался Хоремхеб:
— На всех границах страны размещены наши войска для того, чтобы перехватывать банды грабителей. С разрешения ее величества я собираюсь попросить казначея Майю о выделении средств на строительство стен, поддерживаемых малыми фортами, для того, чтобы создать еще более мощное заграждение от этих бандитов. Мы будем держать там постоянные силы.
— Это будет дорого стоить, — заметил Усермон.
— Первый советник, это будет стоить намного меньше, чем потери из-за неуплаты налогов, о чем глава ведомства Рамзес представит тебе отчет, — ответил Майя. — Я ознакомлю тебя с расчетами после доклада.
Очевидным было то, что Хоремхеб, Майя и Рамзес вели себя так, как будто они трое сформировали еще одно независимое правительство. Эти люди действительно прибирали страну к своим рукам. И возразить им было нечем.
— Я говорил только о Нижней Земле, — сказал Рамзес. — В Верхней Земле нет грабителей. Единственная граница пролегает на юге, и она хорошо охраняется. И между тем, у господ провинций Верхней Земли также есть свои отряды охраны. Их цель состоит исключительно в том, чтобы препятствовать работе служащих налогового управления. Легко можно обескуражить налоговиков, выставив против них отряд охраны из пятидесяти или ста человек. А если они проявляют настойчивость, то их либо убивают, либо подкупают. Впрочем, они этого и не скрывают, так как давно поняли бесполезность своих усилий. Расследования моих посланцев выявили, что они практически все продажны.
— Почему такие низкие доходы мы получаем с Двух Земель? — вмешался Майя. — Налоги, которые мы взимаем, получены в основном от мелких землевладельцев, тех, у кого нет средств содержать отряды охраны. Твое величество, Первый советник! — воскликнул он вдруг. — Суммы, которые каждый год недополучает царская Казна от крупных землевладельцев, доходят до двухсот тысяч золотых колец! Это больше, чем идет на содержание армии!
От возмущения у Анкесенамон округлились глаза.
— Это недопустимо! — заявила она в сердцах.
— Твое величество, я решил уволить всех служащих Казны в провинциях.
— Со своей стороны, — вступил в разговор Рамзес, — я также решил освободить от должности некоторых городских голов и начальников охраны, которые уличены в продажности.
Выражение лица Хоремхеба говорило, что он удовлетворен ходом заседания.
Анкесенамон оставалась задумчивой.
— Эти средства, которые должны Казне… Когда они начнут поступать в кассу Казны? — спросил Усермон у Майи.
— Первый советник, мы уже получили около сорока тысяч золотых колец. Через месяц надеемся получить еще шестьдесят тысяч.
— Но это не составляет в сумме двухсот тысяч, — заметил Усермон, довольный тем, что не вмешался в дело Аакеда.
— Это только первые плоды нашей работы, Советник. Предстоит многое проделать из того, что я задумал, и для этого надо еще завербовать писцов, чтобы усилить команды сборщиков налогов. Тогда мы соберем оставшиеся сто тысяч.
Рамзес вызвал своего секретаря. Минуту спустя тот принес свиток папируса.
— Первый советник, — сказал Рамзес, — отставка городских голов и начальников охраны входит в твою компетенцию. Вот список тех, чья продажность установлена.
Усермон взял сверток папируса и развернул его. Он насчитал тридцать одно имя и содрогнулся при мысли о той огромной работе, которую предстояло выполнить по замене перечисленных лиц.
Вдруг на одном имени его взгляд задержался. Брат. Он побледнел.
— Этот голова… — начал было он.
— Кто, Первый советник? — уточнил Рамзес.
— Медамон.
— Он был изобличен в том, что подкупал своих служащих, чтобы те не арестовали охранников Аакеда, которые дважды оказывали сопротивление служащим налогового управления. В прошлом году один из налоговиков был убит. В настоящий момент Медамон находится в тюрьме Омбуса, но вопрос об его отставке решать тебе.
— Это мой брат, — прошептал Усермон, держа свиток на коленях.
Все взгляды застыли на нем.
Молчание казалось нескончаемым.
— Я не могу подписать этот акт, — выговорил он наконец.
И после еще одной минуты молчания он посмотрел на царицу и сказал:
— Твое величество, я тебя прошу принять мою отставку.
Они оба подумали об одном и том же: в любом случае, партия уже была проиграна.
31
«БОГИ ИЗМАТЫВАЮТ МИР»
Итак, Хоремхеб стал Первым советником. Анумес сменил его на посту главнокомандующего армии.
Царица пожаловала Усермону тройное золотое ожерелье как награду за верную службу. У него слезы навернулись на глаза. Однако его брат Медамон был осужден и приговорен к тюремному заключению, что было оскорблением для служащего, происходящего из богатой семьи писцов. Впрочем, там было сейчас много его коллег по царской службе, столь же несчастных, как и он. Времена изменились.
В честь вступления Хоремхеба на должность Первого советника во дворце устроили пир.
Лицо Мутнехмет походило на каменную маску: со времени разрыва их отношений она в первый раз увидела своего бывшего супруга. Он был на вершине власти, а она — никем, покинутой супругой, сестрой царицы, представительницы опозоренной династии. Они расстались без скандалов и горечи, что обычно сопровождает разрушение таких союзов. Случаев в истории царства было достаточно, чтобы убедить обоих, что их брак себя исчерпал. Любовный пыл давно уже испарился. Она стала для него прошлым, которое, как и для многих людей, достойно было сожаления; он воплощал будущее. Они напоминали тех актеров, которые во время общих праздников исполняли пантомимы из жизни богов, то приближаясь, то удаляясь друг от друга, согласно перипетиям действа.
Тридцать лет назад, во времена Эхнатона, Ай убедил свою дочь в том, что Хоремхеб, тогда уже подающий надежды командир, составит для нее хорошую партию. Он сам мало верил в то, что говорил, даже не подозревая, что его зять скоро начнет оспаривать у него то, что он сам желал больше всего на свете: власть. Тогда Ай объяснил Хоремхебу, что его союз с сестрой Нефертити позволит тому приблизиться к вершинам власти. Никто не оспаривал его правоту. Но, несмотря на свою проницательность, господин Ахмима лукавство богов проигнорировал: когда они способствуют осуществлению намерений людей, это всегда делается только для того, чтобы углубить их мучения как смертных.
В истории трона было два поучительных примера: тот же успех культа Атона, так пылко защищаемого Эхнатоном, навлек на династию бедствия. И успех, которого в результате долгих интриг достиг Ай ради того, чтобы подняться на вершину власти, привел в результате к превращению царского окружения в пустую раковину.
Но мудрость чаще всего приходит, когда уже поздно что-либо менять.
— Да ниспошлет небо благословение госпоже Мутнехмет, — любезно произнес Хоремхеб, приближаясь к своей бывшей супруге.
— Боги уже радуются твоим успехам, — ответила Мутнехмет, скрывая горечь и заставив себя улыбнуться.
Как и ее племянница Анкесенамон, она потеряла свою сущность задолго до того, как ее тело передадут бальзамировщикам; от нее всего и осталось, что имя на большой фреске династии.
Невозмутимость, с которой она держалась, в последующие минуты подверглась испытанию.
За столом, во главе которого сидела царица, ее место оказалось напротив новой супруги Хоремхеба, которая была потаскухой в доме танцев Мемфиса. Об этом было всем известно. Первую после царицы госпожу царства звали Суджиб, что означает «Та, которая делает счастливым». Некогда это имя было причиной непрекращающихся насмешек, но нынче никто не рискнул бы вызвать гнев у Хоремхеба. Время от времени она с ужасом смотрела на царицу и Мутнехмет, постоянно ожидая, что ее вот-вот вытащат на середину зала с растрепанными волосами, униженную и освистанную.
У Мутнехмет и в мыслях не было чинить подобное, это не залечило бы ее рану. Суджиб была очаровательна. Ей было около двадцати лет, что достаточно красноречиво подтверждали ее маленькие круглые и твердые груди под складками льняного платья и сияющее свежестью розовато-смуглое лицо.
Страдания Мутнехмет вызывало не только ее теперешнее положение в обществе, но и осознание того, что она больше не желанная женщина.
Между тем присутствие нахалки за царским столом было организовано преднамеренно. Еще до начала трапезы Анкесенамон сказала Уадху Менеху, что нелепо усаживать за один стол бывшую супругу и нынешнюю, на что Главный распорядитель ответил с удрученным видом, что таково было распоряжение Первого советника. И хотя власть Советника не распространялась на Царский дом, царице претило подставлять старого Уадха Менеха под удары Хоремхеба. Она довольствовалась тем, что отвела последнего незаметно для присутствующих в сторону, чтобы сказать:
— Советник, возможно, ты этого не знаешь, но только я отдаю приказы распорядителям Царского дома.
Это был первый раз за долгое время, когда она к нему обратилась. Он на нее хитро взглянул.
— В самом деле, твое величество? Я этого не знал.
«Вот и все, — подумала она, — что осталось от моих приближенных, — обслуживающий персонал Царского дома».
Она сидела недалеко от супруги Первого советника и имела возможность внимательно ее рассмотреть. А ведь он делал ей предложение и был отвергнут в тот раз, на террасе, и она его слушала, не произнеся ни единого слова. О, будь она посговорчивей, тогда бы он отказался от этой милой глупой болтуньи ради того, чтобы сочетаться браком с ней и законно получить трон.
Все ради власти.
Стало быть, у амбициозных людей нет чувств. Они готовы всем пожертвовать, только бы надеть на свою голову корону.
Хотя вполне возможно, что он от нее не отказался бы; сделал бы ее хозяйкой своего гарема и ходил бы к ней каждый раз, когда энергия воителя толкала бы его туда.
Она размышляла о власти, разламывая фаршированного молодого голубя. Что же это такое, то ли высшая степень торжества человека, то ли пик наслаждения души? Но при пике наслаждения тела человек не только берет, но и отдает, происходит взаимообмен. А власть нельзя разделить.
«Власть, — сказала она себе мысленно, — подобна самоудовлетворению».
Ее вдруг охватило невыносимое омерзение к занимающемуся рукоблудием Хоремхебу.
Когда стали выступать танцовщицы, у Анкесенамон появилось ощущение, что она заложница в чужом дворце. В свои двадцать шесть лет она ощущала себя в десять раз старше.
Взгляды и поведение придворных говорили достаточно ясно: она не была больше центром притяжения взглядов. Самое большое скопление людей было вокруг Хоремхеба, нового хозяина царства и дарителя милостей.
Она и не подозревала, что Хоремхеб размышлял о том же: «Эта женщина, которая всего лишь олицетворяет мужество своих предков, настоящая хозяйка этого дома». Для всех она оставалась правительницей, символическим центром власти. Об этом свидетельствовало проявление уважения к ней со стороны высокопоставленных лиц и послов страны.
Но она к этому слишком привыкла, чтобы замечать. На протяжении всего пира она только и видела, что этого грубияна Хоремхеба, этакую муху в молоке, червяка на розе, крысу в храме. Этот человек был тучей ее неба.
А для него она была деревянной куклой на троне богов.
Таким образом, они оба ошибались, размышляя друг о друге, и из-за этого еще больше ожесточались.
После трапезы Анкесенамон ушла вместе с Мутнехмет. Она отправилась в комнату своего сына, склонилась над колыбелью и долго его рассматривала. Гладила его лицо. Вдруг она выпрямилась. Напротив стояла Мутнехмет. Им было достаточно обменяться взглядами, чтобы понять друг друга.
Хоремхеб захватывал территории.
Верховный жрец Хумос рассматривал своего именитого посетителя. У него была широкая грудь, вздымавшаяся при вдохе. Он взял кисть винограда из вазы, поставленной перед ним.
— Согласен, положение трудное, — сказал он.
Охваченный нетерпением, Хоремхеб поднялся и стал шагать взад и вперед по саду верховного жреца.
— Я попросил у нее аудиенции. Описал ей важность нашего союза для царства, используя те выражения, которые ты мне подсказал. Она меня слушала, не произнося ни слова, будто принимала меня за собаку. Я потерял терпение, бросил кубок об пол и ушел.
— Ты не прав.
Он представил эту сцену. Хоремхеб в роли робкого воздыхателя казался ему неубедительным.
Прилетела оса на запах винограда.
— Верховный жрец, я спас эту страну от катастрофы. Именно от катастрофы, ты это знаешь!
— Я это знаю.
— Продажность чиновников подтачивала ее, как черви труп осла. Враги уже выжидали, как грифы, когда можно начать терзать ее. Я справился с этим. Царица это знает. Она должна была меня считать спасителем этой страны, которую мужчины ее семьи, сначала ее недоразвитый отец, потом его мрачный преемник Сменхкара, а затем этот смешной царек Тутанхамон, ее муж, чуть не ввергли в хаос. И тот же Ай! — вскричал полководец. — Интриган, в каком состоянии он оставил страну! Провинциальные царьки только о том и мечтали, чтобы отделить свои провинции от территории короны!
Хумос, ошеломленный, смотрел на Хоремхеба.
— И теперь, кем я стал теперь? — гремел Хоремхеб. — Нищим? Верховный жрец, я пришел ей объяснить, что царство в опасности, а она меня отвергла, как будто отмахнулась от мухи! О чем она думает? Что станет регентшей, пока ее сын Хоренет не достигнет совершеннолетия? И кто тогда позаботится о могуществе страны? Кто будет командовать армиями? Кто расправится с продажными чиновниками? Кто станет воплощением власти в глазах народа? Следующий Тутанхамон?
Под дуновением легкого ветерка розы грациозно покачивали своими головками.
Хоремхеб снова сел и сделал большой глоток пива.
— Что будем делать? — спросил он.
— Полководец, я хотел бы заявить, что в этот момент смерть царицы Анкесенамон может привести страну к катастрофе.
У Хоремхеба глаза налились кровью. Да, он думал о том, чтобы устранить эту полную презрения дуру. Как верховный жрец догадался об этом?
— Большая часть населения этой страны чтит династию, — продолжил верховный жрец. — Преждевременная смерть царицы приведет лишь к тому, что у господ провинций усилится желание отделиться.
Хумос устремил на полководца тяжелый взгляд.
— И, несмотря на свою славу, ты будешь в глазах народа только узурпатором.
Узурпатор. Это слово будто парализовало Хоремхеба. Оно означало, что, если он пойдет на это, жрецы лишат его своего доверия. И он хорошо понимал, насколько тяжелы будут последствия.
— И что же тогда? — спросил он.
— Доверься богам.
Хоремхеб лишился дара речи. Военные всегда считали, что боги наделяют их силой и волей, чтобы они действовали вместо них.
— Все меняется, — возобновил разговор Хумос, срывая виноградины с кисти. — Плод на дереве созревает и падает на землю. Он гниет, и тогда земля его поглощает. Его начинают поедать черви, и вот плода уже больше нет. Боги изматывают мир. То, что должно упасть, падает. В конечном счете, все должно упасть.
Хоремхеб ничего за все это время не сказал. Конечно, последняя фраза его не успокоила. Да, все заканчивается тем, что падает, и видимо в этом крылась причина того, почему этот народ жил, готовясь к смерти. Возможно, он не понял речей своего собеседника. Однако очевидным было то, что боги измотали тутмосидов.
— В одиночку Атон не мог быть сильнее объединившихся вместе богов, — добавил Хумос.
— Но что же я должен делать? — спросил Хоремхеб. — Ожидать? Без конца ожидать?
— Что ты от этого теряешь? Ничего. У нее нет ни малейшего шанса возвратить власть.
— Но ее сын?
Верховный жрец показал жестом, что его не стоит принимать во внимание.
— Ему только год или чуть больше, — сказал он. — Неужели тебя беспокоит малолетний ребенок? Она может сделать столько детей, сколько захочет, но победу одержит более сильный.
Хоремхеб медленно усваивал сказанное. Его до сих пор раздражало то, что эта одинокая женщина морочила ему голову, ему, знаменитому полководцу Хоремхебу!
Женщин он остерегался.
32
БОЖЕСТВЕННЫЕ САРКАЗМЫ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Воцарившаяся во дворце тишина была тягостной.
Неужели это было вчера? Голоса и смех царевен, заполнявшие пространство дворца, и, подобные лепесткам цветов миндального дерева, которые в конце весны ветер разносит повсюду, неожиданные их вскрики, торопившие служанок и рабов, шлепавших босыми ногами, принести сироп, плод или найти безвестного виновника оплошности. Щебетание придворных дам и кормилиц утром и в конце дня; легкомысленные вскрики во время купания в ванной и благоухания, проникающие оттуда в коридор; восклицания, когда приходили портнихи вместе с новыми платьями и Хранитель благовоний, несущий сундучок с неизвестными запахами.
Анкесенамон вспомнила о любимых духах Нефернеферуры, смеси мускуса и бергамота. Она поставила сосуд с ними в ее гробницу вместе с другими подарками для покойной.
И ничего больше нет. Только слышны далекие крики перевозчиков на Ниле и коршунов в небе.
Казалось, даже лев скучает. Сати придумала развлечь его мышами. Смотритель Зверинца принес трех или четырех зверушек, которых положил возле лап животного. Но хищник посмотрел на них пренебрежительно и снизошел лишь до того, что слегка прижал одну к полу выпущенным когтем. К счастью, за этим наблюдали дворцовые кошки, и они быстро покончили с мышками, чтобы те не беспокоили льва царицы.
— Этого льва надо назвать Хоремхебом, — сказал карлик Меней.
Мутнехмет с племянницей с изумлением переглянулись. Затем они разразились безудержным смехом.
И действительно, Хоремхеб вел себя с женщинами дворца, как лев с мышами — он просто игнорировал их.
Бывало иногда, что супруги придворных чиновников приходили нанести визит царице. Та почти не ошибалась относительно цели таких посещений: проверить, какое у нее настроение, и обнаружить какое бы то ни было его изменение, о чем они непременно сообщали своим мужьям, а затем новости передавались во все концы Фив и царства. У принца Хоренета был понос. В этот раз Мутнехмет так и не появилась во время их визита. У царицы круги под глазами. Статуя царя Ая теперь установлена в Большом зале, а не в комнате царицы. И так далее. Из этих пустяков их безудержное воображение строило, без сомнения, абсурдные небылицы, поэтому Анкесенамон очень редко оставляла их на ужин, чтобы сократить до минимума глупые вымыслы.
Часто по вечерам приходил ужинать Итшан в компании с Мутнехмет. Усаживали за стол детей, сироту Нефериб и Хоренета, и слушали их болтовню, как будто они были оракулами. Старательно воздерживались от того, чтобы упоминать о пропавшем царевиче, Аменхотепе. Затем Меней с Сати играли в змея.
[47] Иногда писец читал вслух несколько отрывков из «Диалогов отчаявшегося человека со своим последователем», «Жалоб Ипуур» или «Максим Хахаперрезенеба», убеждающих читателя в том, что человеческое существование не представляет собой гирлянду блаженств.
[48] Затем детей укладывали спать, Мутнехмет удалялась, Итшан следовал за Анкесенамон в ее апартаменты.
Но их любовные отношения все больше и больше стали напоминать близкую связь заключенных.
Однажды ей приснился кошмарный сон: в гробнице ее отца персонажи сошли со стен и прогуливались по лабиринту комнат, поглаживая фигуры на фресках. Она внезапно проснулась: Итшан, страдавший бессонницей, склонясь, наблюдал за ней.
Даже зажмурив глаза, она чувствовала вопрошающий взгляд, который он часто устремлял на нее, когда она лежала, вытянувшись.
«И что дальше?» — спрашивал он взглядом, не произнося слова вслух, таким голосом, который постоянно звучал даже в сновидениях и в его отсутствие.
Вне сомнения, он думал о том, каким было его место в театре теней, в который превратилась жизнь царицы. Тайный любовник и непризнанный отец царевича дошел до того, что сам стал как тень.
Она не отвечала, так как не знала ответа. Нет, это не могло продолжаться вечно.
Минул один год после смерти Ая.
Опять пришел месяц Хойяк, начался сезон Наводнения.
Хоремхеб организовал праздник Осириса.
Как только он вернулся с празднования, Рамзес сразу же появился во дворце и попросил у царицы аудиенции.
— Твое величество, к сожалению, должен тебе сообщить неприятную новость. Вчера была разграблена гробница царя Ая.
На какое-то мгновение из-за шока она не могла говорить. Как бы отстраненно ни относилась она к своему деду, этот грабеж был ею воспринят как попытка очернить образ царской семьи. Династии. Жилищем вечности должен быть обеспечен любой человек, даже если он спорил с богами относительно своей судьбы. Это было святая святых. Взлом гробницы был неописуемым преступлением, тем оскорблением, которое мог задумать только Апоп. Он лишал покойника вечности.
— В это утро на рассвете стражники обнаружили пробитую стену гробницы, — добавил он.
Сати, стоя позади царицы, слушала с мрачным видом.
— Разве гробницы не охраняются постоянно? — спросила Анкесенамон.
— Так оно и есть, твое величество. Но мы не можем поставить охрану перед каждой из них. Кроме того, ночью была песчаная буря, которая вынудила стражников укрыться в одном из похоронных храмов. Воры воспользовались удобным случаем.
Какое-то время она пребывала в размышлении.
— Что они унесли?
— Золотые маски с саркофагов царя, драгоценности, которые украшали останки, и многочисленные золотые вещи. В настоящее время мы с начальником хозяйственной службы составляем общий список. Труднее будет определить похищенное из саркофага матери царя.
Она вспомнила, что Ай заставил перенести саркофаг матери в свою гробницу.
— Стало быть, они открыли каменный саркофаг?
— Именно так, твое величество.
— Неужели они повредили саркофаг царя?
— Увы, твое величество, такое кощунство совершается не в первый раз.
Да, ей было известно, что иногда разоряли гробницы, в которых находились сокровища. Но за этими преступлениями следовали другие, как в случае убийств: всегда на прицеле был кто-то еще.
— Я полагала, что заграждения были установлены для того, чтобы остановить вторжения грабителей.
— Речь не идет о грабителях, твое величество. Это кто-то из обычных жителей. Очевидно, царские гробницы разжигают в них алчность. Вот почему они находятся под охраной, которую, впрочем, полководец Анубис заставил усилить согласно распоряжениям Первого советника Хоремхеба. Он отдал мне приказ незамедлительно разыскать воров и, когда они будут найдены, посадить их на кол.
Анкесенамон содрогнулась.
Но главным было то, что Хоремхеб все же защищал целостность царских гробниц.
Новость стала причиной смятения во дворце. Его обитатели пришли выразить царице, насколько они оскорблены и разгневаны. И ей пришлось выдерживать увеличившееся количество визитов супруг высокопоставленных лиц, появившихся подобрать крошки — детали происшествия.
Она не прекращала думать о краткости отдыха Ая в своей гробнице.
Между тем по прошествии нескольких дней, во время заседания совета, Анкесенамон пришлось испытать новое потрясение.
Хоремхеб заявил, что, по мнению верховного жреца Хумоса, ввиду осквернения гробницы Ая нужно совершить новое захоронение.
— Снова будем делать саркофаги? — спросила царица.
— Твое величество, достаточно трудно будет снова сделать саркофаги, так как мумия исчезла.
— Исчезла?
— Начальник охраны Рамзес не захотел причинить твоему величеству дополнительной боли, когда информировал о взломе. Второпях воры вытащили мумию из саркофага. Без сомнения, ради того, чтобы сорвать драгоценности, которые украшали запястья, и похитить те, что были скрыты под повязками, они ее почти полностью распеленали и разрушили.
У Анкесенамон вырвался крик ужаса.
— Стражники, — продолжил Хоремхеб, устремив на царицу бесстрастный взгляд, — обнаружили разбросанные фрагменты царской мумии на полу в гробнице и перед ней. Та же участь постигла останки матери царя. Остатки мумий были собраны. Но верховный жрец признает невозможным восстановить мумии или саркофаги. Нельзя повторить обряд Открытия рта. По его мнению, лучше приступить к перезахоронению мумий в другом месте и в отдельных саркофагах.
— В другом месте?
— Эту
гробницу нельзя вновь использовать. Она осквернена.
— Но тогда где же поместят эти останки? — воскликнула она, неожиданно охрипнув.
— Царь приказал построить гробницу в Ахетатоне, рядом с гробницей царицы Нефертити. Вот там, по мнению верховного жреца, он должен будет отдыхать. Некрополь там защищен.
Она подумала, что уже нечего больше воровать.
Царя Ая больше не было, кроме как на фресках своей недолговременной гробницы.
Анкесенамон и Мутнехмет, заплаканные, пожелали сопровождать саркофаги в Ахетатон. Их перевозка осуществлялась под командованием Главного смотрителя царских имений и в сопровождении двадцати военных. Три придворные дамы, Сати и целая дюжина слуг составляли свиту царицы и ее тети. Поскольку перезахоронение не могло быть пышной церемонией, особенно при таких обстоятельствах, Анкесенамон решила, что это должно быть официозное мероприятие.
Оба внешних каменных саркофага, один из которых, — тот, что принадлежал Аю, — был разбит, также перевозили в Ахетатон.
Царица, ее тетя и их свита совершали поездку на борту «Славы Амона».
Вот уже около пятнадцати лет Анкесенамон не бывала в Ахетатоне. Ее охватило волнение, когда она подумала об этом городе. Остался ли он таким, каким был? Но она была потрясена: начиная с пристани, можно было догадаться, что бывшая царская столица стала теперь городом-призраком. Покинутый придворными и их семьями при переезде двора в Фивы, город теперь можно было назвать лишь небольшим местечком.
Со стен дворца отлетела штукатурка. Сады были запущены. Одичали кусты роз и жасмина. Кругом можно было видеть развалившихся на траве или дурачившихся в туях кошек, целое племя.
В этих местах не осталось больше никого, кроме малочисленного персонала, заботившегося о том, чтобы земледельцы, рыболовы и торговцы, проживающие в городе, не занимали здания бывшего царского дворца. Здешний начальник, извещенный смотрителем, пришел в смятение, когда узнал о царском визите. Ему надо было срочно найти ложа, освежить постельные принадлежности, подмести комнаты, в которых можно было бы принять царственных особ…
Анкесенамон решила, что она, Мутнехмет и их свита могут подождать в саду, пока приготовят их покои. Смотритель приказал принести напитки, но в наличии оказалось только пиво, которое подали в деревенских кружках из обожженной глины.
Во время правления Тутанхамона, как впрочем и во время своего царствования, Ай забросил город, созданный Эхнатоном. Он стер его из своей памяти. Все, без сомнения, у нее здесь вызывало назойливые воспоминания о том периоде, когда он был горячим защитником культа Атона и воспевал:
Привет тебе, о живой Диск, который восходит на небе! Он переполняет сердца, и всякого живущего радует сила его сияния…
Он был тем, кто чествовал царя, учредившего культ Атона:
Атон радуется своему сыну,
Он обнимает его своими лучами
И дарует ему вечность,
Ему, царю, подобному Диску!
Но когда он понял, что культ Атона рискует опрокинуть трон и разрушить царство, так же как и его планы относительно завоевания власти, он пошел на попятный. Отказался от Ахетатона.
«Странный поворот событий, — подумала Анкесенамон. — Он возвращается сюда, или, по крайней мере, его саркофаг возвращается сюда, но пустым».
[49] Божественная ирония превратилась в сарказм.
Возможно, бог Атон отомстил за свое забвение? Или это совершил Амон, раздраженный несоблюдением царем одного из установленных им правил?
Наконец, слуги извлекли из кладовых ложа и кресла, необходимые для высокопоставленных гостей. В первый раз за долгие годы Анкесенамон поднялась по лестнице, ведущей на верхний этаж. Большой бассейн, где в былые времена плавали лотосы, все еще был здесь, но уже без цветов — вода высохла. Анубис подавал знак, иссушив лотосы.
Гости смогли немного отдохнуть и освежиться. Затем вместо тушеных бобов повара, не покладая рук, готовили царскую еду. Они нашли даже вино.
Солнце закатывалось в буйстве оттенков расплавленной меди. Стоя на все еще пыльной террасе, Анкесенамон всматривалась в поля, где некогда, в очень давние времена, она резвилась с Пасаром.
Она решила лечь спать в своей бывшей комнате. Там она погрузилась в сон, улыбаясь. Она нашла свое потерянное детство.
33
ВТОРЫЕ ПОХОРОНЫ ПОЧТИ НИЧЕГО
Перезахоронение останков Ая и его матери происходило сумбурно. Что-либо хуже этого трудно было представить.
Состарившийся верховный жрец Атона Панезий, которого вывели накануне из оцепенения, чтобы провести нечто вроде церемонии в храме Атона, а затем в некрополе, казался слабоумным. Очевидно, он ничего не понял из того, что говорил ему смотритель. То, что могила Ая была осквернена, что его саркофаги разрушены, что нельзя больше поддерживать гробницу в месте захоронения царей Маат в должном состоянии… все это было для него непостижимым. Перезахоронение ему казалось очень важным событием.
Однако он отнюдь не был старцем — он просто прекратил интересоваться миром и достиг такого состояния, когда человек, уже неспособный поддерживать ясность своего ума, минерализуется и кристаллизируется. Как и царь, его господин, он отказался со времени смерти последнего видеть то, на что смотрел. Осквернение могилы Ая повергло его в ужас, вернуло в этот мир.
Он пригласил двух бывших жрецов, которых долгое отсутствие доходов заставило трудиться на полях. Накануне перезахоронения эти трое создали видимость церемонии в храме Атона, где в молитвах связали имена Атона и Амона.
Как и большая часть крыши храма, та, что прикрывала часовню, где Панезий вел службу, была наполовину разрушена. Вот уже пятнадцать лет, как на починку крыши не выделялись средства. Ветер, который прорывался в дыры крыши, дважды гасил огонь жертвенника. Сама церемония сопровождалась диким мяуканьем кошек, ссорившихся из-за чего-то.
На следующий день в то время, когда должны были уже нести останки на гору, в склеп, расположенный рядом со склепом Эхнатона, поднялся сильный ветер. С трудом переносимый в окрестностях города, он стал адским на открытом пространстве. Со всей силой своей подлой природы Апоп пригнал в этот мир тучи пыли, песка и гной своих старых обид.
После того как они вышли из дворца, Анкесенамон, казалось, заснула на своем паланкине.
Мутнехмет, похоже, была одурманена снадобьями. Карлик Меней шел рядом с ее паланкином, пронзительно выкрикивая ужасные проклятия.
Через несколько минут обе женщины должны были скрыть свои лица под покрывалами, которые Сати мудро прихватила с собой, иначе им пришлось бы вернуться обратно.
За ними несли саркофаги царя и его матери, до которых носильщикам не было дела. Носильщики задыхались и надсаживались от крика, выплевывая время от времени вязкую от пыли слюну.
Наконец кортеж добрался до подножия горы перед склепом, который был открыт.
У Главного смотрителя чуть было не улетел парик. В тот момент, когда вносили деревянный саркофаг с останками Ая в склеп, где одна из его дочерей, Нефертити, уже спала рядом со своим странным супругом, подол платья Мутнехмет задрался порывом ветра и облепил ей лицо. Она в ярости одернула платье, так как пропустила этот решающий момент.
Во время неистовых порывов ветра придворным дамам приходилось одной рукой держать парик, а другой — край платья.
Солдаты были не прочь увидеть ноги этих дам, но их ослепляла пыль.
Когда Панезий произносил последнюю молитву, ветер прорвался под его одеяние и поднял его полностью, открыв взорам исхудавшее тело старика, которое явно не доставит больших хлопот бальзамировщикам.
Наконец дверь гробницы запечатали.
Все добирались, согнувшись, до паланкинов, спеша возвратиться во дворец, вернее, в то, что осталось от дворца. Захваченные столбом бешеной пыли, носильщики паланкина Мутнехмет чуть было не перевернули его. Она испустила душераздирающий крик, которым не соизволила почтить своего усопшего отца.
Царица, Мутнехмет, придворные дамы, смотритель и остальные возвратились во дворец, задыхаясь от кашля, тяжело дыша, все в пыли. Ванны были заняты до самого вечера, затем поужинали жареной уткой, которая скрипела на зубах.
Вопреки этому неприятному случаю, Анкесенамон отодвинула на два дня окончание этого запомнившегося всем визита.
Когда ветер утих, она на следующий же день отправилась в луга, где некогда познала своего первого мужчину. Инжир, который своей тенью скрывал их, был на том же месте и плодоносил, о чем никто не знал. Она отведала несколько плодов, вдруг почему-то приободрившись.
Она знала, как ей поступить.
Фраза Тхуту, произнесенная им при последней встрече, снова пришла ей на ум: «На троне должен быть сильный человек».
По возвращении в Фивы она послала Сати на рынок, чтобы предупредить зеленщика Сенеджа о том, что она хочет увидеться с его хозяином на следующий день.
Они с Сати все сделали, как и в первый раз, — переоделись в платья простых женщин. На пороге кухни Сати разыграла комедию, толкнув царицу, как если бы та была служанкой. Анкесенамон рассмеялась украдкой.
Она сразу узнала бывшего Первого советника, как всегда плохо выбритого. Он повел ее к тому же месту на берегу Нила, где речники продолжали заниматься своей работой.
— Я весь внимание, твое величество. Чем моя скромная особа может быть тебе полезной?
— Мне необходимо узнать твое мнение. Ты мне сказал, что на троне должен быть сильный человек.
— Это так, твое величество.
— Но я теперь никто.
Он вопросительно на нее посмотрел. Возможно, вспомнил о том, что ей предсказал: уподобиться Исис.
— Он тебе не предложил заключить союз?
— Наоборот. Неужели ты полагаешь, что я могу выйти замуж за этого солдафона? — бросила она вызывающе.
Он размышлял над ответом.
— Я не вижу другого сильного человека твоего круга, — нерешительно заявил он.
— Возможно, там его не стоит искать, — произнесла она, досадливо морщась.
Он бросил на нее вопрошающий взгляд.
— Вероятно, следует поискать среди чужеземных царевичей, — заявила она.
Он лишился дара речи.
— Ради чего, твое величество?
— Чтобы сочетаться с ним браком!
— Ты намереваешься сочетаться браком с чужеземным царевичем? — спросил он недоверчиво.
— Я не хочу сочетаться браком с Хоремхебом и не собираюсь позволять ему и его приспешникам рвать на куски царство моего отца! Другой для себя партии я не вижу, поэтому думаю о том, с кем из чужеземных царевичей я могу сочетаться браком.
— Еще надо, чтобы он был сильным человеком, способным противостоять Хоремхебу, — заметил Тхуту.
— Если его отец — царь, значит, он тоже могущественный человек.
Тхуту с трудом представлял эту ситуацию. Насколько он помнил, ничего подобного в истории царства не было.
В десяти шагах от них перевозчик мочился в реку.
— Но это все равно что отдать царство чужеземцу, — сказал он уверенно, но мягким тоном.
— Поскольку он станет супругом царицы Мисра, он перестанет быть чужеземцем, — возразила она с нетерпением. — На самом деле, Советник, я пришла не для того, чтобы спрашивать тебя, возможно ли такое, так как это возможно. Я пришла тебя спросить о том, кто из чужеземных царевичей мог бы править вместе со мной.
Подошел голый ребенок и стал рассматривать царицу и Советника. У Анкесенамон ничего не было, чтобы дать ему. Она его отослала прочь.
— Первое, что приходит на ум, твое величество, — необходимо, чтобы это был союзник. А единственным значимым для нас союзником является царь хеттов, Суппилулиума.
Она повторила имя, которое встречалось в отчетах главнокомандующего и Пентью.
Тхуту казался задумчивым, но и смущенным.
— Твое величество, — сказал он в заключение, — реакция Хоремхеба на такой поступок может быть страшной.
— Что значит — страшной?
Он подумал о том, что эта женщина, похоже, потеряла чувство реальности.
Она же подумала, что возраст и отстраненность от власти, пожалуй, лишили этого человека мужественности.
— Сегодня власть в Двух Землях в его руках. Ты предлагаешь отстранить его силой. Он будет защищаться, но я даже не могу представить себе как.
— Долгие колебания — удел трусов, — заявила она. — Моя династия в опасности. Я не могу позволить Хоремхебу разграбить страну.
«Ох, что же будет, если она выйдет замуж за иностранного царевича!» — подумал он.
— Советник, благодарю тебя за то, что выслушал меня.
Она попрощалась с ним и возвратилась к Сати. Он подумал о том, что, возможно, больше никогда не увидит ее. «Эта женщина сошла с ума», — решил он.
34
НЕБЫВАЛОЕ ПИСЬМО
Итшан стал появляться все реже. Общение с военными отныне поглощало его досуг.
В конце сезона Наводнения, вне сомнения, по наущению Хоремхеба, полководец Анумес назначил его командиром конников в Мемфисе. На самом деле это было серьезное продвижение по службе: молодой человек теперь был не каким-то Начальником царских конюшен, а командиром конных отрядов Нижней Земли. Еще до этого Хоремхеб публично заявил о своей непричастности к покушению на жизнь Начальника конюшен.
Итшан пришел попрощаться с царицей.
— Они все-таки нашли средство, как отнять тебя у меня, — сказала она.
Неужели она не видела, что он томился рядом с ней?
— По крайней мере, они больше не будут пытаться тебя убить, — добавила она.
— Я буду приезжать, если твое величество позволит.
Она вопрошающе подняла брови.
— Чтобы повидать Хоренета.
Анкесенамон кивнула, но довольно холодно.
Хоренет был ее сыном. Теперь, когда Итшана удалили от нее, его интерес к ребенку граничил с бестактностью.
Она была рада тому, что ничего не сообщила ему о своих планах относительно бракосочетания с сыном Суппилулиума. Но он был достаточно умным человеком, чтобы понять, что не является тем, кто способен подняться против Хоремхеба.
Их любовные отношения закончились. Став частью враждебного ей мира, Итшан теперь был лишь бывшим любовником. Она также знала, что если во дворце и было известно о ее связи с Начальником царских конюшен, то никто не был уверен в том, что он отец маленького царевича.
— Можно мне сейчас его увидеть? — спросил он.
— Он в саду.
Он поклонился и поцеловал руку той, которую много раз сжимал в своих объятиях. Затем он ушел, охваченный чувством горечи. Он был любовником не Анкесенамон, а царицы. И вот его статус признан недействительным: не было любовника у царицы, так как царица не является женщиной! Очень удобно.
«Стало быть, я теперь совсем одна», — сказала она себе, когда стихли шаги Итшана в коридоре, ведущем в большой зал.
Она встала и пошла в комнату, окна которой выходили в сад, затем вышла на террасу. Она увидела Итшана — он наклонился к Хоренету, протягивая ему сорванную ветку жасмина, а затем взял его на руки.
Она подумала о Пасаре и разрыдалась, затем возвратилась в комнату.
Целыми днями она раздумывала о своем плане, о том, как его осуществить, и о содержании письма, которое собиралась отправить Суппилулиуме. Анкесенамон пришла к заключению, что у нее нет особого выбора. Она составит письмо, которое вручит послу царя хеттов без ведома Пентью и Хоремхеба. У нее были великолепные способности излагать свои мысли письменно.
Ей тайно доставили папирус, чернила и заточенный стебель камыша. Она подложила под папирус глиняную дощечку и написала следующее послание:
Царю хеттов Суппилулиума, союзнику Мисра.
Уважаемый монарх, я тебя информирую о следующем. Мой муж умер, и у меня нет сына. Мне известно, что у тебя несколько взрослых сыновей. Если ты пошлешь сюда одного, то он станет моим супругом, ибо мне не пристало выбирать в мужья одного из моих подданных.
Пусть боги даруют тебе долгую жизнь и радуются твоей славе.
Анкесенамон, царица Мисра, в году первом ее правления[50]
Она приложила покрытую краской царскую печать, решающее свидетельство достоверности документа, подождала, пока краска высохнет, свернула папирус и вложила его в кожаный футляр.
Она солгала, написав, что у нее нет сына. Но официально Хоренет не был еще признан царевичем и не принимал участия в официальных праздниках. Жители Фив увидели его только однажды — во время праздника Осириса, незадолго до смерти Ая. Царь хеттов вряд ли мог знать о существовании ребенка.
Сати было поручено отнести письмо послу Хассону и вручить ему лично в руки, а если спросят, никому ничего не говорить и потребовать отправить это письмо своему царю Суппилулиуме как можно быстрее.
Царица приложила к этому посланию маленький каменный бюст, свой портрет, который доказывал ее поразительное сходство с матерью. Царь хеттов и его сыновья могли убедиться в том, что предложенная сделка требует от них больше чем согласия.
Итак, Анкесенамон ждала ответа, раздумывая над тем, на кого мог быть похож хеттский царевич, который, несомненно, прибудет, чтобы разделить с нею трон.
И поможет нанести Хоремхебу поражение.
Как только посол остался один, он, перечитавший множество текущих деловых посланий, регулярно отправляемых из Мисра, ознакомился с письмом, так как не мог, остерегаясь дерзких заявлений, передавать своему царю непрочитанные послания.
Хассон не верил своим глазам.
Он изучил печать: никакого сомнения, это действительно была печать царицы. Несколько ошибок свидетельствовали о том, что у нее не было привычки писать, но она не захотела прибегнуть к помощи писца, чтобы составить это письмо. Почему? Наверняка, чтобы сохранить в тайне свое послание.
Кроме того, такое письмо послу обязан был вручить глава ведомства Пентью, с которым он поддерживал деловые отношения. Если царица посчитала необходимым сделать это не по протоколу, значит, послание тайное. Но, опять же, почему? Очевидным был вывод, что это предложение царицы не понравилось бы настоящему хозяину страны, Хоремхебу.
Целую минуту Хассон пребывал в задумчивости. Долг велел ему сопроводить послание монарху пояснительным письмом. Он вызвал своего писаря и продиктовал следующее письмо на незите:
[51]
О величественный и прославленный монарх, мой господин, который правит народами без числа,
Послание, что я осмеливаюсь тебе передать с гонцом, мне было вручено горничной царицы Мисра Анкесенамон. Я проверил печать, и это действительно ее послание.
Для того чтобы прояснить его смысл, я позволю себе сообщить тебе нижеследующее. Царица, которая в этой стране остается хранительницей царского рода и власти, дважды вдова: один раз царя Биббуриа,[52] скончавшегося пять лет тому назад, и другой раз царя Айт-Нетчер.[53] Она говорит, что от этих монархов у нее не было ребенка, хотя она была в таком возрасте, что могла бы зачать. Можно было предположить, что она бесплодна, но это не тот случай. Я знаю, что у нее есть ребенок, отцовство которого приписывается царю Аю, но который еще не был официально признан царевичем. Между тем следует учитывать, что настоящим властителем страны на этот момент является полководец Хоремхеб, которого она отказывается принять в качестве супруга, того, кто соединит царскую суть и фактическую власть.
Твой очень скромный и бесконечно преданный слуга, посол Хассон.
Письмо было вставлено в тот же футляр, что и письмо царицы, и передано с верховым гонцом, который на следующий день отправился в страну хеттов.
[54]
По прошествии девятнадцати дней гонец преодолел девять этапов пути. Он отправился из Фив в Мемфис, затем были Аварис, Мегиддо, Библос, Кадеш, Катна, Хама, Эбла и Алеп. Наконец он добрался до окрестностей Каркемиша.
Он пересек границы Мисра и уже несколько дней находился на территории хеттской империи. Он встречал нийитов, кананеенов, аморритов и кочующие племена пастухов, апиру, которые приходили неведомо откуда и двигались неизвестно куда. Его охватило волнение, когда он увидел свой город. Он с нетерпением ждал встречи со своим семейством.
Закат солнца за его спиной изливал на Евфрат, прибрежные здания и дворец, который над ними возвышался, поток красного золота — так монарх вознаграждает своих подданных в конце тяжкого трудового дня. В кедровых и каштановых лесах сумерки сгущались быстро. Посланец пришпорил лошадь, чтобы прибыть во дворец до темноты.
При первых дуновениях вечернего ветра факелы на бронзовых подставках встряхивали своими гривами, освещая высокие стены дворца, лица богов, высеченные на барельефах, Шаташа и Иннараванташа, те, кто положили накидки на божества Лулахи, дрожали в бликах полыхающего огня. Сверху на насыпях несли охрану лучники. Гордость грела сердце гонца, замерзшего под порывами ветра зимнего вечера. Он был сыном великого народа.
Он спешился и пояснил стражникам:
— Послание из Мисра для царя.
Конюхи увели лошадь гонца, ахалтекинца, покрытого пеной, и гонец наконец вошел во двор дворца Каркемиша. Он прошел через громадный портал и был принят управителем, который выслушал его и отправился предупредить дворецкого. Тот, в свою очередь, побежал сообщить о гонце распорядителю.
Распорядитель ввел его в зал судебных заседаний, откуда царь уже собирался идти ужинать. Гонец опустился на колени, коснулся лбом пола, и когда его попросили подняться, вручил футляр царю Суппилулиуму. Заинтригованный, властелин вызвал переводчика, писца, который читал и писал на трех языках и который напрасно думал, что его рабочий день уже закончился. Писец сделал перевод.
Суппилулиум, коренастый мужчина в возрасте приблизительно сорока лет, с бородой цвета гагата, достигавшей пурпурового одеяния, вышитого золотом, опешил.
Взяв себя в руки, он вызвал своего распорядителя, Гатту-Зиттиш, и велел ему срочно созвать Царский совет, состоящий из вождей племен.
Они прибыли на следующий день, все одиннадцать, в своих парадных одеждах, в сапогах до колена, теплых накидках и меховых шапках. Вожди прошли в тронный зал, потолок которого был отделан кедром и держался на великолепных каменных колоннах, и по очереди уважительно поприветствовали монарха и его сыновей, Арнуванду, Мурсили и Заннанзу; еще двое сыновей, Телепину и Пьяссили
[55] отсутствовали. Затем они устроились на корточках полукругом на вышитых войлочных коврах у подножия трона и трех парадных кресел, поставленных для царевичей с одной и другой стороны трона. Гатту-Зиттиш, как обычно хмурый, сидел ближе всех к царю, с правой стороны трона. Слуги подали вино и хлебцы с фисташками.
Вожди племен не могли ни читать на языке Мисра, ни говорить на нем. Они называли эту страну Мисрой; впрочем, у хеттских племен не было единого языка, одни говорили на хуришском, другие на хатушском, луишском, хеттском, причем незит был их единственным общим диалектом. Царь поручил переводчику прочесть вслух письмо посла на незите и письмо Анкесенамон.
Кто-то недоверчиво покачал головой, другие стали непочтительно высказываться по поводу этой страны без мужчин, где царицы спят ночью в одиночестве за неимением мужа. Несколько более или менее непристойных острот вызвали смех.
— Ни с чем подобным мне никогда не приходилось сталкиваться, — заявил Суппилулиума, когда насмешки иссякли. — Что вы об этом думаете?
— Мне кажется, это — ловушка, — заявил старейшина Царского совета. — Неужели можно доверять женщине? Народ Мисра нас не простит уже за то, что мы завоевали царство Амки, властелин которого был их союзником. Неужели можно поверить в то, что они предложат нам свое царство, избрав одного из твоих сыновей своим фараоном? Более того, — продолжил он сурово, обведя собравшихся взглядом, — не будем забывать о том, что около двадцати пяти лет назад царь Мисра Аменхотеп поклялся в том, что никогда женщина царской крови из его рода не выйдет замуж за чужестранца!
Он подождал, когда утихнут отзвуки его речей, отражавшиеся от стен зала, и заключил:
— Это письмо, мне кажется, написано вероломным или сумасшедшим человеком!
Царь покачал головой и спросил соседа старейшины, Арасану, молодого человека со смеющимся взглядом:
— А ты что думаешь?
Арасану задумчиво погладил бороду и ответил:
— Письмо действительно странное. Эта царица дает понять, что в царстве нет достойного ее мужчины. Возможно, больше нет самцов в ее окружении, что вполне может быть. Возможно также, что она не хочет сочетаться браком с человеком более низкого сословия. Но если речь идет о сохранении династии, надо быть слишком легкомысленной, чтобы нарушить клятву своего предка и отдать власть в своей стране чужеземному царевичу, и особенно царевичу из той страны, которая в самое сердце поразила ее полководцев, нанеся им поражение. Разве мы не отобрали Амки и этот город, Каркемиш, у союзников Мисра?
Вожди племен передавали из рук в руки маленький бюст иностранной царицы, соглашаясь с тем, что лицо у нее приятное, а сама она, судя по всему, немного тощая.
Арасану отпил немного вина и продолжил:
— Я все-таки прихожу к заключению, что правители Мисра пошли на хитрость, дабы заманить сына царя и держать его в качестве заложника. Или эта женщина — сумасшедшая.
Остальные стали смеяться и качать головами.
— И все же… — вновь заговорил Арасану.
— Что — все же? — спросил царь.
Арасану поднял голову и сказал:
— Твое величество, вряд ли это ловушка, люди Мисра не настолько глупы, чтобы считать нас неспособными это понять, они бы действовали тоньше.
Царь похоже, заинтересовался таким выводом.
— Продолжай.
— Итак, это, без сомнения, не ловушка. То, каким способом это послание было тебе доставлено, мне кажется столь же странным, как и сама просьба. Обычно такие письма тебе вручает посол Мисра, Ханис. Но оно было доставлено непосредственно нашему послу в Фивах, в обход официальных каналов, не через главу ведомства Мисра Пентью. Это означает, что оно на самом деле было составлено царицей, по ее собственной инициативе, и что его содержание не соответствует намерениям правителей этой страны, точнее Хоремхеба.
— Значит, ты думаешь, что царица искренне просит одного из моих сыновей вступить с ней в брак?
— Да, твое величество, я именно так думаю. Но я опасаюсь, что это может плохо закончиться для одного из твоих сыновей, в связи с противостоянием царицы и ее правителей.
— Почему?
— Они сделают все, чтобы брак не был заключен.
— Таким образом, царица нас не обманывает, подвоха нет, но я не должен посылать к ней одного из своих сыновей? — спросил Суппилулиума.
Один из царевичей, Заннанза, красивый и сильный весельчак с сверкающими глазами и густой бородой, которого явно волновало то, что обсуждалось на совете, воскликнул:
— Нет, цель слишком важна, чтобы ею пренебречь! — И, повернувшись к царю, добавил: — Отец, то, чего хочет эта царица, для нас столь же важно, как и то, чего не хотят ее правители. Подумай, мы бы правили долиной Нила, имея там своего человека.
Очевидно, именно себя он видел «своим человеком».
— О чем вы думаете? — спросил царь у старейшин.
Ответил старший из них:
— Мы выслушали все доводы за и против. Но полагаю, что было бы разумно, твое величество, узнать больше об этой загадочной царице Мисра и о том, что там происходит. При нынешнем положении вещей мне представляется, что ты, сохраняя царское достоинство, не должен давать слишком быстро ответ этой женщине.
Слово «женщина» было произнесено с некоторым презрением.
Царь согласился.
— Гатту-Зиттиш, я поручаю тебе собрать необходимую информацию. Убедись, что ситуация на самом деле такая, какой нам кажется, и что в Мисре нет царевича, достойного сочетаться браком с царицей, и что она действительно может заключить союз с одним из моих сыновей. Тогда мы примем решение.
Затем он коснулся других тем, среди которых были претензии Шаттиваза, митанньянского царевича, на трон его страны, Митаннии, или, по крайней мере, того, что от нее осталось.
[56]
35
ОФИЦИАЛЬНАЯ… ТАЙНА!
Молния ударила в ближайший холм, и раскаты грома прокатились по долине; похоже, молния поразила посла Мисра, Ханиса, так как у него никогда не было более ошеломленного вида. Распорядитель Гатту-Зиттиш давал себе в этом отчет и не стал наносить ему оскорбление, повторив вопрос.
Ханис большими глотками осушил кубок вина. Свет от ламп танцевал на золотой каемке кубка, привезенного из Сирии. Слуга поспешил его наполнить; через синее стекло большого кубка красный цвет вина казался фиолетовым.
Следующий раскат грома раздался над дворцом. Крупные ночные мотыльки, почти черные, неповоротливо кружили по залу.
— Нет, меня об этом письме не информировали, — ответил наконец Ханис.
«Тогда, — подумал распорядитель, — прав Арасану: царица действовала без ведома своих правителей». Гатту-Зиттиш старался узнать как можно больше:
— Неужели в царской семье нет царевича, который мог бы стать достойным ее супругом?
Посол воспринял вопрос как оскорбление. Это означало, что род тутмосидов был настолько ослаблен, что производил на свет только женщин. Ему было известно, что, действительно, у Суппилулиумы было пятеро сыновей в таком возрасте, что вполне могли бы править страной, и еще пятеро, которые ожидали своего часа. Он солгал:
— Имеются самцы, но они не в том возрасте, чтобы управлять.
— Возможен ли такой брак? — настаивал распорядитель.
Все более и более раздражаясь, Ханис ответил:
— То, чего хочет царица, всегда возможно.
— Разве ваш полководец Хоремхеб не является достойной партией? — продолжал выспрашивать хетт, который, видимо, не имел намерения оставить своего собеседника в покое.
— Он не царской крови.
— Стало быть, члены царской семьи сочетаются браком только с людьми своей крови?
Ханус хотел было ответить, что это именно так и есть. Но он хорошо знал, что Аменхотеп Третий сочетался браком с женщиной не царской крови, Тией, сестрой Ая, и что ее сын, Аменхотеп Четвертый, сочетался браком с дочерью Ая, Нефертити, которая тем более была не царского происхождения.
Первые капли дождя забарабанили по листьям деревьев в саду, раскинувшимся перед окнами зала, где Гатту-Зиттиш принимал Ханиса. Затем разразился ливень, сопровождаемый раскатами грома.
Эта беседа начинала действовать послу на нервы. Он отвечал путано, — он не знал, что говорить. Он не мог себе позволить ни намекнуть на то, что план царицы был абсурдным, так как посол не должен показывать неуважение к своей царице, ни поддержать этот план, так как Анкесенамон действовала в обход Хоремхеба.
— Чаще всего, действительно, так и происходит, — ответил он.
Это ничего не означало. Но не мог же он рассказать о том, что Анкесенамон всеми силами души ненавидит Хоремхеба.
— Отправить сына царя к вашей властительнице — важное решение, — продолжил распорядитель. — Его нельзя принимать наспех. И ты меня прости за то, что я это говорю, но нам кажется странным то, что в стране Мисра нет царевича, достойного сочетаться браком с вдовствующей царицей.
— Но так сложились обстоятельства, — пояснил посол.
Ни тот ни другой не упомянули о наиболее важном моменте этого необычного дела: о присоединении Двух Земель к хеттской империи в случае реализации плана царицы.
Пытка посла Ханиса продолжалась долго, так как он принял приглашение распорядителя отужинать с ним. В разговорах на другие темы то и дело проскальзывали коварные вопросы о периоде правления Тутанхамона, затем Ая. Распорядитель деланно удивлялся по поводу того, что за четырнадцать лет правления двух наследных монархов царица не зачала потомства, и тому, что умерший царь Ай с другими супругами также не произвел на свет сыновей, которые могли бы добиться права наследования.
Очевидно, хетты сомневались в искренности предложения царицы.
Ханис с облегчением вздохнул, когда непрерывный допрос, которому он подвергался в течение трех часов, закончился, и он возвратился, наконец, в свою резиденцию.
На следующий день он составлял письмо, адресованное Пентью.
— Шлюха! Шлюха! — кричал Хоремхеб, когда Пентью прочитал ему письмо Ханиса.
Он сорвал с себя парик и швырнул его на этажерку. Глава ведомства мог видеть, что череп полководца был того же цвета, что и лицо: пунцовый, с белыми пятнами.
Сидя с мрачным видом, Пентью обдумывал сложившуюся ситуацию: еще более натянутые отношения с царицей, а в дальнейшем непростые отношения с одним из главных союзников — нет, главным союзником Двух Земель. Страны заключили мирный договор, однако Суппилулиума уже нарушил договоренности, предприняв махинации по отношению к царской семье Митаннии. То, что хеттский царь заинтересовался необычным предложением Анкесенамон, означало, что он планирует присоединить к своей империи территорию Двух Земель.
Итак, нельзя тянуть. В случае если царица сочетается браком с хеттским принцем, страна окажется под сапогом Суппилулиумы. Эта женщина предложила ему свое царство!
— Немыслимо! — гремел Хоремхеб. — Она сумасшедшая! Отец выскочки Сменхкары, Аменхотеп Третий, дал клятву, что ни одна царевна этой страны никогда не будет сочетаться браком с чужеземным царем!
Пентью сделал ему знак говорить тише. Часто стражники, стоящие у дверей, подслушивали разговор, а ситуация и так была довольно острой, чтобы царица получила возможность сослаться на преступление, основанное на оскорблении ее величества.
— Но что на нее нашло? — снова заговорил Хоремхеб.
— Ничего на нее не нашло, — ответил Пентью. Он направился к окну, выходящему на террасу. — В юности она должна была слышать о существовании союзов между царскими семьями. Отец Аменхотепа, о котором ты говорил, Тутмосис Четвертый, настойчиво просил руки царевны Митаннии.
Пентью обернулся. Хоремхеб его слушал, пылая от гнева.
— Согласен. Но предлагать себя как царицу — совсем другое дело.
— Конечно, — согласился Пентью, — но эта женщина родилась в Ахетатоне, в семье, где больше заботились об Атоне, чем о царстве. В то время как страна рушилась, Эхнатон писал гимны в честь Солнечного Диска. Он жил один во дворце вместе со Сменхкарой, царевны жили отдельно, Нефертити уединилась в Северном дворце. Что знает Анкесенамон о своей стране? Ничего. Знает ли она разницу между гатту и митаннийцем? Я в этом сомневаюсь. Она испытывает только чувство династической гордости. Она ненавидела Ая. Однако воссоединилась с ним, чему мы были свидетелями, потому что он убедил ее, что вместе они смогут защитить династию.
— Разве династия была виновата в разъединении страны?
— Уже двадцать лет это происходит, — утомленно ответил Пентью.
На какое-то мгновение единственным звуком было жужжание мух, возбужденно носившихся по комнате, несмотря на полуденную жару.
— Сегодня происходит то, что не имеет здравого смысла: эта женщина предлагает страну чужестранцу, которого даже не знает.
— Нам ничего другого не остается, кроме как ожидать дальнейшего развития событий, — спокойно заметил Пентью. — Возможно, ничего не произойдет. Согласно тому, что нам пишет Ханис, хетты, кажется, опасаются ловушки. Очень возможно, что Суппилулиума никого сюда не пришлет.
— Пентью, Суппилулиума должен быть сумасшедшим, как она, чтобы не рассмотреть это предложение со всех сторон, — сказал Хоремхеб с горячностью. — Уж не думаешь ли ты, что он упустит такую добычу, как царство? Он обязательно отправит сюда кого-нибудь.
— В этом случае примем меры.
— Какие меры?
— Он же не собирается посылать армию. Только сын и царская свита.
— И что тогда?
Пентью пожал плечами.
— На них в пустыне нападут разбойники. Надо же использовать этих людей хоть для чего-то!
— Может начаться война.
— Мы не ответственны за проделки разбойников.
Хоремхеб снова заговорил после еще одной минуты молчания:
— Как ты думаешь, надо ли распространить эту новость?
— Нет еще. Нас могут обвинить в том, что мы хотим опорочить царицу. Вполне возможно, что найдутся люди, которые пойдут на все, чтобы не допустить этого. Нет, я полагаю, что лучше будет делать вид, что мы ничего не знаем о намерении Суппилулиумы. Рано или поздно двор об этом заговорит.
Двумя неделями позже двор узнал о том, что Гатту-Зиттиш, распорядитель хеттского царя Суппилулиумы, прибыл в Фивы со свитой.
Царица устроила праздник во дворце в его честь. Придворные поспешили явиться, интересуясь целью этого визита. Посол хеттов уже есть в столице; почему же сюда прибыла столь важная персона как распорядитель, равный по своей значимости Советнику царя?
Об этом они ничего не знали. Поинтересовались у Хоремхеба и глав ведомств; те отвечали, что якобы Суппилулиума желает укрепить дружеские связи с Двумя Землями. Пентью на досаждающие вопросы витиевато объяснял, что необходимо обсудить изменение союзнических планов ввиду притязаний ассирийцев на земли Митаннии.
Во время праздника Анкесенамон казалась озабоченной и раздосадованной, что отметили все. Накануне она приняла Гатту-Зиттиш. Он привез ей великолепный подарок — золотую чашу, инкрустированную камнями двух оттенков синего цвета, бирюзой и лазуритом.
Ее удивил визит хетта. Он говорил эмоционально и пространно, сказанное им перевел личный переводчик Гатту-Зиттиш. Оказывается, его монарху безгранично польстила просьба царицы Мисра, он с большой радостью воспринял возможность союза божественной царицы с наследником хеттской империи и просит принять уверения в дружбе, но хотел бы быть уверенным в том, что ни один царевич монаршего семейства Двух Земель не сможет оспорить союз одного из его сыновей с царицей.
— Иначе говоря, — подытожила она, — царь ставит под сомнение искренность моих намерений, все то, о чем я писала в послании?
Застигнутый врасплох прямым вопросом Анкесенамон, распорядитель ответил, что им было трудно поверить в то, что в таком большом царстве, как Миср, не нашлось подходящей партии, достойной ее великолепия.
Она проглотила свое раздражение.
— Пойми, распорядитель, царица может сочетаться браком только с мужчиной царского рода.
— Я это понимаю, твое величество. Но как следует понимать твое заявление, что у тебя нет сына?
Значит, он узнал о существовании маленького царевича Хоренета.
Анкесенамон напряглась.
— Разве не понятно, что любой маленький ребенок без отца не существует?
Гатту-Зиттиш захлопал ресницами. Он начинал лучше понимать ситуацию.
— Ему нужен отец, который был бы сильным человеком и который мог бы подарить ему братьев и сестер, — добавила она, глядя распорядителю в глаза. — Ты не можешь этого не знать!
Он покачал головой. Он также подумал о том, что браки между родственниками, которые стали обычными в царском семействе Мисра, ослабили род. Уж не по этой ли причине цари содержали гаремы?
— Скажи об этом своему царю, — предложила она.
— Непременно скажу, твое величество. Но могу ли я тебя спросить о том, как относятся твое правительство и двор к твоему плану?
Она нахмурила брови, затем ответила равнодушно:
— Они еще об этом не информированы. Пока не наступил подходящий момент.
С тем Гатту-Зиттиш и удалился. Несмотря на то что его пленила гордая и решительная царица, брак государственной важности, который заключался втайне от народа, от этого не стал казаться ему менее странным.
На следующий день, перед отбытием распорядителя в свою страну, Анкесенамон вручила ему еще одно послание для Суппилулиумы.
Царю хеттов Суппилулиуме,
моему брату и союзнику
моего могущественного Мисра
Уважаемый брат,
Я приняла твоего распорядителя Гатту-Зиттиш, и я благодарю тебя за добрые пожелания, которые он мне передал, как и твой великолепный подарок.
Но почему ты говоришь: они пытаются меня обмануть? Если бы у меня был сын, разве написала бы я в унизительной для себя и моей страны форме послание чужеземному царю? Ты мне не веришь и даже не скрываешь этого! Тот, кто был моим мужем, умер, и у меня нет сына. Неужели я должна была одного из моих слуг сделать своим супругом? Я не писала в другую страну, только тебе. Я тебе еще раз предлагаю: дай мне одного из своих сыновей, и он будет моим супругом и царем страны Миср…[57]
Распорядитель уехал, покоренный красотой и силой воли молодой царицы, но озадаченный. Накануне полководец Хоремхеб, занимавший пост Первого советника, не задал ему ни одного вопроса по поводу намеченного бракосочетания, и это было странно. Невозможно было предположить, чтобы Советник не имел представления о намерениях царицы. Гатту-Зиттиш слишком хорошо знал, как работают разведывательные службы в крупных царствах: за каждой стеной были уши. Насмешливые и хитрые взгляды Хоремхеба указывали на то, что Гатту-Зиттиш не ошибался. Тогда что же Первый советник думал по этому поводу?
Неужели этого героя войны так мало заботило то, что его страна попадет в зависимость от хеттов? Другие главы ведомств также не пытались обсуждать истинную цель его визита.
Значит, план заключить брачный союз держался в секрете, причем это было такой тайной, что никто не решался произнести ни слова по этому поводу. Но как долго это будет продолжаться? А когда о бракосочетании сообщат официально, что за этим последует?
Долгие часы размышлений во время поездки верхом в Каркемиш не помогли найти ответа.
Распорядитель был в пути, когда Хоремхеб попытался еще раз убедить Анкесенамон разделить с ним трон. Самым удивительным было то, что он смог к ней приблизиться при помощи Мутнехмет.
— Послушай, — сказала та, — ты успешно правила вместе с Аем, не будучи его супругой.
[58] Что тебе стоит править с Хоремхебом на тех же условиях?
Довод был разумным. Анкесенамон только на миг задержалась с ответом, но резкий жест руки уже сказал об отказе.
— Это не одно и то же. Ай был членом нашей семьи. Хоремхеб испытывает к нам только презрение.
— Ты простила моему отцу Аю преступления более серьезные, чем презрение. Он был замешан в
смерти твоего отца, в смерти Сменхкары и, возможно, в смерти…
— Я этого уже достаточно наслушалась, Мутнехмет! Ай защищал династию! И именно от тебя я узнала, что Хоремхеб хочет ее уничтожить.
Мутнехмет пожала плечами.
— Династия! Что же от нее осталось?
— Я осталась.
Мутнехмет прикусила губу, чтобы не напомнить племяннице о том, что династия не состоит из нее одной и малолетнего ребенка.
— Династия себя изжила. Хоремхеб хочет власти, я это знаю.
— Так вот, именно я ему ее не дам.
— Что тебе в нем не нравится?
— Всего-навсего грубость. И этот запах!
Сей незначительный довод лишил Мутнехмет слов. Она воздержалась от того, чтобы передать эти речи Хоремхебу. Но окончательный выбор был сделан. Анкесенамон оказалась в стане врагов полководца.
Но что же придавало ей уверенности? Неужели надежда сочетаться браком с хеттским царевичем?
36
НАСТРОЕНИЕ БОГОВ
Брачные узы, в основе которых лежит телесная или духовная близость, могут быть разорваны без особых последствий, и тогда от них остаются только воспоминания о сущих пустяках, покрытые пылью времени. Но есть другая связь, она, без сомнения, дольше сопротивляется разрыву, ибо у нее другая природа. На нее не действуют указки ни сердца, ни разума: это удивительное единство двух существ, разделяющих одно и то же пространство, одну постель, те же болезни и заботы. Она может возникнуть даже между животными различных видов, например, между собакой и кошкой. Конюхам хорошо известны такие случаи: лошадь успокаивается только в компании собаки, которая спит каждый вечер на ее подстилке, в ногах. Когда один из двоих уходит, другого охватывает печаль, часто это плохо заканчивается.
Мутнехмет и Хоремхеб напоминали таких животных. Он был приземленным человеком, телесным, горячим и своенравным; она была из той семьи, члены которой на протяжении многих поколений жили, как бы не касаясь земли, и животные соки в ней очищались до того, что превращались в утонченные ликеры. Напряжение сил и летний зной вызывали у него усиленную потливость, в то время как самое значительное выделение потовых желез его бывшей супруги сводилось к едва заметному блеску на груди над вырезом платья. Достаточно было увидеть их вместе за столом, чтобы уловить различие: он нажирался до отвала, с жадностью глотал пищу, съедал полдюжины жареных яиц в три приема; она нехотя грызла какой-нибудь кусочек, не утоляя до конца очевидный голод.
Они как раз сидели за столом в покоях Советника. Он попросил ее прийти, и после некоторых колебаний она приняла приглашение. Ситуация действительно становилась критической. Невероятная катастрофа угрожала царству, так что пора было забыть об обидах.
— Она тебе об этом когда-нибудь говорила?
— Со времени отъезда Нефернеруатон она замкнулась в себе. Она изменилась и больше не доверяет мне своих мыслей. Думаю, она не доверяется даже Сати, которая для нее всегда была самым близким человеком в мире.
Он опустошил свой кубок одним глотком, рыгнул и взял себе половину утки.
— Как ты объясняешь все-таки это послание Суппилулиуму?
Она собралась с мыслями, затем сказала, тщательно подбирая слова:
— Я полагаю, что с каждым годом она все больше ощущает свою ответственность за династию. Со времени бегства двух ее сестер и смерти Сетепенры и Нефернеферуры она считает себя единственной наследницей отца и династии.
Она сделала глоток вина и вновь заговорила:
— Не думаю, что она столь же безумна, как ее отец и покойный муж Тутанхамон, но полагаю, что в этой семье все не без странностей. Эхнатон считал себя воплощением Атона, Тутанхамон видел себя Осирисом, а она мнит себя единственной хранительницей рода. Она готова на все ради того, чтобы его защитить и увековечить. В последнее время я замечаю у нее эту упрямую решительность, которая проявлялась в поведении моей сестры Нефертити после смерти Эхнатона.
— Стало быть, ты полагаешь, она не понимает, что разрушит царство, если соединится брачными узами с сыном Суппилулиумы?
Она покачала головой и стала грызть хлебец в кунжуте.
— Нет.
— Я не могу позволить ей это сделать.
Она подняла на него вопросительный взгляд.
— Нет, никто ее не собирается убивать. Но нельзя позволить ей это сделать. Меня двор и армия обвинят в бездействии и даже соучастии. Теперь — она или я.
Она пребывала в раздумье. Слова «она или я» звучали зловеще. Но она не могла в этом винить своего бывшего супруга.
— Зачем приезжал распорядитель Суппилулиумы? — спросила она.
— Мне не известно. Вероятно, убедиться в том, что предложение царицы не было ловушкой.
— Ты полагаешь, что Суппилулиума пришлет сюда одного из своих сыновей?
Он поковырял ногтем в зубах.
— Это мы еще посмотрим. Тем временем я тебя попрошу сообщать мне обо всем странном, что заметишь в поведении Анкесенамон. Это в интересах царства. Возможно, и в ее интересах.
Она покачала головой и съела засахаренный финик.
— Не хочешь же ты, чтобы из-за этой сумасшедшей превратилось в прах дело жизни твоего отца и все мои усилия?
— Нет, — сказала она мрачно.
На рассвете шквалы леденящего ветра обрушились на высокие стены, окружающие Каркемиш. Гатгу-Зиттиш и сопровождавшие его люди надвинули на лоб меховые шапки. Вдоль насыпи стояли, переминаясь с ноги на ногу, лучники и впередсмотрящие. Получасом позже маленький отряд, возглавляемый распорядителем, добрался до ворот царского дворца. Все спешились, прибежали слуги из конюшни, и Гатту-Зиттиш бросил дворецкому:
— Быстро теплого молока с ликером — всем! Мы окоченели!
В сопровождении только своего секретаря он прошел к царскому кабинету, велел стражникам сообщить о своем прибытии царю и предстал перед ним в зале, где развели сильный огонь в очаге и жаровнях, стоящих по углам. Он опустился на колени перед монархом, который быстро его поднял.
— Гатту-Зиттиш! — воскликнул Суппилулиума. — Добро пожаловать. Итак, какие новости?
Слуга принес большую серебряную кружку, наполненную теплым молоком с ликером из можжевельника.
— Выпей сначала, — сказал царь. — Согрейся. Сядь там, около огня.
Царь расположился напротив своего посланника.
— Твое величество, — заговорил Гатту-Зиттиш, откашлявшись, — предложение искреннее. Царица очень красивая. Вопреки тому, что она написала, у нее есть сын, но в действительности она не солгала, скрывая его существование. Она считает, что он в опасности. Во время моего визита я пришел к заключению, что она разыскивает не только супруга и отца для своих детей, но, главным образом, сильного человека. Вот поэтому она тебе написала. Между тем, как мы и думали, ее предложение было сделано без ведома ее правительства и двора. По моему мнению, она не уверена в том, что это предложение будет хорошо принято. И я убежден, что полководец Хоремхеб не обрадуется этому браку. И это очень плохо.
Суппилулиума принялся смеяться.
— Это мне кажется вполне возможным! Но неужели мы должны действовать только с одобрения жителей Мисра?
Распорядитель поднял брови. Что это могло означать? Неужели царь собирался все-таки принять предложение царицы Мисра?
— Я не могу не воспользоваться этим исключительным случаем, ведь мы сможем усилить наше влияние на соседние государства и укрепить наши позиции в долине Нила. Так как ты уверен в том, что здесь нет ловушки, я пошлю одного из моих сыновей в Фивы. Царица хочет сильного человека? Ну так она его получит! — заявил царь и громко рассмеялся.
Гатту-Зиттиш также смеялся, хотя на душе у него было неспокойно.
— Сильнее всех горит желанием сочетаться браком с этой красивой царицей и управлять Мисром принц Заннанза. Вскоре он отправится туда. Проследи за подготовкой его поездки.
— Хорошо, твое величество. Должен ли я предупредить посла Мисра?
На какой-то миг Суппилулиума задумался.
— Нет, если царица хочет сохранить это в тайне, для этого есть свои причины. Незачем разглашать тот факт, что я благосклонно отнесся к просьбе Анкесенамон. Нет, не говори ему ничего. Предупреди только нашего посла в Фивах.
— Хорошо, твое величество.
Тело распорядителя Гатту-Зиттиш согрелось, но мозг оставался холодным. Эта затея не предвещала ничего хорошего. Царица была весьма неосторожной, и чрезмерно пылким был принц. Как говорится в хаттушской пословице, из-за пары шатких ступеней можно переломать кости.
Спустя несколько дней послу Мисра в Каркемише, Ханису, потребовалось пополнить свой гардероб хеттской одеждой, которая лучше защищала от холода, чем та, что он привез из своей страны. Он решил заказать себе длинную шерстяную рубаху, утепленный мехом плащ и высокие сапоги. Он пошел к лучшему портному города, который обшивал и двор. Тот попросил его подождать, так как должен был закончить важный заказ сына царя для него и его свиты.
Ханис навострил уши.
— Это будет красивая одежда, я в этом не сомневаюсь, — сказал он льстиво, окинув мастерскую взглядом.
Помещение пропиталось запахом войлока и мехов, дубильных составов, только что сотканной шерсти. Двое учеников что-то шили из роскошных тканей, среди которых была шерсть великолепного темно-красного цвета.
— Это самая дорогостоящая одежда, какую я когда-либо изготавливал, посол.
И портной описал плащ царевича, который долен быть украшен голубыми, красными и зелеными камнями и утеплен очень дорогим белым мехом горностая.
— Но это же свадебный наряд! — воскликнул Ханис с притворным восхищением.
— Ты не поверишь, но это так, посол.
— И когда же ты начнешь шить мою одежду? Наступают холода.
— Через четыре дня, посол. И я потороплюсь, чтобы ты не мерз.
Это означало, что царевич и его свита уедут через пять или шесть дней. Люди, путешествующие группами, передвигаются не столь быстро, как один всадник на хорошем коне.
По возвращении к себе он составил послание для Пентью и поручил его доставить одному из наемных всадников. Он щедро ему заплатил. Наемник-митанниец обогнал на несколько дней царевича, который передвигался быстро, стремясь поскорее сочетаться браком с царицей Двух Земель.
Ни один смертный никогда не мог еще проникнуть в тайные планы богов, вершащих судьбы и людей, и стран. Но кто из богов на этот раз одержит верх? Амон-Ра? Гор? Осирис? Или же бог хеттского неба Ануш и его супруга Антум? А может, бог земли Анлил и его супруга Ненлиль? А может, боги еще только обсуждали это между собой во время одного из пиров, поглядывая сверху на людей, занятых своими делами? Неужели это будет Сет — убийца своего брата Осириса? Сет испытывал отвращение к беспорядку. Ведь он убил Осириса именно потому, что знал о невозможности раздела власти. Он обладал большей силой, чем Осирис, для того, чтобы защитить мир. И он это доказал, убив громадного змея Апопа.
Бывало, небесные силы выражали свое недовольство хозяевам Мисра, как и хозяевам хеттской империи.
К середине сезона Сева, когда вода в реке шла на спад и до конца года оставалось ровно пять дней, а Тот брал верх над Луной, в стране начала свирепствовать лихорадка. Болезнь начиналась с ломоты и дрожи во всем теле, головных болей и потери аппетита, затем человек приходил в возбуждение и бредил. Несколько сотен человек заболели в Фивах и Мемфисе. Многие умерли, а те, кто выжил, стали калеками, неспособными стоять, внятно говорить и управлять своим телом.
Во дворце лихорадка среди прочих задула и свечу жизни старого Уадха Менеха.
Но самой большой потерей стала смерть молодого царевича Хоренета. Ему было всего два года.
Сати и Мутнехмет опасались, что мать последует за ним. Анкесенамон безутешно рыдала, пока сама не слегла. Был вызван в Фивы Итшан, чтобы ее успокаивать, но он и сам был безутешен.
— Почему боги на меня так сердятся? — шептала Анкесенамон. — Неужели Атон не может защитить меня? Когда же я обрету, наконец, покой?
Итшан не знал, что отвечать.
Она солгала, заявив, что у нее нет ребенка. Неужели боги ее наказали за это, сделав ложь реальностью?
У нее осталась только одна надежда: в ближайшие дни должен был прибыть царевич Заннанза, о чем ей сообщил хеттский посол.
37
ОБРАЩЕНИЕ К ПАЗУЗУ
Свита царевича Заннанзы состояла из двадцати пяти человек, все верхом, включая четырех лучников. Кроме того, багаж царевича везли на четырех лошадях ашкабадской породы с тонкой шелковистой кожей, на которых были позолоченные попоны.
Темп передвижения менялся от рыси до легкого галопа, с частыми остановками, так как принц не хотел прибыть изнуренным и предстать перед царицей не в лучшем виде. Наиболее трудная часть пути пролегала по гористой местности — от Каркемиша до Кадеша; по этим дорогам надо было передвигаться шагом, поскольку шли частые дожди. Но начиная со страны аморритов дорога шла вдоль побережья по ровной местности, и тогда всадники почти все время скакали легким галопом. Это позволило сделать более длительные остановки в Библосе, Барке и Аннишаши.
У царевича было превосходное настроение: зима, но здесь дул морской бриз, а не северный горный ветер, он будоражил кровь, и, полный энергии, Заннанза надеялся доказать своей невесте, какими крепкими мужчинами были хетты. Такие молодцы, как он, после целого дня езды верхом могли довести до изнеможения двух женщин. Он и его личный распорядитель, говоря об этом, посмеивались в бороду.
Вот уже одиннадцать дней они находились в дороге. На рассвете сделали остановку в Ашкелоне и направились к границе со страной Миср. Находясь в двух часах езды от Газы, всадники скакали, держа направление на заходящее солнце, когда неожиданно увидели огромный столб пыли, поднимавшийся слева от них, словно со стороны пустыни надвигалась песчаная буря.
Потребовалось совсем немного времени, чтобы удостовериться в том, что эта буря ничего не имеет общего с дыханием пустыни: к ним мчались всадники. Путники наблюдали за ними, ускоряя темп.
— Они направляются к нам! — воскликнул обеспокоенный Заннанза.
— Я думаю, нам надо подняться на этот холм, — сказал придворный. — Там, на случай чего, у нас будет лучшая позиция.
Они пришпорили лошадей, не сводя глаз с этих таинственных всадников. Те, в просторных белых одеяниях, заметно отличались от них.
— Их порядка двух сотен, — крикнул Заннанза, которого все сильнее охватывало беспокойство. — Чего они от нас хотят?
Ответ последовал тотчас же: с расстояния в пять сотен шагов неизвестные выпустили град стрел. Раздался боевой клич.
— Всем спешиться! — крикнул царевич.
Спрыгивая с лошади на землю, один из людей царевича получил стрелу в живот. Лучники пустили ответные стрелы. Упал вражеский всадник. Затем другой. Нападавшие, выстроившись в ряд, помчались галопом.
Бой длился менее получаса.
Из хеттов никого не осталось в живых.
Главарь нападавших взобрался на холм и проверил, все ли мертвы. Какое-то время он рассматривал хетта в великолепном одеянии. Две стрелы пробили ему шею и грудь. Он склонился и внимательно осмотрел глиняную дощечку, висевшую на шее на кожаном ремешке, украшенную красным камнем; он не понимал аккадского, но при виде красного камня догадался, что перед ним царевич. Он снял с него великолепное золотое ожерелье, фрагменты которого иллюстрировали битву льва и лошади, и тяжелое кольцо, украшенное крупным зеленым прозрачным камнем, сверкающим в лучах заходящего солнца.
Это был начальник охраны Рамзес, который на время снова стал командиром.
Новости быстро распространялись по дворцу: Анкесенамон, до тех пор пребывавшая в подавленном состоянии из-за смерти своего сына Хоренета, получив какое-то послание, неожиданно оживилась. Мутнехмет сообщила об этом Хоремхебу. Помимо этого он получил сообщение от посла Ханиса. Все остальное решалось просто: шпионы и караульные, расставленные на всем протяжении предполагаемого пути следования хеттского царевича, информировали Хоремхеба о его продвижении. Засада была организована на подступах к Газе.
Солдаты ссорились из-за других драгоценностей хеттов и золота, которого было на тысячу триста дебенов. Необычный плащ царевича Заннанзы забрал Рамзес, но одежда других хеттов, в том числе и плащи, была не менее ценной.
Лучники царской армии все предусмотрели — они взяли с собой лопаты, чтобы зарыть тела хеттов в песок.
Семь оставшихся в живых лошадей нападавшие увели с собой; они использовали их для перевозки тел троих своих воинов, павших от стрел хеттских лучников. Умирающих лошадей добили. Уже слышалось завывание шакалов, почуявших добычу. Затем отряд отправился на юг.
Рамзес показал кольцо Хоремхебу.
— Такого камня я еще не видел, — сказал Хоремхеб.
— Я тоже. Можно было бы предположить, что это стекло, но этого не может быть, так как оправа очень богата. Без сомнения, камень из Азии. Еще я привел семь лошадей. Великолепные животные. Шкура как из золота. Очень быстрые и выносливые. Я их приберегу для царских конюшен.
Он поднял глаза на Советника.
— Ничего не изменилось?
— Нет, — ответил Хоремхеб. — Нам ничего не известно. На хеттов, без сомнения, напали грабители. Так что никакой опасности — Суппилулиума не будет мстить.
Со времени отъезда Гатту-Зиттиш минуло сорок дней, а у хеттского посла в Фивах не было никаких известий о царевиче Заннанзе; посол обеспокоился и спешно направил посыльного в Каркемиш. Он встревожился, когда посыльный сообщил ему о том, что царевич отбыл со своей свитой уже более двадцати дней назад, и решил просить Пентью организовать его поиски.
Такая просьба, казалось, удивила Пентью.
— Ты говоришь, что царевич Заннанза оставил Каркемиш и направился в Фивы? Стало быть, это официальная поездка?
— Да.
— Ты об этом был информирован?
— Да.
— Но какова цель этой поездки?
Посол разволновался, поняв, что совершил промах.
— Я предполагал, что ты об этом информирован, — ответил он. — Царевич должен был сочетаться браком с вашей царицей.
Пентью придал лицу выражение изумления.
— Царевич твоей страны намеревался сочетаться браком с царицей? Но, именем Амона, это дело высочайшей значимости для наших стран! Почему ты мне об этом не сообщил?
— Я думал, что царица…
Пентью покачал головой.
— Царица нам ничего об этом не сказала. Иначе по такому случаю я попросил бы начальника охраны Рамзеса отправиться навстречу царевичу с отрядом лучников, чтобы защищать царевича и его свиту.
Посол пришел в замешательство и чувствовал себя опустошенным.
— Но что нам делать теперь? — воскликнул он.
— Мне это неведомо, посол. Ты хорошо понимаешь, что дорога от Каркемиша до границ нашей страны длинная. На Заннанзу могли напасть грабители на всем пути, эти территории находятся не под нашим, а под вашим контролем. Это царю Суппилулиуме надлежит организовать поиски.
— Но если они были атакованы в восточной пустыне?
Пентью покачал головой.
— Я в этом сомневаюсь, посол. Меры, которые предпринял Первый советник Хоремхеб, чтобы защитить нас от банд грабителей, весьма эффективны. У нас давно не было нападений. В пустыне им нечем поживиться, а караваны, которые следуют вдоль берега, находятся под защитой наших солдат. Нет, я уверен, что они могли быть атакованы либо в Ние, либо в Нугаше, либо в Амурру.
[59]
— Но не можешь ли ты попросить провести поиски, по крайней мере, в восточной пустыне?
— Я согласен это сделать по твоей просьбе, посол, но что мы там сможем найти? Скелеты, обглоданные шакалами и грифами? В этих местах их столько…
Посол был напуган.
— В будущем, посол, — заговорил Пентью резким тоном, — будь любезен информировать меня о таких исключительных событиях как свадьба нашей божественной царицы с сыном его величества вашего царя.
Посол попрощался и ушел.
Пентью хлопнул себя по ляжкам, сдерживая смех, затем пошел сообщить Хоремхебу о визите хеттского посла.
— Но почему царевич медлит? — шептала Анкесенамон.
Она качала на руках маленькую принцессу Нефериб. После смерти Хоренета это был единственный ребенок царской крови во дворце.
Хоренет был похоронен в склепе его дедушки, в месте Маат.
И теперь она больше не могла иметь ребенка, так как у нее не было мужа. Хоренет мог бы в конце концов официально считаться сыном Ая. Но теперь она была вдовой.
Она протянула ребенка кормилице и заставила себя поесть под сочувствующим взглядом Мутнехмет. Сочувствие к царице не мешало ей испытывать облегчение от того, что удалось избежать катастрофы, которую организовал Апоп и никто другой.
Итак, Мутнехмет знала, какая участь постигла царевича Заннанзу, безумного претендента на трон Двух Земель.
Итшан все еще находился в Фивах, поддерживая Анкесенамон в ее печали. Снова она пожаловалась на непонятную задержку хеттского царевича. Новый командир конников смотрел на нее, не говоря ни слова. Она заметила этот пристальный взгляд.
— Что случилось? — спросила она.
— Я думаю, что царевич не придет, — нерешительно произнес он.
— Что? — закричала она.
Но он и не думал скрывать от нее правду.
— Почему ты так говоришь? — спросила она с истеричными нотками в голосе.
— Я только что проходил мимо царских конюшен. Там появилось семь новых лошадей такой породы, какой нет в Двух Землях. Только у хеттов и азиатских народов есть такие, и при этом они предназначены для царей и знатных господ, так как очень дорого стоят.
Она подавила крик.
— Я спросил, как давно появились там эти лошади. Мне ответили, что шесть дней назад.
Анкесенамон растерянно смотрела на него. Потом разрыдалась. Он обнял ее. Ее тело сотрясали рыдания.
— Они его убили! Они его убили! — повторяла она.
Она плакала долго.
— Как ты могла подумать, что они позволят ему к тебе приехать? — спросил он нежно.
— Этот Хоремхеб… Я его отстраню от должности! Это убийца! — кричала она.
С большим трудом ему удалось ее успокоить.
— Не волнуйся, Анхи, не волнуйся, — говорил он ей. — Он скоро уйдет из твоей жизни. А сейчас успокойся, прошу тебя.
Когда сообщение хеттского посла в Фивах прибыло в Каркемиш, Суппилулиума пришел в одно из тех грозовых состояний, которого опасались его правители и придворные. Осознание провала плана ожесточало горе, причиненное смертью сына.
— Это действительно была ловушка! — заявил он.
Он обернулся к Гатту-Зиттиш.
— Ты был прав. Ты сомневался в этом. Я обязан был тебя послушать. И теперь я потерял младшего сына, усладу моих глаз!
— Это была ловушка, устроенная богами, твое величество, — сказал обессиленный Гатту-Зиттиш.
Собравшиеся главы ведомств молча выслушали сообщение о случившемся. Страсть мужчины к власти и страсть женщины к славе привели к катастрофе. Но никто из них не предполагал, что катастрофа будет намного значительнее, нежели ожидаемый успех.
— Я хочу забрать тело моего сына, — заявил Суппилулиума.
— С вражеской территории? — удивился распорядитель.
— Разве ты не можешь найти способ? И я хочу, чтобы убийцы были наказаны.
— Я попытаюсь, твое величество. Я попытаюсь, — прошептал Гатту-Зиттиш.
Вскоре женщины во дворце поняли, что красавец-царевич Заннанза умер где-то в Мисре, и вскоре нелепый слух распространился по Каркемишу, затем добрался до Алала, Алеп, Эбла и распространился по всей хеттской империи. Согласно этой выдумке, Заннанза безумно влюбился в царицу Двух Земель. Она слала соблазнительные приглашения и даже прислала свою статуэтку, изображающую ее обнаженной. Но когда он отправился к ней, чтобы сочетаться браком и увезти ее в царство своего отца, она нанесла ему удар кинжалом. Очевидно, в ходу были различные варианты этой истории, приукрашенные кумушками и кумовьями; в одной из них говорилось, что статуэтка царицы Мисра обладала пагубными силами и что царь благоразумно повелел бросить ее в огонь. В другой утверждалось, что письмо царицы было пропитано медленно действующим и одурманивающим ядом и что, представ перед своей невестой, царевич рухнул замертво.
Все женщины Мисра, начиная с царицы, приобрели скандальную славу среди хеттов, ассирийцев, вавилонян, митаннийцев и всех жителей Леванта.
— Подумать только! — воскликнула одна из матрон двора Каркемиша с пылом, который заставлял дрожать ее необъятную грудь. — Подумать только, ведь раньше мы посылали чудотворную статую Иштар царю Мисра, потому что он был болен! И она его излечила! И вот как эти негодяи нас отблагодарили!
И, воздев руки к небу, она стала призывать на Миср проклятия всех злых богов, начиная с ужасного Пазузу, чья ноздря распространяла чуму.
Эта последняя история была правдивой: некогда Аменхотеп Третий страдал от язв на ногах, и его подданные дважды отправлялись за исцеляющей статуей Иштар, и во второй раз хеттский царь с большим трудом забрал ее обратно. В знак благодарности Аменхотеп Третий разрешил строительство храма Иштар в Мемфисе.
Скорбя о своей горькой доле во дворце Фив, Анкесенамон не знала об этих невероятных выдумках. В течение тех пяти дней, во время которых вспыхнула эпидемия, ставшая фатальной для Хоренета, были открыты двери для сил зла. Она снова думала о пророческих словах бывшего Советника Тхуту: «Исис, вечная невеста печали…»
Но кто же этот карающий бог, кто с таким усердием истреблял тутмосидов и, стремясь наказать виновного, уничтожал последнюю ветвь упавшего дерева, хрупкую царицу Анкесенамон?
38
ЗНАК КРАСНОГО ГОРА
Молодой иврит Эфиал доедал четверть дыни.
— Наши предки пришли в эту страну, потому что здесь плодородные земли, а теперь мы — узники и рабы, — сказал он. — Стало быть, у нас нет страны?
Он сидел на земле почти голый. Его тело было покрыто пылью и соломинками, которые пот превратил в клейкую грязь и которые можно было смыть разве что в реке, протекавшей в сотне шагов от этого места. Он откинул непокорную прядь волос, которая падала ему на глаза.
Сидя напротив, его дядя Забад допивал пиво, что оставалось в кружке из обожженной глины. День закончился. Это был тяжелый день, впрочем, как предыдущие и любой другой на протяжении вот уже трех месяцев. После битвы у «Пяти Свиней» гнев властителей Нижней Земли обрушился на ивритов. Один из их, Тапуах, у которого хватило наглости хлестнуть по лицу полководца — и какого полководца — Хоремхеба! — был разыскан и приговорен к тридцати ударам хлыстом. Затем по указу Первого советника всех дееспособных мужчин принудили обтесывать камни для строительства. Но что эти люди собирались делать со всеми этими камнями?
— Когда-то у нас была страна — там, за большой рекой, которая называется Евфрат, — ответил Забад. — А теперь она принадлежит хеттам. Если бы мы туда вернулись, то с нами обошлись бы не лучше, чем здесь, но здесь, по крайней мере, земля плодородная.
— И у нас никогда не будет страны?
Забад пожал плечами.
— Надо, чтобы мы были сильными, чтобы у нас было оружие и опытный командир. Каждый раз, когда мы позволяем господам этой страны вовлечь себя в бунт против царской власти, нас разбивают наголову. И ситуация почти не меняется.
— К чему ты говоришь об этом?
— Если верить тому, что говорят наши братья, которые вернулись из Мемфиса и Фив, теперь власть принадлежит Хоремхебу. Он — военный. Ему нужна рабочая сила для всех этих укреплений, которые он заставляет строить на границах. Ему больше не нужны мятежи в Нижней Земле.
Он отрезал себе также четверть дыни и начал смаковать лакомство с задумчивым видом.
— Возможно, у этой страны сильные боги, — добавил он.
— Однажды, — возразил Эфиал, — у нас тоже появятся боги, которые выведут нас отсюда.
Забад оставил эти слова без ответа. Боги… Очень хитрым был тот, кто понимал их намерения. В любом случае, неужели у них, ивритов, не было бога? Ведь к нему обращался и его навязывал им один из их старейшин много лет назад. И что же он сделал для них?
Землетрясение иногда творит чудеса. Оно уничтожает дома и статуи, прорезает ужасающие пропасти в земле и беспокоит даже горы. Но когда проходит страх, мы замечаем, что на вершине горы зависла огромная скала, которая почему-то не скатилась по склону. Оно разрушило здание, которое строилось на века, но, словно в насмешку, сохранило его портал; разрушило статуи колоссов, близких к богам, но почтительно сберегло хрупкий обелиск, который больше походил на протянутый к небу палец.
Вот так выглядело царство после бунта земли, который сотрясал его уже не один месяц.
Прошло почти два года после смерти Ая, а преемника все еще не было.
На троне сидела царица Анкесенамон, но власть была в руках Хоремхеба.
Единственный наследный принц царства, Хоренет, умер, и у тутмосидов, таким образом, не было продолжателя рода.
Царство напоминало судно без кормчего.
Среди солдат ходили слухи, что чужеземный царевич и его свита погибли в пустыне при странных обстоятельствах. Согласно одним предположениям, на них напали грабители, и на помощь был направлен отряд царской армии, но прибыл туда слишком поздно; согласно другим, они были атакованы лучниками царя. Между тем, никому ничего не было известно — откуда и с какой целью явился этот царевич.
Что означал этот случай? Чем это все могло закончиться?
В «Лотосах Мина» снова, как и при госпоже Несхатор, выступал рассказчик. Его басни привлекали в это заведение больше народа, нежели собирали малолетние танцовщицы и танцоры, крутящие перед публикой и задом, и передом.
— Это дом о двух этажах, говорит кум. На верхнем этаже живет женщина без мужа, а на нижнем — мужчина без жены. Однажды продавец огурцов, который продает свои овощи им обоим, решил все-таки расспросить мужчину: «Но почему бы тебе не жениться на женщине сверху? Она без мужа. Она вымоет огурцы и приготовит тебе еду». И мужчина отвечает: «Ты не заболел? Наверху же никто не живет». Продавец огурцов спрашивает у женщины: «Но почему бы тебе не выйти замуж за мужчину, который живет на нижнем этаже, вместо того, чтобы жить без мужа?» И женщина ему отвечает: «Меньше употребляй ката, торговец. Внизу никто не живет».
Публика расхохоталась. Действительно, именно такое впечатление создавалось у них о правителях.
— Однажды, — продолжил рассказчик, — загорелся дом. Мужчина и женщина выскочили на улицу, чтобы звать соседей на помощь. «Сначала тушите огонь у меня!» — кричит женщина. «Нет, у меня вначале!» — кричит мужчина. Соседи не знают, кого слушать, а в это время огонь охватил здание, и дом рухнул!
Раздался взрыв хохота и аплодисменты. В тот вечер рассказчик собрал больше колец, чем обычно.
Вскоре все Фивы знали эту историю, и рассказчику надо было придумать другую. Эта история дошла и до Хоремхеба и рассмешила его.
— Да… — глубокомысленно произнес он. — Но клянусь, дом не загорится!
Хоремхеба пригласил к себе Хумос.
Их встреча проходила, как обычно, в беседке сада верховного жреца.
Тот жестом пригласил Первого советника сесть. Он не казался ни довольным, ни огорченным. Хоремхебу было интересно, чего тот от него хотел.
Хумос сел напротив Советника и отчетливо сказал:
— Так больше продолжаться не может.
Сбитый с толку, Хоремхеб спросил у него:
— Что именно?
Но ему с трудом давались слова, ибо он уже понял, что означали слова верховного жреца.
— Вот так ситуация! Страной управляет человек, который не является царем, и царица, обрученная с призраком. Это становится смешно и даже опасно. Такое положение уже невыносимо. Господа провинций волнуются, Рамзес обязан был тебе об этом сказать.
Так и было.
— Но что ты хочешь, чтобы я сделал? — спросил полководец. — Уже достаточно того, что я в этих условиях восстановил порядок и усилил мощь армии.
— Я хочу, чтобы ты сел на трон.
Хоремхеб во всех ситуациях действовал как храбрец, но сейчас он просто остолбенел.
— Но, верховный жрец, я уже тебе объяснял, что…
Хумос прервал его жестом руки.
— Ты поднимешься на трон без нее.
После молчания Хоремхеб переспросил:
— Без нее?
— Корона священна. Я тебя короную с согласия царицы или без такового.
— А другие жрецы?
— Мы это уже обсудили. Они того же мнения.
— Все? Даже Панезий?
— Мы его не посвящали в эти дела, — ответил жрец раздраженно. — Я нахожу, что культ Атона уже давно изжил себя. В этом отношении Ай не проявил достаточной решимости. Он не осмелился уничтожить эту клику, которую сам привел к власти во времена Эхнатона. Но мы покончим с этим — позже. Нефертеп пытался настаивать на том, что короновать тебя следует в Мемфисе, чтобы утвердить присутствие царской власти в Нижней Земле, но все сошлись на том, что церемония будет проведена в Фивах.
— Какое единодушие! — заметил удивленный Хоремхеб.
— Письмо царицы царю хеттов представляло угрозу для страны. Мы избежали катастрофы. Но женщина может на этом не остановиться и обратится с той же просьбой к правителям Митаннии, Вавилона, Ассирии или даже страны Пунт.
Хоремхеб уже об этом думал, но решил, что пример Заннанзы заставит остальных правителей отказаться от такого предложения. Теперь, когда и верховный жрец Амона опасался действий Анкесенамон, он понял, что ему, без сомнения, будет действовать легче. Он не собирался тратить время и силы, выслеживая в пустыне чужеземных претендентов на руку царицы, чтобы осыпать тех стрелами.
— Это семейство постоянно подвергало царство опасности! — воскликнул жрец. — Вот уже более двадцати лет это длится! Я сказал: хватит! Мы полагаемся на тебя, ты должен установить порядок раз и навсегда!
Хоремхеба поразили откровенные слова Хумоса.
— Но Анкесенамон остается царицей, — заметил Хоремхеб.
— Мы об этом подумали. Ты соберешь Царский совет, который лишит ее всех наследственных и священных прав. Другой правящей царицы, кроме твоей супруги, которую ты объявишь Великой царственной супругой, не будет. В этом нет ничего исключительного: так как у Анкесенамон нет потомства и она не захотела сочетаться с тобой браком, она фактически обрекла себя на то, чтобы быть отстраненной от власти. Она больше не является никем, кроме как бездетной вдовой.
— Но я должен жить во дворце!
— Разве он не достаточно большой? Анкесенамон переселится в покои царевен, а ты займешь остальные помещения.
Неужели Хумос обсуждал это с начальником хозяйственной службы или новым Главным распорядителем? В любом случае, это было третьей неожиданностью для Хоремхеба: верховные жрецы культов все предусмотрели. У полководца не было другого выбора, кроме как подчиниться. Слуга принес кувшин с пивом и обслужил своего хозяина, затем его гостя. Оба мужчины пили молча.
— Итак, — продолжил жрец, — ты возобновишь отношения с Мутнехмет. — Хоремхеб молчал. — Она больше подходит на роль царицы, — пояснил Хумос, пристально глядя на собеседника.
Многим было известно, что его теперешняя супруга, Суджиб, была танцовщицей в «Саду розовых лотосов». Хоремхеб обрадовался тому, что восстановил с Мутнехмет хорошие отношения, но изобразил гримасу недовольства.
— Она теперь не богата, — возразил он.
— Да ну же, твои с Суджиб дети будут считаться законнорожденными!
Хоремхеб обдумывал ситуацию. Он понимал, что все необходимо быстро уладить. Мутнехмет, разумеется, согласится быть его официальной супругой, но Суджиб закатит истерику. Объясни попробуй, что такое государственные интересы, бывшей танцовщице!
— Будем ли приглашать Анкесенамон на коронацию?
— Да. Но она не придет.
— Ты уверен?
— Я знаю ее характер.
Это было очевидно. Присутствие Анкесенамон на церемонии означало бы, что царица дала свое согласие на коронацию, но это было немыслимо.
Хоремхеб опустошил свой кубок, и слуга, который наблюдал за ними издалека, подошел, чтобы его наполнить.
— Думал ли ты, когда лучше это сделать?
— Перед Праздником долины, — ответил верховный жрец.
До праздника оставалось тридцать дней. Очевидно, верховный жрец давно вынашивал это решение.
Хоремхеба ждала еще одна неожиданность: теперь, когда было устранено последнее препятствие, предстоящий триумф совсем не вызывал у него того восторга, которым некогда он был переполнен. У него появилось чувство, будто, начиная со смерти Эхнатона, им управляла сила, намного превосходящая могущество верховного жреца Амона или верховного жреца Пта. И именно эта сила осуществила замысел, который он и жрецы сами никогда не могли бы осуществить.
Вдруг он ощутил разочарование. Трон был бы наградой, если бы он завоевывал его в открытом бою, но сейчас он, можно сказать, получал его по принуждению.
Он был пешкой в гигантской руке. Он допил пиво и выразил благодарность Хумосу, тщательно подбирая слова, а потом попрощался с ним.
— Сразу же займись подготовкой церемонии, — порекомендовал жрец, сопровождая его до выхода из беседки.
Громадный некрополь Фив наполнился одновременно нежными и веселыми звуками. Во главе процессии шли два музыканта, один играл на лютне, а другой — на флейте. Полтора десятка человек — женщины и мужчины всех возрастов и дети — направлялась к скромному маленькому храму такого размера, который тридцатью веками позже в той стране, что раскинулась за Морем, будет соответствовать площади двухкомнатной квартиры.
За исключением музыкантов, почти все несли с собой корзины. Приблизившись, можно было увидеть в них кувшины с пивом, глиняные кружки, жареного гуся, пироги с рубленой свининой, салат-латук, оливки, сыр, сдобные булочки с изюмом, медовые хлебцы, огурцы, дыни, финики и лук, да, много лука, так как он отгоняет злых духов.
Резвились дети и пританцовывал флейтист. Музыкант, который играл на лютне, вел себя сдержанно, стараясь не фальшивить.
Было очевидно, что у них праздник. Исполнилась годовщина смерти писца Апетсу, умершего ровно триста шестьдесят дней назад. Впрочем, собравшись вместе, люди пришли пожелать ему хорошего аппетита и, поставив корзины и расстелив на земле скатерти, собрали лучшие куски от трапезы и положили на пороге его усыпальницы. Не забыли и о кружке пива.
Затем пили, ели, поминали добрым словом покойника, вспоминали о его разочарованиях и сладких мгновениях любви. Пели, правда, немного вразнобой, так как много выпили. К трем часам после полудня веселая компания, пожелав покойнику хорошего пищеварения и счастливой вечной жизни, возвратилась в город.
На следующий день писец секретаря Первого советника, которому было известно о его ближайшей коронации, консультировался у царского предсказателя относительно даты некоего празднования — речь пока не шла о коронации — насколько она благоприятна.
Узнав дату рождения виновника торжества, предсказатель потратил более часа на расчеты, в которых писец определенно ничего не понимал, но уважительно наблюдал за этим процессом. Наконец толкователь звезд заявил нравоучительным тоном, что это выдающаяся личность, потому что дата его рождения отмечена возвращением Красного Гора,
[60] влияющего на судьбу этого человека. Итак, он родился под знаком этой планеты, и теперь у него начнется новая жизнь.
Писец передал хорошую новость своему хозяину, и предсказатель получил в виде вознаграждения золотое кольцо.
Никто не знал, говорит ли тот правду, но никто никогда не видел, чтобы предсказатель возвращал плату за свои труды.
39
ПРОШЛОЕ ПРИЯТНЕЕ БУДУЩЕГО
О решении верховного жреца Амона сообщили главам ведомств.
Их воодушевление удивило Хоремхеба. Они тоже устали от неопределенности сложившейся ситуации. Его это взбодрило, забылось чувство бессилия, появившееся по завершении встречи с Хумосом.
Рамзес отправился заказывать вино, чтобы отпраздновать этот великий день. Во дворце тут же стали гадать, какая необычная новость вызвала радость у Советника и глав ведомств. Все склонялись к тому, что царица согласилась сочетаться браком с полководцем.
Главы ведомств пришли к единому мнению в том, что надо сообщить эту новость народу. На следующий день глашатай царя оповестил всех в Фивах о коронации царевича Хоремхеба
[61] как хранителя божественного трона, затем новость была оглашена в других городах Долины.
Царица узнала новость из уст нового Главного распорядителя церемоний Ахонсу.
Она сидела, как обычно, на террасе, смакуя гранатовое вино, когда Ахонсу был допущен к ней. Выслушав его, она посмотрела так, словно ей сообщили, что солнце решило принять форму лука-порея.
— О чем ты говоришь?
— Твое величество, — повторил он, — через двадцать восемь дней царевич Хоремхеб будет увенчан короной Двух Земель.
— Но это невозможно! Он не может стать царем!
Ахонсу, смутившись, не знал, как себя вести.
— И, однако, твое величество, через час новость будет оглашена.
Она на него посмотрела растерянно, затем повернулась к Сати.
— Позови Мутнехмет.
Последняя медлила с тем, чтобы откликнуться на приглашение царицы. Когда Мутнехмет, наконец, появилась, то все заметили, что она была замечательно накрашена, и это было непривычно для нее, также на ней были драгоценности, которых она еще никогда не надевала. Анкесенамон рассматривала ее, изумленная.
— Мутнехмет, распорядитель мне сообщил, что Хоремхеб будет увенчан короной Двух Земель. Пожалуйста, разузнай об этом у него или верховного жреца в Карнаке… Что это за нелепая история? Он не может быть коронован! Это я — царица, и за него я никогда не выйду замуж!
Мутнехмет долго на нее смотрела, не отвечая.
Сати все поняла.
— Почему ты так на меня смотришь? Что с тобой? — спросила Анкесенамон.
— Я на тебя так смотрю, потому что думаю, как ты до сих пор не поняла того, что происходит, — ответила Мутнехмет. — Да, это правда. Хоремхеб будет коронован через двадцать восемь дней. Так решили жрецы царства.
— Но я этого не хочу!
— Ты уже ничего не можешь, — сказала Мутнехмет, опечаленная и одновременно сильно раздраженная упрямством своей племянницы. — Сожалею, но ты уже ничего не можешь сделать. Законы наследования устанавливают жрецы. И они приняли решение.
— Но как? — вскричала Анкесенамон. — Почему?
— Потому что царство не может вечно оставаться без настоящего царя! — недовольно сказала Мутнехмет. — Понимаешь ли
ты это? Ты, дочь царя, полагала, что сумеешь бесконечно оказывать сопротивление реальной власти?
— Но я хотела супруга, который был бы царем! И они его убили!
— Хетта! — закричала на этот раз Мутнехмет. — Ты хотела предложить царство хетту! Но ты потеряла голову! Конечно, они убили его! Я сама бы его убила!
Последние слова больше были похожи на гневный вопль — слишком долго ей пришлось скрывать двусмысленные и абсурдные ситуации, возникавшие в результате легкомыслия Анкесенамон. Сдавали нервы.
— Ты тоже меня бросаешь! — воскликнула Анкесенамон, заливаясь слезами.
Сати ее обняла.
Вдруг она повернулась к Мутнехмет, ее лицо было сведено судорогой от ярости.
— Я — царица! Я запрещаю эту коронацию! Я отстраню от должности Советника Хоремхеба! И всех его подчиненных! Я…
— Ты больше никто, лишь вдовствующая царица без потомства, — отрезала Мутнехмет. — Со вчерашнего вечера решением Царского совета ты лишена всех своих полномочий.
Анкесенамон смотрела на нее, задыхаясь от гнева, с расширенными от ужаса глазами.
— Но кто тогда является царицей?
— Я, — ответила Мутнехмет.
Изумление двора было не столь драматическим, но не менее бурным, так как у большинства придворных эта новость вызвала чувство облегчения. Наконец-то царством будет править достойный человек! Радостная суматоха вскоре охватила обе столицы и города в провинциях.
Во дворце волнения были несколько иного рода: Хоремхеб и его супруга устраивались в царских покоях, остававшихся незанятыми после смерти Ая.
По приказу будущего царя значительное количество статуй и бюстов исчезли из этих помещений. Большая статуя Эхнатона во весь рост, которому Сменхкара сообщает о Ахетатоне, безжалостно была выброшена на пустырь вблизи дворца, его же бюст был разбит колотушкой, статую сидящего Сменхкары куда-то унес Главный распорядитель, так же как и бюст Нефертити, на который никто не обратил внимания. Статуя во весь рост и еще один бюст царицы, незаконченный, собирались отправить в место Маат, так же как и бюсты Ая и Тутанхамона. Статуя Тутанхамона была разбита на куски…
Но это было еще не все.
Статуя Анкесенамон во весь рост, которая до тех пор находилась в Большом зале цокольного этажа, была перевезена во Дворец царевен, который отныне занимала она.
Лихорадочное нетерпение жителей страны внезапно охладила новость о подтягивании войск к границе царства Ния, находящегося под покровительством Двух Земель. Суппилулиума жаждал мести, он хотел, как утверждал хеттский посол, сверкая из-под широких бровей глазами, чтобы виновники убийства его сына и свиты были найдены и наказаны.
Пентью слушал его спокойно.
В действительности хеттский царь не строил никаких иллюзий относительно того, кто виновен в этом преступлении; на самом деле он планировал захват территорий, полагая, что ничтожные мужчины Двух Земель, неспособные обрюхатить женщину, уступят ему, как и в предыдущих сражениях, и что он сможет расширить свои владения до границ Мисра.
Он быстро понял, что ошибся. Хоремхеб спешно послал к границам Рамзеса во главе отрядов греческих и берберийских наемников, конников, лучников и пехотинцев. Хеттские войска, которые уже проникли на территорию царства Ния, были разбиты, оставив на поле боя огромное количество оружия и две колесницы.
Так обстояло дело на военном поприще. Пентью вручил послу хеттов часть плаща царевича Заннанзы, который, как он утверждал, был обнаружен у одного из убийц и изъят охранниками Рамзеса. На этом обрывке еще оставалось несколько драгоценных камней. Пентью заявил, что преступление совершили грабители, которые явились с севера, как он это и предполагал, и всех их уже посадили на кол.
Таким образом, Суппилулиума должен был немного успокоиться, получив клочок плаща сына и выслушав заверения о казни преступников и… потерпев мучительное поражение. Он это накрепко запомнил.
Пентью, широко улыбаясь, пригласил посла на коронацию Хоремхеба.
— Стало быть, он сочетается браком с вашей царицей? — спросил посол, еще более раздосадованный.
— Нет. Он назначен нашими жрецами как самый достойный претендент на трон.
— Но он все-таки женится на ней?
— Нет, у него уже есть супруга.
Посол теперь уже ничего не понимал. В Мисре всегда считалось, что только тот человек может быть увенчан двойной короной, который, благодаря своей доблести, заключит союз с женщиной царского рода. А они венчали военного человека, не имеющего отношения к царской семье!
Посол понимал только одно: мечты о присоединении территории Двух Земель к хеттской империи обратились в пыль.
Он уехал явно в плохом настроении.
Никогда и ни при каких обстоятельствах никому еще не удавалось точно — или честно — сосчитать толпу. Всегда церемонии коронации привлекали в Фивы огромную массу людей. Триста тысяч? Четыреста тысяч? Прибыли люди из самых отдаленных уголков Нижней Земли и из страны Куш. Уже за десять дней до начала церемонии в Фивах негде было разместиться приезжим, не хватало хлеба и других продуктов питания. Люди сдавали внаем крыши своих домов и сады, а те, кто прибывал на барках, устраивались прямо в них на соломенных тюфяках. Цена на рыбу, которая была самых ходовым продуктом питания в стране, так как в Ниле ее было сколько угодно, удвоилась, ибо ее надо было сварить; гусь и утка стоили втрое больше, свинина — в четыре раза. Что касается говядины, то ее невозможно было купить. Колодцы с водой осаждались жаждущими, а пивовары делали себе состояние.
Всем было понятно: отныне страной снова будет управлять, впервые после Аменхотепа Третьего, сильный человек. Это событие было еще необычно тем, что Хоремхеб не сочетался браком с женщиной царской крови. Сестра покойной Нефертити, Мутнехмет, между тем, была всего лишь дочерью богатого землевладельца из провинции, без малейшей частички божественной сущности.
Этот момент действительно был щекотливым, потому что все понимали: это, с одной стороны, популистское решение, а с другой стороны, это свидетельствовало о глубоких изменениях в царстве. Отныне каждый мог надеяться достичь самых высоких должностей благодаря только своим заслугам, правда надо было уметь читать и писать. При этом исчезала магия исключительности царской природы. Хоремхеб не обладал божественной сущностью, однако и представители царского рода обладали ею лишь после коронации.
Самым удивительным было то, что именно жрецы решили все таким образом.
Но это нисколько не уменьшало ликования толпы.
За исключением тысячи приглашенных в храм Амона, никто ничего не мог видеть. Уже десять дней плотная толпа заполняла улицы, спеша мимо уличных торговцев жареным мясом, осаждая пивные и колодцы с водой, скапливаясь вокруг певиц или просто ничем не занимаясь; задрав головы, люди рассматривали столичные здания.
Царский дворец был одним из центров притяжения гостей столицы. На малопосещаемой по обыкновению главной улице, которая тянулась вокруг зданий Царского дворца, было полно народа. Монументальный вход с колоссами с обеих сторон, стражники в украшенных перьями шлемах, высокие каменные стены безупречной кладки и обитатели дворца, которые случайно попадали в поле зрения зевак, как то пересекающий двор слуга или конюх, поправляющий сбрую на лошади, заставляли зрителей останавливаться, разинув рты, как если бы перед ними возникали небесные видения.
Этот наплыв людей, как и другие беспокойства, связанные с переездом, Анкесенамон переживала в своих новых покоях. От непрерывного шума голосов зевак она укрылась в комнатах, окна которых выходили только во внутренний двор, а не на террасу. Смотритель Зверинца испытывал затруднения, каждый день проходя со львом сквозь плотную толпу, и так как эта толпа уже захватила сады позади дворца, Анкесенамон согласилась обойтись без хищника до окончания этого испытания. Таким образом, с нею были только придворные дамы, Сати и кормилица Нефериб, которая каждое утро приходила с маленькой царевной. Анкесенамон играла с девочкой, помогала той одевать и лечить ее куклу.
В действительности она сама играла с живой куклой, последней представительницей ее рода.
Мутнехмет дважды приходила нанести визит, и дважды она встретила холодный прием.
— Неужели ты не придешь на коронацию?
Анкесенамон повернулась к ней и сказала безразличным тоном:
— Где это видано, чтобы коронация проходила с двумя царицами?
Противоречие было очевидным, и при всей хитрости верховного жреца Амона не нашлось иного решения, кроме как поставить трон Анкесенамон рядом с троном Мутнехмет, над которыми возвышался трон Хоремхеба. Само существование этой всеми забытой царицы, на решения которой невозможно было повлиять, создавало множество проблем.
— Ты будешь сидеть на троне, — уверяла ее Мутнехмет.
— И меня будут считать второй супругой твоего мужа?
С этим нельзя было поспорить.
Во второй раз Мутнехмет ей заявила:
— У меня разрывается сердце — я не могу видеть тебя такой.
— Ты ничего с этим не можешь поделать. История богов не меняется.
Загадочная фраза озадачила посетительницу.
Анкесенамон обратила усталое лицо к своей тете и объяснила:
— Известно, что Сет вечно убивает Осириса. Я хранительница праха Осириса.
Мутнехмет была сбита с толку. Ей ничего не оставалось, кроме как уйти.
День коронации и тот день, когда устраивалось шествие в честь праздника, стали адскими для узницы. Всю ночь в Фивах пели и танцевали. По случаю пира, который давали по возвращении из Карнака царского кортежа во главе с Хоремхебом и Мутнехмет в позолоченной колеснице, грохотали музыкальные инструменты, заглушая здравицы толпы. Дворец превратился в улей с бешеными пчелами. Отдохнуть было невозможно. Традиционная раздача угощений народу превратилась в битву, с той лишь разницей, что все этому радовались. Охрана неоднократно должна была вмешиваться, чтобы сдержать толпу. Под окнами дворца голосили певицы, извивались танцовщицы под звуки флейт.
Анкесенамон решила уехать в Ахетатон.
Больше ей нечего было делать в Фивах.
Ей не нужна была защита Мутнехмет, и не секрет, что Хоремхеб будет только рад, когда она покинет этот дворец.
Неясно было только, кто будет заниматься воспитанием Нефериб. Но Мутнехмет уладила это очень легко, так как не знала, что делать с маленькой царевной, дочерью ненавистного соперника Хоремхеба Нахтмина. За десять дней до начала сезона Сева Анкесенамон погрузилась на «Славу Амона» вместе с Сати, ее корзиной с кобрами, Нефериб и ее кормилицей, двумя придворными дамами и несколькими слугами и рабами.
Бывают времена, когда прошлое доставляет больше приятных моментов, чем все будущие события. К тому же в Ахетатоне она сможет спокойно ждать смерти.
40
«УБИВАЮТ МЕРТВЫХ!»
Соединение физического и духовного мира становится наиболее очевидным в тот момент, когда люди отходят от суеты. Как только человек покидает обжитое место, меняется настроение. Так было в случае с Анкесенамон.
Вновь она увидела Ахетатон, где была несколькими неделями ранее, при тягостной процедуре перезахоронения Ая. Но теперь все осталось в прошлом: посмертное унижение царя, предзнаменование катастрофы, что предполагало восшествие на престол ее злейшего врага, — все принадлежало прошлому.
По крайней мере, Анкесенамон так думала.
Она терпеливо восстанавливала мир, существовавший до гибельного отъезда в Фивы. Имущество, которое извлекли из кладовых во время ее последнего пребывания здесь, оставалось на своих местах. Она побывала на складе. То, что она там нашла, она разместила в комнатах так, как это было прежде.
Был наполнен водой и снова украшен цветами лотоса бассейн перед террасой.
Обрадовавшись тому, что снова есть чем заняться, обслуга дворца очень скоро согласилась помогать ей в восстановлении зданий, которые считались проклятыми. Все трудились с удвоенным прилежанием. Самые старые слуги вспоминали прошлые дни, когда Ахетатон был столицей царства. Царица, как они говорили, напомнила им об их молодости. Они не знали, какие события взбудоражили царство.
Сады были расчищены, изгороди из одичавших кустарников и туи были подрезаны, выполота сорная травы, приведены в порядок кусты роз или посажены новые, отстроены беседки и восстановлены в них скамейки. Царица, придворные дамы, кормилица Нефериб и Сати проводили тайком вторую половину дня на берегах Нила.
Номарх Ахетатона с опозданием, то есть почти через неделю, узнал, что во дворце новые жильцы. Он пришел обо всем разузнать, и когда его проводили к беседке, он увидел там царицу, с которой встречался при перезахоронении ее деда. Он пришел в восторг.
Этот человек — маленького роста, с тонкими ногами и круглым лицом — никак не мог прийти в себя. Он ничего не понимал.
— Твое величество… Я поражен… Царь…
Он смолк, не находя слов.
— Номарх, я здесь со своей племянницей. Царь и царица находятся в Фивах. Я теперь правлю разве что этим дворцом. Твоя единственная обязанность — заботиться о нашей безопасности.
Сбитый с толку, он еще чаще стал отвешивать почтительные поклоны.
Сати с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться, но когда он ушел, ее прорвало, и беседка наполнилась серебристым смехом и кудахтаньем женщин, включая Анкесенамон.
Вечером вдовая царица узнала о том, что была удвоена охрана, а также изменен рацион для обитателей дворца.
В последующие недели они приятно проводили время. А затем до них дошли поразительные новости.
Царский рескрипт, который не распространялся, очевидно, на дворец Ахетатона, но который, тем не менее, попал и в бывшую столицу, был торжественно оглашен номархом. Рескрипт касался только календаря, но об этом говорили долго: во всех официальных документах тридцать четыре года, в течение которых правили Эхнатон, Нефертити, Сменхкара, Тутанхамон и Ай, были вычеркнуты раз и навсегда. Календарь возобновлялся начиная со времени смерти царя Аменхотепа Третьего.
Зачитав рескрипт, номарх начал отвешивать поклоны и произносить заученные фразы, а затем уехал на своем осле.
Анкесенамон была изумлена. Ее компаньонки тоже. Положение получалось странным. Таким образом, Ахетатона не существовало. Его основателя также, как и его супруги Нефертити, и, конечно же, их дочери и, разумеется, Анкесенамон.
Долгое время все пребывали в оцепенении. Сати недоверчиво покачала головой.
— Даже Амон на такое не осмелился бы, — сказала она.
Но несколькими днями позже в Ахетатон прибыли скульпторы и — Анкесенамон узнала об этом от распорядителя, пришедшего в ужас, — начали сбивать все барельефы, которые свидетельствовали о былой славе ее отца. Все изображения царя, Нефертити, царевен были безжалостно уничтожены.
— Твое величество! — умолял распорядитель. — Сделай что-нибудь!
У нее не было никакой власти. Она могла только присутствовать при разрушении ее мира. Даже сам Апоп не мог и мечтать о подобном. Она обратилась к распорядителю:
— Теперь будем знать, что мы с тобой никогда не существовали.
Распорядитель трудился во дворце еще со времен правления Эхнатона. Он растерянно смотрел на нее.
— Убивают мертвых! — закричал он. — Твое величество, убивают мертвых!
Он поднял руки, словно обезумев, и ушел.
Во второй половине дня на пристань дворца с борта барки сошел один человек. Анкесенамон наблюдала за ним, пока он проходил через сады и направлялся к входу во дворец. Она его узнала, но не верила своим глазам. И только когда он уже стоял перед нею, можно было сказать с уверенностью: это был Тхуту. Тхуту! Бывший Первый советник, неужели он был лишен своих земель и ему нечего было больше есть? Он был отощавшим, почти бесплотным.
— Ты меня не вызывала, твое величество, но я сам пришел. Со времени коронации Хоремхеба я не переставал думать о тебе.
— Советник! — воскликнула она, разволновавшись. — Советник!
Она улыбалась, и он тоже улыбнулся.
— Таким образом, мы больше не существуем! — сказала она насмешливо.
Он склонился и поцеловал ее руки.
— Я пришел убедиться, что не стал жертвой кошмара, что твоя красота все еще царит на земном пространстве.
Она улыбнулась и пригласила его сесть. Он казался удрученным.
— Что же случилось, визирь? Неужели света былого солнца, который ты только что восхвалял, больше не достаточно для твоего счастья?
— Твое величество, это ужасно… Царь разрушает все. Он велел разбить изображения Ая… Обе статуи его погребального храма…
Она их помнила: вначале они были заказаны Тутанхамоном, а потом Ай их присвоил. А теперь они были уничтожены!
— Он заставил все изображения заменить на свои. Даже изображение Тутанхамона.
— Даже его? — воскликнула она.
Он покачал головой.
— Статуи в Карнаке, где он был представлен рядом с Амоном… Все. Твои изображения…
Это было изобретение ада: команды скульпторов со всего царства упрямо уничтожали все следы царей, которые следовали друг за другом после Аменхотепа Третьего. Карающая ярость Хоремхеба не пощадила ничего.
Как же Мутнехмет смогла выдержать то, что память о ее собственном отце была превращена в пыль? Неужели опьянение властью так ее изменило?
Разорение и сведение счетов затронуло и представителей знати, обласканных предыдущими правителями. Наместник Гун был вызван в Фивы и немедленно смещен со своей должности. Много командиров, тех, кто в былые времена был верен Нахтмину, были также смещены.
— Да я сама, — сказала она, — больше уже не существую.
Уже будучи царицей без трона, она видела, как все больше и больше предаются забвению прошлые правители. Странное чувство — будто тебя нет, в то время как ты все еще жива. Разрушая тела и лица, высеченные в камне на миллионы лет, Хоремхеб лишал их загробной жизни.
— Это — вор, крадущий вечность, — заявила она.
Тхуту разрыдался.
— Его можно только ненавидеть, — добавила она.
В это время они увидели верховного жреца Панезия, идущего деревянной походкой, с остановившимся взглядом, в сопровождении других жрецов, помоложе. Сати, придворные дамы и кормилица тоже смотрели на него, озадаченные. На какой-то миг он замер, растерянный, разведя руки.
— Твое величество, — воскликнул он наконец, — убивают Атона!
На имени бога его голос достиг невыносимый высоты.
Он зашатался и рухнул. Анкесенамон закричала. Прибежали слуги. Жрец, опустившийся на корточки около старика, повернулся к той, что когда-то была царицей:
— Они разрушают храм Атона, твое величество. Он не смог этого вынести.
Вот уже несколько дней, как к пыли пустыни добавлялась тонким слоем неосязаемая белая пыль. Это была пыль памятников, которые Хоремхеб заставлял уничтожать. Руины были усыпаны штукатуркой.
Ноги посланца, который явился во дворец, были белыми. Ему необходимо было увидеть царицу.
Он не был жителем Долины. Кожа у него была светлая, как у жителей Азии. Он носил узкую короткую бородку, что не было принято в Двух Землях. Его манера одеваться также отличалась: на нем было шерстяное платье с каймой красного цвета.
Он опустился на колено и протянул Анкесенамон кожаный футляр.
— Откуда ты прибыл? — спросила она.
— Из Угарита, твое величество.
Она вспомнила: Угарит — небольшое царство на севере, на берегу Моря.
Она рассмотрела глиняную печать на футляре — ей она была неизвестна. Она ее разбила. Внутри была табличка из кедрового дерева, покрытая иератическим письмом.
Моя любимая сестра, твое величество, царица Двух Земель, мне известно о том, что случилось с царством нашего отца, и мое сердце истекает кровью. Оно кровоточит с тех пор, как не стало больше Неферхеру. Его унесла болезнь. Вскоре после его ухода молодой царь Никмат узнал о том, что я живу в Акко, и пришел просить меня соединиться с ним. Нашу свадьбу мы будем отмечать в Угарите через месяц. Ничто не могло бы больше обрадовать мое сердце, чем возможность увидеть тебя у нас. Что ты делаешь в нашем царстве? Неужели ты собираешься жить на кладбище? Приезжай жить ко мне в Угарит. Наша жизнь станет более приятной. Если ты с этим согласна, скажи об этом посланцу. Поезжай на морской барке до Авариса.
Твоя сестра Меритатон.
Анкесенамон подняла глаза, полные слез. Она так долго плакала, что Сати, придворные дамы, а также посланец встревожились. Немного успокоившись, она сказала женщинам:
— Нет, это — не плохая новость.
И все им объяснила.
— Не хотите ли вы последовать за мною в Угарит?
Им было не известно, где находится это царство, но они все тут же согласились. Меритатон была права: нельзя жить на кладбище. Страна детства досталась разрушителям.
— Твое величество, — обратился к ней посланец, — я должен уехать раньше, чтобы сообщить о твоем решении. Царица хочет организовать прием, достойный твоего величества.
— Ответь своей царице, что я приеду.
Опять они собирались в путь — но не на «Славном Амоне», который теперь был в Фивах, — Анкесенамон не хотела просить этот корабль у монарха, — а на двух барках поменьше, более приспособленных для плавания по рукавам Нила.
Отныне дворец Ахетатона стал царством пыли.
В Аварисе, поднимаясь на борт морской барки, Анкесенамон приложила все усилия, чтобы не смотреть в сторону той страны, где она царствовала. Впрочем, она ее уносила в своем сердце.
Исторические персонажи романа
Анкесенамон
Рожденная на пятом году правления своего отца Эхнатона, то есть в 1348 году до нашей эры, она в 1336 году сочетается браком с Тутанхамоном, своим дядей. Тогда ей было двенадцать лет, а ему — девять или десять. Спустя десять лет она становится супругой своего деда Ая. Древняя египетская цивилизации не имела своих хроникеров, тогда вообще даже не существовало само понятие биографии в том виде, в каком ее представит много веков спустя в Греции Плутарх. Но даже при небольшом количестве доступных исторических фактов не вырисовывается образ несчастной беззащитной царицы, потерявшейся на фоне конвульсий династии тутмосидов. Ее письмо к Суппилулиуме, хеттскому царю, озадачивает и свидетельствует скорее о стойкости и мстительности царицы.
Ай
Уроженец и властелин Ахмима, Ай был отцом Нефертити и Мутнехмет, следовательно, тестем своего злейшего врага Хоремхеба и дедом шести царевен, дочерей Эхнатона и Нефертити. Он правил с 1326 по 1323 год и умер в возрасте не менее шестидесяти лет. Его родственные связи с династией тутмосидов точно не установлены, хотя некоторые египтологи, приписывая ему титул «божественного отца», ссылаются на тот факт, что он был супругом Тии, которая могла быть кормилицей царицы Нефертити. Скорее можно было бы предположить, что Тия, супруга Аменхотепа III, была его сестрой. Но нельзя исключать возможности предшествующего союза Ая и Тии, несмотря на его кровосмесительный характер.
Ай продолжил восстановление традиционных культов, начатое Сменхкарой, следовательно, его гробница должна была находиться только в Долине Царей. Вполне вероятно, что эта гробница была осквернена или ограблена вскоре после его смерти, как это случилось в то же самое время с гробницей Тутанхамона. Это объясняет тот факт, почему в Тель эль-Амарне был обнаружен его разбитый каменный саркофаг, но без мумии.
Ивриты
В материалах археологических исследований о них нет упоминаний, но, между тем, установлено, что они селились в Дельте, где в случае необходимости номархи, желающие освободиться от опеки царской власти, их использовали как наемников.
Хоремхеб
Великолепный персонаж — царский писец, ставший выдающимся полководцем, а затем и главнокомандующим. Этот плебей, выходец из Хут-Несута, что расположен в средней части Египта, усилил мощь армии, что было очень важно для правящего режима. Дата его рождения не известна, но начал он свою карьеру при Аменхотепе III, умершем в 1353 году, поэтому во время коронации ему не могло быть меньше сорока лет. Он умер в 1293 году семидесятилетним стариком, таким образом, он правил приблизительно тридцать лет. После прихода к власти, что произошло примерно между 1324 и 1323 годами, он принялся искоренять в царстве хроническую коррупцию, уничтожать банды разбойников и частные отряды охраны и приступил к осуществлению глубоких преобразований в стране.
Гуя
Наместник царя в стране Куш (северная Нубия); он был смещен со своей должности вскоре после восшествия на престол Хоремхеба.
Майя
Казначей правительства Двух Земель со времен Эхнатона. Он представляется идеальным чиновником, который преданно служит всем режимам; он также был одним из доверенных лиц Хоремхеба.
Меритатон
Старшая сестра Анкесенамон. Известны два факта из ее жизни, а именно: приблизительная дата рождения — до четвертого года правления Эхнатона, то есть между 1349–1350 гг. до нашей эры, и дата ее бракосочетания — примерно в 1337 году, в возрасте двенадцати или тринадцати лет, с царем Сменхкарой, который правил менее двух лет. После этого о ней ничего не известно.
Я ей приписал связь с Хранителем благовоний, от которого у нее был ребенок и с которым она убежала в Акко, одно из царств Палестины, находящееся под протекторатом Двух Земель. Этому романтическому изобретению есть три объяснения: вполне очевидно, что она зачала ребенка не от Сменхкары; не осталось никаких упоминаний о ней, как и ее изображений во дворце после смерти этого царя; были найдены обломки свадебного сосуда, на котором изображена тель-амарнская царевна, воздающая должное своему супругу, Никмату, царю Угарита, маленького царства на севере Леванта.
Ничто не указывает на то, что на сосуде изображена Меритатон, а не одна из ее сестер. Между тем одно из трех объяснений, упомянутых выше, заставляет меня думать о том, что это была она: исчезновение из публичной жизни страны после смерти Сменхкары, а ведь она была тогда царицей и вдовой царя. Она должна была сочетаться браком с преемником Сменхкары, а именно с Тутанхамоном, но он женился на Анкесенамон. Почему? Моя гипотеза строится на том, что, придя в ужас от последствий жестокой борьбы за власть и осознавая, что ее жизни угрожает — реальная или воображаемая — опасность, Меритатон покинула родные места.
Что касается даты ее бракосочетания с царем Угарита, то я основывался на том, что тель-амарнская царевна, то есть дочь Эхнатона, не смогла бы, разумеется, сочетаться браком с чужеземным царем ни во время правления своего отца, ни во время царствования Тутанхамона: тогда она не могла сочетаться браком с царем вассальной страны. Стало быть, речь идет о позднем браке, который был заключен в то время, когда рушились навязанные тутмосидами правила, возможно, в конце срока правления Ая, но более вероятно, что это произошло во времена междуцарствия, между смертью Ая и приходом к власти Хоремхеба.
Рамзес I
Командир, затем доверенное лицо и советник Хоремхеба, позднее царь, он был основателем XIX династии и дедом знаменитого Рамзеса II. Он принадлежал к числу военных незнатного происхождения, которые восстановили могущество Египта.
Суппилулиума
Этот хеттский царь вызывает к себе большой интерес в наше время. Это связано с письмом, которое ему направила Анкесенамон. Мотивации и последствия ее поступка анализируются в этом романе.
О событиях этого романа
Сила воздействия искусства мощная, почти магическая. Если вспомнить о шедеврах готического искусства, Средневековье следует назвать благословленным периодом. В это время развития христианства воздвигались потрясающие памятники, а царствующие особы изображались во всем своем великолепии. Эта же вера подвигла людей на совершение духовного подвига — участие в Крестовых походах. Но сохранившиеся документы позволили все-таки установить совсем иную правду: Средневековье — это тяжелый период, с бесконечными войнами, эпидемиями чумы, которые опустошали целые страны, и постоянными конфликтами между историческими персонажами, вину которых никто из восхваляющих их биографов не смог замаскировать. Крестовые походы стали для мира катастрофой, усугубленной личными амбициями, некомпетентностью, соперничеством, страхом, фанатизмом и жестокостью.
То же самое происходит в отношении Египта. Нам известны только великолепные храмы, статуи, которыми по сей день восторгаются в тишине музеев, фрески, предметы роскоши и несколько по большей части ритуальных или торжественных текстов, написанных на позолоченном казенном языке, — за исключением разоблачительной малоизвестной стелы Мернептаха. Идеализация древних египтян доходит до того, что мы представляем их ангельской расой, наделенной мудростью и исключительными способностями. Все, что касается их познаний в геометрии, астрономии, математике, звучит абсурдным вызовом очевидности. Бывали, да собственно и до сих пор встречаются, некоторые «постмодернистские» теоретики, которые упрямо уверяют, что без Египта не существовала бы эллинская цивилизация!
Вышедшие три тома я написал под впечатлением исторических фактов, начиная с необъяснимой краткости сроков правления фараонов конца XVIII династии. Между 1335 и 1319 годами до нашей эры, то есть на протяжении шестнадцати лет после смерти знаменитого Аменхотепа IV, царя-реформатора, который назвался Эхнатоном, на троне Египта сменилось четыре фараона: Сменхкара, Тутанхамон, Ай и Хоремхеб. И все это происходило при весьма странных обстоятельствах, особенно если проанализировать исторические реалии: жесткое противостояние приверженцев традиционных культов и насаждаемого Эхнатоном культа Солнечного Диска, Атона.
В действительности Сменхкара правил около восемнадцати месяцев и умер в 1335 году, в возрасте двадцати лет или двадцати одного года, оставив после себя вдову четырнадцати лет, Меритатон, старшую дочь Эхнатона, которая приходилась ему племянницей. Его преемник, знаменитый Тутанхамон, занял трон в возрасте семи или восьми лет и умер в 1323 году в возрасте девятнадцати или двадцати лет. После его смерти в течение четырех лет, вплоть до 1319 года, на троне восседал старый интриган Ай, не имеющий никакого отношения к царскому роду, и который до этого сначала правил по договоренности, потом был назначен регентом, затем советником юного царя. Его сменил «генералиссимус», который правил тридцать лет, Хоремхеб, чье правление ознаменовало конец XVIII династии фараонов.
Как заметила Кристиана Дерош-Ноблькур, пятнадцать египтологов называют пятнадцать дат, более или менее различающихся, — это по поводу всех этих восшествий на престол. Меньше всего расхождений существует относительно дат смерти монархов, установленных с небольшой погрешностью с помощью современных методов исследования. Это касается и сроков их правления, определенных путем сопоставления фактов.
Несмотря на кажущуюся их точность, в этих сведениях присутствует много сомнительных моментов, особенно относительно Сменхкары, без сомнения наиболее загадочного исторического персонажа конца правления XVIII династии. Вот почему некоторые историки порой забывают включить его в список царей, другие предполагают, что Сменхкары как такового не было, а под этим именем скрывалась знаменитая Нефертити, супруга Эхнатона, ставшая его преемницей. Далее описывается причина возникновения всех этих спекуляций, часто поражающих воображение.
Столь странные ранние смерти
Помимо этого поспешного чередования правителей интригующим также кажется возраст главных действующих лиц.
Итак, Эхнатон умер в возрасте тридцати четырех или тридцати пяти лет. Его преемник и сводный брат Сменхкара умер двадцати лет от роду, и в то же самое время исчезла его супруга Меритатон, старшая дочь супружеской пары Нефертити — Эхнатон, не оставив наследника. Преемник Сменхкары, еще один его сводный брат, Тутанхамон, умер в возрасте двадцати лет или немного раньше, что не может не вызывать удивления.
В качестве объяснения причин этих ранних смертей часто упоминают эпидемию чумы, которая свирепствовала в Египте. Тогда получается, что эта эпидемия длилась шестнадцать лет, что не соответствует ни фактам, ни циклам эпидемий — эпидемии имеют свою цикличность, у чумы это одиннадцать лет, если быть точным, — причем действовала слишком избирательно: она уничтожила только тех, кто восседал на троне. Хотя Ай и Хоремхеб, имеющие солидный возраст, пережили чуму без последствий. То, что в царских дворцах бегали крысы, не вызывает ни малейшего сомнения, но достаточно странно, что распространяемая ими зараза настигала только царей, в то время как на высшем уровне власти соблюдали определенные правила гигиены. Уже было известно мыло и дезинфицирующие средства; каждый день цари купались, чистились их платья от блох, причем использовалась не вода Нила. Так что сложно поверить в такой исход.
Еще упоминается низкая средняя продолжительность жизни в эту эпоху; ссылаются на то, что якобы двадцать лет — это солидный возраст, и смерть в такие годы неудивительна. Но антропологи указывают на то, что человеческое общество со средней продолжительностью жизни ниже сорока пяти лет, как правило, безнадежно — и по биологическим причинам, ибо нет смены поколений, и по культурным, ибо невозможна передача навыков. Поэтому ранняя смерть правителей не может быть характерна для египетской цивилизации, которая существовала более тридцати веков.
И тогда единственно верной оказывается гипотеза о врожденных аномалиях у рано умерших царей, если не рассматривать вариант убийства. Разумеется, это противоречит сложившемуся представлению о древнем Египте как о стране ангелов, на что я указывал выше.
Однако на основании жестоких поступков возведенного на престол Хоремхеба, который уничтожил портреты и памятники, увековечивавшие его предшественников после Аменхотепа III, можно утверждать, что в древнем Египте бушевали такие же страсти, как и во всем мире. Систематическое использование яда, о чем упоминается, главным образом, в двух первых романах этой трилогии, известно историкам. В новейшей истории также известно активное использование такого средства, например, хозяевами Кремля для устранения соперников или неугодных людей, как и тех, кто слишком много знал. Борьба за власть, потрясавшая Египет, позволяет предположить, что страсти там достигали смертельного накала.
На самом деле под масками и за сказочными декорациям скрывалась трагедия народа и шекспировские страсти.
Озадачивающая стерильность
Еще одна особенность, которая не может не вызывать удивления: кроме шести дочерей, произведенных на свет Эхнатоном и Нефертити, никто из их преемников, будь то мужчина или женщина, скорее всего, не имели потомства. Таким образом, союз Сменхкары и Меритатон представляется стерильным. То же самое в случае Тутанхамона и его сестры Анкесенамон. О детях Ая, кроме Нефертити и Мутнехмет, ничего не известно, как и о тех, которых могли зачать Хоремхеб со своей супругой. В действительности преемником Хоремхеб сделал своего соратника Рамзеса, известного как царь Рамзес I.
Впрочем, все цари содержали гаремы и, очевидно, признавали сыновей, рожденных их сожительницами; так было в случае Аменхотепа III и Сменхкары, без сомнения, сына митаннийской принцессы, и Тутанхамона, который не знал своей матери, вероятно, одной из сожительниц царя. И все-таки тогда сексуальная жизнь начиналась в очень раннем возрасте и не ограничивалась запретами. Можно ли на основании этого прийти к заключению, что Сменхкара, Тутанхамон, Ай и Хоремхеб из-за наследственных заболеваний не были способны к воспроизведению рода? Пожалуй, как официальные летописцы, занимающиеся описанием жизни святых, египетские художники, создававшие фрески, скульпторы и писцы царской власти целомудренно обходили эти моменты. Возможно, попутно стоит выразить им благодарность за то немногое, что представлено в их текстах без оглядки на целомудрие, вызывая иногда отвращение у современного читателя. Тот факт, что Эхнатон, с легкостью представляемый некоторыми авторами личностью уровня Христа, растлил трех своих дочерей, названных впоследствии «царственными супругами», вызывает буквально ощущение тошноты.
Отсутствие потомства некоторые историки поспешно объяснили «высокой детской смертностью». Но если согласиться с этим, тогда получается, что это характерно только для Египта.
В конце одного из сражений во время затяжной войны Египта с Митаннией Аменхотеп II похитил у митаннийцев 232 ребенка княжеского рода и 323 царевны. Возраст детей не был уточнен, но цифры говорят сами за себя.
Неужели эти митаннийки были более пылкими в постели? А маленькие митаннийцы легко переносили детские заболевания? Или же во всем виноваты археологи, делающие неверные выводы?
Вот почему я отказался стыдливо обходить, как это происходило в древности, как, впрочем, бывает и в настоящее время, интимную сторону жизни царствующих особ. Рассматривая силуэты на фресках, мы видим множество соблазнительных, если не сказать «сексуальных», женщин и крепких молодцев, которых египетские художники в большом количестве изображали на протяжении веков. Так почему мы считаем, что эти царевны были холодными, а цари бессильными, и что их потомство непременно было выкошено дифтерией, брюшным тифом и холерой?
Не считая отдельных случаев, отсутствие информации о «побочных» детях царей и царевен, как мне кажется, объясняется следующим фактом: о них упоминали только в том случае, если они чем-то выделялись.
Но есть ли у меня право ворошить частную жизнь царских персон? В любом случае, я твердо убежден в том, что невозможно представить этих очаровательных цариц холодными весталками, а царей воздержанными монахами.
Письмо Суппилулиуме
Одной из главных тем третьего тома стало письмо Анкесенамон хеттскому царю Суппилулиуме, о котором стало известно из повествования царя Мурсили II, сына Суппилулиумы, обнаруженное в хеттских архивах в Богаз-Кое.
Большинство египтологов цитируют этот ошеломляющий документ с недоверчивой осторожностью. Получается, что царица Египта, дважды вдова, просит иностранного монарха, владыку хеттского царства, которое было сомнительным союзником ее страны, послать одного из своих сыновей, чтобы тот стал ее мужем, потому что она не хочет сочетаться браком с одним из своих подданных и потому что существует опасность угасания династии.
Невозможно вместить столько странностей в такое малое количество строк. Это и презрение, выражаемое царицей в адрес своих подчиненных, недостойных разделить с ней ложе, и обращение к царю, который наверняка будет добиваться присоединения к своему царству египетских территорий. Выходит, что царица преподносит «на блюдечке» свою мощную державу хеттскому царю, что в современных условиях считается подсудным делом, это так называемое должностное преступление. К тому же она нарушила установленный Аменхотепом III закон, согласно которому ни одна царевна Египта не может сочетаться браком с иностранным монархом. В то время только страны-вассалы предлагали своих царственных дочерей иностранным принцам.
Были попытки предположить, что Анкесенамон страдала психическим расстройством.
И все-таки этот вызов царицы власть имущим своей страны можно объяснить без того, чтобы ставить ей диагнозы. Миру египтологии характерна нетерпимость к новым гипотезам — сведение счетов там бывает кровавым, — поэтому ни один египтолог, насколько мне известно, не рискнул как-то трактовать это событие. Тогда делом, как говорится, должен заниматься следователь, в данном случае романист, а эта профессия зависимая и, как всем известно, не дает гарантий определения истинного смысла происходящего.
Первый вопрос, который надо выяснить: когда это письмо было отправлено? Некоторые авторы выдвинули предположение, что при жизни Ая. Но данная гипотеза не соответствует ни персонажам, ни обстоятельствам.
Прежде всего, письмо не могло быть отправлено, как это предположили, после смерти Тутанхамона, ибо только будучи одинокой, вдовой, царица могла его отправить. Такая инициатива свела бы на нет интриги Ая, нацеленные на то, чтобы занять трон и отодвинуть от него Хоремхеба. Старый властитель никогда бы не позволил своей внучке совершить нечто подобное, так как это было бы позором для мужчин страны и сделало бы из царицы посмешище. Просьба Анкесенамон не была правдоподобной, так как тутмосиды не один раз выбирали себе супругов из простолюдинов, начиная с Аменхотепа III, который сочетался браком с Тией, сестрой Ая, не царского происхождения. Если бы Анкесенамон действовала во благо своего рода, она могла бы найти мужа среди достойных писцов, сильных и привлекательных мужчин, которому союз с царицей позволил бы получить высокий статус.
В действительности смысл первого письма и, тем более, второго, сводится к тому, что Анкесенамон не может сочетаться браком с человеком, который для нее является единственной партией в сложившихся обстоятельствах, а именно с Хоремхебом, врагом последних тутмосидов и соперником Ая.
Вполне очевидно, что послание не могло быть отправлено в то время, когда Ай был на троне и Анкесенамон была его супругой. Конечно, неизвестно истинное положение Анкесенамон во время правления Ая, но два факта доказывают то, что она действительно была царицей в годы его правления.
С одной стороны, Ай был ее дедом, и их брак был — на что мы надеемся — формальным. Династическая система, законов которой придерживались до конца существования династии тутмосидов, являлась причиной того, что он не смог бы подняться на трон, не вступив в брак с женщиной царской крови, в данном случае последней дочерью Эхнатона.
С другой стороны, об официальном положении Анкесенамон как супруги фараона Ая, свидетельствует скарабей, несущий на себе двойной картуш — царицы и царя.
Остальное очевидно: обращаясь с просьбой о заключении брака с иностранным принцем, Анкесеснамон предполагала сделать его царем. Итак, она не могла бы
решиться на столь эксцентричный поступок в то время, как другой царь занимал трон.
Из этого следует, что письмо Суппилулиуме могло быть написано только после смерти Ая.
Наконец, Анкесенамон не могла бы написать это письмо в то время, когда уже был коронован Хоремхеб. Этот человек был очень жестоким, о чем она слишком хорошо знала, чтобы рисковать своей головой. Оба письма Суппилулиуме могли, таким образом, быть написаны только до восшествия на престол Хоремхеба. Это были призывы о помощи царицы, которая осознавала, что на ней обрывается династия, а трон достанется деспотичному военному. Вот по какой причине она готова была отдать свое царство иностранцу, лишь бы только продлить существование своего рода.
Этот момент очень важен, так как позволяет определить дату коронации Хоремхеба, единственную неизвестную дату той эпохи, поскольку полководец активно занялся исправлением календаря. Объяснение напрашивается само собой: Хоремхеб поднялся на трон с Мутнехмет в качестве супруги в то время, когда Анкесенамон была жива, а он мог это сделать только при поддержке жрецов. Чтобы принять столь исключительное решение — позволить провести обряд бракосочетания при жизни предыдущей царицы, жрецы должны были прийти в исступление из-за упорного противостояния Анкесенамон и Хоремхеба.
Заключение: после смерти Ая наступило время междуцарствия, смутный период, во время которого Хоремхеб властвовал, не будучи коронованным. Как только его короновали, он изменил календарь, и стало невозможным определить точную дату его прихода к власти. Было это до или после смерти Ая? Вопрос остается открытым.
Второй вопрос, который заслуживает внимания: почему Анкесенамон написала это письмо? Хочу надеяться, что на страницах этой книги я предложил достаточно обоснованный ответ. Хоремхеб являл своим существованием и своими притязаниями плебейский вызов аристократическом миру Тель-Амарны, откуда Анкесенамон была родом.
Таким образом, упрямая молодая женщина, дважды царица, закрыла последнюю страницу великой и трагичной истории династии тутмосидов. История XVIII династии началась военными победами и закончилась опасными мистификациями и преступными заговорами.
Мишель Моран
НЕФЕРТИТИ
Посвящается моему отцу, Роберту Френсису Морану, от которого я унаследовала любовь к языку и книгам. Ты ушел слишком рано и не увидел эту книгу опубликованной, но мне кажется, что ты знаешь о ней. Спасибо тебе за понимание и за твою великолепную жизнь, вдохновлявшую меня во многих отношениях.
Назвать имена мертвых — значит снова возвратить их к жизни.


От автора
Путешествие в древний мир Нефертити было для меня долгим. Оно началось с посещения Египетского музея в Берлине, где хранится ее прославленный бюст. У этого бюста у самого по себе длинная история, тянущаяся от его создания в Амарне и до того момента, когда его привезли в Германию, где он произвел фурор на первой же своей выставке в 1923 году.
Даже через три тысячи лет после смерти Нефертити ежегодно пленяет своим обаянием десятки тысяч посетителей. Ее загадочная улыбка и выразительный взгляд завладели моим вниманием и заставили задуматься, какой она была и как сделалась такой значительной фигурой в Древнем Египте.
Итак, идет 1351 год до н. э. Среди великих фараонов Египта уже были Хуфу, Амос и женщина-фараон Хатшепсут; Рамсесам и Клеопатре еще предстоит появиться. Нефертити пятнадцать лет. Ее сестре — тринадцать, и весь Египет у их ног.
Пролог

Если верить словам визирей, Аменхотеп убил своего брата из-за короны Египта.
В третьем месяце Ахета
[62] наследный царевич Тутмос лежал в своей комнате во дворце Мальгатта. Теплый ветер шевелил занавески в его покоях, неся с собою аромат тимьяна и мирры. С каждым дуновением ветерка длинные льняные полотнища колыхались, обвиваясь вокруг колонн, и мели испещренные солнечными пятнами плиты пола. Но двадцатилетний египетский царевич, которому следовало бы сейчас мчаться во главе царских колесниц навстречу победе, лежал на своем ложе, и его правая нога, раздробленная и распухшая, покоилась на подушках. Колесницу, с которой упал царевич, тут же сожгли, но вред уже был причинен. Тутмоса мучила лихорадка, и плечи его поникли. И пока шакалоголовый бог смерти подкрадывался все ближе, Аменхотеп сидел на другом конце комнаты в позолоченном кресле и даже не вздрагивал, когда его старший брат сплевывал мокроту цвета вина, говорившую визирям о его возможной смерти.
Когда Аменхотеп не мог больше смотреть на страдания брата, он вышел из покоев на балкон, глядящий на Фивы. Он скрестил руки поверх своей золотой пекторали и так и стоял, наблюдая за крестьянами, что жарким днем собирали полбу. Их фигуры скользили среди храмов Амона, величайшего дара его отца этой земле. Аменхотеп стоял над городом, размышляя о послании, что привело его из Мемфиса к ложу брата, и, когда солнце опустилось, царевича начали преследовать видения того, кем он теперь мог стать. Аменхотеп Великий. Аменхотеп Строитель. Аменхотеп Великолепный. Царевич видел это все перед внутренним взором, и лишь когда молодая луна взошла над горизонтом, раздавшееся позади шлепанье сандалий заставило его обернуться.
— Твой брат зовет тебя в свои покои.
— Сейчас?
— Да.
Царица Тийя повернулась к сыну спиной и заспешила в покои Тутмоса; Аменхотеп последовал за нею. В покоях собрались визири Египта.
Аменхотеп обвел комнату взглядом. Тут собрались старики, верные его отцу, люди, всегда любившие его старшего брата больше, чем его самого.
— Вы можете идти, — объявил он, и визири потрясенно посмотрели на царицу.
— Вы можете идти, — повторила она. Но когда старики вышли, Тийя резким тоном предостерегла сына: — Не смей обращаться с мудрецами Египта, словно с рабами!
— Они и есть рабы! Рабы жрецов Амона, собравших в своих руках больше земель и золота, чем мы! Если бы Тутмос дожил до коронации, он склонился бы перед жрецами, как все фараоны, которые…
Царица Тийя отвесила сыну звонкую пощечину.
— Не смей так говорить, пока твой брат еще жив!
Аменхотеп резко выдохнул и уставился на мать, подошедшую к Тутмосу.
Царица нежно погладила царевича по щеке. Ее любимый сын, храбрый и в битве, и в жизни. Они были так схожи — даже рыжеватыми волосами и светлыми глазами.
— Аменхотеп пришел повидаться с тобой, — прошептала Тийя, и пряди ее парика скользнули по лицу царевича.
Тутмос с трудом сел. Царица попыталась было помочь ему, но он жестом велел ей уйти:
— Оставь нас. Мы будем говорить наедине.
Тийя заколебалась.
— Все будет в порядке, — пообещал ей Тутмос.
Два египетских царевича посмотрели вслед уходящей матери. Лишь Анубис, кладущий сердце умершего на весы против перышка правды, знает наверняка, что произошло после того, как царица покинула покои. Но многие визири верят, что на суде сердце Аменхотепа перетянет перышко. Они думают, что оно отяжелело от злых деяний и что Амт, бог с телом льва и головой крокодила, пожрет его и обречет Аменхотепа на вечное забвение. Но какова бы ни была истина, той ночью наследный царевич, Тутмос, умер, и новый царевич занял его место.
1
 1351 год до н. э.
Перет. Сезон роста
1351 год до н. э.
Перет. Сезон роста
Когда солнце склонилось над Фивами, струя свои последние лучи над известняковыми утесами, наша длинная процессия зашагала по песку. В извилистой колонне, скользящей меж холмов, словно змея, первыми шли визири Верхнего и Нижнего Египта, за ними — жрецы Амона, а следом — сотни пришедших на похороны. В тени песок быстро остывал. Он набился мне в сандалии, а когда порыв ветра пронизывал мое тонкое льняное платье, я вздрагивала. Я вышла из процессии, и мне виден был саркофаг, который тянула на телеге упряжка быков — чтобы жители Египта знали, как богат и велик был наш царевич. Нефертити обзавидуется — она-то этого не видит.
«Я ей все расскажу, когда вернусь домой, — подумала я. — Если она не будет задаваться».
Лысоголовые жрецы шли позади нашей семьи, ибо мы важнее даже представителей богов. Они размахивали золотыми шариками, и идущий от них запах навел меня на мысль об огромных жуках, воняющих на ходу. Когда погребальная процессия добралась до входа в долину, грохот систрумов прекратился и плакальщики умолкли. На всех скалах собрались люди, чтобы взглянуть на царевича, и теперь они смотрели сверху, как верховный жрец Амона исполнил ритуал отмыкания уст, возвращая Тутмосу его чувства для загробной жизни. Жрец был младше визирей, но все равно люди, подобные моему отцу, отступили, считаясь с его силой, когда жрец коснулся золотым анком губ фигуры на саркофаге и провозгласил:
— Царственный сокол взлетел на небо! На его месте появился Аменхотеп Младший!
Между скал свистел ветер, и мне почудилось, будто я услышала шелест соколиных крыльев, когда наследный царевич освободился от своего тела и взошел на небо. Народ вокруг заерзал. Дети выглядывали между ног родителей, пытаясь разглядеть нового наследника. Я тоже вытянула шею.
— Где он? — шепотом спросила я. — Где Аменхотеп Младший?
— В гробнице, — ответил мой отец.
Его лысая голова тускло поблескивала в лучах заходящего солнца, а лицо в сгущающихся тенях приобрело ястребиные черты.
— Разве он не хочет, чтобы народ увидел его? — удивилась я.
— Нет, сенит. — Так отец называл меня: «сенит», малышка. — До тех пор, пока он не получит то, что было обещано его брату.
Я недоуменно нахмурилась:
— А что?
Отец стиснул зубы.
— Соправление, — ответил он.
Когда церемония окончилась, солдаты растянулись цепочкой, чтобы никто из простолюдинов не последовал за нами в долину; предполагалось, что туда никто не пойдет, кроме небольшой группы, в которую входила и я. Позади тяжело дышали быки, влекущие свой золотой груз по песку. Со всех сторон нас окружали скалы, высящиеся на фоне темнеющего неба.
— Мы будем подниматься наверх, — предупредил отец, и моя мать слегка побледнела.
Мы с ней были кошками — мы боялись мест, которых не могли понять, долин, в которых спящие фараоны смотрели из своих тайных покоев. Нефертити — та вошла бы в эту долину, не замешкавшись ни на миг; она бесстрашием была подобна соколу, как и наш отец.
Мы шли под жутковатый грохот систрумов; я смотрела, как на моих позолоченных сандалиях отражается угасающий свет. Когда мы поднялись на скалы, я остановилась, чтобы взглянуть на землю сверху вниз.
— Не останавливайся, — предостерег меня отец. — Иди дальше.
Мы продолжали с трудом идти через холмы, а быки с пыхтением прокладывали себе путь по камням. Теперь жрецы шли впереди нас и несли факелы, освещавшие нам путь. Затем верховный жрец заколебался, и я испугалась, что он заблудился в темноте.
— Отвяжите саркофаг и распрягите быков, — распорядился жрец, и я увидела высеченный в скале вход в гробницу.
Дети заерзали, зашумев четками, а женщины, позвякивая браслетами, принялись переглядываться. Потом я увидела узкую лестницу, ведущую под землю, и поняла их страхи.
— Мне это не нравится, — прошептала мать.
Жрецы освободили быков от ноши и взвалили позолоченный саркофаг на плечи. Потом отец крепче сжал мне руку, чтобы подбодрить меня, и мы последовали за нашим мертвым царевичем в его покои, от света заходящего солнца в непроглядную тьму.
Осторожно, чтобы не оступиться на камнях, мы спустились в скользкие внутренности земли, стараясь держаться поближе к жрецам с их факелами. Внутри гробницы их свет отбрасывал тени на стены, на которых было изображено двадцать лет жизни Тутмоса в Египте. Женщины танцевали, знатные вельможи охотились, царица Тийя подносила своему старшему сыну лотос с медом и вино. В поисках поддержки я прижалась к руке матери, и, когда она не откликнулась, я поняла, что она мысленно возносит молитвы Амону.
Внизу спертый воздух сделался сырым и к запаху гробницы добавился запах земли. В свете факелов появлялись и исчезали изображения: раскрашенные желтым женщины и смеющиеся мужчины, дети, опускающие цветы лотоса в воды Нила. Но самым страшным был синеликий бог подземного мира, с посохом и цепом Египта в руках.
— Осирис, — прошептала я, но меня никто не услышал.
Мы продолжали спускаться в самые потаенные глубины земли, а затем вошли в комнату с высоким сводом, и я ахнула. Здесь были собраны все сокровища, принадлежавшие царевичу: раскрашенные баржи, позолоченные колесницы, сандалии, отделанные мехом леопарда. Мы прошли через эту комнату и вступили в самую отдаленную погребальную камеру. Отец наклонился ко мне и прошептал:
— Не забывай, что я тебе говорил.
В пустой комнате бок о бок стояли фараон и его царица. В свете факелов нельзя было разглядеть ничего, кроме их силуэтов и длинных саркофагов усопшего царевича. Я почтительно поклонилась, и моя тетя сдержанно кивнула мне; она запомнила меня во время ее нечастых визитов в Ахмим. Отец никогда не брал ни Нефертити, ни меня в Фивы. Он держал нас подальше от дворца с его интригами и похвальбой придворных. Сейчас, в дрожащем свете факелов, я заметила, что царица не изменилась за те шесть лет, что я ее не видела. Она по-прежнему была маленькой и бледной. Ее светлые глаза оценивающе взглянули на меня, когда я протянула руки в приветствии. Интересно, что она думает о моей темной коже и необычно высоком росте? Я выпрямилась. Верховный жрец Амона открыл «Книгу мертвых» и принялся читать нараспев слова умирающих смертных, обращенные к богам.
— Позвольте душе моей прийти ко мне оттуда, где она есть. Придите за моей душой, о вы, Стражи небес. Пусть душа моя узрит мое тело, пусть она опочиет в моем мумифицированном теле, пусть оно никогда не будет уничтожено и не пострадает…
Я оглядела зал в поисках Аменхотепа Младшего. Он стоял в стороне от саркофага и каноп, сосудов, в которых внутренние органы Тутмоса должны были отправиться в загробную жизнь. Царевич был высок, выше меня, и красив, несмотря на светлые вьющиеся волосы. Я задумалась: можем ли мы ожидать от него великих свершений, если всегда предполагалось, что царствовать будет его брат? Аменхотеп передвинулся к изваянию богини Мут, и я вспомнила, что при жизни Тутмос очень любил кошек. С ним должны были похоронить его любимицу, Та-Мив, чье мумифицированное тельце лежало в отдельном золотом саркофаге. Я осторожно коснулась руки матери, и мать обернулась.
— Ее убили? — шепотом спросила я.
Мать, проследив за направлением моего взгляда, посмотрела на крохотный гробик рядом с саркофагом принца.
— Говорят, будто после смерти царевича она отказалась от пищи.
Верховный жрец затянул Песнь души, плач, обращенный к Осирису и богу с головой шакала, Анубису. Затем он закрыл «Книгу мертвых» и объявил:
— Благословение внутренних органов!
Царица Тийя сделала шаг вперед. Она опустилась на колени, встав прямо на землю, и по очереди поцеловала все канопы. Затем то же самое проделал фараон. Я увидела, как он резко обернулся, взглядом отыскивая в темноте младшего сына.
— Теперь ты, — приказал фараон.
Его младший сын не шелохнулся.
— Теперь ты! — прикрикнул фараон, и эхо многократно усилило его голос.
Все затаили дыхание. Я посмотрела на отца; он угрюмо покачал головой.
— Почему я должен склоняться перед ним? — с негодованием произнес Аменхотеп. — Он отдал бы Египет жрецам Амона, как и все цари до него!
Я в испуге прикрыла рот ладонью. На мгновение мне показалось, что сейчас Старший кинется через погребальную камеру, чтобы убить его. Но Аменхотеп был его единственным оставшимся в живых сыном, единственным законным наследником египетского трона, и народ ожидал, что его сделают соправителем отца, как всегда делалось с наследным царевичем, достигшим семнадцатилетия. Старший будет фараоном Верхнего Египта и Фив, а Аменхотепу предстоит править Нижним Египтом из Мемфиса. Если и этот его сын умрет, род Старшего пресечется. Царица быстро подошла к младшему сыну.
— Ты благословить внутренности твоего брата! — приказала она.
— Почему?
— Потому что он — царевич Египта!
— И я тоже! — яростно произнес Аменхотеп.
Царица Тийя сощурилась.
— Твой брат служил нашему царству, вступив в войско. Он был верховным жрецом Амона, посвященным богам.
Аменхотеп расхохотался.
— Так ты любила его сильнее потому, что он мог убивать то, что благословлял?
Царица Тийя гневно втянула воздух.
— Иди к своему отцу. Попроси его, чтобы он сделал тебя солдатом. А потом посмотрим, какой из тебя выйдет фараон.
Аменхотеп развернулся и порывисто склонился перед фараоном.
— Я стану воином, как мой брат, — поклялся он.
Подол его белого плаща скользнул по земле, и визири покачали головами.
— Мы с тобой вместе сможем возвысить Атона над Амоном, — пообещал царевич. — Мы сможем править так, как некогда представлял себе твой отец.
Фараон вцепился в свой посох, как будто тот мог поддержать его клонящуюся к концу жизнь.
— Это было ошибкой — растить тебя в Мемфисе, — заявил он. — Нужно было растить тебя вместе с твоим братом. Здесь, в Фивах.
Аменхотеп быстро поднялся и распрямил плечи.
— У тебя остался только я, отец. — Он протянул руку старику, завоевавшему дюжину стран. — Вот, возьми. Возможно, я не воин, но я построю царство, которое будет стоять вечно.
Когда стало понятно, что фараон не возьмет руку Аменхотепа, мой отец шагнул вперед, чтобы выручить принца из неловкого положения.
— Позволь твоему брату упокоиться с миром, — негромко попросил он.
Аменхотеп наградил своего отца взглядом, от которого даже Анубису стало бы не по себе.
До той поры, когда мы вернулись к баржам и поплыли через Нил и плеск воды заглушил наши голоса, никто не осмеливался заговорить.
— Он ненадежен, — сказал мой отец, когда мы уже плыли обратно в Ахмим. — На протяжении трех поколений наша семья давала женщин фараонам Египта. Но я не отдам свою дочь этому человеку.
Я завернулась поплотнее в шерстяной плащ. Отец говорил не обо мне. Он имел в виду мою сестру, Нефертити.
— Если Аменхотеп станет соправителем своего отца, ему потребуется главная жена, — сказала мать. — Ею станет либо Нефертити, либо Кийя. А если это будет Кийя…
Она не договорила, но все мы понимали, что она имеет в виду. Если это будет Кийя, то визирь Панахеси получит власть над Египтом. Это будет легко и логично — сделать его дочь царицей: Кийя уже замужем за Аменхотепом и почти три месяца как беременна его ребенком. Но если она станет главной женой, нашей семье придется склониться перед Панахеси, а это немыслимо.
Отец поерзал на подушках и задумался; слуги гребли на север.
— Нефертити было обещано, что она станет женой царя, — добавила моя мать. — Ты сам ей это говорил.
— Когда был жив Тутмос! Тогда все было спокойно и считалось, что Египтом будет править…
Отец закрыл глаза.
Я смотрела, как над баркой восходит луна. Когда времени прошло достаточно, я решила, что уже безопасно будет задать вопрос.
— Отец, а что такое Атон?
Отец открыл глаза.
— Солнце, — ответил он, глядя на мою мать.
Они обменивались не словами, но мыслями.
— Но ведь Амон-Ра — бог солнца.
— А Атон — само солнце, — объяснил отец.
Я ничего не поняла.
— Но почему Аменхотеп хочет построить храмы богу солнца, о котором никто не слыхал?
— Потому что, если он построит храмы Атону, жрецы Амона станут не нужны.
Я была потрясена.
— Он хочет избавиться от них?
— Да. — Отец кивнул. — И пойти против законов Маат.
Я задохнулась. Никто не идет против богини истины и справедливости.
— Но почему?
— Потому что наследный царевич слаб, — сказал отец. — Потому что он слабый и ограниченный человек, и тебе следует научиться распознавать людей, которые боятся других людей, наделенных властью, Мутноджмет.
Мать бросила на него быстрый взгляд. То, что сказал сейчас мой отец, было государственной изменой, но его никто не услышал за плеском весел.
Нефертити ждала нас. Она поправлялась после лихорадки, но даже и сейчас сидела в саду, примостившись у пруда с лотосами, и лунный свет играл на ее изящных руках. Завидев нас, сестра встала, и я ощутила некое торжество при мысли о том, что я присутствовала при погребении царевича, а она была слишком больна, чтобы отправиться туда. Однако же когда я увидела написанное на лице Нефертити нетерпение, ощущение вины быстро смыло это чувство.
— Ну, как оно?
Мне хотелось, чтобы она меня порасспрашивала, но я не смогла проявить жестокость, какую, несомненно, проявила бы сама Нефертити.
— Просто потрясающе! — выпалила я. — А саркофаг…
— Ты почему не в постели? — сердито спросила моя мать.
Она не была матерью Нефертити — только моей. Мать Нефертити умерла, когда той было два года; она была царевной Миттани и первой женой моего отца. Именно она дала Нефертити это имя, означающее «Красавица грядет». Хоть мы с Нефертити и родственницы, мы совершенно несхожи. Нефертити миниатюрная и бронзовокожая, с черными волосами, темными глазами и высокими скулами, а я — смуглая, и лицо у меня узкое и совершенно неприметное. Мать после рождения не стала давать мне имя, связанное с красотой. Она назвала меня Мутноджмет — «Милое дитя богини Мут».
— Нефертити должна лежать в постели, — сказал отец. — Она нездорова.
И хотя он должен бы был сделать выговор моей сестре, он обратился ко мне.
— Со мной все будет в порядке, — пообещала Нефертити. — Видишь, мне уже лучше.
Она улыбнулась отцу, и я повернулась взглянуть на его реакцию. Как и всегда, отец посмотрел на нее ласково.
— И тем не менее у тебя жар, — отрезала мать, — и ты пойдешь в постель.
Мы подчинились и отправились в дом; когда мы улеглись на наши тростниковые циновки, Нефертити легла на спину. Ее профиль отчетливо выделялся в лунном свете.
— Ну так как оно было?
— Страшновато, — призналась я. — Гробница была огромная. И темная.
— А люди? Много там было народу?
— О, сотни. Может, даже тысячи.
Нефертити вздохнула. Она упустила шанс покрасоваться.
— А новый наследник трона?
Я заколебалась.
— Он…
Нефертити уселась и кивнула мне, чтобы я продолжала.
— Он странный, — прошептала я.
Темные глаза Нефертити блестели в лунном свете.
— Что ты имеешь в виду?
— Он одержим Атоном.
— Чем-чем?
— Символом солнца, — пояснила я. — Как можно чтить образ солнца, а не Амона-Ра, управляющего им?
Нефертити это не взволновало.
— Что еще?
— Еще он высокий.
— Ну, не может быть, чтобы он был намного выше тебя.
Я пропустила мимо ушей ее шпильку.
— Он намного выше. На две головы выше отца.
Нефертити обхватила себя руками за колени.
— Что ж, это должно быть интересно.
Я нахмурилась:
— Что?
Нефертити не объяснила.
— Так что должно быть интересно? — повторила я.
— Брак, — непринужденно отозвалась сестра, укладываясь обратно и натягивая на себя льняное покрывало. — Теперь, когда коронация близка, Аменхотеп должен выбрать главную жену. Почему бы не меня?
Почему бы не ее? Она красива, она получила хорошее образование, она дочь царевны Миттани. Я ощутила укол зависти, но вместе с ним — и страх. Нефертити была рядом всегда, всю мою жизнь.
— Конечно же, ты поедешь со мной, — зевнув, произнесла она. — Ты будешь моей главной придворной дамой, пока не вырастешь достаточно, чтобы выйти замуж.
— Мать не позволит мне отправиться во дворец одной.
— А ты и не будешь одна. Она тоже поедет.
— Во дворец?! — воскликнула я.
— Мутни, семья главной жены едет с ней. Наш отец — величайший вельможа этой страны. Наша тетя — царица. Кто посмеет возразить?
Посреди ночи, когда за стенами нашей комнаты лежала непроглядная тьма, к нам вошла служанка и подняла лампу над головой Нефертити. Я проснулась от яркого света и увидела лицо моей сестры, освещенное золотистым светом, безукоризненное даже во сне.
— Госпожа! — позвала служанка, но Нефертити не шелохнулась. — Госпожа! — повторила она уже погромче. Она взглянула на меня, и я растолкала Нефертити. — Госпожа, визирь Эйе хочет поговорить с тобой.
Я быстро села.
— Что-то случилось?
Но Нефертити не произнесла ни слова. Она быстро накинула платье, сняла со стены масляную лампу и прикрыла трепещущий огонек ладонью.
— Что случилось? — спросила я, но она не ответила, лишь дверь тихо затворилась за нею.
Я ждала возвращения сестры; к тому времени, как она вернулась, луна уже превратилась в желтый диск высоко в небе. Я с трудом приподнялась с соломенного тюфяка.
— Где ты была?
— Отец хотел поговорить со мной.
— С одной? — недоверчиво переспросила я. — Посреди ночи?
— Ночь лучше всего — все пронырливые слуги спят.
Тут до меня наконец-то дошло.
— Он не хочет, чтобы ты выходила замуж за Аменхотепа, — сказала я.
Нефертити повела плечом, изображая застенчивость.
— Я не боюсь Кийи.
— Отец беспокоится из-за визиря Панахеси.
— Я хочу быть главной женой, Мутноджмет. Я хочу быть царицей Египта, как моя бабушка была царицей Миттани.
Нефертити уселась на тюфяк. Мы посидели молча, освещаемые лишь светом лампы, которую она принесла с собой.
— И что сказал отец?
Нефертити снова повела плечом.
— Он рассказал тебе, что произошло в гробнице?
— Только то что царевич отказался целовать канопы, — отмахнулась Нефертити. — Какое это имеет значение, если в результате я буду сидеть на троне Хора? Аменхотеп будет фараоном Египта, — добавила она таким тоном, словно это решало все. — И отец уже сказал «да».
— Он сказал «да»? — Я сбросила льняное покрывало. — Но он не мог! Он сказал, что царевич ненадежен! Он поклялся, что никогда не отдаст дочь этому человеку!
— Он передумал. — В неровном свете лампы я увидела, как Нефертити улеглась и укрылась. — Ты не принесешь мне сока с кухни? — попросила она.
— Сейчас ночь, — напряженно, неодобрительно заметила я.
— Но я же болею, — напомнила Нефертити. — У меня лихорадка.
Я заколебалась.
— Пожалуйста, Мутни. Ну пожалуйста!
Ладно, схожу — но только потому, что у нее лихорадка.
На следующее утро наставники окончили наши уроки пораньше. Нефертити не выказывала никаких признаков нездоровья.
— Но нам не следует утомлять ее, — сказал отец.
Мать с ним не согласилась:
— Раз она скоро выйдет замуж, ей нужно успеть узнать побольше. Она должна научиться всему, чему можно.
Моя мать, выросшая не среди знати, в отличие от первой жены отца, понимала, как важно хорошее образование, ибо ей пришлось самой прокладывать себе дорогу — в юности она была женой простого деревенского жреца. Но отец поднял ладонь:
— Чему еще ей учиться? Она превосходно знает языки, а в письме она искуснее дворцовых писцов.
— Она не знает лекарственных трав, как Мутни, — заметила мать.
Я задрала нос, но отец сказал лишь:
— Это дар Мутноджмет. У Нефертити другие таланты.
Мы дружно посмотрели на сестру, сделавшуюся центром внимания; она сидела в своем облегающем белом платье, опустив ноги в пруд с лотосами. Ранофер, сын местного врача, принес ей цветы, охапку белых лилий, перевязанную веревочкой. Вообще-то он вроде как был моим учителем и должен был преподавать мне тайны врачевания и трав, но он куда больше времени глазел на мою сестру.
— Нефертити очаровывает людей, — одобрительно произнес отец, — а тех, кого не очаровывает, она с легкостью может перехитрить. Зачем ей травы и врачевание, если она хочет властвовать над людьми?
Мать нахмурилась:
— Если это одобрит царица.
— Царица — моя сестра, — просто произнес отец. — Она возьмет Нефертити в великие жены фараона.
Но я заметила в его глазах беспокойство. Принц, осквернивший погребальную камеру родного брата, человек, не способный совладать со своими чувствами… Что из него будет за фараон? Что за муж?
Мы стояли и втроем смотрели на Нефертити, пока она не заметила, что мы за ней наблюдаем. Она поманила меня пальцем. Я подошла к пруду, у которого сидели и смеялись моя сестра и мой наставник.
— Добрый день, Мутноджмет.
Ранофер улыбнулся мне, и на мгновение я позабыла, что хотела ему сказать.
— Сегодня я попробовала алоэ, — сказала я наконец. — Оно вылечило ожоги нашей служанке.
— В самом деле? — Ранофер сел. — Что еще?
— Я смешала его с лавандой, и опухоль сделалась меньше.
Ранофер широко улыбнулся:
— Ты превосходишь мои знания, госпожа моя.
Я просияла, гордясь своей изобретательностью.
— Теперь я хочу попробовать…
— Поболтать о чем-нибудь интересном? — Нефертити вздохнула и откинулась назад, купаясь в солнечном свете. — Скажи, о чем сейчас говорил отец?
— Когда — сейчас?
Из меня ужасно скверная лгунья.
— Да. Когда вы там стояли и подсматривали за мной.
Я покраснела.
— Он говорил о твоем будущем.
Нефертити села; пряди черных волос скользнули по подбородку.
— И?
Я помедлила, не понимая, следует ли мне рассказывать ей об остальном. Нефертити ждала.
— И что, возможно, сюда приедет царица, — наконец отозвалась я.
С лица Ранофера тут же исчезла улыбка.
— Но если она приедет, — он повысил голос, — вы покинете Ахмим!
Нефертити недовольно взглянула на меня поверх головы Ранофера.
— Не волнуйся, — беспечно пообещала она. — Ничего не случится.
На миг между ними что-то повисло, потом Ранофер взял Нефертити за руку, и они встали.
— Куда вы? — воскликнула я, но Нефертити не ответила, и потому я обратилась к моему наставнику: — А как же наш урок?
— Позже.
Ранофер улыбнулся, но взгляд его был устремлен на мою сестру.
К нам дошла весть, что царица намерена посетить наше поместье в Ахмиме. Нефертити тайком ходила молиться в наш семейный храм, ставя к ногам Амона чаши с нашим лучшим медовым вином и обещая ему все, что только можно, если только он приведет царицу в наш город. Теперь, когда Амон, похоже, исполнил ее просьбу, Нефертити пришла в такое волнение, что сделалась невыносима. Пока сестра прихорашивалась, мать носилась по дому, набрасываясь и на рабов, и на слуг.
— Мутни, позаботься, чтобы полотенца были чистые. Нефертити — чаши, пожалуйста. Проследи, чтобы слуги их вымыли. Все до единой!
Слуги вытряхивали отделанные бахромой драпировки со стен, а мать расставляла наши лучшие инкрустированные кресла в зале приемов — туда царица войдет первым делом. Царица Тийя приходилась моему отцу сестрой; она была женщиной суровой и не одобрила бы неряшливости. Полы на кухне были отдраены до блеска, хотя царица и близко бы не подошла к кухне, а в пруд с лотосами запустили оранжевых рыб. Даже Нефертити что-то делала — она и вправду проверила, вымыты ли чаши, а не просто сделала вид. Через шесть дней Аменхотеп Младший будет коронован в Карнаке и станет соправителем своего отца. Даже я понимала, что означает этот визит. Царица не появлялась в Ахмиме больше шести лет. Причина у нынешнего визита может быть только одна — брак.
— Мутни, пойди помоги сестре одеться, — велела мать.
Нефертити была в нашей комнате — стояла перед зеркалом. Она отбросила темные волосы с лица, воображая, что на ней корона Египта.
— Да, — прошептала она, — я буду величайшей царицей, равной которой Египет еще не видал.
Я фыркнула.
— Ни одна царица не превзойдет нашу тетю.
Нефертити развернулась.
— Есть еще Хатшепсут. А наша тетя не носит двойную корону Египта.
— Ее может носить только фараон!
— И что же она получает, хотя командует войском и ведет переговоры с иноземными правителями? Ничего! Всю славу пожинает ее муж. Когда я буду царицей, мое имя войдет в вечность!
Я знала, что нет смысла спорить с Нефертити, когда она в таком состоянии. Я смешала сурьму, протянула кувшинчик сестре и стала смотреть, как она красится. Нефертити накрасила глаза, подвела брови и стала выглядеть старше своих пятнадцати лет.
— Ты вправду думаешь, что станешь главной женой? — спросила я.
— А кого наша тетя предпочтет видеть матерью наследника? Простолюдинку, — Нефертити наморщила нос, — или свою племянницу?
Я была простолюдинкой, но Нефертити не это имела в виду. Она говорила о дочери Панахеси, Кийе, которая была дочерью знатной женщины, — а Нефертити была внучкой царицы.
— Найди мое льняное платье и золотой пояс, — сказала Нефертити.
Я прищурилась.
— Если ты выходишь замуж, это еще не значит, что я твоя рабыня!
Нефертити улыбнулась.
— Ну пожалуйста, Мутни! Я знаю, что без тебя не справлюсь.
И она продолжила глядеться в зеркало, пока я перекапывала ее сундуки в поисках платья, которое она надевала только на празднества. Потом я вытащила золотой пояс, но Нефертити запротестовала:
— Нет, с ониксом, а не с бирюзой!
— У тебя что, нет для этого слуг? — возмутилась я.
Нефертити пропустила мои слова мимо ушей и протянула руку за поясом. Лично мне тот, который с бирюзой, нравился больше. Раздался стук, и в дверном проеме появилась служанка моей матери, раскрасневшаяся от волнения.
— Ваша мать велит поторопиться! — выкрикнула девушка. — Наблюдатели заметили караван!
Нефертити посмотрела на меня.
— Подумай об этом, Мутни. Ты будешь сестрой царицы Египта.
— Если ты понравишься царице, — отрезала я.
— Конечно понравлюсь.
Нефертити снова взглянула на свое отражение, на хрупкие плечи цвета меда и пышные черные волосы.
— Я буду мила и очаровательна. Ты только подумай, что мы сможем делать, когда поселимся во дворце!
— Мы и тут много чего можем делать, — возразила я. — Чем плох Ахмим?
Нефертити еще раз прошлась расческой по волосам.
— Тебе не хочется повидать Карнак и Мемфис и стать придворной?
— Отец — придворный. Он говорит, что устает от бесконечных разговоров о политике.
— Ну, это отец. Он привык каждый день бывать во дворце. А что нам делать тут? — недовольным тоном осведомилась Нефертити. — Ждать, пока царевич умрет, чтобы нам можно было отправиться посмотреть мир?
Я задохнулась от ее слов.
— Нефертити!
Сестра весело рассмеялась. Тут в дверном проеме остановилась, тяжело дыша, моя мать. На ней были ее лучшие украшения и тяжелые браслеты, которых я раньше не видела.
— Ты готова?
Нефертити встала. Ее платье было полупрозрачным, и мне стало завидно при виде того, как ткань натянулась на ее бедрах и подчеркнула тонкую талию.
— Подожди. — Мать взмахнула рукой. — Нужно еще ожерелье. Мутни, пойди принеси золотое ожерелье.
Я ахнула:
— Твое ожерелье?
— Конечно. Поскорее! Стражник пропустит тебя в сокровищницу.
Меня потрясло то, что мать позволила Нефертити надеть ожерелье, которое отец подарил ей на свадьбу. Похоже, я недооценила, насколько визит нашей тети важен для нее. Для всех нас. Я поспешила в сокровищницу, расположенную в дальней части дома; стражник поднял на меня взгляд и улыбнулся. Я была выше его на голову. Я покраснела.
— Мать хочет ожерелье для моей сестры.
— Золотое ожерелье?
— А что, тут есть другое?
Стражник вскинул голову.
— Да… Должно быть, что-то важное творится. Говорят, сегодня приезжает царица?
Я подбоченилась, давая ему понять, что я жду.
— Ну ладно, ладно…
Он спустился в подземную комнату и вернулся с драгоценным украшением, которое должно было когда-нибудь стать моим.
— Должно быть, твоя сестра выходит замуж, — сказал он.
Я протянула руку.
— Ожерелье.
— Из нее получится хорошая царица.
— Все так говорят.
Стражник улыбнулся с таким видом, словно знал, что я об этом думаю, — вот ведь любопытный старый осел! — потом протянул мне ожерелье, и я выхватила украшение у него из рук. Я помчалась обратно к себе в комнату, прижимая ожерелье к груди, словно награду. Нефертити посмотрела на мою мать:
— Ты уверена?
Она взглянула на золото, и в ее глазах отразился его блеск.
Мать кивнула. Она надела ожерелье сестре на шею, застегнула, и мы обе отступили. Ожерелье обхватило шею Нефертити переплетением лотосов и стекло ей на грудь капельками разной длины. Хорошо, что Нефертити на два года старше меня. Если бы мне нужно было выходить замуж первой, рядом с ней меня никто бы не выбрал.
— Теперь мы готовы, — сказала мать.
Она двинулась в зал приемов, где расположилась царица. Нам слышно было, как она разговаривает с отцом: тихо, резко и властно.
— Войдете, когда вас позовут, — быстро произнесла мать. — На столике лежат подарки из нашей сокровищницы. Когда будете входить — возьмете их. Тот, который больше, пусть несет Нефертити.
Затем она нырнула внутрь, а мы остались ждать, пока нас вызовут.
Нефертити принялась расхаживать взад-вперед.
— Отчего бы вдруг ей не выбрать меня в жены ее сыну? Я — дитя ее брата, а наш отец занимает самое высокое положение.
— Конечно, она тебя выберет.
— Но выберет ли она меня в главные жены? Я не соглашусь на меньшее, Мутни. Я не стану младшей женой, которую фараон навещает раз в два сезона. Уж лучше я выйду за сына какого-нибудь вельможи.
— Она возьмет тебя.
— Конечно, на самом деле это зависит от Аменхотепа. — Нефертити остановилась, и я поняла, что она разговаривает сама с собой. — В конце концов, выбирать будет он. Именно он даст сына мне, а не ей.
Я скривилась при виде такого упорства.
— Но я никогда не увижусь с ним, если не очарую его мать.
— Тебе это удастся.
Нефертити взглянула на меня с таким видом, словно лишь сейчас заметила мое присутствие.
— Правда?
— Да. — Я села в отцовское кресло из черного дерева и подозвала к себе одну из наших домашних кошек. — Но откуда ты знаешь, что полюбишь его? — поинтересовалась я.
Нефертити быстро взглянула на меня.
— Да оттуда, что он будет фараоном Египта, — ответила она. — И мне надоел Ахмим.
Я подумала о Ранофере, о его улыбке. Что, он ей тоже надоел? Тут из зала приемов вышла служанка матери, и кошка от меня удрала.
— Нам идти? — нетерпеливо спросила Нефертити.
— Да, госпожа.
Нефертити посмотрела на меня. Щеки ее горели.
— Иди позади меня, Мутни. Пусть она увидит меня первой и полюбит.
Мы вошли в зал приемов с подарками из нашей сокровищницы, и зал показался мне больше, чем я помнила. Нарисованные на стене тростниковые заводи и синяя река на мозаичном полу выглядели ярче. Слуги постарались на славу; они даже смыли пятно с драпировки над головой у матери. Царица выглядела так же, как и тогда, в гробнице. Суровое лицо в обрамлении пышного нубийского парика. Если Нефертити когда-либо станет царицей, ей предстоит носить такой парик. Мы подошли к возвышению, на котором восседала царица. Она сидела в кресле с самыми широкими подлокотниками, какие только нашлись у нас в доме, на большой, набитой перьями подушке. На коленях у нее устроился черный кот. Рука царицы лежала на спинке у кота, а ожерелье ее было из золота и лазурита.
Глашатай царицы выступил вперед и повел рукой:
— Ваше величество — ваша племянница, госпожа Нефертити!
Нефертити протянула свой подарок, и слуга принял у нее позолоченную чашу. Тетя похлопала по пустому креслу слева от нее, давая понять, что Нефертити следует сесть рядом с ней. Пока сестра поднималась на помост, тетя не отрывала взгляда от ее лица. Нефертити была прекрасна той красотой, что приковывает внимание даже цариц.
— Ваше величество — ваша племянница, госпожа Мутноджмет!
Я выступила вперед, и тетя удивленно прищурилась. Она посмотрела на шкатулку из бирюзы, которую я ей протянула, и улыбнулась, признаваясь, что в присутствии Нефертити она позабыла обо мне.
— Ты выросла высокой, — заметила царица.
— Да, ваше величество, но не такой изящной, как Нефертити.
Мать одобрительно кивнула. Я перевела разговор на причину, приведшую царицу в Ахмим. Мы все посмотрели на мою сестру; та попыталась не сиять слишком явно.
— Она прекрасна, Эйе. Думаю, она пошла скорее в свою мать, чем в тебя.
Отец рассмеялся.
— А еще она талантлива. Она умеет петь. И танцевать.
— А умна ли она?
— Конечно. И сильна. — Отец многозначительно понизил голос. — Она сможет направлять его страсти и сдерживать его.
Тетя снова посмотрела на Нефертити, явно размышляя, правда ли это.
— Но если она выйдет за него замуж, она должна стать главной женой, — добавил отец. — Тогда она сможет перевести его интерес от Атона обратно к Амону и к менее опасным взглядам.
Царица повернулась к моей сестре.
— Что ты на это скажешь? — прямо спросила она.
— Я сделаю то, что от меня потребуется, ваше величество. Я буду развлекать царевича и рожу ему детей. И я буду покорной служанкой Амона.
Наши с Нефертити взгляды встретились, и я опустила голову, силясь сдержать улыбку.
— Служанкой Амона, — задумчиво повторила царица. — Если бы мой сын был наделен таким здравым смыслом!
— Из двух моих детей у нее более сильная воля, — сказал отец. — Если кто и сможет повлиять на него, так это она.
— А Кийя слаба, — признала царица. — Она не справится с этим делом. Он хочет сделать главной женой ее, но я этого не допущу.
— Как только он увидит Нефертити, он позабудет про Кийю, — пообещал отец.
— Отец Кийи — визирь, — предостерегающе произнесла тетя. — Он будет недоволен, что я предпочла твою дочь его дочери.
Отец пожал плечами:
— Но этого следовало бы ожидать. Мы же семья.
Поколебавшись мгновение, царица встала.
— Тогда решено.
Я услышала радостный вздох Нефертити. Все закончилось так же быстро, как и началось. Царица спустилась с возвышения — маленькая, но неукротимая, — а кот последовал за нею на золоченом поводке.
— Надеюсь, она исполнит твои обещания, Эйе. На кону будущее Египта, — мрачно предупредила она.
В течение трех дней слуги носились из комнаты в комнату, укладывая белье, одежду и украшения в корзины. Повсюду стояли полупустые сундуки с алебастровыми, стеклянными и керамическими сосудами, ожидающими упаковки. Отец наблюдал за этой беготней с явственным удовольствием. Брак Нефертити означал, что мы будем жить во дворце Мальгатта в Фивах вместе с ним, и теперь он будет видеть нас чаще.
— Мутни, перестань
бездельничать! — прикрикнула на меня мать. — Займись чем-нибудь!
— Но Нефертити же бездельничает! — ляпнула я.
Сестра сидела в другом углу комнаты, примеряя наряды и подбирая к ним стеклянные украшения.
— Нефертити! — прикрикнула мать и на нее. — Ты еще успеешь накрасоваться перед зеркалом в Мальгатте!
Нефертити драматически вздохнула, потом подхватила охапку платьев и бросила их в корзину. Мать покачала головой, а сестра отправилась следить за тем, как будут грузить семнадцать сундуков с ее вещами. Со двора донесся ее голос: она велела рабу быть осторожнее, потому что ее корзины стоят больше, чем мы заплатили за него. Я посмотрела на мать. Та вздохнула. У меня никак в голове не укладывалось, что моя сестра станет царицей.
Тогда все изменится.
Мы покинем Ахмим. Это поместье останется нашим, но кто знает, увидим ли мы его еще когда-либо?
— Как ты думаешь, мы вернемся? — спросила я.
Мать выпрямилась. Я заметила, как она посмотрела на пруды, у которых мы с сестрой играли в детстве, а потом на наш семейный храм Амона.
— Надеюсь, — ответила она. — Здесь мы были семьей. Здесь наш дом.
— Но теперь нашим домом будут Фивы.
Мать тяжело вздохнула.
— Да. Твой отец хочет этого. И твоя сестра.
— А ты этого хочешь? — тихо спросила я.
Мать взглянула в сторону комнаты, которую она делила с отцом. Она ужасно скучала по нему, когда он уезжал. Теперь она сможет быть рядом с ним.
— Я хочу быть с моим мужем, — призналась она, — и хочу, чтобы у моих детей было больше возможностей.
Мы посмотрели на Нефертити, отдающую приказы слугам во дворе.
— Она будет царицей Египта, — с некоторым трепетом произнесла мать. — Подумать только — наша Нефертити, которой всего пятнадцать!
— А я?
Мать улыбнулась.
— А ты будешь сестрой главной жены царя. Это немало.
— Но за кого я выйду замуж?
— Тебе всего тринадцать! — воскликнула мать, и по лицу ее скользнула тень.
Я была единственным ребенком, которого даровала ей богиня Таварет. Как только я выйду замуж, у нее не останется никого. Я тут же пожалела, что заговорила об этом.
— Может, я и не выйду замуж, — быстро произнесла я. — Может, я стану жрицей.
Мать кивнула, но я видела, что она думает о том времени, когда останется одна.
2
 Фивы
19 фар пути
Фивы
19 фар пути
Наша барка готова была к отплытию в Фивы через четыре дня после визита тети в Ахмим. Солнце, поднявшееся над храмами нашего города, застало меня в моем маленьком садике с травами; я сорвала листик мирриса, понюхала его и закрыла глаза. Я буду очень скучать по Ахмиму.
— Не ходи ты с таким унылым видом, — раздался сзади голос сестры. — Для тебя найдется достаточно садов в Мальгатте.
— Откуда тебе знать?
Я посмотрела на мои любовно ухоженные растения. Васильки, мандрагора, маки, маленькое гранатовое дерево, которое мы с Ранофером посадили вместе.
— Что значит — откуда? Ты будешь сестрой главной жены царя. Если там нет садов, я прикажу их устроить!
Я рассмеялась, и Нефертити присоединилась к моему смеху. Она взяла меня за руку.
— И кто знает? Может, мы построим для тебя целый храм и сделаем тебя богиней сада!
— Нефертити, не говори так!
— Через два дня я выйду замуж за бога, а значит, стану богиней, а ты — сестрой богини. Ты станешь божеством по родству, — непочтительно пошутила она.
Наша семья была слишком близка к фараонам Египта, чтобы верить в их божественную природу так, как в нее верили простолюдины, — так, как им велели верить, чтобы они не оспаривали власть фараонов. Отец объяснил мне это однажды вечером, и я боялась, что следом он скажет, что Амон-Ра тоже ненастоящий, но этого он не сказал. Есть вещи, в которые веришь удобства ради, — а есть слишком священные, чтобы оспорить их хоть словом.
Невзирая на обещания Нефертити, мне было жалко покидать мой маленький сад. Я взяла с собой столько трав, сколько могла, рассадив их по маленьким горшочкам, и велела слугам заботиться об остальных. Они обещали, но мне не верилось, что они и вправду будут уделять внимание ююбе или поливать мандрагору столько, сколько ей требуется.
Путешествие из Ахмима в Фивы было недолгим. Наша барка пробралась через тростники и рогоз и поплыла по мутным водам Нила на юг, к городу фараонов. Отец улыбнулся сестре с носа барки, а она, восседая в кресле под навесом, улыбнулась ему в ответ. Потом он поманил меня пальцем.
— На солнце у тебя глаза, как у кошки, — сказал он. — Зеленые, словно изумруды.
— Как и у мамы, — ответила я.
— Да, — согласился отец. Но он подозвал меня не затем, чтобы побеседовать о моих глазах. — Мутноджмет, в грядущие дни твоя сестра будет нуждаться в тебе. Времена нынче опасные. Когда на трон восходит новый фараон, это всегда сопряжено с неизвестностью, и сейчас — более, чем когда-либо. Ты станешь главной дамой при твоей сестре, но ты должна быть очень осторожна во всем, что говоришь и делаешь. Я знаю, что ты честна. — Он улыбнулся. — Но иногда честность — это недостаток. Двор — не место для честности. Будь осторожна с Аменхотепом.
Отец посмотрел на реку. На берегу висели рыбачьи сети. В это время дня всякие работы прекращались.
— Кроме того, ты должна управлять Нефертити.
Я удивленно уставилась на него:
— Как?
— Давая ей советы. Ты терпелива, и ты умеешь обращаться с людьми.
Я покраснела. Отец никогда прежде не отзывался обо мне так.
— Нефертити вспыльчива. И я боюсь…
Отец покачал головой, но так и не договорил, чего же он боится.
— Ты сказал тете Тийе, что Нефертити сможет сдерживать царевича. Но зачем его сдерживать?
— Потому что он тоже вспыльчив. И честолюбив.
— Но разве честолюбие — это плохо?
— Такое — да. — Отец накрыл мою ладонь своей. — Ты сама увидишь. Просто смотри внимательно вокруг, котеночек, и будь начеку. Если что-то случится, первым делом иди ко мне.
Отец понял, по какому руслу устремились мои мысли, и улыбнулся.
— Не надо так беспокоиться. Все не так уж плохо. В конце концов, это не слишком большая цена за корону Египта. — Он взглядом указал на берег. — Мы уже почти приплыли.
Я посмотрела вперед. Теперь, когда мы приблизились ко дворцу, вокруг стало больше судов, длинных кораблей с треугольными парусами, как и у нас. Женщины подбегали к бортам кораблей, чтобы бросить взгляд на нашу барку и рассмотреть, кто там есть. Золотой вымпел, реющий над мачтой, указывал, что на этом корабле плывет первый вельможа Старшего, и все, должно быть, знали, что эта барка несет будущую царицу Египта. Нефертити исчезла в каюте и появилась вновь, облаченная в новое платье. На груди у нее, сверкая на солнце, висели редкостные драгоценности, оставленные тетей. Нефертити подошла и встала рядом со мной на носу, подставив лицо прохладным брызгам.
— Великий Осирис! — Я указала вперед. — Смотри!
На берегу стояло пять десятков солдат и не менее двух сотен слуг, и все они ожидали нашего прибытия.
Первым с корабля спустился отец, за ним — мать, а потом уже Нефертити и я. Таково было соподчинение в нашей семье. Интересно, а как изменится иерархия после коронации моей сестры?
— Гляньте на носилки! — воскликнула я.
Носилки были украшены золотом и лазуритом, а шесты у них были из черного дерева.
— Должно быть, это носилки Старшего, — произнесла пораженная Нефертити.
Нам помогли забраться в носилки, каждому — в свою занавешенную кабинку, и я отодвинула занавеску, чтобы во второй раз взглянуть на Фивы, сияющие под послеполуденным солнцем. Я не понимала, как Нефертити может спокойно сидеть в носилках, если она никогда прежде не видала Фивы. Но я видела ее тень, горделивую и прямую, в середине носилок; она сдерживалась, невзирая на то, что нас сейчас несли по городу, куда отец никогда нас не брал. Дюжина флейтистов сопровождала нас, пока мы проплывали мимо домов из песчаника и сотен зевак. Я пожалела, что мы с матерью в разных носилках; мне хотелось бы разделить ее радость при виде акробатов и музыкантов, развлекающих собравшиеся толпы. Мы миновали храм Аменхотепа Великолепного и две огромные статуи, изображающие его в виде бога. Потом на горизонте блеснуло озеро, окруженное пустыней. Я чуть не выпала из носилок, так мне хотелось его разглядеть. Это было рукотворное озеро, вырытое в форме полумесяца; оно окружало дворец. Там, где полагалось бы находиться песку и пальмам, по водной глади скользили лодки с маленькими парусами, и я вспомнила рассказ отца о том, что Аменхотеп Великолепный создал это озеро в знак своей любви к царице Тийе, и о том, что подобного ему нет во всем Египте. Оно сияло под солнцем, словно жидкий лазурит и серебро, и, когда мы приблизились к воротам дворца, толпа отступила.
Я быстро откинулась на подушки и опустила занавески. Мне не хотелось выглядеть деревенской девчонкой, никогда не бывавшей за пределами Ахмима. Впрочем, даже с опущенными занавесками я поняла, когда мы вошли в пределы дворца. На дорогу легла тень деревьев, и мне видны были очертания маленьких храмов, домов чиновников, царской мастерской и маленьких, приземистых жилищ слуг. Носильщики поднялись по лестнице и наверху опустили носилки. Когда мы раздвинули занавески, перед нами раскинулись все Фивы: озеро в форме полумесяца, глинобитные дома, рынки, поля, а за всем этим — Нил.
Отец стряхнул пылинки со своего схенти
[63] и объявил слугам:
— Сейчас нас препроводят в наши покои, и там мы разберем вещи. Когда мы вымоемся и переоденемся, мы отправимся на встречу со Старшим.
Слуги низко поклонились в знак почтения, и я поняла, что на мать произвела впечатление власть, которой ее супруг обладал в Фивах. В Ахмиме он был просто нашим отцом, человеком, который любил читать у пруда с лотосами и посещать храм Амона, чтобы полюбоваться, как солнце садится за полями. Но во дворце он был визирем Эйе, одним из самых уважаемых людей во всем царстве.
Появился молодой слуга, щеголяющий юношеским локоном. Он был изящен, а его схенти было отделано золотом. Лишь слуги самого фараона носили такую одежду.
— Я отведу вас в ваши комнаты. — Он двинулся вперед. — Почтенный визирь Эйе и его супруга будут жить в покоях слева от покоев фараона. Справа оттуда — покои царевича, а рядом с ними комнаты госпожи Нефертити и госпожи Мутноджмет.
Позади слуги проворно подхватили нашу дюжину сундуков. Дворец был построен в форме анка, центром которого был фараон. Вокруг во внутренних двориках располагались покои его визирей, и, когда мы проходили через них, женщины и дети останавливались, чтобы посмотреть на нашу процессию. «Вот какой теперь будет наша жизнь», — подумала я. Мир тех, кто смотрит.
Наш проводник провел нас через несколько двориков, вымощенных яркой плиткой, с росписями, изображающими заросли папируса, и дошел до покоев, в которых остановился.
— Это покои визиря Эйе, — церемонно провозгласил слуга.
Он распахнул дверь, и из каждой ниши в комнате на нас уставились гранитные статуи. Комната была светлой и роскошно обставленной, с тростниковыми корзинами и деревянными столами с резными ножками из слоновой кости.
— Отведи моих дочерей в их комнаты, — распорядился отец, — а потом сопроводи их в Большой зал к ужину.
— Мутни, оденься сегодня как следует, — предупредила мать, ставя меня в неловкое положение перед слугами. — Нефертити, там будет царевич.
— С Кийей? — уточнила Нефертити.
— Да, — ответил отец. — Мы договорились, что украшения и наряды принесут к тебе в комнату. Чтобы к закату ты была готова. Мутни тебе поможет, если что-то потребуется.
Отец посмотрел на меня. Я кивнула.
— Да, еще я договорился, чтобы вам прислали личных служанок. Это самые искусные женщины во дворце.
— А в чем они искусны? — по невежественности переспросила я.
В Ахмиме у нас не было личных служанок. Нефертити покраснела.
— В наведении красоты, — ответил отец.
В наших покоях стояла настоящая кровать. Не тростниковая циновка или тюфяк, как дома, в нашем поместье, а большая, украшенная резьбой кровать из черного дерева, с льняным пологом, которую нам с Нефертити предстояло делить. В мозаичный пол была вделана бронзовая жаровня для прохладных вечеров, когда мы будем потягивать подогретое пиво и сидеть у огня, завернувшись в плотные одеяла. А в отдельной комнате, предназначенной исключительно для переодевания, был устроен туалет из известняка. Я приподняла его крышку, и Нефертити в ужасе оглянулась через плечо. Наш проводник, забавляясь, наблюдал за нами. Туалет представлял из себя керамическую чашу с розмариновой водой на дне. Теперь нам не придется больше пользоваться стульчаком. Эти покои были достойны царевны. Тут наш проводник вмешался, объяснив, что я буду делить кровать с Нефертити, пока она не выйдет замуж, а после этого она, возможно, предпочтет обзавестись собственной кроватью.
Повсюду красовались изображения растущей, бесконечной жизни. Деревянные колонны были украшены резьбой с изображением цветов, а потом раскрашены синим и зеленым, темно-желтым и красным. По стенам летели цапли и ибисы, нарисованные искусным художником. Даже мозаичный пол искрился жизнью: изображение пруда с лотосами было настолько реалистичным, что казалось, будто мы, подобно богам, ходим по воде. Наш проводник исчез, и Нефертити тут же воскликнула:
— Ты только взгляни на это!
Она коснулась поверхности зеркала — огромного, больше нас двоих, вместе взятых, — и мы уставились на наши отражения. Маленькая, светлая Нефертити — и я. Нефертити улыбнулась своему отражению в отполированной бронзе.
— Так мы будем выглядеть в вечности, — прошептала она. — Молодыми и красивыми.
«Ну, во всяком случае, молодыми», — подумала я.
— Сегодня ночью я должна быть великолепной, — сказала Нефертити, быстро обернувшись. — Я должна затмить Кийю во всех отношениях. Главная жена — это всего лишь титул, Мутноджмет. Аменхотеп может отправить меня на задворки гарема, если я не сумею очаровать его.
— Наш отец никогда этого не допустит! — запротестовала я. — У тебя всегда будут покои во дворце!
— Дворец, гарем — какая разница? — отмахнулась Нефертити, снова поворачиваясь к зеркалу. — Если я не произведу на него достаточно сильного впечатления, я буду лишь куклой, и ничем более. Я буду коротать дни в своих покоях и так и не узнаю, каково это: править царством.
Слова Нефертити напугали меня. Уж лучше пусть ее безумная самоуверенность, чем то, что произойдет, если она не сумеет стать избранницей царевича. Тут я заметила в зеркале кое-что и застыла. В наши покои вошли две женщины. Нефертити резко обернулась, и одна из женщин шагнула вперед. Она была одета по последней придворной моде; ее сандалии были украшены бусинами, а в ушах красовались золотые серьги. Когда она улыбнулась, на щеках ее появились ямочки.
— Нам велено провести вас в ванную, — объявила женщина, протягивая нам льняные полотенца и мягкие купальные одеяния. Она была старше Нефертити, но ненамного. — Меня зовут Ипу.
Она оценивающе взглянула на нас, отметив и мои взъерошенные волосы, и изящество Нефертити. Ипу указала на стоящую рядом с ней женщину:
— А это Мерит.
Уголки губ Мерит слегка приподнялись, и мне подумалось, что она выглядит заносчивее Ипу. Однако же она низко поклонилась нам, а когда выпрямилась, то взмахнула увешанной браслетами рукой в сторону внутреннего дворика:
— Купальни там.
Я подумала о холодных медных ваннах в Ахмиме, и всякое стремление мыться меня покинуло.
— Мы — ваши личные служанки, — сообщила нам Мерит. — Прежде чем вы оденетесь или выйдете из покоев, мы должны убедиться, что с вами все в порядке. У царевны Кийи свое окружение. И служанки, и доверенные помощницы. Как она накрасит глаза, так и все красятся. Какую прическу она выберет, то за ней и повторяют фиванки. Пока что, — с улыбкой добавила она.
Двое стражников церемонно распахнули перед нами двустворчатые двери в купальню, и когда я огляделась сквозь пар, то ахнула. Воду наливали из сосудов в длинные мозаичные бассейны, окруженные каменными скамьями и большими камнями, согретыми солнцем. Между колоннами были подвешены вазы, и растущая в них буйная зелень тянулась к солнцу.
Нефертити одобрительно осмотрела зал с колоннами.
— Нет, ну ты представляешь: отец знал обо всем этом и предпочел вырастить нас в Ахмиме!
Она отбросила полотенце.
Мы уселись на каменные скамьи; наши новые служанки велели нам лечь.
— У тебя очень напряженные плечи, госпожа. — Ипу принялась разминать мне спину. — У старух и то плечи мягче!
Она рассмеялась. Меня удивила подобная фамильярность. Но по мере того как Ипу массировала мне спину, мои плечи и вправду расслаблялись.
Бусины, вплетенные в парик Ипу, тихонько позвякивали, и я чувствовала запах, исходящий от ее длинного облегающего платья, — аромат лотоса. Я закрыла глаза, а когда открыла — в бассейне оказалась другая женщина. Почти в тот же самый миг Мерит набросила на мою сестру ее одеяние.
Я уселась.
— Где…
— Тсс!
Ипу надавила мне на спину.
Я ошеломленно уставилась вслед уходящим Нефертити и Мерит.
— Куда они?
— Обратно в ваши покои.
— Но почему?
— Потому что здесь Кийя, — сказала Ипу.
Я посмотрела через бассейн на женщину, окунувшую голову в воду. Лицо ее было маленьким и узким, нос — с небольшой горбинкой, но все же в ее лице было нечто, притягивающее внимание.
Ипу прищелкнула языком.
— Мне нужно сбегать за лавандой. Побудь здесь и ничего не говори! Я скоро вернусь.
Едва лишь Ипу ушла, как Кийя двинулась в мою сторону. Она обернула полотенце вокруг пояса. Я тут же села и тоже завернулась в полотенце.
— Так значит, это тебя прозвали Кошачьи Глаза? — сказала Кийя. Она уселась напротив и уставилась на меня. — Ты, похоже, впервые в этой купальне?
Она посмотрела под мою скамью. Я проследила за ее взглядом и увидела, что я натворила. Я положила мое купальное одеяние на пол, и теперь его подол намок.
— Во дворце мы используем для этого шкафы.
Кийя улыбнулась; я взглянула туда, где висела ее одежда, и покраснела.
— Я не знала.
Кийя приподняла брови.
— Я думала, твоя служанка скажет тебе о таких вещах. Ипу известна в Фивах. Все женщины при дворе хотели бы заполучить ее — она очень искусна в обращении с косметикой, — но царица отдала ее тебе.
Она умолкла, ожидая моего ответа. Поняв, что я ничего не собираюсь говорить, она подалась вперед.
— Скажи, это была твоя сестра?
Я кивнула.
— Она очень красивая. Она наверняка была украшением садов Ахмима. — Кийя взглянула на меня из-под длинных ресниц. — Готова поспорить: у нее было множество поклонников. Должно быть, ей было нелегко бросить их там, — задушевным тоном произнесла Кийя, — особенно если она была влюблена.
— Нефертити ни в кого не влюблена, — отозвалась я. — Это мужчины влюблялись в нее.
— Мужчины? Так поклонник был не один?
— Нет, только наш наставник, — быстро ответила я.
Кийя выпрямилась.
— Наставник?
— Ну, не ее наставник. Мой.
В дворике раздались шаги Ипу. Кийя тут же встала и ослепительно улыбнулась:
— Думаю, мы еще побеседуем, малышка.
Ипу увидела нас, и по лицу ее промелькнула тревога. Кийя выплыла за дверь, облаченная лишь в мокрое льняное полотенце.
— Что случилось? — нетерпеливо спросила Ипу, пересекая купальню. — Что тебе сказала царевна Кийя?
Я заколебалась.
— Только что Нефертити красивая.
Ипу прищурилась:
— И больше ничего?
Я энергично тряхнула головой.
— Ничего.
Когда я вернулась в наши покои, Нефертити уже была там. На ней было отрезное под грудью платье. Мое было таким же, но, когда я его надела, на свете не нашлось бы еще двух таких же несхожих сестер. Мне платье было длинновато и болталось свободно, а у Нефертити оно подчеркивало тонкую талию и поднимало грудь выше.
— Погоди! — воскликнула Нефертити, когда Мерит занесла над ней щетку для волос. — А где масло сафлора?
Мерит недоуменно нахмурилась.
— Что, госпожа?
— Масло сафлора, — пояснила Нефертити, взглянув на меня. — Сестра велит пользоваться им. Чтобы волосы не выпадали.
— Мы здесь не пользуемся маслом сафлора, госпожа. Мне пойти поискать его?
— Да. — Нефертити уселась и посмотрела вслед Мерит. Потом взглянула на мое платье и одобрительно кивнула: — Вот видишь? Ты можешь выглядеть хорошо, если постараешься.
— Спасибо, — вяло ответила я.
На подготовку у нас ушло все время до заката. Ипу с Мерит и вправду оказались настолько умелыми, как их отрекомендовал отец. Они уверенно и тщательно накрасили нам губы и подвели глаза сурьмой, подкрасили грудь хной и в завершение надели на нас нубийские парики.
— Что, прямо на волосы? — огорчилась я. Нефертити гневно сверкнула глазами, но парик казался на вид жарким и тяжелым, с обилием косичек и крохотных бусин. — Неужто их носят все?
Ипу с трудом сдержала смешок.
— Да, госпожа Мутноджмет. Даже царица.
— Но как он держится?
— При помощи воска и смолы.
Она собрала мои длинные волосы в тугой узел и ловко надела на меня парик. Эффект оказался поразительным. Косички красиво обрамляли мое лицо, а зеленые бусины подчеркнули цвет глаз. Должно быть, Ипу специально их подобрала, потому что у Нефертити бусины были серебристыми. Я сидела не шевелясь, пока служанка умастила мне грудь кремом, а потом осторожно сняла крышку с кувшинчика. Она высыпала себе на ладонь что-то блестящее, потом осторожно подула — и меня осыпала золотая пыль. Я краем глаза заметила свое отражение в зеркале и изумленно ахнула. Я была красива.
Потом Нефертити встала.
По ней невозможно было сказать, что она только что проделала утомительное путешествие по Нилу, из Ахмима в Фивы. От важности нынешнего вечера Нефертити была вся на нервах, и сна у нее не было ни в одном глазу. Она сверкала, словно солнце. Ее парик ниспадал ниже плеч, а заправленные за уши волосы подчеркивали скулы и изящную шею. Каждая прядь волос издавала мелодичный перезвон, когда бусины постукивали друг об друга, и я подумала, что на целом свете не найти мужчины, который смог бы отказаться от Нефертити. Тело ее с головы до ног усыпала золотая пыль.
Служанки отступили на шаг.
— Она великолепна.
Они поменялись местами, чтобы оценить работу другой, и Мерит, осмотрев мое лицо, одобрительно хмыкнула.
— Зеленые глаза, — сказала она. — Никогда еще не видела таких зеленых глаз.
— Я подвела их малахитом, — отозвалась Ипу, гордая проделанной работой.
— Получилось чудесно.
Я выпрямилась, а сестра кашлянула, отнимая у меня момент триумфа.
— Мои сандалии! — потребовала она.
Мерит принесла сандалии, отделанные золотом. Нефертити повернулась ко мне и сказала:
— Сегодня вечером я встречусь с царевичем Египта. — Она протянула руки, и браслеты у нее на руках зазвенели. — Как я выгляжу?
— Как Исида, — честно ответила я.
На закате нас провели в Большой зал; праздничный шум был слышен еще за несколько внутренних двориков оттуда. О прибытии каждого гостя сообщал специальный слуга, и, пока мы ожидали своей очереди, Нефертити схватила меня за руку.
— Отец уже там? — спросила она, полагая, что раз я высокая, то могу разглядеть, что творится в зале, через головы дюжины человек.
— Не знаю.
— А ты встань на носочки, — велела Нефертити.
Но мне все равно было не видно.
— Не волнуйся. Когда ты войдешь, это заметят все, — пообещала я.
Несколько человек перед нами прошли, и я смогла разглядеть, что Старший и царица Тийя уже в зале. Царевич тоже был там. Стоящие в очереди мужчины то и дело оборачивались, чтобы взглянуть на мою сестру, и я поняла, что отец был прав, когда велел нам прибыть последними.
Очередь продвигалась, и вскоре нам открылся весь зал. Изо всех помещений, какие я успела повидать в Мальгатте, это определенно было самым большим и самым красивым. Герольд кашлянул и протянул руку.
— Госпожа Нефертити, — величественно провозгласил он, — дочь Эйе, визиря Египта и надзирателя над царскими работами.
Нефертити шагнула вперед, и разговоры в Большом зале стихли.
— Госпожа Мутноджмет, сестра Нефертити, дочь Эйе, визиря Египта и надзирателя над царскими работами.
Теперь пришла моя очередь выступить вперед, и я увидела, как гости поворачиваются, чтобы взглянуть на дочерей Эйе, только что приехавших из маленького городка Ахмим.
Пока мы шли к помосту, женщины изучающе разглядывали нас. Отец встал из-за длинного стола, чтобы поприветствовать нас, и мы очутились перед тремя тронами Гора, кланяясь и разводя руки.
Впереди восседал на своем троне Старший, и я заметила, что его сандалии вырезаны из дерева и что на подошвах у них нарисованы его враги. Фараон посмотрел на круглые, подкрашенные хной груди Нефертити, хотя в Большом зале было достаточно грудей, чтобы ему хватило разглядывать на всю ночь.
— Встаньте, — велела царица.
Когда мы встали, взгляды царевича Аменхотепа и моей сестры встретились. Нефертити улыбнулась ему, а я заметила, что сидящая рядом с царевичем Кийя внимательно смотрит на нас. Затем, поскольку Нефертити пока еще не была царицей, нас отвели за стол, стоящий сразу у помоста, за которым ели визири и где сидел и мой отец.
Нефертити, продолжая ослепительно улыбаться, прошипела:
— Это оскорбление — посадить нас ниже ее!
Отец погладил сестру по золотистой руке.
— Через несколько дней она будет сидеть здесь, а ты будешь царицей Египта.
Сидящие за нашим столом мужчины наперебой расспрашивали Нефертити о нашем путешествии в Фивы, о том, хороша ли была погода и в каких городах мы останавливались по пути. Я смотрела на Аменхотепа, а он не отрывал взгляда от лица моей сестры. Нефертити, должно быть, осознавала это, потому что смеялась, и флиртовала, и запрокидывала голову, когда красивый сын очередного визиря подходил к ней расспросить про путешествие из Ахмима. Я видела, что Кийя пытается разговаривать с царевичем, отвлечь его от созерцания моей сестры, но Аменхотеп не поддавался. Мне стало интересно, что он думает о своей будущей жене. А еще я изучала, как Нефертити удерживает мужчин в своей власти. Она говорила негромко, так что им приходилось наклоняться к ней, чтобы расслышать, и расточала улыбки экономно, так что, когда она смеялась, мужчине казалось, будто он купается в ее свете.
Когда подали угощение и мы начали есть, я не знала, на кого сперва смотреть. На помост, где Старший с вожделением пялился на нагих женщин, изгибавшихся в танце, или на царевича, выглядевшего умным и сдержанным — совершенно не похожим на того человека, который запомнился мне по похоронам. Я посмотрела на Панахеси, сидевшего напротив нас. Визирь носил кольцо с царской печатью, и он был высоким, как мой отец. Но во всем остальном он был полной противоположностью отцу. У моего отца глаза были голубые, а у Панахеси — черные. У отца были высокие скулы, которые от него унаследовала Нефертити, а лицо Панахеси было более вытянутым и полным. Пальцы Панахеси были унизаны кольцами, а отец редко надевал свои украшения. Я изучала соперника отца, пока музыканты не заиграли какую-то мелодию и все вышли из-за стола, чтобы потанцевать: женщины в одном кругу, мужчины в другом. Отец взял мать за руку и повел ее через зал, а Кийя придирчиво взирала на Нефертити, вставшую, чтобы присоединиться к женщинам.
— Ты идешь? — спросила меня Нефертити.
— Конечно нет! — Я взглянула на толпу красивых дочерей придворных. Все они выросли в Фивах, все знали придворные танцы. — Я же не знаю этих танцев. Как ты собираешься танцевать?
Нефертити пожала плечами:
— Посмотрю и научусь.
Возможно, Мерит чему-то научила ее, пока они оставались наедине, ибо я с удивлением увидела, как моя сестра подпрыгивает и поворачивается одновременно со всеми — прекрасное видение, вся из золота и лазурита. Лишь несколько женщин осталось сидеть, и я с некоторым беспокойством заметила, что я не одна за столом. Панахеси тоже никуда не пошел. Я посмотрела на него, на его длинные пальцы, сплетенные под черной клиновидной бородой; Панахеси был единственным визирем при дворе, позволяющим себе отращивать длинные волосы. Затем он заметил мой взгляд и произнес:
— Должно быть, это волнующее событие для тебя. Юная девушка из Ахмима вдруг оказывается во дворце с его празднествами и роскошью. Так отчего же ты не танцуешь?
Я поерзала на стуле и созналась:
— Я не знаю этих танцев.
Панахеси приподнял брови.
— Однако же твоя сестра танцует и выглядит совершенно естественно, — заметил он, и мы посмотрели на Нефертити, танцевавшую так, словно мы с ней всю жизнь провели при дворе. Панахеси перевел взгляд на меня и улыбнулся. — Вы, должно быть, не полнородные сестры.
Я понадеялась, что нанесенная Ипу косметика скроет охватившее меня чувство унижения, и прикусила язык, чтобы не сказать какую-нибудь резкость.
— Ну так скажи мне, — продолжал Панахеси, — за кого ты выйдешь замуж, имея сестру в царском гареме?
Во мне поднялся гнев.
— Мне всего тринадцать лет.
— Да, конечно, ты еще девочка.
Он скользнул взглядом по моей груди. Внезапно рядом со мной появилась Нефертити. Музыка стихла.
— Да, но лучше быть расцветающей женщиной, чем увядающим стариком.
Она многозначительно взглянула на схенти Панахеси. Затем вновь появился отец и занял свое место за столом.
Панахеси резко отодвинулся от стола вместе со стулом.
— Твои дети очаровательны, — раздраженно бросил он. — Я уверен, что царевич полюбит их всей душой.
И он стремительно удалился — лишь белый плащ вился следом.
— Что случилось? — потребовал ответа отец.
— Визирь… — начала было я, но Нефертити перебила меня:
— Ничего.
Отец бросил на нее долгий взгляд.
— Ничего, — повторила Нефертити.
— Я предупреждал тебя, чтобы ты была осторожна. Аменхотеп прислушивается к визирю Панахеси.
Нефертити выпятила челюсть, и я поняла, что она хочет сказать. «Когда я стану царицей — перестанет». Но она промолчала. Потом она оглядела зал и заволновалась:
— А где царевич?
— Пока ты любезничала с визирем, он ушел.
Нефертити дрогнула.
— Так я не встречусь с ним сегодня?
— Нет, если он не вернется, — ответил отец.
Я никогда еще не слышала, чтобы он говорил так строго. Здесь был не Ахмим. Здесь — двор царя Египта, и ошибок здесь не терпят.
— Может, он вернется? — с надеждой произнесла я, но ни Нефертити, ни отец не обратили на меня ни малейшего внимания.
Зал наполнил мускусный запах вина. Кийю по-прежнему окружали ее женщины, придворные дамы, одетые, как нам и говорила Ипу, по моде, которую диктовала царевна: длинные волосы, длинные облегающие платья без рукавов и ступни, подкрашенные хной. Они вились вокруг Кийи, словно мотыльки, а ее округлившийся живот свидетельствовал, что она, а не моя сестра, была будущим Египта.
— Здесь слишком жарко, — сказала Нефертити, беря меня за руку. — Пойдем со мной.
— Не уходите далеко! — резким тоном предостерег нас отец.
Нефертити разгневанно пронеслась через зал, я — следом.
— Куда мы?
— Куда-нибудь, лишь бы уйти отсюда! — отозвалась Нефертити, стремительно шагая через дворец. — Он ушел, Мутноджмет! Он ушел, даже не подойдя ко мне! К его будущей царице! К будущему Египта!
Мы вышли под открытое небо и оказались у фонтана. Мы подставили руки под падающую воду, позволяя каплям стекать с рук на грудь. Струящаяся вода пахла жимолостью и жасмином. Нефертити сняла парик, и тут сквозь тьму послышался знакомый голос:
— Так значит, ты и есть та жена, которую выбрала для меня мать.
Нефертити подняла голову. Перед ней стоял царевич в своем золотом ожерелье. Сестра тут же изгнала со своего лица малейший след удивления и снова превратилась в ту же Нефертити, что и всегда, кокетливую и очаровательную.
— А что? Ты потрясен? — спросила она у царевича.
— Да.
Но в голосе Аменхотепа не было ни веселья, ни легкомысленности. Он сел и принялся разглядывать Нефертити в лунном свете.
— Неужели царевич Египта устал танцевать?
Она безукоризненно скрыла владеющую ею нервозность под внешней игривостью.
— Я устал смотреть, как моя мать склоняется перед верховным жрецом Амона.
Нефертити улыбнулась, и Аменхотеп внимательно взглянул на нее.
— Это что, смешно?
— Да. Я подумала было, что ты пришел сюда, чтобы поухаживать за твоей новой женой. Но если ты хочешь поговорить о политике, я готова слушать.
Аменхотеп сощурился:
— Слушать, как слушает мой отец? Или как ты слушала своего наставника, когда он преподавал тебе любовь в Ахмиме?
Даже в темноте я увидела, как побледнела моя сестра, и мгновенно поняла, что сделала Кийя. Мне почудилось, что сейчас мне станет дурно, но Нефертити быстро взяла себя в руки.
— Говорят, что ты ревностный почитатель Атона, — произнесла она. — И что ты собираешься строить храмы, когда станешь фараоном.
Аменхотеп снова уселся.
— Твой отец хорошо информирует тебя, — заметил он.
— Я сама себя хорошо информирую, — парировала Нефертити.
Она была умна и очаровательна, и даже Аменхотеп не мог противиться ее искреннему взгляду, устремленному на него при свете масляных ламп. Он придвинулся поближе.
— Я хочу, чтобы меня знали как народного фараона, — признался он. — Я хочу построить величайшие в Египте памятники, чтобы показать людям, что может сделать властитель, наделенный воображением. Жрецам Амона вообще не следовало позволять достигать такого могущества. Это могущество предназначено исключительно для фараонов Египта.
Тут послышалось поскрипывание гравия, и мы обернулись.
— Аменхотеп… — В освещенный круг вступила Кийя. — Все думают: куда это подевался царевич?
Кийя нежно улыбнулась ему, как будто его исчезновение было одновременно и оригинальным, и чудесным. Она протянула руку:
— Вернемся?
Нефертити кивнула.
— Тогда до завтра, — обещающе произнесла она, и голос ее был низким и страстным, словно между ними существовала некая великая тайна.
Кийя сжала ладонь Аменхотепа.
— Сегодня ночью я почувствовала, как наше дитя пошевелилось. Это сын, — уверенно произнесла она, уводя мужа прочь, — достаточно громко, чтобы было слышно и Нефертити. — Я уже чувствую его.
Мы смотрели, как они удаляются во тьму, и я заметила, как крепко Кийя держится за Аменхотепа — словно он мог исчезнуть в любое мгновение.
Нефертити была вне себя; ее сандалии звонко шлепали по мозаичному полу наших покоев.
— Что он станет делать через два дня, когда мы соединимся перед Амоном? Что, он и тогда станет водить Кийю с собой и игнорировать меня?
Отец встал и прикрыл дверь.
— Говори тише. Во дворце полно соглядатаев.
Нефертити тяжело опустилась на кожаную подушку и положила голову на плечо моей матери.
— Я унижена, мават. Он смотрит на меня как просто на еще одну жену.
Мать погладила сестру по голове.
— Он изменится.
— Когда? — Нефертити села. — Когда?!
— Завтра, — уверенно произнес отец. — А если не завтра, то мы заставим его понять, что ты — не просто жена, которую выбрала ему мать.
3
 20 фармути
20 фармути
Коронация нового фараона Египта и его царицы состоялась двадцать первого фармути, и мой отец делал все, что только мог, чтобы Нефертити была на глазах у Аменхотепа.
Утром мы вошли в широкие бронзовые ворота Арены, которую Аменхотеп III возвел в честь Амона. Нефертити крепко сжала мою руку. Никто из нас не видал прежде ничего столь же огромного и величественного. Лес колонн окружал углубление, заполненное песком, а покрытые росписями стены уходили в небо. На нижнем ярусе собралась знать со слугами, держащими напитки и медовые лепешки. Здесь Аменхотеп любил ездить по утрам, потому мы теперь сидели здесь, глядя, как царевич несется по дорожке на своей золоченой колеснице. Но Кийя тоже была здесь, как и визирь Панахеси, и, когда царевич час спустя перестал разыгрывать из себя воина, он подошел к Кийе, чтобы поцеловать ее, и с нею он смеялся, а Нефертити тем временем приходилось улыбаться и напускать на себя довольный вид, чтобы не давать сопернице повода злорадствовать.
В полдень мы снова были в Большом зале: сидели у помоста, ели и весело болтали, как будто все шло на руку нашей семье. Нефертити смеялась и кокетничала, и я заметила, что чем чаще Аменхотеп видит свою будущую жену, тем труднее ему оторвать от нее взгляд. У Кийи не было ни капли неотразимого обаяния Нефертити. Она не умела привлекать к себе всеобщее внимание, как моя сестра. Но когда дневная трапеза закончилась, царевич и Нефертити не обменялись ни словом, и, когда мы вернулись в наши покои, сестра была молчалива. Ипу с Мерит хлопотали вокруг нас, а я с возрастающим беспокойством наблюдала за Нефертити. Аменхотеп по-прежнему относился к ней всего лишь как к жене, которую навязала ему мать, и я не понимала, как отец намеревается это изменить.
— Что ты будешь делать? — спросила я в конце концов.
— Повтори-ка мне, что он сказал тогда в гробнице.
Мерит — она как раз потянулась, чтобы приложить к груди Нефертити золотое украшение, — напряглась. Это было дурной приметой — говорить о том, что произошло под землей.
Я заколебалась.
— Он сказал, что никогда не склонится перед своим братом. Никогда не склонится перед Амоном.
— А у фонтана он тогда сказал, что хочет, чтобы его любил народ, — многозначительно произнесла Нефертити. — Что он хочет быть народным фараоном.
Я медленно кивнула.
— Мутноджмет, пойди отыщи отца, — велела Нефертити.
— Что, сейчас? — Ипу как раз подкрашивала мне брови сурьмой. — Неужто это не может подождать?
— Чего подождать? — отрезала Нефертити. — Пока Кийя родит ему сына?
— Ну а что ты собираешься ему сказать? — нетерпеливо спросила я.
Я не хотела никуда идти, пока меня не убедят, что отца и вправду следует побеспокоить.
— Я собираюсь сказать ему, каким образом мы можем привлечь царевича на свою сторону.
Я вздохнула, чтобы дать Нефертити понять, что все это мне не нравится, а потом вышла. Но мне не удалось найти отца. Его не было ни в его покоях, ни в Зале приемов. Я обыскала сады, пробралась через лабиринт кухни, а потом выскочила во дворик перед дворцом. Там меня остановил слуга и спросил, что мне нужно.
— Я ищу визиря Эйе.
Старик слуга улыбнулся:
— Он там же, где и всегда, моя госпожа.
— И где же?
— В Пер-Меджат.
— Где-где?
— В Зале книг. — Слуга понял по моему виду, что я не знаю, где это, и спросил: — Госпожа, показать тебе дорогу туда?
— Да.
Я поспешила за ним, мимо Большого зала, в сторону Зала приемов. Для старика слуга был на редкость проворным. Вскоре он остановился у двустворчатой деревянной двери, и стало ясно, что заходить туда он не намерен.
— Это здесь?
— Да, моя госпожа. Это Пер-Меджат.
Он подождал, глядя, что я стану делать: постучусь или сразу войду. Я распахнула дверь и застыла, изумленно уставившись на самую великолепную комнату во всем Мальгатте. Я никогда прежде не видела целый зал, заполненный книгами. Две винтовые лестницы уходили к потолку, и повсюду, насколько хватало глаз, лежали свитки в кожаных двусторонних футлярах; должно быть, тут хранилась вся мудрость фараонов. Отец сидел за кедровым столом. Царица тоже была здесь, равно как и моя мать, они разговаривали между собой, быстро и напряженно. Когда я вошла, они умолкли. На меня устремились пронзительные взгляды двух пар голубых глаз; лишь теперь я поняла, насколько отец и его сестра похожи друг на друга.
Я откашлялась и обратилась к отцу:
— Нефертити хочет говорить с тобой.
Эйе повернулся к сестре:
— Мы поговорим об этом позже. Возможно, сегодня что-то изменится. — Он посмотрел на меня. — Чего она хочет?
— Сказать тебе что-то про царевича, — ответила я, когда мы вышли из Пер-Меджата в коридор. — Она думает, что нашла способ привлечь его.
В наших покоях Ипу с Мерит закончили наряжать Нефертити. На руках у нее позванивали парные узорные браслеты, а в уши были вдеты серьги. Я замерла, потом ахнула и кинулась вперед, посмотреть на результат усилий наших служанок. Они сделали ей в мочке уха не по одной дырке, а по две.
— Ну кто так делает — две дырки!
— Я! — отозвалась Нефертити, вскидывая голову.
Я повернулась к отцу. Он лишь одобрительно посмотрел на нее.
— У тебя какие-то новости о царевиче? — спросил он.
Нефертити взглядом указала на служанок.
— С этого момента ваши личные служанки — ваши лучшие подруги. У Кийи свои женщины, а у вас — свои. И Мерит, и Ипу прошли тщательный отбор. Они верны нам.
Я взглянула на Мерит. Та редко улыбалась, и я порадовалась, что отец выбрал мне в служанки более веселую Ипу.
— Ипу, — тихо распорядился отец, — встаньте с Мерит у дверей и негромко разговаривайте.
Он отвел Нефертити в сторону, и до меня долетали лишь обрывки их беседы. В какой-то момент вид у отца сделался чрезвычайно довольным. Он похлопал Нефертити по плечу и произнес:
— Отлично. Я тоже так думаю.
Потом они подошли к двери, и отец обратился к Мерит:
— Пойдем-ка. У меня есть для тебя работа.
И они, все трое, вышли из комнаты.
Я с удивлением посмотрела на Ипу:
— Что случилось? Куда они пошли?
— Сделать так, чтобы царевич отвернулся от Кийи, — ответила Ипу. Она указала на стул, и я села, чтобы она закончила мой макияж. — Надеюсь лишь, что они добьются успеха, — добавила она.
Мне стало любопытно.
— А почему?
Ипу взяла кисточку и откупорила стеклянный флакончик.
— Потому что Кийя, до того как выйти за царевича, была близкой подругой Мерит.
Я приподняла брови. Ипу кивнула:
— Они обе были дочерями писцов и росли вместе. Но Панахеси сделался великим визирем и забрал Кийю с собой во дворец. Так она встретилась с царевичем. Отец Мерит тоже должен был стать визирем, хотя и не таким значительным. Старший хотел повысить его в должности. Но Панахеси сказал Старшему, что отец Мерит — ненадежный человек.
Я ахнула:
— Какое вероломство!
— Кийя боялась, что, если Мерит появится во дворце, царевич может потерять интерес к ней. Но у Мерит на уме всегда был совсем другой мужчина. Она должна была выйти замуж за Херу, сына визиря Кемосири, как только ее отец получит новую должность. Когда этого так и не случилось, Херу сказал отцу, что он все равно любит Мерит, даже если она — всего
лишь дочь писца. Они переписывались в надежде, что когда-нибудь Старший узнает, что его обманули. Потом письма перестали приходить.
Я выпрямилась на стуле.
— А что случилось?
— Мерит не знает. Но позднее она обнаружила, что Кийя завлекала Херу.
— Завлекала?
— Ну да. Хотя знала, что собирается замуж за царевича.
— Как жестоко…
Я представила улыбающуюся Кийю — точно так же она улыбалась мне там, в купальне. «В тебя, наверное, влюблены все девушки», — должно быть, сказала ему она.
Ипу, взяв гранатовую пасту, тихонько прищелкнула языком.
— Конечно, когда Кийя вышла замуж, ей уже было все равно, попадет ли Мерит во дворец.
— А ее отец?
— А! — Ямочки исчезли со щек Ипу. — Он по-прежнему писец. — Ее голос сделался низким и жестким. — Поэтому Мерит по-прежнему ненавидит Кийю.
— Но как Нефертити сможет занять место Кийи?
Ипу улыбнулась:
— Благодаря слухам.
4
 21 фармути
21 фармути
Утром того дня, когда должны были состояться свадьба и коронация Нефертити, по дворцу поползли слухи, что в Фивы явилась красавица, равной которой Египет еще не видел, и что она станет царицей. Ипу подозревала, что толчком к возникновению этих слухов послужили дебены, служащие деньгами металлические кольца, розданные моим отцом, — ибо к восходу, куда бы Нефертити ни пошла, на нее изо всех окон пялились слуги. Знатные женщины, прибывшие ко двору по случаю коронации, принялись заглядывать в наши покои под всякими надуманными поводами и интересоваться, не нужны ли Нефертити благовония, или льняные ткани, или вино с пряностями. Через некоторое время мать заперла нас в своей комнате и опустила шторы на всех окнах.
Нефертити пребывала в раздражении; она не спала всю ночь. Она вертелась с боку на бок, стягивала с меня одеяло и то и дело шепотом звала меня, проверяя, сплю ли я.
— Стой спокойно, или я не смогу застегнуть твое ожерелье! — сказала я.
— И держись любезно, — посоветовала мать. — Эти люди даже сейчас, в эту самую минуту, нашептывают принцу новости и рассказывают ему о тебе.
Нефертити, которой Мерит как раз намазывала лицо кремом, кивнула.
— Мутноджмет, найди мои сандалии — те, которые с янтарем. И сама надень такие же. И неважно, что они неудобные, — добавила она, заметив мою реакцию. — Ты сможешь потом их снять.
— Но никто и не взглянет на мои сандалии! — возразила я.
— Еще как взглянут, — отозвалась Нефертити. — На все будут смотреть: и на твои сандалии, и на платье, и на твой съехавший набок парик. — Она неодобрительно взглянула на меня, а Мерит оторвалась от своего занятия и поправила на мне парик. — О боги, Мутни, что бы ты без меня делала?
Я вручила ей усыпанные янтарем сандалии.
— Ухаживала бы за своим садом и жила тихо-мирно.
Нефертити рассмеялась, и я улыбнулась тоже, хотя она была сегодня невыносима.
— Надеюсь, все пройдет хорошо, — с чувством произнесла я.
Сестра посерьезнела.
— Должно — либо наша семья переехала в Фивы и изменила всю свою жизнь впустую.
Послышался стук, и мать встала, чтобы отворить дверь. На пороге стоял отец с шестью стражниками. Они заглянули в комнату, и я поспешно пригладила волосы, пытаясь придать себе вид, подобающий сестре главной жены царя. Нефертити же не обратила на них никакого внимания; она сидела, закрыв глаза, и ждала, пока Мерит не нанесет на ее лицо последние штрихи сурьмой.
— Все готово?
Отец вошел в комнату, а стражники остались у двери, вглядываясь в отражение Нефертити в зеркале. Меня они даже не заметили.
— Да, почти готово, — отозвалась я.
Стражники впервые взглянули в мою сторону, а мать недовольно нахмурилась.
— Ну так не стой там. — Отец махнул рукой. — Помоги сестре.
Я покраснела.
— Чем?
— Чем угодно. Писцы ждут, и вскоре баржи поплывут в Карнак, и у нас будет новый фараон.
Я повернулась к отцу, ибо в голосе его звучала неприкрытая ирония, но он махнул рукой, веля мне пошевеливаться:
— Скорее!
Наконец Нефертити была готова. Она встала, и расшитое бисером платье заструилось до пола, а золотое ожерелье и браслеты засверкали на солнце. Нефертити взглянула на стражников, изучая их реакцию. Стражники выпрямили плечи и подтянулись. Нефертити двинулась вперед, подхватив отца под руку, и победно произнесла:
— Я рада, что мы приехали в Мальгатту.
— Не спеши приживаться здесь, — предостерег ее отец. — Аменхотеп останется в Мальгатте лишь до тех пор, пока Тийя не решит, что он готов уехать. А тогда мы отправимся в столицу Нижнего Египта, чтобы править им.
— В Мемфис? — воскликнула я. — Мы уедем в Мемфис? Навсегда?
— Навсегда — это слишком большое слово, Мутни, — отозвался отец. Мы вышли в коридор с мозаичным полом и зашагали между колонн. — Возможно, не навсегда.
— А тогда на сколько? Когда мы вернемся?
Отец посмотрел на мать, и им без слов стало ясно, что отвечать следует ей.
— Мутни, твоя сестра будет царицей Египта, — сказала она тоном, каким говорят с маленькими детьми, а не с тринадцатилетними девушками. — Когда Старший уйдет в загробный мир, Аменхотеп вернется в Фивы, чтобы принять правление и над Верхним Египтом тоже. Но пока Старший жив, мы не вернемся.
— А когда это будет? Фараон может прожить еще двадцать лет!
На это никто не ответил, и я поняла по виду моего отца, что стражники, возможно, услышали мои слова.
— Теперь, когда двор разделится, начнутся опасные игры, — понизив голос, произнес отец. — Кто останется при старом царе, а кто сделает ставку на молодого? Панахеси поедет с Кийей в Мемфис, поскольку она носит ребенка Аменхотепа. Мы, конечно же, поедем тоже. Твоя обязанность будет заключаться в том, чтобы предостерегать Нефертити от всех неприятностей.
Мы вошли в открытый дворик у дворца, где ждала процессия; мать поставила Нефертити рядом с царицей Тийей. Я схватила отца за руку, пока он тоже не ушел.
— А вдруг она не захочет меня слушать?
— Захочет, потому что она слушает тебя всегда. — Отец положил руку мне на плечо. — И потому, что ты единственная, кто честен с нею.
Процессия должна была начаться в полдень. Старший и царица Тийя — на колесницах. За ними — придворные на открытых носилках, под тонкими пологами из льна. И лишь Аменхотепу с Нефертити предстояло идти пешком, как то предписывала традиция, через весь город к барже фараона, ждущей их на фиванской пристани. Оттуда баржа должна была отплыть в Карнак. Там царственная пара вступит в ворота храма, и их коронуют как царя и царицу Нижнего Египта.
По мере того как дворик заполнялся знатью, стражники держались все более напряженно. Они нервно переминались с ноги на ногу, понимая, что, если во время процессии что-то случится, они поплатятся жизнью. Мое внимание привлек один из солдат, молодой военачальник с длинными волосами, в схенти с заложенными складками. Ипу проследила за моим взглядом и сказала:
— Военачальник Нахтмин. Всего двадцать один год. Я могу вас познакомить…
— Не смей! — выпалила я.
Ипу рассмеялась:
— Восемь лет разницы — не так уж и много!
Нефертити услышала наш смех и нахмурилась.
— Где Аменхотеп? — недовольно спросила она.
— Я бы на твоем месте не волновался, — иронически отозвался отец. — Собственной коронации он не пропустит.
Когда царевич появился, по одну руку от него шла Кийя, а по другую — ее отец, Панахеси. Оба они что-то быстро нашептывали царевичу на ухо; когда они подошли к нам, Панахеси холодно поздоровался с отцом. Потом он увидел Нефертити в диадеме царицы и скривился, словно что-то кислое съел. Но Кийя лишь улыбнулась и, прежде чем отойти от Аменхотепа, нежно коснулась его руки.
— Да будет ваше высочество благословенно в этот благоприятный день, — с тошнотворной любезностью произнесла она. — Да пребудет с тобою Атон.
Нефертити взглянула в глаза отцу. Кийя только что благословила Аменхотепа именем Атона. Вот чем она держит его.
Глаза отца заблестели.
— Держись поближе, — предупредил он меня. — В Карнаке мы пойдем до храма пешком, а там на улицах будет столько народу, сколько ты в жизни не видала.
— Это из-за коронации? — спросила я.
Но отец меня не услышал. Мой голос утонул в шуме, производимом лошадьми, колесницами и стражниками.
— Да, и из-за разошедшихся по городу слухов о явлении нового воплощения Исиды.
Я обернулась. Молодой военачальник улыбнулся мне:
— Красавица, способная исцелять прикосновением руки, — если верить дворцовым слугам.
Он протянул руку и помог мне взобраться на носилки.
— А отчего слуги так говорят?
— Ты хочешь сказать — отчего кому-то потребовалось платить слугам, чтобы они так говорили? — переспросил военачальник. — Да потому, что если твоя сестра способна завоевывать людские сердца, — пояснил он, — то ваша семья поднимется еще выше.
Носилки двинулись вперед, и молодой военачальник исчез в людском море.
Когда процессия вышла в город, люди начали скандировать имя царевича, а когда мы проходили через рынки, меня ошеломила страстность, с которой тысячи египтян, толпящиеся на улицах, выкликали имя моей сестры, моля о благословении Исиды и повторяя: «Да здравствует царица! Да здравствует Нефертити!»
Глядя на толпящихся людей, я пыталась представить себе, к какой огромной сети сторонников должен был обратиться мой отец, — и я поняла, насколько могуществен визирь Эйе на самом деле. Стражники постоянно отпихивали людей. Я обернулась и увидела, как Аменхотеп с изумлением смотрит на женщину, которую так любят в его царстве. Я видела, как Нефертити взяла руку Аменхотепа и подняла ее, и по улицам прокатился оглушительный рев. Нефертити повернулась к нему с победным видом, и на лице ее было написано: «Я — не просто жена, которую выбрала тебе мать!»
Когда мы добрались до баржи, уже весь город выкрикивал:
— А-мен-хо-теп! Не-фер-ти-ти!
При виде такой любви народа лицо царевича просияло.
Нефертити снова вскинула руку царевича и воскликнула так громко, что ее услышал бы и Осирис:
— Народный фараон!
Потом толпа, собравшаяся на берегу, начала становиться все более неуправляемой. Стражникам стоило немалых трудов доставить нас к пристани; мы быстро вышли из носилок и перешли на баржу, но простолюдины уже окружили корабль. Стражникам пришлось буквально отрывать их от поручней и бортов. Когда баржа двинулась вперед, на берегу остались тысячи. Толпа тут же двинулась по берегу, следом за баржей, выкрикивая благословения и бросая в воду цветы лотоса. Аменхотеп посмотрел на Нефертити с видом человека, захваченного врасплох.
— Уж не поэтому ли визирь Эйе предпочел растить своих дочерей в Ахмиме?
Нефертити победно зарделась и напустила на себя скромный вид.
— Да, и еще визирь не хотел, чтобы мы верили, как его сестра, в силу жрецов Амона.
Я в страхе сжала губы. Но я понимала, что делает Нефертити. Она ухватилась за подсказку, оброненную Кийей.
Аменхотеп удивленно моргнул:
— Так ты считаешь, что я прав?
Нефертити коснулась его руки, и я словно бы почувствовала жар его ладони, когда она убежденно прошептала:
— Фараон устанавливает, что правильно, а что нет. А когда эта баржа доплывет до Карнака, ты будешь фараоном, а я — твоей царицей.
Мы добрались до Карнака быстро: от дворца Мальгатта до храма Амона было недалеко. Мы могли бы дойти и пешком, но это входило в традицию — плавание по Нилу, — и наш флот барж с золотыми вымпелами очень впечатляюще смотрелся под полуденным солнцем. Когда на берег перебросили сходни, вокруг баржи вскипело людское море — тысячи египтян. Их скандирование неслось над водой; они всячески старались пробиться мимо стражников, чтобы хоть краем глаза взглянуть на новых царя и царицу Египта. Аменхотеп и Нефертити не испугались. Они прошли мимо солдат, прямиком в толпу.
А я замешкалась.
— Сюда! — Рядом со мной появился все тот же молодой военачальник. — Держись поближе ко мне.
Я последовала за ним, и мы понеслись вперед вместе со стремительно движущейся процессией. Впереди виднелись четыре позолоченные колесницы царской семьи. Моим матери и отцу было дозволено ехать вместе с фараоном и царицей. Всем остальным предстояло дойти до храма Амона пешком. Со всех сторон доносились восклицания женщин и детей; они тянулись к нам, пытаясь дотронуться до наших одеяний и париков, чтобы и они тоже могли жить в вечности.
— С тобой все в порядке? — спросил военачальник.
— Кажется, да.
— Не останавливайся, иди.
Можно подумать, у меня был выбор. Храм виднелся впереди. Я уже могла разглядеть прекрасный, почти завершенный храм Сенусрета I и огромную гробницу Старшего. Двор храма был залит солнечным светом, и, когда мы вошли в него, все веселье осталось позади и все вдруг успокоились и умолкли. Между колоннами вразвалочку пробрели гуси. Появились бритоголовые юноши в просторных одеяниях, несущие благовония и свечи. Я слышала, как толпа за стенами продолжает выкликать имя Нефертити. Если бы не шум толпы, единственными звуками здесь остались бы журчание воды и стук сандалий по камню.
— А что будет теперь? — шепотом спросила я.
Военачальник отступил, и я заметила, что глаза у него переменчивые, цвета песка.
— Твою сестру отведут к священному озеру, и верховный жрец Амона объявит ее соправительницей. Потом они с царевичем получат посох и цеп, знаки власти над Египтом, и будут править вместе.
Тут появился мой отец.
— Мутноджмет, иди к сестре, — распорядился он.
Я отправилась к Нефертити. В полумраке храма ее кожа сияла подобно янтарю, а золото, обвивающее ее шею, блестело в свете ламп. Нефертити взглянула на меня, и мы обе поняли, что настает самый важный момент в нашей жизни: после этой церемонии она сделается царицей Нижнего Египта и наша семья взойдет к бессмертию вместе с ней. Наши имена будут написаны на постройках от Луксора до страны Куш. Нашу память увековечат в камне, и нам будет гарантировано место в вечности рядом с богами.
Аменхотеп взошел на возвышение, держа Нефертити за руку. Он был выше любого фараона, правившего до него, и на руках у него было больше золота, чем во всей сокровищнице моих родителей в Ахмиме. Жрецы Амона торжественно прошествовали через толпу и заняли места на возвышении рядом со мной; их лысые головы сверкали, словно отполированная медь. Я узнала верховного жреца в его одеянии из леопардовой шкуры. А когда он встал впереди нового царя, сестра многозначительно посмотрела на Аменхотепа.
— Узрите же — Амон собрал нас здесь воедино, дабы поставить Аменхотепа Младшего над этою землею! — провозгласил верховный жрец. — Амон предначертал Аменхотепу быть владыкой Нижнего Египта и вершить законы до конца его дней!
С того места, где я стояла, мне виден был молодой военачальник. Он смотрел на мою сестру, и отчего-то я ощутила разочарование.
— Из Верхнего в Нижний Египет отправятся они. Фараон Египта повелел, чтобы его сын стал фараоном вместе с ним. Весь народ собрался на праздник во славу нового фараона и его покровителя, Амона. От востока и до запада пребудет веселье. От севера и до юга пребудет празднество. Приступим же!
Верховный жрец поднял золотой сосуд с ароматическим маслом.
— Амон изливает свое благословение на тебя, фараон Египта.
Он возлил масло на голову Аменхотепа.
— Амон изливает свое благословение на тебя, царица Египта.
Масло потекло по новому парику Нефертити и закапало на ее лучшее платье. Но моя сестра и глазом не повела. Она стала царицей. Теперь у нее будет множество платьев.
— Амон берет тебя под свою руку и ведет к священным водам, что отмоют тебя дочиста и преобразят тебя.
Жрец повел молодую чету к священному водоему; там он велел им наклониться и смыл с них масло. Придворные, которые были допущены в храм, стояли безмолвно, не шевелясь. Даже дети понимали, что могут никогда более не увидеть ничего подобного.
— Царь Аменхотеп и царица Нефертити! — провозгласил верховный жрец. — Да дарует вам Амон долгую жизнь и процветание!
Когда мы взошли на баржи, чтобы вернуться из храма Амона в Мальгатту, солнце все еще стояло высоко. На пути из Карнака Аменхотеп зачарованно разглядывал мою сестру: как она говорит, как улыбается, как запрокидывает голову и смеется.
— Мутни, иди сюда! — весело позвала сестра. — Аменхотеп, это моя сестра, Мутноджмет.
— У тебя кошачьи глаза, — заметил молодой фараон. — Твоя сестра мне об этом говорила, но я не верил.
Я поклонилась. Интересно, что еще Нефертити успела ему сказать?
— Я очень рада встрече с вами, ваше величество.
— Мой муж рассказывал о храмах, которые он построит, — сказала Нефертити.
— Когда-нибудь, Мутноджмет, когда я стану фараоном и Верхнего, и Нижнего Египта, я возвышу Атона надо всеми богами. Я построю ему храмы, которые затмят все, что когда-либо строилось для Амона, и избавлю Египет от жрецов, отнимающих его золото, чтобы возвеличить себя.
Я взглянула на Нефертити, но та не стала мешать мужу.
— Сегодня фараон Египта не может принять решение без жрецов Амона. Фараон не может отправиться на войну, построить храм или возвести дворец без согласия верховного жреца.
— Ты хочешь сказать — без денег верховного жреца? — уточнила Нефертити.
— Да. Но это изменится. — Аменхотеп встал и посмотрел на нос баржи. — Моя мать уверена, что мое почитание Атона со временем пройдет. Но она ошибается. Даже мой отец в конце концов поймет, что именно Атону предназначено привести Египет к славе.
Я передвинулась так, чтобы встать поближе к тете, критически изучающей свою новую невестку. Тетя — грозная женщина — поманила меня пальцем и улыбнулась.
— А ты храбрая, раз осмелилась разговаривать с военачальником Нахтмином при моем сыне, — заметила она, потом похлопала по стоящему рядом с ней креслу, и я села.
— А что, они враги? — спросила я.
— Мой сын не любит войско, а Нахтмин только о нем и думал с самого детства.
Мне хотелось побольше расспросить тетю о военачальнике Нахтмине, но ее интересовала совсем другая тема, связанная с Нефертити.
— Ну-ка, Мутноджмет, — небрежно произнесла она, — расскажи, что там мой сын обсуждает с твоей сестрой?
Я поняла, что мне следует тщательно подбирать слова.
— Они говорят о будущем, ваше величество, о планах, которые Аменхотеп желает претворить в жизнь.
— Интересно, а в эти планы входят храмы Атона?
Я потупилась.
— Так я и думала, — протянула Тийя и повернулась к ближайшему слуге. — Найди визиря Эйе и приведи его ко мне.
Я осталась сидеть. Когда пришел отец, для него принесли другое кресло. Мы посмотрели на Нефертити: она сидела на носу баржи и оживленно беседовала с мужем. Просто не верилось, что до сегодняшнего утра они были едва знакомы.
— Он говорит об Атоне! — яростно произнесла тетя. — Он возвращается из храма Амона и все еще бормочет о чем-то, что его дед некогда вырезал на столбиках кровати и на щитах!
Я никогда еще не видела тетю такой разгневанной.
— Он развалит страну, Эйе. Мой муж не будет жить вечно! Твоя дочь должна научиться управлять им, прежде чем он станет еще и фараоном Верхнего Египта.
Отец посмотрел на меня:
— Что говорит Нефертити?
— Она слушает его, — ответила я.
— И все?
Я прикусила язык и кивнула, так что не произнесла ни слова лжи.
Эйе повернулся к сестре:
— Дай ей время. Прошел всего лишь день.
— За день Птах создал мир, — отрезала тетя.
Все мы понимали, что она имеет в виду. За день ее сын может всех уничтожить.
По возвращении в Мальгатту мы с Нефертити переоделись в новые платья для празднования коронации. Ипу с Мерит сновали вокруг нас, словно кошки, разыскивая сандалии, которые подошли бы к нашим нарядам, и подкрашивая нам глаза черным и зеленым. Мерит с благоговейным трепетом взяла корону Нефертити и возложила ее сестре на голову — а мы с Ипу смотрели, затаив дыхание. Я пыталась представить себе, каково это: быть царицей Египта и носить на голове изображение священной кобры.
— И как оно? — поинтересовалась я.
Нефертити закрыла глаза.
— Как будто ты — богиня.
— Ты пойдешь к нему до начала празднества?
— Конечно! Я явлюсь туда рука об руку с ним. Не думаешь же ты, что я допущу, чтобы он пришел с Кийей? Довольно и того, что он вернется к ней в постель.
— Таков обычай, Нефертити. Отец сказал, что он должен посещать ее каждые две недели. Ты ничего не можешь с этим сделать.
— Я много чего могу сделать! — Ее взгляд лихорадочно заметался по комнате. — Во-первых, мы не останемся в этих покоях.
— Что? — Я расставила все мои горшочки с травами на подоконнике. Я распаковала свои сундуки. — Но мы же скоро уедем из Фив — как только Тийя объявит, что мы переезжаем в Мемфис. Мне придется все укладывать заново.
— Этим займется Ипу. Отчего это вдруг фараон и царица должны спать порознь? Наши родители спят в одной комнате, — заметила Нефертити.
— Но они же не…
— Власть! — Нефертити подняла палец, а наши служанки тем временем делали вид, будто вовсе и не слушают нашего разговора. — Вот в чем дело! Они не хотят, чтобы царица заполучила слишком много власти.
— Что за глупость! Царица Тийя — фараон во всем, кроме имени.
— Да! — Нефертити принялась яростно причесываться, взмахом руки отослав Мерит и Ипу. — Во всем, кроме имени. А что у нас есть в жизни, кроме имени? Что запомнится в вечности? Платье — или имя, которое я носила?
— Твои деяния. Вот что будут помнить.
— А деяния Тийи будут помнить? Или их припишут ее мужу?
— Нефертити…
Я покачала головой. Сестра слишком высоко метила.
— Что? — Она отшвырнула расческу, зная, что потом Мерит ее подберет. — Хатшепсут была царем. Она короновала себя.
— Тебе следовало отговаривать его, — указала я. — А вы говорили на барже об Атоне!
— Отец сказал, чтобы я прибрала его к рукам. — Нефертити самодовольно улыбнулась. — Он не сказал — как именно. Идем!
— Куда?
— В покои царя.
Нефертити стремительно вышла в коридор, я — за ней по пятам. Стражники у входа в покои фараона посторонились. Мы влетели в прихожую и остановились у входа в две раздельные комнаты. Одна из них явно служила Аменхотепу спальней. Нефертити взглянула на вторую комнату и кивнула.
— После праздников она достанется тебе.
Я уставилась на нее:
— А ты где будешь?
— В этой.
Нефертити резко распахнула дверь в личную комнату царя, и я услышала изумленный возглас Аменхотепа. Я заметила мельком мозаичные стены и алебастровые светильники, а потом дверь захлопнулась, и я осталась одна в прихожей. Несколько мгновений было тихо, а потом из-за закрытой двери послышался смех. Я ждала в прихожей, пока Нефертити выйдет, думая, что смех вскорости прекратится, но солнце опускалось все ниже и ниже, а молодая чета, похоже, и не собиралась выходить.
Я уселась и огляделась по сторонам. На низеньком столике лежали листы папируса с поспешно набросанными стихами, восхваляющими Атона. Я взглянула на дверь царской комнаты — та была плотно затворена — и принялась читать. Это были гимны солнцу. «Податель дыхания животным… Твои лучи среди великого зеленого моря». Там было множество листов, исписанных стихотворениями, все они были разными, и все были посвящены Атону. Я читала несколько часов, пока Нефертити не заговорила там, в комнате. Голос Аменхотепа проник через стены, но я не смела представлять себе, о чем они говорят с таким пылом. Вечерело, и я постепенно стала задаваться вопросом, а пойдем ли мы вообще на празднество. Когда в дверь кто-то постучал, я заколебалась, но услышала отчетливо прозвеневший голос Нефертити:
— Мутни может ответить там.
Она знала, что я так и сижу здесь, жду ее.
За дверью обнаружился военачальник Нахтмин.
Он отступил на шаг, явно не ожидая увидеть меня в прихожей царя, и, судя по тому, какой взгляд он бросил на дверь царской спальни, мне стало ясно, что Нахтмин задумался, уж не взял ли Аменхотеп обеих сестер в любовницы.
— Госпожа… — Его взгляд прикипел к запертой двери внутренних покоев. — Я вижу, фараон… занят.
Я густо покраснела.
— Да, он сейчас занят.
— Тогда, возможно, ты сможешь ему передать, что его отец и мать ждут его в Большом зале. Празднество в его честь идет уже несколько часов.
— А может, ты бы сам передал эту весть? — спросила я. — Мне ужасно не хочется… беспокоить их.
Нахтмин приподнял бровь.
— Что ж, хорошо.
Он постучал в дверь спальни, и из-за двери донесся мелодичный голос моей сестры:
— Входите!
Нахтмин исчез за дверью и несколько мгновений спустя появился снова.
— Они говорят, что придут, когда будут готовы.
Мне стоило большого труда скрыть разочарование. Нахтмин протянул мне руку:
— Это не значит, что ты должна пропустить празднество.
Я посмотрела на закрытую дверь и заколебалась. Если я уйду, Нефертити рассердится. Она заявит, что я ее бросила. Но я уже несколько часов сижу и разглядываю мозаики в прихожей, а солнце уже село…
Я поспешно протянула руку, и Нахтмин улыбнулся.
На помосте в Большом зале теперь стояло четыре золотых трона. Под ним поставили длинный стол, за которым сидели мои мать с отцом. Я видела, как они едят и беседуют с придворными визирями Старшего. Нахтмин провел меня к ним, и по пути я чувствовала на себе взгляд тети.
— Визирь Эйе… — Военачальник вежливо поклонился. — Госпожа Мутноджмет прибыла.
От того, что он, оказывается, знает мое имя, меня охватил трепет. Отец встал, нахмурившись, и резким тоном поинтересовался:
— Это прекрасно, но где еще одна моя дочь?.
Мы с Нахтмином переглянулись.
— Они сказали, что придут, когда будут готовы, — ответила я и почувствовала, как краска заливает мое лицо.
За столом кто-то ахнул. Это была Кийя.
— Благодарю, — сказал отец, и Нахтмин удалился.
Я уселась, и передо мной тут же появились чаши с едой: жареный гусь с чесноком, ячменное пиво и ягненок в меду. Играла музыка, и за стуком чаш трудно было расслышать, о чем говорят мои родители. Но Кийя перегнулась через стол, и голос ее прозвучал очень отчетливо.
— Она просто дура, если думает, что он меня позабудет. Аменхотеп обожает меня. Он посвящает мне стихи.
Я вспомнила о папирусах с гимнами в покоях Аменхотепа, и мне стало любопытно: уж не он ли их написал?
— Я забеременела в первый же год брака, и я уже знаю, что это будет сын, — со злорадным торжеством заявила Кийя. — Аменхотеп даже выбрал ему имя.
Я чуть было не спросила какое, но прикусила язык. Впрочем, моего вопроса и не потребовалось.
— Тутанхамон, — сказала Кийя. — Или, может, Небнефер. Небнефер, царевич Египта, — мечтательно произнесла она.
— А если родится девочка?
Черные глаза Кийи расширились. Подведенные сурьмой, они выглядели необыкновенно огромными.
— Девочка? С чего бы это вдруг…
Но она не договорила — ее прервало пение труб, возвестивших о появлении моей сестры. Все повернулись и увидели Нефертити, вошедшую в зал руку об руку с Аменхотепом. Придворные дамы Кийи тут же принялись перешептываться, поглядывая то на меня, то на мою сестру.
Царица Тийя резким тоном поинтересовалась у сына:
— Может, мы потанцуем, пока ночь еще не закончилась?
Аменхотеп взглянул на Нефертити.
— Да, можно и потанцевать, — сказала моя сестра, и тетя не оставила незамеченной такую почтительность со стороны своего сына.
Многие гости напились в эту ночь допьяна — с рассветом их должны были отнести в их носилки. Я остановилась вместе с родителями в мозаичном коридоре, ведущем к царским покоям; от холода меня била дрожь.
Мать нахмурилась:
— Ты дрожишь.
— Я просто устала. В Ахмиме мы никогда не засиживались настолько допоздна.
Мать задумчиво улыбнулась:
— Да, теперь многое будет иначе.
Она внимательно взглянула мне в лицо.
— Что там произошло?
— Аменхотеп был с Нефертити до празднества. Она пошла к нему. Нефертити сказала, что он попросил ее провести ночь с ним.
Мать, видя, что я несчастна, коснулась моей щеки:
— Не стоит бояться, Мутноджмет. Твоя сестра всего через дворик от тебя.
— Я понимаю. Просто я никогда еще не проводила ночей одна, без нее.
У меня задрожали губы, и я попыталась сжать их.
— Ты можешь спать у нас, — предложила мать.
Я покачала головой. Мне тринадцать лет. Я уже не ребенок.
— Нет, мне нужно привыкать к этому.
— Так значит, Кийя лишится своего положения, — заметила мать. — Панахеси будет в ярости.
— Он будет яриться долго, — сказала я.
Тут к нам присоединились отец и Нефертити.
— Отведи Нефертити в ваши покои, — велел отец. — Мерит ждет.
Он положил руку на плечо сестре, чтобы подбодрить ее.
— Ты поняла, что тебе делать?
Нефертити покраснела.
— Конечно.
Мать тепло обняла ее и прошептала на ухо мудрые напутствия, которых я не расслышала. Потом мы расстались с родителями и пошли по расписным коридорам дворца. Слуги плясали на празднестве, и наши шаги гулко разносились по пустым коридорам Мальгатты. Нынешней ночью закончилось наше детство.
— Итак, ты собираешься на ложе к Аменхотепу, — сказала я.
— И намереваюсь остаться там до утра, — сообщила Нефертити, быстро шагая вперед.
— Но никто не проводит с царем всю ночь! — воскликнула я и прибавила шагу. — Он спит в одиночестве!
— Сегодня ночью я изменю этот обычай.
В наших покоях горели масляные лампы. В их мерцающем свете казалось, будто нарисованные на стенах тростниковые заросли шевелятся. Мерит, как и сказал отец, была здесь, и они с Нефертити принялись шептаться. Ипу тоже присутствовала.
— Мы вымоем твою сестру и подготовим ее, — сказала она мне. — Я не смогу помогать тебе сегодня ночью.
Я обиделась, но смирилась с этим.
— Да, конечно.
Мерит с Ипу повели Нефертити в купальню. Когда они вернулись, то нарядили ее в простое платье. Потом они в четыре руки напудрили ей ноги и надушили волосы, чтобы Аменхотеп повсюду встречал лишь приятные запахи.
— А парик мне надевать? — спросила у меня Нефертити, хотя ей следовало обратиться с этим вопросом к Мерит, сведущей в подобных вещах.
— Иди без него, — предложила я. — Пусть он увидит тебя нынешней ночью такой, какая ты есть.
Стоявшая рядом со мной Ипу кивнула, и мы стали вместе наблюдать, как Мерит умастила лицо Нефертити кремом и сбрызнула волосы лавандовой водой. Потом моя сестра встала, и служанки отступили. Все трое повернулись ко мне, ожидая, что я скажу.
Я улыбнулась:
— Чудесно.
Сестра обняла меня, и я глубоко вздохнула, так что это я, а не Аменхотеп, первой почувствовала исходящий от нее аромат. Мы стояли, прижавшись друг к другу, в тусклом свете ламп.
— Я буду скучать по тебе этой ночью, — сказала я, подавив свой страх. — Надеюсь, ты натерлась мятой и миррой? — добавила я, давая сестре единственный совет, на который была способна.
Нефертити закатила глаза.
— Конечно.
Я отстранилась и посмотрела на нее.
— А ты не боишься?
Нефертити пожала плечами.
— Да нет.
— А Ранофер? — негромко спросила я.
— Мы с ним ничего не делали.
Я пристально взглянула на нее.
— Только трогали друг друга. Я никогда…
Я быстро кивнула.
— Это не имеет значения. Важно только то, что теперь я буду верна ему.
Нефертити вскинула голову, и ее темные волосы упали на плечи. Она заметила свое отражение в полированной бронзе.
— Я готова к этому. Я готова быть царицей, как о том молилась когда-то моя мать. Она вышла замуж за нашего отца в надежде, что однажды этот путь приведет к трону, — и вот это случилось.
— Откуда ты это знаешь?
Я никогда не думала о первом браке моего отца с этой стороны. Мне и в голову не приходило, что царевна из Миттани могла выйти замуж за брата царицы, чтобы дать шанс своему ребенку взойти на трон.
Наши взгляды встретились в зеркале.
— Мне рассказал отец.
— Так она не любила его?
— Конечно любила. Но прежде всего она заботилась о будущем своего ребенка.
Нефертити повернулась к Мерит, и взгляд ее был тверд.
— Я готова.
5
 22 фармути
22 фармути
На следующее утро Нефертити пришла ко мне в постель. Я крепко спала, измотавшись за день, но сестра потрясла меня за плечо, и я тут же вскочила, испугавшись, что что-то не так.
— Что такое? Что случилось?
— Я занималась любовью с царем.
Я потерла слипающиеся глаза и посмотрела на ее половину кровати. Постель была нетронута.
— И провела с ним всю ночь! — Я отбросила покрывало. — Ну и как оно?
Нефертити уселась и повела смуглым плечиком.
— Больно. Но потом привыкаешь.
Я ахнула.
— И сколько же раз вы этим занимались? — вырвалось у меня.
Нефертити лукаво улыбнулась:
— Несколько.
Потом она оглядела нашу комнату.
— Нам следует немедленно сменить покои. Царица Египта не спит в одной постели со своей сестрой. Отныне я буду спать с Аменхотепом.
Я кое-как поднялась с кровати.
— Но мы пробыли в Фивах всего четыре дня. А сегодня Тийя объявит, когда мы уезжаем, — наверное, может не пройти и месяца.
Нефертити пропустила мою мольбу мимо ушей.
— Слуги помогут тебе собрать твои травы. Они прекрасно могут расти на солнышке и в нескольких комнатах отсюда.
Нефертити не сказала никому про переезд, и мне вовсе не хотелось, чтобы сообщать об этом отцу пришлось мне. Он велел приходить к нему при малейших признаках сложностей, а насколько я могла судить, в том, чтобы переехать на другую сторону внутреннего дворика, никаких сложностей не было. Кроме того, все равно скоро весь дворец об этом узнает.
— Кийя просто лопнет от злости!
Нефертити ухмыльнулась и чуть ли не пустилась в пляс по своей новой комнате, указав попутно на занавески, которые она хотела убрать.
— Будь поосторожнее с Кийей, — отозвалась я. — Ее отец способен причинить нам неприятности. А если у Кийи родится сын, то Панахеси станет дедом наследника египетского престола.
— Я уверена, что к концу Шему буду беременна.
Мы дружно взглянули на ее живот. Нефертити была маленькой и хрупкой. Но к пахону она, возможно, будет носить наследника трона.
— И мои сыновья всегда будут первыми в линии наследования. Если я смогу родить Аменхотепу пятерых сыновей, у нашей семьи будет пять шансов.
И только если все ее сыновья умрут, только тогда у сыновей Кийи появится возможность унаследовать корону.
Нефертити взяла щетку и принялась расчесывать волосы — шелковистую глубокую тьму, обрамляющую ее лицо. Затем дверь распахнулась и в покои стремительно вошел Аменхотеп.
— О царица Египта и царица моей… — Тут он увидел меня и осекся. Настроение молодого фараона ухудшилось на глазах. — О чем это вы тут сплетничаете, сестры?
— Конечно же, о тебе! — Нефертити, отмахнувшись от его подозрений, обняла супруга. — Поведай же, — задушевным тоном произнесла она, — что нового?
Лицо Аменхотепа прояснилось.
— Завтра мать объявит, когда мы отправляемся в Мемфис. А там мы построим храмы, каких мир еще не видел!
— Нужно будет начать сразу же, — согласилась моя сестра. — Тогда в свой час ты станешь известен как Аменхотеп Строитель.
— Аменхотеп Строитель… — Взгляд Аменхотепа сделался мечтательным. — Когда люди увидят мои деяния, они позабудут о Тутмосе. Когда мы отправимся в Мемфис, — решительно произнес царевич, — нужно, чтобы отцовский архитектор поехал с нами.
Он отступил на шаг, высвободившись из объятий Нефертити.
— Я напишу Майе, дабы убедиться, что он осознает стоящий перед ним выбор. Последовать в будущее, — бросил царевич уже на ходу, направляясь в свою комнату, — или быть похороненным в прошлом.
Дверь за ним захлопнулась. Я посмотрела на Нефертити. Она отвела взгляд. В дверь постучали, и Нефертити быстро отворила.
— Визирь Панахеси! — радостно произнесла она. — Заходите же!
Панахеси попятился, потрясенный тем, что видит ее в личных покоях царя. Потом он все-таки вошел, но осторожно, как будто думал, уж не спит ли он. Нефертити без особой любезности поинтересовалась:
— Что вам нужно?
— Я пришел повидаться с фараоном.
— Фараон занят.
— Не играй со мной, дитя! Я увижусь с ним. Я — визирь Египта, а ты — всего лишь одна из многих жен. Неплохо бы тебе было не забывать об этом. Возможно, ныне он пылает страстью к тебе, но к концу Шему его пыл остынет.
Я затаила дыхание в ожидании ответа Нефертити. Она резко развернулась и отправилась за Аменхотепом, оставив меня наедине с Панахеси. Визирь кивком указал на вторую комнату:
— Это теперь твоя комната?
— Да.
— Интересно.
Аменхотеп вышел в сопровождении моей сестры, и Панахеси тут же согнулся в поклоне.
— Вы прекрасно справились сегодня, ваше величество. — Он скользнул поближе к царю и добавил: — Теперь осталось лишь приплыть в Мемфис и взойти на трон.
— И дождаться, пока Старший умрет, — с жуткой прямотой отозвался Аменхотеп. — Он не замечает алчности жрецов Амона.
Панахеси посмотрел на Нефертити, затем на меня.
— Может, нам стоило бы поговорить где-нибудь в другом месте?
— Мой муж доверяет мне, визирь, — тут же отреагировала Нефертити. — Что бы ты ни хотел сказать, ты можешь сказать это при всех, кто находится здесь. — Она нежно улыбнулась Аменхотепу, но в глазах ее явственно читалось предупреждение: «Я могу перестать любить тебя, и обожание народа исчезнет». Она коснулась плеча супруга. — Ведь правда?
Аменхотеп кивнул:
— Конечно. Я доверяю моей жене так же, как доверяю Атону.
Панахеси впал в ярость.
— Тогда, быть может, ваше величество не пожелает, чтобы тайные сведения стали известны более молодой и впечатлительной женщине?
— Моя сестра и не молода, и не впечатлительна, — любезно произнесла Нефертити. — Или вы судите по тому, какой была в этом возрасте ваша дочь?
Аменхотеп рассмеялся:
— Ну хватит, визирь. Что ты хотел сказать?
Но теперь Панахеси предпочел отступить.
— Я просто пришел, чтобы поздравить ваше высочество.
Он уже повернулся было уходить, а потом добавил, как будто эта мысль лишь сейчас пришла ему в голову:
— Хотя многие желали бы видеть вчера на вашем месте вашего брата, я знаю, что вы станете правителем, наделенным великой мудростью и силой.
— Кто? Кто желал видеть на троне Тутмоса?
Панахеси умудрился-таки обойти Нефертити.
— Есть группировки, мой господин, которые жалеют о Тутмосе. Конечно же, ты их видишь. Само собой, когда мы отправимся в Мемфис, все станет ясно по тому, кто решит отправиться с нами, а кто — остаться здесь.
— Архитектор Майя едет с нами? — задал вопрос Аменхотеп.
— Возможно. — Панахеси развел руками. — Если мы его возьмем.
— А войско?
— Оно будет разделено на две части.
Аменхотеп умолк, потом раздраженно произнес:
— Позаботься, чтобы все придворные знали, что, когда я отправлюсь в Мемфис, они будут либо со мной, либо против меня. И лучше бы им не забывать, какой из фараонов будет жить дольше!
Панахеси, кланяясь, двинулся к выходу:
— Я все сделаю, как вы велели, ваше величество.
Нефертити захлопнула дверь за визирем, и Аменхотеп рухнул в позолоченное кресло с кожаным сиденьем.
— Почему твой отец не пришел поздравить меня с коронацией?
— Мой отец не рассыпается в ненужных поздравлениях. Все и так знают, что боги избрали тебя в фараоны.
Аменхотеп взглянул на нас из-под густых ресниц. Он был мальчишкой. Дующимся, не уверенным в себе ребенком.
— Тогда почему Панахеси говорит…
— Он лжет! — воскликнула Нефертити. — Кто может быть настолько глуп, чтобы желать видеть на троне твоего брата, когда можно служить такому фараону, как ты?
Но в глазах Аменхотепа вспыхнул нехороший огонек, и он отвернулся.
— Если бы мой брат не умер, ты стала бы его женой.
— Я никогда не вышла бы замуж за Тутмоса, — быстро произнесла Нефертити.
Мысли царя приняли опасное направление. Аменхотеп повернулся ко мне:
— Говорят, что сестра Нефертити никогда не лжет. Твой отец когда-нибудь говорил дома о Тутмосе?
Нефертити побледнела. Я медленно кивнула.
— Он намеревался отдать твою сестру за него?
Мне хватило ума понять, что, если я сейчас не солгу, любимой женой фараона в Мемфисе будет Кийя, а Нефертити — всего лишь еще одной из множества царских жен. Аменхотеп подался вперед, лицо его потемнело. Нужно было солгать всего лишь раз, чтобы изменить вечность, чтобы обеспечить нам возможность навеки запечатлеть наши имена на великолепных монументах Фив. Я взглянула на Нефертити. Та ждала, что я стану делать. Я посмотрела Аменхотепу в глаза и дала ответ, который хотел бы слышать мой отец и который сейчас надеялась услышать Нефертити.
— Визирь Эйе всегда верил, что на трон Египта взойдешь ты. Именно тебе он предназначал свою дочь, даже когда ты еще был ребенком.
Аменхотеп потрясенно уставился на меня.
— Это судьба… — прошептал он, снова откидываясь на спинку кресла. — Судьба! Твой отец знал, что я займу трон Египта!
— Да, — прошептала Нефертити, глядя на меня.
Я проглотила вставший в горле комок. Я солгала ради моей сестры. Я пошла против совести, чтобы защитить нашу семью.
Семнадцатилетний фараон Египта встал.
— Эйе будет великим визирем всей этой страны! — провозгласил он. — В Мемфисе он будет отвечать за наши отношения с другими странами, и я возвышу его над всеми прочими визирями!
Аменхотеп снова посмотрел на меня.
— Можешь идти, — небрежно бросил он. — У нас с царицей дела.
Нефертити протянула было руку — остановить меня, но я строго покачала головой и проскользнула мимо нее к двери. На глаза у меня навернулись слезы, и я смахнула их тыльной стороной ладони. Я солгала царю Египта, наивысшему представителю Амона в этой земле. «Маат будет стыдно за меня», — прошептала я вслух, но среди колонн коридоров меня было некому услышать.
Я подумала было, не пойти ли к матери — но она скажет, что я поступила правильно. Я ушла в сад и уселась на самой дальней каменной скамье. Боги накажут меня за мою ложь. Маат захочет возмездия.
— Нечасто сестра царицы гуляет в саду одна.
Это оказался военачальник Нахтмин.
Я смахнула слезы.
— Если фараон увидит нас вместе, он будет недоволен, — сказала я строго, пытаясь взять себя в руки.
— Неважно. Новый фараон скоро уедет в Мемфис.
Я бросила на него быстрый взгляд.
— А ты не поедешь?
— Поедут только те, кто сам решит ехать.
Большая часть войска останется в Фивах. — Военачальник уселся рядом, не спрашивая у меня дозволения. — Так почему же ты сидишь среди ив одна?
Мои глаза снова увлажнились. Мне было стыдно перед богами.
— Ну так что? Кто-то разбил твое сердце? — настойчиво спросил Нахтмин. — Хочешь, я изгоню его?
Я невольно рассмеялась.
— Меня не интересуют юноши, — сказала я.
Мы немного помолчали.
— Так почему же все-таки ты плакала?
— Я солгала, — прошептала я.
Нахтмин посмотрел на меня, и уголки его губ поползли вверх.
— И это все?
— Может, для тебя в этом нет ничего особенного, но для меня это очень важно. Я никогда не лгала.
— Никогда? Ни про разбитую посуду, ни про ожерелье, которое кто-то потерял, а ты нашла?
— Нет. Никогда с тех пор, как я сделалась достаточно взрослой, чтобы понимать законы Маат.
Военачальник ничего не ответил, и я поняла, что кажусь ему, человеку, повидавшему войну и кровопролитие, сущим ребенком.
— Это неважно, — прошептала я.
— Это важно, — серьезно возразил он. — Ты ценишь правду. Ты солгала лишь сейчас.
Я промолчала.
— Ничего страшного, твоя тайна умрет вместе со мной.
Я вскочила, рассердившись.
— Зря я стала с тобой разговаривать!
— Ты думаешь, что я перестану тебя уважать из-за твоей лжи? — Он добродушно рассмеялся. — Египетский двор построен на лжи. Ты увидишь это сама в Мемфисе.
— Тогда я закрою глаза, — отозвалась я с ребяческим упрямством.
— И подвергнешь себя опасности. Лучше держи их открытыми, госпожа моя. От этого зависит судьба твоего отца.
— Откуда ты знаешь, от чего зависит судьба моего отца?
— Ну, если ты не сохранишь способность рассуждать здраво, то кто же это будет? Твоя красавица-сестра? Фараон Аменхотеп Младший? Они будут слишком заняты постройкой храмов, — ответил Нахтмин. — А может, — изменнически произнес он, — даже борьбой со жречеством, чтобы завладеть его богатствами.
Должно быть, вид у меня был ошеломленный, потому что военачальник поинтересовался:
— Ты что, вправду считаешь, что никто, кроме твоей семьи, этого не замечает? От молодого фараона лучше держаться подальше. Если жрецы Амона падут, та же судьба ждет и многих других богатых людей, — предсказал он.
— Моя сестра не имеет с этим ничего общего, — твердо произнесла я и зашагала обратно ко дворцу.
Мне не понравилось, как Нахтмин припутал мою семью к замыслам Аменхотепа. Но он пошел за мною следом, приноравливаясь к моей походке.
— Госпожа моя, я тебя обидел?
— Да, обидел.
— Извини. Впредь я буду осторожнее. В конце концов, ты же будешь одной из самых опасных женщин при дворе.
Я остановилась.
— Посвященной в тайны, ради которых визири и жрецы будут щедро платить шпионам, лишь бы разузнать их.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь.
— Об информации, госпожа Мутноджмет, — ответил Нахтмин и зашагал в сторону конюшен.
— А что, по-твоему, способна сделать информация? — крикнула я ему вслед.
— Все, что угодно, — бросил он через плечо, — если попадет не в те руки.
Тем вечером я постелила себе постель в комнате, расположенной рядом с личными покоями царя, зная, что моя сестра находится за стеной, но я не могу ее позвать. Я посмотрела на выставленные на подоконнике горшочки с травами, которые перенесли путешествие из Ахмима в Фивы, а теперь их еще и таскали из комнаты в комнату. Завтра царица объявит о дате нашего отъезда в Мемфис, и травам придется снова проститься с насиженным местом.
Когда Ипу пришла помочь мне раздеться, она заметила мой унылый вид и прищелкнула языком.
— Что случилось, госпожа?
Я пожала плечами, притворяясь, будто дело в какой-нибудь чепухе.
— Ты скучаешь по дому, — предположила Ипу, и я кивнула.
Ипу стянула с меня через голову облегающее платье, и я надела другое, свежее. Потом я послушно уселась на кровать, чтобы она могла причесать меня.
— А ты когда-нибудь скучаешь по дому? — тихо спросила я.
— Только когда думаю о братьях. — Ипу улыбнулась. — Я росла вместе с семью братьями. Потому-то я так хорошо и лажу с мужчинами.
Я рассмеялась.
— Ты ладишь со всеми. Я видела тебя на празднествах. Наверное, во всех Фивах не найти человека, которого ты не знала бы.
Ипу небрежно повела плечом, но возражать не стала.
— У нас в Файюме все такие. Дружелюбные.
— Так ты родилась у Меридова озера?
Ипу кивнула:
— В небольшой деревне между озером и Нилом.
Она принялась рассказывать про глинистые пустоши, уходящие в зеленые плодородные холмы, и виноградники, покрывающие берега сине-зеленого Нила.
— Во всем Египте не найти лучшего места для садоводства или выращивания хлеба; и там растет самый лучший папирус.
— А чем занималась твоя семья? — спросила я.
— Мой отец был личным виноделом фараона.
— И ты оставила отцовские виноградники ради работы во дворце?
— Только после его смерти. Мне тогда было двенадцать лет — я была самой младшей из пятерых дочерей и семерых сыновей. Мать во мне не нуждалась, а я унаследовала ее умение обращаться с косметикой.
Я посмотрела в висящее над нами зеркало, на густо накрашенные глаза Ипу, на мазки малахита, никогда не расползавшиеся от жары.
— Старший дал мне место в свите царицы. Постепенно я стала ее любимицей.
И при этом царица позволила ей перейти ко мне. Я подумала о тете и всех ее бескорыстных деяниях, которые остались незамеченными. И о том, с какой любовью она относилась к своему сыну, себялюбивому и думающему лишь о себе.
— Во дворце жить лучше, чем на виноградниках, — продолжала тем временем Ипу. — Жить в городе, где женщины могут купить все, что им нужно… — Она довольно вздохнула. — Сурьму, благовония, настоящие парики, редкие лакомства. Суда плавают по всему Нилу и останавливаются в Фивах. А в Файюме сроду не причаливал ни один корабль.
Ипу подала мне одеяло и льняные носки. Я вздохнула. Никаких кораблей. Никаких толп. Никакой политики. Одни сады. Я надела тапочки и уселась у жаровни. Ипу осталась стоять. Я указала ей на стул.
— Ипу, расскажи-ка мне, о чем сплетничают во дворце? — спросила я, понизив голос, хотя Нефертити никак не могла меня услышать.
Ипу просияла. Она очутилась в своей стихии.
— О тебе, госпожа?
Я покраснела.
— О моей сестре и царе.
Ипу приподняла брови и осторожно произнесла:
— Э-э… я слышала, будто новый фараон своенравен.
Я подалась вперед.
— И что?
Ипу метнула быстрый взгляд в сторону двери, ведущей в прихожую, а оттуда — к личным покоям царя.
— И что новая царица прекрасна. Слуги прозвали ее Неферет — Красавица.
— А про Мемфис? — не унималась я. — Слугам не говорили, когда надо будет готовиться к отъезду?
— А!.. — На щеках Ипу на миг появились ямочки. — Вот что тебя интересует!
Она придвинулась поближе ко мне; ее темные волосы ниспадали ей на плечи. Ипу была красивой женщиной, с хорошей фигурой; в парик ее были вплетены множество бусин, а на веках лежали блестящие малахитовые тени.
— Царица Тийя заказала трое новых носилок, а главный конюший сказал, что уже куплено шесть новых лошадей.
Я откинулась на спинку кресла.
— А когда носилки будут готовы?
— Через шесть дней.
На следующий день меня вызвали в Зал приемов, рано утром, до того, как его должны были заполонить во множестве придворные, пришедшие узнать о сроках отъезда Аменхотепа в Мемфис. Когда я вошла в двустворчатые двери, первым, на что упал мой взгляд, был лес колонн в виде бутонов папируса, уходящих к высокому, ярко раскрашенному помосту. По мере того как я приближалась к золотым тронам, бутоны на вершинах колонн медленно раскрывались, и на двух последних уже были вырезаны полностью распустившиеся цветы — символизирующие, как я предположила, фараона, открывающего объятия всему Египту.
У помоста, где сидели мои тетя и отец, были нарисованы изображения связанных пленников, хеттов и нубийцев, так что, когда фараон поднимался на трон, он попирал ногами своих врагов. В Зале приемов не было никого, кроме нас троих. Отец сидел рядом со своей сестрой на скамье из черного дерева, а перед ними были разложены свитки папируса.
— Ваше величество… — Я поклонилась. — Отец.
Царица Тийя не стала дожидаться, пока я сяду.
— Твоя сестра перебралась в личные покои моего сына.
Лицо царицы было непроницаемо. Я поняла, что мне нужно осторожно подбирать слова.
— Да. Она очаровала молодого царя, ваше величество.
— Она очаровала весь дворец, — поправила меня царица Тийя. — Слуги только о ней и говорят.
Я вспомнила, как Ипу назвала мою сестру Неферет, и подумала о том, что мне сказал военачальник Нахтмин.
— Ей свойственна дерзость, ваше величество, но и верность тоже.
Царица Тийя изучающе взглянула на меня.
— Верность — но кому?
Отец кашлянул.
— Мы хотим знать, о чем шла речь сегодня утром за завтраком.
Я осознала, что происходит, и поняла, что меня стали использовать в качестве соглядатая. Неловко поерзав, я ответила:
— Они не завтракали. Слуги поставили подносы с едой в прихожей, а когда я поела, еду отослали прочь.
— Тогда чем же они занимались? — напористо поинтересовалась царица.
Я заколебалась, но отец строго произнес:
— Нам важно знать об этом, Мутноджмет. Либо это выясним мы, либо кто-то другой.
Кто-нибудь наподобие Панахеси.
— Они планировали, как будут строить храм Атона, — сообщила я.
— Рисовали чертежи? — быстро спросил Эйе.
Я кивнула.
Отец повернулся к своей сестре и поспешно произнес:
— Аменхотеп ничего не сможет предпринять, пока Старший жив. У него нет ни золота, ни других ресурсов для постройки храма. Это всего лишь разговоры…
Царица вскипела:
— Опасные разговоры! Разговоры, которые будут продолжаться до тех пор, пока он не сделается фараоном и Нижнего Египта тоже!
— Но к тому времени он поймет, что править без поддержки жрецов совсем непросто. Он даже не сможет собрать войско без их золота. Никакой фараон не может править сам по себе.
— Мой сын считает, что он может. Он считает, что он бросит вызов богам и возвысит Атона надо всеми, даже над Осирисом. Даже над Ра. Твоя дочь должна была изменить это…
— Она и…
— Она чересчур своевольна и честолюбива! — выкрикнула царица. Она вышла на балкон и схватилась за ограждение. — Возможно, я выбрала в главные жены не ту дочь, — произнесла она.
Отец оглянулся через плечо на меня, но я не поняла, что за чувства отражаются на его лице.
— Отправь его в Мемфис, — предложил отец. — Там он поймет, что перечить Маат непросто.
В полдень того же дня царица объявила в Зале приемов о нашем отъезде в Мемфис. Отъезд был назначен на двадцать восьмое фармути. У нас было пять дней на подготовку.
6
 24 фармути
24 фармути
На этот раз, когда мы отправились на Арену, посмотреть, как Аменхотеп ездит верхом, он взял нас с собой на конюшню и спросил у Нефертити, какая лошадь ей нравится больше. Кийя на ее месте захлопала бы ресницами и ответила, что больше всего ей нравится лошадь с самой красивой гривой. А Нефертити оценила ширину груди, мышцы, играющие под шкурой, и огонь в глазах и решительно отозвалась:
— Вон та темная. Гнедая в деннике у входа, которая хрупает овес.
Аменхотеп кивнул:
— Приведите гнедую!
Кийя повернулась к трем придворным дамам, сопровождавшим ее повсюду, рослым женщинам, высящимся над моей сестрой, словно башни, и одна из них нарочито громко, чтобы было слышно нашей семье, произнесла:
— Этак он следующим шагом позволит ей выбирать, какое схенти ему надевать.
Они захихикали, а Нефертити решительно подошла к Аменхотепу, стоящему рядом с моим отцом и Панахеси, и стала смотреть, как он надевает кожаные перчатки.
— А давно ты ездишь? — спросила Нефертити.
— Еще с самого детства, когда фараон жил в Мемфисе! — огрызнулся Панахеси.
Нефертити взглянула на ожидающих чуть в стороне юношей, сыновей других визирей, тренирующихся вместе с царем. Аменхотеп проследил за ее взглядом и твердо произнес:
— Они проигрывают мне каждое утро не потому, что обязаны это делать. Я могу обогнать любого наездника в войске моего отца.
Нефертити шагнула ближе.
— Так ты говоришь, ты ездишь с самого детства?
Аменхотеп застегнул шлем и отозвался:
— Я езжу на колеснице с тех пор, как научился ходить.
— А если я захочу научиться водить колесницу? — спросила у него Нефертити.
— Женщины не ездят на Арене! — отрезала стоящая в другом конце конюшни Кийя.
— В Ахмиме я ездила, — заявила Нефертити.
Я посмотрела на отца. Отец отвернулся. Он промолчал, и Нефертити, взяв шлем с ближайшей полки, беззастенчиво надела его.
— Я хочу, чтобы ты научил меня.
Аменхотеп помешкал, пытаясь понять, насколько она серьезна.
— Я хочу насладиться ездой на лучших конях Египта, — с лучезарным видом произнесла Нефертити. — Я хочу учиться у лучшего колесничего Египта.
Аменхотеп рассмеялся.
— Позовите главного конюшего! — приказал он, и Панахеси с Кийей тут же засуетились.
— Она же убьется! — воскликнул Панахеси.
Конечно же, на самом деле он был недоволен вовсе не этим, а тем, что его дочь оказалась недостаточно сообразительна или недостаточно проворна, чтобы додуматься до этого сама. Теперь же Арена будет принадлежать Нефертити. Даже наш отец не додумался до этого, но на самом деле это был отличный ход. Просто безукоризненный. Если Нефертити сумела запустить коготки в личные покои Аменхотепа, в его политику, а вот теперь и в его развлечения, в чем они будут разъединены?
— Но, ваше величество… — произнес Панахеси.
Аменхотеп обернулся с мрачным видом:
— Довольно, визирь! Моя царица желает научиться ездить на колеснице, и я буду ее учить.
Мы уселись на деревянные скамьи нижнего яруса, под льняным навесом, и стали смотреть на них; Кийя прошипела в мою сторону:
— Чем это она занимается? Что она себе воображает?
Я посмотрела на мою сестру, смеющуюся и сияющую, как она отбрасывает свои длинные волосы за спину и как они блестят на солнце. Аменхотеп смеялся вместе с нею, и я ответила:
— Она очаровывает царя. Что же ей еще остается, раз наставника больше нет рядом?
— Ты отлично придумала, — похвалил сестру отец.
Нефертити с самодовольным видом развалилась в кресле, ожидая, пока Мерит закончит причесывать ее парик. В ее комнате появилась пара красных перчаток для верховой езды — подарок Аменхотепа.
— Это было забавно, — сказала она.
— Но одного раза довольно! — предостерег ее отец.
— Почему? Мне понравилось. Отчего бы мне не научиться управлять колесницей?
— Да потому, что это опасно! — воскликнула я. — Ты что, не боишься?
— Чего мне бояться?
— Лошадей. Или падения с колесницы. Вспомни, что случилось с царевичем Тутмосом.
Отец с Нефертити переглянулись. Ипу с Мерит отвели взгляд.
— Тутмос умер на войне, — отмахнувшись от моего довода, произнесла Нефертити. — А тут не война.
Мерит закрепила последние бусины на парике Нефертити, и, когда моя сестра встала, стеклянные бусины глухо зазвенели.
Отец тоже поднялся с места.
— Мне нужно в Пер-Меджат, набросать черновики писем к иноземным правителям. Они должны знать, где им искать твоего мужа и куда отправлять послания.
Он оглядел комнату, в которой со вчерашнего дня ничего не изменилось.
— Мы уезжаем через пять дней, — негромко напомнил он, — и вам обоим нужно проследить за сборами.
Когда отец ушел, Нефертити, которую нимало не интересовали отношения с иноземными правителями, протянула мне руку:
— Идем!
Я нахмурилась.
— Ты слышала, что сказал отец. Он велел нам собираться.
— Не сейчас.
Она схватила меня за руку и потянула за собой.
— Стой! Куда мы? — попыталась воспротивиться я.
— В твое любимое место.
— А почему в сад?
— Потому что там мы кое с кем встретимся.
— С Аменхотепом? — уточнила я.
— И еще кое с кем.
Мы прошли по коридорам и вышли в дворцовый сад с его дорожками, обсаженными деревьями, и водной гладью озер. Какой-то мастер с необычайно хорошим вкусом поместил фонтан с изображением Гора в пруду с лотосами, окружив его рогозом и сине-фиолетовыми ирисами. Каменные скамьи прятались под тяжелой кроной сикоморов, а дорожка, окаймленная жасминовыми кустами, уходила к купальне. За купальней располагался гарем, где обитали менее привилегированные женщины Старшего. По дороге я смотрела на стрекоз, носящихся над травой, и на игру света на их золотисто-синих крыльях.
— Первое, что мы сделаем после переезда в Мемфис, это возведем самый большой в Египте храм. Как только люди увидят величие Атона, — быстро шагая вперед, произнесла сестра, — жрецы Амона станут не нужны.
— Отец говорит, что они нужны для равновесия. Власть фараона уравновешивается властью жрецов. Даже наши наставники говорили нам об этом.
— А они нам говорили, что жрецы контролируют фараона посредством денег? Это, по-твоему, равновесие? — В тени сикомора глаза Нефертити потемнели. — Мутни, фараоны Египта — марионетки. И Аменхотеп намерен это изменить. Он уберет из центра Амона и возведет на его место Атона. Во главе храмов встанут фараон и царица Египта. Мы, а не они, будем контролировать календарь, объявлять дни празднеств и отвечать…
— За все золото, которое нынче беспрепятственно плывет в храмы Амона.
Я вспомнила о генерале, осознала правоту его слов и закрыла глаза. А когда открыла их снова, во взгляде сестры горела решимость.
— Да.
— Нефертити, ты меня пугаешь. В Ахмиме ты не была такой.
— В Ахмиме я не была царицей Египта.
Мы дошли до конца дорожки, и я остановилась, чтобы задать ей вопрос:
— А ты не боишься оскорбить богов?
Нефертити удержалась от вспышки.
— Это мечта Аменхотепа, — защищаясь, сказала она. — Чем больше я сделаю для Аменхотепа, тем ближе он будет ко мне, а не к кому-то еще.
Взгляд ее устремился к пруду с лотосами, а голос превратился в шепот:
— Завтра он идет возлечь с Кийей.
Я увидела на ее лице беспокойство и произнесла с надеждой:
— Возможно, он не…
— Нет, он пойдет. Таков обычай. Ты сама это сказала. Но наследовать трон будут мои дети, а не ее.
— Отец считает, что ты сделалась чересчур честолюбива, — предостерегла я сестру.
Нефертити бросила на меня взгляд.
— Вы собирались на семейный совет без меня?
Я не ответила.
— О чем вы говорили? — решительно поинтересовалась она.
— Конечно же, о тебе.
— И что сказал отец?
— Особо ничего. В основном говорила тетя.
— Я ей не нравлюсь. Она думает, что ошиблась в выборе. Наверняка она так думает. Увидеть возвышение другой красивой женщины…
— И к тому же еще и скромной.
Нефертити возмущенно взглянула на меня; мы зашагали дальше.
— Только не говори мне, что она не жалеет о сделанном!
— Скорее, раскаивается. Тебя привезли сюда, чтобы восстановить равновесие, а не для того, чтобы перетянуть чашу весов на одну сторону!
— И как, по-вашему, я должна это сделать? — с пылом вопросила Нефертити. — Я не могу сказать Аменхотепу, что то, во что он верит, неправильно. Он тут же уйдет к Кийе, и мне конец!
Мы дошли до беседки в самом дальнем углу сада. Я услышала из-за сплетения лоз голос Аменхотепа, приглушенный и напряженный. Я попятилась было, но Нефертити искоса взглянула на меня, а потом схватила за руку и потащила мимо деревьев, на полянку. Аменхотеп тут же выпрямился. Он разговаривал с каким-то военачальником, и они дружно повернулись к нам.
— Нефертити! — радостно воскликнул Аменхотеп. Потом он заметил меня, и улыбка его увяла. — А, неразлучные сестры…
Военачальник поклонился. Он был молод, как и Нахтмин, но в нем была серьезность, не свойственная Нахтмину, а взгляд его глаз был жестким.
— Царица Нефертити, — произнес он таким тоном, словно это не доставило ему особой радости. — Госпожа Мутноджмет.
— Военачальник Хоремхеб поедет с нами в Мемфис, — объявил Аменхотеп. — Он желает отбросить хеттов и вернуть нам земли, которые Египет утратил после того, как мой отец покинул войско. Я пообещал ему военную кампанию на севере — сразу после того, как мы доберемся до Нижнего Египта. И еще я сказал ему, что вся добыча, которую соберут солдаты, останется ему и войску, если он сможет вернуть нам эти земли.
— Это очень щедрое обещание, — отозвалась Нефертити, внимательно глядя на Аменхотепа.
Я заметила, что военачальник смотрит на фараона не менее настороженно.
— Другие солдаты могут остаться с моим отцом и проститься с мечтами об успехе, но Хоремхеб последует за мною к славе!
Я посмотрела на Хоремхеба; его эти речи, похоже, не тронули.
— А как ваше величество считает, откуда возьмутся деньги на эту кампанию? — напрямик спросил он. — Возвращение утраченных территорий — дело дорогое.
— Значит, я обложу налогом храмы Амона, — ответил Аменхотеп.
Нефертити бросила взгляд на меня, но военачальник и глазом не повел.
— Храмы Амона никогда не облагались налогом. Отчего вы думаете, что вам удастся забрать у них золото?
— Оттого, что ты будешь там, дабы исполнить мою волю, — парировал Аменхотеп.
И тут я поняла, что происходит. Он заключал сделку.
Военачальник Хоремхеб стиснул зубы.
— А откуда мне знать, что, если войско соберет налоги с храмов, это золото пойдет на обеспечение кампании на севере?
— Ниоткуда. Но либо ты положишься на мои слова, либо будешь тратить время впустую на службе фараону, который уже слишком стар, чтобы воевать. Но не забывай, — в голосе Аменхотепа зазвенело предупреждение, — что в конце концов я стану также и фараоном Верхнего Египта.
Хоремхеб посмотрел на Нефертити, затем на меня.
— Значит, мне придется положиться на ваше слово.
Аменхотеп протянул руку военачальнику.
— Я не забуду твоей верности, — пообещал он.
Хоремхеб принял протянутую руку фараона, но во взгляде его читалось недоверие.
— В таком случае, ваше величество, я прошу у вас позволения уйти.
Он поклонился, а у меня по спине пробежал холодок. Что будет, если Аменхотеп не сдержит слово? Мне бы не хотелось иметь врагом такого человека, как Хоремхеб.
Аменхотеп посмотрел ему вслед и повернулся к Нефертити.
— Я никогда больше не склонюсь перед жрецами Амона.
— Ты будешь величайшим из фараонов Египта, — поклялась Нефертити.
— И вместе с самой великолепной из цариц Египта, — добавил он, — произведу на свет фараонов, которые будут восседать на египетском троне вечно!
Он положил ладонь на упругий живот Нефертити.
— Возможно, уже сейчас в тебе растет маленькая царица.
— Мы вскоре узнаем. Я уверена, что к тому времени, как мы доберемся до Мемфиса, уже что-то будет видно.
Но при этих словах Нефертити взглянула на меня, как будто я могла повлиять на богов, раз уж я каждый вечер читаю молитвы и каждое утро хожу на поклонение в храм Амона.
7
 25 фармути
25 фармути
— А вдруг я не понесла, а Кийя через шесть месяцев родит мальчика?
Нефертити расхаживала взад-вперед по прихожей. Солнце село, но Аменхотеп был не с Нефертити. Он отправился с визитом к Кийе.
— Кто знает, надолго ли он задержится у нее этой ночью? Вдруг он останется там до утра? — ударилась в панику Нефертити.
Я попыталась успокоить ее:
— Не говори глупостей. Фараон не спит в одной постели со своими женами.
— Со мной — спит! — взвизгнула Нефертити и остановилась. — Но сегодня вечером он не пришел на мое ложе! Он что, думает, что может бегать от одной жены к другой? Что я ничем не отличаюсь от других его рабынь?
Она перешла на крик.
— Значит, так он думает?
Нефертити уселась перед зеркалом.
— Кийя не красивее меня.
Это не было вопросом.
— Конечно нет.
— Может, она хитрее?
На этот вопрос я ответить не могла.
Нефертити развернулась. В глазах ее вспыхнула новая идея.
— Ты должна пойти и посмотреть, чем они занимаются, — решила она.
— Что?! Ты хочешь, чтобы я шпионила за твоим мужем? — Я решительно покачала головой. — Если меня за этим поймают, стражники отведут меня к фараону.
— Мутноджмет, мне нужно знать, чем они занимаются вместе.
— Почему? Какая тебе разница?
— Да потому, что мне нужно быть лучше, чем она! — Нефертити вскинула голову. — Нам всем это нужно. Это же не только для меня, это для всей нашей семьи. Для нашего будущего.
Она приблизилась и положила руку мне на плечо.
— Пожалуйста, узнай лишь, о чем он говорит с ней.
— Это слишком опасно! — запротестовала я.
— Я могу рассказать тебе, как подобраться к их окну.
— Что?! Снаружи? Ты хочешь, чтобы я ползала по грязи? А вдруг меня поймают?
— Под окнами второй жены никто не будет ставить стражу! — огрызнулась Нефертити. — Пожалуйста, надень только плащ, — не унималась она.
Одолеваемая нехорошими предчувствиями, я накинула плотный льняной плащ и присела перед зеркалом, чтобы подобрать волосы. Нефертити наблюдала за мной из-за спины.
— Хорошо, что ты темноволосая и смуглая, — заявила она. — Тебя никто не заметит.
Я сердито посмотрела на нее, но сестра уже не глядела на меня. Все ее мысли сейчас были сосредоточены на Кийе, и она уставилась в коридор, словно могла увидеть, чем сейчас занимается ее муж. Уложив волосы, я подошла к двери и остановилась. Отец хотел бы, чтобы я это сделала. Это ради блага нашей семьи. А соглядатайство — не против законов Маат. Я же не буду ничего красть — только послушаю.
— Мне нужно знать обо всем, что он будет ей говорить, — сказала Нефертити. Она набросила поверх облегающего платья длинный плащ и содрогнулась. — Я подожду тебя здесь. И еще, Мутни…
Я нахмурилась.
— Будь осторожнее.
Я выскользнула во внутренний дворик, чувствуя, как сердце бьется где-то у горла. Воздух был теплым, и плетеные тростниковые циновки негромко постукивали под ветром об окна дворца. Снаружи никого не было. В небе серебрилась луна, и если за мной никто не следил, то ни у кого и не было причин бродить под окнами дворца. Я прошла через цепочку внутренних двориков, считая их на ходу. Я держалась поближе к стенам, в тени кустарников и плюща. Добравшись до дворика Кийи, я остановилась и прислушалась, но вокруг не было слышно ни звука. Я подкралась к третьему окну. Оглядела дворик, никого не увидела, присела на корточки и стала слушать. Теперь стали различимы чьи-то голоса. Я прижалась к стене, пытаясь расслышать, о чем же говорит фараон.
— Когда ты садишься в западные земли света, земля погружается во тьму, словно во смерть. Львы выходят из логовищ своих. Змеи кусаются. Тьма нависает, а земля безмолвствует, когда создатель их отдыхает в краю света.
Аменхотеп читал стихи.
— Земля яснеет, когда ты пробуждаешься в краю света. Когда ты посреди дня сияешь, Атон, когда ты шлешь свои лучи, Две Земли празднуют. Пробуждаются они и встают, ибо ты пробудил их!
— Позволь мне дочитать остальное, — раздался голос Кийи.
Послышался шорох страниц, а потом она начала читать:
— Дороги расстилаются перед тобой, когда ты встаешь. Рыбы в реке стрелою несутся навстречу тебе. Твои лучи проникают в глубь моря. Ты — Тот, кто заставляет семя расти, кто творит жизнь, кто питает сына во чреве матери, кто осушает его слезы. О Хранитель во чреве, о Податель дыхания! Ты питаешь все, что создаешь!
Так вот какими чарами опутывала его длинноногая Кийя — волшебством тихого пристанища. Вдали от постоянных замыслов и политических планов Нефертити Аменхотеп и Кийя вместе читали стихи. Из окна до меня доносился аромат воскуряемых благовоний. Я подождала, слушая, о чем еще они станут говорить, и Аменхотеп принялся рассказывать жене о том, как будет устроена жизнь в Мемфисе, где он рос в детстве.
— Мои покои будут в центре дворца, — сказал фараон, — а справа я размещу тебя и наделю всем самым лучшим.
Кийя хихикнула, словно ребенок. Нефертити никогда не хихикала — она смеялась, низко, с придыханием, как женщина.
— Идем!
Должно быть, он схватил ее, потому что я услышала, как они тяжело рухнули на кровать. Я в ужасе прикрыла рот ладонью. Как он может возлечь с беременной? Он же навредит ребенку!
— Погоди, — прошептала Кийя, и голос ее сделался строже. — А как же мой отец?
— Визирь Панахеси? Конечно, он поедет с нами в Мемфис! — заявил Аменхотеп таким тоном, словно иначе и быть не могло. — И я дам ему наивысшую должность при дворе.
— Это какую же?
— Любую, какую он пожелает, — пообещал фараон. — Тебе не о чем беспокоиться. Твой отец верен мне и моему делу. Во всем Египте нет визиря, которому я доверял бы больше, чем Панахеси.
Я бросила взгляд на другую сторону дворика. Там, в серебристом свете луны, стоял визирь и слушал все то же, что и я. Он стоял неподвижно, и на миг мне почудилось, что у меня остановилось сердце. Увидев, что я его узнала, Панахеси улыбнулся.
Я рванула с места и бежала, не останавливаясь, до самых покоев Нефертити. Я позабыла о стихах Аменхотепа и вопросах Кийи. Нефертити кинулась мне навстречу.
— Что случилось? — воскликнула она, увидев мое лицо.
Но я не могла произнести ни слова.
— Мутни, что случилось? Тебя что, застукали?
Мое дыхание было судорожным, прерывистым. Мысли лихорадочно метались. Я думала, следует ли рассказать сестре про Панахеси. Мы оба с ним были соглядатаями, прячущимися в ночи. Мне не стоит ничего говорить об этом, равно как и ему.
Нефертити схватила меня за плечи и встряхнула.
— Тебя поймали?
— Нет, — выдохнула я. — Они читали стихи.
— Тогда почему ты бежала? Что произошло?
— Он сказал, что доверяет Панахеси больше всех прочих визирей Египта. Он пообещал Кийе, что даст ее отцу самую высокую должность при дворе!
Нефертити тут же метнулась к двери и велела одному из стражников пойти привести визиря Эйе. Отец быстро явился, и мы втроем уселись вокруг собственной жаровни царя. Если Аменхотеп вернется, он застукает нас за плетением заговоров против него.
Сестра выпрямилась.
— Я скажу Аменхотепу, что Панахеси нельзя доверять, — решила она.
— И рискнешь навлечь на себя его гнев? — Отец покачал головой. — Нет. Панахеси можно будет обойти. Куда большая угроза растет сейчас в чреве Кийи.
— Тогда, возможно, нам следует убить эту угрозу, — сказала сестра.
— Нефертити!!!
Они с отцом посмотрели на меня.
— Если добавить ей в вино нужную смесь трав… — задумчиво произнес отец.
Я не хотела этого слышать. Я не хотела в этом участвовать.
— Но она вполне может забеременеть снова, — подвел он итог своим размышлениям.
— А у визиря возникнут подозрения, — отозвалась Нефертити. — Он скажет о них Аменхотепу, и нам тогда конец. Мне придется просто перехитрить его.
— Продолжать действовать так же, как начала, — согласился отец. — Он без ума от тебя.
Нефертити приподняла бровь.
— Ты имеешь в виду — продолжать славить Атона?
Отец посуровел.
— Это единственный способ удержать его, — быстро произнесла Нефертити.
— И именно это делает Кийя, — заметила я.
— Кийя ничего не делает! — запальчиво воскликнула Нефертити.
— Она слушает его стихи. А тебе он их не читает!
— Когда мы переедем в Мемфис, ему следует быть поосторожнее с жрецами Амона, — перебил нас отец. — Пусть он не вмешивается в их дела. Нефертити, ты должна позаботиться об этом.
Я ждала, что сестра расскажет отцу о сделке, которую Аменхотеп заключил в саду с Хоремхебом, но она промолчала.
— Если он возьмет в свои руки слишком много власти, это может погубить нас всех. У Старшего есть и другие сыновья, которые смогут заменить Аменхотепа, если он вдруг умрет.
У меня перехватило дыхание.
— Чтобы жрецы Амона убили царя?!
Отец с сестрой снова посмотрели на меня и проигнорировали мою вспышку негодования.
— А если он сумеет отнять власть у жрецов? — спросила Нефертити.
— Даже и не думай об этом.
— Почему же? — сердито спросила она.
— Потому что тогда фараон получит безраздельную власть над Мемфисом, а твой муж недостаточно мудр, чтобы совладать с подобной властью.
— Тогда ее можешь взять ты. Ты можешь стать силой за троном, — искушающе произнесла сестра. — Ты станешь недосягаем.
В этом было нечто новое. Визирь царя станет более влиятельным, если ему придется отвечать за свои действия только перед царем, не оглядываясь на жрецов и знать. Я увидела, что отец задумался, а сестра продолжала напирать:
— Именно этого он хочет. Он будет занят, возводя храмы Атона. А кто будет править лучше, ты или верховный жрец Фив?
Я поняла, что отец признал правоту Нефертити. Раз равновесие все равно нарушено, отчего бы не сместить его выгодным для нас образом? Отец куда больше смыслит в тонкостях внутренней и внешней политики, чем жрец, отрезанный от мира стенами храма Амона.
— Тийя будет недовольна, — предостерег отец. — Это рискованная игра. Все может пойти прахом.
— А как еще я могу остаться его любимой женой? — Нефертити вскочила с места. — Сказав ему, что его ожидает падение? Он все равно не откажется от своих замыслов, хоть со мной, хоть без меня!
— Ты что, не можешь отвлечь его от мыслей об Атоне?
— Да он только об этом и думает!
Отец встал и направился к выходу.
— Нужно провернуть это постепенно, — решил он. — При дворе есть люди, которых ни тебе, ни твоему мужу лучше не иметь врагами.
Мы слышали, как его шаги стучат по плиткам пола, удаляясь в сторону его покоев.
Нефертити рухнула в кресло.
— Так значит, пока Аменхотеп читает стихи этой шлюхе, царица Египта проводит ночь в обществе своей сестры!
— Не злись, или он на тебя разобидится, — предупредила я.
Нефертити сердито взглянула на меня, но не стала смеяться над моим предостережением.
— Сегодня ночью я буду спать вместе с тобой, — решила она, и я не стала жаловаться.
Мне бы тоже не хотелось, чтобы мой муж забирался ко мне в постель после ночи, проведенной с другой женщиной.
На следующее утро я проснулась на рассвете и быстро оделась, чтобы отправиться на поклонение в храм Амона. Я старалась двигаться как можно тише, но Нефертити все равно проснулась и заворчала на меня.
— Ты что, в храм? — с недоверием спросила она. — Зачем тебе ходить туда каждый день?
— Мне нравится говорить с Амоном, — виновато, словно бы защищаясь, ответила я.
Сестра недоверчиво фыркнула.
— А ты когда ходила туда в последний раз? — перешла я в наступление.
Нефертити закрыла глаза и сделала вид, будто спит.
— Ты вообще хоть знаешь, где здесь храм Амона? — возмутилась я.
— Конечно. В саду.
— Ну так тебе не помешало бы туда сходить. Ты — царица Египта.
— А ты ходишь туда каждый день. Ты относишь туда подношения за меня. Я слишком устала.
— Чтобы поблагодарить Амона?
— Он знает, что я ему благодарна. И отстань от меня.
Так что я отправилась в сад сама, как и каждым утром со времен нашего переезда в Фивы, и собрала букет цветов, чтобы положить его к ногам Амона. Я брала лишь самые лучшие цветы: ирисы, фиолетовые, словно поздний летний вечер, и гибискус, похожий на звезды и алый, словно кровь. Когда я вернулась из храма, было еще очень рано, и лишь слуги бродили по саду, поливая тамаринд из тяжелых кувшинов. Нефертити наверняка еще спала, потому я отправилась во внутренний дворик, где располагались покои родителей. Мать, конечно, уже встала, чтобы поднести дары к ногам Хатор.
Шагая по дворцу, я наслаждалась тишиной. По коридорам крадучись двигались кошки — черные, поджарые, бронзовоглазые, — но они не обращали на меня внимания. Они разыскивали остатки вчерашнего ужина, фигу в меду, оброненную слугой, или вкусненький кусочек жареной газели. Я дошла до дворика матери и обнаружила ее в саду; она читала свиток со знакомой восковой печатью.
— Новости из Ахмима! — радостно сообщила мать, увидев меня.
Ее новое ожерелье из лазурита сверкало под лучами утреннего солнца.
Я уселась на скамью рядом с ней.
— И что там пишет управляющий? — спросила я.
— За твоим садом хорошо ухаживают.
Я подумала о моей ююбе с плодами цвета имбиря и о чудесном гибискусе, который я посадила прошлой весной. Я так и не увижу, как они поспеют.
— А еще что?
— Виноградные лозы быстро растут. Управляющий говорит, что в Шему урожай может составить шестьдесят бочек.
— Шестьдесят бочек?! Они отошлют их в Мемфис?
— Конечно. Я еще попросила, чтобы мне прислали мои льняные сорочки. Я их позабыла за всей этой суматохой со сборами.
Мы улыбнулись друг другу и обе подумали об Ахмиме. Только улыбка матери была более широкой и невинной, потому что отец оберегал ее от тех вещей, от которых не мог уберечь меня, и она не знала, что мы обменяли безопасность на беспокойство.
— Ну, расскажи же мне о Нефертити, — попросила мать, сворачивая свиток и пряча его к себе в рукав. — Она счастлива?
— Счастлива, насколько это возможно. Вчера ночью Аменхотеп уходил к Кийе. — Я устроилась поудобнее на холодной каменной скамье и вздохнула. — Итак, мы едем в Мемфис.
Мать кивнула:
— Здесь Аменхотеп будет вести себя все нетерпеливее, ожидая смерти Старшего. А может, он даже и ждать не станет, — зловеще добавила она.
Я быстро взглянула на нее:
— Ты что, думаешь, что он попытается приблизить кончину Старшего?
Мать оглядела дворик; но мы были одни.
— Говорят, будто он стал причиной преждевременной смерти Тутмоса. Но это всего лишь разговоры, — поспешно добавила она. — Сплетни слуг.
— Только вот слуги обычно говорят правду, — прошептала я.
Мать слегка побледнела.
— Да.
Тем вечером мы ужинали в Большом зале, но многие придворные отсутствовали, поскольку отправились на похороны родосского посла. Царица Тийя, равно как и мой отец, были там, а вот Старший остался во дворце со своим вином и женщинами. Тем вечером Старший пребывал в особенно вульгарном настроении — самозабвенно пел и рыгал. Я видела, как он ухватил за грудь служанку, наливавшую ему вино, а когда Нефертити уселась рядом с мужем, он поинтересовался, не хочет ли она лучше сесть рядом с ним. Нефертити молча проигнорировала его предложение, а я покраснела, и тогда фараон повернулся ко мне.
— Может, тогда сегодня вечером мне составит компанию зеленоглазая сестра?
— Довольно! — Аменхотеп грохнул кулаком по столу. Придворные обернулись в нашу сторону, посмотреть, что происходит. — Сестра главной жены царя прекрасно себя чувствует там, где она сейчас!
Старший угрожающе поставил чашу с вином и встал; его кресло с грохотом рухнуло.
— Ты мне еще будешь указывать, слабак? — воскликнул фараон, потянувшись за мечом. Но стоило ему сделать шаг, как у него подкосились ноги. Фараон, одурманенный вином, рухнул на мозаичный пол, и десяток слуг ринулись ему на помощь. — Чтобы собственный сын мне указывал, что мне делать? — бушевал фараон.
Аменхотеп вскочил и приказал слугам:
— Уберите его отсюда! Он перепил!
Слуги застыли, глядя то на Старшего, то на его сына.
— Немедленно уберите его! — прикрикнул Аменхотеп.
Слуги кинулись выполнять приказание. Они понесли фараона к выходу. Но Старший вырвался и кинулся к помосту.
Аменхотеп схватился за короткий меч, и у меня бешено заколотилось сердце.
— Нефертити! — крикнула я.
Стражники кинулись наперерез фараону. Старший выкрикнул:
— Никогда царевич, который пишет стишки, вместо того чтобы сражаться на войне, не будет править моим царством! Ты меня слышишь? Тутмос — вот кто был избранным царевичем Египта.
Стражники стали оттеснять его к двери, и Старший яростно крикнул снова:
— Избранный царевич!
Двери зала захлопнулись, и внезапно стало тихо. Все ужинавшие смотрели на Аменхотепа. Тот спрятал меч в ножны и швырнул свой кубок на пол. Кубок разлетелся вдребезги, а Аменхотеп протянул руку Нефертити:
— Идем.
Ужин в Большом зале завершился.
Когда мы добрались до нашей прихожей, Аменхотеп был сильно не в духе.
— Он как свинья — только и думает, что про вино да про женщин! Я никогда не буду таким, как он! — выкрикнул молодой фараон. — Служанка и та интересует его больше, чем я! Будь Тутмос жив, он бы принялся упрашивать его что-нибудь рассказать. «Кого ты сегодня подстрелил?» — передразнил Аменхотеп отца. — «Кабана? Быть не может! Ты схватился с крокодилом?»
Аменхотеп яростно расхаживал из угла в угол. Этак они с Нефертити изотрут тут всю мозаику.
— Отчего это Тутмос — избранный? — гневно выкрикнул он. — Оттого, что я не ношусь и не стреляю в зверей, как это делал он?
— Никого не волнует, ездишь ты на охоту или нет, — сказала Нефертити. Она погладила мужа по щеке, провела рукой по спутанным вьющимся волосам и попросила: — Не переживай. Завтра мы начнем готовиться к отъезду, и ты станешь истинным фараоном и никому ничем не будешь обязан.
8
 27 фармута
27 фармута
На следующий день во дворце начались лихорадочные сборы. Мои родители занимались носилками и вьючными ослами, а Нефертити то и дело кричала из своей комнаты, задавая мне всякие вопросы. Забирать ей свои парики или велеть сделать новые? Что ей носить во время пути до Мемфиса? А Ипу и Мерит поедут с нами? Весь дворец был вверх дном. Даже войско охватило смятение, потому что Старший принялся выбирать, кто останется с ним, а кто отправится в путь. Военачальникам предстояло выбирать самим.
Я ушла в дворцовый сад, подальше от суматохи, и отправилась гулять по аллее, обсаженной сикоморами; их яркие кроны отбрасывали тень на мощеную дорожку. Я неспешно шла вперед, останавливаясь полюбоваться купами цветущих белых миртов у оливковой рощи; их пышный цвет использовался для лечения кашля, дурного дыхания и простуды. Вокруг дворца росло множество растений, способных исцелять или причинять вред. Интересно, знал ли царский садовник, что жасмин хорошо помогает при упадке сил, и случайно ли он посадил виноградные лозы рядом с желтой и белой ромашкой, или он все-таки знал, что придворные лекари используют ромашку, чтобы снижать давление?
Я могла просидеть в саду целый день, и никто бы этого не заметил — разве только Нефертити вдруг что-то понадобилось от меня. Я подобрала камушек и бросила в воду, и вдруг одновременно с плеском послышалось пронзительное мяуканье. Из кустов стрелой вылетело двое котят, испуганных этим плеском.
Одна из дворцовых кошек недавно родила, и теперь котята носились следом за своей поджарой черной матерью, ловили друг друга за хвосты и кувыркались в траве. Я подозвала одного из котят. Зеленоглазая кошечка, точная копия мамаши, свернулась у меня на коленях и замяукала, требуя угощения.
— Спорим, тебе нравится здесь, в саду? — с легкой завистью произнесла я, почесав кошечку под подбородком. — Никто тебе не докучает, никто не спрашивает, какое схенти надеть.
Кошечка, не обращая внимания на мои слова, взобралась по моему платью и уткнулась головенкой мне в шею. Я засмеялась и подхватила ее.
Кошечка растопырила крохотные когтистые лапки, пытаясь за что-нибудь зацепиться.
— Вот сюда.
Я посадила кошечку на сгиб руки, и она, устроившись там, принялась зачарованно наблюдать за стрекозами.
— Мутни! — донесся до меня голос Нефертити. Как всегда, ей что-то было срочно нужно. — Мутни, ты где?
Она появилась из-за деревьев и двинулась ко мне по берегу пруда с лотосами. На глазах ее блестели слезы, но Нефертити не плакала. Она никогда не плакала.
— Что случилось? — Я вскочила, позабыв про котенка. — Что такое?
Нефертити схватила меня за руку и потянула к каменной скамье.
— У меня месячные, — сообщила она.
Я недоуменно посмотрела на нее.
— Но ты замужем за Аменхотепом всего лишь…
Она впилась ногтями в мою руку.
— Кийя уже почти на четвертом месяце! — выкрикнула она. — На четвертом! Ты наверняка знаешь что-нибудь такое, что мне нужно попить, Мутни. Ты же училась травознанию у Ранофера!
Я покачала головой.
— Нефертити…
— Ну пожалуйста! Вспомни, что он тебе говорил! Ты же всегда его слушала!
Да, хотя Ранофер был влюблен в Нефертити, не она, а я терпеливо слушала, когда он сыпал названиями лекарственных трав. Мне захотелось улыбнуться, но в глазах Нефертити стоял страх, и я поняла, насколько это будет серьезно, если Кийя родит сына, а Нефертити к этому времени еще даже не будет беременна.
— Мандрагора, — сказала я.
— Хорошо. — Нефертити выпрямилась, и щеки ее снова порозовели. — Что еще?
— Мед и растительное масло.
Нефертити быстро кивнула:
— Это я могу достать. С мандрагорой, конечно, сложнее.
— Попробуй мед, — предложила я, понимая, что бесполезно напоминать о том факте, что Кийе понадобился почти что год, чтобы понести.
Двадцать восьмого фармути все внутренние дворики дворца были забиты носилками. Тяжело груженные ослы пронзительно ревели, а суетящиеся слуги налетали друг на дружку и бормотали себе под нос ругательства. Поскольку уже был канун Шему и вода стояла низко, наше путешествие в Мемфис должно было занять много дней. Я попросила Ипу поискать на рынке трактаты о травах, чтобы мне было что почитать во время плавания.
— На корабле? Ты собираешься читать на корабле? — Ипу остановилась в дверном проеме и опустила корзинку. К середине дня этой корзинке предстояло заполниться покупками по моему заказу. Мы покидаем Фивы, а кто его знает, какой рынок там, в Мемфисе. Все были в панике, все ринулись в город за лотосовым маслом, сурьмой и кокосовым бальзамом. — Но как это у тебя получится? Тебя что, не тошнит?
— Я буду принимать имбирь. — Я встала с кровати и сунула Ипу в руку несколько медных дебенов. Мы вышли вместе, так что я смогла присоединиться к сестре. — Книгу в кожаном переплете, или хороший свиток, или что-нибудь связанное с травами.
Старший пришел к нам во дворик, посмотреть, как пакуют вещи Аменхотепа, и теперь он с подозрением следил за погрузкой. Дважды, когда он замечал что-нибудь, что не хотел отдавать, он приказывал слугам выгрузить вещь.
— Этот золотой сосуд с бирюзой — дань от нубийцев. Он останется в Мальгатте.
Так что слуги с трудом подняли вазу на ножке и отнесли обратно в покои, которые занимал Аменхотеп. Когда Старший увидел рабыню, к которой питал особую слабость, цветущую девушку с длинными волосами и маленькой грудью, он потребовал, чтобы ее тоже вернули во дворец. Царица посмотрела на него с презрением.
— Я бы никогда не стала терпеть такого распутного мужа, — вне себя от негодования, произнесла Нефертити.
Мы с ней стояли под навесом и наблюдали за представлением.
— Она смотрит сквозь пальцы на его похождения, потому что они его отвлекают, — сказала я ей и сама вдруг осознала истинность своих слов. — Если он в спальне, он не сидит в Зале приемов.
К нам подошла мать. Мы вместе нашли где присесть и стали наблюдать за суматохой. Было жарко и душно, и слуги обмахивали нас опахалами, но Нефертити, похоже, не замечала жары. Она покинула тень, чтобы лично присматривать за погрузкой вещей, которые должны были теперь принадлежать ей, и властно отдавала распоряжения, а слуги потрясенно глазели на нее. Они не привыкли к ее редкостной красоте, миндалевидным глазам и длинным густым ресницам. Но они ошибочно приняли ее красоту за благодушие, не поняв еще, что она наделена безграничной энергией и жаждой перемен.
«Царица Нефертити, — подумала я. — Правительница Верхнего, а со временем и Нижнего Египта. Царица Мутноджмет», — представила я и меня передернуло. Нет, мне бы этого не хотелось. Чей-то негромкий голос отвлек меня от моих мыслей, и я поняла, что рядом с нашим навесом стоит Аменхотеп. На нем было длинное схенти, золотой пояс и серебряные браслеты. Глаза были недавно подкрашены сурьмой. На расстоянии вытянутой руки от него стоял генерал Хоремхеб, но их разделяла пропасть, и я почти не удивилась, осознав вдруг, что военачальник не уважает молодого царя.
— Семьдесят человек будут идти за мной, и пятьдесят — передо мной. Я не хочу, чтобы ко мне подобрался убийца. Если кто-либо из крестьян проберется на баржу незамеченным, он поплатится за это жизнью.
Иногда беглые рабы присоединялись к царскому каравану, чтобы пробраться во дворец, где они могли бы прислуживать и жить среди роскоши.
Хоремхеб промолчал.
— И мы будем в пути от утра и до темноты. До тех пор, пока можно будет безопасно править, — распорядился Аменхотеп. — Мы не будем нигде останавливаться — отправимся прямиком в Мемфис.
Впервые на лице Хоремхеба промелькнула тень некоего чувства.
— Ваше величество, — решительно перебил фараона Хоремхеб, — людям нужно будет отдыхать.
— Пускай гребут по очереди.
— По дневной жаре люди могут начать умирать. Это может дорого обойтись…
— Чего бы это ни стоило, но чтобы все было выполнено! — выкрикнул Аменхотеп.
Вся шумиха во дворике тут же прекратилась. Аменхотеп осознал присутствие слушателей, и к лицу его прихлынула кровь. Он шагнул к Хоремхебу. Тот не дрогнул.
— Ты подвергаешь сомнению приказы фараона? — угрожающе спросил Аменхотеп.
Хоремхеб взглянул ему в глаза.
— Ни в коем случае, ваше величество.
Аменхотеп прищурился.
— Это все? — спросил Хоремхеб.
На мгновение мне показалось, что Аменхотеп не ответит военачальнику. Но он все же произнес:
— Да, все.
Военачальник решительно зашагал туда, где стояли его люди, а Аменхотеп двинулся в противоположном направлении. Нефертити посмотрела на мою мать, потом на меня.
— Что случилось?
— Аменхотеп рассердился на военачальника, — объяснила я. — Мы поплывем прямо в Мемфис, нигде не останавливаясь. Военачальник сказал, что из-за дневной жары люди могут умереть.
— Ну пускай гребут по очереди, — отозвалась Нефертити.
Мы с матерью переглянулись.
Перед нашим отъездом в Мемфис никакого прощального празднества не намечалось. Солнце поднималось все выше, и близилось время отплытия. Во внутреннем дворике появился Панахеси, и мы с сестрой заметили, как он что-то прошептал Аменхотепу на ухо. Они стояли в стороне от всеобщей суматохи, рева ослов и шума, поднимаемого слугами. Нефертити двинулась через дворик и потащила за собой и меня. Панахеси поклонился ей и поспешно отступил.
— Чего ему было нужно? — сердито спросила Нефертити.
Аменхотеп замялся.
— Носилки.
Сестра тут же ухватила суть дела.
— Для Кийи?
— Она беременна. Ей потребуется шесть носильщиков.
Нефертити крепче сжала мою руку.
— Она что, настолько растолстела, что меньше шести человек ее не унесут?
Я покраснела: Нефертити повысила голос на царя Египта.
— Мне следует пойти навстречу Панахеси…
— Кто будет ехать на этих носилках, Панахеси, что ли? Только царицу несут шестеро носильщиков! Что, царица теперь Кийя? Меня уже сместили?
Я ощутила, что все во дворе снова застыли, и заметила краем глаза военачальника Нахтмина.
— Я… я скажу Панахеси, чтобы ее несли только пять носильщиков, — пробормотал Аменхотеп.
Я ахнула, но Нефертити лишь кивнула и осталась стоять, глядя, как Аменхотеп отправился сообщать Панахеси, что его беременной дочери придется обойтись меньшим числом носильщиков. Когда фараон удалился, Нахтмин пробрался через кишащий народом дворик.
— Я пришел пожелать царице Египта счастливого пути, — сказал он, — а сестре главной жены царя — безопасного путешествия. Пусть сады Мемфиса дарят тебе не меньше радости, чем сады Фив, госпожа Мутноджмет.
Нефертити приподняла бровь. Я почувствовала, что молодой военачальник заинтересовал ее. Ей понравилось сочетание его светлых глаз и темной кожи. Нахтмин посмотрел на Нефертити, и внезапно я ощутила приступ ревности.
— Я смотрю, ты хорошо знаком с моей сестрой, военачальник.
Нефертити улыбнулась, и Нахтмин ответил ей улыбкой.
— Мы встречались несколько раз. На самом деле однажды мы столкнулись в саду, и я предсказал ей будущее.
Улыбка Нефертити сделалась шире.
— Так ты не только военачальник, но еще и предсказатель?
Я с силой втянула воздух. Только жрецы Амона знали, чего желают боги.
— Я не стал бы замахиваться так высоко, ваше величество. Я — просто проницательный наблюдатель.
Нефертити придвинулась поближе к нему, так что могла бы при желании коснуться губами его щеки. Мне не нравилась игра, которую они затеяли. Взгляд Нахтмина скользнул по миниатюрному, сильному телу Нефертити и остановился на черных как смоль волосах, обрамляющих ее лицо. До сих пор Нефертити никому не позволяла смотреть на себя так. Военачальник отступил: от аромата ее благовоний у него закружилась голова. Затем появился Аменхотеп, и их опасная игра прекратилась. Нефертити выпрямилась.
— Так ты едешь в Мемфис, военачальник?
— Увы, нет, — ответил Нахтмин, взглянув на меня. — Я стану ожидать вашего возвращения здесь. Но я сопровожу караван вашего величества до пристани.
Нефертити игриво повела плечом.
— Значит, мы скоро увидимся.
И она отправилась выспросить Аменхотепа насчет носильщиков, а Нахтмин пристально взглянул на меня.
— До свидания, военачальник, — холодно произнесла я и отправилась под навес, к матери.
Караван был готов. Во дворике было жарко, животные тревожились, и в воздухе витало ощущение нервозности. Лошади нетерпеливо ржали, а слуги гладили их по мордам, стараясь успокоить. Я упаковала свои растения в тщательно подготовленный для этого сундук, обмотав горшочки тканью, чтобы они не побились друг об дружку за время короткого путешествия от дворца до пристани. На корабле я смогу распаковать их и поставить где-нибудь на солнышке. Но в сундуке была всего дюжина горшочков. Все прочее я оставила во дворце — только взяла от них черенки и разместила в инкрустированном ящичке из слоновой кости. Их были десятки, а кое-что из самых полезных растений я упаковала в маленькие, крепко завязанные льняные мешочки. Военачальник Хоремхеб проверял войско, а Аменхотеп преклонил колени перед отцом, дабы получить благословение Старшего.
— Ты будешь гордиться мною! — поклялся Аменхотеп. — Сегодня боги возрадуются!
Старший повернулся к Тийе. Мне подумалось: уж не думают ли они сейчас о Тутмосе, который должен был бы стоять сейчас на месте Аменхотепа? Аменхотеп тоже заметил это движение отца и встал.
— Ты можешь жалеть о Тутмосе, — прошипел он, — но это я правлю Нижним Египтом. Это меня избрали боги — не его!
Царица Тийя расправила плечи.
— Да защитят тебя боги, — холодно произнесла она.
Фараон кивнул, но во взгляде его не было любви.
Аменхотеп неловко поправил одежду. Затем он заметил, что солдаты и слуги смотрят на него, и с яростью воскликнул:
— Вперед!
Откуда-то вынырнула моя служанка с восклицанием:
— Скорее в носилки!
Я забралась внутрь. Караван двинулся вперед. Меня несли за Нефертити и Аменхотепом, ехавшими вместе. Я отдернула занавески и помахала тете. Та помахала в ответ. Я заметила, что Старший выглядит серьезно и торжественно. Мы отбыли в облаке пыли и быстро преодолели короткое расстояние до залива, окружавшего дворец. Сквозь льняные полотнища, защищавшие меня от солнца, виднелось поблескивание струящейся воды. Когда караван остановился, мы увидели стоящий на якоре внушительный флот. Носильщики опустили носилки, и царская семья проследовала на корабль. Поскольку наше семейство — отец, мать и я — теперь были родичами царя, нам предстояло путешествовать на барже самого фараона, с реющими на мачте золотыми вымпелами. У Панахеси с его семейством был свой собственный корабль. Меня это радовало: никакого корабля не хватило бы, чтобы вместить Нефертити и Кийю.
Баржа была рассчитана на сорок два солдата, гребущих на веслах, и еще на двадцать пассажиров, располагающихся на палубе либо в трюме. В средней части корабля находились деревянные кабины с двумя покоями. Кабины были сделаны из дерева и сверху накрыты льном.
— Это для защиты от жары, — объяснил отец.
— А где будут спать солдаты? — спросила я у него.
— На палубе. Сейчас достаточно тепло.
Корабли смотрелись чудесно. Весла из черного дерева, инкрустированные серебром, блестели на солнце, а над заливом раздавался крик ибиса, ищущего подругу. Я смотрела с палубы, как грузят сокровища из дворца Старшего: медные чаши, кедровые сундуки с париками, алебастровые статуи и жертвенник, украшенный жемчугом. Рабы сгибались под тяжестью множества корзин, перенося на баржи лучшие драгоценности Египта, а стражники надзирали за ними.
Когда корабль отплыл, я отправилась к родителям, в нашу каюту. Мать играла в сенет с женой самого уважаемого в Египте архитектора. «Так значит, Аменхотеп все-таки уговорил его покинуть Фивы», — подумала я.
— А где отец? — спросила я у матери.
Мать, не отрывая взгляда от игры, кивком указала в сторону кормы. Она, как и Нефертити, хорошо играла в сенет. Я отправилась на корму; прежде чем я увидела отца, до меня донесся его голос.
— Почему ты не сказала мне этого раньше?
— Потому что я знала, что ты рассердишься. Но Хоремхеб на нашей стороне. Он понимает, что мы делаем.
Я заглянула в дверь каюты и увидела, что отец качает головой.
— Ты создаешь нам врагов быстрее, чем мы успеваем заводить союзников. Пески Мемфиса поглотят нас без следа, а если народ поднимется против тебя…
— Но они полюбят нас! — заверила его Нефертити. — Мы построим им величайшие храмы, равных которым они не видели! Мы будем устраивать больше празднеств и оделять людей дарами! Вот о чем мечтает Аменхотеп.
— А ты?
Нефертити заколебалась.
— Разве ты не хочешь, чтобы тебя запомнили?
— За что — за налоги на храм?
На миг между ними повисло молчание.
— Ты станешь самым могущественным человеком в стране, — с мольбой произнесла Нефертити. — Я вижу это. Пока он будет строить храмы, ты будешь править царством. Его не интересует политика. Все будет доверено тебе, а Панахеси будет перед тобой, словно бронза перед золотом.
9
 Шему. Сезон сбора урожая
Шему. Сезон сбора урожая
Ко второму пахона я начала различать матросов нашего судна. Они кивали мне, когда я проходила мимо, но они были уставшими и обессиленными — ведь им приходилось грести целый день под солнцем, а для поддержания сил у них была лишь похлебка да вода. Впрочем, у них всегда находилось время для Ипу. Когда она шла по палубе, покачивая бедрами и тяжелыми золотыми серьгами, мужчины разговаривали с ней, словно братья с сестрой, и тихонько, когда никто не видит, смеялись. Но со мной они не говорили никогда, ограничиваясь вежливым: «Госпожа».
На третий день путешествия я начала скучать. Я пыталась читать — про деревья, растущие в царстве Миттани, далеко на севере, там, где сливаются Евфрат и Хабур. За семь дней, которые мы плыли, нигде не причаливая, я прочла все семь трактатов, которые Ипу купила на рынке в Фивах. Затем, на восьмую ночь, даже Аменхотеп устал от непрерывного пути, и мы сошли на берег, чтобы развести костры и размять ноги.
Слуги собрали дрова, чтобы зажарить диких гусей, которых они наловили на реке, и все мы поели из лучшей фаянсовой посуды Старшего. Это было приятной переменой после черствого хлеба и фиг. Ипу присела рядом со мной у костра, с чашей лучшего царского вина в руках. Вокруг нас, у десятка костров, солдаты пили, а придворные играли в сенет. Ипу заглянула в свою чашу и улыбнулась.
— Никогда не пробовала такого хорошего вина, — призналась она.
Я приподняла брови:
— Даже на отцовских виноградниках?
Ипу кивнула и придвинулась поближе.
— По-моему, они открыли бочки с самым старым вином.
Я ахнула.
— Ради сегодняшнего вечера? А фараону что, безразлично?
Ипу посмотрела на Аменхотепа. Я проследила за ее взглядом. Пока придворные смеялись, а Нефертити негромко разговаривала с нашим отцом, Аменхотеп сидел и смотрел на огонь. Губы его сошлись в тонкую линию, а лицо в свете костра казалось изнуренным.
— Его сейчас волнует только одно: как бы добраться до места, — ответила Ипу. — Чем быстрее он прибудет в Мемфис, тем быстрее он сможет принять посох и цеп Египта.
К нашему костру сквозь круг собравшихся пробрался Панахеси в сопровождении Кийи; ее беременность уже была явственно заметна. Когда они подошли к костру, Нефертити повернулась и сильно ущипнула меня за руку.
— Что она тут делает? — сердито спросила она.
Я потерла руку.
— Ну, вообще-то она едет с нами в Мемфис.
Но до Нефертити мой сарказм не дошел.
— Она беременна. Ей полагается находиться на корабле.
«Подальше от Аменхотепа», — явно хотелось добавить ей.
Одна из женщин Кийи положила на песок пуховую подушку, и Кийя присела напротив Аменхотепа, положив руку на свой большой, подкрашенный хной живот. Она вся была такая мягкая и свежая, такая естественная в своей беременности, — в то время как Нефертити, сидящая по другую сторону костра, сверкала малахитом и золотом.
— Мы одолели полпути до Мемфиса, — объявил Панахеси. — Вскоре мы прибудем на место, и фараон взойдет на престол в своем дворце.
Небольшая группка народу у костра кивнула, продолжая негромко разговаривать между собой. Но мой отец внимательно наблюдал за ним.
— Хорошо ли продвигаются планы строительства, ваше величество?
Аменхотеп выпрямился, очнувшись от оцепенения.
— Великолепно. У моей царицы настоящий талант к проектированию. Мы уже набросали схематический план храма с внутренним двориком и тремя алтарями.
Панахеси снисходительно улыбнулся.
— Если вашему величеству потребуется какая-нибудь помощь…
Он развел руками, и Аменхотеп кивнул, давая знать, что ценит его верность.
— У меня уже есть кое-какие замыслы на твой счет, — сказал молодой фараон.
Придворные у ближайших костров перестали играть в сенет.
— Когда мы прибудем в Мемфис, — объявил Аменхотеп, — я поручу тебе проследить, чтобы военачальник Хоремхеб успешно собрал налоги со жрецов Амона.
В костре треснула ветка, огонь зашипел, и Панахеси сумел скрыть свое потрясение. Он взглянул на Нефертити, дабы проверить, в курсе ли она, пытаясь оценить, насколько фараон ныне доверяет ей. Затем все визири заговорили одновременно.
— Но, ваше величество! — не удержался один из них. — Благоразумно ли это?
Панахеси кашлянул.
— Конечно же, благоразумно. Храмы Амона никогда не платили налогов. Они запрятали богатство Египта и тратят, словно собственное.
— Вот именно! — воскликнул Аменхотеп.
Он ударил кулаком по ладони, и многие солдаты обернулись послушать, о чем это там говорит фараон. Я посмотрела на отца. Лицо его было непроницаемо, как у истинного придворного, но я знала, о чем он думает. «Царю всего семнадцать лет. Что же будет через десять лет, когда власть будет лежать на его плечах, словно удобный привычный плащ? Что он ниспровергнет тогда?»
Панахеси наклонился и сказал царю:
— Моя дочь скучала по вам эти восемь ночей плавания.
Аменхотеп быстро взглянул на Нефертити.
— Я не забыл свою первую жену, — изрек он. — Я приду к ней снова… когда мы прибудем в Мемфис.
Он посмотрел через костер на Кийю. Та притворилась, будто знать не знает, о чем ведет речь ее отец. Она нежно улыбнулась супругу. «Вот ведь маленькая дрянь, — подумала я. — Она прекрасно знает, что делает отец».
— Может, пойдем пройдемся по берегу? — тут же предложила Нефертити, схватила меня за руку и увлекла за собой.
Когда мы отошли, я затаила дыхание. Я думала, что сестра в гневе. Но нет, она была в прекрасном настроении. Мы шли по влажному берегу Нила, а за нами на некотором расстоянии двигались два стражника. Нефертити посмотрела на усеянный звездами небосвод и вдохнула прохладный воздух.
— Все, Кийя больше не имеет власти над сердцем Аменхотепа. Он не придет к ней до тех пор, пока мы не прибудем в Мемфис.
— Не такой уж большой срок, — заметила я.
— Но это я проектирую с ним храм. Я правлю вместе с ним. Не она. А вскоре я рожу ему ребенка.
Я взглянула на нее искоса:
— Ты беременна?
У Нефертити вытянулось лицо.
— Нет пока что.
— Ты принимаешь мед?
— Лучше того! — Она рассмеялась, словно в опьянении. — Мои слуги отыскали мандрагору!
— И изготовили сок?
Это было нелегким делом. Я только раз видела, как Ранофер его готовил.
— Да. Прошлой ночью я его выпила. Теперь это может произойти в любой момент.
В любой момент. Моя сестра, беременная наследником египетского трона. Я посмотрела на нее, освещенную серебристым светом, и нахмурилась.
— Но разве тебя не пугают его планы?
— Конечно нет! С чего бы вдруг мне бояться?
— Да с того, что жрецы могут восстать против вас! Они могущественны, Нефертити. Вдруг они попытаются убить вас?
— Без войска? Это как же? Войско на нашей стороне. С нами Хоремхеб.
— А вдруг люди вас не простят? Это их золото. Их серебро.
— И мы освободим его от мертвой хватки жрецов Амона. Мы вернем людям то, что жрецы у них отняли.
— Как?
Даже мне самой собственный тон показался циничным.
Нефертити устремила взгляд на воды Нила.
— Через Атона.
— Через бога, которого никто, кроме вас, не понимает?
— Бога, которого будет знать весь Египет!
— Потому что на самом деле этот бог — Аменхотеп?
Нефертити бросила на меня быстрый взгляд, но промолчала.
На следующее утро матросы медлили с отплытием. Накануне они чересчур много выпили, потому Аменхотеп отдал приказ больше никого не пускать на берег. Мои мать с отцом промолчали и стали гулять по палубе, чтобы размять затекающие ноги, но через три дня по кораблям разошлось известие о том, что шестеро из людей Хоремхеба умерли. Судя по перешептыванию слуг, причиной смерти стала несвежая вода и пища.
— А чего фараон ожидал? — прошипел какой-то визирь, обращаясь к моему отцу. — Если мы не будем регулярно причаливать и искать свежую воду, люди будут умирать!
Это была дизентерия, и ее вылечил бы любой местный лекарь, если бы людям просто позволили сойти на берег.
Два дня спустя стало известно, что умерло еще одиннадцать человек. Затем Хоремхеб нарушил приказ Аменхотепа. Вечером он явился на борт царской баржи, возглавляющей флотилию, и потребовал немедленной аудиенции.
Мы оторвались от игры в сенет. Отец быстро поднялся:
— Не знаю, военачальник, примет ли он тебя.
Но Хоремхеб не намеревался отступать.
— Если дизентерия распространится, умрет еще больше народу.
Отец заколебался.
— Я посмотрю, что мне удастся сделать.
Он скрылся в каюте. Вернувшись, он мрачно покачал головой:
— Фараон никого не принимает.
— Речь идет о людях, — с нажимом, сквозь зубы произнес Хоремхеб. — О людях, которые нуждаются в помощи. Все, что им нужно, — это лекарь. Он что, намерен пожертвовать этими людьми, лишь бы попасть в Мемфис поскорее?
— Да! — Дверь самой дальней каюты распахнулась, и на пороге появился Аменхотеп в схенти и клафте, царском головном уборе. — Фараон не передумает. — Он шагнул вперед и выкрикнул: — Ты слышал мое решение!
Глаза Хоремхеба вспыхнули гневом. Мне подумалось, что он может перерезать Аменхотепу горло одним взмахом кинжала. Затем Хоремхеб вспомнил о своем положении и двинулся к двери.
— Подождите! — неожиданно даже для себя вскричала я.
Военачальник остановился.
— У меня есть мята и базилик. Они могут помочь вашим людям, и нам тогда не придется сходить на берег и искать лекаря.
Аменхотеп напрягся, но у него за спиной в дверном проеме появилась Нефертити.
— Пусть идет! Отпусти ее! — решительно произнесла она.
— Я могу надеть плащ, — быстро предложила я. — Никто даже и не заметит, что я уходила. — Я взглянула на Аменхотепа: — Так люди будут думать, что твоим приказам повинуются, а жизни твоих солдат будут спасены.
— Она изучала травы в Ахмиме, — объяснила Нефертити. — Возможно, она сумеет их вылечить. Вдруг дизентерия начнет шириться?
Военачальник Хоремхеб взглянул на фараона, ожидая, что тот решит.
Фараон вскинул голову с таким видом, словно он проявляет несказанную щедрость:
— Сестра главной жены царя может идти.
Мать смотрела на меня неодобрительно. Лицо отца было непроницаемо. Но речь шла о человеческих жизнях. Позволить людям умереть, когда мы могли бы их спасти, — это против законов Маат. Что подумают боги, если по пути в Мемфис, к началу нового царствования, мы допустим смерть невинных? Я сбегала к своему тюфяку и забрала коробку с травами. Потом я накинула плащ и под покровом темноты спустилась следом за Хоремхебом на палубу.
Ветер с Нила шуршал моим плащом. Я нервничала. Мне хотелось по-быстрому принести подношения Бает, богу странствий, и попросить о благополучном путешествии. Но я шла за военачальником, а он шагал молча, не говоря ни слова. Мы поднялись на судно, где находились больные; в воздухе стояло чудовищное зловоние, которым сопровождается эта болезнь. Я прикрыла лицо плащом.
— Целитель — и брезгливый? — поинтересовался военачальник.
Назло ему я откинула плащ.
Хоремхеб провел меня в собственную каюту.
— Что тебе требуется?
— Горячая вода и чаши. Нужно замочить базилик и мяту и приготовить горячее питье.
Хоремхеб ушел собирать все, что требуется, а я оглядела его покои. Каюта была меньше той, которую делили фараон и Нефертити, и на стенах ничего не висело, хотя мы провели в плавании уже почти двадцать дней. Соломенный тюфяк был аккуратно свернут, а вокруг доски для игры в сенет стояли четыре стула. Я посмотрела на доску. Последнюю партию выиграл тот, кто играл черными. Интересно, кто это был? Хоремхеб? Или он не стал бы оставлять все как есть?
— Вода греется, — сообщил вернувшийся военачальник.
Присесть он мне не предложил. Я осталась стоять.
— Ты играешь в сенет, — заметила я.
Хоремхеб кивнул.
— Ты играл черными.
Он посмотрел на меня с интересом:
— Говорят, ты умна.
Военачальник не сказал, верит ли он этим разговорам, но зато указал на стул. Он и сам уселся, скрестив руки на груди, и мы стали ждать, пока вода закипит.
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать.
— Когда мне было четырнадцать, я сражался за Старшего против нубийцев. Это было восемь лет назад, — задумчиво произнес Хоремхеб.
Значит, сейчас ему двадцать два. Как и Нахтмину.
— Четырнадцать — это важное время, — добавил он. — В этом возрасте определяются судьбы.
Хоремхеб посмотрел на меня, и под его взглядом мне стало неуютно.
— В Мемфисе ты будешь ближайшей советницей сестры.
— Я ничего ей не советую, — поспешно возразила я. — Она сама себе советник.
Хоремхеб приподнял брови, и я вдруг пожалела, что вообще стала с ним разговаривать. Затем в каюту вошел солдат с горшком кипящей воды. За ним — второй, с дюжиной чаш.
Я удивилась:
— Сколько человек больны?
— Двадцать четыре. А завтра их будет еще больше.
— Двадцать четыре?!
И Аменхотеп допустил, чтобы это произошло? Да это же половина корабля! Я принялась трудиться, быстро обрывая листки с мяты и распределяя их по чашам. Военачальник оценивающе наблюдал за моей работой, но, когда я закончила, он ничего мне не сказал. Он забрал чаши с горячим питьем и проводил меня обратно. Я уж думала, что на том мы и расстанемся, но, когда мы добрались до царской баржи, Хоремхеб вдруг низко поклонился:
— Благодарю тебя, госпожа Мутноджмет.
С этими словами он развернулся и исчез в ночи.
Корабли нашей флотилии швартовались у берега так кучно, что матрос, стоящий на носу одной баржи, мог разговаривать со своим товарищем на корме другой. Так рассказы о том, что я сделала для людей Хоремхеба, разошлись по кораблям, и теперь всякий раз, когда баржи причаливали на ночную стоянку, меня одолевали просьбами женщины, ищущие возможности смягчить боли от месячных, избавиться от тошноты или уберечься от нежелательных последствий случайного любовного свидания с матросом.
— Кто бы мог подумать, — сказала Нефертити, торчащая без дела в дверях моей каюты, — что бесконечная болтовня Ранофера о травах на что-то сгодится?
Я покопалась в своем ящичке и вручила Ипу имбирь — от тошноты при укачивании, и листья малины — от болей при месячных. Вот предотвратить нежелательную беременность было потруднее. Ранофер упоминал о сочетании акации и меда, но приготовить эту смесь оказалось непросто. Ипу аккуратно завернула травы в ткань и надписала на пакетиках имена женщин, которым это предназначалось. Ей предстояло передать эти пакетики просительницам.
Нефертити продолжала наблюдать за нами.
— Тебе следует брать за это плату. Травы сами собою не растут.
Ипу подняла голову и кивнула.
— Я тоже это предлагала, госпожа.
Я вздохнула.
— Может, если бы у меня был собственный сад…
— А что будет, когда твои запасы закончатся? — поинтересовалась Нефертити.
Я заглянула в ящичек. Мята почти закончилась, да и листьев малины хватит не больше чем на день.
— Я пополню их в Мемфисе.
Когда мы наконец-то добрались до столицы Нижнего Египта, женщины выбежали на палубы, а мужчины столпились рядом с ними, спеша взглянуть на Мемфис. Мемфис был прекрасен. Город многолюдных рынков блистал под утренним солнцем. Воды Нила плескались о ступени храма Амона. До нас доносилась перекличка торговцев, разгружающих свои суда у причала. Храмы Аписа и Птаха поднимались выше самых высоких зданий; их золотые крыши сверкали в солнечных лучах. Нефертити смотрела на него круглыми глазами.
— Он великолепен!
Аменхотеп содрогнулся.
— Я вырос здесь, — сказал он. — Среди отвергнутых сокровищ и нежеланных жен моего деда.
Слуги принялись разгружать наши барки, а фараону и придворным подали колесницы, чтобы доехать до дворца, хоть тот был и совсем близко. Тысячи людей столпились на улицах. Они осыпали наш кортеж лепестками цветов, размахивали ветвями и выкрикивали имена царя и царицы, да так громко, что их голоса заглушали ржание лошадей и грохот колесниц.
Аменхотеп просто-таки таял при виде этой новообретенной народной любви.
— Они тебя обожают, — сказала ему на ухо Нефертити.
— Принесите два сундука с золотом! — приказал Аменхотеп, но визири не слышали его из-за шума, поднятого кортежем, и кличей толпы. Фараон дал знак Панахеси, и тот остановил колесницы. Аменхотеп выкрикнул во второй раз: — Два сундука с золотом!
Панахеси соскочил с колесницы и побежал обратно к барже. Вернулся он с семью стражниками и двумя сундуками, и, когда люди поняли, что сейчас произойдет, они просто обезумели.
— Во славу Египта!
Аменхотеп ухватил полные горсти дебенов и швырнул в толпу. На миг воцарилась тишина, а потом толпа забурлила, и ее скандирование сделалось почти звериным. Нефертити запрокинула голову и расхохоталась. Она и сама набрала полные пригоршни колец и принялась швырять их простолюдинам.
Люди пытались бежать за колесницей фараона, и солдаты Хоремхеба перекрывали им путь копьями. Когда мы въехали в ворота дворца, толпа сделалась неуправляемой. Там собрались тысячи людей — а сундуки уже опустели.
— Они хотят еще! — воскликнула Нефертити, увидев, как женщины бросаются на ворота.
— Ну так дайте им! — выкрикнул Аменхотеп.
Принесли третий сундук, но мой отец поднял руку.
— Разумно ли это, ваше высочество? — обратился он к Нефертити, глядя на нее в упор. — Люди поубивают друг друга.
Вперед вышел Панахеси:
— Я прикажу принести четвертый сундук, ваше величество. Они будут любить вас.
Аменхотеп ликующе рассмеялся.
— Четвертый! — приказал он.
Принесли и четвертый сундук, и золотые кольца полетели через ворота. Хоремхеб скомандовал своим людям хватать любого простолюдина или раба, который попытается перелезть через дворцовую стену.
Я в ужасе ухватилась за мать.
— Они дерутся!
— Да! — Аменхотеп улыбнулся. — Но они будут знать, что я люблю их!
Он зашагал через сад ко дворцу, слуги кинулись за ним.
— Купить народную любовь нельзя! — гневно произнес отец. — Они будут презирать тебя!
Аменхотеп остановился. Нефертити примирительно коснулась его руки:
— Мой отец прав. Это уже чересчур.
Панахеси бочком пробрался поближе к молодому царю.
— Но люди много месяцев будут говорить о великом фараоне Аменхотепе.
Аменхотеп проигнорировал беспокойство отца.
— Проведите нас в наши покои! — приказал он, и нас повели в наши новые комнаты.
Как всегда, покои фараона располагались в центре дворца. Одежды Нефертити отнесли в его комнаты, и, хотя мемфисские слуги смотрели на это, вытаращив глаза, слуги, прибывшие из Мальгатты, знали, что делают. Визиря Панахеси и моих родителей разместили в дворике слева от царя, а меня поселили в отдельной комнате справа от Нефертити — нас разделял лишь короткий коридор. Через десять дней сюда должно было прибыть войско почти в три тысячи человек; их должны были разместить в казармах под стенами дворца. Из солдат, которые плыли вместе с нами, за время пути умерло почти две сотни.
Когда я вошла в свою новую комнату, расположенную в одном дворике с царскими покоями, первым делом мне бросилась в глаза позолоченная кровать с вырезанными изображениями Беса, бога, отгоняющего демонов. Комната была большой, с пышными пуховыми подушками в каждом углу и с яркими глазурованными сосудами, расставленными на низких кедровых сундуках. Потолок поддерживали колонны в форме бутонов лотоса, а в углу Ипу уже принялась распаковывать мое имущество. Она видела, что в Мальгатте я поставила свой ящик с травами в прохладном углу, и теперь сделала то же самое и даже, как я, развесила янтарного цвета листья мирта, чтобы освежить комнату. Работая, она негромко напевала. В дверях появилась улыбающаяся Нефертити.
— Иди посмотри! — позвала меня она, ухватила за руку и потащила в царские покои.
Там она, ухмыльнувшись, отступила, а я ахнула.
Я никогда в жизни не видала ничего подобного. Комната была украшена изысканной мозаикой и росписями и уставлена золотыми статуями, изображающими самых могущественных богов Египта. Из широкого окна-арки открывался вид на ухоженный дворцовый сад и окаймленные деревьями аллеи, что спускались к Нилу. К этой комнате примыкали комната для париков, благоухающая лотосом, и комната, в которой могла работать Мерит. Я прошла во вторую комнату; там уже все было приготовлено для работы: шарики благовоний для подмышек, бигуди, щипчики, флаконы с благовониями и сосуды с сурьмой, уже смешанной с маслом фиников. Ручное зеркальце было искусно вырезано в форме анка, и повсюду, где только было можно, стояли сундучки с косметикой. Лампы были инкрустированы слоновой костью и обсидианом.
Аменхотеп сидел в углу, наблюдая за моей реакцией.
— Ну как, сестра главной жены царя одобряет эти покои? — поинтересовался он, встал и взял Нефертити за руку, так что ей пришлось отпустить меня. — Ты — первый человек, к которому твоя сестра побежала хвастаться.
Я поклонилась ему.
— Покои прекрасны, ваше величество.
Аменхотеп сел и усадил Нефертити себе на колени. Сестра рассмеялась и жестом велела мне сесть напротив них. Она весело произнесла:
— Завтра архитектор Майя начнет работу над храмом.
Я села.
— Храмом Атона?
— Конечно Атона! — огрызнулся Аменхотеп. — Двадцать шестого пахона войско начнет собирать налоги с жрецов. Первого пайни начнется строительство. Как только храм будет завершен, нам не понадобятся больше верховные жрецы. Мы сами станем верховными жрецами.
Он с победным видом повернулся к моей сестре:
— Ты и я… и боги будут говорить нашими устами!
Я отпрянула. Это было богохульство.
Но Нефертити ничего не сказала и отвела взгляд.
Ужин в Большом зале был хаотичен. Хотя сам зал был таким же, как и в Фивах, тут царила такая суматоха и толкотня, какую я прежде встречала лишь на рынке. Слуги кланялись писцам и грубили придворным, поскольку еще не успели запомнить фиванскую знать в лицо. Лишь несколько визирей присутствовали, и даже Панахеси куда-то делся — возможно, все еще разглядывал свои наряды и свои покои. Ко мне то и дело подходили женщины и благодарили за травы — женщины, которых я никогда не видела; и все они желали знать, можно ли у меня будет и впредь купить акацию, и добавляли, что готовы за нее платить, и за листья малины тоже, если я буду и дальше их обеспечивать.
— Давай, соглашайся, — подбодрила меня Ипу. — Я могу приносить тебе любые травы с пристани. Ну да, сада у тебя нет, но если ты скажешь, что тебе нужно…
Я на миг задумалась. Дело было не только в акации и малине. Женщины спрашивали меня и о других травах. О масле сафлора, чтобы снимать боль в мышцах и укреплять волосы, о фигах и иве — от зубной боли, о мирте — для лечения ран. Что-то я могла взять со своих растений в горшочках, но остальное придется разыскивать Ипу.
— Ну ладно, — нерешительно согласилась я.
— А ты будешь брать за это плату?
— Ипу! — ахнула я.
Но она по-прежнему смотрела на меня в упор.
— Женщины в гареме фараона берут плату за лен, который они ткут. И твой отец тоже не работает без платы только потому, что он работает на царскую семью.
Я поежилась от неловкости.
— Могу брать.
Ипу улыбнулась и отошла.
— Я принесу тебе еды, госпожа.
Мои родители сидели за одним столом с царем. Отныне Нефертити предстояло есть вместе с Аменхотепом, на помосте, и наблюдать за всем залом. А сегодня вечером, поскольку еще не было распределено, кому где сидеть, архитектор Майя сидел с нами под тронами Гора. Они с женой были скроены на один лад: высокие египтяне с внимательными глазами.
— Фараон желает начать строительство храма Атона, — предостерегающе произнес Майя.
Мой отец резко выдохнул:
— Он сказал тебе об этом?
Архитектор обеспокоенно оглянулся через плечо. Нефертити с Аменхотепом отнеслись к происходящему с полнейшим равнодушием; их куда больше интересовал разговор о храмах и налогах, который они вели. Майя ответил, понизив голос:
— Да. А через два дня войско начнет собирать налоги с храмов Амона.
— Жрецы не рады будут передавать кому-то то, что принадлежало им на протяжении веков, — резко произнес отец.
— Тогда фараон их убьет, — ответил Майя.
— Он так приказал?
Величайший из египетских архитекторов сдержанно кивнул.
Отец встал, отодвинув кресло.
— Нужно известить Старшего.
Размашисто шагая, он вышел из зала, моя мать последовала за ним, и царственная чета на помосте впервые обратила внимание на что-то, кроме себя самих. Нефертити поманила меня, веля подойти к тронам.
— Куда пошел отец? — требовательно спросила она.
— Он услышал, что вы намереваетесь вскоре начать строительство, — осторожно произнесла я. — Он пошел готовиться.
Аменхотеп откинулся на спинку трона.
— Я не ошибся в твоем отце, — сказал он Нефертити. — Раз в семь дней, — решил он, — мы будем собирать двор в Зале приемов. В остальное время пускай просителями и иностранными послами занимается Эйе.
Сестра взглянула на меня с одобрением.
10
 Мемфис
25 пахона
Мемфис
25 пахона
В первое мое утро в Мемфисе отец с Нефертити тихонько нырнули ко мне в комнату и закрыли за собою дверь. Ипу, спавшая в комнате напротив, вместе с еще одной служанкой и моим стражником, громко похрапывала.
Я выбралась из-под одеяла.
— Что случилось?
— Отныне мы встречаемся здесь, — сказал отец.
Нефертити уселась ко мне на кровать. Я потерла глаза, прогоняя сон.
— А почему здесь?
— Потому что покои Панахеси выходят в тот же внутренний дворик, что и отцовские, и, если я заведу обыкновение навещать отца там, Панахеси заведет обыкновение подсылать соглядатаев.
Я оглядела комнату.
— А где мама?
Отец уселся.
— В купальне.
Очевидно, она не будет участвовать в наших совещаниях. Оно и к лучшему. Она потеряла бы сон от беспокойства.
— Завтра Аменхотеп начнет собирать налоги с храмов, — сказал отец. — Нам нужно составить план на тот случай, если дела станут плохи.
Я подалась вперед.
— На какой случай?
— Если Хоремхеб выступит против фараона, а жрецы взбунтуются, — коротко отозвалась сестра.
От страха у меня сдавило горло.
— Но почему это может случиться?
Нефертити пропустила мой вопрос мимо ушей.
— Если завтра дела пойдут скверно, — решил отец, — все члены семьи соберутся за храмом Амона. Мы возьмем колесницы в северной части дворца, где ворота не охраняются, и поедем к пристани. Если войско выступит против нас, они будут штурмовать дворец с юга. У причала нас будет ждать корабль, готовый к отплытию. Если фараона убьют, мы вернемся в Фивы.
Нефертити быстро взглянула в сторону двери, убедиться, что нас никто не подслушивает.
— А если не убьют? — поинтересовалась она, понизив голос.
— Тогда мы проследуем на корабль все вместе.
— А если он не
пойдет?
— Тогда тебе придется идти без него. — Голос отца был суров. — Потому что он будет обречен и не доживет до ночи.
Я содрогнулась, и даже Нефертити, похоже, заволновалась.
— Если дела пойдут скверно, — повторила она. — Но нет никаких указаний на то, что они и вправду пойдут скверно.
— И все же мы подготовимся. Пускай Аменхотеп, если хочет, принимает опрометчивые решения, но нашу семью он за собою не утащит.
Отец встал, но Нефертити не шелохнулась.
— Вы обе поняли, что следует делать?
Отец посмотрел на нас. Мы кивнули.
— Я буду в Пер-Меджат.
Он отворил дверь и удалился в сторону Зала книг.
Нефертити, озаренная лучами встающего солнца, посмотрела на меня.
— Завтра решится судьба царствования Аменхотепа, — сказала она. — Он пообещал Хоремхебу множество вещей. Войну с хеттами. Новые колесницы. Щиты большего размера.
— И он выполнит обещания?
Нефертити пожала плечами:
— После того как он соберет налоги, какое это будет иметь значение?
— Мне бы не хотелось заполучить Хоремхеба во враги.
— Да. — Нефертити коротко кивнула. — И я не настолько глупа, чтобы думать, что мы непобедимы. Но у Тутмоса никогда не хватило бы мужества бросить вызов жрецам. Если бы я вышла замуж за Тутмоса, мы до сих пор сидели бы в Фивах, ожидая, пока Старший умрет. Аменхотеп же видит новый, более великий Египет.
— А чем плох Египет нынешний?
— Да ты посмотри по сторонам! Если нашему царству грозят хетты, у кого должны быть деньги на ведение войны?
— У жрецов. Но если власть фараона станет безраздельна, — возразила я, — кто скажет ему, когда следует вести войну, а когда нет? Вдруг он захочет начать бесполезную войну? А жрецов, чтобы остановить его, не будет?
— Как это война может быть бесполезной? — удивилась сестра. — Все они служат возвеличиванию Египта!
В полдень следующего дня мы собрались в Зале приемов. Там присутствовала Кийя; ее круглый живот заметно выпирал из-под платья. Служанка помогла ей сесть в кресло напротив меня, на ступеньку ниже трона, и я поняла, что до рождения ребенка осталось меньше пяти месяцев. Кийя надела новый парик и накрасила руки и тяжелые груди хной. Я заметила, что Аменхотеп посматривает на ее грудь, и сощурилась, подумав, что ему следует смотреть только на мою сестру.
Панахеси с моим отцом уселись на втором ряду, а менее значительные чиновники расселись кружком по залу. В середине расположился архитектор, Майя. Я с ним никогда не беседовала, но слышала, что он умен. Отец как-то сказал, что для Майи нет невозможного. Когда Старший пожелал озеро посреди пустыни, Майя его создал. Когда фараон захотел собственное изваяние небывалой величины, Майя нашел способ сделать такую статую. Теперь же он собрался строить храм Атона, бога, о котором никто не слыхал, защитника Египта, которого понимает только Аменхотеп.
— Ты готов? — нетерпеливо спросил восседающий на троне Аменхотеп.
Майя передвинул свитки папируса и взял тростниковое перо.
— Да, ваше величество.
— Записывай все, — велел Аменхотеп.
Архитектор кивнул.
— Я хочу, чтобы у входа в храм стоял ряд сфинксов с бараньими головами.
Архитектор снова кивнул и записал пожелание фараона.
— Там должен быть открытый двор, окаймленный лотосовыми колоннами.
— И пруды с рыбой, — добавила Нефертити. Отец нахмурился, но Нефертити не обратила на него внимания. — И сад. С озером. Вроде того, которое ты сделал для царицы Тийи.
— Только больше, — с нажимом произнес Аменхотеп, и зодчий заколебался.
— Если этот храм будет рядом с нынешним храмом Амона… — Майя сделал небольшую паузу. — Там может не оказаться места для озера.
— Значит, мы снесем храм Амона, и место появится! — торжественно заявил Аменхотеп.
Придворные принялись перешептываться. Я посмотрела на мать. Та была мертвенно-бледной; она пыталась поймать взгляд Нефертити, но моя сестра отводила глаза. Как он может снести храм Амона? Где же тогда будет отдыхать бог? Куда ходить людям, чтобы поклониться ему?
Майя кашлянул.
— На снос храма могут уйти годы, — предупредил он.
— Значит, озеро будет делаться в последнюю очередь. Но там должны быть высокие каменные пилоны и могучие колонны. И стенные росписи у каждого входа.
— Изображающие нашу жизнь в Мемфисе, — заявила Нефертити. — Чтобы там были слуги с опахалами, и телохранители, и визири, и писцы, и слуги, подносящие сандалии и ходящие по коридорам, — и мы.
— И чтобы на каждой колонне было изображение царя и царицы Египта.
Аменхотеп взял Нефертити за руку, позабыв про сидящую внизу беременную жену, и их захватило видение, внятное только им двоим.
Майя положил тростниковую ручку и посмотрел на помост.
— Это все, ваше величество?
— Пока да. — Аменхотеп стукнул скипетром об пол. — Введите военачальника!
Двери распахнулись, и в Зал приемов вступил Хоремхеб. Когда архитектор вышел и его место занял военачальник, я заметила, что многие визири напряглись. Я удивилась и подумала: неужто они боятся его?
— Все ли подготовлено? — спросил Аменхотеп.
— Солдаты готовы, — отозвался Хоремхеб. — Они ждут вашего приказа.
«И ожидают вознаграждения». Я читала эти слова на лице военачальника и понимала, что солдаты ждут войны с хеттами, чтобы помешать им захватывать наши владения.
— Тогда передай им мой приказ и приступай.
Хоремхеб двинулся к двери, но, прежде чем он дошел до выхода, Аменхотеп подался вперед и остановил его.
— Не разочаруй меня, военачальник!
Придворные повытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Хоремхеб обернулся.
— Я никогда вас не разочарую, ваше величество. Я всегда держу свое слово. И знаю, что и вы сдержите свое.
Когда тяжелые, окованные металлом двери захлопнулись, Аменхотеп вихрем слетел с трона, напугав визирей.
— Прием окончен!
Сидящие в зале чиновники заколебались.
— Вон отсюда! — выкрикнул фараон, и все вскочили на ноги. — Эйе и Панахеси пусть останутся.
Я тоже встала, но Нефертити вскинула руку, веля мне остаться. Зал приемов опустел. Я снова опустилась на свое место. Кийя тоже осталась сидеть. Аменхотеп принялся расхаживать взад-вперед.
— Этому военачальнику нельзя доверять! — решил он. — Он не предан мне!
— Но вы еще не испытали его, — негромко заметил отец.
— Он верен только своим людям из войска!
Панахеси кивнул:
— Совершенно с вами согласен, ваше величество.
Почуяв поддержку, Аменхотеп принял решение:
— Я не пошлю его на войну. Я не стану отправлять его на север воевать с хеттами, чтобы он вернулся с полными колесницами оружия и золота и использовал их для мятежа!
— Мудрое решение! — тут же поддержал его Панахеси.
— Панахеси, я отправляю тебя надзирать за храмами, — сказал Аменхотеп. — Ты отправишься с Хоремхебом следить, чтобы ничего не было украдено. Все, что соберет войско, следует доставить ко мне. Во славу Атона.
Он повернулся к моему отцу.
— Эйе, ты займешься иноземными послами. Ты будешь решать все дела, подлежащие рассмотрению перед троном Гора. Я доверяю тебе больше всех.
Фараон впился взглядом в отца, и тот почтительно поклонился.
— Да, ваше высочество.
На третий вечер нашего пребывания в Мемфисе ужин в Большом зале получился молчаливым. Фараон пребывал в дурном расположении духа и взирал на всех с подозрением. Никто не смел упомянуть имя военачальника Хоремхеба, а визири тихонько перешептывались между собой.
— Ты еще не видела здешние сады? — спросила меня мать.
Она наклонилась и угостила кусочком утки одну из дворцовых кошек, на зависть слугам. За нашим столом она единственная была весела. В тот момент, когда Аменхотеп поклялся отвернуться от генерала, как только Хоремхеб закончит разбираться с храмами Амона, мать изучала местные рынки.
Я покачала головой и со вздохом отозвалась:
— Нет. Я разбирала вещи.
— Тогда нам надо сходить туда после ужина! — жизнерадостно заявила мать.
Когда Большой зал опустел, мы прошли через заполненные народом внутренние дворики и отправились прогуляться по вечерней тишине. С верхней площадки дворцовой лестницы, ведущей в сады, я увидела нанесенные ветром песчаные холмы Мемфиса. В угасающем свете дня видно было движение песка и дрожащую пыльную дымку. Солнце садилось, но было еще тепло, и небо этим вечером было ясным. Я сорвала листик с дерева:
— Мирт.
Я растерла листок в пальцах и поднесла руку к лицу матери, предлагая ей понюхать. Она отпрянула.
— Ужас какой!
— Вовсе и не ужас, когда у тебя что-то болит.
Мать посмотрела на меня.
— Возможно, нам с тобой стоило бы остаться в Ахмиме, — внезапно произнесла она. — Ты скучаешь по своему саду. У тебя всегда были большие способности к травознанию.
Я взглянула на нее, пытаясь понять, отчего вдруг она заговорила об этом сейчас.
— Ранофер был хорошим наставником, — ответила я.
— Ранофер женился, — сказала мать.
Я вскинула голову.
— На ком?
— На местной девушке. Конечно, она не так красива, как Нефертити, но она любит его и будет ему верна.
— Ты думаешь, Нефертити его любила? — спросила я.
Мы стояли и смотрели на темнеющее небо. Мать вздохнула.
— Любовь бывает разная, Мутноджмет. Любовь к родителям, любовь к детям, любовь, которая на самом деле вожделение.
— Нефертити испытывала вожделение?
Мать рассмеялась.
— Нет, для этого она слишком хорошо владеет собою. Это мужчины вожделеют ее. Но я думаю, что она любила Ранофера — на свой лад. Он был рядом, он был привлекателен, и он ходил за нею по пятам.
— Как Аменхотеп.
Мать едва заметно улыбнулась.
— Да. Но Ранофер всегда понимал, что Нефертити предназначена для фараона. Она — дочь царевны.
— А теперь он женился.
— Да. Думаю, его сердце исцелилось.
Мы обе улыбнулись. Я была рада за Ранофера. Он женился на местной девушке. Наверное, у него хорошая жена, которая перемывает его травы и подает ему обед, когда он возвращается домой, навестив своих пациентов в деревне. Интересно, а мой будущий муж будет разбираться в травах или в садоводстве? На небо высыпали звезды; мы отправились обратно во дворец. Мать прошла ко мне в покои, напугав Ипу; девушка поспешно поклонилась и зажгла лампу.
— Чудесно.
Мать коснулась рисунка, изображающего Исиду и Осириса. На стене было нарисовано изображение моей богини-покровительницы.
— Мут, — сказала мать, глядя на освещенную светом лампы кошачью голову. Она взглянула в мои зеленые глаза, потом снова посмотрела на богиню. — Интересно, это имена определяют наши судьбы или судьба подталкивает нас к тому, чтобы выбирать определенные имена?
Мне и самой хотелось бы это знать. А знала ли мать, что у меня будут кошачьи глаза, когда выбрала мне это имя, Мутноджмет? И могла ли первая жена отца знать, какой красивой вырастет Нефертити, когда назвала ее «Красавица грядет»?
Мать опустила руку.
— Завтра будет трудный день, — многозначительно произнесла она. — Завтра решится будущее Мемфиса.
«И решит его человек, которого фараон собрался предать». Интересно, мать слышала об этом от отца? Я промолчала, и мать мягко улыбнулась.
— Тебе пора спать.
Я, как дитя, повиновалась и улеглась в кровать. А мать поцеловала меня в лоб — как раньше, в Ахмиме.
Поутру меня разбудило солнце; его лучи проникли в комнату сквозь плетенные из тростника занавески. Мир вокруг меня был странно безмолвным. Я встала и проверила дверь, но Ипу ушла. Я выглянула во дворик. Никого из слуг не было видно. Я быстро оделась. Наверное, что-то пошло скверно. Что случилось? Хоремхеб предал нас? Баржи скрылись? Я помчалась по коридору. Может, они уплыли без меня? Как я могла столько проспать? Я ускорила шаг, а когда увидела в коридоре слугу, тут же кинулась к нему:
— Где все?
Слуга, обремененный грудой свитков, двинулся прочь от меня.
— В Большом зале, госпожа.
— А почему там?
— Потому что в Зал приемов все не поместится.
В Большом зале двое стражников расступились, давая мне дорогу; я вошла в зал — и ахнула. В распахнутые окна лился утренний свет, но мне в глаза бросились не яркая мозаика и не позолоченные столы. В зале стояли открытые сундуки с сокровищами, один за другим: серебряные скипетры и искусно обработанное золото, которые сотни лет были скрыты от глаз фараонов Египта. Они были свалены беспорядочными грудами: древние изваяния Птаха и Осириса, золотые троны, лакированные ладьи и сундуки, заполненные бронзой и золотом. Нефертити с Аменхотепом стояли на помосте, а солдаты вносили все новые и новые сокровища. Мои родственники стояли рядом и наблюдали за этой сценой.
— Да тут, должно быть, все золото Египта! — воскликнула я.
Проходивший мимо военачальник Хоремхеб бросил на меня пристальный взгляд. Отец отделился от толпы чиновников и взял меня за руку.
— Все прошло хорошо.
— Это потому ты меня не разбудил? — спросила я, обидевшись на то, что никто не потрудился позвать меня и позволить мне присутствовать при таком торжественном моменте.
— Твоя мать строго-настрого велела не будить тебя, если только дела не станут плохи. — Он отечески погладил меня по спине. — Мы же о тебе заботимся, котеночек. Не сердись.
Мы вместе оглядели Большой зал, и отец предостерегающе произнес:
— Если беспорядки начнутся, то до наступления вечера. Они еще не были у верховного жреца Амона.
— А он знает, что к нему придут?
— Его предостерегли.
Я понизила голос:
— Ты думаешь, будут беспорядки?
— Да, если верховный жрец достаточно глуп, чтобы не видеть течения.
Я потрясенно взглянула на отца.
— Так ты согласен со всем этим?
Отец на миг прикрыл глаза.
— Изменить пустыню невозможно. Можно лишь пересечь ее по самому короткому пути. Желание очутиться в оазисе оазиса не сотворит, Мутноджмет.
Внезапно в зале воцарилась тишина, и я заметила, что люди Хоремхеба исчезли. Нефертити спустилась с помоста к нам с отцом.
— Солдаты отправились в храм Амона, — возбужденно произнесла она.
Мы посмотрели на сокровища, сверкающие на солнце. Их было так много, что я невольно задумалась: солдаты и вправду просто взяли с храмов налоги или же выгребли все, что обнаружили в храмовых сокровищницах?
— Не может быть, чтобы это все — только налоги, — произнесла я вслух. — Вы только гляньте! Этого слишком много!
— Ой, да в Мемфисе десятки храмов! — весело откликнулась Нефертити. Отец сурово посмотрел на нее, и Нефертити, защищаясь, добавила: — Солдатам приказали забрать из сокровищниц четвертую часть золота.
— А они выполняют этот приказ? — строго спросил отец.
— Конечно, — отозвался Аменхотеп. Мы даже не слышали, как он подошел. Он встал между мною и сестрой и обнял ее за тонкую талию. — Там Панахеси — как раз чтобы за этим проследить.
Он посмотрел Нефертити в глаза. Нефертити положила голову ему на плечо.
— Как так получается, что с тех пор, как в моей жизни появилась ты, все мои замыслы приносят плоды?
Нефертити соблазнительно повела плечом с таким видом, словно она знает ответ, но говорить его не хочет.
«Верховному жрецу Амона еще предстоит расстаться со своими богатствами», — мрачно подумала я.
Мы ждали в Большом зале. Несколько часов из Великого храма Амона не было никаких известий, и придворные забеспокоились. Аменхотеп расхаживал взад-вперед, а Нефертити играла в сенет с моей матерью. Когда дверь наконец-то распахнулась и в нее стремительно вошел Хоремхеб, все в Большом зале затаили дыхание. Военачальник подошел к помосту — в кожаном доспехе, но без оружия.
— Где оно? — вскричал Аменхотеп. — Где золото Амона?
— Верховный жрец не согласен платить налог, — просто ответил Хоремхеб.
В голосе Аменхотепа прорезался гнев.
— Тогда почему ты здесь? Ты знаешь условия! Если он не склонится перед фараоном, он должен за это заплатить!
Визири Аменхотепа принялись с жаром переговариваться.
— Тихо! — рявкнул на них фараон.
В Большом зале мгновенно воцарилась тишина.
— Пусть верховный жрец послужит всем примером, — посоветовал Панахеси.
Отец встал со своего места.
— Его смерть может вызвать бунт. Народ считает, что его устами говорят боги. Гораздо разумнее будет арестовать его.
Аменхотеп посмотрел на Нефертити, и всему двору стало ясно, какое влияние она приобрела. Нефертити спустилась с помоста.
— Делай так, как ты считаешь правильным. Возможно, и вправду мудрее будет арестовать его, — признала Нефертити, — но если он не пойдет мирно…
Она развела руками. Только что она одним махом и успокоила всех, и приговорила верховного жреца.
Аменхотеп повернулся к Хоремхебу.
— Арестуй его! Если он не согласится идти — возьми его жизнь!
Хоремхеб не шелохнулся.
— Мои люди не убийцы, ваше величество.
— Он — изменник! — вскипел Аменхотеп. — Пятно на великой славе Атона!
— Тогда я арестую его и приведу сюда. Мирно.
Видно было, что Аменхотепу хочется разразиться бранью, но Хоремхеб был нужен ему. Работа пока еще была не окончена. Нефертити шагнула вперед и что-то прошептала на ухо Хоремхебу. Я поняла по губам, о чем она говорит.
— Царствованию Амона конец, — угрожающе произнесла она. — Отныне Египет охраняет Атон!
Они посмотрели друг на друга, вложив в эти взгляды очень многое. Хоремхеб поклонился и развернулся, собираясь уходить.
Аменхотеп посмотрел на Панахеси и приказал:
— Иди за ним!
Тем вечером в моей комнате состоялась встреча.
— Ты позволила ему убить верховного жреца Амона!
Отец был вне себя от гнева. Он расхаживал по комнате, а плащ обвивался вокруг его ног.
Нефертити сидела на краю моей кровати. Она явно была потрясена.
— Он отказался платить налог, — возразила она. — Если бы он мирно пошел…
— Панахеси не дал ему возможности пойти мирно! Это против Маат! — предостерег отец, и Нефертити слегка побледнела.
— Богиня поймет…
— А поймет ли? — переспросил отец. — Ты готова рискнуть своим ка — своей душой — ради этого?
Мы с ним посмотрели на Нефертити.
— Сейчас уже ничего нельзя поделать, — отозвалась она. — Он мертв и… и Аменхотеп ждет меня в наших покоях. Сегодня ночью будет пир, — добавила она еле слышно и украдкой взглянула на отца. — Он ждет тебя, — поспешно произнесла Нефертити. — И Панахеси там будет.
Отец не ответил. Хоремхеб не предал царя, но произошло нечто худшее, грозящее более длительными последствиями. Это деяние Аменхотепа отзовется не только на земле, но и среди богов. Отец выскочил прочь из комнаты. Нефертити быстро взглянула на меня. Затем она поспешила следом за отцом, и я осталась в комнате одна.
Когда появилась Мерит и передала указание, чтобы я надела на пир мои лучшие украшения, я гневно покачала головой.
— Но так пожелала царица, — удивилась она.
— Тогда передай царице, что она будет единственной дочерью Эйе, которая сегодня вечером будет выглядеть потрясающе. На мой взгляд, двору сегодня следует горевать, а не радоваться!
Мерит посмотрела на меня озадаченно.
— Верховный жрец убит!
До Мерит наконец-то дошло.
— А! Да. Да примет Осирис его душу, — пробормотала она. — Я передам твой ответ царице, госпожа. Но ты пойдешь? — переспросила Мерит.
— Конечно! — огрызнулась я. — Но только потому, что у меня нет другого выхода!
Мерит взглянула на меня с любопытством, но мне это было безразлично. Мне было все равно, кто узнает о том, что я считаю неправильным праздновать смерть Маат. Но в конечном итоге я знала, что даже мой отец будет присутствовать на пиру у фараона. Ибо фараон превыше всех.
Я встала посреди комнаты и закрыла глаза.
— Ипу! — позвала я. Девушка не отозвалась. — Ипу!
Служанка появилась.
— Да, госпожа!
— Сегодня вечером я иду на празднество.
Я видела, что Ипу потрясена, хоть она и промолчала. Верховный жрец Амона, святейший из святых, убит несколько часов назад, а во дворце празднество. Я молча сидела, пока Ипу приводила в порядок мои волосы и ногти, и даже позволила накрасить хной ступни и грудь. Когда дверь комнаты распахнулась, я поняла, кто это, прежде чем она ступила на порог.
Ее парик был короче обычного. Волосы были зачесаны за уши, открывая дважды проколотые мочки ушей, и доходили до уровня подбородка. Она была красивой и пугающей. Она села рядом со мной, но я ее проигнорировала.
— Ну что ты дуешься? Мы сделали то, что нужно было сделать, — проникновенно произнесла она.
— Что нужно — убийство? — воскликнула я и предостерегла: — Боги накажут эту семью!
— Мы показали пример!
— Пример чего? Что фараона следует бояться?
— Конечно, его следует бояться! Он — фараон самого могущественного царства на земле, и существует всего два способа править: или правление будет сопровождаться страхом, или бунтами.
Она протянула руку.
— Завтра начнется строительство нашего храма. Сегодняшний вечер — праздничный, что бы ты там ни думала.
Она улыбнулась и вскинула голову, призывая меня встать и идти с ней.
— А ты знаешь, что Старший прислал сюда своего военачальника, выяснить, что тут происходит?
Мое сердце забилось быстрее.
— Военачальника Нахтмина?
— Да.
Мы быстро шли по коридорам дворца.
— Но чего Старший хочет от своего военачальника? Что тот должен сделать?
— Он ничего не может сделать, — весело отозвалась Нефертити. — Ты, конечно, слышала, что Старший женился снова? На маленькой царевне из Нубии. Ей двенадцать лет.
Я скривилась.
— Хотя какое мне до этого дело? Встало новое солнце, и оно испепелит все прочие звезды на небе. Включая и Старшего.
Ее агрессивность потрясла меня.
— А наша тетя?
— Тийя сильна. Она сама о себе позаботится.
Мы быстро прошли по расписанным коридорам в просторную комнату, которую она делила с царем. Из внутренних покоев вышел Аменхотеп, и при виде его у меня перехватило дыхание. На нем было длинное облегающее схенти и золотое ожерелье, которого я прежде не видела. Возможно, оно было из сокровищ Амона. Они с Нефертити поцеловались. Я отвернулась.
— Я же говорила, что ты преуспеешь, — нежно произнесла Нефертити. — И это только начало!
Двери Большого зала распахнулись, и запели трубы.
Празднество остановилось, чтобы все могли посмотреть на появление фараона. Я шла за сестрой, а за нами следовали Ипу и Мерит; в волосы их были вплетены золотые и лазуритовые бусины. Мои родители сидели за их столом, у двойного трона. Там же был архитектор, и Кийя, и Панахеси. К своему разочарованию, я увидела за этим же столом и Хоремхеба.
Я уселась на свое место, а Аменхотеп повел мою сестру к ее трону. Все смотрели, как они вместе взошли на помост, словно боги, спустившиеся на землю. Никогда еще Египет не видел такой потрясающей пары, с их золотыми и стеклянными бусинами и с драгоценными царскими скипетрами. Придворные принялись покачивать головами и благоговейно перешептываться. Я посмотрела на свою пустую тарелку и вручила ее Ипу, чтобы та положила мне еды. За всем столом лишь мы с Хоремхебом сидели молча.
— Ты сегодня неразговорчив, военачальник. — Кийя сидела рядом с Хоремхебом. Ее красивая грудь выглядывала в вырез платья, а под ней приятно круглился живот. — Тебя не радует празднество?
Хоремхеб скептически взглянул на нее.
— Я здесь лишь потому, что так мне было приказано. Иначе я готовился бы к сражению с хеттами, что вторгаются в наши земли и разоряют наши деревни.
Кийя рассмеялась:
— Хетты? Ты предпочел бы лучше драться с хеттами, чем пировать у фараона?
Военачальник посмотрел на нее и ничего не сказал.
— А хетты вправду захватывают египетские земли? — спросила его я.
— Каждый день, в который мы им это позволяем, — ответил Хоремхеб.
— Так ты думаешь, будет война? — тихо спросила я.
— Если фараон сдержит свое слово. Сестра главной жены царя верит в это?
Кийя пренебрежительно фыркнула:
— Да что маленькие девочки знают о войне?
Хоремхеб пристально взглянул на нее.
— Судя по всему, больше, чем жены фараона.
Он резко отодвинул стул, встал из-за стола и вышел. И я тоже встала, не дожидаясь, пока Ипу принесет мою тарелку, и заявила, что мне очень хочется взглянуть на сад.
Над садом Гора встала полная луна. Свет из дворца рассеивал ночную тьму, а в отдалении мелодично журчал фонтан. Из дворца до меня доносился смех и шум радостного празднества.
— Я так и подумал, что могу встретить тебя здесь.
Я застыла. Из теней возник человек, и я уже собралась было пуститься наутек. Какая глупость — отправиться в сад одной! Но когда человек вышел на освещенное место, я узнала его. Я вспомнила наш последний разговор и холодно улыбнулась:
— Добрый вечер, военачальник Нахтмин.
— Ты даже не удивилась, увидев меня? — спросил он.
На Нахтмине было длинное схенти и короткий плащ из плотного льна. Я взглянула на него в бледном свете луны.
— Нет. А что, надо было?
— Я только что приехал из Мемфиса. Даже фараон еще не знает, что я здесь.
— Но Нефертити сказала…
Нахтмин пожал плечами:
— Их предупредили о моем приезде.
— Тогда тебе туда. — Я указала на дворец. — Они захотят немедленно поговорить с тобой.
Военачальник рассмеялся.
— Ты думаешь, фараона волнует, что его мать скажет о его действиях?
Я мгновение подумала.
— Нет.
— Тогда какая разница, буду ли я там, притворяясь, будто веселюсь и радуюсь, или побуду тут с прекрасной мив-шер и вправду порадуюсь?
Я покраснела. «Мив-шер» — так меня называл отец. Так уместно называть котенка, но не женщину.
— Там во дворце Нефертити. Ты можешь порадоваться обществу красивой женщины.
— Ах вот почему ты сердишься на меня! А я-то думал…
— Вовсе я на тебя и не сержусь! — возразила я.
— Вот и хорошо. Тогда ты не будешь возражать против прогулки по саду.
Он предложил мне руку, и я нерешительно оперлась на нее.
— У меня будут большие неприятности, если моя сестра обнаружит нас здесь, — предупредила его я.
Но мне нравилось ощущать его прикосновение, и я не отняла руку.
— Она сюда не придет.
Я посмотрела на Нахтмина.
— Откуда ты знаешь?
— Потому что сейчас ее гораздо больше волнует строительство храма Атона.
Это было правдой. Вряд ли вообще хоть кто-то на празднестве меня хватится.
— Ну и как дела в Фивах? — хмуро поинтересовалась я.
— Да так же, как и в Мемфисе. Сплошная политика, — ответил Нахтмин. — Когда-нибудь я брошу это все и поселюсь где-нибудь в тихой деревушке.
Он посмотрел на меня.
— А ты? Каковы планы сестры главной жены царя?
Мне было четырнадцать — достаточно, чтобы выйти замуж и управлять собственным домом. Я сжала губы.
— Это зависит от того, что решит мой отец.
Военачальник промолчал. Я подумала, что его, быть может, разочаровал мой ответ.
— Говорят, ты целительница, — заметил Нахтмин, меняя тему беседы.
Я энергично покачала головой:
— Просто в Ахмиме я немного изучала травы.
Нахтмин улыбнулся. Он наклонился и сорвал листик с какого-то маленького кустика.
— А что это? — спросил он.
Я не хотела отвечать, но Нахтмин поднял листик повыше и явно собирался дождаться ответа.
— Тимьян. С медом хорошо лечит кашель, — не удержалась я, и Нахтмин рассмеялся.
Мы дошли до самого края сада: в нескольких шагах от нас уже начинался дворец.
— Ты не принадлежишь этому месту, — сказал Нахтмин, глядя на открытые двери Большого зала. — Ты для этого слишком хороший человек.
От возмущения я повысила голос.
— Ты хочешь сказать, что…
— Я ничего не хочу сказать, мив-шер. Но эти игры не для тебя.
Мы остановились у входа во внутренний дворик.
— Я уезжаю завтра утром, — сказал Нахтмин. Помолчав, он быстро добавил: — Будь осторожна здесь, госпожа. Пусть история забудет твое имя. Ибо ради того, чтобы твои деяния жили в вечности, тебе придется стать именно тем, чем желает тебя видеть твоя семья.
— И чем же? — спросила я.
— Рабыней трона.
Я сидела в покоях Нефертити, потому что она позвала меня сюда, и смотрела, как она разделась, бросив дорогое платье на пол. Она протянула ко мне руки, чтобы я помогла ей надеть домашнее одеяние, и мне подумалось: а не стала ли я уже рабыней трона? Уж рабыней Нефертити — так точно.
— Мутни! Мутни, ты меня слушаешь?
— Конечно.
— Тогда почему ты не отвечаешь? Я только что сказала, что завтра мы собираемся пойти посмотреть на храм, а ты… — Она с шумом втянула воздух. — Ты думаешь о том военачальнике! — обвиняюще воскликнула Нефертити. — Я видела, как ты вчера вечером вошла с ним в Большой зал!
Я отвернулась, пытаясь скрыть румянец.
— Выброси его из головы! — прикрикнула Нефертити. — Аменхотеп его не любит. Чтобы тебя с ним не видели!
— Да ну? — Я встала, внезапно рассердившись. — Мне четырнадцать лет! Какое у тебя право указывать, с кем мне видеться, а с кем нет?
Мы уставились друг на друга; у рта Нефертити пролегли жесткие складки.
— Я — царица Египта. Тут не Ахмим, где мы были просто девочками. Я — правительница самого богатого царства на свете, и я не желаю, чтобы ты была повинна в моем низвержении!
Я собрала все свое мужество и яростно тряхнула головой:
— В таком случае я не желаю иметь с этим ничего общего!
Я двинулась к выходу, но Нефертити преградила мне путь.
— Ты куда?
— К себе во дворик.
— Нет, ты не пойдешь! — воскликнула Нефертити.
Я расхохоталась.
— Ты что, собираешься стоять так всю ночь?
— Да!
Мы снова уставились друг на друга, а потом на глазах у Нефертити выступили слезы. Она подошла к кровати и упала на нее.
— Ты хочешь, чтобы я осталась одна? Вот так, да?
Я вернулась и присела рядом с ней.
— Нефертити, у тебя есть Аменхотеп. У тебя есть отец…
— Отец! Отец любит меня за мое честолюбие и хитрость. А тебя он уважает! С тобой он разговаривает!
— Он разговаривает со мной потому, что я его слушаю.
— И я тоже!
— Нет. Ты не слушаешь. Ты ждешь, пока человек скажет то, что тебе хочется услышать, и только тогда обращаешь на него внимание. И ты не прислушиваешься к советам отца. Ты ни к чьим советам не прислушиваешься.
— А почему я должна к кому-то прислушиваться? Я что, овца?
Я помолчала, потом снова повторила:
— У тебя есть Аменхотеп.
— Аменхотеп! — отозвалась Нефертити. — Аменхотеп — честолюбивый мечтатель! И сегодня ночью он будет с Кийей, которая не видит дальше кончика своего кривого носа!
Я рассмеялась, потому что это было правдой, и Нефертити положила руку мне на коленку.
— Останься со мной, Мутни.
— Хорошо, сегодня останусь.
— Нечего делать мне одолжение!
— Ничего я и не делаю. Я просто не хочу, чтобы ты была одна, — искренне ответила я.
Нефертити самодовольно улыбнулась и налила две чаши вина. Я не стала обращать внимание на ее самодовольный вид и села рядом с ней у жаровни, набросив одеяло нам на ноги.
— А почему Аменхотеп не любит этого военачальника? — поинтересовалась я.
Нефертити мгновенно поняла, какого военачальника я имела в виду.
— Он предпочел остаться в Фивах, вместо того чтобы поехать в Мемфис.
На лице Нефертити играли золотистые отблески пламени в жаровне. Она была красивой даже без драгоценностей и короны.
— Но ведь не все же военачальники поехали с нами в Мемфис! — возразила я.
— Ну, Аменхотеп ему не доверяет. — Нефертити повращала чашу с вином. — И потому не следует, чтобы тебя видели с ним. Те, кто верен, приехали с ним в Мемфис.
— Но что будет, когда Старший умрет? Разве войско не воссоединится снова в Фивах?
Нефертити покачала головой:
— Сомневаюсь, что мы вернемся в Фивы.
Я чуть не выронила чашу.
— Что ты имеешь в виду? Когда-нибудь Старший умрет. Возможно, не скоро, но когда-нибудь…
— И когда он умрет, Аменхотеп туда не вернется.
— Он так сказал? Ты рассказала отцу?
— Нет, он этого не говорил. Но я узнаю о нем все больше. — Нефертити смотрела в огонь. — Он хочет свой собственный город. Не Мемфис — другой, чтобы он стал свидетельством нашего царствования.
Нефертити, не сдержавшись, улыбнулась.
— Но разве ты не хочешь вернуться в Фивы? — спросила я. — Это же центр Египта! Центр всего!
Улыбка Нефертити сделалась шире.
— Нет, Мутни. Это мы — центр всего. Как только Старший умрет, двор последует за нами, куда бы мы ни отправились.
— Но Фивы…
— Это всего лишь город. Представь себе: а что, если Аменхотеп сумеет построить город еще больше? — Ее глаза округлились. — Он станет величайшим строителем в истории Египта! Мы сможем написать наши имена на каждом дверном косяке. Каждый храм, каждый алтарь, каждая библиотека, даже каждая вещь станет свидетельством наших жизней. — Черные волосы Нефертити поблескивали в свете огня. — Ты сможешь обзавестись собственным зданием, обессмертить свое имя, и боги никогда не забудут тебя!
Я вспомнила слова Нахтмина о том, что лучший подарок, какой только может сделать история, — это чтобы тебя забыли. Но это не может быть правдой! Откуда боги узнают, что ты сделал? Мы с сестрой сидели в молчании и размышляли. Пламя в глазах Нефертити погасло, и вид у нее сделался затравленный.
— Мы с тобой такие разные! Должно быть, это потому, что я больше похожа на мою мать, а ты — на свою.
Я заерзала в кресле. Я не любила, когда сестра говорила о нашем разном происхождении.
— Интересно, какой была моя мать? Представляешь, Мутни, мне ничего от нее не осталось. Ни портрета, ни одежды, ни даже какого-нибудь свитка.
— Она была царевной Миттани. Дома ее наверняка нарисовали в гробнице ее отца.
— Даже если так, здесь, в Египте, у меня нет ее портрета.
Во взгляде Нефертити появилась решимость.
— Я никогда не допущу, чтобы со мной случилось то же самое. Я высеку свое изображение на всех углах. Я хочу, чтобы мои дети помнили меня до тех пор, пока в Египте не исчезнут пески, а пирамиды не рассыплются в прах.
Я посмотрела на сестру, освещенную светом огня, и мне стало очень грустно. Я никогда не знала этого о ней.
Множество сокровищ Амона сложили в тяжелые окованные сундуки, а сундуки кое-как составили вдоль стен Зала приемов. Но все равно позолоченные сандалии, леопардовые шкуры и короны с самоцветами величиной в мой кулак валялись грудами по углам и на столах. Куда это все девать? Держать здесь, в зале, небезопасно, даже под присмотром трех десятков стражников.
— Надо поручить Майе спроектировать сокровищницу, — предложила Нефертити.
Аменхотеп тут же загорелся этой идеей.
— Царица права! Я хочу сокровищницу, способную противостоять напору времени. Панахеси, отыщи Майю.
Панахеси быстро поднялся со своего места:
— Конечно, ваше величество. И если фараон пожелает, я с радостью присмотрю за строительством.
Отец бросил взгляд на Нефертити, и моя сестра тут же произнесла:
— На это потребуется много времени, визирь. — Она посмотрела на Аменхотепа. — Во-первых, нам нужно найти скульптора, который разместит твои изваяния на каждом углу. Аменхотеп Строитель, хранящий сокровища Египта.
Панахеси сердито сверкнул глазами:
— Ваше величество…
Но Аменхотепа увлекла описанная Нефертити картина.
— Он может изваять и тебя тоже. Мы будем самыми могущественными правителями Египта, оберегающими его величайшие сокровища.
При мысли об изваянии Нефертити на сокровищнице Египта Панахеси побелел.
— Следует ли послать за скульптором? — спросил отец.
— Да. И немедленно, — распорядился Аменхотеп.
11
 1350 год до н. э.
Ахет. Сезон половодья
1350 год до н. э.
Ахет. Сезон половодья
Сокровищница опередила даже храм Амона.
К началу тота рядом с дворцом было воздвигнуто величественное двухэтажное здание. Еще не успела осесть пыль во внутреннем дворике, как Майя распахнул тяжелые металлические двери, и мы застыли в благоговении, потрясенные тем, что сумел совершить архитектор за столь краткий срок. Из всех четырех углов сокровищницы на нас смотрели Аменхотеп и Нефертити — больше, чем в жизни, больше, чем самые великолепные статуи Старшего в Фивах.
— Кто это создал? — ахнула я, и Майя улыбнулся мне:
— Скульптор по имени Тутмос.
Изваяния были великолепны: такие высокие, такие потрясающие — мы были перед ними словно крохотные ростки в лесу сикоморов. Стоящие за нами визири и придворные безмолвствовали. Даже Панахеси ничего не сказал. Нефертити подошла к одной из статуй. Ее голова доходила статуе до щиколотки. Сходство было поразительным: тонкий нос, маленький рот, огромные черные глаза под высокими дугами бровей. Нефертити провела рукой по подолу платья из песчаника и сказала мне одними губами:
— Жаль, что здесь нет Кийи!
Аменхотеп величественно провозгласил:
— Теперь мы начнем строительство храма Атона!
У отца сделался такой вид, словно он не верил своим ушам, но Майя явно не удивился.
— Конечно, ваше величество.
— А визирь Панахеси будет надзирать за строительством.
В моей комнате состоялась очередная встреча. Теперь, когда сокровищница была построена, нельзя было допустить, чтобы Панахеси назначили ведать этим золотом. Строительство храма Атона должно было начаться в тоте, но, когда храм будет готов и Панахеси освободится от надзора за стройкой, он снова попытается пробраться в казначеи.
— Нам необходимо как-то воспрепятствовать ему, — просто произнес отец.
— Мы можем дать ему другую работу. Что-нибудь такое, что удержит его подальше от дворца. Может, сделать его послом? Отправить в Миттани…
Отец покачал головой, отвергая это предложение:
— Он никогда не согласится.
— Да кому какая разница, согласится он или нет? — прошипела Нефертити.
Отец заколебался.
— Мы можем сделать его верховным жрецом Атона, — произнес он, размышляя вслух.
Нефертити отшатнулась.
— В моем храме?!
— А что, ты предпочтешь, чтобы он стал казначеем и надзирал за сокровищами Египта, чтобы передать его будущему царевичу? Нет, мы сделаем его верховным жрецом Атона, — решил отец и быстро встал. — Нефертити, тебе приснился сон. Ты увидела сон, в котором Панахеси был верховным жрецом Атона.
Нефертити мгновенно поняла его замысел.
— На нем было одеяние из шкуры леопарда. Его окружало золотистое сияние. Должно быть, это знак.
Отец улыбнулся, и Нефертити рассмеялась. Превосходная пара гиен.
В тот день Нефертити подождала, пока Зал приемов не заполнился людьми, и только потом возвестила придворным, что она видела сон.
— Все было словно наяву, — сообщила Нефертити, и Панахеси бросил на нее пронзительный взгляд. Сестра продолжала: — Сон был таким ярким, что, когда я проснулась, мне показалось, что все это случилось на самом деле.
Заинтригованный Аменхотеп выпрямился.
— Может, послать за жрецом? Что это был за сон? Он касался меня?
Сидящие у помоста Кийя и ее женщины принялись переглядываться и перешептываться.
Нефертити изобразила застенчивость.
— Он касался всего Египта, — пояснила она.
— Пошлите за жрецом! — воскликнул Аменхотеп, и прежде, чем Панахеси успел хотя бы встать, отец уже был у двери.
— За каким-то конкретным жрецом, ваше величество?
Аменхотеп скривился. Поскольку храм Атона еще не был построен, за жрецами приходилось обращаться в храм Амона.
— За толкователем сновидений.
Когда отец исчез, Панахеси нахмурился, чуя что-то неладное.
— Ваше величество, не будет ли разумным сперва услышать сон? — предложил он.
Нефертити весело рассмеялась:
— Зачем, визирь? Ты боишься, что мне могло присниться что-то такое, что смутит царя?
Она взмахнула длинными ресницами, и Аменхотеп улыбнулся:
— Я доверяю своей жене во всем, визирь. Даже в снах.
Но Кийя с ее растущим животом не могла допустить, чтобы Нефертити превзошла ее.
— Не хочет ли ваше величество послушать музыку, пока мы будем ждать жреца?
Раз Нефертити может угодить фараону сном, она угодит ему музыкой. Кийя махнула рукой в браслетах музыкантам, повсюду следующим за двором, и они заиграли песню. Никто и слова не сказал ни о просителях, выстроившихся у дворца, ни о визирях, желающих знать, что делать с Хоремхебом и с хеттами, посягающими на земли Египта. Сон Нефертити оказался важнее всего. Сон Нефертити и музыка Кийи. «Вот когда фараон решает отправиться в Зал приемов и заняться делами царства, тогда-то ничего и не делается», — подумала я.
Арфисты играли, а Аменхотеп восседал на троне. Затем двери Зала приемов распахнулись, и появился отец. Следом за ним величаво вошел жрец Амона.
— Толкователь сновидений! — объявил отец.
Старик поклонился.
— Я — жрец Менкхепере.
— Мне приснился сон, провидец, — произнесла Нефертити, — и мы хотим, чтобы ты его истолковал.
— Пожалуйста, поведайте ваш сон, ваше величество, и как можно подробнее — все, что только сможете вспомнить.
Нефертити встала.
— Мне приснилось одеяние из шкуры леопарда, освещенное солнцем, — сказала она.
Я с беспокойством взглянула на Панахеси. Тот перехватил мой взгляд и тут же понял, что заваривается какая-то каша.
— Вам приснился верховный жрец Атона, — торжественно провозгласил Менкхепере, и по залу поползли шепотки.
— Мне также приснилось, что это одеяние надел визирь, и в тот же миг солнце засияло ярче. Так ярко, что его лучи сделались ослепительными.
Все присутствующие застыли, а Менкхепере победно воскликнул:
— Знак! Определенно это знак!
Аменхотеп поднялся с трона.
— Присутствует ли здесь тот человек, что привиделся тебе во сне?
Все взгляды устремились к Нефертити — а та взглянула на Панахеси — и снова на жреца.
Менкхепере раскинул руки. Мне стало интересно, сколько отцовского золота сейчас спрятано у него под одеянием. Жрец провозгласил:
— Значение этого сна очевидно, ваше величество. Атон избрал.
— Нет! — Панахеси подхватился с кресла. — Ваше величество, это был всего лишь сон! Просто сон!
Аменхотеп сошел с помоста и ласково положил руки на плечи Панахеси:
— Атон избрал.
Панахеси посмотрел на меня, потом на отца; лицо отца являло собою безукоризненную маску.
— Поздравляю, святейший, — произнес отец с иронией, понятной только Панахеси. — Бог избрал.
Когда мы покинули Зал приемов, Кийя посмотрела на меня со злорадством.
— Мой отец — верховный жрец Атона! — сообщила она мне, не видя за произошедшим руку нашей семьи. — Вкупе с близящимся
царевичем наша семья завладеет всеми важными должностями. А верховный жрец Атона собирает десятину, — добавила она. — Твоя сестра просто помогла нам приблизиться к трону!
— Нет, она столкнула тебя вниз, — ответила я. — Твой отец может собирать налоги, но считать их будет мой отец.
Кийя непонимающе уставилась на меня.
— Перед началом этого приема визирь Эйе был назначен казначеем.
12
 7 тота
7 тота
Мы стояли на вершине бесплодного холма, что глядел на Нил, протекающий через Мемфис.
— Храм будет двухэтажным, и занимать он будет еще два холма.
Майя указал на выжженные солнцем холмы. Их гребни высились один над другим: белые песчаные конусы, блестящие в солнечном свете.
— Откуда будут браться строительные материалы? — спросила Нефертити.
— Камень будет доставляться из восточной каменоломни.
— Сколько на это уйдет времени? — нетерпеливо поинтересовался Аменхотеп.
Порыв ветра заглушил слова архитектора. Панахеси с моим отцом придвинулись поближе.
— Шесть сезонов, если люди будут работать ежедневно.
Лицо Аменхотепа потемнело.
— За шесть сезонов меня могут убить! — воскликнул он.
С тех пор как он лишил жизни верховного жреца Амона, это сделалось его постоянным страхом. Куда бы фараон ни шел, его повсюду сопровождали шесть стражников-нубийцев. Они стояли под дверью, пока он спал, и торчали, словно вороны, за его креслом, пока он ел. Вот и сейчас они были тут — сбились в кучу у подножия холма и держали копья наготове, готовые расправиться с любыми врагами царя. Во дворце Нефертити шепотом сообщила мне, что Аменхотеп боится, что люди его не любят.
— Почему? — спросила я ее.
И ответом стал сам ее вид: из-за того, что произошло с верховным жрецом Амона. Теперь Аменхотеп ощущал на улицах людской гнев, и ни одному визирю не хватало мужества сказать царю, что это правда. Но наш отец предостерег Нефертити.
— Откуда ты знаешь? — застенала она, и отец показал ей найденный на рынке рисунок: змея с головой царя проглатывала статую великого бога Амона.
Теперь же Аменхотеп расхаживал по вершине холма, и тон его не допускал никаких возражений.
— Шесть сезонов — это неприемлемо! — бушевал он.
— Но что же мне делать, ваше величество? Я сужу по числу работников, достаточно искусных для того, чтобы строить храм…
Аменхотеп выпятил челюсть.
— Значит, мы используем войско.
Нефертити шагнула вперед; в голосе ее прорезалось возбуждение.
— Если солдаты помогут строить храм, за сколько можно будет управиться?
Майя нахмурился:
— О каком количестве солдат идет речь, ваше величество?
— Три тысячи, — мгновенно отозвался Аменхотеп, не думая ни о войне, которую обещал Хоремхебу, ни о границах Египта, нуждающихся в защите.
— Три тысячи? — Майя попытался скрыть удивление. — Тогда может потребоваться… — Он умолк на миг, производя расчеты. — Если у нас будет столько работников, мы, возможно, справимся всего за три сезона.
Аменхотеп решительно кивнул:
— В таком случае все солдаты, находящиеся в Мемфисе, сегодня же вечером будут приставлены к делу.
— А как же границы Египта? — твердым тоном поинтересовался отец. — Их необходимо защищать. Да и дворец требуется охранять. Возьмите тысячу, — сказал он, но я знала, что это предложение причиняет ему боль.
Отец бросил на мою сестру предостерегающий взгляд, и она кивнула:
— Да. Тысячу. Мы не хотим, чтобы границы Египта остались без защиты.
Аменхотеп подчинился. Затем он взглянул на Майю.
— Но ты сегодня же вечером сообщишь людям об этом.
— И Хоремхебу? — спросил отец. — Он будет недоволен.
— Значит, пускай будет недоволен! — огрызнулся Аменхотеп.
Отец покачал головой:
— Он может поднять войско против вас.
Панахеси мгновенно очутился рядом с Аменхотепом.
— Заплатите войску больше, чем они могли бы получить с добычи, отвоеванной у хеттов, — предложил он. — Утихомирьте их. Теперь, благодаря налогам, денег предостаточно.
— Отлично. Отлично! — Аменхотеп улыбнулся. — Я дам такую плату, что солдаты меня не покинут!
— А военачальник? — снова спросил отец.
Аменхотеп прищурился.
— А что военачальник?
На следующий день Зал приемов был забит просителями, желающими видеть фараона. Строительство величайшего храма, равного которому не было, уже началось, и с места строительства то и дело прибывали посланцы со свитками. Пока Кийя бродила вперевалочку — как корова, по выражению Нефертити — по дворцу, от кресла к креслу, слуги сновали туда-сюда с уточнениями и замерами от зодчего Майи. Затем двери Зала приемов распахнулись, и Аменхотеп напрягся. Стражники сомкнулись вокруг Хоремхеба. Военачальник рассмеялся.
— Я сражался против нубийцев, еще когда был мальчишкой! — насмешливо бросил он. — Ты думаешь, пятнадцать стражников сумеют меня остановить?
Он зашагал к трону.
— Ты поклялся мне, что война будет! Я отдал тебе храмы Амона!
Аменхотеп улыбнулся.
— И я очень тебе признателен.
«Будь я царем, я бы не стала насмехаться над этим военачальником», — подумала я.
Хоремхеб, стоящий у подножия помоста, напрягся.
— Как долго ты намерен использовать египетских солдат в качестве рабочих?
— Три сезона, — ответила со своего трона Нефертити.
Хоремхеб перевел взгляд с фараона на мою сестру. Я содрогнулась, но Нефертити не дрогнула.
— Границы Египта нуждаются в надежной защите! А для этого требуется каждый солдат! — предостерег Хоремхеб. — Хетты…
— Мне плевать на хеттов!
Аменхотеп сошел с помоста и остановился перед Хоремхебом, зная, что в полном стражников зале ему ничего не грозит.
Хоремхеб резко втянул воздух. Кожаное нагрудное украшение натянулось.
— Ты солгал мне.
— Я даю твоим солдатам работу получше — и безопаснее.
— На строительстве храма Атона? Ты осквернил Амона!
— Нет, — зловеще улыбнулся Аменхотеп. — Это ты осквернил Амона.
От гнева у Хоремхеба набухли жилы на руках и шее.
— На нас нападут, — предупредил он. — Хетты обрушатся на Египет, и, когда твои люди из солдат превратятся в строителей, ты об этом пожалеешь!
Аменхотеп придвинулся к Хоремхебу, так что только я, сидевшая на самом нижнем ярусе помоста, слышала их разговор.
— Люди следуют за тобой, как следовали за моим братом, — уж не знаю почему. Но ты будешь следовать за Атоном. Ты будешь служить ему, ты будешь служить фараону — либо лишишься своей должности и у тебя во всем Египте не останется ни единого друга. Хоремхеб Лишенный Друзей — вот как тебя станут называть. А всякий, кто станет знаться с тобой, будет убит. — Аменхотеп выпрямился. — Ты понял?
Хоремхеб не ответил.
— Ты понял? — выкрикнул Аменхотеп так, что у меня зазвенело в ушах.
Хоремхеб стиснул зубы.
— Я отлично вас понял, ваше величество.
— Ну так иди.
Военачальник зашагал прочь из зала, а мы смотрели ему вслед, и я подумала: «Он сделал сегодня большую глупость».
Аменхотеп оглядел пребывающий в полнейшем беспорядке Зал приемов и объявил:
— Прием окончен!
Он бросил взгляд на группку визирей, сгрудившихся у подножия помоста, и сердито спросил:
— Где Панахеси?
— Там, где строится новый храм, — ответил отец, скрывая удовольствие.
— Хорошо. — Аменхотеп повернулся к моей сестре и улыбнулся ей. — Пойдем пройдемся по саду. С этим может справиться твой отец.
Он взмахнул рукой с браслетами, указывая на длинную очередь просителей у входа в зал.
Нефертити посмотрела на меня, и без слов стало ясно, что мне тоже следует идти.
Мы прошли через внутренний дворик к раскидистым сикоморам, на которых уже поспели плоды.
— А ты знаешь, что Мутни может сорвать любую травинку в саду и сказать, как она называется? — спросила Нефертити.
Аменхотеп подозрительно оглядел меня.
— Ты целительница?
— Я немного училась, пока жила в Ахмиме, ваше величество.
Нефертити рассмеялась:
— Совсем и не немного. Она — маленький лекарь. Помнишь корабль?
Аменхотеп напрягся. Зачем Нефертити напоминает ему о подобных вещах?
— Когда у меня будет ребенок, она будет одной из моих целительниц, — заявила Нефертити, и в ее голосе было нечто такое, что заставило нас с фараоном повернуться к ней.
— Ты носишь ребенка? — прошептал фараон.
Нефертити улыбнулась еще шире.
— Первого сына Египта.
Я ахнула, прикрыв рот ладонью, а Аменхотеп издал восторженный вопль и прижал Нефертити к груди.
— Теперь мы — семья! И наш ребенок будет окружен такой любовью, как никто до него! — поклялся он.
Он нежно коснулся живота моей сестры. Подумать только, в семнадцать лет Нефертити станет матерью фараона Египта! Просто не верится!
Нефертити с сияющим видом повернулась ко мне.
— Ну?
Я не знала, что сказать.
— Боги благословили тебя, — радостно выпалила я, но вместе с этим ощутила страх. Теперь у нее будет своя семья, требующая внимания, муж и ребенок. — Ты сказала отцу?
— Нет. — Нефертити по-прежнему улыбалась. — Но я хочу, чтобы моего ребенка благословили в храме Атона! — с пылом произнесла она.
Я потрясенно уставилась на нее.
Аменхотеп посерьезнел.
— Значит, храм следует построить за девять месяцев, — сказал он. — Нужно закончить строительство к пахону.
Во дворце уже поползли шепотки среди слуг. На простынях Нефертити не оказалось крови, а на ее платьях — пятен. Конечно же, я об этом не знала. Я теперь жила через дворик от нее. Но Ипу ничуть не удивилась при этом известии.
— Ты знала — и ничего мне не сказала? — воскликнула я.
Ипу помогла мне стащить платье через голову и надеть другое, для вечернего празднества.
— Я не знала, госпожа, хочешь ли ты, чтобы я сообщала тебе сплетни.
— Конечно хочу!
Ипу улыбнулась так широко, что на щеках у нее появились ямочки.
— Тогда моей госпоже довольно лишь спросить.
Приготовления к празднеству в Большом зале официально начались лишь после того, как Нефертити сообщила Аменхотепу о своей беременности, но похоже было, что десятки столов и масляные лампы были подготовлены заранее. Помост с его тремя ступенями, поднимающимися к тронам Гора, был усыпан цветами. На каждой ступени слуги поставили по два кресла с высокими спинками и мягкими подушками, для самых высокопоставленных придворных. Мне предстояло сидеть на одном из этих кресел, наряду с отцом, матерью, верховным жрецом Панахеси и царевной Кийей — в том случае, если она явится. Последнее кресло оставили для избранного почетного гостя.
Нам всем предстояло, когда подадут угощение, подняться к царскому столу, за которым царственная чета обычно ела в одиночестве. Но этой ночью мы должны были присоединиться к ним. Эта ночь была праздником нашей семьи. Царской семьи Египта.
Когда мы вошли в зал, запели трубы — и продолжали петь, пока мы шли через него, чтобы уж точно ни один визирь не проглядел, сколько на мне золотых браслетов и сколько колец надел отец. Кийя отговорилась беременностью, но Панахеси шел к помосту вместе с нами, а моя мать, не скрываясь, сияла радостью.
— Твоя сестра носит наследника египетского трона, — полным изумления тоном произнесла она. — Когда-нибудь он станет фараоном!
— Если это мальчик, — ответила я.
На лице отца промелькнула улыбка.
— Пускай лучше это будет мальчик. Повитухи говорят, что Кийя носит сына, а эта семья не в состоянии позволить себе претендента на престол.
Большой зал был полон разговаривающими, смеющимися людьми. Здесь собралась вся мемфисская знать. Нефертити спустилась с помоста и протянула мне руку, чтобы пойти к себе в комнату вместе со мной. Она вся сияла, наслаждаясь триумфом.
— Ты не можешь дойти одна? — спросила я.
— Конечно могу! Но ты мне нужна.
На самом деле я вовсе не была ей нужна, но я скрыла удовольствие и взяла ее за руку. Все оборачивались, чтобы взглянуть на идущих через зал дочерей Эйе, и впервые я ощутила это чувство — как кружит голову сознание своей красоты и могущества. Мужчины смотрели на Нефертити, но взгляды их задерживались и на мне.
— Какая красивая малышка!
Нефертити пощекотала под подбородком толстую дочку какой-то женщины. Я удивленно взглянула на сестру. Она никак не могла счесть этого ребенка красивым. Но мать девочки с гордостью улыбнулась и поклонилась ей ниже, чем любая другая женщина при дворе.
— Спасибо, царица. Спасибо!
— Нефертити! — попыталась было что-то сказать я.
Сестра ущипнула меня за руку.
— Продолжай улыбаться, — велела она.
Тут я заметила, что Аменхотеп следит за нами с трона. Нефертити и сестра Нефертити, очаровательные, обворожительные, соблазнительные и желанные. Он спустился с помоста. Он не желал больше смотреть, как она расточает свое благоволение кому-то другому.
— Вот самая прекрасная женщина Египта! — провозгласил Аменхотеп, увлекая Нефертити прочь от меня.
Он провел ее обратно к трону из черного дерева, а Нефертити сияла.
Вокруг только и было разговоров что о ребенке.
В купальне, на Арене, в Большом зале — Нефертити повсюду напоминала всем, что она носит наследника египетского трона. К середине тота, похоже, даже мать устала это слушать.
— Она ни о чем другом не говорит, — по секрету призналась я.
Мы сидели на каменной скамье в саду и смотрели, как кошки охотятся на мышей в высокой траве.
— За этим она и явилась сюда, — сказала мать. — Чтобы дать Египту сына.
— И чтобы сдерживать царевича, — резко заметила я.
Мы стали смотреть на озеро; его гладь была покрыта колеблющимися на воде зарослями лотоса, и цветы-чаши отражались в воде.
— Будем надеяться, что это сын, — только и ответила мать. — Народ простит все, что угодно, если только будет царевич, наследник трона, и люди будут знать, что их не ждет впереди бойня из-за короны. Возможно, они даже простят, что царская семья строит храмы в Мемфисе, когда хетты наступают на египетские земли вокруг Кадеша.
Я с удивлением посмотрела на нее, но мать ничего более не добавила.
— Одевайся, Мутни. Мы идем в храм.
Я выглянула из-под простыней.
— В храм Амона?
Нефертити презрительно фыркнула.
— В храм Атона. Там закончили внутренний двор, и я хочу на него посмотреть.
— Его сделали за пятнадцать дней?!
— Конечно. Там работают тысячи людей. Поторопись!
Я кинулась на поиски платья, сандалий и пояса.
— А отец?
— Отец останется в Зале приемов, проводить в жизнь законы Египта. Идеальное трио, — с гордостью добавила сестра. — Фараон, его царица и знающий визирь.
— А мать?
Я быстренько натянула платье.
— Она идет с нами.
— Но что подумает Тийя?
Сестра заколебалась. Она созналась:
— Тийя сердится на меня.
В ее голосе прозвучало подлинное сожаление. На щеках сестры проступила краска стыда. В конце концов, это ведь именно царица Тийя возложила на голову Нефертити корону Гора. Но теперь преданность Нефертити принадлежала Аменхотепу, а не Тийе. Я знала, что Нефертити относится к этому именно так, но она никогда не говорила со мной ни о том, чего ей стоил этот выбор, ни о бессонных ночах, когда она сидела, подперев рукою голову, смотрела на луну и размышляла над тем, как ее решения отразятся в вечности. Теперь же Нефертити сидела на моей кровати и смотрела, как я одеваюсь. Она привыкла дразнить меня за мои длинные ноги и темную кожу. Но теперь у нее не было времени для детских дразнилок.
— Она даже присылала к нему посланцев с угрозами. Но что она может сделать? Аменхотеп коронован. Как только Старший умрет, он станет фараоном Верхнего и Нижнего Египта.
— А это может произойти еще очень нескоро, — предостерегла я, надеясь, что боги не расслышат, с какой надеждой в голосе Нефертити говорила о смерти фараона.
Я проследовала за ней по коридору, а когда мы вышли во внутренний дворик, я с удивлением повернулась к Нефертити:
— Кто эти вооруженные люди?
Мне ответил Аменхотеп, вошедший через резные ворота из песчаника:
— Мне нужна защита, как и твоей сестре. Я не доверяю войску моего отца.
— Но эти люди — часть войска, — заметила я. — Если войску нельзя доверять…
— Нельзя доверять военачальникам! — огрызнулся Аменхотеп. — Солдаты — эти солдаты — будут делать то, что им велено.
Он взошел на свою позолоченную колесницу и протянул руку моей сестре, помогая ей подняться. Затем он взмахнул хлыстом, и кони пустились вскачь.
— Нефертити! — воскликнула я и повернулась к матери. — Разве для нее не опасно ездить так быстро?
Я слышала сквозь стук копыт смех Нефертити и видела, как она исчезает вдали.
Мать покачала головой:
— Конечно опасно. Но кто ее остановит?
Вооруженные стражники быстро усадили нас в нашу колесницу, и мы преодолели небольшое расстояние, отделяющее новый храм Атона от дворца. Когда храм только показался, можно было подумать, будто мы очутились посреди осажденного города. Повсюду валялись каменные глыбы, а через частично возведенные участки строения пробирались солдаты, с кряканьем поднимали тяжести и выкрикивали приказы. Панахеси в его длинном струящемся плаще стоял, скрестив руки на груди, и отдавал распоряжения. Как и сказала сестра, внутренний двор уже был готов, и столбы с высеченными на них изображениями Аменхотепа и Нефертити успели водрузить на места. Царская чета сошла с колесницы, и Панахеси тут же кинулся к ним с поклонами.
— Ваше величество! — Тут он увидел мою сестру и скривился, пытаясь скрыть разочарование. — Царица. Как это любезно с вашей стороны — приехать сюда.
— Мы намерены надзирать за строительством до самого его окончания, — твердо произнесла Нефертити, оглядывая строительную площадку.
Хотя на первый взгляд казалось, что здесь царит хаос, при более внимательном рассмотрении обнаружилось, что территория поделена на четыре части, между художниками, резчиками, носильщиками и строителями.
Аменхотеп сбросил плащ и огляделся.
— Здесь что, не заметили нашего прибытия?
Панахеси заколебался.
— О чем вы, ваше величество?
— Здесь что, никто не заметил нашего прибытия? — выкрикнул Аменхотеп. — Почему никто не кланяется?
Рабочие вокруг нас остановились. Панахеси кашлянул.
— Мне казалось, ваше величество желает, чтобы храм великого Атона был построен как можно скорее.
— Фараон превыше всего!
Голос Аменхотепа разнесся по двору. Я увидела в отдалении военачальника Хоремхеба; на лице его читалась сдержанная угроза. Затем стук молотков стих, и солдаты тут же преклонили колени. Лишь один человек остался стоять. Аменхотеп вспыхнул от гнева. Он зашагал вперед, и толпа поспешно расступилась, давая ему дорогу. Нефертити резко втянула воздух. Я подошла к ней поближе:
— Что он собрался сделать?
— Не знаю.
Аменхотеп дошел до Хоремхеба, и теперь они стояли рядом — но любовь войска принадлежала лишь одному из них.
— Почему ты не преклоняешь колени перед представителем Атона?
— Вы рискуете вашими людьми, ваше величество. Здесь ваши отборные солдаты. Люди, способные нестись в битву на колесницах, высекают из камня ваши изображения, в то время как им следовало бы защищать наши границы от хеттов. Неразумно так использовать обученных солдат.
— Я здесь решаю, что разумно, а что нет! Ты — всего лишь солдат, а я — фараон Египта! — Аменхотеп напрягся. — Ты склонишься передо мной!
Хоремхеб остался стоять, и Аменхотеп потянулся за висящим на боку кинжалом. Он угрожающе ступил вперед.
— Скажи, — произнес он, извлекая кинжал из ножен, — как ты думаешь, твои люди взбунтуются, если я сейчас убью тебя? — Аменхотеп нервно огляделся. — Я думаю, они так и будут стоять на коленях, даже если твоя кровь впитается в песок.
Хоремхеб резко втянул воздух.
— Ну так попробуйте, ваше величество.
Аменхотеп заколебался. Он снова взглянул на тысячи солдат — сильных, тренированных, но безоружных. Затем он спрятал кинжал и отступил.
— Почему ты мне не повинуешься? — с негодованием спросил фараон.
— Мы заключили сделку, — ответил Хоремхеб. — Я повиновался вашему величеству, а ваше величество предало Египет.
— Я никого не предавал! — со злобой отозвался Аменхотеп. — Это ты предал меня! Ты и это войско! Ты думаешь, я не знаю, что вы с Тутмосом были друзьями? Что ты был верен ему?
Хоремхеб не ответил.
— Ты преклонил бы колени перед моим братом! — крикнул Аменхотеп. — Попробуй только сказать, что ты не встал бы на колени перед Тутмосом!
Хоремхеб продолжал безмолвствовать. Внезапно Аменхотеп выбросил руку вперед и врезал военачальнику кулаком в живот. Хоремхеб резко выдохнул, но остался стоять. Аменхотеп быстро взглянул на солдат вокруг. Те напряглись, приготовившись защищать своего военачальника. Затем фараон схватил Хоремхеба за плечо и яростно прошептал:
— Ты лишен должности! Возвращайся к моему отцу. Но лучше бы тебе не забывать, что, когда Старший умрет, я стану фараоном и Верхнего Египта тоже!
Хоремхеб направился к своей колеснице, и люди расступились перед ним. Потом солдаты, как один, повернулись и посмотрели на Аменхотепа.
— За работу! — закричал Панахеси. — Быстро за работу!
Невзирая на раннее утро, в жаровне в моей комнате потрескивал огонь. Нефертити уселась в позолоченное кресло, ближайшее к огню; отсветы пламени освещали лазуритовую подвеску в виде глаза у нее на груди. Отец сидел, откинувшись на спинку кресла и опершись подбородком на переплетенные пальцы. Весь дворец еще спал.
— Ты можешь что-нибудь сделать, чтобы повлиять на его характер?
Дрова в огне затрещали и зашипели. Нефертити вздохнула:
— Я делаю, что могу. Но он ненавидит войско.
— Войско обеспечивает его власть, — строго произнес отец. — А Хоремхеб не забудет Аменхотепу его деяний.
— Хоремхеб в Фивах, — отозвалась Нефертити.
— А когда Старший умрет?
— Это может случиться еще очень нескоро, — ответила сестра моими словами, хотя я и знала, что она в них не верит.
— Без войска Египет слаб. Вам повезло, что в Фивах еще есть военачальники, которые готовят солдат к войне.
— Строительство будет идти всего три сезона! — защищаясь, заявила Нефертити.
— Три? — От гнева отец даже привстал. — Было шесть, а теперь стало три? Как войско может построить храм за год?
— Я жду ребенка! — Нефертити погладила себя по животу. — Ему необходимо получить благословение на алтаре Атона.
Отец сверкнул глазами.
— Так хочет Аменхотеп, — добавила Нефертити. — А если я этого не сделаю, это сделает Кийя! Вдруг она родит ему сына? — с отчаянием произнесла она.
— Ее роды ожидаются через семь дней, — предупредил отец. — Если родится царевич, Аменхотеп будет праздновать. Будут пиры и процессии.
Нефертити закрыла глаза, пытаясь успокоиться, но отец покачал головой:
— Приготовься к этому. Следующие несколько дней должны принадлежать Кийе.
На лице сестры отразилась решимость.
— Сегодня утром я поеду с ним на Арену, — объявила Нефертити.
Она повернулась к чулану, в котором хранила свою одежду для верховой езды, и позвала Мерит.
— Ты поедешь с ним? — воскликнула я. — Но ты уже давно не ездила!
— А теперь поеду. Это было ошибкой — думать, что во время беременности я смогу наслаждаться удобствами.
Нефертити успела сама забраться в чулан, прежде чем вошла Мерит. Даже в столь ранний час служанка была безукоризненно накрашена, а на платье не было ни единой морщинки. Нефертити резким тоном приказала:
— Мои перчатки и шлем. Быстро. Пока Аменхотеп не проснулся и не захотел проехаться.
Отец пристально взглянул на Мерит:
— Это опасно для ребенка?
Нефертити сверкнула глазами из-за отцовского плеча, и Мерит немедленно отозвалась:
— Срок еще небольшой, визирь. Всего несколько месяцев.
Нефертити затянула пояс на талии.
— Возможно, от верховой езды моя кровь потечет быстрее и у меня родится сын.
Двадцать восьмого тота ко мне в комнату, где мы с Нефертити играли в сенет, вбежала Ипу.
— Свершилось! — воскликнула она. — Кийя рожает!
Мы вскочили со своих мест и кинулись по коридору в родительские покои. Отец с матерью сидели вместе и о чем-то быстро, тихо переговаривались.
— Должно быть, у нее мальчик, — прошептала Нефертити.
Отец посмотрел на меня так, словно я сказала ей что-то такое, чего говорить не следовало.
— Почему ты так говоришь?
— Потому что мне это приснилось прошлой ночью. Она родила египетского царевича!
Мать встала и закрыла дверь. Дворец кишел посланцами, которые ждали лишь приказа, чтобы разнести известие по всей стране.
Нефертити совершенно потеряла голову.
— Я не могу этого допустить! И не допущу!
— Ты ничего не можешь с этим поделать, — сказал отец.
— Всегда можно что-то сделать! — заявила Нефертити, а потом расчетливо добавила: — Когда Аменхотеп вернется, скажите ему, что я плохо себя чувствую.
Мать нахмурилась, но отец тут же понял, что за игру она затеяла.
— Насколько плохо? — быстро спросил он.
— Насколько плохо… — Нефертити заколебалась. — Настолько, что я могу либо умереть, либо потерять ребенка.
Отец посмотрел на меня:
— Ты должна подтвердить ее слова, когда он тебя спросит.
Он развернулся и приказал Мерит:
— Отведи ее в ее покои и принеси ей фруктов. И не отходи от нее, пока не придет фараон.
Мерит поклонилась.
— Конечно, визирь.
Мне показалось, что на губах ее промелькнула едва заметная улыбка. Затем она поклонилась Нефертити.
— Пойдемте, ваше величество?
Я осталась стоять в дверях.
— Но что делать мне?
— Ухаживать за твоей сестрой, — многозначительно произнес отец. — И делать то, что она попросит.
Мы прошествовали в покои Нефертити — медленно, так, чтобы, если кто-нибудь нас заметил, он сразу же понял, что с царицей что-то неладно. Добравшись до своей комнаты, Нефертити улеглась, словно тяжелобольная.
— Платье, — сказала она. — Расправь мне платье.
Я посмотрела на нее.
— На ногах и по бокам.
— Ты поступаешь ужасно, — сказала я ей. — Ты уже лишила Кийю привязанности Аменхотепа. Может, довольно?
— Я больна! — возмутилась Нефертити.
— Ты отнимаешь у нее ее единственный момент радости!
Мы посмотрели друг на друга, но во взгляде Нефертити не было ни капли стыда.
Я уселась на ее кровать, а Ипу устроилась на страже под дверью, изводя слуг расспросами насчет новостей про Кийю., Мы прождали весь вечер. В конце концов в комнату вбежала Ипу. Когда она распахнула дверь, лицо ее было мрачным.
— Ну? Что там? — Нефертити подалась вперед. — Что?
Ипу опустила голову:
— Царевич. Царевич Египта Небнефер.
Нефертити рухнула на подушки и вправду побледнела.
— Сообщите фараону, что его главная жена больна, — тут же распорядилась она. — Скажите ему, что я могу умереть. Что я могу потерять ребенка.
Я поджала губы.
— И не смотри на меня так! — приказала она.
Едва лишь известие достигло Аменхотепа, он тут же примчался сюда.
— Что случилось? Что с ней? — вскричал он.
Я думала, что слова лжи застрянут у меня в горле, но стоило мне увидеть его страх, и у меня тут же вырвалось:
— Я не знаю, ваше величество. Сегодня утром она почувствовала себя плохо, и вот теперь не может встать — лишь лежит и спит.
Лицо Аменхотепа потемнело от страха, и вся радость, вызванная рождением сына, тут же была позабыта.
— Что ты ела? Кто готовил еду — твоя служанка?
— Да… — еле слышно отозвалась Нефертити. — Да, наверняка.
Аменхотеп прижал ладонь к щеке и повернулся ко мне:
— Что случилось? Ты должна знать! Вы с ней связаны тесно, словно два вора! Скажи мне, что случилось!
Я видела, что он не старается быть жестоким. Он просто боится. Искренне боится за жену.
Мое сердце забилось быстрее.
— Может быть, дело в вине, — поспешно произнесла я. — А может, в холоде. Снаружи сейчас очень холодно.
Аменхотеп с ненавистью посмотрел на окна, потом на льняную простыню на кровати.
— Принесите одеяла! — выкрикнул он, и служанки тут же помчались исполнять его приказ. — Шерстяные одеяла! Разыщите визиря Эйе! Пусть он приведет врача!
Нефертити тут же села.
— Нет!
Аменхотеп убрал ей волосы со лба.
— Тебе нездоровится. Нужно показаться врачу.
— Мне достаточно Мутни.
— Твоя сестра — не врач! — Аменхотеп подался вперед и с отчаянием схватил ее за руку. — Ты не можешь заболеть! Ты не можешь оставить меня!
Нефертити прикрыла глаза, и темные ресницы затрепетали, выделяясь на фоне высоких бледных скул.
— Я слышала, у тебя родился сын, — тихо произнесла она и улыбнулась, положив ладошку на живот.
— Для меня важна только ты! Мы вместе строим памятники богам, — пылко произнес он.
— Да. Храм Атона.
Нефертити слабо улыбнулась. Она так убедительно разыгрывала свою роль, что на глаза Аменхотепа навернулись слезы.
— Нефертити!
В голосе фараона прозвучала подлинная боль, и мне стало жаль его. Он бросился на кровать Нефертити, и я перепугалась.
— Перестань! Перестань, ты повредишь ребенку!
В дверь постучали, и на пороге появился мой отец, а с ним — лекарь. Нефертити встревоженно посмотрела на него.
— Не бойся, — многозначительно произнес отец. — Он здесь, чтобы помочь тебе.
Что-то промелькнуло в их взглядах, и Нефертити позволила врачу взять у нее кровь из руки. Лекарь повертел темную жидкость в чаше, изучая цвет, а мы все стояли и ждали, пока он изучит все детали. Старик кашлянул. Он посмотрел сперва на отца, коротко кивнул ему, а потом перевел взгляд на фараона.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Аменхотеп.
Лекарь опустил голову:
— Боюсь, ваше величество, она очень больна.
В лице у Аменхотепа не осталось и кровинки. Его поборница, его жена, его самая ревностная сторонница больна оттого, что носит его ребенка. Аменхотеп украдкой взглянул на свою возлюбленную Нефертити; ее волосы рассыпались по подушке, стекая с нее, словно черные чернила. Она выглядела прекрасной и вечной, словно скульптура. Фараон повернулся к лекарю.
— Ты сделаешь все возможное, чтобы исцелить ее, — приказал он. — Все, что в твоих силах.
— Конечно, — поспешно откликнулся старый лекарь. — Но ей необходим покой. Ее нельзя тревожить, пока она носит ребенка. Никаких плохих новостей, никаких…
— Вылечи ее!
Лекарь закивал, кинулся к своей сумке и извлек оттуда несколько пузырьков и флакон с мазью. Я пригляделась, пытаясь разобрать, что у него там. А вдруг оно опасное? Что, если от этих лекарств ей и вправду станет плохо? Я посмотрела на отца. Тот оставался бесстрастным, и я поняла, что там. Розмариновая вода.
Старик дал Нефертити лекарство, и мы просидели весь оставшийся вечер с моей сестрой, пока она засыпала. Пришла мать, потом Ипу и Мерит принесли свежие фрукты и льняное белье. Когда настала ночь, мать вернулась в свою натопленную комнату, а мы с отцом и Аменхотеп остались. Но чем дольше я смотрела, как Нефертити спит, тем сильнее во мне разгорались обида и возмущение. Если Нефертити настолько эгоистична, нам с отцом не следует принимать участие в подобной глупой возне. Мы вовсе не обязаны торчать у ее постели, как часовые, отогревая руки у огня, пока она лежит, уютно укутавшись в одеяла, а Аменхотеп гладит ее по щеке. В конце концов даже отец ушел, но, уходя, он многозначительно велел мне:
— Мутноджмет, присматривай за ней.
Он закрыл за собою дверь, а Аменхотеп встал у постели Нефертити.
— Насколько тяжело она больна? — спросил царь Египта.
Его удлиненное лицо из-за игры теней казалось треугольным.
Я подавила страх.
— Я боюсь за нее, ваше величество.
Это не было ложью.
Аменхотеп посмотрел на свою спящую царицу. Она была безукоризненно прекрасна, и я поняла, что никогда в жизни не буду любима столь самозабвенно.
— Целители излечат ее, — пообещал Аменхотеп. — Она носит нашего ребенка. Будущее Египта.
— Ваше величество, а как же Небнефер? — не сдержавшись, спросила я.
Фараон посмотрел на меня как-то странно, словно совсем позабыл о ребенке Кийи.
— Она — вторая жена. Нефертити — моя царица, и она верна мне. Она понимает мои мечты о том, как приумножить величие Египта. О Египте под водительством всемогущего Атона. Наши дети изберут Солнце и станут самыми могущественными правителями изо всех, кого благословляли боги.
У меня перехватило горло.
— А Амон?
— Амон мертв! — ответил Аменхотеп. — Но я воскрешу мечты моего деда о фараонах, которые не страшатся власти жрецов Амона. Я воздам ему почести, и меня запомнят навеки благодаря моим деяниям. Нашим деяниям, — произнес он, подчеркнув это «нашим», и посмотрел на Нефертити, свою супругу и соратницу, свою верную союзницу.
На всякую попытку Кийи что-либо предпринять Нефертити отвечала предложением создать новую статую, новый дворик, новый блестящий храм.
Аменхотеп просидел у постели жены всю ночь. Я наблюдала за ним, размышляя над тем, что же такое должно найти на человека, чтобы он уничтожил богов своего народа и возвысил вместо них покровителя, о котором никто не слыхал. «Алчность, — подумала я. — Его ненависть ко всему, во что верит его отец, и его жажда власти. Без жрецов Амона его власть станет безграничной». Я уселась в кресло с толстыми подушками и посмотрела, как фараон гладит мою сестру по щеке. Он с нежностью коснулся ее лица и вдохнул лавандовый запах ее волос. Когда я уснула, он так и остался сидеть, молясь Атону, чтобы тот ниспослал чудо.
На следующее утро, когда я проснулась, у меня было такое чувство, словно у меня вместо глаз две гири. В прихожей уже дожидался посланник с вестями из Фив, в украшениях из золота и лазурита. Но Аменхотеп не желал ничего слушать.
— Чтобы никто не смел тревожить царицу! — с силой произнес он.
Из-за спины посланца вынырнул Панахеси:
— Ваше величество, это касается царевича.
Аменхотеп подошел к дверям.
— Ну что еще такое? Царица больна.
Панахеси, нахмурившись, вошел в комнату.
— Я глубоко сожалею о том, что ее величество заболела.
Он взглянул на дверь, ведущую в спальню Нефертити.
— Царица Тийя и Старший шлют благословения вашему сыну, — продолжал он. — Празднество в честь его рождения состоится сегодня вечером, с позволения вашего величества.
Аменхотеп тоже взглянул в сторону покоев Нефертити. Дверь была открыта, и Панахеси мог видеть, что Нефертити лежит в постели, а Мерит с Ипу хлопочут вокруг нее.
— Иди, — подала голос моя сестра. — Он — твой сын.
Аменхотеп прошел обратно к ней в комнату и коснулся ее руки:
— Я тебя не оставлю.
— Боги послали тебе сына. — Нефертити слабо улыбнулась. — Иди, вознеси благодарности.
Она лучезарно улыбнулась супругу — воплощенная красота и великодушие, — и я осознала, насколько хитроумно она спланировала эту сцену. Это она давала ему позволение уйти, а не фараон сообщил ей, что уходит на празднество.
— Иди, — прошептала она.
— Я буду думать о тебе весь вечер, — пообещал Аменхотеп.
Панахеси, остававшийся в прихожей, изучающе взглянул на меня.
— Весьма прискорбно слышать, что царица заболела. Когда это случилось?
Я почувствовала, что краснею от стыда.
— Вчера вечером.
— Примерно тогда же, когда царевич появился на свет, — заметил Панахеси.
Я промолчала. Затем из комнаты Нефертити вышел Аменхотеп, и Панахеси попытался изобразить улыбку.
— Так следует ли нам устраивать празднество, ваше величество?
— Да, но я не настроен праздновать, — предостерег его фараон.
Как только они ушли, Нефертити тут же села.
— Панахеси знает, — предупредила ее я.
— Что знает? — весело спросила она, встала и принялась расчесываться.
— Знает, что ты лжешь.
Нефертити обернулась так быстро, что подол платья обвился вокруг ее ног.
— Кто сказал, что я лгу? Кто сказал, что я не болею?
Я не стала ничего отвечать. Нефертити могла одурачить весь мемфисский двор, но ей не под силу было одурачить меня. Она переоделась в чистое платье и велела Мерит принести фруктов.
— Сколько ты будешь продолжать эту затею? — спросила я.
Нефертити улыбнулась — одними лишь краешками губ.
— До тех пор, пока впечатления от рождения нового царевича не изгладятся. — Она слегка пожала плечами. — И я снова стану центром Египта.
Впечатления изгладились быстро — да иначе и быть не могло, ведь строительство храма Атона было превыше всего. И через три дня Нефертити чудесным образом исцелилась. Лекарь пришел и заявил, что это было чудо. Отец принес с винодельни для Нефертити винный напиток шедех, а моя мать по случаю ее исцеления выдавила из себя несколько слезинок. Мне начало казаться, что все мы — какие-то лицедеи, а не правящая семья Египта.
— А какая разница? — поинтересовалась Нефертити, когда я поделилась с ней этой мыслью. — И те и другие нуждаются в масках.
— Но это ложь! Ты солгала! Ты что, совсем его не любишь?
Нефертити остановилась во дворике, где ждали колесницы, чтобы отвезти нас к строящемуся храму. Примостившаяся в темных волосах кобра на ее короне блестела на солнце.
— Я люблю его настолько, насколько это под силу женщине. Ты не понимаешь. Тебе всего четырнадцать. Но любить — это значит лгать.
Сквозь арку во дворик вошел Аменхотеп, и рука об руку с ним — моя мать. Они дружно смеялись, и я застыла от изумления.
— Твоя мать — очаровательная женщина, — тепло произнес Аменхотеп, и Нефертити широко улыбнулась матери.
Моей матери.
— Да, правда, — согласилась она. — Моя семья — это благословение богов.
Фараон помог моей матери взобраться в колесницу, и она зарделась от гордости. Потом Аменхотеп протянул руку Нефертити, и кортеж тронулся. Рядом с нами ехали тяжеловооруженные всадники, и прохладный ветер паофи трепал их схенти. Мне хотелось наклониться к матери и спросить, чем Аменхотеп так ее рассмешил. Но потом я подумала, что, быть может, мне лучше этого не знать.
Мы начали подниматься на холм, что высился над Нилом и раскинувшейся вокруг нагой землей. Аменхотеп хотел возвести свой храм в таком месте, где его было бы лучше всего видно. Когда колесницы внезапно остановились, вооруженные стражи тут же выстроились вокруг нас кольцом. Мы сошли с колесниц, и мать потрясенно прошептала:
— Великий Осирис!
Я застыла, ошеломленная представшей передо мной картиной строительной площадки, на которой тянулись к небу колонны.
— Они, наверное, никогда не останавливаются.
Тысячи строителей стонали под весом тяжелых колонн, устанавливая их вертикально. Окруженный колоннадой дворик храма Атона был готов, равно как и придел храма, и гранитный алтарь. На этот раз, поскольку выполнялись тяжелые работы, Аменхотеп не стал требовать поклонов.
Откуда-то появился Панахеси и низко склонился перед фараоном.
— Ваше величество.
Он улыбнулся, льстивый, как всегда. Затем он повернулся к моей сестре.
— Моя царица, — произнес он с куда меньшим рвением. — Может быть, пройдемся и осмотрим храм?
Нефертити ликующе взглянула на Аменхотепа, как будто это был ее подарок ему, и мы, спустившись с небольшого холма, неспешно двинулись через хаос. Нефертити хотелось разглядеть каждую колонну, каждый фрагмент мозаики, каждый обтесанный камень.
Добравшись до той части строительства, где трудились художники, Аменхотеп остановился.
— Что это? — холодно вопросил он.
Работник встал и вытер пот со лба. У него было сложение колесничего: мускулистые руки и широкая грудь.
— Мы трудимся над изваянием вашего величества, — с поклоном ответил он.
Аменхотеп наклонился пониже и увидел высеченные черты фараона — такие, какими их изображали художники на протяжении столетий. Безукоризненная линия подбородка, длинная борода, глаза, подведенные сурьмой. Аменхотеп выпрямился и нахмурился.
— Это не я.
Работник растерялся. Он ведь изобразил фараона так, как изображали всех фараонов вот уже две тысячи лет.
— Это не я! — выкрикнул Аменхотеп. — Моя статуя должна воспроизводить меня! Разве не так?
Художник в ужасе уставился на него, а потом преклонил колено и склонил голову. Все вокруг прекратили работать.
— Конечно, ваше величество.
Аменхотеп резко развернулся к Панахеси.
— Я что, по-твоему, желаю, чтобы боги перепутали меня с моим отцом? Или с Тутмосом? — прошипел он.
Тут вперед выступила Нефертити.
— Пускай остальные скульптуры сделают похожими на нас, — распорядилась она.
Панахеси резко втянул воздух.
— Художники используют образцы. Им придется сменить…
— Значит, так и сделайте! — приказала Нефертити.
Она обняла Аменхотепа, и фараон согласно кивнул. Затем она повела его прочь по грязи и камням. Панахеси со злостью смотрел ей вслед. Потом он перевел взгляд на работника с фигурой колесничего:
— Исправь это!
— Но как, о святейший?
— Разыщи лучших скульпторов Мемфиса! — разъяренно крикнул Панахеси. — Немедленно!
Работник оглядел остальных присутствующих.
— Но лучшими считались мы, — ответил он.
— Значит, вы все будете уволены! — разбушевался Панахеси. — Либо вы найдете мне художника, способного изобразить фараона в соответствии с его желаниями, либо никогда больше не будете работать!
Художник запаниковал.
— В городе есть один такой скульптор, весьма известный, о святейший. У него есть свои причуды, но его работы…
— Немедленно отыщи его и приведи ко мне! — вышел из себя Панахеси. Он посмотрел на изображение Аменхотепа, ничем не отличающееся от прочих фараонов, и пнул его с размаху, да так, что барельеф полетел на землю. — Никогда больше не изображай его величество в таком виде! Подобных ему нет! Его нельзя сравнивать ни с каким другим фараоном!
Я поспешила вслед за Нефертити и Аменхотепом. Рабочие трудились над внешним двором, устанавливая колонны с высеченными на желтом камне изображениями бога солнца. Так много работы, и так много людей здесь трудятся… Я окинула двор взглядом и увидела в дальней его части военачальника Нахтмина. Он смотрел на меня. Затем в сторону военачальника двинулся Аменхотеп, и Нахтмин тут же отвел взгляд. «Что он делает в Мемфисе? Он же из Фив, из окружения Старшего». Все это не прошло мимо внимания моей матери с ее цепким взглядом.
— Этот военачальник смотрел на тебя? — поинтересовалась она.
Я быстро покачала головой.
— Нет. Не знаю.
— Царь не любит военачальника Нахтмина.
— Да, меня
предупреждали.
— Не вздумай влюбляться в солдата.
Я отвела взгляд.
— Ничего я и не влюблена!
— Вот и отлично. Когда придет время, ты выйдешь замуж за знатного человека, которого одобрит фараон. Такова наша плата за близость к трону, — сказала мать.
Я обиженно посмотрела на нее, вспомнив, как она смеялась с Аменхотепом, и мне захотелось переспросить: «Наша?» — но я лишь сжала губы.
На следующее утро Аменхотеп ворвался в Зал приемов, напугав визирей и послов из Миттани, рассевшихся вокруг стола моего отца. За ним по пятам вошли Панахеси и Нефертити, и Нефертити посмотрела на отца предостерегающе. Он тут же встал:
— Ваше величество, я думал, вы ездите на Арене.
Визири и послы поспешно поднялись и поклонились.
Аменхотеп поднялся на помост и уселся на трон.
— Лошади из Вавилона не прибыли, а египетские скакуны мне надоели. Кроме того, верховный жрец Атона нашел для нас скульптора.
Он оглядел зал и остановил взгляд на иноземцах, которые поглаживали курчавые бороды.
— Это что такое? — спросил он.
Отец поклонился:
— Это послы из Миттани, ваше величество.
— Какое нам дело до Миттани? Отошли их.
Послы принялись обеспокоенно переглядываться.
— Отошли их! — громко повторил Аменхотеп.
Послы тут же встали и гуськом потянулись к выходу.
— Встретимся позже, — негромко, спокойно произнес им вслед отец.
Аменхотеп удобно устроился на троне. Теперь, с появлением Панахеси, в Зале приемов собралась толпа, состоявшая из музыкантов и дочерей визирей. Панахеси, явившийся сюда со стройплощадки ради того, чтобы представить фараону нового скульптора, вышел к помосту.
— Привести ли скульптора, ваше величество?
— Да. Пусть войдет.
Двери Зала приемов распахнулись, и все придворные повернулись ко входу. Скульптор вошел. Он был одет словно царь: на нем был длинный парик с золотыми бусинами, и сурьмы на нем было больше, чем считалось подобающим для мужчины. Скульптор подошел к помосту и низко поклонился:
— О ваше всемилостивейшее величество! — Он был красив, как красива женщина, надевшая свои лучшие драгоценности и подкрасившаяся хной. — Верховный жрец Атона сказал, что твоему дворцу потребовался скульптор. Меня зовут Тутмос, и если на то будет воля вашего величества, я прославлю ваши лики навеки!
По залу пробежал взволнованный гомон. Нефертити, тоже восседавшая на троне, подалась вперед.
— Мы хотим, чтобы они не были подобны другим, — предостерегла она.
— Не будут, — пообещал Тутмос. — Ибо никогда еще не было царицы, равной вам по красоте, и фараона, что выказал бы подобное мужество.
Видно было, что Аменхотеп настороженно относится к этому человеку, более красивому, чем он сам. Но Нефертити была тронута его словами.
— Мы хотим, чтобы ты сегодня же изваял нас! — объявила она, и Аменхотеп холодно кивнул. — Тогда мы увидим, вправду ли ты настолько хорош, как о тебе говорят!
Придворные встали. Мы вышли в коридор, и Панахеси тут же пристроился поближе к Аменхотепу.
— Полагаю, ваше величество, вы сами убедитесь, что это — наилучший скульптор во всем Египте, — предрек он.
Для Тутмоса приготовили временную мастерскую. Панахеси отворил двери. Окна в мастерской были открыты, а столы завалены красками и глиной. Тут было все, что могло потребоваться художнику: тростниковые ручки и папирус, чаши с белым порошком и толченым лазуритом. Здесь же был устроен помост.
Тутмос предложил руку Нефертити и сопроводил ее до ее трона. При виде подобной фамильярности визири принялись перешептываться, но в движении скульптора не чувствовалось ни капли заигрывания.
— С чего начнем, ваше величество? С резьбы по камню, — скульптор взмахнул свободной рукой, — или с раскрашенного изваяния?
— С изваяния, — решила Нефертити, и Тутмос согласно кивнул.
Полсотни придворных расселись, словно приготовились наблюдать за танцовщицами или слушать певицу, подыгрывающую себе на лире. Скульптор вопросительно взглянул на царя.
— И как ваше величество желает быть изображенным?
Поколебавшись мгновение, Аменхотеп ответил:
— Как Атон на земле.
Теперь заколебался скульптор.
— Как жизнь и смерть одновременно?
— Как мужчина и женщина одновременно. Как начало и конец. Как столь великая сила, что никто не может прикоснуться к ее божественности. И я хочу, чтобы мое лицо было узнаваемо.
Тутмос помедлил.
— Чтобы оно было в точности таким, как есть, ваше высочество?
— Сильнее.
По рядам придворных поползли шепотки. Уже тысячу лет, вне зависимости от внешности фараона — был ли он толстым, низкорослым или старым — изображали в храмах и гробницах молодым и стройным, с безукоризненно подведенными глазами, с безупречно уложенными волосами. Теперь же Аменхотеп пожелал, чтобы в вечность смотрело его собственное лицо, его миндалевидные глаза и узкие скулы, его полные губы и вьющиеся волосы.
Тутмос задумчиво склонил голову.
— Я сделаю набросок на папирусе. Когда он будет готов, вы сможете решить, устраивает ли вас сходство. Если его величество будет доволен, я высеку изображение в камне.
— А я? — нетерпеливо спросила Нефертити.
— С вами мне останется лишь быть верным истине, — улыбнулся Тутмос. — Ибо никто не в силах улучшить облик ее величества.
Нефертити с довольным видом откинулась на спинку трона, приготовленного для этого дня.
Мы смотрели, как тростниковое перо летает над папирусом; две дюжины глаз придирчиво следили, как скульптор трудится у широкого бронзового мольберта, установленного в центре комнаты. Пока мы наблюдали за возникающим на папирусе изображением, Тутмос развлекал нас, рассказывая историю своей жизни. Началом ее было безотрадное детство в Фивах, полное тяжкого труда. Отец Тутмоса был пекарем, и, когда его мать умерла, Тутмос занял ее место у отцовских печей — месил тесто и закладывал хлебы в печь. Приходившие за хлебом женщины поглядывали на темноволосого, зеленоглазого мальчика — да и мужчины тоже поглядывали, в особенности молодые жрецы Амона. Затем, в один прекрасный день, в пекарню зашел известный скульптор, и, когда он увидел у печей Тутмоса, он узрел в нем свою следующую модель для изваяния Амона.
— Знаменитый скульптор Бек спросил меня, соглашусь ли я позировать ему. Он, конечно же, собирался мне заплатить, и отец велел мне соглашаться. У него кроме меня было еще семь сыновей. Зачем ему был еще и я? А попав в мастерскую, я нашел там свое призвание. Бек взял меня в ученики, и через два года у меня была собственная мастерская в Мемфисе.
Тутмос отошел от мольберта, и все увидели, над чем же он трудился.
Стоявшие передо мной визири, все как один, подались вперед, и мне пришлось вытягивать шею, чтобы увидеть, что он нарисовал. Это был портрет Аменхотепа; благородное лицо царя наполовину скрывала тень. Глаза на портрете были больше, чем на самом деле, а подбородок художник изобразил более удлиненным и более грозным. В лице фараона было нечто такое, отчего он выглядел одновременно и женственно, и мужественно, и гневно, и милосердно, готовым вещать и готовым внимать. Это было запоминающееся лицо, яркое и выразительное. Лицо человека, которому нет равных.
Тутмос развернул мольберт к фараону, восседающему на троне, и все затаили дыхание, ожидая, что тот скажет.
— Великолепно… — прошептала Нефертити.
Аменхотеп перевел взгляд с изображения на мольберте на лицо молодого скульптора, нарисовавшего этот портрет.
— Я могу начать раскрашивать этот портрет красками, если так будет угодно вашему величеству.
— Нет, — твердо произнес фараон, и придворные затаили дыхание.
Мы все смотрели на Аменхотепа, когда он встал с трона.
— Красок не нужно. Высеки это в камне.
По мастерской пробежал взволнованный гомон, а моя сестра с ликованием распорядилась:
— Два бюста. Мы поместим их в храм Атона.
13
 Перет. Сезон роста
Перет. Сезон роста
Куда бы ни шла Нефертити, Тутмосу надлежало идти за ней. Ему велено было сделать зарисовки, изображающие царственную пару во все моменты их жизни, и даже позволено было сидеть рядом с помостом в Зале приемов — с точки зрения моей матери, это было возмутительно.
— Откуда нам знать, что ему можно доверять? — спросил отец.
Нефертити рассмеялась:
— Да оттуда, что он художник, а не шпион!
Даже фараон был очарован этим изящным молодым художником. Тутмос — всегда со свитком на коленях — изучал Аменхотепа, пока царь играл в сенет или гнал колесницу по мемфисской Арене. От входа на Арену я видела, как Тутмос уселся рядом с матерью, и она улыбнулась, когда он выразил восхищение ее глазами.
— Да осталось ли для него хоть что-то недозволенное? — возмутилась я.
Нефертити проследила за моим взглядом. Мерит помогала моей сестре надеть кожаные поножи для верховой езды, хотя та была на пятом месяце беременности.
— Только наши покои, — призналась Нефертити. — Но мне кажется, Аменхотеп передумает.
— Нефертити! Ты что, шутишь?
Нефертити самодовольно улыбнулась.
— Ваши покои?!
— А почему бы и нет? — бесстыдно вопросила она. — Что там прятать?
— Но что же тогда остается личным?
Нефертити подумала мгновение, затем надела шлем.
— Ничего. В наше царствие личного нет ничего, и потому нас запомнят в Египте навеки.
Я прошла вместе с сестрой до выхода на Арену. Ее ждала колесница, запряженная двумя могучими конями. Тутмос протянул мне руку, помочь подняться на ярус для зрителей. Я поколебалась, потом приняла руку. Рука оказалась на удивление гладкой для скульптора, работающего с резцом и известняком.
— Сестра главной жены царя, — произнес Тутмос.
Я подумала, что сейчас он скажет что-нибудь лестное и про мои глаза, но он лишь молча рассматривал меня. В кои-то веки вокруг него не толпилось два десятка придворных дам. Сегодня Аменхотепу захотелось проехаться рано утром, и придворные еще крепко спали в своих постелях. Я вздрогнула, и Тутмос кивнул.
— Значит, ты пришла посмотреть на его величество. — Скульптор многозначительно обвел взглядом пустые ряды. — Ты — преданная сестра.
— Или глупая, — пробормотала я.
Тутмос рассмеялся, придвинулся ближе и сознался:
— Даже я сегодня утром всерьез задумался, стоит ли мне покидать постель.
Мы дружно посмотрели на Аменхотепа, который в своей ослепительно сверкающей колеснице мчался наперегонки с Нефертити и его нубийскими стражниками. Их радостные крики были слышны даже сквозь храп лошадей и топот копыт, и стены Арены отражали и усиливали этот шум. От нашего дыхания в холодном утреннем воздухе поднимались струйки пара. Внезапно одна из колесниц остановилась у низкой стены, рядом с тем местом, где сидел Тутмос, и Аменхотеп радостно крикнул:
— Сегодня я хочу видеть рисунок, изображающий меня на Арене!
Он стащил шлем; влажные темные кудри прилипли к голове.
— Мы сделаем из этого рисунка барельеф!
Тутмос взял лист папируса и быстро встал.
— Конечно, ваше величество.
Он указал на высокие колонны Арены.
— Я нарисую, как ваши колесницы сверкают в лучах зимнего солнца. Видите? Свет, проходящий между колоннами, образует анк.
Все обернулись, и я впервые заметила неровные очертания анка на пыльной земле.
Аменхотеп ухватился за край своей колесницы.
— Вечная жизнь… — прошептал он.
— Отпечатавшаяся на песке. Золото колесниц, а за ними — пылающий анк жизни.
Я уставилась на Тутмоса, осознав вдруг, что в нем есть кое-что сверх лести и болтовни. Я снова посмотрела на символ вечной жизни, сотворенный игрой солнца и теней, и удивилась, почему я прежде его не замечала.
Тем вечером в Большом зале Тутмоса усадили за царский стол, и рядом с ним села Кийя со своим выводком придворных дам, выросших в комфорте гарема Старшего. Нефертити с Аменхотепом, довольные, наблюдали, как придворные носятся с их скульптором, который, чтобы служить им, просто перебрался во дворец.
Женщины хором упрашивали Тутмоса показать, что он нарисовал сегодня. Но Кийя была мрачна.
— Почему никто мне не сказал, что они отправляются на Арену?
— Было очень рано, госпожа, — успокоил ее Тутмос. — Вы бы замерзли.
— Я не боюсь небольшой прохлады! — огрызнулась она.
— Но тогда ваши щеки побледнели бы, а их цвет слишком чудесен. — Он внимательно оглядел Кийю. — Цвет самых насыщенных оттенков плодородной земли.
Кийя немного успокоилась.
— Ну так где же эти рисунки?
Пока мы ожидали слуг с едой, Тутмос достал листы папируса, которые я видела у Арены. Новым там был рисунок с изображением фараона, правящего могучими лошадьми, и проступающий за ним анк, знак жизни. Тутмос пустил рисунок по рукам, и даже визири — в том числе и мой отец — примолкли.
Кийя подняла взгляд.
— Очень хорошо нарисовано.
— Превосходно, — похвалил отец.
Тутмос склонил голову, и бусины в его парике мелодично зазвенели.
— Их величеств легко изображать.
— Я думаю, тут дело в вашем искусстве, — ответил отец, и на щеках Тутмоса проступил румянец.
— Эта работа мне в радость. А вчера его величество позволил мне брать и другие заказы.
На скульптора обрушился шквал заинтересованных вопросов, а Кийя величественно изрекла:
— Тогда я хочу заказать тебе изваяние — свое и первого сына Египта.
Последовала неловкая пауза. Отец взглянул на мать. Затем Тутмос тактично произнес:
— Всякий ребенок его величества будет изваян в камне.
— А ты? — спросила у меня мать. — Может, закажем твой портрет? Бюст или даже барельеф для твоей гробницы. Тебе следует начинать думать о том, какой тебя запомнят боги.
Тутмоса осыпали просьбами, и все говорили одновременно, даже визири. Посреди всей этой какофонии Тутмос заметил, что я молчу, и улыбнулся мне.
— Может, попозже, — ответила я матери. — Возможно, попозже мне захочется, чтобы меня нарисовали в прекрасном саду.
Придворные дамы порхали вокруг Тутмоса, как свежевылупившиеся бабочки вокруг цветка. Хотя Тутмос провел во дворце уже два месяца, к нему все еще относились словно к новому гостю: приглашали на все празднества и на прогулки по саду.
— Не знаю, чего они хлопочут, — сказала как-то утром Ипу, заплетая мне косу. — Непохоже, чтобы он интересовался женщинами.
Я непонимающе посмотрела на нее.
— Это в каком смысле?
Ипу взяла кувшинчик с благовониями и искоса взглянула на меня.
— Ему нравятся мужчины, госпожа.
Я застыла на краю кровати и попыталась осознать это.
— Тогда почему он так нравится всем этим женщинам?
Ипу принялась размашисто намазывать мне лицо ароматическим маслом.
— Возможно, потому, что он молод и красив и никто не сравнится с ним в мастерстве скульптора. Он похвалил мое мастерство, — самодовольно добавила она. — Он сказал, что слышал обо мне даже в Мемфисе.
— О тебе все слышали, — ответила я.
Ипу хихикнула.
— Все дамы хотят, чтобы он нарисовал их портрет. Даже Панахеси и тот заказал портрет.
В жаровне горел огонь. Погода испортилась, и все надели длинные одежды. Я прикорнула под теплым меховым плащом, размышляя над этим новым дополнением двора Аменхотепа.
— Ну, он ходит за Нефертити повсюду, куда бы та ни пошла, — отозвалась я. — Предлагает, где можно было бы высечь ее изображения. Наверняка сегодня утром он будет на Арене.
— Он что, ходит туда каждое утро?
Я вздохнула:
— Как и все мы.
Но сегодня утром мне не хотелось отправляться смотреть, как фараон будет ездить на колеснице. Я знала, каково там будет, когда визири, Панахеси и Кийя будут отпихивать друг друга, сражаясь за внимание Аменхотепа, и смотреть, как он ездит вместе с Нефертити, хотя она уже на пятом месяце беременности. Я знала, что ветер будет холодным и что, даже если слуги принесут нам подогретый шедех, я все равно буду мерзнуть. А мать будет молча переживать из-за того, что Нефертити ездит на колеснице — в ее-то положении, когда в ее чреве будущее Египта! — но никому не станет ничего говорить, даже отцу, потому что тот понимает, что таким образом Нефертити удерживает фараона подальше от Кийи.
— Готово.
Ипу отложила кисточку и сурьму. Но когда я вышла в коридор, ноги отказались нести меня в сторону внутреннего двора. Я решила, что, раз уж если мне суждено сегодня мерзнуть, лучше я буду мерзнуть в саду. Возможно, в суматохе про меня позабудут и никто не заметит, что я ушла.
Я уселась на скамью под старой акацией и услышала пронзительный голос Нефертити:
— Мутни! Мутни, ты там?
Я подобрала ноги под себя и не стала отвечать.
— Мутноджмет! — Голос сестры сделался еще более нетерпеливым. — Мутни!
Она обогнула пруд с лотосами и увидела меня.
— Что ты здесь делаешь? Мы отправляемся на Арену.
Нефертити остановилась рядом со мной; черные волосы касались лица.
— Я, пожалуй, останусь здесь.
Нефертити драматически повысила голос:
— И не увидишь, как мы будем ездить?
— Я устала. К тому же сегодня холодно.
— Здесь тоже холодно!
— Пускай поедет Ипу, — предложила я. — Или Мерит.
Нефертити заколебалась, выбирая, то ли спорить со мной и дальше, то ли махнуть рукой.
— Тутмос закончил бюсты, — сказала она наконец. Значит, она позволит мне остаться в саду. — Теперь он их раскрашивает.
Я спустила ноги со скамьи.
— А надолго ли он останется во дворце?
Нефертити как-то странно посмотрела на меня.
— Навсегда.
— Но что же он будет рисовать?
— Нас.
— Что, все время?
— Он может еще брать заказы у придворных. — Нефертити повернулась. — Видишь? — спросила она, встав так, чтобы мне был виден ее животик, выступающий над поясом из золотых скарабеев. — Он уже растет!
Я заколебалась.
— А если это девочка?
— Аменхотеп будет любить любого ребенка, которого рожу ему я! — пылко произнесла Нефертити.
Я нахмурилась. Я слишком хорошо знала свою сестру.
— В самом деле?
Нефертити сжала губы и прикусила их изнутри, как это часто делала и я.
— Если это будет девочка, то Кийя окажется матерью старшего царевича Египта.
— Но она — вторая жена. Если ты родишь фараону сына, даже если это случится в следующем году, фараоном все равно станет он.
Нефертити уставилась куда-то вдаль, за пруд, как будто могла отсюда разглядеть Фивы.
— Если у меня не будет мальчика, у Небнефера окажется предостаточно времени, чтобы заручиться поддержкой.
— Ему же всего четыре месяца!
— Ему не вечно будет четыре месяца. — Она подалась вперед. — Ты поможешь мне, ведь правда? Ты будешь со мной, когда подойдет срок. И будешь молиться богине, чтобы это был мальчик.
Я рассмеялась — и осеклась, увидев ее лицо.
— Но с чего вдруг богиня станет слушать меня?
— Потому что ты честная, — ответила Нефертити. — А я… я не такая, как ты.
Нефертити ходила по дворцу, держа руку на животе, и никто не смел даже заикнуться о четырехмесячном царевиче, которого Кийя кормила грудью в Большом зале, хотя все его видели. Царевич был очаровательным малышом, невзирая на то что мать его была кислой, как лимон. Аменхотеп то и дело поддерживал Нефертити, постоянно помогал ей взобраться на колесницу и даже на трон. Он трясся над ней и восхвалял растущего в ее чреве ребенка — и при этом полностью игнорировал уже рожденного.
В месяце мехире Аменхотеп объявил в официальных свитках и написал на общественных зданиях, что в Мемфисе господствует бог Атон. Повсюду разослали указания, повелевающие египтянам склониться перед жрецами Атона, как прежде они склонялись перед жрецами Амона.
Ибо Атон обнимает Египет. Он всемогущ.
Он — прекраснейший. Всезнающий и всеведающий.
Свиток не заканчивался словом «Амон». Такого еще не бывало в Египте — чтобы официальный свиток не заканчивался словом «Амон». Но отныне заканчиваться не будет — в Мемфисе.
Отец положил свиток на колени.
— Это богохульство, и Старший о нем узнает! Он будет очень недоволен.
Отец сердито посмотрел на мою сестру. Нефертити пожала плечами. Она не съежилась под отцовским взглядом, как сделала бы я на ее месте.
— Богохульство — это то, что считает богохульством фараон, — отозвалась она.
— Но твой муж не единственный фараон! — Отец встал и швырнул свиток в жаровню. — Старший все еще жив. И попомни мое слово, Нефертити: если твой муж не будет осторожен, не удивляйся, когда моя сестра подошлет к нему убийц.
Я прикрыла рот ладонью, а Нефертити побелела.
— Аменхотеп уже носит корону! Она не сделает этого!
Отец ничего на это не ответил.
— Ты этого не допустишь!
— Дело зашло слишком далеко.
— Но я ношу его ребенка!
Отец приблизился к ней.
— Слушай меня, и слушай внимательно. Покушение более чем возможно. Убедитесь, что люди, которых вы наняли вас защищать, готовы умереть за вас.
В лице Нефертити не осталось ни кровинки.
— Ты должен ее остановить! Она твоя сестра! — воскликнула она.
— Она еще и царица Египта, а я всего лишь визирь.
Вид у Нефертити сделался больной.
— Но ты же защитишь меня, правда?
Отец промолчал.
— Правда? — прошептала Нефертити.
Она выглядела сейчас такой маленькой и испуганной, что мне захотелось подбежать и обнять ее.
Отец прикрыл глаза.
— Конечно, я буду тебя защищать.
— А моего ребенка? А Аменхотепа?
— Этого я обещать не могу. Ты должна сдержать его. Найди способ. Иначе моей защиты не хватит.
Мы жили, словно коты: обнюхивали еду, прежде чем приступить к трапезе, хотя ее перед этим пробовали слуги, и по ночам держали ушки на макушке, прислушиваясь, не появился ли кто чужой. Ипу начала беспокоиться о моем здоровье:
— Ты всю ночь ворочаешься. Это не идет тебе на пользу, госпожа.
— До меня дошли тревожные вести, Ипу.
Ипу перестала складывать постельное белье и посмотрела на меня.
— Плохие новости?
— Да, — созналась я, подсунув руки под себя. — Ты мне скажешь, если по дворцу пойдут разговоры?
Ямочки исчезли со щек Ипу.
— Какие именно разговоры, госпожа?
— Об убийстве.
Ипу отпрянула.
— Это не так уж поразительно, — прошептала я. — Аменхотеп обзавелся врагами. Но ты ведь скажешь мне, если что-нибудь услышишь, правда?
— Конечно, — заверила меня Ипу, и я поняла по ее лицу, что она говорит серьезно.
В тот день Нефертити перед поездкой к месту строительства храма отвела меня в сторонку.
— Кажется, я что-то слышала прошлой ночью, — призналась она.
Я застыла.
— Ты рассказала отцу?
— Нет. Я толком не уверена, что именно слышала. Это было снаружи, за окном.
Меня пробрал озноб, такой сильный, что я вздрогнула.
— А царю ты сказала?
Нефертити покачала головой, положив руку на живот.
— Нет, но я хочу, чтобы сегодня ночью ты спала со мной.
Тут мне вспомнилось, что как раз сегодня Аменхотеп должен был отправиться к Кийе, и я, разгадав замысел сестры, отстранилась.
— Что? — с неистовством воскликнула Нефертити. — Ты думаешь, что я лгу?
Несколько мгновений я в задумчивости смотрела на нее.
— Пожалуйста, — твердо произнесла она, и в глазах ее, похоже, виднелся настоящий страх. — Не только ради меня. Ради ребенка.
Ребенку в ее чреве было шесть месяцев.
Тем вечером она подошла к большой кровати, которую делила с Аменхотепом, и я заколебалась.
— Ложись.
— Но это кровать царя.
Нефертити сощурилась:
— Не сегодня. Сегодня он оставил меня одну.
Но я все равно отказалась ложиться на нее.
— Перестань терять время и ложись, — прикрикнула Нефертити.
Беременность сделала ее раздражительной.
— Нет. Пойдем ко мне в кровать, — ответила я.
Нефертити метнула на меня сердитый взгляд и положила руку на живот.
— Я беременна!
— Там будет безопаснее, — бросила я.
Нефертити заколебалась, и я поняла, что переубедила ее. Она сбросила покрывало и протянула мне руку. Я поддержала ее и помогла пройти через покои. Добравшись до моей комнаты, Нефертити осторожно опустилась на подушки и пожаловалась:
— Твоя кровать не такая удобная.
— Да, но зато куда более безопасная.
Я улыбнулась, довольная своей победой, и Нефертити ничего не сказала. Я подложила подушку ей под спину.
— Ты вправду думаешь, что кто-нибудь попытается убить меня? — прошептала она.
Я рассмеялась, но смех был неискренним:
— Нет, если дли этого потребуется пройти мимо двенадцати нубийцев, которые сейчас стоят под дверью.
Я пыталась говорить весело, чтобы унять ее страхи, но Нефертити была в мрачном расположении духа и никак не успокаивалась.
— Но почему кому-то может понадобиться убивать меня? — спросила она.
От мыслей об этом я вздрогнула.
— Потому что ты замужем за фараоном и носишь его ребенка. Это самый лучший способ добраться до Аменхотепа — через тебя.
— Но ведь народ меня любит!
— Народ, — отозвалась я. — Но не жрецы. Не люди, чьи жизни посвящены Амону и чьи храмы вы собираетесь уничтожить…
— Это идея Аменхотепа! — отрезала Нефертити.
Тут в коридоре послышались шаги, и мы с ней застыли. Но человек, видимо, решил отступить, потому что шаги тут же стали удаляться. Я выдохнула.
— Я больше так не могу! — воскликнула Нефертити. — Я всего боюсь!
— Ты сама заварила эту кашу, — сурово отозвалась я.
Но я по-прежнему держала ее за руку, и той ночью мы спали, не гася ламп. Поутру мы проснулись на рассвете, свернувшись друг вокруг дружки, словно кошки.
14
 Шему. Сезон урожая
Шему. Сезон урожая
Дитя Нефертити должно было появиться на свет в пахоне. Нефертити отказалась рожать наследника египетского трона в том же самом павильоне, в котором рожала Кийя, поэтому Аменхотеп приказал рабочим, трудящимся на строительстве храма, возвести у пруда с лотосами родильный павильон.
— В нем должны быть окна, глядящие на все четыре стороны света. — Моя сестра раскинула руки, дабы рабочие поняли, что ей видится — помещение, полное воздуха и света. — Окна от потолка до пола, — распорядилась она.
Солдаты послушно поклонились, и скульпторы принялись трудиться, вырезая листву на столбиках кровати и рисуя рыб на зелено-голубых плитах пола.
Когда Нефертити не руководила возведением своего павильона, она ездила вместе с Аменхотепом посмотреть, как там продвигается строительство храма — а теперь, когда часть рабочих занялась другим, оно замедлилось.
— Мутни, найди свой плащ! — крикнула мне сестра. — Мутни, мы едем в храм!
В храме я увидела военачальника Нахтмина. Он отдавал распоряжения строителям. Что он делает в Мемфисе? Он же был твердо намерен оставаться в Фивах! Когда мы проезжали мимо, Нахтмин улыбнулся, и я отвела взгляд, чтобы Нефертити не подумала, будто между нами что-то есть. Но Ипу, ехавшая в одной колеснице со мной, тихонько прошептала:
— Фараон сделал солдатам предложение, от которого не отказываются. Двадцать дебенов серебра в месяц за работу на стройке в Мемфисе.
Я обернулась к ней, потрясенная:
— Военачальник Нахтмин явился сюда ради серебра?
Ипу посмотрела на военачальника и улыбнулась, заиграв ямочками на щеках.
— Или по иной причине.
Однажды утром сестра слишком плохо себя чувствовала, чтобы ехать в колеснице, и она захотела, чтобы вместо нее поехала я.
— Я не хочу, чтобы Аменхотеп отправился туда с Кийей! — со злобой произнесла она. — Я прямо вижу, как она едет по строительной площадке и сочиняет стихи в честь сверкающих новых зданий! А с него еще станется ради нее написать это на стене храма!
Я бы засмеялась при этих словах, но просьба Нефертити меня напугала.
— Ты хочешь, чтобы я поехала на стройку? Одна?
— Конечно не одна. Ты возьмешь с собой Ипу.
— Но что я буду там делать?
Нефертити положила руку на живот; моя неосведомленность утомила ее.
— То же самое, что всегда делаю я, — огрызнулась она. — Будешь присутствовать в храме, чтобы строители не ленились. Будешь смотреть, чтобы рабочие не воровали золото, алебастр или известняк.
— А если они все-таки будут воровать?
— Не будут, — невозмутимо произнесла Нефертити. — У тебя на глазах — не посмеют.
Пока главный конюший готовил мою колесницу к выезду, Ипу поинтересовалась:
— А где фараон? Он разве не едет?
— Моей сестре нездоровится, и она хочет, чтобы фараон был рядом с ней.
— Так мы едем одни? Без охраны?
— Совершенно одни.
Когда колесница была готова, мы покинули дворец и поехали туда, где строился храм. Солдаты ломали каменные глыбы и обтесывали их. Алебастр, похоже, никто не воровал, но несколько человек весело помахали Ипу, когда мы проезжали мимо. Я приподняла брови. Ипу улыбнулась:
— У меня есть друзья в странных местах, госпожа. А поскольку вы не можете заводить друзей среди солдат, я завожу их для вас.
Я проследила за ее взглядом и увидела, что какой-то человек встал на пути у нашей колесницы, раскинув руки. Лошади остановились, словно подчинившись некоему приказу, и Нахтмин улыбнулся нам.
— Военачальник, — официальным тоном произнесла я и поклонилась.
— Госпожа моя Мутноджмет, — отозвался он.
Ипу ухмыльнулась.
— И как продвигается работа в храме? — спросила я.
Мне же нужно было делать вид, будто я надзираю за его людьми. Рабочие с ворчанием устанавливали на место тяжелую каменную колонну.
На губах военачальника заиграла едва заметная улыбка.
— Как видишь, люди трудятся изо всех сил ради великих устремлений его величества. Но разве ты не хочешь спросить, почему я здесь?
От работы на солнце кожа военачальника приобрела оттенок темной бронзы, сделавшись темнее, чем его длинные волосы и светлые глаза.
— Я уже знала, что ты здесь, — ответила я. — Фараон сделал солдатам предложение, перед которым невозможно устоять. Двадцать дебенов серебра в месяц.
Военачальник Нахтмин сощурился под безжалостным солнцем.
— Так вот что ты думаешь? Что я продался за горсть серебра?
Я взглянула на него в упор.
— А почему же еще ты мог приехать?
Нахтмин отступил на шаг, и вид у него сделался задумчивым.
— В юности я скопил деньги, полученные в войске, и купил ферму в Фивах. А когда мой отец умер, я унаследовал его владение. Так что нет, я явился сюда не ради пригоршни дебенов.
Я почувствовала, что чем-то обидела его. Военачальник не отводил взгляда, и мне пришлось спросить:
— Тогда почему ты приехал?
Нахтмин посмотрел на Ипу.
— Возможно, ты, госпожа, сможешь это объяснить. А я должен вернуться к моим солдатам, пока они не начали воровать известняк. — Он улыбнулся. — Или алебастр.
Я посмотрела ему вслед и повернулась к Ипу:
— Почему ему нравится играть со мной?
— Потому что он тобой интересуется. И не уверен, что ты интересуешься им.
Я онемела.
— Только смотри, чтобы твоя сестра не застукала тебя в таком виде, — предостерегла меня Ипу. — А то во дворце поднимется буча похуже той, которая была при рождении царевича.
Храм Атона закончили строить своевременно, к тому моменту, как Нефертити пришла пора рожать. Она сильно отяжелела и теперь сидела в особом павильоне, украшенном изображениями Хатор и Беса, подложив под ноги пуховые подушки, а в передней сидели арфисты и играли для нее. Во всех углах стояли слуги с опахалами. Моя сестра правила со своего ложа и рявкала на всех, кто оказывался рядом, даже на нашего отца.
— Почему никто не сказал мне, что Кийя отправилась с ним посмотреть на храм? Она что, теперь заняла мое место? — Нефертити негодующе повысила голос. — Так, что ли?
— Мутноджмет, закрой дверь, — велел отец. Он посмотрел на лежащую Нефертити. — Тебе придется несколько дней просто потерпеть. Ты ничего не можешь поделать.
— Я — царица Египта!
Нефертити попыталась сесть, и служанки тут же кинулись к ней.
— Пошлите за Аменхотепом! — приказала она.
Девушки посмотрели на отца.
— Я сказала — пошлите за фараоном! — пронзительно взвизгнула Нефертити.
Отец повернулся к ближайшей служанке и кивнул. Девушка поспешно умчалась.
— Ты бы лучше побеспокоилась о состоянии дел в твоем царстве, — сказал отец. — Ты хоть потрудилась выяснить, что происходит в Фивах?
Нефертити пожала плечами:
— А зачем?
Лицо отца потемнело.
— Да затем, что Старший болен.
Служанки изо всех сил старались не смотреть друг на друга, но ясно было, что вечером они посплетничают всласть. Нефертити приподнялась на подушках.
— Насколько болен?
— Если верить новостям, Анубис может вскоре забрать его.
Нефертити попыталась сесть.
— Почему я об этом не слышала?
— Потому что ты не слушаешь ни о чем, если это не касается храма Атона, — упрекнул ее отец. — Когда Аменхотеп в последний раз наведывался в Зал приемов? Или писал чужеземным князьям? Каждый день я сижу у подножия трона Гора и распоряжаюсь, словно царь.
— А разве ты не этого хотел? Чтобы египетское царство лежало перед тобой?
— Только не тогда, когда твой муж целыми днями играет в фараона и посылает своим союзникам позолоченные статуэтки вместо настоящего золота. А мне приходится все поправлять за ним. Мне приходится объяснять правителю Квилту, почему войско не готово выступить на его защиту в то время, как хетты нападают на его царство.
— Есть войско в Фивах. Пускай он посылает за ними к Старшему.
Отец в гневе встал.
— Сколько осталось времени до того, как Аменхотеп начнет и этих солдат использовать на стройке? Что будет следующей затеей? Дворец? Город?
Я быстро взглянула на Нефертити.
— В Египте зреют раздоры, — предупредил отец. — Жрецы Амона готовят мятеж.
— Они никогда не взбунтуются!
Нефертити выпятила подбородок — семнадцатилетняя царица.
— А почему бы и нет? — с вызовом бросил отец. — Если Хоремхеб будет на их стороне?
— Тогда Хоремхеб станет предателем, и Аменхотеп его убьет.
— А если войско поддержит его? Что тогда?
Нефертити отшатнулась, схватившись за живот, словно пыталась защитить своего ребенка от подобных вестей. Затем дверь распахнулась, и на пороге появился Аменхотеп.
— О прекраснейшая из цариц Египта! — воскликнул он.
— Единственная царица Египта! — отрезала Нефертити. — Где ты был?
— В храме. — Аменхотеп улыбнулся. — Алтарь уже готов.
— И ты освятил его вместе с Кийей? — прошипела Нефертити.
Аменхотеп застыл.
— Так что, это правда? — выкрикнула Нефертити. — Раз я теперь царская корова, готовая вот-вот родить царевича, я уже никого не интересую?
Аменхотеп, заколебавшись, оглядел покои, потом быстро шагнул к жене и взял ее за руки.
— Нефертити…
— Это мое изображение смотрит на египтян! Это я надзираю над этим царством — не Кийя!
Аменхотеп поспешно опустился на колени.
— Прости.
— Ты больше не пойдешь с ней туда. Скажи, что ты больше не пойдешь с ней.
— Я обещаю…
— Обещания недостаточно. Поклянись. Поклянись Атоном.
Фараон увидел, как серьезно ее лицо, и произнес:
— Клянусь Атоном.
Мы с отцом переглянулись, а сестра подняла супруга с пола.
— Ты знаешь, что твой отец болен? — спросила она, устраиваясь на подушках и превосходно притворяясь: когда она была довольна, то все делалось, как желал Аменхотеп.
Аменхотеп тут же встал.
— Старший болен?
Он взглянул на отца.
— Это правда?
Отец поклонился.
— Да, ваше величество. Так сообщили из Фив.
Аменхотеп быстро оглядел покои и словно лишь сейчас заметил служанок.
— Вон отсюда!
Ипу и Мерит быстро выгнали остальных женщин. Аменхотеп повернулся к отцу:
— Скоро он умрет?
Отец напрягся.
— Фараон Египта может прожить еще год.
— Ты сказал, что он болен. Что пришли такие вести.
— Боги могут сохранить его.
— Боги его покинули! — выкрикнул Аменхотеп. — Они заботятся обо мне, а не о дряхлом старике!
Аменхотеп в два шага перемахнул комнату, распахнул дверь и велел стражникам:
— Отыщите архитектора Майю!
Затем он повернулся к отцу:
— Возвращайся в Зал приемов и напиши правителям всех народов. Предупреди их, что через сезон я стану фараоном Верхнего Египта.
Судя по красным пятнам на скулах, отцу стоило немалого труда удержать себя в руках.
— Он может не умереть к этому времени, ваше величество.
Аменхотеп подступил к отцу настолько близко, что на мгновение мне почудилось, будто он его сейчас поцелует. Но вместо этого он прошептал отцу на ухо:
— Ты ошибаешься. Царствование Старшего окончено.
Он шагнул к двери и приказал стражникам:
— Разыщите Панахеси!
И снова повернулся к отцу.
— Верховный жрец Атона совершит поездку в Фивы, — провозгласил он. — А теперь иди и напиши всем иноземным правителям.
Фараон указал на дверь, и мы с отцом вышли в коридор. Аменхотеп захлопнул за нами дверь. И тут же за дверью зазвучали приглушенные голоса, высокие и возбужденные. Отец, сердито шлепая сандалиями, направился в Пер-Меджат, я за ним.
— Что он делает?
— Готовится.
Отец явно был вне себя от гнева.
— К чему готовится?
— Чтобы ускорить путешествие Старшего в загробный мир.
Я ахнула.
— Тогда почему ты позволил Нефертити рассказать ему об этом?
Отец даже не притормозил.
— Потому что иначе ему рассказал бы кто-нибудь другой.
— Царица рожает!
Служанка отыскала меня в дворцовом саду и, задыхаясь, вывалила на меня эту весть. Я тут же поспешила к родильному павильону Нефертити и протолкалась через собравшуюся толпу. Посланцы и придворные дамы толпились вокруг павильона, укрывшись под тентами, и сплетничали о том, что будет, если Нефертити родит сына. Отошлют ли Небнефера жить в другой дворец? А если родится девочка? Как скоро царица забеременеет снова? Я вошла в павильон, захлопнув дверь и оставив все сплетни позади.
— Где ты была? — крикнула Нефертити.
— В саду. Я не знала, что уже началось.
Мать посмотрела на меня так, словно мне полагалось об этом знать.
— Принеси мне сока, — простонала Нефертити. — Быстро!
Я кинулась к ближайшей служанке и объяснила ей, где найти сок. Потом я снова повернулась к сестре:
— А где повитухи?
Нефертити скрипнула зубами.
— Готовят родильное кресло.
Тут появились две повитухи.
— Готово, ваше величество.
На кресле были нарисованы три богини — покровительницы родов: Хатор, Некбет и Таварет обнимали эбеновый трон. Тело Нефертити стремилось выпустить тяжелую ношу из чрева. Она тяжело дышала.
Повитухи помогли сестре удобно устроиться на мягком сиденье с отверстием посередине; через это отверстие ребенок являлся в мир. Мать подложила подушку ей под спину, а Нефертити вцепилась в мою руку и завопила так громко, что и Анубис проснулся бы. Болтовня под стенами павильона тут же стихла, и теперь слышны были лишь крики Нефертити. Мать обратилась вместо повитух ко мне:
— Мы можем чем-нибудь помочь ей?
— Нет, — честно ответила я, и повитухи закивали.
Та, которая была постарше, встряхнула копной седеющих кудрей:
— Мы уже дали ей кепер-вер.
Она дала сестре смесь из растения кепер-вер, меда и молока, чтобы ускорить роды. Теперь же пожилая повитуха лишь развела руками:
— Больше мы ничего не можем сделать.
Нефертити застонала. Лицо ее исказилось, а по шее стекали ручейки пота, и волосы липли к мокрому лицу. Я приказала одной из повитух убрать их с лица. Ипу и Мерит принесли блюдо с горячей водой и поставили под родильное кресло, между ног сестры, чтобы пар способствовал быстрым родам. Затем Нефертити запрокинула голову и вцепилась в кресло.
— Он движется! — воскликнула мать. — Царевич Египта!
— Тужься сильнее! — подбодрила Нефертити пожилая повитуха.
Мерит приложила к голове Нефертити прохладную ткань, а повитуха тут же встала за креслом и взялась за появившуюся головку ребенка. Сестра выгнулась с криком боли, потом ее маленькое тело содрогнулось, и ребенок вышел вместе с водами.
— Царевна! — воскликнула повитуха, оглядывая ребенка и проверяя, нет ли каких изъянов. — Здоровенькая царевна!
Нефертити оторвала голову от кресла.
— Царевна?! — взвизгнула она.
— Да!
Повитуха показала ей маленький сверток. Мы с матерью переглянулись.
— Кто-нибудь, сообщите визирю Эйе, — радостно произнесла мать. — И пошлите весть царю.
Ипу выскочила из павильона — сообщить дворцу, что царица жива. Вскоре должны были прозвонить колокола — дважды, в честь царевны Египта. Повитухи переложили Нефертити обратно на кровать и вставили в лоно свернутую ткань, чтобы остановить кровотечение.
— Царевна… — повторила Нефертити.
Она была так уверена, что родится царевич! Так уверена!
— Но она здорова, — ответила я. — И она твоя. Твое собственное маленькое связующее звено с вечностью.
— Но, Мутни… — Взгляд Нефертити сделался отчужденным. — Это девочка.
Подошедшая повитуха вручила сестре первую царевну Египта. Нефертити примостила ребенка на руках. У матери увлажнились глаза. Она стала бабушкой.
— Она похожа на тебя, — сказала мать Нефертити. — Те же губы и нос.
— И густые волосы, — добавила я.
Мать погладила мягкую пушистую головку. Малышка пронзительно завопила, и седая повитуха тут же кинулась к ребенку.
— Ее нужно покормить, — объявила она. — Где кормилица?
В родильный павильон впустили высокую полную женщину. Повитуха искоса взглянула на ее круглое лицо. Кормилица была ненамного старше Нефертити — лет семнадцать-восемнадцать, и выглядела она здоровой и сильной.
— Это тебя выбрал визирь Эйе?
— Да, — ответила девушка.
По ее разбухшим грудям ясно было, что она тоже недавно стала матерью.
— Тогда садись рядом с царицей, — велела повитуха.
Кормилице поставили кресло, и она обнажила одну грудь. Мы все принялись смотреть, как маленькая царевна жадно сосет молоко, а Нефертити изучала собственное миниатюрное подобие, устроившееся на руках у кормилицы.
Повитуха улыбнулась:
— Малышка такая же красивая, как вы, ваше величество. Фараон будет доволен.
— Но это не сын.
Нефертити посмотрела на царевну, которую произвела на свет. На царевну, которой полагалось быть царевичем.
— Как ты ее назовешь? — спросила я.
— Меритатон, — тут же отозвалась Нефертити.
Мать вздрогнула.
— Возлюбленная Атоном?
— Да. — Нефертити выпрямилась, и вид у нее сделался решительный. — Это напомнит Аменхотепу о том, что на самом деле важно.
Мать нахмурилась, а
Нефертити пылко произнесла:
— О родственных чувствах.
Вдали зазвонили колокола: дважды, чтобы Мемфис узнал о рождении царевны. Нефертити схватилась за край покрывала:
— Что это?
— Колокола… — начала было мать, но Нефертити перебила ее:
— Почему они прозвонили только два раза?
— Потому что три раза звонят, когда рождается царевич, — сказала я, и Нефертити разъярилась:
— Почему? Потому что дочь менее важна, чем царевич? В честь Небнефера звонили трижды, и в честь царевны Меритатон тоже будут звонить три раза!
Мы с матерью переглянулись, а царевна Меритатон завопила.
Молчание нарушила Мерит:
— Может быть, вас проводить в купальню, ваше величество?
— Нет! Прикажите кто-нибудь, чтобы звонить перестали! — распорядилась Нефертити. — И приведите Аменхотепа!
— Сначала прими ванну, а потом уже увидишься с фараоном и все ему скажешь, — попыталась переубедить ее мать.
— Нефертити, в таком состоянии тебе ни с кем нельзя видеться, — взмолилась я.
Ее платье было в пятнах, и, хотя повитухи вытерли ей ноги и причесали волосы, сейчас она не была царицей Египта. Она была женщиной, только что произведшей на свет ребенка, и от нее воняло кровью.
— Вымойся быстренько, а потом мы позовем фараона и все ему скажем.
Нефертити послушалась. Служанки завернули ее в чистое покрывало и увели. В павильоне воцарилась тишина.
— Она родила чудесное дитя, — сказала в конце концов мать.
Кормилица продолжала кормить ребенка, а повитуха убрала родильное кресло. До появления царевича пройдет не меньше года. А может, и больше.
— Как ты думаешь, он ее послушается? — спросила я.
Мать поджала губы.
— Так никогда не делалось.
— Но и царица никогда не жила в покоях фараона.
Когда Нефертити вернулась, вымытая и одетая в белое, мать кивнула.
— Так гораздо лучше, — сказала она.
Но Нефертити не склонна была слушать лесть.
— Приведите Аменхотепа.
Мерит отворила дверь родильного павильона и позвала фараона. Он тут же вошел, и Нефертити немедленно набросилась на него.
— Я хочу, чтобы в колокола прозвонили трижды! — приказала она.
Аменхотеп кинулся к жене и погладил ее по щеке.
— С тобой все в порядке? Ты…
— Пусть сегодня колокола звонят трижды!
— Но ведь… — Фараон посмотрел на спящую Меритатон. — Посмотри, какая она красивая…
— Я говорю о колоколах! — выкрикнула Нефертити, разбудив царевну, и Аменхотеп заколебался.
— Но ведь трижды звонят только…
— Что, наша царевна менее важна, чем царевич?
Аменхотеп посмотрел на личико дочери, и по щекам его потекли слезы. Малышка унаследовала его темные глаза и вьющиеся волосы. Затем он перевел взгляд на Нефертити. На лице царицы застыла упрямая убежденность, и Аменхотеп повернулся к Мерит:
— Передай, чтобы в колокола звонили трижды. В честь рождения царевны…
Он вопросительно взглянул на Нефертити.
— Царевны Меритатон, — ответила Нефертити, и Аменхотеп уселся рядом с ней.
— Меритатон, — повторил он, глядя на дочку. — Возлюбленная Атоном.
Нефертити гордо вскинула голову.
— Да. В честь великого бога Египта.
— Царевна.
Аменхотеп забрал хнычущую малышку у кормилицы и прижал к груди.
Появился отец и бросил проницательный взгляд на мать.
— Девочка, — негромко произнес он.
— И все же — наследница, — шепотом отозвалась мать.
Отец задержался настолько, чтобы подержать внучку, первую царевну Египта, на руках, а потом ушел, дабы написать послание царям иных земель.
Я разглядывала лежащую в кровати Нефертити. Она выглядела осунувшейся и бледной, но радовалась напоказ, для Аменхотепа, — в то время, когда ей следовало поспать.
— Как по-твоему, она хорошо выглядит? — спросила я у матери.
— Конечно нет. Она же только что родила.
Затем рядом с постелью возникла Мерит, вооруженная своей огромной шкатулкой из слоновой кости, заполненной косметикой. Сестра послушно села, хотя я на ее месте велела бы всем убраться прочь из моей комнаты. Я посмотрела на царевну Меритатон, которую сестра прижимала к груди, и ощутила укол чего-то очень похожего на зависть. У Нефертити был муж, семья и царство. Мне же пятнадцать — и что у меня есть?
Пир в честь рождения царевны был устроен в конце пахона. Золотые и серебряные сосуды искусной работы, присланные в дар от чужеземных царств, расставили на столе, что тянулся от одного конца Большого зала до другого. Там же стояли золотые изваяния и сундуки из черного дерева. Царь Миттани прислал свору гончих, а знатные семейства Фив преподнесли браслеты из серебра и слоновой кости.
В покоях Аменхотепа Нефертити собиралась на пир и приставала ко мне с вопросом, какое платье ей надеть, с большим вырезом или под горло.
Я посмотрела на ее подкрашенные хной груди, большие и привлекательные. Живот у нее был таким маленьким, что просто в голове не укладывалось, что она родила всего четырнадцать дней назад.
— С вырезом, — ответила я.
Я зачарованно смотрела, как платье облегает тело Нефертити и как она вдевает в уши золотые серьги. Нет, подумала я, мне никогда не быть такой красивой. Потом мы посмотрели на себя в зеркало: Кошка и Красавица.
Ни один мужчина из присутствовавших в Большом зале не мог оторвать глаз от царицы.
— Она великолепна, — сказала Ипу, когда моя сестра скользнула между колоннами и поднялась на помост.
Роды убрали впадинки с ее щек и придали лицу более яркий цвет. Сотни свечей, мерцая, освещали ей путь, а когда Нефертити уселась на трон, все на миг смолкли.
Похоже было, будто праздновать рождение Меритатон пришли все придворные до единого. Я вышла из зала наружу, туда, где стояли отец с матерью, наслаждаясь моментом покоя, пока не подали еду и не подошло время садиться за стол. Внутренний двор был забит людьми, разодетыми в лучший лен и золото; кто-то входил в Большой зал, кто-то выходил оттуда с чашей вина в руке. Отсутствовал только Панахеси.
— А как получилось, что здесь собралось столько народу? — спросила я.
На празднество прибыла даже знать из Фив; они двинулись в путь месяц назад, получив известие о близящемся рождении Меритатон.
— Они прибыли засвидетельствовать почтение новому фараону, — ответил отец.
Я не поняла, о чем он, и отец пояснил:
— Старший умирает.
Я уставилась на него.
— Но предполагалось же, что он проживет еще сезон! Ты мне говорил… — Я осеклась и поняла, что имеет в виду отец. Я придвинулась к нему и перешла на шепот. — Его что, отравили?
Отец не ответил.
— Его что, отравили? — не унималась я, но лицо отца было непроницаемо. Я отступила. — Так значит, Панахеси там?
Родители переглянулись, и отец встал.
— Что бы ни произошло в Фивах, но Старший не протянет и месяца.
В Большом зале прозвонил колокол, созывая гостей к трапезе. Отец взял мать за руку и исчез в толпе, а я осталась стоять с раскрытым ртом.
— Судя по твоему виду, не то на нас напали, не то ты только что съела что-то ну очень кислое.
Я повернулась, и военачальник Нахтмин протянул мне чашу с вином.
— Спасибо, военачальник. И я тоже рада тебя видеть.
Он рассмеялся и взмахнул рукой в сторону Большого зала:
— Пойдем?
Мы вместе вошли в сводчатые двери Большого зала, украшенного великолепной колоннадой и заполненного сотнями гостей. Нахтмин должен был сидеть за столом с верхушкой войска, я — с царской семьей. Но прежде чем мы дошли до помоста, я остановила его:
— Военачальник, скажи… ты не слышал ничего о Старшем?
Нахтмин задумчиво посмотрел на меня, потом отвел от столов в уголок, где мы могли поговорить более спокойно.
— А почему ты спрашиваешь?
Я заколебалась.
— Я… я просто подумала, что ты можешь что-то знать.
Нахтмин взглянул на меня с подозрением.
— Возможно, он очень скоро перейдет под власть Осириса.
— Но ему же всего сорок лет! Он мог прожить еще лет десять… — прошептала я. — Это не яд?
И я пристально посмотрела на него, стараясь понять, честен ли его ответ.
Нахтмин мрачно кивнул:
— Так поговаривают. И если разговоры идут даже в царской семье…
— Вовсе нет, — быстро произнесла я.
Нахтмин посмотрел на меня изучающе.
— Но если… если фараон умрет…
— То что?
— Вот именно — что тогда?
— Тогда твоя сестра станет царицей всего Египта, а вдовствующая царица склонится перед своей невесткой. И кто знает, — заговорщически добавил Нахтмин, — она может даже сама стать фараоном.
— Фараоном?! — переспросила я, не веря своим ушам.
— Это что, настолько удивительно?
— Нет, это просто глупо. Женщин, которые правили Египтом, можно пересчитать по пальцам.
— А почему бы ей не войти в их число?
Мы дружно посмотрели сквозь лес колонн на мою сестру; ее блестящие волосы удерживал массивный золотой обруч, и глаза ее выглядели даже больше обычного. Со своего трона ей виден был весь зал, но смотрела она на Аменхотепа.
— Он доверяет ей во всем, — добавил Нахтмин. — Они даже живут в одних покоях.
— Кто тебе сказал?
— Я военачальник. Это мое дело — знать. Даже будь я слугой в каком-нибудь малом дворце, я и то знал бы такую мелочь.
— Но она не может стать фараоном, не став прежде вдовой.
Я посмотрела на Нахтмина. Он спорить не стал, как будто не удивился бы, если бы Аменхотеп умер. Меня пробрал озноб, хотя вечер был теплый. Гости расселись по местам, и под сводами Большого зала звенел смех. Празднество в честь рождения царевны должно было длиться всю ночь, но мне могло больше и не представиться случая поговорить с Нахтмином. Я заколебалась.
— Я думала, ты останешься в Фивах и будешь вести там более тихую жизнь.
— О, жизнь в Фивах вовсе не тихая. Рядом с дворцом тихой жизни не бывает. Но я надеюсь когда-нибудь найти кого-нибудь, кто разделил бы со мной тихую жизнь. Вдалеке от Фив, Мемфиса и вообще любого города, через который проходит царская дорога.
Мы вместе посмотрели в зал, и я кивнула. Я понимала его желание.
— Но теперь, когда храм построен, солдаты хотят знать, что будет дальше. Фараон боится войска. Он не пошлет нас на войну, хотя хетты каждый сезон вторгаются в наши земли, а Египет не дает им отпора. С Панахеси, служащим Атону, и Аменхотепом, строящим храмы, на трон Египта взойдет твой отец. Возможно, не в прямом смысле слова, но во всех прочих смыслах фараон — он, мив-шер. Ныне настало время решать, чего ты хочешь от жизни. Имени, высеченного на камне ради вечности, — или счастья.
— А откуда ты знаешь, что я несчастлива здесь?
— Да оттуда, что ты стоишь в углу и разговариваешь со мной, в то время как твоя сестра восседает на троне Гора, а твой отец улаживает все ее трудности. Будь ты довольна жизнью, ты была бы сейчас там.
Он указал на стол для царской семьи, во главе которого восседали мои мать с отцом, а окружали их лысые мужчины в одеждах из тонкого льна.
— Так куда же это привело тебя, котенок?
— В служанки Нефертити, — отрезала я.
— Ты всегда можешь это изменить. — Нахтмин посмотрел на меня с интересом и добавил многозначительно: — Выйдя за кого-нибудь замуж.
— Мутни, ты не найдешь мое платье?
Я оторвала взгляд от доски для игры в сенет, но осталась сидеть.
— А где Мерит? Разве она не может принести тебе платье?
Нефертити посмотрела на меня огромными накрашенными глазами; она сидела рядом с кормилицей, держащей у груди Меритатон, и гладила царевну по пушистой головке.
— Я не могу оставить Меритатон. Что тебе, трудно его принести из соседней комнаты?
— Мутни, сходи, — сказала мать. — Она занята.
— Она всегда занята!
Мать бросила на меня такой взгляд, что я сочла за лучшее подчиниться и сходила за платьем. Я остановилась около Меритатон, вглядываясь в личико малышки. У нее был тот же цвет кожи, что и у ее матери, — оттенка песка, а вот глаза были желтовато-коричневые, как у Аменхотепа. Невозможно было сказать, будет ли у нее материнский подбородок или отцовский рост. Но носик был изящный и длинный, как у Нефертити.
— Она похожа на тебя, — сказала я, и сестра улыбнулась.
Мать напряглась.
— Вы слышите? — спросила она, отрывая взгляд от доски для сенета.
Все застыли, даже кормилица с Меритатон на руках. Я поняла, о чем говорит мать: издалека донеслись причитания женщин и звон храмовых колоколов.
Нефертити встала.
— Что случилось?
Тут дверь распахнулась, и появился Аменхотеп с улыбкой до ушей. Мы все поняли. Мать прикрыла рот ладонью.
— Он ушел к Осирису, — прошептала Нефертити.
Аменхотеп заключил ее в объятия.
— Старший мертв. Я — фараон всего Египта!
В комнату вошел отец, за ним по пятам — Панахеси. Охваченная радостью Нефертити даже не обратила внимания на появление мужчин в своих родильных покоях. Отец поклонился:
— Готовиться ли нам к поездке в Фивы, ваше величество?
— Никакой поездки в Фивы не будет! — провозгласил Аменхотеп. — Мы немедленно начинаем строительство города Амарна!
В комнате воцарилась тишина.
— Вы переносите столицу из Фив? — спросил отец.
— Во славу Атона, — торжественно заявил Аменхотеп.
Отец с гневом взглянул на Нефертити. Та отвела взгляд.
15
 Фивы. 1349 год до н. э.
Пятнадцатое moma
Фивы. 1349 год до н. э.
Пятнадцатое moma
Аменхотеп расхаживал взад-вперед.
— Моя мать в Зале приемов. На ней корона царицы Египта. Эта корона теперь твоя. Хочешь, я ее заберу?
Мы сидели кружком в самых богатых покоях Мальгатты: мать, отец, Ипу и я. Мы приплыли в Фивы на похороны фараона, и теперь покои Старшего принадлежали Аменхотепу. Теперь мы сидели и смотрели, как Мерит подкрашивает Нефертити глаза. Отныне сестра была выше нас. Могущественнее, чем Тийя. Даже могущественнее, чем отец. Пока Старший был жив, всегда оставалась возможность при неприятностях обратиться за помощью к нему. Теперь же у нас была только Нефертити.
— Пускай оставит себе, — повелела сестра. — Я буду носить корону, какой не было еще ни у одной из цариц Египта. Корону, которую создам сама.
Она взглянула на Тутмоса, следующего за нами повсюду.
Но Аменхотепа ее ответ не устроил.
— Корону надо отобрать, — с жестокой настойчивостью заявил он. — Тийя может быть опасна для нас.
Отец посмотрел на Нефертити. Та немедленно встала.
— В этом нет необходимости.
— Она — жена моего отца! — с угрозой отозвался Аменхотеп.
— И сестра моего отца. Он будет присматривать за ней — ради тебя.
Аменхотеп изучающе взглянул на отца, потом пожал плечами, как будто ему хотелось побыстрее прикрыть эту тему.
— Я хочу уехать из этого города, как только мы найдем место для строительства.
— Конечно уедем, — пообещала Нефертити и погладила мужа по щеке. — Но нам нужно навести порядок.
— Да, — согласился Аменхотеп. — Необходимо избавиться от жрецов Амона, пока они не подослали убийц…
— Ваше величество! — перебил его отец.
— Я не позволю им лишать меня сна! — разбушевался Аменхотеп. — Они мне снятся ночи напролет! Они проникли даже в мои сны! Но я отправлю жрецов в каменоломни!
Я ахнула, и даже Нефертити застыла, услышав эти слова. Ведь речь шла о людях, которые в жизни своей не занимались тяжелым трудом, о представителях Амона, проводивших жизнь в молитвах.
— Может, нам просто выслать их? — предложила Нефертити.
— Чтобы они плели заговоры где-то в другом месте? — возмутился Аменхотеп. — Нет! Я отправлю их всех в каменоломни.
— Но они же умрут! — вырвалось у меня.
Аменхотеп бросил на меня мрачный взгляд.
— Вот и отлично.
— А как насчет тех, которые склонятся перед Атоном? Их можно пощадить, — попросила Нефертити.
Аменхотеп заколебался.
— Мы предоставим им шанс. Но если кто откажется, того закуют — и в каменоломни!
Он вышел, велев стражникам, чтобы они шли в семи шагах за ним.
— Старший еще и месяца не пролежал в своей гробнице, а ты уже планируешь разрушение Фив? — с яростью спросил отец. — Люди увидят, что это против законов Маат. Они никогда этого не забудут.
— Тогда мы сделаем так, чтобы им было о чем помнить, кроме этого, — клятвенно пообещала Нефертити. Глаза ее были накрашены, а на шее висел золотой анк, символ жизни. — Принесите мою корону.
Тутмос удалился. Затем Нефертити сняла парик, и все дружно вскрикнули.
— Что ты сделала?! — воскликнула мать.
Нефертити побрилась наголо. Прекрасные черные пряди, обрамлявшие ее лицо, исчезли.
— Побрилась, чтобы носить корону.
Мать схватилась за сердце.
— Да что же это за корона?
— Корона, которая для всех будет связана с Египтом, — ответила Нефертити.
А я поняла, что даже без волос Нефертити все равно красива. Она была грозной, могущественной и великолепной. Нефертити посмотрела в зеркало. Тут у нее за спиной возник Тутмос. Он поднял корону с плоским верхом — так, чтобы все ее увидели, — а потом возложил ее на голову Нефертити. Никто другой не мог бы носить эту корону. Корона была создана для нее: высокая, изящная, с изображением змеи, готовой плюнуть ядом в глаза своим врагам. Нефертити повернулась, и, если бы я была простой крестьянкой, я бы подумала, что вижу богиню.
Зал приемов был забит под завязку. Писцы, торговцы, придворные, дипломаты, визири и жрецы стояли, плотно набившись в великолепный зал с его мозаиками и высокими окнами. Мемфисский Зал приемов не годился фиванскому и в подметки. Когда мы вошли в него, то лишь благоговейно ахнули. Нефертити стремительно взошла на помост, и царица Тийя, сидевшая на второй ступеньке этого помоста, перестала быть правящей царицей Египта. Отныне она была вдовствующей царицей. Пока я заняла свое место на третьей ступеньке, рядом с отцом, я успела услышать немало недоуменных шепотков: никто не знал, что означает корона Нефертити. Кто теперь Нефертити — царица? Царь-царица? Соправительница? К кому теперь обращаться с прошениями? Визири смотрели то на Аменхотепа, то на Нефертити, то на моего отца. Мы были самой могущественной семьей в Египте. Во всем мире.
Военачальник Нахтмин, при полном параде, стоял рядом с Хоремхебом. Они взирали на нубийских стражников за троном критически. Я знала, что они думают: Аменхотеп настолько не доверяет собственному войску, что нанимает для защиты чужеземцев. И еще я знала то, чего не знали даже они. Что сейчас Аменхотеп объявит о строительстве Амарны, новой столицы. Войны с хеттами, вторгающимися на наши земли, не будет. Вместо этого войско будет строить город в честь Атона.
Панахеси встал со своего кресла и провозгласил:
— Фараон Египта объявляет, что Атона следует чествовать превыше всех богов Египта!
Жрецы зароптали.
Панахеси повысил голос, чтобы перекричать их:
— Атону будут возведены храмы во всех городах. Жрецы Амона склонятся перед Атоном — либо их изгонят из Фив и отправят в каменоломни.
Раздались гневные крики.
— В каменоломни Вади Хаммамат, — продолжал Панахеси.
Ропот усилился, и Аменхотеп поднялся с трона.
— Отныне, — его голос эхом разнесся по залу, — я буду известен как фараон Эхнатон. «Угодный Атону». И фараон, угодный Атону, не будет править из Фив. Я возведу для Атона новый город, больше и величественнее Фив, и зваться он будет Амарна.
Вот теперь в Зале приемов воцарился хаос. Все были потрясены и тем, что Аменхотеп меняет имя, и тем, что будет строиться новая столица, дабы занять место величайшего из городов Востока. Эхнатон посмотрел на Панахеси. Тот потребовал тишины. Но толпа неистовствовала. Жрецы кричали, визири пытались успокоить жрецов, а торговцы, снабжавшие храмы Амона дорогими травами и золотом, заключали сделки с новыми жрецами Атона. Я посмотрела на мать — она была бела как мел.
— Стража! — крикнул новопоименованный Эхнатон. — Стража!
В толпу вломились две дюжины вооруженных нубийцев. Эхнатон встал и взял Нефертити за руку. Он повернулся к военачальникам и крикнул, перекрывая шум:
— Вы очистите все храмы и переплавите статуи Амона, Исиды и Хатор в золото! Вы дадите жрецам и жрицам единственную возможность склониться перед Атоном!
Эхнатон посмотрел на Нефертити. Та кивнула.
— Если они откажутся, закуйте их в цепи и отправьте в Хаммамат!
При слове «цепи» в зале воцарилась тишина. Люди лишь сейчас осознали, что у всех окон и выходов стоят стражники — на случай возникновения беспорядков. Эхнатон не просто желал возвысить Атона над Амоном: он желал снести статуи всех богов и богинь, оберегавших Египет на протяжении двух тысячелетий.
Какой-то визирь поднялся со своего кресла у подножия трона Гора.
— Но жрецы Амона — это знать страны! Они — основание, на котором покоится Египет! — воскликнул он.
По залу прокатился согласный гомон.
— Жрецам Амона, — медленно произнес Эхнатон, — будет предоставлен шанс — но лишь один. Они могут сделаться жрецами Атона либо отдать жизнь за бога, который больше не правит Египтом. Разве фараон — не уста богов?
Старик-визирь уставился на него, утратив дар речи.
— Разве фараон — не уста богов?! — повторил Эхнатон, сорвавшись на крик.
Старик опустился на колено.
— Конечно, ваше величество.
— Тогда кому лучше ведома воля богов, мне или жрецам? Мы построим во славу Атона город, равного которому не бывало!
Царица Тийя прикрыла глаза. Военачальник Хоремхеб выступил вперед:
— Хетты завладели Катной, а правитель Кадеша уже трижды просил нас о помощи. На его письма не ответил никто, кроме визиря Эйе, а тот ничего не может сделать без разрешения фараона! — Военачальник гневно взглянул на Эхнатона. — Если мы и на этот раз не пошлем туда людей, ваше величество, мы потеряем земли, за которые Старший заплатил жизнями трех тысяч египетских солдат!
Аменхотеп побагровел. Он оглядел зал, выискивая, кто согласен с Хоремхебом.
— Так ты говоришь, что хочешь сражаться с хеттами? — спросил фараон.
Военачальник расслышал угрозу в голосе царя.
— Я хочу защитить Египет от вторжения и сберечь земли, за приобретение которых сражался мой отец и я сам.
— Кто согласен с военачальником Хоремхебом? — выкрикнул Эхнатон.
Ни один человек в зале не шелохнулся.
— Кто? — вскричал фараон.
Пятеро колесничих выступили из рядов и огляделись. Эхнатон широко улыбнулся.
— Отлично! Вот твоя армия, военачальник!
Все в зале застыли, не понимая, что за игру затеял Эхнатон. Фараон повернулся к моему отцу.
— Отправь их в Кадеш, ибо это и есть войско, которое спасет Египет от хеттов! Кто еще желает поучаствовать в этой войне? — зловещим тоном поинтересовался фараон.
Я затаила дыхание, ожидая, вызовется ли участвовать Нахтмин.
Эхнатон ухмыльнулся:
— Значит, пять воинов. Восхвалим же героев, которые защитят Кадеш от набега хеттов!
Он издевательски захлопал в ладоши, а когда никто его не поддержал, стал хлопать громче, и в зале послышались робкие хлопки.
— Вы — герои! — Эхнатон повернулся к стражникам-нубийцам. — Уведите их — и отправьте в Кадеш!
Придворные в ошеломленном молчании смотрели, как уводили военачальника Хоремхеба и его пятерых воинов. Никто не сдвинулся с места. Кажется, никто и вздохнуть не смел.
Панахеси расправил плащ.
— А теперь фараон будет принимать прошения.
Панахеси отправился к величайшим святыням с войском нубийцев, и величайшие храмы Фив лишились своих статуй. Изваяния Исиды разбили или сожгли. Хатор сбросили с ее постамента над рекой, а Амона изуродовали. Люди в страхе попрятались по домам, а жрицы Исиды рыдали на улицах. Новое войско Эхнатона, состоявшее из наемников-нубийцев, посрывало одеяния с жрецов Амона и вручило им новые одежды, украшенные изображением солнца. Тех, кто отказался их принять, отправили на верную смерть.
И прежде чем Старший успел закоченеть в своей гробнице, Эхнатон с Нефертити преклонили колени перед алтарем, что некогда принадлежал Амону, и Панахеси провозгласил их фараоном и царицей всего Египта. Во время церемонии я сидела в первом ряду, вся увешанная золотом и лазуритом, а когда хор мальчиков сладкоголосо запел хвалу Атону, по всем Фивам войско фараона уродовало изваяния наших величайших богов.
Той ночью Нефертити созвала нас на встречу. Мы сидели кружком вокруг моей кровати и тихо переговаривались. В Фивах мне дали новую комнату, а прежнюю, рядом с покоями фараона, заняла царевна Меритатон. Когда я впустила в комнату отца, то думала, что он будет вне себя от гнева, но им владело убийственное спокойствие.
— Скажи что-нибудь, — приказала Нефертити.
— Что ты хочешь от меня услышать? — негромко произнес отец. — Это ты созвала нас.
— Да, потому что мне нужен твой совет.
— Зачем? Ты все равно им не воспользуешься.
— А что, по-твоему, я должна была сделать? — возмутилась Нефертити.
— Спасти Амона! — отрезал отец. — Спасти хоть что-нибудь! Что, по-твоему, останется от Египта после его затей?
— Ты думаешь, я этого не понимаю? — Голос Нефертити дрогнул. — Он намерен строить город — и хочет строить его в пустыне.
— В пустыне?
— Да, между Мемфисом и Фивами.
— Но там нельзя строить. Это бесплодные…
— Именно это я ему и сказала! Но Панахеси убедил его, будто такова воля Атона! — Нефертити истерически повысила голос. — Ты сделал его верховным жрецом Атона, и теперь Эхнатон считает Панахеси устами этого бога!
— Лучше пусть будет устами бога, чем казначеем. В конечном итоге, не Эхнатону решать, кто будет следующим фараоном Египта. Если твоего мужа заберет смерть, решать будут люди и их советники. Возможно, Панахеси контролирует храмы — но я контролирую золото, а золото завоюет больше сердец, чем бог, которого никто не видел.
— Но Эхнатон хочет выбрать место к концу атира. И хочет взять с собой Кийю!
Отец посмотрел на Нефертити. Так вот в чем была проблема. Не в том, что город может оказаться посреди пустыни, а в том, что Эхнатон берет с собой Кийю, чтобы та помогла выбрать место для строительства.
Паника, охватившая Нефертити, усилилась.
— Что мне делать?
— Пускай едет.
— Пускай едет выбирать место для нашего города вместе с Кийей?!
— Ты все равно ничего не можешь с этим сделать.
— Я — царица Египта! — напомнила Нефертити.
— Да, и одна из двух сотен женщин, которые достались Эхнатону по наследству из отцовского гарема.
— Эхнатон не станет иметь с ними никакого дела. Это — женщины его отца.
— Неужели все, к чему прикоснулся его отец, теперь запятнано? Включая этот город?
Нефертити ничего на это не ответила.
— Где он собирается взять рабочих для строительства Амарны? — спросил ее отец.
— Использует войско.
— А как мы будем защищать наши владения, когда туда вторгнутся хетты?
— Хетты! Хетты! Да кого волнуют эти ваши хетты? Пускай забирают Родос, Лакису или Вавилон. Что нам от них нужно?
— Товары, — перебила я, и все посмотрели на меня. — Мы получаем с Родоса керамику, из Нубии — караваны с золотом, и каждый год на вавилонских кораблях нам доставляют тысячу корзин со стеклянными изделиями.
Нефертити прищурилась.
— Откуда ты это знаешь?
— Слушаю, что говорят.
Нефертити встала и обратилась к отцу:
— Отправь послания от имени Эхнатона и пригрози хеттам войной.
— А если они по-прежнему будут грабить наши земли? — поинтересовался он.
— Тогда мы обложим храмы налогом и дадим золото, чтобы собрать войско! — парировала Нефертити. — Эхнатон уже поклялся, что наше войско построит Амарну. Он думает, что благодаря этому наши имена войдут в вечность. Я никак не могу этому помешать.
— А ты? — проницательно поинтересовался отец. — Ты тоже думаешь, что благодаря этому ваши имена войдут в вечность?
Нефертити остановилась у жаровни. Следы гневной вспышки изгладились с ее лица.
— Возможно.
— Эхнатон встречался с Майей? — спросил отец.
— Майя сказал, что это займет шесть лет. Сперва они построят главную дорогу и дворец. Эхнатон хочет переехать уже в тиби.
— Так скоро? — не удержался отец.
— Да. Мы поставим там шатры и сможем наблюдать за стройкой от начала и до конца.
Мы потрясенно уставились на нее.
— Ты собираешься жить в шатре? — до грубости откровенно спросила я. — Ты, с твоей любовью к дворцовой роскоши?
— А старики? — спросил ее отец. — Что будут делать они, когда настанет сезон половодья, а с ним холода?
— Они могут остаться здесь и приехать, когда дворец будет готов.
— Отлично. Значит, я останусь.
Нефертити посмотрела на него с изумлением.
— Ты должен ехать! Ты — казначей!
— А там будет сокровищница? Достаточно надежное укрытие, в котором можно будет хранить золото?
Его слова возмутили Нефертити.
— Эхнатону не понравится, что ты остаешься при сокровищнице, — предупредила она. — Причем не только ты, но еще и его мать.
Отец встал.
— Значит, ему придется как-то с этим примириться, — сказал он и стремительно вышел из покоев.
16
 Перет. Сезон роста
Перет. Сезон роста
Царские баржи подготовили для плавания на юг. Панахеси и Кийя должны были плыть на собственном судне, которому дали имя «Ослепительный Атон». Я стояла на пристани и расспрашивала сестру, как Эхнатон узнает, какое именно место подходит для возведения города.
— Очевидно, оно должно быть неподалеку от Нила, — огрызнулась Нефертити. — Между Мемфисом и Фивами, в таком месте, где не строил еще ни один фараон.
Она злилась на меня за то, что я отказалась ехать с ней, а отец не стал меня заставлять.
Когда баржи подняли паруса, на ветру зареяли вымпелы с изображением Атона. Сотни солдат и рабочих отправлялись в путь. Они должны были остаться в пустыне, чтобы начать строить Амарну. Я помахала Нефертити с пристани, но она лишь сердито посмотрела на меня, а махать не стала. Когда баржи скрылись из виду, я отправилась в сад, поискать семян. В новом городе тоже нужно будет посадить сады…
Какой-то дворцовый слуга наблюдал за мной из тени сикомора, потом подошел ко мне.
— Госпожа, может, тебе помочь? — Схенти пожилого слуги было в земле, и под ногти тоже набилась земля. Настоящий садовник. — Ты — сестра главной жены царя, — сказал он. — Та самая, к которой женщины ходят за лекарствами.
Я посмотрела на него с удивлением:
— Откуда ты…
— Я видел травы, которые растут у тебя в горшочках, — признался он. — Все они — лекарственные.
Я кивнула:
— Да. Иногда кто-нибудь из женщин приходит ко мне за помощью.
Садовник улыбнулся, как будто знал, что случается это вовсе не иногда, что временами по шесть-семь женщин в день заглядывают ко мне за травами, которые Ипу добывает для меня на рынках. Мои горшки были не настолько велики, чтобы вместить все растения, которые мне хотелось бы выращивать, но остальное Ипу отыскивала у хлопотливых торговцев на пристани. Я посмотрела на царский сад и вздохнула. В бескрайней пустыне между Мемфисом и Фивами зелени не будет. И кто знает, когда там появится рынок, на котором можно будет купить листья малины или акации? Я посмотрела на золотарник и морингу. В Амарне не будет ничего, кроме травы и кустов тамариска.
— Можно, я возьму с собой несколько черенков?
— Для нового города Амарны, госпожа?
Я отступила на шаг и посмотрела на старого слугу повнимательнее.
— Ты многое слышишь в своем саду.
Старик пожал плечами.
— Военачальник любит иногда заходить сюда, и мы с ним беседуем.
— Военачальник Нахтмин? — быстро переспросила я.
— Да. Он заходит из казарм, госпожа. — Садовник посмотрел на юг. Я проследила за его взглядом и увидела в той стороне ряд приземистых зданий. — Он любит посидеть здесь под акациями.
— Почему? Что он здесь делает?
— Иногда мне кажется, что он чего-то ждет, госпожа. — Старый слуга внимательно взглянул на меня, словно что-то знал, но не хотел говорить. — Но в последнее время он бывает редко. В последнее время военачальник очень занят.
«Занят сокрушением храмов Амона», — подумала я. Действительно ли садовник имел в виду именно это? Я посмотрела на него повнимательнее, но долгая практика сделала его лицо непроницаемым.
— Как тебя зовут? — спросила я старика.
— Амос.
— А ты знаешь, где сейчас военачальник?
Амос широко улыбнулся.
— Думаю, госпожа, военачальник сейчас со своими солдатами. Они стоят у дворца и поддерживают порядок среди явившихся просителей.
— Но ведь фараон уехал.
— Просители пришли к великому визирю Эйе. Не желает ли госпожа, чтобы я отвел ее к военачальнику?
Я задумалась на мгновение, представив, как взбесилась бы Нефертити, узнав, что я собралась увидеться с Нахтмином.
— Да, отведи меня к нему.
— А черенки? — спросил садовник.
— Можешь оставить их Ипу, моей личной служанке.
Садовник собрал свои инструменты и зашагал к воротам Мальгатты. Мы подошли к большой арке в конце сада, а то, что обнаружилось за ней, больше всего напоминало птичий рынок в Ахмиме. Просить милости нового фараона пришли самые разные люди. Тут были женщины с детьми, старики с ослами, мальчишка, играющий с сестрой в салочки среди утомленной жарким солнцем толпы.
Я даже попятилась от удивления.
— Тут всегда так?
Садовник стряхнул грязь со схенти.
— Скорее да. Конечно, — добавил он, — теперь, когда Старший скончался, просителей стало больше.
Мы пересекли забитый людьми внутренний двор и увидели, что люди стоят и дальше, насколько хватает взгляда. Там были и богатые женщины с мелодично позванивающими золотыми браслетами на руках, и бедные женщины в отрепьях, сердито одергивающие детей, которые носились вокруг них. Амос провел нас в тенистый угол под дворцовой крышей, где не умеющие себя вести сыновья знатных женщин боролись в грязи. На нас они не обратили никакого внимания. Один мальчишка даже закатился мне на ноги, испачкав сандалии пылью.
— Ох, госпожа, ваш наряд! — воскликнул Амос.
Я рассмеялась:
— Ничего страшного.
Садовник посмотрел на меня с удивлением. Но поскольку я не тряслась над своей внешностью, как Нефертити, я просто отряхнула платье и оглядела двор.
— А почему у богатых своя очередь, а у бедных — своя?
— Бедные хотят простых вещей, — объяснил Амос. — Новый колодец, дамбу получше. А богатые хотят сохранить свои должности при дворе.
— К несчастью, большинство из них фараон отвергнет, — произнес кто-то мне на ухо.
Я обернулась. Позади стоял военачальник Нахтмин.
— А почему он их отвергнет? — с искренним интересом спросила я.
— Потому что все эти люди прежде работали на его отца.
— А он терпеть не может все, что когда-то принадлежало отцу, — закончила мысль я. — Даже отцовскую столицу.
— Амарна. — Нахтмин внимательно посмотрел на меня. — Визири говорят, он желает, чтобы дворец был построен за год…
— Да. — Я прикусила губу, чтобы не сказать еще что-нибудь о честолюбивых замыслах моих родичей, потом шагнула к военачальнику. — А какие вести из храмов? — тихо спросила я.
— Храмы Амона по всему Египту закрыты.
Я попыталась представить себе это: храмы, стоящие со времен Хатшепсут, закрыты, и двери их заколочены, и священные источники оставлены высыхать… Что станется со всеми статуями Амона и с жрецами, поклонявшимися им? Откуда бог узнает, что мы по-прежнему хотим быть под его рукой? Я закрыла глаза и мысленно вознесла молитву богу, оберегавшему нас вот уже два тысячелетия.
— А храмы Исиды? А Хатор? — спросила я военачальника.
— Разрушены.
Я в ужасе прикрыла рот ладонью.
— Многих ли убили?
— Я — никого, — твердо произнес он.
Тут к нам подошел какой-то солдат.
— Военачальник, — позвал он. Когда он увидел меня, в глазах его вспыхнуло удивление. Он поспешно поклонился: — Госпожа Мутноджмет, твой отец сейчас в Зале приемов. Если ты ищешь его…
— Я его не ищу.
Солдат с любопытством взглянул на Нахтмина.
— Что тебе нужно? — спросил его Нахтмин.
— Там какая-то женщина утверждает, что она — родственница Старшего, но на ней нет ни золота, ни серебра, и она никак не может подтвердить свои слова. Я поставил ее в очередь вместе со всеми остальными, но она говорит, что…
— Поставь ее со знатью. Если она лжет, то поплатится за это, потому что ей откажут в прошении. Только предупреди ее об этом, прежде чем переставлять.
Солдат поклонился:
— Благодарю, военачальник. Госпожа…
Он ушел, и я заметила, что и садовник Амос тоже куда-то исчез.
— Может, мне отвести тебя обратно во дворец? — спросил Нахтмин. — Жаркий, грязный двор, забитый просителями, — не место для сестры главной жены царя.
Я приподняла брови.
— Где же тогда мое место?
Нахтмин взял меня за руку, и мы вместе вошли под тенистую сень сада.
— Рядом со мной. — Он остановился под акацией. — Ты устала быть служанкой твоей сестры. Иначе ты сейчас была бы с ней. Выбирала бы место для Амарны.
— Между нами ничего не может быть, военачальник…
— Нахтмин, — поправил меня он и взял меня за руки, и я не стала возражать.
— Мы скоро отправимся в пустыню, — предупредила я. — Мы будем жить там в шатрах.
Нахтмин привлек меня к себе.
— Я живу в шатрах и казармах с двенадцати лет.
— Но там не будет той свободы, которой мы располагаем здесь.
— Что? — Нахтмин рассмеялся. — Ты что, подумала, что я предлагаю тебе тайные свидания?
— А что же?
— Я хочу жениться на тебе, — просто сказал он.
Я зажмурилась, наслаждаясь ощущением прикосновения его теплой кожи.
— Она никогда меня не отпустит, — предупредила я его.
— Я — один из самых высокопоставленных военачальников в войске фараона. Мои предки были визирями, а до того среди них было много писцов. Я не простой наемник. Каждый фараон выдавал своих сестер и дочерей за военачальников, чтобы защитить царскую семью.
— Только не этот фараон, — сказала я, вспомнив о том, как Эхнатон боится войска. — Эта царская семья не похожа на другие.
— Тогда ты им не принадлежишь.
Его губы коснулись моих, и сотни просителей у нас за спиной исчезли.
Мы оставались в саду, пока солнце почти не спряталось за горизонт, а небо загорелось пурпурным и красным. Когда я наконец-то вернулась в свои покои, Ипу была уже сама не своя от беспокойства.
— Я чуть не отправила стражников искать тебя, госпожа!
Я улыбнулась и бросила льняной плащ на кровать.
— Вовсе незачем было это делать.
Наши взгляды встретились.
— Госпожа! Неужто ты была с военачальником?
Я едва сдержалась, чтобы не хихикнуть.
— Да.
А потом воодушевление покинуло меня: я осознала, что это значит.
— А как же фараон? — прошептала Ипу.
— Нефертити его уговорит, — сказала я.
Ипу отыскала в одной из корзин чистое домашнее платье и накинула на меня. Во взгляде ее читалось беспокойство.
— Мне уже пятнадцать лет!
Ипу продолжала смотреть на меня. Она присела на краешек кресла из черного дерева и золота и сложила руки на груди.
— Думаю, госпожа, это добром не кончится.
Я вспомнила объятие сильных рук Нахтмина и почувствовала, что бледнею.
— Я не могу вечно оставаться ее служанкой! — воскликнула я. — У нее есть муж и семья и сотни обожающих ее слуг! У нее бесчисленное множество знатных дам, которые только и ждут ее появления, чтобы помчаться следом и приняться подражать ее нарядам, ее прическам, ее серьгам. Чего ей нужно от меня?
— Она всегда будет нуждаться в тебе.
— Но я этого не хочу! Мне это не нужно!
Я раскинула руки, указывая на тяжелые тканые гобелены и ярко горящие лампы из слоновой кости.
— Нет. — Я покачала головой. — Ей придется это принять. Придется смириться.
На лице Ипу появилось напряженное выражение.
— Осторожнее. Подумай о положении военачальника.
— Мы подождем, пока переезд не завершится. А потом я ей скажу.
— А если его выгонят из войска?
Если его выгонят, то я буду знать, какое место я занимаю в нашей семье.
Когда Нефертити вернулась в Фивы, она была вне себя от ярости. Она расхаживала по моей комнате, пиная выпавший из жаровни уголек и наслаждаясь темной полосой, которую он оставлял на полу. Сегодня у Эхнатона был очередной день посещения Кийи, и он, против обыкновения, задержался там надолго.
— Он хочет построить ей дворец! — бушевала она.
— Значит, тебе придется позволить ему это, — отозвался отец.
Проницательный взгляд его голубых глаз действовал на сестру успокаивающе.
— Дворец! — Нефертити обернулась. — Целый дворец!
— Пускай строит ей дворец, — сказал отец. — Кто сказал, что дворец непременно должен быть в городе?
Глаза Нефертити расширились.
— Он может находиться на севере. И даже вообще за пределами города.
— Но под защитой стен, — уточнил отец.
— Ладно. Но территория внутри стен будет большой, — предупредила Нефертити. Она рухнула в кресло и стала смотреть на пляшущие в жаровне огоньки пламени. — Войско отправляется в Амарну, — мимоходом бросила она.
У меня перехватило дыхание.
— Что? Когда они отправляются?
Вероятно, я произнесла это слишком поспешно, поскольку Нефертити посмотрела на меня с подозрением.
— Завтра, — ответила она. — Как только слуги упакуют вещи, мы отправимся следом. Я не доверяю Панахеси. Я хочу проследить, чтобы каждая монета из сокровищницы пошла на строительство, а не ему в карман.
— Тогда мы с Тийей останемся в Фивах, — сказал отец. — Мы можем принимать просителей…
— Откажи просителям в приеме! Ты мне нужен там!
— Это невозможно. Тебе нужен народ, достаточно богатый, чтобы построить новый город, или народ, находящийся на грани голодной смерти?
Нефертити встала. Она носила свою корону постоянно — даже при нас, своих родственниках.
— Египет никогда не окажется на грани голодной смерти. Пускай просители подождут. А чужеземные послы могут найти нас и в Амарне, если уж им так надо.
Отец покачал головой, и Нефертити без всякого изящества опустилась обратно в кресло.
— Тогда кто же будет со мной? — заныла она.
— У тебя будут твои слуги. И Мутноджмет.
Нефертити посмотрела на меня.
— Ты видела чертежи особняков? У тебя тоже будет свой, — сказала она. — Конечно, большую часть времени ты будешь во дворце. Мне нужна помощь. Особенно сейчас. — Она с нежностью посмотрела на свой живот. — Теперь это будет сын.
Мы с отцом подхватились с кресел.
— Ты беременна? — воскликнула я.
Нефертити гордо вскинула голову.
— Уже два месяца. Матери я уже сказала. Даже Эхнатон знает. — Она сощурилась. —
Пускай он ходит к Кийе хоть каждую ночь, но это я ношу его сына! Два ребенка! А Кийя дала ему всего одного!
Я посмотрела на отца. Тот ничего не стал говорить про Кийю, хотя слуги шептались о том, что это очень странно: с тех пор как наша семья приехала ко двору, Кийя больше не беременеет. Но на лице отца читалась лишь искренняя радость.
Доски для игры в сенет и тяжелые троны, кедровые столы, дюжины кресел и лампы — всё погрузили на суда, и баржи поплыли на север, к городу, который даже еще не был городом. Я стояла и смотрела, как из Мальгатты уносят самые прославленные сокровища, и пыталась представить, что сейчас чувствует моя тетя, глядя, как комнаты, которые обставляли они с мужем, опустошают по прихоти молодого фараона. Тетя с отцом сейчас стояли на балконе в Пер-Меджате, и оба они смотрели на весь этот хаос молча. От пристального взгляда Тийи мне делалось не по себе.
— Так вы не поедете на север, ваше величество?
— Нет. Я не собираюсь спать в шатре, ожидая, пока там построят дворец из песка. Твой отец может ехать.
Ее слова удивили меня.
— Так, значит, ты едешь с нами? — спросила я у отца.
— Только чтобы посмотреть, что там уже сделано, — ответил он.
— Но ведь прошел всего месяц!
— И там уже трудятся тысячи рабочих. Они должны были к этому моменту построить дороги и дома.
— Когда в твоем распоряжении целое войско, — резко произнесла тетя, — просто удивительно, сколько всего можно сделать.
— А как же хетты? — со страхом спросила я.
Тийя сердито взглянула на отца:
— Нам остается лишь надеяться, что наша новая царица научит моего сына мудрости в том, что касается защиты наших земель.
По ее тону было ясно, что сама она нисколько на это не надеется.
«Нефертити не делает того, чего от нее ожидали, — подумала я. — Вместо того чтобы рисковать своим положением главной жены и пытаться повлиять на фараона, она защищает свои позиции, потакая ему во всем». Мы посмотрели вниз, на Эхнатона, отдающего указания своим стражникам-нубийцам, и тетя тяжело вздохнула. Интересно, сильно ли она жалеет, что во время визита к нам, в Ахмим, выбрала на роль главной жены Нефертити? Она ведь могла выбрать любую из девушек во дворце. Даже ту же Кийю. Отец повернулся ко мне.
— Иди, Мутноджмет, — велел он. — Иди собирайся.
Я вернулась к себе в комнату и, усевшись на кровать, посмотрела на подоконник, где прежде стояли мои горшочки с травами. Они уже столько поездили со мной… Сперва — в Фивы, потом в Мемфис, потом обратно в Фивы, а вскоре поедут в Амарну, город в пустыне.
Место, которое Эхнатон выбрал для своей столицы, было окружено холмами. На севере высились крутые скалы, а на юге — дюны цвета меди. Западный край нового города выходил к Нилу: сюда можно было доставлять товары из Мемфиса и Фив. Посреди бескрайних песков предстояло проложить дорогу, такую, чтобы по ней могли проехать в ряд три колесницы. Нефертити сказала, что это будет царская дорога и что она будет проходить через середину города. Такой дороги еще не бывало, как не бывало и города, подобного этому. Амарна будет драгоценностью восточного берега Нила, и благодаря ей имена нашей семьи будут записаны на скрижалях вечности.
— Когда грядущие поколения будут говорить об Амарне, — торжественно провозгласила она, — они будут говорить о Нефертити и Эхнатоне Строителе.
Поселок рабочих находился на востоке. Как и предсказывал отец, уже были возведены сотни домиков для рабочих, а на краю города появились казармы для солдат. На юге вокруг заложенного фундамента дворца строились особняки знати, а посреди всего этого находился наполовину построенный храм Атона, окруженный пальмами и дубами-великанами. К воротам храма вела дорога, вдоль которой с обеих сторон выстроились сфинксы. Сестра каждое утро проезжала по этой дороге, направляясь в храм, поклониться Атону. У меня в голове не умещалось, как можно было столько успеть — даже с помощью войска.
— Как им удалось сделать так много за столь малый срок?
— Посмотри на постройки внимательнее, — коротко бросил отец.
Я тайком присмотрелась.
— Дешевка?
— Кирпич-сырец и блоки из песчаника. А вместо того чтобы тратить время на барельефы, изображения просто высекаются в камне.
Я повернулась к отцу, прижав край одежды, чтобы ее не трепало ветром.
— И ты это позволил?!
— Кто может что-то позволять или не позволять Эхнатону? Это его город.
Мы снова посмотрели на постройки, и я задумчиво произнесла:
— Нет, теперь это наш город, нас всех. В людской памяти наши имена будут связаны с ним.
Отец не ответил. Сегодня он должен был отплыть обратно в Фивы и вернуться только тогда, когда дворец будет готов. Кто знает, сколько на это уйдет времени. Пять месяцев? Год?
Процессия визирей, за которыми следовала знать и тысяча придворных слуг, свернула к обнесенному стенами Городу Шатров. Шатры солдат стояли снаружи, окружая стены в три ряда. Когда мы въехали в ворота, я подумала о Нахтмине. Где он сейчас? Наша колесница остановилась перед Большим шатром, в котором двору Амарны предстояло обедать.
— Ну, так что ты думаешь? — спросила наконец Нефертити.
— Стремления твоего мужа велики, — ответил отец.
И только я знала, что он имеет в виду на самом деле: что это — построенный на скорую руку город-дешевка, жалкое подобие Фив.
Двое солдат раздвинули занавес, закрывающий вход в Большой шатер. На мощеном полу, поверх ковров стояли недавно отполированные столы. На стенах висели гобелены. У самого длинного стола стоял Эхнатон и сам наливал себе вино. Он поднял чашу, и вид у него был самоуверенный и самодовольный.
— И как великому визирю понравился новый город?
Отец был безупречным придворным.
— Здесь очень широкие дороги, — ответил он.
— Да, по ним могут проехать три колесницы в ряд, — похвастался фараон, усаживаясь. — Майя говорит, что, если поднажать, дворец будет готов к началу месори.
Отец заколебался.
— Но вы получите недостроенные здания плохого качества.
— Какая разница, — прошипел Эхнатон, — если храм и дворец наконец-то будут построены? Рабочие могут перестроить свои жилища попозже. Я хочу видеть этот город построенным при моей жизни.
— Ваше величество, вам же всего девятнадцать… — заметил отец.
Эхнатон грохнул кулаком по столу.
— И за мной ежечасно охотятся! Ты что, вправду думаешь, что я в безопасности среди солдат? Ты думаешь, военачальник Нахтмин не попытается восстановить мое войско против меня, дай ему хоть малейшую возможность? А еще жрецы Амона! — продолжал Эхнатон. — Скольким из них удалось ускользнуть из каменоломен, чтобы попытаться убить меня во сне? В моем собственном шатре! В коридорах моего же собственного дворца!
Нефертити нервно рассмеялась:
— Эхнатон, ну что за глупость? У тебя же лучшие в Египте стражи.
— Потому что они — нубийцы! Единственные, кто верен мне, — чужеземцы!
Глаза Эхнатона метали молнии. Я посмотрела на отца. Маска безукоризненного придворного спала, и я поняла, о чем он думает. Фараон Египта сходит с ума.
— Кому я могу доверять? — гневно вопросил Эхнатон. — Моей жене. Моей дочери. Верховному жрецу Атона и тебе. Кому еще?
Отец бестрепетно встретил его взгляд.
— Множество людей в войске ждут, что вы поведете их. Они доверяют вам и верят, что вы усмирите хеттов. Они сделают все, что вы попросите.
— А я прошу их построить величайший город Египта! Нефертити сказала мне, что ты возвращаешься в Фивы. Когда?
— Сегодня вечером. Пока дворец не достроен, ваше величество, так будет разумнее.
Эхнатон поставил чашу с вином на стол.
— Разве моя мать не в Фивах?
Нефертити выразительно посмотрела на отца.
— Мне не нравится, что вы двое будете там, — признал Эхнатон. — В бывшей столице Египта. Без меня.
Нефертити поспешно обошла стол.
— Эхнатон, так будет лучше. Неужто ты хочешь принимать иноземных послов в этих шатрах? Что они подумают? Если они приедут в Амарну, пока она не будет достроена, представляешь, что они напишут своим царям?
Эхнатон посмотрел на жену, потом перевел взгляд на своего доверенного визиря.
— Вы правы, — медленно произнес он. — Ни один иноземный гость не должен видеть Амарну, пока она не достроена. — Он снова взглянул отцу в глаза. — Но Мутни ты с собой не увезешь.
Отец непринужденно улыбнулся.
— Нет, — ответил он. — Мутни остается здесь.
Эхнатон боялся, что отец заберет меня в Фивы в качестве своей наследницы, а потом коронуется и будет править вместе с Тийей. «Значит, я буду заложницей», — подумалось мне. Нефертити покраснела от мысли о том, что отец мог бы когда-нибудь предпочесть меня ей. Она проскользнула мимо Эхнатона, ухватила отца за руку и сказала:
— Пойдем. Я тебя провожу.
Эхнатон встал, намереваясь присоединиться к нам, и снова сел, повинуясь взгляду Нефертити.
Мы остановились на пристани, и глаза мои были полны слез. Отец уезжал — возможно, на долгие месяцы, — и вдруг я поймала себя на том, что не меньше Эхнатона желаю, чтобы дворец достроили поскорее.
— Не грусти, котенок. — Отец поцеловал меня в лоб. — Ты будешь с матерью и сестрой.
— А ты вернешься сразу же, как дворец будет готов? — сдавленно спросила мать.
Отец погладил ее по щеке и убрал прядь волос с ее лица.
— Обещаю. Я еду только ради дела. Если бы не…
Нефертити выступила вперед, вклинившись в их беседу:
— Счастливой дороги, отец.
Отец бросил прощальный взгляд на мать, повернулся к Нефертити и обнял ее.
— Когда я вернусь, твой срок почти подойдет, — сказал он.
Нефертити положила руку на живот.
— Наследник египетского трона! — с гордостью произнесла она.
Мы стояли и смотрели, как корабль поднимает паруса. Когда баржа скрылась из виду, ко мне подошел Эхнатон.
— Он — верный визирь.
Фараон обнял меня за плечи. Я напряглась.
— Ведь правда, Мутноджмет?
Я кивнула.
— Я на это надеюсь, — прошептал Эхнатон. — Потому что если он сделает хоть шаг к короне, заплатит за это не моя жена.
— Госпожа! — воскликнула Ипу. — Госпожа, сядь! Ты вся дрожишь!
Я уселась на кровать и зажала ладони между коленями.
— Пожалуйста, сделай мне чай.
Ипу развела огонь в жаровне. Она вскипятила воду и перелила ее в чашу с подготовленными листьями.
— У тебя такой вид, словно ты больна, — негромко произнесла она, протягивая мне чай и предлагая поделиться наболевшим.
Я осушила чашу.
— Ничего страшного, — сказала я.
Это просто пустая угроза. Отец — не предатель.
— К нам сегодня никто не заходил?
— Например, военачальник?
Я быстро взглянула в сторону двери. Ипу понизила голос:
— Нет. Извини. Скорее всего, он не может пробраться в царский лагерь — здесь слишком много стражи.
Перед входом в шатер появилась чья-то тень. Чья-то рука откинула полог, и в проеме появилась Мерит.
— Госпожа, царица желает видеть тебя, — сказала она. — У маленькой царевны болит ухо, а царице нездоровится. Фараон послал за лекарем, но царица заявила, что не желает видеть никого, кроме тебя.
— Скажи ей, что я сейчас приду, — тут же отозвалась я.
Мерит исчезла, а я принялась рыться в своих шкатулках. Для Меритатон я взяла мяту. Но что же прихватить для Нефертити?
— Не знаю я, отчего ей вдруг нездоровится, — пробурчала я.
Она же всего на втором месяце. Меритатон она проносила пять месяцев, прежде чем ей стало нездоровиться.
— Возможно, это сын, — сказала Ипу.
Я кивнула. Да. Возможно, это знак. Я взяла пажитник и сложила травы в отдельные мешочки.
Нубийские стражники расступились и впустили меня в царский шатер, где спала царственная чета. Нефертити лежала в постели, а Эхнатон стоял рядом и поддерживал ее, пока ее рвало в таз. Это была странно трогательная сцена: человек, которому ничего не стоило послать других людей на смерть, заботливо придерживал страдающую дурнотой жену.
— Мутни, травы! — простонала Нефертити.
Эхнатон посмотрел, как я достаю травы.
— Что это?
— Пажитник, ваше величество.
Он дважды щелкнул пальцами, не отрывая взгляда от моего лица, и в шатер вошли два стражника.
— Проверьте это.
Ахнув, я посмотрела на Нефертити. Та отрезала:
— Она — моя сестра! Она не будет меня травить!
— Она — претендент на корону.
— Она — моя сестра, и я ей доверяю! — не терпящим возражений тоном произнесла Нефертити. — А когда она уйдет отсюда, она пойдет в шатер кормилицы, к Меритатон!
Стражники отступили. Эхнатон молча следил, как я вскипятила воду и заварила травы. Я поднесла отвар сестре, и она все выпила. Эхнатон смотрел на нас с другого конца шатра.
— И нечего за нами следить! — огрызнулась Нефертити. — Пойди найди Майю и посмотри чертежи особняка.
Эхнатон посмотрел на меня с глубокой ненавистью и, откинув полог шатра, вышел.
— Не стоило тебе кричать на него при мне, — сказала я. — Он будет думать, что это из-за меня ты сердишься на него.
— Меня бесит его одержимость подосланными убийцами! Он подозревает всех!
— Даже твою родную сестру?
Нефертити услышала порицание в моем голосе и, защищаясь, произнесла:
— Он — фараон Египта. Никто не сталкивается с такими опасностями, как он, и никому не даны такие величественные мечты.
Я приподняла брови:
— И такие дорогостоящие?
— Что такое дороговизна? Мы строим город, который простоит вечность. Дольше, чем мы с тобой можем подумать.
— Вы строите город из дешевых материалов, — возразила я. — Быстрый и дешевый.
— Это отец так говорит? — возмутилась Нефертити. — Он что, считает этот город дешевкой?
— Да. А вдруг на нас нападут? Где мы возьмем золото, чтобы защищаться?
Нефертити села.
— Я не желаю об этом слышать! Я ношу в своем чреве будущее Египта, а ты ведешь себя так, словно оно обречено! Ты просто завидуешь! Тебе завидно, что у меня есть чудесная дочка, а скоро будет еще и сын, а тебе почти шестнадцать, а отец даже еще не решил, за кого ты выйдешь замуж!
Я отступила на шаг, жестоко уязвленная.
— Он не решил, за кого я выйду, из-за тебя! Он хочет, чтобы я была при тебе, выполняла все твои капризы, давала тебе советы. Будь у меня муж, это было бы невозможно! Разве не так?
Мы сердито уставились друг на друга.
— Я могу идти? — спросила я.
— Иди к Меритатон. Потом пообедаешь с нами, — ответила Нефертити.
Это не был вопрос. Это был приказ.
— Госпожа, что ты ищешь?
— Мой плащ. Я выйду.
— Но ведь уже почти ночь! Нельзя сейчас никуда идти! Это же опасно! — воскликнула Ипу.
— У моей сестры множество стражников. Я возьму одного.
Я взяла свою корзинку для сбора трав. Ипу двинулась за мной.
— Может, лучше я пойду?
— Только если тебе хочется пройтись.
Я не стала оглядываться, но слышала позади ее шаги. Ипу нагнала меня у ворот.
— Тебе нельзя идти в лагерь к солдатам…
— Я — сестра главной жены царя! — парировала я. — Я могу делать все, что захочу.
— Госпожа, — с отчаянием произнесла Ипу. — Госпожа! — Она протянула руку, силясь остановить меня. — Пожалуйста, давай лучше я схожу. Давай я передам ему послание.
За стенами, в солдатском лагере горели костры. У одного из них сидел Нахтмин. Я остановилась и задумалась, что же я хочу ему передать.
— Скажи ему… — Я прикусила губу. — Скажи, что я согласна.
— Что ты согласна? — осторожно переспросила Ипу.
— Скажи, что я согласна. Пусть он приходит сегодня ночью.
Глаза у Ипу сделались словно блюдца.
— К тебе в шатер?!
— Да. Он может сказать, что идет к фараону.
Ипу посмотрела на ближайшего солдата.
— Но разве они не узнают?
— Может, и узнают. Но стражники на воротах — его люди, и они презирают Эхнатона. Когда он будет проходить, они будут смотреть в другую сторону. Это я обещаю.
Должно быть, той ночью Амон оберегал меня, потому что музыка, сопровождающая наши трапезы, на этот раз долго не тянулась. Нефертити смеялась, рассказывала о жизни в Мемфисе, о том, какой будет достроенная Амарна, и не обращала на меня внимания. Тем не менее я вернулась с ней в царский шатер. Когда мы вышли, она задрожала от ночного холода. У дверей царского шатра четверо стражников отступили, а двое подняли полог.
— Пойдем, потрешь мне спину, — попросила Нефертити.
Я сняла с нее плащ и принялась растирать ей плечи. Они были слишком напряженными, даже для беременной.
— Жалко, что здесь нет отца, — пожаловалась Нефертити. — Он понимает, насколько все это трудно. Как трудно планировать и строить. Он меня понимает.
— А я — нет?
— Ты не знаешь, что это такое — быть царицей.
— А отец знает?
— Отец правит этим царством. Он — фараон Египта, пускай и без цепа и посоха.
— А я — всего лишь служанка своей сестры, — резко бросила я.
Нефертити напряглась.
— Чего ты так злишься?
— Да потому что мне почти шестнадцать, а никто не планирует мое будущее! — Я перестала втирать масло ей в спину. — Твое будущее распланировано. Ты — царица. Когда-нибудь ты станешь матерью царя. А кем буду я?
— Сестрой главной жены царя!
— Но кого мне любить?
Опешившая Нефертити села.
— Меня.
Я разозлилась:
— А как же семья?
— Я — твоя семья!
Она улеглась обратно, ожидая, что я буду растирать спину.
— Подогрей масло. Оно холодное.
Я прикрыла глаза и сделала, как мне было велено. Я не собиралась жаловаться — во всяком случае, тогда, когда это лишь еще больше задержало бы меня в царском шатре. Я подождала, пока Нефертити уснет, а потом вымыла руки и прокралась наружу, в холодную ночь фаменота. В нашем шатре меня ждала Ипу. Завидев меня, она тут же встала.
— Ты уверена? — шепотом спросила она. — Ты все еще хочешь, чтобы он пришел?
Никогда еще я не была настолько уверена.
— Да.
Ипу возбужденно взмахнула руками.
— Тогда я заплету тебе волосы, госпожа.
Я уселась на пуховую подушку, но у меня не было сил сидеть спокойно. Я уже рассказала Ипу, что сказал военачальник. Теперь я стала рассказывать ей, что желаю вести тихую, спокойную жизнь.
— Вдали от всех дворцов, в таком месте, где я смогу ухаживать за своим садиком и…
Тут послышался хруст гравия, и мы дружно обернулись. Ипу выпустила мои волосы из рук.
— Он здесь!
Я схватилась за зеркало.
— Как я выгляжу?
Ипу посмотрела на меня.
— Как молодая женщина, готовая встретить возлюбленного, — ответила она с легким испугом. — Если бы твой отец…
— Тсс! — шикнула я на нее. — Не сейчас!
Я бросила зеркало.
— Открой!
Ипу прошла к двери, и из-за полога донесся приглушенный голос военачальника:
— Ты уверена, что она посылала за мной?
— Конечно. Она ждет тебя внутри.
В дверном проеме появился Нахтмин. Затем Ипу исчезла, как я ей и велела, и я затаила дыхание. Военачальник подошел ко мне и поклонился.
— Госпожа…
Я вдруг сильно занервничала.
— Нахтмин.
— Ты посылала за мной?
— Я подумала над твоим предложением, — ответила я.
Нахтмин приподнял бровь.
— И что же решила моя госпожа? — спросил он.
— Я решила, что с меня довольно роли служанки при Нефертити.
Нахтмин посмотрел на меня. В отсветах пламени его волосы походили на медь.
— Ты сказала об этом отцу?
У меня вспыхнули щеки.
— Нет еще.
Нахтмин подумал о Нефертити.
— Я подозреваю, что царица разгневается.
— Не говоря уже об Эхнатоне, — добавила я.
Я посмотрела в лицо Нахтмину, а он обнял меня и улыбнулся.
— А вдруг нас изгонят? — спросила я.
— Значит, мы вернемся в Фивы. Я продам землю, которую получил от отца в наследство, и мы купим небольшую ферму. Она будет наша, только наша, мив-шер, и мы будем спокойно жить вдали от двора и всех его хитросплетений.
— Но ты больше не будешь военачальником, — предупредила я.
— А ты больше не будешь сестрой главной жены царя.
Мы умолкли, держась за руки.
— Я не против.
Я поняла, что не могу оторвать взгляда от Нахтмина. Он остался у меня до зари. И так повторялось весь фаменот и фармути. Стражники смотрели в другую сторону и улыбались, когда Нахтмин шел ко мне в шатер. Иногда, когда он приходил, мы с ним сидели у жаровни и беседовали, и как-то раз я спросила его, что его люди думают об Эхнатоне.
— Они остаются здесь, потому что им очень хорошо платят, — сказал Нахтмин. — Это единственное, что удерживает их от мятежа. Они хотят сражаться. Но пока золото будет течь к ним в руки, они будут заниматься строительством.
— А Хоремхеб?
Нахтмин тяжело вздохнул.
— Думаю, Хоремхеб далеко на севере.
— Убит?
— Или воюет. Так или иначе, — Нахтмин уставился на огонь в маленькой жаровне, — его здесь нет, и фараон добился того, чего хотел.
Я немного помолчала.
— А что они говорят о моей сестре?
Нахтмин взглянул на меня искоса, оценивая, действительно ли я хочу это знать.
— Они подпали под ее чары, как и фараон.
— Потому что она красивая?
Нахтмин внимательно посмотрел на меня.
— И интересная. Она приходит в поселки строителей и разбрасывает на улицах золотые и серебряные дебены. Но лучше бы она бросала им хлеб — здесь трудно что-то купить, даже за все золото Египта.
— Здесь не хватает еды? — спросила я и, не получив ответа, растерянно пробормотала: — Я и не знала.
В царском лагере всего было много: мяса, фруктов, хлеба, вина.
— Пока население Фив не двинется на север, здесь постоянно будет не хватать всего. Тут мало пекарей, а даже если бы их было больше, селить их некуда.
У входа в шатер возникла чья-то тень, и Нахтмин встал и потянулся за мечом.
— Госпожа!
Это оказалась всего лишь Ипу. Она откинула полог и, посмотрев на Нахтмина, покраснела, хотя он был полностью одет.
— Госпожа, царица зовет вас. Она хочет свой чай.
Я посмотрела на Нахтмина.
— Она не хочет чаю. Она хочет просто похвастаться, что они уже почти достроили дворец.
— Она может стать нам союзником, — рассудительно произнес Нахтмин. — Иди. Увидимся завтра.
Он встал, и у меня на глаза навернулись слезы. Нахтмин мягко произнес:
— Это не навсегда, мив-шер. Ты сама сказала, что дворец почти достроен. Значит, через несколько дней твой отец будет здесь и мы пойдем к нему.
Нефертити должна была родить не раньше тота, но она расхаживала по лагерю с таким видом, словно дитя должно было появиться на свет со дня на день. Никто не должен был подходить к ней ближе чем на три шага, и там, где она проходила, все работы прекращались, чтобы стук молотков не потревожил нерожденного ребенка. Нефертити была уверена, что это будет царевич, и Эхнатон старался угодить ей во всем, заказывая шерсть из Шумера и самый мягкий лен от фиванских ткачих. Затем Нефертити испробовала свои силы, потребовав, чтобы Эхнатон перестал навещать стоящий по другую сторону дороги шатер Кийи — на том основании, что ее волнение может повредить ребенку.
— Такое возможно?
Эхнатон подошел ко мне у источника. Хотя у нас было достаточно слуг, чтобы ходить за водой, мне нравился запах сырой земли. Я поставила ведро на землю и прикрыла глаза от солнца.
— Что возможно, ваше величество?
Фараон посмотрел на устраиваемый посреди лагеря пруд для лотосов.
— Может ли она потерять ребенка, если я буду причинять ей беспокойство?
— Если она разволнуется достаточно сильно, ваше величество, может произойти все, что угодно.
Эхнатон заколебался.
— Достаточно сильно — это насколько?
«Он скучает по Кийе, — подумала я. — Она слушает его стихи и влечет его в свой тихий мир, в то время как Нефертити никогда не умолкает».
— Думаю, это зависит от того, насколько она хрупка.
Мы посмотрели на Нефертити — она шла через лагерь в сопровождении семи стражников, — на ее маленькое сильное тело.
Она подошла к нам, и Эхнатон улыбнулся, как будто не вел сейчас речь о визитах к Кийе.
— Моя царица… — Он нежно поцеловал ей руку. — У меня новости.
Глаза Нефертити заблестели.
— И какие же?
— Сегодня утром Майя прислал весть.
Нефертити тихо ахнула.
— Город завершен? — предположила она.
Эхнатон кивнул.
— Майя поклялся, что в течение ближайших дней стены будут раскрашены и мы оставим шатры.
У Нефертити вырвалось негромкое восклицание, но я тут же подумала о Нахтмине. Как нам встречаться после переезда? Он будет жить в казарме со своими людьми, а я окажусь заперта во дворце.
— Может, пойдем посмотрим? — нетерпеливо спросил Эхнатон. — Может, уже пора показать наш город людям?
— Мы возьмем всех, — решила Нефертити. — Всех визирей, всех знатных дам, всех детей — всех, кто только есть в Амарне.
Она повернулась ко мне.
— Нет ли вестей от отца?
— Нет, никаких, — отозвалась я.
Нефертити прищурилась:
— Он не писал тебе втайне?
Я изумленно уставилась на нее.
— Конечно нет.
— Хорошо. Я желаю сама сообщить ему, что Амарна готова. Когда он увидит этот дворец, — на лице ее отразилось ликование, — он поймет, что Эхнатон был прав. Мы построили величайший город Египта.
В полдень всем объявили, что ворота откроются и Амарна наконец-то предстанет перед людьми. Лагерь охватило явственно ощущаемое возбуждение. Согласно приказу фараона, до этого внутрь пускали только строителей и знать. Теперь же дворец будет открыт всем взорам, наряду с сотнями особняков, рассыпавшихся по холмам за дворцом. Когда ворота Амарны распахнулись, ехавшая в одной колеснице со мной Ипу ахнула.
Великолепный храм, с его роскошной пристанью и теснящимися к нему селениями, был достроен. Для знати возвели сотни белых особняков, и они прятались в складках холмов, словно жемчужины. Повсюду шла стройка, повсюду трудились рабочие, но сам город блистал, белый и сияющий.
Сперва процессия направилась к храму Атона. Во внутреннем дворе с колоннадой жрецы приносили жертвы солнцу. Все склонились перед фараоном и моей сестрой, а жрецы разогнали дым, чтобы мы посмотрели, как прекрасно сделан двор. Вдоль стен росли деревья моринги и граната, но лучше всего были сафлоры, радостно желтевшие в меркнущем свете. Освещение явно играло важную роль в проектировании этого двора. Эхнатон с гордостью объявил, что это именно он приказал Майе сделать внутри верхний ряд окон.
— А как это? — шепотом поинтересовалась я.
Нефертити лукаво улыбнулась:
— Пойдем посмотрим.
Мы прошли через двор во внутреннее святилище. С потолка, проходя сквозь высокие окна, струился вечерний свет. Я никогда не видела ничего подобного.
— Он — гений, — изумленно произнесла Ипу.
Я поджала губы, но возразить на это было нечего. Так не строил никто и никогда.
Визири и знать бродили по храму, разглядывали гобелены и мозаику, а прочая часть процессии тем временем ждала во дворе.
Нефертити торжествовала.
— Как ты думаешь, что скажет отец? — спросила она.
«Что еще ни один храм не обходился так дорого».
Но вслух я произнесла иное:
— Что он великолепен.
Нефертити улыбнулась. Я сказала то, что она хотела услышать. Но я никогда не скажу ей, что этот храм стоил золота Амона или безопасности Египта и зависящих от него государств. К нам подошел Эхнатон.
— Майя получит богатое вознаграждение, — объявил он. Эхнатон оглядел колонны с каннелюрами и широкие лестницы, ведущие на балконы, где купались в свете святилища поменьше. С реки плыл теплый воздух и растекался по двору. — Когда послы вернутся в Ассирию и на Родос, они будут знать, что за фараон ныне правит Египтом.
— А когда они увидят этот мост, — Нефертити отворила тяжелую деревянную дверь, — они будут знать, что за провидец замыслил все это.
Дверь распахнулась, и за ней стал виден мост, изгибающийся над Царской дорогой: он соединял храм с дворцом. Он был выше любого моста, который мне доводилось видеть, шире и замысловатее. Когда мы вышли на этот мост, у меня возникло ощущение, будто я иду в будущее, будто вижу жизнь своих внуков и их мир — такой, каким он будет уже после моего ухода.
При постройке дворца с расходами не считались. Окна поднимались от потолка до пола, а в солнечных уголках мелодично журчали благоухающие фонтаны. Здесь были кресла из черного дерева и слоновой кости, кровати, инкрустированные драгоценными камнями. Мне показали предназначенную для меня комнату и покои, которые предстояло занять моим родителям, с полом из голубых глазурованных плит и с мозаикой, изображающей сцены охоты.
— Мы назвали его Приречным дворцом, — сказала Нефертити, водя меня по дворцу и показывая каждый уголок и каждую нишу. — А дворец Кийи будет на севере.
— За стенами? — осторожно поинтересовалась я.
Нефертити улыбнулась.
— Нет, но далеко отсюда.
Мы прошли через водяной сад с его алебастровым фонтаном, и я поразилась сделанному. Я и представить не могла ни как им удалось построить все это так быстро, ни сколько золота на это пошло. Нефертити все шагала вперед, указывая на статуи, на которые мне следовало обратить внимание, и на ярко раскрашенные стены, откуда на нас смотрели ее изображения. Придворные с ликованием следовали за нами, перешептываясь и обмениваясь восклицаниями.
— А вот здесь будет царская мастерская, — сказала сестра. — Тутмос изваяет нашу жизнь во всех подробностях.
— Через тысячу лет люди будут знать, что мы ели и где мы пили, — торжественно заявил Эхнатон. — Они увидят даже царскую одевальню.
Он толчком распахнул дверь в комнату с красными подушками и коробками для париков. Горшочки с сурьмой, медные зеркала, серебряные гребни и флаконы для благовоний стояли на кедровых столиках и ждали, пока ими воспользуются.
— Мы предложим им заглянуть в наш дворец, и им будет казаться, будто они знают властителей Египта всю жизнь.
Я оглядела роскошное помещение и подумала: а знаю ли их я? Нефертити разорила Египет ради города в пустыне. Да, город был новым, и от его вида перехватывало дыхание, — но солдаты проливали пот, чтобы возвести эти стены, создать росписи и воздвигнуть громадные изваяния Эхнатона и Нефертити, чтобы люди знали, что за ними всегда наблюдают.
— Когда Тутмос закончит свою работу, — поклялась Нефертити, — Египет будет знать меня лучше, чем любую другую царицу. Даже через пятьсот лет я буду живой для египтян, Мутноджмет. Я буду жить на этих стенах, в этом дворце, в храмах. Я стану бессмертной не только в загробном мире, но и здесь, в Египте. Я могу построить гробницу, куда мои дети и дети моих детей будут приходить, чтобы вспомнить меня. Но когда они скончаются, что будет тогда? А вот это, — Нефертити подняла голову и коснулась ярко раскрашенной стены, — будет жить вечно.
Мы прошли в Зал приемов, и я заметила, что в мозаике нет изображений связанных нубийцев. Вместо этого было изображено солнце, посылающее свои лучи Нефертити и Эхнатону, целующее и благословляющее их. Эхнатон поднялся на помост и раскинул руки.
— Когда фиванцы придут сюда, — возвестил он, — каждая семья получит дом. Люди запомнят нас как государей, сделавших их богатыми, и благословят Амарну!
— Госпожа, ты не заболела?
Я схватилась за живот, а Ипу помчалась за широкой чашей. Меня вырвало. Я застонала и прислонилась щекой к хорошо выделанной коже мягкого табурета. Ипу подбоченилась:
— Что ты ела?
— Со момента осмотра дворца — ничего. Козий сыр и орехи.
Ипу нахмурилась.
— А как твои груди?
Она оттянула ворот моего платья.
— Они не стали темнее, — она надавила на грудь пальцем, — и чувствительнее?
У меня расширились глаза, и внезапно меня затопил страх. Это были те же самые признаки, что и у Нефертити. Этого не могло быть! Ведь я же помогала стольким женщинам в этом самом лагере! Ипу покачала головой и прошептала:
— Когда у тебя последний раз шла кровь?
— Не знаю. Не помню.
— А как насчет акации?
— Я ее принимала.
— Постоянно?
— Не знаю. Кажется, да. Но это все-таки произошло.
Ипу ахнула:
— Твой отец будет в ярости.
У меня задрожали губы, и я обхватила голову руками. В глубине души я знала, что это правда. Мои месячные не пришли.
— А ведь я — единственная дочь у своей матери, — объяснила я. — Ей будет так плохо, так одиноко, если я…
Я заплакала, и Ипу обняла меня и принялась гладить по голове.
— Может, все еще не так плохо, — утешала она меня. — Уж ты-то знаешь, что есть способы избавиться от этого.
Я вскинула голову:
— Нет! — и схватилась за живот. Убить ребенка Нахтмина? — Ни за что!
— Но как же быть? Если ты оставишь этого ребенка, твой отец никогда не сможет устроить твой брак!
— Вот и хорошо! — яростно бросила я. — Значит, единственный мужчина, который захочет меня взять, — это Нахтмин!
Но в голосе Ипу зазвучало отчаяние:
— А как же фараон?
— Я достаточно сделала для Нефертити. Теперь ее очередь. Пускай она уговорит его.
Взгляд у Ипу сделался скептический: похоже, она в это не верила.
— Ей придется, — сказала я.
Весь оставшийся день я расхаживала по шатру. Две женщины пришли ко мне за акацией и медом, и у меня все внутри переворачивалось, когда я вручала им смесь, думая о том, как беспечна я оказалась. Затем появилась Мерит: царица спрашивала обо мне.
— Она хочет знать, придешь ли ты на ужин.
— Нет, — ответила я. Я терзалась сожалениями, и мне совершенно не хотелось видеть сестру. — Скажи ей, что мне нездоровится.
Мерит исчезла, а несколько минут спустя в шатер, откинув полог и даже не предупредив о своем приближении, вошла Нефертити.
— Тебе в последнее время постоянно нездоровится.
Она уселась в кресло и изучающе уставилась на меня. Я разбирала свои травы, а когда дошла до акации, у меня задрожали руки.
— Особенно по вечерам, — с подозрением добавила Нефертити.
— Последние несколько дней я плохо себя чувствую, — ответила я, не солгав.
Нефертити присмотрелась ко мне повнимательнее.
— Надеюсь, ты не связалась с тем военачальником.
Должно быть, я побледнела, потому что она отрезала:
— Наша семья не может доверять никому в войске.
— Это ты так считаешь.
Нефертити снова посмотрела на меня.
— Он не приходил к тебе? — решительно спросила она.
Я опустила взгляд.
— Так он что, приходил к тебе? — взвизгнула она. — Здесь, в лагере?!
— Тебе какое дело? — Я с грохотом захлопнула ящик. — У тебя есть муж, семья, ребенок…
— Два ребенка!
— А что есть у меня?
Нефертити отдернулась, как будто я отвесила ей пощечину.
— У тебя есть я!
Я оглядела мой одинокий шатер, как будто она могла что-то понять.
— И все?
— Я — царица Египта. — Нефертити стремительно поднялась. — А ты — сестра главной жены царя! Это твое предназначение — служить!
— Кто так сказал?
— Это Маат! — выкрикнула Нефертити.
— А разрушать храмы Амона — это тоже Маат?
— Не смей так говорить! — прошипела Нефертити.
— Почему? Потому что ты боишься, что боги разгневаются?
— Атон величественнее всех богов! И тебе лучше бы понять это! Через месяц храм Атона будет достроен, и люди начнут почитать Атона, как прежде почитали Амона…
— А кто будет собирать деньги, которые они будут приносить как подношения?
— Отец, — ответила Нефертити.
— А кому он будет их отдавать?
Лицо Нефертити потемнело.
— Мы построили этот город, чтобы прославить наше царствование. Это наше право.
— Но люди не хотят переезжать в Амарну. У них дома в Фивах.
— В Фивах у них лачуги! А здесь мы сделали то, чего не делал еще ни один фараон! Каждая семья, переехавшая в Амарну, получит дом…
Я расхохоталась.
— А ты видела эти дома?
Нефертити замолчала.
— Ты их видела? Ты посещала свой дворец, но ты не видела дома рабочих! Они из кирпича-сырца! Придет половодье — и они рухнут!
— Откуда ты знаешь?
Я не ответила. Я не могла сказать ей, что так сказал отец и что то же самое повторил Нахтмин, когда мы лежали с ним в одной постели.
— Ничего ты не знаешь! — торжествующе заявила Нефертити. — Вставай, идем есть.
Это было не просьбой, а приказом.
Прежде чем выйти, Нефертити бросила через плечо:
— И чтобы об этом военачальнике больше и речи не было. Ты будешь оставаться одна и прислуживать мне, пока отец или я не подберем тебе мужа.
Я прикусила язык, чтобы не наговорить гадостей.
— А когда ты последний раз навещала царевну? — сердито спросила Нефертити.
— Вчера.
— Ты — ее тетя! — заявила Нефертити. — Неужели не ясно, что она хочет видеть тебя чаще?
«Ты хочешь сказать, что это ты желаешь видеть меня чаще?»
Нефертити удалилась, а я села и посмотрела на свой плоский живот.
— Ох, малыш, что же скажет твой отец, когда узнает о тебе? И как Нефертити убедит фараона, что ты ничем не угрожаешь его царствованию?
Ужин в царском шатре тянулся нескончаемо, а я была не в том настроении, чтобы слушать болтовню Тутмоса о хне, прическах и немодных бородах послов Угарита. Я думала лишь об одном: всего несколько дней — и Нахтмин больше не сможет приходить ко мне в шатер. Ему придется прокрадываться во дворец, и если это вообще будет возможно, то кто знает, как быстро его поймают?
Я посмотрела через стол на Нефертити. Ее ребенок будет царевичем. А мой, если отец или царь не дадут согласия, останется и без отца, и без наследства. Он будет незаконнорожденным. Я посмотрела, как слуги наперебой стараются угодить Нефертити, а когда Эхнатон обнял ее за плечи и, глядя на ее живот, прошептал: «Мой маленький фараон», меня охватила тоска.
Я встала и, извинившись, собралась уйти.
— Что, уже? — рявкнула на меня Нефертити. — Так рано? А вдруг у меня будут боли? Вдруг…
Она увидела мое лицо и сменила тактику:
— Ну останься! Поиграем в сенет.
— Нет.
— Ну хоть одну партию! — заныла сестра.
Все придворные обернулись ко мне.
Я задержалась в шатре Нефертити ровно настолько, чтобы сыграть одну партию. Выиграла Нефертити, и не потому, что я ей уступила.
— Ну ты бы постаралась! — пожаловалась она. — Неинтересно же выигрывать все время.
— Я стараюсь, — ровным тоном произнесла я.
Нефертити рассмеялась, встала и потянулась.
— Только отец может играть со мной на равных, — сказала она и подошла к жаровне. На стене шатра появилась ее тень. — Он скоро приедет, — беспечно добавила она.
— Ты получила известия?
Нефертити уловила нетерпение в моем голосе и пожала плечами:
— Он будет через шесть дней. Конечно, он увидит, как мы переедем во дворец…
Но я не слушала ее. Через шесть дней я смогу сказать отцу про его внука.
— Ребенок! Котеночек, наш ребенок!
Нахтмин был сам не свой от радости. Он обнял меня и крепко прижал к груди, но не настолько сильно, чтобы придавить ребенка.
— Ты сказала царице? — спросил он, а когда увидел, как я побледнела, нахмурился. — Разве она не обрадовалась за тебя?
— Чему — что я беременна одновременно с ней и буду отвлекать от нее внимание нашего отца? — Я покачала головой. — Ты не знаешь Нефертити.
— Но ей придется это принять. Мы поженимся, а если фараон не перестанет сердиться, мы уедем из города и купим ферму в холмах.
Я с сомнением посмотрела на него.
— Не волнуйся, мив-шер. — Он прижал меня к себе. — Это же ребенок. Кто может обижаться на ребенка?
На следующее утро я пошла к Нефертити. Она, конечно, рассердится, но если я скажу отцу прежде, чем ей, она и вовсе взбесится. Нефертити находилась в царском шатре. Утренний свет проникал сквозь стены и освещал творящийся в шатре хаос: слуги перетаскивали корзины, мужчины упаковывали тяжелые сундуки, а женщины собирали охапками косметику и льняное белье.
— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала я.
— Не туда! — крикнула Нефертити. Все в шатре застыли. Она сердито указала на служанку с бельем в руках. — Сюда вот!
— Где Эхнатон? — спросила я.
— Уже во дворце. Мы вечером переезжаем. Смотри, чтобы у тебя все было готово, — сказала она.
Я поняла, что откладывать дальше нельзя. Как только мы переедем, Нахтмин не сможет приходить ко мне в шатер. Дворец будут охранять. Там будут ворота, а в них — нубийцы Эхнатона, а они терпеть не могут солдат.
— Нефертити.
— Что? — Сестра не отрывала взгляда от суматохи. Ну чего еще?
Я огляделась, проверяя, кто нас слышит, но слуги так шумели, что все равно ничего не расслышали бы, так что я сообщила:
— Я беременна.
Мгновение Нефертити стояла неподвижно, так что я подумала, что она меня не расслышала. Потом она схватила меня за руку, так что ногти впились в тело, и больно дернула к себе.
— Что ты сказала?!
Кобра на ее короне сверкнула на меня красными глазами.
— Не от военачальника? — Голос ее сделался угрожающим. — Скажи, что это ребенок не от военачальника!
Я ничего не сказала, и она потащила меня к себе в покои, отделенные от прихожей пологом.
— Отец об этом знает? — с яростью прошептала она.
Я покачала головой:
— Нет. Я пришла сначала к тебе.
Взгляд ее был полон злобы.
— Фараон будет в гневе.
—. Мы не представляем для него угрозы. Мы просто хотим пожениться и жить вместе…
— Ты легла в постель с простым солдатом! — выкрикнула Нефертити. — Ты пустила мужчину к себе на ложе без моего дозволения! Ты решила меня оскорбить?
Она приблизилась с угрожающим видом:
— Ты должна все делать для нашей семьи, а теперь ты подвергла семью угрозе!
— Это всего лишь ребенок. Мой ребенок.
— Который будет угрозой для трона. Ребенок царской крови. Сын военачальника!
Я потрясенно посмотрела на нее:
— Наш дед был военачальником, и он содержал войско в боевой готовности и в повиновении фараону. Только твой муж может видеть в войске угрозу. Военачальники всегда женились на женщинах из окружения царя.
— В Амарне такого не будет! — разбушевалась Нефертити. — Эхнатон никогда этого не допустит!
— Нефертити, пожалуйста, переубеди его. Этот ребенок ничем ему не грозит…
Нефертити резко взмахнула рукой.
— Нет. Ты забеременела — ты и избавишься от плода. Уж кто-кто, а ты знаешь, как это сделать.
Я в ужасе схватилась за живот.
— Ты собираешься так поступить со мной? — прошептала я.
— Ты сама навлекла на себя эти неприятности, хоть и знала, что делаешь. Надо мне было держать тебя поближе к себе!
Я выпрямилась во весь рост.
— У тебя есть муж и дочь, и скоро будет второй ребенок, а ты отказываешь мне в одном? В одном-единственном ребенке?
— Я ни в чем тебе не отказываю! — Нефертити окончательно взбеленилась, и теперь из-за полога, где слуги паковали вещи, доносился лишь еле слышный шум. — Я вышла за Эхнатона, чтобы дать тебе все, а ты втоптала
все в грязь ради какого-то простолюдина! Второй такой себялюбивой сестры не найти во всем Египте!
— Это почему же? Потому что я посмела полюбить кого-то, кроме тебя?
В этих словах было слишком много правды. Нефертити кинулась к пологу, но прежде, чем выйти, бросила через плечо:
— Чтобы сегодня вечером ты была на пиру во дворце!
Я подавила гордость.
— Ты скажешь мужу, что мы хотим пожениться?
Она остановилась. Я повторила снова:
— Ты скажешь ему?
— Возможно, сегодня вечером ты получишь ответ, — бросила Нефертити.
Полог упал за ней, и я осталась одна во внутренних царских покоях.
Я вернулась к себе в шатер. У меня ныло под ложечкой. Я размышляла: может, мне стоит отыскать на стройке Нахтмина и предупредить его?
— О чем, госпожа? — рассудительно поинтересовалась Ипу. — И как ты это сделаешь?
Она взяла меня за руки.
— Подожди решения царицы. Она попросит за тебя. Ты — ее сестра, и ты хорошо служила ей.
Ипу вручила мне наряд для вечернего празднества.
— Давай собираться, — подбодрила меня она. — А потом я прослежу, чтобы твои вещи перенесли во дворец.
— Я хочу сперва повидаться с матерью. Сходи за ней.
Ипу на миг застыла, размышляя над моим намерением, потом тихо кивнула и вышла.
Я надела длинное платье и золотой пояс, потом застегнула на шее ожерелье из бус, повторяя про себя, что я скажу матери. Ее единственная дочь. Единственный ребенок, которого Таварет сочла уместным ниспослать ей. Я посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на меня взглянула молодая девушка с темными волосами и большими зелеными глазами. Кто она, эта девушка, позволившая себе понести ребенка от военачальника? Я медленно выдохнула и увидела, что у меня дрожат руки.
— Мутноджмет! — Мать неодобрительно оглядела мой шатер. — Мутноджмет, почему ты не собираешься? Мы переезжаем сегодня вечером.
— Ипу сказала, что она все сделает, пока меня не будет.
Я подошла к обитой кожей скамье, чтобы мать могла сесть рядом со мной.
— Но сперва присядь, пожалуйста, сюда. — Я заколебалась. — Потому что… потому что я должна тебе кое-что сказать прямо сейчас.
Мать все поняла, прежде чем я сказала хоть слово. Взгляд ее метнулся к моему животу, и она прикрыла рот ладонью:
— Ты беременна!
Я кивнула, и глаза мои наполнились слезами.
— Да, мават.
Мать застыла недвижно — как перед этим Нефертити, — и я было подумала, что она собирается меня ударить, впервые в жизни.
— Ты спала с этим военачальником, — ровным тоном произнесла она.
Я поняла, что сейчас заплачу.
— Мы хотим пожениться, — сказала я, но мать меня не слушала.
— Каждый вечер я видела, как он входит в лагерь, и думала, что это Эхнатон вызывает его. Мне следовало бы догадаться. Когда это фараона интересовало войско? — Мать внимательно взглянула мне в лицо. — Так значит, стражники отворачивались ради тебя?
Я покраснела от стыда.
— Это случилось бы и без них. Мы любим друг друга…
— Любите? Это простолюдины женятся по любви! И так же быстро разводятся! Ты — сестра главной жены царя! Мы выдали бы тебя замуж за царевича! За царевича, Мутноджмет! Ты могла бы быть царевной Египта!
— Но я не хочу быть царевной! — Слезы хлынули у меня из глаз. — Это мечта Нефертити, а вовсе не моя. Я беременна, мават. Я ношу твоего внука, а человек, которого я люблю, хочет жениться на мне и на руках внести в свой дом.
Я посмотрела на мать.
— Разве ты ни капли не рада этому?
Она сжала губы, но потом ее решимость рухнула, и мать обняла меня.
— Ах, Мутноджмет, маленькая моя Мутноджмет! Моя малышка — мать… — Она заплакала. — Но что же это будет за ребенок?
— Любимый ребенок.
— Он будет внушать страх фараону и вызывать гнев у твоей сестры. Нефертити никогда не примет его.
— Ей придется, — твердо сказала я, отстраняясь. — Я — женщина. Я имею право выбрать себе мужа. Если это все еще Египет…
— Но это — Египет Эхнатона. Возможно, если бы ты жила в Ахмиме… — Мать развела руками. — Но это — город царя. Здесь выбирает он.
— И Нефертити, — подчеркнула я. — К тому времени, как отец приедет, особняки уже будут достроены. Нефертити может убедить Эхнатона позволить нам жить там.
— Она будет гневаться.
— Значит, ей придется с этим смириться.
Мать взяла меня за руку.
— Твой отец будет потрясен, когда вернется. Две дочери, и обе беременны.
— Он будет счастлив. Обе его дочери способны давать жизнь.
Мать улыбнулась, но в улыбке ее сквозила горечь.
— Он был бы более счастлив, если бы ты вышла замуж за царевича.
Тем вечером празднество шло по всему новому городу Амарне. Отовсюду слышался смех, и я, помогая матери забраться в колесницу, подумала: «Нефертити сделала это нарочно. Она сказала, что даст мне ответ сегодня вечером, в надежде, что я до нее не доберусь через эти толпы».
Дворики у дворца кишели слугами, носившими блюда с орехами в меду, инжиром и гранатами. Тысячи солдат пили на улицах, позабыв обо всем, и распевали песни о войне и занятиях любовью. Когда мы вошли во дворец, я принялась искать Нахтмина, выглядывая в толпе его широкие плечи и светлые волосы.
— Его здесь нет, — сказала мать. — Он должен быть со Своими людьми.
Я покраснела, поняв, что все мои мысли так явственно написаны у меня на лице. Слуга провел нас в Большой зал. Там стояло множество столов, а за ними сидели пирующие визири и флиртующие дочери богачей; все они, подражая моей сестре, дружно вырядились в тончайший лен и накрасили хной ладони, ступни и груди. Но оба трона Гора на помосте были пусты.
— А где царица? — опешив, спросила я.
— На улицах, госпожа! — крикнул в ответ пробегающий мимо слуга. — Они бросают золото! — Он заулыбался. — Всем!
Мать взяла меня за руку:
— Идем.
Я прошла следом за ней к столу для почетных гостей, стоящему прямо у помоста. Там восседали Панахеси с Кийей. Там же были и скульптор Тутмос, и зодчий Майя. Интересно, когда это они успели сделаться членами семьи? Какой-то старик с пальцами, унизанными золотыми кольцами, окликнул мать с другого конца зала, и она изменила направление, чтобы подойти к нему. Слуга отодвинул для меня кресло с подлокотниками. Дамы Кийи уставились на меня из-под париков с безмолвной угрозой. Когда я уселась, Кийя весело заявила:
— Ах, госпожа Мутноджмет, как приятно тебя видеть! Я думала, ты пропустишь празднество!
— С чего бы это вдруг? — спросила я.
— Мы думали, ты плохо себя чувствуешь.
Кровь отхлынула от моего лица, а визири обменялись вопросительными взглядами.
— Ой, ну зачем же скромничать! Ты должна поделиться хорошей новостью со всеми.
И Кийя объявила на весь стол:
— Госпожа Мутноджмет беременна от военачальника!
Время словно бы остановилось. Две дюжины лиц повернулись ко мне, а у скульптора Тутмоса глаза сделались огромными, словно блюдца.
— Это правда? — спросил он.
Я улыбнулась и вскинула голову.
— Да.
Какое-то мгновение визири потрясенно молчали, а потом принялись лихорадочно перешептываться.
Кийя, сидящая напротив меня, самодовольно улыбнулась.
— Сестры беременны одновременно! Интересно, — она подалась вперед, — а что сказал фараон?
Я не ответила.
— Он что, не знает? — ахнула Кийя.
— Я уверен, что фараон будет счастлив, — вмешался Тутмос.
— Счастлив?! — вскричала Кийя, позабыв про внешние приличия. — Она легла в постель с военачальником! С военачальником! — взвизгнула она.
— Я бы сказал, что фараон будет доволен, — сказал Тутмос. — Это прекрасная возможность добиться от военачальника преданности его делу, ведь всем известно, что душою Нахтмин далек от строительства.
— А где же он? — ровным тоном вопросила Кийя.
Тутмос задумался.
— Я полагаю, на севере, где идет борьба с хеттами.
— Что ж, тогда, возможно, он сможет отправиться туда и присоединиться к Хоремхебу.
Дамы Кийи расхохотались, а Тутмос успокаивающе коснулся руки Кийи:
— Ну, будет тебе. Никто не пожелает судьбы Хоремхеба.
Лицо Кийи смягчилось, а скульптор повернулся ко мне.
— Таварет защитит тебя, — тихо произнес он. — Ты помогла стольким женщинам при дворе, что заслужила хоть немного счастья для себя.
Мать вернулась, и тут раздалось пение труб, возвещающих о появлении сестры и Эхнатона. Придворные расступились, и они прошли через зал, улыбаясь всем вокруг. Но когда сестра дошла до меня, то быстро отвела взгляд. В ушах у меня вновь зазвучал голос Кийи: «Сестры беременны одновременно!»
Всю ночь танцовщицы в струящемся льне и нарядах, сплетенных из ярких бус, кружили по Большому залу Амарны. Развлечь Эхнатона пришли метатели огня, но фараон смотрел лишь на мою сестру. Должно быть, Кийя была уязвлена до глубины души, видя, как женщины столпились вокруг Нефертити, когда она сошла с помоста, соблаговолив переброситься парой слов с некоторыми из придворных дам. Когда я подошла к ним, сестра беседовала с супругой Майи.
Я извинилась и взяла Нефертити за руку.
— Что ты делаешь? — вспыхнула Нефертити.
— Я хочу знать, поговорила ли ты с фараоном.
— Я тебя предупреждала! — раздраженно бросила она. — Я тебе говорила не…
— Ты с ним поговорила? — повторила я уже громче.
Мать, сидевшая за столом у помоста, посмотрела на нас. Лицо Нефертити окаменело.
— Да. Нахтмина отправят на север воевать с хеттами вместе с Хоремхебом.
Ударь она меня по лицу, я и то не была бы так потрясена. У меня перехватило дыхание.
— Что?!
Нефертити покраснела.
— Я тебя предупреждала, Мутноджмет. Я говорила не подходить к нему…
Тут появился Эхнатон, и Нефертити умолкла на полуслове. Должно быть, фараон понял, о чем мы разговариваем, потому что подошел ко мне, весело улыбаясь:
— Мутноджмет.
Я повернулась к нему и обвиняюще спросила:
— Ты послал военачальника воевать с хеттами?
Улыбка исчезла с лица Эхнатона.
— Тот, кто играет с огнем, обжигается. Я уверен, что твой отец учил тебя этому, котенок.
Он протянул руку погладить меня по щеке, и я отдернулась. Тогда он наклонился ко мне и прошептал:
— Возможно, в следующий раз ты выберешь более верного любовника. Твой военачальник попросил разрешения уехать.
— Нет!
Я посмотрела на Нефертити:
— И ты ничего не сделала? Ты ничего не сделала, чтобы помешать этому?
— Он сам попросился, — пролепетала сестра.
— Он никогда не стал бы проситься! — в гневе бросила я, обвиняя фараона во лжи, и мне было безразлично, насколько мои слова опасны. — Я беременна! Я ношу его ребенка, а ты допустила, чтобы его отправили на смерть!
Все разговоры в Большом зале стихли.
Я вылетела из зала, хлопнув дверью. Но идти мне было некуда. Я даже не знала, где тут во дворце моя комната. Я заплакала, схватившись за живот. Что мне делать? У меня задрожали коленки, и вдруг мне сделалось так плохо, что я не удержалась на ногах.
— Мутни! — донесся крик матери. Она повернулась к Ипу: они обе пошли следом за мной. — Найди лекаря! Скорее!
Множество голосов, которых я не узнавала, отдавали какие-то распоряжения. Кто-то сказал, что я очень больна и меня надо перенести в храм, чтобы жрицы могли помолиться за меня. Другой голос спросил, какой храм это должен быть, Амона или Атона? Я плыла в темноте и слышала, как кто-то говорит об исцеляющей силе жрецов. Я услышала имя Панахеси и резкий ответ матери. Принесли льняное полотно. Я почувствовала тяжесть между ног. Внутренности свело судорогой. Вода. Лимонная вода и лаванда. Кто-то сказал, что прибыл мой отец. Неужто прошло столько дней? Когда я приходила в себя, постоянно было темно, а рядом со мной неизменно сидела Ипу. Когда я стонала, то чувствовала прохладное прикосновение материнских рук ко лбу. Я часто звала мать. Я явственно это помнила. Но я ни разу не позвала сестру. Позднее я узнала, что провела несколько дней, то приходя в себя, то впадая в забытье. Первое, что я помню ясно, это запах лотоса.
— Мутноджмет!
Я сощурилась — утренний свет бил мне в глаза.
— Нахтмин?
— Нет, Мутноджмет.
Это был мой отец. Я рывком приподнялась на локтях и огляделась. Тростниковые занавески на окнах были подвязаны, давая дорогу утреннему солнцу, а плитки пола блестели красным и синим. Все было великолепным: обтянутые кожей табуреты с перекрещивающимися ножками, отделанные драгоценными камнями ларцы и коробки для париков, ониксовые лампы, украшенные бирюзой. Но я была в замешательстве.
— Где Нахтмин?
Мать заколебалась. Она присела на мою кровать, и они с отцом переглянулись.
— Ты была очень больна, — сказала она наконец. — Ты помнишь праздник, милая?
И тут я все вспомнила. Смертный приговор, вынесенный Нахтмину, эгоизм Нефертити, болезнь, настигшая меня посреди дворца. Дыхание мое участилось.
— Что случилось? Чем я болела?
Отец сел рядом и взял меня за руку.
Мать прошептала:
— Мутноджмет, ты потеряла ребенка.
От ужаса я лишилась дара речи. Я потеряла ребенка Нахтмина. Я потеряла единственное, что связывало меня с ним, частичку его, которую мне следовало хранить вечно.
Мать убрала мне волосы с лица.
— Многие женщины теряют своего первого ребенка, — попыталась утешить меня она. — Ты молода. У тебя будут и другие дети. Надо возблагодарить богов, что они пощадили тебя.
Глаза ее наполнились слезами.
— Мы думали, что ты умираешь. Мы думали…
Я покачала головой:
— Нет, этого не будет.
Я села и откинула покрывало.
— Где Нефертити? — решительно спросила я.
— Молится за тебя, — серьезно произнес отец.
— В храме Атона?! — воскликнула я.
— Мутноджмет, она твоя сестра, — напомнил отец.
— Она — завистливая и себялюбивая царица, а не сестра!
Мать отшатнулась, а отец откинулся на спинку кресла.
— Она отослала военачальника прочь! — крикнула я.
— Так решил Эхнатон.
Но я не собиралась позволять отцу защищать ее. Только не на этот раз.
— А она это допустила! — обвиняюще заявила я. — Стоило Нефертити сказать хоть слово, и Эхнатон посмотрел бы на все сквозь пальцы! Мы могли бы срамить Амона на улицах, и если бы Нефертити этого хотела, он бы это допустил! Она — единственная, кого он слушает! Единственная, кто способен его контролировать! Это поняла и твоя сестра, и ты! И она позволила, чтобы Нахтмина услали! Она это позволила! — крикнула я.
Мать успокаивающе положила руку мне на плечо, но я стряхнула ее.
— Он умер? — спросила я.
Отец встал.
— Он умер? — повторила я.
— Он — сильный солдат, Мутноджмет. Страже велено было отвезти его на север, к границе с хеттами, и там отпустить. Он знает, что нужно делать.
Я закрыла глаза, представив, как Нахтмина бросают хеттам, словно кусок мяса собакам. По щекам моим потекли слезы, горячие и горькие, и отец обнял меня за плечи.
— Ты понесла тяжелую потерю, — сдержанно произнес он.
— Он никогда не вернется. А Нефертити ничего не сделала! — Горе затопило меня, и все внутри снова сжалось. — Ничего! — пронзительно вскрикнула я.
Мать прижала меня к себе и принялась покачиваться.
— Она ничего не могла поделать.
Но это было ложью.
Отец подошел к моему прикроватному столику и взял с него изысканный ларец, инкрустированный лазуритом и жемчугом.
— Она приходила сюда каждый день. Она принесла тебе этот ларец для твоих трав.
Я посмотрела на ларец. Он выглядел в точности как вещь, которую выбрала бы сама Нефертити. Замысловатый и дорогой.
— Она думает, что может купить меня за эту коробку?
За дверью послышались шаги, и слуга распахнул дверь.
— Идет царица!
Но я знала, что никогда не прощу ее.
Нефертити стремительно вошла в спальню, но мне в глаза бросилось одно — ее округлившийся живот. Увидев, что я в сознании, Нефертити остановилась и моргнула.
— Мутни?
Она принесла анк из бирюзы — возможно, благословленный в храме Атона.
— Мутни!
Нефертити подбежала и обняла меня, и я почувствовала на щеке ее слезы. Слезы моей сестры, которая никогда не плакала.
Я не шелохнулась, и Нефертити отодвинулась, чтобы посмотреть мне в лицо.
— Мутни, ну скажи что-нибудь! — взмолилась она.
— Я проклинаю тот день, когда боги решили сделать меня твоей сестрой.
У Нефертити задрожали руки.
— Возьми эти слова обратно!
Я молча посмотрела на нее.
— Возьми их обратно! — крикнула Нефертити, но я лишь отвернулась от нее.
Родители переглянулись. Потом отец сдержанно произнес:
— Иди, Нефертити. Дай ей время.
Сестра от изумления разинула рог. Она повернулась к моей матери, но и там не встретила поддержки. Тогда она развернулась и вылетела из комнаты, хлопнув дверью.
Я посмотрела на родителей.
— Я хочу остаться одна.
Мать заколебалась.
— Но ты же еще не выздоровела! — запротестовала она.
— Здесь Ипу. Она позаботится обо мне. А сейчас я хочу остаться одна.
Мать посмотрела на отца, и они вышли. Я повернулась к Ипу. Та стояла надо мной, не понимая, что делать.
— Принеси мне мой ящик с травами, — попросила я. — Только старый. Мне нужна ромашка.
Ипу отыскала ящик, и я подняла тяжелую крышку. И застыла.
— Ипу, кто-нибудь заглядывал сюда? — быстро спросила я.
Ипу нахмурилась:
— Нет, госпожа.
— Ты уверена?
Я перебрала пакетики, но акация и вправду исчезла. Льняного мешочка с семенами акации не было!
— Ипу. — Я попыталась встать. — Ипу, кто мог сюда залезть?
— Ты о чем?
— Акация!
Ипу заглянула в ящик и прикрыла рот ладонью. Потом ее взгляд метнулся к моему животу — она поняла. Я схватила ящик и ринулась из покоев. Мои спутанные длинные волосы упали на плечи, льняная рубаха была не подпоясана.
— Где Нефертити? — крикнула я.
Некоторые слуги попятились. Кто-то прошептал:
— В Большом зале, госпожа, ужинает с визирями.
Я ухватила ящик покрепче. Я была настолько взбешена, что когда я распахнула двери в зал, напугав стражников, то даже не видела лиц сидящих там людей.
— Нефертити!
Гомон в зале стих. Музыканты у помоста перестали играть, а у Тутмоса от изумления приоткрылся рот. Дамы Нефертити ахнули.
Я подняла ящик так, чтобы видно было всем.
— Кто украл у меня акацию?
Я двинулась к помосту, не отрывая взгляда от сестры. У Панахеси что-то заклокотало в горле. Отец встал.
— Кто-то украл у меня семена акации и отравил меня, чтобы убить моего ребенка! Это ты сделала?
Нефертити побелела. Она взглянула на Эхнатона круглыми от ужаса глазами, и я переключила внимание на фараона.
— Это ты? — взвизгнула я. — Это ты убил мое дитя?!
Эхнатон заерзал.
Отец взял меня за руку:
— Мутноджмет.
— Я хочу знать, кто сделал это со мной!
Мой голос эхом разнесся по залу, и даже Кийя с ее дамами притихли. Если такое могло случиться со мной, то могло и с ними. Кто был их врагами? Кто был моими?
— Пойдем, — попросил отец.
Я позволила вывести себя из зала, но у двери я остановилась и обернулась.
— Я никогда этого не прощу! — поклялась я, и Нефертити поняла, что это означает для нее. — Я не прощу этого, пока солнце будет сиять над Амарной!
Сестра откинулась на спинку кресла, и вид у нее был такой, будто кто-то украл у нее царство.
17
 Амарна
28 пайни
Амарна
28 пайни
— Боюсь, она так и будет до конца жизни ухаживать за своим садиком с травами. Без мужа, без детей… — донеслись до меня в саду слова моей служанки.
Три месяца назад, в тот день, когда я обнаружила, что кто-то отравил меня, чтобы убить ребенка Нахтмина, я сама отыскала этот особняк, новый, пустой, стоящий на золотистом склоне над городом. Никакая семья еще не заняла его, потому я въехала сюда и объявила дом своим. Никто не посмел оспорить мой выбор.
Три месяца ушло на высадку растений, но теперь я могла, наклонившись, коснуться листьев молодого сикомора, теплых и мягких. Голос служанки приблизился.
— Она за домом, там же, где и всегда, — произнесла Ипу. В голосе ее прозвучало беспокойство. — Ухаживает за своими травами, чтобы потом продать их женщинам.
Ее присутствие за спиной ощущалось словно каменная колонна. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Кроме того, я услышала запах ее благовоний — лилию и кардамон.
— Мутноджмет!
Я повернулась и прикрыла глаза ладонью от солнца. С тех пор как я покинула дворец, я больше не носила парик. Мои длинные волосы растрепались. Ипу говорила, что на солнце мои глаза напоминают изумруды, твердые и неподатливые.
Я низко поклонилась:
— Ваше величество.
Царица Тийя удивленно моргнула.
— Ты изменилась.
Я подождала, пока она не уточнит, что именно изменилось.
— Ты стала выше и, пожалуй, смуглее.
— Да. Я провожу много времени на солнце, здесь, у себя.
Я поставила лопату. Пока мы шли к дому, Тийя оглядела сад.
— Очень впечатляющий сад.
Это она заметила финиковые пальмы и цветущую глицинию.
Я улыбнулась:
— Спасибо.
Мы вошли на веранду, и тетя села. Я изменилась, а вот она осталась все той же: маленькой, проницательной, с поджатыми губами и расчетливым взглядом. Я уселась напротив тети на небольшую пуховую подушку. Тийя приехала в Амарну с моим отцом, оставив по его просьбе Фивы, и теперь каждое утро работала с ним в Пер-Меджат, занимаясь изучением свитков, написанием писем и обсуждением условий договоров.
Ипу принесла горячий чай. Царица взяла чашу.
— Я пришла не затем, чтобы уговаривать тебя вернуться, — сказала она.
— Я знаю. Для этого ты слишком разумна. Ты понимаешь, что я покончила с дворцом. С Нефертити, с ее статуями и ее бесконечными интригами.
Царица Тийя слабо улыбнулась.
— Мне уже приходила в голову мысль, что я выбрала не ту сестру.
Я поразилась: неужто кто-то мог предпочесть меня Нефертити? Потом я решительно покачала головой:
— Нет. Я никогда не хотела бы быть царицей.
— Вот именно поэтому из тебя получилась бы хорошая царица. — Тийя поставила чашку. — Но скажи мне, Мутноджмет, что ты предложила бы старой женщине, у которой болят суставы?
Я вопросительно взглянула на нее.
— Ты пришла ко мне за травами?
— Как я уже сказала, я пришла не за тем, чтобы уговаривать тебя вернуться во дворец. Ты верно говоришь — для этого я слишком разумна. Да и кроме того, зачем тебе покидать этот особняк? — Тийя взглянула на вьющиеся лозы и высокие раскрашенные колонны. — Это тихий приют, вдали от города и дурацкой политики моего сына.
Она наклонила голову. Ее драгоценное ожерелье из золота и лазурита мелодично зазвенело. Потом она с доверительным видом подалась вперед.
— Ну так скажи, Мутноджмет, чем бы мне воспользоваться?
— Но придворные лекари…
— Сильно уступают тебе в знании трав.
Тийя посмотрела на мой ухоженный сад, на растущие ровными рядами сенну и хризантемы, на их освещенную солнцем ярко-зеленую и желтую листву. Там был можжевельник — от головной боли, и полынь — от кашля. Для женщин, которые отчаянно в этом нуждались, я все-таки посадила акацию. Даже помня, что это мои же травы убили моего ребенка, я не могла им отказать.
— Женщины говорят, что ты стала настоящей целительницей. Они называют тебя Секем-Мив, Могущественная Кошка, — сказала она.
Я тут же вспомнила Нахтмина, и взгляд мой затуманился. Тетя критически посмотрела на меня, потом дотянулась и погладила по руке.
— Пойдем. Покажешь мне травы.
Сад был пестрым от игры теплых солнечных лучей и тени. Скоро станет жарко, и роса высохнет. Я вдохнула пьянящий запах земли, наклонилась и сорвала зеленую ягоду с куста можжевельника.
— Неплохо бы попить можжевельник. — Я вручила ягоду тете. — Я могу сделать тебе чай, но его нужно будет пить дважды в день.
Тийя раздавила ягоду и понюхала пальцы.
— Она пахнет, как письма из Миттани! — удивилась она.
Я посмотрела на нее. Ей уже сорок лет, а она все еще заключает союзы с другими народами и втайне договаривается с моим отцом, как лучше править царством.
— Почему ты до сих пор занимаешься этим? — спросила я, и Тийя мгновенно поняла, что я имею в виду.
— Ради Египта. — Солнце отражалось в ее золотисто-каштановых глазах и на золотых браслетах. — Я когда-то была духовным и физическим главою этой страны. И что изменилось? Что на престоле теперь сидит мой глупый сын? Конечно, если бы фараоном стал Тутмос…
Тийя вздохнула, а я тихо спросила:
— Каким он был?
Тетя посмотрела на свои кольца.
— Умным. Терпеливым. Страстным охотником. — Она покачала головой, охваченная сожалением, понятным до конца только ей одной. — Тутмос был солдатом и жрецом Амона.
— А Эхнатон терпеть не может ни того ни другого.
— Когда твоя сестра вышла за него замуж, я опасалась, что она слишком слабая. — У тети вырвался отрывистый смешок. — Кто бы мог подумать, что Нефертити, маленькая Нефертити окажется такой…
Она умолкла, пытаясь подобрать подходящее слово. Взгляд ее упал на лежащий внизу город — белую жемчужину на фоне песка.
— Страстной, — подсказала я.
Тетя с сожалением кивнула:
— Этого я не предполагала.
— И я тоже.
У меня задрожали губы, и тетя, заметив мои слезы, взяла меня за руку.
— Ипу думает, что ты одинока.
— У меня есть мои травы. А по утрам ко мне приходит мать, приносит мне хлеб. Кунжутные лепешки и хороший шедех из дворца.
Царица медленно кивнула.
— А твой отец?
— Он тоже приходит, и мы с ним обсуждаем новости.
Тийя приподняла брови:
— И что он тебе рассказывал в последнее время?
— Что Катна умоляет о помощи в защите от хеттов, — сказала я.
Лицо Тийи посуровело.
— Катна вот уже сто лет зависит от нас. Если мы потеряем ее, то прямо скажем хеттам, что сражаться мы не хотим. Это уже второе из наших зависимых государств просит о помощи. Я пишу успокаивающие письма, а мой сын у меня за спиной требует прислать побольше цветного стекла. Им нужны солдаты, — Тийя повысила голос, — а он требует стекло! Что мы будем делать, когда все наши союзники падут и между нами и хеттами не останется никого?
— Тогда они вторгнутся в Египет.
Тийя прикрыла глаза.
— По крайней мере, у нас есть войско в Кадеше.
Я пришла в ужас:
— Но там же всего сто человек!
— Да, но хетты-то этого не знают. А я не стала бы недооценивать силу Хоремхеба или Нахтмина.
Я не позволяла себе думать, что Нахтмин может вернуться. Я сидела в саду под навесом и думала: «Чтобы он мог вернуться, им нужно будет одержать в Кадеше победу, а этого не случится никогда». Я бросила себе в утренний чай ромашку. Даже сейчас, через несколько месяцев, я плохо спала, а стоило мне подумать о Нахтмине, как у меня начинали дрожать руки.
— Госпожа! — на веранде появилась Ипу. — Тебе доставили подарок из дворца.
— Ну так отошли его обратно, как и все остальные.
Пусть не думает, что меня можно купить. Мы больше не дети. Это в детстве она могла сломать мою любимую игрушку, а потом отдать взамен свою. Нефертити по-прежнему думала, что ничего особенного не произошло, что Нахтмин — просто один из мужчин и что будут еще другие. Но я не такая, как она. Я не смогла бы сегодня целовать Ранофера, а завтра бросить его.
Но Ипу продолжала стоять и смотреть на меня.
— Возможно, этот подарок ты захочешь оставить.
Я нахмурилась, но все-таки поставила чай и прошла в дом. На столе стояла корзинка.
— Великий Осирис, что там?! — вырвалось у меня. — Оно шевелится!
Ипу улыбнулась.
— А ты посмотри.
По настоянию Ипу я подняла крышку корзины. Внутри сидела сжавшаяся, крохотная, перепуганная пятнистая кошечка, из той породы, какую могли позволить себе лишь самые знатные семейства Египта.
— Мив?!
Кошечка посмотрела на меня и жалобно замяукала, и я, позабыв обо всех своих намерениях, подхватила ее на руки. Она была такая маленькая, что помещалась у меня на ладони. А когда я прижала ее к груди, она замурлыкала.
— Вот видишь! — произнесла гордая собою Ипу.
Я опустила кошечку.
— Мы ее не оставим.
— Это он. А почему нет?
— Потому что это — подарок от моей сестры, а она думает, что котенок может заменить ребенка.
Ипу вскинула руки:
— Но ты одинока.
— Я не одинока. Ко мне целый день идут пациенты. И приходят родители.
Я посадила котенка обратно в корзину и осторожно закрыла крышку. Котенок тут же замяукал, и Ипу холодно посмотрела на меня.
— И нечего на меня так смотреть. Я его не убиваю. Просто отсылаю обратно.
Ипу безмолвствовала. Слышно было лишь жалобное мяуканье котенка.
Я возвела глаза к небу.
— Ну ладно. Но заботиться о нем будешь ты.
Когда ко мне пришли отец с матерью, их служанка принесла корзину с ненужными мне предметами роскоши из дворца. Отец нахмурился, увидев Ипу: она сидела, пригнувшись, у дивана, болтала веревочкой и тихо напевала.
— Что она делает? — спросил отец.
Служанка поставила корзину на стол, и мы все обернулись посмотреть Тут мелькнула серая лапка, послышался испуганный возглас, и веревочка исчезла.
— Это гадкое животное не выходит! — воскликнула Ипу.
— Что там такое? — Мать присмотрелась повнимательнее.
— Нефертити прислала мне котенка, — ровным тоном произнесла я. Отец внимательно посмотрел на меня. — Я оставила его только по настоянию Ипу.
Котенок стремительно пронесся через комнату и выскочил в коридор.
Мать улыбнулась.
— Как ты ее назвала?
— Это кот. Его зовут Бастет.
— Как покровительницу кошек, — одобрительно произнесла мать.
Отец посмотрел на меня с удивлением.
— Это была идея Ипу.
Мать принялась доставать из корзины белье из тонкого льна, а мы с отцом вышли в сад.
— Я слышал, тебя вчера навещала моя сестра.
— Она думает, что у нас есть шанс добиться успеха в Кадеше, — сказала я, ожидая, что же он ответит.
Отец положил руку мне на плечо.
— Такое возможно, Мутноджмет. Но я не стал бы этого ждать. Он ушел. Всем нам случалось терять любимых, ушедших к Осирису.
Я попыталась сдержать слезы.
— Но ведь не так же!
— Нефертити не знала, — сказал отец. — Она сейчас сама не своя. Ребенок должен родиться в конце тота, а лекари говорят, что, если она не начнет отдыхать и нормально есть, она его потеряет.
«Вот и хорошо. Пускай потеряет, — подумала я. — Пускай узнает, каково это — очнуться и понять, что тебя лишили самого дорогого». Но меня тут же затопило ощущение вины.
— Надеюсь, она обретет покой. — Я опустила голову. — Но даже если она не знала про травы, она допустила, чтобы Нахтмина сослали.
Некоторое время отец молчал, потом предупредил:
— Она захочет, чтобы ты присутствовала при родах.
Я прикусила язык. Отец понимал иронию ситуации.
— Посмотрим, когда подойдет время, — прошептала я.
Царица Тийя навестила меня во второй раз. Она поднялась по ступеням, ведущим к особняку, а за ней следовали семь дам, и каждая несла большую плетеную корзину.
— Ипу, найди Бастета! — крикнула я. — Не хватало еще, чтобы он тут бегал и хватал царицу за ноги!
Это была его новая игра: Бастет прятался за чем-нибудь, а потом выскакивал из укрытия и кусал за щиколотку того, кто проходил мимо.
— Бастет! — завопила Ипу. — Бастет, иди сюда!
Дамы царицы подошли ближе.
— Бастет! — решительно позвала я, и маленький комок меха выскочил из укрытия и двинулся ко мне, словно требовал объяснить, что это вдруг мне от него понадобилось.
— Ипу, отнеси его в заднюю комнату! — распорядилась я.
Котенок посмотрел на Ипу и жалобно мяукнул.
— Почему к тебе он идет, а ко мне — нет?
Я посмотрела на маленького гордого котенка. Хотя кормила его Ипу, но сидел он под моим креслом и забирался ко мне на колени, когда я садилась у жаровни. «Ах ты, высокомерный мив», — подумала я.
Послышался гулкий стук в дверь, и Ипу кинулась открывать. За дверью обнаружилась моя тетя и двое слуг, держащих над ней зонтик от солнца, сделанный из павлиньих перьев.
Я поклонилась:
— Царица Тийя, я рада тебя видеть.
Тетя протянула руку, и я ввела ее в дом. На руке у нее было несколько потрясающих великолепием колец: большие куски лазурита, оправленные в золото. Тийя устроилась на пуховой подушке на веранде, посмотрела на порванный гобелен на стене и коснулась болтающихся ниток.
— Котенок Нефертити?
Заметив мое удивление, тетя улыбнулась:
— Когда ты не стала возвращать его обратно, по дворцу поползли разговоры.
Во мне тут же вспыхнул гнев.
— Разговоры?
— Некоторые предположили, что все может быть прощено.
Она внимательно посмотрела на меня. Лицо мое потемнело от гнева.
— А эти некоторые не предположили, что за подарок не купишь ребенка? Не вернешь жизнь мужчине?
— Да кто решился бы сказать такое твоей сестре? Никто не смеет бросить вызов Нефертити. Ни я, ни даже твой отец.
— Так значит, она делает все, что захочет?
— Как и всякая царица. Только у нее — безудержная страсть к строительству.
Я ахнула:
— Неужто они снова что-то строят?!
— Конечно. И будут строить до тех пор, пока войско не найдет вождя, который поднял бы его на мятеж.
— Но у кого может быть столько сил, чтобы восстать против фараона?
Ипу принесла чай с мятой. Тетя поднесла чашку к губам и кратко произнесла:
— У Хоремхеба.
— Поэтому Хоремхеба и сослали в Кадеш?
Тетя кивнула:
— Он был слишком популярен. Как и Нахтмин. Мой сын видит опасность в том, в чем ему следовало бы видеть преимущество. Он слишком глуп, чтобы понять, что, будь Нахтмин в твоей постели, он никогда бы не стал устраивать мятеж.
— Нахтмин и так никогда не стал бы устраивать мятеж, — быстро произнесла я. — Хоть со мной, хоть без меня.
Тетя приподняла брови.
— Он хотел жить спокойной, мирной жизнью.
— А он тебе не говорил, что в Фивах, когда Эхнатон собирался надеть корону своего брата, к нему пришли солдаты и попросили возглавить восстание? И что он согласился?
Я опустила чашку.
— Нахтмин?
— Некоторые визири и солдаты убедили его, что восстание — единственный способ восстановить Маат после убийства царевича Тутмоса.
Я потрясенно уставилась на тетю, пытаясь понять, действительно ли она сказала именно то, что мне показалось? Что Тутмоса убило не падение с колесницы, а рука брата? Тийя поняла мой незаданный вопрос и напряглась.
— Я, как и все, лишь слышала сплетни слуг.
— Но его падение с колесницы…
— Могло убить его в любом случае. А возможно, он и поправился бы. Это теперь известно лишь Осирису и моему оставшемуся в живых сыну.
Я содрогнулась.
— Но ведь восстания не было.
— Потому что прибыла Нефертити, и двор поверил, что она станет для Египта спасением от моего сына.
Я уселась.
— Почему ты говоришь мне все это?
Тетя поставила чашку с чаем.
— Потому что когда-нибудь ты вернешься во дворец, и от тебя зависит, вернешься ли ты с открытыми глазами или тебя внесут с закрытыми.
Двадцать дней спустя Тийя сидела на табурете из слоновой кости, стоящем между грядок моего сада, и расспрашивала меня о растениях. Ей хотелось знать, для чего еще можно использовать лакрицу, кроме как для подслащивания чая. Я объяснила, что, если пользоваться лакрицей вместо меда, она предотвратит порчу зубов, и то же самое будет, если есть лук вместо чеснока. Тут к нам между рядами перистых трав подошел отец. Я даже не услышала, как Ипу приветствовала его у дверей.
Отец посмотрел сперва на меня, потом на тетю.
— Чем вы занимаетесь?
Тетя встала.
— Моя племянница демонстрирует мне волшебство трав. Твоя дочь — очень умная девушка. — Она приставила ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца. Я не поняла, что же промелькнуло во взгляде отца: гордость или неудовольствие. — А что привело сюда тебя?
— Я искал тебя.
Голос отца был мрачен, но тетя пережила множество прискорбных событий и сейчас даже не шелохнулась.
— Во дворце неприятности? — поинтересовалась она.
— Эхнатон хочет быть похороненным на востоке.
Тетя внимательно взглянула на него.
— Но фараонов никогда не хоронили на востоке.
— Он хочет быть похороненным там, где встает солнце, за холмами, и хочет, чтобы все придворные в Амарне бросили гробницы, которые они уже построили на западе.
Голос тети сделался низким и глухим от гнева.
— Бросить гробницы, которые мы уже построили в Фивах? Перенести гробницы от ног заходящего солнца, где они находились всегда, чтобы нас похоронили на востоке?! Не бывать этому!
Никогда еще я не видела Тийю такой разгневанной.
Отец развел руками.
— Мы не можем ему помешать. Но мы можем построить вторую гробницу и сохранить те, которые мы построили в Долине царей…
— Конечно, мы их сохраним! Я не допущу, чтобы меня похоронили в Амарне! — решительно заявила Тийя.
— И я, — отозвался отец, и голос его тоже был низким и глухим.
Они повернулись ко мне.
— Ты будешь отвечать за это, — распорядилась Тийя. — Если мы умрем, позаботься, чтобы нас похоронили в Фивах.
— Но как?
Как я сумею устроить это вопреки желаниям Эхнатона?
— Тебе придется пустить в ход хитрость, — быстро произнес отец.
Я поняла, что он говорит совершенно серьезно, и мне стало страшно.
— Но я не хитрая, — заволновалась я. — Это дело для Нефертити. Это она может с ним справиться.
— Но не станет. Твоя сестра строит гробницу вместе с Эхнатоном. Они бросили наших предков ради погребения на востоке. — Отец серьезно посмотрел на меня. — О наших похоронах должна позаботиться именно ты.
От страха я повысила голос:
— Но как?
— Взятки, — отозвалась тетя. — Бальзамировщики мертвых покупаются не хуже всех прочих.
Увидев, что я не понимаю, она посмотрела на меня как на полную невежду.
— Ты разве никогда не слыхала о женщинах, которые отдают своих детей бесплодным женам из знатных домов? Они говорят мужьям, что ребенок умер, а бальзамировщики берут обезьяну и пеленают ее, как ребенка.
Я в ужасе отпрянула, а Тийя пожала плечами, словно вела речь о чем-то общеизвестном.
— Да-да, они там в Городе Мертвых способны творить чудеса. Но за определенную сумму.
— Если до этого дойдет, — велел отец, — ты подкупишь бальзамировщиков, чтобы в Амарне похоронили поддельное тело.
У меня задрожали руки.
— И отвезу тебя в Фивы?
Все это казалось нереальным. Этого не могло быть. Мой отец и царица Тийя никогда не умрут. Но отец похлопал меня по плечу, словно ребенка:
— Когда придет время…
— Если придет! — подчеркнула я.
— Если время придет. — Отец улыбнулся с нежностью. — Тогда ты будешь знать, что делать.
Он посмотрел на Тийю:
— Встретимся здесь завтра?
— У меня в саду?! — воскликнула я.
— Мутноджмет, двор Амарны кишит соглядатаями, — отозвался отец. — Если мы хотим поговорить, нам придется приходить сюда. Эхнатон не доверяет никому, а женщины Панахеси шныряют повсюду, все вынюхивают и докладывают ему. Даже некоторые из дам Нефертити.
Я подумала о Нефертити, как она там сидит во дворце одна, в окружении притворных друзей и соглядатаев. Но я отказалась испытывать жалость к ней. «Постелила постель — пускай ложится».
Меня вызвали во дворец в конце эпифи. Из дворца прибыл гонец с письмом, запечатанным тяжелой печатью моего отца, и настойчиво сунул его мне.
— Госпожа, у царицы уже начались схватки.
Я вскрыла письмо и убедилась, что это правда. Нефертити рожала. Я сжала губы и свернула письмо, не в силах глядеть на эту весть. Вестник продолжал ждать меня.
— Чего тебе надо?! — рявкнула я.
Юноша не дрогнул.
— Я хочу знать, идешь ли ты, госпожа. Царица звала тебя.
Она меня звала! Она меня звала, зная, что она рожает своего второго ребенка, а мой первый — мертв! Я сжала кулак, смяв папирус. Гонец смотрел на меня расширившимися глазами.
— Колесница ждет, — умоляюще произнес юноша.
Я присмотрелась к нему. Ему было лет двенадцать-тринадцать. Если он не сумеет привезти меня, это может стать концом его карьеры. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и в них была надежда.
— Подожди, — велела я ему. — Я соберу вещи.
На кухне торчала Ипу.
— У нее есть лекари. Тебе не обязательно идти.
— Я пойду.
— Но почему?
Бастет потерся шелковым тельцем об мою ногу, словно пытаясь успокоить меня.
— Потому, что это Нефертити, и если она умрет, я себе этого никогда не прощу.
Ипу прошла следом за мной в мою комнату. По пятам за ней шел Бастет.
— Хочешь, я поеду с тобой? — предложила она.
— Не надо. Я вернусь к вечеру.
Я взяла свой ящик с травами. Когда я уже собралась уходить, она сжала мою руку:
— Помни: ты идешь туда ради ребенка.
Я сглотнула подкатившую к горлу горечь.
— Который должен был быть моим.
— Она сказала, что ничего не могла поделать.
— Может быть, — отозвалась я. — А может быть, она просто сидела сложа руки и молчала, пока это делалось.
Гонец помог мне подняться в колесницу. Он щелкнул плетью, и гнедые лошади помчались по Царской дороге. На каждом перекрестке стояли изваяния моей сестры. Ее раскрашенные скульптуры воздевали руки над городом в пустыне, который построили они с мужем. Нефертити была наряжена в пышные одежды Исиды. А на воротах храмов, там, где надлежало находиться изображениям богов, были изображены их с Эхнатоном лица.
— Амон, прости им их заносчивость, — прошептала я.
Для родов был выстроен специальный павильон, как и в Мемфисе. Я узнала в нем руку Нефертити: окна от пола до потолка, стулья с мягкими сиденьями, вазы, в которых пышно разрослись растения — особенно много было лилий ее любимого сорта. В комнате было расставлено множество стульев для придворных дам, и почти все они были заняты.
— Госпожа Мутноджмет! — объявил вестник, и в зале мгновенно стало тихо: разговоры и смех прекратились.
— Мутни!
Нефертити шикнула на своих дам, и дочери визиря, толпящиеся у ее постели, расступились. Глаза их сделались круглыми и завистливыми.
Я подошла к кровати. Нефертити была здорова и красива. Она полулежала на груде подушек, и по ней не видно было, чтобы она испытывала боль. У меня загорелись щеки.
— Я думала, у тебя схватки.
— Все лекари говорят, что они начнутся сегодня или завтра.
Лицо мое потемнело.
— Твой посланец сказал, что дело неотложное.
Нефертити повернулась к своим дамам, изучающим мои волосы, ногти, лицо.
— Оставьте нас! — велела она.
Они упорхнули, словно мотыльки, — девушки, которых я даже не знала. Я посмотрела им вслед.
— Да, дело неотложное. Ты мне нужна.
— У тебя десятки женщин,
которые составляют тебе компанию. Зачем тебе нужна я?
— Да затем, что ты моя сестра! — отрезала Нефертити. — Нам полагается быть рядом. Заботиться друг о друге.
Я недобро рассмеялась.
— Я не отнимала у тебя дитя! — воскликнула Нефертити.
— Но ты знаешь, кто это сделал.
Нефертити промолчала.
— Ты знаешь, кто меня отравил. Ты знаешь, кто перепугался, что я рожу ребенка, сына военачальника…
Нефертити заткнула уши.
— Я не хочу больше этого слышать!
Я молча смотрела на нее.
— Мутни! — взмолилась она и уставилась на меня печальными глазами, темными и большими, словно озера, воображая, будто может при помощи своего очарования заполучить все, чего пожелает. — Будь со мной, когда я буду рожать!
— Зачем? Ты выглядишь достаточно счастливой.
— А что мне, ходить, показывая всем видом, как я боюсь умереть, чтобы Эхнатон перепугался и не дал мне других детей? Чтобы придворные дамы побежали к Панахеси и сообщили ему, что царица Египта ослабела? Чтобы Кийя возвысилась, пользуясь моей слабостью? Что еще мне остается, кроме как выглядеть счастливой?
Я поразилась: надо же, Нефертити способна думать о подобных вещах даже накануне родов!
— Останься со мной, Мутни. Ты единственная, кому я могу доверять. Ты способна проверить, что мне дают повитухи.
Я уставилась на нее:
— Ты что, думаешь, что они тебя отравят?
Нефертити посмотрела на меня с утомленным видом.
— Если тебя отравят, лекари это обнаружат, — заметила я.
— После моей смерти! Какой с этого будет толк?
— Панахеси рискнет собственной жизнью, если затеет такое.
— И кто это сможет доказать? Как по-твоему, кому поверит Эхнатон? Что-то лепечущей повитухе или верховному жрецу Атона? А ведь есть еще жрецы Амона, — со страхом произнесла Нефертити, — которые охотно отдадут жизнь, лишь бы убедиться, что Эхнатон никогда не произведет на свет наследника.
Я представила, как кто-нибудь отравит ее, как отравили меня. Как она корчится от боли и плачет, а Анубис подкрадывается все ближе к ней, и все потому, что я отказалась быть с ней во время родов.
— Я останусь. Но только на время родов.
Нефертити улыбнулась. Я села и ворчливо спросила:
— Ну, имя уже выбрали?
— Сменкхара.
— А если будет девочка?
Нефертити метнула на меня взгляд из-под длинных ресниц.
— Не будет.
— Ну а если вдруг?
Нефертити пожала плечами:
— Тогда Мекетатон.
Хотя Нефертити была невероятно маленькой, Некбет, должно быть, благословила ее лоно, потому что все ее дети, похоже, выходили наружу без всяких трудностей. Повитуха подхватила крохотный комочек, окровавленный и пищащий, и все прочие повитухи, сколько их было в комнате, ринулись вперед, посмотреть на пол ребенка. Нефертити подалась вперед.
— Кто? — выдохнула она.
Повитуха опустила взгляд. Моя мать от радости захлопала в ладоши, но, когда слуги помогли Нефертити улечься обратно, я заметила, что она сильно побледнела. Наши взгляды встретились. «Еще одна царевна». Я перевела дыхание и со злостью подумала: «Вот и хорошо, что не сын!» Подобрав свою корзину, я направилась к двери.
Мать схватила меня за руку:
— Ты должна остаться на благословение!
В комнату стало набиваться все больше народу. Прибыл вестник, а следом за ним Тутмос. Служанки хлопотали вокруг Нефертити, омывая ее и прилаживая корону. Мать взяла меня под локоть и отвела к окну. Зазвонили колокола, возвещая о рождении новой царевны. Три раза — как и в честь царевича.
—. Подожди хотя бы, пока ей дадут имя, — попросила мать.
Нефертити огляделась и увидела, что мы стоим рядом.
— Неужели моя сестра не подойдет, чтобы пожелать мне долгой жизни и крепкого здоровья?
Все обернулись ко мне. Мать осторожно подтолкнула меня в спину. Если бы отцу дозволено было находиться в родильном павильоне, он сейчас выпятил бы челюсть при виде подобной грубости с моей стороны. Я заколебалась, потом шагнула вперед.
— Пусть Атон улыбается тебе.
Все расступились: Нефертити раскинула руки, собираясь обнять меня. В углу павильона уже сидела кормилица, и маленькая царевна присосалась к ее груди.
— Иди же сюда, Мутни, порадуйся вместе со мной!
Все улыбались. Все ликовали. Родился не мальчик, но дитя было здорово, и Нефертити благополучно разрешилась от бремени. Я протянула корзинку:
— Это тебе.
Нефертити заглянула в корзинку, и глаза ее радостно заблестели. Она посмотрела на меня, потом снова на содержимое корзины:
— Мандрагора?
— В этом сезоне хороших выросло всего несколько штук. В следующем сезоне будет лучше.
Нефертити подняла голову:
— В следующем сезоне? Ты о чем? Ты же возвращаешься!
Я не ответила.
— Ты должна вернуться во дворец! Здесь твоя семья!
— Нет, Нефертити. Моя семья убита. Одного убили в моем чреве, а второго — в Кадеше.
Я развернулась и зашагала прочь, прежде чем она успела возразить.
— Ты будешь на благословении! — крикнула она.
Это не было просьбой.
— Ладно, если тебе так уж хочется.
Я вышла из родильного павильона, и двери захлопнулись за мной.
За стенами дворца праздновали простые жители Амарны. Рождение царского отпрыска означало для них день отдыха, даже для строителей гробницы, работавших в холмах высоко над долиной. Я прошла во внешний двор. Там стояли царские колесничие, чтобы отвозить и привозить сановников.
— Отвези меня в храм Хатор, — попросила я и, прежде чем колесничий успел сказать, что он не знает никаких запрещенных храмов, сунула ему в руку медный дебен.
Колесничий быстро кивнул. Добравшись до места, мы увидели окаймленный колоннами двор, устроенный на склоне холма.
— Госпожа, ты точно уверена, что хочешь остаться здесь? Это запрещено.
— Некоторые женщины по-прежнему ухаживают за святилищем Хатор. Со мной все будет в порядке, — ответила я.
Но царский колесничий был молод и обеспокоен.
— Я могу подождать, — предложил он.
— Не надо. — Я взяла корзину и спустилась. — Незачем. Я могу дойти до дома и пешком.
— Но ты же сестра главной жены царя!
— И подобно многим людям, я наделена двумя ногами.
Колесничий засмеялся и уехал.
На холме, среди выходов камня и резных колонн, царила тишина. Те немногие женщины, что ухаживали за тайным храмом Хатор, должно быть, праздновали сейчас внизу, в деревне, совершая возлияние новому богу Египта, в благодарность за рождение новой царевны.
— Но не все позабыли тебя.
Я преклонила колени перед маленьким изваянием Хатор и положила к ее ногам пучок тимьяна. Хотя храмы Амона были запрещены в Амарне, на окраинах города женщины втайне устроили маленькие храмы наподобие этого. Да и в домах вроде моего в тайных нишах часто прятались статуэтки Хатор, и к ним возлагались масло и хлеб, чтобы богиня помнила наших предков и нерожденных детей.
Я поклонилась богине:
— Благодарю тебя за то, что ты уберегла Нефертити при родах. Хотя она не принесла тебе ни вина, ни благовоний, я делаю это от ее имени. Защищай ее всегда от смерти. Она благодарна за дар новой жизни, который ты ниспослала ей, и за легкие роды.
Я пристроила тимьян рядом с кувшинчиком масла, принесенным какой-то другой женщиной, и услышала за спиной хруст гравия под ногами. Кто-то произнес:
— Ты когда-нибудь молишься за себя?
Я не стала оборачиваться.
— Нет. Богиня знает, чего я хочу.
— Ты не можешь поступать так вечно, — сказала моя тетя. Горячий ветер трепал подол ее платья. — Когда-то ты должна будешь дать покой ка ребенка. Он не вернется.
— Как и Нахтмин.
Тетя серьезно посмотрела на меня, взяла меня за руку, и мы встали в самой высокой части храма, глядя на пустыню и заросли тростника на берегу Нила. Крестьяне в белых схенти обмолачивали зерно, а бык тащил тяжелую повозку. В небе кружил ястреб, воплощение души, и вдовствующая царица вздохнула:
— Дай им обоим покой.
18
 1348 год до н. э.
Шему. Сезон урожая
1348 год до н. э.
Шему. Сезон урожая
День за днем деревенские женщины приходили ко мне за травами, а иногда я и сама разносила их. В городе, раскинувшемся за белыми колоннами дворца, я кружила по узким улочкам и частенько оказывалась в доме, где женщина только что родила и надежды на то, что мать выживет, нет. Я склонялась над ее ложем, осматривала чрево и готовила особый чай с маслом крапивы. А женщина сжимала в руках запрещенный амулет с изображением Хатор и шепотом молилась богине материнства. Увидев этот запрещенный амулет впервые, я удивилась, и тамошняя служанка поспешно объяснила:
— Она защищает Египет уже тысячу лет.
— А Атон? — с любопытством поинтересовалась я.
Служанка напряглась.
— Атон — это солнце. К солнцу не прикоснешься. А Хатор можно подержать в руках и можно ей поклониться.
Итак, они прозвали меня в мои семнадцать лет Секем-Мив, и я стала известна в деревнях вокруг Амарны больше, чем сам фараон.
— Куда ты сегодня, госпожа?
Это был тот колесничий из дворца. Он был не на дежурстве, а я как раз добралась до конца длинной дороги, идущей от моего особняка. Он улыбнулся мне с колесницы, и я попыталась удержаться от воспоминаний от Нахтмине.
— За семенами, — ответила я и зашагала быстрее, не обращая внимания на быстро забившееся сердце.
— У тебя тяжелые корзины. Может, тебя подвезти?
Он придержал коней, а я задумалась. При мне не было стражников. Я отказалась от охраны, когда оставила Нефертити и ее дворец. Но в результате я осталась и без колесничего, а до пристани было далеко. Колесничий заметил мои колебания.
— Садись.
Он протянул руку, и я, приняв ее, взобралась на колесницу. Он поклонился:
— Меня зовут Джедефор.
Он стал появляться каждое утро.
— Ты что, так и будешь поджидать меня тут каждый день? — спросила я.
Джедефор ухмыльнулся.
— Нет, не каждый.
— Не надо так делать! — серьезно попросила я.
— А почему?
Мы двинулись в сторону пристани. Я отправлялась туда раз в несколько дней, поискать новые травы у иноземных торговцев.
— Потому что я — сестра главной жены царя. Фараон меня не любит.
— Зато тебя любит царица.
«Когда ей что-нибудь нужно», — подумала я и крепко сжала губы.
— Если ты ценишь свое место при доме фараона, — строго произнесла я, — тебе не следует появляться на людях вместе со мной. Я не принесу тебе пользы.
— Вот и хорошо, потому что я не стремлюсь получить от тебя пользу. Я просто сопровождаю тебя на рынок и обратно.
Я вспыхнула.
— Знай: человек, которого я люблю, сейчас в Кадеше.
Я впервые заговорила о Нахтмине с кем-то помимо родственников.
Джедефор склонил голову:
— Как я уже сказал, я ничего от тебя не хочу. Только удовольствие сопровождать тебя.
Когда Ипу впервые увидела меня с Джедефором, у нее глаза сделались как блюдца. Она ходила за мной по дому — хуже, чем Бастет, — и пыталась вызвать меня на разговор.
— А где вы с ним познакомились? Он возит тебя каждый день? А жена у него есть?
— Ипу, он — не Нахтмин.
Улыбка Ипу померкла.
— Но он красивый.
— Да, он красивый, добрый солдат. И только.
Ипу понурилась.
— Ты слишком молода, чтобы быть одной, — прошептала она.
— Но моя сестра именно этого и желает, — ответила я.
— Власть хеттов на севере растет. Сегодня утром за помощью прислал правитель Лакиса.
Отец извлек из-за пояса свиток, и Тийя протянула за ним руку.
Мой дом превратился в место встреч. Мне дозволено было слушать, как Тийя с отцом обсуждают, как править Египетским царством. А Эхнатон с Нефертити, в то время как хеттский царь Суппилулиума, подбираясь к Египту, прошел через Палестину, — они в это время заказывали статуи и ездили по улицам, вырядившись, словно боги, и швыряли с колесниц в толпу медные дебены.
Тетя положила свиток на колени.
— Еще одно из египетских владений в опасности.
Я знала, что она думает, что Старший скорее отдал бы свое ка Аммит, чем допустил хеттов во владения Египта.
— Как и Катна. — Она посмотрела на отца. — Но мы не можем послать помощь.
— Нет, — ответил отец и забрал свиток. — Когда-нибудь Эхнатон обнаружит, что золото утекает из сокровищницы и уходит на защиту Кадеша, и…
— Золото из сокровищницы уходит на защиту Кадеша?! — перебила его я.
— И брать оттуда еще и на защиту Лакиса будет опасно, — согласилась тетя, не обращая внимания на мое вмешательство.
Отец кивнул, а я подумала: а что Эхнатон сможет сделать, если когда-либо обнаружит, что самый высокопоставленный из визирей Египта тратит деньги, чтобы защитить самую важную из египетских твердынь, стоящую между нами и хеттами? Отец рисковал, правя Египтом так, как, по его убеждению, того желал бы для самого могущественного в мире царства Старший, — но корона принадлежала Эхнатону, а не моему отцу, и даже не Нефертити. Когда Старший создал свое войско, владения Египта простерлись от Евфрата до Нубии. Теперь же от его царства отрывали по куску, а Эхнатон это позволял. И моя сестра это позволяла. Будь это не Нефертити, а кто-нибудь другой — Кийя или иная женщина из гарема, — Тийя и Эйе нашли бы способ избавиться от нее: убийство, яд, неудачное падение. Но Нефертити приходилась Эйе дочерью. А еще она была племянницей Тийи и моей единственной сестрой, и предполагалось, что мы простим ей все.
Тийя разгладила складки на платье.
— Ну и что же мы будем делать с Кадешем? — спросила она.
— Надеяться, что боги на стороне Хоремхеба и что он одержит победу, — ответил отец. — Если Кадеш падет, за ним падут и другие города, и ничто уже не помешает хеттам двинуться на юг.
Через месяц, когда я отправилась на рынок, Джедефор настоял на том, чтобы пойти по многолюдным торговым рядам у пристани.
— Сестре главной жены царя небезопасно ходить одной, — сказал он.
— В самом деле? — Я лукаво улыбнулась. — А я хожу так каждый день, еще с месори.
Я подумала было, что он пытается подольститься ко мне, но Джедефор серьезно произнес:
— Нет. Сейчас тебе небезопасно ходить одной.
Я посмотрела на шумный рынок с его иноземными товарами, жарящимися на солнце. Все было так же, как и всегда. Если кто и обращал на меня хоть малейшее внимание, так это дети, да и то они таращились на мои сандалии и золотые браслеты. Я засмеялась было, но потом заметила, какое у Джедефора сделалось лицо, и умолкла. Он взял меня за руку и повел через толпу.
— Сегодня фараон сделал глупость, — сообщил он мне.
Я посмотрела на него с подозрением:
— Моя семья в опасности?
Джедефор отвел меня в тень, к шатру двух торговцев керамикой.
— Фараон в ответ на просьбу правителя Лакиса о помощи отправил ему обезьян, наряженных солдатами.
Я уставилась на него. Он что, серьезно?
— Ты шутишь?
— Ничуть, госпожа.
Я покачала головой:
— Нет! Нет. Мой отец никогда бы этого не допустил.
— Боюсь, твой отец даже еще не знает об этом. Но узнает, когда разъяренные лакисанцы двинутся на дворец.
Я огляделась по сторонам и заметила на этот раз, что и вправду, никого из темнокожих лакисанцев не видать у их прилавков. Внезапно жара показалась мне нестерпимой.
— Госпожа!
Джедефор протянул было руку, чтобы поддержать меня, и тут же отдернул.
— Отвези меня домой, — быстро попросила я.
Пока мы ехали через Амарну, я осознала, что улицы кишат строителями, и все они были солдатами. Людьми, которые во времена Старшего защищали наши вассальные государства, не подпуская хеттов к Катне, Лакису и Кадешу. Когда мы подъехали к моему особняку, нам навстречу выбежала Ипу, и у меня чуть сердце не разорвалось от испуга.
— Здесь только что был визирь Эйе! — крикнула она.
Я спрыгнула с колесницы.
— Что он сказал?
— Что сегодня будут беспорядки. Он отправил солдат на рынок искать тебя.
Я посмотрела на Джедефора и почувствовала, как в душе поднимается паника.
— Я их найду, — пообещал Джедефор, потом добавил: — Не волнуйся, госпожа. Они ничего не сделают твоей сестре. Солдаты остановят их в воротах!
Я не бывала во дворце с момента рождения царевны Мекетатон, то есть уже одиннадцать месяцев. И теперь, заслышав стук моих сандалий по дворцовым каменным полам, слуги кидались взглянуть на меня. То-то будет сплетен сегодня на кухнях! Даже дети выглядывали из-за колонн и провожали меня взглядами. Мать крепко держала меня за руку, словно боялась, что я сейчас развернусь и убегу.
— Твоя сестра натворила много глупостей. Но мы все связаны с Нефертити. И в жизни, и в смерти по ее деяниям будут судить о всех нас.
Два стражника-нубийца распахнули дверь в покои моего отца, и я увидела, что Нефертити уже там. Она расхаживала взад-вперед, сжимая в руках скипетр. Когда она заметила меня, стражники поспешно отступили и закрыли за нами дверь. Нефертити обвиняюще посмотрела на отца.
— Спроси у Мутноджмет, что думают люди, — велел он.
Нефертити свирепо посмотрела на меня. Я поразилась тому, как на нее повлияло рождение Мекетатон. Черты ее лица смягчились, но в глазах по-прежнему светилась решимость.
— Ну и что же думают люди? — спросила она.
Я больше не боялась ее неодобрения.
— Они думают, что Атон слишком далек, чтобы его почитать. Им нужны боги, которых можно увидеть, коснуться и ощутить.
— Они не ощущают солнце?
— Они не могут прикоснуться к нему.
— Ни к какому богу нельзя прикоснуться! — возразила Нефертити.
— Так думают не все, — поспешно добавил отец.
— Они боятся хеттов, — продолжила я, велев себе не думать о Нахтмине. — Они слышат новости от торговцев, рассказывающих, что хетты нападают на северные земли, уводят женщин в рабство и убивают мужчин, и думают, скоро ли это начнется и здесь.
— В Египте? — воскликнула Нефертити и повернулась к отцу, посмотреть, согласен ли он с моими словами. — Жители Амарны думают, что хетты вторгнутся в Египет?
Увидев его закаменевшее лицо, Нефертити перевела взгляд на меня.
— Нам нечего бояться хеттов, — самоуверенно заявила она. — Эхнатон подписал с ними договор.
Отец выронил свитки, которые держал в руках, а Нефертити, защищаясь, добавила:
— Я думаю, это мудрое решение.
— Договор с хеттами?! — взревел отец.
— А что такого? Какое нам дело до Лакиса или Кадеша? Почему мы должны платить за их защиту, когда мы можем потратить…
— Да потому, что эти земли оплачены кровью египтян! — Отца трясло от гнева. — Это величайшая из твоих глупостей! Изо всех скверных решений, которые ты позволила принять твоему мужу…
— Это наше общее решение. — Нефертити выпрямилась. В ее черных глазах читались гордость и вызов. — Мы сделали то, что считали правильным для Египта. — Она коснулась руки отца: — Я думала, что уж кто-кто, а ты это поймешь.
Отец посмотрел на меня — как я на это отреагирую.
— Не смотри на Мутноджмет! — взвизгнула Нефертити.
Отец покачал головой:
— Твоя сестра никогда бы не сделала такой глупости и не стала торговаться с хеттами. Отдать им Кадеш! — Отец сверкнул глазами. — Что они захватят после Кадеша? Угарит, Газру, Миттани?
У Нефертити поубавилось самоуверенности.
— Они не посмеют.
— Когда Кадеш падет, отчего бы им не посметь? Царство Миттани будет их — только руку протяни. А когда они разграбят Миттани, изнасилуют тамошних женщин и превратят мужчин в рабов, что помешает им двинуться на юг, на Египет? Когда Миттани падет, — отец повысил голос, и мне подумалось: «Интересно, сколько слуг слышит его сейчас через дверь?», — это же ждет и Египет!
Нефертити подошла к окну и посмотрела на Амарну, город солнца и света. Сколько он простоит? Сколько времени пройдет, прежде чем хетты приблизятся к границам Египта и вознамерятся напасть на могущественнейшее царство мира?
— Укрепляй войско, — предостерег отец.
— Я не могу. Тогда придется остановить строительство Амарны. А это — наш дом. В этих стенах мы достигнем бессмертия.
— Мы окажемся похоронены под этими стенами, если не остановим хеттов!
Нефертити открыла окно и вышла на балкон. Под порывом горячего ветра мягкая ткань платья прижалась к ее телу.
— Мы подписали договор, — решительно произнесла она.
На следующее утро на рынках было спокойно, но я, идя вдоль прилавков, чувствовала напряжение, будто цепкий взгляд крокодила, затаившегося под самой поверхностью воды.
— Повсюду только и разговоров что о договоре с хеттами, — призналась мне Ипу.
«И о животе Нефертити», — с горечью подумала я. После рождения Мекетатон прошло всего одиннадцать месяцев, а Нефертити уже носит третьего ребенка.
Ипу притормозила и оглядела рынок.
— Джедефора нет, — сообщила она.
Я осмотрелась. Обычно Джедефор слонялся у пристани, но сегодня солдаты были сплошь незнакомые. Тут продавец мяса узнал Ипу и закричал с другой стороны площади:
— Доброе утро, госпожа! Не желает ли сестра главной жены царя купить мяса газели?
Мы подошли к забитому товаром прилавку; мальчишки-ученики размахивали пальмовыми листьями, отгоняя мух от мяса.
— Нет, сегодня не хотим. — Ипу улыбнулась и прислонилась к прилавку, приглашая продавца доверительно посплетничать. — Я смотрю, на рынке тихо.
Продавец приподнял густые брови и, вытирая нож, кивнул.
— Ходят слухи, — сказал он. — Слухи о…
Ему помешал поговорить многоголосый детский крик. Вопли детей заполнили улицу. Женщины принялись выбегать из-за прилавков и звать мужей, а продавец мяса от возбуждения уронил нож.
— Что случилось? — воскликнула я.
Но продавец бросил кусок холста, которым вытирал нож, и попытался запереть свой ларек. Потом он заметил ученика и взволнованно распорядился:
— Пригляди за товаром! Я пойду посмотрю!
— На что посмотришь? — воскликнула Ипу.
Но продавец уже исчез. Вокруг нас бушевало людское море. Ипу бросила корзинку и схватила меня за руку, и толпа понесла нас с собой. Я никогда еще не видела такого буйства. Торговцы бросали свои ларьки, оставляя дочерей приглядывать за ними. Женщины обрывали ветки с карликовых пальм и бежали по улице, выкрикивая хвалы, как будто в Амарну явились сами боги.
— Что случилось? — крикнула я, пытаясь перекричать шум.
Очутившаяся рядом со мной женщина энергично взмахнула рукой, указывая куда-то вперед:
— Идет Хоремхеб со своими людьми! Они разбили хеттов в Кадеше!
Ипу взглянула на меня, а я почувствовала, что глаза у меня становятся размером с блюдца. Ипу ухватила меня за руку и поволокла вперед, проталкиваясь сквозь толпу. И вправду, как и сказала та женщина, по улице ехал в позолоченной колеснице Хоремхеб, облаченный в доспехи.
— Он здесь?! — крикнула я.
Ипу протолкалась наконец наперед, так что мы могли бы коснуться лошадей. А потом мы одновременно увидели его.
— Он здесь, госпожа! — закричала Ипу. — Он здесь!
Процессия двигалась мимо, и я выкрикивала его имя, но вокруг было слишком шумно. Люди восторженно кричали. Их сыновья возвращались домой. Солдаты Египта одержали победу. Они были героями. Потом я подумала об Эхнатоне.
— Ипу! Нам нужно идти! Нужно попасть во дворец!
Но толпа двигалась за процессией. Дети бежали за лошадьми, а женщины бросали цветы к ногам Хоремхеба, и все они шли следом за солдатами по Царской дороге.
— Нам нужно идти! Эхнатон убьет их!
Мы протолкались наружу и у края толпы наткнулись на Джедефора. Он лихорадочно кого-то высматривал.
— Госпожа!
— Джедефор! — Я чуть не расплакалась от облегчения. — Как им это удалось? Как они разбили хеттов?
— Военачальник Нахтмин — великий тактик. А Хоремхеб подготовил войско, и хетты были разбиты. Хоремхеб везет с собой голову хеттского полководца.
Я отступила в потрясении:
— Голову?
Джедефор кивнул:
— Чтобы положить ее к ногам фараона.
Я представила себе, как Хоремхеб с триумфом въезжает во дворец, как врывается в Зал приемов, а по пятам за ним — его солдаты, как он швыряет голову вражеского военачальника к сандалиям Эхнатона. Представила ужас на лице Эхнатона и мрачный взгляд Нефертити, не дрогнувшей и не отвернувшейся. Потом я представила, как Эхнатон взрывается гневом и приказывает предать смерти всех солдат, вернувшихся из Кадеша.
— Джедефор, отведи меня во дворец! — в страхе вскричала я.
Джедефор взял меня за руку и провел нас через столпотворение. Потом я подобрала подол платья, и мы помчались, словно преследуемые воры, по переулкам Амарны, и бежали, пока не добрались до ворот дворца. Их охраняли две дюжины нубийских стражников Эхнатона. Процессия была уже в нескольких кварталах отсюда, а сопутствующий ей шум уже было слышно даже во дворе, где ровными рядами росли подстриженные деревья.
— Откройте ворота! — крикнула я, сунув стражникам под нос кольцо с печатью Нефертити.
Стражники переглянулись, а потом самый высокий ворчливо отдал приказ. Стражники с бурчанием отворили нам.
— Идем! — позвала я Джедефора и Ипу, но высокий нубиец преградил им путь.
— Они останутся здесь.
Я посмотрела на Джедефора. Он кивком указал на Ипу.
— Она вернется в твой особняк, а я подожду здесь, во дворе, — сказал он.
— Я вернусь! — пообещала я.
Но я не знала, с какими новостями вернусь.
Я услышала голос отца даже прежде, чем стражники распахнули передо мной тяжелые двери Зала приемов. Нефертити с царевнами Меритатон и Мекетатон была там. Эхнатон стоял у тронов Гора. На нем был позолоченный доспех, а в руках — копье. Фараон отворил дверь балкона, и зал заполнили крики толпы:
— Хо-рем-хеб! Хо-рем-хеб!
У Эхнатона набухли жилы на шее.
— Арестуйте их! — приказал он. Белый плащ обвился вокруг ног фараона. — Арестуйте их, и пускай ни один из них более не увидит света дня!
Он размашистым шагом вышел на балкон, и глаза его были словно угли. Кажется, он даже не заметил меня, хоть и прошел мимо. Кажется, он никого сейчас не замечал.
— Этим людям нужны герои? — Эхнатон презрительно фыркнул, потом распорядился: — Принесите из сокровищницы сундук золота!
— Ваше величество…
— Быстро!
Отец поклонился и отправился выполнять повеление фараона.
Эхнатон повернулся к моей сестре. Глаза его, холодные, как у гадюки, блестели. Он с такой силой схватил Нефертити за плечо, что я ахнула.
— Когда твой отец вернется, мы пойдем к Окну Появлений. Тогда люди вспомнят, кто их любит. Они вспомнят, кто построил в песках город во славу Атона!
Под окном бушевало людское море. Я заметила Хоремхеба, стоящего на гранитной глыбе. Нубийские стражники окружили его и ждали, что он станет делать дальше. Потом люди разразились радостными криками — у Хоремхеба в руках появилась голова убитого им хеттского военачальника. Я ахнула, а Нефертити прижалась к перилам балкона.
— Он привез голову! — в ужасе прошептала она. — Он привез голову их полководца!
Эхнатон ринулся на балкон. Внизу, во дворе, Хоремхеб высоко вскинул отрубленную голову хетта под приветственные крики толпы. Потом военачальник повернулся и увидел Эхнатона. Он швырнул окровавленный трофей на балкон, и голова подкатилась к белым сандалиям Эхнатона. Эхнатон отшатнулся. Он никогда еще не видел так близко ничего связанного с битвами, а я — ничего связанного с такой ужасной смертью. Кровь забрызгала Эхнатону ноги. Я прикрыла рот ладонью. Панахеси ринулся вперед и оттащил фараона. Тут двери Зала приемов распахнулись. Вернулся мой отец в сопровождении семи человек, шесть из которых тащили сундук с золотом.
Эхнатон схватил Нефертити за руку:
— К Окну Появлений!
Он понесся по дворцу, а весь двор — за ним по пятам. Отец посмотрел на кровь на ногах Эхнатона и велел мне:
— Держись рядом и помалкивай!
Мы быстро прошли по коридорам к мосту, соединяющему дворец с храмом Атона. Здесь располагалось Окно Появлений, выходящее в тот же самый двор, где сейчас находился Хоремхеб со своими людьми. Но, в отличие от балкона в Зале приемов, Окно Появлений было официальным. Когда это окно открывалось, весь Египет останавливался послушать. Мы вошли в эти покои, и Панахеси кинулся открывать окно. Крики внизу мгновенно смолкли. Эхнатон посмотрел на Нефертити, ожидая указаний. Нефертити шагнула вперед и воздела руки.
Тысячи египтян рухнули на колени.
— Народ Египта! — воззвала она. — Сегодня день торжества. Сегодня Атон даровал могущественному фараону победу над хеттами!
Толпа разразилась приветственными криками.
Нефертити продолжала:
— Атон смотрит на фараона с гордостью! Благословение Атона с нами со всеми!
Эхнатон запустил руки в деревянный сундук и принялся швырять в толпу пригоршни колец. Женщины визжали, дети смеялись, мужчины подпрыгивали, ловя кольца. И никто не заметил, как стражники полукругом рассыпались вокруг солдат, оттесняя их в сторону тюрьмы.
Я ринулась вперед, но отец схватил меня.
— Ты ничего не сможешь сделать для Нахтмина, — прошептал он.
Я вырвала руку. Внезапно рядом со мной оказалась Тийя и негромко, но резко произнесла:
— Не будь дурой. Сейчас не время.
— Но что с ним будет?!
— Если хоть одного из этих солдат казнят, народ взбунтуется, — с грубой прямотой предсказала она.
Мы отступили и стали смотреть, как Эхнатон пригоршнями швыряет золото с балкона. Люди толкались, пытаясь дотянуться до сверкающих колец, и в этой давке солдаты были позабыты. Стражники велели им бросить оружие, отойти от толпы и следовать за ними во дворец. Солдаты подчинились — все.
Даже Хоремхеб. Даже Нахтмин.
— Почему они не сопротивляются?! — воскликнула я, прижавшись к Окну Появлений.
— Их сто человек, а нубийцев — пятьсот, — объяснила Тийя.
Отец повернулся ко мне.
— А теперь иди, — быстро распорядился он. — Иди в покои Нефертити и жди ее там.
Мерцающий свет двух дюжин масляных ламп освещал росписи на стенах. Художник изобразил Нефертити и Эхнатона воздевшими руки навстречу Атону, а лучи солнца заканчивались крохотными ладонями, гладящими мою сестру по лицу. Нефертити с Эхнатоном выглядели словно боги, а Атон был чем-то непознаваемым и недостижимым, огненным диском, исчезающим каждый вечер и вновь появляющимся на рассвете. Я оглядела комнату — но нет, здесь не было воздано должное ни одному богу из тех, кто сделал Египет великим. Даже богине Сехмет, даровавшей Египту победу при Кадеше.
Я взяла в руки одну из статуэток, принадлежавших Нефертити, и сзади послышался резкий вдох. Мой взгляд заставил стражников промолчать, но они продолжали следить за мной, недоумевая, что мне понадобилось в покоях фараона. Я посмотрела на миниатюрную статуэтку и поднесла ее поближе к лампе. Когда свет выхватил из темноты кошачье лицо, я ахнула. Никакому богу, кроме Атона, не было места в этих покоях — и, однако же, я держала в руках фигурку богини-кошки, госпожи небес, двойника Амона, великую матерь Мут. Я сжала губы и подумала: «Я была жестока к Нефертити. Я обвинила ее, не зная доподлинно, действительно ли ей было известно о планах Эхнатона».
Двери отворились, и в дверном проеме возник высокий силуэт. Эхнатон? У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди, а стражники согнулись в поклоне:
— Ваше величество!
Но я тут же перевела дух. В вечернем полумраке корона заставляла Нефертити выглядеть выше обычного.
— Мутноджмет?
Сестра увидела меня и нерешительно приблизилась.
Когда она вошла в комнату, я поставила статуэтку на сундук.
— Что с Нахтмином?
Взгляд Нефертити упал на статуэтку из черного дерева. Она указала на богиню Мут:
— Моя замена.
— Замена чего?
Мне не понравилась ее попытка сменить тему.
— Тебя.
Нефертити обернулась к стражникам и рявкнула:
— Прочь!
Они вышли. Когда дверь захлопнулась, сестра повернулась ко мне:
— Я беременна в третий раз, но никто из моих детей не знает свою тетю, и я не уверена, будет ли знать.
На глаза мне навернулись слезы. Она снова была беременна, но я не желала ловиться на это.
— Нефертити, где Нахтмин?
Нефертити взяла статуэтку Мут и поставила обратно на стол.
— Помнишь, когда мы были юными, — сказала она, — мы смеялись и представляли себе, как когда-нибудь будем вместе растить детей, и ты будешь строгой матерью, а я — той, которая все им позволяет? — Ее взгляд обежал комнату, скользнув по росписям и фрескам. — Я скучаю по тем временам.
— Нефертити, где Нахтмин? — повторила я.
Сестра отвела взгляд.
— В тюрьме.
Я взяла ее за руки. Руки были холодные.
— Ты должна вытащить его оттуда. Должна.
Нефертити печально посмотрела на меня.
— Я уже договорилась, что его отпустят. Остальных казнят — пощадят только Нахтмина.
Я потрясенно моргнула.
— Как?!
— Как? — переспросила она. — Я сказала Эхнатону, чтобы его отпустили. Он не отказывает мне ни в чем, Мутноджмет. Ни в чем. Конечно, он продолжает бегать к Кийе. Ну и что? Я ношу его ребенка. Я — царица Египта, а не она.
Нефертити походила сейчас на маленькую девочку, которая громко поет в темноте, чтобы убедить себя, что ей не страшно. Я крепко обняла ее, и так мы и застыли в свете ламп, приникнув друг к другу.
— Я скучаю по тебе, — прошептала Нефертити. — Я хотела быть единственной, кто важен для тебя.
Она отступила и посмотрела на меня.
— Но я никогда не отравила бы твоего ребенка, — прошептала она. — Я никогда…
Я сжала ее руку и посмотрела на маленькую кошачью богиню.
— Я знаю, — сказала я и прижалась к ее плечу.
Нефертити кивнула:
— Иди. Приходи вечером.
— Джедефор, а другой дороги нет?
— На этот холм ведет только одна дорога, госпожа.
На улицах было полно народу. Дорога была забита колесницами, телегами и дюжинами солдат.
— Что они все делают? — спросила я.
— Разговаривают, — отозвался Джедефор. — Они услышали про бегство военачальника Нахтмина.
— Бегство? Но он не бежал. Моя сестра…
Джедефор вскинул затянутую в перчатку руку и понизил голос:
— Люди хотят, чтобы он бежал. И недолго ждать того, чтобы солдаты пришли к нему и попросили повести войско против фараона и занять трон Гора.
— Он никогда этого не сделает, — решительно произнесла я.
Джедефор промолчал. Колесница двинулась к холмам и моему особняку.
— Он никогда этого не сделает, — повторила я.
— Возможно, нет. Но фараон сегодня же ночью пошлет своих людей.
Убийц. Вот почему Нефертити сказала, что ее дети никогда не будут знать свою тетю. Вот почему она выставила меня из своих покоев и велела поторопиться.
— Ты вправду думаешь, что они придут сегодня ночью?
Я придвинулась поближе к Джедефору, чтобы свист ветра не заглушал мои слова.
Джедефор кивнул:
— Я это знаю, госпожа.
Колесница подкатила к особняку, который я превратила в свой дом, и я затаила дыхание. Мы остановились во дворе, который я множество раз видела при солнце, но в угасающем свете дня он вдруг показался темным и угрожающим. Джедефор взял меня за руку, и мы вместе двинулись в передний двор. Но когда он отворил дверь в дом, я отступила. На мою веранду набилось несколько дюжин солдат. И Нахтмин тоже был там. Он повернулся, и все стихли.
— Мутноджмет!
Он обнял меня, а у меня на глаза навернулись слезы. И в комнате, полной чужих людей, мы приникли друг к другу. От Нахтмина пахло жарой, землей и битвой. Я отстранилась и посмотрела ему в лицо. Он загорел, а на щеке появился свежий шрам. Я подумала о мече, нанесшем эту рану, и глаза мои снова наполнились слезами.
— Ребенка нет, — сказала я и расплакалась.
Нахтмин посмотрел на меня и смахнул слезы с ресниц:
— Я знаю.
Эхнатон украл нашего ребенка и посадил Нахтмина в тюрьму. Нахтмин отыскал взглядом Джедефора. Вид у него был угрожающий.
Я запаниковала.
— Что? Что ты собираешься делать?
— Ничего.
— Моя сестра — царица. Ты не станешь бунтовать против нее?
— Конечно нет. И никто не станет, — громко произнес Нахтмин, и солдаты в доспехах принялись неловко переминаться с ноги на ногу. — Боги сочли уместным возвести Эхнатона на трон Гора, и там он и останется.
— До каких пор? — воскликнул один из солдат. — Пока хетты не захватят Египет?
— До тех пор, пока фараон не осознает свои ошибки. — Из дальней части веранды вперед выступил отец. Его белый плащ мел плиты пола. Отец взял меня за руку. — Дочь…
Я огляделась и поняла, что мужчины одеты для битвы.
— Что все эти люди делают здесь, в моем доме?
— Они пришли, чтобы уговорить Нахтмина занять трон Гора, — сказал отец. — Я привел Нахтмина сюда ради его безопасности, а они пришли, разыскивая его. Если они знают, что он здесь, то и фараон это знает. — Отец шагнул ко мне. — Для тебя настало время выбора, Мутноджмет.
Рядом с отцом появилась мать, и у меня вдруг сдавило горло. Я заметила Ипу, стоящую у входа на кухню, и Бастета, созерцающего происходящее с груды подушек. Я повернулась к Нахтмину.
— Мне придется покинуть Амарну, — предупредил он. — И если фараон не пообещает мне безопасность, я никогда сюда не вернусь.
— Но Нефертити добилась, чтобы тебя освободили. Она сможет добиться и этого.
Отец покачал головой:
— Твоя сестра сегодня сделала, что могла. Если ты выберешь брак с Нахтмином, тебе придется уехать из Амарны.
Я посмотрела на Ипу, на Бастета, на мой чудесный ухоженный сад.
— Тийя позаботится обо всем до твоего возвращения, — пообещал отец.
Я представила себе жизнь без родителей, и меня затопил страх.
— Но когда оно наступит?
Глаза отца вспыхнули, словно отполированный лазурит на свету: он представил себе те времена, когда его дочь станет фараоном Египта — во всем, кроме имени. А может, даже и в имени. Окончательное возвышение нашей семьи.
— Когда Нефертити сделается достаточно могущественной, чтобы велеть тебе вернуться, не дожидаясь согласия ее мужа.
— Но, опять же, этого может и не произойти, — предупредил Нахтмин.
Я посмотрела на родителей и Нахтмина. Потом взяла его за руку. Я почувствовала, как расслабились его плечи, и повернулась к матери.
— Ты будешь приезжать к нам? — прошептала я.
Мать быстро кивнула, но все же не совладала со слезами.
— Конечно.
— А Нахтмин будет в безопасности?
— Эхнатон забудет про него, — сказал отец. — Он не станет преследовать его по другим городам, рискуя вызвать гнев Нефертити. Ведь люди следуют именно за ней. И потому Эхнатон никогда не станет делать того, что разгневает ее.
Ипу принялась распихивать одежду и белье по корзинам. Слуги забегали. Солдаты ушли. Мои родители отвели Нахтмина в сторонку и принялись шептаться с ним насчет Фив. Меня переполняли страх и радостное возбуждение. Тийя в саду наблюдала, как мои пожитки грузят на осликов, а потом пришла и протянула мне цветок лотоса.
— Это тебе следовало стать царицей, — сказала она.
— Нет, я бы не смогла сделать то, что сделала Нефертити.
— Подписать договор с хеттами, родить двух девочек подряд и воздвигнуть собственные изваяния на каждом перекрестке?
Тетя повернулась к Нахтмину. На его схенти до сих пор оставались следы битвы, кровь поверженных врагов.
— Тебе выпала счастливая судьба, — сказала Тийя. А мне, кивнув, добавила: — Возможно, из двух сестер счастливее ты. Ты обретешь покой.
Над лежащим внизу городом тучей нависало напряжение. На деревни опустилась вечерняя прохлада. Женщины принялись открывать ставни, а мужчины вышли на Царскую дорогу.
Я выглянула с балкона и перепугалась:
— На улицах полно народу!
— Они услышали, что мой сын собирается казнить Хоремхеба и его людей. Конечно, они вышли на улицы.
— Тогда почему Хоремхеб вернулся? Он должен был понимать, что фараон посадит его в тюрьму.
Тийя посмотрела на Нахтмина и высказала предположение:
— Возможно, он надеялся на мятеж.
— Я не знаю, — признался Нахтмин. Голос его смягчился. — Возможно, его вела гордость. Хоремхеб полон честолюбивых устремлений. Я знаю лишь, что заставило вернуться меня.
У меня запылали щеки. С балкона видны были кишащие народом улицы. Тетя проследила за моим взглядом и приподняла брови:
— Вот оно и началось.
Я посмотрела на нее.
— Ты не боишься?
Тийя вскинула голову движением, которое я сотни раз видела у Нефертити, и мне вдруг стало до боли жаль, что я вынуждена бежать в такую ночь и навсегда оставляю сестру.
— Такова цена власти, Мутноджмет. Возможно, когда-нибудь ты это поймешь.
— Нет. Я никогда не захочу быть царицей.
Когда зашло солнце, мы с Нахтмином сели на лошадей. Джедефор должен был отплыть за нами следом, на барке со слугами.
— Мы приедем, как только сможем, — пообещала мать, стоя на пороге особняка.
Ипу вышла вперед. Глаза у нее покраснели. Она обняла на прощанье домашних: повариху, садовника, мальчика, чистившего пруд с лотосами. А потом подошла к Джедефору — они должны были плыть вместе.
— Тебе не обязательно ехать с нами, — снова повторила я Ипу. — Ты можешь остаться здесь, присматривать за Бастетом.
— Нет, госпожа. Моя жизнь — с тобой.
Нахтмин повесил лук за спину.
— Нам нужно двигаться, — напряженно произнес он. — Сегодня ночью здесь будет опасно.
Отец крепко сжал мою руку.
— А вдруг они нападут на дворец? — спросила я.
— Тогда солдаты их отбросят.
— Но солдаты не на стороне Эхнатона.
— Они на стороне серебра и золота, — сказал отец, и я вдруг поняла, почему он не стал препятствовать моему браку с Нахтмином.
Если Нахтмин будет на нашей стороне, у солдат не станет вождя, вокруг которого они могли бы объединиться. И до тех пор, пока Хоремхеб будет в тюрьме, ничто не будет грозить власти нашей семьи над Египтом.
Мы поехали прочь под покровом темноты и, мчась по улицам, видели начало бунта. Повсюду расхаживали люди с палками и камнями и требовали освободить солдат, преградивших путь царю Суппилулиуме и разбивших хеттов. Чем дольше мы ехали через город, тем громче становились эти крики, а потом послышался и звон оружия. На том склоне, где стоял мой особняк с садом, вспыхнул огонь. Я обернулась в седле и попыталась что-то разглядеть сквозь ночную тьму.
— До дома огонь не доберется, — пообещал Нахтмин и придержал коня.
Мы подъехали к городским воротам.
— Ничего не говори, — велел он.
Он протянул стражникам свиток, который ему дал мой отец. В свете факелов я разглядела печать визиря Эйе, темную, словно засохшая кровь, с выдавленными на ней сфинксом и Оком Гора. Стражники посмотрели на нас и отворили ворота.
И внезапно мы оказались на свободе.
19
 Фивы 11 пайни
Фивы 11 пайни
Наш новый дом стоял на берегу Нила; он примостился на утесе, словно задумчивая цапля. В глубокой ночи здание казалось холодным и пустым, и его владелец очень удивился, когда мы появились у его дверей и сказали, что хотим купить дом на берегу.
— Я строил его для дочери городского головы, — объяснил он, — но она сказала, что дом слишком мал для ее высочества.
Он оценивающе взглянул на мои украшения и тонкий лен моего платья, прикидывая, не будет ли дом слишком маленьким и для меня. Потом он заметил:
— Ночь — странное время для покупки дома.
— Но мы все-таки его возьмем, — отозвался Нахтмин.
Владелец взглянул на нас, приподняв брови.
— А откуда вы узнали, что этот дом продается?
Нахтмин предъявил свиток. Владелец поднес его к лампе. Потом взглянул на нас уже по-иному.
— Дочь визиря? — Он снова посмотрел на свиток. — Так ты и есть сестра главной жены царя?
Я расправила плечи:
— Да.
Он поднял свечу, чтобы получше разглядеть меня.
— У тебя кошачьи глаза.
Нахтмин нахмурился, а владелец дома рассмеялся:
— А вы не в курсе, что мы с Эйе вместе ходили в школу? — Он свернул свиток и вернул его Нахтмину. — Мы оба выросли при дворце в Фивах.
— Я этого не знала, — отозвалась я.
— Уджаи, — добавил он. — Сын Шалама. Ну?
Я лишь простодушно моргнула.
— Что?! Он никогда не рассказывал тебе о наших мальчишеских похождениях? Не рассказывал, как мы подшучивали над слугами Старшего, как бегали голышом в лотосовом саду, как купались в священном водоеме Исиды? — Заметив мой изумленный вид, он сказал: — Понятно. Эйе изменился.
— Честно говоря, я не представляю визиря Эйе бегающим без схенти по лотосовому саду, — признался Нахтмин, внимательно разглядывая пожилого домовладельца.
— Ага. — Уджаи похлопал себя по животу и рассмеялся. — Но тогда мы были моложе, и у меня на животе было меньше волос, а на голове — больше.
Нахтмин улыбнулся:
— Хорошо, что ты — друг нам, Уджаи.
— Я всегда буду другом для дочери Эйе.
У него был такой вид, словно он хочет добавить что-то еще, но вместо этого он повернулся и махнул рукой. Мы вошли следом за ним в коридор. Сидящий там пес насторожился при нашем появлении, но не стронулся с места.
— Думаю, вам следует быть осторожными, — сказал Уджаи. — Вы явились среди ночи, без корзин, без слуг… Это может означать лишь одно: вы вызвали гнев фараона.
Он посмотрел на схенти Нахтмина с вышитым золотым львом.
— Ты из военачальников. Как твое имя?
— Военачальник Нахтмин.
Уджаи остановился и развернулся к нам.
— Тот самый военачальник Нахтмин, который воевал с хеттами в Кадеше?
Нахтмин насмешливо улыбнулся:
— Новости расходятся быстро.
Уджаи шагнул вперед. В голосе его звучало глубочайшее уважение.
— Люди только о тебе и говорят, — сказал он. — Но ты же был в тюрьме!
Я напряглась.
— А моя сестра освободила его.
Лицо Уджаи озарилось пониманием. Теперь он сообразил, что мы делаем здесь среди ночи и почему при нас нет ни нашего багажа, ни даже дневного запаса еды.
— Так значит, это правда, — прошептал он, — что фараон собрался казнить великого военачальника Хоремхеба?
Нахтмин напрягся.
— Да. Я свободен лишь благодаря госпоже Мутноджмет. Хоремхебу же такого счастья не выпало.
— Если только боги не на его стороне, — отозвался Уджаи, взглянув на стенную роспись с изображением Амона. Заметив мой взгляд, он пояснил: — Люди не забыли бога, который дал им жизнь и сделал Египет великим.
Он тактично кашлянул, словно бы думая, что сказал дочери Эйе слишком много.
— Ты думаешь спрятаться здесь от фараона? — спросил Уджаи.
— Никто не может спрятаться от фараона, — ответил Нахтмин. — Мы приехали сюда, чтобы создать семью и мирно жить вдали от двора. Завтра они уже будут знать, где мы теперь. Но фараон не станет высылать за нами своих людей. Он слишком боится мятежа.
«И Нефертити», — подумала я.
Уджаи достал ключ из золотой шкатулки.
— Плата — раз в месяц, первого числа. Или можете заплатить сразу.
— Мы заплатим сразу, — тут же сказал Нахтмин.
Уджаи поклонился:
— Это честь для меня — иметь дело с военачальником, которым гордился бы и Старший.
Мы поднялись по каменной дорожке. Меня знобило от холода, которым тянуло из пустыни. Но рука Нахтмина была теплой, и я не собиралась отпускать ее. Когда мы вошли в пустой дом, Нахтмин разжег огонь в жаровне, и по потолку заплясали тени.
Мне на глаза навернулись слезы. Мы одновременно переступили порог пустого дома, а во всех египетских семьях это означало одно и то же. Я сдержала слезы.
— Теперь мы женаты, — сказала я. — Всего лишь несколько дней назад я думала, что ты умер, — и вот мы вместе, как муж и жена.
Нахтмин прижал меня к себе и погладил по голове.
— Боги защитили нас, Мутноджмет. Нам предназначено судьбою быть вместе. Амон ответил на мои молитвы.
Он поцеловал меня, а мне подумалось: а был ли он с другой женщиной? Он ведь мог выбрать любую женщину в Кадеше. Но я посмотрела ему в глаза, и его настойчивый взгляд убедил меня в ином. Он снял с меня платье, и мы занялись любовью рядом с нашим маленьким костерком, снова и снова. Ближе к утру Нахтмин перевернулся на бок и посмотрел на меня.
— Почему ты плачешь?
— Потому что я счастлива.
Я рассмеялась, но была в этом смехе и печаль, и горечь.
— Ты думала, что я не вернусь? — серьезно спросил он.
Мое платье лежало у жаровни, поэтому Нахтмин укрыл меня полой плаща.
— Мне велели забыть тебя, — прошептала я. Я подумала о той ночи, когда потеряла нашего ребенка, и у меня сжало горло. — А потом этот яд…
Мой муж стиснул зубы. Он явно хотел сказать что-то резкое, но нежность взяла верх.
— У нас будут и другие дети, — пообещал он, положив руку мне на живот. — И никакие хетты, сколько бы их ни было, не смогут удержать меня вдали от тебя.
— Но как ты их победил?
И Нахтмин рассказал мне о той ночи, когда нубийские стражники Эхнатона отвели его на баржу вместе с еще семью солдатами, приговоренными к отправке в Кадеш.
— Фараон, несомненно, считал, что нам конец, но он переоценил силы хеттов. Они рассеяны по всему северу, и их недостаточно, чтобы прорвать хорошо организованную оборону. Они выбрали Кадеш, потому что решили, что Эхнатон не пришлет своих солдат защищать этот город. Но они ошиблись.
— Да, но он послал их туда исключительно потому, что думал, что посылает их на смерть.
— Но хетты-то этого не знали. И правитель Кадеша тоже этого не знал. Мы спасли Египет от вторжения хеттов, — сказал Нахтмин, — но они попытаются напасть снова.
— И в следующий раз спасти Кадеш будет некому, а когда он падет, они двинутся в Миттани, а оттуда в Египет, и их будет уже не остановить.
— Мы можем сражаться с ними, — с уверенностью произнес Нахтмин, вспоминая тот страх, который внушало врагам египетское войско во времена Старшего. — Сейчас мы можем остановить их.
— Но Эхнатон никогда этого не сделает.
Я представила себе Эхнатона, представила белую кожу его сандалий и безукоризненно чистый плащ, никогда не видавший битвы.
— «Эхнатон Строитель»! — с презрением произнесла я. — Когда хетты двинутся на юг, египетские солдаты будут таскать камни для его вечного города Атона!
Нахтмин помолчал, обдумывая то, что хотел сказать.
— Когда мы вошли в город, солдаты были потрясены, увидев твою сестру на всех храмах, — признался он. — Ее изображения повсюду.
— Она напоминает людям, кто правит Египтом, — сказала я, пытаясь защитить ее.
Нахтмин посмотрел на меня, и взгляд его был настороженным.
— Некоторые говорят, что она поставила себя даже выше Амона.
Я промолчала, и Нахтмин, увидев, что я не собираюсь ничего говорить против нее, вздохнул.
— Так или иначе, я рад, что наши дети будут знать, что это такое: возделывать землю, и ловить рыбу в Ниле, и ходить по улицам без того, чтобы перед ними падали на колени, словно перед богами. Они будут скромными.
— Если у меня будет сын, — осторожно произнесла я, — Нефертити никогда мне этого не простит.
Нахтмин покачал головой:
— С этим теперь покончено.
— С этим никогда не будет покончено. Пока мы с Нефертити живы и пока мы остаемся сестрами, с этим не будет покончено.
Наутро солнце было уже высоко, когда мы свернули наш соломенный тюфяк и огляделись. Снаружи донесся какой-то шум. Я напряглась.
— Солдаты?
У Нахтмина оказался более острый слух.
— Джедефор. И, судя по голосу, Ипу.
Теперь и я расслышала непрекращающуюся болтовню моей служанки. Мы поспешно оделись, и я открыла дверь.
— Ипу!
— Госпожа!
Она поставила корзину.
— Что за место! — воскликнула она. — Оно такое большое! Сад не так хорош, но зато какой тут вид!
Корзина перевернулась, и из нее вышел рассерженный Бастет. Вид у него был обиженный. Завидев меня, он тут же забрался мне на руки.
Я почесала ему шейку:
— Ох, Бастет, неужто путешествие по реке настолько ужасно?
— Уж кому-кому, а ему жаловаться не на что! Джедефор поймал две рыбины и обе отдал ему.
Я повернулась к Джедефору.
Он поклонился:
— Госпожа…
Нахтмин дружески обнял его.
— Я еще не успел поблагодарить тебя, — сказал мой муж. Я посмотрела на Нахтмина. — Я просил Джедефора присмотреть за тобой, пока меня не будет, — пояснил он.
Я прикрыла рот, а Ипу сдавленно хихикнула.
Джедефор пожал плечами:
— Это было нетрудно. Всего-то несколько поездок в деревню.
— Несколько?! Ты приходил каждый день!
Я посмотрела на Нахтмина, и внезапно сердце мое затопила всепобеждающая любовь. Даже после того, как мои же родственники сослали его, он позаботился найти человека, чтобы тот присматривал за мной. Я подошла к Джедефору и взяла его за руки:
— Спасибо.
Джедефор покраснел.
— Да не за что, госпожа.
Он оглядел дом и с восхищением произнес:
— Вы подыскали прекрасное место. — Он провел рукой по гладкой стене и добавил: — Настоящий дом. Не из какого-нибудь кирпича-сырца.
— Да. Настоящий город из известняка и гранита, — отозвалась я.
Мы занесли в дом корзины, доставленные на барже, и остаток дня раскладывали по местам ковры и стирали белье. Соседи глазели на нас, любопытствуя, кто же это въехал в дом, который строили для дочери городского головы.
Ипу возвела глаза к небу:
— Уже третий человек приходит искать потерявшуюся скотину. Неужто сегодня все коровы Фив посбегали из дома?
Я рассмеялась, раскладывая подушки на веранде. Когда Джедефору пришло время уезжать, мы вышли на берег и помахали ему вслед. Я обняла Нахтмина за талию и спросила:
— Как ты думаешь, мы еще когда-нибудь увидимся с ним?
— С Джедефором? — переспросил Нахтмин. — Конечно.
Поколебавшись, я произнесла:
— Нахтмин, ты ведь больше не принадлежишь к войску фараона.
— Но ветра будут дуть, и пески будут перемещаться. Эхнатон не будет царствовать вечно.
Я напряглась в его объятиях.
— Я ничего не говорю против твоей сестры, мив-шер. Просто никто из нас не бессмертен.
— Но моя семья всегда была на троне Египта.
Нахтмин сжал губы.
— Да, и это меня беспокоит.
Мы прошли обратно в дом, и я проследовала за мужем на крытую веранду.
— Что ты имеешь в виду?
— Только то, что если наше царское величество умрет, какое звено тогда будет вести к трону? У Эхнатона нет законных братьев и сестер. — Нахтмин посмотрел на меня. — Остаешься только ты, мив-шер.
«Только я». Я осознала, что так оно и есть, и содрогнулась. Если с Нефертити что-то случится, если Эхнатон умрет, новому фараону потребуется связующее звено, чтобы сделать его притязания на трон законными. А кто из женщин царской семьи будет в брачном возрасте, если что-то случится прямо сейчас? Уж никак не малышки Нефертити. Только я.
— Ты никогда не думала об этом? — спросил Нахтмин.
— Конечно, думала. Но не… — Я заколебалась. — Не всерьез.
— Если Эхнатон умрет, не оставив сына, бразды правления, скорее всего, перейдут к одному из его военачальников, — объяснил Нахтмин. — Потому-то даже сейчас люди могут шептаться о том, что я женился на тебе ради притязаний на египетский трон.
Я внимательно посмотрела на него.
— А это правда?
Нахтмин заключил меня в объятия.
— А ты как думаешь?
Его поцелуи принялись спускаться ниже, и я закрыла глаза.
— Я думаю, что ты женился ради любви.
Я удержала его руки от дальнейшего продвижения, и мы вернулись в наши покои.
Ипу хватило благоразумия нас не беспокоить.
В наш первый месяц в Фивах мы ничем не занимались — просто наслаждались тихой жизнью у воды. Мы слушали крики чаек, разыскивающих пищу на прибрежной полосе песка, и медный звон колокольчиков, которые крестьяне привязывали на шею домашней скотине, пасшейся на берегах Нила. Мы ходили на рынок и покупали вещи для нашего нового дома, наслаждаясь тем, что здесь нас никто не знает. Хотя я носила платья из тонкого льна и золотые украшения, я ничем не отличалась от дочерей жрецов и писарей: у них тоже на запястьях звенели золотые и стеклянные браслеты.
Дважды из Амарны к Нахтмину приезжали люди в солдатской одежде и о чем-то шептались с ним. Каждый раз они низко кланялись ему, хотя Нахтмин больше не был военачальником.
— Это Небут, младший военачальник, — представил мне Нахтмин нашего второго гостя.
Небут прикрыл глаза от солнца и улыбнулся:
— А ты знаешь, госпожа, жители Амарны только и говорят, что о твоем муже.
— Тогда лучше бы они говорили потише, — сказала я ему, — или наши с ним жизни окажутся в опасности.
Военачальник кивнул:
— Конечно, госпожа. Никто из них не забыл, что произошло с Хоремхебом. — Он понизил голос. — Но ходят слухи, что фараон все-таки не казнил его.
Я быстро взглянула на Нахтмина.
— А что же тогда он будет делать?
— Держать их в тюрьме, — ответил муж.
— Да. До тех пор, пока их все не позабудут. Но люди уже месяц собираются у ворот тюрьмы и выкрикивают хвалы Хоремхебу и его солдатам. Стражники фараона бьют их и разгоняют, но толпа собирается снова. Против фараона поднялся его же собственный город. — Небут понизил голос до шепота. — В вечер моего отъезда фараон провозгласил, что всякий говорящий против него — предатель. Уже дюжину человек убили за это.
Нахтмин покачал головой:
— И теперь люди стоят у ворот молча.
Я представила себе, как бесится Эхнатон, глядя из Окна Появлений на разгневанные толпы, и как Панахеси вьется рядом и нашептывает ему на ухо всякие банальности.
— Ему придется вскорости как-то разбираться с этим, — сказал Нахтмин.
— О, он разберется, — заверила его я. — Фараон объявит празднество в честь Атона. Он разбросает с колесницы кучу золота, и люди обо всем позабудут.
О празднестве в честь Атона было объявлено на следующий день.
У меня упало сердце. Я понимала, что люди вроде Небута наверняка думают, что я такая же, как мои родственники, хитроумная и честолюбивая. Я понимала также, что в залах вечности мое имя будет звучать вместе с именем Нефертити и что, если боги решат стереть ее имя из свитков жизни, они сотрут и мое.
Все жители Фив высыпали на улицы. Мы пошли в город, посмотреть на празднество. У пристани во множестве выступали танцоры и акробаты, а торговцы продавали печеного сома и фазанов. Я смотрела, как люди кланяются высеченному на каменном столбе изображению солнца.
— Интересно, что сейчас думают боги? — озвучил мои мысли Нахтмин, глядя на кланяющихся солнцу женщин.
Празднество продолжалось до глубокой ночи, и до нашего дома, стоящего над Нилом, долетали песни и звон колокольчиков. Мы отправились спать под крики пьяных, и я подумала: «Вот так и заставляют людей позабыть обо всем. Бесплатное вино, бесплатный хлеб, день, свободный от работы, и внезапно оказывается, что имя Хоремхеба погребено в песках».
На следующий день прибыл посланец из Амарны.
— От визиря Эйе, — выжидательно произнес юноша.
Я прочла свиток, а потом отправилась в сад, чтобы прочитать его вслух Нахтмину.
— Новости из Амарны, — сообщила я, развернула свиток и зачитала:
«Надеюсь, Мутноджмет, что это письмо застанет тебя в добром здравии и что ты достаточно мудра, чтобы защитить своего новообретенного мужа от деревенских сплетен и женщин у колодца. Думаю, можно не говорить, как сильно твоя мать скучает о тебе. Но в городе бунт, безмолвный бунт, что выводит фараона из себя, и только царица Нефернеферуатон-Нефертити способна успокоить его».
— Царица Нефернеферуатон-Нефертити? — переспросил Нахтмин.
— «Совершенна красота Атона», — недоверчиво произнесла я.
«Если хетты вторгнутся в наши земли, вы с Нахтмином окажетесь в опасности. Эхнатон не дурак. При первых же признаках реального мятежа он казнит Хоремхеба, а затем пошлет своих людей в Фивы. Не думай, что тебе ничего не грозит, раз вы живете вдали от двора. Если начнутся беспорядки, Уджаи предупредит вас. Бегите тогда в Ахмим. Не пишите нам и никак не связывайтесь с городом фараона, пока волна беспорядков в Амарне не схлынет. Это всего лишь меры предосторожности, котенок, но, хотя сердце твое может принадлежать мужу, твой долг перед семьей останется, даже если Эхнатон падет».
Нахтмин посмотрел на письмо.
— Твой отец не церемонится.
Я уронила свиток на колени.
— Он всего лишь честен с нами.
20
 1347 год до н. э.
1 мехира
1347 год до н. э.
1 мехира
Мятежа в Амарне так и не произошло, хотя всякий раз, как приходило письмо от отца, мы думали, что обнаружим там весть о начале бунта. Хоремхеба позабыли, и люди терпели тяжелые налоги во славу Атона, как и по всему царству. Они меньше ели, они больше работали, и все новые женщины искали акацию и мед. Чем меньше ртов нужно кормить, тем меньше еды придется покупать. Но, глядя, как в постройках Эхнатона поднимаются колонна за колонной, они втайне собирались, чтобы помолиться Амону. Здесь, в Фивах, мы построили собственный алтарь, спрятав его в беседке из жасмина. Так прошел конец лета и вся осень. Я знала, что сестре моей уже скоро рожать. И однажды, когда я сидела рядом с Ипу и объясняла ей, как использовать чужеземные травы, прибыло послание, которого я ждала.
Я думала, что увижу на свитке печать отца: два сфинкса, вставшие на дыбы и сжимающие в лапах анк, символ вечной жизни. Но письмо было от матери. Она писала:
«Настал мехир, и твоя сестра призывает тебя в Амарну. Однако же она не может поручиться за безопасность Нахтмина. Хоремхеб все еще в тюрьме, и фараон мечтает о том, чтобы он там и умер. Твой отец сказал ему, что, если он поднимет руку на Хоремхеба, быть гражданской войне. Но все это не будет иметь значения, если Нефертити произведет на свет царевича. Твой отец также просит тебя приехать. Он пришлет за тобой царскую барку».
— Ты должна ехать, — просто произнес Нахтмин. — Она — твоя сестра. Вдруг она умрет родами?
Я содрогнулась. Нефертити сильна и упорна. Она не умрет.
— Но ведь ты не можешь поехать! — возразила я. — Если люди, завидев тебя, взбунтуются, фараон прикажет тебя убить!
— Значит, я останусь здесь и буду ждать твоего возвращения. Возьми Ипу. Со мной все будет в порядке, — пообещал Нахтмин. — И кроме того, нужно же заниматься гробницей.
Да. Теперь мы были женаты, и следовало начать работу над нашей гробницей. Мне вспомнилась гробница Тутмоса, ее сырость и непроглядная темнота, и меня передернуло. Мне не хотелось выбирать место для моей собственной усыпальницы. Пускай уж лучше Нахтмин сам подыщет в холмах за Фивами место для нашего последнего упокоения. Он может выбрать его где-нибудь среди выходов камня, неподалеку от спящих фараонов, в долине, где покоятся мои и его предки. Я посмотрела на мужа, и меня затопила нежность. Он ждал моего ответа, и я кивнула:
— Я поеду.
Я отплыла на царской барже вместе с Ипу, в достаточно ранний час, чтобы избежать любопытных глаз соседей: они непременно пожелали бы узнать, что эта баржа тут делает, кто это на ней плывет и куда он направляется. Мы двинулись вниз по реке, и я подумала о том, сколь многое изменилось за восемь месяцев, с того момента, как я покинула город фараона в песках. Теперь я была замужней женщиной, у меня был свой дом и собственное хозяйство. У меня были овцы и куры, и мне не нужно было больше оставаться в тени Нефертити. Мне не нужно было разыскивать ее платье или готовить для нее сок, чтобы знать, что она любит меня. Мы с ней были сестрами, и, глядя на великий Нил, я поняла, что этого должно быть достаточно.
Мать с отцом встретили нас в Большом зале. Увидев меня, мать вскрикнула и, сжав меня в объятиях, принялась осыпать поцелуями.
— Мутноджмет!
Отец улыбнулся и поцеловал меня в щеку.
— Ты хорошо выглядишь.
Он повернулся к Ипу:
— И ты тоже.
— Расскажи нам обо всем! — воскликнула мать.
Ей хотелось знать все сразу: как я живу, что из себя представляет мой дом, был ли полноводен Нил в нынешний сезон роста. Пришел Тутмос, прослышавший о моем прибытии, и низко поклонился мне:
— Госпожа, о которой до сих пор говорит Амарна.
Он улыбнулся:
— И Ипу, лучше всех умеющая наводить красоту. Всем не терпится увидеться с тобой.
Ипу хихикнула:
— Что, у них нет другой пищи для сплетен?
— Только Арена фараона.
Я быстро взглянула на отца, и он уныло произнес:
— Это его новый дар народу.
Я застыла посреди Большого зала Амарны.
— Но ведь строителей больше нет!
Отец приподнял брови:
— Поэтому он нанял нубийцев.
— Чужеземцев? Чтобы они работали бок о бок с солдатами?! — Я была потрясена. — Но ведь среди них могут быть лазутчики!
— Конечно могут, — согласился отец. Мы двинулись в Зал приемов. — Но Панахеси убедил Эхнатона, что если он наймет нубийцев, то получит Арену быстро и задешево.
— И ты это допустил? Неужто Тийя не могла попытаться остановить его?
Мать с Тутмосом мрачно переглянулись.
— Тийю изгнали из дворца, — сказал отец. — Она находится в твоем особняке.
— В качестве пленницы? — Мой голос разнесся по коридору, и я заставила себя говорить потише. — Как пленница в городе собственного сына?
Отец кивнул:
— Панахеси убедил Эхнатона, что его мать опасна и что, если дать ей такую возможность, она снова займет трон.
— А Нефертити?
— А что могла поделать Нефертити? — спросил отец.
Мы дошли до Зала приемов. Он повернулся ко мне и предупредил:
— Когда войдешь — не удивляйся.
Стражники отворили дверь и низко поклонились нам, а глашатай объявил придворным о нашем появлении.
На слугах были золотые пекторали и браслеты из золота и лазурита. Женщины, сидящие вокруг Нефертити, словно изваяния, были облачены в одеяния, сплетенные из бус, и ни во что более. Они играли на арфах, сочиняли стихи и смеялись. Почти достроенная Амарна сверкала, словно драгоценный камень. Я была потрясена. Я вошла в зал и почувствовала себя иноземцем в чужом краю.
— Мутни!
Нефертити помогли подняться с трона; она спустилась с помоста и пошла мне навстречу. Я вдохнула знакомый аромат ее волос и вдруг поняла, как сильно соскучилась по сестре.
Сидящий на помосте Эхнатон кашлянул.
— Рад тебя видеть, сестра, — поприветствовал он меня.
— Всегда приятно очутиться в городе фараона, — произнесла я без всякого выражения.
— Потому-то ты так стремительно убежала в Фивы?
Двор притих.
— Нет, ваше величество. — Я улыбнулась самой любезной из своих придворных улыбок. — Я убежала, потому что думала, что мне грозит опасность. Но конечно же, теперь, в объятиях моей сестры, все эти страхи развеялись.
Эхнатон побагровел от гнева, но Нефертити так посмотрела на мужа, что он съежился на троне. Я уже не была той девочкой, которая убегала в Фивы. Я теперь была замужней женщиной.
Молчание, царившее в Зале приемов, тут же сменилось нервным гулом разговоров. Нефертити обняла меня.
— Тебе нечего бояться, — пообещала она. — Здесь мой дом. Наш дом, — поправилась она.
Нефертити взяла меня под руку, и на глазах у всего двора мы двинулись к двустворчатым дверям Зала приемов. Сестра прижалась щекой к моему плечу; я чувствовала взгляд Эхнатона, сверлящий нам спины.
— Я знала, что ты приедешь. Знала, — торжественно произнесла Нефертити.
Придворные двинулись за нами по сверкающему коридору, смеясь и переговариваясь, а отец заговорил с фараоном:
— Ваше величество, пришло известие о появлении хеттов в Миттани.
Но Эхнатон не желал слушать подобные новости.
— Все уже улажено! — огрызнулся он.
Нефертити обернулась, и фараон тут же заставил себя успокоиться и нервно рассмеялся:
— Твой отец думает, что я недооцениваю силу хеттов.
Мы вошли в Большой зал. Нефертити отрезала:
— Мой отец любит тебя. Он пытается защитить нашу корону!
— Тогда почему он думает, что я менее могуществен, чем Суппилулиума? — заныл Эхнатон.
— Потому что Суппилулиума алчен, а ты служишь людям и славе Атона и не стремишься к другой жизни.
Они поднялись на помост, а я заняла свое старое место за царским столом, между отцом и матерью.
— О, блудная овца вернулась, — заметила Кийя и посмотрела на мой живот. — И как, не суягная?
— Нет, как и ты. — Я понизила голос. — Я слышала, фараон теперь посещает твои покои всего дважды в год. Это правда?
Одна из дам Кийи поспешно произнесла:
— Не слушай ее. Пойдем.
И они двинулись прочь поприветствовать гостей.
— Ну так расскажи же нам про Фивы, — весело попросила мать.
— И про Уджаи, — добавил отец.
Я сообщила, что Уджаи стал толще, чем был во времена отцовского детства.
— Нет, он всегда был крупным, — сказал отец. — А теперь он, значит, сделался землевладельцем. — Он одобрительно кивнул. — Уджаи неплохо устроился. А дети есть?
— Трое, — ответила я. — И жена из Миттани. Она готовит окуня с кумином, и Бастет, возвращаясь из их сада, всякий раз чихает.
Мать рассмеялась. Я и забыла, как чудно звучит ее смех.
— А твой дом?
— Он — мой. — Я довольно улыбнулась. — Мой и ничей больше. Мы посадили сад и ждем в пахоне урожая. Ипу обустроила для меня отдельную комнату, в которой я могу работать, а Нахтмин пообещал присмотреть за садом до моего возвращения.
Мать сжала мою руку. Вокруг играла веселая музыка.
— Боги благосклонны к тебе, — сказала она. — Всякий раз, когда я плачу, твой отец напоминает мне, что ты обрела то, чего всегда желала.
— Да, мават. Я жалею лишь об одном — что мы так далеко друг от друга.
Я растерла ступни Нефертити кокосовым маслом, втирая его в ее маленькие шершавые пятки, пока она лежала в ванне.
— Ты что, целыми днями ходишь босиком? — спросила я.
— Когда могу — да, — призналась она, потягиваясь. Большая медная ванна была установлена в царских покоях. От воды пахло лавандой. — Ты не представляешь, каково это — носить ребенка, — пожаловалась Нефертити.
Наши взгляды встретились, и Нефертити поспешно села.
— Я не хотела! — быстро сказала она.
Я снова принялась втирать масло ей в ступню.
— Я пыталась восемь месяцев, — сказала я ей.
Ее взгляд метнулся к моему животу.
— Безрезультатно. Думаю, у меня никогда уже не будет детей.
— Ну откуда ты знаешь?! — с пылом возразила Нефертити. — Это все в руке Атона!
Я сжала зубы, а Нефертити опустила голову на край ванны и вздохнула.
— Может, расскажешь мне про Фивы? Чем ты там занимаешься целыми днями?
Я начала было отвечать, но тут раздались пронзительные детские вопли и тяжелые шаги взрослой женщины, гоняющейся за детьми.
— Меритатон, Мекетатон! — Сестра рассмеялась.
Девочки тут же уцепились за ее мокрые руки, и мой рассказ был позабыт. Нянька, однако, не смеялась, хотя поклонилась при входе в покои фараона.
Младшая девочка плакала, держась за прядь волос на лбу.
— Мери дернула меня за волосы! — с плачем произнесла она.
— Вовсе я и не дергала! Не верь ей!
Я отпустила ногу Нефертити, и дети тут же прекратили препираться и с интересом уставились на меня. Старшая девочка подошла и заглянула мне в лицо с уверенностью, напомнившей мне Нефертити в детстве.
— Ты — наша тетя Мутноджмет? — спросила она.
Я улыбнулась Нефертити:
— Да.
— У тебя зеленые глаза.
Она сощурилась, пытаясь понять, нравится ей это или нет. Потом Мекетатон снова захныкала.
— Что случилось? — спросила я у маленькой царевны и протянула к ней руки, но она уцепилась за мать.
— Мери дернула меня за волосы-ы-ы!
Я посмотрела на Мери.
— Ты же ее не дергала, правда?
Меритатон похлопала ресницами.
— Конечно нет! — Она с обворожительным видом посмотрела на мать. — Ведь тогда мават не разрешит нам ездить.
Я уставилась на Нефертити.
— Ездить на колесницах, — объяснила та.
— В два и три года?! Но Мекетатон еще слишком маленькая…
Мне показалось, что нянька, стоявшая у двери и наблюдавшая за своими подопечными, удовлетворенно кивнула.
— Чепуха! — возразила Нефертити. Служанка помогла ей выбраться из ванны и принесла платье. — Они ездят ничуть не хуже, чем любой мальчишка их возраста. Отчего это моим детям должны в чем-то отказывать только потому, что они — девочки?
Я была поражена.
— Да потому, что это опасно!
Нефертити наклонилась к Меритатон. «Значит, Мери ее любимица», — подумала я.
— Ты боишься, когда ездишь на новой Арене? — спросила она.
Аромат ее лавандового мыла наполнил комнату.
— Нет!
Старшая царевна встряхнула черными кудрями, собранными в хвостик. Она была красивой девочкой.
— Вот видишь? — Нефертити выпрямилась. — Убастет, отведи девочек на уроки.
— Мават, нет! — Меритатон понурилась. — Ну зачем нам уроки?
Нефертити подбоченилась:
— Ты хочешь быть царевной или безграмотной крестьянкой?
Мери хихикнула.
— Крестьянкой! — с озорством отозвалась она.
— Что, правда? — удивилась Нефертити. — И чтобы у тебя не было ни лошадей, ни красок, ни красивых украшений?
Меритатон поплелась к выходу, но на пороге задержалась. Ей хотелось перед уходом обрести какое-нибудь утешение.
— А мы поедем сегодня вечером на Арену? — жалобно попросила она.
— Только если твой отец пожелает.
Нефертити прошла в царскую гардеробную и подняла руки. Служанка кинулась за платьем, но Нефертити сказала:
— Не ты. Мутни.
Я взяла льняное платье и натянула на сестру. Мне было завидно, что оно так хорошо сидит на ней, даже во время беременности.
— Ты позволяешь им ездить на Арене по вечерам? Есть ли хоть что-то, чего ты им не позволяешь?
— В детстве я бы отдала половину Ахмима за такую жизнь, как у моих дочерей.
— В детстве мы знали, что такое скромность и послушание.
Нефертити пожала плечами и уселась перед зеркалом. Волосы у нее отросли. Она вручила мне щетку для волос:
— У тебя это всегда получалось гораздо лучше, чем у Мерит.
Я нахмурилась.
— Ты могла бы написать мне хоть раз за все это время, — сказала я, взяла щетку и осторожно провела по волосам. — Мать писала.
— Это ты решила убежать с солдатом, не я.
Я стиснула щетку, и Нефертити распахнула глаза.
— Мутни, больно!
— Извини.
Она устроилась поудобнее в своем кресле из черного дерева.
— Вечером мы поедем на Арену, — решила она. — Ты же еще не видела лучшего украшения этого города.
— Я думала, что это ты.
Нефертити пропустила мой мрачный юмор мимо ушей.
— Думаю, я должна это завершить, — сказала она. — Должна построить нечто такое, что будет стоять до скончания времен.
Я перестала расчесывать ее.
— Ничто не может стоять вечно, — осторожно сказала я. — Вечного не существует.
Нефертити посмотрела на свое отражение в зеркале и беззастенчиво улыбнулась.
— Почему? Ты думаешь, боги накажут меня за то, что я сделала слишком много?
— Не знаю, — отозвалась я.
В шумной толпе стражников и изукрашенных колесниц мы двинулись к огромной Арене. Я впервые увидела Царскую дорогу в законченном виде: невероятно широкая, она пронизывала город, словно длинная белая лента. Тутмос, сделавшийся не менее важным лицом, чем любой из визирей, ехал в моей колеснице, и я заметила, что он разглядывает меня в вечернем свете.
— Ты более похожа на сестру, чем мне помнилось, — сказал он. — Те же щеки, те же губы… — Художник в нем заколебался. — Но глаза другие. — Он пригляделся повнимательнее. — Они изменились.
— Они стали больше похожи на отцовские. Настороженные и хитрые. — Я посмотрела вперед. — А Нефертити? — спросила я. — Она изменилась с того момента, как ты впервые явился ко двору, еще в Мемфисе?
Мы посмотрели на Нефертити, едущую впереди. Ее корона блестела в неярких лучах заходящего солнца, а длинный серебристый плащ бился на ветру. Тутмос с гордостью произнес:
— Нет, царица осталась точно такой же.
«Все тем же избалованным ребенком», — подумала я. Но люди любили ее. Пока мы ехали к Арене, они толпились на улицах, выкрикивали ее имя и усыпали ее путь цветами лотоса. Чем шире расходилось известие о том, что царица вышла в город, тем неистовее становились приветственные крики. Ее нубийские стражники в блестящих колесницах взяли ее в кольцо, оттесняя кричащих людей.
— Назад! — кричали они. — Назад!
Но египтяне продолжали толпиться вдоль Царской дороги, умоляя мою сестру ходатайствовать перед Атоном, дабы он даровал им счастье.
— Пожалуйста! — восклицали они. — Пожалуйста, ваше величество!
Я посмотрела на Тутмоса:
— Это что, всегда так?
— Всегда, госпожа. Ради нее они пойдут даже в асуанские каменоломни. Они выстраиваются у ворот дворца только ради того, чтобы увидеть, как она будет проходить мимо окна в своих покоях. Каждое изваяние в Амарне — это ее святилище.
— Так она — богиня?
— Для этих людей — да.
— А фараон?
Фараона трудно было разглядеть — так плотно его окружали нубийцы.
Тутмос наклонился поближе ко мне.
— Я бы решил, что он станет ревновать. Но она направляет их любовь на него, и люди восхваляют его за то, что делает она.
Лошади резко свернули ко входу в Арену, и крики толпы остались позади. Я ахнула. Никогда еще мне не приходилось видеть ничего более грандиозного. Тутмос протянул мне руку, помогая сойти с колесницы.
— Взгляни-ка наверх.
Я посмотрела на верхнюю часть открытой Арены. Там были со всем тщанием вырезаны изображения Эхнатона и Нефертити, воздевших руки навстречу лучам Атона.
Я ахнула:
— Это ты все это сделал?
— По указаниям Майи. И всего за семь месяцев.
Статуи из песчаника были раскрашены и позолочены. Их соединенные руки образовывали вершину Арены. Зрелище было великолепное. Эта постройка способна была соперничать с фиванскими храмами. Мы вошли внутрь. Среди безлюдных колоннад царила ночная тишина. Наши голоса нарушили ее, а длинная процессия заполнила Арену.
Нефертити внимательно наблюдала за мной.
— Ну, что скажешь?
— Изумительно, — отозвалась я. — Тутмос воистину одарен.
На стенах Арены были нарисованы портреты всех придворных: они мчались на колесницах, наносили удары хеттам… Но я тщетно искала среди них Кийю и царевича Небнефера. Моя сестра уже вычеркнула их из Амарны. Она знала, что назвать мертвых по имени — это означает снова вернуть их к жизни и что однажды, когда боги вернутся в Египет, они не найдут ни следа существования Кийи.
— А давай покажем ей новых лошадей! — нетерпеливо предложила Мери. — Они ассирийские!
Эхнатон двинулся к конюшне, а Нефертити с удовлетворением наблюдала, как я потрясенно разглядывала здешнее изобилие. Я представила себе, сколько писем пришлось написать отцу, чтобы добыть так много разных пород лошадей.
— Вот та пара — из Ассирии, — указала Нефертити. — Эхнатон купил их для Мери и Мекетатон. И кто знает — возможно, вскоре нам понадобится третий конь, для маленького сына. Правда же, это — величайшая Арена во всем Египте?
— В нее, должно быть, пришлось вложить множество труда.
— Тут работало три тысячи нубийцев, — отозвалась Нефертити.
— Мне кажется, тебе стоило бы опасаться их как лазутчиков, — осторожно произнесла я.
— Нубийцы более верны нам, чем половина египтян, — презрительно фыркнул Эхнатон. — Они верны не только мне, но и славе Атона. В Египте есть всего один бог. — Он посмотрел на Нефертити. — Бог, даровавший нам корону Гора.
«Нам». Власть Нефертити над ним стала безграничной.
Она прислонилась к плечу мужа и положила его руку на свой живот.
Роды были легкими, так же как и первые, и вторые, и мне подумалось: при скольких же еще родах мне придется присутствовать, прежде чем я переступлю порог собственного родильного павильона? Я сказала себе, что уеду сразу же после появления ребенка, но, увидев, как сестра прижимает младенца к груди, я не могла не позавидовать ей.
Третья царевна. Три девочки подряд.
Глашатай объявил имя ребенка. Анхесенпаатон, что означало «Живет она для Атона». И, увидев слезы счастья на глазах Эхнатона, я с горечью подумала: почему он заслужил ребенка, а Нахтмин — нет?
— О чем ты думаешь? — негромко спросила меня мать.
Я посмотрела на Нефертити, окруженную родными. Эхнатон, Меритатон, Мекетатон, и теперь еще и маленькая царевна Анхесенпаатон. Все они носили имена в честь бога солнца, бога, которого не понимал никто, кроме них.
— Полагаю, ты и сама догадываешься, — ответила я, поджав губы.
— Это чувство разрушит тебя.
К нам подошли отец и Тийя и сочувственно обняли меня.
— Разве это не я только что родила? — воскликнула Нефертити. — Что она сидит там и смотрит?
Тийя предостерегающе посмотрела на меня и отправилась взглянуть на новую царевну Египта.
— Великий Осирис! — Тетя взглянула на меня. — У нее волосы Мутноджмет. И точно такой же разрез глаз.
Мать с отцом тут же кинулись к ложу Нефертити взглянуть, правда ли это, но я осталась на месте — я была слишком расстроена, чтобы на что-то смотреть.
— А ведь и правда! — воскликнула мать.
Нефертити с гордостью позвала меня:
— Иди сюда. Она в точности похожа на тебя.
Фараон заскрипел зубами, когда я склонилась над его третьим ребенком и вгляделась в крохотное личико. Я подняла голову и улыбнулась ему:
— Да, точно так же могла бы выглядеть моя дочь. Если бы ее не убили.
— Фараон очень зол на тебя.
На лице Нефертити был написан такой гнев, что стражники застыли на своих местах. Но мне было наплевать.
— Ну и пускай злится!
Нефертити, усевшись, прошипела:
— Никогда не смей так говорить! Никто в Амарне в это не верит!
— Да просто в Амарне нет таких дураков, чтобы говорить тебе правду! Но я не буду лгать! Я возвращаюсь домой!
— В Фивы?! — вскричала Нефертити и попыталась встать с кровати. Я не могла этого допустить — она не оправилась после родов. Нефертити вцепилась в мою руку. — Не уезжай, Мутноджмет, ну пожалуйста, не уезжай! Ты не можешь оставить меня в таком положении!
— В каком еще таком положении? — возмутилась я.
На мгновение мне показалось, что она не ответит. Но Нефертити все же отозвалась:
— Такой уязвимой. Когда я беременна, Эхнатон не ходит к Кийе. А теперь пойдет.
Но я не могла больше этого делать. Быть ее лазутчицей, играть в ее игры, желать того, чего она желает. Я снова развернулась уходить.
— Мутноджмет, ну пожалуйста! — Нефертити попыталась подняться и запуталась ногами в постельном белье. — Я не справлюсь с этим без тебя!
— С чем ты не справишься? — презрительно поинтересовалась я. — Ты не возделываешь землю, не ловишь рыбу в Ниле, не борешься, чтобы удержать хеттов, как это делала Тийя, когда эта страна воистину была могущественной!
— Нет! Я изображаю перед народом богиню! — воскликнула Нефертити. — Я изображаю из себя спасительницу царства, когда множество солдат желают взбунтоваться и не делают этого лишь потому, что мне удается убедить их, что Атон говорит моими устами, и заверить их в успехе. Это мне приходится дергать за ниточки всех кукол, и лишь отец, — у нее задрожали губы, — лишь отец знает, как это тяжело!
Нефертити закрыла глаза, и на ресницах у нее повисли слезинки.
— Пожалуйста. Останься со мной. На время.
— Но не навсегда, — предупредила я.
— Но хоть на немного.
Едва лишь Нефертити поняла, что я остаюсь, она принялась делать все, что могла, чтобы я не вспоминала о своем оставшемся в Фивах муже, пока он трудился над нашей гробницей, вырезая в камне наши изображения, дабы боги, вернувшись, узнали нас. Она постоянно смеялась, восхваляла меня, засыпала меня подарками: изумрудные подвески под цвет глаз, золотые ножные браслеты, даже бирюзовые бусины для моих волос, густых и блестящих, — единственного, что вызывало зависть у Нефертити. Каждое утро мы ездили в храм Атона, где Нефертити поклонялась солнцу, а Эхнатон гремел систрумом в святая святых.
— Что ты стоишь и ничего не делаешь, пока мы поклоняемся! — возмущалась Нефертити.
Но я отказалась, и фараон не стал спорить, ибо именно я сдерживала буйный нрав Нефертити, играла с ней в сенет, читала ей мифы, качала не по годам смышленую Меритатон на колене в те три ночи, когда он отправлялся к Кийе. Так что я стояла в прохладной тени колонн и смотрела. Я не собиралась поклоняться диску в небе. Я привезла в Амарну в своем сундуке статуэтки Хатор и Амона, и этим богам я и кланялась каждое утро.
— Что я вижу! — Возглас эхом отразился от стен пустого зала. — Сестра главной жены царя не поклоняется Атону?
Из тени вышел Панахеси.
— Атон — бог Египта! — предостерегающе произнес он.
Но я больше не боялась визиря Панахеси. Он был всего лишь отцом второй жены царя.
— Так ты веришь в безликого бога? — в ответ вопросила я.
— Я — верховный жрец Атона!
Я задержала взгляд на его драгоценных украшениях. Панахеси перехватил мой многозначительный взгляд и шагнул поближе.
— Ты знаешь, что фараон уже трижды провел ночь у Кийи, — прошипел он. — Он отправился к ней сразу же после рождения царевны. Думаю, тебе интересно будет узнать, сестричка, что Кийя уверена, что она беременна. И это будет сын, как и в прошлый раз!
Я посмотрела на лживое лицо Панахеси и не удержалась:
— Откуда ты знаешь, что она беременна? Женщина не может точно сказать этого два месяца, а то и три!
Панахеси посмотрел во внутренний двор, где стояли на коленях Нефертити и Эхнатон. Он ухмыльнулся:
— Мне был знак.
Я не стала пересказывать Нефертити слова Панахеси, но пошла к отцу, а он посоветовал мне
помалкивать.
— Она еще не оправилась после родов. Не стоит тревожить ее, пересказывая слухи. Сейчас хватает хлопот и с хеттами, которые вот-вот нападут на Миттани.
— Но Эхнатон провел во дворце Кийи три ночи, — пожаловалась я.
Отец посмотрел на меня с таким видом, словно не понимал, в чем тут проблема.
— Три ночи!
— Ему необходимы сыновья. Даже Эхнатон, при всей его глупости, понимает это. Если Нефертити не может родить ему сына, он обратится к кому-нибудь еще.
Я в ужасе уставилась на отца. Он прочел мои мысли.
— Это не неверность. Это путь богов.
Отец положил руку мне на плечо, успокаивая меня, и я заметила, как много на его столе свитков, ожидающих ответа. На многих из них стояла печать Миттани.
— Так в Миттани вправду будет война? — спросила я, глядя на листы папируса.
— Еще до конца месяца.
— А потом?
— Потом Египет не пошлет своих солдат на помощь, Миттани падет, и мы будем следующими.
Мы посмотрели друг на друга, понимая, что это означает для Египта. Наше войско не готово к войне. Наши лучшие военачальники либо в тюрьме, либо в ссылке. Наше царство велико и богато, но хетты нас сокрушат.
Я вернулась к Нефертити в маленькую мастерскую, устроенную Эхнатоном для царевен. Фараон был там, и они с женой спорили. Заслышав, как отворилась дверь, Нефертити сердито кивнула мне, веля подойти, и обратилась к супругу:
— Спроси у нее!
Эхнатон посмотрел на меня с ненавистью.
— Спроси у нее! — повторила Нефертити, на этот раз громче.
Эхнатон заявил, что совершенно не обязан спрашивать у меня, сколько ночей он отправлялся к Кийе, в Северный дворец. Нефертити вылетела из комнаты. Эхнатон кинулся за ней.
— Подожди! Сегодня ночью я буду с тобой! — пообещал он.
— Надеюсь! — Нефертити была вне себя от гнева. — Или ты позабыл, что ты и их отец тоже?
Она кивком указала на Меритатон и Мекетатон. Те перестали играть с красками и теперь наблюдали за ссорой.
— Я не вернусь в ее дворец, — виновато сказал Эхнатон.
Нефертити остановилась в дверях.
— Мы поедем кататься сегодня вечером? — спросила она, заранее зная ответ.
— Да, и возьмем с собой Тутмоса, — пообещал Эхнатон.
Взгляд Нефертити смягчился.
— Хорошо.
— А мы тоже поедем? — спросила Меритатон.
Я затаила дыхание. Ребенок задает вопросы фараону? Как себя поведет Эхнатон? Но он подхватил Мери на руки.
— Конечно, ты тоже поедешь, моя маленькая царевна! Ты — дочь фараона. Фараон никуда не поедет без своих любимых.
Семейство удалилось. Нефертити пыталась заставить меня присоединиться к их поездке в город, но я отказалась, сказав, что устала.
— Ты вечно уставшая! — недовольно произнесла сестра. — Ты бродишь вокруг с таким видом, что можно подумать, будто это ты — царица!
Я бросила на нее взгляд, и Нефертити, рассмеявшись, обняла меня за талию.
— Я шучу!
— Кто растирает тебе ноги, готовит тебе сок, причесывает тебя?
Нефертити закатила глаза.
— Но тебе же всего восемнадцать лет! Какой же ты будешь в сорок?
— Возможно, мертвой, — ответила я, и Нефертити сощурилась:
— Не говори так! Ты что, хочешь, чтобы Анубис тебя услышал?
— А я думала, никакого Анубиса нету — только Атон.
Пятнадцать дней спустя моя сестра пронзительно вскрикнула:
— Какое-какое празднество?!
Зал приемов был закрыт для всех — присутствовала лишь наша семья.
— Празднество в честь второго ребенка Кийи, — пробормотал Эхнатон.
Нефертити швырнула скипетр с помоста, и он загрохотал по плитам пола.
— Это что же, ты будешь сегодня не только спать, но еще и есть в Северном дворце?! — взорвалась Нефертити.
Эхнатон понурился.
— Это празднество в ее честь, отказывать в нем нельзя. Но царица Египта — ты. — Он потянулся к жене. — Конечно же, ты тоже будешь там желанной гостьей.
На мгновение мне показалось, будто Нефертити сейчас скажет, что да, она пойдет туда. Но затем Нефертити вскочила и прошла мимо супруга. Двустворчатые двери зала распахнулись, и Нефертити, бросив на меня повелительный взгляд, вышла. Двери с грохотом закрылись. Я посмотрела на мать.
— Иди, — тут же произнесла она.
Я побежала следом за Нефертити и отыскала ее в вестибюле, ведущем к Окну Появлений. Она смотрела на Амарну. В отдалении высились храмы Амона; их колонны в сумерках напоминали часовых. Мне не хотелось беспокоить ее, но сестра уже услышала мои шаги.
— Они ждут меня — именно меня! — сказала она.
Я подошла поближе, посмотреть, о чем это она. Внизу стояли какие-то богатые чужеземцы в тюрбанах, украшенных драгоценностями; они смотрели на дворец, словно бы увидели силуэт Нефертити в окне. Но ночная тьма укрывала ее от взглядов.
— Они любят его благодаря мне, — сказала она.
— Ему нужно ходить к Кийе, — сказала я. — Ему нужны сыновья.
Нефертити резко развернулась:
— Так ты думаешь, что я не смогу дать ему ни одного? Я подошла поближе, чтобы мне тоже был виден город внизу.
— А если так, он перестанет любить тебя?
— Он меня обожает! — с жаром произнесла Нефертити. — Кого волнует, беременна ли Кийя? Он идет туда сегодня вечером только потому, что его позвал Панахеси. Он думает, что Панахеси верен ему. — Она напряглась. — Пока отец трудится до изнеможения, обеспечивая корабли и стараясь избежать войны, Панахеси нашептывает на ухо Эхнатону, как будто его устами говорит сам Атон. И его влияние растет.
— Но ведь он не влиятельнее отца?
— И никогда не будет. Я об этом позабочусь.
Нефертити посмотрела вниз, на людей, которые ее не видели. Они шли по городу, неся корзины с зерном нового урожая по дорогам, что вились, словно белые ленты.
— Одна лишь Хатшепсут была столь же влиятельна, как я сейчас. А Кийя — не царица. Даже если у нее будет пять сыновей, она никогда не станет царицей.
Глаза Нефертити снова вспыхнули гневом.
— Мне стоило бы пойти на этот праздник, — со злостью произнесла она. — Пойти и сделать так, чтобы он был для нее безнадежно испорчен.
И по ее виду я поняла, что она говорит совершенно серьезно.
Позади послышался шум, и в вестибюль вошел отец.
— Нефертити, иди-ка сюда.
Он отвел сестру в сторонку от Окна Появлений, и они принялись негромко переговариваться. Пока они разговаривали, я провела рукой по росписям, украшавшим здешние стены. Интересно, что подумал бы Нахтмин, увидев, как золото храмов смотрит на него со стен, с позолоченных изображений моих родственников, и меня среди них, — Тутмос нарисовал нас всех по памяти.
Я принялась рассматривать один из рисунков, на котором мой отец получал от фараона золотые ожерелья. Конечно же, он был символическим, поскольку отец никогда не получал подобных подарков — ему достаточно было бы шевельнуть пальцем, чтобы у него оказалось столько ожерелий, сколько ему требовалось бы. Но на этом рисунке Нефертити обнимала его за талию, положив вторую руку на плечо Эхнатона. Тут же присутствовали и две царевны, и кто-то уже начал рисовать и третью, на руках у кормилицы. В некотором отдалении стояли мы с Тийей. Мы не воздевали руки навстречу Атону, как все прочие. Мы были одеты в платья с открытой грудью, и скульптор, Тутмос, подчеркнул зеленый цвет моих глаз. Мы — наша семья — были повсюду, и лишь присутствие в Амарне Панахеси и Кийи замалчивалось. Если Северный дворец когда-то рухнет, единственным свидетельством их существования станут их гробницы.
— Ты идешь? — окликнула меня Нефертити.
Я огляделась.
— А где отец?
Нефертити с хитрым видом пожала плечами.
— Ушел по делам.
Ее самодовольное лицо заставило меня насторожиться.
— Что происходит?
— Мы идем на празднество, — просто сказала она.
— Нефертити…
— А что такого? — возмутилась сестра.
— Это жестоко.
— Власть вообще жестока, — парировала Нефертити. — И принадлежать она будет либо мне, либо ей.
Сестра посмотрела на себя в зеркало.
— Сегодня вечером я хочу быть красивой, как Исида. Сверхъестественно красивой.
Она встала, и ее платье-сетка натянулось на груди и заструилось на спине. Серебро на ресницах и бедрах заблестело в свете факелов. Корону Нефертити надевать не стала: вместо этого она вплела в волосы серебряные бусины, колыхавшиеся при движении. Мне почти что стало жалко Кийю. Но Кийя была почти так же хитра, как и моя сестра, и если Нефертити так и не родит Эхнатону царевича, нашей семье придется склониться перед Кийей, когда ее сын займет трон. Потому я сидела и терпела, пока мне выщипывали брови и подкрашивали щеки и губы. Чтобы наша семья служила такому человеку, как Панахеси… Я покачала головой. Не бывать этому!
В открытом дворике нас ожидали придворные дамы Нефертити; они болтали и хихикали, словно девчонки. Мы прошли меж них, и мне почудилось, будто мы — серебряные капли дождя на пруду, поросшем лотосами. Дамы расступились, и я поняла, что это все незнакомые мне девушки, дочери писцов и жрецов Атона, в чьи обязанности входило развлекать мою сестру. От конюшен подошла группа стражников. Их командир подал руку Нефертити и помог ей подняться на колесницу. Она забрала у него хлыст.
— Ты собираешься править колесницей?! — воскликнула я.
— Конечно. К Северному дворцу! — крикнула Нефертити.
Она взмахнула хлыстом, и колесница рванула вперед, к белому маяку в ночи. Стражники ринулись за ней, а женщины, мчащиеся в колесницах позади, захохотали.
— Помедленнее! — закричала я, перепугавшись, что мы сейчас опрокинемся, но ветер заглушил мои слова, а колесница помчалась на север. — Нефертити, мы же умрем!
Сестра повернулась ко мне с победным видом.
— Что?
Когда колесница подъехала к воротам дворца, Нефертити натянула поводья, и лошади остановились. Дворец Кийи потряс меня своей величественностью. Его изящное отражение дрожало в водах Нила — белый бастион, построенный с любовью и вдохновением. Верх каждой колонны был сделан в виде цветка лотоса, словно бы устремляющегося вверх, в объятия Атона. В украшенном колоннами фасаде посредине был сделан широкий проход, и оттуда видны были дворцовые дворики и освещенные факелами сады. Стража Кийи, увидев нас и осознав, кто мы такие, впала в панику и принялись лезть из кожи вон, кланяясь и указывая дорогу:
— Ваше величество, мы не знали, что вы приедете…
— Объявите о нашем прибытии! — велела Нефертити.
Слуги в золотых схенти помчались вперед, а мы медленно, торжественно зашагали меж масляных ламп, окаймляющих лестницу из песчаника. Гости кланялись нам и перешептывались. Когда мы подошли к Большому залу, там уже собрались трубачи.
— Царица Нефертити и госпожа Мутноджмет! — объявил глашатай.
Мы величаво вплыли в зал, и он тут же заполнился гомоном. Дамы Нефертити шли за нами по пятам; они окружили нас полукругом и принялись подыскивать место и угощение, подобающее царице. Свет играл на серебре наших ожерелий и браслетов, и я знала, что мы прекраснее всех в этом зале, даже прекраснее гордых и красивых дочерей дворцовых визирей и писцов. Кийя резко обернулась и что-то быстро сказала мужу, чтобы привлечь его внимание, но его взгляд был прикован к моей сестре, к серебристой рыбке, сверкающей в освещенном пруду.
— Отведите меня к столу для почетных гостей, — велела Нефертити, и мы двинулись через зал к столу, за которым сидели Эхнатон и беременная Кийя.
Нефертити уселась на противоположном конце стола. В промежутке расположились все доверенные дамы Кийи. Я знала, что у меня никогда не хватило бы духу поступить так, как Нефертити: с гордо поднятой головой войти во львиное логово.
Панахеси, сидящий справа от Эхнатона, побагровел от ярости. На празднестве в честь Кийи Нефертити потребовала музыку, и все принялись смеяться, петь и пить. Кийя очутилась в ловушке; в любое другое время ее дамы стали бы изводить мою сестру пренебрежением и насмешками. Но сейчас, в Северном дворце, в присутствии Эхнатона никто из них не смел задеть Нефертити, так что они всячески подлизывались к ней, рассказывали разные истории, обменивались сплетнями, и по мере того, как усиливался порожденный вином смех, усиливался и гнев Кийи.
— Что случилось? — обеспокоенно спросил Эхнатон.
Кийя бросила на него свирепый взгляд из-под ресниц:
— Это мое празднество, а не ее!
Эхнатон оглянулся проверить, нет ли Нефертити поблизости, и пообещал:
— Я возмещу тебе это.
— Как?! — пронзительно вскрикнула она.
Эхнатон оторвал взгляд от моей сестры — та, запрокинув голову, смеялась над очередной шуткой Тутмоса.
— Я велю Тутмосу изваять тебя, — донеслось до меня.
Кийя поспешила воспользоваться преимуществом.
— А если у нас будет еще один сын, Небнефер наконец-то будет объявлен твоим наследником?
Я подалась в ту сторону, чтобы услышать, что ответит фараон.
— Это в руке Атона.
«Атона и его семьи!» — победно подумала я.
Когда празднество закончилось, я поняла по глазам Нефертити, какого напряжения ей это стоило. Когда мы добрались до ее покоев, она не терпящим возражений тоном произнесла:
— Побудь со мной, пока он не вернется.
Я уселась на ее постель и успокаивающе погладила сестру по голове.
— Хетты стоят у ворот Миттани, а я разыгрываю соблазнительницу перед собственным мужем! — разбушевалась Нефертити. Затем голос ее дрогнул. — Не может быть, чтобы у нее был еще один сын…
— Может, и не будет. Может, родится еще одна царевна.
— Но почему я не могу родить сына? — вскричала Нефертити. — Чем я прогневала Атона?
«Спроси лучше, чем ты прогневала Амона», — подумала я, но не стала говорить этого вслух.
— Ты ешь мед?
— И мандрагору.
— А в храмы ходишь?
— Атона? Конечно.
Я красноречиво промолчала.
— Ты думаешь, мне стоит обратиться к Таварет? — тихо спросила Нефертити.
— Не помешало бы.
Она заколебалась.
— А ты пойдешь? Эхнатон не узнает.
— Мы можем сходить завтра, — пообещала я, и сестра ласково сжала мою руку.
Потом она повернулась и натянула покрывало на грудь. Когда сестра уснула, я осталась лежать, размышляя, где бы найти в Амарне святилище богини-гиппопотама, покровительницы родов.
На следующее утро, еще до восхода солнца, Мерит разузнала это для меня. Она сказала, что некоторые женщины в деревне хранят у себя статуэтки Таварет на случай родов у своих дочерей. Я попросила ее отвести нас в дом с самым большим алтарем, и, когда Эхнатон еще даже не проснулся, носильщики уже несли наш закрытый паланкин вверх по склону холма, к скоплению богатых домов.
В небе поднималось жаркое солнце. Внизу просыпался город оттенков кардамона и золота. Я расправила складки на платье и вдохнула запах пекущихся лепешек с финиками и подогреваемого вина.
— Задерни занавески! — прикрикнула на меня Нефертити. — Нам нужно управиться поскорее!
— Ты сама захотела прийти сюда, — сурово отозвалась я.
— Ты когда-нибудь молилась Таварет? — спросила сестра.
Я знала, что она имеет в виду.
— Да.
На вершине холма носильщики опустили паланкин, и к нам подошла служанка поприветствовать нас.
— Ваше величество… — Девушка низко поклонилась. — Моя госпожа ждет вас на веранде.
Мы поднялись по ступеням: Нефертити, Мерит и я. Носильщики остались во дворе; они понятия не имели, зачем мы явились сюда. Навстречу нам вышла женщина в платье из тонкого льна.
— Благодарю вас, что снизошли к моему скромному дому. Я — госпожа Акана.
Но Нефертити не слушала ее. Она огляделась в поисках изваяния Таварет.
— Наша богиня там, — шепотом произнесла Акана. — Укрытая от чужих взглядов.
Она нервно поглядывала то на Нефертити, то на меня.
Мы прошли в комнату в задней части дома; окна в ней были занавешены тростниковыми циновками. На белых стенах были нарисованы изображения богини-гиппопотама. Госпожа Акана попыталась объясниться.
— Многие люди хранят у себя подобные изображения, ваше величество. Ведь запрещены лишь общественные святилища. Но многие втайне сохраняют алтари у себя.
«Не настолько втайне, чтобы это укрылось от внимания Мерит», — подумала я, а Нефертити молча кивнула.
— В таком случае я вас оставлю. Если вам что-то потребуется, вы только позовите.
И госпожа Акана отступила.
Нефертити, словно очнувшись ото сна, огляделась по сторонам.
— Спасибо, госпожа.
— Может, мне тоже уйти? — предложила я.
— Нет. Я хочу, чтобы ты помолилась вместе со мной. Мерит, оставь подношения и закрой дверь.
Мерит положила благовония и цветок лотоса на табурет и удалилась вслед за госпожой Аканой. Мы остались одни. Богиня-гиппопотам улыбалась нам; ее большой живот из отполированного черного дерева отливал синевой в солнечном свете, проникающем сквозь тростниковые циновки.
— Иди ты первая, — подтолкнула меня Нефертити и пояснила: — Тебя она знает.
Я подошла к богине, преклонила колени перед ней и протянула ей цветок лотоса.
— Таварет, — пробормотала я. — Я пришла к тебе просить, чтобы ты благословила меня ребенком.
— Мы пришли из-за меня! — одернула меня Нефертити.
Я хмуро глянула на нее через плечо.
— Еще я пришла ради царицы Египта. — Я положила лотос к ногам Таварет. — Я пришла просить, чтобы ты даровала ей дитя.
— Сына! — уточнила Нефертити.
— Ты что, сама не можешь попросить? — возмутилась я.
— Нет! Меня она может не послушать!
Я снова склонила голову:
— Прошу тебя, Таварет. Царице Египта нужен сын. Она была благословлена тремя царевнами, и теперь она просит тебя даровать ей царевича.
— Но не Кийе! — выпалила Нефертити. — Пожалуйста, сделай так, чтобы у Кийи не родился сын!
— Нефертити! — воскликнула я.
Сестра непонимающе посмотрела на меня.
— Что?
Я покачала головой.
— Просто зажги благовония.
Нефертити сделала, как ей было велено, и мы посмотрели на богиню-гиппопотама, окутанную дымком курений. Казалось, будто Таварет благожелательно улыбается нам, даже несмотря на то, что Нефертити обратилась к ней с недоброй просьбой. Я встала, и Нефертити встала рядом со мной.
— Ты всегда так молишься? — спросила я.
— Ты о чем?
— Да так. Пойдем отсюда.
На следующее утро в Зал приемов прибыл гонец.
— Великая жена Кийя больна.
Я тут же вспомнила молитву Нефертити и побледнела. Отец посмотрел на меня, и я решила во всем сознаться.
— Вчера…
Но отец взмахнул рукой.
— Отправляйся и отыщи сестру и фараона в Арене!
Я съездила за Эхнатоном и Нефертити, и, хотя Нефертити всю дорогу пыталась расспрашивать меня, я смогла лишь прошептать:
— На твою молитву ответили.
Мы влетели в Зал приемов. Зал к этому моменту очистили от слуг и просителей. Отец, завидев нас, встал.
— Вот гонец с известиями для фараона, — сказал он.
Гонец низко поклонился.
— Вести из Северного дворца, — сообщил он. — Великая жена Кийя больна.
Эхнатон застыл на месте.
— Больна? То есть как? Чем она больна?
Гонец опустил глаза.
— У нее кровотечение, ваше величество.
Эхнатон оцепенел. Отец подошел к нему.
— Вам следует поехать к ней, — сказал он.
Эхнатон повернулся к Нефертити. Та кивнула:
— Поезжай. Поезжай и удостоверься, стало ли великой жене лучше.
При виде такой доброты с ее стороны фараон заколебался, и Нефертити мило улыбнулась.
— Она хотела бы, чтобы ты поехал ко мне, — сказала она.
При виде такого лукавства я прищурилась, и когда Эхнатон вышел, я сурово покачала головой:
— Что происходит?
Нефертити сбросила плащ:
— Как ты и сказала, Таварет ответила на мои молитвы.
Отец нахмурился:
— Ничего еще не случилось.
— Она больна! — быстро произнесла Нефертити. — И она наверняка потеряет ребенка.
Я в ужасе уставилась на нее, а Нефертити улыбнулась:
— Мутноджмет, принеси мне сока, пожалуйста.
Я застыла.
— Что?
— Принеси ей сока, — распорядился отец, и я поняла, что происходит.
Они хотели, чтобы я ушла и они могли поговорить наедине.
— Гранатового! — крикнула мне вслед Нефертити, но я уже покинула Зал приемов.
— Госпожа, что случилось? — Ипу поспешно встала. — Почему всех выгнали из зала?
— Отведи меня в мой прежний особняк, — сказала я. — Найди колесницу, я еду к Тийе.
Всю дорогу мы молчали. Когда мы добрались до места, оказалось, что дом выглядит точно так же, как в момент моего отъезда. Широкая крытая веранда и круглые колонны сияли белизной на солнце, и васильки на их фоне выглядели ослепительно синими.
— Она посадила еще тимьян, — тут же обратила внимание Ипу.
Она подошла к двери, и на ее оклик отозвалась служанка. Нас провели в дом, который прежде был моим. В прихожей стало больше гобеленов и появилось несколько новых стенных росписей с изображением охоты. «Целая жизнь у власти — и вот все, с чем осталась вдовствующая царица Египта». Мы прошли на веранду, и царица шагнула мне навстречу, распахнув руки для объятия. Она услышала, что мы пришли.
— Мутноджмет!
Тяжелые браслеты на руках тети мелодично звенели, а золотая пектораль была богато украшена перламутром. Тетя отстранилась и посмотрела мне в лицо.
— Ты похудела, — заметила она. И добавила, заглянув мне в глаза: — И стала счастливее.
Я подумала о Нахтмине и ощутила глубокое довольство.
— Да, я теперь намного счастливее.
Служанка принесла на веранду чай, и мы уселись на толстые пуховые подушки. Ипу тоже дозволено было сесть — она теперь была членом семьи. Но она помалкивала.
— Расскажи же мне все свои новости, — радостно попросила тетя.
Она имела в виду — о Фивах и о моем доме. Но я рассказала ей о родах Нефертити и беременности Кийи. А потом рассказала про празднество и про болезнь Кийи.
— Говорят, она потеряет ребенка.
Тийя посмотрела на меня, и вид у нее был себе на уме.
— Я уверена, что отец никогда не стал бы убивать ребенка! — быстро сказала я.
— Ради короны Египта? — Тийя откинулась назад. — Ради короны Египта делалось и такое, и много чего похуже. Спроси хоть у моего сына.
— Но это же против Амона! — запротестовала я. — Против законов Маат!
— И ты вправду думаешь, что это кого-то интересовало, когда тебя отравили?
Я вздрогнула. Никто уже не упоминал об этом.
— Но ведь есть еще Небнефер, — заметила я.
— Который видит отца раз в несколько месяцев, когда Нефертити выпускает Эхнатона из-под надзора. И ты что, вправду думаешь, что Эхнатон позволит сыну править? При том, что он лучше всех знает, на какое вероломство способен сын?
Тут нашу беседу перебил старый глашатай тети. Он поклонился в пояс.
— Письмо от военачальника Нахтмина. Для госпожи Мутноджмет.
Я посмотрела на Тийю. Слуги по-прежнему продолжали называть моего мужа военачальником. Постаравшись скрыть довольство, я отозвалась:
— Но каким образом оно попало сюда?
— Гонец прослышал, где вы, и отыскал вас.
Глашатай поклонился и вышел. Я стала читать письмо, а тетя в это время наблюдала за мной.
— Наши гробницы готовы. Их уже высекли из камня и начали раскрашивать.
Тетя подбадривающе кивнула:
— А как там сад?
Я улыбнулась. Она сделалась завзятой любительницей садов. Я просмотрела письмо, выискивая новости о моих травах.
— Неплохо. Жасмин цветет, а на виноградных лозах завязались грозди. Уже. А ведь еще даже не фаменот.
Я подняла голову и увидела по лицу Тийи, что ей отчаянно хочется иметь настоящий собственный дом. Потом меня озарила мысль.
— Давай ты приедешь и посмотришь на это все, — предложила я. — Оставишь Амарну и поселишься в Фивах.
Тетя недвижно застыла.
— Вряд ли я когда-нибудь покину Амарну, — ответила она. — Я никогда не вернусь в Фивы — разве что в гробу.
Я в ужасе уставилась на нее.
Тетя подалась вперед и доверительно произнесла:
— Мое влияние не исчезло лишь оттого, что я не живу во дворце. Мы с твоим отцом много работали над тем, чтобы наше влияние было незримым. — Она печально улыбнулась. — Панахеси вполне удалось настроить Эхнатона против меня. Но он никогда не отделается от твоего отца. Во всяком случае, пока Нефертити остается царицей.
Я посмотрела на Тийю, озаренную падающим из окна светом. Где она берет силы для этого всего? Откуда у нее силы оставаться в Амарне и править из-за трона, пока ее избалованный, заносчивый сын восседает на возвышении?
— Я не так сильна, как кажется, — ответила тетя на мой невысказанный вопрос. — Возможно, когда-нибудь ты это поймешь.
— Где ты была?
Нефертити пересекла комнату в несколько шагов.
— В своем особняке.
— У тебя нет особняка! — возмутилась она.
— Я навещала Тийю.
Сестра попятилась, как будто я ударила ее.
— Я жду новостей, а ты в это время навещаешь Тийю? Кийя больна, а ты в это время покидаешь меня?! — в ярости воскликнула она.
Я рассмеялась:
— Что? Ты нуждаешься в поддержке оттого, что услышала потрясающую весть о болезни Кийи? О том, что она может потерять ребенка?
Нефертити оцепенела. Я никогда еще не разговаривала с ней таким тоном. Она заметила свиток у меня в руке.
— Что это?
— Письмо.
Нефертити выхватила у меня свиток и принялась читать.
Но я отобрала его.
— Это письмо от моего мужа!
Лицо Нефертити потемнело.
— Кто его доставил?
— Откуда мне знать?
— Когда оно пришло?
— Пока ты была с отцом.
Тут я поняла, что она сказала, и меня переполнило негодование.
— Что? — воскликнула я. — Так оно не первое? Были и другие?
Нефертити не ответила.
— Писем было больше? — крикнула я. — Ты спрятала их от меня? Нахтмин — мой муж!
— А я — твоя сестра!
Мы гневно уставились друг на друга.
— Я приду на ужин. Но после этого я возвращаюсь в Фивы, — решительно заявила я.
Нефертити шагнула вперед, перегораживая мне путь.
— Ты же даже не знаешь, что случилось с Кийей…
— Я прекрасно знаю, что случилось с Кийей. Ровно то, что ты говорила. Она потеряла ребенка.
— Панахеси будет подозревать…
— Конечно, он будет подозревать. Но тебе придется разбираться с этим самой.
— Ты не можешь оставить меня! — выкрикнула Нефертити.
Я развернулась к ней.
— Это еще почему? Потому что никто другой не может? Потому что все остальные слишком трепещут перед твоей красотой? У тебя пятьдесят других придворных дам, которые следуют за тобой, словно ручные собачки. Пускай кто-нибудь из них и присматривает за происходящим.
Я пришла на ужин, как и обещала, и Нефертити решила испытать мою верность, велев мне отыскать для нее особый плод, который, как она знала, имеется только на кухне, в кладовых. Я встала и приказала ближайшему слуге принести моей сестре блюдо с ююбой.
— Оно может быть отравлено! — воскликнула Нефертити. — Я хочу, чтобы сходила ты!
Я несколько мгновений смотрела на нее, потом в ярости вылетела из Большого зала. Когда я вернулась, вокруг моей сестры толпились молодые придворные. Увидев блюдо с фруктами у меня в руках, Нефертити вскинула голову и улыбнулась:
— Мутни, ты его принесла!
Как будто она в этом сомневалась!
Женщины расступились, давая мне дорогу.
— Ты — лучшая сестра во всем Египте! — торжественно произнесла Нефертити. — Где музыканты? — Она хлопнула в ладоши. — Мы желаем музыки!
Когда девушки вернулись на свои места, я села рядом с матерью за стол у подножия помоста. Слуги подали жареную газель и ягненка в меду.
— Она так выказывает любовь к тебе, — сказала мать.
— Как? Превращая меня в свою служанку?
Заиграла музыка, вперед выступили танцовщицы в ярких платьях и браслетах с колокольчиками, и Нефертити захлопала в ладоши. Полдюжины придворных дам смотрели, как Нефертити пьет, держа чашу на присущий ей манер, указательным и большим пальцами.
— Сколько мне еще здесь оставаться? — сердито спросила я.
Мать нахмурилась.
— Пока не закончатся танцы.
— Я слышал, ты навещала Тийю, — сказал отец.
— Я рассказала ей, что случилось с Кийей, — отозвалась я.
Он кивнул:
— Да, конечно.
— И она не удивилась.
Отец посмотрел на меня как-то странно, и на миг я задумалась о том, что же это было: отравление или просто так распорядилась судьба? Нефертити взглянула на нас сверху и нахмурила брови. Она поманила меня пальцем.
Отец мотнул головой:
— Она тебя зовет.
Я поднялась наверх, и Нефертити похлопала по пустому креслу; оно стояло на помосте специально для гостей, которым дозволялось присесть и вести беседу.
— Надеюсь, ты не разговаривала с отцом про Кийю, — предостерегающе произнесла она.
— Конечно нет.
— Подобным разговорам конец.
— Как и ее ребенку.
У Нефертити расширились глаза.
— Смотри, чтобы тебя не услышал Эхнатон! — предупредила она.
Эхнатон обернулся посмотреть, о чем это мы говорим. Нефертити улыбнулась ему, а я бесстрастно отвела взгляд. Нефертити снова повернулась ко мне.
— Посмотри, какой праздник я устроила — и все ради того, чтобы отвлечь Эхнатона от мыслей о ней.
— Это очень мило с твоей стороны, — отозвалась я.
— Почему ты так злишься на меня? — возмутилась Нефертити.
— Потому что ты подвергаешь опасности свое бессмертное ка и поступаешь против законов Маат, — парировала я. — И ради чего?
— Ради короны Египта! — ответила она.
— Ты думаешь, никто из визирей не размышляет над тем, не отравили ли Кийю?
— Если размышляет, то ошибается, — твердо заявила Нефертити. — Я ее не травила.
— Значит, это сделал ради тебя кто-то другой.
Тут музыка прервалась, а с ней и наш разговор. Нефертити весело улыбнулась, чтобы Эхнатон подумал, будто мы болтаем о каких-то милых пустяках. Когда музыка заиграла снова, она наклонилась ко мне и быстро произнесла:
— Мне нужно, чтобы ты выяснила, о чем говорят дамы Кийи.
— Нет, — наотрез отказалась я. — Я возвращаюсь в Фивы. Я говорила тебе, что уеду. Я сказала это еще до рождения Анхесенпаатон.
В другом конце зала по-прежнему играли музыканты, но те, кто сидел ближе всего к тронам, могли слышать наш разговор. Я сошла с помоста, а Нефертити подалась вперед.
— Если ты меня оставишь, то никогда не сможешь вернуться обратно! — пригрозила она.
Все придворные развернулись в мою сторону, и Нефертити, осознав, что нас слышат, покраснела и крикнула:
— Выбирай!
У Эхнатона одобрительно расширились глаза. Я повернулась взглянуть на отца, сидящего за царским столом. Лицо его, как и подобало настоящему визирю, было бесстрастно, словно маска: отец не желал показывать, какие чувства он испытывает из-за того, что его дочери сцепились прилюдно, словно две кошки. Я глубоко вздохнула и ответила:
— Я сделала свой выбор, когда вышла замуж за Нахтмина.
Нефертити откинулась на спинку трона.
— Уходи, — прошептала она, потом пронзительно вскрикнула: — Уходи и никогда не возвращайся!
Я увидела застывшие на ее лице решимость и горечь — и вышла из Большого зала, не придержав хлопнувшие за моей спиной двери.
Ипу, сидевшая у меня в покоях, уже прослышала о произошедшем.
— Мы уедем, госпожа. Уедем сегодня вечером, на первой же царской барже. Твои вещи уже уложены.
Мои сундуки, готовые к отъезду, стояли на кровати, и меня потрясло, как быстро все это было проделано.
Меня изгнали.
Потом в покоях внезапно появилась мать.
— Мутноджмет, что ты делаешь? Одумайся! — взмолилась она.
Отец застыл в дверях, словно часовой.
— Эйе, ну скажи же что-нибудь своей дочери! — вскричала мать.
Но отец не стал уговаривать меня остаться.
Я подошла к матери и обхватила ее лицо ладонями.
— Я не умираю, мават. Я просто возвращаюсь к моему мужу, в мой дом, к моей жизни в Фивах.
— Но твоя жизнь здесь!
Она посмотрела на отца. Тот взял ее за руку.
— Это ее выбор. Одна дочь тянется к солнцу, а другой довольно чувствовать его лучи в своем садике. Они разные, только и всего.
— Но она никогда не сможет вернуться! — воскликнула мать.
— Нефертити передумает, — пообещал отец. — В конце концов ты сможешь сюда приехать, котенок.
Я обняла отца, потом крепко прижала к груди мать, а слуги тем временем принялись таскать сундуки, громоздя один поверх другого.
— Мы будем приезжать к тебе дважды в год, — пообещал отец. — Я устрою так, чтобы встретиться с царем Миттани в это время.
— Если Эхнатон тебе позволит.
Отец промолчал, и я поняла, что он собирается сделать это независимо от того, даст фараон свое соизволение или нет. Потом я услышала шум и, обернувшись, увидела двух маленьких девочек, глядящих на меня из-за колонн. Я поманила их к себе.
— Ты уезжаешь? — спросила старшая.
— Да, Мери. Хочешь проводить меня до пристани и помахать на прощание?
Мери кивнула, а потом заплакала:
— Но я хочу, чтобы ты осталась!
Ее слова тронули меня. Мы были знакомы всего лишь месяц.
— Ты еще даже не видела всех моих лошадей! Я хотела показать их тебе!
Я предпочла закрыть глаза на ее эгоизм. Наклонившись, я поцеловала малышку и пообещала:
— Когда-нибудь я вернусь и посмотрю на них.
— И мой храм? — всхлипывая, пробормотала Мери.
— И твой храм, — сказала я, хоть меня и воротило от такого потакания.
Ее собственный храм Атона? Что же за царица выйдет из этой девочки, если ей дозволена любая роскошь? Как она научится сдержанности или терпению?
Я дошла с матерью до пристани, а когда корабль был готов, не удержавшись, расплакалась. Кто знает, что может случиться после нашего прощания? Я могу умереть родами, или мать может скончаться от любой болезни из тех, что процветают на берегах Нила. Мы взялись за руки, и я вдруг очень остро почувствовала, как сильно я ее подвела. Я принесла ей лишь печаль — а ведь дочери полагается радовать мать.
— Прости, — сказала я ей. — Будь я хорошей дочерью, я бы вышла замуж за человека, угодного фараону, и осталась неподалеку от тебя. Я подарила бы тебе внуков, чтобы ты могла держать их на коленях. А вместо этого я приношу тебе лишь душевные муки.
— Ты живешь так, как предопределено Амоном. И сожалеть тут не о чем.
— Но ты одинока, — возразила я.
Мать придвинулась ко мне и прошептала — так, чтобы не слышал отец:
— И я каждую ночь утешаю себя напоминанием о том, что именно тебе, а не Нефертити, улыбнется вечность. Даже без золота, детей или короны.
Она поцеловала меня в макушку, и даже отец, кажется, расчувствовался, когда я помахала на прощание Амарне, драгоценности, сотворенной моей семьей среди песков. Амарна с ее новообретенным блеском и золотом была слабой соперницей Фивам, и все же, когда я покинула ее, на меня нахлынуло ощущение потери: это было наследие моей семьи, а я покидала ее навеки.
21
 Фивы
14 фаменота
Фивы
14 фаменота
Наш корабль едва вошел в порт, а мой муж уже был на пристани. Он отвел меня домой и уложил на нашу кровать. Я посмотрела на стены. Когда мы въехали в этот дом, стены были белыми и матовыми. Теперь же на них красовались росписи, изображающие реку, и фаянсовые изразцы.
— Кто все это сделал? — спросила я.
— Я нанял одного художника из города. Он управился за три дня.
Я оценила работу этого художника по достоинству. Она была хороша. Не так великолепна, как мог бы сделать Тутмос, но все равно было красиво. Для реки он подобрал насыщенные и разнообразные цвета.
— Ну, рассказывай! — попросил Нахтмин.
Я вздохнула и рассказала ему про рождение Анхесенпаатон, потом про Кийю и про то, как меня изгнали из Амарны. Нахтмин обнял меня и крепко прижал к себе.
— Что же в тебе такое, мив-шер, что так притягивает к тебе людей? Я думал о тебе каждый день и размышлял: а вдруг твоя сестра задумает подослать ко мне убийц, а потом, когда я буду мертв, выдаст тебя замуж за кого-то другого?
Я ахнула.
— Нахтмин!
— Ты для нее — все, — сдержанно произнес он.
— А ты — все для меня. Нефертити понимает это. И если бы она услышала хоть шепоток в твой адрес, она остановила бы руку фараона…
— Она сделалась настолько могущественна?
— Ты бы видел всех этих людей у Арены и на улицах! Они сделают ради нее все, что угодно.
— А ради него?
— Не знаю.
Нахтмин погладил меня по щеке:
— Давай сейчас подумаем о другом.
И мы занялись любовью. Позднее Ипу принесла нам обед: фиги и миндаль, рыбу и свежевыпеченный хлеб. Мы ели и разговаривали, и Нахтмин рассказал мне о нашей гробнице в холмах за Фивами, о том, как основательно она сделана и как красиво рабочие ее отделали.
— Я нашел рабочих, которых нанимал фараон до переезда в Амарну. Теперь они работают по найму на любого знатного человека, который готов платить. Фараон сделал глупость, не взяв их с собой.
— Фараон сделал много всяких глупостей, — отозвалась я.
Тут со скрипом растворилась дверь, и рука Нахтмина метнулась к ножу. Я посмотрела вниз и рассмеялась:
— Это всего лишь Бастет! Иди сюда, огромный мив!
Нахтмин нахмурился:
— Ты только глянь, какой он большущий вырос!
Я посадила Бастета на колени, и он замурлыкал, радуясь вниманию.
— Даже удивительно, что он не сердится на меня за то, что я уезжала.
Нахтмин приподнял брови.
— Ну… Он тоже тосковал не меньше меня, пока тебя не было.
Я посмотрела на Бастета.
— Мив, ты хорошо себя вел?
— Спроси у своего любимого льняного платья.
Я помедлила.
— Что, того самого?..
Нахтмин кивнул.
— Ты порвал мое платье?! — воскликнула я, и Бастет прижал уши, как будто точно знал, о чем я говорю.
— Сомневаюсь, что он тебя понимает, — заметил Нахтмин.
— Еще как понимает! Он испортил мое любимое платье!
— Возможно, это научит тебя не уезжать из дома, — шутливо заметил Нахтмин.
Мы улеглись, укрывшись легкими льняными покрывалами, а Бастет свернулся у нас в ногах. Я рассказывала про Амарну, Северный дворец и Арену, над которыми трудились тысячи человек, а Нахтмин слушал. Когда настал вечер, мы отворили двери и уселись на балконе, любуясь встающей над рекой луной. В реке отражались большие дома, мерцающие сотнями огоньков.
— Как он может думать, что Амарна когда-либо сравнится с этим? — спросила я.
Я была очень благодарна Амону за то, что я жива и сижу вместе с человеком, которого люблю, на балконе, глядящем на величайший город Египта.
На следующее утро, когда я вернулась в свой сад, я восхвалила мужа за его старания обеспечить мандрагору водой, а гибискус — подкормкой. Даже Ипу поразилась тому, с какой ловкостью он управился с этим всем.
— Я была уверена, что мы тут застанем по возвращении грязь и сорняки, — призналась она.
Мы рассмеялись, и Нахтмин тут же пожелал узнать, над чем это мы смеемся.
— Всего лишь над твоими доблестными свершениями в саду! — отозвалась я.
Вернуться к моей жизни в Фивах оказалось нетрудно. Нил нес свои воды, птицы пели, цапли вели брачный танец, а Бастет шествовал по дому, словно владыка Египта.
Мы с Ипу отправились на рынок, купить рыбы для Бастета, и я снова вспомнила о том, как великолепны Фивы. Розоватые холмы и темное золото камня сияли чистыми красками раннего утра. Старухи раскладывали на прилавках свои товары, жевали бетель и сплетничали друг о дружке. Река отливала золотом под лучами зимнего солнца, а люди с тяжелыми сетями несли груз с торгового корабля. Мы прошли через толпу, и мужчины сперва глядели на меня — их внимание привлекали мои золотые и серебряные украшения, — но куда дольше их взгляды задерживались на Ипу, которая проплывала меж прилавками, улыбаясь шуткам мужчин.
Плотник Пасер пожелал узнать, доволен ли фараон сундуком, который он для него сделал семнадцать лет назад.
— Он до сих пор стоит в покоях фараона, на самом видном месте, — сообщила ему Ипу.
Старик развернулся и захлопал в ладоши.
— Вы слышали?! Сундук работы Пасера Плотника стоит в Приречном дворце!
Я посмотрела на Ипу. Та улыбнулась, довольная своей ложью. Пасер подался вперед:
— Я мог бы работать на постройке гробниц. Спорим — они бы меня взяли, если бы я поехал в Амарну! Я мог бы вырезать ушебти для путешествия фараона в загробный мир!
— А что же твоя дочь будет делать без тебя? — спросила Ипу.
— Она тоже могла бы поехать! — восторженно отозвался Пасер, потом тяжело вздохнул. — Увы, это всего лишь стариковские мечты.
— Не такой ты и старик, — польстила ему Ипу, и плотник ухмыльнулся.
Мы зашагали дальше, и я напомнила Ипу про рыбу для Бастета.
— Мы пойдем к Ренси, — пообещала она. — У него всегда была самая лучшая рыба.
— Рыба для Бастета. Не думаю, что он заметит разницу.
Ипу выразительно посмотрела на меня:
— Этот мив прекрасно все понимает!
И она целеустремленно зашагала к последнему прилавку на рынке — и резко затормозила, увидев вместо Ренси какого-то молодого человека. Он был высок, хорошо сложен, и руки его не были руками торговца рыбой.
— Чем могу вам помочь, госпожи мои?
— А где Ренси?
— Отец на два месяца уехал в Мемфис по делам. На это время его буду подменять я.
Ипу подбоченилась:
— Ренси никогда не говорил мне, что у него есть сын.
— А мне отец никогда не говорил, что у него есть такие очаровательные покупательницы.
Молодой человек смотрел на нас обеих, но я видела, что его комплимент был адресован Ипу.
— Ну что ж, нам нужен окунь. Свежий окунь, а не выловленный два дня назад и натертый тимьяном.
Сын Ренси, похоже, опешил.
— Вы что, вправду думаете, что я стану продавать лежалую рыбу?
— Не знаю. А сын Ренси — такой же достойный уважения человек, как и его отец?
Молодой человек протянул Ипу деревянную миску с уже нарезанным окунем.
— Можете взять это домой, а потом скажете мне, есть ли в Фивах рыба лучше этой.
— Боюсь, она не сможет вам этого сказать, — невозмутимо произнесла я. — Это для мива.
Продавец посмотрел на Ипу, как на ненормальную.
— Окунь для кота?! — воскликнул он и попытался забрать миску.
— Поздно! — возразила Ипу. — Ты уже ее продал!
— Это же лучшая рыба в Фивах!
Молодой человек повернулся ко мне в поисках поддержки.
— И я дам ее самому лучшему миву в Фивах, — пообещала Ипу.
— Но нельзя же скармливать окуня миву!
— Как тебя зовут? — решительно спросила Ипу.
Продавец рыбы нахмурился:
— Джеди.
— Ну что ж, Джеди, — Ипу аккуратно взяла упакованного окуня под мышку, — когда твой отец вернется, моя госпожа непременно похвалит тебя ему.
Она вышла, а Джеди остался смотреть ей вслед, разинув рот. Потом он перевел взгляд на меня.
— Я видал ее прежде. Она всегда такая дерзкая?
Я улыбнулась:
— Всегда.
Пахон выдался не по сезону теплым. Я начала убирать пожухлую листву и рассыпать толченую яичную скорлупу, чтобы подкормить почву. Наш дом на несколько месяцев раньше срока заполыхал яркими каннами и зацветшим гибискусом, но, когда я потянулась сорвать цветок лотоса, мне вспомнилась Нефертити, и меня захлестнуло ощущение утраты. В гневе я отказалась извиняться, а вот сейчас мне представилось, как мать сидит одна в своих покоях, пока отец трудится в Пер-Меджате, рассылает лазутчиков и пишет свитки, пытаясь выяснить, насколько далеко продвинулись хетты в Миттани. Когда я сидела на балконе, ко мне подошла Ипу:
— Ты сама хотела этого, госпожа.
Я печально кивнула:
— Я знаю.
— Ты оставляла их и прежде, — заметила Ипу, не понимая моих страданий.
— Но не так. Теперь мы разлучены, потому что Нефертити злится, а мать будет беспокоиться, а отцу потребуется моя помощь, если у нее начнутся трудности, да вот только меня там не будет.
Я посмотрела вдаль и подумала: «Были бы у меня дети — все бы было иначе». Я бы заботилась о сыне или учила дочь разбираться в земле. Я никогда не стала бы брать кормилицу для своего ребенка. Он был бы моим и только моим. Он был бы для меня всем. И я не стала бы выделять любимицу среди своих дочерей. Но Таварет благословила не меня. Богиня предпочла улыбнуться Нефертити.
— Ну, будет. — Ипу попыталась отвлечь меня от мрачных мыслей. — Пойдем сходим на рынок и посмотрим на глотателей огня.
— По жаре?
— Мы можем найти тень, — предложила Ипу.
Мы отправились на рынок во второй раз за семь дней и окунулись в толчею. Нам ничего не требовалось покупать, но каким-то образом тот торговец рыбой, которому приглянулась Ипу, отыскал нас. Он протянул нам два пакета, завернутых в папирус, и смахнул со лба вспотевшие на жаре волосы.
— Для прекраснейших дам Египта, — сказал он.
— Очень мило. — Ипу мельком взглянула на рыбу. — Но ты же понимаешь, что сестра главной жены царя не может принимать еду от незнакомцев.
Она вернула рыбу, и Джеди сделал вид, будто он оскорблен до глубины души.
— Госпожа, а кто тебе сказал, что я — незнакомец? Я дважды видел тебя здесь. И еще раз — до того, как ты покинула Фивы. Возможно, ты не заметила скромного холостяка, но я-то тебя заметил!
Ипу уставилась на него.
Я рассмеялась.
— Похоже, тебе удалось лишить Ипу дара речи, — поздравила его я. — Кажется, это с ней впервые.
— Ипу, — задумчиво повторил торговец рыбой. — «Дружелюбная». — Он сунул рыбу обратно ей в руки. — Возьми. Она не отравлена.
— Если окажется, что она отравлена, я вернусь из загробного мира и разыщу тебя.
Джеди рассмеялся:
— Тебе не придется искать меня. Я буду есть рыбу этого же улова. Может, ты придешь завтра, скажешь, как тебе понравилась рыба?
Ипу с напускной скромностью отбросила волосы на спину, и вплетенные бусины мелодично зазвенели.
— Может быть.
Когда мы покинули рынок и зашли за поворот дороги, я повернулась к Ипу.
— А он интересный!
— Он всего лишь торговец рыбой, — отмахнулась Ипу.
— Вряд ли. У него на руках золотые кольца.
— Ну, может быть, он рыбак.
— С такими кольцами? — Я покачала головой. — Ты же говорила, что хочешь обеспеченного мужа. А вдруг это он и есть?
Мы остановились на дорожке, ведущей в мой сад. Ипу сделалась серьезной.
— Пожалуйста, не рассказывай об этом никому, — попросила она.
Я нахмурилась:
— Это кому же, например?
— Например, кому-то из женщин, которые приходят к тебе за травами.
Я отступила и с обидой произнесла:
— Я никогда не сплетничаю!
— Мне просто хотелось бы быть поосторожнее, госпожа. Вдруг он женат?
— Он сказал…
— Мужчины много чего могут сказать. — Но глаза Ипу заблестели. — Я просто хочу быть поосторожнее.
На следующий день я не пошла с Ипу на рынок, но увидела, как она уходит, и шепотом обратила внимание Нахтмина на то, что Ипу оделась наряднее, чем обычно.
— Думаешь, она пошла на встречу с ним? — поинтересовался Нахтмин, прижав меня к груди.
— Конечно! Мяса у нас много, и рыба нам тоже не нужна. Зачем же ей еще идти?
Я подумала, что Ипу наконец-то влюбилась, и улыбнулась.
Теперь, когда стало известно о моем возвращении в Фивы, у моих дверей снова стали появляться женщины. Наибольшим спросом пользовались акация и мед — смесь, которую фиванки боялись просить у своих лекарей. Поэтому служанки, всегда старательно скрывающие имена своих хозяек, на заре тихонько пробирались к моему дому с туго набитыми кошельками — позаботиться, чтобы встреча с любовником или несчастный брак не привели к появлению ребенка. Я пыталась не видеть в этом иронии судьбы: я продавала другим женщинам травы, препятствующие появлению детей, в то время как сама только и мечтала, что о ребенке.
Иногда женщины приходили и за другими лекарствами: за растениями, способными сводить бородавки или исцелять раны. Они не говорили, где получили эти раны, а я не спрашивала. Одна из этих женщин показала мне синяки и прошептала:
— Это можно как-нибудь спрятать?
Я прикоснулась к припухшему синяку на маленькой руке и вздрогнула. Потом прошла через комнату: Нахтмин смастерил здесь деревянные полки, чтобы мне было куда ставить свои стеклянные баночки и флаконы.
— Шесть месяцев назад ты приходила ко мне за акацией и медом. А теперь вернулась за средством замаскировать синяки?
Женщина кивнула.
Я ничего не стала говорить, просто подошла к полке из отполированного кедра, на которой стояли ароматические масла.
— Если ты подождешь, я смешаю для тебя розмариновое масло с желтой охрой. Тебе нужно будет наносить эту смесь поверх синяков в несколько слоев.
Женщина присела у моего стола и стала смотреть, как я пестиком толку охру в мелкий порошок. По оттенку ее кожи я решила, что ей потребуется цвет желтой меди, и, когда она протянула руку и синяки скрылись под слоем мази, я почувствовала гордость. Женщина заплатила мне медный дебен, а я посмотрела на ее золотое ожерелье и спросила, стоит ли его богатство таких жертв.
— Иногда, — ответила она.
Весь день приходили слуги: некоторых я знала, другие же были мне незнакомы. Когда все стихло, я вышла наружу и увидела Нахтмина в открытом дворике за домом, там, где между колоннами мерцала синевой и серебром река. Нахтмин был без туники, его золотистый торс блестел под теплым солнцем от пота. Он повернулся, увидел, что я смотрю на него, и улыбнулся:
— Ну что, все покупатели ушли?
— Да, но я не видела Ипу с самого утра, — пожаловалась я.
— Возможно, в ней внезапно проснулся интерес к рыбе.
Я наряжала Ипу для ужина с Джеди — которому, как оказалось, принадлежало целых три торговых судна — и чувствовала себя как-то странно. Я надела на нее свой лучший парик: его пряди были унизаны золотыми трубочками и надушены лотосом. Ипу нарядилась в облегающее платье и мой плащ, подбитый мехом. Плетеные сандалии из папируса тоже были мои, и, когда я посмотрела на Ипу в зеркало, мне вспомнилась Нефертити и все те вечера, когда я одевала сестру к ужину. Я обняла Ипу и прошептала ей на ухо слова поддержки, а когда она ушла, эгоистически подумала: «Если она выйдет замуж, у меня не останется никого, кроме Нахтмина». Каждую ночь я ставила ароматические масла к ногам Таварет в моем собственном маленьком святилище, и каждую луну у меня приходили месячные. Мне было двадцать лет — и не было ни одного ребенка. И возможно, не будет никогда. «А теперь у меня не будет и Ипу».
И я тут же покраснела, устрашившись того, что могу начать думать как Нефертити. «Возможно, мы с ней куда более похожи, чем я полагала».
Я отправилась на кухню и отыскала там оставленные Ипу хлеб и козий сыр.
— Сегодня вечером Ипу ужинает с тем торговцем рыбой, — сообщила я Нахтмину.
Но он сидел на веранде, погрузившись в чтение какого-то свитка, и даже не поднял головы.
— Что это? — поинтересовалась я, поднося ему еду.
— Прошение от горожан, — мрачно произнес он и протянул свиток мне.
Прошение было написано жителями Фив. Я узнала некоторые имена: они принадлежали людям, утратившим свое положение после смерти Старшего. Старым друзьям отца и бывшим жрецам Амона.
Я ахнула:
— Они хотят, чтобы ты захватил власть в Амарне!
Нахтмин, уставившись через балконную дверь на Нил, ничего не ответил.
— Мы должны как можно скорее показать это письмо моему отцу…
— Твой отец уже все знает.
Я села, глядя на мужа.
— Как он может уже знать об этом?
— Он все знает и за всем присматривает. Если сюда еще не пришли люди с оружием, чтобы перерезать мне горло, то это потому, что он велел не трогать меня. Он верит, что я не поведу войско на Амарну, так как знает, что ты для меня важнее любой короны.
— Но почему отец не арестует этих людей? Они же изменники!
— Они станут изменниками, только если я втяну их в мятеж. До этих пор они — друзья, а если Амарна когда-нибудь падет и Атон отвернется от Египта, к кому тогда твоему отцу обращаться за помощью?
Я медленно подняла взгляд, начав наконец-то соображать.
— К тебе. Потому что люди Старшего пойдут за тобой. Нахтмин кивнул, а я вдруг ощутила глубокое почтение и страх перед отцом.
— Он строит планы на тот случай, если Эхнатон умрет. На тот случай, если народ восстанет. Потому-то мой отец и позволил мне выйти за тебя замуж.
Нахтмин улыбнулся:
— Я бы хотел надеяться, что за этим все-таки стоит нечто большее. А потому нет нужды отправлять это послание ему. — Он забрал у меня папирус и скомкал его. — Я не поведу людей на бунт, и он это знает.
— Но Эхнатон не знает.
— Эхнатон не имеет дела ни с чем за пределами Амарны. Весь Египет может рухнуть, но, если Амарна останется стоять, его это вполне устроит.
У меня запылали щеки.
— Моя сестра никогда…
— Мутноджмет, — перебил меня муж, — твоя сестра — дочь миттанийской царевны. Ты знаешь, что двенадцать дней назад на Миттани напали?
У меня перехватило дыхание.
— Хетты вторглись в Миттани?!
— А Египет ничего не сделал, — зловеще произнес Нахтмин. — Но история запомнит, что мы стояли в стороне и смотрели. Если Миттани падет, мы станем следующими. Если она уцелеет, то никогда нас не простит, и никакие миттанийские царевны тут не помогут.
— Нефертити не знала своей матери. Ты не можешь обвинять ее…
— Никто ее и не обвиняет. — В лунном свете его черты лица заострились. — Но войны, на которые мы закрываем глаза, могут ослепить нас навеки.
Занавески затрепетали под ночным ветерком, и Нахтмин встал.
— Хочешь пройтись?
— Нет. — Я сидела, и на душе у меня было муторно. — Иди сам.
Нахтмин коснулся моей щеки.
— Амон хранит нас. Что бы там ни случилось в Миттани или в Амарне, у меня всегда будешь ты, а у тебя — я.
Он ушел. Я вернулась к себе в комнату, но уснуть не смогла. По жаре все, на что меня хватило, это отправиться на балкон — посидеть, подумать. Когда Ипу вернулась, я спустилась узнать, как прошел вечер. Несмотря на свои двадцать четыре года, она выглядела молодой и сияющей.
— Гляди! — выпалила она, протягивая руку и показывая мне браслет. — Он купил его для меня! Госпожа, у меня такое чувство, будто мы с ним знакомы всю жизнь! Мы выросли в одном и том же городе, возле одного и того же храма Исиды! Его бабушка была жрицей, и моя тоже!
Я жестом предложила ей пройти на веранду, и мы проговорили там до поздней ночи.
22
 14 пахона
14 пахона
— Тебя ждет на пристани сюрприз! — шепотом сообщил на следующее утро Нахтмин, едва лишь я открыла глаза.
Я тут же села и заморгала от яркого света.
— Что там такое?
— Вставай и посмотри! — поддразнил меня муж.
Я спихнула Бастета с кровати и прошла к окну, а затем, узнав сине-голубые вымпелы барки моих родителей, вскрикнула:
— Ипу! — Я проворно натянула нарядное платье. — Прибыли визирь Эйе и моя мать! Приготовь дом и достань хорошее вино.
Ипу возникла в дверях.
— Что стоишь? Иди за вином! — воскликнула я.
Ипу заговорщически улыбнулась Нахтмину:
— Уже все сделано.
Я посмотрела на мужа. Тот ухмыльнулся, словно Бастет. Тут до меня дошло.
— Так вы знали?
— Конечно, он знал! — энергично отозвалась Ипу. — Он скрывал этот сюрприз целых десять дней!
Я остановилась, так и не застегнув на шее золотую цепочку, и на глаза мне навернулись слезы.
— Скорее! — поторопил меня Нахтмин. — Они ждут!
Я побежала навстречу родителям, как ребенок бежит на рынок, чтобы встретиться с друзьями. Увидев меня, мать изменилась в лице.
— Мутноджмет! — воскликнула она и крепко обняла. — Ты хорошо выглядишь. — Она отстранилась, чтобы оглядеть меня. — И стала не такая худущая. А дом!
— Красивый особняк, — оценивающе произнес отец, изучая фаянсовые изразцы и окружающие холмы.
В Ниле мерцало отражение дома, а встающее солнце забрызгало воду золотом. Фиванцы с обеих сторон реки уже глазели в окна, распознав на барке царские цвета и гадая, кто же это посетил город.
— Ипу! Найди лист папируса и напиши, что я сегодня не принимаю посетителей! — распорядилась я. — И повесь на дверь!
Слуги остались позади, у корабля, а я повела мать и отца через сад. Отец торжественно поздоровался с Нахтмином.
— Ну, рассказывай, что происходит в Фивах, — сказал он.
Я не стала слушать, о чем они говорят. Я это уже знала. А пока они беседовали на веранде за жареным гусем и вином с пряностями, мы с матерью сидели в саду. Мать посмотрела вниз, на Нил, мысленно сравнивая увиденное с Амарной.
— Здесь как-то красивее, — сказала она.
— Фивы старше. Здесь меньше показной пышности и спешки.
— Да. В Амарне все куда-то спешат, — согласилась она.
— А как там Нефертити? — спросила я, поднимая чашу.
Мать вздохнула:
— По-прежнему сильна.
«В смысле — по-прежнему честолюбива».
— А мои племянницы?
— Даже будь они дочерьми самой Исиды — их и то не баловали бы больше. Ни одна лошадь или колесница не достаточно хороши для них. — Мать прищелкнула языком.
— Это скверный способ учить их.
— Я говорила Нефертити об этом, но она меня не слушает. — Мать понизила голос, хотя здесь, в саду, ее никто не слышал, кроме меня. — Ты слышала про Миттани?
— Да. — Я прикрыла глаза. — И мы не послали солдат им на помощь, — предположила я.
— Ни единого человека, — прошептала мать. — Потому твой отец и приехал сюда, Мутноджмет.
Я выпрямилась.
— Разве он приехал не затем, чтобы повидаться со мной?
— Конечно, за этим, — быстро произнесла мать. — Но еще и затем, чтобы поговорить с Нахтмином. Народ видит в нем героя, и он для нас — ценный союзник. Ты мудро поступила, выбрав его в мужья.
— Потому что теперь он может помочь нам? — с горечью спросила я.
И тут же пожалела о своем тоне. Мать, ничуть не превосходившая меня ни в хитрости, ни в претенциозности, отшатнулась.
— Если царствование Эхнатона завершится крахом, он будет нужен Египту.
— А под Египтом ты понимаешь нашу семью.
Мать поставила чашу и, перегнувшись через стол, положила ладонь поверх моей.
— Это твоя судьба, Мутноджмет. Путь к трону Гора был проложен задолго до твоего рождения и рождения Нефертити. Это было судьбой вашей бабушки, и матери бабушки, и матери ее матери. Ты можешь принять ее или опуститься вниз и измотать себя во всеобщей гонке.
Я подумала об отце: как он сидит сейчас на веранде с Нахтмином, интригует, плетет свою паутину, чтобы опутать нас и привести обратно в Амарну.
— Нефертити всегда будет царицей, — продолжала мать. — Но ей нужен — сын. Ей нужен наследник, чтобы быть уверенной, что Небнефер никогда не будет править Египтом.
— Но у нее лишь царевны.
— Надежда еще есть, — произнесла мать, и что-то в ее тоне заставило меня податься вперед.
— Она…
Мать кивнула.
— Через три месяца после рождения Анхесенпаатон?
У меня задрожали губы. На этот раз наверняка будет мальчик, о Небнефере все позабудут, и наша семья будет в безопасности. Так значит, Нефертити беременна четвертым ребенком. Четвертым.
— Ох, Мутноджмет! Не плачь…
Мать обняла меня.
— Я не плачу, — отозвалась я, но слезы потекли сильнее, и я уткнулась лицом ей в грудь. — Но ты не разочарована, мават? Не страдаешь оттого, что у тебя никогда не будет внука?
— Тсс! — Она погладила меня по голове. — Мне безразлично, сколько у тебя будет детей, один или десять.
— Но у меня нет ни одного! — вскрикнула я. — Разве Нахтмин не заслужил ребенка?
— Это в воле богов, — решительно произнесла мать. — И заслуги тут ни при чем.
Я вытерла слезы. Нахтмин с отцом вышли в сад; оба они были мрачны.
— Сегодня вечером мы встречаемся с бывшими жрецами Амона, — сообщил отец.
— У меня в доме?! — воскликнула я.
— Мутноджмет, Миттани сожжена дотла, — сказал Нахтмин.
Я в ужасе посмотрела на отца.
— Но не следует ли тебе, в таком случае, быть в Амарне? Царь Миттани будет просить солдат. Уж теперь-то наверняка…
— Нет. Сейчас мне лучше быть здесь и заняться планами, на которые в Амарне может не оказаться времени.
Я вздрогнула.
— А Нефертити знает, что ты делаешь?
— Она знает то, что хочет знать.
Следующим вечером, когда в небе висел тонкий серпик луны, слуги родителей перенесли длинный стол из кухни на середину крытой веранды. Ипу застелила его красивой скатертью и достала наше лучшее вино, развела огонь в жаровнях и бросила на угли палочки корицы. Я надела свой лучший парик и серьги, а Нахтмин отправился к подножию нашего холма, покараулить. Затем начали появляться люди в плащах с надвинутыми капюшонами и в позолоченных сандалиях: я с детства привыкла слышать имена этих людей, произносимые с величайшим почтением. Их лысые головы блестели в свете масляных ламп. Они бесшумно входили в дверь и обращались к Ипу с почтительным приветствием от имени Амона.
— Сколько будет мужчин? — спросила я у отца.
— Около пяти десятков, — ответил он.
— А женщин?
— Восемь-девять. Большинство наших сегодняшних гостей были прежде жрецами Амона. Они — влиятельные люди, — многозначительно произнес отец, — и они до сих пор поклоняются богу в тайных святилищах.
Никакого официального приветствия не было. Когда отец решил, что все в сборе, он выскользнул в темноту, за Нахтмином, потом вернулся. Он уселся на подушку, скрестив ноги, и объявил:
— Меня здесь знают все, я — визирь Эйе. Бывшего военачальника Нахтмина вы тоже знаете.
Мой муж коротко поклонился.
— Моя жена.
Мать мягко улыбнулась.
— И моя дочь, госпожа Мутноджмет.
Шестьдесят безмолвных лиц повернулись ко мне, глядя мне в глаза в трепещущем свете ламп. Я склонила голову, тяжелую и нескладную из-за парика. Я знала, что они сравнивают меня с Нефертити: мою темную кожу с ее светлой, мои простые черты с ее чеканными.
— Все мы знаем, что Миттани подверглась нападению, — продолжал тем временем отец. — Хетты перешли через Евфрат и захватили Халеб, Мукиш, Нию, Ахарати, Апину и Катну.
Присутствующие зашевелились.
— Но фараон Эхнатон уповает на договор, который он подписал с хеттским царем.
Веранду заполнили негодующие голоса.
— Вы говорили о мятеже, — обратился Нахтмин к людям, взирающим на моего отца с тревогой, — и визирь Эйе на нашей стороне. Он хочет сражаться с хеттами, он хочет освободить военачальника Хоремхеба из тюрьмы, он хочет вернуться к великому богу Амону — но сейчас не, время для мятежа.
Присутствующие неодобрительно загудели, гневно вскинув бритые головы.
— Я не желаю быть фараоном, а моя жена не желает быть царицей.
— Тогда возведите на трон Эйе! — громко заявил один из жрецов.
Отец встал.
— Моя дочь — царица Египта, — ответил он. — Народ Амарны поддерживает ее и желает, чтобы она владела посохом и цепом. Я тоже поддерживаю ее.
— А кто поддерживает фараона? — выкрикнул кто-то.
— Мы все должны это делать. Через него Египту будет дарован наследник. Царица, — объявил отец, — снова ждет дитя.
— Нам следует надеяться на рождение сына, — тихо добавил Нахтмин.
— Надежда никуда нас не привела! — перебил его мужчина с золотыми серьгами. Он встал, и стало видно, что на нем одежда из очень хорошего льна. — Во времена Старшего я был верховным жрецом Мемфиса. Когда Старший ушел в объятия Осириса, я надеялся вернуться в свой храм. Я надеялся, что мне не придется идти работать писцом, чтобы заработать на пропитание, но надежда ничего мне не дала. Мне повезло, что я был человеком бережливым, но не все могут сказать это о себе. — Он взмахнул рукой, унизанной браслетами. — Могли ли египтяне предвидеть, что произойдет после смерти Старшего? Новая религия, новая столица. Большинство из тех, кто собрался здесь, потеряли все. Визирь, мы не беспомощны, — предупредил он. — У нас сыновья в армии и дочери в позабытом фараоном гареме. Мы надеялись, что твоя дочь приведет Египет в чувство, но мы устали надеяться. Мы устали ждать.
Он сел, и мой отец заговорил, обращаясь к нему.
— Но вы должны ждать, — просто произнес он. — Наша встреча — это уже государственная измена, — отец понизил голос, — но предлагать свергнуть фараона — это еще опаснее. Свергнув фараона, мы подадим ужасный пример на будущее. Царица Египта заботится о своем народе.
— Ну да, в Амарне. А как насчет Фив? — сердито спросил бывший жрец.
— Дойдет черед и до Фив, — пообещал отец.
— Когда? — Какая-то старая женщина поднялась со своего места. — Когда я уйду в объятия Осириса? Но тогда будет слишком поздно!
Она оперлась на трость из черного дерева и посмотрела на отца.
— Ты знаешь, кто я?
Отец почтительно кивнул.
— Я была нянькой царевича Тутмоса. Я ухаживала за ним до самого его смертного ложа. И всем, кто пришел сюда, известна история о том, что я видела в ту ночь.
Присутствующие беспокойно заерзали.
— Простыни, на которых лежал царевич, — продолжала старуха, — были смяты и перепутаны, а на подушке остались следы зубов!
Я в ужасе посмотрела на отца. Тот дал старухе закончить повествование о братоубийстве.
— Эхнатон выгнал меня из Мальгатты сразу после похорон брата. Он мог бы убить и меня, но решил, что я стара и никчемна. И кто теперь возьмет меня на службу, няньку мертвого царевича?! — воскликнула она.
Старуха села, и на веранде воцарилось потрясенное молчание. Я затаила дыхание. Эта женщина только что обвинила фараона в убийстве.
— У всех нас есть какие-то деяния, что будут тяжелы на весах Осириса, и иные из них тяжелее других, — отозвался Нахтмин. — Всем нам причинили зло. Все мы вели борьбу с момента смерти Старшего, и всех нас созвали сюда, чтобы напомнить, что судьба в воле богов, а не бывших жрецов Амона. Мы должны ждать, пока у царицы родится царевич и визирь Эйе вырастит из него солдата, достойного Египта.
— Но это же еще пятнадцать лет! — хором воскликнули несколько человек.
— Возможно, — признал отец. — Но знайте, что я на вашей стороне, как и моя дочь, царица Нефернеферуатон-Нефертити. Амон не будет навечно потерян для Египта.
Он встал, давая понять, что встреча окончена.
Гости в плащах уважительно поклонились моей семье. Когда они ушли, я шепотом призналась Нахтмину:
— Что-то я не понимаю, как эта встреча может предотвратить мятеж.
— Теперь, зная, что Амон жив в сердце ближайшего советника Эхнатона, эти люди уже не будут настолько стремиться развязать войну против фараона, — ответил Нахтмин. — Египтяне, в конце концов, терпеливый народ. Худшее уже позади. Теперь им нужно только ждать перемен.
Нахтмин погладил меня по плечу.
— Не переживай, мив-шер. Твой отец знает, что делает. Он хотел успокоить их страхи, дать им знать, что будущее не настолько беспросветно, как кажется, — до тех пор, пока он на своем месте и придает ему форму. А кроме того, они увидели здесь тебя, его вторую дочь, вместе с бывшим военачальником, желающим сражаться против хеттов, и это сказало им о многом.
— О чем же?
— О том, что не все египтяне подпали под чары Амарны. Что надежда — в царской семье.
Родители пробыли у нас до конца пахона, а когда им пришло время уезжать, я закусила губу и пообещала себе не плакать, хотя и знала, что теперь они приедут не скоро.
23
 1346 год до н. э.
Перет. Сезон роста
1346 год до н. э.
Перет. Сезон роста
Вести о приближающихся родах Нефертити пришли в первом месяце перета, только на этот раз мне не было велено присутствовать. Если моя сестра умрет, меня даже не будет там, чтобы попрощаться.
Я отправилась к себе в лавку, Нахтмин последовал за мной. Он уселся на ярко-оранжевую подушку для посетителей и стал смотреть, как я сняла с полки ящичек с корицей, прогоняющей вшей и наполняющей дом благоуханием. Корица была для женщины, приходящей раз в десять дней, в одно и то же время; она была дочерью уважаемого писца, который мог позволить себе покупать подобные предметы роскоши из Пунта.
Нахтмин все смотрел на меня. Я обернулась к нему.
— Я редко вижу, как ты работаешь, — объяснил он. — Меня вечно нет дома.
Кожа его потемнела — он много занимался с местными солдатами, — и сочетание с цветом волос и глаз было просто потрясающее. Я была уверена, что мужчины красивее не существует. Нахтмин встал и обнял меня.
— Я рад, что ты не едешь в Амарну, — признался он, целуя меня в шею. — Я очень скучал по тебе, когда ты уезжала.
Пока мы ждали новостей из Амарны, однажды вечером, когда мы с Нахтмином гуляли по берегу Нила, пришли совсем другие вести. Мы говорили о том, какими же мужественными должны быть солдаты Миттани, чтобы продолжать сражаться с хеттами, когда половина их городов уже потеряна. Свет заходящего солнца играл на водах реки, и то и дело в тихом вечернем воздухе разносился громкий плеск — это рыбы выпрыгивали из воды. А потом на берегу реки показалась Ипу, наряженная в свое лучшее платье, и помчалась к нам. Подняв средний палец, она воскликнула:
— Я выхожу замуж!
Мы остановились. Нахтмин первым поздравил мою служанку, обнял ее и пообещал, что мы устроим для нее такой пир, какого Фивы еще не видали.
Я взяла ее за руку, посмотреть на кольцо. Оно было золотым и массивным и стоило, должно быть, трехмесячного жалованья.
— Когда это случилось?
— Сегодня днем! — У Ипу запылали щеки. — Я пришла к нему в лавку, а он дал мне маленькую лодку, которую сам вырезал. Он сказал, что когда-нибудь мы поплывем на такой же лодке. А потом велел заглянуть в маленькую каюту, и там лежало это кольцо.
— Ох, Ипу! Нам нужно немедленно начинать готовить празднество! Когда вы собрались пожениться?
— В конце тиби.
— Как скоро! — вырвалось у меня.
Ипу улыбнулась:
— Я знаю. Но я тебя не оставлю.
— Я не это…
— А я именно об этом. Его дом не так уж далеко отсюда. Я буду приходить каждое утро и уходить к тому времени, когда он будет возвращаться из лавки, — пообещала Ипу.
Свадебный пир Ипу был назначен на десятое тиби, благоприятный день. В этот день я нарядила ее в платье из лучшего фиванского льна, накрасила ей глаза и дала на время золотое ожерелье, обильно украшенное бирюзой. В ушах у Ипу были голубые фаянсовые серьги, а в волосах — голубой нильский цветок. Пришедшие женщины накрасили ей ладони и груди хной, и, когда Нахтмин вошел в наши покои, он громко присвистнул.
— Невеста — соперница Исиды, — отпустил он комплимент.
Ипу посмотрелась в зеркало из полированной бронзы.
— Вот бы мама меня увидела… — прошептала она, положив зеркало и подняв руку так, чтобы драгоценные украшения заблестели в лучах заката.
— Она гордилась бы тобой, — сказала я, взяв ее за руку. — И я уверена, что ее ка смотрит на тебя.
Ипу сглотнула слезы.
— Да, я тоже так думаю.
— Ну идем же, Джеди ждет.
В сумерках по Нилу плыли баржи. Триста человек наблюдали за ними из нашего двора. Треугольные паруса в сумерках напоминали белых мотыльков. Мне стало любопытно: а знает ли Ипу всех этих гостей, мужчин и женщин, детей и стариков? Вдоль дорожки сада горели лампы, и весь вечер люди приходили и уходили, приносили молодоженам в подарок золото и пряности, целовали Ипу в лоб и гладили по животу, благословляя ее чрево. Я смотрела на это все, и мое настроение то поднималось, то падало, словно на весах Анубиса.
— Ты жалеешь, что у тебя всего этого не было? — спросил меня во время празднования Нахтмин.
Вокруг стояли столы с жареными гусями, приправленными чесноком, с цветами лотоса в меду и с ячменным хлебом. Вино всю ночь текло рекой, и женщины танцевали под пение флейт.
Я улыбнулась и взяла мужа за руку. Она была загрубевшей, не то что у моего отца, но она была и сильной.
— Я бы не променяла тебя на все дары Фив.
Появились Ипу с Джеди, с цветами в волосах и с такими довольными лицами, какие бывают только у молодоженов.
— За хозяев этого дома! — воскликнул Джеди, перекрывая шум, и сотни гостей подняли свои чаши за нас, а музыканты завели радостную мелодию.
— Давайте танцевать! — воскликнула Ипу.
Я протянула руку Нахтмину, и мы прошли через двор туда, где люди хлопали в ладоши, гремели систрумами и смотрели на молодых танцовщиц-нубиек. Их тела при свете факелов напоминали отполированное черное дерево. Танцовщицы одновременно прогибались и подпрыгивали под восхищенные возгласы.
Если бы кто-нибудь посмотрел на нас с другого берега Нила, он увидел бы сотни мерцающих огоньков на темно-синем фоне, поднимающихся ярусами вокруг дома, что принадлежит сестре главной жены царя. Празднование длилось до раннего утра, когда за самыми важными гостями прибыли носилки, чтобы развезти их по домам. Когда двор наконец-то опустел, я впервые со времен детства провела ночь не в обществе Ипу.
На следующее утро прибыл слуга из Амарны. Он протянул мне свиток, который я не хотела читать.
— Что в нем написано?
Я затаила дыхание. Юноша помрачнел.
— Царица родила царевну Неферуатон. Обе они живы.
Четвертая царевна.
24
 1345 год до н. э.
7 moma
1345 год до н. э.
7 moma
Восемь долгих месяцев после рождения четвертой дочери Нефертити Египет терзала засуха. Горячий ветер дул над иссохшей землей, сжигая посевы и вытягивая жизнь из Нила. Так начался сезон перет. Сперва вместо холодного ночного воздуха из пустыни стало тянуть теплым ветерком. Затем жара вторглась в тень, прокравшись повсюду, где должна была бы царить прохлада, и старики начали спускаться к реке, чтобы постоять в воде под испепеляющим солнцем и поплескать водой в лицо.
У колодцев женщины, а у городских храмов мужчины стали поговаривать, что фараон отвернулся от Амона-Ра, и теперь великий бог жизни дал волю гневу и обрушил на нас засуху — от нее у наших соседей уже передохла половина скота, а дети рыбаков начали побираться на улицах. Один лишь Джеди, казалось, не обращал внимания на голод и говорил Ипу, что теперь самое время отправляться в плавание, что они могут подняться вверх по Нилу до Пунта и вернуться с сокровищами, что ценнее любой рыбы: с черным деревом, корицей и золотом.
— Но Ипу — не матрос! — воскликнула я. — Она умрет в Пунте!
Нахтмин посмеялся надо мной.
— Джеди — способный человек. Он наймет матросов, а торговцы вложат деньги в его экспедицию.
— Но Ипу хочет детей, — пожаловалась я.
Нахтмин пожал плечами:
— Значит, она обзаведется ими в Пунте.
От чудовищности этого мнения я лишилась дара речи.
— Она сама выбрала эту жизнь, — напомнил Нахтмин, — и лично я попрощался бы с ней еще до утра.
Я отправилась к Ипу с тяжелым сердцем. Я теряла свою ближайшую подругу. Ипу была со мной с тех самых пор, как я впервые переступила порог Мальгатты, — и вот теперь она отправлялась в путешествие в чужедальние земли, откуда могла вовсе не вернуться. Я тихо сидела и смотрела, как моя служанка, которая была больше чем просто служанкой, складывала одежду в корзины и заворачивала косметику в папирус.
— Я еду не на край земли, — попыталась уговорить меня Ипу.
— А ты хоть знаешь, как там, в Пунте, обращаются с женщинами? Откуда ты знаешь, что не так, как в Вавилоне?
— Оттуда, что египтяне уже бывали там.
— И египтянки?
— Да. Во времена фараона Хатшепсут Пунтом правила женщина.
— Но это было во времена Хатшепсут. А кроме того, ты никогда не плавала на корабле подолгу. Откуда ты знаешь, что тебя не будет тошнить?
— Я возьму с собой имбирь. — Ипу взяла меня за руку. — И я буду осторожна. Когда я вернусь, то привезу тебе травы, которых никогда не видали в Фивах. Я обыщу там для тебя все местные рынки.
Я кивнула, пытаясь примириться с тем, чего я все равно не могла изменить. Я заставила Ипу еще раз пообещать, что она будет беречь себя.
— И не смей рожать ребенка в чужих краях, без меня!
Ипу рассмеялась:
— Я скажу ему, чтобы он подождал возвращения к крестной.
На следующее утро они с Джеди отплыли на своем корабле, полном матросов и торговцев, в землю, что казалась нам, египтянам, далекой, словно солнце.
— Не так уж это и далеко, как тебе кажется, — сказал мне на следующее утро муж. Он сидел во дворе и точил наконечники стрел. — Она вернется еще до следующего ахета, — пообещал Нахтмин.
— Через год? — вырвалось у меня. — Но что я буду делать без нее?
Я уселась на пень упавшей пальмы; мне было очень жаль себя.
Нахтмин поднял голову и расплылся в улыбке.
— Ну, пожалуй, я могу придумать, что нам делать, пока Ипу в отъезде.
Мне показалось, что он даже рад на некоторое время избавиться от непрестанной болтовни Ипу.
Но мои месячные так и продолжали приходить каждую луну.
Я выращивала мандрагору, я добавляла мед в чай, я каждое утро посещала святилище Таварет в городе и возлагала к ее ногам отборные травы из моего сада. Я начала смиряться с тем, что никогда не подарю Нахтмину детей, которых он так желает. Я никогда больше не понесу. А Нахтмин, вместо того чтобы отвернуться от меня, как сделали бы большинство мужей, сказал лишь:
— Значит, вместо этого боги предназначили тебе делать плодородной землю, — и погладил меня по щеке.
Но в глазах его горел огонь, и мне стало страшно. Ведь только из-за меня и моей семьи Нахтмин отказался избавить Египет от человека, которому вообще не следовало становиться фараоном. Однако же он никогда ничего не говорил о письмах, которые слали ему солдаты из войска Эхнатона. Нахтмин лишь обнял меня, привлек к себе и спросил, не хочу ли я погулять вдоль реки.
— Пока она не исчезла, — пошутил он.
— Я слышала, как жрицы в святилище переговаривались между собой, — сказала я ему. — Они думают, что эта засуха — результат каких-то дел фараона.
Нахтмин не стал спорить. Он открыл ворота сада, мы прошли через них и спустились к воде, благо до нее было недалеко.
— Он презрел Амона и всех прочих богов.
Мы посмотрели на реку. На обнажившиеся берега, на детей, что играли голышом, бросали друг другу мяч и смеялись, пока родители наблюдали за ними, прячась под навесами. Трое женщин почтительно кивнули нам, когда мы прошли мимо, и Нахтмин сказал:
— Просто поразительно, сколько могут вытерпеть египтяне, прежде чем восстать.
Он повернулся ко мне, освещенный заходящим солнцем.
— Я говорю тебе об этом, Мутноджмет, потому что люблю тебя и потому что твой отец — великий человек, вынужденный служить вероломному фараону. Люди не вечно будут кланяться, и я хочу быть уверенным, что тебя не раздавят. Ты будешь готова.
От его слов мне сделалось страшно.
— Пообещай мне, что ты не станешь принимать глупых решений, — настойчиво произнес Нахтмин. — Пообещай, что, когда придет время, ты будешь принимать решение, думая и о нас двоих, а не только о твоей семье.
— Нахтмин, я не понимаю, о чем ты…
— Но ты поймешь. И я хочу, чтобы тогда ты вспомнила этот момент.
Я посмотрела на сузившийся Нил, на блестящее на воде солнце. Потом перевела взгляд на Нахтмина, ожидавшего моего ответа, и сказала:
— Обещаю.
25
 1344 год до н. э.
Ахет. Сезон разлива
1344 год до н. э.
Ахет. Сезон разлива
Муж больше не напоминал мне о моем обещании, сделанном на берегу реки, и я и сама не заметила, как прошли перет и шему и прибыла весть о том, что в порт вошел корабль Джеди. Я надела свой лучший парик и самый красивый пояс.
Нахтмин приподнял брови:
— Ты, похоже, решила, что это приехала царица.
Мы поехали в порт и отыскали там корабль Джеди — такой же большой и внушительный, каким он мне запомнился. В воздухе сильно пахло жареным кумином. Нам пришлось проталкиваться через толпу: люди сбились на пристани в кучу, словно рыбы в стае. Многие из них пришли, чтобы увидеть своих близких. В тот день тота с Джеди уплыло больше пятидесяти матросов, и теперь их жены толпились здесь, с цветами в волосах. Когда я разглядела на палубе Ипу, то ахнула. Она ждала ребенка!
— Госпожа! — Ипу пробилась ко мне через толчею. — Госпожа!
Она повисла у меня на шее, а мне еле-еле хватило рук, чтобы обнять ее.
— Гляди! — Ипу, улыбнувшись, показала на свой круглый живот. — Он подождал тебя.
— Сколько месяцев? — спросила я.
— Почти девять.
— Девять, — повторила я.
Мне просто не верилось. Ипу, моя Ипу, ждет ребенка.
Ипу повернулась к Нахтмину.
— Я думала о тебе по дороге, — призналась она. — На берегах Пунта солдаты носят оружие, совершенно не похожее на египетское. Мой муж привез тебе образцы. Самые разные. Из черного дерева и кедра. И даже одну штуку из металла, который они называют железом.
Ипу положила руку на круглый живот. Я никогда еще не видела ее более цветущей.
— Может, вы бы пошли вдвоем домой? — мягко предложил Нахтмин. — Я могу остаться тут, помочь Джеди, а вы пока поговорите. Здесь не место для женщины на девятом месяце беременности.
Я отвела Ипу в дом, где она не была почти целый год. По пути она рассказывала мне о земле, где живут люди с кожей более темной, чем у египтян, но более светлой, чем у нубийцев.
— И они носят в волосах странные украшения. Из бронзы и слоновой кости. Чем богаче женщина, тем больше амулетов она носит.
— А травы? — нетерпеливо спросила я.
— Ох, госпожа, ты никогда не видела таких трав! Джеди привез для тебя целый сундук с травами.
Я захлопала в ладоши.
— А ты расспросила местных женщин, для чего они?
— И большую часть записала, — отозвалась Ипу. Тут мы подошли к ее дому, и Ипу замедлила шаги. Она в немом изумлении уставилась на двухэтажный дом с коричневой отделкой вокруг окон и дверей.
— Я успела позабыть, как это здорово — быть дома, — сказала она, держась за живот, и меня затопило непривычное мне ощущение зависти.
В доме было очень тихо — такую тишину мне доводилось встречать только в гробницах Фив. Ипу посмотрела на статуи Амона; все было на тех же местах, где она их оставила. Все осталось точно таким же, если не считать тонкого слоя пыли. И самой Ипу. Первой заговорила я:
— Надо убрать все эти занавески, пусть будет посветлее.
Я стала подвязывать плетенные из тростника занавески, а Ипу смотрела на меня. Я обернулась.
— Что случилось?
Ипу опустилась на скамью, положив руки на живот:
— Мне так нехорошо, что это я буду рожать! Я так хотела, чтобы у тебя был ребенок!
— Ох, Ипу, — с нежностью произнесла я и обняла ее. — Это в воле богов. На все есть какая-то причина.
— Но какая? — с горечью спросила Ипу. — Что это может быть за причина? Я молилась за тебя, когда была там, — созналась она. — Местной богине.
Я ахнула:
— Ипу!
— Хуже от этого не будет, — твердо заявила она, и в голосе ее звучала такая серьезность, какую мне редко доводилось слышать от нее.
Мы посмотрели друг на друга в солнечном свете, пробивающемся через занавески, и я сказала:
— Ты хороший друг, Ипу.
— И ты, госпожа.
Мы принялись беседовать и попутно убирать: вытряхивать пыль с настенных драпировок и отмывать полы. Ипу рассказала обо всех ее приключениях на Ниле. Они сперва поднялись вверх по реке до Котпоса, потом, оставив корабль на попечение одного из матросов, отправились с караваном на восток, по Вади-Хаммамат. Когда они добрались до побережья, Джеди купил три лодки для всех тех товаров, которые он намеревался привезти обратно, они наняли еще матросов и отправились на юг. Ипу вспомнила, как одного из их людей, когда он пошел искупаться, чуть не убил крокодил и как ей всю ночь не давало спать хриплое урчание гиппопотамов.
— И ты не боялась?
— Там был Джеди и пятьдесят вооруженных матросов. На воде там бояться нечего, кроме животных, а когда мы заплыли дальше на юг, там стали встречаться такие животные, каких ты никогда не видела.
Я опустила запыленный подол.
— Например?
— Например, змеи длиной с эту комнату и кошки величиной… — Ипу оглядела веранду. — Величиной с этот стол.
У меня глаза полезли на лоб.
— Больше, чем их изваяния в храме Амона?
— Намного больше.
Потом она принялась описывать великолепные травы, которые ей удалось отыскать, и корицу — они привезли полные сундуки корицы.
— Мы ходили повсюду, госпожа. Там женщины не ездят в носилках. Только на ослах. А когда я округлилась, мне было легче ходить, чем ездить.
Джеди позволял ей посещать чужеземные рынки, где женщины продавали темные стручки, пахнущие имбирем и лимоном, — ими приправляли медовые лепешки и хлеб. Ипу видела взрослых мужчин ростом с ребенка и высоких пятнистых животных, объедающих листья с верхушек деревьев. Женщины продавали пряности и ароматные чаи, и на рынке царили шафраново-желтый, землисто-фиолетовый и огненно-красный цвета.
— Как их одежда.
— А что, там все носят красное?
— Только богатые. Там не так, как в Египте, — объяснила Ипу.
В Египте все, и бедные, и богатые, носили белое.
Когда с пристани пришли Джеди с Нахтмином, следом за ними тянулись матросы, тащившие сундуки с товарами. Дом заполонил запах кедра. Мы уселись на веранде и стали разглядывать необычные находки и слушать связанные с ними истории. Там была шкатулка из слоновой кости, с травами, которые Ипу собрала сама, и деревянный ящик с оружием для Нахтмина. Еще Ипу привезла для меня ярко-синее платье. Остальное были вещи для дома и украшения для будущего ребенка. Это должно было стать его наследством: слоновая кость и золото из страны Пунт.
Тем вечером мы хорошо поели и просидели до утра, слушая, как хохочет Джеди, рассказывая про одного матроса: он съел какое-то местное блюдо, а
потом целый день не мог отойти от ямы — в отличие от Египта, туалетов в Пунте не знали. Джеди с Ипу хохотали, вторя друг другу, и, когда мы отправились домой, унося мою шкатулку с травами и новое оружие Нахтмина, нам казалось, будто они никогда и не уезжали.
В Египте говорят, что, когда удача решит взглянуть на тебя, она делает это трижды, по разу на каждую часть глаза Гора: верхнее веко, нижнее веко и сам глаз. На следующее утро после того, как к нам вернулась Ипу на девятом месяце беременности, закончилась засуха. С неба обрушились ливни; тяжелые капли барабанили по водам Нила и собирались в лужи на полях. А вечером, когда Нахтмин ужинал у жаровни, а я болтала с Ипу, прибыл гонец из Амарны и привез свиток с печатью моей семьи. Джеди, отворивший дверь гонцу, передал свиток мне, и глаза у него были круглые от любопытства. Он, наверное, никогда не видел печати визиря: тяжелый золотой воск и лучший папирус, растущий только в дельте Нила. Я тут же вскрыла послание и прочла его вслух.
«Твоя сестра тяжело переносит новую беременность, и жрицы Атона надеются, что это двойня — либо признак царевича. Но она часто плохо себя чувствует и зовет тебя сюда. Нахтмин тоже приглашен».
Ипу ахнула:
— Пятый ребенок?!
Я понимала, что она имеет в виду. Только царицу боги могли благословить такой плодовитостью. Каждый год Нефертити рожала по ребенку, хоть в дождь, хоть в засуху. И у меня внезапно на глаза навернулись слезы.
Нахтмин поставил чашу.
— Мив-шер… — с нежностью произнес он.
Я в смущении смахнула слезы.
— Ты можешь ехать, — сказала я. — Отец не позволил бы матери отправить такое письмо, если бы думал, что тебе грозит опасность. Ты поедешь? — спросила я его.
Нахтмин заколебался, но когда увидел, с какой надеждой я смотрю на него, то ответил:
— Конечно поеду. Мы отплывем сразу же после того, как Ипу отправится в павильон для родов.
Я тут же написала ответ, сообщив матери, что мы отправимся в путь, как только Ипу родит. «Это будет не позднее чем через пятнадцать дней», — сообщила я. Письмо было доставлено быстро, потому что через пять дней пришло другое, написанное рукой Нефертити.
«Ты хочешь дожидаться рождения твоего крестника, в то время как на свет должна появиться твоя племянница, царевна Египта? Я плохо себя чувствую каждое утро и не сплю по ночам, а ты хочешь сидеть в Фивах до атира, когда я, быть может, уже умру?»
Я так и услышала ее обвиняющий голос. Если она умрет, а меня там не будет, чтобы благословить ее, ее ка никогда не обретет покоя. Я дочитала письмо.
«Я знаю, что ты не бросишь меня, когда Анубис стоит у моего порога, поэтому я посылаю корабль. Он отвезет тебя в Амарну как можно быстрее. И поскольку я знаю, что ты не поедешь без Нахтмина, он тоже приглашен. Вы можете занять покои для гостей, те, что возле Зала приемов».
Я скомкала свиток.
— Опять началось! Она послала корабль. Но я не уеду, пока не увижу, как благословят моего крестника, — решительно заявила я.
Ипу покачала головой:
— На этот раз твоя сестра права, госпожа. Ты должна отправиться в путь, как только придет корабль. Если царица носит двойню…
Она сочувственно развела руками.
Нахтмин кивнул.
— Думаю, тебе не надо напоминать, как умерла моя мать, — мягко произнес он. — И ни один из моих братьев не выжил.
Делать было нечего — мне приходилось возвращаться в Амарну, в город, из которого меня изгнали.
— А вдруг роды Ипу закончатся плохо? — прошептала я.
Нахтмин повернулся в темноте. Изображения Таварет, вырезанные на столбиках кровати, благожелательно взирали на нас в лунном свете.
— Мутноджмет, ты же знаешь, что говорят лекари.
Он коснулся моего лба большим пальцем, чтобы прогнать тревогу.
— Они думают, что Ипу родит в ближайшие семь дней. Но они могут ошибаться. — Я прикусила губу и с беспокойством подумала о корабле Нефертити, приближающемся к Фивам. — А вдруг корабль придет, а Ипу еще не родит?
Я все не спала, думая, как бы задержать корабль. Нефертити еще несколько месяцев до родов. Она может подождать. Если Ипу не родит в ближайшие несколько дней…
Но мое беспокойство оказалось напрасным. На следующее утро Ипу отправилась в родильный павильон, построенный для нее Джеди и примыкающий к их дому. Все утро у нее продолжались схватки, и она кричала. За резной дверью Нахтмин утешал Джеди, а Ипу, вцепившись в мою руку, заставила меня пообещать, что, если она не останется в живых, я позабочусь о ребенке, кто бы это ни был, мальчик или девочка.
— Не говори глупостей! — сказала я Ипу, убирая густые волосы с ее лица, но она все равно заставила меня поклясться.
Так что я дала клятву, но исполнять ее не потребовалось. К вечеру все завершилось, и Джеди стал отцом крепкого мальчишки.
— Ты только глянь, какой он тяжелый! — похвалила я спеленатого младенца и вручила его Ипу. Младенец вопил на всю комнату. — Как ты его назовешь?
Ипу посмотрела на окровавленные простыни. Снаружи было слышно, как празднуют радостное событие Нахтмин и Джеди.
— Камосес, — сказала она.
Ожидая корабля Нефертити, я целыми днями сидела с Ипу, наблюдала за ней с Камосесом и завидовала, глядя, как она купает его, укачивает и любуется тем, как он дышит во сне. И хотя малыш оказался беспокойный, у меня ныло внутри, когда я смотрела, как он сосет грудь и мордашка у него довольная-предовольная.
По вечерам я возвращалась домой, к Нахтмину, и мы вместе ложились в постель и проводили ночи, пытаясь зачать нашего собственного сына. В нашу последнюю ночь в Фивах Нахтмин убрал волосы с моего лица.
— Если у нас никогда не будет ребенка, я смирюсь с этим. Но ты, мив-шер, не смиришься. Я это вижу.
Я смахнула слезы.
— Разве ты не хочешь сына?
— Хочу. Или дочь. Но это — дар богов.
— Дар, который мы отправили обратно!
— Нет. Который был украден, — поправил он, и голос его был мрачен.
— Иногда я вижу во сне ребенка, — сказала я, повернулась к мужу, и он утер мне слезы. — Как ты думаешь, это что-нибудь значит?
— Боги посылают нам сны не просто так.
На следующий день за нами пришла баржа, но покидать Фивы оказалось труднее, чем раньше. Мы помахали оставшимся на пристани Ипу и Джеди: они с гордостью новоиспеченных родителей время от времени передавали Камосеса друг другу. Они должны были присматривать за домом в наше отсутствие, ухаживать за садом и кормить Бастета. Ипу обещала обслуживать женщин, которые будут приходить за медом и акацией. Она уже девять лет помогала мне возиться с травами, и я пообещала хорошо заплатить ей.
— Ты вовсе не обязана платить мне, госпожа, — возразила Ипу.
Но я не согласилась:
— Это будет лишь справедливо. Мы можем задержаться там на несколько месяцев.
Я стояла на носу корабля, щурясь от яркого солнечного света, и понятия не имела ни как долго мы пробудем в Амарне, ни при каких обстоятельствах вернемся.
Мы прибыли в Амарну, когда теплое осеннее солнце клонилось к горизонту. Мы стояли на палубе, и я поразилась до глубины души, увидев, как разросся город и каким красивым он стал. За нами прислали носилки, и мы, укрывшись от солнца за льняными занавесками, проехали через весь город к Приречному дворцу. Я раздвинула занавески и обнаружила, что на всех новых храмах и святилищах изображена Нефертити: на дверях, на стенах, в облике припавших к земле сфинксов. Нефертити была повсюду; ее лицо было высечено там, где следовало бы находиться Исиде и Хатор. А с массивных колонн, окружающих дворец, вместо Амона смотрело лицо Эхнатона. Когда носильщики опустили носилки у укрепленных ворот дворца, Нахтмин посмотрел на пилоны, потом отвернулся, перевел взгляд на город.
— Они сделали из себя богов.
Тут появился мой отец, и я поднесла палец к губам.
— Мутноджмет. Нахтмин. — Он тепло обнял моего мужа. Подойдя ко мне, он понизил голос и искренне произнес: — Мы слишком долго не виделись.
— Больше двух лет после последней встречи в Фивах.
Отец улыбнулся:
— Мать ждет тебя в родильном павильоне.
— Нефертити уже отправилась в родильный павильон?!
— Ей нездоровится, — тихо произнес отец. — На этот раз беременность дается ей тяжело.
— На четвертом месяце?
— Некоторые лекари думают, что уже шестой.
Нас провели по Приречному дворцу. Дворец выглядел точно так же, как к моменту моего отъезда. Колонны из белого известняка уходили в небо, а во внутренних двориках все цвело. Некоторые из них были засажены миртом и жасмином, и жасмин же господствовал в садах с водоемами, роняя благоуханные лепестки в воду. Мы прошли мимо Большого зала, и отец сказал:
— Вы будете жить здесь.
И указал на гостевые покои, предназначенные для иноземных дипломатов и посланцев. Я ощутила укол боли, но Нахтмин с благодарностью кивнул.
— Идем, — сказал отец. — Я отведу вас обоих в павильон.
Я посмотрела на Нахтмина:
— Но как же…
— Это Амарна, — скривившись, сказал отец. — Нефертити допускает к себе всех. Хоть женщин, хоть мужчин…
Мы вошли в родильный павильон, и там сразу же поднялся гомон. Я взглянула на лежащую в постели Нефертити. Эхнатон сидел рядом с женой и, напрягшись, с подозрением смотрел на Нахтмина. А потом нас окружили скачущие, смеющиеся дети, которым не терпелось встретиться с тетей Мутноджмет и познакомиться с дядей Нахтмином. Я посчитала и сообразила, что Меритатон уже пять лет. Ее не по летам взрослая усмешка напомнила мне Нефертити.
— Мама сказала, что ты привезла подарки, — сказала она и протянула руку.
Я посмотрела на Нахтмина. Тот приподнял брови и открыл сумку. Все подарки были завернуты в папирус, и Ипу все их подписала.
— Ну-ка, кто тут Меритатон? — спросил Нахтмин.
— Это я! — заявила самая старшая царевна. Она аккуратно взяла подарок под мышку и представила Нахтмину своих сестер. — Вот это — Мекетатон. — Она указала на полненькую кудрявую девочку. — Она всего на год младше меня. А это — Анхесенпаатон. — Меритатон указала на красивую малышку, которая стояла за спинами сестер и терпеливо ожидала подарка. — Ей два года. А это наша самая маленькая сестра, Неферуатон.
Неферуатон доковыляла к нам, и девочки получили свои подарки. Пока они лихорадочно их разворачивали, мать подошла обнять меня и расцеловала в обе щеки. Потом послышался громкий голос Меритатон.
— Я никогда не видела ничего подобного! — объявила она, и голос ее звучал так, словно ей было не пять, а все пятнадцать. — Мават! — Она подошла к постели Нефертити. — Ты когда-нибудь видела подобное?
Нефертити посмотрела на дощечку для письма, сделанную из слоновой кости; Нахтмин сделал их с помощью резчика, работающего над нашей гробницей. На дощечках были вырезаны имена царевен и сделаны подставки для кистей и неглубокие чернильницы. Моя сестра потрогала гладкие края и тоненькие кисточки, и когда она подняла голову, чтобы поблагодарить Нахтмина, взгляд ее был уже иным.
— Они прекрасны. У нас во дворце нет ничего подобного, — признала она. — Откуда это?
— Я хочу посмотреть на них, — распорядился Эхнатон.
Девочки отнесли свои таблички отцу. Фараон небрежно осмотрел их.
— Наши ремесленники могут сделать лучше.
Нахтмин почтительно склонил голову:
— Я сделал их вместе с одним резчиком из Фив.
— Очень искусная работа, — похвалила его Нефертити.
Эхнатон, побагровев, встал.
— Меритатон, Мекетатон! Мы едем на Арену!
— А военачальник с нами поедет? — спросила Меритатон.
Эхнатон остановился у двери. Все застыли. Фараон развернулся и посмотрел на Меритатон.
— Кто сказал, что этот человек был военачальником?
— Никто. — Меритатон, должно быть, услышала угрозу в голосе отца и поняла, что не стоит говорить ему правду, а правда, судя по всему, заключалась в том, что визирь Эйе до сих пор называл моего супруга военачальником. — Я просто увидела его мышцы и поняла, что он много времени работает под открытым небом.
Эхнатон сощурился:
— А почему тогда не рыбак или не художник?
Я никогда не забуду ответа Меритатон, показывавшего, сколь сообразительна она была в свои пять лет.
— Потому что наша тетя никогда бы не вышла замуж за рыбака.
На миг воцарилось напряжение, а потом Эхнатон рассмеялся и подхватил Меритатон на руки.
— Поехали на Арену, и я покажу тебе, как ездят воины! Со щитом!
— А как же я? — закричала Анхесенпаатон.
— Тебе всего два года! — отрезала Меритатон.
— Ты тоже поедешь, — объявил Эхнатон.
Когда они ушли вчетвером, отец спросил у Нахтмина:
— Может, показать тебе твои покои?
— Думаю, это было бы хорошо, — ответил мой муж.
— И мы дадим вам нескольких личных слуг на то время, что вы пробудете здесь.
Мать встала, собираясь присоединиться к ним, и Нефертити отчаянно воскликнула:
— Но ты вернешься к ужину?
— Конечно, — ответил отец таким тоном, словно иначе и быть не могло.
Я придвинула табурет к кровати Нефертити.
— У тебя красивый муж, — признала сестра. — Неудивительно, что ты предпочла его мне.
— Нефертити!.. — запротестовала было я, но Нефертити подняла руку:
— Сестры не могут быть близки вечно. Мы с Мерит стали друзьями. В этом году я сделала ее отца визирем. На должности писца он растрачивал свои способности впустую.
Я оглядела комнату.
— Она приносит мне сок. Она отлично выбирает ююбу. И она не хочет замуж, — многозначительно добавила Нефертити.
Я вздохнула.
— Ну так как ты себя чувствуешь?
Сестра пожала плечами:
— Хорошо, насколько это возможно. Говорят, беременность достаточно тяжелая, чтобы это был сын. — Ее темные глаза заблестели. — Но другие говорят, что это может быть двойня. Ты когда-нибудь слышала, чтобы женщина родила двойню и осталась в живых?
Я сжала губы, чтобы не пришлось врать.
— Никогда? — со страхом прошептала Нефертити.
— Двойни бывают редко. Наверняка должны быть женщины, которые при этом оставались живы.
Нефертити посмотрела на свой живот:
— Четыре царевны, Мутноджмет. Четыре! Думаю, Некбет отвернулась от меня.
Голос ее был мрачен. Кто знает, возможно, она впервые со времени моего отъезда из Амарны признавалась кому-то в своих истинных страхах. Да и кому еще она могла довериться? Моей матери, которая стала бы уверять ее, что все будет хорошо? Нашему отцу, который велел бы ей думать о царстве? Мерит, которая ничего не знала о родах и сопутствующей им боли? Нефертити взяла меня за руку, и внезапно жизнь в Фивах показалась мне ужасным лишением, и я почувствовала себя виноватой за то, что бросила ее здесь одну, наедине с ее страхами и честолюбием, — хотя это она меня изгнала.
— Мутноджмет, пообещай мне, что, если я умру родами, ты сделаешь Меритатон царицей. Пообещай, что Кийя никогда не станет главной женой.
— Нефертити, не надо так говорить…
Она сильнее сжала мою руку и задрожала.
— Я должна пережить эти роды. Я должна выжить, чтобы увидеть моего сына на троне.
Она с надеждой посмотрела на меня, но я не стала обещать, что она непременно это увидит. Это ведомо лишь Некбет. Лишь Таварет могла бы сказать об этом.
Вместо этого я спросила сестру:
— Сколько еще осталось?
Нефертити посмотрела на свой живот. Он был таким же маленьким и аккуратным, как и в прошлые разы, но на этот раз выглядел круглее и как-то тяжелее.
— Три. Еще три месяца, пока все это закончится.
С другими детьми она никогда не испытывала подобного нетерпения.
— Но ты мне поможешь, ведь правда же?
— Конечно.
Нефертити медленно кивнула, успокаиваясь.
— А то я подумала… — Ее глаза наполнились слезами. — Я подумала, что ты меня бросила.
Она напрочь позабыла про мое изгнание, надежно упрятала эти воспоминания, чтобы они не преследовали ее и чтобы это она была пострадавшей стороной.
— Я тебя не бросала, Нефертити. Можно любить двух людей одновременно, как ты любишь Меритатон и нашего отца.
Нефертити посмотрела на меня с глубочайшим недоверием.
— Я останусь до тех пор, пока ты не родишь своих сыновей, — пообещала я.
26
 Перет. Сезон роста
Перет. Сезон роста
Схватки начались несколько месяцев спустя, на рассвете. Эти роды были у моей сестры самыми продолжительными, и повитухи, собравшись в углу, обеспокоенно переглядывались и обсуждали, не дать ли ей ревень и руту.
— Что они говорят? — вскрикнула Нефертити.
— Что у тебя никогда еще не было настолько болезненных родов, — правдиво ответила я.
— Если что-то пойдет не так — скажи мне! — выдохнула сестра. — Если они что-то поймут…
— Ничего страшного не происходит, — оборвала я ее и успокаивающе положила руку ей на лоб, а Нефертити вцепилась в ручки родильного кресла.
— Мават! — вскрикнула она. — Где отец? Больно как!
— Тужься! — хором закричали повитухи, и Нефертити снова напряглась и пронзительно закричала, так что и Анубис проснулся бы, — а потом появились они.
Не один ребенок — двое.
— Двойня! — закричали повитухи, и Нефертити нетерпеливо спросила:
— Кто? — Она изо всех сил пыталась разглядеть детей. — Кто?!
Повитухи обеспокоенно переглянулись, потом одна выступила вперед и сообщила:
— Девочки, ваше величество.
Тут новорожденные громко завопили. Нефертити рухнула на кресло. Она предприняла пять попыток. Пять попыток — и шесть девочек. Павильон заполнился радостными возгласами. Моя мать высоко подняла одну из царевен.
— Отнесите меня обратно на кровать, — прошептала Нефертити.
Эхнатона впустили в комнату лишь после того, как ее переодели и уложили в постель.
— Нефертити!
Фараон оглядел комнату, убедился, что жена жива, и принялся искать взглядом детей.
— Двойня!
Повитухи сделали вид, будто они вне себя от радости, и вид у Эхнатона сделался триумфальный. Но потом на лице его проступила тревога.
— Сыновья? — быстро спросил он.
— Нет. Две прекрасные дочери, — ответила самая старшая из повитух, и, как ни странно, похоже было, что Эхнатон рад без памяти.
Он тут же кинулся к Нефертити.
— Как мы их назовем?
Нефертити улыбнулась ему, хотя я знала, что ее сейчас терзает жестокое разочарование.
— Сетепенре, — ответила она. — И…
— Нефернеферуатон.
— Нет! Нефернеферуре.
Я посмотрела на Нефертити и по ее решительному виду поняла, что она не намерена называть своих дочерей в честь бога, пославшего ей шестерых царевен. Интересно, а Амон смог бы дать ей царевича?
Эхнатон взял руку моей сестры и прижал к груди.
— Нефернеферуре, — уступил он, — вслед за прекраснейшей матерью в мире.
Когда мой отец услышал эти новости, он уселся под родильным павильоном и велел принести ему вина.
— Шесть девочек, — глухо произнес он, не в силах поверить в это. — Он дал Кийе сына, а твоей сестре — шесть девочек.
— Но он любит их. Он просто без ума от них.
Отец посмотрел на меня.
— Он может любить их больше, чем самого Атона, но что подумают люди?
Пока вести расходились по Амарне, я отправилась в сад и отыскала там мужа.
— Ты слышал? — спросила я, кутаясь в плащ.
— Двойня.
— Не просто двойня, — негромко произнесла я; с губ моих сорвались клубы пара. — Девочки.
— И как он воспринял эти вести? — спросил Нахтмин.
Я уселась рядом с ним на скамью у лотосового пруда и задумалась: и как это рыбы могут плавать в такой холод?
— Кто — Эхнатон или мой отец?
— Твой отец. Как себя чувствует фараон, я могу догадаться. Никакого сына, что стал бы соперничать с ним за внимание Нефертити. Никакого царевича, которого пришлось бы остерегаться в старости. Панахеси может думать, что он держит в руках все семь пешек. Но он не понимает, насколько фараон боится Небнефера.
— Но Небнеферу всего семь…
— А когда ему будет четырнадцать-пятнадцать? — поинтересовался супруг.
Я посмотрела на рыбу, подплывшую к поверхности воды: она, разинув круглый рот, искала, чего бы съесть.
— А ты стал бы ревновать к сыну?
— Ревновать? — Нахтмин рассмеялся. — Я бы считал его величайшим своим благословением, — с пылом произнес он, но тут же добавил: — Конечно, если этого так и не произойдет…
Я взяла его за руку.
— Ну а если все-таки?
Муж вопросительно посмотрел на меня. Я улыбнулась. Он вскочил со скамьи.
— Неужели ты…
Я улыбнулась, и улыбка моя сделалась шире.
Нахтмин подхватил меня со скамьи и сжал в объятиях.
— Давно ты знаешь? Ты уверена? Это не…
— Я уже на третьем месяце! — Я рассмеялась как ненормальная. — Я никому еще не говорила. Даже Ипу. Я ждала, чтобы увериться окончательно, что не ошибаюсь.
На лице Нахтмина отразилась безграничная радость.
— Мив-шер… — Он прижал меня к себе и погладил по голове. — Ребенок, мив-шер…
Я со смехом кивнула:
— К месори.
— Ребенок урожая, — восхищенно произнес Нахтмин. Это был благоприятнейший знак: рождение ребенка в сезон сбора урожая. Мы стояли, держась за руки, и смотрели на пруд, и воздух больше не казался горьким.
— Когда ты скажешь сестре?
— Сперва я скажу матери.
— Надо сказать ей до нашего отъезда в Фивы. Она захочет устроить так, чтобы быть с тобой.
— Если только сестра не потребует, чтобы я рожала здесь, — сказала я. Это было бы вполне в духе Нефертити, и Нахтмин озабоченно посмотрел на меня. — Конечно же, я откажусь. Но нам придется побыть тут еще несколько месяцев, чтобы было время успокоить Нефертити, особенно если впоследствии окажется, что у меня сын.
— А что, все должно быть устроено так, чтобы Нефертити не беспокоилась? — спросил он.
Я посмотрела на пруд, на голодную рыбу и ответила правду — так, как оно всегда было заведено в нашей семье:
— Да.
Когда я отправилась сообщать эту новость матери, Нахтмин пошел вместе со мной. Мать сидела вместе с отцом в Пер-Меджате и грелась у жаровни, пока он сочинял царям иных народов послание о том, что фараону Египта было ниспослано еще два ребенка.
Стражники отворили тяжелые двери, и едва лишь мать увидела лицо Нахтмина, как сразу же все поняла.
— Эйе, — предостерегающе произнесла она и поднялась со своего места.
Отец встревоженно опустил тростниковое перо.
— Что? Что такое?
— Я знала! — Мать захлопала в ладоши и кинулась обниматься. — Я знала, что это случится!
Нахтмин улыбнулся отцу:
— В этой семье тоже ждут наследника.
Отец посмотрел на меня.
— Ты беременна?
— На третьем месяце.
Отец рассмеялся — это случалось до чрезвычайности редко, — встал и тоже подошел обнять меня.
— Моя младшая дочь, — сказал он, взяв мое лицо в ладони. — Собирается стать матерью. Я стану дедушкой в седьмой раз!
Несколько драгоценных мгновений я была дочерью, совершившей нечто стоящее. Я собиралась родить ребенка. Кровь от нашей крови, плоть от плоти, наша частичка, что будет существовать до тех пор, пока не иссякнут пески. Мы стояли и смеялись, но тут распахнулась дверь и вошла Меритатон. И уставилась на нас.
— Что случилось?
— У тебя будет двоюродный брат или сестра, — сказала я ей, и девочка не по годам рассудительно поинтересовалась:
— Ты беременна?
Я просияла:
— Да, Меритатон.
— А разве ты не слишком старая?
Все расхохотались. Меритатон покраснела.
Моя мать мягко пожурила девочку:
— Мутноджмет всего двадцать лет. А твоей матери двадцать два.
— Но у нее же это пятая беременность! — сообщила Меритатон таким тоном, будто мы, по глупости своей, этого не понимали.
— У некоторых людей дети рождаются позже, чем у Других.
— Это потому, что Нахтмин уезжал? — спросила она у нас.
В Зале книг воцарилось неловкое молчание.
— Да, — в конце концов произнес мой отец. — Это потому, что Нахтмин уезжал.
Меритатон поняла, что сказала что-то такое, чего говорить не следовало, и подошла обнять меня.
— Двадцать — это еще не так много, — серьезно произнесла она, даруя мне свое дозволение. — Ты собираешься сейчас сказать об этом маме?
Я тяжело вздохнула:
— Да, думаю, я скажу ей сейчас.
Нефертити еще не покинула родильный павильон. Я готова была встретиться с гневом, рыданиями или драмой. Ведь ребенок отнимет меня у нее. Но я не была готова к тому, что Нефертити обрадуется.
— Теперь ты останешься в Амарне! — радостно воскликнула она.
Но это была расчетливая радость. Придворные дамы, сидевшие в родильном павильоне, уставились на меня с интересом. Они могли слышать наш разговор, невзирая на негромкую песню лиры.
— Нефертити, — отрезала я, — я поеду рожать домой.
Сестра повернулась ко мне, напустив на себя вид человека, глубоко уязвленного изменой, — чтобы выставить мое поведение неблагоразумным.
— Твой дом здесь!
Я пристально взглянула на нее.
— Ты что, думаешь, если у меня родится сын, для него будет безопасно находиться в Амарне?
Нефертити уселась в постели.
— Конечно! Если это вообще сын.
— Я останусь еще на два месяца, — пообещала я.
— А потом что? Ты уедешь и увезешь мать с собой?
— Не переживай, мать тебя одну не оставит! — огрызнулась я. — Даже ради того, чтобы увидеть рождение моего первенца!
Нефертити рассмеялась; правда, высказанная в присутствии стольких женщин, привела ее в замешательство.
— Мутни! Я же вовсе не об этом говорю! — Она подвинулась, давая мне место среди подушек, что казались рядом с ее хрупкой фигурой огромными и тяжелыми. — Иди сядь сюда.
«Она хочет подлизаться ко мне», — подумала я.
— Ты уже знаешь, что завтра будет празднество? — спросила Нефертити. — На три дня. А Тутмос сделает новый семейный портрет для храма. Чтобы Панахеси не забывал.
Панахеси придется терпеть эту картину всякий раз, как он будет проходить мимо алтаря Атона. Нефертити в короне с изображением змеи. Нефертити и шесть ее красивых детей.
Нефертити понизила голос.
— Панахеси думает, что, раз я родила сейчас двух дочерей, у меня уже никогда не будет сына. Он думает, что корона Египта перейдет к Небнеферу. Но я этого не допущу! — поклялась она.
Я огляделась, не слышат ли нас кто.
— Как?
— Не знаю, — призналась Нефертити. — Но я что-нибудь придумаю.
На третий день празднества Нефертити, вне себя от гнева, грохнула дверью своих покоев. Прежде чем я смогла ее успокоить, она швырнула свою щетку для волос об стену, и фаянсовые плитки разлетелись вдребезги.
— Я родила ему двух дочерей, а он отправился к Кийе?!
Отец велел служанке убрать осколки и резким тоном добавил:
— Подмети, а потом уходи и закрой за собой дверь.
Мы подождали, пока девушка сделает, как было велено, а Нефертити тем временем кипела от злости. Когда служанка ушла, отец встал.
— Держи себя в руках! — потребовал он.
— Я только что родила двух детей сразу, и этого недостаточно?!
— Ты родила ему шестерых девочек.
— Мы должны снова…
— Нет! — отрезал отец. — Теперь это слишком опасно.
— Сейчас это может сделать Мутни!
Отец смерил Нефертити тяжелым взглядом:
— Ты не будешь втягивать в это сестру.
Я попыталась убедить себя, что их разговор не имеет никакого отношения к той истории, когда Кийя потеряла своего второго ребенка.
— Мы положимся на волю богов, — сказал отец.
— Но она забеременеет через месяц, — прошептала сестра. — А вдруг у нее родится еще один наследник? — Судя по голосу, ее охватила паника. — Один сын может умереть, но два?
— Тогда нам придется найти другой способ удержать трон. Невзирая на шестерых девочек.
Семь дней спустя, первого фаменота, в Зал приемов явились два жреца и объявили при всем дворе:
— Ваше величество, нашим жрецам было великое видение!
Отец с Нефертити переглянулись. Этого они не затевали.
Эхнатон подался вперед.
— Видение? — переспросил он. — Что за видение?
— Видение о будущем Египта, — таинственно прошептал старый жрец.
И когда Панахеси с нетерпением вскочил с кресла, мы тут же поняли, что происходит. Он ждал этого момента с тех самых пор, как Нефертити при помощи выдуманного сна убедила Эхнатона, что Панахеси следует сделать верховным жрецом, а не казначеем. Теперь же он драматически воскликнул:
— Как могло случиться, что мне не сообщили об этом видении?
Старый жрец поклонился, взмахнув рукой:
— Это произошло лишь сегодня утром, ваше святейшество. Двум жрецам было ниспослано видение от Атона.
Я посмотрела на Панахеси и второго жреца, с круглым, добрым лицом. «Не одному жрецу, а сразу двум». Панахеси умело выбрал своих марионеток.
— Берегись лжепророков, — предостерегающе произнесла Нефертити.
Придворные выжидающе загомонили.
— Так что это было за видение? — надавил Эхнатон.
Младший жрец выступил вперед.
— Ваше величество, сегодня в храме Атона нам было явлено откровение…
— Где именно? — перебила Нефертити, а Эхнатон, услышав ее жесткий тон, нахмурился.
— Во дворе под солнцем, ваше величество.
«Все лучше и лучше».
— Мы почтили Атона возжиганием благовоний, и тут перед нами возник яркий свет, и мы увидели…
— Мы узрели видение! — вклинился старый жрец.
Им удалось завладеть вниманием Эхнатона.
— Какое?
— Видение Небнефера в царской короне.
Панахеси нетерпеливо шагнул вперед.
— Небнефера? Вы имеете в виду сына его величества?
Старый жрец кивнул:
— Да.
Придворные напряглись, ожидая реакции Эхнатона.
— Очень интересное видение, — заметил отец. — Небнефер, — он многозначительно приподнял брови, — в короне Египта.
— Видения Атона всегда верны! — отрезал Панахеси.
— Конечно, — согласился отец. — Атон никогда не лжет. И кроме того, их же было двое. Видение узрели два жреца.
Панахеси в своем одеянии из шкуры леопарда беспокойно заерзал. Ему не понравился оборот, который принимала беседа.
— Сын, восседающий на троне Египта, — продолжал тем временем отец. — В короне, что некогда венчала голову отца. Интересно, а Старшему не было подобного видения?
Придворные поняли, к чему он клонит, а Эхнатон побледнел.
Отец поспешно добавил:
— Но Небнефер предан вашему величеству. Я уверен, что этот сын хорошо послужит вам.
Подобного поворота Панахеси не предвидел.
— Конечно, Небнефер предан царю, — запинаясь, пробормотал он. — Конечно, он предан!
Эхнатон посмотрел на моего отца. Тот лукаво пожал плечами:
— С этой опасностью приходится иметь дело всякому фараону, у которого есть сыновья.
«И кому это знать, как не Эхнатону?» Я ощутила победное возбуждение, то самое ощущение торжества, которое, должно быть, испытывал отец, когда ему удавалось переиграть противника.
Кийя побагровела от гнева.
— Никто не сможет доказать, что царевич неверен отцу! — взвизгнула она.
Эхнатон перевел взгляд на жрецов.
— Что еще было в видении? — повелительно вопросил он.
— Да! — Нефертити встала, спеша полить семена, посаженные отцом. — Было ли в нем кровопролитие?
Взгляды всех придворных устремились на жрецов, и младший жрец ответил:
— Нет, ваше величество. Никакого кровопролития. Никакого предательства. Только прекрасный золотой свет.
Эхнатон посмотрел на старого жреца, ожидая подтверждения.
— Да, — поспешил согласиться старик. — Никакого насилия.
Панахеси низко поклонился.
— Ваше величество, я могу прямо сейчас привести сюда царевича Небнефера. Вы можете испытать его верность.
— Нет! — Эхнатон посмотрел на царевен, восседающих на собственных маленьких тронах. — Меритатон, иди сюда.
Меритатон встала и подошла к отцу. Двор застыл в ожидании.
— Ты всегда будешь верна своему отцу, ведь правда?
Меритатон кивнула.
— И ты научишь своих сестер быть верными отцу? — настойчиво произнес Эхнатон.
Меритатон снова кивнула, и Эхнатон улыбнулся, как мог улыбнуться лишь отец, слепо обожающий своих детей.
— Все слышали? — с нажимом произнес фараон. Он встал, подвинув Меритатон. — Царевны Египта верны мне. Ни одна из моих дочерей никогда не посягнет на мою корону!
Кийя с отчаянием посмотрела на Панахеси.
— Ваше величество, — попытался было сказать Панахеси, — царевич Небнефер никогда…
— Прекрасно, — заявила Нефертити, оборвав мольбу визиря. — Мы слышали видение, ниспосланное Атоном, и ни в чем более не нуждаемся.
Она взмахом руки велела жрецам удалиться, и придворные тоже поднялись со своих мест.
Кийя тут же кинулась к Эхнатону.
— Обоим жрецам явилось одинаковое видение, — быстро произнесла она. — Сияние и корона на голове Небнефера. Я научила нашего сына быть верным. Так же, как я верна тебе и Атону.
Но взгляд Эхнатона был неумолим.
— Конечно, ты верна. Иное было бы глупостью.
27
 Амарна
9 пахона
Амарна
9 пахона
Несмотря на то что отец восторжествовал над Панахеси, к сезону урожая Кийя забеременела. И Панахеси, невзирая на бедствие, постигшее его в Зале приемов, носился по дворцу, выкрикивая приказы, словно уже ощущал тяжесть египетской короны в своих руках.
Одним сыном можно было пренебречь, но народ не сможет не обращать внимания на двух царевичей, двух наследников престола. Если Кийе удастся родить второго сына, вопрос о престолонаследии будет окончательно решен.
Эхнатон отыскал Мерит в Большом зале и велел ей сообщить Нефертити эту новость. Сам он был для этого слишком труслив.
— Только непременно скажи ей, что никакой ребенок никогда не займет место Меритатон в моем сердце. Она — наше золотое дитя, дитя Атона.
Я посмотрела, как фараон повел своих девочек прочь. Своих обожаемых царевен. Дочерей, которые, как он верил, никогда не выступят против него, как мог бы выступить сын, как он сам выступил против своих брата и отца. «Если он думает, что девочки не бывают хитроумны, значит, он ничего в них не смыслит», — подумала я.
Мерит посмотрела на меня, закипая от негодования.
— И как я должна говорить ей об этом?
Мы подошли к дверям Зала приемов.
— Просто скажи, да и все. Нефертити сама это предсказывала, так что это не должно стать для нее неожиданностью.
В зале Нахтмин играл в сенет с моей матерью. На помосте сидели отец с Нефертити, наклонившись друг к другу; в кои-то веки сестру не окружала толпа придворных дам. Они все отправились посмотреть, как Эхнатон ездит на колеснице.
— А ты решила остаться? — удивилась я.
— Мне не до Арены! — огрызнулась Нефертити. — Он может кататься, когда захочет, а мне нужно изучить чертежи стен. Если случится вторжение, мы окажемся беззащитны перед хеттами — но Эхнатона это не волнует… — Она оборвала фразу и внимательно взглянула на нас с Мерит. — Что вы хотели?
Я кивнула Мерит. Отец положил свиток с чертежами на колени.
— Ваше величество, — начала Мерит, — у меня для вас известия, которые вас не обрадуют. — И она, стремясь побыстрее отделаться от неприятного поручения, выпалила: — Говорят, что Кийя беременна.
Нефертити застыла. Молчание затянулось, и Мерит, почувствовав себя неловко, продолжила:
— Ваше величество, это у нее всего лишь второй ребенок. А у вас есть шесть царевен, и Эхнатон пожелал, чтобы я сказала вам…
Нефертити швырнула свитки на пол и встала.
— Мой муж послал тебя сообщить мне об этом? — пронзительно взвизгнула она.
Отец поспешно встал рядом с ней.
— Нам следует поторопиться, — сказал он. — Нужно показать всему Египту, что фараон намерен впоследствии передать бразды правления не Небнеферу, а Меритатон.
Что-то невысказанное промелькнуло между ними, и я спросила:
— Но как?
На мой вопрос никто не ответил.
— Как вы можете это показать?
Глаза Нефертити как-то странно заблестели.
— Так, как это никогда еще не делалось, — ответила она.
Эхнатон объявил дурбар, торжественный прием в честь Нефертити. Это празднество было посвящено их совместному правлению, и ревнивая жена тут же превратилась в торжествующую царицу. Нефертити ничего более не говорила про Кийю, а Нахтмин поинтересовался, насколько истощится казна Амарны из-за этого величайшего в истории дурбара.
— Мутни, иди сюда! — весело позвала меня сестра. Я вошла в ее гардеробную; там стояли дюжины сундуков с нарядами. Повсюду валялись бритвы с бронзовыми ручками и опрокинутые горшочки с сурьмой. — Какой парик мне надеть?
Парики лежали вокруг нее грудами.
— Самый дешевый, — мгновенно ответила я.
Нефертити продолжала ожидать ответа, который ее бы устроил.
— Короткий, — сказала я.
Нефертити свалила остальные парики в кучу, чтобы Мерит потом их убрала.
— Отец отправил приглашения всем царям Востока, — похвасталась она. — Когда здесь соберутся правители величайших народов мира, прозвучит объявление, которое впишет имя нашей семьи в вечность!
Я искоса взглянула на нее.
— Это в каком смысле?
Нефертити перевела взгляд на свой город.
— Это сюрприз.
28
 Перет. Сезон роста
Перет. Сезон роста
Подготовка к приему князей и придворных, младших цариц с их свитой и тысяч знатных людей из Миттани и Родоса продолжалась до самого тиби. Солдаты трудились от восхода и до темноты, затягивая Арену золотой тканью и заканчивая высекать изображения Атона на каждом святилище. Было запланировано празднество на семь вечеров, приготовлены комнаты для тысячи сановников и заготовлено вино. Дворец бурлил целый месяц, и, хотя все считали, что первый за двадцать лет дурбар посвящен царствованию Нефертити и Эхнатона, наша семья знала, как оно обстоит на самом деле.
Отец остановился в дверях покоев Нефертити. Та выбирала, какие бы сандалии ей надеть.
— Это правда? — сурово спросил он.
До меня тоже доходили слухи о том, что Эхнатон самолично написал письмо хеттскому царю Суппилулиуме и пригласил нашего врага взглянуть на великолепие Амарны.
Отец вошел в комнату.
— Это правда, что твой муж пригласил сюда хеттов? Хеттов — в этот город? — прошипел он.
Нефертити выпрямилась во весь рост.
— Да! — заявила она. — Пускай посмотрят, что мы построили!
— И пускай несут сюда чуму? — выкрикнул отец. — Черную смерть! — уточнил он специально для Нефертити. — Это тоже пускай?
Он сунул Нефертити под нос принесенный с собой свиток. Та свирепо развернула его и проглядела содержимое.
— На севере чума! — сообщил ей отец.
— Эхнатон уже знает об этом.
Нефертити сунула свиток обратно.
— Значит, он еще больший дурак, чем я думал!
Они гневно уставились друг на друга.
— Ты знаешь, что я собираюсь сделать, — сказала Нефертити.
— Да. Ты собираешься привести в этот город смерть.
— Все должны увидеть то, что произойдет. Все должны понять. Все царства Востока!
Я видела, что хочет сказать отец. Что гордыня, гордыня всей царской семьи приведет нас к погибели. Но вместо этого он повторил:
— Тогда зовите царя Нубии, но не рискуйте, приглашая сюда хеттов. Не рискуйте тем, что в город войдет чума.
— Когда это в последний раз в Египте была чума?
— Когда фараоном был Старший. Когда солдаты принесли ее с севера, — зловеще произнес отец.
Сестра заколебалась.
— Эхнатона все равно не переубедишь.
Отец смерил ее пристальным взглядом.
— Ты не видела, что такое Черная смерть, — предостерегающе произнес он. — Не видела, как у человека чернеют конечности, как под кожей появляются опухоли и превращаются в огромные черные шары.
Сестра отпрянула, отец придвинулся ближе.
— Мы не знаем, что они принесут с севера. Есть болезни, которые проявляют себя лишь по прошествии какого-то времени. Их необходимо остановить!
— Уже слишком поздно.
— Никогда не поздно действовать! — заявил отец, а Нефертити крикнула в ответ:
— Он не передумает! Хетты приедут, а когда дурбар закончится, уберутся отсюда!
— И что оставят после себя?
Нефертити самодовольно улыбнулась:
— Свое золото.
Отец отправился к Эхнатону, но тот уперся, как и предсказывала Нефертити.
— С чего бы вдруг Атону дозволять, чтобы этого города коснулась чума? — возмутился фараон. — Это величайший город во всем Египте!
Отец отправился к своей сестре, и та посоветовала предпринять еще одну, последнюю попытку. Но Панахеси лишь рассмеялся.
— Чумы не видать и не слыхать уже пятнадцать лет! — с насмешкой заявил он.
— Но она есть на севере, — ровным тоном произнес отец. — Возле Кадеша умерли сотни матросов.
— В чем дело, визирь? Ты что, боишься, что хетты явятся сюда и увидят, насколько на самом деле беззащитен этот город? Что они увидят, насколько фараон нуждается в сильном сыне, чтобы тот возглавил его войско, — если, конечно, он желает этот город защитить? Никто из твоих девчонок не поведет мужчин в битву. Наследником будет Небнефер — это лишь вопрос времени.
— Значит, ты не знаешь Эхнатона, — сказал отец, и я задумалась: а может, это и есть та тайна, с которой носится Нефертити? Может, во время дурбара Меритатон провозгласят наследницей престола? — И если ты ради этого дозволил впустить хеттов в Амарну, значит, ты еще глупее, чем я думал.
Гости прибыли со всех краев земли: нубийцы, ассирийцы, вавилоняне, греки. Женщины, явившиеся из-за пределов далеких пустынь, закрывали лица покрывалами, а мы вообще были едва одеты, но зато накрасили груди и ступни хной и надели парики, мелодично звеневшие под теплым ветром с запада.
Слуги суетились вокруг моей сестры, словно мотыльки: приглаживали, подкрашивали и подправляли корону. Тутмос нарисовал ее, пока она сидела, привыкшая, что вокруг нее суетятся и над ней хлопочут, а Мерит трудилась над ней.
— Может, скажешь все-таки, что там у тебя за сюрприз? — поинтересовалась я. — Ты, часом, не забеременела снова?
— Конечно нет. Это больше, чем сын для Египта. Это и есть Египет, — возбужденно произнесла она.
Тутмос понимающе улыбнулся Нефертити, и я повернулась к скульптору.
— Ты что, знаешь? — Я снова перевела взгляд на Нефертити. — Ты сказала Тутмосу, а мне, своей сестре, не говоришь?
Нефертити вскинула голову:
— Тутмосу нужно это знать. Ему предстоит это все запечатлеть.
Запели трубы, и Мерит отступила. На Нефертити сверкали самые драгоценные украшения Египта. Даже ее дочь, унаследовавшая ее красоту, не могла с ней соперничать. Меритатон подошла к матери.
— А это будет хороший сюрприз, мават?
— Это будет и мое, и твое достояние, — пообещала Нефертити.
Она взяла дочь за руку и позвала меня. За нами двинулись Мекетатон и
трехлетняя Анхесенпаатон.
— Где фараон?
— У Окна Появлений, — ответила она.
Я услышала радостные крики еще из внутреннего дворика дворца, а когда мы подошли к окну, где мои родители о чем-то оживленно переговаривались с Эхнатоном, я затаила дыхание. Внизу было воздвигнуто и увенчано миррисом две сотни алтарей. Вокруг них собрались тысячи жрецов, и на каждом алтаре забили и поднесли Атону по быку: две сотни жертвоприношений, дабы показать всем богатство и великолепие дворца Амарны. Для дурбара, которому предстояло войти в историю, не останавливались ни перед какими расходами. Повсюду — на шеях знатных женщин и на лодыжках писцов — блестели сердолик, лазурит и полевой шпат. Люди, устроившись в тени навесов, пили, пировали и смотрели вверх, надеясь узреть бога на земле, даровавшего им все это. Жрецы были все в золоте, от лодыжек до сверкающих ожерелий на шеях, а над ними, у самого высокого алтаря, возвышался Панахеси.
— Ну что, впечатляет? — поинтересовался подошедший Эхнатон.
Мне показалось странным, что его вдруг заинтересовало мое мнение. Я посмотрела вниз, прислушиваясь к смеху, музыке арф и песням, в которых люди восхваляли великого Атона, бога, сотворившего столько золота и вина. Запах жареного мяса и мирры поднимался к окнам дворца; а еще сильно пахло пивом.
— Это запомнят навеки, — ответила я.
— Да. Навеки.
Затем Эхнатон взял Нефертити за руку и подошел к Окну Появлений.
— Дурбар для величайших фараонов Египта! — провозгласил он, и люди встретили его радостными кличами. — Фараон Эхнатон и фараон Нефернеферуатон-Нефертити!
Я ахнула.
— А что это значит? — спросила Меритатон.
Нефертити с Эхнатоном так и остались стоять у окна, а люди подняли такой крик, что богам впору было оглохнуть.
— А что это значит? — повторила Меритатон, и ей ответил мой муж, поскольку я еще не отошла от потрясения:
— Это значит, что твоя мать стала тем, чем не бывала до нее ни одна царица. Она теперь фараон и соправитель Египта.
Это было немыслимо. Чтобы царица стала царем! Чтобы она была соправителем своего супруга! Даже моя тетя не сделала себя фараоном. Лицо отца было непроницаемо, но я знала, о чем он сейчас думает. Наша семья никогда еще не поднималась так высоко.
Я оглядела покои:
— А где Тийя?
— Принимает представителей Миттани, — ответил отец.
— А Панахеси? — спросил мой муж.
Отец кивком указал на Панахеси, багрового от ярости. Тот смотрел по сторонам, пытаясь найти, как бы ему выбраться со двора, заполненного жрецами и тысячами сановников, но выхода не было. Тогда он посмотрел на картину, которую являла собою наша семья — с Окном Появлений вместо рамы.
Я отошла в сторону. Стоявший рядом Нахтмин покачал головой; судя по блеску в глазах, он пытался прикинуть, что это будет означать для царицы, не имеющей сыновей. Но я уже знала, что это значит. Теперь никто — ни Кийя, ни Небнефер, ни Панахеси — не низвергнет нашу семью.
— Мутноджмет! Меритатон! Идите сюда! — позвала Нефертити.
Мы подошли.
— Где Нахтмин? — спросил Эхнатон. Он увидел моего мужа, стоящего в другом конце покоев. — И ты тоже иди сюда.
Отец быстро шагнул вперед.
— Чего вы хотите, ваше величество?
— Чтобы бывший военачальник встал рядом со мной. Он встанет здесь, и люди увидят, что даже Нахтмин склонился перед фараонами Египта.
У меня забилось сердце: я знала, что Нахтмин откажется. Я перехватила взгляд мужа. Но тут отец приблизился к нему и что-то прошептал на ухо.
Завидев в Окне Появлений Нахтмина, люди внизу, солдаты и простолюдины, подняли такой крик, что Эхнатон даже отшатнулся, как от удара.
— Возьми меня за руку! — приказал Эхнатон и поклялся: — Они будут любить меня так же, как любят тебя!
Он поднял руку Нахтмина, и казалось, будто весь Египет выкрикнул: «Эх-на-тон!» Слева от него был Нахтмин. Справа — Нефертити. Эхнатон повернулся к своей царице-фараону и воскликнул: «Мой народ!» — сияя от любви простолюдинов, купленной хлебом и вином.
— Фараон Нефернеферуатон-Нефертити!
Когда Нефертити взяла посох и цеп, наглядные знаки царского сана в Египте, крики сделались оглушительными. Я отступила назад, а Нефертити воскликнула:
— Добро пожаловать на величайший дурбар в истории!
— Они будут думать, что ты любишь его, — шепотом сказала я мужу, пока процессия двигалась к храму. — Солдаты подумают, что ты склонился перед Атоном!
— Ничего такого они не подумают. — Нахтмин придвинулся поближе. — Они не дураки. Они знают, что я верю в Амона и что я очутился рядом с фараоном только ради тебя.
Я посмотрела вперед, на людей в солдатских схенти, с воинскими поясами.
— Они также знают, что это из-за меня ты больше не военачальник.
— Хоремхеб в тюрьме, и я был бы там же, если бы ты не полюбила меня.
Мы остановились во дворе, полном колесниц. Они сверкали электром, бирюзой и медью. Затем вперед выступил Панахеси, дабы препроводить Нефертити к судьбе, которую она сама создала для себя, не имея ни сыновей, ни опоры в истории. На лице жреца сияла улыбка, как будто он только и мечтал, чтобы Нефертити взошла на трон Египта в обход его внука.
— Теперь ему остается либо стараться возвыситься, угождая ей, либо строить козни против двух фараонов сразу, — сказал мой муж.
— Даже за счет дочери и внука? — спросила я.
Нахтмин развел руками:
— Надо смотреть, кому угождать.
Мы нырнули в море колесниц, и нас пронесло через Двор празднеств к храму со статуями Нефертити и Эхнатона. Запели трубы, и дорога к воротам вдруг сделалась свободна.
— У тебя такой вид, будто ты наелась чего-то горького. — Нефертити, спустившись со своей колесницы, мелодично рассмеялась. — Ну что еще такое, Мутноджмет? Сегодня — наш величайший день. Мы бессмертны!
«Нет. Мы окружены ложью». Прежде чем жрецы увлекли Нефертити во внутреннее святилище храма, я громко произнесла:
— Эти люди счастливы, потому что даром получили хлеб и вино. Но здесь хетты. Здесь, в столице. Нефертити, почему ты так уверена, что они не принесли с собой чуму?
Сестра недоверчиво взглянула на Нахтмина, потом снова перевела взгляд на меня:
— Зачем ты говоришь это в момент моего величайшего торжества?
— А что, теперь, когда ты стала фараоном, мне тоже следует лгать тебе, как это делают все остальные?
Нефертити промолчала.
— Не прикасайся к ним, — посоветовала я. — Не позволяй им целовать твое кольцо.
За спиной Нахтмина возник Эхнатон.
— К кому не прикасаться?
— К хеттским послам, — ответила Нефертити и велела мужу: — Не позволяй им целовать твое кольцо.
Эхнатон презрительно фыркнул:
— Вот еще! Они будут целовать мне ноги, когда увидят, что я построил!
На протяжении дурбара Эхнатон не жалел для Нефертити ничего. Она была его главной женой, его главным советником, соучастницей всех его планов, а теперь стала еще и фараоном. А чтобы мир никогда не забыл ее, мы отправились на окраину Амарны, где Эхнатон воздвиг колонну в честь царствования Нефертити. Он встал перед послами Востока и велел Майе прочесть надпись, сочиненную им в честь его жены, фараона-царицы Египта.
«Наследница трона, Великая во дворце, Прекрасная ликом, Украшенная двойным плюмажем, Госпожа счастья, Одаренная благорасположением, Та, чьему голосу фараон радуется, Главная жена царя, его возлюбленная, Владычица Двух земель, а отныне и фараон Нефернеферуатон-Нефертити, да живет она ныне и вовеки».
Никогда еще не бывало такого, чтобы фараон даровал посох и цеп женщине. Но когда Нефертити вышла к толпе, чтобы благословить ее, люди принялись забираться на что только можно и устроили давку — и все ради того, чтобы хоть краем глаза взглянуть на нее.
— Они любят меня! — уверенно заявила она на второй день дурбара. — Любят сильнее, чем когда я была царицей!
— Потому, что теперь твоя власть над ними увеличилась, — сказала я.
Но Нефертити пропустила мое циничное замечание мимо ушей.
— Я хочу, чтобы люди запомнили это навеки, — отозвалась она. Мы находились в ее гардеробной, и в свете заходящего солнца кожа Нефертити походила на позолоченную бронзу. — Мутни, найди Тутмоса! Я хочу, чтобы меня изваяли такой, какая я сейчас.
Я отправилась через весь дворец в мастерскую художника. Дурбар должен был продлиться шесть дней и семь ночей, и на улицах уже было полно пьяных мужчин, а жены сановников, пошатываясь, забирались в носилки, и от них несло ароматическими маслами и вином. Тутмос был у себя в мастерской, в веселой компании молодых девушек и красивых мужчин. Когда он увидел меня, у него вспыхнули глаза.
— Скульптура? — выдохнул он. — Сейчас я буду готов. Когда я увидел ее в храме, с посохом и цепом, — признался Тутмос, — со вздыбившейся коброй на короне, я понял, что она позовет меня. Ни одна царица еще не носила корону с таким изяществом.
— Вообще-то ни одна царица просто не носила такую корону, — сухо отозвалась я.
Тутмос рассмеялся.
— Передай ее величеству, чтобы она пришла сюда, — величественно произнес он, затем взмахнул рукой. — А теперь пусть все уйдут!
Женщины в расшитых юбках, надувшись, потянулись к двери, прихватив чаши с вином.
Когда компания исчезла, я спросила Тутмоса:
— А почему эти женщины так любят тебя?
Тутмос на мгновение задумался.
— Потому что я могу сделать их бессмертными. Когда я нахожу в ком-то подходящую модель, с которой можно ваять Исиду, то даже когда ветра времени изгладят ее память из ее дома, ее лицо все еще будет смотреть на людей со стен храмов.
Пока я возвращалась к Нефертити, сообщить ей, что скульптор готов, я размышляла над словами Тутмоса. Нефертити за это время переоделась, и мне стало любопытно: неужто она и вправду хочет, чтобы ее навсегда запомнили в таком виде? Она надела платье из такого тонкого льна, что оно было совершенно прозрачным. На запястьях, на лодыжках, повсюду от ушей до пальцев ног сверкали украшения из золота и фаянса. Мы прошли по коридорам дворца вместе, как много лет назад в Фивах, в ту ночь, когда она девственницей пришла к Эхнатону. Снаружи, из дворов доносился гомон толпы, смех и шум танцев, но во дворце было прохладно и тихо.
В мастерской Тутмоса уже были уложены подушки, чтобы Нефертити могла сесть. Для меня было поставлено кресло с подлокотниками. Тутмос низко поклонился вошедшей Нефертити:
— Фараон Нефернеферуатон-Нефертити…
Сестра, заслышав свой новый титул, улыбнулась.
— Я хочу бюст, — сообщила она скульптору. — С пекторалью и короной.
— С атакующей коброй.
Тутмос одобрительно кивнул и подошел поближе, разглядеть сверкающие рубины, что служили змее глазами. Нефертити уселась чуть повыше.
— Я сделаю этот бюст из известняка! — объявил он.
Я встала, собираясь уйти, но Нефертити воскликнула:
— Не уходи! Я хочу, чтобы ты это видела!
И мы провели всю вторую половину дня в мастерской. Мои воспоминания о величайшем в истории дурбаре полны картинами выпивки и танцев, но отчетливее всего в моей памяти отпечаталась Нефертити, восседающая посреди моря подушек. Кораллы и бирюза ее золотой пекторали блестели под лучами закатного солнца, а глаза ее напоминали обсидиановые озера. Лицо сестры было исполнено безмятежности. Нефертити наконец-то была уверена в том, что ее никогда не покинут, что посох и цеп фараона означают для нее вечную память.
29
 Шестой день дурбара
Шестой день дурбара
Шакалоголовый бог обрушился на Египет, когда простолюдины еще плясали на улицах, а сановники веселились во дворце. Сперва он крался по ночным переулкам, хватая рабочих фараоновой гробницы, а потом осмелел и явился в пекарский квартал посреди бела дня. Когда паника наконец-то докатилась до дворца, уже никто в Амарне не смог бы отрицать того, что видел.
Анубис явился с Черной смертью в зубах.
В шестой день дурбара отец вошел в Зал приемов, чтобы сообщить фараону эту новость. В открытых двориках, глядящих на реку, все еще танцевали.
— Ваше величество, — произнес отец, и лицо его было столь серьезно, что смеявшаяся Нефертити осеклась.
— Слушаю тебя. — Эхнатон широко улыбнулся. — В чем дело, визирь?
Отец остался все так же серьезен.
— Ваше величество, мне сообщили, что в рабочих районах появилась чума.
Эхнатон бросил взгляд на Нефертити и прошипел:
— Это невозможно! Мы пожертвовали Атону двести быков!
— И уже одиннадцать рабочих, трудившихся на постройке гробницы, умерло.
Несколько сановников попятились прочь от помоста, а Нефертити прошептала:
— Должно быть, это хетты.
— Ваше величество, я предлагаю вам перебраться на карантин в Северный дворец.
— Во дворец второй жены?! — воскликнула Нефертити.
— Нет. Мы останемся здесь, — решительно заявил Эхнатон.
Он оглядел Зал приемов. Придворные застыли в ужасе перед чумой. В соседних покоях еще играла музыка, но женский смех стих.
— Ваше величество, — перебил его отец. — Прошу, подумайте, мудро ли оставаться в этом дворце? По крайней мере, хеттов нужно изолировать от всех. Всех, явившихся с севера, нужно отослать…
— Никто никого никуда не будет отсылать! — рявкнул фараон. — Дурбар еще не окончен!
Теперь даже музыканты остановились. Эхнатон повернулся к ним и велел:
— Продолжайте играть!
Они тут же затянули какую-то мелодию, а Панахеси быстро подошел к помосту. Я даже не заметила, откуда он взялся.
— Мы можем провести в храме особое жертвоприношение, — предложил он.
Эхнатон, пренебрежительно отвернувшись от отца, улыбнулся Панахеси:
— Прекрасно. И Атон защитит город.
— Но заприте городские ворота! — взмолился отец. — Пускай никто не входит и не выходит!
— Да, ворота нужно запереть, — согласилась Нефертити.
— Чтобы наши гости подумали, что здесь чума?
— Они и так вскоре узнают об этом, — негромко произнес отец. — Зараза уже появилась в квартале пекарей.
На миг все в ужасе смолкли, а затем сановники заговорили все разом. Придворные прихлынули к помосту, желая знать, что делать и куда идти. Эхнатон поднялся с трона, а отец собрал нашу семью — Тийю, мою мать и Нефертити.
— Разойдитесь по своим покоям, — велел отец придворным. — Сидите там и не выходите.
— Здесь фараон я, и никто не пойдет в свои покои!
Но Нефертити воспротивилась:
— Делайте, как сказал визирь!
Вся наша семья ринулась прочь, и даже шаги Тийи были поспешны. Мы свернули в коридор, ведущий к царским покоям, но тут Эхнатон отказался идти дальше.
— Нам следует подготовиться к сегодняшнему вечеру!
Нефертити впала в бешенство, и я поняла, что ее трясет от страха.
— Тут чума на дворе, а ты хочешь готовиться к пиру?! Мы же не знаем, кто уже болен! Это может быть вся Амарна!
— И что, мы позволим нашим врагам увидеть нас слабыми? — возмутился в ответ Эхнатон. — Чтобы они увидели, как неприятности испортили нам празднество?
Нефертити не ответила.
— Тогда я сам приготовлюсь к празднеству, и никто не сможет забыть, для чего они собрались здесь. Ради славы Атона. Вот что войдет в историю!
Нефертити посмотрела вслед мужу, кинувшемуся в Большой зал, а мне вспомнилось, как много лет назад мы плыли на лодке и как отец сказал: «Он ненадежен». Сестра посмотрела на собственные резные изображения и изображения ее семьи, и глаза ее наполнились слезами.
— А ведь это должен был быть великолепный праздник…
— Ты пригласила хеттов, хотя знала, что у них зараза, — напомнила ей я.
— А что мне было делать? — огрызнулась Нефертити. — Разве его остановишь?
— Ты тоже этого хотела.
Нефертити покачала головой. Это в равной мере можно было понимать и как «да», и как «нет».
— Люди будут винить нас, — сказала она, когда мы дошли до ее покоев. — Они будут винить нашу преданность Атону.
Нефертити закрыла глаза, уже понимая, что за трагедия разворачивается сейчас на улицах Амарны и по всему царству.
— А вдруг чума доберется до дворца? — спросила она. — Вдруг она уничтожит все, что мы создали?
Я подумала об Ипу: она как-то упомянула, что ее отец использовал мяту, чтобы отгонять крыс от погреба, и что ни один из его работников не умер от чумы.
— Используй мяту, — сказала я ей. — Мяту и руту. Повесь ее себе на шею и на все двери.
— Тебе следовало бы уехать, Мутноджмет. Ты беременна. — Нефертити захлебнулась слезами. — А ты так хотела ребенка!
— Мы еще точно не знаем, чума ли это, — с надеждой произнесла я.
Отец, прежде чем войти в царские покои, бросил на меня долгий взгляд:
— Это чума.
И все же пир состоялся. В тот вечер вокруг было множество арфистов и лотосовых свечей, и блики пламени играли на серебряных и золотых украшениях сотни танцовщиц. Гости держались напряженно, но никто не посмел заикаться о чуме, уже ширящейся за стенами Большого зала Амарны. В ночном воздухе витал запах цветущих апельсиновых деревьев, а во внутреннем дворе смеялись гости, нервно и пронзительно. Нахтмин принес мне блюдо с отборными кусочками мяса, и мы поели, а в это время Анубис уже бродил по улицам. Женщины флиртовали, мужчины играли в сенет, а слуги раз за разом наполняли чаши красным вином. К концу празднества страх смерти почти покинул даже меня. И лишь на следующее утро, когда несколько сотен гостей учуяли в воздухе приторную сладость, всякий понял, что творится в городе.
Вернувшийся посланец сообщил об увиденном всему Залу приемов.
Пока мы пировали, тысяча бедняков уже гнила в своих постелях.
— Запереть дворец! — крикнул Эхнатон, и стражники-нубийцы кинулись выполнять его приказ, отрезая дворец фараона от города.
— А как быть со слугами, которых отправили с поручениями? — спросил отец.
— Раз они сейчас не во дворце, то умрут на улицах.
Нахтмин повернулся ко мне:
— Это наш последний шанс, Мутноджмет. Сейчас мы еще можем вернуться в Фивы. Мы можем бежать.
Я ухватилась за край стула.
— И бросить мою семью?
— Они сами решили остаться.
Он пристально взглянул мне в глаза, и мне вспомнился тот вечер у реки.
Подошедший отец положил руки мне на плечи.
— Ты беременна. Тебе нужно думать о ребенке.
Стук молотков вдали стих. Окна закрыли ставнями, двери заколотили досками. Если болезнь проберется во дворец, то разойдется по всем комнатам. Я положила руку на живот, словно могла этим защитить ребенка от надвигающегося ужаса. Я посмотрела на отца:
— А как же ты?
— Эхнатон не уедет, — сдержанно произнес отец. — Мы останемся с Нефертити.
— А мать?
Мать взяла отца за руку.
— Мы останемся вместе. Вряд ли чума проникнет во дворец.
Но, судя по глазам, она не очень-то верила в то, что говорит. Никто не знал, отчего чума приходит в тот или иной дом, к тому или иному человеку.
Я посмотрела на Нахтмина. Он уже понял, какое решение я приняла — то же самое, что и всегда. Он понимающе кивнул и взял меня за руку.
— Это может случиться и в Фивах.
Мы тихо собрались в Зале приемов. Иноземных дипломатов, от Родоса до Миттани, выставили на улицу, и меж массивных колонн сейчас собралось всего три сотни человек. Кийя со своими дамами торчала в углу, а Панахеси тем временем что-то нашептывал фараону. Почти все стояли недвижно. Никто не разговаривал. Мы выглядели словно пленники, ожидающие казни.
Я посмотрела на плачущих слуг. Писец, которого я много раз видела в Пер-Меджате, был без жены. Где она находилась в тот момент, когда фараон решил без всякого предупреждения запереть дворец? Возможно, отправилась в храм с благодарением или домой, навестить пожилую мать. Теперь они будут ожидать прихода чумы в разлуке и надеяться, что Анубис пощадит их обоих. Либо что они воссоединятся в загробном царстве. Я сжала руку Нахтмина, и он, взглянув мне в лицо, вернул пожатие.
— Ты боишься? — спросила я.
— Нет. Этот дворец — самое безопасное место во всей Амарне. Он стоит над городом и расположен в отдалении от жилищ рабочих. Чуме потребуется пересечь две стены, чтобы добраться до нас.
— Ты думаешь, в Фивах было бы лучше?
Нахтмин заколебался.
— Чума может добраться и до Фив.
Я подумала об Ипу с Джеди. А вдруг они уже заболели и заперты в собственном доме, и некому принести им ни еды, ни воды? А как же маленький Камосес? Нахтмин положил руку мне на плечо:
— Мы возьмем с собой твои травы и постараемся как можно лучше обезопасить себя. Я уверен, что Ипу и Джеди в безопасности.
— И Бастет.
— И Бастет, — уверенно произнес Нахтмин.
— Неужели чуму вправду принесли хетты? — прошептала я.
Лицо Нахтмина посуровело.
— На крыльях фараоновой гордыни.
Когда за стенами дворца люди умирали тысячами, я преждевременно отправилась в родильные покои.
Павильон, в котором рожала моя сестра, находился снаружи, так что женщины поспешно приготовили комнату с оградительными изображениями солнца на стенах, а когда начались схватки, сестра сунула мне в руку статуэтку Таварет, а потом спрятала ее под подушку, когда я стала кричать. Повитухи велели принести хепервер и базилик, чтобы помочь мне тужиться, а позднее, когда они послали за гвоздикой, я поняла, что это дитя — подарок от Таварет и что другого у меня может и не быть.
— Он идет! — закричали повитухи. — Он идет! — И я выгнулась в последнем усилии.
Когда мой сын наконец-то решил явиться в мир, солнце уже почти село. Его рождению не сопутствовало никаких благоприятных знаков. Он был ребенком погибели, ребенком заходящего солнца, ребенком, рожденным посреди хаоса, когда люди, пировавшие на дурбаре фараона, уже умирали на улицах, сперва чувствуя, что их дыхание отдает медом, а потом обнаруживая у себя в паху и под мышками опухоли и видя, что их члены чернеют и из них сочится гной. Но здесь, во дворце, повитухи сунули мне моего ребенка с возгласом:
— Госпожа, мальчик! Здоровенький мальчик!
Малыш завопил так, что услышал бы и Осирис, и сестра выскочила из родильных покоев, чтобы сообщить моим мужу и отцу, что мы оба живы.
Я погладила сына по густым темным волосикам и коснулась их губами. Они были мягкие, словно пух.
— Как ты его назовешь? — спросила мать, и в тот самый момент, когда в родильные покои влетел Нахтмин, я ответила: — Барака.
Неожиданное Благословение.
Два дня я осознавала лишь блаженство материнства и ничего более. Нахтмин постоянно находился рядом со мной, следя, не появятся ли у меня признаки лихорадки и не начнет ли маленький Барака кашлять. Он даже запретил слугам подходить к нам, на тот случай, если кто из них заражен чумой. На третий день, когда Нахтмин решил, что мы достаточно хорошо себя чувствуем, чтобы покинуть постель, он приказал перенести нас в нашу комнату, где он мог защитить нас от приходящих дворцовых доброжелателей.
На всех лицах лежала тень Анубиса. Слуги пробирались по коридорам дворца, стараясь не шуметь, и только вопли Бараки нарушали безмолвие гостевых покоев. Нефертити распорядилась, чтобы нашу комнату украсили бусами, золотыми, как кожа моего сына, и придворные дамы вынули бусины из своих причесок и нанизали их на нити. Так они могли хоть чем-то заняться, пока сидели во дворце, словно пленники. Меритатон, Мекетатон и Анхесенпаатон нарисовали по низу стен всяческие радостные картинки. Бусы висели в каждом углу и свисали с потолочных балок. По всему дворцу в жаровнях жгли мирру, и когда я впервые вошла в комнату, та была вся пропитана ее тяжелым запахом. Сестра посмотрела на Бараку, и мне почудилась тень негодования в ее глазах, но, когда Нефертити увидела, что я смотрю на нее, она радостно улыбнулась:
— Я уже нашла для тебя кормилицу; она будет кормить его, когда твои три дня пройдут.
— Кто она такая? — настороженно спросила я.
Я уже подумывала о том, чтобы кормить сына самой.
— Хеквет, жена одного жреца Атона.
— А ты уверена, что она не больна чумой?
— Конечно уверена.
— А откуда мне знать, что у нее хорошее молоко?
— Уж не думаешь ли ты кормить его сама? — спросила Нефертити. — Ты что, хочешь, чтобы к его трем годам у тебя груди отвисли до пупка?
Я посмотрела на сына, на его поджатые губки и довольное личико. Он был моим единственным ребенком — и, возможно, останется единственным. Почему бы мне не покормить его самой, по крайней мере до тех пор, пока чума не закончится? Кто знает, что может занести кормилица? Уже столько народу умерло! Но с другой стороны… Если я растрачу силы на кормление, а чума проникнет-таки во дворец, а я окажусь слишком слабой, чтобы сопротивляться ей? Барака останется без матери. А Нахтмин овдовеет, и ему придется растить сына в одиночку. Нефертити наблюдала за мной.
— Зови Хеквет, — сказала я. — Через два дня я перестану кормить Бараку. — Я коснулась его носика пальцем и улыбнулась. — Я понимаю, Нефертити, почему ты рожала пять раз.
Сестра скривилась:
— Значит, тебе это нравится куда больше моего.
Я посмотрела на нее с постели и попыталась возразить:
— Но ты всегда выглядела такой счастливой!
— Потому что оставалась в живых, — без обиняков заявила Нефертити.
Потом ее взгляд упал на Бараку.
— Но теперь мне это больше не понадобится. Я — фараон, и Мери станет фараоном после меня.
Я села на подушках. Барака недовольно запищал.
— А отец знает?
— Конечно! Кого еще он хотел бы видеть на престоле? Небнефера, что ли?
Я подумала о Кийе и Небнефере, устроившихся на противоположной стороне дворца. Весь амарнский двор — скульпторы, жрецы, танцовщицы, портные — все забились во дворец в поисках убежища. Теперь они теснились в комнатах вокруг Зала приемов. Всем, кто располагал влиянием или работал при дворе, разрешили остаться, но запасы еды были не безграничны.
— А что мы станем делать, если припасы закончатся прежде, чем чума? — медленно произнесла я.
— Пошлем за новыми, — непринужденно ответила Нефертити.
— Не лги, чтобы утешить меня. Я знаю, что мало кто из слуг решится выйти из дворца. Нахтмин рассказал мне, что к окнам вчера подходил вестник и рассказал, что умерло уже три сотни рабочих. Три сотни, — повторила я. — А всего с момента дурбара — две тысячи.
Нефертити заерзала:
— Мутноджмет, тебе не следует сейчас думать об этом. У тебя ребенок…
— И я не смогу защитить его, если не буду знать правду. — Я выпрямилась. — Нефертити, что сейчас творится?
Нефертити опустилась на стул рядом с моей кроватью. Лицо ее побледнело.
— На улицах беспорядки.
Я с силой втянула воздух и прижала Бараку к себе так, что он расплакался.
— И теперь ничто не помешает бунтовщикам напасть на тюрьму и освободить Хоремхеба, — сказала Нефертити. — Войско на карантине. Лишь малая часть солдат…
— В тюрьме тоже вспыхнет чума. Раз она началась среди рабочих, строивших гробницу…
— Но если он не умрет, они смогут освободить его. А он поднимет мятеж против нашей семьи. Мы все погибнем. — Нефертити заколебалась. — Кроме тебя. Тебя Нахтмин спасет.
— Нет, Нефертити. Боги на твоей стороне. Этого никогда не случится.
Нефертити криво усмехнулась, и я поняла, что она думает о чуме, явившейся в разгар дурбара, сразу после того, как она взошла на трон этой страны. Если боги на ее стороне, откуда тогда взялась чума?
— Так что же мы будем делать? — Я посмотрела на Бараку. Жизнь этой ни в чем не повинной крохи могла оборваться, едва начавшись. Но для чего бы богам поступать так? Посылать мне ребенка после столь долгого ожидания лишь для того, чтобы тут же отнять его? — Как думает отец — что нам следует делать?
— Он считает, что нам нужно отправить гонцов в Мемфис и Фивы — предупредить их.
— Ты что, не предупредила их?! — вскричала я.
— Мы закрыли порты, — возразила Нефертити. — Никто не может уехать. Ворота заперты. Если мы отправим гонцов в Фивы, то что подумают люди? Вот так вот сразу после дурбара?
Я посмотрела на заколоченные окна.
— Это против законов Маат — не предупредить их.
— Эхнатон не станет этого делать.
— Значит, это должна сделать ты, — сказала я ей. — Ты теперь фараон.
Шесть человек из дворца получили плату золотом за согласие доставить послания в Мемфис и Фивы и предупредить о состоянии дел в Амарне, — предупредить, что хетты принесли на дурбар фараона чуму и она забрала уже две тысячи жизней.
Высеченных гробниц не хватало на всех мертвых. Даже богатых бросали в общие могилы, навеки безымянных. Некоторые люди рисковали жизнью, лишь бы надеть на своих любимых амулеты, чтобы Осирис мог узнать их. Эти могилы снились мне по ночам, и, когда я проснулась в слезах, Нахтмин спросил, что тревожит мои сны.
— Мне приснилось, что Осирис не смог найти меня, что я оказалась потеряна для вечности, что никто не потрудился написать на гробнице мое имя.
Муж погладил меня по голове и поклялся, что такого не будет, что он пойдет на любой риск, но вложит амулет в мою ладонь, прежде чем меня похоронят.
— Поклянись, что ты не станешь этого делать! — взмолилась я. — Поклянись, что, если я умру от чумы, ты позволишь забрать мое тело, хоть с амулетом, хоть без!
Нахтмин обнял меня, стараясь защитить от страхов.
— Конечно, никто тебя не заберет без свидетельства для богов. Я никогда этого не допущу.
— Но ты должен будешь разрешить, чтобы меня забрали! Потому что если я умру, а ты заболеешь, кто же позаботится о Бараке?
— Не говори так.
— Нахтмин, вся Амарна умирает. Отчего бы уцелеть дворцу?
— Оттого, что мы защищены. Твоими травами и расположением на холме. Мы выше чумы, — попытался успокоить меня он.
— А если люди ворвутся в дворец и принесут чуму с собой?
Мое недоверие застало Нахтмина врасплох.
— Тогда солдаты будут сражаться с ними, потому что здесь они защищены и накормлены.
Тут утреннюю тишину нарушил плач Бараки, и Нахтмин взял его на руки. Он с нежностью посмотрел на нашего сына и осторожно вручил его мне. Завтра малышу предстояло перейти на молоко кормилицы.
— Нефертити отправила в Мемфис и Фивы сообщение о чуме, — сказала я мужу.
Нахтмин внимательно посмотрел на меня.
— Как только чума минует, Эхнатон узнает об этом.
— Откуда ты знаешь, что она минует?
— Так бывает всегда. Вопрос только в том, скольких Анубис заберет с собой, прежде чем уйдет.
Я содрогнулась.
— Нефертити сказала, что на улицах беспорядки…
Нахтмин пристально взглянул на меня.
— Почему она сказала тебе об этом?
— Потому что я хотела знать. Потому что я никогда не лгала ей, и она знает, что я хотела бы от нее того же. Зря ты не сказал мне.
— Но зачем? Какой в этом толк?
— Представь, как я была бы потрясена, если бы бунтующие ворвались во дворец. Я могла бы не успеть спрятать нашего сына.
— Они не ворвутся во дворец, — убежденно произнес Нахтмин. — Его защищает войско фараона. Солдаты едят ту же пищу, что и мы, и носят те же травы. При всей своей глупости Эхнатон все же не настолько глуп, чтобы рисковать потерять свое войско или нубийских стражников. Нам ничего не грозит. А даже если они и явятся, я защищу тебя.
— А если они явятся вместе с Хоремхебом? — спросила я и по лицу мужа поняла, что он тоже об этом думал.
— Тогда Хоремхеб велит им не трогать тебя.
— Потому что он твой друг?
Нахтмин сжал зубы. Ему не нравилось, в какую сторону ушел наш разговор.
— Да.
— А Нефертити? — спросила я.
Нахтмин не ответил.
Я понизила голос:
— А мои племянницы?
Он снова не ответил. Вместо этого постучал посланец и попросил нас явиться в Зал приемов.
Нахтмин предположил было, что нас опять зовут играть в сенет, но на этот раз дело обстояло иначе. Отец позвал нас, чтобы сообщить, что умерло уже три тысячи египтян.
— Начинайте запасать хлеб в своих комнатах, — сказал он тем, кто собрался в зале. — И воду в сосудах. Чума протянет дольше, чем наши запасы.
Уже выйдя в коридор, отец обернулся и посмотрел на пустые троны и столы из черного дерева. Через час зал заполнится танцовщицами, а Эхнатон велит посланникам играть в сенет.
— Пустая оболочка, — негромко произнес отец. — Они целовали его сандалии, как он и желал, а теперь люди валяются мертвыми у его ног.
Когда в Зал приемов с криком вбежал повар — лицо его было все в бусинках пота, — мы поняли что чума вступила в Приречный дворец.
— Два поваренка больны! — вскричал повар. — На кухнях смерть! Пять крыс и жена пекаря мертвы!
Игроки в сенет остановились, и пальцы арфиста застыли от ужаса при этих словах толстяка.
Он все равно что спустил Анубиса с поводка.
Нахтмин схватил меня за плечо:
— Иди в наши покои. Приведи Хеквет с ее ребенком, потом запри дверь и никому не открывай, пока не услышишь мой голос. Я иду за свежей водой.
Придворные кинулись прочь. Нефертити встретилась со мной взглядом, и я почувствовала, в каком она ужасе от того, что Амарна ускользает из ее рук. Если чума проникла во дворец, это — смертный приговор для всех, кто заперт в нем. Эхнатон поднялся с трона и призвал стражников. Он кричал, что никто не смеет покидать его. Но ширящаяся паника была неостановима. Фараон повернулся к Майе, сидевшему у подножия помоста.
— Останься! — велел он.
Лицо зодчего посерело. Его город, возведенный в честь жизни, превратился теперь в монумент смерти. Посреди паники кто-то отдал приказ отвести детей в детскую. Всех детей младше шестнадцати отправили в самые защищенные покои во дворце.
— Кто будет присматривать за ними? Кто-то должен позаботиться о детях! — крикнул отец.
Но хаос было не перекричать. Ни один стражник не ступил вперед. Затем вперед вышла Тийя, мертвенно-бледная, но спокойная.
— Я присмотрю за детской.
Отец кивнул.
— Прикажи стражникам снова запереть окна, — приказал он Нефертити. — Пусть убивают всякого, кто попытается бежать. Они подвергают наши жизни опасности.
— Да какая разница? — пронзительно вскрикнула какая-то женщина. — Чума уже во дворце!
— На кухне! — огрызнулся отец. — Ее можно сдержать.
Но ему никто не поверил.
— Эй ты! — крикнул Эхнатон, указав на какую-то придворную даму, которая протолкнула своего ребенка сквозь открытое окно и собралась сама последовать за ним. Фараон выхватил у стражника лук и стрелы. — Еще шаг — и ты умрешь!
Женщина посмотрела на себя, на ребенка, сделала движение, собираясь втащить ребенка обратно, — и тут свистнула стрела. Все ахнули, а затем в Зале приемов воцарилось мертвое молчание. Женщина осела на пол, а ребенок закричал. Эхнатон опустил лук.
— Никто не покинет дворец! — выкрикнул фараон.
Он наложил вторую стрелу на тетиву и прицелился в середину молчащей толпы. Нефертити подошла к нему сзади и опустила оружие.
— Никто больше не уходит, — произнесла она.
Люди смотрели на нее круглыми, перепуганными глазами.
Эхнатон подошел к одному из жрецов. Тот рухнул к ногам фараона.
— Всякий, кто откроет окно или подсунет письмо под наружную дверь, отправится на кухню умирать. Стража! — распорядился Эхнатон. — Убейте всех поваров и поварят. Чтобы на кухне не осталось никого живого. Даже кошек.
Он посмотрел на повара, принесшего весть о чуме, и приказал:
— Начните с него.
Стражи поспешили выполнить приказ. Вопящего повара выволокли из Зала приемов прежде, чем он хотя бы успел взмолиться о пощаде. Наша семья дружно посмотрела на Нефертити.
— Все расходитесь по своим комнатам, — распорядилась она. — Тот, кто заметит у себя признаки чумы, пускай возьмет уголек из жаровни и нарисует над дверью Око Гора. Еду будут приносить раз в день.
Увидев одобрительный кивок отца, Нефертити приободрилась и заговорила громче и увереннее:
— Слуги будут брать еду из погребов, не из кухни. И чтобы никто не выходил из своих покоев до того, как дворец освободится от чумы, и еще две недели после этого.
Вперед вышел Панахеси, которому не терпелось очутиться в центре событий.
— Мы должны совершить жертвоприношение! — провозгласил он.
Эхнатон поддержал его:
— Да, пускай под каждой дверью поставят блюдо с мясом и чашу с лучшим вином Амарны!
— Нет! — Я кинулась к помосту. — Нужно повесить на каждую дверь венок из мяты и руты — и ничего больше!
Эхнатон развернулся ко мне.
— Сестра фараона считает, что знает больше, чем верховный жрец Атона?
Нефертити разозлилась:
— Она сведуща в травах! И она предлагает руту, а не гниющее мясо!
В голосе Эхнатона появилась подозрительность:
— А откуда ты знаешь, что она не пытается избавиться от своей сестры и шурина? Вдруг она хочет захватить трон ради своего сына?
— Пускай на каждую дверь повесят венок из мяты и руты, — распорядилась Нефертити.
— А жертвоприношение? — попытался надавить на двух фараонов Египта Панахеси.
Эхнатон выпрямился.
— Пусть его поставят у каждой комнаты, в которой желают защиты Атона, — громко объявил он. — Те же, кто желает навлечь на себя гнев великого бога, — он взглянул мне в глаза, — обойдутся без подношения.
Все расходились из Зала приемов в подавленном настроении. Когда толпа рассосалась, Нефертити коснулась моей руки:
— Что ты будешь делать?
— Вернусь к Бараке, запрусь и никого не буду впускать.
— Ведь нам нельзя быть всем вместе, да? — спросила сестра. — Собрать всю нашу семью в одних покоях — это значит рисковать всем.
В голосе ее звучал страх, и мне подумалось, что впервые рядом с ней будет только Эхнатон и никого более. Наши родители отправятся в свои покои, а Тийя будет присматривать за детьми.
Я погладила ее по руке.
— Мы переживем это по отдельности, — сказала я.
— Откуда ты знаешь? Ты можешь умереть от чумы, а я даже не узнаю об этом, пока кто-нибудь из слуг не сообщит об Оке Гора. А мои дочери… — Стройная фигурка Нефертити словно бы уменьшилась на глазах. — Я буду совсем одна.
Именно этого она боялась сильнее всего. Я взяла руку сестры и прижала к сердцу.
— С нами все будет хорошо, — пообещала я. — Мы увидимся через две недели.
Так я солгала ей единственный раз в жизни.
Черная смерть расползалась по дворцу, а Панахеси тем временем разносил подношения — блюда с солониной — к дверям тех, кто хотел получить благословение Атона. Он шел по коридорам в своем одеянии из шкуры леопарда и самых тяжелых золотых кольцах, а за ним тянулись молодые жрецы и высокими голосами пели хвалу Атону. А пока они пели, Анубис опустошал дворец.
Когда Панахеси подошел к нашей двери, Хеквет велела ему уходить.
— Погоди! — Я распахнула дверь и очутилась лицом к лицу со жрецом. Нахтмин и кормилица вскрикнули. — Я буду держать перед собой ветку руты, — пообещала я и снова повернулась к Панахеси. — Ты положил подношение у детской?
Панахеси отбросил полу леопардового плаща за спину и двинулся к следующей двери.
— Ты положил подношение у детской?! — крикнула я.
Жрец снисходительно посмотрел на меня:
— Конечно.
— Не делай этого! Не оставляй там подношение! Я дам тебе все, что ты захочешь, — в отчаянии взмолилась я.
Панахеси смерил меня взглядом.
— А что мне может понадобиться от сестры главной жены царя?
— От сестры фараона, — поправила его я.
Панахеси скривился.
— В детской спит мой внук. Ты думаешь, что я погублю надежду Египта, лишь бы только убить шесть ничего не значащих девчонок? Тогда ты и вправду настолько глупа, как я думал.
— Закрой дверь! — закричала сзади Хеквет. — Закрой дверь! — взмолилась она, держа на руках обоих наших детей.
Я посмотрела вслед Панахеси, уходящему с блюдами, полными мяса, а потом затворила дверь, подсунула под нее мяту и руту и заперла комнату.
Прошло два дня, а во дворце так и не появилось ни признаков Черной смерти, ни Ока смерти ни над какой из дверей. А затем, на третью ночь, ровно тогда, когда мы уже начали верить, что дворец останется защищен, Анубис вошел закусить во все покои, перед которыми стояли подношения Атону.
На рассвете тишину коридоров разорвали пронзительные крики служанки. Она промчалась к царским покоям, на бегу крича про Око Гора.
— Парень рядом с кухней! — в ужасе вопила она. — И старший конюший! Все, кто оставил подношения Атону! Два посланца из Абидоса! И один с Родоса! Из их комнат слышен запах!
— Что теперь? — шепотом спросила я за нашей запертой дверью.
— Теперь будем ждать и смотреть, — ответил Нахтмин, — и надеяться, что смерть посетит только тех, кто оставил подношения Атону.
Но когда жители Амарны увидели едущие ко дворцу повозки смерти, город захлестнула ярость. Если бог фараона не защитил дворец Амарны, с чего бы вдруг ему защищать жителей города? Невзирая на риск, египтяне вышли на улицы, скандируя гимны Амону и разбивая изображения Атона. Они явились к воротам дворца и потребовали, чтобы им сообщили, жив ли еще фараон-еретик. Я подошла к нашим заколоченным окнам и услышала крики.
— Слышите, как они его называют? — прошептала я.
Глаза Хеквет были круглыми от страха.
— Царь-еретик, — отозвалась она.
— А ты слышишь, что они кричат?
Мы прислушались к грохоту камней и молотков. Люди уродовали статуи Эхнатона и кричали, призывая разрушить саму Амарну: «Сожжем ее! Сожжем ее!»
Я прижала Бараку к груди.
В полдень, когда принесли еду, Нахтмин отворил дверь и потрясенно отступил. Еду принесла другая служанка; она дрожала и плакала.
— Что случилось? — спросил Нахтмин.
— Детская! — выдохнула девушка.
Я передала сына Хеквет и подбежала к двери.
— Что там?
— Все заболели, — заплакала она, протягивая нам корзину. — Все дети заболели!
— Кто?! Кто заболел?! — крикнула я.
— Дети. Царевны-двойняшки умерли. Царевна Мекетатон скончалась. И Небнефер, госпожа…
Служанка закрыла рот ладонью, как будто готовые сорваться слова следовало удержать любой ценой.
Нахтмин схватил девушку за руку:
— Умер?
У служанки задрожали колени.
— Нет. Но у него чума.
— Давай сюда еду и закрой дверь, — быстро произнес Нахтмин.
— Подожди! — взмолилась я. — Нефертити и мои родители. На их комнатах есть Око Гора?
— Нет, — прошептала девушка, — но наша фараон захочет умереть, когда услышит, что из шести ее царевен осталось всего три.
Я в ужасе отпрянула.
— Так ей не сказали?
Девушка сжала губы. Слезы ее полились сильнее, и она покачала головой:
— Об этом никому не сказали, кроме тебя, госпожа. Слуги боятся его.
Его. Эхнатона. Я оперлась о дверной косяк. Три царевны умерли, а вскоре и царевич Египта будет мертв. А раз чума проникла в детскую, что случилось с Тийей? С Меритатон и Анхесенпаатон? Нахтмин запер дверь на засов, а Хеквет тут же
вскочила:
— Нам не следует есть эту еду.
— Чума не передается через еду, — сказал Нахтмин. — Иначе мы бы все уже поумирали.
— Кто-то должен спасти выживших, — сказала я.
Нахтмин устремил взгляд на комнату, в которой лежал наш сын.
— Кто-то должен спасти царицу и Меритатон, — повторила я. — Анхесенпаатон…
— Погибла.
Взгляд мужа был мрачен.
— Она еще жива! — запротестовала я.
— Но мы ничего не можем для нее сделать. Ни для кого из них. Раз три царевны уже умерли, детская должна быть на карантине.
— Мы можем отделить здоровых. Мы можем разместить их в отдельных покоях и дать им возможность выжить.
Нахтмин покачал головой:
— Фараон отнял у них всякую возможность выжить, когда пригласил хеттов, а потом послушался Панахеси.
Вскоре новость о том, что царевны-двойняшки, двухлетняя Неферуатон и пятилетняя Мекетатон унесены смертью, стала известна всем.
Во дворах зазвонили колокола, и во дворце послышались крики. Женщины плакали и молили Атона снять проклятие, павшее на амарнский дворец. Пришедшая служанка рассказала нам, что в детскую — спасти царицу и оставшихся принцесс — отправили нубийских стражников, но для Небнефера это оказалось слишком поздно. Я заперла дверь, и мы прислушались к крикам под стенами дворца. Никогда еще они не были такими громкими.
— Они знают, что во дворце чума, — сказал Нахтмин, — и думают, что раз умерли даже дети фараона, то это, должно быть, из-за того, что фараон сделал что-то плохое.
Крики не прекращались три дня. Нам слышно было, как разгневанные египтяне взывали к милосердию Амона и проклинали фараона-еретика, навлекшего на них чуму. Я стояла рядом с окном, прижавшись лицом к доскам, и, закрыв глаза, прислушивалась к крикам.
— Он никогда не станет известен как Эхнатон Строитель. Они всегда будут звать его Фараон-еретик.
Я подумала о Нефертити, сидящей в одиночестве в своих покоях, представила, как она узнала, что четверо из ее детей умерли, — и, когда я посмотрела на моего сына, сосущего грудь Хеквет, у меня защипало глаза. Барака такой маленький. Слишком маленький, чтобы сражаться с чем-то столь великим. На ночь я взяла его к себе и пыталась быть благодарной за то время, что провожу с ним.
Днем мы услышали у дворца грохот повозок смерти. Когда повозки приблизились, мы бросили игру в сенет. Чье тело разденут и сожгут навеки безымянным, без знака, по которому Осирис, когда вернется на землю, смог бы узнать его? Я просила служанок, приносящих нам еду, принести еще руты, но все они говорили, что ее во дворце не осталось.
— А в погребах вы смотрели? Ее могли положить среди вина. Посмотри надписи на бочках.
— Прости, госпожа, я не умею читать.
Я взяла из шкатулки тростниковое перо и чернила и написала на обороте одного из лекарских папирусов название травы. Мне пришлось преодолеть себя, чтобы порвать этот папирус. Потом я сунула обрывок женщине в коридоре.
— Должна быть вот такая надпись. Поищи ее на бочках. Если найдешь, возьми и себе и положи под дверь. Отнеси, сколько сможешь, моей сестре и родителям. А остальное принеси нам. Если найдется вторая бочка, раздай ее содержимое всем выжившим.
Женщина кивнула, но прежде, чем она удалилась, я спросила ее:
— Что заставляет тебя ходить по этим чертогам смерти?
Служанка обернулась. Взгляд у нее был загнанный.
— Золото. Мне платят золотом за каждый день, и я складываю кольца в своей комнате. Если я выживу, то отдам их сыну, и он сможет выучиться на писца. Если же я умру от Черной смерти, он сделает с ними что захочет.
Я подумала о Бараке, и у меня перехватило дыхание.
— А где твой сын?
Морщины вокруг глаз служанки словно бы разгладились немного.
— В Фивах. Ему всего семь лет. Мы отослали его туда, когда пришли известия о Черной смерти.
Поколебавшись, я спросила:
— А многие ли слуги отослали своих детей в Фивы?
— Да, госпожа. Мы все думали, что и вы поступите так же, и царица…
Но тут она осеклась и посмотрела на меня, проверяя, не сказала ли она лишнего.
— Спасибо, — прошептала я. — Если найдешь руту, принеси ее сразу же.
Служанка вернулась на следующий день с корзинкой трав.
— Госпожа! — Она нетерпеливо постучалась к нам. Нахтмин приотворил дверь ровно настолько, чтобы разглядеть ее лицо. — Пожалуйста, скажите госпоже, что я нашла траву и сделала все так, как она велела. Я положила понемногу под каждую дверь и отнесла корзинку визирю Эйе.
Нахтмин поманил меня, и я сменила его у двери, приотворенной лишь на самую малость.
— А царице?
Служанка заколебалась.
— Фараону Нефернеферуатон-Нефертити?
— Да. Ей ты отнесла?
Служанка потупилась, и я тут же догадалась:
— Что, к двери подошел фараон Эхнатон? Пожалуйста, вернись туда и положи руту им под дверь.
Женщина ахнула.
— А вдруг меня кто-нибудь увидит?
— Если кто спросит, скажешь, что ты выполняешь приказ моей сестры. Фараон заперт внутри. Он никогда об этом не узнает.
Служанка попятилась. Я коснулась ее руки.
— Ему никто не скажет, — пообещала я. — А если он спросит у царицы, она поймет, что это от меня, и скажет, что да, она так распорядилась.
Но служанка все медлила, и я поняла, чего она ждет.
Я нахмурилась.
— Мне нечего тебе дать.
Служанка посмотрела на мой браслет. Он не был золотым, но он был сделан из бирюзы. Мне его подарила Нефертити. Я сняла браслет и сунула служанке. И заставила ее поклясться, что она сплетет венки из руты и развесит их повсюду.
Служанка положила браслет в корзинку.
— Обязательно, госпожа.
Я не видела эту служанку семь дней, и мне оставалось лишь надеяться, что она сделает то, за что ей заплатили. А крики во дворце становились все отчаяннее. Я слышала топот женских сандалий по плитам коридора. Кто-то в исступлении бился в запертые двери, и я представляла себе ужас этих людей. Но мы не открывали никому и не покидали своих покоев. На восьмую ночь в нашу дверь стала колотить женщина, у которой умер ребенок, она отчаянно взывала к нам, умоляя отворить.
Я поняла, что она не хочет умирать одна, и прижала Бараку к груди, понимая, что нам недолго суждено быть вместе.
— Не прижимай его так сильно. Ты можешь навредить ему, — попыталась увещевать меня Хеквет.
Но мой страх все возрастал.
— Запас еды не бесконечен. Если мы не умрем от чумы, так умрем от голода. А наша гробница не закончена! А для Бараки даже не сделали саркофаг!
У Хеквет расширились глаза.
— И для моего сына тоже, — прошептала она. — Если мы умрем, то сгинем здесь безымянными.
Нахтмин яростно замотал головой:
— Я не допущу этого! Не допущу, чтобы такое случилось ни с тобой, ни с ним!
Я посмотрела на нашего сына.
— Надо помолиться Амону.
Хеквет ахнула:
— Во дворце фараона?
Я прикрыла глаза.
— Да. Во дворце фараона.
На следующее утро, когда солнце встало, во дворце не обнаружилось новых признаков чумы и не появилось больше ни одного Ока Гора. Мы подождали еще день, потом два, а когда прошло семь дней и не осталось никакой еды, кроме черствого хлеба, придворные начали понемногу выбираться из своих покоев.
Я увидела служанку, рисковавшую жизнью ради золота.
Она пережила Черную смерть. Теперь она могла отправить своего сына в школу, чтобы он стал писцом. Но многие, очень многие оказались не столь удачливы. Из комнат вышли сломленные матери и отцы, потерявшие единственных сыновей. Я увидела Майю; никогда прежде он не выглядел таким согбенным и болезненным. Глаза его потухли. Когда мы вышли, по дворцу ползли шепотки о том, что фараон Египта болен.
— Чумой?
— Нет, госпожа, — тихо произнесла женщина, положившая руту под дверь моей сестре. — Рассудком.
Во дворце зазвонили колокола, созывая визирей, придворных и всех оставшихся слуг в Зал приемов. В зале, где прежде стояли сотни, осталась лишь горстка людей. Я тут же принялась оглядывать зал, разыскивая родителей.
— Мават!
Я кинулась к матери, а она расплакалась и прижала Бараку к груди — так крепко, что он завопил. Нефертити посмотрела на нас с трона. Я не могла понять по ее лицу, что она думает, но она держала Эхнатона за руку. У подножия их тронов сидели Меритатон и Анхесенпаатон. Из семьи в восемь человек осталось всего четверо, и даже маленькая Анхесенпаатон сидела тихо и неподвижно — должно быть, онемев от того, что ей пришлось насмотреться в детской, когда там умирали ее сестры.
— Нам следует покинуть Амарну, — прошептала мать. — Покинуть этот дворец и перебраться в Фивы. Тут произошли ужасные вещи.
Я подумала было, что она имеет в виду проклятие чумы, но, когда отец стиснул зубы, я поняла, что они имеют в виду нечто иное.
Я посмотрела на них:
— О чем вы?
Мы отошли от помоста, чтобы нас не было слышно.
— На седьмой день карантина фараон оскорбил царя Ассирии.
— Царя? — переспросил Нахтмин.
— Да. Царь Ассирии прислал посланца; он хотел получить три трона из черного дерева. Когда посланец добрался сюда, он узнал, что здесь чума, и заколебался. Но у него был приказ его царя, и он вошел в город и добрался до дворца.
— Стражники вместо твоего отца позвали фараона, — выпалила мать, — а Эхнатон отослал его прочь. С подарком.
Нахтмин услышал в голосе моей матери зловещие нотки и посмотрел на отца:
— Что это был за подарок?
Отец прикрыл глаза.
— Детская рука, изуродованная чумой. Из детской.
Я отшатнулась. Нахтмин помрачнел.
— У ассирийцев многотысячное войско, — мрачно предупредил он.
Отец кивнул и без тени сомнения произнес:
— Они выступят на Египет.
— Здесь слишком опасно, — заявил Нахтмин.
Я поняла, что теперь не мне решать, оставаться ли тут. Мы пережили Черную смерть. Но когда на Египет обрушатся ассирийцы, Амон может и не оказаться столь же милостив. Нахтмин посмотрел на меня:
— Мы ничего больше не можем сделать.
— Подождите погребения. Ну пожалуйста! — взмолилась Нефертити.
— Мы уезжаем сегодня вечером. Ассирийцы у порога, а твое войско не готово встретить их.
— Но ведь сегодня вечером похороны! — в отчаянии произнесла Нефертити. — Останься со мной, — прошептала она. — Это же мои дети. Твои племянницы.
Я взглянула ей в глаза и заколебалась, потом тихо спросила:
— Что сделали с телами?
Нефертити задрожала.
— Приготовили к сожжению.
Я прикрыла рот ладонью.
— Так погребения не будет?
— Они умерли от чумы! — с яростью произнесла сестра, но гнев ее был направлен не на меня.
Я подумала о Мекетатон и о маленькой Неферуатон, об языках пламени, что скоро окружат царевен Египта и скроют от взглядов.
— Но сразу же после этого мы уезжаем в Фивы, — непреклонно произнесла я. — И если нашим родителям хватит мудрости, они возьмут Тийю и последуют за нами.
Наша тетя все еще была нездорова, но не из-за чумы. У нее болело сердце. Она была в детской, когда Анубис нанес удар. Она видела, как умирают ее внуки, Мекетатон, Неферуатон, Небнефер. А ведь там были и другие: сыновья и дочери богатых торговцев и писцов. Когда я пришла навестить ее, у меня на глаза навернулись слезы. Я стала упрашивать тетю:
— Поедем с нами! Разве тебе не хочется развести свой сад?
Тийя покачала головой и сжала мою руку.
— Скоро я буду разводить сад в вечности.
Теперь же головой покачала Нефертити.
— Отец никуда не поедет, — сказала она. — Он не оставит меня.
— Люди разгневаны, — предупредила я ее. — Они умирали от чумы и винят в этом фараона. Они верят, что Атон отвернулся от них.
— Я не могу слышать этого. Сейчас не могу.
— Тогда ты услышишь об этом, когда станет слишком поздно!
— Я сумею это исправить!
— Как? Что ты сделаешь, когда царь Ассирии увидит отправленный ему подарок? Ты думаешь, восточные царства еще не узнали о безрассудстве Эхнатона? Как ты думаешь, отчего они писали отцу, а не ему?
— У него были мечты… Мечты о могуществе, Мутноджмет. Он так хотел, чтобы его любили…
— Как и ты.
— Это не одно и то же.
— Нет, потому что он ничего не сделал для этого. А ты умна и практична. Ты вся в отца, и потому он любит тебя больше всех.
Нефертити попыталась было что-то сказать, но я продолжала:
— Поэтому он и останется здесь с тобой, даже если город рухнет. Даже если все мы умрем. Но стоит ли оно того? — гневно спросила я. — Стоит ли бессмертие такой цены?
Нефертити не ответила. Я печально покачала головой и ушла. Я отыскала Нахтмина и Бараку в коридоре, ведущем к нашим покоям.
— Хеквет поедет с нами, — сказал Нахтмин. — Сейчас баржи не приходят в Амарну и не уходят отсюда. Мы можем уехать верхом и найти корабль за пределами города. Мы не будем подходить к жилищам рабочих. Мы поедем прямо к воротам. Нас выпустят, — уверенно произнес он.
— Но мы не сможем уехать до вечера, — сообщила я ему. — Сегодня похороны. Я знаю, что ты скажешь, но она не справится с этим сама. Просто не справится.
— Так это будет огненное погребение? — спросил Нахтмин.
Я кивнула.
— Маленькая Неферуатон… — Я посмотрела на Бараку, лежащего на сильных отцовских руках, и у меня задрожали губы. — Я не представляю, как Нефертити вынесет это.
— Вынесет, потому что она сильна и ей ничего больше не остается. Твоя сестра не дура, невзирая на то что она поддержала Эхнатона. И она не слаба.
— Я бы не вынесла, — призналась я.
Нахтмин коснулся моей щеки и посмотрел в глаза:
— Тебе никогда и не придется этого делать. Я увожу тебя отсюда, хочешь ты того или нет.
— Но после погребения.
Когда стемнело, раздался звон колоколов, и жрецы Атона, пережившие чуму, собрались во дворе дворца Амарны. На всех были венки из руты. Костер сложили нервничающие слуги — чума могла таиться за любым камнем, — но мы собрались все вместе, закрыв лица покрывалами. Женщины плакали. Мать прижалась к моему плечу в поисках поддержки, а отец тем временем стоял рядом с Нефертити — они были словно два непокорных столпа силы. Кийя рыдала так, что это невозможно было слушать. Она была на позднем сроке беременности, и я поразилась тому, что в этом непростом состоянии она сумела пережить чуму.
Но, впрочем, маленький Барака тоже ведь пережил…
Кийя рыдала так, что сердце разрывалось, и я подумала, как это жестоко, что рядом с ней сейчас нет никого, кроме нескольких женщин, которых она оставила при себе. Панахеси в одеянии жреца стоял у сложенного костра, а Эхнатона держала за руку Нефертити, боясь отпустить.
— Как ты думаешь, они с Атоном? — спросила Анхесенпаатон.
Она стала теперь совсем другой, печальной и замкнутой.
— Думаю, да, — солгала я, поджав губы. — Да.
Анхесенпаатон повернулась к языкам огня, поднявшимся с дальней стороны погребального костра. Тела были завернуты в льняные простыни, сбрызнутые рутой. Пламя взметнулось к небу и поглотило царевен. Затем огонь добрался до Небнефера, и саван спал с него, обнажив лицо. Над двором пронесся отчаянный крик, и Панахеси схватил Кийю. Эхнатон посмотрел на своих охваченных горем жен, и что-то в нем сломалось.
— Это все почитатели Амона виноваты! — выкрикнул он. — Нас предали! Это кара Атона! — закричал он, теряя рассудок. — Колесницу мне!
Стражники-нубийцы попятились.
— Колесницу! — закричал фараон. — Я сломаю все двери, войду в каждый дом, но отыщу их лжебогов! Они почитают Амона в моем городе! В городе Атона!
Он был безумен. Лицо его исказилось от бешенства.
Нефертити схватила мужа за руку:
— Стой!
— Я разорву на части всех, в чьих домах есть лжебоги! — поклялся Эхнатон.
Он вырвал руку, сбросил плащ и вскочил на поданную колесницу. Лошади беспокойно заржали. Эхнатон взмахнул хлыстом.
— Стража! — крикнул он, но стражники в страхе отступили.
В городе еще бушевала чума, и никому не хотелось рисковать жизнью. Когда Эхнатон увидел, что никто не последует за ним, он приказал отворить ворота, невзирая ни на что.
— Не открывать! — рявкнула Нефертити.
Стражники переводили взгляды с одного фараона на другого, не понимая, кому же подчиняться. А потом Эхнатон погнал колесницу прямо на запертые ворота, и Нефертити, испугавшись, что он сейчас разобьется насмерть, закричала:
— Откройте! Открыть ворота!
Эхнатон и не подумал останавливаться. Ворота едва-едва успели отвориться, как бешеная колесница с наездником промчалась сквозь них. Фараон Египта исчез в ночи, а языки пламени во дворе поднялись еще выше, скрывая тела его детей.
Нефертити шагнула в круг света. В правой руке у нее были посох и цеп, знаки власти. Левую она сжала в кулак.
— Верните его обратно!
Стражники заколебались.
— Я — фараон Египта! Верните его обратно, — она повысила голос, — пока он не уничтожил всю Амарну!
Из дворца с плачем выбежала служанка, и все, кто находился во дворе, дружно обернулись. Девушка упала на колени перед Нефертити.
— Ваше величество, вдовствующая царица скончалась!
Присутствующие истерически запричитали, и отец быстро подошел к Нефертити.
— Если он вернется, он может принести чуму. Мы должны отпустить обитателей дворца. Найти баржи и вывезти их за пределы города. Слуги останутся. Твои дети…
— Должны уехать, — самоотверженно произнесла Нефертити. — Пускай Мутноджмет увезет их.
Ее слова потрясли меня.
— Нет! — воскликнула Меритатон. — Мават, я тебя не оставлю! Я не уеду из Амарны без тебя!
Отец взглянул на Меритатон, оценивая, насколько серьезно она настроена.
— Я не покину дворец! — решительно заявила Меритатон.
Отец кивнул:
— Тогда отошли с Мутноджмет Анхесенпаатон. Они могут пожить в Фивах до той поры, пока Эхнатон не восстановит порядок.
Он посмотрел в сторону дворца и на миг прикрыл глаза — но это было единственной передышкой, какую он себе позволил.
— А теперь я должен повидать мою сестру, — сказал он.
Я видела, какую дань взимала власть с моей семьи. У отца запали глаза, а Нефертити словно бы съежилась под бременем стольких потерь. А вот теперь скончалась женщина, приведшая нас к власти. Никогда больше мне не увидеть ее проницательного взгляда, не услышать ее смеха в моем саду. Никогда больше она не посмотрит на меня, угадывая мои мысли, словно бы читая их с листа папируса. Женщина, правившая бок о бок со Старшим, с Аменхотепом Великолепным, и взявшая на себя его роль, когда он устал от власти, ушла в загробный мир.
— Да благословит тебя Осирис, Тийя, — прошептала я.
Женщины и дети с пронзительными криками мчались к Залу приемов.
— Фараон бежал! Фараон бежал! — выкрикнула какая-то служанка, и ее крик разнесся по коридорам, среди комнат прислуги.
Я видела, как женщины мчатся мимо открытых окон, перекрикиваются и тащат в охапках одежду и драгоценности.
— Боги покинули Амарну! — крикнул кто-то. — Даже фараон нас бросил!
Женщины тянули детей через двор, заполненный едким дымом, чтобы добраться до пристани. Они несли сундуки с одеждой, а мужчины тащили остальные пожитки семьи. Слуги бежали вперемешку с придворными и послами. Это было безумие.
Мои родственники кинулись во дворец, но Нахтмин остановил меня, прежде чем мы добрались до Зала приемов.
— Мы не можем оставить твою родню в таком положении, — сказал он. — Фараон умчался. Когда люди в городе обнаружат, что он исчез, твоя родня окажется в опасности.
— Мы окажемся в опасности, если он вернется, — в отчаянии произнесла я. — Он может снова принести чуму.
— Значит, мы посадим его в карантин.
— Фараона Египта?!
— Без согласия твоего отца я никогда не смог бы жениться на тебе, — пояснил Нахтмин. — Так что мы в долгу перед ним. Оставайся с Баракой и Хеквет и будь готова уходить, как только придет весть. И Анхесенпаатон тоже забери. Я пойду отыщу твою сестру. Она должна быть готова посадить его в карантин, если он вернется.
Когда во дворец, спотыкаясь, вошли стражники с царем, пребывающим в полубессознательном состоянии, окровавленным и обожженным — он поджигал дома собственных подданных, — все, кто еще остался при дворе, развили лихорадочную деятельность.
— Поместите его в самые дальние покои и заприте дверь! Дайте ему еды на семь дней, и пускай никто не входит к нему! Пускай никто — под угрозой смерти! — не выпускает его наружу!
Пока отец отдавал распоряжения касательно карантина, стоящий рядом с ним визирь Панахеси безмолвствовал.
— Не вздумай подходить к нему, — предупредил отец.
— Еще чего не хватало! — огрызнулся Панахеси.
Когда Эхнатон осознал, что происходит, дверь уже закрыли и заперли. Он стал кричать на весь дворец, требуя, чтобы его выпустили, звал Нефертити, а в конце концов стал призывать Кийю.
— За Кийей кто-нибудь следит? — спросила моя сестра.
К Кийе приставили стражников; Кийя, узнав, что Эхнатона заперли в его покоях, словно заключенного, принялась плакать. На второй день именно ее пронзительный, перепуганный крик оповестил дворец, что Эхнатон кашляет кровью и что стражники у покоев царя слышали из-за двери сладковатый запах, подобный запаху меда и сахара. На третий день кашель прекратился. На четвертый за дверью воцарилась тишина.
Прошло шесть дней, прежде чем подтвердилось то, что мы и так уже знали.
Фараон-еретик предстал перед Анубисом.
Когда эту весть сообщили Нефертити, она кинулась к нашей матери, рыдать в ее объятиях. Потом она пришла ко мне. Эхнатон был эгоистичным царем и слабым правителем, но он был ее мужем и соучастником всех дел. И он был отцом ее детей.
— Нам следует оставить этот город, — сказал отец, входя в комнату.
Следом за ним вошел Нахтмин.
Нефертити посмотрела на него, вне себя от горя.
— Это — конец Амарны, — прошептала она мне. — Когда мы умрем, Мутни, она рухнет, а кроме нее у нас ничего нет, что поведало бы о нас.
Ее мечте о бессмертии и величии предстояло остаться в пустыне и кануть в пески. Нефертити закрыла глаза, и мне захотелось знать, что сейчас стоит перед ее мысленным взором. Ее город, лежащий в развалинах? Ее муж, изуродованный чумой? Она слышала о том, что люди выходят на улицы и жгут собственные дома в знак протеста против Эхнатона. Его изваяния были разбиты, а изображения на стенах храмов изуродованы. При первых признаках чумы Нефертити велела Тутмосу запереть его мастерскую и бежать. Это было ее единственным самоотверженным деянием. Но в Амарне нечего было больше строить. Все уже было построено — а теперь будет разрушено.
Отец предупредил:
— Они жгут свои дома, а если войско бежит, они примутся за дворец. Нам следует похоронить Эхнатона.
Нефертити всхлипнула.
— Но Панахеси забрал тело Эхнатона в храм, — сказала я. — Он готовит его к погребению.
Нахтмин застыл.
— Что-что он сделал?!
Я посмотрела на мужа, на отца, снова на мужа.
— Забрал тело в храм, — повторила я.
Нахтмин посмотрел на моего отца.
— Найдите Панахеси! — приказал отец группе солдат, стоявших в коридоре. — Не дайте ему покинуть дворец!
— Что происходит? — спросила я.
— Сокровищница находится рядом с храмом. Панахеси вовсе не собирается хоронить Эхнатона, — объяснил Нахтмин. — Он собирается захватить золото и отнять власть у твоей сестры.
Мой муж повернулся к Нефертити.
— Тебе следует выпустить Хоремхеба из тюрьмы. Освободи военачальника, и солдаты пойдут за ним. Или Панахеси может заполучить войско первым, купив его за золото Атона. А если Кийя носит в чреве сына, Египет погибнет.
Нефертити посмотрела на нас невидящим взором. На лице ее виднелись следы слез. Она закрыла глаза.
— Мне все равно, что будет дальше, — сказала она. — Все равно.
Но Нахтмин порывисто шагнул к Нефертити и схватил ее за плечи.
— Ваше величество, фараон Нефернеферуатон-Нефертити, вашей стране грозят враги, и ваше царствование в опасности. Если вы останетесь здесь, вы умрете.
Нефертити открыла глаза, но в них не было жизни.
— Меритатон убьют или заставят выйти замуж за Панахеси, а Анхесенпаатон лишат жизни, — сказал Нахтмин.
Нефертити едва заметно приподняла голову. Затем взгляд ее сделался жестким.
— Освободите его.
Нахтмин кивнул и исчез во тьме.
Отец повернулся ко мне.
— Ты доверяешь своему мужу?
Я посмотрела на отца. Нахтмин мог освободить Хоремхеба из тюрьмы и вместе с ним захватить власть.
— Он никогда этого не сделает, — заверила я отца.
На улицах бушевал бунт. Египтяне взялись за вилы и косы и за любое оружие, до которого смогли добраться. В Зал приемов то и дело прибегали слуги с новостями. «Они напали на храм Амона в холмах. Они движутся ко дворцу, требуя вернуть их богов, всем вернуться в Фивы, а Амарну сжечь».
Кийя сидела в кресле у помоста, и на лице ее застыла мучительная боль. Я попыталась представить себе, что она сейчас чувствует. Она была второй женой мертвого царя. У ее ребенка никогда не будет отца. А когда ребенок появится на свет, то он, если это будет мальчик, станет угрозой для царствования Нефертити.
Один лишь Панахеси мог спасти ее.
Двери Зала приемов отворились, и вошел Нахтмин, а за ним Хоремхеб. Тюрьма оставила свой отпечаток на военачальнике. Волосы у него отросли ниже плеч, а нижнюю часть лица закрывала темная борода. Но в глазах его горела безумная решимость, какой мне никогда еще не доводилось видеть. Отец встал.
— Какие новости?
Хоремхеб шагнул вперед.
— Люди напали на храм Атона. Тело фараона сожжено; от него ничего не осталось.
Отец посмотрел на Нахтмина. Тот добавил:
— Люди напали еще и на сокровищницу. Золото сохранено, но семь стражников убиты. И с ними визирь Панахеси.
Раздался леденящий душу крик. Кийя поднялась с кресла; по ногам ее текла кровь. Но Хоремхеб подошел к трону:
— Я сидел в тюрьме по приказу вашего мужа, ваше величество.
— А я восстанавливаю тебя в прежнем звании, военачальник, — быстро произнесла Нефертити, не обращая внимания на крики Кийи. Сейчас важен был только трон. — Тебе вместе с военачальником Нахтмином надлежит взять в свои руки руководство войском.
Она вернула моему мужу его звание. Но кровь у Кийи текла сильно и быстро.
— Мой ящик! — крикнула я. — Кто-нибудь, принесите мне тысячелистник!
— А откуда мне знать, что вы меня не предадите? — спросил Хоремхеб.
— А откуда мне знать, что ты не предашь меня? — вопросом на вопрос ответила Нефертити.
Я приказала слугам принести воду и простыни.
— Царствование Атона закончено, — добавила Нефертити. — Я возмещу тебе то, что ты утратил. Проведи меня к моему народу, чтобы я могла сказать ему, что пришло новое царствование.
— А хетты? — спросил Хоремхеб.
— Мы будем сражаться! — поклялась Нефертити, сжимая посох и цеп. — Мы уничтожим их, так что от них и следа не останется!
Я кинулась сооружать для Кийи подушку из льняного платья.
— Дыши! — велела я ей.
Оглядевшись по сторонам, я поняла, что все покинули зал. С нами остались лишь несколько слуг из числа той немногочисленной верной прислуги, которая не сбежала в Фивы.
— Нам надо перенести ее в другое помещение! — крикнула я, и слуги помогли мне перенести Кийю.
— Пожалуйста, не позволяй ей убить моего ребенка, — прошептала Кийя. Она с такой силой вцепилась в мою руку, что я вынуждена была посмотреть ей в глаза. — Пожалуйста!
Я поняла, о ком она говорит.
— Она никогда не…
Я умолкла, не договорив.
Слуги перенесли Кийю в покои для гостей и положили на кровать, обложив подушками.
— У нас нет родильного кресла, — сказала я. — Я не…
Кийя закричала, впившись ногтями в мою руку.
— Вырасти моего ребенка, — попросила она.
— Нет. Ты будешь жить, — пообещала я. — Все будет хорошо.
Но, едва лишь сказав это, я поняла, что Кийя не выживет. Слишком уж бледной она была, слишком рано начались роды. На лбу у нее выступили бисеринки пота.
— Поклянись, что ты вырастишь его! — взмолилась она. — Только ты сможешь защитить его от нее. Пожалуйста!
И вместе с водами на свет появился кричащий малыш. Царевич. Царевич Египта. Кийя посмотрела на сына. Его громкий вопль разнесся по пустым покоям, в которых не было ни амулета и ни единого изваяния Таварет. Глаза Кийи наполнились слезами. Слуги принесли нож, и я перерезала пуповину. Кийя упала на подушки.
— Его имя — Тутанхатон, — произнесла она, цепляясь за мою руку, как будто мы с ней никогда не были врагами.
Потом она закрыла глаза, и лицо ее сделалось спокойным и кротким. Она вздохнула и застыла.
Слуги вымыли ребенка, запеленали и вручили крохотный сверток мне. Я посмотрела на малыша, ставшего моим сыном, ребенка злейшей соперницы моей сестры. Я положила его рядом с матерью, чтобы он смог ощутить ее грудь и чтобы он знал, что она любила его. А потом я расплакалась. Я плакала о Кийе, о Нефертити и ее детях, о Тийе и о маленьком Тутанхатоне, которому никогда не суждено изведать материнского поцелуя. А еще я плакала о Египте, потому что в глубине души знала, что наши боги покинули нас и что мы навлекли на себя эту смерть.
Дворец выглядел так, словно по нему пронеслась буря.
За считанные дни драпировки были сорваны со стен, шкафы опустошены, кладовки опорожнены подчистую. Все, что не мог вместить в себя наш караван судов, оставляли в Амарне, с тем чтобы это потом забрали слуги — либо чтобы оно кануло в пески времени. В погребе осталось пиво и любимое вино Эхнатона. Я взяла немного самого выдержанного красного для Ипу и положила вместе с моими травами. Остальному так и предстояло лежать здесь до тех пор, пока кто-нибудь не вломится во дворец и не разграбит здешние запасы либо пока оставленная стража не впадет в такое отчаяние, что устроит налет на погреба фараона. В конце концов, никто никогда не проверит, что там осталось, и неизвестно, вернемся ли мы сюда когда-нибудь.
Когда мы пришли на пристань, никакого официального прощания там не было. Отца интересовало лишь одно — чтобы мы уехали поскорее. Какой-нибудь узурпатор из рядов войска, или верховный жрец Атона, или разгневанный последователь Амона мог вырвать из рук Нефертити посох и цеп. Произойти могло все, что угодно, и все сейчас зависело от поддержки народа. Люди больше не верили в Амарну. Они хотели возвращения к старым богам, и мой отец с Нефертити собирались дать им это. Когда мы отплыли в Фивы, никто не думал о том, что осталось позади.
Нефертити сидела на носу и смотрела в сторону Фив, как когда-то в юности.
— Нужно провести церемонию, — сказал отец, подойдя к ней.
Стало прохладно. Над рекой дул бодрящий ветер.
— Церемонию? — оцепенело переспросила Нефертити.
— Церемонию смены имени, — объяснил отец. — Царевнам не следует более носить имена в честь Атона. Нам надо показать людям, что мы забыли Атона и вернулись к Амону.
— Забыли? — Голос Нефертити дрогнул. — Он был моим мужем. Он был провидцем.
Она закрыла глаза, и на лице ее отразилась искренняя привязанность. Он сделал ее фараоном Египта. Он дал ей шестерых детей.
— Я никогда не забуду.
— И тем не менее это следует сделать.
30
 Фивы. 1343 год до н. э.
1 пахона
Фивы. 1343 год до н. э.
1 пахона
Мы стояли у колонн храма и смотрели на освещенную закатным солнцем аллею припавших к земле сфинксов с головами баранов, напоминающих о том, что строил Аменхотеп Великолепный и что пытался уничтожить его сын. Вокруг собрались лысоголовые жрецы Амона и знать. Верховный жрец Амона вскинул сосуд, я затаила дыхание — и хлынула вода, смывая имя фараона, который едва не погубил Египет.
— Тутанхатон, во имя Амона, бога Фив и отца всех нас, отныне твое имя перед Осирисом — Тутанхамон.
Нахтмин поддержал головенку Тута, когда его окатили водой. Ребенок был слишком мал, чтобы понимать, что значит его имя. Нефертити стояла рядом со своими дочерьми.
Анхесенпаатон опустилась на колени и подставила шею под освященную воду, чтобы стать Анхесенамон. Но когда верховный жрец призвал царевну Меритатон, Нефертити ступила вперед и с силой произнесла:
— Нет.
Когда присутствующие поняли, что она делает, возникло краткое замешательство.
— Меритатон не надо. Она будет править вместе со мной. Она будет моей соправительницей и напоминанием о нашем прошлом. Помажьте ее на царство как Меритатон, царицу Египта, — пускай жрецы Атона знают, что они не покинуты.
Либо Нефертити предприняла умный шаг, чтобы умиротворить жрецов Атона, либо она не желала полностью стирать память о своем муже, сделавшем ее фараоном Египта.
Отец резко втянул воздух, а верховный жрец изобразил улыбку согласия. Он взял второй сосуд, с маслом, и поднял его над Меритатон. Маленькая царевна шагнула вперед с изяществом, непостижимым для ее семи лет, склонила голову и приняла корону.
Верховный жрец заколебался.
— А под каким именем мне короновать фараона Египта? — спросил он у Нефертити.
Все повернулись к моей сестре, а она посмотрела на меня и объявила:
— Под именем Сменкхара.
«Сильный в душе Ра».
Нефертити приняла официальное имя, в котором не упоминался Атон, и тем самым ясно дала всем понять, что ныне наступило иное царствование, что возвращаются времена, когда владения Египта простирались от Евфрата до Судана. Сейчас у Египта оставалась лишь Нубия. Эхнатон все упустил, все — Кносс, Родос, долину Иордана, Микены. Повернувшись, я увидела, как Хоремхеб отдает честь фараону, и подумала: «Это не навеки. Придет день, и Египет снова станет великим».
Я посмотрела на Нахтмина:
— Ты не отправишься вместе с Хоремхебом на войну с хеттами?
Нахтмин посмотрел на наших сыновей на руках у кормилиц и улыбнулся:
— Нет, мив-шер. Здесь тоже хватит работы. Нужно учить солдат, которых при Эхнатоне толком не обучали. Я могу с этим справиться. А Хоремхебу придется выступить против хеттов еще с кем-нибудь.
— Но с кем? — забеспокоилась я.
— Возможно, с Рамсесом. — Муж указал на солдата, украшенного знаками отличия, рыжего, словно солнце. — Он был комендантом крепости Сэйл и когда-нибудь станет визирем. Мы с ним вместе воевали в Нубии. Он умный писец и талантливый солдат. Никто не мог превзойти его во владении луком.
— Кроме тебя.
Нахтмин улыбнулся, но возражать не стал.
Тем вечером фараон Нефертити пообещала народу великие победы. Облаченная в одежды ослепительной орлиноголовой Некбет, богини войны, она поклялась, что Египет вернет себе земли, которые Еретик в глупости своей упустил.
— Мы вернем обратно Родос, Микены и Кносс! Мы придем в пустыни Палестины и заявим свои права на земли, которые Аменхотеп Великолепный подчинил Египту! И мы не успокоимся, пока хетты не будут изгнаны из Миттани обратно в свои холмы!
Войско ответило кличем, от которого и боги бы оглохли, и только я понимала, какой ценой Нефертити справлялась с обязанностями фараона. Вокруг глаз у нее появились морщинки, которых прежде не было, а выражение лица сделалось жестким, как прежде у Тийи. Сестра вскинула сжатый кулак:
— Под покровительством Амона Египет не может потерпеть неудачу! Правление фараона-еретика закончено!
Солдаты радостно завопили, как будто она уже вручила им победу.
Щиты у них в руках были новые — на них переплавили сосуды из храма Атона, — а каменные наконечники копий были сделаны из сотен скульптур, стоявших прежде в коридорах Приречного дворца. И когда Нефертити победно вскинула руки, меня она не обманула. Я представила ее прекрасные особняки, занесенные песком, и опустевший дворец, продуваемый ветрами насквозь, и мне осталось лишь гадать, насколько же тяжелы посох и цеп. Однако же поражение Нефертити не было окончательным. Пускай ее противники уничтожили Амарну, ее блистательный город над Нилом, и превратили ее изваяния в прах, но они не сумели стереть с лица земли ее саму. У нее все еще оставалась возможность высечь свое имя на монументах Фив.
— Ереси больше не будет! — воскликнула Нефертити. — Амон, великий бог Египта, вернулся!
Отец, стоящий за колоннами, кивнул. Он написал царю Ассирии и послал ему в подарок семь золотых тронов — плату за одну-единственную руку, изуродованную чумой. Теперь лишь время могло показать, окажется ли этого достаточно, или нас ждет еще и война с Ассирией.
Стоявшая рядом со мной мать пробормотала:
— Осталась только Меритатон. Царевича теперь уже не будет.
— Есть еще Анхесенамон, — напомнила я.
Мы посмотрели на четырехлетнюю царевну, незаметно подбирающуюся поближе к Окну Появлений. Она в полной мере унаследовала неукротимую красоту Нефертити, но совершенно не обладала серьезностью Меритатон. Когда она подрастет, то сделается проказницей.
Как только войско, десять тысяч сильных воинов, двинулось на Миттани, Нахтмин коснулся моей руки. Нефертити посмотрела на меня и сказала:
— Ведь правда же, ты не уйдешь?
Я посмотрела на сестру, которая держала в руках посох и цеп Египта и до сих пор переживала из-за того, что она остается одна.
— Меня на том берегу ждут два сына.
— Но ты ведь вернешься вечером, правда? Ты будешь приходить каждый день?
— Мы будем приходить каждый вечер, — пообещала я. — Я буду приводить Бараку и Тута, чтобы они росли вместе со своими двоюродными сестрами.
Нефертити нахмурилась, но я сказала:
— Нефертити, он мой сын. Он теперь такой же царевич Египта, как Барака или Нахтмин, не более.
Нефертити удержалась и не стала говорить того, что хотела. Вместо этого она повторила:
— Но ты придешь!
— Да, — ответила я, и мысленно добавила: «Как и всегда».
Хеквет стояла у открытого окна, выходящего на раскинувшиеся вокруг сады, и негромко пела Бараке и маленькому Тутанхамону. Услышав шаги на дорожке, она подняла голову, а потом кинулась из веранды нам навстречу.
— Госпожа, к тебе приходила какая-то женщина по имени Ипу. Она оставила вот это. — Хеквет указала на небольшой ящичек на столе. — Она сказала, что там кое-что новое, что она отыскала. Она думает, что ты можешь захотеть посадить это у себя в саду.
Я открыла крышку ящика и обнаружила внутри маленький розовый цветок, растение с корнями. Он как раз цвел, и я коснулась нежных лепестков. Лепестки были длинные и гладкие, как у ткани из самого лучшего льна. Я посмотрела на его изумительный цвет, схожий оттенком с закатным солнцем. Вернуться в мой сад, в мой дом, к моей семье, иметь возможность выйти на свет и почувствовать тепло земли в руках и жизнь, растущую у ног…
Хеквет остановилась.
— Госпожа, с тобой все в порядке?
— Да. Я просто рада, что вернулась домой.
Хеквет выпрямилась и оглядела расписанные стены и корзины с бельем.
— А что ты теперь будешь делать без двора? — спросила она.
— Жить в соответствии со своей судьбой, — ответила я. — В детской моих детей и в моем саду.
Я постучала в дверь, на которой красовалось резное, раскрашенное изображение корабля, плывущего по морю.
— Госпожа!
Радостный крик Ипу разнесся по всей улице.
Щеки у нее сделались полнее, а волосы отросли ниже плеч. Сзади послышался тоненький голосок — это подал голос Камосес, сидящий у отца на руках. Я поразилась, увидев, как он вырос.
— Ой, какой большой!
— Да, ему уже больше года! И от него столько радости, что я готова повторить. — Ипу положила руку на живот и улыбнулась. — В месори.
Я ахнула:
— Ипу…
— Ой, ну кто бы говорил! — воскликнула она. — Мать двух сыновей.
Она отступила немного, чтобы оглядеть меня, и радостно заулыбалась:
— Ох, госпожа! Ну наконец-то!
Ипу обняла меня, а потом потащила в дом.
— С возвращением, — сказал Джеди.
Он выглядел здоровым и довольным. Чума не задела ни один город, кроме Амарны, и я старалась не думать, что это означает.
— Так значит, это и есть Камосес, — сказала я, пытаясь осознать, что это и вправду тот самый малыш, которому я махала на прощание год назад. — Он красивый. У него твой нос, — сказала я Ипу.
— И глаза Джеди. Повитуха сказала, что он будет богатым.
— А откуда она знает?
— Потому что первым его криком было «нуб».
Я от души рассмеялась:
— Золото? Ох, Ипу, как я по тебе соскучилась!
— А Ипу соскучилась по тебе, — ухмыльнувшись, сообщил Джеди. — Она только о тебе и говорила!
— Все только и говорили, что об Амарне, — призналась Ипу. — Никто не понимал, чему верить. Сперва дурбар, потом объявление Нефертити соправителем, потом чума. А правда, — она понизила голос, — что фараон отослал царю Ассирии отрубленную руку?
Я кивнула. Ипу покачала головой:
— Расскажи мне обо всем. Я хочу знать все-все.
И я рассказала ей о дурбаре и коронации моей сестры, а потом о Черной смерти и подношении, затеянном Эхнатоном. Я описала смерть самых младших дочерей Нефертити, смерть Небнефера и кончину Тийи. Когда я стала рассказывать о том, как Эхнатон умчался в город, Джеди посадил Камосеса в кроватку. Он просто поверить не мог, что фараон так вот взял и умчался без всякого сопровождения, чтобы уничтожить запрещенные изваяния Амона.
— Фараон был вне себя от ярости, — сказала я, но у меня не хватало слов, чтобы описать, с какой горечью Эхнатон смотрел на то, как его детей сжигают в городе, который он возвел во славу Атона.
— Когда мы узнали, что баржам запрещено покидать Амарну, то подумали, что все, кто там остался, погибнут, — призналась Ипу, и на глаза ее навернулись слезы. — И вы с Нахтмином тоже.
Я обняла ее.
— А мы понятия не имели, как передается чума. Мы тоже боялись.
Что-то потерлось об мою ногу, и внезапно на колени ко мне запрыгнул крупный, тяжелый кот.
— Бастет! — воскликнула я и посмотрела на Ипу.
— Он однажды пошел за мной следом и не захотел возвращаться. Теперь ты можешь забрать его, — сказала Ипу, но я заметила неуверенность в ее взгляде.
— Ну вот еще! Пускай живет у тебя, — с пылом произнесла я. — Он бы умер вместе со всеми дворцовыми кошками, если бы ты его не спасла.
— Они перебили мивов?
— Да, вместе со всеми остальными животными во дворце.
— А где они захоронили тела? — спросил Джеди.
— Приехали повозки и увезли их.
— Без амулетов? — прошептал Джеди.
— И похоронили без гробниц?! — воскликнула Ипу.
— В общих могилах. В земле вырыли ямы и засыпали потом песком.
Ипу с Джеди онемели.
Позднее, теплым вечером, мы пошли ко мне домой. Ипу захотела второй раз послушать историю о том, как Кийя на смертном ложе попросила меня усыновить ее ребенка. Я рассказала еще раз, и даже шумный Камосес притих, как будто история околдовала его.
— Все случилось не так, как я себе представляла, — сказала Ипу. — Египет перевернулся вверх тормашками. Подумать
только, ты растишь царевича Египта!
— Нет, не царевича Египта, — твердо произнесла я. — Просто маленького мальчика.
Мы вели тихую повседневную жизнь, и она была спокойной и размеренной. К Нахтмину то и дело приходили горожане и рассказывали ему о том, что происходило в Фивах, пока в Амарне бушевала чума. Потом они пытались подбить его выступить на войну, говоря, что он тратит время впустую, обучая солдат, хотя мог бы вести наше войско к победе на Родосе. Солдаты стояли у нас под домом, качали головами и обвиняюще смотрели на меня.
— Он — лучший военачальник во всем войске фараона, — сказал Джедефор. — Люди не могут понять, отчего он не возвращается в войско. Они упросили меня прийти сюда и спросить у него. Хоремхеб суров и безрадостен, и его не будут любить так, как любят Нахтмина.
Мне снова вспомнился отцовский вопрос — «ты ему доверяешь?» — и я посмотрела туда, где Нахтмин обучал солдат моей сестры. Под кожей его переливались крепкие мускулы, а лоб был весь в поту. Я улыбнулась.
— Им придется довольствоваться сознанием того, что он делает из их мальчишек мужчин.
— Но чем вы занимаетесь, раз ты не при дворе, а он не воюет?
Я рассмеялась — с такой серьезностью прозвучал этот вопрос.
— Просто живем, — ответила я. — И когда-нибудь Нахтмин обучит наших сыновей искусству писцов или солдатскому делу.
Джедефор посмотрел на меня как-то странно:
— Сыновей?
— Есть еще Тут, — резким тоном напомнила я.
Мы посмотрели на другую сторону сада, туда, где мальчики ползали в тени старой акации. Хеквет присматривала за ними.
— Сын Кийи, — произнес Джедефор, потом добавил: — И возможный царевич Египта.
— Нет! — отрезала я. — Он вырастет здесь, вдалеке от двора. Следующим фараоном станет Меритатон, а после нее — Анхесенамон.
Я понимала, что он хочет сказать. Что Египту требуется царевич, что так было всегда и будет впредь. Но вместо этого Джедефор просто сказал:
— Ты, должно быть, слышала, что предложили жрецам Атона?
— Что им дали две недели, чтобы сменить их одеяния на облачение жрецов Амона?
— Да. И некоторые отказались.
Я была потрясена.
— Но они не могут отказаться. Им некуда идти!
— Есть — в дома последователей Атона. Их много, госпожа. Детей, никогда не знавших Амона, и ревностных верующих, покинувших Амарну лишь после того, как их дома были сожжены. От них можно ждать неприятностей.
Тем вечером я вошла в Зал книг во дворце, и молодой писец провел меня к отцу. Отец сидел спиной ко мне. В руке у него была связка папирусов в кожаном переплете.
— Отец!
— Мутноджмет? — Отец обернулся. — Мне так и показалось, что я слышал твой голос.
— Что ты делаешь?
Отец положил папирусы и вздохнул.
— Изучаю карты Ассирии.
— Что, семи тронов оказалось недостаточно?
— Недостаточно. Ассирийцы заключили союз с хеттами.
Я вздохнула.
— Эхнатон причинил великий вред. Почему Нефертити допустила это?
— Твоя сестра делала больше, чем ты осознаешь. Она отвлекала его, пока мы с твоей тетей занимались делами Египта. Она забирала золото у храма Атона, чтобы мы могли кормить войско и платить чужеземным царям, дабы те оставались нашими союзниками. Верность стоит дорого.
— Эхнатон не платил войску?
— Нет. — Отец многозначительно посмотрел на меня. — Платила Нефертити.
Мы помолчали.
— А как ей удавалось скрывать это золото? — спросила я.
— Она маскировала его под работы в честь Атона. А ведь это была не какая-нибудь пригоршня медных дебенов. Это были полные сундуки золота.
— А что же теперь будет с жрецами Атона? Один солдат сказал мне, что они будут причинять неприятности Нефертити.
— Если она будет продолжать встречаться с ними.
— Она встречается с ними наедине?!
Я воскликнула это слишком громко, и мой голос эхом отразился от стен Пер-Меджата.
— И вопреки моему совету.
Но отец не стал просить меня пытаться переубедить ее. Нефертити уже двадцать семь лет. Она — взрослая женщина, и она — царь.
— Но почему она встречается с ними?
— Почему? — Отец тяжело вздохнул. — Я не знаю, почему. Возможно, потому, что ей кажется, что она в долгу перед ними.
— В каком долгу? Они убивают жрецов Амона! Возможно, она надеется положить этому конец? — предположила я.
— Конец борьбе? Она не кончится никогда. Они верят, что Атон — бог Египта, а народ верит в силу Амона.
Я прислонилась к стене.
— Так значит, война будет всегда.
— Всегда. Так что радуйся, что у тебя есть твой тихий садик. Возможно, мы с матерью найдем там пристанище, когда бремя государственных забот сделается слишком тяжелым.
— Таким, как теперь?
Отец мрачно улыбнулся:
— Таким, как теперь.
31
 1335 год до н. э.
Ахет. Сезон половодья
1335 год до н. э.
Ахет. Сезон половодья
Мышцы Бараки напряглись; он натянул тетиву и послал стрелу в мишень, стоящую на противоположном краю двора. Оперение стрелы сверкнуло красным и золотым.
— Хороший выстрел, — похвалил сына Нахтмин.
Барака довольно кивнул. Он выглядел в точности как отец: те же широкие плечи и буйные темные волосы. Просто не верилось, что ему всего девять лет. Его вполне можно было принять за одиннадцати-двенадцатилетнего.
— Теперь твоя очередь, — сказал Барака и уступил место Анхесенамон.
— Спорим, я выстрелю лучше, чем Тут! — хвастливо заявила девочка. — Пока ты сидишь учишься, я прихожу сюда тренироваться с Нахтмином, — поддразнила она Тутанхамона и натянула лук.
— Так держать, — подал голос Барака.
Стрела свистнула и впилась почти в самый центр мишени. Анхесенамон радостно завизжала. Барака заткнул уши.
— Очень хорошо, — одобрительно произнес Нахтмин. — Из тебя получается хороший солдат, Анхесенамон. Скоро твоей матери придется разрешить тебе заниматься вместе с моими учениками.
— Я хочу когда-нибудь стать солдатом!
Нахтмин взглянул на меня. Трудно было представить себе ребенка, более не похожего на своего отца.
— Давайте поплывем во дворец и покажем маме, что я умею! — с гордостью предложила Анхесенамон.
— Думаешь, царице это понравится? — поинтересовался практичный Барака.
Анхесенамон откинула с лица юношеский локон. Через два года ей предстоит сбрить этот локон и сделаться женщиной.
— А кого волнует, что там себе думает Меритатон? Она только и делает, что читает свитки и декламирует стихи. Она как Тутанхамон, — обвиняюще заявила девочка.
Тут обиделся.
— И вовсе я не такой, как царица! — возразил он. — Я каждый день хожу на охоту!
— Ты тоже декламируешь стихи, — поддразнила его Анхесенамон.
— Ну и что такого? Наш отец писал стихи.
Барака оцепенел, а Анхесенамон зажала рот руками.
— Все в порядке, — поспешил вмешаться Нахтмин.
— Но Тут сказал…
Анхесенамон не договорила.
— Неважно, что он сказал. А давай-ка мы отправимся сейчас к твоей матери и покажем ей, что ты умеешь? Она в любом случае будет ждать нас.
Солнце уже почти зашло. Вскоре нас действительно должны были ждать в Большом зале Мальгатты. Когда мы плыли через реку — на веслах сидели двое слуг, — Анхесенамон повернулась к Тутанхамону:
— Тебе не следовало так говорить про отца.
— Оставь его в покое, — сказал Барака, выступив на защиту Тута. — Он был и твоим отцом тоже.
Анхесенамон набычилась:
— Спорим, Мутноджмет это не понравилось бы!
— Что не понравилось?
Трое детей посмотрели на меня. Я улыбнулась с невинным видом.
Анхесенамон изо всех сил постаралась сделать вид, что правота на ее стороне.
— Разговоры про царя-еретика. Я знаю, что ты бы этого не одобрила, — сказала девочка. — Мать говорит, что о нем не следует говорить, особенно при людях, и что это из-за него творятся эти беспорядки в Нижнем Египте. Если бы он не отказался от богов и не создал жрецов Атона, они сейчас не дрались бы на севере, и нашим жрецам в Фивах ничего бы не грозило, потому что никто не нападал бы на них по ночам и не устраивал беспорядки.
— Твоя мать так говорит? — с интересом спросил Нахтмин.
— Да.
Но Анхесенамон продолжала смотреть на меня, ожидая моего ответа, и в конце концов все, кто был на барке, повернулись ко мне, посмотреть, что я скажу.
— Возможно, и вправду лучше не говорить о фараоне Эхнатоне при людях, — признала я, и Анхесенамон заносчиво посмотрела на Тутанхамона. — Однако же нет ничего дурного в том, чтобы помнить о человеке хорошее.
Анхесенамон уставилась на меня. Нахтмин приподнял брови.
— Он писал стихи. — Я заколебалась. — Он искусно управлялся с луком и стрелами. Возможно, вы унаследовали эту способность от него.
— Моя мать хорошо стреляет из лука! — возразила Анхесенамон.
— Это верно, но Эхнатон управлялся с ним необыкновенно проворно.
И мне тут же вспомнилась та женщина в Зале приемов, которая пыталась бежать от чумы, чтобы спасти своего ребенка. Я запахнула плащ на груди, а Анхесенамон потянулась ко мне, словно ей очень нужен был ответ на какой-то важный вопрос.
— А мой отец вправду был еретиком? — спросила она.
Я неловко поерзала на подушке, избегая взгляда Нахтмина.
— Он был ревностным приверженцем Атона, — осторожно произнесла я.
— Это поэтому мать встречается со жрецами Атона, хотя визирь Эйе говорит, что это опасно? Из-за того, что наш отец верил в Атона и ей их жалко?
Я посмотрела на Нахтмина.
— Не знаю, — ответила я. — Я не знаю, почему она встречается с ними, хотя все ей говорят, что это опасно. Возможно, она до сих пор грустит.
— О чем?
— О том, что поддалась обману Атона, в то время как великий бог Египта — это Амон, — заявил Барака.
Нефертити встречалась с жрецами Атона вопреки протестам своих визирей, здравому смыслу и отцовским предостережениям.
— Я все улажу, — поклялась она, шагая по парапету новой стены, окружающей Фивы.
С возрастом ее хрупкая красота посуровела и сделалась пронзительной, словно нож. Ей был уже тридцать один год.
— Но что, если здесь нечего улаживать? — спросила я. — Они преступники. Они хотят власти, и они готовы убивать, лишь бы снова заполучить ее.
Нефертити решительно покачала головой:
— Я не допущу междоусобицы в Египте.
— Междоусобица будет всегда. Так же как и раздоры.
— Но не в моем Египте! Я поговорю с ними.
Нефертити вцепилась в край амбразуры и посмотрела на другой берег Нила. Недавно обтесанные камни нагрелись под палящим солнцем месори. С того места, где мы стояли, виден был весь город: мой дом за Нилом, храм Амона, сотни царских изваяний.
— Что толку в разговорах? Их следовало бы отправить в каменоломни.
— Я — народная царица. Пока я правлю этой страной, здесь будет мир.
— И чем встречи с жрецами Атона помогают достичь этого самого мира?
— Возможно, мне удастся убедить их вернуться к Амону. Прекратить борьбу. — Нефертити искоса взглянула на меня, проверить, слушаю ли я. — Мне является столько видений, Мутноджмет… О Египте, снова раскинувшемся от Евфрата на востоке до Куша на юге. О стране, где Амон и Атон могут существовать бок о бок. Завтра я встречаюсь с двумя жрецами Атона. Они обратились с прошением о собственном храме…
— Нефертити! — твердо произнесла я.
— Я не могу разрешить им занять какой-нибудь храм Амона. Но их собственный храм… Почему бы и нет?
— Потому что они захотят большего!
Нефертити помолчала, глядя на Фивы.
— Я заключу мир с ними, — поклялась она.
Следующим вечером я влетела в Пер-Меджат. Отец испуганно взглянул на меня.
— Ты видел Нефертити? — спросила я.
— Она в Зале приемов, с Меритатон.
— Нет. Тутмос видел ее в обществе двух жрецов Атона. Она обещала, что встретится с ними в Большом зале, но там ее нет!
Мы с тревогой посмотрели друг на друга и помчались на поиски вместе. Время приема просителей уже закончилось. Мы ворвались в Большой зал, и дворцовые стражники напряглись.
— Найдите фараона! — выкрикнул отец.
В его голосе прозвучал такой страх, что дюжина стражников тут же сорвались с места и побежали в разные стороны, распахивая дверь за дверью и зовя Нефертити по имени. Нам слышны были их крики «Ваше величество!» — но ответа им не было.
У меня мучительно заныло под ложечкой — никогда прежде я не испытывала ничего подобного.
Нахтмин отыскал нас в Большом зале.
— Что случилось?
— Нефертити! Ее не могут отыскать. Тутмос сказал, что видел, как она разговаривала с двумя жрецами Атона.
Нахтмин увидел страх в моих глазах, сразу же выскочил в коридор и велел стражникам запереть все двери во дворце.
— Никого не выпускайте! — крикнул он.
Появились Анхесенамон с Тутанхамоном.
— Что случилось? Кто пропал?
— Нефертити и Меритатон. Отправляйтесь в Зал приемов и никуда не выходите.
Я подумала об Окне Появлений. Нефертити иногда принимала посланцев в этих покоях, чтобы показать им город. Дети замешкались.
— Быстро! — прикрикнула я на них.
Я помчалась через дворец. Струйки пота текли из-под парика мне в глаза. Я сорвала парик и отшвырнула в сторону. Мне было безразлично, куда он упадет и кто его подберет.
— Нефертити! — крикнула я. — Меритатон!
Как они могли уйти обе? Где они могут быть? Я свернула в коридор, ведущий к Окну Появлений, и отворила дверь.
Кровь уже растеклась по мозаичному полу.
— Нефертити! — закричала я, и мой голос эхом разнесся по дворцу. — Нефертити!!! Нет! Не может быть!
Я встряхнула ее.
— Не может быть!
Я прижала тело сестры к груди, но оно уже остыло. Потом в покоях появились отец с Нахтмином.
— Обыскать дворец! — крикнул Нахтмин. — Обыщите все покои! Все шкафы, все сундуки, все погреба!
Он видел нож, валяющийся на полу, и видел, насколько глубока рана в боку у Меритатон.
Я рухнула рядом с племянницей.
— Эхнатон!!! — закричала я так, что меня должен был услышать и Анубис.
Это были его жрецы, его религия. Отец пытался оторвать меня от Нефертити, но я не могла ее отпустить. Тогда он присел рядом, и мы сидели вместе, обнимая нашу царицу, мою сестру, его дочь, женщину, которая тридцать один год правила нашими жизнями.
Тут в покои вбежала моя мать, а за ней — Анхесенамон и Тутанхамон, нарушившие мое распоряжение.
— Амон милостивый… — прошептала мать.
Велеть детям уходить было поздно. Они уже увидели, что сделали жрецы Атона.
— Осторожно! — воскликнула я.
Хотя что уже было толку с осторожности?
Анхесенамон нагнулась и коснулась сестры, жизнь которой оборвалась, когда ей было всего пятнадцать лет. Анхесенамон посмотрела на меня, а Тутанхамон закрыл глаза Меритатон.
Я прижала тело Нефертити к себе, пытаясь прижать к себе и ее дух, вернуть ее обратно.
Но царствование Нефертити завершилось. Она покинула Египет.
— Тсс, — прошептал Нахтмин сыну. — Мама плохо себя чувствует.
— Может, принести ей ромашки? — спросил Барака.
Нахтмин кивнул:
— Давай.
Муж подошел к кровати, посмотрел на меня, потом отстегнул свой меч и сел рядом со мной.
— Мутноджмет, — мягко произнес он. — Мив-шер. — Он погладил меня по щеке. — Прости, но я принес плохие вести. Я хотел сам сообщить тебе об этом, пока ты не услышала все от кого-то другого.
Я попыталась подавить страх. «О боги, только бы не мать с отцом!»
— Тело твоей сестры осквернили. Жрецы Атона ворвались в покойницкую и попытались уничтожить его.
Я отбросила льняные покрывала.
— Я должна видеть ее!
— Не надо. — Нахтмин взял меня за руку. — Повреждения… — он заколебался, — очень серьезные.
Я прикрыла рот ладонью.
— Ее лицо? — прошептала я.
Нахтмин опустил взгляд.
— И грудь.
Места, в которых обитает ка. Они попытались уничтожить ее душу. Они попытались убить ее не только в жизни, но и в смерти!
— Но почему? — вскрикнула я, с трудом поднимаясь с постели. — Почему?
— Бальзамировщики все исправят, — пообещал Нахтмин.
Но я обезумела от ярости.
— Как они могут исправить ее? Она была прекрасна! Прекрасна!
Я упала мужу на руки.
— Бальзамировщики это умеют. А потом ее похоронят втайне, сегодня же ночью. Уже сделан новый саркофаг. А ее саркофаг когда-нибудь пригодится Туту. Он будет следующим фараоном.
Наш Тут? Да ему же всего девять лет!
— Как же Осирис узнает ее в лицо? — всхлипывая, спросила я.
— Они привезут ее статуи из Амарны. Высекут ее имя на всех стенах новой гробницы. Осирис найдет ее.
Но я заплакала еще сильнее. Я не могла сдержать слез. Потом до меня дошло, что сказал Нахтмин, и я посмотрела на него сквозь боль:
— А погребение?..
— Сегодня ночью. Присутствовать будут только твой отец и верховный жрец Амона. Это слишком опасно. Жрецы Атона могут отыскать ее и уничтожить во второй раз.
Он обнял меня.
— Мутноджмет, мне ужасно жаль…
Люди на улицах плакали о Нефертити. Она была их царицей, их фараоном. Она вернула им Фивы и восстановила блистательные храмы Амона. Я стояла у Окна Появлений и смотрела, как люди толпятся у ворот дворца, увешивая их амулетами и цветами. Одни безудержно рыдали, другие были молчаливы, и мне казалось, будто сердце в моей груди превратилось в камень — таким тяжелым оно было.
Нефертити умерла.
Она отправила наше войско навстречу победам на Родосе и в Лакисе, но никогда больше она не наденет одеяние Некбет и не вскинет руки, приветствуя народ. Никогда больше я не услышу ее смеха и не увижу, как она недовольно щурится. В коридоре послышались шаги отца, и я подумала, что он пришел посмотреть, как тут я. Дверь в пустой Зал приемов распахнулась, и тишину нарушил стук сандалий.
— Мутноджмет.
Я не обернулась.
— Мутноджмет, мы собираемся в Пер-Меджате. Тебе тоже следует там быть. Это касается Тутанхамона.
Я не ответила. Отец подошел и встал рядом.
— Ее похоронили со всем подобающим тщанием, — сказал он. — Со всеми статуями из Амарны и богатствами Фив.
Голос его был исполнен печали, и я повернулась к отцу. Его любовь к Нефертити была записана на его лице морщинами. Он стал выглядеть куда старше, но Египет остался, и им нужно было править. Египет будет всегда, даже если Нефертити с нами нет.
— Это несправедливо. — Я с трудом сдержала всхлип. — Почему жрецы Атона убили ее? Почему?
— Потому что она сотворила пылких верующих, — ответил отец. — А верующие готовы сделать все, что угодно, лишь бы заставить замолчать того, кто нападает на них.
— Но она была фараоном! — воскликнула я. — Чего они добились, убив ее? Что это им дало?
— Страх. Они надеются, что следующий фараон будет настолько бояться их, что позволит им возвести свои храмы. Они не понимают, что, если следующий фараон не вернет храмы Атона Амону, он умрет в любом случае.
— Потому что народ взбунтуется, — поняла я.
Отец кивнул.
— Значит, фараон обречен иметь во врагах либо жрецов Атона, либо весь народ.
— А никакой фараон не пойдет против собственного народа.
Я смахнула слезы.
— Почему время не остановилось? — прошептала я. — Этого не должно было произойти!
Отец молча посмотрел на меня.
— Пусть бы весь Египет рухнул, прежде чем она умерла! И Меритатон… ей же было всего пятнадцать!..
Я представила себе мир, в котором нет Нефертити, и мне сделалось невыносимо страшно и одиноко.
— Что нам теперь делать? — в ужасе спросила я. — Что теперь делать нашей семье?
— Готовить новое царствование, — отозвался отец. — И встретиться в Пер-Меджате, когда ты будешь готова.
32
 Перет. Сезон роста
Перет. Сезон роста
Царь Тутанхамон взошел на помост к тронам Гора бок о бок с царевной Анхесенамон, и я увидела, как отец что-то шепчет ему на ухо, в точности так же, как шептал Нефертити.
— Твой отец снова сделался силой, стоящей за троном, — заметил Нахтмин.
— Только на этот раз он стоит за троном нашего сына.
Легкий ветерок, напоенный ароматом цветущих лотосов и мирриса, слегка развеивал летнюю жару. Я схватилась за руку мужа.
— Неужто мне никогда не уйти от этого?
— От тронов Гора? — Нахтмин покачал головой. — Похоже, что нет. Но на этот раз все будет иначе, — пообещал он. — На этот раз Египет будет процветать, и при фараоне Тутанхамоне никаких мятежей не будет.
— Откуда ты знаешь?
— Оттуда, что здесь я, и оттуда, что Хоремхеб разобьет хеттов и вернется с победой во славу Амона. Через пятнадцать лет об Атоне позабудут.
Меня пробрала дрожь. Я подумала о городе Нефертити, лежащем среди песков, — о том, как ветра времени стирают его с лица земли. Все, над чем она трудилась, прилагая столько усилий, потерпело неудачу. Но осталась еще Анхесенамон. Я посмотрела на помост, на девочку, так похожую на мою сестру, и мне показалось странным, что я буду сидеть в том же самом кресле, которое занимала при царствовании Нефертити. Много ли это дитя будет помнить о своей матери? Анхесенамон посмотрела в мою сторону — те же самые темные глаза и гибкая шея, — и мне подумалось: а что они с моим сыном вместе напишут на колоннах вечности?
Послесловие
История Нефертити — одна из тех, которые можно сложить, словно мозаику, из сотен изображений, найденных в Амарне. Они с Эхнатоном, безмерно увлеченные искусством, покрыли город своими резными изображениями — и изображениями Атона, второстепенного божества, возведенного Эхнатоном в статус верховного. А чтобы никто не перепутал его ни с каким другим фараоном, портреты Эхнатона с семейством делались индивидуальными. Их длинные шеи, удлиненные головы и женственные бедра характерны для амарнского периода. Эхнатон и Нефертити во многих отношениях преобразили египетское искусство. Но запомнились они не этим, а своим еретическим отказом от Амона, и из-за него же Хоремхеб, став фараоном и сделав Мутноджмет своей царицей, как это записано в хрониках, разнес Амарну по камешку.
Несколько имен в романе изменены для удобства читателей. Например, город Ахетатон здесь фигурирует под своим нынешним названием — Амарна, а Фивы тогда на самом деле назывались Васет. Многое в этом романе соответствует исторической действительности, от деталей быта, таких, скажем, как стремление древних египтян выдерживать вино подольше, и до рисунков на помосте в Мальгатте. Однако же я позволила себе вольно обойтись с некоторыми персонажами, именами и малозначительными событиями. Например, невозможно сказать с определенностью, как именно Мутноджмет относилась к мечтам своей сестры о Египте, избавленном от жрецов Амона. Но на рисунке, найденном в Амарне, Мутноджмет стоит одна, подбоченившись, в то время как все остальные радостно обнимаются с Атоном. Я сочла, что для периода, в котором впервые была предпринята попытка изображать реальность такой, как она есть, это вполне значимая деталь. Или, скажем, хотя Нефертити действительно родила Эхнатону шестерых дочерей, насколько нам известно, двойни у нее не было.
Некоторые же детали истории просто не известны в точности. Был ли Аменхотеп Младший соправителем своего отца? Правила ли Нефертити когда-либо сама по себе? В каком возрасте она умерла? Отчего скончалась Тийя? На эти вопросы не существует полностью достоверных ответов, и я в конечном итоге выбрала те интерпретации, которые казались мне наиболее вероятными.
Возможно, когда-нибудь мы получим ответы на некоторые из этих вопросов, если будут обнаружены амарнские мумии. Хотя значительная часть погребального имущества Кийи была найдена в гробнице Тутанхамона, из вещей Эхнатона и Нефертити не осталось практически ничего. Некоторые археологи утверждают, что мумии, обнаруженные в тайнике в гробнице KV35, принадлежат Нефертити и вдовствующей царице. Если это так, они остались потрясающими красавицами даже после смерти. Если же нет, значит, поиски двух едва ли не самых могущественных за всю историю Египта женщин продолжаются.
Мишель Моран
Нефертари. Царица египетская
Моей матери, Кэрол Моран.
Без тебя ничего этого не было бы


От автора
Во времена Восемнадцатой династии был период, когда Египтом правила семья царицы Нефертити. Царица и муж ее, фараон Эхнатон, отвергли древних египетских богов и стали поклоняться таинственному богу солнца Атону
[64]. Нефертити посмертно осудили как еретичку, однако Египтом продолжала править ее дочь Анхесенамон вместе со своим сводным братом Тутанхамоном. В возрасте приблизительно девятнадцати лет Тутанхамон умер от болезни, и престол захватил отец Нефертити — визирь
[65] Эйе, который властвовал всего год. После его смерти из царской семьи осталась в живых только младшая сестра Нефертити — Мутноджмет.
Полководец Хоремхеб, понимая, что Мутноджмет сама не сможет заполучить египетский престол, желал узаконить собственные на него притязания и принудил ее выйти за него замуж. Мутноджмет скончалась в родах; так завершилась эта эпоха в истории страны. Хоремхеб положил начало Девятнадцатой династии, передав трон военачальнику Рамсесу. Но Рамсес Первый был уже немолод; вскоре он умер, и корона перешла к его сыну, фараону Сети.
И в 1283 году до нашей эры род Нефертити представляла только дочь Мутноджмет — Нефертари, сирота, живущая при дворе фараона Сети Первого.
Пролог
Мне кажется, что если посидеть в тишине, подальше от дворца, от придворной суеты, то я смогу припомнить себя в самом раннем детстве. Смутно видятся гладкие плиты пола, приземистые столики с ножками в виде львиных лап. Помню запахи кедра и акации от ларцов, в которых няня хранила мои любимые игрушки. Если посидеть денек под сикоморами, где ничто, кроме ветра, не отвлекает моих мыслей, то вспоминаются звуки систров
[66], звеневших во внутреннем дворе, где курились благовония. Но картины эти выглядят очень туманно, словно смотришь сквозь толстое полотно, а первое мое явственное воспоминание — Рамсес, рыдающий в темном храме Амона
[67].
То ли я упросила, чтобы мне позволили пойти с ним, то ли няня, которая хлопотала у ложа больной царевны Пили, не заметила моего ухода. Мы шли по темным залам храма, и лицо Рамсеса сделалось в точности как у нарисованной на фреске женщины, молившей о милости богиню Исиду. Мне было шесть лет, и болтать я могла непрерывно, но понимала уже достаточно многое, а потому в тот вечер рта не раскрыла.
В дрожащем свете нашего факела мимо проплывали изображения богов. Мы достигли внутреннего святилища, и Рамсес произнес:
— Жди здесь.
Я подчинилась и спряталась подальше в тень, а он подошел к огромной статуе Амона, освещенной расположенными по кругу светильниками. Рамсес опустился на колени перед творцом всего живого. У меня в висках стучала кровь, заглушая и без того еле слышный шепот, но последние слова Рамсес выкрикнул:
— Помоги ей, Амон! Ей только шесть лет. Прошу, не позволяй Анубису
[68] забрать ее. Она совсем дитя!
У противоположной двери святилища что-то шевельнулось; шорох сандалий по каменному полу дал Рамсесу понять, что он не один. Рамсес поднялся, вытирая слезы, а я затаила дыхание. Словно леопард, из тьмы возник человек. На плечах у него, как у всех жрецов, лежала пятнистая шкура, левый глаз зловеще багровел, словно озеро крови.
— Где фараон? — сурово спросил верховный жрец Рахотеп.
Девятилетний Рамсес, собрав всю свою храбрость, вышел в освещенный круг и сказал:
— Фараон во дворце, господин. Он не может оставить мою сестру.
— Тогда где твоя мать?
— Она… тоже там. Лекари говорят, моя сестра умрет!
— И твой отец послал детей, чтобы обратиться к богам?
Только теперь я поняла, для чего мы сюда пришли.
— Я поклялся отдать Амону все, что он только захочет! — воскликнул Рамсес. — Все, что у меня когда-нибудь будет!
— Твой отец даже не захотел позвать меня?
— Он хотел! Он просил тебя прийти во дворец. — У Рамсеса дрогнул голос. — Как ты думаешь, Амон ее исцелит?
Верховный жрец двинулся по каменным плитам.
— Кто знает?
— Я встал на колени и пообещал ему все, что он захочет. Я все сделал, как полагается.
— Ты-то, может, и сделал, — бросил верховный жрец. — А вот сам фараон в мой храм не пришел.
Рамсес взял меня за руку, и мы пошли во внутренний двор, глядя на колышущийся впереди подол верховного жреца. Тишину ночи пронзил голос трубы. Во дворе появились жрецы в белых одеяниях, с неразличимыми в темноте лицами, и я вспомнила про мумию бога Осириса
[69]. Верховный жрец скомандовал:
— Во дворец, в Малькату!
Предшествуемые факелами, мы двинулись во тьму. Наши колесницы летели сквозь прохладную ночь к Нилу. Вскоре мы переправились через реку и приблизились к дворцу. Стража сопроводила нас в зал.
— Где семья фараона? — спросил верховный жрец.
— В спальне царевны, господин.
Верховный жрец стал подниматься по ступеням.
— Она жива?
Стражники не отвечали; Рамсес пустился бегом, а я поспешила следом, боясь оставаться в темном зале.
— Пили! — крикнул он. — Пили, подожди!
Рамсес перескакивал через две ступеньки; перед ним расступились вооруженные стражи у входа в покои Пили. Рамсес толкнул тяжелые деревянные двери и замер. Я вгляделась в полумрак. Воздух был тяжел от благовоний, царица в скорбной позе склонилась над ложем. Фараон стоял в тени, вдалеке от единственной горевшей в комнате лампы.
— Пили… — прошептал Рамсес и закричал: — Пили!
Его не заботило, что царевичу плакать не пристало. Он подбежал к кровати и схватил руку сестры. Глаза у нее были закрыты, худенькая грудь больше не сотрясалась от холода. Царица Египта зарыдала.
— Рамсес, прикажи, чтобы звонили в колокола.
Рамсес посмотрел на отца так, словно царь Египта мог победить саму смерть.
Фараон Сети кивнул сыну:
— Иди.
— Я так старался! — воскликнул Рамсес. — Я умолял Амона.
Сети прошел через комнату и обнял сына за плечи.
— Знаю. А теперь прикажи звонить в колокола. Пили забрал Анубис.
Я видела, что Рамсес не в силах уйти от сестры. Она всегда боялась темноты, как и я, и ей будет страшно оттого, что все вокруг плачут. Рамсес медлил, но голос отца звучал твердо:
— Иди.
Рамсес посмотрел на меня, и я поняла: нужно пойти с ним.
Во дворе под корявыми ветками акации сидела старая жрица, держа в морщинистых руках бронзовый колокол.
— Рано или поздно Анубис всех забирает, — сказала она.
От ее дыхания в холодном воздухе заклубился пар.
— Но не в шесть лет! — воскликнул Рамсес. — И ведь я молил Амона оставить ее в живых.
Старая жрица хрипло засмеялась.
— Боги детей не слушают! Что такого великого ты совершил, чтобы Амон выполнял твои просьбы? Выиграл войну? Воздвиг памятники?
Я спряталась за Рамсеса, и оба мы замерли.
— Как же Амону узнать твое имя, как отличить тебя среди многих тысяч, возносящих к нему мольбы?
— Никак, — прошептал Рамсес.
Жрица уверенно кивнула.
— А если боги не могут распознать твое имя среди прочих, они и молитвы твоей не услышат.
Глава первая
ЦАРЬ ВЕРХНЕГО ЕГИПТА
Фивы, 1283 год до н. э.
— Стой спокойно! — строго велел Пасер.
Пасер только обучал меня грамоте и не мог указывать царевне, как себя вести, но если его не послушаться, он заставит меня переписывать на несколько строк больше. В расшитом бисером наряде я покорно замерла рядом с детьми из гарема Сети. В тринадцать лет мне не хватало терпения. К тому же все, что мне было видно, — позолоченный пояс стоявшей передо мной женщины. Из-под парика ей на шею тек пот, оставляя пятна на белом льняном платье. Когда пройдет царская процессия, придворные вслед за фараоном укроются от зноя в прохладном храме. Но процессия двигалась невыносимо медленно. Я посмотрела на Пасера, который пытался отыскать в толпе проход.
— А Рамсес — ведь он теперь стал соправителем — бросит учиться в эддубе? — спросила я.
— Да, — рассеянно ответил Пасер. Он взял меня за руку и повел сквозь море людских тел. — Дорогу царевне Нефертари! Дорогу!
Женщины и дети расступались, и вот мы вышли к самой Аллее сфинксов.
Вдоль всей аллеи дымили высокие сосуды с благовониями, наполняя воздух священным ароматом кифи — дабы боги благоприятствовали сегодняшнему дню. Аллею огласили медные звуки труб. Пасер подтолкнул меня вперед.
— Вот идет царевич!
— Я его и так каждый день вижу, — мрачно сказала я.
Рамсесу, единственному сыну фараона Сети, исполнилось семнадцать, и детство его кончилось. Нам больше не учиться вместе в эддубе, не охотиться по вечерам. От его коронации я не испытывала никакой радости, но при виде самого Рамсеса у меня перехватило дыхание. Царевича покрывали драгоценные каменья — от лазуритового ожерелья на шее до золотых браслетов на щиколотках и запястьях. Рыжие волосы сверкали на солнце, словно медь, на поясе висел тяжелый меч. Тысячи человек подались вперед, стараясь его разглядеть, а когда Рамсес приблизился ко мне, я потянулась и дернула его за волосы. Пасер резко выдохнул, а фараон Сети рассмеялся, и вся процессия остановилась.
— Здравствуй, малышка Нефертари!
Фараон погладил меня по голове.
— Малышка? — Я расправила плечи. — Я не малышка.
Мне уже давно исполнилось тринадцать; до четырнадцати оставался всего месяц.
Фараон усмехнулся моей дерзости.
— Значит, мала только ростом, — сказал он. — А где же твоя преданная няня?
— Мерит? Во дворце, занята приготовлениями к празднеству.
— Тогда скажи ей, что я желаю видеть ее сегодня в Большом зале. Нужно научить ее улыбаться так же славно, как ты.
Он ущипнул меня за щеку, и процессия двинулась под прохладные своды храма.
— Держись ко мне поближе, — велел Пасер.
— Зачем? Раньше ты не следил, куда я хожу.
Вместе с остальными придворными мы втянулись в храм, и дневной зной остался наконец-то позади. Жрецы Амона в длинных белых одеяниях быстро повели нас по тускло освещенным коридорам. Я приложила ладонь к каменной плите с изображениями богов. На их лицах застыло выражение удовольствия, словно они радовались нашему приходу.
— Осторожнее с рисунками, — резко сказал Пасер.
— А куда мы идем?
— Во внутреннее святилище.
Коридор расширился, переходя в сводчатую комнату, и по толпе пробежал удивленный ропот. Гранитные колонны поднимались в темноту; выложенный синими плитками и инкрустированный серебром потолок казался звездным небом. На крашеном помосте ждали жрецы Амона, и я с тоской подумала, что теперь, когда Рамсес стал фараоном-соправителем, пришел конец нашей охоте на болотах. Но сюда, конечно, пришли и другие дети из эддубы, и я стала высматривать в толпе знакомых.
— Аша! — крикнула я, и Аша, увидев меня рядом с учителем, пробрался к нам.
Его черные волосы были, как обычно, аккуратно заплетены в косу, конец которой всегда, когда мы охотились, болтался сзади, словно хлыст. И хотя обычно именно его стрела первой поражала быка, сам Аша никогда не приближался к добыче первым, за что фараон и прозвал его Ашой Осторожным. Насколько Аша отличался осторожностью, настолько же Рамсес — поспешностью. На охоте он мчался вперед сломя голову, и отец прозвал его Рамсесом Безрассудным. Конечно, это было семейное прозвище, и так называл Рамсеса только сам Сети.
Я улыбнулась Аше, но Пасер одарил его взглядом далеко не приветливым.
— Почему ты не стоишь на помосте вместе с царевичем?
— Церемония начнется только по сигналу труб, — объяснил Аша.
Пасер вздохнул.
— Ты что, не рада? — обратился ко мне Аша.
— Чему радоваться? — ответила я. — Рамсес теперь будет все время сидеть в тронном зале, а не пройдет и года, и ты отправишься в войско.
Аша встрепенулся.
— Вообще-то, — заметил он, поправляя кожаный нагрудник, — если я хочу стать полководцем, то начинать обучение нужно до конца месяца.
Взревели трубы. Я хотела возразить, но Аша повернулся к помосту.
— Пора.
Длинная коса исчезла в толпе.
В храме воцарилась полная тишина, а я смотрела на Па-сера, который отводил взгляд.
— А эта тут зачем? — прошипели сзади. Даже не видя, я поняла, что женщина говорит обо мне. — Она в такой день принесет несчастье.
Пасер взглянул на меня; жрецы затянули гимн Амону, и я притворилась, будто ничего не слышала. Из темноты появился верховный жрец Рахотеп. С его плеча свисала шкура леопарда. Он медленно поднялся на помост. Стоявшие рядом со мной дети старались не смотреть на него: неподвижное лицо, словно застывшая в вечном оскале маска; левый глаз по-прежнему красен, как сердолик. Внутреннее святилище наполняли облака дыма от благовоний, но Рахотеп этого, видимо, и не замечал. Он поднял корону хеджет
[70] и, не моргая, возложил ее на золотое чело Рамсеса.
— Да примет великий бог Амон Рамсеса Второго, ибо отныне он — царь Верхнего Египта!
Толпа разразилась ликующими криками, а у меня упало сердце. Я отмахивалась от резкого запаха духов из-под мышек у женщин. Дети разом загремели трещотками из слоновой кости, наполняя шумом святилище. Сети, который оставался правителем только Нижнего Египта, широко улыбался. Сотни перетянутых поясами тел пришли в движение, грозя меня затолкать.
— Пойдем. Пора во дворец! — прокричал Пасер.
Я оглянулась.
— А как же Аша?
— Отыщет тебя попозже.
Сановники всех держав мира прибыли в Малькату, дабы отпраздновать восхождение Рамсеса на престол. Я стояла у входа в Большой зал, в котором каждый вечер происходили обеды двора, и любовалась сиянием тысяч масляных светильников, бросавших свет на отполированный пол. Зал наполняли мужчины и женщины в нарядных, расшитых бисером одеждах.
— Ты когда-нибудь видела сразу столько народу?
Я обернулась.
— Аша! Где ты пропадал?
— Отец велел, чтобы я шел на конюшни, готовиться…
— К военной службе?
Я скрестила на груди руки. Аша увидел, как я расстроилась, и обезоруживающе улыбнулся.
— Но сейчас-то я здесь, с тобой. — Он взял меня за руку и повел в зал. — Видела посланников? Ты можешь с любым поговорить на его языке.
— Я не знаю языка шазу
[71], — упрямо сказала я.
— Зато знаешь все прочие. Не родись ты девчонкой, стала бы советником фараона. — Аша обвел глазами зал. — Смотри!
Я проследила за его взглядом и увидела фараона Сети и царицу Туйю на царском помосте. Царица никуда не ходила без своего песика Аджо, и сейчас черно-белый ивив сидел, положив голову ей на колени. Хотя породу эту вывели, чтобы охотиться на зайцев среди болот, Аджо бегал только от своей набитой перьями подстилки до миски с едой.
Теперь, когда Рамсес стал правителем Верхнего Египта, на помосте рядом с троном его матери поставили третий трон.
— Значит, Рамсес отныне будет сидеть с родителями, — угрюмо проговорила я.
Раньше он всегда обедал рядом с помостом, за большим столом, вместе с придворными. А теперь даже его кресло убрали, а мое поставили рядом с креслом Уосерит, верховной жрицы богини Хатор. Аша тоже это заметил и покачал головой.
— Как плохо, что ты не сможешь сесть со мной. О чем тебе говорить с Уосерит?
— Боюсь, что не о чем.
— Зато напротив тебя сидит Хенуттауи. Как думаешь, она теперь будет с тобой разговаривать?
Все Фивы пребывали под чарами Хенуттауи, не потому, что она была одной из младших сестер фараона, а потому, что никто в Египте не мог сравниться с ней красотой. Она красила губы под цвет красного одеяния Исиды — одежду красного цвета дозволялось носить только жрицам богини.
В семилетнем возрасте я не могла отвести глаз от ее подола, летящего над сандалиями, — словно вода, вихрящаяся под кормой ладьи. Тогда я считала Хенуттауи самой красивой и сегодня убедилась, что она по-прежнему прекрасна. Хотя мы много лет обедали за одним столом, не припомню ни единого случая, чтобы она со мной заговорила.
Я вздохнула.
— Сомневаюсь.
— Не переживай, Неферт. — Аша по-братски похлопал меня по плечу. — Ты обязательно с кем-нибудь подружишься.
Он пересек зал и подошел поздороваться с отцом — тот сидел за столом с другими военачальниками. «Скоро, — подумалось мне, — Аша станет одним из них. Будет завязывать волосы в небольшой узелок на шее, будет везде ходить с мечом».
Аша сказал что-то забавное, и его отец рассмеялся, а я вспомнила свою мать, царицу Мутноджмет. Если бы она не умерла, сейчас это был бы ее двор, дворец, наполненный ее друзьями и ее придворными, бурлящий весельем. И женщины не смели бы обо мне судачить, ведь я была бы не царевной-сиротой, а царской дочерью.
Я выбрала место рядом с Уосерит, и мне улыбнулся царевич из страны хеттов, сидевший напротив; по спине у него вились три косы — так волосы заплетают только хетты. Как почетного гостя, его усадили рядом с Хенуттауи, только вот никто не вспомнил о хеттском обычае предлагать хлеб в первую очередь самому важному гостю. Я взяла блюдо и протянула царевичу.
Он уже хотел меня поблагодарить, но Хенуттауи положила изящную ладонь ему на руку и произнесла:
— Для египетского двора большая честь принимать на коронации моего племянника такого гостя, как царевич хеттов.
Все за столом подняли чаши; царевич ответил Хенуттауи на своем языке, и она рассмеялась. Однако ничего смешного он не сказал и теперь растерянно обводил взглядом соседей. Никто не пришел ему на помощь, и царевич посмотрел на меня. Я перевела:
— Царевич говорит, что сегодня радостный день, и желает фараону Сети прожить еще много лет и править Нижним Египтом.
Хенуттауи побледнела. И зачем я только вмешалась!
— Умное дитя, — сказал царевич на нашем языке с сильным акцентом.
Хенуттауи прищурилась.
— Умное? Повторять слова умеет даже попугай.
— Нефертари и вправду умна, — возразил советник Анемро. — Только она и догадалась подать царевичу хлеб.
— Конечно, догадалась, — резко ответила Хенуттауи. — Наверное, берет пример со своей тетки. Царица-еретичка, помнится, так сильно любила хеттов, что пригласила их в Амарну и они принесли нам чуму.
Уосерит нахмурилась.
— Это было давно. Нефертари не в ответе за поступки родных. — Она повернулась ко мне и ласково добавила: — Все это пустяки.
— Вот как? — злорадно заметила Хенуттауи. — Почему тогда,
интересно, Рамсес женится на Исет, а не на нашей царевне? Даже не представляю, куда денется Нефертари, если не станет женой Рамсеса. Разве что ты, Уосерит, заберешь ее к себе. — Хенуттауи посмотрела на свою младшую сестру, верховную жрицу Хатор, богини-коровы. — Я слышала, в твоем храме нужны молоденькие телочки. Удивляюсь, как мой брат позволяет Нефертари садиться с нами за стол.
За нашим столом послышались смешки, а Хенуттауи уставилась на меня, точно удав на кролика.
— Ничего удивительного, — кашлянув, заметила Уосерит. — Сети, наш брат, и тебя терпит…
Вместо ответа Хенуттауи протянула руку хеттскому царевичу, оба встали и отправились танцевать. Заиграла музыка, и Уосерит наклонилась ко мне.
— Остерегайся моей сестры. У Хенуттауи много влиятельных друзей во дворце, и если она пожелает, то легко тебя уничтожит.
— Из-за того, что я перевела слова царевича?
— Из-за того, что она хочет видеть Исет главной женой Рамсеса, а прошел слух, будто Рамсес не против предложить эту роль тебе. Учитывая твое происхождение, такое вряд ли случится, но моя сестра предпочла бы, чтобы ты исчезла. Если хочешь и дальше жить во дворце, реши, где твое место. Детство Рамсеса сегодня кончилось, твой друг Аша скоро отправится на военную службу… А чем займешься ты? Ты родилась царевной, а твоя мать была царицей. Но когда ее не стало, не стало и тебе места при дворе. Воспитывать тебя некому, вот ты и носишься взад-вперед, бегаешь с мальчишками на охоту и дергаешь Рамсеса за волосы.
Я покраснела. Мне-то казалось, Уосерит на моей стороне.
— Фараон Сети считает, что это мило, — признала она. — Ты и вправду мила. Однако через пару лет такое поведение забавным не покажется. Что ты будешь делать, когда тебе исполнится двадцать? А тридцать? Когда кончится все золото, которое ты унаследовала от матери, — кто тебя поддержит? Разве Пасер ни разу об этом не упоминал?
— Нет. — Я прикусила губу.
Уосерит подняла брови.
— А другие наставники?
Я покачала головой.
— Значит, тебе еще многому нужно учиться, пусть ты и знаешь язык хеттов.
В тот вечер, когда я раздевалась перед сном, няня заметила мою необычайную молчаливость.
— Что такое? И в языках не упражняешься?
Мерит налила из кувшина в таз воды и протянула мне полотенце.
— Какой смысл упражняться? Где я буду говорить? Языки нужно учить визирям, а не царевнам-сиротам. Раз девушка не может сделаться визирем…
Мерит со скрипом придвинула скамью и села рядом со мной. Она изучала мое лицо в бронзовом зеркале. Наверное, ни одна няня настолько не отличалась от своей подопечной. Кости у Мерит широкие, а у меня тонкие; Рамсес часто говорил, что когда Мерит сердится, то складки у нее на шее раздуваются, как мешок пеликана. Большая часть телес у нее приходится на бедра и грудь, а я не могу похвалиться ни тем ни другим. Няня растила меня с того самого дня, как мать умерла родами, и я любила Мерит, словно родную мауат
[72]. Сейчас Мерит поняла мою беду, и взгляд ее подобрел.
— Ах… все оттого, что Рамсес женится на Исет.
Я посмотрела на нее в зеркало.
— Значит, это правда?
Няня пожала плечами.
— Ходят слухи во дворце. — Мерит нетерпеливо переступила с ноги на ногу, на щиколотках у нее негромко стукнули фаянсовые
[73] браслеты. — Я-то, конечно, надеялась, что он женится на тебе.
— На мне? — Я вспомнила слова Уосерит. — С какой стати?
Мерит взяла у меня полотенце.
— Ты ведь царская дочь, хоть и родственница Еретика и его жены.
Мерит имела в виду Нефертити и ее мужа Эхнатона, который запретил подданным поклоняться всем египетским богам, кроме Атона, и тем разгневал бога Амона. Имена Эхнатона и Нефертити в Фивах никогда не произносили. Их называли просто еретиками, и, даже еще не зная значения слова, я уже понимала, что это что-то плохое. Мне представилось, как Рамсес смотрит на меня большими голубыми глазами и просит стать его женой, и по телу у меня прошла теплая волна.
Мерит продолжала:
— Твоя мать наверняка выдала бы тебя замуж за царя.
— А если я не выйду замуж? В конце концов, Рамсес, быть может, не чувствует ко мне ничего такого… что я чувствую.
— Тогда ты станешь жрицей. Но ведь ты каждый день ходишь в храм Амона и знаешь, как они живут. — Мерит встала. — Никаких тебе быстрых скакунов, никаких колесниц.
Я подняла руки, и Мерит сняла с меня расшитое бисером платье.
— Даже если я стану верховной жрицей? — спросила я.
Мерит рассмеялась.
— Ждешь смерти Хенуттауи?
Я покраснела.
— И не думаю.
— Тебе уже тринадцать лет. Почти четырнадцать. Пора решить, где твое место.
— Почему сегодня все так говорят?
— Потому что после коронации Рамсеса все изменится.
Я натянула ночную тунику и забралась в постель. Мерит глянула на меня сверху вниз.
— Глаза у тебя, как у Тефера, — ласково сказала она. — Так и светятся.
Пятнистый миу
[74] свернулся рядом со мной клубочком. Мерит с улыбкой посмотрела на нас.
— Мои зеленоглазые красавчики!
— Исет все равно красивее.
Мерит присела на край постели.
— Ты не хуже любой девушки во дворце!
Я закатила глаза и отвернулась.
— Не выдумывай. Мне до нее далеко.
— Исет старше тебя на три года. Через годик-другой ты станешь взрослой, войдешь в тело.
— Аша говорит, что я никогда не вырасту, буду коротышкой, как придворные карлики, даже когда мне стукнет двадцать.
Мерит опустила подбородок, и пеликаний мешок у нее на шее сердито заколыхался.
— Много твой Аша понимает! Когда-нибудь ты станешь высокой и красивой, словно сама Исида
[75]! Ну, если не такой же высокой, то уж красивой точно, — на всякий случай оговорилась няня. — У кого еще во дворце такие глаза? Они у тебя как у матери. А улыбка, как у твоей тетки.
— Нет у меня ничего, как у тетки, — сердито ответила я.
Впрочем, Мерит выросла при дворе Нефертити и Эхнатона, и кому, как не ей, знать, так ли это. Отец ее был могущественный визирь, и Мерит нянчила детей самой Нефертити. Когда в Амарну пришла чума, погибла вся семья Мерит и две дочери Нефертити. Мне няня о них не рассказывала, и я понимала: она не хочет вспоминать о беде двадцатилетней давности. Еще я знала от Пасера, что верховный жрец Рахотеп служил некогда моей тетке, но спрашивать об этом у Мерит я боялась. Таково было для меня собственное прошлое — прищуренные глаза, шепот, неизвестность.
Я покачала головой и пробормотала:
— Ничего у меня нет общего с теткой.
Мерит подняла брови.
— Может, Нефертити и была еретичкой, но она — первая в Египте красавица на все времена.
— Красивее, чем Хенуттауи? — не поверила я.
— Хенуттауи рядом с ней, как бронза рядом с золотом.
Я попыталась представить лицо красивее, чем у Хенуттуи, но не смогла. В душе я даже пожалела, что в Фивах не осталось изображений Нефертити.
— Думаешь, Рамсес выберет Исет, потому что я в родстве с Отступницей?
Мерит укрыла меня одеялом, и Тефер протестующе мяукнул.
— Думаю, Рамсес выберет ее потому, что тебе тринадцать, а ему — семнадцать. Но скоро, моя госпожа, ты станешь взрослой и будешь готова принять судьбу, которую себе изберешь.
Глава вторая
ТРИ СТРОЧКИ КЛИНОПИСЬЮ[76]
Последние семь лет я каждое утро отправлялась из своих покоев в маленький храм Амона неподалеку от царского дворца. Там, под известняковыми колоннами, мы, ученики эддубы, сидели и хихикали, дожидаясь, пока к нам, шаркая, приблизится наставник Оба. На ходу он, словно мечом, разил посохом каждого, кто не уступал дороги. В храме жрецы окуривали наши одежды священным благовонием кифи, и от нас пахло благословением Амона. Мы с Рамсесом и Ашой обычно наперегонки неслись к белому зданию эддубы, но после вчерашней коронации все стало иначе. Рамсес больше не придет, а Аша без него бегать постесняется. Будет говорить, что он уже взрослый. А потом тоже меня покинет.
Мерит вошла в спальню, и я хмуро последовала за ней в туалетную комнату. Я подняла руки, и она застегнула на мне полотняный пояс.
— Чем тебя сегодня умастить — миртом или шамбалой?
Я пожала плечами.
— Какая разница?
Мерит нахмурилась, откупорила фиал и стала натирать мне щеки густой миртовой мазью.
— Не делай такое лицо! — потребовала она.
— Какое?
— Как у Беса
[77].
Я спрятала улыбку. Бес — бог-карлик, покровитель деторождения; своими гримасами он отпугивает от новорожденных Анубиса, чтобы тот не забрал младенцев в царство мертвых.
— Не пойму, чего ты дуешься, — сказала Мерит. — Одна ты не останешься — в эддубе полно учеников.
— Они хорошо со мной обращались только из-за Рамсеса. По-настоящему со мной дружат только Аша и Рамсес. Никто из девочек не охотится и не плавает.
— Тогда тебе повезло, что Аша еще ходит в эддубу.
— Скоро перестанет.
Я нехотя взяла мешочек с принадлежностями для письма. Мерит проводила меня до дверей и крикнула вслед:
— Будешь корчиться, как Бес, Аша еще скорее от тебя убежит!
Мне было не до шуток. Я пошла к эддубе самой длинной дорогой: через восточный выход, что вел в тенистый двор позади дворца, потом мимо выстроившихся дугой храмов и казарм, отделявших Малькату от холмов. Дворец этот часто сравнивают с жемчужиной, спрятанной в крепкой раковине. С одной стороны — холмы из песчаника, с другой — озеро, выкопанное по приказу моего акху
[78], чтобы лодки могли причаливать прямо к ступеням тронного зала. Малькату выстроил Аменхотеп Третий для своей супруги царицы Тии. Когда его зодчие сказали, что построить такое невозможно, он создал проект сам. И вот, глядя на его творение, я медленно обошла вокруг арены, мимо казарм, окруженных пыльными площадками, потом прошла мимо домов для прислуги и повернула на запад. Подойдя к озеру, я решила посмотреть на свое отражение в воде.
Вовсе я не похожа на Беса. Прежде всего, у него нос куда больше. Я скорчила лицо, какое обычно бывает у статуй Беса, и позади меня кто-то рассмеялся.
— Любуешься своими зубами? — спросил Аша. — А что это за гримасы?
Я уставилась на него.
— Няня говорит, я похожа на Беса.
Аша отступил на шаг и стал меня разглядывать.
— Да, некоторое сходство имеется: щеки толстые… и ростом ты не вышла.
— Хватит!
— Я, что ли, тут кривлялся?
Мы пошли к храму.
— Значит, твоя няня сообщила тебе новости? — спросил Аша. — Рамсес, наверное, женится на Исет.
Я молчала, глядя в сторону. Стоял жаркий месяц тот; солнце рассыпало над озером лучи, и вода казалась покрытой золотой сетью.
— Если Рамсес собрался жениться, — заговорила я наконец, — почему он нам даже не сказал?
— Наверное, сам точно не знал. В конце концов, решает фараон Сети.
— Но она же совсем не подходит Рамсесу! Она ни плавать не умеет, ни охотиться, ни в сенет
[79] играть. Она даже языка хеттов не знает!
Наставник Оба смотрел, как мы приближаемся, и Аша, затаив дыхание, прошептал:
— Сейчас начнется.
— Вот спасибо, что изволили явиться! — воскликнул Оба.
Двести учеников повернули к нам лица; наставник замахнулся на Ашу посохом.
— Встать в ряд! — Он вытянул Ашу палкой по икрам, и мы метнулись на свои места — По-вашему, Ра
[80] выплывает в лодке, когда ему заблагорассудится? Нет! Он всегда появляется вовремя. Всегда успевает к восходу!
Вслед за наставником мы отправились в святилище. Аша оглянулся на меня.
На полу для нас были расстелены циновки. Мы уселись по местам и стали ждать жрецов. Я шепнула:
— Спорим, Рамсес сидит в тронном зале и мечтает попасть к нам.
— Не знаю. Так ему хоть не приходится иметь дело с наставником Оба.
Я подавила смешок: в комнату, распространяя запах ладана, вошли жрецы и начали исполнять гимн Амону.
«Слава тебе, Амон-Ра, повелитель царей земных, ты старше всего сущего, ты древнее небес, ты опора всего сущего. Повелитель богов, царь истины, создатель всего, что наверху и внизу, слава тебе!»
Комнату наполнял запах благовоний; один из учеников закашлялся. Наставник Оба свирепо обернулся к нему, и я, толкнув Ашу локтем, сжала губы в тонкую злобную линию и изобразила, как ворчит Оба. Кто-то рассмеялся, и Оба быстро обернулся.
— Аша и царевна Нефертари!
Аша вытаращился на меня. Я не выдержала и хихикнула.
Когда мы все вышли из храма, я не стала предлагать Аше добежать до эддубы наперегонки.
— Не пойму, отчего жрецы нас не выставили, — сказал он.
Я ухмыльнулась.
— Потому что мы из царской семьи.
— Ты-то из царской семьи, — возразил Аша. — А мой отец — воин.
— Военачальник.
— Все равно, я — это не ты. У меня нет покоев во дворце, нет своих слуг. Мне нужно быть осторожнее.
— Было так смешно!
— Чуть-чуть, — признал он.
Мы подошли к белым стенам эддубы. Здание приютилось на склоне холма, словно жирный гусь. Приблизившись к открытым дверям, Аша замедлил шаги.
— Как думаешь, чем будем заниматься сегодня? — спросил он.
— Наверное, клинописью.
Аша тяжело вздохнул.
— Нельзя, чтобы моему отцу опять послали скверный отзыв.
— Садись рядом со мной, я буду писать покрупнее, ты сможешь свериться.
В здании эддубы собирались ученики. В ожидании сигнала к началу занятий все перекликались, смеялись, что-то друг другу рассказывали. Пасер стоял перед учениками, глядя на этот хаос, но вот вошла Исет, и в комнате стало тихо. Исет прошла к своему месту, и все перед ней расступались, словно какой-то великан расталкивал их в стороны. Она уселась на циновку напротив меня, изящно поджала стройные ноги, завораживающими движениями тонких пальцев поправила темные волосы. При дворе одна лишь Хенуттауи превосходила Исет в игре на арфе. Неужели именно поэтому фараон Сети решил, что из Исет выйдет хорошая жена?
— Хватит глядеть, — сказал Пасер. — Достаньте чернила. Сегодня мы переведем два письма хеттского царя к фараону Сети. Как вы знаете, хетты пользуются клинописью, а вам придется передать каждое слово с помощью иероглифов.
Я вынула из мешка баночку чернил и несколько тростниковых перьев для письма, выбрала из корзины с чистыми папирусами
[81] лист поровнее. Снаружи затрубила труба, и шум вокруг стих. Пасер раздал нам копии письма Муваталли, и в комнате заскрипели перья. Стояла духота. Я сидела, согнув ноги, и под коленками у меня взмокло. Двое дворцовых прислужников размахивали длинными опахалами; движение воздуха доносило до меня с другого конца комнаты аромат благовоний Исет, от которого щипало в носу. Если верить Исет, она так сильно душится, чтобы перебить невыносимый запах чернил, которые изготовляются из золы и ослиного жира. Но я-то знала, что это вранье. Дворцовые писцы избавляются от скверного запаха, добавляя в чернила мускусное масло. Исет просто хочется привлечь к себе внимание. Я поморщилась и решила не отвлекаться.
Самые важные сведения из письма вычистили, а перевести остальное было легко. Я написала на своем куске папируса несколько строк крупных иероглифов, и, когда закончила, Пасер прокашлялся и строго сказал:
— Нам осталось перевести еще одно письмо царя Муваталли. Я вернусь, и продолжим.
Ученики дождались, пока стихнет шорох его сандалий, и повернулись ко мне.
— Ты вот это понимаешь? — Аша ткнул в шестую строку.
— А тут про что?
Баки, сын визиря Анемро, не мог разобраться в третьей. Он протянул мне свиток, а все остальные ждали.
Я пожала плечами.
— «Фараону Египта, богатому властителю земель и обладателю великой мощи» — все, как и в других его письмах. Начинается с лести, заканчивается угрозами.
— А вот здесь? — спросил кто-то еще.
Все столпились вокруг меня, и я быстро перевела. Посмотрев на Исет, я увидела, что она не осилила даже первой строки.
— Тебе помочь?
— Чего ради? — Она оттолкнула от себя свиток. — Ты разве не знаешь?
— Ты выходишь замуж за Рамсеса? — прямо спросила я.
Исет поднялась.
— А ты думала, раз я не царевна, то всю жизнь буду сидеть и ткать в гареме?
Исет говорила не про гарем Ми-Вер в Файюме, где жили менее любимые жены фараона. Речь шла о гареме, что стоял позади эддубы, в котором содержались жены предыдущих царей и те жены фараона, которых он не захотел поселить во дворце.
Бабка Исет была одной из жен фараона Хоремхеба. Говорили, что он увидел ее на берегу реки, где она собирала ракушки для погребения супруга. Она уже носила своего единственного ребенка, но это не помешало фараону взять ее в жены, как не помешало некогда жениться на моей матери. Значит, Исет вовсе не состояла в родстве с фараоном, она происходила от людей, которые жили, трудились и ловили рыбу на берегах Нила.
— Пусть я просто сирота из гарема, — продолжала она, — но, думаю, быть племянницей Отступницы куда хуже, что бы там ни говорила твоя нянька-толстуха. И в эддубе никто с тобой не дружит. Тебе все улыбались только из-за Рамсеса, а теперь, когда его здесь нет, продолжают улыбаться, чтобы ты им помогала.
— Неправда! — Аша возмущенно вскочил. — Никто так не думает!
Я огляделась, но другие мне на помощь не спешили, и у меня запылали щеки.
Исет приторно улыбнулась.
— Вы с Рамсесом, конечно, приятели, вместе охотитесь, плаваете, но женится он на мне. Я уже говорила со жрецами. Они дали мне заклинание на все случаи жизни.
Аша воскликнул:
— Думаешь, Нефертари захочет тебя сглазить?
Другие ученики засмеялись, а Исет выпрямилась в полный рост.
— Пусть только попытается! Все вы попытайтесь! — сказала она со злостью. — Какая разница — кто. Я здесь только зря время теряю.
— Конечно зря. — В дверях возникла тень, затем появилась Хенуттауи в красном одеянии жрицы Исиды. Она посмотрела на нас, как, наверное, лев глядит на мышь, а то и еще равнодушнее. — Где ваш наставник?
Исет быстро подошла к жрице, и я заметила, что она стала так же красить веки — проведенные сурьмой
[82] длинные линии тянулись к самым вискам.
— Отправился к писцам, — поспешно ответила она.
Хенуттауи помедлила. Потом подошла к моей циновке и глянула на меня сверху вниз.
— Царевна Нефертари все еще изучает иероглифы?
— Нет, я изучаю клинопись.
Аша засмеялся, и Хенуттауи метнула на него сердитый взгляд. Он был выше других мальчиков, лицо у него было умное, и она отступила. Жрица повернулась ко мне.
— Не знаю, для чего тебе-то тратить здесь время, — в лучшем случае ты станешь жрицей в каком-нибудь захудалом храме вроде храма богини Хатор.
— Как всегда, рад тебя видеть, госпожа.
Пасер вернулся с охапкой свитков, которые и разложил на низеньком столике.
Хенуттауи повернулась к нему.
— Я тут посоветовала царевне Нефертари учиться прилежнее. К сожалению, Исет больше некогда заниматься учебой.
— Нехорошо, — сказал Пасер, глядя на папирус, который бросила Исет. — Я-то думал, хотя бы три строки ты осилишь.
Ученики захихикали, а Хенуттауи поспешила вон из эддубы; за ней по пятам следовала Исет.
— Смеяться не над чем, — сурово заметил Пасер, и в комнате стало тихо. — Вернемся к нашему переводу. Кто закончил — отдавайте папирусы. И можете приступать ко второму письму царя Муваталли.
Я пыталась сосредоточиться, но глаза у меня затуманились от слез. Мне не хотелось показывать, как ранили меня слова Исет, и я не подняла голову, даже когда Баки что-то мне зашептал. «Ждет от меня помощи, — подумала я, — а за стенами эддубы в мою сторону, наверное, даже и не посмотрит».
Закончив переводить, я подошла к Пасеру и протянула ему папирус.
Наставник одобрительно улыбнулся.
— Прекрасно, как и всегда.
Я посмотрела на других учеников — их задела похвала Пасера, или мне это показалось?
— Должен тебя предупредить: во втором письме есть нелестные отзывы о твоей тетке.
— А мне что за дело? У меня с ней ничего общего, — с вызовом сказала я.
— Просто хотел предупредить. Видно, писцы позабыли вычистить.
— Она же и в самом деле вероотступница, и, что бы царь ни писал, он, наверное, был прав.
Я вернулась к своей циновке, пробежала глазами письмо в поисках знакомых имен. Нефертити упоминалась в самом конце, вместе с моей матерью. Затаив дыхание, читала я письмо царя Муваталли.
«Ты грозишь нам войной, но бог Тешуб тысячи лет охраняет наш народ, а фараон Эхнатон запретил вам поклоняться вашим богам. Отчего решил ты, что боги простят вам отступничество? Сехмет
[83], ваша богиня войны, наверное, отвернулась от вас навсегда. А ваша царица Мутноджмет, сестра Нефертити? Твой народ позволил ей взойти на престол, хотя весь Египет знает, что она служила фараону-еретику — и в его храме, и в спальне. Так неужто ты и впрямь думаешь, что боги все забыли? Ты затеешь войну с нами, с народом, который всегда чтил своих богов?»
Я подняла глаза на Пасера. В его взгляде читалось некоторое сочувствие. Но мне не нужна была жалость. Сжимая пальцами тростниковую палочку, я писала твердо и быстро, как могла, а когда на папирус капнула слеза, засыпала мокрое пятно песком.
Вечером в Большом зале собирались придворные. Мы с Ашой ждали на балконе в уголке и шепотом обсуждали случившееся в эддубе. Заходящее солнце позолотило голову Аши мягким сиянием, лежащая на плече коса была почти такая же длинная, как у меня. Я сидела на перилах, глядя на товарища.
— Ты когда-нибудь видел, чтобы Исет так злилась?
— Нет. Правда, я вообще редко с ней разговариваю, — признался он.
— Мы же проучились вместе семь лет!
— Она только и умеет, что хихикать с подружками из гарема, которые всегда поджидают ее после уроков.
— Если она тебя услышит, ей не понравится, — предостерегла я.
Аша пожал плечами.
— Ей вообще мало что нравится. И уж ты-то точно…
— Я ведь ничего ей не сделала!
Но Аша не дал мне ответить: в двойные двери вбежал Рамсес.
— Вот вы где! — воскликнул он.
Аша тихонько предупредил меня:
— Про Исет помалкивай. А то Рамсес еще подумает, что ты ревнуешь.
Рамсес посмотрел на нас.
— Где вы пропадали?
— Это ты где пропадал? — возразил Аша. — Мы тебя не видели со дня коронации.
— И уже не надеялись увидеть.
Мои слова прозвучали излишне жалобно.
Рамсес обнял меня.
— Никогда не расстанусь со своей сестренкой!
— А как же твой колесничий?
Рамсес тут же меня выпустил.
— Так значит, уже все решено? — воскликнул он.
— Несколько часов назад, — гордо ответил Аша. — Завтра начнется мое обучение — я стану начальником колесничих фараона.
Я тяжело вздохнула.
— А мне ты не говорил.
— Хотел сказать сразу вам обоим.
Рамсес ободряюще похлопал друга по спине, а я воскликнула:
— Теперь я остаюсь одна в эддубе!
— Да будет тебе, — попытался утешить меня Рамсес, — не грусти!
— Как же не грустить? Аша уходит на службу, а ты женишься на Исет.
И Аша, и я выжидающе смотрели на Рамсеса.
— Да, мой отец сегодня об этом объявит. Он уверен, что из нее выйдет хорошая жена.
— А ты? — спросила я.
— Она ведь толком ничего не умеет, — признался Рамсес. — Ты же знаешь, учиться она не любит… Однако Хенуттауи советует мне сделать Исет главной женой.
— Но фараон не может выбрать главную жену, пока ему нет восемнадцати, — брякнула я.
Рамсес внимательно посмотрел на меня, и я покраснела. Желая переменить предмет разговора, я указала на висевшие у него на поясе ножны, инкрустированные драгоценными камнями, и спросила, что это такое.
— Меч.
Рамсес вынул меч длиной почти в два локтя.
Аша пришел в восторг.
— Никогда такого не видел, — заявил он.
— Хеттский. Сделан из металла, который называют железом. Говорят, железо тверже бронзы.
Такого острого лезвия мне видеть не приходилось, а по инкрустации на рукояти легко было догадаться, что стоит меч очень дорого.
Рамсес протянул клинок Аше, и тот поднес его ближе к свету.
— Кто тебе подарил?
— Отец, по случаю вступления на престол.
Аша протянул мне меч, и я сжала рукоять.
— Таким можно отрубить голову Муваталли.
Рамсес рассмеялся.
— Или хотя бы его сынку, Урхи.
Аша вопросительно смотрел на нас.
— Наследник хеттского престола, — пояснила я. — Сын царя Муваталли.
— Аша политикой не интересуется, — сказал Рамсес. — А вот если спросить у него про лошадей или колесницы…
Двойные двери снова распахнулись, и вошла Исет. Ее украшенный бисером парик был обвешан амулетами; глаза искусно подведены сурьмой, на веках — золотая пудра.
— Трое неразлучных, — улыбнулась Исет.
Я отметила, что она и говорить пытается, как Хенуттауи. Исет приблизилась к нам. Откуда у нее деньги на украшенные драгоценными камнями сандалии? Все средства, оставленные ей матерью, давно истрачены на обучение.
— Что это у вас? — Исет разглядывала меч, который я успела вернуть Рамсесу.
— Клинок, — объяснил Рамсес. — Хочешь посмотреть? Думаю показать Аше и Нефертари, как он рубит.
Исет сделала милую гримаску.
— Виночерпий уже разлил вино.
Рамсеса волновал аромат благовоний Исет, привлекала близость девушки. Ее туника подчеркивала все изгибы тела, и под тканью просвечивала грудь, красиво разрисованная хной. На шее у Исет блестело ожерелье из золота и сердолика — украшение царицы Туйи. Царица, которая знает, что мы с Рамсесом друзья с самых пеленок, подарила свое любимое ожерелье Исет!
Рамсес посмотрел на меня и Ашу.
— В другой раз покажешь, — пришел ему на выручку Аша.
Исет взяла Рамсеса под руку, и они удалились.
— Видел на ней ожерелье? — спросила я Ашу.
— Драгоценности царицы Туйи, — со вздохом ответил он.
— Почему Рамсес выбрал себе такую жену? Она, конечно, красивая. Только какой в этом смысл, если она не знает языка хеттов и даже не умеет писать клинописью?
— Смысл в том, что фараону нужна супруга, — мрачно сказал Аша. — Знаешь, а ведь он мог выбрать тебя, если бы не твои родные.
У меня вдруг перехватило дыхание, словно кто-то сильно ударил в грудь.
Вслед за Ашой я отправилась в Большой зал. В тот вечер объявили о женитьбе Рамсеса, и мне казалось, я теряю что-то такое, чего больше никогда не обрету.
У Исет не было родителей, которые радовались бы ее торжеству. Отца ее никто не знал, и ее мать, если бы не умерла родами, жила бы в великом позоре. И потому глашатай объявил имя ее бабки — той самой, которая раньше жила в гареме фараона Хоремхеба и вырастила Исет. Бабка уже год как умерла, но глашатай мог назвать только это имя.
Когда обед кончился, я вернулась в свои покои и села за эбеновый столик, что принадлежал еще моей матери. Мерит вытерла у меня с глаз сурьму, а с губ — охру и протянула мне ароматическую палочку. Я опустилась на колени перед наосом
[84] моей матери. Большие наосы делаются из гранита, спереди они открываются, внутрь помещают статую бога, а еще в них есть специальная полочка для сжигания благовоний. У меня был маленький деревянный наос. Он принадлежал моей матери, еще когда она была девочкой, а раньше, наверное, и ее матери. Я встала на колени и вспомнила, что за деревянными дверцами — статуя богини Мут
[85], в честь которой назвали мою мать. Богиня с головой кошки смотрела, как я смаргиваю слезы с ресниц.
— А если бы матушка не умерла? — спросила я у Мерит.
Няня присела на край постели.
— Не знаю, госпожа. Не забывай: твоей матери довелось многое пережить. Все, кого она любила, погибли в огне.
Часть Малькаты, пострадавшую от пожара, так и не восстановили. Во дворе все еще оставались почерневшие камни, обломки обгоревших деревянных столов, обвитые виноградными лозами и заросшие сорной травой. В возрасте семи лет я упросила Мерит отвести меня туда; я стояла, замерев, и пыталась представить, где был мой отец, когда вспыхнул пожар. Мерит сказала, что загорелось из-за опрокинувшегося масляного светильника, но мне как-то раз удалось подслушать разговор визирей. Речь шла о каких-то темных делах, о заговоре с целью убить моего деда, фараона Эйе. За этими стенами в пламени погибла вся моя семья: брат, отец, дед и его жена — царица. В живых осталась только мать — она вышла погулять в парке. Узнав о гибели фараона, полководец Хоремхеб явился во дворец вместе со своим войском и заставил ее выйти за него замуж. Мать была единственной ниточкой, ведущей к трону. Интересно, мучила ли Хоремхеба совесть, когда Мутноджмет отправилась в объятия Осириса с именем моего отца на устах? Я часто думала о ее последних днях. Как раз в тот миг, когда бог Хнум
[86] вылепливал на гончарном круге мое ка
[87], ка моей матери отлетело навеки.
Я оглянулась на Мерит, грустно смотревшую на меня. Она не любила, когда я спрашивала о матери, но отвечать не отказывалась.
— А перед смертью, — продолжала я расспросы, хотя давно знала ответ, — кого она звала?
Лицо Мерит стало еще серьезнее.
— Твоего отца. И…
Я повернулась к няне, позабыв об ароматической палочке.
— И?
— И свою сестру.
Я удивленно взглянула на Мерит.
— Раньше ты не говорила.
— Потому что нечего тебе тут знать, — быстро сказала она.
— А она правда была еретичкой?
— Госпожа!..
Я поняла, что Мерит хочет замять разговор, и уверенно кивнула.
— Меня назвали в честь Нефертити. Моя мать не могла считать ее вероотступницей.
Во дворце не произносили имя Нефертити, и Мерит поджала губы. Она развела руками, глядя куда-то вдаль.
— Вероотступницей была не столько царица, сколько ее муж.
— Эхнатон?
Мерит замялась.
— Да. Он запретил поклоняться богам, разрушил храм Амона и заменил статуи Ра своими собственными.
— А моя тетка?
— Она все улицы заполнила своими изображениями.
— Вместо изображений богов?
— Да.
— Тогда где же они? Я ничего подобного не видела.
— Ясное дело, не видела. — Мерит поднялась. — Все, что ей принадлежало, уничтожили.
— Даже имя моей матери, — сказала я и повернулась к наосу.
Дымок от благовоний плыл над лицом богини. Когда умерла моя мать, Хоремхеб забрал все.
— Можно подумать, я родилась на свет без акху и у меня вообще не было предков. Знаешь, — доверительно сообщила я, — в эддубе правление Нефертити вообще не изучают. И правление фараона Эйе, и Тутанхамона.
Мерит кивнула.
— Хоремхеб стер из свитков их имена.
— Он отобрал у них жизнь. Правил только четыре года, а нас учат, что он правил десятки лет. Я-то знаю. И Рамсес знает. А чему будут учить моих детей? Они вообще не узнают о существовании моей семьи.
Каждый год во время празднества Уаг
[88] — дня поминовения мертвых — жители Египта посещают гробницы своих предков. Но мне некуда было пойти, чтобы почтить ка моей матери или ка моего отца, некуда отнести благовония или сосуд с оливковым маслом. Гробницы их спрятали где-то в горах, подальше от жрецов и от ненависти Хоремхеба.
— Кто вспомнит о них, Мерит? Кто?
Мерит положила руку мне на плечо.
— Ты.
— А когда я уйду в царство мертвых?
— Постарайся не уходить из людской памяти. Те, до кого дойдет о тебе слава, заинтересуются твоим прошлым и узнают о фараоне Эйе и царице Мутноджмет.
— А если у меня не получится — они сгинут навеки.
— И Хоремхеб восторжествует.
Глава третья
КАК СЛУШАЮТ КОШКИ
Верховный жрец возвестил, что Рамсесу должно жениться в двенадцатый день месяца тота. Его выбрали как самый благоприятный день сезона Ахет. Когда я шла из дворца к храму Амона, на озере уже теснились лодки с припасами и подарками для празднества.
Наконец жрецы закончили обычную церемонию. В храме я держалась тихо, и даже наставник Оба не нашел к чему придраться.
— Что с тобой, царевна? Фараон Рамсес и Аша ушли и тебе не с кем порезвиться?
Я посмотрела на него. Кожа наставника походила на измятый лист папируса, даже вокруг носа были складки. Ему было лет пятьдесят, но Оба казался таким же древним, как потрескавшаяся краска на стенах моей комнаты.
— Да, все меня бросили, — пожаловалась я.
Наставник Оба рассмеялся каким-то неприятным смехом.
— Все тебя бросили. Все! — Он оглянулся: двести учеников шагали вслед за ним к эддубе. — Наставник Пасер сказал, что ты очень способная ученица, и вот теперь я думаю: в чем же ты отличилась — в постижении языков или в лицедействе? Быть может, через несколько лет мы увидим тебя в каком-нибудь представлении при дворе?
Остаток пути до эддубы я не произнесла ни слова. Позади раздавался скрипучий смех наставника. Мы вошли в класс, но я была так сердита, что даже не обратила внимания на слова Пасера:
— Сегодня мы начинаем изучать новый язык.
Я не помню ни чем мы в тот день занимались, ни как Пасер начал обучать нас новому языку — языку шазу. Вместо того чтобы слушать, я разглядывала сидевшую впереди девочку. Ей было не больше девяти лет; она заняла циновку, где раньше сидел Аша. Когда настало обеденное время, она убежала вместе с какой-то своей ровесницей, и я сообразила, что теперь мне даже не с кем пообедать.
— Кто хочет в кости поиграть? — спросил, едва прожевав, Баки.
— Я могу, — сказала я.
Баки оглянулся на кучку мальчишек — они явно не желали моего участия.
— Мы… с девчонками не играем.
— Всегда же играли, — заметила я.
— А сегодня не играем.
Остальные закивали, и у меня вспыхнули щеки. Я вышла во двор — посидеть в одиночестве — и вдруг увидела Ашу на каменной скамье, где мы всегда с ним обедали.
— Аша! — воскликнула я. — Что ты здесь делаешь?
Аша положил тисовый лук на скамью.
— Воинам тоже нужно есть, — ответил он, пристально глядя на меня. — Что случилось?
Я пожала плечами.
— Мальчики не берут меня играть в кости.
— Кто не берет? — возмутился он.
— Какая разница.
— Как это — какая? — Голос его посуровел. — Кто?
— Баки, — сказала я.
Аша с угрожающим видом поднялся, но я потянула его назад.
— Не только он, другие тоже не хотят. Исет права: они дружили со мной только из-за тебя и Рамсеса, а когда вы ушли, я стала никому не нужной царевной из семьи вероотступников. — Я справилась с волнением и подняла голову повыше. — Нравится быть колесничим?
Аша уселся и уставился мне в глаза, но мне не хотелось, чтобы он меня жалел.
— Здорово, — признался он и открыл свой мешок. — Никакой тебе клинописи, никаких иероглифов… не нужно переводить бесконечные угрозы Муваталли — Аша смотрел на небо, улыбаясь с неподдельной радостью. — Мое место — в войске фараона, я всегда это знал. А тут… — Он ткнул большим пальцем в сторону эддубы. — Тут мне мало что удавалось.
— Но ведь твой отец хочет, чтобы ты стал начальником колесничих. Тебе без образования нельзя!
— К счастью, все уже позади. — Аша достал медовую лепешку и отломил мне половинку. — Видела, сколько понаехало купцов? Полный дворец. Мы даже не смогли повести коней на озеро — оно все забито чужеземными кораблями.
— Пойдем к причалу, посмотрим!
Аша огляделся. Ученики играли в бабки и в сенет.
— Неферт, мы же не успеем.
— Почему? Пасер вечно опаздывает, а воинам нужно собираться только по сигналу трубы. Пасер начнет гораздо раньше. Когда мы еще увидим столько кораблей? Подумай только, каких там зверей, наверное, понавезли. И лошадей! — искушала я товарища. — Может быть, хеттских.
Я нашла верные слова.
Подойдя к озеру, мы увидели с дюжину стоящих на якоре кораблей. Флаги всех цветов реяли на ветру, яркие ткани переливались на солнце, словно драгоценные каменья. С кораблей выгружали тяжелые сундуки, и, как я и думала, из страны хеттов привезли в подарок коней.
— Ты была права! — воскликнул Аша. — Откуда ты узнала?
— Ведь каждая страна присылает свои дары. Что еще такое есть у хеттов, что нам нужно?
В воздухе висели крики торговцев, топот изнуренных морским путешествием коней, которые, скользя копытами, спускались по мосткам. Мы пробирались в сутолоке между тюками — к коням. Аша погладил иссиня-черную кобылу, но служитель сердито одернул его на языке хеттов.
— Ты говоришь с лучшим другом фараона Рамсеса, — резко сказала я на том же языке. — Он пришел проверить подарки.
— Ты знаешь наш язык? — удивился торговец.
Я кивнула.
— Да. А это Аша, будущий начальник царских колесничих.
Хетт прищурился, пытаясь понять, можно ли мне верить. Наконец с важным видом кивнул.
— Хорошо. Попроси его отвести коней в конюшни фараона.
Я во весь рот улыбнулась Аше.
— Что такое? Что он сказал?
— Просит отвести коней в конюшни фараона.
— Я? — воскликнул Аша. — Нет! Скажи…
Я улыбнулась купцу.
— Он будет счастлив доставить подарок хеттов фараону.
Аша уставился на меня.
— Ты сказала, что я не поведу?
— Нет, конечно! Великое дело — отвести несколько лошадей.
— А как я объясню, почему я этим занят? — закричал Аша.
Я посмотрела на него.
— Ты шел во дворец. Тебя попросили заняться конями, потому что ты в них разбираешься. — Я повернулась к хетту. — Прежде чем отводить коней, мы должны взглянуть на другие подарки.
— О чем ты с ним говоришь?
— Аша, положись на меня. Иногда ты слишком осторожен.
Хетт нахмурился, Аша затаил дыхание, а я послала хетту самый нетерпеливый взгляд. Он тяжело вздохнул и повел нас через весь причал, мимо покрытых удивительнейшей резьбой ларцов слоновой кости, в которых привезли корицу и мирру, стоившие целое состояние. Сильный аромат пряностей смешивался с запахом речного ила. Аша указал вперед, на длинный обитый кожей сундук.
— Спроси его, что там.
Переводить не потребовалось: старик тут же склонился над сундуком. Три длинные седые косы упали на плечо, и хетт, тряхнув головой, перебросил их за спину. Из сундука он извлек сверкающий меч.
— Железо! — шепнула я.
Аша взялся за рукоять и повернул длинный клинок, на котором сверкнуло летнее солнце, как на мече Рамсеса, когда он показывал нам его на балконе.
— И сколько тут мечей? — Аша сопроводил слова жестом.
Торговец, видно, понял, потому что ответил:
— Два — по одному для старшего и младшего фараона.
Я перевела ответ, и Аша вернул меч на место. Мне же на глаза попалась пара эбеновых весел.
— А это для чего?
Старик впервые улыбнулся.
— Это самому фараону Рамсесу — для свадебной церемонии.
Узкие весла были вырезаны в виде утиных головок, и старик погладил дерево, словно птичьи перья.
— Фараон будет ими грести, когда поплывет за лодкой невесты, и все придворные поплывут за ним в своих лодках.
Я представила себе, как Рамсес гребет, догоняя лодку Исет. Темные волосы невесты убраны сверкающими на солнце лазуритовыми бусинками. Мне и Аше придется плыть позади, и нельзя будет ни окликнуть Рамсеса, ни дернуть за волосы. Быть может, если бы во время коронации я не вела себя, как дитя, то на свадебной церемонии оказалась бы в самой первой лодке. И это ко мне он повернулся бы позже, ночью, и со мной говорил бы о событиях минувшего дня, и смеялся бы заразительным смехом…
В молчании я проводила Ашу до конюшен; вечером, когда Мерит велела мне сменить короткую тунику на праздничное одеяние, я не ворчала. Я покорно дала ей надеть мне на шею серебряное ожерелье и неподвижно сидела, пока она натирала мне щеки миртовым маслом.
— Отчего это ты вдруг такая послушная? — подозрительно спросила Мерит.
Я покраснела.
— Разве я не всегда такая?
Мерит вздернула подборок, и ее пеликаний мешок вытянулся.
— Собака делает, что велит хозяин. А ты всегда слушаешь меня, точно кошка.
Мы обе посмотрели на Тефера, который развалился на постели, — своевольный зверек дернул ушами, словно понял, что Мерит упомянула его.
— Фараон Рамсес теперь взрослый, и ты тоже решила повзрослеть? — не унималась Мерит.
— Возможно.
Когда пришло время собраться к обеду в Большом зале, я села на свое место возле помоста и видела, как Рамсес смотрит на Исет. Через десять дней она станет его женой. Неужели он совсем обо мне забудет?
Фараон Сети встал с трона и поднял руку. В зале воцарилась тишина.
— Не послушать ли нам музыку? — громко спросил он.
Царица Туйя кивнула, но подниматься не стала. Ее лоб по обыкновению покрывала испарина. И как только такая тучная женщина выносит фиванскую жару? Слуги так размахивали опахалами, что даже к столам у помоста доносился запах ее благовоний — лаванды и лотоса.
— А что скажет будущая повелительница Египта? — спросила царица, и все придворные посмотрели на Исет, которая изящно поднялась со своего места.
— Как пожелает царица.
Исет грациозно поклонилась, медленно пересекла зал и приблизилась к стоящей у помоста арфе. Рамсес улыбнулся. Исет уселась перед инструментом, прижала к груди резную деревянную раму арфы, и по залу полетели нежные звуки. Кто-то из сидевших позади меня сановников пробормотал:
— Прекрасно. Какое чудо!
— Ты про музыку или про исполнительницу? — уточнил Анемро.
Остальные захихикали.
Накануне свадьбы Рамсеса и Исет остальные ученики отправились домой, а наставник Пасер отозвал меня в сторонку. Он стоял посреди комнаты, окруженный корзинами с папирусами и тростниковыми палочками. В мягком вечернем свете я вдруг поняла, что он гораздо моложе, чем мне всегда казалось. Темные волосы были заплетены не так туго, как обычно, и глядел он добродушнее. Пасер указал на кресло, стоявшее напротив него, но не успел произнести ни слова, как глаза у меня затуманились от слез, до того мне стало стыдно.
— Хотя твоя няня позволяет тебе носиться по всему дворцу, словно ты дикое дитя Сета, — начал он, — ты всегда была в числе лучших учеников. Но за последние десять дней ты пропустила занятия шесть раз, а твой сегодняшний перевод приличествует разве что каменщику, из тех, что строят пирамиды.
Я опустила голову и пробормотала:
— Я исправлюсь.
— Твоя няня говорит, что дома ты больше не занимаешься языками. Думаешь о чем-то постороннем. Это из-за женитьбы Рамсеса?
Я подняла на него глаза и тыльной стороной ладони вытерла слезы.
— Рамсеса нет, и никто со мной не хочет дружить. Все ученики только из-за Рамсеса притворялись, что хорошо ко мне относятся, а теперь называют меня вероотступницей.
Пасер, нахмурившись, подался вперед.
— Кто тебя так называет?
— Исет.
— Это только один человек.
— Но другие тоже так думают! Я точно знаю. А в Большом зале,
когда верховный жрец садится за наш стол у помоста…
— Из-за Рахотепа не стоит переживать. Ты ведь знаешь, что его отец был верховным жрецом Амона…
— А когда моя тетка стала царицей, они с фараоном Эхнатоном приказали его убить. Это я знаю. И потому Исет против меня, и верховный жрец против меня, и даже царица Туйя. — Я подавила рыдание. — Все против меня — из-за моей семьи. Зачем только моя мать назвала меня в честь Отступницы!
Пасер замялся.
— Откуда ей было знать, что люди будут ненавидеть ее сестру даже двадцать пять лет спустя? — Он встал и протянул мне руку. — Нефертари, тебе нужно продолжать изучение языка хеттов и шазу. Неважно, что делают фараон Рамсес и Аша, тебе нужно учиться в эддубе. Только так ты найдешь свое место при дворе.
— Какое место? — в отчаянии спросила я. — Женщина не может быть визирем.
— Не может, — согласился Пасер. — Но ты же царевна. С твоим знанием чужеземных языков перед тобой откроется множество путей. Ты можешь стать верховной жрицей или исполнять при верховной жрице обязанности писца или даже посланника — Пасер сунул руку в корзину и достал несколько свитков. — Это письма от Муваталли фараону Сети. Мы переводили их в те дни, когда ты сидела во дворце, сказываясь больной.
Щеки у меня заалели от стыда, но позже я поняла, что Пасер прав. Я — царевна. Дочь царицы, племянница царицы и внучка царицы. Мне открыто множество путей.
Когда я вернулась из эддубы, во внутреннем дворе уже раскинули огромный белый шатер — там будут пировать самые почетные гости на свадьбе Рамсеса. Повсюду, точно муравьи, сновали сотни слуг, перенося кресла и столы из Большого зала в шатер. Под златотканым пологом, в сторонке от суеты, сидели сестры фараона Сети, прибывшие, чтобы присматривать за подготовкой к празднеству. Исет тоже была там, со своими подружками из гарема.
— Нефертари! — крикнул Рамсес с другого конца двора.
Оставив Исет, он поспешил ко мне.
Из-за жары фараон снял немес
[89], и заходящее солнце словно полило его голову огнем. Я представила, как Исет запускает пальцы в красно-золотые пряди и шепчет что-то Рамсесу на ухо — так иногда Хенуттауи в подпитии шепчет о чем-то красивым вельможам.
— Я тебя уже несколько дней не видел. Ты не представляешь, каково сидеть в тронном зале, — оправдывался Рамсес-Каждый день новая забота. Помнишь, в прошлом году озеро обмелело?
Я кивнула. Рамсес прикрыл рукой глаза от солнца.
— Это потому, что Нил не выходил из берегов. А без разлива земля не орошается, и урожай очень плох. В некоторых городах уже начинается голод.
— Но в Фивах же нет голода, — возразила я.
— В Фивах — нет, есть в других частях Египта.
Я попыталась представить, что такое голод. Завтра во дворец придут тысячи людей. В кухнях сейчас готовят говядину, жарят уток и ягнят, а в Большом зале уже стоят бочки с гранатовым вином.
Рамсес перехватил мой взгляд и кивнул.
— Понимаю, поверить трудно, но за пределами Фив люди сильно голодают. У нас тут прошли хотя бы небольшие дожди, а в Эдфу и Асуане и того не было.
— Так Фивы поделятся с ними зерном?
— Только если его хватит. Советникам фараона не нравится, что в Египте стало так много хабиру
[90]. Говорят, их уже шестьсот тысяч, и теперь, считают советники отца, когда еды не хватает и самим египтянам, нужно принять меры.
— Какие?
Рамсес смотрел куда-то в сторону.
— Какие меры? — повторила я.
— Избавиться от сыновей хабиру, чтобы…
У меня перехватило дыхание.
— Что?! Ты же не позволишь?..
— Разумеется, не позволю. Но визири об этом поговаривают. По их мнению, дело не только в численности хабиру. Рахотеп предлагает поубивать у них сыновей, и тогда их дочери станут выходить замуж за египтян и вскоре сольются с нашим народом.
— Не сольются! Наш наставник Амос — из хабиру, и его народ живет здесь уже сто лет. Мой дед привез людей хабиру в Фивы, когда завоевал Ханаан…
— Рахотеп утверждает, что хабиру, как и фараон-еретик, признают только одного бога. — Рамсес понизил голос, чтобы не услыхали снующие мимо слуги. — Он считает хабиру еретиками!
— Конечно, он так скажет. Сам он еретик — бывший верховный жрец Атона. А теперь хочет показать двору, как чтит Амона.
Рамсес кивнул.
— То же самое я сказал отцу.
— А он?
— Хабиру составляют шестую часть его войска. Их сыновья сражаются бок о бок с сыновьями египтян. Но народ все больше недоволен. Каждый день приносит новые беды. Засухи, упадок в торговых делах, морские разбойники. Сейчас идут приготовления к свадьбе, к нам прибывают тысячи иноземных сановников. Сегодня утром прибыл ассирийский царевич, и визирь Анемро поместил его в западных покоях.
Я прикрыла рот рукой.
— Он разве не знает, что ассирийцы спят, обратив лицо к восходящему солнцу?
— Нет. Мне пришлось ему объяснять. Он отвел царевичу другие покои, но ассирийцы уже разобиделись. Ничего подобного не случилось бы, согласись только Пасер стать визирем.
— Наставник Пасер?
— Мой отец уже дважды ему предлагал. Он стал бы самым молодым визирем Египта… но притом самым умным.
— И он два раза отказывался?
Рамсес кивнул.
— Не могу его понять. — Он посмотрел на свитки у меня в руках. — А это что? — У Рамсеса даже глаза заблестели — наверное, ему уже надоело говорить о свадьбе и политике. — Мне бы тут хватило работы на несколько дней, — заметил он и схватил один. — Ты что, пропускала уроки?!
— Отдай! — крикнула я. — Я болела.
— Хочешь забрать — попробуй отними!
И он стал носиться по двору, а я пыталась догнать его с кучей свитков в руках.
На камни вдруг легла чья-то тень, и Рамсес остановился.
— Что ты делаешь? — сурово осведомилась Хенуттауи.
Вокруг ее ног взметнулся подол красного платья. Она выхватила у Рамсеса свиток и протянула мне.
— Ты — царь Египта! — резко напомнила она, и ее племянник вспыхнул. — Ты бросил Исет совсем одну, и ей самой пришлось выбирать музыкантов для участия в празднестве.
Исет стояла в другом конце двора. Мне она вовсе не показалась такой уж одинокой. Она о чем-то шепталась с толпой подружек. Рамсес замялся: ему не хотелось вызывать недовольство сестры фараона.
— Нужно пойти помочь Исет, — смущенно сказал мне Рамсес.
— Твой отец ждет тебя в тронном зале.
Хенуттауи проводила взглядом Рамсеса до самого дворца, повернулась ко мне и неожиданно отвесила мне такой шлепок, что я еле устояла на ногах.
Свитки Пасера рассыпались по мощеному полу.
— Время, когда твоя семья хозяйничала в Малькате, давно миновало. Нечего гоняться за Рамсесом по всему двору, словно зверь. Он — царь Египта, а ты — всего лишь сирота, которую терпят здесь из милости.
Хенуттауи развернулась и устремилась к белым шатрам.
Я стала собирать свитки, и несколько слуг бросились мне помочь.
— Тебе нехорошо, госпожа? — спросил кто-то. Все видели, что произошло. — Позволь тебе помочь.
Один из поваров опустился на колени и потянулся к папирусам.
Я покачала головой.
— Не нужно, я сама.
Однако повар собрал и вложил мне в руки горку свитков. У входа во дворец кто-то взял меня за плечо. Я приготовилась к новой вспышке ярости со стороны Хенуттауи, но это оказалась ее младшая сестра Уосерит.
— Возьмите эти свитки и отнесите в покои царевны, — велела она стражникам. Потом повернулась ко мне. — Идем.
Я шла, глядя, как колышется подол бирюзового одеяния над покрытыми глазурью плитами пола. Мы вошли в приемную, где сановники обычно дожидаются фараона. Здесь никого не было; Уосерит закрыла за нами тяжелую дверь.
— Чем ты так рассердила Хенуттауи?
Я едва сдерживала слезы.
— Ничем.
— Она хочет, чтобы ты держалась подальше от Рамсеса. — Уосерит помолчала, потом продолжила: — Как ты думаешь, почему Хенуттауи так волнует будущее Исет?
Я смотрела ей в глаза.
— Н-не знаю…
— Тебе не приходило в голову, что Хенуттауи пообещала Исет сделать ее царицей не просто так?
Я нервно прижала к губам два пальца — эту привычку я переняла у Мерит.
— Не знаю. Что такое есть у Исет, чего нет у твоей сестры?
— Сейчас — ничего. Тебе Хенуттауи предложить нечего — ни положения при дворе, ни царского имени. Зато она может много чего предложить Исет. Без Хенуттауи Исет никогда бы не выбрали Рамсесу в жены.
Я все еще не понимала, почему Уосерит о них заговорила.
— Рамсес мог выбрать любую хорошенькую девушку, — продолжила она. — Он назвал Исет, потому что так предложил его отец, а предложил он ее по настоянию Хенуттауи. Почему же моя сестра так настойчива? Что надеется получить?
По-видимому, сама Уосерит отлично знала, чего хочет Хенуттауи; я вдруг почувствовала себя совершенно разбитой.
— Так ты не задумывалась? — не унималась Уосерит. — Этот двор, Нефертари, хочет предать тебя забвению, и если ты этого не поймешь, то скоро канешь в неизвестность вслед за своей семьей.
— Что же мне делать?
— Выбери свой путь. Ты — царская дочь, но Исет скоро станет царской женой, и если она сделается главной супругой, ты при дворе не останешься. Моя сестра вместе с Исет выживут тебя из дворца, и ты будешь влачить жалкое существование в гареме Ми-Вер.
Даже тогда я понимала, что для женщины, выросшей во дворце, нет худшей участи, чем кончить дни в гареме Ми-Вер, окруженном западной пустыней. Многие девушки думают, что быть женой фараона — значит наслаждаться жизнью в дворцовых садах, сплетничать в банях, выбирать, какие сандалии надеть: украшенные лазуритом или кораллами, — но на деле все не так! Конечно, некоторые женщины — самые умные или самые красивые, вроде бабки Исет, — живут в гареме, что рядом с дворцом фараона. Но гарем Малькаты невелик, и большинство женщин вынуждено жить в дальних дворцах; там ради пропитания им приходится прясть. Покои Ми-Вера полны старух, одиноких и злых.
— Только один человек может сделать так, чтобы Исет никогда не стала главной женой и не смогла выгнать тебя из дворца, — продолжала Уосерит. — Только один человек достаточно близок к Рамсесу — ты. Только ты сможешь убедить его в том, что Исет должна быть всего лишь одной из жен. Разумеется, если главной женой станешь ты.
До сих пор я слушала, затаив дыхание, но тут вдруг начала задыхаться. Я села в кресло и вцепилась в деревянные подлокотники.
— Бросить вызов Исет? — Я представила себе, что пойду против Хенуттауи, и мне стало плохо. — Я не смогу. Не смогу, даже если бы и хотела. Мне только тринадцать лет.
— Тебе не всегда будет тринадцать. Но веди себя, как положено царевне Египта. Прекрати бегать по дворцу, словно девчонка из гарема.
— Я — племянница Отступницы, — прошептала я. — Сановники никогда меня не примут. Рахотеп…
— Рахотепа можно обойти.
— Я хотела обучаться в эддубе и стать посланником…
— А кто назначает посланников?
— Фараон.
— Представь, что моего брата не станет. Не забывай: фараон Сети на двадцать лет старше меня. Когда его призовет Осирис, кто будет назначать посланников?
— Рамсес.
— А если он отправится на войну?
— Визири? — гадала я. — Или верховный жрец Амона. Или…
— Главная супруга фараона?
Я уставилась на мозаику на стене, изображавшую реку. По ярко выкрашенным плитам прыгали рыбы, а рыболовы праздно лежали на берегах. Какая у них спокойная жизнь! Никаких сомнений. Сыну рыболова не нужно заботиться о том, кем он станет, когда ему исполнится пятнадцать. Судьба его решена богами и предопределена сменой времен года. Ему не нужно бродить в лабиринте выбора.
— Я не могу начать борьбу с Исет и Хенуттауи, — решила я.
— Начинать тебе и не придется, — возразила жрица. — Борьбу уже начала моя сестра. Ты хочешь быть посланником, но как тебе это удастся, если в Фивах будут править Исет и Хенуттауи?
— Я не справлюсь с Хенуттауи, — твердо сказала я.
— Ты не одна. Я могу тебе помочь. Не только тебе придется плохо, если главной женой станет Исет. Хенуттауи будет рада изгнать меня в какой-нибудь храм в Файюме.
Я хотела спросить почему, но в тоне Уосерит было что-то такое, что я не посмела. Я вдруг вспомнила, что она никогда не разговаривает с сестрой в Большом зале, хотя и сидит с ней за одним столом.
— У нее ничего не получится, — продолжала Уосерит. — Я восстану против ее плана и помешаю ей. Много раз я приходила на пиры к своему брату, затем только, чтобы не дать ей опорочить мое доброе имя.
— Не хочу принимать участие в дворцовых интригах.
Уосерит изучала мое лицо, стараясь понять, всерьез ли я говорю.
— Скоро все сильно изменится. И ты, возможно, передумаешь и захочешь бросить вызов Исет. Если это произойдет, ты знаешь, где меня найти.
Она протянула мне руку и медленно подвела меня к дверям. Снаружи по-прежнему суетились слуги, расставляя подсвечники и кресла для свадебного пира. Уже десять дней во дворце только и разговоров было, что про Исет. Неужели так будет всегда и вся эта суета из-за невесты и, возможно, будущего наследника означает, что Рамсес потерян для меня навсегда? Фигурка Уосерит двигалась через зал, а слуги, натиравшие плиты пальмовым маслом, поспешно вскакивали, кланялись верховной жрице и тут же снова начинали судачить про грядущее празднество. Сквозь их болтовню до меня донесся голос моей няни:
— Госпожа!
Я повернулась и увидела Мерит, которая несла в корзине мои лучшие наряды.
— Госпожа моя, где же ты была? — воскликнула она. — Я уже посылала слуг в эддубу! Тебя переселяют в другие покои!
Она взяла меня за руку, как это только что сделала Уосерит, и торопливо засеменила по лабиринту коридоров; я едва за ней поспевала.
— В твоих покоях поселится госпожа Исет. По велению царицы Туйи Исет больше не будет жить в гареме.
— Но во дворце полно комнат! — возмутилась я. — Есть и пустые.
— Исет считает, что твои больше всего подходят для супруги фараона. Теперь она станет самой важной госпожой в Малькате и требует для себя твои покои.
Я остановилась под изображением богини Маат
[91], держащей в руках весы истины.
— И царица не стала возражать?
— Нет, моя госпожа. — Мерит отвела взгляд. — Исет сейчас переселяется, и я забираю, что могу. Она желает спать там уже сегодня.
Я уставилась на няню.
— И куда я теперь денусь? Я там живу с самого рождения. С тех пор, как моя мать…
Глаза мои наполнились слезами.
— О госпожа, не плачь. Не плачь.
— Я не плачу, — возразила я, хотя по щекам у меня катились горячие слезы.
— Тебе нашли другие покои, тоже удобные. И тоже в царском дворце. — Мерит поставила корзину и обняла меня. — Госпожа, я по-прежнему буду с тобой. И Тефер.
Я подавила рыдания и с горечью сказала:
— Пойдем скорее, а то еще Исет захочет забрать мои ларцы черного дерева.
Мерит выпрямилась.
— Ничего у тебя не пропадет! — пообещала она. — Я велела слугам глаз не спускать: знаешь, как она смотрит на украшения твоей матери и на зеркало в раме из лазурита!
— Неферт!
С другого конца зала к нам устремился Рамсес. Мерит схватила краешек полотна и быстро вытерла мои слезы, но Рамсес все равно понял, что я плакала.
— Что случилось, Неферт?
— Госпожа Исет переселяется из гарема в покои царевны, — объяснила Мерит. — Моя госпожа всегда жила только в этих комнатах — стены там расписаны изображениями ее матери, и Нефертари, само собой, расстроилась.
Рамсес снова посмотрел на меня, и лицо у него покраснело от гнева.
— Кто же позволил?!
— Думаю, сама царица, государь.
Рамсес уставился на Мерит, потом резко повернулся и приказал:
— Ждите меня здесь!
Я посмотрела на няню.
— Он что, хочет уговорить царицу?
— Конечно! Ведь Исет может занять любые комнаты! Почему ей понадобилось выбрать именно твои?
— Они ближе всего к покоям Рамсеса.
— А с какой стати ее покои должны быть ближе всего к покоям Рамсеса? Она ведь не главная жена!
— Пока нет, — робко ответила я.
Наконец Рамсес вернулся. Я посмотрела на него, схватила Мерит за руку и прошептала:
— Она не согласилась.
Рамсес старался не смотреть мне в глаза.
— Моя мать сказала, что все улажено и говорить больше не о чем — она не может взять свое слово назад.
Я встретила его взгляд и поняла, как сильно он расстроился.
— Мне очень жаль, Неферт.
Я кивнула.
— Мать ждет меня в тронном зале. Если тебе что-то понадобится… — Рамсес запнулся. — Все слуги в твоем распоряжении.
Я покачала головой.
— У меня есть Мерит.
— Моя мать обещала, что ты останешься во дворце. Я на этом настоял.
Я слегка улыбнулась.
— Спасибо.
Рамсес, похоже, не хотел уходить первым. Я подняла корзину и бесстрастно сказала:
— Нам пора. Нужно собирать вещи.
Он смотрел нам вслед, потом повернулся и удалился. Когда шаги его затихли, я закрыла глаза.
В моих комнатах царил беспорядок. Благовония и украшения, которые тринадцать лет хранились в ларцах из черного дерева, свалили как попало в корзины, не позаботившись даже завернуть их, чтобы ничего не разбилось и не сломалось. Доску для игры в сенет уже унесли, но слуги выронили фигурки, и они валялись на каменных плитах.
— Это еще что такое?! — воскликнула няня.
Служанки Исет содрогнулись и замерли, не выпуская ларцов. Даже дворцовые слуги воззрились на Мерит с изумлением и страхом.
— Кто это натворил? — спросила она, но никто не ответил. Няня протолкалась через завалы из корзин и сундуков и подбоченилась. — Придется вам все собрать! Никто не смеет так обращаться с вещами царевны Нефертари!
Слуги бросились собирать рассыпанные фигурки.
Еще в дверях я увидела, что вещи Исет разложены на новом столике. Тут был и веер из слоновой кости и страусовых перьев, и наряд из нитей с нанизанными фаянсовыми бусинами. «Кто-то ей все это подарил, — догадалась я. — Наверное, свадебный подарок Рамсеса. В гареме никто не может позволить себе такую роскошь». У стены, где раньше стояла моя кровать, уже поставили золоченое ложе и к столбам прикрепили длинный серебристый полог. Ночью его будут опускать, чтобы на Исет не падал свет луны, который льется на стены, выложенные синими плитками. На мои стены.
— Ты, конечно, маленькая, но перешагивать через тебя все равно неудобно.
Исет скользнула мимо меня, неся в руках охапку нарядов.
Неожиданно мне на глаза попался наос моей матери. Чтобы его передвинуть, из него вынули фигурку богини Мут. У меня перехватило дыхание: статуя раскололась надвое!
— Это ты разбила? — закричала я, и все, кто находился в комнате, снова замерли.
Я согнулась над изображением богини-покровительницы своей матери, по-детски шепча молитву, и попыталась сложить статую. Кошачья голова богини отломилась от туловища, а мне казалось, что мне самой оторвали голову.
— Я не разбивала, — быстро проговорила Исет. — Даже не прикасалась.
— Тогда кто?! — закричала я.
— Может быть, слуги. Или Уосерит. Она сюда заходила.
Исет оглянулась: лица служанок исказил страх.
— Я хочу знать, кто это сделал, — сказала Мерит с мягкой угрозой в голосе, и Исет, испуганная, отступила назад. — Уосерит никогда бы не прикоснулась к святыне моей госпожи. Это ты разбила изображение богини?
Исет взяла себя в руки.
— Ты понимаешь, с кем говоришь?
— Я прекрасно понимаю, с кем говорю, — заявила моя няня, содрогаясь от ярости. — Я говорю с внучкой одной из жен фараона, с девушкой из гарема.
Лицо у Исет налилось кровью.
Мерит отвернулась.
— Пойдем, — резко сказала она.
В зале няня взяла у меня из рук разбитую фигурку богини.
— Ничего хорошего эта скорпиониха не дождется. Не беспокойся, госпожа. Я снесу фигурку к дворцовому скульптору, он склеит.
Но я, конечно, не могла не переживать. Не только из-за святыни моей матери, но еще из-за предупреждения Уосерит. Слова ее звучали у меня в голове, как песнопения, что исполняют в храме Амона… Моя жизнь уже начала меняться, и не к лучшему. Я шла за сердито топочущей Мерит в новые покои, расположенные в другой части дворца. Няня рывком распахнула тяжелые деревянные двери и удовлетворенно прокашлялась.
— Вот твое новое жилище.
Из высоких окон — от пола до потолка — открывался вид на холмы, лежащие к западу от Фив. Тефер уже развалился на балконе с видом гордым и независимым, точно леопард. Все здесь было великолепно — от выложенного плиткой балкона до мозаики из слоновой кости и серебра, изображавшей богиню Хатор. Пораженная, я повернулась к няне.
— Ведь это же комнаты Уосерит!
— Сегодня утром, пока ты была в эддубе, она отдала их тебе.
Значит, во время нашего утреннего разговора жрица уже знала, что Исет забрала себе мои комнаты.
— Но где же она будет ночевать, как придет во дворец?
— Переночует в покоях для гостей, — ответила няня и испытующе посмотрела на меня. — У нее к тебе явно какой-то интерес. — Не получив ответа, Мерит многозначительно спросила: — Хочешь посмотреть туалетную комнату?
В большинстве дворцовых покоев комнаты для одевания очень малы, места там только и хватает, что для трех-четырех ларцов и, если повезет, для стола с глиняными головами для сохранения париков. В моей старой туалетной комнате едва умещалось бронзовое зеркало. Но туалетная комната Уосерит оказалась почти такой же большой, как и спальня, и там был душ, где вода сама лилась из серебряных сосудов. Мерит поставила ларец с красками и притираниями возле выходящего в парк окна. Я откинула крышку и стала выкладывать на новом месте свои туалетные принадлежности: кисточки, горшочки с сурьмой, лезвия, гребни. Достала я и зеркало матери, сделанное в форме знака «анх»
[92] с гладкой фаянсовой ручкой.
— А если бы верховная жрица не отдала мне свои комнаты — куда бы я пошла?
— В какие-нибудь другие покои. Ты всегда будешь жить во дворце, госпожа. Ты ведь царевна.
«Царевна иного двора», — горько подумала я.
Кот мягко потерся мне о щиколотку.
— Видишь, — с наигранным весельем сказала Мерит, — Теферу его новый дом нравится.
— Ты будешь жить рядом?
Я огляделась и увидела у изножья кровати деревянную дверь. В царском дворце достаточно негромко окликнуть — и прислуга тут же появится.
— А как же, госпожа!
В тот вечер я отправилась в постель вместе с Тефером. Мерит обвела комнату придирчивым взглядом.
Все было на месте. Алебастровые
[93] сосуды в виде спящих кошечек стояли на подоконнике, пояс из сердолика, который предстояло надеть завтра, лежал рядом с одеждой. Сюда принесли все мои ларцы и сундуки, не было только моей святыни. А Исет сегодня ночью будет спать под мозаикой, изображающей богиню Мут, — мозаикой, выложенной для моей матери.
Я проснулась до того, как первый луч солнца проник через тростниковые циновки. В этой самой кровати я спала еще ребенком.
— Тефер! — шепнула я. — Тефер?
Кот исчез — наверное, отправился охотиться на мышей или попрошайничать на кухне. Я зажгла светильник, что стоял у жаровни с углем. От углей жаровни поднимался теплый воздух, и свет от светильника задрожал на непривычных моему взгляду стенах.
Над дверью красовалось изображение богини-матери Хатор — желто-голубой коровы с восходящим солнцем между рогами. На белых и голубых плитках под окнами резвились рыбки — их чешуйки выложены из перламутра. Возле балкона изобразили Хатор в образе женщины; на груди у нее менат
[94] — священное ожерелье из множества бусин с амулетом, охраняющим от злых чар. Я подумала о портрете матери на стене моей старой спальни и представила ее удивление, когда на кровати вместо меня она увидит Исет. Я, конечно, знала, что это изображение — всего лишь краска, а вовсе не образ на стене усыпальницы, куда в день Уаг возвращается ка умершего. И все же — лицо моей матери смотрело на меня больше тринадцати лет, а теперь в этой комнате готовится к свадьбе другая девушка. Я посмотрела в угол, туда, где должен был стоять наос, и от гнева у меня потемнело в глазах. Уосерит недаром предупреждала, что Исет постарается выжить меня из Фив.
Держа перед собой светильник, я неуверенно прошлепала в туалетную комнату. Уселась перед ларцом с притираниями, достала благовонный шарик и стала умащать подмышки. Потом подвязала волосы и уткнулась в зеркало. Уосерит считает, что я могу стать достойной соперницей Исет, но разве можно сравниться с ней красотой? Я разглядывала свое отражение, так и сяк поворачивая лицо. Вот разве что улыбка… Губы у меня изгибаются, точно лук, как будто я все время улыбаюсь. Да еще глаза… Зеленые, словно вода на мелководье, тронутая лучами солнца.
— Госпожа! — Няня открыла дверь в мою спальню; увидев пустую кровать, она прошлепала в туалетную комнату. — Госпожа, почему ты не спишь?
С яростной решимостью я повернулась к няне.
— Сделай меня сегодня такой же красивой, как Исет!
Мерит отступила назад и нерешительно улыбнулась.
— Принеси мои самые дорогие сандалии, — горячо потребовала я, — и подведи мне глаза золотом, да погуще — все золото, сколько есть.
Мерит улыбнулась уже во весь рот.
— Хорошо, госпожа.
— И принеси любимое ожерелье моей матери. То, которое стоит сто золотых дебенов
[95].
Я повернулась к зеркалу и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Мерит принесла украшения и поставила передо мной тарелку инжира.
— Поешь, только как следует, не копайся в еде, словно цапля.
Няня засуетилась вокруг, собирая гребни и заколки.
— Что сегодня будет? — спросила я.
Мерит уселась на табурет, взяла в руки мою ступню и стала натирать маслом.
— Сначала фараон Рамсес поплывет в храм Амона, где верховная жрица готовит эту скорпиониху к свадьбе. Потом будет пир.
— А Исет? — не унималась я.
— Она станет супругой фараона, будет сидеть в тронном зале, помогать Рамсесу править страной. Подумай, сколько прошений ему приходится читать. Его визири рассматривают тысячи ходатайств, и сотни из них принимают, чтобы представить фараону. Ему помогают фараон Сети и царица Туйя. Один он не справится.
— Значит, Исет будет разбирать дела? — Я вспомнила, как Исет ненавидела учебу. Ей куда больше нравилось сплетничать с подружками в бане, чем переводить клинопись. — Думаешь, Рамсес сделает ее главной женой?
— Ну, Рамсес на такую глупость не пойдет.
Ранним утром, до наступления жары, Мерит навощила мой парик, заменила на нем разбитые бусинки. Потом долго колдовала над сурьмой, растирая ее с пальмовым маслом, пока смесь не стала совсем однородной, после чего невиданно тонкой кисточкой нанесла краску мне на веки. Наконец она повернула меня лицом к зеркалу, и я вздохнула. Впервые в жизни я казалась старше своих тринадцати лет. Исет и Хенуттауи наносили на веки широкие черные полосы, но на моем узком лице лучше смотрелись тонкие линии, проведенные Мерит от внутренних уголков глаз к вискам. В парик мне вплели сердоликовые бусины такого же цвета, что и сердоликовый скарабей у меня на поясе. Золотая пыльца, которую Мерит добавила в сурьму, прекрасно сочеталась с золотым плетением сандалий.
Мерит застегнула на мне ожерелье и поправила парик.
— Ты прекрасна, словно Исида, — пробормотала она. — Только держи себя как взрослая. Сегодня — никакой беготни с Рамсесом. У него свадьба! Тебя увидят царевичи многих стран, от Вавилона до Пунта, — не будь как неразумное дитя.
Я твердо кивнула.
— Никакой беготни.
Мерит пристально поглядела на меня.
— И неважно, чего захочет фараон. Он теперь царь Египта и должен вести себя, как полагается царю.
Я представила Исет в моих покоях, представила, что они с Рамсесом будут делать ночью под изображением моей матери.
— Обещаю.
Мерит прокладывала нам дорогу через набитые людьми залы. Снаружи, за белым шатром, у пристани, откуда поплывут корабли к храму Амона, собрались сотни придворных. Ни Рамсеса, ни Исет еще не было. Мерит держала небольшой полог, прикрывая нас от лучей восходящего солнца. Никого из учеников эддубы я не увидела, зато Аша разглядел меня с другого конца двора и окликнул:
— Неферт!
— Помни, что я тебе говорила, — сурово сказала Мерит.
Аша подошел и удивленно уставился на мой сердоликовый пояс, на золотую краску на веках…
— Неферт, да ты же красавица!
— Я такая же, как всегда, — сердито ответила я.
Аша отступил, задетый моей серьезностью.
— Ты из-за своих комнат? — Аша посмотрел на Мерит, которая нас словно и не слышала, и понизил голос: — Понятно. Исет поступила так из вредности. С Рамсесом она просто мед, но мы-то ее знаем. Я скажу ему…
— Нет! — прервала я. — Он еще решит, что ты завистливый и мелочный.
На пристани загремели трубы, и из дворца вышла Исет. Она должна дойти до пристани и доплыть в лодке до храма Амона, стоящего на восточном берегу. Рамсес поплывет в своей лодке за ней, а за ним последуют придворные в лодках, украшенных серебряными и золотыми флажками. Потом верховный жрец объявит Исет супругой фараона, и она возвратится вместе с Рамсесом, в его лодке. В ознаменование брачного союза ей вручат фамильный перстень фараона. Рамсес понесет невесту на руках через пристань — и до самого дворца, в котором они вместе будут править. И потом они покажутся только ночью, во время пира. Брак вступит в силу, лишь после того, как Рамсес перенесет ее через порог Малькаты. Если он этого не сделает, то в глазах Амона даже обряды, совершенные жрецами в храме, ничего не значат. На миг мне пришла в голову мысль, что Рамсес может не захотеть. Вдруг он поймет, что Исет вовсе не такая роза, какой притворяется, а горсть шипов, — и передумает.
Такого, разумеется, не случилось. Мы плыли по реке целой флотилией, а народ на берегах выкрикивал имя Исет. Женщины поднимали высоко над головами трещотки из слоновой кости, а бедняки хлопали в ладоши. Казалось, на землю сошла богиня. Дети пускали по воде цветы лотоса, девочки, которым удалось разглядеть лицо невесты, плакали от радости. Потом мы достигли храма, Исет объявили супругой Рамсеса, и они вернулись под ликование тысяч гостей. Рамсес взял Исет на руки и скрылся во дворце.
Праздник в белом шатре получился очень веселый и непринужденный. Аша не преминул подсесть ко мне за стол.
— Ну вот, теперь Исет — жена фараона. — Он посмотрел на закрытые двери дворца. — Зато теперь тебе не придется с ней видеться. Она все время будет сидеть в тронном зале.
— Да. Вместе с Рамсесом.
Аша покачал головой.
— Нет. Рамсес поедет со мной. Будет война с хеттами.
Я поставила чашу с вином на стол.
— Что ты говоришь?!
— Город Кадеш принадлежал Египту со времен Тутмоса. А фараон-еретик позволил хеттам его отобрать, и теперь все портовые города, благодаря которым процветал Египет, помогают обогащаться хеттам. Фараон Сети больше такого не потерпит. Он уже вернул все земли, потерянные Еретиком, остался только Кадеш…
— Я знаю, — нетерпеливо перебила я. — Пасер нам все это уже рассказывал. Только он не говорил, что Египет готовится воевать.
Аша кивнул.
— В месяце паофи.
— А если Рамсеса убьют? Или ты вернешься калекой? Аша, ты же видел воинов…
— С нами такого не случится. Мы ведь идем биться впервые. Нас будут хорошо защищать.
— Фараона Тутанхамона тоже хорошо защищали, только это не помешало его колеснице перевернуться. Он сломал ногу и умер!
Аша обнял меня за плечи.
— Фараону полагается вести воинов в сражение. Вот жаль, Неферт, что ты не мужчина, а то поехала бы с нами. Но мы вернемся, — пообещал он. — И все будет как раньше, сама увидишь.
Я улыбнулась — я и сама на это надеялась, хотя понимала, что одной надежды недостаточно.
Вечером я попросила Мерит принести мне восковую палочку. Она поднесла ее кончик к огоньку светильника, потом капнула воском на папирус. Я подождала, пока воск слегка остынет, и прижала к нему свою печатку. Потом протянула письмо няне.
— Ты и вправду хочешь послать, госпожа? Быть может, подумаешь несколько дней?
Я покачала головой.
— Нет. Я уже решила.
Глава четвертая
ПУТИ БОГИНИ ХАТОР
В четырнадцатую годовщину того дня, когда мне дали имя, я, как обычно, пришла в эддубу. Стряхнула у дверей сандалии. Почему-то в комнате для занятий Пасера не было. Впервые за то время, что Пасер учил нас в эддубе, он не явился к уроку. Ученики вовсю пользовались его отсутствием, болтали и судачили, сидя на циновках.
— Нефертари! — крикнул Баки. — Ты уже слышала?
Я неспешно достала из мешка тростниковую палочку и бутылочку с чернилами.
— О чем?
— Пасер больше не будет нас учить. Он теперь визирь фараона Рамсеса.
Я так и подскочила.
— Когда это случилось?
— Вчера. Мне отец сказал сегодня утром. — Баки улыбнулся во весь рот, открывая неровные зубы. — А у нас будет новый наставник.
В дверях возникла женская фигура. Ученики вскочили и низко поклонились Уосерит, как никогда не кланялись Хенуттауи. На Уосерит было длинное голубое одеяние жрицы Хатор, лазуритовые серьги, браслеты и пояс, а головной убор венчали небольшие рога.
— Нефертари, — позвала она, — нам пора.
Ученики смотрели на меня и ждали объяснений, но слова застряли у меня во рту, и тогда жрица сообщила:
— Ваш новый наставник сейчас придет, но царевна Нефертари больше не будет здесь учиться. Она пойдет со мной, чтобы узнать все обряды, совершаемые в нашем храме. Нефертари станет жрицей богини Хатор.
По комнате пронесся удивленный вздох. Уосерит кивнула мне, и я поняла: нужно улыбнуться и уйти. Видя озадаченные лица товарищей, я вдруг подумала, что подошла к концу очень важная часть моей жизни. Наставники меня больше не ждут. Казалось, нужно радоваться окончанию учебы — меня выпустили на свободу, словно зверя из клетки, однако я чувствовала себя птичкой, которую согнали с насиженного места и велели: лети!
Вслед за Уосерит я прошла по тропинке вдоль озера. У меня колотилось сердце, а жрица, как и всегда, сохраняла спокойствие — оно порой наводило меня на мысль о некоей великой цели. Немного погодя она сказала:
— Я сегодня заходила к Мерит. Твои самые необходимые вещи уже уложили, и, как только их погрузят на корабль храма Хатор, мы отплывем.
Вода делит Фивы на две части. На западном берегу Нила стоит дворец Мальката, а на восточном — самые важные храмы. У каждого храма есть собственный корабль; Уосерит плавала на нем каждый день — по утрам приходила в тронный зал или навещала вечерами своего брата-фараона в Большом зале. «Взрослая жизнь, — подумалось мне, — означает передвижения». Четырнадцать лет я прожила в одних и тех же комнатах дворца, а теперь, за последние пятнадцать дней, переезжаю второй раз. Видимо, Уосерит понимала больше, чем хотела показать, потому что ее голос вдруг потеплел.
— Уезжать и прощаться — вовсе не так страшно, как кажется, — заметила она.
У моих покоев собралась небольшая толпа — все смотрели, как слуги собирают вещи. Я увидела Рамсеса и Ашу, и сердце у меня чуть не выскочило.
— Нефер! — окликнул Аша, и Уосерит сдвинула брови.
— Нефертари, — поправила она. — В храме Хатор царевну будут называть только полным именем. Здравствуй, Рамсес! — Она поклонилась своему племяннику и повернулась ко мне: — Я ненадолго уйду, можешь пока попрощаться.
Жрица скрылась в моей комнате. Аша и Рамсес заговорили разом:
— Что это значит?
Я пожала плечами.
— Уезжаю.
— Куда? — выпалил Рамсес.
— В храм Хатор.
— Зачем? Станешь жрицей? Будешь прибираться в храме и воскурять благовония? — спросил Аша.
Думаю, он так удивился оттого, что знал: обучение жрицы занимает двенадцать месяцев. И хотя они могут выходить замуж, мало кто это делает.
Я подавила страстное желание остаться.
— Да. Или стану выполнять обязанности писца.
Рамсес смотрел на Ашу, словно проверяя — верит ли тот.
— Но почему вдруг?
— А что мне еще делать? — рассудительно спросила я. — Во дворце для меня нет места. Ты женат и все время сидишь в тронном зале. Скоро вы с Ашой отправитесь на войну.
— Так мы же не на год уезжаем! — сказал Рамсес.
Появилась Исет и, увидев, что Рамсес беседует со мной, застыла на месте.
— Исет! — позвал он. — Иди попрощайся с Нефертари.
— Зачем? — спросила она. — Разве царевна нас покидает?
— Уезжает в храм Хатор, — сообщил Рамсес так, словно сам не верил. — Хочет стать жрицей.
Исет подошла, напустив на себя сочувственный вид.
— Рамсес будет скучать. Он всегда мне говорил, что ты ему как младшая сестрица.
Исет улыбнулась, и я прикусила язык, чтобы не съязвить.
— Какая жалость, что мы так поздно узнали. Устроили бы прощальный пир. — Исет посмотрела на Рамсеса сквозь длиннющие ресницы. — Ведь она может и не вернуться.
— Нефертари обязательно вернется, — резко возразил Рамсес. — Обучение занимает только год.
— Но потом она будет служить богине Хатор. За рекой.
Рамсес быстро моргнул; в тот миг, несмотря на присутствие Исет, он готов был обнять меня. Аша тоже хотел что-то спросить. Тут появилась Уосерит, а за ней — моя няня во главе целой процессии слуг с корзинами.
— Вы сможете навестить ее, когда захотите, — пообещала Уосерит. — Пойдем, Нефертари. Ладья ждет.
Я протянула руку к затылку и сняла с шеи ожерелье, сплетенное из буйволовых волос, которое Мерит всегда терпеть не могла.
— Что это? — презрительно усмехнулась Исет.
— Это я ей сделал, — объяснил Рамсес и посмотрел мне в глаза.
— Да. Мне было семь лет. — Я улыбнулась. — Возьми его на память.
Я вложила ожерелье Рамсесу в руки и направилась к пристани, стараясь не оглядываться на его унылое лицо.
С палубы корабля я все же оглянулась — попрощаться с привычной мне жизнью. С берега мне махали Рамсес и Аша, а потом к ним присоединились несколько учеников из эддубы.
— Ты хорошо сделала, что отдала ему ожерелье. Умно.
Я вяло кивнула, думая, что ум тут ни при чем, просто я люблю Рамсеса. Мерит обняла меня за плечи.
— Это же не навечно, госпожа моя.
Я сжала губы.
На удаляющемся берегу виднелась только одна фигура. В красном.
— Хенуттауи, — кивнула Уосерит, проследив за моим взглядом. — Думает, что ты сдалась и теперь все только дело времени: Рамсес тебя забудет и обратит свой взгляд на Исет.
Я молилась, чтобы чаяния Хенуттауи не сбылись, но держала язык за зубами — все мои надежды были теперь в руках Уосерит.
Путь к храму Хатор оказался недолгим. Когда корабль подходил к пристани, Мерит поднялась с места и уставилась на целый лес гранитных колонн над безукоризненно чистым внутренним двором.
— Неудивительно, что сестра ей завидует, — шепнула мне няня потихоньку от Уосерит.
В небо поднимались высоченные обелиски, а внизу к священной роще богини Хатор спешили работники в голубых набедренных повязках. Молодые побеги сикоморов зеленели, словно грани изумрудов.
— Не ожидали? — спросила Уосерит.
Мерит призналась:
— Я знала, что этот храм — самый большой в Фивах, но даже и не думала…
Жрица улыбнулась.
— У моей сестры и за полгода не бывает столько паломников, сколько приходит к богине Хатор за месяц.
— Потому что храм Хатор больше? — поинтересовалась я.
— Потому что, когда паломники приносят в дар дебены или лазурит, — ответила жрица, — они знают, что их пожертвования пойдут на украшения для богини, на разведение священных рощ, на содержание храма. А пожертвования Исиде переплавляются в золото, и украшения из него носит Хенуттауи на пирах у нашего брата. Самое красивое помещение в храме Исиды — не святилище богини, а покои моей сестры.
Причалив, мы увидели, как велик, оказывается, храм Хатор. Покрытые краской колонны, увенчанные изображениями богини-коровы, купались в золотистых лучах солнца. На пристани наш корабль встречали жрицы; тут же собрались слуги, чтобы разгрузить вещи.
К нам приблизилась молодая женщина в голубом одеянии, протянула Мерит пару сандалий, сказала, что в храме запрещено носить кожаные вещи. Сандалии должны быть из папируса.
— Спасибо, Алоли, — поблагодарила ее Уосерит.
Молодая жрица поклонилась, тряхнув копной рыжих волос.
— Покажи, пожалуйста, госпоже Мерит и царевне Нефертари их комнаты.
— Слушаю, госпожа.
Алоли подождала, пока мы с Мерит переобуемся, а я, снимая кожаные сандалии, подумала: «С чем еще из прежней жизни придется распрощаться?»
— Пойдемте, я вас провожу, — пригласила молодая жрица.
Мы прошли через тяжелые бронзовые ворота храма, мимо комнат, отведенных для паломников. Идя вслед за Алоли, я все время старалась не наступить на ее длинный подол. Жрица соблазнительно покачивала бедрами, и я подумала: «Где же она научилась так ходить?»
— Вот сюда.
Алоли повела нас под прохладные своды храма, где в курильницах лежали ароматные золотистые шарики благовоний и повсюду были жрицы.
— Верховная жрица велела отвести вам комнаты рядом с ее покоями, — сообщила Алоли. — Правда, видеться с ней вы будете редко. В храме много дел, а она все время занята: то во дворце, то в священных рощах, беседует с паломниками. А здесь мы едим.
Алоли жестом указала на трапезную, которая мало чем отличалась от Большого зала в Малькате.
— Утром и на закате трубы призывают жриц выполнять ритуалы. После службы мы встречаемся в этом зале. Едим мы примерно то же самое, что едят во дворце фараона. — Она посмотрела на меня. — Правда, пить на твоем месте я бы не стала. Жрицы любят крепкое винцо, а такая девочка, как ты, может после него и не проснуться.
Алоли засмеялась, довольная шуткой, а Мерит поджала губы.
— Здесь, — продолжала жрица, — молятся богине.
Под мозаичными изображениями Хатор раскинулся большой зал. У подножия блестящей статуи молящиеся оставляли горшочки с мясом и лепешки.
— В месяце шему приходила сюда женщина, у которой было пять выкидышей. Мы ее застукали в темном уголке — с мужем.
Алоли, хихикая, указала на темную нишу позади статуи Хатор, и Мерит кашлянула.
— Они, верно, сильно горевали? — спросила я.
— Конечно. Зато через девять месяцев она родила двух здоровеньких сыновей.
Мерит сурово глянула на меня, словно хотела сказать, что мне о таких вещах знать ни к чему.
Мы вышли в ухоженный внутренний двор, засаженный сикоморами.
— Здесь останавливаются самые важные гости, — многозначительно произнесла Алоли и показала на выходящие во двор окна. — Вон там вы будете жить.
Мы вошли в комнату, выложенную голубыми плитами с нарисованными на них рыбами. На западной стене
были изображения коров, а у южной стояла на помосте кровать черного дерева с ножками в виде львиных лап.
Алоли прошла через комнату, открыла тяжелую деревянную дверь.
— Комната госпожи Мерит.
Стены этой смежной комнаты были выкрашены светлой краской, на низеньком столике из кедра лежали стопкой чистые простыни.
Мерит удовлетворенно пробормотала:
— Неплохо, неплохо. Пойду присмотрю, как там слуги разбирают твои вещи.
Когда она вышла, я повернулась к Алоли.
— Что мне теперь делать?
— А разве верховная жрица тебе не говорила? — удивилась Алоли. — Нам она сказала, что ты приехала сюда обучаться.
— Чему?
— Нашим ритуалам, игре на арфе… — Рыжеволосая красавица пожала плечами. — Наверное, она хочет, чтобы ты стала следующей верховной жрицей Хатор.
В другом конце храма затрубила труба. Алоли поспешно собрала свою гриву в узел.
— Увидимся в трапезной. — В дверях она остановилась. — Царевна, я рада, что ты к нам приехала. Я много о тебе слышала.
Прежде чем я успела спросить, что же такое она слышала, жрица ушла. Я прошлась по комнатам и остановилась у окна в комнате Мерит, глядя на сикоморы. На другом берегу Нила Рамсес будет сегодня обедать с Ашой и Исет. Как стемнеет, в Большом зале начнутся танцы. Все будут обсуждать новость — мое решение сделаться жрицей Хатор. Интересно, поверит ли Хенуттауи в выдумку своей сестры?
— Красиво, правда?
Ко мне неслышно подошла Уосерит.
От неожиданности я вздрогнула.
— Очень.
— Послушай, Нефертари, о чем ты думаешь, когда смотришь на эти рощи?
Я не спешила с ответом. Солнце стояло над самой рекой, между стеблями папируса порхали, перекликаясь, птички, в полях работали крестьяне.
— Похоже на вылепленные из глины макеты, которые помещают в гробницы. Только тут фигурки — живые.
Уосерит подняла брови.
— Какое у тебя воображение!
Я вспыхнула и снова посмотрела вниз — не пропустила ли я чего.
— А рощи? Что скажешь об этих сикоморах?
— Тоже красивые, — осторожно ответила я.
— Думаешь, они всегда были такие?
— Сначала, наверное, нет. А когда ветви выросли и переплелись, то получился вот такой коридор.
Уосерит мой ответ понравился.
— Правильно. Пока они выросли и приняли такой вид, минуло немало времени. Их посадили, когда я была не старше тебя. Помню, пришла к верховной жрице и подумала: «Какой здесь некрасивый парк, то ли дело в Малькате!» Я не понимала, что она заботится о будущем. А ты понимаешь, о чем я?
Я кивнула. Мне казалось, что я поняла.
— Ты сейчас — словно молодое деревце. Люди смотрят на тебя и видят дикую рощицу. Но вместе мы превратим рощицу в прекрасный парк, и, когда ты встретишься с Рамсесом, он увидит не младшую сестренку, а женщину и царицу. — Голос Уосерит стал тверже: — Если ты согласна принять мою помощь, то должна следовать всем моим распоряжениям, пусть даже не понимаешь, зачем это нужно. Раньше, говорят, ты не всегда слушалась своей няни. Раз уж я берусь тебя обучать, непослушания не потерплю.
— Я буду послушна, — быстро сказала я.
— Иногда то, что я скажу, может противоречить тому, чему учила тебя няня, но мои слова придется принять на веру.
Я непонимающе посмотрела на собеседницу, и Уосерит пояснила:
— Наверняка твоя няня учила тебя не обманывать. Однако царице приходится лгать о самых разных вещах. Как тебе это понравится? Лгать, когда потребуется? Улыбаться, хотя на душе тяжело? Молиться, даже если боги не желают тебя слышать? На что ты готова ради места при дворе? Ради любви к Рамсесу?
Я смотрела вдаль, за сикоморы, на верхушки наползающих друг на друга песчаных холмов. Если ветер — дыхание пустыни — может сделать из песка гору, то Уосерит, конечно, сможет сделать из царевны царицу.
— Я готова на все.
— Тогда пойдем, — с улыбкой промолвила Уосерит.
Мы прошли в туалетную комнату, и жрица поставила перед зеркалом кресло. Я села, а она посмотрела на мое отражение в полированной бронзе.
— Знаешь, что про тебя говорят во дворце?
Встретившись с ней взглядом, я покачала головой.
— Что самое красивое у тебя — улыбка. Пора научиться ею пользоваться. Как ты улыбнешься своей подруге?
Чувствуя себя совершенной дурочкой, я широко оскалилась. Уосерит кивнула.
— Хорошо. А теперь представь, что ты знакомишься с посланником из другой страны. Как ты меня поприветствуешь?
Я снова широко улыбнулась, а Уосерит нахмурилась.
— Ты словно простушка из гарема Ми-Вер, выдаешь все и сразу. Не торопись. Ведь вы же еще не знакомы.
Я медленно изогнула губы, но так, чтобы не видно было зубов. Уосерит одобрительно закивала.
— Хорошо. Теперь я, посланник, говорю тебе любезность. «Царица Нефертари, я и представить не мог, что глаза твои столь прекрасного оттенка лазурита». Как ты мне ответишь?
Я улыбнулась во весь рот, но Уосерит сурово сказала:
— Не так быстро! Женщина должна отдавать улыбку медленно. Пусть мужчина поймет: твою улыбку нужно заслужить. Ясно? — Уосерит слегка подняла уголки губ. — Теперь ты скажи мне что-нибудь приятное.
Я задумалась.
— Госпожа верховная жрица, ты… Ты сегодня прекрасна. Я и забыла, какие у тебя чудесные темные волосы.
Губы Уосерит медленно растягивались в улыбке, но только когда я сказала последнее слово, она посмотрела мне в глаза и улыбнулась во всю ширь. У меня даже щеки покраснели.
— Вот видишь? Улыбка получается неожиданной. Пусть собеседник до последнего момента гадает, заставит ли он тебя улыбнуться, а когда ты все же улыбнешься, это для него будет словно подарок. — Уосерит взяла меня за руку и повела к дверям. — Смотри внимательно! — велела она.
Мы вышли в зал рядом с ее покоями и прошли через внутренний двор, где слуги рыхлили землю под деревьями. Заметив нас, они стали кланяться. Один из них, судя по одежде главный садовник, вышел вперед и поздоровался с Уосерит.
— Для нас большая честь видеть верховную жрицу. Твой приход для нас как награда.
Уосерит слегка изогнула губы.
— Вы сделали большую работу, — похвалила она слуг.
И в самом деле, вокруг выложенного гранитом фонтана росли мирты и жасмин, под деревьями стояли каменные скамьи, на которых паломники могли сидеть и любоваться величием храма.
— Здесь красиво, — признал молодой садовник. Уосерит улыбнулась еще шире. — Но это лишь отражение твоей красоты.
— Приятно слышать, — радостно рассмеялась Уосерит.
Садовник не мог отвести от жрицы горящих восхищением глаз.
— Пойдем, — обратилась ко мне Уосерит. — Покажу тебе наши фруктовые деревья.
Мы миновали двор и вошли под сень сикоморов. Уосерит повернулась ко мне.
— Он глаз с тебя не сводил, пока мы не свернули! — воскликнула я.
— Видишь, что может сделать улыбка? А ведь у меня улыбка обычная.
Я хотела возразить, но Уосерит покачала головой.
— Это так. Моей улыбке до твоей далеко. Зубы у тебя как жемчуг. Кто видел твою улыбку, никогда ее не забудет.
— Вот садовник твою улыбку точно не забудет.
— Потому что я знаю, кому и как улыбаться. Я не вываливаю все сразу, словно старушка, которая кормит деревенских кошек. Нужно следить за своей улыбкой — особенно тебе. Ты улыбаешься всем подряд, а пора быть рассудительнее.
Уосерит посмотрела вперед, и, проследив за ее взглядом, я увидела нескольких человек, собирающих плоды сикоморов.
— Есть там кто-нибудь красивый?
Я покраснела.
— Не смущайся. При дворе множество мужчин, и некоторые должны думать, что ты к ним неравнодушна. Как ты это сделаешь? — спросила Уосерит и сама ответила: — Взглядом. Улыбкой. Когда мы будем проходить мимо, выбери одного из них. Пусть он почувствует, что ты его выбрала. А потом пусть с тобой заговорит.
— Мне нельзя говорить первой?
— Можешь только улыбаться. Итак, который? — лукаво спросила она.
Я рассмотрела мужчин. Темноволосый юноша перебирал ягоды в корзине.
— Вон тот, с ягодами.
Я подумала, что одной улыбки будет недостаточно, и, вспомнив о своем браслете, быстро ослабила застежку. Встретившись с выразительным взглядом темноволосого юноши, я медленно улыбнулась. Он понял, что улыбка адресована именно ему, и глаза его расширились. Браслет упал.
— Госпожа, ты уронила! — Юноша вскочил, поднял браслет и протянул его мне.
Я продемонстрировала ему широчайшую улыбку, улыбнулась, как Уосерит улыбалась садовнику.
— Я такая неловкая.
Беря браслет, я коснулась пальцами его ладони. И пока мы не скрылись за деревьями, все мужчины как один смотрели нам вслед.
Мы вышли на берег Нила, и Уосерит одобрительно кивнула:
— Ты уже не девчонка — хихикать по всякому поводу и улыбаться всем подряд. Ты женщина, сильная женщина. Научись улыбаться — и мнение о тебе окружающих будет зависеть только от тебя. Итак, что ты сделаешь, когда встретишься с Рамсесом?
Я слегка улыбнулась, показав только краешек верхних зубов.
— Хорошо. Медленно, сдержанно. Не нужно отдавать ему все сразу, потому что ты не знаешь, как он это примет. Когда вы увидитесь, он, быть может, уже выберет Исет главной женой. И еще — пусть Хенуттауи считает, что ты сдалась. Никогда не отдавай все сразу. Мы играем в непростую игру.
Я вопросительно посмотрела на жрицу, не понимая, о чем она говорит.
— Какую игру?
— Такую, в какую сыграла ты, уронив браслет.
Своим тоном Уосерит дала понять, что разговор окончен.
Яркие лучи сверкали на золотой диадеме жрицы. Головной убор венчал золотой диск, символизирующий солнце, и в блестящей пластине я увидела свое кривое отражение.
— Завтра, — сказала Уосерит, — начнется твое обучение в храме. Если Хенуттауи спросит у наших жриц, чем ты тут занимаешься, они должны говорить, что ты готовишься посвятить себя служению богине Хатор. Сегодня тебе не обязательно ужинать со жрицами в трапезной; завтра Алоли отведет тебя ко мне, и я объясню, чем ты будешь заниматься.
Когда солнце опустилось за холмы, Мерит присела ко мне на край постели и спросила:
— Волнуешься, госпожа?
— Нет, — честно ответила я, натягивая на себя простыню. — Мы делаем то, что нужно. Завтра Уосерит расскажет мне, как я проведу следующий год.
— Проведешь, надеюсь, как подобает царевне.
— Если придется от рассвета до заката махать кадильницей ради того, чтобы Рамсес по мне соскучился, — я согласна, дело того стоит.
На следующее утро Алоли постучала в дверь моих покоев. Она увидела меня в голубом одеянии Хатор, и огромные глаза жрицы удивленно распахнулись.
— Ну настоящая жрица! — воскликнула она.
По каменным коридорам разнеслось эхо.
— Наверное, шуметь нельзя? — заметила я.
— Глупости! Уже почти светает.
Алоли взяла меня за руку, и мы двинулись по огромным залам. Было еще очень рано, и наш путь в сером мраке коридоров освещала лампа.
— Значит, волнуешься? — весело спросила Алоли.
«Интересно, почему все думают, что я должна волноваться?» — мысленно удивилась я.
— Помню свой первый день в храме. Я вступила на поприще жрицы в храме Исиды.
— У Хенуттауи?
— Да. — Алоли поморщилась. — Не знаю, почему моя мать выбрала храм Исиды. Могла отдать меня в храм богини Мут, или Сехмет, или даже Хатор. Будь она жива — я бы у нее спросила. Она умерла, когда мне исполнилось десять лет. Пять лет я пробыла у верховной жрицы. Носила ей воду, чистила сандалии, причесывала…
— Разве жрицы должны этим заниматься?
— Нет, конечно!
В конце зала открылась дверь, и кто-то крикнул:
— Тихо там!
— Это Серапис. Старые жрицы любят спать допоздна.
— Нам нужно вести себя потише.
— Потише? — рассмеялась Алоли. — Она и так скоро уснет вечным сном. Ей бы вставать пораньше да радоваться, что еще осталось время.
Мы вышли в зал, в конце которого виднелась двойная дверь.
— Подожди здесь, — сказала Алоли.
Фигура жрицы растворилась в темной комнате, а я осталась ждать под рисунком, изображающим Небесный Нил. В детстве Мерит показывала мне стайки звезд, повисшие в пустоте, и рассказывала историю о том, как корова-богиня Хатор разлила молоко на небесах, чтобы Ра знал, куда ему плыть в своей солнечной ладье. Я смотрела на фреску и думала: «Быть может, этим путем плыли к полям иару мои родители».
Мои мысли прервал скрип открывшейся двери, из которой высунулась рука и поманила меня внутрь.
— Пойдем. Она тебя ждет.
Алоли впустила меня в покои Уосерит. Мне с трудом удалось скрыть удивление: вокруг вделанной в пол жаровни стояли три кресла, и в одном из них сидел Пасер. Волосы, которые он обычно собирал в тугой пучок, стягивала на затылке синяя лента. На груди у него висел, поблескивая, картуш
[96] — табличка с полным титулом Рамсеса.
— Закрой дверь, Алоли.
Жрица повиновалась, и Уосерит указала мне кресло напротив себя.
— Нефертари, — начала она, — ты, думаю, удивилась, увидев здесь своего наставника, тем более что он теперь советник фараона.
Я разглядывала Пасера, стараясь понять, сильно ли он изменился, став придворным. В тунике визиря он выглядел по-другому.
— У Пасера теперь много новых обязанностей во дворце, — сообщила Уосерит, — но он согласился заниматься с тобой и дальше. Каждое утро, перед тем как идти к фараону в тронный зал, Пасер будет приходить сюда и обучать тебя языкам, которые преподавал в эддубе.
— На рассвете?! — воскликнула я.
— И даже раньше, — кивнул Пасер.
— Пасер знает, что ты его не разочаруешь, — сказала Уосерит. — В эддубе ты выучила семь языков. Именно это отличает тебя от Исет и делает незаменимой.
Я нахмурилась.
— Для Рамсеса?
— Обязанность царицы — не только рожать наследников, — пояснил Пасер. — Она должна уметь разговаривать с людьми, ладить с сановниками, принимать посланников. Кто же годится для этого лучше, чем девушка, знающая языки шазу, хеттов, нубийцев?..
— Хенуттауи, конечно, будет нашептывать фараону свое, — предостерегла Уосерит. — А Исет — красавица. Придворные от нее в восхищении, и вместе с Хенуттауи они крепкая парочка: одна умная, другая хорошенькая. Но хорошенькая — не значит толковая.
— А думаете, я толковая? — расстроенно спросила я.
— Еще какая, — обнадежила Уосерит. — Сделать тебя главной женой труднее, потому что все смотрят на Исет. Значит, каждое утро на рассвете будешь встречаться с визирем Пасером в этой комнате.
— В твоих покоях?
— Да. Занимайся старательно. Надеюсь, мне не придется услышать, что ты ленишься или недостаточно усердствуешь. Пасер рассказал мне, что иногда ты пропускала занятия в эддубе. Здесь такого не будет. После занятий Алоли станет обучать тебя утренней службе. Когда выполнишь обязанности жрицы, мы с тобой будем встречаться в трапезной, и я тебя научу, как вести себя за столом во дворце.
Перехватив мой взгляд, жрица добавила:
— Надеюсь, ты не думаешь, что уже все знаешь? — Она ждала моего ответа, и я с готовностью покрутила головой. — Вот и хорошо. А после обеда будешь ходить с Алоли во внутреннее святилище — она научит тебя играть на арфе.
— Да ведь я умею играть на арфе!
— Умеешь? Не хуже моей сестры или Исет?
— Ну… У меня же способности к языкам, а не к музыке.
— Теперь будут и к музыке.
Я взглянула на Пасера, словно ждала от него возражений, но визирь сидел с непроницаемым лицом.
— После игры на арфе, — продолжала Уосерит, — продолжишь занятия в своей комнате. Потом — вместе со всеми жрицами — будешь участвовать в вечерней службе. В конце дня, если захочешь, поужинаешь вместе со всеми в трапезной или же у себя, в тишине. — Уосерит поднялась. — Учиться, разумеется, придется много, но все это не просто так. Чем дольше ты будешь вдали от Рамсеса, тем больше он будет по тебе скучать и тем больше у нас будет времени, чтобы превратить тебя из саженца в дерево, которое не сломает даже самый сильный ветер.
Я кивнула: Уосерит, конечно, была права.
— А ветер будет сильный. Доверься Уосерит, царевна, — заметил Пасер, когда жрица удалилась.
Советник прошел к другому концу комнаты, взял что-то со стола и поставил на столик между нашими креслами.
— Знаешь, что это?
Я подалась вперед, стараясь разглядеть получше. Передо мной стоял мастерски изготовленный макет длинного помещения. Больше тридцати колонн поддерживали потолок, выложенный голубыми глиняными плитками. С одного конца высились двойные бронзовые двери, совсем как во дворце. На другом конце — полированное возвышение. Ведущие на него ступени пестрели изображениями плененных врагов, так что всякий раз, когда фараон поднимался к трону, он попирал врагов своими плетеными сандалиями. На возвышении стояли три покрытых золотом трона.
— Тронный зал, — догадалась я, хотя никогда его не видела: входить туда разрешалось только по достижении четырнадцати лет.
Пасер улыбнулся.
— Очень хорошо. Только вот как ты узнала, если никогда там не была?
— По дверям.
— Каждое утро сюда входит фараон. — Пасер взял тростниковую палочку и указал на переднюю часть зала. — Он проходит мимо сановников. — Визирь провел палочкой по длинному столу, размером чуть ли не во весь зал. — Сановники встают, чтобы выразить ему почтение. Пройдя мимо них, фараон поднимается на возвышение и садится на трон. Тогда в тронный зал допускают просителей. Каждый из них подходит с прошением к одному из четырех визирей.
— К любому?
— Да. Если же этот визирь не уполномочен решить его вопрос, стражники подводят просителя к фараону. Но фараон не сидит в одиночестве: на возвышении установлены три трона. — Пасер указал на золоченые кресла. — А сейчас даже четыре.
— Для фараона Сети, царицы Туйи, фараона Рамсеса и Исет.
— Госпожи Исет, — поправил Пасер. — Здесь, на этом возвышении вершатся судьбы. Станешь ли ты такой же царицей, как Туйя, которая не интересуется ничем, кроме своего пса? — В его голосе я уловила осуждение, но, быть может, мне показалось. — Или такой, как твоя тетка, — умной, наблюдательной, решительной, готовой править, а не только называться царицей?
Я резко выдохнула.
— Ни за что не стану такой, как моя тетка! Я не распутница.
— Нефертити тоже не была распутницей.
Никто, кроме няни, не упоминал при мне этого имени. В янтарном утреннем свете лицо Пасера посуровело.
— Твоя тетка никогда не добивалась власти с помощью своего тела, что бы о ней ни говорили.
— Откуда тебе знать?
— Спроси няню. Она знала Нефертити, а уж большей любительницы посудачить, чем Мерит, во всех Фивах не сыскать. — Пасер произнес это шутливо, но с серьезным выражением лица. — Как по-твоему, почему народ мирился с политикой Нефертити, с переносом столицы, с изгнанием богов?
— Потому что она обладала властью фараона.
Пасер покачал головой.
— Потому что она знала, чего хочет народ, и давала ему это. Ее муж изгнал всех богов и богинь, и она стала земной богиней.
— Это кощунство! — прошептала я.
— А может — мудрость? Она понимала: то, что делает ее муж, — опасно. Случись бунт — она первой бы попала под нож. Нефертити спасла свою жизнь благодаря тому образу, что принимала, сидя на троне. Пусть ее изображения и украшали каждую стену от Фив до Мемфиса, но, если хочешь произвести на людей нужное впечатление, с ними нужно говорить. Принимая просителей лично, она воздействовала на людские умы.
— И я должна поступать так же?
— Да, если хочешь выжить. Или следуй примеру царицы Туйи: предоставь вести все дела, кроме самых простых, своему мужу — если, конечно, фараон Рамсес возьмет тебя в жены. Но поскольку ты племянница Отступницы, такое вряд ли случится. Если ты попадешь на трон, то удержишься на нем, только если сможешь влиять на умы людей. Как твоя тетка.
— Египтяне проклинали ее имя…
— Лишь после ее смерти. Она умела обращаться с сановниками, знала, когда и что говорить, с кем поддерживать дружбу. А ты — хочешь ли ты учиться всему этому?
Я уселась в кресле поглубже.
— Стать как царица-еретичка?
— Скорее, стать искусным игроком в дворцовой игре.
Пасер указал на деревянный стол, столешница которого была разделена на три ряда, по десять квадратов в каждом, а потом вынул фаянсовую фигурку.
— Знаешь, что это такое?
Разумеется, я знала.
— Фигурка для игры в сенет.
— У каждого игрока их пять. Иногда — семь или даже десять. Так же и при дворе. Иногда кажется, что фигурок для игры у тебя слишком много. В другой раз их будет меньше. Но при дворе каждый день заканчивается одинаково: выигрывает тот игрок, чьи фигурки первыми расставлены по местам. Тебе нужно разобраться, кем из придворных и как управлять, какого сановника приблизить, кого из посланников приветить. Та из жен, которая соберет на своих квадратах больше фигур, и станет когда-нибудь главной супругой и царицей. Игра непростая, правил в ней много, но если желаешь…
Я подумала о Рамсесе, который сейчас, на другом берегу реки, просыпается в постели Исет и смотрит, как она совершает туалет, готовясь выйти в тронный зал. Что ей известно о прошениях? Сможет ли она помогать фараону? А каждый мой ход, подсказанный Пасером, приблизит меня к Рамсесу.
— Да!
Я сама удивилась, с какой это прозвучало силой.
Пасер приподнял уголки губ, словно собираясь улыбнуться.
— Тогда завтра принеси тростниковое перо и папирус. Добавим к нашим занятиям еще один язык: аккадский, язык ассирийцев. К завтрашнему дню переведешь вот это.
Пасер вынул из-за пояса свиток и протянул мне.
За дверью меня ждала Алоли.
— А свиток тебе зачем? — весело спросила она. — Что ты изучаешь?
Позванивая ножными браслетами, она двинулась вперед; я — за ней. Жрицы уже проснулись, близилось время утренней службы.
— Изучаю язык, — ответила я и хотела добавить «шазу», но Алоли предостерегающе подняла руку.
— Тише. Вот и внутреннее святилище.
Во внутреннем святилище было темно, словно в склепе; воздух наполняла звенящая тишина. Святилище располагалось в самом сердце храма, глухие стены не пропускали в него солнечных лучей. В середине возвышался эбеновый алтарь, на черных каменных стенах мерцали блики факелов.
— Что нужно делать? — прошептала я.
Алоли безмолвно шагнула вперед, медленно опустилась на колени перед алтарем и простерла руки. Я последовала ее примеру. Рядом с нами занимали свои места другие жрицы в голубых развевающихся одеждах; так же как и Алоли, они протягивали руки ладонями вверх, словно подставляя их под капли дождя. Я поискала глазами Уосерит, но тут все запели гимн, по залу поплыли сладкие волны ладана, и я уже не видела ничего, кроме алтаря перед собой.
— О мать Хора
[97], супруга Ра, создательница Египта! О мать Хора, супруга Ра, создательница Египта!
Жрицы повторяли эти слова, а Алоли испытующе смотрела на меня. Я повторяла за ней:
— Мать Хора, супруга Ра, создательница Египта.
Потом кто-то пропел:
— Мы пришли, дабы выказать свою покорность!
Жрицы опустили ладони, и из восточных дверей появилась Уосерит в одеянии из удивительной материи. При каждом движении ткань переливалась, словно вода струилась в полутемной комнате. Волосы были убраны под корону верховной жрицы, и уже не в первый раз я затрепетала в ее присутствии. Уосерит подняла перед алтарем алебастровый сосуд и вылила масло на гладкую поверхность.
— Мать Хора, супруга Ра, создательница Египта, я приношу тебе животворное масло.
Жрицы снова воздели ладони, а Уосерит омыла руки в чаше с водой и скрылась в затянутом дымкой проходе.
— И это все? — спросила я.
Алоли усмехнулась.
— Утром на алтарь приносится масло, а вечером верховная жрица приносит хлеб и вино.
— Все ради того, чтобы вылить на алтарь немного масла?
Улыбка Алоли угасла.
— Таково служение Хатор, — строго ответила она. — Каждое утро и каждый вечер нужно выполнять ритуалы, дабы угодить богине. Неужели ты посмела бы выказать неповиновение и разгневать ее?
Я покачала головой.
— Нет, конечно нет.
— Обряды, быть может, и простые, но для Египта нет ничего важнее.
Неожиданная серьезность жрицы меня удивила. В молчании мы миновали большую часть храма. У самого выхода я решилась спросить:
— Что нам делать теперь?
К Алоли вернулась прежняя веселость.
— А разве верховная жрица тебе не говорила? Будем наводить чистоту.
От лица у меня отхлынула кровь.
— Умащать маслом и скрести щетками?
— И еще протирать полотном и начищать лимоном. — Алоли остановилась. — Ты что, никогда ничего не чистила?
— Сандалии. Когда пачкала их на охоте.
— А полы, или стол, или стены? — Она увидела мое выражение лица и все поняла. — Никогда в жизни ничего не отмывала?
Я покачала головой.
— Это нетрудно, — утешила мена Алоли. — Жрицы этим занимаются каждый день перед обедом.
Она перекинула через руку сброшенную накидку, под которой оказалась такая же голубая туника, как дали мне.
— Будем мыть зал, выходящий в рощи. Люди носят грязь на сандалиях, пыль на одежде. Каждая жрица моет какой-то зал, это — мой зал.
Алоли устремилась вперед, а я — за ней. Я не понимала, почему Алоли так оживлена, пока она не распахнула выходящие в рощи двери. Жрица нагнулась и начала мыть пол; работавшие в саду мускулистые слуги не сводили глаз с ее бедер, что ритмично двигались под плотно облегающей туникой. Алоли и не пыталась скрыться от взглядов работников. Я уселась на корточки в другом конце зала и прикрыла колени подолом туники. Потом окунула кусок полотна в лохань с водой, отжала и стала водить им по полу.
— Мыть удобнее, стоя на коленях, — засмеялась Алоли. — И не волнуйся, никто на тебя не смотрит. Все смотрят на меня.
Пронзительно затрубили трубы, и слуги устремились к своим хижинам, что стояли за храмом; Алоли протянула мне мою накидку. Мытье пола, длившееся целую вечность, наконец-то кончилось.
Трапезная с огромными мозаичными изображениями Хатор наполнилась запахом жареной утки в гранатовом соусе. Жрицы заняли места за обеденными столами, стоявшими в несколько рядов.
— А мы где сядем?
— Рядом с верховной жрицей.
Корона Уосерит возвышалась над головами самых высоких жриц; заметив нас, Уосерит слегка кивнула. Я уселась справа от нее, Алоли — слева. Едва я потянулась за тарелкой, верховная жрица меня одернула:
— Надеюсь, ты не станешь набрасываться на еду, как во дворце.
Я оглянулась, испугавшись, что все вокруг ее слышали, но жрицы были поглощены разговорами.
— Не хватай еду, словно обезьяна, — поучала Уосерит. — Во-первых, нужно поднять рукава.
Левой рукой она изящно приподняла правый рукав, а правой взяла чашу с супом. Поднеся ее ко рту, она отпустила рукав. Сделав глоток, Уосерит не стала держать чашу у губ, как это сделала бы я, а поставила ее на место — точно так же, как и взяла. Я повторила ее действия, и она кивнула.
— Так лучше. Теперь посмотрим, как ты станешь есть утку.
Другие жрицы, закатав рукава, усердно разрывали мясо руками. Я последовала их примеру, и у Уосерит потемнело лицо.
— Это прилично простым жрицам, но ты-то царевна.
Уосерит опять изящно подняла рукава и, взяв кусок утки кончиками большого и указательного пальцев правой руки, стала аккуратно откусывать, то и дело вытирая губы салфеткой, которую держала в левой руке.
— Удивительно! Ты семь лет просидела за столом с придворными и ничему не научилась. Видимо ни ты, ни Рамсес ничем, кроме самих себя, не интересовались.
Пытаясь скрыть смущение, я опустила голову, потом взяла в правую руку кусок утки, стараясь подражать Уосерит. Протянутую жрицей салфетку я подставила под утиную ножку, чтобы не закапать одежду соусом. Взгляд Уосерит подобрел.
— В следующий раз принесешь свою салфетку — Мерит сошьет из какой-нибудь старой туники.
Я кивнула.
— И сиди прямо, не опускай голову: ты ни в чем не виновата. Ты здесь, чтобы всему научиться, и ты учишься.
После обеда мы с Алоли пошли в восточное святилище.
— Думаю, мне здесь понравится, — солгала я.
Алоли невозмутимо шагала впереди, ее длинная накидка размеренно колыхалась.
— Уборка, обряды — ко всему скоро привыкнешь, — пообещала она и лукаво добавила: — Другие жрицы принимают паломников, а мы будем заниматься игрой на арфе.
Я остановилась.
— Учить будут только меня?
— Нельзя же научить всех жриц, правда? Не у всех есть способности. У меня, например, есть.
Мы вошли в восточное святилище. На стенах, выложенных голубой и золотой плиткой, изображалась богиня Хатор, обучавшая смертных пению и игре на музыкальных инструментах.
— Красиво, правда? — спросила Алоли, подойдя к небольшому возвышению, на котором стояли две арфы и два табурета. — Что же ты, начинай!
Я села и отрицательно покачала головой.
— Нет, пожалуй. Лучше я сначала тебя послушаю.
Алоли уселась на деревянное сиденье, прислонила к плечу раму арфы. Сидела она прямо, точно тростинка, так, как всегда учили сидеть меня, локти слегка развела, словно обирающийся взлететь ибис
[98]. Жрица коснулась пальцами струн, и по комнате полилась пленительная мелодия. Алоли закрыла глаза; окруженная чарующими звуками, она казалась самой прекрасной женщиной Египта. По пустой комнате эхом разносилась музыка, сначала медленно, затем быстро и страстно. Так играть не умели даже Исет и Хенуттауи. Наконец пальцы Алоли замерли. Я перевела дух и благоговейно произнесла:
— Никогда так не научусь.
— Не забывай, что тебе только четырнадцать, а мне уже семнадцать. Со временем научишься.
— Я и так в эддубе каждый день занималась.
— Одна или со всеми?
Я вспомнила наши уроки музыки — с Ашой и Рамсесом — и вспыхнула: как же мало мы преуспели!
— Со всеми.
— Здесь тебе никто не будет мешать, — пообещала Алоли. — Пусть в завтрашней процессии тебе играть не придется, но…
Я так быстро вскочила, что табурет упал.
— Ты о чем? Какая еще процессия?
— Египет готовится к войне. Завтра войско пройдет шествием через Фивы. Об этом нам сообщили вчера вечером. — Алоли нахмурилась. — А в чем дело, госпожа?
— Пасер ничего не говорил! Мне же нужно попрощаться с Рамсесом! Нужно поговорить с Ашой!
— Но ты уже в храме. Жрицам, которые находятся в обучении, не разрешается отсюда уходить, пока не пройдет год.
— Я не нахожусь в обучении!
Алоли встала рядом с арфой.
— А я думала, ты готовишься занять место верховной жрицы.
— Нет. Я здесь для того, чтобы быть подальше от Рамсеса. Уосерит думает, что, если я научусь вести себя, как положено царице, Рамсес сделает меня главной женой.
Глаза Алоли распахнулись, точно цветы лотоса.
— Так вот для чего я тебя учу! — прошептала она. — На лирах или на лютнях играют обычно несколько человек. А арфа играет одна, и музыкант покоряет слушателей в одиночку. И если ты сможешь покорить Большой зал, то отсюда уже недалеко до тронного зала и фараона.
Я сразу поняла, что Алоли права. Именно для этого Уосерит нас и познакомила. Однако, не желая уступать, я заявила:
— Все равно я буду в процессии.
— Вряд ли верховная жрица разрешит, — озабоченно заметила Алоли.
Я об этом больше не упоминала. Мы начали заниматься, но думала я только о войне. Когда урок закончился, я спросила у Алоли, где найти Уосерит.
— Могу тебя проводить, — предложила та, — но верховная жрица не любит, чтобы ее отвлекали. Она по вечерам пишет письма.
По залам и длинным коридорам мы с Алоли дошли до тяжелых деревянных дверей.
— Здесь у нас пер-меджат
[99], — сообщила она.
— Уосерит пишет в библиотеке?
— Каждый вечер, перед тем как отплыть во дворец.
Перед дверью я замешкалась. Алоли потихоньку отступила назад и посоветовала:
— Попробуй постучать, только она может не ответить.
Я легонько постучала. В ответ — тишина. Я постучала погромче. Одна из дверей распахнулась.
— Что ты здесь делаешь? — сурово спросила Уосерит.
Она уже сняла свою корону; пальцы у нее были в чернильных пятнах.
— Я пришла по очень важному делу.
Верховная жрица перевела взгляд на Алоли, но приглашать нас внутрь не спешила.
— Видимо, Алоли рассказала тебе о предстоящем шествии?
— Да! — в отчаянии призналась я. — И я пришла спросить: можно ли мне участвовать?
— Разумеется, нет.
— Но…
— Помнишь, я говорила тебе, что придется меня слушаться, даже если не понимаешь зачем? Ты согласилась.
— Да, — пробормотала я.
— Тогда смирись и повинуйся.
Уосерит закрыла дверь. Я повернулась к Алоли, не в силах удержать слезы.
— А если бы я была его женой, поехала бы вместе с ним!
— На войну?! — изумилась Алоли. — Ты ведь не мужчина.
— Ну так что ж? Я могла бы для него переводить.
Алоли обняла меня за плечи.
— Через год, госпожа, ты сможешь видеться с ним сколько угодно. Время пролетит быстро.
— Но он подумает, будто я обиделась! Не поверит, что мне не разрешили с ним повидаться из-за того, что я готовлюсь стать жрицей. Я ведь царевна, мне можно все.
— Кроме этого. Ты же дала слово верховной жрице.
— Она, видно, не понимает!
— Когда я жила в храме Исиды, мне хотелось убежать к матери, рассказать, как мне тяжело. Или попросить ее братьев забрать меня из храма. Только я не убежала, потому что если бы меня поймали, то выгнали бы, и дорога в жрицы оказалась бы для меня закрыта.
— Разве ты не об этом мечтала?
— Нет, конечно! Мне хотелось унести ноги от Хенуттауи.
— Как же тебе удалось?
— А мне и не удалось. Меня вызволила верховная жрица богини Хатор. На празднике Опет
[100] она услышала, как я играю на арфе, подошла меня похвалить и поняла, что мне там плохо живется. И тогда она предложила Хенуттауи продать меня.
— Купила тебя, словно рабыню! — У меня перехватило дыхание.
— Иначе бы Хенуттауи меня не отпустила.
— А сколько Уосерит заплатила?
— Цену семи рабов-мужчин. Она видела: жизнь моя у Хенуттауи просто невыносима. Теперь понимаешь? Глупо было бы мне убегать. Исида видела, что я блюду свой обет, хотя мне очень плохо, и спасла меня от этой змеи. — Алоли похлопала меня по коленке. — Соблюдай обет, и Хатор это увидит и исполнит твое желание.
— Я же не давала обета Хатор.
— Тогда держи данное Уосерит слово. Верховная жрица знает, что делает.
На следующее утро я, к своему удивлению, застала Уосерит в ее покоях. Они с Пасером о чем-то шептались, склонившись друг к другу, а увидев меня, замолчали.
— Царевна, — начала Уосерит. Непонятно, почему она не отправилась в святилище. — Царевна, я знаю, как сильно ты хотела…
— Нет, — твердо ответила я. — Я была не права.
Уосерит не знала, верить ли моим словам.
— Когда ты, Нефертари, пришла в этот храм, я думала, что смогу учить тебя изо дня в день. Но поскольку мой брат начал войну, мне придется чаще бывать во дворце. Иногда мы не будем видеться по несколько дней. Или даже целый месяц.
Я посмотрела на Пасера, и он кивнул.
— По утрам я буду здесь, как и жрицы.
— Тебя будут обучать. Надеюсь, всякий раз, поинтересовавшись твоими успехами, я услышу, что они удовлетворительны.
— Обязательно, — пообещала я, но Уосерит, похоже, мне не верила.
Глава пятая
СЛАДКИЙ АРОМАТ ИНЖИРА
Фивы, 1283–1282 годы до н. э.
В храме Хатор потекли однообразные дни. В предрассветной темноте меня будила Мерит, и я, полусонная, надевала чистую тунику и жгла благовония перед наосом матери. Когда от приношений оставался только пепел, я отправлялась темными залами в комнату верховной жрицы. Как и предупреждала Уосерит, мы с ней виделись редко.
Советник фараона Пасер оказался совсем не похож на наставника Пасера. Он учил меня, как правильно здороваться с шумерами, как определить, доводилось ли хеттскому воину убивать в бою:
— Если воин бреет лицо, значит, он проявил героизм в истреблении врагов.
Пасер требовал, чтобы я запоминала обычаи чужеземных народов: шумеры хоронят покойников на тростниковых циновках, ассирийцы ценят перья превыше драгоценных камней. Иногда мы целое утро говорили о политике.
— Хетты — единственная сила в мире, которая способна восстать против Египта, — объяснял Пасер. — Держава хеттов для нас важнее всего.
Я узнала все, что только можно, о царе Муваталли и о его сыне — царевиче Урхи. Они оба носят разноцветные одежды и мечи, сделанные из железа. Я рисовала карты земель, покоренных царем Муваталли, включая Угарит и Сирию.
— И еще — Кадеш, — серьезно говорил Пасер. — Он когда-то тоже принадлежал Египту. Потом фараон-еретик позволил хеттам завладеть Кадешем, и теперь в распоряжении хеттов — богатые порты, куда везут товары Северным морем
[101]. Понимаешь, что это означает?
— Нам приходится искать обходные дороги для перевозки слоновой кости, меди и дерева, а хетты получают от этого большую выгоду. Но скоро все изменится, потому что фараон Сети и Рамсес вернут Кадеш!
Пасер улыбнулся.
— Верно.
— А есть какие-нибудь известия?..
— Никаких.
Каждый вечер я ждала новостей.
На двадцать седьмой день месяца хойака войско фараона возвратилось из Кадеша. Впереди бежали глашатаи с вестью о победе и списками погибших. Мерит, разбудившая меня до рассвета, сообщила, что и Рамсес, и Аша живы. Из окна восточного святилища я увидела, как на пристани собираются жрицы. Сверкали на солнце украшенные драгоценными камнями пояса, распахнутые накидки открывали груди, разрисованные хной. Ко мне подошла Алоли.
— Ты пойдешь на празднество? — спросила я.
— Верховная жрица велела остаться с тобой.
— Почему? Боится, что я убегу?
Жрица лукаво улыбнулась.
— А ты не собираешься?
— Нет, — спокойно сказала я. — Не собираюсь.
Жрицы уже плыли по реке; бирюзовые паруса ладьи Хатор почти скрылись за сикоморами. Я повернулась к Алоли.
— Помнишь, как я впервые появилась в храме?
— Конечно. Глазищи зеленые и огромные — словно у перепуганной кошки. Я даже не поверила, что ты царевна.
— Почему? — удивилась я.
— Потому что царевне Нефертари исполнилось четырнадцать, а тебе на вид было лет восемь или девять.
— Ты же сказала, что много обо мне слышала!
— Разумеется. — Алоли отошла от окна и уселась за арфу. — Я слышала, что вы с фараоном Рамсесом друзья. И когда заговорили о его скорой свадьбе, при дворе думали, что невеста — ты.
— Мне же было только тринадцать! К тому же я племянница Отступницы.
Алоли пожала плечами.
— Все думали, что Рамсес смотрит на это сквозь пальцы. Никто и представить не мог, что он посадит на трон девушку из гарема. Когда ты появилась в храме, все подумали, что ты сама не хочешь замуж.
— Нет, мне и не предлагали. Как только Рамсес стал соправителем, Хенуттауи отправилась к фараону Сети и говорила с ним про Исет. По мнению Уосерит, именно Хенуттауи протолкнула Исет на трон — в обмен на какие-то услуги. Но какие именно? — недоумевала я.
— Власть, — сразу ответила Алоли. — Золото. Имея власть и золото, Хенуттауи сможет построить самый большой в Фивах храм, больше, чем храм богини Хатор. Паломники туда пойдут хотя бы для того, чтобы полюбоваться его величием.
— Оставляя там деньги и приношения, — подхватила я. При мысли о Рамсесе у меня загорелись щеки. — Не представляю даже, что выйду замуж не за Рамсеса, а за кого-то другого.
— Тогда одной арфы недостаточно, — заметила Алоли. — Если ты намерена стать главной женой, нужно научиться угождать мужчине. — Она встала, и наручные серебряные браслеты, позвякивая, опустились ей на запястья. — У Хенуттауи в храме полно мужчин. Богатых она всегда привечает. Хеттов, ассирийцев… В храме я научилась не только служить Исиде. И ты должна знать все премудрости, которым Хенуттауи учит Исет.
— Какие? — смутилась я.
— Как ублажить мужчину… ниже пояса. Как доставить ему удовольствие. Где и как целовать.
Видно, взглядом я выдала свои мысли, потому что Алоли добавила:
— От тебя зависит, станет ли Хенуттауи править в Фивах.
То ли в страхе перед таким будущим, то ли из любви к Рамсесу я стала прилежнейшей ученицей. Я никогда не опаздывала, никогда не бросала недоделанной работы и скоро уже могла бы отправиться хоть в Ассирию — и не пропала бы там благодаря хорошему знанию аккадского. Пасер и сам не понимал, как я так быстро освоила незнакомый язык, но дело в том, что я постоянно упражнялась: во дворе, в банях, даже у наоса моей матери я молилась богине Мут на языке ассирийцев. Уроки игры на арфе тоже проходили куда живее; Алоли словно хотела вложить в мои пальцы свой талант. Я играла уже настолько хорошо, что, если бы царица попросила меня выступить во время празднества, я бы не растерялась. Исет всегда кичилась своими музыкальными способностями, но теперь мне стало ясно: музыка — не такое уж трудное дело, нужно только время и терпение.
Однако вовсе не из-за арфы засиживалась я допоздна в восточном святилище. Как-то раз няня заметила:
— Ты, госпожа, видно, любишь музыку.
Чтобы спрятать смущение, я прикрылась веером.
На следующий день Мерит одобрительно сказала:
— Ты занимаешься все дольше и дольше.
— Алоли учит меня не только играть на арфе, — призналась я.
Мерит прекратила растирать благовония в алебастровой баночке и вернулась с балкона в комнату.
— И чему же еще она тебя учит? — ровным голосом спросила она.
Я опустила тростниковое перо.
— Всяким разным вещам. Как вести себя в брачную ночь.
Мерит пронзительно вскрикнула.
— Должна же я уметь то, что умеет Исет, — быстро пояснила я.
— Ты не какая-нибудь девица из гарема!
— Нет. Я — царевна из семьи, которую вымарали из истории. Ты не хуже меня знаешь, что будет, если я стану главной супругой фараона. Имена моих родных заново впишут в свитки. Это спасет от забвения мою семью и защитит нас от Хенуттауи. А вот если Хенуттауи станет могущественной, как царица…
— Но Алоли учит тебя таким вещам…
— А почему бы и нет, раз это пригодится? Если это поможет восстановить доброе имя моей матери?
Я взглянула на разбитую статую. Хотя придворный скульптор и старался, там, где голова богини отломилась от тела, все же осталась тоненькая полоска.
— Ты всегда будешь моей мауат, — пообещала я. — Но ведь у меня была и другая мать, которая отдала за меня жизнь. А что сделала для нее я? Что дал ей Египет? Если я стану главной женой, позабочусь о том, чтобы ее никогда не забыли… и чтобы никогда не забыли нас. Мои предки сто лет правили Египтом, а в память о них даже заупокойного храма
title="">[102] не осталось! Но я построю где-нибудь среди холмов храм — и для своих родителей, и для тебя.
Теплый ветер донес из рощ сладкий аромат инжира, и я глубоко вдохнула. Мерит часто упоминала, что моя мать любила этот запах.
— У меня много причин стать главной женой. Только вот вдруг Рамсес меня не любит?
Лицо Мерит разгладилось.
— Он всегда тебя любил.
— Как сестру, — возразила я. — А если он не полюбит меня как жену?
Наступил сезон шему, двор готовился к переезду на север, во дворец Пер-Рамсес, чтобы сменить безветренную духоту Фив на прохладный морской ветерок. Я впервые не поплыву с большой флотилией ярко раскрашенных ладей, не буду стоять на палубе под жарким солнцем месяца паини, под хлопающими наверху золотыми знаменами фараона. С балкона мне представлялось, что весь мир уплывает от меня, оставив со мной только Тефера. Да и он не слишком надежный товарищ: то и дело убегает в поля — ловить мышей. Я ему не нужна. Никому я не нужна.
— Что с тобой? — спросила Мерит еще в дверях. — Каждый вечер стоишь на балконе. Рощи со вчерашнего дня не изменились.
— Я так скучаю! В месяце тот, когда начинается новый год, я буду скучать еще и по празднеству Уаг. Ведь только раз в году наши акху приходят на землю живых и наслаждаются земной пищей, которую им принесут.
Но Мерит лукаво покачала головой.
— Вряд ли тебе придется тосковать по этому празднеству. Вчера, пока ты играла на арфе, я разговаривала с главной жрицей. Через два месяца будет ровно год, как ты уехала из дворца. Так что скоро… — Мерит выдержала эффектную паузу, — будь готова к возвращению!
В десятый день месяца тота Мерит буквально вытряхнула меня из постели.
— Госпожа, тебя ждет верховная жрица!
Продирая глаза, я спросила:
— Что случилось?
— Занятий с Пасером сегодня не будет. Тебя хочет видеть верховная жрица!
Мы бросились к зеркалу, и я терпеливо ждала, пока Мерит накрасит мне лицо.
— Возьмем сегодня малахит, — решила она, выбрала баночку с дорогим зеленым порошком и стала красить мне веки, а потом подвела глаза сурьмой.
Няня достала мой парик, украшенный голубыми бусинами.
— А для чего бусины?
— Для особого случая, — серьезно ответила Мерит.
С тех пор как много месяцев назад я перешагнула порог храма Хатор, я и вправду редко встречалась с верховной жрицей.
Мерит тонкой кисточкой для сурьмы накрасила мои ногти хной и протянула мне новую тунику. Я поднялась. Няня глубоко вздохнула и, словно сама себе не веря, произнесла:
— Да ты взрослая женщина!
Прищурившись, Мерит придирчиво разглядывала мое лицо, наряд, ногти. Когда осмотр подошел к концу, она искренне сказала:
— Ты готова. — Голос у няни дрогнул, и она крепко меня обняла. — Удачи тебе, госпожа!
— Спасибо тебе, мауат. — Я отстранилась и заглянула ей в глаза. — Спасибо тебе. Не только за то, что приехала со мной в храм. А за… За все.
Мерит расправила плечи.
— Иди. Иди, пока она не передумала!
Покои Уосерит были недалеко от моих, но никогда путь не казался мне таким долгим. Я подняла взгляд на изображения Хатор и Ра и подумала: наверное, мне уже недолго осталось смотреть на эти стены.
У двери Уосерит меня с поклоном встретила служанка.
— Госпожа, верховная жрица тебя ждет.
Она отворила дверь; Уосерит сидела за столом, окруженная прекрасными букетами, расставленными в фаянсовые вазы — по случаю нового года. Комнату наполнял аромат лилий. При виде меня лицо жрицы выразило сильнейшее удивление, сменившееся радостью.
— Нефертари! — Она вышла из-за стола и подошла ко мне. — У тебя наконец появились щеки! А глаза… прямо околдовывают!
Уосерит заставила меня повернуться, потом еще раз, и еще.
— Как же ты изменилась! — воскликнула она, натягивая мою тунику сзади, так что обрисовались грудь и талия. — И больше никаких бесформенных балахонов! Пусть твоя няня снимет с тебя мерку для новых нарядов. Пока я занималась делами, ты превратилась в настоящую женщину! Ты стройная и красивая, а вот Исет в беременности наверняка растолстеет. И — никогда не жалуйся! Могу тебя заверить, что Рамсес устал от нытья.
— Он ее не любит? — быстро спросила я.
Уосерит подняла брови.
— Я этого не говорила.
— Но если она ноет, за что ее любить?
— Исет, если захочет, может быть само очарование, и потом, она исключительная красавица. Однако ее прелесть и красота сильно потускнеют, когда фараон сравнит Исет с тобой — через восемь дней, начиная с сегодняшнего.
— В день Уаг?! — воскликнула я.
Уосерит улыбнулась.
— Да. Думаю, мы готовы.
Глава шестая
ПРАЗДНЕСТВО УАГ
1282 год до н. э.
В восемнадцатый день тота, в конце урока, Пасер положил тростниковое перо и спросил:
— Ты готова к сегодняшнему празднеству?
— Да. — Я старалась скрыть волнение. — Моя няня приготовила подношение для заупокойного храма Сети и еще одно — для…
— Я не про еду, — остановил меня Пасер. — Не сомневаюсь, что и акху фараона, и твои собственные, — сказал он с иронией, — останутся вполне довольны вашим угощением. Меня интересует, объяснили ли тебе, что посещение царского двора будет для тебя потрясением, особенно учитывая, что ты там не останешься?
— Да, — спокойно сказала я. — Уосерит предупредила, что с Рамсесом можно говорить совсем недолго.
Пасер кивнул.
— Ты не будешь пьянствовать там три ночи, как другие. — Поднявшись, он вполголоса добавил: — Разве что захочется полюбоваться на пьяную Хенуттауи.
Я хихикнула: до меня дошли слухи о старшей сестрице Уосерит.
— Нефертари, — посерьезнел Пасер, заниматься мы теперь будем реже. Фараон Рамсес станет чаще бывать в тронном зале, и я должен быть при нем. Кроме того, я уже мало что могу тебе дать. Ты превосходно знаешь все восемь языков, которые мы изучали.
Он проводил меня до дверей.
— Надеюсь, ты запомнишь совет Уосерит. Она женщина мудрая, и если кто-то и может проложить тебе путь к трону, так только она.
— А Хенуттауи? — с любопытством спросила я.
— Хенуттауи умеет хитрить и плести интриги. Она может научить Исет, как очаровать фараона, но рано или поздно эти чары сойдут на нет.
— Разве я не то же самое делаю — хитрю и хочу его очаровать?
— Держась подальше от Рамсеса? — спросил Пасер. — Нет. Ты просто напоминаешь ему о вашей дружбе, которой он сейчас лишен.
У себя в комнате я, к своему удивлению, увидела Уосерит и Алоли, которые вместе с Мерит разглядывали две пары сандалий.
— Вот эти — с толстым каблучком и золотым плетением, — решила Уосерит. — Нефертари сегодня придется долго быть на ногах… но не стоит, чтобы она напоминала пастушку, привыкшую бродить по холмам.
Алоли заговорила со мной первая:
— Ты готова?
Я кивнула, хотя понимала, что моя теплая накидка к этим сандалиям совсем не подходит. Празднество Уаг всегда начинается с паломничества к заупокойному храму фараона Сети в Фивах. После того как придворные выкажут почтение предкам фараона, им позволено отнести пищу в храмы собственных акху. У моей семьи нет храма. Каждый год я хожу посмотреть на Хоремхеба, который присвоил заупокойный храм моего деда в Джамете и приказал стесать со стен портреты моих родных — осталось только одно изображение моей матери. Мы выйдем сразу после захода солнца, и, хотя ночи сейчас теплые, в храмах холодно и сыро — без накидки не обойтись. Я посмотрела на Мерит.
— А что мне надеть?
— Верховная жрица так добра, что дает тебе свой плащ, — ответила няня.
На кровати лежало удивительное одеяние: накидка с просторными, замысловато расшитыми рукавами и капюшоном, украшенным меховой опушкой. В этом наряде, да еще и в сандалиях, выбранных Уосерит, во мраке гробниц я покажусь бело-золотым видением.
— Сегодняшнее празднество, возможно, изменит всю твою жизнь, — заметила Уосерит. — Кстати, Мерит переделала для тебя одно из моих платьев. — Жрица подняла с кровати плащ, под которым оказался ажурный наряд, сплошь из фаянсовых бусин. — Бусины как раз под цвет твоих глаз. К моему возвращению будь готова.
Уосерит удалилась, а я подошла к кровати, изумленная столь изысканным и откровенным нарядом.
— Редкостная вещь, — сказала Алоли. — Верховная жрица никому это платье не дает, даже чинить не доверяет. Подними руки.
Я скинула тунику и подняла руки. Алоли надела на меня платье, а Мерит осторожно расправила его на бедрах. Потом я набросила плащ и села перед зеркалом.
— Веки ни к чему подводить синим, — решила Мерит. — В полумраке этого будет не видно. — Она открыла баночку с золотым порошком и стала смешивать его с маслом. — Пусть не увидят твоих волос, но глаза-то заметят точно.
До самого заката Мерит покрывала мне ногти хной, приводила в порядок ступни. Из зеркала на меня глядело что-то золотисто-белое, мерцающее. Белый капюшон красиво оттенял кожу, меховая опушка обрамляла лицо.
Дверь комнаты отворилась, и послышался медленный вздох.
— Великолепно!
На гладкой меди зеркала возникло отражение Уосерит. Жрица надела длинную белую облегающую тунику с поясом из полированного лазурита и накидку, шитую нитью бирюзового цвета, схваченную у горла пряжкой в виде золотой коровы с лазуритовыми глазами. Уосерит зачесала волосы набок, и сзади виднелся острый наконечник ожерелья менат — такое носят все жрицы Хатор. Спереди на ожерелье, сделанном из фаянсовых бусин, висел золотой амулет, оберегающий от зла. Все в жрице было прекрасно — от золотых браслетов на ногах до прозрачной туники.
— До чего же ты красива! — прошептала я, вставая, и, к своему удивлению, поняла, что она столь же яркая женщина, как и ее сестра, Хенуттауи.
Уосерит сделала мне знак повернуться и придирчиво меня оглядела. Она приподняла мне подол, взглянула на мои ступни и одобрительно пробормотала:
— Постарайся не запылить. Не шаркай, ходи поаккуратнее.
Уосерит накрыла мне голову капюшоном, а Мерит расправила косы у меня на плечах.
Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала глядевшей из него девушки. Она напоминала тех женщин, что проводят время в роскоши, сплетничают в банях и покупают украшения у дворцовых торговцев.
— Алоли, пора и тебе собираться, — сказала Уосерит. — Вы с Мерит постарались на славу.
Алоли и Мерит отправились по своим комнатам, а Уосерит села. Она явно нервничала. Гораздо позже я поняла, что ей этот год дался намного труднее, чем мне. От меня требовалось только учиться, впитывать знания, а ей приходилось все устраивать, продумывать, планировать. Она предвидела последствия возможной неудачи, а я только воображала, что понимаю. Уосерит уступила мне покои во дворце, взяла меня в храм, договорилась с Пасером, дала мне свои наряды — но взамен за свою доброту жрица ничего не требовала.
Мерит возилась с одеждой у себя в комнатушке.
— Чем же я с тобой расплачусь? — тихо спросила я жрицу.
Губы Уосерит тронула легкая улыбка.
— Я не такая, как Хенуттауи. Платить не нужно.
— Но ты потратила столько сил и времени. Почему? Чего ради?
— Ты стала взрослой и умной женщиной, — ответила жрица; мой вопрос ей, по-видимому, понравился. — Я хочу, чтобы ты заняла место Исет и чтобы Хенуттауи никогда не получила ту власть, которой домогается. Вот чего я жду, — твердо сказала она. — Мне нужно, чтобы Фивы не плясали под дудку Хенуттауи, и больше ничего.
Я чувствовала, что сказано не все, но Уосерит умолкла. «Не придет ли в один прекрасный день настоящая расплата?» — подумала я.
Мы отплыли, едва солнце опустилось за холмы, и достигли храма Хатор, когда вода приобрела винный цвет в последних лучах заката. В ладье, полной певиц богини Хатор, мы направились к заупокойному храму предков фараона. Как и дворец, храм стоял на западном берегу — потому что на западе каждый день умирает солнце и начинается путь в страну мертвых. В храм Сети вместе с другими придворными я ходила много раз, но сегодня — случай особый.
На приближающемся берегу мерцали огни. От волнения я чувствовала в животе какую-то пустоту — раньше со мной такого не бывало. Мерит встала рядом на носу корабля и подняла мне капюшон; я почувствовала на лице прикосновение меха.
— Какой легкий и мягкий, — сказала няня.
В Ниле отражалась полная луна; мне вдруг вспомнились слова Уосерит: «Ты стройная и красивая, а вот Исет в беременности наверняка растолстеет». Под плеск весел я спросила у Мерит:
— А если Исет уже ждет ребенка?
— Тем больше у фараона причин сделать ее главной женой. Рамсесу восемнадцать лет. В этом году он выберет царицу.
Лодка скользила к пристани.
— Думаю, придворные уже собрались, — заметила Уосерит, повернувшись ко мне. — Но без нас обряд не начнется. И без Хенуттауи. А она, вероятно, опоздает.
Дворцовые слуги встретили нас на пристани и, подняв факелы, повели во тьму. Впереди, во дворе заупокойного храма, сотни светильников лили свет с высоких пилонов
[103] на стены с фресками. На одной из них бог Сет
[104] разрубил на куски своего брата Осириса, царя богов, и разбросал части тела вверх и вниз по Нилу. В свете тростниковых факелов я заметила следующую фреску с изображением Исиды, супруги Осириса. Богиня в красном одеянии (в таком обычно ходила Хенуттауи) повсюду искала части тела мужа и складывала их вместе, чтобы воскресить его. Над вратами храма были изображены последние сцены. От воскресшего Осириса у Исиды рождается сын Хор — бог неба с головой сокола. Он мстит за отца и побеждает Сета. После изгнания Сет уходит к Анубису, богу с головой шакала, царю Подземного мира Всех приходящих в землю мертвых ждет суд Анубиса; только после этого они становятся акху. Глядя на фрески, я задумалась о своих предках, которые прошли через суд Анубиса. Интересно, увижу ли я на дальнем берегу свою мать?
Мы приближались к открытым воротам, и пение жрецов звучало все громче. Уосерит обернулась.
— Держись ко мне поближе, даже когда я буду возлагать приношения своим акху. Как только жрицы начнут петь гимн Хатор, встань со мной рядом. В храме сегодня будут сотни людей, но ты должна стоять там, где тебя обязательно заметит Рамсес.
Мерит многозначительно посмотрела на меня, и я пообещала не отходить от Уосерит ни на шаг.
— Нужно напомнить Рамсесу, чего он лишился, — продолжала жрица. — Но не забывай: если вы будете говорить слишком долго, получится, что вы как будто и не расставались. Если кто-то тебя спросит, почему ты не в одежде жрицы, говори, что пока не решила — станешь жрицей или нет…
— Особенно если Рамсес спросит, — вставила Алоли. — Пусть знает: ты еще не решила, где твое место.
Уосерит, против моего ожидания, не рассердилась, что ее перебили, а согласно кивнула:
— Да. А уж сделать первый шаг он догадается.
Мне не хотелось хитрить с Рамсесом, но ведь во всем этом была и доля правды. Что меня ждет, когда кончатся унаследованные от родных деньги и я не смогу больше жить во дворце? А если Рамсесу я не нужна, то о каком замужестве говорить? Кто еще сможет понять мою страсть к языкам, мою любовь к охоте? Мне и вправду придется стать жрицей. Внутри у меня все сжалось.
Мы прошли через врата заупокойного храма Сети и двинулись в темное святилище, выстроенное фараоном для себя и своих предков. На стенах изображалась история семьи фараона. Был тут Рамсес Первый, полководец, которого выбрал своим преемником бездетный Хоремхеб, когда понял, что может умереть без наследника. Был и сам фараон Сети вместе с молчаливой и равнодушной царицей Туйей, совершенно удалившейся от государственных дел. Была сцена рождения Рамсеса Второго, младенца с ярко-рыжими волосами.
А ведь несколько поколений моей семьи сидели на египетском троне — где же их памятники?
— Хватит раздумывать! — одернула меня Мерит. — Не расстраивайся попусту!
Я сжала губы.
Мы вошли в восточное святилище. Жрецы Амона уже завершили песнопения; в зале толпились сотни придворных. Все повернулись к Уосерит, и мне вдруг захотелось поглубже натянуть капюшон плаща. Святилище наполнял запах ладана; от стен, которые никогда не видели солнца, веяло холодом.
Я проследовала за Уосерит, туда, где жрицы уже начали исполнять гимн Хатор. Уосерит вышла вперед и поставила перед статуей Рамсеса Первого приготовленное угощение. Справа от нас сверкала корона Сети, а рядом — белый с голубым немес Рамсеса, обрамлявший худое лицо с высокими скулами и мощной челюстью воина. Рамсес был выше отца — и гораздо красивее, чем мне помнилось. Нас разделяла высокая гранитная статуя, изображающая его деда. Рядом с Рамсесом стояла Исет в сверкающей диадеме, но Хенуттауи еще не пришла. Мерит неодобрительно покачала головой.
— Как всегда, опаздывает.
— Хочет привлечь к себе внимание, — шепнула я.
Я уже начинала понимать, в какие игры играют женщины.
Пение эхом отдавалось от стен, но его слегка заглушил шум множества шагов. В святилище вошла Хенуттауи в ярко-алом одеянии, окруженная жрицами в красных одеждах богини Исиды. Свита почтительно поддерживала края длинной алой накидки верховной жрицы; из-под золотой сешед
[105] — диадемы царевны — вились роскошные пряди. Хенуттауи прошествовала через зал, ведя за собою своих жриц, и поставила перед статуей Рамсеса Первого золотой сосуд с угощением.
— Для акху величайшего египетского рода.
Столь щедрое пожертвование, должно быть, недешево обошлось посетителям храма Исиды. Хенуттауи поместила сосуд рядом с приношением Уосерит, и дар жрицы Хатор сразу показался небольшим и скромным. Хенуттауи низко поклонилась брату, и ее спутницы запели гимн.
— Ты опоздала, — заметил Сети, и Хенуттауи, наклонившись, прошептала что-то ему на ухо.
В первый миг он казался разгневанным, но тут же рассмеялся.
— Прекрасная, очаровательная Хенуттауи, — прошептала мне в ухо Уосерит. — У нее найдется оправдание на любой случай. Мой брат всегда готов ее простить. А Рамсес таков же, как отец. Имей это в виду!
Снова вышли вперед и запели жрецы Амона. Я не могла отвести глаз от Рамсеса. Он смотрел на жрецов, чьи мощные голоса гулко летели по залу. Уосерит подняла руку, и ее браслеты издали легкий звон, словно маленькие колокольчики. Рамсес глянул в нашу сторону — и замер. Он вглядывался в полумрак, и я потихоньку опустила капюшон на плечи.
— Неферт? — произнес он одними губами.
Я улыбнулась ему и увидела, что поверх накидки Рамсес надел ожерелье из бычьего волоса. У меня перехватило дыхание.
— Поговори с ним во дворе, как допоют гимны, — шепнула Уосерит, — Но я тебе даю лишь несколько минут.
Никогда еще служба в храме Сети не тянулась для меня так долго. Каждый гимн длился целую вечность. Наконец жрецы умолкли. Я посмотрела на Уосерит, и она улыбнулась, давая понять, что время настало.
Я стояла во дворе, а Рамсес и Аша двигались через толпу придворных.
— Неферт! — окликнул Рамсес, заметив меня у подножия статуи Амона.
Мне стоило больших усилий не броситься к нему в объятия.
Аша восхищенно смотрел на меня, разглядывая мой наряд из бусин и просвечивающую под ним разрисованную хной грудь.
— Нефертари, ты стала настоящей царевной.
— Зато ты — настоящий воин, — не осталась я в долгу, увидев у него на боку тяжелый меч.
Рамсес перевел взгляд с меня на Ашу и расправил плечи.
— Где же ты пропадала?! — воскликнул он. — Мы шесть раз приходили в храм — разве Уосерит тебе не говорила?
Мне удалось скрыть изумление, я даже улыбнулась.
— Говорила, но жрицам, находящимся в обучении, запрещено встречаться с кем бы то ни было.
— Мы даже внутрь два раза заходили, — вмешался Аша. — Делали вид, что молились, — хотели тебя повидать.
Я рассмеялась, чтобы не выдать своей растерянности.
— Решили, что Уосерит не догадается? Она старалась держать меня от всех подальше, чтобы я не передумала.
Рамсес перехватил мой взгляд и шагнул ко мне.
— А что теперь? — тихо спросил он.
Я чувствовала мятный аромат его дыхания. Стоило мне протянуть руку, и я могла бы коснуться волосяного ожерелья у него на шее.
— Ты не носишь одеяния Хатор, — заметил он и опустил взгляд на мой наряд из бусин.
Щеки Рамсеса залил румянец.
Аша с любопытством посматривал то на меня, то на Рамсеса.
— Не знаю, стану ли я жрицей, — произнесла я заготовленную фразу. — Я еще не решила, где мое место — во дворце или в храме.
— Тогда тебе нужно вернуться! — воскликнул Аша.
Рамсес смотрел мне в глаза, пытаясь понять, всерьез ли я говорю, и тут сбоку возникла Исет.
— Вот ты где! — легко рассмеялась она. — Хенуттауи видела, как ты вышел, но я не поверила, что ты можешь уйти, не предупредив меня.
— Куда же он уйдет? — нахмурился Аша. — Ведь сегодня празднество Уаг.
Исет не обратила на него внимания и обняла Рамсеса. Меня удивила ее развязность и то, как уверенно она встретила его взгляд.
— Ты уже виделась с Нефертари? — спросил Рамсес.
— Здравствуй, Нефертари. — Исет весьма убедительно изобразила радость. — Ты так сильно накрашена, что я тебя и не узнала. — Она вновь повернулась к Рамсесу. — Прибыл посланник из страны Митанни, который хочет тебе что-то сообщить. Он желает доставить своему повелителю новости о твоей победе в Кадеше, но не говорит на нашем языке.
— Тогда, быть может, с ним побеседует Нефертари? — предложил Рамсес, взглянув на меня. — Она говорит на хурритском даже лучше меня. Примешь посланника Митанни, Нефертари?
Я широко улыбнулась.
— Почему бы и нет?
Мы вчетвером пересекли двор. Меня окликнули ученики из эддубы.
— Видишь — многие по тебе скучали, — сказал Аша. — Не понимаю, зачем тебе становиться жрицей?
— По-моему, из Нефертари получится хорошая жрица, — заявила Исет.
Уцепившись за локоть Рамсеса, она повела его дальше.
Аша склонился ко мне и прошептал:
— Еще бы Исет так не думала! Когда тебя нет, Рамсеса интересует только она.
Мы шли позади Рамсеса и его супруги, и наши голоса тонули в праздничном шуме.
— Значит, она всегда с ним?
— Да, и это несносно. Единственное место, куда она с ним не ходит, — арена. Она даже не хочет, чтобы он участвовал в состязаниях на колесницах и охотился в болотах.
— И Рамсес ее слушает?!
— Вполуха. Обещает быть осторожнее, а если она ноет, то старается задобрить ее подарками.
— Как он такое терпит? — воскликнула я.
— Половина мужчин при дворе влюблены в Исет. Все Фивы ею очарованы, народ ее восхваляет.
Мы посмотрели на Исет. Ростом ниже Рамсеса, она все же была высокой, и все ее замечали. Мои товарищи по эддубе улыбались мне и призывно махали, но взглядом провожали Исет.
— А ты? — с любопытством спросила я. — Тебя она тоже очаровала?
— Я-то знаю, какова она. Глупая. В тронном зале от нее никакого проку.
— Но ведь Рамсес ее любит!
Аша внимательно посмотрел на меня.
— Ну вот, и ты туда же! Перед ним и так все жрицы лебезят, чужеземные царевны готовы к ногам броситься, только бы он взял их в жены!
— Кто сказал, что я хочу за него замуж? — возмутилась я.
— Я же видел, как он на тебя смотрит. И ты на него. Послушай, Неферт…
— Нефертари, — поправила я.
Аша это задело.
— Нефертари, — сердито повторил он. — Я тебе всегда был как брат. И Рамсес тоже. Менять эти отношения рискованно.
— Не понимаю почему, — солгала я.
— Вспомни про Исет. Про Хенуттауи. Исет во всем слушается верховную жрицу. У тебя будет столько врагов, сколько женщин хотят Рамсеса. Для чего тебе лезть в скорпионье гнездо, если можно выйти замуж за какого-нибудь знатного человека и жить спокойно? Твою мать принудили выйти замуж за фараона, и она страдала до последнего дня жизни.
— Откуда ты знаешь? — надменно спросила я.
Аша взглянул на меня.
— Ты и сама отлично знаешь. Хочешь пойти ее путем?
Тут Аша умолк, потому что Рамсес увидел посланника из Митанни. Хетты завоевали их царство, но у народа Митанни остались вожди, и еще теплилась надежда поднять восстание. Рамсес устремился вперед. Я избегала вопросительного взгляда Аши, потому что знала ответ на его вопрос. При чем здесь путь моей матери? Ведь я, в отличие от нее, люблю.
— Это ты Киккули из земли Митанни? — спросил Рамсес.
Беседовавший с посланником Ассирии толстяк повернулся к фараону.
— Да, государь!
Он поклонился, и ассириец последовал его примеру.
— Моя супруга сказала, что ты хочешь узнать подробности нашей победы над хеттами, — произнес Рамсес на языке хурритов.
— Да, государь, очень хочу, — ответил Киккули.
— Тогда поговори с царевной Нефертари — она лучше говорит на твоем языке.
Рамсес был прав — говорила я лучше, чем он. Однако он, видимо, понял всю нашу беседу. Я назвала посланнику свое имя, и тот опять поклонился.
— Рад с тобой познакомиться, царевна. Меня прислали сюда выучить ваш язык.
— Разве в Митанни никто не знает египетского? — удивилась я.
— Многие знают. Только еще хуже, чем я.
Мы с Рамсесом рассмеялись, а Аша и Исет промолчали.
— Ты хотел услышать о нашей победе при Кадеше? — спросила я и рассказала посланнику все, что узнала сама, пока была в храме.
— Благодарю тебя, госпожа, — почтительно заметил Кик-кули, выслушав меня. — Я и не думал, что при дворе фараона столь хорошо знают наш язык.
— Хурритский язык изучают многие члены царской семьи, — польстила я. — Мы глубоко сочувствуем твоей стране.
Киккули смотрел на меня во все глаза.
— Я непременно передам своему народу твои теплые слова.
— Да, — подтвердил Рамсес. — Египет надеется сохранить дружбу с Митанни. Мы не сомневаемся, что, если хетты соберутся выступить против нас, ваши предводители сообщат нам.
Посланник нагнул голову и стал похож на ибиса.
— Если хетты дерзнут пройти через Алеппо или Нузу, то Египет об этом узнает, даю вам слово!
Рамсес улыбнулся, но Киккули смотрел только на меня.
— У вас необыкновенная царевна, — похвалил он.
Наши с Рамсесом глаза встретились, и его взгляд сказал мне куда больше, чем любые слова. Он мною гордился!
— Ну? Что он говорит? — спросил Аша.
Исет стояла рядом, холодная и недвижная, словно камень. Она привыкла очаровывать людей своей красотой, но кого она могла очаровать, стоя молча, точно обелиск?
— Он сказал, что понесет народу Митанни весть о мощи египетского войска, — ответила я.
Стоявший рядом с Киккули ассирийский посланник прокашлялся и спросил:
— А если хетты захотят вернуть себе Кадеш?
Рамсес покачал головой.
— Прошу меня извинить, но я не говорю на аккадском языке.
— Посланник спрашивает, что будет, если хетты захотят вернуть Кадеш, — перевела я, потом повернулась к ассирийцу и ответила: — Тогда Египет отправит на север двадцатитысячное войско и отвоюет город снова.
Рамсес воззрился на меня.
— Откуда ты знаешь язык ассирийцев?
— Я учила его в храме.
Рамсес смотрел на меня с восхищением.
— А вот и верховная жрица Хатор! — объявила Исет.
Я поймала взгляд Уосерит и поняла, что сейчас будет. Она улыбнулась Рамсесу, а у меня забилось сердце.
— Как тебе празднество? — спросила она у него. — Ты, наверное, не ожидал увидеть здесь Нефертари?
— Да, — признался Рамсес, не сводя с меня глаз.
Глядя на него вблизи, я поняла, что война сделала из него взрослого мужчину.
— Нефертари, — сказала жрица, — тебе пора посетить усыпальницу в Джамете. Ты готова?
— Мы можем поехать с вами, — предложил Рамсес.
Уосерит покачала головой.
— Нефертари хочет выразить почтение предкам. Она должна ехать одна.
Аша и Рамсес смотрели на меня, словно ждали возражения, но я отлично поняла цель Уосерит.
— Рамсес, Аша, всего вам хорошего! — Я поочередно улыбнулась каждому из них. — Исет, так приятно было с тобой повидаться.
— Ты придешь проститься, когда мы выступим с войском? — тихонько спросил Рамсес.
— С каким войском? — Я посмотрела на Ашу. — Войско только что вернулось из Кадеша! Неужели вы снова собираетесь воевать?
— Нубийцы подняли мятеж. Рамсес преподаст им урок.
Рамсес кивнул, не сводя с меня глаз.
— Что ж, как придет время, посмотрим, где будет Нефертари, — сказала Уосерит. — А до тех пор — или до следующего празднества Уаг — пожелай ей удачи на выбранном пути.
Исет улыбнулась, на этот раз искренне. Я с готовностью последовала за Уосерит — к Мерит, которая ждала меня у наемной колесницы.
— Отвезешь царевну и ее няню к заупокойному храму в Джамете, — приказала Уосерит вознице.
Юноша помог мне усесться, и кони взяли с места. Я оглянулась: придворные уже ушли, и Рамсеса тоже не было.
— Ну, что он сказал? — спросила Мерит.
— Не… не знаю, — напряженно ответила я. — Он стал другой. Взрослее.
— Так что он сказал-то?
— Попросил меня поговорить с посланником Митанни.
Колесница неслась сквозь тьму.
— А вдруг он ценит меня только за способности? — задумчиво сказала я.
— Так ли это важно, госпожа? Главное, что ценит. Ведь твоя цель — стать главной женой.
— Нет, вовсе нет! — Я неожиданно поняла, что мне нужно больше всего на свете. — Я хочу, чтобы он меня любил!
Мы доехали до Джамета. Посреди обширной песчаной равнины высился заупокойный храм Хоремхеба. Широкие черные врата были распахнуты — для тех, кто пожелает почтить фараона, искоренившего память о Еретике. Обычно посещать храм могут только придворные фараона Сети, но в первую ночь празднества Уаг ворота открыты для всех.
Мерит отряхнула мой плащ от пыли и заплатила привезшему нас пареньку. Приблизившись к тяжелым воротам, она замедлила шаги. Я всегда входила в храм одна, а Мерит оставалась почтить своих предков в небольшом храме, возведенном ее отцом неподалеку.
— Дальше пойдешь одна? — тихонько спросила она.
— Да.
— Ни с кем там не разговаривай и подними капюшон, — велела няня. Она протянула мне горшочек. — Тебе видно, куда идти?
— Там есть факелы. И зрение у меня хорошее.
Я дождалась, пока Мерит скроется в темноте, и прошла в ворота храма, стараясь не думать о тех временах, когда храм принадлежал моим акху. Его выстроил мой дед, фараон Эйе, но все, что от него осталось, — несколько изображений в его гробнице, где-то в глубине Долины царей.
Впереди раздавались чьи-то голоса. Это могли быть потомки Хоремхеба или же простолюдины, пришедшие посмотреть на фрески. Со стен за каждым моим шагом следили глаза старого полководца. Повсюду он изображался высоким и стройным, в короне хепреш
[106], принадлежавшей некогда моему деду. Эйе умер стариком, не имея наследников. Оставалась только моя мать, и военачальник Хоремхеб силой взял ее в жены. Будь я мальчиком, он объявил бы меня своим сыном. Но моя мать умерла при родах и оставила только девочку.
Я дошла до конца зала и прикоснулась к единственному оставшемуся портрету матери. Живописец рисовал ее с большим тщанием. Высокая, стройная; на продолговатом смуглом лице светятся, словно изумруды, огромные зеленые глаза. Со мной — ничего общего, только глаза…
— Мауат, — прошептала я.
Только эту фреску и оставил Хоремхеб. Все прочие он приказал стесать, и каждый удар долота стирал прошлое моей семьи из истории Египта.
— Обидно, что ничего больше не осталось.
Я узнала голос, и у меня упало сердце. Не сдержавшись, я сердито спросила:
— Зачем ты пришла?
Из темноты на свет факелов выступила улыбающаяся Хенуттауи.
— Не рада мне? Думаю, бояться тебе нечего. Теперь ты ведешь себя гораздо лучше, шлепка не заслуживаешь… Пока не заслуживаешь.
Я откинула капюшон: пусть не думает, что я прячусь. В глазах Хенуттауи читалось насмешливое удивление.
— Значит, наша маленькая царевна выросла? — Она окинула меня взглядом, оценивая округлости фигуры. — Это, наверное, наряд Уосерит? Самой тебе не одеться как надо даже для сельской пирушки, не говоря уж о празднестве Уаг.
— Зачем ты пришла?
Хенуттауи быстро шагнула вперед, словно хотела меня напугать, но я не шевельнулась.
— Ты точно кошка, защищающая свое место. Или от испуга не можешь двинуться? — Она посмотрела на изображение моей матери. — Ни дать ни взять — две зеленоглазые кошечки. И такие же любопытные.
— Ты пришла потому, что знала — я навещу храм моих предков!
Хенуттауи прищурилась, и красота ее стала вдруг суровой и холодной.
— Понятно, почему Уосерит так о тебе печется. Вечно она жалеет убогих. Ты, конечно, удивишься, но двору фараона нет никакого дела до царевны Нефертари. Вероятно, тебе будет интересно узнать, что я здесь ради Исет.
Жрица достала из-под складок накидки небольшой серебряный сосуд.
— Об этом, конечно, никому говорить не следует, но раз уж ты Рамсесу как младшая сестричка, тебе знать можно. — Хенуттауи наклонилась ко мне и прошептала: — Его супруга носит наследника престола.
Пока я пыталась справиться с потрясением, Хенуттауи поставила серебряный сосуд перед изображениями моей матери и Хоремхеба.
— Даже Рамсесу еще не сказали, но как только он узнает, то объявит ее главной женой — даже сомневаться нечего. Вполне естественно, что Исет хочет поблагодарить своих акху за ниспосланную радость. Став царицей, она пожелает напомнить всем, что ее бабка была в гареме фараона Хоремхеба. Раньше храм принадлежал твоей семье. — Хенуттауи глянула вверх и положила ладонь на лицо моей матери. — Но когда Исет станет царицей, не удивлюсь, если она захочет заменить здесь кое-какие изображения, дабы напомнить богам, что ее бабка тоже кое-что значила при дворе.
Жрица повернулась и скрылась за дверью. Я посмотрела на изображение матери и чуть не задохнулась от негодования.
— Хенуттауи!!!
От моего отчаянного крика двое ребятишек, забежавших посмотреть на фрески, в страхе выскочили из храма.
Я погладила стену: там, где Хенуттауи провела ногтем по изображению моей матери, осталась глубокая царапина. Меня охватила такая слепящая ярость — целой державе достало бы, чтобы одолеть иноземных захватчиков. Мой голос пронесся по залам и коридорам храма, и Мерит с тростниковым факелом поспешила ко мне.
— Госпожа моя, что такое?
Я кивнула на стену и процедила сквозь зубы:
— Хенуттауи. Это она испортила.
— Мы пожалуемся фараону Сети!
— И кому он поверит? Ты же сегодня сама видела — она из него веревки вьет.
По щекам у меня потекли слезы. Мерит обняла меня.
— Не плачь, госпожа. Мы наймем живописца, и он все поправит.
— Ведь в память о моей мауат больше ничего не осталось, — рыдала я. — И что проку нанимать мастера, если фреску все равно уничтожат!
— Кто сказал? — воскликнула Мерит.
— Хенуттауи за этим и приходила. Исет, оказывается, ждет ребенка. А если она станет главной женой, то заберет храм для своих акху.
Мерит сощурилась.
— Сегодня она поняла, что ты — серьезная соперница, и решила тебя припугнуть. Наговорила тебе всего и воображает, что ты теперь не вернешься во дворец!
— Тогда она ошибается! — воскликнула я.
И вдруг ясно представила, какая участь меня ждет, если я сдамся: останусь прозябать в каком-нибудь храме в Файюме. При дворе меня не примут, а если и примут, то Хенуттауи и Исет устроят мне невыносимую жизнь. Рамсес сделает Исет главной женой. Будет с ней шутить, а она будет звонко смеяться над его шутками — пустым, точно стебли тростника, смехом. Она станет царицей и матерью наследника, а Рамсес будет терпеть ее невежество ради красоты. Если он и вспомнит про меня, то лишь с недоумением: куда это я делась и почему решила не возвращаться. Я же навсегда потеряю своего лучшего друга.
Я взглянула на Мерит, освещенную лунным светом, и повторила:
— Хенуттауи очень сильно ошибается.
У меня много причин вернуться!
Глава седьмая
МОЛИТВА БОГИНЕ СЕХМЕТ
В храме Алоли пустилась выспрашивать у меня подробности ночных событий. Несколько дней я уходила от разговора, но в конце концов сдалась.
— Она уже беременна!
Алоли перестала играть на арфе и нахмурилась.
— Кто?
— Исет. — Я сморгнула слезу. — Носит первенца Рамсеса.
Алоли сочувственно глядела на меня.
— Может, это будет девочка, — утешила она. — Или Исет не доносит. Важнее, что сказал сам Рамсес. Он по тебе соскучился?
Я вспомнила, как Рамсес покраснел, разглядывая мой наряд из бусин, и кивнула.
— Да. Уосерит думает, что когда он вернется с войны, то решит, кого объявить главной женой. И если войско одержит победу, я должна участвовать в праздничном шествии.
Алоли захлопала в ладоши.
— Отличная новость! — Она заглянула мне в лицо. — Почему же ты не радуешься? Ведь вы с ним с детства близкие друзья. А теперь ты стала женщиной. Красивой женщиной. Чего еще он может пожелать от царицы?
— Ребенка.
— А кто сказан, что ты не родишь ему ребенка?
— Алоли, — начала я несчастным голосом, — моя мать умерла, когда меня рожала.
Жрица откинулась назад, и на ее украшениях заиграл свет масляной лампы.
— Разве боги не позаботятся о египетской царевне?
— Моя мать была царица, и боги о ней не позаботились! И потом… что, если я не хочу иметь детей?
Алоли шумно вздохнула.
— Этого хочет каждая женщина.
— И ты?
Алоли махнула рукой, словно отводя непослушную прядь.
— Кому я нужна! Мне-то царицей не стать.
— Но ты бы рискнула родить ребенка? — не унималась я.
— Думаю, да, если найдется человек, которому по карману покупать мне драгоценности, — легкомысленно сказала жрица, но, перехватив мой взгляд, серьезно добавила: — Я не шучу! В своих мечтах я никогда не представляю себя просто вдвоем с мужчиной. Я всегда мечтаю о семье. — Алоли сдвинула брови. — А ты? О чем ты мечтаешь?
Я вспыхнула.
— Ты мечтаешь о фараоне! — воскликнула она.
— Я думаю только о нас с ним… никаких детей.
— И вы с ним… в постели?
У меня горели щеки, но я кивнула.
— И ты делаешь так, как я тебя учила? — быстро уточнила жрица.
— Алоли!
— Это важно!
— Да. С тех пор как Рамсес отправился воевать, я только о нем и думаю. И в банях, и перед наосом, даже в святилище.
— Если ты мечтаешь о нем по ночам, — серьезно заметила Алоли, — то и он тоже.
Я уставилась на нее.
— Откуда ты знаешь?
— Он с тебя глаз не сводил. — Алоли широко улыбнулась. — Поверь мне, царевна. А когда он вернется, то уж постарается, чтобы мечты стали явью.
Я думала о Рамсесе — вспоминает ли он запах моих волос, подобно тому как я, закрыв глаза, вспоминаю запах его кожи? Представляет ли он себе, как мы лежим рядом, и ничто не разделяет наши тела, кроме теплого летнего ветерка? Как мы падаем на кровать, на мягкие льняные простыни, пахнущие лавандой? Я вспоминала все, чему учила меня Алоли — где целовать нежно, а где крепко, как поцелуями довести мужчину до слез. Мечты мои становились все ярче. Ночью я представляла себя в объятиях Рамсеса, а днем переживала из-за того, что происходит на юге, думала, вернется ли он в Фивы.
Однажды утром, в начале месяца хатира, Пасер спросил меня:
— Ты еще практикуешься в аккадском языке?
— До языков ли тут, если Рамсес может погибнуть в Нубии?
Пасер посмотрел на меня долгим взглядом.
— Если ты решила переживать из-за Рамсеса, то всю оставшуюся жизнь проведешь без сна. Быть фараоном — значит сражаться с врагами, которые хотят захватить твое царство. А когда фараон не сражается с захватчиками, он должен подавлять внутренние мятежи. За Нубию с ее золотыми копями держался даже фараон-еретик. Рамсес вернется не раньше, чем окончательно подавит мятеж. Так что тебе ничего не остается…
— Остается! — прервала я. — Я могла бы поехать с ним.
Пасер посмотрел на меня так, словно мне на голову вдруг сел ибис.
— И что бы ты там делала? — спросил он. — Фараон Рамсес обучался военному ремеслу с малых лет. Там — кровь, смерть, раненые кричат по ночам…
— Женщины могут ухаживать за больными, — возразила я.
— Тебе приходилось видеть, как человеку отрубают в бою руку?
Я, стараясь не побледнеть, ответила:
— Нет.
— А кишки, выдернутые стрелой из живота?
— Нет. Зато я видела состязания колесниц и воинов, что погибали под колесами и лошадиными копытами.
— Война — не игра и, уж конечно, не состязание, — с чувством вздохнул Пасер. — Что с тобой будет, если фараон погибнет в бою? Тебя ждет плен, унижения. А Египет окажется ввергнутым в хаос. Кто станет править? Кто сменит на троне фараона Сети? В стране начнутся войны, и все, у кого есть деньги и голова на плечах, постараются уехать.
— Ты же говорил, что в Нубии не опасно. Ты сказал, что он вернется…
— Ну пусть не в Нубии, так в стране хеттов, в Ассирии, в Кадеше! Царевне на войне не место. Если хочешь помочь фараону — молись богине Сехмет, чтобы она возвратила его домой целым и невредимым. А теперь займись аккадским языком.
И все же мне никак не удавалось сосредоточиться. Я не могла ни спать ни есть. Мерит приносила с кухни самые вкусные яства — гусятину с чесноком, медовые лепешки с орехами, но мне ничего не хотелось.
— Так нельзя! — сердилась няня. — Ты превратишься в былинку. Посмотри на себя. — Она взяла меня за руку. — От тебя скоро ничего не останется!
Наконец, когда с отбытия войска минуло почти три месяца, ко мне в комнату заглянула верховная жрица.
— Мерит сказала, ты совсем не ешь. Вот Рамсес вернется из Нубии, а ты рядом с Исет будешь выглядеть облезлой кошкой!
Сидя на постели, я с ужасом уставилась на нее.
— Ни за что!
— Сейчас повара принесут несколько блюд, — сурово продолжила Уосерит, — и ты отведаешь от каждого. — Жрица помедлила у дверей — Утром прибыли гонцы. Войско фараона подавило мятеж.
Глава восьмая
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Если фараон возвращается с войны с победой, это означает, что боги не только смотрят на него, но и протянули ему руку помощи. Улицы Фив заполнили ликующие толпы. Горожане покупали у разносчиков медовые лепешки и гранатовое вино. Из-за холода люди носили длинные набедренные повязки, а я закуталась в подаренный Уосерит плащ. Мы с Уосерит стояли на Аллее сфинксов у храма Амона, и жрица взволнованно шепнула:
— Помни, что я тебе говорила.
— Рамсес должен прийти ко мне сам.
— Не бросайся на него, словно голодная кошка. Но если он захочет встретиться с тобой наедине, можешь согласиться.
Я удивленно посмотрела на Уосерит: раньше она такого не говорила.
— Мужчина — все равно что ивив, — сказала жрица, и мне вспомнился изнеженный песик царицы Туйи. — Корми его хорошенько, и он будет вокруг тебя крутиться. Только
нужно, чтобы он понимал: даром его кормить не станут. — Жрица говорила мрачно, а я не понимала, почему она нервничает еще больше меня. — Дай ему понять: если он не примет решение, ты вернешься в храм. — Уосерит сверкнула глазами на мою золотую диадему и плащ, открывавший прозрачную тунику. — И я сильно удивлюсь, если он…
Слова ее потонули в грохоте труб и криках толпы, встречающей приближающееся войско.
На ступенях храма стояли в горделивом ожидании фараон Сети и царица Туйя, окруженные самыми важными сановниками. Из всех присутствующих, одетых в тяжелые парики и обвешанных золотыми браслетами, самый торжествующий вид имела Исет. Животик ее красиво округлялся под накидкой, грудь была напудрена перламутровой пыльцой.
Вместе со всеми я встала на цыпочки и вытянула шею — мимо катили боевые колесницы с блестящими колесами и золочеными боками. Запах лошадиного пота смешивался с ароматом роз и ладана. Толпа пришла в исступление. Кто-то вытолкнул меня вперед. Я оглянулась; Алоли, стоявшая вместе с другими жрицами, вызывающе улыбалась.
— Тебе ведь нужно, чтобы он тебя заметил?
— Ей еще нужно не попасть под колесницу, — пробурчала Мерит, вцепившись мне в плечо.
В конце аллеи появилась корона хепреш. Фараон ехал с Ашой, и оба наслаждались ликованием народа. Аша правил парой черных коней, а Рамсес вглядывался в толпу, и, когда он меня увидел, я, несмотря на холодный ветер, ощутила странный жар. Фараон Сети простер руки в приветственном жесте, и Рамсес нехотя отвел от меня взгляд. У ступеней храма он сошел с колесницы и поклонился родителям, потом медленно вытащил из ножен меч. Толпа неистово шумела: сейчас Рамсес отдаст меч победителя своей супруге Исет.
Исет ждет величайшая честь. Я изобразила улыбку и тут увидела, что Аша неотрывно смотрит в нашу сторону.
— Кто это? — прошептала Алоли.
— Аша? Главный колесничий фараона.
— Почему он так смотрит?
— Наверное, никогда не видел таких рыжих.
Волосы Алоли пылали ярче, чем у Рамсеса. Сегодня жрица нарядилась в накидку цвета бирюзы, оттенявшую ее голубые глаза, а под накидку надела тунику из тонкого, почти прозрачного полотна. Исет приняла меч, и церемония окончилась. Алоли шагнула вперед, чтобы Аша не потерял ее из виду.
— Напрасно стараешься, — заметила я. — Фараон Сети прозвал его Аша Осторожный.
— Тогда, наверное, ему нужна женщина с характером.
Я рассмеялась, но Алоли и не думала шутить.
— Это мой первый праздник во дворце, и спать я сегодня не собираюсь.
Стоял месяц хойак — слишком холодно пировать под открытым небом. Праздничное пиршество назначили в Большом зале, где всю ночь в жаровнях будут жечь корицу, а тяжелые двери закроют, чтобы не было сквозняков. В тот вечер в зале собралось много воинов; туда привели даже коней Рамсеса, украшенных цветами, но мне в глаза прежде всего бросилось, что на помосте рядом с длинным полированным столом стояли четыре трона и десятка два кресел.
Уосерит проследила за моим взглядом и кивнула.
— Ты давно здесь не была. Рамсес изменил старый обычай: самые высокопоставленные люди теперь тоже сидят на помосте.
— Наверху, на помосте? А почему?
— Не понимаешь? Исет оказалась не такой уж интересной собеседницей. О чем ему с ней изо дня в день говорить? Рамсес посадил за свой стол советников и чужеземных посланников. Придворные сидят внизу, рядом с помостом, а ближайшие друзья, советники и самые важные гости Рамсеса — вместе с ним.
Рамсеса за столом еще не было. Я представила, как он одевается у себя в покоях, снимает доспехи, надевает длинную набедренную повязку, теплую накидку. Он, наверное, снимет высокую и неудобную корону хепреш и наденет голубую с золотом корону немес. А что потом? Заговорит ли он со мной во время обеда? Или он теперь никого не замечает, кроме своей беременной жены?
— Никогда такого не видела, — пробормотала Алоли.
Я и забыла, что она впервые в Большом зале. В каждом углу играли арфы, в теплом воздухе витали ароматы жареного мяса и вина. Женщины надели лучшие украшения, и, когда стемнеет и зажгут светильники, на тяжелых золотых ожерельях засверкают блики огня. В натертых до блеска полах отражались тысячи обутых в сандалии ног — люди ходили, танцевали, незаметно касались друг друга под столами.
Мы пробирались к помосту через переполненный зал, и тут кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулась и увидела Рамсеса: повязка-схенти, вышитая золотыми нитями и расписанная изображениями боевых колесниц, доходила до щиколоток, талию перехватывал широкий ремень, а ниже золотого нагрудного украшения розовел свежий боевой шрам. При виде шрама я чуть не вскрикнула, но Рамсес прижал палец к губам. Я посмотрела на Уосерит, и она немедля взяла Алоли за руку и повела вперед.
Рамсес не мог отвести от меня взгляда.
— Это правда, — шепнул он.
Мы стояли очень близко друг к другу; я могла дотронуться до его скульптурно очерченного лица с мощными челюстями.
— Что — «правда»?
— Ты такая же красивая, какой я тебя запомнил. — У него участилось дыхание. — Быть может, я для тебя просто друг, но в разлуке я только о тебе и думал. Нам нужно было подавлять мятеж, отыскивать в пустыне воду, а я не мог отделаться от мысли о том, что ты решила запереться в храме Хатор. Неферт, — страстно добавил он, — нельзя тебе жить в храме!
Мне хотелось закрыть глаза и укрыться в его объятиях, но за нами наблюдал весь двор.
— Где же мое место, если не в храме?
Я затаила дыхание, ожидая желанного ответа. Рамсес обнял меня и прижался губами к моим губам.
— Твое место — рядом со мной. Будешь моей царицей.
Позабыв обо всех — придворные уже начали пировать, — мы устремились в покои Рамсеса. В его комнате было прибрано, пол, выложенный белыми и голубыми плитами, натерт до блеска. На низеньком столике стопкой лежали клинописные таблички, а на доске для игры в сенет, которой не пользовались, наверное, несколько месяцев, стояли фигурки.
Рамсес запер дверь, взял меня за руку и повел к своему ложу. На миг он остановился и прошептал:
— Желаешь ли ты меня так же, как я тебя?
В ответ я коснулась губами его рта, а потом поцеловала так, как мечтала поцеловать все эти ночи, что он провел в Нубии. Мы упали на расстеленную постель, и празднество в честь победы нас больше не интересовало.
— Неферт… — Рамсес оперся руками на ложе и оказался надо мной.
Я потянулась к нему и провела рукой по его телу — как учила меня Алоли. Рамсес прикрыл глаза, а я легко коснулась пальцем его паха.
— Хочу знать, какой у тебя вкус, — прошептала я.
Он перевернулся на спину, и я стала водить языком по его телу, сначала по бедрам, потом по груди, вокруг незажившего шрама. Рамсес прижал ладони к моей груди, и у меня затвердели соски. Я опустилась ниже, и он застонал.
— Разденься, Неферт, прошу тебя.
Я встала на колени, медленно сняла накидку, потом тунику, парик — и теперь наготу мою прикрывали только волосы.
— Ты еще красивее, чем я думал, — выдохнул Рамсес, и я залилась краской.
Хенуттауи — вот кого я всегда считала красавицей. И Исет. Теперь же, стараясь принять позу, наиболее благоприятную, по словам Алоли, для зачатия, я подумала: «А вдруг я и вправду красива?» Рамсес дышал часто-часто, и, когда я оказалась над ним, он, стремясь проникнуть в меня, рванулся мне навстречу.
Я сотни раз мечтала о том, как буду с Рамсесом, но теперь позабыла все, чему учила меня Алоли. Единственное, что я понимала и чувствовала, — это его тело, прижавшееся к моему, вкус его кожи, и нечто, ранее не испытанное — боль, переходящая в наслаждение. И когда Рамсес полностью излился в меня, я взглянула на простыни. Отныне я не девственница.
В янтарных лучах заката Рамсес гладил мое лицо. Наше полузабытье прервал тяжелый стук в дверь. Мы вскочили и бросились к одеяниям, разбросанным вокруг ложа.
— Государь! — позвал кто-то. — Пир давно начался, фараон желает знать, где ты.
— Долго он уже стучит? — воскликнула я.
— Какое-то время стучит, — рассмеялся Рамсес и обнял меня. — Возвращайся в свои покои во дворце. В храме тебе делать нечего.
— Нужно спросить у Уосерит, — сказала я с напускным смирением.
— Забудь ты про нее. Если я сделаю тебя своей женой, она не сможет тебя забрать. Я без тебя не могу. — Он приложил ладонь к моей груди. — Ты нужна мне здесь.
— А ты нужен в Большом зале, — поддразнила я.
Со дня своей свадьбы Рамсес всегда входил в Большой зал вместе с Исет. А сегодня, во время праздника в честь его первой победы как полководца египетского войска, Рамсес войдет в зал со мной, и все поймут, где мы были. Хенуттауи увидит нас со своего места на помосте, Исет повернется к подружкам из гарема, а потом разразится буря.
«Смелее, — сказала я себе. — Исет — внучка гаремной жены, а я — дочь царицы». Мы миновали двор; уже опустилась вечерняя прохлада. Я пряталась под сильной рукой Рамсеса, и, когда мы шли по коридорам, отовсюду раздавался шепот. Кто-то произнес мое имя, и я вздрогнула.
— Привыкнешь! — пообещал Рамсес.
— К холоду или перешептываниям?
Он рассмеялся, и тут мы подошли к Большому залу и оказались рядом с глашатаем, объявлявшим имена пришедших. Внутри у меня все сжалось. Послышался удивленный ропот.
— Фараон Рамсес Второй, — объявил глашатай. — Повелитель Египта и сын фараона Сети.
Рамсес шагнул вперед и остановился, дожидаясь меня.
— Царевна Нефертари, дочь царицы Мутноджмет и полководца Нахтмина.
Рамсес взял меня за руку. В зале раздавался испуганный шепот: почему именно в этот вечер Рамсес пришел со мною, а не с супругой, которая носит его дитя? Пока мы дошли до помоста, я несколько раз слышала свое имя. Слуги поспешно ставили еще одно кресло между тронами фараона Сети и Рамсеса. Глаза Исет превратились в узенькие щелочки, а лицо сидевшей рядом царицы Туйи словно окаменело. Ее ивив Аджо повел носом и, когда я проходила мимо, оскалил зубы и тихонько зарычал, хотя обычно со всеми был очень ласков.
В неловком молчании я уселась. Первой заговорила царица Туйя:
— С твоей стороны было очень любезно проводить царевну Нефертари. Ты мог бы проводить свою супругу.
Сидевшая напротив Уосерит перехватила мой взгляд, и я почувствовала, что она хочет передать мне свою силу.
Я расплылась в улыбке и сказала:
— Боюсь, что здесь моя вина, царица.
— Какое все это имеет значение? — вмешался Сети. — Мой сын вернулся с войны, сокрушив нубийцев!
Он поднял чашу, и все последовали его примеру.
— Значит, Нефертари, — произнес Сети с насмешливым удивлением, — ты уже выросла?
Я скромно опустила голову.
— Да, государь.
— А мы скучали по твоей улыбке. В особенности, подозреваю, мой сын.
Сети взглянул на угрюмую Исет, сидевшую рядом с царицей. Лица обеих вытянулись, точно мордочка Аджо.
— Это так, — подтвердил Рамсес, встретившись со мной взглядом.
Я поняла, что он хочет сказать гораздо больше.
Хенуттауи опустила свою чашу на стол.
— Так расскажи нам, Нефертари, о чем же вы говорили с моим племянником? — спросила она. — Должно быть, он рассказывал тебе нечто очень увлекательное, раз вы проговорили до самого вечера. Почему бы не поделиться с нами?
Я стала краснее углей, тлеющих в жаровне, а Рамсес спокойно ответил:
— Мы обсуждали возвращение Нефертари во дворец.
Хенуттауи переглянулась с верховным жрецом Рахотепом.
— В самом деле? Неужели ей так тяжко пришлось у моей сестры?
— Отнюдь, — твердо заметил Рамсес. — Просто Нефертари принесет куда больше пользы во дворце, чем в храме Хатор.
Я посмотрела на Уосерит. Неужели это правда? И Рамсесу я нужна только потому, что могу быть ему полезна? Но Уосерит избегала моего взгляда.
— Значит, ты передумала стать жрицей? — уточнил Сети.
Я кивнула.
— Мне хочется поскорее вернуться в Малькату.
Сети откинулся в кресле.
— Тогда, вероятно, ты придешь завтра на прием в тронном зале? Через несколько дней мой двор переезжает в Аварис.
Я взглянула на Туйю, которая так и сидела с вытянутым лицом.
— Навсегда?
Фараон кивнул и закашлялся.
— Я сделаю Аварис столицей Нижнего Египта, — объяснил он. — Хочу жить поближе к северной границе, чтобы не спускать глаз с хеттов.
В ту минуту я поняла, как, наверное, нелегко было ему провожать своего сына в Нубию, а самому оставаться. Сети всегда хотел защитить Египет и наблюдать за его врагами, хотя сам и не мог уже выйти на поле битвы.
Сети дышал с присвистом, и Рамсес нахмурился.
— Для здоровья отца полезнее держаться подальше от такого большого и жаркого города, как Фивы. Это важнее всего.
— Я возьму с собой нескольких советников, — отмахнулся Сети. — И половину войска. Отплывем, пока не испортилась погода. — Глаза фараона остановились на мне. — Я надеюсь, ты придешь с ним попрощаться.
Рамсес положил руку мне на колено, и я улыбнулась.
— Обязательно, государь.
На обратном пути в храм я передала Уосерит, что сказал мне Рамсес, когда мы уходили из его спальни.
— Вещи соберем сегодня же: завтра нужно успеть к приему в тронном зале, — довольным голосом произнесла Уосерит. — Верно ли я понимаю, что вы с Рамсесом…
— Конечно же, они с Рамсесом! — воскликнула Алоли, заглушая плеск весел. — Посмотри на нее! Ведь у вас с ним было?..
Я кивнула, и Мерит подавила вздох.
— Прямо сегодня, госпожа?
— Не оставлять же любовь только богам, — сказала Уосерит. — Нефертари нужна Рамсесу сейчас, и потому он должен видеть ее перед собой и знать, за что ему предстоит бороться.
В мерцании масляного светильника я попыталась разглядеть выражение ее лица.
— Бороться?
— Предстоит борьба, и не только между моим братом и царицей Туйей. Алоли сидела за столом с придворными и слышала их разговоры.
— Обо мне? Что они говорили?
Алоли покачала головой.
— Лучше не повторять.
— А как вела себя Хенуттауи, ты и сама видела, — продолжала Уосерит. — Как только Рамсес заявит, что хочет на тебе жениться, верховный жрец разгневается еще пуще, ведь, по слухам, Рахотеп захаживает в покои моей сестры. И все же — мой брат любит Рамсеса и редко ему отказывает. Думаю, и на этот раз не откажет.
— Хенуттауи умеет убеждать, — заметила я.
— Но не так, как влюбленный мужчина.
— А если он меня не любит? Ты ведь слышала, что он сказал во время пира: во дворце от меня будет больше пользы, чем в храме.
Уосерит смерила меня долгим взглядом.
— Он говорит это, потому что хочет убедить отца. Фараон Сети привык считать тебя дочерью, но вот увидеть в тебе подходящую жену для фараона — дело совсем другое.
Я отвернулась к реке, чтобы никто не заметил моего разочарования.
— Как раз по тому, насколько упорно он будет за тебя бороться, ты и поймешь, сильно ли он тебя любит, — заметила Алоли.
— А если он бороться не захочет, значит, я того не заслуживаю.
Наша ладья подошла к пристани.
— Так постарайся заслужить, — посоветовала верховная жрица.
Мы прошли через врата храма, и Уосерит отправила целую толпу слуг укладывать мои вещи. Мерит велела нагреть мне воды для купания.
— Сейчас? — удивилась служанка.
— Конечно, сейчас. Не утром же! — буркнула моя няня.
Я лежала в ванне и старалась вспомнить все, что произошло в спальне Рамсеса. Мне хотелось вспоминать это снова и снова, сохранить в памяти каждую подробность… Мерит терла мне спину, а я рассказывала ей о событиях дня, от начала до конца. Выслушав меня, она тяжело вздохнула и прошептала:
— Теперь ты женщина, госпожа моя. А скоро… — Мерит зашмыгала носом. — Скоро уйдешь от меня к Рамсесу.
— Не плачь, мауат. Никогда я тебя не брошу. Даже ради сотни фараонов.
Мерит поморгала и задрала подбородок.
— Это слезы радости, а не горя. Царица Нефертари! Мать будущего фараона Египта.
Лежа в теплой воде, я вздохнула.
— Теперь нам не придется никого бояться. Ни верховного жреца, ни Хенуттауи. Если я стану царицей, даже Исет нам ничего не сделает.
Я встала, и Мерит протянула мне теплую простыню. Я целиком в нее закуталась, но все равно дрожала.
— Вдруг я не смогу родить ребенка?
— Кто тебе сказал? — зашипела Мерит. — Почему это ты не сможешь родить?
— Я маленькая.
— Таких женщин полно.
— Не таких же маленьких. И потом, моя мать умерла, рожая меня, — прошептала я.
— У тебя будет много детей. Столько, сколько захочешь.
Я накинула тунику. В туалетную комнату доносились голоса из спальни: мои вещи укладывали в привезенные из Малькаты сундуки. Я пробралась через полную слуг комнату и вышла на балкон — посмотреть на рощи. В лунном свете сикоморы напоминали худых сгорбленных старушек. Увижу ли я их снова? Я дрожала от холода.
— Госпожа! Что ты там делаешь? — завопила Мерит, увидев меня на балконе.
— Смотрю на рощи в последний раз.
Няня схватила меня за руку.
— Ты увидишь Египет в последний раз, если простудишься и умрешь. Ложись в постель! Тебе нужно выспаться.
Я бросила последний взгляд на рощи богини Хатор. «Это мои последние спокойные часы, — подумала я. — Любовь к Рамсесу принесет одни только неприятности».
— Госпожа будет почивать! — объявила Мерит служанкам. — Утром закончим.
Няня затворила за ними тяжелые двери и подошла к кровати.
— Ты стала женщиной! — снова сказала она, радостно глядя на меня.
Тефер свернулся клубочком у моей подушки.
Я рассмеялась.
— Я уже два года как стала женщиной!
— Женщина — еще не женщина, покуда… Быть может, через несколько месяцев мы будем готовить для тебя родильный покой, — гордо закончила Мерит.
Мерит ушла, а я лежала в постели и смотрела на потолок. Эти рисунки я видела, наверное, сотни раз, но теперь даже не могу ничего вспомнить. Такова наша память — то, что кажется ясным и незабываемым, в следующий миг рассеется, словно дым. Только мне не хотелось забывать то, что произошло между мной и Рамсесом, и я представляла себе это снова и снова, старалась запомнить его взгляд, запах кожи, запомнить, как я обнимала своими ногами его сильные ноги. Мне страстно хотелось быть с ним, и я надеялась, что он мечтает сейчас обо мне.
Спала я в ту ночь урывками, мне казалось, что утром я проснусь, и все окажется сном… Наконец сквозь тростниковые занавеси просочился молочный рассвет, я открыла глаза и увидела, что вещи уже уложены. Мерит улыбнулась мне из-за груды белья.
— Интересно, долго ли ты собираешься спать?
Я выбралась из кровати.
— Пора отправляться?
— Как только оденешься и причешешься. Думаю, Уосерит захочет с тобой поговорить.
В холодную погоду я одеваюсь быстро. Едва Мерит закончила укладывать мне волосы, в дверях появилась верховная жрица и обвела взглядом комнату.
Слуга забрали тяжелые сундуки, вынесли корзины с моими туниками, накидками и нарядами, расшитыми бусинами. Комната сделалась большой и пустой, наши голоса эхом отдавались от голых стен и высокого потолка.
— Слуги постарались, — одобрительно заметила Уосерит. — Ты готова ехать?
Мне вдруг сделалось страшно. Храм не стал для меня домом, но именно здесь я почувствовала себя взрослой, здесь меня научили быть настоящей царевной.
— Хочу попрощаться с Алоли, — сказала я. — И с другими жрицами.
— Успеешь. — Уосерит уселась, жестом пригласила меня последовать ее примеру и тут же негодующе заметила: — Надеюсь, на трон ты не сядешь, словно просительница, которая целый день простояла в приемном зале и только и мечтает бухнуться на первое попавшееся место и перевести дух.
Я встала и медленно опустилась на стул. Нога свела вместе, спину выпрямила, сложила руки на коленях и посмотрела на жрицу.
— Гораздо лучше. То, как ты сегодня во дворце усядешься в кресло, должно сказать о тебе не меньше, чем слова, что слетают с твоих уст. — Уосерит взмахнула рукой. — Осталось посадить Тефера в корзину и пойти прощаться. День предстоит тяжелый. Если Рамсес намерен сделать тебя своей женой, ему придется сразиться за тебя в тронном зале. Помнишь, что рассказывал Пасер про тронный зал?
— Тронный зал такой же, как Большой зал, но в нем только один стол, и там принимают просителей.
— А на возвышении стоят четыре трона.
— Для Рамсеса, фараона Сети, царицы Туйи и Исет.
— Когда ты станешь царицей, займешь ее место. Присутствия Исет на возвышении больше не понадобится.
Я сжала губы: изгнать Исет из тронного зала будет непросто.
— Разумеется, Рамсес не должен знать о твоем желании стать главной женой. Пусть он сам примет решение. Но если ты и станешь царицей, ему придется делить свое время между тобой и Исет. — Увидев выражение моего лица, Уосерит добавила: — Если ты его любишь, не осложняй ему жизнь. Рождение наследников престола куда важнее женской ревности.
Меня терзала боль, но я согласно кивнула.
— Я буду всегда веселой.
— И доброй, и приветливой, — добавила Уосерит.
Мы вышли из храма и подошли к пристани; тяжелые кедровые сундуки уже грузили на корабль Уосерит. Няня распоряжалась погрузкой, а я простилась со жрицами. Больше всех печалилась Алоли.
— С кем я теперь буду секретничать? — пожаловалась она.
— Будешь сбивать с пути какую-нибудь невинную жрицу, — отшутилась я и серьезно заметила: — Знаешь, спасибо тебе. За все.
Мы обнялись на прощание, а Мерит уже несла на корабль наш последний груз — мяукающего Тефера.
Стоя на корме среди корзин и сундуков, я помахала оставшимся на берегу жрицам.
Глава девятая
ТОЛЬКО СВАДЬБА
На озере в Малькате теснились высокие корабли фараона. Под реющими на ветру бело-голубыми флагами толпа слуг готовилась к отплытию: на борт корабля погрузили изваяние фараона, заботливо завернутое в полотно, и огромные сундуки, каждый из которых с трудом поднимали на шесты четверо носильщиков. Слуги, писцы, носители опахал, носители сандалий, даже посланники — все устремились в Аварис, откуда Сети будет править Нижним Египтом; Рамсес же останется в Фивах, чтобы править Верхним Египтом.
— А я думала, фараон объявит об отъезде только сегодня.
— Официально — да, — ответила Уосерит.
— Но придворные уже знают?
— Разумеется. Только ведь нужно еще сообщить народу. Мой брат сегодня в тронном зале сделает объявление, а писцы развесят новость на дверях каждого храма.
Уосерит приказала гребцам доставить мои вещи во дворец, а няня передала корзину с Тефером молоденькой служанке, которая обещала отнести его в покои, отданные мне верховной жрицей. Проходя через высокие врата Малькаты, Мерит шепнула:
— Перестань трястись.
Я крутила в руках завязки своего пояса.
— От тебя уже ничего не зависит, — добавила она. — Отныне все в руках богов.
Во дворце царило напряжение — словно все знали, о чем собирается говорить Рамсес и как отнесутся к этому сановники и верховная жрица Исиды. Придворные потихоньку поглядывали в мою сторону, а какая-то служанка даже опустила на пол тяжелую корзину с бельем и проводила нас взглядом. В приемной комнате рядом с тронным залом Уосерит распорядилась:
— Жди здесь, пока о тебе не объявит глашатай.
Мы уселись на скамью из черного дерева с ножками в виде лебединых голов.
— Сегодня есть просители?
— Нет, всех выпроводили. Мой брат займется своими делами.
— А Исет? — быстро спросила я.
Жрица презрительно фыркнула.
— Раз просителей нет, ей там делать нечего. Наверное, красит ногти или принимает ванну.
Уосерит потянула на себя тяжелую бронзовую дверь и оставила ее открытой. Я посмотрела на Мерит.
— Вот почему мы приехали так поздно, — прошептала она.
Уосерит удалось оказаться в приемной последней. Жрица оставила двери открытыми, чтобы мы слышали, что происходит в тронном зале. Лица стражников ничего не выражали. «Интересно, за бесстрастие страже тоже платят?» — подумала я и, не поднимаясь со скамьи, заглянула в дверной проем. Огромный тронный зал, именно такой, как описывали Пасер и Уосерит, поражал своим величием. Своды поддерживал целый лес колонн, за высокими окнами виднелись вершины холмов к западу от Фив.
Рамсес сидел между родителями. Ниже, за столом вместе с сановниками и почетными гостями, виднелось красное платье Хенуттауи. Жрица сидела к нам спиной. Вход в зал был виден только сидящим на возвышении, и только они могли заметить, что двери не закрыты. Однако сегодня никого не интересовало происходящее за пределами зала.
Сначала разговаривали все, и мы ничего толком не слышали. Наконец фараон стукнул об пол жезлом
[107], и наступила тишина. Всем сообщили, что фараон Сети и царица Туйя через два дня, в тринадцатый день месяца хойак, отбывают в Аварис. Затем фараон объявил придворному скульптору, какие изображения следует высечь на стеле у Карнака, чтобы люди знали о переезде двора Сети в Аварис. Сначала — флот фараона, причем сам фараон и царица стоят на носу корабля в золотых коронах. Следующая сцена — фараон стоит на причале Авариса.
Скульптор записывал пожелания фараона, и на минуту наступило молчание. Потом к Сети обратился Пасер:
— Государь, твой сын хочет высказать тебе просьбу.
Придворные заерзали, в наступившей неловкой тишине зазвенели золотые браслеты. Все знали, о чем намерен просить Рамсес, и Хенуттауи постаралась не пропустить приема в тронном зале. Рядом с ней я заметила леопардовую шкуру верховного жреца. Рахотеп сидел ко мне спиной, но я вполне представляла, как он ворочает своим красным глазом, как растягивает губы в улыбке гиены.
Рамсес поднялся с трона.
— Отец, — торжественно начал он, — через два дня ты отбудешь из Малькаты в дом своего отца — Пер-Рамсес. Пока ты здесь, хочу попросить твоего разрешения жениться на царевне Нефертари.
По залу стал растекаться шепоток. Я представила себе прекрасное лицо Хенуттауи, неподвижное, словно погребальная маска. Наверное, Рамсес смотрел на нее, когда произносил следующие слова:
— Я уже сделал своей женой Исет. И хотя я люблю ее, я также люблю и Нефертари. Царевна Нефертари прекрасно образованна, она знает восемь языков, и ее знания весьма пригодятся для управления страной. Она…
— Племянница Отступницы! — продолжила Хенуттауи.
Рамсес с жаром возразил:
— Это было много лет назад!
— Не так уж много, чтобы народ все позабыл. — Советник фараона Небамон вышел вперед. — Государь, для выбора достойной супруги одной любви мало.
— К счастью, Нефертари еще и умна — достаточно умна, чтобы сидеть на троне, — ответил Рамсес.
Придворные начали переговариваться, и фараон Сети поднял жезл и дважды ударил в пол.
— Небамон и Хенуттауи, вас мы услышали. Что скажет мой советник Анемро?
Анемро поднялся и почтительно сказал фараону:
— Я согласен с верховной жрицей Исиды. Если смотреть в будущее, то провозглашение царевны Нефертари главной супругой может поставить под угрозу само царствование фараона Рамсеса.
Верховный жрец Амона между тем хранил молчание.
Рамсес решительно продолжил:
— Что думает советник Пасер?
Пасер встал и был первым, кто высказался в мою защиту.
— Я не вижу никакой угрозы в том, что царевна Нефертари станет супругой фараона.
— И я тоже, — веско сказала Уосерит.
Наконец заговорил Рахотеп:
— Несмотря на то, что ее семья погубила моего отца и отвернулась от египетских богов? Неужели все забыто? В ее жилах течет кровь безбожников!
Фараон Сети снова ударил жезлом и произнес:
— Я считаю царевну Нефертари своей дочерью. Мне безразлично, какая кровь течет в ее жилах…
— Зато народу это не безразлично, — перебила брата Хенуттауи. Она уже поняла, что Сети разрешит Рамсесу жениться, и быстро сказала: — Пусть Рамсес хотя бы не торопится с выбором главной жены. — Хенуттауи повернулась к Рамсесу, и теперь я видела ее лицо. — Посмотри сначала, как примет твою женитьбу народ. Подожди до окончания свадебной церемонии — ради своего мирного и долгого правления.
— Я опасаюсь мятежа, — добавил Рахотеп.
— Подожди, — повторила Хенуттауи, — и тогда, если ты пожелаешь объявить ее главной супругой вместо Исет…
— Почему «вместо Исет»? — быстро спросил Рамсес.
— Если ты пожелаешь объявить главной супругой ее, а не Исет, — поправилась Хенуттауи, — отпразднуем сразу два события.
Фараон Сети вздохнул.
— Выбор главной жены можно отложить. Но что думает обо всем этом сама Нефертари? Надеюсь, ты не намерен жениться на ней против ее воли?
— Позови ее, — предложил Рамсес, — и она скажет сама.
Я посмотрела на Мерит, и няня стала поспешно поправлять мой парик. Увидев, что дверь открыта, глашатай взглянул на стражников, потом на нас. Мы быстро встали.
— Тебя ожидают в тронном зале, — сказал он.
Мы миновали огромные бронзовые двери и вошли в зал, размеры которого повергали в трепет. Даже искусный макет, что показывал мне Пасер, не передавал истинного величия этого помещения. Здесь, вместе с Нефертити, сидела моя мать, когда ей было столько лет, сколько мне сейчас, и позже — когда правила вместе с фараоном Хоремхебом. Я разглядывала блестящие плиты, высокие сводчатые потолки, рисунки на колоннах, изображающие победы предыдущих фараонов. Вокруг досок для игры в сенет стояли кресла из черного дерева, инкрустированные слоновой костью. Я представила себе, как здесь рассаживаются придворные, разговаривают, смеются, всегда готовые развеселить фараона, если он заскучает.
Мы вошли в зал под пристальными взглядами Хенуттауи и Уосерит. Как только мы приблизились к трону, возбужденный шепот среди придворных стал громче. Придворные облепили возвышение так, что оно стало похоже на виноградную гроздь. Мы почтительно простерли к фараону руки и поклонились. Выпрямившись, я встретилась взглядом с Рамсесом.
— Приветствую царевну Нефертари, — улыбнулся фараон Сети. — Итак, ты вернулась в Малькату, чтобы выйти замуж за Рамсеса. — Сети подался вперед. — Скажи мне, ты сама-то этого желаешь?
Я закрыла глаза и, кивнув, прошептала:
— Больше всего на свете.
— Ты уверена? Мой сын умеет убеждать. Если ты боишься задеть его чувства, признайся честно — он стерпит.
— Ему ничего не придется терпеть, кроме моей сильной любви.
— Как славно! — Хенуттауи захлопала в ладоши. — Если мы не найдем исполнительницы для представления в честь бога Осириса, будем знать, к кому обратиться.
— Это не представление, — твердо сказала я.
Что-то в моем голосе заставило фараона Сети выпрямиться и пристально взглянуть на меня. Я надеялась, что по моим глазам он поймет: я говорю серьезно.
— Пусть они поженятся, — махнул рукой Сети, и я с облегчением выдохнула.
Рамсес шагнул с помоста вниз и крепко взял меня за руку. Это не сон! Мы поженимся!
— Подумай, брат мой, что скажет народ! — пронзительно крикнула Хенуттауи. — Подумай, что ты делаешь!
— Коронации не будет, — уступил Сети. — До поры. Только свадьба.
Уосерит спросила:
— Чем тебе не угодила царевна, Хенуттауи?
Хенуттауи ответила с пугающей лаской в голосе:
— Наверное, она слишком честолюбива и хитра. Умница Нефертари, которая была гусеницей, а теперь вдруг превратилась в бабочку.
— Довольно! — не выдержал фараон и посмотрел на верховного жреца. — Я желаю, чтобы они сочетались браком до моего отъезда в Аварис. Приготовьте все, как полагается.
Рахотеп шагнул вперед, отразив лысиной полуденное солнце, и спросил:
— За два дня? Быть может, государю лучше дождаться благоприятного месяца фармути?
«Когда Исет родит ребенка», — подумала я.
— Свадьба будет завтра, — сказал Рамсес. — Если в храме Амона подготовиться не успеют, то успеют в храме Хатор или Исиды.
Верховный жрец слегка побледнел.
— В храме Амона все будет готово, государь.
Придворные загомонили, но Сети поднялся и стукнул жезлом.
— Я объявляю следующее: завтра состоится свадьба фараона Рамсеса и царевны Нефертари.
Тут впервые подала голос царица Туйя:
— Я не понимаю, к чему нам так спешить!
— Потому что если не завтра, то когда же? — спросил Сети. — Когда богам будет угодно вновь увидеть нас в Фивах? Или ты предлагаешь пропустить свадьбу нашего сына?
Пальцы Туйи сжали ошейник Аджо.
— Думаю, это будет не единственная его свадьба, которую мы пропустим.
— Наверное, так. Но мы не можем пропустить его свадьбу с египетской царевной.
Туйя с несчастным видом откинулась на спинку трона, опустила руку на голову Аджо, и песик радостно завилял хвостом.
— И она покажется народу? — спросила Хенуттауи. — Если Нефертари станет царицей, ей придется пройти по городу, чтобы показаться своим подданным.
Уосерит посмотрела на брата.
— Нефертари можно с этим не спешить.
— Почему же? — Сети нахмурился. — Пусть привыкают видеть ее рядом с Рамсесом.
Меня переполняло счастье, и я не сразу поняла, какую западню устроила мне Хенуттауи.
Обсуждение закончилось; мы вышли из зала, и Рамсес обнял меня.
— Завтра в тронном зале ты будешь сидеть рядом со мной, и никто не посмеет сказать против тебя ни единого слова.
Я была наивна, полна надежд и верила ему, хотя и знала, что думают придворные: раз в моих жилах течет кровь моей тетки, то на троне окажется еще одна вероотступница.
К нам подошла Мерит. Лицо у нее так и сияло.
— Поздравляю тебя, государь. Амон обязательно благословит ваш союз.
— Спасибо, няня. Я хотел бы взять Нефертари с собой — смотреть состязания на арене. Как ты думаешь?
— Да когда же мы все успеем?! — закричала Мерит.
Рамсес засмеялся; он, ясное дело, и не ждал, что моя няня согласится.
— Нужно заняться и нарядом, и париком, нужно краску малахитовую…
— Похоже, меня не отпустят.
Рамсес обнял меня за талию и тихонько спросил:
— Можно, ночью я приду к тебе?
На нас смотрели придворные, но я заставила себя не оглядываться. «На нас всегда будут смотреть, — сказала я себе. — Мне не придется наслаждаться его поцелуями, когда я захочу. На нас будут смотреть тысячи глаз, и к этому нужно привыкнуть. Такова цена любви фараона».
— Конечно, приходи.
Я шла по залам вместе с няней и Уосерит, и нас провожали сотни глаз, в том числе и глаза Хенуттауи. Я широко улыбалась. Будь я простолюдинкой, что выходит замуж за сына какого-нибудь земледельца, мои родные никогда бы не позволили будущему мужу забраться ко мне в постель, покуда он не перенесет меня на руках через порог своего дома. Но Рамсес — фараон. Он поступает, как хочет. Приходя в мои покои до свадьбы, он показывает всему двору, что не следует упускать ни единой возможности поскорее зачать со мной наследника.
Глава десятая
СВАДЬБА ФАРАОНА НАЧИНАЕТСЯ НА ВОДЕ
В тот вечер в Большом зале собрался весь двор, чтобы посмотреть на гусеницу, ставшую бабочкой. Всем хотелось увидеть племянницу царицы-еретички, девушку, которую Рамсес решил взять в жены.
Слуга провел меня вдоль большого натертого до блеска стола на помосте и усадил между Рамсесом и Уосерит. Исет расположилась рядом с царицей Туйей. Исет не хватило разума притвориться веселой, и мне стало ее жаль. Ей бы торжествовать, ведь она носит первенца Рамсеса, а она сидела с кислым, как лимон, видом. Может, Рамсес оказался не таким мужем, как ей хотелось? Исет любит изысканные драгоценности, отороченные мехом наряды… что у нее общего с Рамсесом? В отличие от Исет, которая сидела мрачнее тучи, Хенуттауи была на высоте. Над ее остротами все смеялись, а как только жрица заметила меня, то весело объявила:
— Вот и наша бабочка!
Рамсес, однако, уловил в ее голосе насмешку.
— Нефертари и впрямь словно бабочка, — заметил он. — Целый год пряталась, а потом выпорхнула — и оказалась еще прекраснее и мудрее.
— Когда Нефертари сообщила мне о своем решении стать жрицей Хатор, я огорчилась, что в Фивах ей не нашлось места. — Уосерит повернулась к сестре. — А теперь место для нее все-таки нашлось, да еще и самое высокое.
Улыбка Хенуттауи угасла Рахотеп тоже был сильно уязвлен.
— Давайте поднимем чаши, — сказала Уосерит. Она подняла свою, и все за столом последовали ее примеру. — За царевну Нефертари!
— За супругу фараона! — подхватил Анемро, а я подумала: «За которую?»
— Будем надеяться, что текущая в ее жилах кровь безбожников не даст себя знать.
На этот раз Хенуттауи зашла слишком далеко. Сети крепко сжал чашу.
— Из Нефертари такая же безбожница, как из тебя. Не сомневаюсь, что в тронном зале она будет принимать верные решения. Пусть народ ее не слишком любит, зато она уж точно не глупа!
Все присутствующие понимали, на кого намекает фараон, но взглянуть в сторону Исет никто не посмел.
Царица Туйя покачала головой, а Рамсес с негодованием произнес:
— И еще: Нефертари — моя супруга!
Фараон Сети больше ничего не сказал.
Вскоре принесли блюда с дымящейся жареной утятиной.
Рамсес повернулся ко мне:
— Прости, что так вышло.
Я улыбнулась так, как Уосерит учила меня улыбаться, когда нужно скрыть разочарование, и сказала:
— Наверное, все ждут твоего слова.
Рамсес взглянул на отца, тот кивнул, и Рамсес поднялся. В зале воцарилась тишина.
— Это празднество посвящается фараону Сети Великому, возлюбленному сыну Амона и завоевателю многих земель.
Присутствующие разразились приветственными криками. Рамсес произнес:
— Да хранят вас боги на пути в Аварис, как сохранят они радостный союз, который мы заключим перед вашим путешествием.
Среди колонн возобновились радостные возгласы, ибо со стороны придворных было бы глупо вести себя иначе. «Многие ли, — думала я, — столь же "искренни", как верховный жрец Амона? У скольких из них отцы и деды убиты по приказу Эхнатона и Нефертити?»
Крики еще не смолкли, когда Сети склонился ко мне и прошептал:
— Я подвергаю тебя опасности, но в целом Египте я никого больше не желал бы видеть на троне рядом с моим сыном. Знаешь, будь Пили жива, у нее тоже сейчас пришла бы пора замужества. Вы плыли бы в свадебных ладьях, как две сестры.
Сети погладил мою руку, и я поняла, почему он всегда был со мною так ласков.
— Спасибо. Я постараюсь тебя не разочаровать.
Я положила ладонь поверх его руки.
Фараон улыбался, но не мне. Его взгляд устремился вдаль; гораздо позже я поняла, что свадьба сына была для него событием не только радостным, но и печальным. Любой отец в таких случаях думает о счастливом будущем и одновременно вспоминает о тех родных, которые не могут в этот день радоваться вместе с ним. Когда сын готов дать жизнь своим наследникам, заставляя гончарный круг Хнума вертеться все быстрее, старый отец начинает понимать, что его собственный круг отныне замедляет ход. Но тогда я была слишком юной и не думала о таких вещах.
У двери в мои покои стоял Аша. Руки он сложил на груди, и при свете факелов я попыталась разглядеть, не сердится ли он. Увидев нас, Аша выпрямился. Уосерит из деликатности скрылась вместе с няней в моей спальне.
— Аша, — неуверенно начала я — Жаль, мы не встретились в Большом зале.
— К тебе было не подойти. Придется к этому привыкнуть.
Словно огромный камень упал у меня с плеч. Аша шагнул навстречу, обнял меня; я сделала то же самое.
— Я так рад за тебя!
— Ты же говорил…
Он кивнул.
— Я только потом понял, как сильно ты ему нужна.
От этих слов я вздрогнула. Рамсес меня любит — или я ему нужна?
— Все равно ты избрала опасный путь. Фараон Сети желает, чтобы завтра ты показалась народу. Рамсес перед избранием главной супруги должен посмотреть, как тебя примут люди. Женщин в гареме полно.
— Если ты хочешь меня обидеть…
Аша схватил меня за руку.
— Нефертари, я лишь говорю тебе правду. Жизнь фараонов протекает за стенами дворца, а я знаю, как живет народ. Я слышу, что говорят люди. Завтра тебе нужно поостеречься.
В его глазах я увидела тревогу и кивнула.
— С нами будут стражники.
— Так пусть их будет побольше. Десятка два, самое малое — что бы там ни говорил Рамсес.
— Неужели народ настолько зол? — прошептала я.
— Не знаю. Многие до сих пор помнят… — Аша не договорил. — И Нил не разливается уже четыре года… Говорят, в бедных кварталах людям нечего есть. Если к концу месяца река не выйдет из берегов, нас ждет голод, и народ станет искать виноватых.
У меня от лица отлила кровь.
— Не меня же?
— Просто будь начеку.
— Буду, — пообещала я.
Мы расстались, и я ушла к себе. В мягком свете углей лицо Уосерит выглядело нежным и прекрасным.
— Что сказал Аша?
— Он беспокоится по поводу завтрашнего дня.
— Хорошо иметь такого друга. Я не всегда буду рядом, не всегда смогу тебе помочь, и потому следует различать, кому можно верить, а кому нельзя. Как только ты станешь супругой Рамсеса, ни один человек в Фивах не скажет тебе правды.
— А Мерит? — возразила я.
— Да, Мерит передаст тебе подслушанные сплетни, но кто, например, предупредит о готовящемся заговоре? Кто расскажет об интригах вокруг трона?
Мне вспомнились слова Сети о том, что меня ждут опасности.
— В те ночи, когда Рамсес будет у Исет, приходи поговорить с Пасером. Уж он расскажет правду о том, что происходит в Фивах. А я постараюсь всегда быть рядом.
На стены спальни ложился свет тлеющих в жаровне углей. Стоя здесь, в бывших покоях Уосерит, в ее роскошном плаще, я опять задумалась — почему она так много для меня делает? Жрица вынула из-за пояса маленькую статуэтку богини Хатор.
— Положи себе под подушку, и богиня поможет тебе зачать.
— Спасибо.
Я погладила пальцем лицо богини. Статуэтка из черного дерева изображала богиню с такой же высокой прической, какую носила Уосерит, — с небольшими рогами и солнечным диском.
— Завтра тебе понадобится много сил. Укрепи свой дух.
Уосерит обняла меня.
Едва дверь за жрицей закрылась, Мерит выскочила из своей каморки и бросилась ко мне.
— Ты уже решила, чем умастить волосы?
Я покачала головой.
— А чем кожу умастить?
— Не знаю.
— Так поторопись. Фараон сейчас придет!
Я поспешила в туалетную комнату и выскользнула из туники, а Мерит наполнила ванну горячей водой.
— Что тебя беспокоит, госпожа? Завтра твоя свадьба, и все будет позади.
Мерит попробовала воду рукой и сделала приглашающий жест.
— Аша сказал — нужно быть готовыми ко всему, — сообщила я.
От света ламп по воде плыли радужные пятна. Шагнув в ванну, я почувствовала запах лотосового масла, которое няня добавила в воду.
— К чему это «ко всему»? — спросила Мерит, намывая мне волосы.
— Нил уже четвертый год не
разливается… а вдруг обвинят меня?
— Что ты такое говоришь? Ты — египетская царевна, но не всемогущая богиня. Думаю, люди понимают разницу.
Когда я выкупалась, Мерит помогла мне вытереться и протянула чистую тунику. Пока няня меня причесывала, я разглядывала свое отражение в зеркале. Потом достала сосуд с притираниями, за которыми Мерит ходила на рынок на другой конец Фив, умастила руки и ноги.
В дверь постучали. Мерит яростно прошипела:
— Быстрее!
Я улеглась на кровать, расправила волосы по белому полотну. Няня отворила дверь, а я затаила дыхание — вдруг все это лишь сон?
— Здравствуй, государь! — Мерит низко-низко поклонилась.
— Здравствуй, Мерит.
— Царевна ждет тебя. — Няня сделала жест в сторону кровати, потом, уже в дверях своей комнаты, громко сказала: — Доброй ночи, царевна.
Едва дверь закрылась, Рамсес посмотрел на меня, и мы рассмеялись. Я прошептала:
— Будет всю ночь сидеть под дверью.
— Как и полагается хорошей няне, — ответил Рамсес. — Вдруг ты закричишь или захочешь убежать?
Он приблизился к ложу.
Я сняла с его головы немес и запустила пальцы в волосы.
— Ведь однажды ты уже убежала, — тихо добавил он.
В глазах у него мелькнула печаль, и у меня сжалось сердце.
— Но сейчас я здесь. — Туника мягко соскользнула у меня с плеча. — Я с тобой навсегда.
— Больше я тебя не отпущу.
На следующее утро мы с Рамсесом вышли из его покоев и вместе пошли к озеру. Приветственные крики придворных, ожидавших нашего появления, услышали, наверное, даже сами боги. Рамсес держал меня за руку, нас окружали сановники фараона Сети, которые безостановочно говорили и улыбались, словно всегда поддерживали этот брак. Хотя Исет сослалась на плохое самочувствие и осталась во дворце, остальные не замедлили явиться. Даже царица Туйя выдавила улыбку. Ее тщедушный ивив скалил зубы и тихонько рычал.
— Здравствуй, Аджо, — весело сказала я.
При мысли, что мне больше не придется его видеть, я улыбнулась.
Сегодня будет сразу два празднества — свадебное и прощальное, — и фараон Сети вместе со своим двором отплывет в Аварис. Отныне Рамсес будет сидеть в тронном зале без отца и один править Верхним Египтом. Стареющий фараон Сети станет царем Нижнего Египта, и ему придется тратить меньше сил. Такое решение приняли много лет назад; хотя Рамсес всегда знал, что этот день наступит, стоило ему посмотреть на озеро, с губ его исчезала улыбка. Флотилия фараона закрывала собой весь горизонт. Словно объевшиеся цапли, покачивались ладьи, наполненные бесценными сокровищами Фив: статуи черного дерева, гранитные столы, паланкины с ножками в виде львиных лап. Многие цари предпочитают оставаться в одном городе со своими соправителями, заседать в одном тронном зале, но Сети захотелось жизни попроще. В Аварисе ему придется решать меньше тяжб, его летний дворец ближе к морю, и там нет такой изнуряющей жары, что терзает Фивы почти круглый год.
Придворные собрались на пристани; у причала уже стояла маленькая золоченая ладья — в ней поместятся только трое: я, Мерит и гребец. Как только фараон Сети даст разрешение, мы поплывем в карнакский храм, что неподалеку отсюда. А за нами поплывет в золоченой ладье Рамсес вместе с родителями, и грести будет один-единственный воин из войска фараона: Аша. Позади на красиво расписанных лодках поплывут придворные. Как-то раз я спросила Мерит, почему свадьба фараона начинается не на земле, а на воде, и она ответила, что, мол, Египет рожден из вод Нуна
[108], и раз вода дала нам такую плодородную землю, то она сделает плодовитым и союз людей.
В ожидании благословения от Сети я стояла на пристани — от Рамсеса меня отделяли сотни людей в белоснежных нарядах и лучших золотых украшениях. Пронзительно загудели трубы; фараон начал говорить. Мне не было слышно, но я знала, что он дает благословение на отплытие. Мерит взяла меня за руку и повела в лодку, помогла сесть и расправила подол моей накидки так, что казалось, будто я сижу в цветке лотоса.
Няня уселась рядом, прямая и строгая — ни дать ни взять Пасер. Я хотела о чем-то ее спросить, но Мерит решительно покачала головой. Сердце мое пело от радости, однако нужно было изображать молчаливую невесту, трепетно идущую навстречу судьбе. Оглядываться тоже не полагалось — не хватало еще походить на утку, которая тянет шею и крутит по сторонам головой. Я смотрела только вперед. Наша лодка вышла из озера в воды Нила. На берегах собрались тысячи людей, всем хотелось посмотреть представление: царский двор плывет под золотыми знаменами фараона. Когда замуж выходила Исет, народ кричал ей приветствия, а теперь все стояли тихо.
Мы с Мерит обменялись тревожными взглядами. Казалось, кто-то взял огромный кусок толстого полотна и натянул между нами и берегом. До реки долетали только отдельные крики детей. Мерит строго посмотрела на гребца.
— Что болтают в Фивах?
— В Фивах? — переспросил он.
— Да. Что говорят про Нефертари? Не бойся ее напугать: она уже знает, что ее называют племянницей безбожницы. Лучше скажи правду — мы хотим знать, чего нам ждать.
Парень посмотрел на меня с жалостью.
— Госпожа, когда вчера фараон Рамсес объявил о свадьбе с царевной, пошли толки, что это из-за нее столько лет в стране голод. — Гребец покачал головой. — Говорят, она приносит Фивам несчастье. Ее акху сильно разгневали богов, и если фараон на ней женится, то боги совсем отвернутся от Египта. Я не хотел тебя обидеть, царевна.
Чтобы справиться с неожиданно накатившим головокружением, я крепко вцепилась в борта лодки. Люди на берегу смотрели на нас злобно, тишина была угрожающая. Чего они ждали? Что Рамсес передумает жениться?
Наконец мы вошли в бухточку перед крыльцом храма. Навстречу вышел молодой жрец и помог мне выбраться из лодки. Вокруг собралась толпа жриц, они запели и зазвенели длинными бронзовыми систрами. Жрицы повели нас к воротам, и под звон систров мы прошли во внутреннее святилище, где я поднялась на помост и стала ждать Рамсеса. Он вошел, и наши глаза встретились. Передо мной возник верховный жрец, взял с алтаря сосуд с маслом, поднял его над моей головой и произнес:
— Именем Амона соединяю царевну Нефертари, дочь царицы Мутноджмет и полководца Нахтмина, с фараоном Рамсесом.
Я украдкой глянула на придворных, толпившихся в святилище. Верховный жрец приблизился к Рамсесу.
— Именем Амона соединяю фараона Рамсеса, сына фараона Сети и царицы Туйи, с царевной Нефертари.
На немес пролились капли масла, и фараон затаил дыхание. Оставался еще один обряд. Рахотеп вынул из складок одежды золотое кольцо с черным камнем. Рамсес надел его на мой безымянный палец — ведь именно от этого пальца кровь течет по жилам к сердцу. Теперь у меня было два кольца: на одном — символ моей семьи, на другом — написанное иероглифами имя Рамсеса. Надев кольцо мне на палец, фараон «замкнул» мое сердце. Словно символ вечности — значок «шен»
[109], не имеющий ни начала ни конца, — мы стали единым целым.
Верховный жрец объявил:
— Амон благословляет ваш союз!
Рамсес высоко поднял мою руку, а придворные продолжали радоваться — они изображали бы ликование, женись Рамсес хоть на Аджо.
— Ты готова? — спросил Рамсес.
Нам предстояло выйти из храма, пройти по городу и сесть в лодку за рыночной площадью. Такое путешествие фараон совершает только в день свадьбы. Я кивнула, и Рамсес повел меня вперед, крепко держа за руку.
Снаружи стоял оглушительный шум. Жрицы Исиды играли на тамбуринах, а жрицы Хатор исполняли песнопения. Так мы миновали храмы Карнака и вошли в город. На улицах толпились тысячи людей, но с растущим страхом я видела — только некоторые из них машут пальмовыми ветвями и приветствуют нас.
Мы миновали рыночную площадь, и рядом с шумной процессией молчание народа стало еще заметнее. Рамсес поднял руку, в которой держал мою ладонь, и торжествующе объявил:
— Вот царевна Нефертари!
Придворные позади нас подхватили этот крик, но старухи на улицах безмолвно взирали на меня, скрестив руки на груди. Какая-то женщина выкрикнула:
— Еще одна царица-безбожница!
— Безбожница! Безбожница! — пронесся крик по площади.
— Прекратить это! — сердито потребовал Рамсес.
Стражники окружили нас плотным кольцом, но толпа уже вошла в исступление. Даже дети, которые не понимали, что кричат, украдкой смотрели мне в лицо и вопили:
— Царица-еретичка!
Жрицы запели громче, стараясь заглушить крики, но им не удавалось. Рамсес приказал бы разогнать вопящую толпу, однако тут были старухи и дети.
— Возвращаемся к лодкам, — велел он.
Мы отчалили. Рамсес обнял меня, а я не переставала дрожать, вспоминая жуткие лица женщин в толпе. Девушки из моей свиты плакали, закрыв лица руками.
— Подобного еще не бывало! — заявила Хенуттауи.
Царица Туйя промокала глаза платком, из груди у нее вырвалось рыдание.
Глядя Рамсесу в лицо, я первой сказала суровую правду:
— Ты не сможешь сделать меня главной женой.
— Они станут думать по-другому, — пообещал Рамсес. — Как только узнают тебя…
Тут он глянул на отца и замолчал.
— Нас ждет пиршество, — напомнила Уосерит. — Ведь у нас праздник!
Но ее попытка не удалась; следовавшие за нами придворные плыли в молчании.
В Большом зале веселый смех слуг и уютное потрескивание углей в жаровнях не вязались с настроением придворных. Зал наполнился запахами жареной дичи и вина, заиграли музыканты. Фараон Сети как ни в чем не бывало поднялся на помост, я села за стол рядом с Рамсесом. Придворные свое дело знали: скоро началось веселье и танцы. Девушки осушили слезы, подкрасили лица. Страхи остались позади.
Фараон Сети взял меня за руку.
— Ты все сделала правильно, — сказал он. — Откуда им знать, что ты мне родное дитя, как и Рамсес.
Я в смущении опустила голову. Сегодня — последний день царствования Сети, и, вместо того чтобы торжественно отплыть из Фив, он будет все время думать — а не начнется ли вот-вот мятеж? Тут я заметила, что, хотя придворные заняли места, наш стол на помосте все еще пустовал.
— А где же Уосерит и Хенуттауи? — спросила я.
Рамсес проследил за моим взглядом.
— И где советники? — Он поднялся с трона и обратился к отцу: — Они собрались в другом месте?
Фараон Сети покачал головой.
— Завтра этот город станет твоим. Что ты намерен делать?
Рамсес взял меня за руку, и мы стремительно пересекли Большой зал. Придворные поспешно уступали нам дорогу. Рамсес распахнул дверь в тронный зал. Происходивший там разговор немедля смолк. У возвышения собрались советники и полководцы, среди них — Аша со своим отцом. Там же стояли верховные жрицы — Уосерит и Хенуттауи. Уосерит послала мне ободряющий взгляд.
— Что это значит? — промолвил Рамсес.
— Государь, — начал Рахотеп, — ты знаешь, почему мы здесь собрались.
— За моей спиной? — Рамсес посмотрел на Ашу.
— Народ против Нефертари, — веско сказала Хенуттауи. — Как я и предупреждала.
— А кто правит страной? — гневно спросил Рамсес. — Народ или я?
— Когда ты женился на Исет, — быстро продолжала Хенуттауи, — народ не возмущался. Тогда никто не кричал «царица-еретичка».
— Исет по городу не водили, — парировала Уосерит. — А для Нефертари ты настояла на процессии.
Хенуттауи повернулась к сестре и стала похожа на львицу, нападающую на свою товарку.
— По-твоему, все подстроила я?
— Не знаю, — спокойно ответила Уосерит. — Сколько ценностей, пожертвованных храму, пришлось тебе продать, чтобы подкупить людей?
Вперед шагнул Пасер.
— Дайте народу время. Ведь люди не видели царевну в тронном зале. Она мудра и справедлива.
Хенуттауи ласково улыбнулась, и я поняла: сейчас скажет какую-нибудь колкость.
— Советник Пасер что угодно скажет, лишь бы угодить моей сестре! — едко произнесла жрица. — Прислушайтесь же к голосу разума!
Я положила ладонь на руку Рамсеса и кивнула.
— Это верно.
Все, потрясенные, повернулись ко мне. Даже Уосерит смотрела на меня с каким-то странным выражением. Но я подумала о той ненависти, с которой столкнулась на улицах города. Даже если Хенуттауи заплатила женщинам, они и так уже были достаточно злы, раз посмели поднять голос против фараона.
— Вспомните, что случилось при Эхнатоне, — сказала я.
— С выбором главной супруги следует подождать, — заявил Рахотеп. — В этом нет беды.
— Сколько подождать? — спросил Рамсес.
Полководец Анхури, отец Аши, выступил вперед.
— Если фараон не выберет главную жену, кто будет сидеть рядом с ним в тронном зале? Кто будет принимать просителей?
— Поставим два трона — с двух сторон от царского, — предложил Рахотеп.
Советники недовольно загомонили.
— Два трона рядом с царским? — воскликнула Уосерит. — И у обеих супруг простые диадемы сешед?
— Народ и так разгневается, увидев меня рядом с Рамсесом, — скрепя сердце сказала я.
Взгляда Уосерит я избегала.
Хенуттауи тут же воспользовалась преимуществом.
— Дай себе время подумать, Рамсес. Пусть в тронном зале будет три трона. Пусть каждая из твоих супруг принимает просителей.
— Тогда кого считать наследниками фараона? — спросила Уосерит. — Детей Исет или детей Нефертари?
— Детей Нефертари, — твердо ответил Рамсес.
— Если народ ее примет, — вставила Хенуттауи.
Рамсес посмотрел на меня. Я не возражала.
— Подождем, — решил он. — При дворе и так всем понятно, из кого выйдет настоящая царица.
— Ты все делала правильно, — спокойно сказала Мерит.
Служанки наполнили для меня ванну теплой водой и удалились. Я села в воду и обхватила руками колени.
— Видела бы ты сегодня людей, — прошептала я.
— Я видела, госпожа. Все не так уж страшно.
— Их лица были полны такой ненависти…
На глазах у меня выступили слезы.
В дверь коротко постучали — так обычно стучат слуги.
— Можно войти, — сказала я, не оглядываясь, и продолжила: — Даже Пасер хорошо ко мне относится только благодаря Уосерит; ты это знаешь не хуже меня.
— Ты себя недооцениваешь.
Мы с Мерит обернулись: в темном дверном проеме стояла Уосерит.
— Пасер вряд ли захотел бы видеть на троне такую глупую женщину, как Исет, даже не будь он в меня влюблен.
Глядя на изумленное лицо Мерит, жрица рассмеялась.
— Это давно не тайна.
Я вышла из воды и, завернувшись в простыню, подошла к жаровне.
— Нефертари спрашивала, почему я помогаю ей стать старшей женой. — Уосерит уселась в самое большое кресло. — Я делаю это не только для нее, но и для себя. Я не просто боюсь, что Хенуттауи станет самой богатой в Фивах, я еще опасаюсь, что из ревности она способна на все.
— Из-за чего ей ревновать? — удивилась Мерит.
— Из-за того, что меня первой захотели взять в жены.
— Пасер? — догадалась я.
Жрица кивнула.
— Он попросил моего отца отдать меня ему в жены. Нам было по семнадцать лет, и мы вместе учились в эддубе. Его тогда уже прочили в советники. Хенуттауи узнала, что он собирается на мне жениться, и пришла в ярость. Ее руки добивались сотни, но она не могла вынести, что кто-то есть и у меня. Хенуттауи пошла к отцу, упросила не позорить ее, выдавая замуж младшую сестру прежде старшей. Он спросил, есть ли у нее кто-нибудь на примете, и она назвала Па-сера!
— Она же могла выйти за кого угодно! — воскликнула я. — Даже за иноземного царевича.
— Египет не выдает своих царевен за чужестранцев, — напомнила Мерит.
— Ну так за сына сановника или богатого купца. Или за царевича, который согласился бы поселиться в Египте.
— Это верно. Моя сестра была очень красива — как и теперь. Когда Хенуттауи сказала, что хочет выйти за Пасера, мой отец позвал его и спросил, кого выбирает он.
— Пасер выбрал тебя!
— Да. Он сказал об этом фараону, а Хенуттауи поклялась, что вообще не выйдет замуж.
— Значит, тебе тоже нельзя?
Мерит зацокала языком.
— Как жестоко!
— Если Исет станет главной супругой, то Хенуттауи не оставит нам с Пасером никакой надежды. А если это будешь ты, тогда можно рискнуть…
От прямоты Уосерит меня передернуло. Я — словно фигурка для игры в сенет, которую она натерла до блеска и двигает по доске так, как нужно ей. Мои переживания отразились на лице, и Уосерит сказала:
— Если бы ты мне не нравилась, я ни за какие блага не предложила бы Рамсесу сделать тебя главной женой. Есть вещи гораздо важнее того, выйду я замуж или нет: мир в стране, мудрая царица на троне. Ты получишь то, чего хочешь; быть может, и мои желания исполнятся. Если мы сумеем помочь друг другу…
— Но твой отец умер, — возразила я. — Отчего бы тебе теперь не выйти замуж?
— И уйти из храма? Зачем? Ведь если главной женой выберут Исет и мы с Пасером поженимся, что с ним будет, когда не станет моего брата?
— Хенуттауи и Исет удалят его от двора, и он все потеряет.
Уосерит кивнула.
— Почему ты раньше об этом не рассказывала?
— На тебя и так много всего свалилось. Зачем тебе нести еще и тяжесть моей судьбы? Первый твой долг — перед Рамсесом, второй — перед народом.
Я посмотрела на Мерит. Няня уже знала, о чем я собираюсь спросить.
— Как ты думаешь — они могут из-за меня взбунтоваться?
Уосерит не стала меня обманывать.
— Всякое возможно. Особенно если Нил не разольется. Что говорит Рамсес?
— Он опасается, — прошептала я.
— Понятно. Никогда даже не упоминай о желании стать главной женой. Он решил отложить решение. Так пусть Исет жалуется и отвращает его от себя. А ты будь терпеливой, молчи — и он полюбит тебя еще сильнее.
— А решение? — спросила Мерит.
— Все зависит от того, как скоро Нефертари сумеет расположить к себе народ — мудростью и справедливостью. Фараон Сети завтра отбывает. В Фивах будет править только фараон Рамсес. Нефертари должна заработать себе славу мудрой царевны.
— Я создаю угрозу для Рамсеса. Правильно ли я вела себя сегодня в тронном зале?
Уосерит помедлила.
— Ты помешала Рамсесу совершить безрассудство — объявить тебя главной женой. Ты поставила благо Египта и фараона превыше собственного. — Уосерит грустно улыбнулась. — Ты его и вправду любишь.
Я кивнула. Я и вправду любила Рамсеса, и, в конце концов, такая любовь чего-то стоит.
Позже, ночью, Рамсес пришел ко мне, и Мерит ушла в свою комнату.
Фараону нечего было сказать. Он обнял меня, погладил по голове.
— Жаль, что так вышло, — шептал он снова и снова. — Мне очень жаль.
— Все хорошо, — ответила я, но мы оба в это не верили.
В день, когда весь Египет должен ликовать, люди выказывали сильнейшую озлобленность, восстали против царской стражи, чего не случалось со времен Эхнатона.
— Завтра все будет по-другому, — пообещал Рамсес. — Тебе нечего делать на улицах. Твое место рядом со мной, на троне. — Он усадил меня на постель и протянул какой-то предмет, завернутый в холст. — Это тебе, — шепнул Рамсес.
Холст был расписан изображениями Сешат — богини письма и счета. Развернув подарок, я почувствовала, что у меня вот-вот выскочит сердце. Я поднесла тяжелый свиток к масляной лампе и на свету медленно развернула папирус.
— Рамсес, откуда это?
Я держала в руках историю держав мира, от страны хеттов до Кипра, написанную и египетскими иероглифами, и на языке каждой из стран. Таким сокровищем даже Пасер не мог похвалиться.
— Писцы составляли его целый год — по моему приказу.
— Год? Но я ведь жила в храме Хатор…
Я сообразила, что это означает, и умолкла. Все печали сразу улетучились. Пусть народ меня ненавидит!
Мы упали на ложе и больше ни о чем в ту ночь не думали.
Глава одиннадцатая
В ТРОННОМ ЗАЛЕ
Вместо торжественного отплытия фараона получилась скромная церемония прощания на пристани. Быть может, неприязнь придворных ко мне перешла и на Сети — ведь он позволил сыну взять меня в жены, хотя и знал, что, продлись в Фивах засуха или случись мор, обвинят, скорее всего, меня. Царица Туйя, обнимая сына, едва сдерживала слезы, Рамсес хранил торжественное выражение лица. Кто знает, что случится, когда уйдет флотилия Сети; за криками чаек я расслышала, как он сказал Рамсесу:
— Половина войска остается у тебя. Если пройдет только слух о мятеже…
— Мятежа не будет.
— Пусть твои люди все время ходят по городу, — не успокаивался Сети. — Здесь остаются четыре советника. Пошли одного походить по улицам, послушать, что болтают в народе. Теперь Фивы — твоя столица.
Позади него в темнеющем небе светился, словно жемчужина, дворец Мальката.
— Пусть твое царствование прославит этот город. Нужно восстановить храм в Луксоре, дабы народ видел: для тебя нет ничего важнее почитания богов. — Сети поманил меня пальцем с драгоценным перстнем. — Малышка Нефертари!
Я крепко обняла фараона.
— Будь осторожна на восточном берегу. Будь терпелива с людьми.
— Постараюсь, — пообещала я.
Сети взял меня за руку и отвел в сторонку. «Он, конечно, хочет поговорить о том, что случилось вчера в городе», — подумала я. Но фараон заговорщицки прошептал:
— Заботься о моем сыне. Рамсес такой безрассудный, и рядом должен быть кто-то благоразумный.
Я вспыхнула.
— Наверное, тут больше подойдет Аша…
— Аша будет оберегать моего сына в сражении. А я опасаюсь дворцовых интриг. Не все живут по законам богини Маат
[110]. Я знаю, за этими зелеными глазищами кроется разум, который все отлично понимает.
Сети отступил; я шагнула к Туйе, чтобы обнять ее на прощание, и Аджо дернулся на поводке и злобно клацнул зубами.
— Ну все, все, — отстранила меня Туйя. Послав мне из-под своего нубийского парика долгий взгляд, она добавила: — Он больше ни на кого не лает.
Загремели трубы, воздух наполнился звоном систров. Сети и Туйя поднялись на ладью и махали нам.
Рамсес и я помахали в ответ.
— И что чувствует полновластный повелитель Фив? — раздался позади голос Исет.
Рамсес посмотрел на нее, словно хотел спросить, как она додумалась задать такой вопрос.
— Одиночество, — сказал он.
До приема в тронном зале оставался еще час. Мы вернулись во дворец; Рамсес взял меня за руку, и все сразу поняли, куда мы пойдем. В конце концов, мы только вчера поженились!
Когда Мерит постучала в нашу дверь и сообщила, что просители собираются, Рамсес уже не чувствовал себя таким одиноким. Держась за руки, мы отправились в тронный зал, где глашатаи возвестили наше появление.
В зале собрался весь двор. Придворные у курильниц играли в бабки, вокруг возвышения музыканты исполняли мелодию на лирах и двойных флейтах. В дальнем углу смеялись женщины; несколько стариков в отороченных мехом одеждах играли в сенет. Все это больше походило на какое-то празднество, чем на прием, где решаются государственные дела. Я опешила.
— Здесь всегда так весело?
— Пока не начнется прием, — рассмеялся Рамсес.
— А куда все денутся?
— Большинство останется здесь. Музыканты уйдут, все замолчат.
За столами посреди зала сидели советники. При нашем появлении они встали; я кивнула Пасеру.
— Приветствую тебя, государь, приветствую тебя, царевна Нефертари, — бормотали сановники.
Увидев красный глаз Рахотепа, я подумала: «Верховный жрец пошлет мне самые запутанные дела. Он непременно постарается поставить меня в глупое положение».
Исет в новом широком оплечье восседала на троне. Теплую накидку она распахнула, выставляя напоказ растущий живот. «Пять месяцев, — подумала я. — Осталось только четыре. Если она родит до того, как будет названа главная жена, ее сын будет считаться наследником трона — если Рамсес не объявит свою волю». Я знала, что все смотрят на меня, и поднималась на возвышение очень осторожно. Троны стояли близко друг к другу, и Рамсес мог при желании протянуть руки и коснуться обеих жен. Никогда в истории Египта рядом с троном фараона не стояло сразу двух тронов для жен-соперниц.
— Вы готовы? — обратился Рамсес к нам обеим, и я кивнула. Он ударил жезлом об пол и объявил: — Пригласите посетителей.
Придворные ринулись выполнять приказ. Широкие двери, что вели во внутренний двор, открыли настежь и ввели первых просителей.
Трое вошедших подошли к столу визирей и протянули свитки. Пасер, Рахотеп и Анемро прочли прошения и сделали внизу пометки. Просители приблизились, и самый старший с поклоном протянул мне свой свиток.
— Госпоже Нефертари, — объявил он. На свитке был нарисован знак моей семьи, но сделал это не Пасер. Старик смотрел на меня с явным недоверием. — Я просил, чтобы мое дело разбирала госпожа Исет, однако верховный жрец послал меня к тебе. Я так просил, а…
— Просил или не просил, все равно рассматривать твою жалобу буду я.
Уосерит наставляла меня, что если я позволю хоть одному просителю обращаться со мной так, словно я по положению ниже Исет, то, выйдя из дворца, он немедля разболтает об этом тем, кто дожидается своей очереди. Я посмотрела в развернутый свиток. Старик просил позволения войти в храм Амона в Карнаке. Простолюдинов туда не допускали, а он добивался особого разрешения, хотел поговорить с верховным жрецом.
— Зачем тебе нужно в храм? — спокойно спросила я.
— Дочка у меня хворает. Сделал я приношения, да, видно, мало.
Прищурившись, старик смотрел, как я беру тростниковое перо и пишу на свитке.
— Можешь войти в храм, — сказала я.
Старик отступил назад, словно хотел меня рассмотреть.
— Я жил тогда в Амарне, — заявил он. — Видел, как Еретик разбивал статуи Амона и убивал жрецов.
Я крепко сжала перо.
— А при чем здесь я?
Старик пристально смотрел мне в глаза.
— Уж больно ты похожа на свою тетку.
Я подавила желание спросить, чем именно. Что у нас общего: нос, губы, скулы, телосложение? Впрочем, я понимала, к чему он клонит, и потому просто протянула ему свиток и хмуро сказала:
— Ступай. Ступай, пока я не передумала.
Рамсес смотрел не на своего посетителя, а на меня, и во взгляде его было лишь сочувствие, а не гордость за меня. Внутри у меня все пылало.
— Следующий!
«Что бы ни случилось — улыбайся!» — говорила Уосерит.
Ко мне приблизился крестьянин, и я ласково улыбнулась. Он протянул свой папирус. Я прочитала и взглянула на пришедшего. На нем была повязка в аккуратную складку, сандалии не соломенные, а кожаные.
— Ты пришел из Фив требовать, чтобы тебе позволили брать воду из колодца твоего соседа? С какой стати сосед должен давать тебе воду?
— А его коровы пасутся на моих полях. Должен же я что-то за это иметь. У меня-то колодца нет.
— Если он не дает тебе воды, не пускай его коров пастись.
— Да мой сынок согласен и скотину уморить. Лишь бы мне назло сделать!
Я откинулась на спинку трона.
— Так сосед — твой сын?
— Дал я ему кусок земли, когда он женился, а он теперь меня туда не пускает, хотя там колодец. А все из-за жены своей!
— Почему из-за жены?
— Да невзлюбила она меня! Я сыну говорил, что такую потаскуху не приму, а он все одно женился. Вот она теперь меня и изводит!
Советники прислушивались к нашему разговору, но я поборола искушение посмотреть, кто направил ко мне этого жалобщика.
— В чем провинилась твоя сноха? Отчего ты считаешь ее развратницей?
— Да она с половиной Фив переспала, всякому ясно! Нарожала моему сыну наследников неведомо от кого, а теперь не пускает меня на мою же землю.
— А ты уже переписал землю на сына? — спросила я.
— Отдал я ему.
— Но не письменно?
Крестьянин явно не понимал, о чем речь.
— Твоего обещания недостаточно. Это должно быть записано.
Жалобщик радостно осклабился.
— Ничего я такого не писал!
— Тогда колодец твой, — твердо сказала я. — А снохе придется потерпеть — пока ты не перепишешь участок на сына или он не наживет себе собственную землю.
Лицо старика выражало настоящее изумление. Я взяла тростниковое перо, записала внизу свитка свое решение и протянула крестьянину папирус. Проситель настороженно посмотрел на меня.
— А ты… Ты не такая, как болтают.
«Так будет каждый день, — сказала я себе. — Всю оставшуюся жизнь со мной будут разговаривать как с племянницей Отступницы. И если я не заставлю их относиться ко мне по-другому, ничего не изменится».
Ко мне подошел третий проситель, а у меня уже заболела от напряжения спина. Он протянул мне свиток, и я пробежала его глазами.
— Расскажи мне все полностью, — велела я.
Юноша затряс головой и с сильнейшим акцентом пробубнил:
— Я просил дозволения обратиться к фараону, потому что он знает мой язык, а советник Пасер послал меня к тебе.
— Чем же я тебе не угодила? — поинтересовалась я на хурритском языке.
Чужеземец отступил назад.
— Ты знаешь наш язык! — прошептал он.
— Так зачем ты пришел?
На каждого просителя, взиравшего на меня с недоверием, приходился другой — из Вавилона, Ассирии, Нубии — чужеземец, язык которого я знала. К концу дня я уже ловила на себе заинтересованные взгляды визирей. Я старалась сидеть прямо. Даже без подписи на свитках я догадывалась, кто из советников направил мне каждого просителя. Чужеземцев посылал ко мне Пасер, а самых вздорных и сварливых просителей — Рахотеп.
Где-то заиграла труба, и в зале началось какое-то оживление. Слуги внесли стол и расставили вокруг него кресла с подушками на сиденьях.
Я повернулась к Рамсесу.
— К чему они готовятся?
— Не видишь разве? С просителями на сегодня кончено, — ответила Исет.
Рамсес, не обращая на нее внимания, тихо объяснил:
— В полдень прием заканчивается, и мы обсуждаем государственные дела.
Оставшихся посетителей выпроводили, а в небольшую боковую дверь вошли несколько женщин. Среди них были Хенуттауи и Уосерит, но друг на друга они не смотрели. «Словно пара коней в шорах», — подумалось мне. Все уселись вокруг стола, и Рамсес ударил жезлом об пол.
— Приступаем к обсуждению, — объявил он. — Пригласите зодчего Пенра.
Вошел Пенра — крепкий человек с узкой выдающейся нижней челюстью и прямым носом, который на всяком другом лице казался бы слишком большим. На нем была перетянутая желтой лентой длинная набедренная повязка, на груди — золотое украшение, подарок фараона Сети. Пенра походил скорее на воина, чем на зодчего. Он с достоинством поклонился и, не теряя времени, развернул свиток.
— Государь, ты затеял дело, которого не выполнял еще ни один зодчий: внутренний двор храма в Луксоре со столь высокими обелисками, чтобы сами боги могли их коснуться. Я изобразил для тебя, как я это вижу.
Пенра передал свиток Рамсесу и тут же достал из висевшей на плече сумки еще два и вручил их мне и Исет.
Я развернула папирус. Рисунок зодчего был прекрасен: из розового песка вздымались известняковые колонны, покрытые рельефами и письменами.
— Что это? — надменно спросила Исет. Она посмотрела на Рамсеса. — Я думала, что сначала нужно сделать пристройки во дворце.
Рамсес покачал головой, и на его широких плечах шелохнулись концы немеса.
— Ты же слышала — мой отец велел восстановить луксорский храм.
— Но живем-то мы во дворце, а не в храме, — не унималась Исет. — А как же родильный покой для нашего наследника?
Рамсес вздохнул:
— Во дворце есть родильный покой. Народ должен видеть, что для меня превыше всего — почтить Амона.
— Все еще помнят, чем кончилось, когда некий фараон строил все только для себя, — вставил Рахотеп.
Исет взглянула в сторону Хенуттауи.
— Тогда, быть может, перестроить храм Исиды?
Рамсес не понимал ее упрямства.
— Но ведь мой дед его уже перестроил!
— Это было много лет назад. Храм Хатор с тех пор перестраивали. Народу важно знать, что фараон чтит Исиду не меньше, чем Хатор!
Рахотеп кивнул и выразительно посмотрел на Исет.
Такая настойчивость только озадачила Рамсеса.
— Понадобится много времени и денег, — коротко ответил он. — Если смогу, я восстановлю все храмы — отсюда до Мемфиса, но первым будет храм Амона.
Исет поняла, что проиграла.
— Хорошо, значит, луксорский храм… — Исет погладила пальцами руку Рамсеса, и жест у нее получился какой-то похотливый. — Подумай, если храм восстановят к месяцу тоту, твой отец увидит его, когда прибудет на празднество Уаг.
Это Рамсесу и хотелось услышать. Он выпрямился, держа в руках папирус.
— А здесь вы хотите что-нибудь изменить? — спросил он, обращаясь к нам обеим.
Исет быстро сказала:
— Я бы не стала ничего менять.
— А мне хотелось бы.
Окружающие выжидательно смотрели на меня. Проект Пенра был очень хорош: рядом с воротами два обелиска во славу правления Рамсеса пронзали небо. Но мне хотелось добавить что-то, что напоминало бы о деяниях фараона. Если они нигде не будут записаны, то откуда людям, которые будут жить через сто лет, узнать о том, как правил Рамсес? Время может уничтожить ворота дворца, но каменный храм Амона простоит вечность.
— Думаю, здесь неплохо бы построить пилоны, — сказала я. — Есть ведь рядом с карнакским храмом стела для записи важнейших событий. Так почему же не поставить такую и в Луксоре?
Рамсес посмотрел на Пенра.
— Ты сумеешь воздвигнуть пилон?
— Конечно, государь. И на нем можно будет высекать сообщения о важнейших событиях.
Рамсес одобрительно посмотрел на меня, но Исет сдаваться не хотела.
— А если построить галерею? Галерею с колоннами перед храмом?
— Для чего она нужна? — спросила я.
— Да ни для чего! Просто будет галерея — и все! Да, Рамсес?
Рамсес перевел взгляд с меня на нее, потом устало спросил у Пенра:
— Можно построить галерею?
— Конечно. Все, что пожелает государь.
Начиная с этого вечера — уже на следующий день после нашей свадьбы! — Рамсес должен был провести десять ночей с Исет. И хотя все цари Египта всегда делили свои ночи между женами, я уселась перед зеркалом и стала гадать: а не ушел ли он к Исет, потому что любит ее сильнее?
— Глупости! — убежденно заявила Мерит. — Ведь в тронном зале она только капризничала — ты сама говорила!
— Но в постели-то она не такая! — Я представила, как Исет, обнаженная, сидит перед Рамсесом и умащает груди маслом лотоса. — Наверное, Хенуттауи обучила ее всему, что сама знает. Вдобавок Исет красива, это всякий скажет.
Мешок на шее у Мерит раздулся.
— Сколько можно любоваться красотой? Час? Два? Прекрати жаловаться, а то будешь, как она.
— Если не пожаловаться тебе, тогда кому?
Няня перевела взгляд на наос с маленькой статуэткой богини Мут.
— Попробуй расскажи ей. Быть может, она услышит…
Я сложила руки на груди. Мне очень хотелось посидеть у себя в туалетной комнате, поплакаться няне, но я пообещала Уосерит, что каждую ночь, когда у меня не будет Рамсеса, я буду разговаривать с Пасером. По тускло освещенным коридорам, через внутренний двор, я отправилась к советнику. Слуга Пасера отворил передо мной дверь; мой бывший учитель сидел у жаровни рядом с Уосерит. Они сразу отпрянули друг от друга, но вид имели такой влюбленный, что я невольно отступила. Распущенные волосы Пасера в полумраке казались черными, как вороново крыло. «А ведь он красив», — поняла вдруг я. То же самое я подумала о Уосерит, лицо которой неожиданно помолодело. Ей всего двадцать пять, просто заботы наложили ей морщинки у глаз. Ночь стояла прохладная, и Уосерит надела самую теплую накидку.
— Здравствуй, царевна!
Пасер встал, приветствуя меня. Покои у него были большие, расписанные фресками и завешанные дорогими тканями из Митанни. Над ложем стояли фигурки сфинксов, чьи мелко завитые бороды выдавали их ассирийское происхождение. От дверей в туалетную комнату на нас смотрели деревянные изваяния вавилонских богов. Неужели Пасер бывал во всех этих странах?
Я села на свободный стул.
— Ты сегодня отлично справилась, — сказала жрица. — Особенно удачно получился выход: всем сразу стало ясно, что ты — настоящая царевна и по рождению, и по воспитанию.
— И дела ты разбирала мудро, — добавил Пасер.
— Это тебе я обязана самыми простыми тяжбами.
Пасер поднял брови.
— А вот Исет было бы не просто разбирать дела чужеземцев. Когда весь двор узнает о твоих способностях к языкам, тогда и попробуем направлять таких просителей к ней. — Пасер улыбнулся жрице. — Если Рахотеп думает, что он один умеет играть в эти игры, то очень быстро поймет свою ошибку.
— Тебе самой-то понравилось? — спросила Уосерит.
Я переводила взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь понять, о чем речь.
— Там много интересных людей, — осторожно заметила я.
— Тебе не скучно было? — спросил Пасер.
— Какое там! Столько посетителей!
Пасер посмотрел на жрицу.
— Это тебе не Исет, — заметил он и обратился ко мне: — Дай время, люди тебя оценят, и их безумной любви к Исет поубавится.
— Особенно если забеременеешь, — добавила Уосерит.
Мы обе посмотрели на мой живот, однако усыпанный янтарем пояс лишь подчеркивал стройность моей талии. И Пасер, и Уосерит знали ставшую при дворе легендой историю моей матери — историю о том, как ее отравили по приказу Еретика и она потеряла своего первенца. Она была высокая, с широкими бедрами — только бы и рожать, но прошел целый год, прежде чем богиня Таурт
[111] вновь благословила ее чрево и моя мать понесла моего брата. Ей хотелось много детей, и можно только догадываться, что она испытала, когда ее третье дитя явилось в мир бездыханным. А когда она носила меня, во дворце случился пожар. С содроганием я думаю о том, как ее нежное сердце приняло известие о гибели всех, кого она любила: ее матери, отца, сына, супруга и двух последних дочерей Нефертити. Неудивительно, что после моего рождения у нее уже не оставалось сил жить.
— Мы не всегда повторяем судьбу матерей. — Уосерит догадалась, о чем я думаю. — Сестра твоей матери родила фараону шесть здоровых дочерей.
— Выходит, лучше, если я похожа на тетку? — прошептала я.
— В этом отношении — да.
Помолчав, я спросила:
— А если я вообще не забеременею?
Уосерит метнула взгляд на Пасера.
— К чему говорить такие вещи?
— Нефертари, дать фараону сына — первейшая обязанность главной супруги, — заметил советник.
— А у моей тетки сыновей не было.
— Все равно у нее были дети, — настаивала Уосерит. — Шесть царевен, которых можно выдать замуж за царевичей. Рамсес женился на тебе ради детей, которых ты родишь.
— Он женился, потому что любит меня!
— И ради сына тоже, — сказал Пасер. — Не забывай об этом.
Я поднялась.
— Значит, для него важнее сын, чем жена?
Все молчали; потрескивание углей казалось неестественно громким. Пасер тяжело вздохнул. Уосерит коснулась моей руки.
— Ни один мужчина не выбирает между детьми и женой. Всем нужно и то и другое. — Жрица встала и обняла меня. — Ты вовсе не обречена умереть во время родов.
Я отступила и заглянула ей в глаза.
— Откуда тебе знать?
— Чувствую. — Уосерит пожала плечами. — Ты создана для долгого царствования. Если родишь Рамсесу наследника. И если он выберет тебя главной женой.
— А он это сделает, только если я рожу сына.
— Иначе нельзя.
Я вернулась к себе, вышла на балкон и стала смотреть на луну, плывущую среди тонких перистых облаков. Несмотря на холодный ветер, в воздухе не чувствовалось запаха пыли, предвещающего ливень. Значит, не будет нам спасения от засухи, от надвигающегося голода. Кое-где люди, чтобы накормить своих детей, воровали приношения из заупокойных храмов. Однажды таких воров изловили, но старейшины их оправдали, решив, что важнее накормить живых, чем мертвых. Впрочем, так недолго и прогневать богов; кроме того, скоро начнут голодать богатые, и народ взбунтуется. Какая тогда разница — забеременею я или нет? Будь у меня хоть семеро сыновей, народ обвинит в голоде меня.
В дверном проеме появилась приземистая фигурка.
— Госпожа, у тебя был тяжелый день. Тебе нужно поесть, — проворчала Мерит.
Няня принесла жареного окуня. Я вернулась в комнату, и она протянула мне тарелку, а потом захлопнула деревянную дверь.
— Стоишь в потемках, на холодном ветру, — бурчала она. — Где только у тебя голова!
— Там так красиво, — сказала я. — Наверное, так же чувствовал себя всемогущий Амон, когда в начале бытия возник из темных вод.
— Вот интересно, может ли всемогущий заболеть? Потому что ты-то именно этого, видимо, и дождешься. Садись-ка поближе к огню.
Няня вынула из деревянного ларца покрывало и набросила мне на плечи.
— Знаешь, — сказала она, — во дворце о тебе уже ходят разговоры.
Я отодвинула тарелку.
— Какие разговоры?
Мерит скрестила руки на груди.
— Прежде всего поешь!
Чтобы ее успокоить, я проглотила кусочек рыбы. Мерит улыбнулась.
— Такие, как нам и нужно. О приеме в тронном зале. Ты, наверное, отлично справилась. Во дворце удивляются — такая молодая, а знаешь столько языков, да еще судишь по справедливости. Так говорят и в банях, и на кухне.
Я поставила тарелку.
— Это только слуги болтают.
Няня смерила меня долгим взглядом.
— А каким толкам, по-твоему, поверит народ? Болтовне придворных или тому, что слуги будут рассказывать?
— Думаешь, я смогу завоевать любовь народа?
— Это было бы нетрудно, — тихо отозвалась она, — если бы разлился Нил.
Я подошла к наосу и посмотрела на статую богини Мут. При таком освещении полоска на шее не различалась.
— Мут тебя охраняет, — прошептала Мерит. — Но если у тебя не будет телесных сил, она тебе не поможет. — Няня пододвинула ко мне тарелку. — Ешь!
Я посмотрела через ее плечо и чуть не задохнулась от удивления.
— Что ты тут делаешь?
В дверях стоял Рамсес. При виде фараона Мерит втянула носом воздух и замерла — даже пеликаний мешок на шее куда-то делся.
— Государь!
Она бросилась подавать ему лучшее кресло.
Фараон был в короткой набедренной повязке и простых сандалиях.
— Что ты здесь делаешь? — повторила я.
— Да вот, решил зайти, — как-то неуверенно сказал он. — Ты не возражаешь? Исет укладывается спать, а мне захотелось побыть с тобой.
Изумленная Мерит тут же извинилась и исчезла. Я села напротив Рамсеса у жаровни.
— Сегодня ты впервые принимала просителей, и о тебе говорят все Фивы. У тебя удивительные способности. Я тут подумал… ты, конечно, не обязана… я просто подумал, что ты можешь просмотреть донесения наших лазутчиков.
Я скрыла разочарование. Так вот зачем он пришел!
— Ты не доверяешь своим визирям?
Рамсес смущенно
задвигался в кресле.
— Взятка — сильное искушение. Откуда мне знать, что они переводят все точно? Что они ничего не пропускают, ничего не утаивают? При дворе полно предателей.
— Среди твоих советников? Обманывая фараона, они подвергают опасности свое ка.
— Ка никому не видно. А вот ларец, полный вавилонских золотых монет, видно отлично. Даже за целый день работы я не успеваю прочитать все письма, вот и приходится доверять визирям и писцам. Но самые важные донесения — из страны хеттов и из Кадеша… лучше, чтобы их читала ты.
Вот она — возможность стать для него нужной.
— Конечно, — улыбнулась я. — Хоть каждую ночь приноси.
Глава двенадцатая
НАРОД ГОЛОДАЕТ
Весь царский двор знал, что в эти дни фараон должен ночевать у Исет, поэтому, когда он появился в тронном зале под руку со мной, советники замерли. Исет досадливо поморщилась, но меня смутила не ее презрительная усмешка, а отсутствие в зале просителей.
— Где люди? — спросил Рамсес.
При нашем приближении Пасер поднялся.
— Сегодня я отослал просителей, государь. Есть дела более важные.
Анемро встал и простер руки перед фараоном.
— Как тебе известно, государь, Нил не разливается уже четыре года. Житницы Асуана пусты. — Анемро неуверенно посмотрел на Пасера. — Как сообщают писцы, фиванских запасов хватит только до месяца пахона. В лучшем случае — на полгода.
— Так мало? — удивился Рамсес. — Быть не может. Отец говорил, что запасов хватит на год.
Пасер покачал головой.
— Это было до того, как прошло празднество по случаю победы над хеттами, твоя свадьба и прочие праздники. Ведь по случаю праздников в Фивах происходила дополнительная раздача зерна.
У Рамсеса от лица отлила кровь.
— Неужели писцы каждый раз раздавали народу зерно?
Анемро сглотнул.
— Таков обычай, государь.
— И никто не догадался отступить от обычая, несмотря на то что Нил уже четыре года не разливается? — вскричал Рамсес. — Время паводка почти прошло. Если до конца месяца река не поднимется, урожая не будет. Летом начнется голод. Никто не знает, сколько он продлится и какие будут последствия!
Нильский ил дал Египту не только имя
[112], он дает ему саму жизнь. Я сжала руку Рамсеса и тихо спросила:
— Что же делать?
Пасер поднял ладони.
— Предлагаю сейчас заняться решением этого вопроса.
— Принесите еще несколько столов, — велел Рамсес. — Пусть каждый придумает, что может. Нефертари, Исет, я имею в виду и вас.
Слуги установили у возвышения несколько столов. Первым заговорил Рахотеп:
— Пусть государь сам посетит все хранилища и убедится, что ему сказали правду.
Рамсес повернулся к Анемро.
— Вы уже проверяли хранилища?
— Да, государь. Писцы не обманывают. За пределами Фив, в городе Нехебе, некоторые житницы пустуют уже с тота, и многие семьи голодают. Люди скоро выйдут на улицы. Начнутся убийства, грабежи, — мрачно сказал он.
— Необходимо найти решение, пока не окончился сезон паводка, — поддержал Пасер.
— Что вы предлагаете? — спросил Рахотеп.
Наступила тишина, все ждали. Пасер медленно продолжил:
— Нужно раздать в Нехебе зерно — придется опустошить храмовые хранилища, а затем примемся за войсковые запасы.
— Опустошить храмовые кладовые? — возмутился Рахотеп. — Чтобы жрецы голодали?
Предложение Пасера озадачило даже Анемро. Придворные возбужденно зашептались.
— В каждом храме есть почти полугодовой запас зерна, — объяснил Пасер. — А у войска, которое в Фивах, — по меньшей мере, трехмесячный.
— Решение глупца, — заявил Рахотеп. — А как быть, когда войску станет нечем кормиться? Кто опаснее — голодающая чернь или голодающие войска?
Рамсес повернулся к Пасеру.
— Нам нужна уверенность, что, когда хранилища опустеют, следующий урожай будет на подходе. Ошибиться нельзя. Либо Нил успеет подняться и оросить поля, либо, — медленно продолжил Рамсес, — нужно поднимать из реки воду для полива.
— И чего же хочет государь? — спросил Рахотеп. — Чтобы люди носили воду на свои поля?
— Даже если бы в каждом хозяйстве работала сотня людей, такое дело им не осилить, — заметил Анемро.
— А если построить еще несколько каналов от Нила к полям? — предложил фараон.
— Их и так сотни, — сказал Рахотеп. — Но они наполняются, только когда Нил выходит из берегов. Поставь мы даже там людей с ведрами, проку не будет.
— Должен же быть какой-то способ! — настаивал Рамсес.
Все растерянно молчали. Он повернулся ко мне:
— Говори. Как бы ты поступила?
— Пока не придумают способ доставить воду на поля, нужно сделать то, что предлагает Пасер.
— А если так и не придумают? — разъярился Рахотеп. Как только Хенуттауи не страшно смотреть по ночам в его налитый кровью глаз? — Скольким фараонам доводилось пережить столь долгую засуху?
Рамсес крепко сжимал в руке жезл.
— А кто из них, чтобы найти решение, собирал в Египте лучшие умы?
— Наверное, земледельцы уже пытались что-то придумать, — слабо промолвил Анемро. — Прости, государь, но можно ли надеяться придумать выход за два месяца? Ведь потом сеять будет поздно.
Рамсес повернулся к Пасеру.
— К наступлению месяца мехира нужно найти решение. Вызовите военачальника Анхури и Ашу. Сегодня начнем раздавать зерно из храмовых запасов Нехеба.
— Государь! — Рахотеп в отчаянии поднялся. — Мудро ли так поступать? Ты идешь на это из боязни, что народ обвинит в голоде царевну Нефертари…
По залу пронесся общий вздох, и придворные замерли.
— Я ничего не боюсь! — заявил Рамсес. — Нам необходимо накормить людей! Неужели они должны голодать, если в житницах есть отличное зерно?
— Почему бы не спросить у госпожи Исет? — предложил Рахотеп. — Ведь ты спросил совета у царевны Нефертари, а что скажет твоя супруга Исет?
Исет испуганно дернулась.
— Ты хочешь что-нибудь предложить? — поинтересовался Рамсес.
Та взглянула на Рахотепа и повторила его довод:
— За три тысячи лет никто не придумал, как поднять воду из реки.
— Верно, — кивнул Рамсес. — А теперь нам нужно придумать — за два месяца.
— А если мы не придумаем? — спросил Анемро.
— Тогда будем голодать все! — гневно сказал фараон. — Не только народ, но и жрецы, и военачальники!
Двери распахнулись, и в зал вошли Аша и его отец.
Рамсес обратился к Анхури:
— Мы начинаем раздачу зерна в Нехебе. Вместе с Ашой извести всех полководцев, и пусть сообщения об этом висят на дверях каждого храма, чтобы все люди знали. — Фараон повернулся ко мне и Исет. — Самое большое в Нехебе хранилище принадлежит храму Амона; раздача потребует тщательного присмотра. Согласны ли вы следить за раздачей зерна?
Он посмотрел мне в глаза, и я поняла, чего он хочет.
— Я согласна.
— В этой грязи?! — отпрянула Исет. — Среди простолюдинов?
— Ты права, — сказал Рамсес. — Оставайся здесь, так безопаснее. Не хочу, чтобы ты рисковала ребенком. Аша, отвезешь царевну Нефертари в храм Амона. Пасер, приведи зодчего Пенра и вообще всех зодчих, какие есть в Фивах. Мы не будем принимать просителей, пока не придумаем, как поднять воду на поля.
Толпа, наполнявшая двор храма, исступленно требовала зерна. Я стояла между Ашой и его отцом, позади нас замерли три дюжины воинов с копьями и щитами — они охраняли завязанные мешки с зерном.
— Зачем привели вероотступницу в храм? — выкрикнула какая-то женщина.
— Она разгневает богов, и голод не кончится! — завопила другая.
Аша взглянул на меня, но я знала, как следует себя вести, и смотрела на толпу без трепета.
— Смелая ты, — прошептал он.
— А как иначе? Пока Рамсес не найдет решения, буду стоять здесь каждый день.
Люди смотрели на меня с неприязнью. Я — причина их страданий, причина того, что урожай сгорел в сухой земле, что воды Нила не оросили их поля.
Полководец Анхури поднял свиток.
— По приказу фараона Рамсеса и царевны Нефертари для вас открыты житницы храма. По утрам каждой семье, проживающей между храмом Амона и храмом Исиды, будет выдаваться чаша зерна. Дети могут получать зерно самостоятельно, только если они сироты. Всякий, кого уличат в попытке получить зерно дважды, не получит зерна в течение следующих семи дней.
Из толпы раздались восклицания, и Анхури, перекрывая шум, прокричал:
— Тихо! Встать в очередь!
Я стояла рядом с воинами, выдававшими зерно, и, словно писец, отмечала количество отмеренных чаш. Время шло, враждебных лиц становилось меньше. А в полдень одна женщина даже сказала:
— Да хранит тебя Амон, госпожа!
Аша с улыбкой посмотрел на меня.
— Она одна такая, — заметила я.
— Так все и начинается. Разве не этого добивается Рамсес? Он хочет, чтобы люди стали относиться к тебе по-другому. — Аша присел на мешок с зерном. — Интересно, что они с Пенра затевают?
Я и сама, покинув дворец, не переставала об этом думать. Вечером Рамсеса не было за столом, и зодчий тоже не появлялся.
— Я слышала, ты теперь отмеряешь зерно? — спросила Хенуттауи, как только они с Уосерит уселись за стол. — Из царевны — прямиком в крестьянки. Должна признать, ты, Нефертари, способна на удивительные метаморфозы.
— Похоже, твой племянник понимает, что делает, — заявил ей Рахотеп. — Отправил ее в храм раздавать зерно. Люди станут мысленно связывать ее с изобилием, с едой. Кто ж этого не поймет?
— В самом деле? — спросила Уосерит. — А я думаю, Нефертари согласилась помогать просто по доброте.
Хенуттауи посмотрела на сидевшую напротив Исет.
— Тогда, наверное, следовало показать всем и доброту другой супруги?
— Я не собираюсь толкаться среди всякого сброда в Нехебе!
Анемро нахмурился.
— Там полно воинов, они тебя всегда защитят.
— Да пусть хоть целое войско! — оборвала его Исет. — Пусть туда ходит Нефертари, а если народ взбунтуется, то разорвут ее, а не меня.
Получив такой отпор, Анемро замер, а Хенуттауи перестала улыбаться.
— Людям нравится, когда правители к ним добры, — назидательно сказала она.
— Я на шестом месяце беременности! — горячо воскликнула Исет. — Что, если на меня набросится какой-нибудь голодный крестьянин и пострадает мой ребенок?
Хенуттауи зловеще блеснула глазами.
— Рамсес бы себе такого не простил.
Исет окончательно вышла из себя.
— Тебе только и нужно, чтобы я убедила Рамсеса перестроить твой храм, а там я хоть умри! Мало того, что мне приходится каждый день сидеть в тронном зале, усердствовать, чтобы Рамсес выбрал меня, а не эту коротышку! Мало того, что я потеряла Ашаи! Теперь я должна еще и жизнью рисковать!
Я посмотрела на Уосерит. Ашаи — имя не египетское. Быть может, это имя хабиру?
— Тихо! — зашипела Хенуттауи. На миг мне даже показалось, что она вот-вот ударит Исет, но жрица тут же опомнилась. — Помни, где ты находишься, — бросила она.
У сидевшего рядом Анемро глаза вылезли на лоб. Исет поняла, что натворила, и теперь ее рассудок пытался угнаться за языком.
— Нефертари не посмеет и слова сказать, — заявила она. — А если посмеет, уж я постараюсь уверить Рамсеса, что она желает опорочить мое доброе имя и освободить себе дорогу к трону.
— Здесь еще есть визирь фараона Анемро, и он не глухой, — резко заметила я.
— Не глухой, но сделать ничего не сможет, — улыбнулась Исет. — Он знает, что как советник ничего здесь не значит. И если он упомянет имя Ашаи, то исчезнет из дворца, как только я произведу на свет наследника египетского престола.
— Ты так уверена, что родишь мальчика. А может, родится девочка? — поинтересовалась Уосерит.
— Тогда в следующий раз будет сын. Какая разница? Рамсес ни за что не выберет Нефертари главной женой. Если бы он хотел, давно бы выбрал!
— Тогда зачем ему посылать ее на выдачу зерна? — насмешливо спросила Уосерит.
— Он ведь и мне предлагал, но я не настолько глупа. — Тут Исет обратила свой гнев на меня: — Думаешь, придворные не знают, зачем Рамсес все время ходит в твои покои? Ему нужно, чтобы кто-то проверял работу советников! А наша прилежная малышка Нефертари и рада стараться, совать всюду нос.
— Ты ведь тоже должна помогать Рамсесу, — почти прошипела я.
— Я и помогаю, — сказала Исет и положила ладонь на живот.
— Люби ты Рамсеса по-настоящему, — добавила Хенуттауи, — не просила бы сделать тебя главной женой. Из-за тебя его трон в опасности.
Уосерит положила ладонь мне на руку. Рамсес вряд ли появится за столом, и мы обе встали.
— Господин Анемро, Пасер, благодарю вас за приятный вечер, — сказала Уосерит.
Мы спустились с помоста. Уосерит прошептала:
— Значит, после того, как Рамсес разделил ложе с Исет, он пришел в твои покои. Он и в самом деле просил тебя что-то перевести?
— Да. — Мы пересекли зал. — Письма из Ассирии и Хеттского царства.
— Кроме того, он послал тебя раздавать зерно. Если бы Рамсеса интересовало только твое знание языков, он назначил бы тебя писцом! Есть только одна причина отправить царскую дочь в Нехеб — делать работу, которую обычно поручают воинам.
Мне показалось, что кто-то отпустил веревки и узел, стянувший все у меня внутри, ослаб.
— А кто такой Ашаи?
Мы миновали двери, и, прежде чем Уосерит успела мне ответить, нас окликнул Рамсес:
— Нефертари! Куда ты?
— Она искала тебя, хотела рассказать про дела в Нехебе, — поспешила ответить Уосерит.
Рамсес смотрел мне в глаза.
— Беспорядков не было?
— Нет. Аша и его отец такого не допустят.
— А как люди?
— Очень радовались зерну. Некоторые даже меня благодарили.
Рамсес вздохнул, и по глазам его я увидела, что он испытал сильное облегчение.
— Хорошо. — Он обнял меня за плечи и повторил: — Хорошо!
В свете масляных ламп обрамлявший его лицо немес походил на золотую львиную гриву.
— Весьма мудро — послать Нефертари в Нехеб, — похвалила Уосерит. — Расскажи, чем вы занимались в тронном зале.
Рамсес огляделся, потом взял меня за руку и повел подальше от любопытных ушей стражников. В уединенном уголке мы с Уосерит придвинулись к нему.
— Зодчий моего отца Пенра нашел решение.
Уосерит нахмурилась:
— За один день? Земледельцы мучаются уже столько лет…
— А вот в Ассирии и Вавилоне не мучаются. И в Амарне не мучились.
На этот раз Уосерит сама настороженно оглянулась на стражников.
— Почему же в Амарне они не мучились?
Амарну построили царица Нефертити и ее супруг. После ее смерти город пришел в запустение, а когда Хоремхеб сделался фараоном, он разрушал здания в Амарне и камни оттуда шли для строительства в Фивах. Поговаривали, что от построек Эхнатона и Нефертити ничего не осталось.
Рамсес понизил голос.
— Наверняка кто-то в Амарне знал, как поднимать воду из Нила, даже если нет разлива. Вы подумайте, ведь Еретик принимал в Амарне людей из всех стран. Может, хетты и принесли чуму, зато ассирийцы принесли знания. Пасер просмотрел старые летописи: при Еретике самое великое празднество состоялось в год засухи. На следующий год, когда правила Нефертити, хранилища Мерира, верховного жреца, ломились от зерна. Наверное, ассирийцы увидели высохшие поля и смогли чем-то помочь.
— Даже если они помогли, — рассудительно заметила Уосерит, — от Амарны ничего не осталось. Город почти весь занесен песками, а что осталось — разрушено и разграблено.
— Кроме гробниц. — Рамсес широко улыбнулся. — В детстве Пенра помогал отцу возводить гробницу Мерира в горах к северу от Амарны. И он отлично помнит, как его отец изобразил привязанную к шесту корзину — приспособление, с помощью которого поднимали воду из Нила. Пенра никогда раньше такого не видел, а отец объяснил ему, что благодаря этому изобретению Мерира стал самым богатым жрецом в Египте.
— Рамсес, — произнесла Уосерит тем же тоном, каким говорила со мной моя няня, — до посева осталось лишь два месяца. Возлагать все надежды на неведомый рисунок, который помнит зодчий, если он правильно помнит…
— Разумеется, мы продолжим искать решение! Но все же это лучше, чем ничего!
— А что он намерен делать? — спросила я. — Отправиться в гробницу Мерира в Амарне?
— Да, — ответил Рамсес. — Я дал ему дозволение.
Я удивленно прикрыла рот рукой, а Уосерит даже отступила.
— Да ведь гробницу не достроили! — воскликнул Рамсес. — Мы не нарушим покой Мерира, не оскорбим его акху. Когда Нефертити вернулась в Фивы, гробницу просто забросили. Если Пенра найдет рисунок…
— Если… — шепотом повторила Уосерит, и Рамсес поднял ладони.
— Ты права, уверенности у нас нет, однако попытаться следует. Амарна ближе, чем Ассирия.
— А купцы? Или посланники?
— И когда они прибудут в Фивы? Через два месяца? Или три? Мы не можем столько ждать. — Рамсес повернулся ко мне: — Никто, кроме нас, знать ничего не должен. Если Пенра найдет рисунок, мы скажем, что он сам это изобрел. Незачем говорить, что рисунок — из Амарны.
Тяжелые двойные двери Большого зала распахнулись, и появилась Хенуттауи.
— Пенра нельзя ехать одному, — быстро сказала я. — В горах всякое может случиться. Нужно послать с ним надежного человека.
Рамсес кивнул.
— Ты права. С ним поедет Аша.
Ночь за ночью, независимо от того, чья была очередь — моя или Исет, Рамсес приходил в мои покои. Теперь он не просил меня читать письма на чужих языках, а усаживался у огня и разглядывал непонятные рисунки на листах папируса. Рамсес хотел быть со мной, даже когда ему не требовалась моя помощь, и от этого сердце мое переполнялось такой любовью, что чуть не разрывалось. «Исет ошибается, — ликовала я. — Рамсес медлит не потому, что ждет, пока она родит ему сына. Он ждет, пока меня признает простой народ, и тогда фараон объявит меня главной супругой».
Несмотря на свое счастье, я тревожилась — тревожилась за его здоровье. Среди ночи Рамсес разбирал рисунки, принесенные зодчими, в надежде найти что-нибудь подходящее. Он сидел у огня, пока не поднималось солнце, и глаза у него делались красные, как у Рахотепа. Так прошел месяц с отъезда Пенра. Однажды, обняв Рамсеса, я сказала:
— Дай себе передохнуть. Ведь ты совсем не спишь, разве можешь ты ясно мыслить?
— Остался только месяц. Почему ни мой отец, ни дед ничего не придумали? Или фараон Хоремхеб?
Я ласково погладила его по волосам.
— Вода в Ниле никогда не стояла так низко.
— Но ведь мой отец знал, что так бывает!
— Не мог же он предвидеть, что разливов не будет целых четыре года! И потом, он вел войну в Нубии и Кадеше.
Рамсес досадливо покачал головой.
— Будь у нас побольше времени, мы послали бы людей в Ассирию. Они бы узнали, как…
Я взяла его за руку.
— Иди спать. Хватит на сегодня.
Рамсес дал себя уложить, но я знала, что он не спит. Он метался в постели, а я закрывала глаза и желала ему уснуть. Потом в дверь тихонько постучали три раза. Рамсес посмотрел на меня, и я увидела, как расширились его глаза. Он бросился к двери; за ней с папирусами в руках стоял зодчий Пенра, который вернулся из Амарны. Рядом был Аша в дорожной накидке, с аккуратно заплетенными волосами. Я вскочила и быстро накинула что-то поверх прозрачной ночной туники.
— Аша! Пенра! — вскричал Рамсес.
Аша шагнул в комнату, и они с Рамсесом обнялись, словно братья. Пенра низко поклонился. Я взяла Ашу за руку и подвела к огню.
— Как хорошо, что вы вернулись, — искренне сказала я. — Рамсес не спит уже несколько недель.
Аша рассмеялся.
— Мы тоже! — Под глазами у него темнели круги. — Государь, наш корабль сегодня приплыл из Гебта, и мы поспешили сюда на колеснице, потому что дело не терпит отлагательств.
— Все! Все рассказывайте! — потребовал фараон.
Без немеса его волосы блестели на плечах, словно листы красной меди. Он усадил гостей в резные деревянные кресла и подался вперед, внимательно слушая зодчего.
— Все оказалось так, как я запомнил, — сообщил Пенра. — До мельчайших подробностей.
Рамсес взглянул на Ашу.
— С ним был только ты?
— Конечно. Больше никто не знает.
Глядя в суровые серые глаза Пенра, я поняла, что ему, как и Аше, можно доверять. Удастся ли его затея или нет, никто не узнает, что это устройство пришло из города Еретика и некогда его применял верховный жрец Атона. Я задумалась о столице моей тетки. Хотя ее имя стерли со стен Амарны, когда Хоремхеб стал фараоном, быть может, где-то под землей остались ее изображения.
— Гробница находится в горах к северу от города, — рассказывал Пенра. — Мы воскуряли благовония у входа, потом внутри… а вот что мы нашли.
Зодчий развернул папирус с рисунком. Изображение напоминало детские качели — столб, а с двух концов сиденья. Только вместо сидений на одном конце была глиняная черпалка, а на другом — тяжелый камень.
— Все так просто… ось в середине… — Рамсес передал мне рисунок, а сам в изумлении взирал на Пенра. — Ты думаешь, это сработает?
— Да. Если взять большую тростниковую корзину и обмазать смолой, можно будет начерпать столько воды, сколько наносят ведрами сотни человек. Если подобрать достаточно тяжелый камень, в день можно поднять пять тысяч дес
[113].
Рамсес перевел дыхание.
— Ты уверен?
— Я все рассчитал.
Зодчий порылся в груде папирусов и протянул один Рамсесу. Я не поняла, что там написано, но и Рамсес, и Аша согласно закивали.
— Такого я еще не видел… — заметил Аша. — Там, в гробнице, десятки изображений фараона-еретика.
Аша встретился со мной взглядом, но тут заговорил Рамсес:
— А вы нашли?..
Аша кивнул.
— Завтра сообщим двору о твоем изобретении, — обратился фараон к зодчему. — Рабочих выберешь сам. Если устройство будет действовать, построишь такие по всему берегу. Ты сослужил мне огромную службу. Другому бы я такого не доверил.
Пенра смущенно опустил голову. Рамсес проводил его до дверей, а Аша протянул мне свернутый лист папируса.
— Это тебе, — тихонько произнес он.
Я взглянула на Рамсеса и осторожно развернула лист. Внутри оказался не рисунок, а маленький кусочек штукатурки с росписью — смуглая женщина на колеснице. Даже если бы живописец не раскрасил глаза незнакомки, я бы все равно ее узнала. Мне пришлось сжать губы, чтобы они не дрожали.
— Это Рамсес просил отыскать для тебя, — ласково сказал Аша. — Ты для него — единственный свет в небе.
Я заморгала.
— Откуда же он знал?..
— Он не знал. Знал только, что там множество изображений придворных. Я бы и портрет твоей тетки привез, только…
Я кивнула и договорила вместо него:
— Их все уничтожили.
— Но Хоремхеб оставил изображения твоих родителей.
Я сжимала в руках кусочек штукатурки. Мне казалось, что ка моих родителей стали ко мне ближе. Из всех подарков Рамсеса этот — самый драгоценный.
Я подождала, пока выйдут Аша и Пенра, и положила портрет в наос матери. И когда Рамсес спросил, о чем я думаю, я ответила ему без слов.
На следующий день в тронном зале объявили новость. Сначала воцарилась тишина, а потом люди разразились удивленными и радостными криками. Старики, которых позвали во дворец из окрестных деревень, смущенно переглядывались.
— Если устройство заработает, — сказал Рамсес, — урожай будет и в этом году, и всегда.
Я наклонилась к нему и прошептала:
— Почему же они не радуются?
— Опасаются. Хотят сначала увидеть, как оно работает.
— Они должны быть благодарны, — заметила я. — Ни одному из фараонов Египта не удавалось так сильно изменить жизнь народа.
Вечером в покоях Пасера Уосерит тоже не спешила радоваться.
— Ну почему никто не понимает, чего добился Пенра? — восклицала я.
— Сначала нужно убедиться, что устройство работает, — спокойно ответила Уосерит. Несмотря на жар от углей, она куталась в теплую накидку. — И не забывай про Исет, — напомнила жрица. — Через два месяца она родит Рамсесу первенца.
Я почувствовала в горле комок — мне до сих пор не удалось зачать.
— Ты принимала корень мандрагоры? — спросила Уосерит.
— Конечно! — Я вспыхнула. — Мерит мне все время дает.
— А жертвоприношения делала?
Я кивнула и смутилась — выходит, боги не хотят меня слушать. Что, если Таурт, покровительница материнства, не расслышала мой голос среди тысяч других? Да и с чего бы ей услышать? Я — одна из двух жен, племянница Отступницы, царицы, оскорбившей богов.
Уосерит вздохнула:
— Что ж, у нас ведь есть и хорошие новости.
— То, как ты ведешь дела в тронном зале, возбуждает в Фивах множество толков, — сказал Пасер. — Мне больше не нужно направлять к тебе чужеземных посланников. Они теперь сами к тебе просятся.
— Это большая честь, — пояснила Уосерит. — К Исет они никогда не просились.
— Будут проситься, если она станет главной супругой, — заметила я, думая о будущем. — Люди мне не рады. Я могу раздавать зерно хоть до месяца тота, только это ничего не даст.
Пасер твердо сказал:
— Ты не в ответе за своих родственников.
— Тогда почему я обречена жить в их тени?
— Потому что они — великие люди, — ответила Уосерит, — и отбрасывают большую тень. Но ты идешь своим путем. Ты становишься помощницей и советницей Рамсеса. Если ты дашь Египту наследника, у народа будет меньше причин желать возвышения Исет.
Глава тринадцатая
КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СЕБЯ
— Госпожа! — раздался за дверью голос Мерит. — Госпожа, началось!
Я посмотрела на Уосерит, а Пасер открыл дверь, и перед нами предстала моя няня с пылающим лицом.
— Господин советник… госпожа… — Мерит поклонилась Пасеру и жрице и шагнула в комнату. — У госпожи Исет начались роды.
Я вскочила, но Уосерит предостерегающе подняла руку.
— Ступай оденься как подобает. Пусть Рамсес видит Исет вспотевшей, а тебя — юной и свежей.
Сердце у меня забилось быстрее. Ведь Исет может и умереть во время родов. Нет, нельзя, чтобы Таурт услышала такие мысли. Богиня накажет меня за злобу и недоброжелательство.
— Никто не может предсказать приход Анубиса, — решительно заявила Уосерит, — но если Исет переживет роды, не жди, что Рамсес так и будет ходить к тебе каждую ночь, как последние месяцы. Он должен чтить обычаи и проведет с ней положенные десять дней.
— Рядом с кричащим младенцем?
— Нет, конечно, — ответила Мерит. — Дитя будет спать с кормилицей.
Я отправилась к себе и надела самый лучший наряд и самый красивый парик. Когда Мерит красила мне глаза, во дворце зазвонили колокола.
— Если три раза, значит сын, — прошептала няня.
Мы слушали, затаив дыхание. Колокола отсчитали три удара, потом был перерыв, потом жрицы зазвонили снова. Я бросилась вон из покоев.
— А плащ? — крикнула Мерит вслед. — Холодно же!
Но я не чувствовала утренней прохлады. Как повлияет на Рамсеса рождение сына? Не станет ли он приходить ко мне реже, не начнет ли проводить больше времени с Исет? Я спешила по залам дворца к родильному покою, выстроенному еще моим дедом. Завидев толпящихся у дверей придворных, я остановилась. Внутрь никого не пускали.
Хенуттауи при виде меня улыбнулась.
— А, царевна Нефертари. — Жрица окинула оценивающим взглядом мой наряд. — Моя сестра сделала из тебя маленькую царицу и рассчитывала усадить на трон рядом с Рамсесом, как главную супругу фараона. Только теперь ничего не выйдет.
Я встретилась с ней взглядом.
— Откуда тебе знать? Никто не верит, что твоими устами говорит Исида.
Жрица вся подобралась, но тут увидела приближающуюся Уосерит и торжествующе прошептала:
— Исет только что родила Рамсесу сына, здорового царевича. Рамсес должен объявить ее главной женой.
— Да, Хенуттауи, — заметила Уосерит. — Ты, верно, рада. Ведь если бы не твои старания, ее дитя могло быть сыном Ашаи.
Красные губы Хенуттауи сжались в тонкую полоску. Я поняла, почему после того случая, когда Исет в гневе назвала это имя, Уосерит ни разу его не упомянула. Она ждала, собирала сведения.
Уосерит повернулась ко мне, и глаза ее сияли.
— Видишь ли, Нефертари, до того как выйти замуж за Рамсеса, Исет любила молодого хабиру по имени Ашаи. К сожалению, он был простой живописец. Однажды бабка Исет застала их в комнате вдвоем и пригрозила, что лишит внучку наследства, но влюбленная Исет не испугалась. Об этом стало известно Хенуттауи, которая усмотрела интересную возможность: красивая девушка из гарема, одного возраста с Рамсесом, имеющая тайное увлечение. Вот бы чем воспользоваться! Зная мою сестрицу, могу предположить, что она даже наняла кого-нибудь — припугнуть Ашаи.
Хенуттауи злобно произнесла:
— Ты позоришь богиню Хатор своей ложью.
Уосерит продолжила заговорщицким тоном:
— И вот к молодому хабиру, простому живописцу, является какой-нибудь слуга — нет, кто-то более могущественный: например, верховный жрец с леопардовой шкурой на плечах — и сообщает, что девушка, в которую тот влюблен, предназначена в жены самому царевичу. У любого хватит разума отступиться. Ашаи оставил Исет, взял себе девушку из своего племени; больше он не стоял на пути Исет к престолу. Взамен моя сестра собиралась просить покровительства своему храму. Исет, разумеется, думает, что Ашаи ее просто-напросто разлюбил. А если она услышит о поступке моей сестры?
Не знаю, откуда Уосерит все это узнала; столь важные сведения она поднесла мне словно на блюдечке.
— У Нефертари хватит ума молчать, — пригрозила Хенуттауи. — Пусть только заговорит, я подниму против нее всех жрецов в Фивах.
Уосерит пожала плечами.
— Они и так все против нее. Думаешь, мы не понимаем — имей ты возможность погубить Нефертари, давно бы погубила.
Двери родильного покоя распахнулись. Появился счастливый Рамсес, и я почувствовала укол ревности: это счастье ему подарила Исет.
— Улыбайся! — шепнула Уосерит.
— Нефертари! — крикнул Рамсес на весь зал, и у меня мелькнула эгоистичная мысль, что, быть может, его услышит Исет в родильном покое.
Он устремился к нам, пробираясь среди кланяющихся придворных.
— Ты уже знаешь? — радостно спросил он.
— Да, — улыбнулась я. Правда, моя улыбка напоминала, наверное, гримасу Беса. — У тебя сын.
— Исет здорова. Она даже попросила принести ей арфу. Ты когда-нибудь слышала, чтобы так быстро оправлялись после родов?
— Нет, — ответила я, стараясь не показать, как мне тяжело. — Наверное, боги хранят наш дом.
Рамсесу было приятно это слышать. Легкий сквозняк задел его немес, голубые и белые полосы затрепетали; Рамсес буквально сиял, несмотря на серый утренний свет. Никогда я не видела его таким гордым и снова пожалела, что не я тому причиной.
— Пусть готовятся к пиршеству, — сказал фараон. — Скажи моим советникам, что сегодня в Фивах праздник. Отдыхать будут все, до последнего ремесленника.
Жрицы, не переставая, били в колокола; в завешанной циновками комнате Пасера было чуть тише, чем в коридорах.
— Как его назвали? — мрачно спросила Уосерит.
— Акори, — ответил Пасер. — Но пусть это даже и мальчик, он вовсе не обязательно станет наследником. Он просто царевич.
— Старший царевич, — напомнила я. — И если Рамсес не назначит…
— Фараон никогда не говорил тебе, что хочет сделать тебя главной женой?
Я грустно покачала головой.
— Нет.
— Даже ночью, в твоих покоях? — настаивала Уосерит.
— Никогда.
— Чего же он ждет? — не унималась жрица.
— Наверное, чтобы Нефертари родила ему наследника.
Все мы посмотрели на мой живот. Хотя у меня недавно потемнели соски и, по мнению Мерит, это могло быть признаком беременности, стан мой за последний месяц не изменился.
В дверь громко постучали, и у меня заколотилось сердце.
— Это няня, — прошептала я. — Она обещала принести новости.
Мерит заломила руки.
— В родильном покое что-то стряслось!
Уосерит быстро поднялась.
— Откуда ты знаешь?
— Туда вошли лекари и не выходят. Может, мне отнести госпоже Исет чистые простыни?
— Подслушивать? — возмутилась я.
— Конечно, госпожа! Мы ведь не знаем, что там происходит. А если она упрашивает Рамсеса сделать ее главной женой?
«Тогда я не хочу узнать об этом первой», — подумала я, но оборвала себя.
— Если Рамсесу не по душе видеть меня главной супругой…
— Оставь эти глупости! — сказала Уосерит. — Мы знаем, чего он хочет, но Исет постарается склонить его на свою сторону. Весь двор станет твердить, что Рамсесу уже восемнадцать, и нужно выбрать главную жену. Иди! — велела она Мерит. — Узнай, в чем там дело. — Жрица повернулась ко мне: — А ты будь у себя — вдруг понадобишься Рамсесу. Если случится беда, то утешать его должна ты.
Я сидела в своих покоях и ждала новостей. Миновал полдень, но никто ничего не сообщал. Я вышла и остановила спешившую мимо служанку. Тефер, выгибаясь, терся о мою ногу — должно быть, тоже хотел знать, что происходит.
— Ты не знаешь, что там, в родильном покое?
Девушка опустила корзину, собираясь должным образом поклониться, но я нетерпеливо махнула рукой.
— Просто расскажи, и все.
— У госпожи Исет сегодня родился сын.
— Я знаю. Почему перестали звонить колокола?
Девушка непонимающе смотрела на меня.
— Быть может, жрицы устали звонить?
Я разочарованно вздохнула и отправилась в Большой зал, где уже собрались придворные. В уголке смеялись Хенуттауи и верховный жрец Амона. Она ласково положила ладонь ему на колено, и ее браслеты нежно зазвенели. Эти двое походили на лебедя с гиеной. Однако ни Уосерит, ни Пасера видно не было, Мерит тоже не появлялась. Слуги подали блюда с утятиной и жареным луком, открыли бочонки с лучшим вином, но как-то нервно друг на друга поглядывали. Я подошла к повару, который сделал вид, что страшно занят. Он схватил стопку пустых тарелок, и тут я поймала его взгляд.
— В чем дело? — спросила я. — Почему не готовятся к вечернему празднеству?
У него на лбу выступил пот.
— Приготовления идут, госпожа. Есть и мясо, и вино…
— Не притворяйся. Что ты слышал?
Повар кашлянул и поставил тарелки на место. Он переглянулся с двумя подручными, и те быстро исчезли. Понизив голос, чтобы не услышала Хенуттауи, повар сказал:
— С царевичем нехорошо, госпожа. Говорят, празднества не будет.
Я шагнула к нему.
— Почему?
— Царевич не слишком крепок. Ходят слухи…
Повар умолк, не желая упоминать имя Анубиса в доме, где только что родилась новая жизнь.
Я поблагодарила его и вернулась в свои покои. Опустившись на колени перед наосом, я зажгла благовония у ног богини Мут. Я думала о том, как мне было бы больно, если бы у меня отняли мое дитя, и молилась за ка маленького мальчика, который может не узнать объятий любящего отца.
— Он так мал, — говорила я богине! — А Рамсес впервые стал отцом. Ты еще не знаешь, кто такой Акори, но это сын моего супруга, и он так мал, что никому не мог причинить зла.
Дверь открылась, и вошла моя няня, а за ней Уосерит.
— Я уже знаю, — сказала я, вставая. — Слышала в Большом зале.
Уосерит втянула воздух и со странным выражением лица спросила:
— Ты молилась за ребенка Исет? — Жрица покачала головой. — Не трать попусту благовония. Царевич умер.
— А женщина, за дитя которой ты молилась, — вставила Мерит, — обвиняет в этом тебя! Дескать, ты похитила его ка и погубила его.
— Не может быть! Кому она так сказала? — вскричала я. — Когда?
— Всем в родильном покое, — ответила Уосерит.
Я едва держалась на ногах. Няня бросилась подать мне стул, а Уосерит добавила, что к ночи об этом узнают все Фивы.
— А Рамсес? — Я перевела дух. — Что он говорит?
— Он ей, конечно, не поверил. Да и кто поверит?
— Другие скорбящие матери! Египтяне, которые думают, что племянница Отступницы владеет магическими чарами, как и ее тетка. А я царевича даже не видела! Неужели она сама в это верит?
— Исет суеверна она внучка крестьянки, которую Хоремхеб подобрал на берегу реки. Конечно, она верит.
— Как же доказать всем, что я не виновата? — прошептала я.
Уосерит покачала головой:
— Не нужно доказывать. Люди верят тому, чему хотят верить. Когда ты понесешь дитя, станет совершенно неважно, что они болтают. Держись за Рамсеса.
Я плакала, уткнувшись в ладони.
— Бедный Рамсес — он потерял первенца!
— Теперь твоему ребенку открыта дорога к трону! — жестко сказала Уосерит.
Я в ужасе уставилась на нее.
Я знала, что в ту ночь Рамсес ко мне не придет. Нехорошо ему приходить ко мне в спальню, когда Исет, потерявшая ребенка, лежит в родильном покое. Весть о смерти царевича разнеслась по дворцу, и веселье мигом стихло. Все начали молиться Амону. Я больше не стала воскурять благовония и вышла на балкон. Я вдыхала холодный воздух, а ветер трепал мой плащ. Мерит не решилась позвать меня в комнату. «За что? — думала я. — Чем я прогневала Амона? Ведь не я отвернулась от богов, а мои акху. Не я!»
Ветер дул все яростнее. Вскоре, словно звезды в ночном небе, на дороге, ведущей к воротам дворца, стали появляться какие-то огоньки. Сначала они напоминали маленькие искорки, но когда приблизились, я услышала завывания толпы и поняла, что означает эта сверкающая река.
— Мерит! — закричала я.
Няня выскочила на балкон, и я, испуганная, указала в темноту.
Перед дворцовыми воротами дрожали тысячи факелов, а вопли «Еретичка!» стали такими громкими, что заглушали шум ветра.
В мою комнату ворвались два воина, за ними вбежал Рамсес. Лицо у него было бледное, как луна. Один из стражников выступил вперед.
— Госпожа, тебе нужно укрыться в безопасном месте. Перед дворцом целая толпа народу. — Воин смущенно посмотрел на Рамсеса. — Кое-кто думает, что это госпожа виновата…
— В смерти царевича? — в страхе спросила я.
Рамсес растерянно смотрел на меня.
— Я уверен, ты ни при чем, Неферт. Ты его даже не видела.
— А если бы видела? — вскричала я. — Неужели ты…
— Но он был совершенно здоров!
В голосе Рамсеса слышались слезы.
Я медленно отступила.
— Ты же не думаешь, что…
— Н-нет! — Рамсес запнулся. — Не думаю. Нет, конечно.
— Тогда почему ты пришел?
— У ворот тысячи людей, а стражников только сотня. Я отправил Ашу за войском.
Я повернулась к стражникам; эти седовласые воины побывали, наверное, во многих боях от Ассирии до Кадеша, но в их глазах затаился страх. Народ в Фивах сильно разгневан, раз люди решились плыть среди ночи по Нилу в утлых лодчонках.
— Если сломают ворота, — сказал тот, что повыше, — мы не сможем тебя защитить, царевна. Мы отведем тебя в сокровищницу, там самые крепкие стены.
Я посмотрела вниз. Крики не стихали. Бронзовые ворота дрожали под ударами кулаков, стражники уговаривали толпу разойтись.
— Нет, — решилась я. — Я к ним выйду. Если я не поговорю с ними сама, их ничто не разубедит.
— Они тебя убьют, царевна! — воскликнул стражник.
Рамсес изумленно смотрел на меня.
— Я пойду с тобой.
— Госпожа, не делай этого! — умоляла Мерит.
Мы спешили по залам, а няня семенила позади. Я приказала ей вернуться в мои покои. От страха глаза Мерит стали огромными; я и сама понимала, что поступаю неблагоразумно, делаю как раз то, от чего предостерегал меня фараон Сети.
Придворные, в страхе перед тем, что может случиться, торопливо запирали изнутри двери своих покоев. Если войско не успеет подойти, тысячи простолюдинов вломятся в ворота и разнесут дворец. Как только мы оказались во дворе, наши стражники испуганно отступили, глядя на ворота, которые тряслись под сильными ударами. Лучники на стенах не сводили глаз с толпы, держа луки на изготовку. Рамсес до боли сдавил мне руку. У меня в висках стучала кровь, заглушая и вопли толпы, и вой ветра. Мы подошли к лестнице, ведущей на стену, и Рамсес, перекрывая шум, крикнул охранявшим лестницу воинам:
— С дороги! Пропустить!
Стражники разглядели его немес и отступили. Словно не веря своим глазам, смотрели они, как мы поднимаемся на стену. Когда мы достигли верха, мне на миг показалось, будто горы пылают, — но это пылали в холодной ночи тысячи факелов.
В толпе разглядели корону фараона, и вопли утратили решимость — его присутствие заставило всех приумолкнуть.
Я удивлялась отваге Рамсеса; он поднял руку и заговорил с толпой.
— Вы жаждете крови еретички! — крикнул фараон сквозь бурю. — Я говорю вам: здесь нет вероотступников!
Снизу раздались злобные протестующие крики.
— Я — отец умершего царевича Я желаю иметь наследника больше, чем кто-либо другой. И если я сам вышел сюда и говорю, что не было никакого колдовства, — вы должны мне верить!
По толпе пробежал беспокойный ропот. Рамсес продолжил:
— Перед вами — та, кого вы называете еретичкой и безбожницей, царевна Нефертари. Неужели она похожа на женщину, которая занимается ворожбой? Неужели она похожа на безбожницу?
— Она похожа на Нефертити! — крикнул какой-то старик.
Люди стали поднимать факелы повыше, стараясь меня разглядеть. Толпа сильнее нажала на ворота. Рамсес держал меня за руку и не двигался с места. Снова раздались крики «Безбожница!», и Рамсес заговорил с такой яростью, что его, наверное, слышали в городе.
— Кто здесь думает, что фараон взял в жены безбожницу? Кто думает, что сын фараона-завоевателя решился навлечь на себя гнев богов?
Это было умно: никто не посмеет обвинить самого фараона в непочтении к богам. Злобные крики стихли, и Рамсес повернулся ко мне.
— Это так! — крикнула я. — Я — племянница Отступницы! Но вы же не отвечаете за грехи своих дедов, так почему должна отвечать я? Кто из вас выбирал себе акху? Если бы мы могли выбирать, все родились бы в царской семье!
По толпе пробежал удивленный ропот, и рука Рамсеса, державшая мою, слегка ослабла.
— Каждый отвечает за себя! — продолжала я. — Если бы после нашей смерти Осирис взвешивал вместе с нашими сердцами сердца наших акху, кто из нас попал бы в загробный мир?
Рамсес взирал на меня с изумлением. За воротами наступила тишина, как будто никто не двигался, никто не дышал.
— Возвращайтесь домой! — крикнул Рамсес. — И не мешайте нам скорбеть.
Людское море внизу постепенно растворялось. Толпа расходилась медленно. Некоторые женщины еще выкрикивали угрозы, другие обещали, что вернутся, но прямая опасность миновала. Через несколько минут Рамсес повернулся ко мне.
Во дворце он прислонился к стене и закрыл глаза.
— Прости мне мои сомнения, — прошептал он.
— Я все понимаю.
Но в глубине души я знала: когда-нибудь Исет убедит его, что я и вправду безбожница, и, как бы я ни старалась, мне не удастся доказать обратное.
Глава четырнадцатая
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ВЗАМЕН
Следующие две ночи Рамсес не приходил, но в окружавшей меня тьме забрезжил свет. На второй день месяца пахона мое тело подтвердило надежды, которые Мерит питала уже целый месяц. Я сообщила об этом Уосерит и Пасеру, а няня, услышав новость, на радостях издала такой вопль, что Тефер в ужасе скатился с кровати.
— Беременна? — кричала она. — Нужно сказать фараону Рамсесу! Как только он узнает…
— Вспомнит царевича Акори и подумает, что Исет была права.
Мерит отшатнулась.
— Никогда так не говори!
— Она обвинила меня в том, что я похитила ка ее ребенка, а теперь я жду собственного.
— Фараону такое и в голову не придет! Исет — глупая и суеверная. Нужно сообщить ему новость.
— Если он придет.
— Придет, госпожа, дай только срок.
Прошло еще четыре дня, а на пятую ночь, когда стало ясно, что он не придет, я разрыдалась в подушку, изливая свои горести белому полотну. Мерит гладила меня по голове.
Я плакала не просто от одиночества. Над Малькатой темной пеленой висела скорбь. Рамсес каждое утро бывал в тронном зале, но никогда не смеялся, и, даже когда ему сообщили, что устройство, созданное Пенра, отлично работает, лицо его не потеряло угрюмого выражения. Придворные в Большом зале смотрели на меня косо, и сама Уосерит со мной почти не разговаривала. Мне очень хотелось рассказать Рамсесу о своей беременности, но жрица взяла с меня слово, что я ничего ему не скажу, пока он не придет ко мне сам.
Он пришел на седьмой день месяца пахона, на рассвете. Рамсес присел на краешек моей постели; я обняла его и увидела у него на лице слезы. Казалось, кто-то отнял у него всю жизнерадостность, весь задор.
— Жрецы говорят, что такова воля богов, — прошептал Рамсес. — Неужели боги хотели, чтобы Анубис забрал дитя фараона, его первенца?
Он снял немес, и я гладила его по голове.
— Я этого тоже не понимаю, — сказала я. — Но, быть может, когда боги увидели, как ты скорбишь, они решили дать тебе взамен другое дитя?
Я положила его руку себе на живот, и у Рамсеса перехватило дыхание.
— Ребенок?
Я тихонько улыбнулась.
— Да.
Рамсес сжал мои руки в своих.
— Амон нас не оставил! — вскричал он. — У нас ребенок, Неферт! Другое дитя! — Не переставая повторять эти слова, Рамсес притянул меня к себе и посмотрел мне в глаза. — В тот день, на балконе…
— Какие пустяки! — быстро перебила я.
— По-настоящему я все равно не думал…
Я прижала палец к его губам.
— Знаю, — солгала я. — Это все крестьянские суеверия.
— Да. Родители у Исет были люди суеверные. А потеряв Акори, она совсем обезумела, — признал Рамсес. — Я обещал построить в Фивах усыпальницу для царевича — для всех нас, но ей все мало. Даже цветы у ворот ее не утешают.
— Что? Какие цветы?
Рамсес отвел взгляд. Я отодвинула длинную льняную занавеску и увидела, сколько цветов нанесли женщины к дворцу: тяжелые бронзовые ворота были увиты цветами, а за ними, сколько хватало глаз, лежали лилии — символ возрождения.
— Как же они ее любят, — прошептала я, надеясь, что Рамсес не заметит, как меня это расстроило.
— Тебя тоже полюбят, — пообещал Рамсес. — Ты станешь матерью старшего царевича.
Рамсес шагнул к двери в комнату няни, позвал ее и приказал сообщить всем радостную весть.
В тот день мы принимали просителей. В тронный зал я вошла вместе с Рамсесом; сановники смотрели на нас, но обрадовался мне только Пасер. Все уже знали, что я жду ребенка. Исет сидела на своем троне. «Видно, — подумала я, — Хенуттауи велела ей прийти». Лицо у Исет вытянулось, глаза ввалились; она, не отрываясь, смотрела в одну точку у себя под ногами.
— Исет! — Рамсес ласково взял ее за руку. — Зачем ты пришла? Ты хорошо отдохнула?
— Как я могу отдыхать, — вяло произнесла она, — когда кто-то украл жизнь у нашего сына. Повитухи сказали, что он был такой здоровенький, закричал сразу, как только появился на свет.
Рамсес взглянул на меня.
— Но родильный покой защищают Таурт и Бес…
— Разве они могут защитить от черного глаза? — вскричала Исет, и игравшие в сенет старики испуганно завертели головами. — Разве могут они помешать злым чарам, похитившим ка царевича? Есть только одна женщина, которой захотелось бы забрать душу нашего ребенка!
От стола, где сидели советники, к нам метнулся Рахотеп.
— Госпожа Исет нездорова. Я отведу ее к ней в покои.
— Я совершенно здорова! — взвизгнула Исет. — Я здорова!
Платье у нее на груди промокло, и она заметалась взглядом по залу.
Рамсес положил руку ей на плечо.
— Иди отдохни. Пенра будет показывать нам план храма. Как только мы закончим, я приду к тебе.
Исет глубоко дышала, колыхались ее тяжелые от молока груди. Она не двинулась с места.
— Придешь, хотя теперь очередь Нефертари? — с вызовом спросила она.
Прежде чем ответить, Рамсес помедлил.
— Да.
Исет метнула взгляд на меня, и я увидела в ее глазах боязнь. Она и вправду думает, что я похитила ка ее ребенка, что я убийца! Потом она успокоилась, изящно поднялась и вышла. Кто-то из придворных пробормотал:
— Это ведь только первый ребенок, у нее будут и другие.
Двери захлопнулись. Придворные смотрели на меня и шептались.
— Давай позовем Пенра, — сказала я, стараясь, чтобы не дрожал голос.
Мы ждали в полной тишине, пока наконец глашатай не объявил:
— Зодчий Пенра, сын Ирсу, начальник строительных работ.
Пенра вошел в зал с торжествующим видом. Он загадочно улыбался. За один месяц устройство, созданное им по рисункам из гробницы Мерира, распространилось по всей реке. К концу сезона шему будет первый за четыре года урожай, и в житницы достроенного луксорского храма засыплют зерно. Теперь зодчий приступал к возведению величайшего в Египте заупокойного храма.
За Пенра следовали два писца, неся на широкой доске глиняный макет, накрытый полотном. Пенра почтительно воздел руки.
— Государь! — провозгласил он. — Вот Рамессеум!
Зодчий сдернул покрывало, и придворные восхищенно забормотали.
— Вот самый большой заупокойный храм в Фивах, — начал объяснять Пенра. — Он будет стоять рядом с храмом Сети. Здесь, — показал он, — два пилона, высоких, как пилоны луксорского храма.
По каменному полу заскрипели ножки кресел: придворные подались вперед, чтобы лучше видеть.
— За вторым двором будет крытая галерея с сорока восемью колоннами, примыкающая к внутреннему святилищу.
У стола визирей раздался изумленный шепот.
Пенра снял крышу, показав расписной потолок: синее небо с рассеянными по нему золотыми звездами.
— В храме три зала: гробница Рамсеса Великого, которая простоит миллион лет.
Все присутствующие онемели. Никто не смеет давать фараону прозвище, фараон избирает его сам. Все смотрели на Рамсеса, ждали его ответа.
— Рамсес Великий, — повторил он, — и его Рамессеум, который простоит миллион лет…
Пенра гордо расправил плечи.
— К северу от галереи будет заупокойный храм самых прекрасных цариц Египта.
Я увидела две статуи — свою и Исет, причем одного роста. Наверное, это должно было мне польстить, но я забеспокоилась. Ведь строительство заупокойного храма длится много лет и требует много средств.
В ту ночь, перед тем как идти к Исет, Рамсес зашел ко мне.
— Откуда же возьмутся деньги на строительство? — спросила я.
— Мой отец получает дань от десятков стран. Я видел подсчеты. Денег хватит на три Рамессеума. Пусть наши потомки о нас помнят. — Рамсес посмотрел на мой живот и притянул меня к себе. — Наш маленький фараон, — с любовью сказал он.
Глава пятнадцатая
АХМОС ХАЛДЕЙСКИЙ
Вот уже два месяца, как к воротам Малькаты беспрестанно приносили цветы; каждый раз, когда мы выезжали посмотреть на строительство Рамессеума, стражникам приходилось расчищать дорогу. Исет всякий раз сходила с колесницы, и все ждали, пока она выберет самые лучшие цветы и украсит ими волосы — в знак того, что она родила и потеряла первенца фараона.
Расхаживая по комнате Пасера, Уосерит возмущалась:
— Когда это кончится? Ворота завалены цветами, в храме Хатор рыдают женщины. Можно подумать, умер не младенец, а двое восемнадцатилетних царевичей-близнецов.
— Говорят, Исет опять понесла, — заметила я. — Мерит слышала в бане.
Уосерит повернулась к Пасеру.
— До того как она родит, нужно убедить всех, что из Нефертари получится лучшая царица. О чем только люди думают? Нефертари знает восемь языков, все посланники ею очарованы — от ассирийских до родосских.
— Никак не забудут фараона-еретика, — объяснил Пасер. — Их деды твердят о тех днях, когда из Египта изгнали всех богов, Амон от нас отвернулся и наслал мор. Я недавно перехватил донесение из Нубии, в котором говорится, что грядет новый мятеж. Если фараон встанет во главе войска, править вместо него будет Нефертари.
— У тебя появится возможность показать людям, как ты будешь править, если станешь главной женой.
— Нет!
Мои собеседники уставились на меня.
— Рамсес обещал взять меня с собой! На кого ему лучше положиться — на нубийского переводчика или на меня?
— Ты носишь его ребенка, — напомнила Уосерит. — К чему рисковать наследником? Носилок там нет. Придется все время ехать в колеснице, воды будет мало. Этот мятеж — твоя единственная возможность доказать всем, что ты не такая, как Отступница.
Я посмотрела на свой едва наметившийся живот. Если Рамсес оставит меня в Фивах, смогу ли я завоевать сердца людей, или же народ возненавидит не только меня, но и мое дитя?
Пасер, сидевший в резном деревянном кресле, подался вперед.
— Не проси его взять тебя на войну. Нет ничего важнее ребенка.
— А как же Исет? Если Рамсес не выберет главную жену, нам придется сидеть в тронном зале вдвоем!
Уосерит подняла четко очерченные брови.
— Именно! И это будет интереснейшее зрелище.
В ту ночь Рамсес потихоньку оставил Исет и принес мне свитки, найденные у схваченного нубийского купца. Мы уселись на балконе, и я переводила одно письмо за другим. Написаны они были весьма неосторожно, в них подробно говорилось о планах восстания в первый день месоре, то есть в самую жару, когда египетское войско не сможет проходить большие расстояния. Если фараон уедет, неизвестно, когда он вернется и что может случиться в его отсутствие.
— У них больше тысячи человек, — заключила я, — готовых захватить дворец и убить наместника.
— Значит, Пасер был прав. — Рамсес поднялся и посмотрел с балкона вниз. Летний ветерок доносил из парка запах лаванды и стрекот насекомых. — Я должен написать отцу и посоветоваться с военачальниками. Через месяц отправлюсь с войском в Напату — напомнить нубийцам, кому они должны подчиняться. — Рамсес увидел выражение моего лица и понизил голос: — Ты тоже могла бы поехать…
Он замолчал, и мы оба посмотрели на мой живот.
— Нет. Это слишком опасно.
Но мы отлично понимали, как я хочу поехать. Я встала рядом с Рамсесом, он взял меня за руку, и мы вместе смотрели в ночь, слушали шорох ветра, побегавшего по верхушкам сикоморов.
— Я вернусь к тебе целый и невредимый, — пообещал Рамсес. — А как поеду опять, возьму и тебя. Даже в самые далекие земли Ассирии.
Я грустно рассмеялась.
— И как же я туда доберусь?
— Возьмем паланкин. Понесем тебя через пустыню, словно ковчег Амона.
Тут я рассмеялась уже по-настоящему, и Рамсес продолжил:
— Следи без меня за строительством храма в Луксоре, и еще — из Нубии пришел груз золота и черного дерева — для Рамессеума. Я доверяю только тебе.
— А как же Исет?
— Строительством Рамессеума она руководить не сможет. Пусть занимается подготовкой к празднеству Уаг. И если на приеме в тронном зале у нее что-то не получится, помоги ей, хорошо? Не хочу, чтобы посланники сочли ее совсем глупой.
«Поздно», — подумала я, сдерживая улыбку.
— Конечно, помогу.
Перед рассветом озеро заполнилось кораблями; Аша руководил погрузкой колесниц. С тех пор как Рамсес узнал о готовящемся мятеже, минул целый месяц, и вот тысячи вооруженных людей прощались с женами и детьми. Мы стояли на пристани; Рамсес взял меня за подбородок.
— Я иногда забываю, какая ты у меня маленькая, — нежно сказал он. — Пусть Мерит хорошенько о тебе заботится. Слушайся, даже если тебе не хочется. Теперь ей нужно присматривать за двоими.
Я посмотрела на свой едва округлившийся живот — а вдруг богиня Таурт оставит меня, как оставила когда-то мою мать? Быть может, если каждый день воскурять благовония и напоминать ей, что я не дочь Отступницы, а только племянница, богиня простит грехи моих акху. Или наоборот — мои молитвы привлекут лишнее внимание, и во дворец снова придет Анубис?
— Буду слушаться, — пообещала я.
Утреннюю прохладу пронзили звуки труб; жрицы Хатор вместе со жрицами Исиды зазвенели систрами и запели гимн Сехмет, богине войны с львиной головой.
Рамсес подошел к Исет и поцеловал ее, потом вернулся ко мне.
— Не пройдет и месяца, а я уже буду дома, — пообещал он.
Корабли направились по каналу к руслу реки, а потом медленно поднялись по течению. Наконец исчез из виду последний флаг. Уосерит взяла меня за руку и повела во дворец.
Сановники уже занимали места в тронном зале, а музыканты исполняли «Песню Сехмет». Я думала, что уже смирилась с отъездом Рамсеса, но при виде пустого трона у меня сжалось сердце.
— Теперь ты сможешь показать себя, — подбодрила Уосерит.
— А вдруг люди опять начнут кричать перед воротами?
— Во дворце четыреста стражников. Храм Исиды — вот где серьезная угроза. Подумай, что сделает моя сестра, если ее храм станет самым большим в Фивах! Паломники со всего Египта понесут туда свое золото. И если Хенуттауи объединится с Рахотепом, они обретут такую власть, что станут указывать Рамсесу, какие вести войны и какие возводить храмы. Для чего, по-твоему, Еретик боролся со жрецами Амона? Он сознательно рисковал разгневать богов, лишь бы уничтожить соперников царской власти!
— Почему же Рамсес не видит, чего добивается Хенуттауи?
— Да как же он увидит? Хенуттауи — его любимая тетка. Она учила его, маленького, правильно носить корону хепреш, учила писать свое имя иероглифами. Думаешь, он мне поверит, если я скажу, чего она добивается?
Уосерит ушла, прошуршав подолом по каменному полу. Руки ее были обвиты браслетами из бирюзы — камня богини Хатор. Как жаль, что я не такая высокая и величественная! Уосерит, как и Хенуттауи и Исет, умела привлекать к себе взгляды.
За жрицей закрылись двери, и я вдруг заметила, что тронный зал почти пуст.
— А где все? — спросила я.
Рахотеп повернулся в своем кресле.
— Кто — все?
Под париком у меня выступила испарина.
— Где Исет? Где все придворные?
— Готовятся к празднеству Уаг.
— Исет не собирается принимать просителей?
Жрец поднял брови.
— Наверное, она придет, если надумает.
Музыканты все еще играли — они и будут играть до тех пор, пока глашатай не объявит о приходе просителей. Я сидела на троне и чувствовала, как жар разливается с моей шеи на щеки. Весь двор ушел вместе с Исет, со мной в зале остались только старики, игравшие в сенет. Не слышно веселого смеха дочерей сановников; даже девушки из эддубы, которым Исет никогда не нравилась, и те ушли. Все до единого думают, что она — будущая главная супруга.
Я стукнула о пол золотым жезлом фараона и приказала:
— Пускайте просителей!
К столу советников приблизились трое. Двое держали в руках свитки с прошениями, а третий — деревянный посох. Длинная борода старца была молочно-белой, словно цветы моринги. Египтяне бород не носили, и я пыталась угадать, откуда проситель родом.
— Где твое прошение? — спросил Пасер.
Чужеземец покачал головой.
— Я отдам его только царевне Нефертари.
— Царевна прочитает его потом, а сначала должен посмотреть я.
Пасер протянул руку, но старик стоял на своем:
— Только царевне Нефертари!
— Уведите его! — не выдержал Пасер.
Несколько стражников выступили вперед, но старик закричал:
— Стойте! Стойте. Мое имя — Ахмос!
— Мне это ни о чем не говорит, — холодно отозвался Пасер.
— Ахмос из царства Халдейского.
Пасер поднял руку, и стражники отступили.
— Такого царства не существует, — сказал советник. — Его завоевал Хаммурапи, вавилонский царь, а потом завоевали хетты.
Проситель кивнул.
— Когда пришли хетты, мой народ бежал в Ханаан. А когда египтяне завоевали Ханаан, мою мать привели в Фивы как пленницу.
Хотя Пасер сидел далеко, я заметила, что он даже дыхание затаил.
— Так значит, ты — хабиру?
Рахотеп нацелил на Ахмоса налитой кровью глаз, игроки в сенет замерли. Хабиру — безбожники, опасные люди, которые живут не в городах, а в пустыне, в шатрах.
Ахмос кивнул.
— Да, я хабиру. И хочу отдать прошение царевне Нефертари.
«Быть может, — подумала я, — у него убежала дочь, вот он и стесняется говорить о своем деле вслух».
— Ведите его сюда! — громко велела я.
— Госпожа, этот человек — хабиру, — предостерег Пасер.
— Если он пришел с просьбой, я его приму.
Я понимала, что мое согласие выслушать еретика не понравится придворным, оставшимся в тронном зале. Но ведь я теперь ношу наследника Рамсеса, именно меня фараон желал взять с собой в Нубию. А если бы кто-то отказал в помощи моей матери только потому, что некоторые считали ее вероотступницей?
Ахмос сунул покрытую пятнами руку в складки одежды и извлек свиток. Стражники заняли свои места у дверей, но смотрели на старика с большим подозрением. Он медленно шел через зал, тяжело опираясь на посох. Рахотеп развернулся в кресле и глядел на меня. Не совершаю ли я большую ошибку?
Старик остановился перед возвышением, но в отличие от других просителей не простер ко мне руки. Я расправила плечи.
— Скажи, почему ты пожелал подать прошение именно мне?
— Потому что нас привел в Египет твой дед! — ответил он на языке ханаанеян. — Он заставил нас воевать в его войске.
Я посмотрела на советников — поняли они его слова или нет?
— Откуда тебе известно, что я знаю твой язык?
— Все Фивы знают, госпожа, что ты говоришь на многих языках. — Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом Ахмос протянул мне свиток. — Царевне Нефертари, дочери царицы Мутноджмет и полководца Нахтмина.
Арфистки тихонько перебирали струны, старики в глубине зала вернулись к своей игре и даже засмеялись, когда кто-то сделал неудачный ход.
Я развернула папирус, и кровь бросилась мне в лицо. Я подняла взгляд на Рахотепа — смотрит ли он на меня своим красным глазом?
— Чего ты просишь? — переспросила я.
— Я прошу, чтобы фараон отпустил хабиру из своего войска, — ответил Ахмос. — Чтобы мои люди могли возвратиться в Ханаан.
— Разве они — твои, а не фараона?
— Я — их вождь. В Фивах я — единственный, кто может приблизить их к нашему богу.
— Вы — безбожники.
— Если это означает, что мы верим иначе, чем египтяне, то да.
— Это означает, что вы не поклоняетесь Амону, — сурово сказала я и поверх свитка посмотрела на придворных.
И Рахотеп, и Пасер уже занимались другими просителями.
— Мы верим в единого бога и хотим вернуться в землю ханаанскую.
— Ханаан принадлежит Египту, — напомнила я, возвысив голос ровно настолько, чтобы показать старику свое неудовольствие. — Почему хабиру хотят уйти из Фив и поселиться в диких землях, которые принадлежат Египту?
Ахмос сверлил меня глазами. «Наверное, Пасеру тоже не по себе от такого пронзительного взгляда», — подумала я.
— Тебе известно, каково это, когда тебя заклеймили еретиком и то и дело угрожают. И потому ты одна можешь выполнить мою просьбу. В Ханаане нет египетских храмов, и мы будем веровать в своего бога.
В тот миг я поняла: от моих акху мне никуда не деться. Глядя на свиток, я неожиданно рассердилась на старика.
— Тебя послала Хенуттауи — напомнить, что мои акху были еретиками?
— Твои акху не были еретиками, — ответил он. — Они видели проблеск истины, но их погубила алчность.
— Какой проблеск истины? — спросила я.
— Истины Господа. Фараон Эхнатон называл его Атоном…
— Ты поклоняешься Атону?
— Хабиру называют своего бога другим именем. Фараон называл его Атоном, и фараона сгубила алчность.
— Его сгубило отступничество, — жестко возразила я. Ахмос, похоже, не боялся моего гнева. Глаза у него были спокойны, словно озеро в безветренный день, и мои слова его не пугали.
— Значит, они видели проблеск истины, — продолжала я. Мне не о чем было говорить со странным просителем, но что-то не давало мне покоя. — Кто же показал им истину?
Ахмос наклонил голову.
— Я, — тихо ответил он. — Я воспитывал Эхнатона, когда он ребенком жил в Мемфисе.
Скажи Ахмос, что он был акробатом, я и то не испытала бы такого потрясения. Передо мной стоял человек, который посеял в моем роду семена гибели, — и он просил меня о милости! Если бы не Ахмос, Эхнатон никогда не пришел бы к мысли о едином боге, не заставил бы Нефертити изгнать из Египта культ Амона! И ее не убили бы жрецы Атона, разгневанные тем, что после смерти супруга она захотела вернуть Египту его прежних богов. И если бы мой отец не погиб во время этих событий, кто знает, как бы все повернулось? Быть может, у моей матери не пропало бы желание жить. Я посмотрела на старика и хрипло прошептала:
— Ты погубил мою семью.
Ахмос сразу понял, какой вывод я сделала из его слов.
— Бог может исцелять, а может и убивать. Твои акху выбрали второе, заставили весь Египет голодать ради собственной славы.
— Египет страдал из-за Эхнатона, моя мать тут ни при чем! И отец тоже! — Я даже забыла, что мы с Ахмосом не одни. — Зачем ты мне все это рассказал? — почти прошипела я, с трудом держа себя в руках. — Ты мог просто подать мне прошение и ничего не говорить!
— Мне важно, чтобы ты знала, кто я, и, еще важнее — чтобы не ошибалась на мой счет. Я не поклоняюсь золоту, как фараон Эхнатон.
Когда Ахмос произнес имя моего дяди, я даже вздрогнула, и он поднял брови:
— Престол должен был занять старший брат Эхнатона, а его самого отправили в Мемфис, чтобы он стал жрецом. Эхнатон был младшим сыном, трудным ребенком… он завидовал судьбе старшего брата. Я надеялся, что наш бог его спасет.
— А теперь ты просишь отпустить из войска фараона всех хабиру?
Ахмос твердо смотрел мне в глаза.
— И со строительства пирамид и храмов, и еще — из дворца, где наши женщины вам прислуживают.
— Пусть уходят!
— А из войска? — настаивал Ахмос. — Каждый здоровый мужчина обязан служить в египетском войске. При Эхнатоне войско строило в пустыне города, и нас заставляли трудиться, точно скот. Фараон обещал освободить наш народ, когда будет построена Амарна, но с тех пор на египетском престоле сменились три фараона. А воинов-хабиру так и не отпустили.
— Им платят, как и прочим воинам.
— В отличие от прочих воинов, хабиру не могут оставить службу, пока у них есть силы держать оружие. Если это не рабство и мы не рабы, то кто же мы?
— Вы — египтяне! — горячо сказала я.
Ахмос уверенно покачал головой.
— Нет. Мы — хабиру и желаем свободы.
Я откинулась назад и в изумлении взирала на Ахмоса.
— Даже просто говоря с тобой, я подвергаю опасности свое доброе имя. Ты принес проклятие на моих акху. Народ считает меня вероотступницей, как и мою тетку!
— Считает — потому что в этом зале есть люди, которые хотят, чтобы народ так думал!
Взгляд Ахмоса остановился на верховном жреце Рахотепе.
— Нет.
Но Ахмос, конечно, говорил правду. Я всегда думала, что Хенуттауи подкупила рыночных торговок, чтобы в день моей свадьбы они выкрикивали мне угрозы. Однако на улицах я тогда столкнулась с неподдельной ненавистью: никто не подкупал женщин со взглядами холодными, словно оникс. Нет, людей убедили с помощью слов, куда более сильных, чем золото, убедил кто-то, чья власть над душами гораздо сильнее власти Хенуттауи. А я, наивная, до сих пор этого не понимала!
Ахмос, опершись на посох, подался вперед.
— Я видел его на улицах, — тихо сказал он, бросив взгляд на Рахотепа, который распекал своего просителя. — Он подговаривал народ бунтовать еще до твоей свадьбы, — продолжал старик. — Люди верят, что его устами говорит Амон. А ты можешь убедить их, что Рахотеп лжет, если отпустишь хабиру. Ты скажешь народу, что изгоняешь безбожников из Египта. Тебе нужно убедить всех, что ты почитаешь Амона, а мне — вернуть свой народ в Ханаан. Так изгони же безбожников-хабиру из Египта, и мы оба выиграем.
Сначала я думала только о себе, о том, как воспримет народ изгнание безбожников. Меня будут приветствовать на улицах, звенеть систрами, когда я буду проходить мимо. Рамсес преисполнится гордости за меня и сделает главной супругой. Потом я вспомнила о войске своего мужа, о том, что шестая его часть — хабиру.
— Мы оба выиграем, — сказала я Ахмосу, — но выиграет ли фараон? На севере у нас хетты, с востока готовятся напасть ассирийцы. Думаешь, я соглашусь заработать себе добрую славу ценой поражения фараона? — Я склонилась к нему. — Ты принес прошение не той супруге!
Только тогда Ахмос сверкнул глазами.
— Ты знаешь, что такое гонения! Знаешь, каково это, когда тебя зовут еретичкой. Так подумай, каково нам сотни лет поклоняться своему богу тайно, в страхе, что за нашу веру нас убьют, как приверженцев бога Атона! Все, о чем мы просим, — позволение переселиться из Фив в северные земли Египта…
— Я не могу дать такого позволения без согласия фараона! — не менее запальчиво ответила я.
— Значит, когда он возвратится с победой из Нубии, я снова приду со своей просьбой. — Он переместил взгляд на мой живот. — Хабиру хотят того же, чего хочешь ты: счастливой жизни для своих детей.
Он повернулся, но слова его засели у меня в голове, точно дурной сон.
Мерит аккуратно складывала простыни и убирала их в сундук. Услышав мои шаги, няня удивленно подняла голову. Я затворила за собой дверь, заперла и только тогда прошла в комнату.
— Мерит… — решительно начала я. Няня всегда по голосу знала, если со мной что-то не так. — Мерит, что ты знаешь про верховного жреца Рахотепа?
Няня выпрямилась и, глядя мне в глаза, пыталась понять, насколько я серьезно настроена.
— Ты знала его, еще когда правила Нефертити. Ты рассказывала, что он не хотел оставлять меня во дворце, а ты его уговорила. Сегодня в тронном зале я беседовала с одним просителем… С хабиру, который был наставником Эхнатона.
Мерит слегка побледнела.
— Он рассказал, что верховный жрец восстанавливает против меня народ. Не Исет, не Хенуттауи, а Рахотеп! Как тебе удалось убедить его оставить меня во дворце? Он ненавидит моих акху, ненавидит меня. — Я повысила голос. — Что ты знаешь о нем, Мерит? Он не дал бы Хоремхебу держать меня во дворце, не будь тебе известна какая-то тайна. Расскажи!
Мерит села в кресло, стоявшее у курильницы, взяла со столика маленький веер и стала неистово обмахиваться.
— Госпожа…
— Я хочу знать! — вскричала я, и, быть может, гнев, прозвучавший в моем голосе, заставил няню нарушить молчание, которое она хранила много лет.
— Рахотеп был верховным жрецом бога Атона, — прошептала она. — Когда царица поняла, что, если не вернуть Египту его богов, вспыхнет мятеж, она начала восстанавливать храм Амона. А жрецы Атона лишились своего могущества.
— И Рахотеп?
— Он — в первую очередь. Он потерял все.
— Но ведь жрецам Атона позволили служить Амону, — возразила я. — Он мог сохранить высокое положение.
— Наверное, он не верил, что мы и вправду вернемся к прежним богам. Много лет он прожил в нищете и озлоблении. Твои акху не спешили ему помочь. Рахотеп только напоминал твоему деду об отступничестве и бедах.
— Ты думаешь, пожар устроил он? Это и есть его тайна?
Мерит смотрела на веер. Она так долго держала все в себе, что теперь слова полились из нее, словно вода из разбитого кувшина.
— Может быть, и он… Я бы не удивилась. Он жрец Атона, и он помогал убить Нефертити и ее дочь. — Мерит прищурилась. — Незадолго до того, как их убили, я видела Рахотепа в галерее, ведущей к окну, в котором царица обычно показывалась народу.
— Ее убили там? — прошептала я.
— Да. С ним вошел и другой жрец. Я подумала, что царица сама их позвала. Она часто помогала жрецам…
— Нефертити?
Мерит печально кивнула.
— Она не всегда была жестокой. Я знаю, чему тебя учили в эддубе, но она часто жалела людей.
— Так где ты была, когда ее убили?
— Совсем недалеко. Я слышала ее крики, а потом видела, как жрецы спокойно вышли из галереи. Рахотеп посмотрел на меня — он держался рукой за глаз.
— Она сопротивлялась!
— Да, только тогда я этого не знала!
— И ты ничего не сказала!
— Конечно, сказала! Я сказала твоему отцу! Он разыскивал их, но они исчезли. В Египте есть где спрятаться. После смерти твоей матери Рахотеп возвратился ко двору в надежде занять новое место.
— Он перестал поклоняться Атону?
— Он всегда поклонялся только золоту, — хмыкнула Мерит. — И я его, конечно, узнала. Я могла рассказать всем, но как раз тогда советники собирались удалить тебя от двора, и я его предупредила: если он выскажется за твое удаление, весь Египет узнает, почему у него такой глаз. Когда фараон Хоремхеб спросил его совета, Рахотеп ответил, что опасности от тебя никакой нет. Благодаря этой сделке ты росла во дворце.
Я разглядывала лицо няни, удивляясь, как долго она хранила такую страшную тайну — целых двадцать лет молчала.
— Почему же ты не рассказала мне? — тихо спросила я.
— А зачем?
— Я бы знала, кто мой враг!
— Достаточно того, что я знаю, госпожа. Не нужно тебе вникать в разные интриги и стариться раньше времени.
Я поняла: няня имеет в виду не морщины. Она говорила о другом: о переживаниях вроде тех, которые выпали на долю Исет, потерявшей своего Ашаи и узнавшей, что любовь бывает горькой. Няня имела в виду старение души, когда ка человека становится на тысячу лет старше его тела.
— А Уосерит ты рассказала? — мягко спросила я.
— Да. Иначе со мной непременно случилась бы какая-нибудь беда. Ведь такие тайны лучше всего хранятся в могилах. Только из могилы я не смогла бы тебя защитить.
— Если знает Уосерит, знает и Пасер.
— Рахотепа нечего опасаться, — уверила няня. — Открыто он против тебя не выступит, а я не расскажу Египту, что он убил царицу.
— Или даже двух!
Мерит выпрямилась.
— Этого мы не знаем.
— Если он мог убить Нефертити, он мог устроить и пожар, в котором погибла мой семья! Почему бы не рассказать обо всем Рамсесу? Что тогда сделает Рахотеп?
Мерит горько рассмеялась.
— Он много чего может, просто ты не испытала этого на себе. Благодаря своему дружку фараону Хоремхебу он стал устами Амона. Люди доверяют ему не меньше, чем фараону.
— Они не станут слушать убийцу!
— Кто поверит, что он убийца? А как ты думаешь, если он скажет, что племянница Отступницы на него клевещет, то ему поверят?
— Не знаю…
— Вот и он не знает. И потому мы с ним молчим и соблюдаем уговор.
— Нет, он не соблюдает! Он настраивает против меня народ!
— Зато каждая разобранная тобой жалоба, каждый принятый тобой посланник перетягивают чашу весов на твою сторону.
Я продолжала стоять, глядя сверху вниз на няню.
— Хенуттауи спит с ним в надежде восстановить его против меня, а он уже и так меня ненавидит!
— Змеи могут кусать и друг друга. И они частенько заползают туда, где их не ждешь, — заметила Мерит.
В тот вечер в Большом зале по приказу Исет танцевали нубийские танцовщицы. Под увитыми цветами колоннами в форме бутонов папируса кокетничали надушенные благовониями женщины, поднимали чаши с вином, а воины похвалялись своими подвигами. Рекой лилось пиво, повсюду стояли блюда с жареной утятиной в гранатовом соусе.
— Рамсес воюет, — шепнула я Уосерит, — а они тут пьют и веселятся!
Хенуттауи подняла чашу с вином.
— За Исет, — весело объявила она. — И за ее второго сына, который когда-нибудь станет править Египтом!
Сидевшие за столом на помосте подняли чаши, приветствуя Исет, а несколько женщин, еще не знавших о ее беременности, радостно загалдели. Я не подняла свою чашу, и Хенуттауи спросила:
— В чем дело, Нефертари? Тебе не нравится праздник?
Советники разглядывали узоры из хны у меня на груди, мой серебряный пояс. Мерит в тот вечер перестаралась с сурьмой, провела линии до самых висков и покрыла мне веки малахитовой пудрой. Впрочем, никакая краска не могла скрыть написанного на моем лице отвращения.
— Разве она похожа на человека, которому нравится праздник? — спросил Рахотеп. — Сегодня все придворные ушли от нее, чтобы быть с госпожой Исет.
Хенуттауи притворно вздохнула.
— Неужели все? Хоть кто-то же остался?
— Ты права. Остались несколько стариков, что играли в сенет.
Гости за столом рассмеялись.
— Царевна времени не теряла, — продолжал жрец. — Пока Исет готовилась к празднеству Уаг, Нефертари принимала прошение у величайшего в Фивах безбожника. Он сам просил направить его именно к ней.
За столом раздался удивленный ропот; Уосерит метнула на меня вопросительный взгляд, а Хенуттауи радостно захлопала в ладоши.
— Вот уж верно говорят — ворон к ворону стремится!
— А скорпион — к скорпиону, — сказала я, переводя глаза с нее на Рахотепа.
Потом поднялась с трона, и вместе со мной встала Уосерит.
— Так рано? — удивилась Хенуттауи, но мы не стали отвечать.
За дверьми Уосерит повернулась ко мне.
— Что произошло в тронном зале?
Тут двери распахнулись, и вслед за нами вышел Пасер.
Уосерит сердито зашептала:
— Ты допустил безбожника к Нефертари!
Я положила руку на живот, стараясь справиться с неожиданно подступившей тошнотой, и сказала:
— Он больше никому не соглашался отдавать свое прошение. Его зовут Ахмос, он — хабиру.
Пасер настойчиво потребовал:
— Расскажи, чего он хотел.
Я поняла, что Пасер слышал в тронном зале больше, чем я думала.
— Просил освободить хабиру от военной службы.
— Всех? — воскликнула Уосерит.
— Да. Он называет себя их вождем. Хочет, чтобы хабиру вернулись в Ханаан и поклонялись там своему богу.
— Ханаан — египетские владения, — мрачно молвила Уосерит.
Пасер покачал головой.
— Только по названию. Там нет храмов Амона, нет храмов Исиды. Ахмос думает, что на землях Саргона хабиру смогут поклоняться своему богу.
Я вспомнила древнюю легенду, которую Пасер рассказывал нам в эддубе, — легенду о верховной жрице, которая, несмотря на обет целомудрия, тайно родила сына. Она положила новорожденного в просмоленную тростниковую корзину и пустила плыть по реке Евфрат, а потом его нашел водонос по имени Акки. Мальчика назвали Саргон, он вырос, стал могущественным царем и покорил Ханаан. А теперь Ахмос хочет возвратиться в землю, которую Саргон сделал богатой и плодородной.
Уосерит и Пасер переглянулись.
— Почему он хотел говорить с Нефертари, а не с Исет? — подозрительно спросила жрица.
— У Нефертари есть причины выполнить его просьбу, — предположил Пасер. — Он понимает, что Нефертари может привлечь народ на свою сторону, если изгонит безбожников из Фив.
Уосерит посмотрела на меня.
— Ты и вправду могла бы привлечь людей на свою сторону. И больше никто не сомневался бы, что ты чтишь Амона.
— Неужели ты это всерьез?! — воскликнула я.
— Шестая часть египетского войска — хабиру, — напомнил Пасер. — Когда-нибудь хетты…
Однако мысль крепко засела в голове Уосерит.
— Нефертари бы одержала победу.
— Я добьюсь своего другим способом, — сказала я. — Рамсес не должен ради меня рисковать благом Египта.
— Он мог бы увеличить плату воинам, — возразила жрица. — Люди охотнее шли бы на военную службу.
— За счет чего увеличить? — спросил Пасер.
— Повысить налоги на землю.
— Чтобы народ ополчился против него самого? Подумай, что ты предлагаешь, — сказал Пасер. Он ласково положил руку ей на плечо. — Нефертари и без того сможет завоевать любовь народа.
— А Рахотеп? — спросила жрица. — Он слышал разговор с Ахмосом?
— Нет. Он принимал просителей. Сегодня Мерит рассказала мне о его преступлении, — мрачно ответила я.
Уосерит тяжело вздохнула.
— Представляю, каково тебе было это слушать. Особенно про пожар…
— Значит, поджог устроил он?! — вскричала я.
— Точно никто не знает, — спокойно ответил Пасер.
— Но все так думают?
Ни Пасер, ни Уосерит не стали спорить.
— Никому ни слова, — предостерегла жрица. — Как бы ни болело твое сердце, пусть только боги слышат твой стон. Не жалуйся никому, даже Рамсесу.
Я сжала губы, а Пасер многозначительно поправил:
— Особенно Рамсесу.
— Когда-нибудь правда выйдет наружу, — заявила Уосерит. — Ветер сдувает песок, и обнажается камень. Не думай сейчас об этом. Самое важное — твое дитя. Не нужно ему переживать твой гнев и горечь. Пусть лучше Мерит принесет тебе поесть и приготовит ванну.
Я согласно кивнула, но злость сдержать не удавалось. Уосерит и Пасер перешептывались в темном коридоре, склонясь друг к другу, словно два сикомора. Мне страстно захотелось увидеть Рамсеса. Будь он сейчас в Фивах, в моей постели, я рассказала бы ему про Ахмоса, про то, как мой дядя пришел к мысли о едином боге. Но Рамсес был где-то там, во тьме, и двигался на юг, к Нубии.
Я не стала возвращаться к Мерит, а пошла бродить по дворцу. В Малькате царила тишина. Слуги — те, кто не прислуживал в Большом зале, — отправились спать. Я шла по коридору, пока не пришла к двери, которая никогда не открывалась. Давным-давно ее охраняли четыре стражника в блестящих доспехах. Здесь мои родные проходили в свои покои. А потом случился пожар. В последний раз я видела эти руины в детстве — Мерит показала. Ничего здесь не осталось, кроме сорной травы и обгоревших развалин, но мне хотелось глазами взрослой женщины взглянуть на бедствие, принесенное моей семье Рахотепом.
Я шагнула в дверь. Мне открылось зрелище, больше всего напоминавшее обломки корабля, выброшенного на пустынный берег. Кругом валялись обугленные куски дерева, камни, обвитые лианами. Я прошла через внутренний двор, отмахиваясь от множества насекомых, живущих среди этого запустения. В одном месте раньше стояла кровать, от которой сохранился только остов. Быть может, здесь спали мои родители, хотя, конечно, теперь этого не узнать. Ножки ее стояли на разбитых плитках; краешком сандалии я подцепила край плитки — под ней оказался слой грязи, прикрывающий другие плитки. Никто не подумал навести здесь порядок. Разрушения оказались столь велики, что Хоремхеб предоставил распоряжаться в бывших царских покоях самой природе.
Я подняла кусок разбитой плитки и ладонью стряхнула с нее пепел. Рискуя навлечь на себя гнев Мерит, я вытерла плитку рукавом и подняла повыше к лунному свету, чтобы разглядеть рисунок. Конечно, тут не найдется портретов, подобных тому, что привез из Амарны Аша, — только голубая плитка с обгоревшей краской, но возможно, по этим плитам ступали ноги моей матери. Я прижала ладонь к прохладной поверхности. Рахотеп лишил меня очень многого, а теперь в его силах поднять в городе мятеж. При мысли о том, что тайну нужно скрывать даже от Рамсеса, у меня сжалось сердце — хотелось рассказать о преступлении жреца всему Египту, хотелось заставить Рахотепа страдать, как страдаю я, хотелось обречь его на одиночество, страх, отчаяние. Кроме Мерит и Рамсеса — кому я нужна в Малькате? Я посмотрела на свой растущий живот. Во всяком случае, у меня будут дети… Какая ирония: я стою здесь, среди руин, где витает смерть, в то время как во мне зарождается новая жизнь. Завернув кусок плитки в полу туники, я бросила прощальный взгляд на остатки бедствия, что поглотило мою семью и оставило меня одну в бурном море придворной жизни. Мерит сказала бы, что мои акху смотрят сейчас на меня, что они покидают нас только телесно. Мне так хотелось в это верить!
Я представила себе, как матушка смотрит на меня сверху, со звездного неба, разделяющего мир живых и мир мертвых. Наверное, в загробном мире она сидит за столом вместе с Маат и может поведать богине о тех страшных вещах, что происходят на земле и должны быть наказаны.
Глава шестнадцатая
ДА ХРАНИТ НАС АМОН!
В самый лютый зной месяца месоре прибыл гонец и принес весть: Рамсес возвращается с победой.
«Мятеж предотвращен, бунтовщики разбиты! — кричали глашатаи. — Войско фараона приближается к Фивам!»
В тронном зале царило ликование. Стараясь перекричать шум, я спросила:
— А погибшие? Много погибших?
— Никого! — Посланец так и сиял, понимая, что за эту новость ему перепадет десяток-другой дебенов. — Фараон Рамсес одержал полную победу!
Я пробиралась через толпу придворных, спешивших наружу, и в галерее столкнулась с Мерит.
— Торопись, госпожа, а то опоздаешь! Корабль уже ждет!
— Ты слышала? У нас нет потерь!
— Фараону хватило одного месяца! Ему помогали боги.
Мерит коснулась анка, висевшего у нее на шее, и пробормотала благодарственную молитву. Потом взяла меня за руку, и мы стали пробираться вперед.
— Дорогу царевне Нефертари! — кричала няня. — Разойдитесь!
Придворные расступались, и мы наконец вышли на пристань; Исет уже ждала на корабле «Благословение Амона», спрятавшись от солнца под льняным пологом.
Я села в кресло рядом с Мерит и в волнении прижала ладонь к губам.
— Ты уже не ребенок, — одернула меня няня.
— А чувствую себя, как малое дитя, — засмеялась я. — Так же как тогда, когда я впервые увидела Рамсеса после года, проведенного в храме Хатор.
Корабль причалил у восточного берега, и стражники проводили нас по Аллее сфинксов — мы собирались встретить фараона у недавно возведенных колонн луксорского храма. Фиванцы толпились на улицах и на радостях приветствовали даже меня. Потом все начали выкрикивать имя Рамсеса и ломать пальмовые ветви, чтобы махать ими победителям. На подернутых маревом пыльных улицах колыхалась жара; на рыночной площади терпко пахло тмином. Мы дошли до ворот храма, и я в очередной раз поразилась высоте статуи Рамсеса. Уосерит подвела меня к ступеням храма, где уже стояла Исет, в короне и лучшей тунике. Моя соперница ослепляла своей красотой — беременность только округлила ее бедра и груди. Вдруг Рамсес отдаст меч ей?
В конце аллеи появилось войско во главе с
Рамсесом — об этом нам возвестили трубы. Из-под боевой короны фараона выбивались волосы цвета пламени. Он был выше всех и сильно загорел. В набедренной повязке, в золотом ожерелье богини Сехмет, Рамсес казался самым красивым мужчиной в Египте. Встретившись со мной взглядом, фараон медленно потянул меч из ножен. Кровь застучала у меня в висках. Тут Исет выступила вперед, и Рамсес задвинул клинок в ножны. С криком «Рамсес!» она поспешила вниз по ступеням храма и изящно бросилась в его объятия. Толпа разразилась оглушительными радостными воплями, а Исет положила руку Рамсеса себе на живот, чтобы все видели, как фараон благословит свое будущее дитя.
Мерит больно толкнула меня локтем в бок.
— Вперед! Не дай ей тебя обойти!
Я осторожно спустилась по ступенькам, и Рамсес выпустил Исет из объятий. Приветственные крики тут же умолкли.
— Нефертари! — выдохнул он и, прижав меня к себе, наслаждался запахом моих волос и нагретой солнцем кожи. — Вот это да! Нефертари!
Я походила на тростинку, к которой приделан тяжелый шар.
— Пять месяцев.
Я не стала говорить, что последний месяц меня тошнит каждую ночь.
— О боги, как я скучал по тебе в Нубии!
Рамсес потянулся за мечом, и Исет немедленно шагнула к нам.
— Тебя ждал весь двор, — сказала она. — Сегодня в Большом зале будет роскошное празднество.
Рамсес улыбнулся.
— Мне уже не терпится!
— А в мою спальню тебе тоже не терпится попасть?
Рамсес посмотрел на меня, и Исет, поняв, с кем он намерен провести ночь, заговорила настойчивее:
— Я приготовила для тебя подарок — в честь твоей победы.
Рамсес наконец оставил меч, и я поняла: сегодня он никому его не отдаст. Фараон сказал Исет:
— Я зайду к тебе перед празднеством, — и я залилась краской гнева.
По ступеням храма спустился верховный жрец Амона. У меня внутри словно все перевернулось. Дойдя до нижней ступеньки, Рахотеп улыбнулся Исет и объявил:
— Ночь за ночью мы стояли у ног Амона, молили его уберечь здоровье фараона и даровать ему победу.
От такой лжи у меня перехватило дыхание. Ночь за ночью Рахотеп сидел в Большом зале, ел, пил и строил козни вместе с Хенуттауи.
— Наступил месяц месоре, — продолжал жрец, вытянув руки, словно стебли тростника. — И в последний месяц сезона урожая Амон даровал фараону еще один урожай — победу над мятежной Нубией!
Придворные вторили ему радостными криками, жрицы зазвенели бронзовыми систрами. Войско отправилось рекой к дворцу — под голубыми с золотом знаменами фараона. Рамсес плыл вместе со своими воинами, а я сидела рядом с Мерит на «Благословении Амона» и так злилась, что даже не хотела разговаривать.
— Он бы отдал тебе меч, — уверенно сказала Мерит. — Я видела, как он его вынул.
— Исет, как всегда, времени не теряла. Перед пиршеством он пойдет в ее покои, потому что она приготовила ему подарок.
Мерит откинулась назад. Она уже кипела негодованием.
— Будет теперь ему рассказывать, как каждую ночь молилась о его благополучии, хотя это ты все время жгла благовония у ног Амона. Вот я расскажу фараону правду!
Я подалась вперед.
— Нет! А то он еще подумает, что я тебя подговорила из ревности. Он тебе не поверит.
— Да это каждый может подтвердить!
— Кто? Кто посмеет сказать ему правду?
Праздник в Большом зале длился всю ночь. Когда подали угощение и музыканты начали исполнять победную песнь, Рамсес разыскал меня на балконе.
— Нефертари!
Он сильно загорел в походе. Белая набедренная повязка так и светилась на темной коже, голубые глаза казались бирюзовыми.
— Я ждал, пока ты наконец окажешься одна.
Рамсес обнял меня; на запястье у него блестел новый золотой браслет.
Я чуть не рассердилась на фараона: ведь только глупец может не понимать, что Исет — притворщица! Но поцелуи моего супруга были горячи, и под его набедренной повязкой я почувствовала шевеление.
Рамсес прижал ладонь к моему животу и прошептал:
— Я думал о тебе каждый день. Тысячи раз хотел послать тебе письмо, но боялся, что его перехватят. Я хочу знать, как ты жила. Расскажи мне все. Все!
Мы удалились ко мне в покои, забыв и про праздник, и про музыкантов. Только поговорить нам довелось не сразу. Мы упали на постель, и Рамсес обнял меня и спустил с моих плеч тунику. Мы старались вести себя осторожно, чтобы не причинить вреда ребенку, но страсть все больше охватывала нас, и наконец Рамсес сказал:
— Не желаю покидать твою постель. Неферт. Я больше не поеду на войну без тебя!
Под доносившуюся из внутреннего двора музыку мы стали делиться своими тайнами. Каждую ночь я жгла благовония у ног Амона, молилась за благополучие супруга, а теперь удивлялась — чего я страшилась? Он высокий, сильный, ему все по плечу.
— Пока тебя не было, я сильно боялась.
Рамсес рассмеялся, но, увидев, что у меня дрожат губы, замолчал.
— Ах, моя Неферт! — Он прижал меня к себе. — Мы с тобой как бронза и золото — никогда не умрем!
— Душой — да. Но не телом. Ведь так будет не всегда.
— Так будет всегда.
Наверное, победа сделала Рамсеса еще более безрассудным. Разве можно так говорить?
— В загробной жизни мы будем вместе, — добавил Рамсес. — Будем пировать среди богов. Они услышали все наши молитвы. Амон помогал мне в Нубии. Окружить дворец и взять зачинщиков оказалось совсем легко. Мы разделались с ними, как с баранами.
Я вздрогнула, и Рамсес добавил:
— Ведь они предали Египет. Предали нас, после того, как мы всего у них понастроили! Прекрасный город, крепость, равной которой в Нубии не сыскать, надежная защита от ассирийцев.
В глазах Рамсеса горело негодование, и я невольно подумала: «Что будет, если он узнает, как вела себя в его отсутствие Исет?»
— Нам помогал Амон, — серьезно сказал Рамсес. — Иначе нам бы не удалось победить так быстро. В следующий раз, Неферт, я возьму тебя с собой. Когда родится наш сын…
— А если родится дочь?
— Это будет сын, — уверенно ответил он. — Амон услышал мои молитвы и даст нам наследника.
Сердце у меня застучало сильнее, ко мне вновь вернулся страх перед родами. А если я не смогу родить сына или — еще того хуже — не увижу, как он растет?
— Расскажи мне про Фивы, — попросил Рамсес. — Что тут было без меня? Пасер говорит, к тебе приходил проситель-хабиру?
— Да, Ахмос Халдейский. — Рамсес явно уловил в моем голосе колебание, и я добавила: — Он принес мне прошение.
Рамсес нахмурился.
— Именно тебе? Чего он хотел?
— Просил отпустить хабиру из войска.
Фараон рывком сел.
— Всех хабиру? И что ты ему сказала?
— Что решать должен ты, разумеется!
— Их нельзя отпускать! Каждый год мы ждем вторжения хеттов, и рано или поздно они нападут. Почему он надеялся на такую милость?
— Потому что его народ привел в Египет мой дед. При фараоне-еретике они жили как рабы…
— Все воины живут как рабы!
— Но их обещал отпустить еще Эхнатон. И обманул.
— Значит, Ахмос Халдейский пришел к тебе в надежде, что ты выполнишь обещание своего акху?
Я невольно посмотрела туда, где рядом с привезенным из гробницы Мерира портретом лежал обломок плитки. По краям он почернел от огня, но в середине был ярко-голубой. Я подумала о пламени, уничтожившем моих родных, и о причудах судьбы, приведшей ко мне человека, первым подтолкнувшего их к гибели. Для чего я рассказываю об этом Рамсесу? Что мне за дело до желаний Ахмоса, который поставил под удар мое доброе имя, придя ко мне со своей просьбой? Но, посмотрев Рамсесу в глаза, я ответила:
— Да, надеялся.
Рамсес засмеялся.
— Куда же отправится такая толпа народу?
— На север. Чтобы завладеть Ханааном.
— Ханаан принадлежит Египту! — Любопытство Рамсеса сменилось гневом. — Кто он вообще такой?
Я мяла в руках край простыни.
— Тот, кто внушил Эхнатону, что существует только один бог. Ахмос — вождь хабиру.
Рамсес, потрясенный, поднялся.
— Наставник Эхнатона?!
— Он не просто надеялся, что я захочу выполнить обещание своего акху, — медленно продолжала я. — По его мнению, у нас с ним обоюдная выгода. Если я отпущу из войска всех хабиру, то смогу сказать, что изгнала из Фив безбожников, и тем самым привлеку народ на свою сторону.
— Он умен.
— Я бы никогда не согласилась. В ущерб интересам Египта.
Рамсес взял меня за руку и притянул к себе.
— Хватит про этого халдейского хабиру. Пусть им Пасер занимается.
— Значит, мы ничего не можем сделать?
— Для них? — Рамсес искренне удивился. — Нет, ведь хабиру — шестая часть моего войска! И чего ради? По-твоему, нужно рискнуть…
— Нет, — быстро сказала я. — Когда он придет, ты тоже ему откажешь.
Глава семнадцатая
КОГО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ?
Фивы, 1281 год до н. э.
Наступил новый год, и в Фивы прибыл из Авариса фараон Сети со своим двором. В день Уаг — день поминовения предков — Исет устроила веселый праздник в честь приезда Сети. Горожане собрались у пристани Малькаты — посмотреть, как царский флот входит в озеро. На мачтах развевались бело-голубые флаги; под звуки труб фараон Сети и царица Туйя ступили на берег. Перед дворцом толпились придворные; двери были украшены полосами золотой и голубой ткани.
— Исет, наверное, решила, что сегодня свадьба, а не день поминовения, — проворчала Мерит, стоявшая рядом со мной на берегу. — А если снова война? Где взять дебены для платы войскам — ведь все потрачено на вино, акробатов и музыкантов! — Няня повернулась ко мне. — А что думает об этом фараон?
Рамсес приветствовал своего отца. Оба были в голубых с золотом коронах немес, но едва ли можно отыскать столь непохожих людей. Один — молодой и бронзовый от загара, другой — старый, худой, уставший. Однако, похоже, оба они не возражали, что торжественный день Уаг превратился в беззаботный праздник.
— Рамсес все ей прощает, — сказала я. — Лишь бы угодить.
— Малышка Нефертари! — позвал фараон Сети.
Он пошел по набережной, и придворные расступились, давая ему дорогу. Царица демонстративно осталась рядом с Исет. Аджо, увидев меня, оскалился и угрожающе зарычал.
— Тихо! — велел Сети. Подойдя ко мне, он с радостью меня обнял. — Даже теперь ты стройная, словно тростинка. Скажи мне — когда появится маленький царевич?
— Осталось два месяца.
Он оглянулся на Исет и Хенуттауи, которые смотрели на нас.
— А другой?
— Вскоре после моего.
— У тебя должен быть мальчик!
— Да. Я каждую ночь молюсь Бесу, а няня приготовила для моих акху особые приношения.
— А как народ?
— Я стараюсь понравиться людям.
— Нам постоянно угрожает опасность с севера. Если Рамсес поведет войско сражаться с царем Муваталли, нельзя оставлять в Фивах безмозглую царицу. На троне должен быть надежный человек. Народ смирится…
— Тогда дела придется вести Пасеру. Если Рамсес отправится на войну, я поеду с ним. Хочу помогать ему во всем, даже в войне.
Фараон уставился на меня, и уголки его губ медленно поднялись.
— Сегодня, когда будешь навещать своих акху, поблагодари их за то, что они дали моему сыну такую жену.
В тот вечер я вошла в заупокойный храм Хоремхеба и встала на колени перед изображением матери. Зажгла благовонную свечу кифи, которую Мерит раздобыла где-то на рынке за баснословную цену, и, как только дымок стал подниматься вверх, отыскала взглядом царапину на лице матери, оставленную ногтями Хенуттауи.
— Мауат, — сказала я, и глаза у меня защипало от слез, — если бы ты знала, как мне тяжко переносить беременность. Мерит дает мне мяту, но она не помогает. Няня говорит — это знак, что я ношу сына. А если нет? И если я так и буду все время болеть?
Я погладила ее щеку. Интересно, какая у матушки была кожа? Наверное, тонкая и нежная.
— Если бы ты была со мной, я бы знала, как мне быть.
В свете лампы казалось, что изображение слегка подрагивает. Я услышала шорох чьих-то шагов и замерла.
— Ты грустишь по ней? — ласково спросил голос Уосерит.
Я кивнула, и жрица встала рядышком со мной.
— Когда мертвые воскреснут, вы пойдете вместе, держась за руки.
Я посмотрела на Уосерит и напомнила себе о том, о чем она недоговаривала. Если меня не объявят главной женой, имя моей матери останется забытым. А если объявят, мою родословную высекут на стенах каждого храма — от Мемфиса до Фив, и боги всегда будут помнить моих акху. Не получи я этого титула — и мои предки останутся вычеркнуты из истории. Не только ради себя я хочу стать царицей, но и ради моей матери. Ради ее матери. И еще — ради моего ребенка. Я посмотрела на свой живот.
— А вдруг родится девочка?
— Я каждый вечер приношу богине Хатор пожертвования от твоего имени.
А если у Исет тоже родится мальчик? Не получи я титула, мой сын будет просто младшим царевичем; его отправят в Мемфис, чтобы он стал жрецом, как отправили однажды Эхнатона. Я стояла, глядя на поцарапанное лицо матери, и внутри меня зрел гнев. Ведь весь Египет знает, что она никогда не поклонялась Атону. Это не она, а Эхнатон отступился от египетских богов. Почему нужно осуждать и ее?
— Люди легковерны, — вздохнула Уосерит. — Хоремхеб убедил их, что вся твоя семья — еретики.
— Как же он тогда женился на моей матери?
— Он знал, что на самом деле она не поклонялась Атону. Думай он иначе, не женился бы, пусть в ее жилах и текла царская кровь. Сама она, наверное, не желала этого брака, но он спас твою мать от участи ее сестры. Ведь Нефертити полностью вычеркнули из прошлого страны, стесали ее имя со всех памятников, словно ее никогда и не было. А свою мать ты хотя бы можешь увидеть вот здесь.
— На портрете? На одном-единственном портрете?
Благовонная свеча превратилась в пепел.
— Мне так не хватает матушки.
Глаза у меня затуманились от слез, и тлеющие угольки превратились в красные полосы.
— Я знаю, — глухо отозвалась Уосерит. — Всем нам кого-то не хватает.
Прозвучало это печально, и я посмотрела на жрицу. Ее глаза казались прозрачными, а длинное голубое одеяние — почти черным.
— А кого не хватает тебе?
— Я тоже лишилась матери. И отца, который меня очень любил. Но мне повезло — они видели, как я расту. Они знали, что я стану верховной жрицей богини Хатор.
Я почувствовала в себе решимость и сморгнула слезинку.
— Моя мать еще станет мной гордиться. Я буду сопровождать Рамсеса на войну. Никто не скажет, что я живу, как жила Отступница, что меня интересует только золото и роскошь. И я стану главной женой, Уосерит. Кто бы у меня ни родился — мальчик или девочка, — я стану главной женой!
Спустя месяц после празднества Уаг фараон Сети и царица Туйя вернулись в Аварис. В Большом зале устроили прощальный пир, но мне было слишком плохо, и я не пошла. У меня стал огромный живот; даже от кровати до туалетной комнаты я добиралась с трудом.
В одиннадцатый день месяца хойак я проснулась вся в поту. Несмотря на ранний час, волосы у меня намокли и прилипли к шее. Рамсес взглянул на меня, вскочил с постели и стал звать Мерит. Няня ворвалась в спальню и сдернула с меня простыни. Постель была мокрая.
— Началось, госпожа! Ты рожаешь!
Я посмотрела на Рамсеса. Няня выскочила из спальни и принялась отдавать слугам приказания, перебудив весь дворец.
В Аварис послали гонцов — сообщить фараону Сети о предстоящем рождении внука. С полдюжины слуг потащили меня в носилках в родильный покой.
— Тебе что-нибудь нужно? Как ты себя чувствуешь? — поминутно спрашивал Рамсес.
— Мне хорошо, — лгала я.
Меня сковал страх — во рту держался металлический привкус. Быть может, завтра меня уже не будет в живых — умру в родах, как умерла моя мать. Быть может, я не услышу даже крика моего ребенка, не увижу лица Рамсеса, когда он возьмет на руки нашего первенца. А еще я боялась, что хоть и останусь жива, но рожу не сына, а дочь.
Слуги бежали по залам, и Мерит уже распахнула для меня дверь родильного покоя. Я успела увидеть только голубую дверь, и тут же несколько рук перенесли меня на ложе. Со стены корчил гримасы Бес, на столбе висели серебряные амулеты, помогающие в родах. С оконного карниза ласково улыбалась статуя богини Хатор. Повитухи внесли родильное кресло, и меня захлестнул ужас. Я уставилась на высокую кожаную спинку, на изображения богинь, вырезанные на деревянных боках, потом на отверстие в середине сиденья — через него падает в руки повитухи младенец. Мне никогда не приходило в голову поинтересоваться — буду ли я рожать на том же самом кресле, на котором рожала моя мать и которое ей не помогло. Я оглядела комнату и увидела, что Рамсеса нет.
— Где Рамсес? — испуганно спросила я. — Куда он ушел?
— Шшш! — Мерит убрала волосы у меня со лба. — Он ждет за дверью. Сюда его не пустят, покуда не родится ребенок. Эти женщины, госпожа, все сделают.
Я посмотрела на повитух. Груди их были расписаны хной, руки умащены священным маслом. Только вот хорошо ли они разбираются в своем деле? Моя мать часто присутствовала при родах, но все равно умерла, рожая меня.
— Не волнуйся, — увещевала меня няня. — Если успокоишься, ребенку будет легче выйти.
Схватки продолжались целый день; вечером в охраняемый вооруженными стражами покой пришла Уосерит. Она велела перестелить тростниковые циновки и принести еще опахал.
— Вы принимаете роды у царевны! — прикрикнула она. — Напоите ее шедехом
[114] и протирайте ей лоб влажными салфетками!
Прислуга тут же побежала исполнять приказания, и за дверью я увидела Рамсеса. Лицо у него было усталое и измученное. Я вдруг почувствовала в животе рези и закричала. Рамсес ринулся в дверь, хотя Мерит и пыталась преградить ему путь.
— Государь, это же родильный покой!
Фараон проскочил мимо нее, и у повитух от такого попрания обычаев дух перехватило. Уосерит серьезно кивнула, и Рамсес, взяв табурет, уселся рядом с ложем. Он взял меня за руку и даже не поморщился от моего вида.
— Неферт, все будет хорошо. Боги нам помогут.
У меня от боли свело спину, дыхание стало прерывистым.
— Больно!
Рамсес сжал мою ладонь.
— Что тебе давали?
— Смазали снадобьем из рожкового дерева и меда.
— Чтобы она быстрее разродилась, — пояснила Уосерит.
— А для облегчения боли?
Я с трудом улыбнулась.
— Натирали пивом живот и клали шафран.
Живот у меня лоснился от лекарства, на мне была только набедренная повязка, я не накрасилась и не надела украшений, но Рамсес не отворачивался, он все крепче сжимал мою ладонь.
— Если будет совсем больно, просто смотри на меня, — сказал он. — Держи меня за руку.
Сильнейшая боль скрутила мое тело, и я вся прогнулась. Повитухи подскочили ко мне, и одна из них завопила:
— Скоро уже!
Меня перенесли в родильное кресло; ужас я испытывала такой, что едва могла его сдерживать. Скоро в отверстие кресла, прямо в руки Мерит, упадет дитя. Если это будет сын, то жрицы будут делать все то, что делали, когда родила Исет. Будут звонить в колокола — извещать Фивы о рождении наследника. Если родится мальчик — по три раза, если девочка — по два.
Под кресло поставили сосуд с горячей водой — для облегчения родов. Мерит согнулась у кресла, Рамсес и Уосерит стояли сбоку. Я держала супруга за руку. В тот миг я восхищалась его безрассудством. И пусть ни один фараон не присутствовал при рождении своего наследника. Рамсес пожелал, чтобы его лицо — если случится беда — было последним, что я увижу перед смертью, и это совпадало с моим желанием. Мы смотрели друг другу в глаза, а повитухи кричали:
— Тужься, госпожа, тужься!
Я вжалась в кресло: твердое дерево давило спину, меня сотрясла судорога, а повитухи завопили:
— Выходит!!
Мерит протянула руки, и вдруг тело мое освободилось от бремени. Дитя появилось на свет в крови. Мерит подняла его повыше, чтобы рассмотреть ручки и ножки, и Рамсес вскричал:
— Сын! Царевич!
Боль мешала мне радоваться. Я вцепилась в ручки кресла; внизу живота все буквально разрывалось. Уосерит посмотрела на меня и вскрикнула. Она взяла у Мерит моего сына, и няня протянула руки к появившейся на свет голове, а затем тельцу. По комнате пронесся вздох, а за ним — пронзительный крик младенца.
— Второй сын! — воскликнула Мерит, и все радостно загомонили.
Собравшиеся у дверей придворные наверняка слышали, как повитухи возносят благодарность Хатор и Бесу за царевичей-близнецов. «Сыновья! — кричали все. — Два сына!»
Новость немедленно разнеслась, и какая-то женщина крикнула:
— Видно, боги любят царевну Нефертари!
Я смотрела на своих сыновей. Даже испачканные кровью они были удивительно красивы. У меня ослабли ноги, внизу живота сильно болело, но я не умерла! Я выжила и родила не одного, а двух сыновей! Теперь я — мать. Мне хотелось обнять детей, гладить их головки, разглядывать их глазки и нежные тельца, хотелось прижать к груди и защитить от любой опасности. В этих детях смешалась кровь моих акху и кровь Рамсеса.
Через заднюю дверь меня повели в баню. Мерит вымыла меня и умастила жасмином, не переставая петь гимн Хатор. Потом меня положили на длинную каменную скамью и стали заталкивать мне внутрь полоски льна. От боли я закрыла глаза, а Мерит ласково сказала:
— Дни после родов — самые важные. Нужно отдыхать и держать все в сухости.
Я знала, что многие женщины рожают благополучно, а потом начинают болеть и умирают. Детей же нужно туго запеленать, чтобы они не могли даже ручкой шевельнуть и привлечь внимание Анубиса.
Потом я села, и Мерит причесала меня, а служанка подала травяной отвар. Затем я вернулась в родильный покой. Жрицы звонили в колокола, они отбивали по шесть ударов — то-то, наверное, все удивились. Сын — три удара, дочь — два. А когда люди поймут, что означают шесть…
Рамсес сел рядом и взял меня за руку.
— Как ты себя чувствуешь?
Я улыбнулась и посмотрела — теперь уже глазами матери — на изображения играющих детей на стенах комнаты. Родильный покой — зал с высокими окнами, выходящими на восток. Легкий ветерок покачивал мягкие льняные занавеси. Эти покои выстроили так, чтобы родильницы чувствовали себя здесь хорошо: на каждой фреске матери с улыбкой смотрели на своих детей — играющих, читающих или спящих. Я сжала руку Рамсеса и ответила:
— Мне хорошо!
Глаза у него наполнились слезами, он пересел ко мне на ложе.
— Я так за тебя боялся! Увидел кровь и подумал: «Что же я наделал?»
— Рамсес, — нежно произнесла я, — ты подарил мне сына. Двоих сыновей.
Младенцы уже сладко чмокали у груди кормилиц. Малышей выкупали в лавандовой воде, протерли головки маслом. Если бы не масло, их волосы наверняка так же отливали бы красным золотом, как у отца. Мне страстно захотелось подержать их и посмотреть им в глазки.
— Все, как предсказал Ахмос, — прошептал Рамсес.
Я удивленно посмотрела на него.
— Что он предсказал?
— Сегодня он был в тронном зале. Пасер сообщил ему, что хабиру придется служить в войске и дальше, и вдруг Ахмос пожелал тебе благополучно разрешиться сыновьями.
Я села.
— Он сказал — двумя сыновьями?
— Сказал — двойней.
— Откуда он знал?
— Он мог угадать. Или подумал про…
— Про Нефертити?
На радостях я совсем про это забыла, а теперь вспомнила, что мои близнецы — еще один повод связать меня с Отступницей: она тоже родила двойню. Неужели на благословение богов можно смотреть как на проклятие? Я вся сжалась, и боль внизу усилилась.
— Что с тобой? — забеспокоился Рамсес. — Тебе что-нибудь дать?
Я моргнула, и Мерит оказалась тут как тут.
— Сейчас принесу госпоже имбиря и травяной отвар, и боль уменьшится.
Я откинулась на подушки; у Рамсеса от волнения потемнели глаза.
— Все будет хорошо, — пообещала я. — Просто мне невыносимо думать…
— Вот и не думай. Ты — мать египетских царевичей. — Рамсес нежно поцеловал мою руку. — Как мы их назовем?
Я посмотрела на малышей — их запеленали в самое тонкое полотно; маленькие грудки тихонько поднимались и опускались.
— Хочу сначала их подержать.
Мерит забрала детей у кормилиц и поднесла мне. Рамсес и Уосерит смотрели, как я их держу. Они легли мне точно в сгиб локтя, и я прижалась щекой к их нежным щечкам и покрытым пухом головкам. Я оказалась права: у малышей были тонкие прядки рыжих волос и глаза цвета бирюзы. Через четырнадцать дней их отнесут в храм Амона, чтобы показать богам, но сначала нужно дать им имена.
Я разглядывала их личики — у обоих были тонкие черты, а ручки такие маленькие, что не обхватили бы и тростникового стебля. Двое детей — дар Амона, знак благоволения; этого нельзя не признать.
— Первого мы назовем Аменхе, — объявила я, и повитухи, прибиравшиеся в зале, одобрительно зашептались, потому что имя Аменхе — Аменхерхепешеф — означает «Амон с нами».
— А второго… — Я посмотрела на брата Аменхе. Взгляд у него был умный и пытливый, словно у самого Ра. — Второго — Немеф.
— То есть Парахерунемеф, — сказал Рамсес. — «Ра его бережет».
Все вокруг вздохнули.
— Уосерит, — продолжал фараон, — пусть жрицы приготовят особое жертвоприношение. И сообщите всем, что Нефертари, как всегда, здорова. Вечером в Большом зале будет пиршество.
Мерит отдала детей кормилицам, которые сидели в единственном уединенном месте родильного покоя. Дверь в их комнатку оставили открытой, и я могла любоваться своими детьми, лежащими на руках у молодых женщин. Большую часть вечера я проспала; когда солнце опустилось, Уосерит почтительно поклонилась и ушла. За дверьми родильного покоя раздавался возбужденный шепот: придворные заглядывали внутрь, желая увидеть царевичей. В зал вошла Хенуттауи. На ней была диадема сешед: золотая кобра, блестевшая на темных волосах, раздувала капюшон, словно собиралась укусить. Позади шла Исет с расширенными от страха глазами. Она не заходила в родильный покой с тех пор, как умер ее сын, и я поняла, что пришла она по настоянию Хенуттауи.
— Мы уже знаем замечательную новость, — значительно сказала жрица. — Не один ребенок, а двое. Как у Нефертити. — Она посмотрела на меня глазами холодными, словно гранит. — Поздравляю тебя, Нефертари. Хотя трудно представить, что такая хрупкая девушка смогла родить сразу двоих детей.
Боли у меня сразу усилились. Хенуттауи посмотрела из-под длинных ресниц на Рамсеса и поддразнила:
— Ты уверен, что их родила Нефертари?
— Уверен, — резко ответил Рамсес.
Хенуттауи примирительно рассмеялась, словно ничего дурного в виду не имела.
— Как же наша маленькая царевна их назвала?
— Аменхе и Немеф.
Рамсес смотрел на тетку со странным выражением лица.
— А Исет собирается назвать сына Рамсесом. Рамсес Великий — как и его отец.
— А если будет девочка? — спросила я.
Исет положила руку себе на живот.
— Почему же девочка? Рамсес дарит своим женам только сыновей.
— Верно! — подтвердила Хенуттауи и цепко взяла Рамсеса за руку.
Я не успела возразить, как она увела его в комнату кормилиц. Мерит схватила охапку простыней и деловито понесла вслед за Рамсесом и жрицей.
Исет стояла и с тоской смотрела на моих сыновей, лежавших на руках у кормилиц. Я мягко заметила:
— Зря Хенуттауи тебя привела. Она совсем о тебе не думает.
— А кто, по-твоему, обо мне думает? — прошипела Исет. Руками она обхватила живот, словно хотела защитить его от дурного глаза. — Кто? Рамсес?
Я растерялась.
— Конечно!
— Так же, как о тебе? — горько улыбнулась она.
— Ты ничего не должна Хенуттауи. Расплачиваться за…
— Да что ты знаешь о расплате? Ты — царевна по рождению, тебе никогда не приходилось ни за что расплачиваться!
Вернулся Рамсес в сопровождении Хенуттауи. У него было какое-то натянутое выражение лица.
— Так нам готовиться к празднику? — нетерпеливо спросила Исет.
Она протянула Рамсесу руку, но он все с тем же странным выражением повернулся ко мне:
— Что скажешь, Нефертари?
Улыбка на лице Исет застыла.
— Вызови, пожалуйста, Пенра — объявим ему, какие надписи следует высечь на стеле, — попросила я. — И еще нужно сообщить Амону, что сегодня появились на свет два царевича.
— А праздник? — повторила Исет. — Может, пойдем и займемся приготовлениями?
Но Рамсес направился в комнату кормилиц.
— Займись этим вдвоем с Хенуттауи. — предложил он.
Исет сморгнула слезу, но спорить не стала.
— Конечно.
Она взяла Хенуттауи за руку; выходя, они встретились с Уосерит.
— Такой счастливый день, — сказала Уосерит. — Правда?
Ни Хенуттауи, ни Исет не ответили.
Уосерит подошла к моему ложу, а я посмотрела на Рамсеса, который нежно прижимался щекой к малышам. Он снял немес, его рыжие волосы кольцами лежали на шее. Новорожденные царевичи были маленькими копиями отца.
— Хенуттауи ему что-то сказала, — шепнула я. — Наедине. Но Мерит, кажется подслушала.
Уосерит подошла к моей няне, стоявшей у окна, а потом с озабоченным видом вернулась ко мне.
— Кто-то пустил в Фивах слух, что дети не твои и на самом деле их родила какая-то служанка.
— Кто-то? — прошептала я, пытаясь подавить ярость. — Кто-то?! Кто же, если не Хенуттауи и не Рахотеп? Когда они умрут, Аммит
[115] пожрет их души! Не попасть им в загробный мир. Когда придет время взвешивать их сердца на весах истины, их злодеяния будут так тяжелы, что чаша весов опустится на землю и обоих отдадут на растерзание Аммит!
Уосерит положила ладонь мне на руку. Я не могла успокоиться, но голос понизила.
— Что же будет через четырнадцать дней? Меня объявят главной супругой фараона?
— Советники предложат Рамсесу выждать и посмотреть, чему верит народ.
— То есть выждать и посмотреть, кто родится у Исет.
Я едва сдерживала раздражение. Рамсес все еще ласкал сыновей. Я прикрыла глаза и спросила:
— А что говорит Пасер?
— Он, разумеется, выступит за тебя. К тому же Рамсес сам присутствовал при родах. Кому поверят люди, когда увидят двух рыжеволосых царевичей с ямочками на щеках? Однако, — тут же добавила Уосерит, — нельзя оставлять что-либо на волю случая. Хенуттауи пользуется в городе уважением. Люди не знают, какова она на самом деле.
— Змея!
Рамсес улыбнулся мне из комнаты кормилиц. Уосерит быстро сказала:
— Исет еще не знает, что это Хенуттауи спровадила Ашаи. Время пришло. Ты достаточно долго хранила тайну моей сестрицы.
— А Рахотеп?
Я представила, с какой гнусной ухмылкой жрец повторяет повсюду выдуманную Хенуттауи сплетню.
— Сначала нужно обезвредить змею. Змеи невосприимчивы к собственному яду, но теперь у тебя есть кое-что посильнее, — заметила Уосерит и посмотрела на изображение над входом: царица, увенчанная золотой короной в виде грифа с распростертыми крыльями.
Став главной женой, я буду носить похожую корону: гриф — символ мощи, более сильный, чем кобра, ведь благодаря умению летать эта птица ближе к богам.
— Сейчас отдыхай, Нефертари. Завтра будет празднество по случаю рождения царевичей, — сказала Уосерит. — А когда придет время…
«Когда придет время, — подумала я, — змея узнает, на что способен гриф».
Глава восемнадцатая
ВСЯ ПРАВДА
Я послушалась совета Уосерит и отдыхала, наслаждалась днями, что остались до возвращения в тронный зал, проводила время со своими детьми. После пиршества по случаю их рождения я четырнадцать дней провела в родильном покое, пела Аменхе и Немефу гимны Амону, которые пела бы мне в детстве моя мать, если бы не умерла. И не было на свете ничего лучше, чем смотреть, как они спят, видеть, как поднимаются и опускаются маленькие грудки, слушать, как малыши попискивают, когда хотят есть, или устали, или просятся к матери. Кормить их мне, разумеется, не позволили — Мерит перетянула мою грудь полотном, и я только смотрела, как моих детей прикладывают к груди кормилиц — молодых веселых женщин, тоже недавно родивших.
Каждый вечер ко мне приходил Рамсес — рассказывал новости из тронного зала, приносил мне медовые финики, гранатовое вино. Ночью няньки укутывали наших сыновей в одеяла и укладывали спать в маленькой комнатке, а Рамсес зажигал масляные светильники и забирался ко мне в кровать, где, в окружении чужеземных даров, мы вместе изучали поданные за день прошения.
Некоторое время я была совершенно счастлива. Мне не требовалось сидеть в тронном зале, слушать пересуды придворных и любоваться жутким оскалом Рахотепа. Но жизнь не удержишь за порогом: ко мне в покои доходили разные вести, и я волновалась — не столько за себя, сколько за будущее Египта.
— Я должен это прекратить! — гневно твердил Рамсес в последнюю мою ночь в родильном покое. Он показал мне большую груду папирусов — жалоб из Мемфиса. — Пираты-шардана нападают на египетские корабли по всему Нилу. Они нападают на египетские корабли в Кадеше!
— Они захватили корабль микенского царя с подарками для наших сыновей, — напомнила я, и Рамсес залился краской гнева.
— Так продолжаться не может. Подождем только до месяца тиби, — решительно сказал фараон. Ему не хотелось оставлять Исет до родов, ведь он не будет знать, выжила она или умерла. — А если шардана нападут хотя бы на один египетский корабль или любой корабль, идущий в Египет, их постигнет жесточайшая кара!
На следующий день в тронном зале собравшиеся у возвышения сановники приветствовали меня необычайно низкими поклонами. Рахотеп мне даже улыбнулся, и мне захотелось покрепче обнять своих детей. Я знала, что они в безопасности, но все же, когда Рамсес ударил жезлом в пол и сановники стали занимать места, мне пришлось снова напомнить себе, что нет в Египте лучшей няни, чем Мерит.
— Приведите просителей, — повелел Рамсес.
Двери распахнулись, и в проеме появился Ахмос со своим пастушеским посохом. Хабиру не остановился у стола советников, а прямиком зашагал ко мне. Стражники двинулись вперед, собираясь его остановить, но я подняла руку в знак того, что проситель может приблизиться.
— Приветствую тебя, царевна!
В отличие от прошлого раза Ахмос слегка поклонился, наверное, из-за присутствия фараона. Никто в Египте не осмелится подойти к фараону, не поклонившись. Я не стала медлить.
— Откуда ты знал, что я рожу двух сыновей?
— Царица Нефертити родила фараону Эхнатону двойню, — ответил он, встретившись со мной взглядом. — Про сыновей я не говорил.
Мы говорили на ханаанейском языке, но я взглянула на Рамсеса. Он смотрел на нас со странным выражением.
— Никогда не упоминай в Фивах имена этих вероотступников, — сурово велела я.
— Вероотступников?.. — Ахмос насупился. — Эхнатон — да, но твоя тетка…
Он покачал головой.
— Ты хочешь сказать, что она не поклонялась Атону?
— Она поклонялась Атону, только пока жив был ее муж. А потом она позволила возводить святыни в честь других богов, которых ее муж не признавал.
Теперь уже и Рамсес, и Исет позабыли о посетителях. Оба смотрели на меня.
— О чем ты? — разволновалась я.
— Царица Нефертити никогда не переставала чтить Амона. Вовсе она не была вероотступницей, какой ее называл Хоремхеб.
— Откуда ты знаешь?
— Потому что видел сам ковчеги Амона, видел, как твоя мать сопровождала царицу в тайный храм богини Таурт. Твоя тетка подвергала себя большой опасности. Если бы ее муж про это узнал, он бы ее выгнал и сделал бы главной женой царицу Кийю.
Хотя мы говорили на чужом языке, нас наверняка слушали все, кто находился в зале.
— Ты приходишь уже в третий раз, — сердито сказала я. — Зачем?
— Хочу тебе напомнить, что твоя тетка пострадала из-за веры. Она не могла поклоняться тем богам, которым хотела. Нет, ей приходилось молиться Атону, а твоей матери…
— Моя мать никогда не молилась Атону!
— Хотя порой думала, что надо бы, — слишком уж тяжело ей приходилось, и она могла пойти на многое, только бы облегчить свою участь. Твоя семья страдала, как страдают сейчас хабиру…
— Фараон не отпустит хабиру! — вскричала я. — Они — часть войска!
Ахмос посмотрел мне в глаза, словно надеялся, что я передумаю, а убедившись в обратном, покачал головой и отправился прочь. Он уже поравнялся со стражниками, но тут я неожиданно окликнула его:
— Подожди!
Он медленно повернулся, и я встала с трона.
— Что ты делаешь? — удивился Рамсес.
Я прошла мимо сановников и приблизилась к стоявшему у дверей Ахмосу.
Старики перестали играть в сенет и слушали, но даже если они и знали ханаанейский язык, расслышать меня мог только Ахмос.
— Приходи, когда наступит месяц тот, — велела я.
— И хабиру освободят?
Я замялась. Рамсес мне доверяет, и, возможно, я смогу его уговорить. Но стану ли я рисковать безопасностью Египта только потому, что какой-то хабиру рассказал мне правду о моих предках?
— Не знаю. За восемь месяцев многое может измениться.
— Ты надеешься к тому времени стать главной женой?
Чувствуя, что все придворные смотрят на меня, я прошептала:
— Ты слышал, что говорят люди о моих детях?
Ахмос не отвел взгляда. И не солгал, как солгал бы придворный.
— Твоя мать славилась при дворе своей честностью, — произнес он. — И я думаю, дочь уродилась в нее. Я сказал хабиру: царевичи Аменхе и Немеф — сыновья фараона.
Я на миг закрыла глаза.
— Мой муж думает, что может прекратить эти толки. Каждый, кто будет распускать лживые слухи, отправится прямиком на каменоломни, но ты сам понимаешь… Ты расскажешь правду остальным? — Вот до чего я отчаялась — просить безбожника об одолжении! — Расскажешь жителям Фив?
Ахмос пристально посмотрел на меня, и, вместо того чтобы назначить свою цену, как я того ожидала, согласно кивнул.
В тот вечер, перед приходом Рамсеса, я рассказала о случившемся няне.
— Хабиру сказал, что моя мать никогда не поклонялась Атону.
Мерит отошла от жаровни, в которой разожгла алоэ. В небогатых домах жгут обычно кизяки или тростник, но запах алоэ успокаивает — мои малыши в комнате Мерит уже уснули. Няня сдвинула брови так, что они превратились в одну темную линию.
— Ты ведь знаешь! — сказала я. — Это правда?
Мерит присела на краешек постели.
— Я видела, госпожа, как она молилась Атону.
— Потому что ее заставили?
Мерит развела руками.
— Наверное.
— Но она ходила в другие храмы? Она посещала тайно святыни Таурт или Амона?
— Да, когда требовалось.
— А когда требовалось?
— Когда она была собой недовольна, — с откровенностью сказала Мерит.
Камень упал с моей души. Возможно, она была себялюбивая, скупая, тщеславная. Жила не но законам Маат. И все же — ничего нет хуже вероотступничества. А вероотступницей она не была!
Дверь открылась, и вошел Рамсес. Мерит поклонилась ему и вышла. Мы с Рамсесом уселись на крытую кожей скамью у огня, и я поведала ему о разговоре с Ахмосом. Рамсес помолчал, потом положил принесенные свитки на низенький столик и заявил:
— Я всегда знал, что в эддубе нам говорили неправду. Твои родные не могли быть безбожниками! Ты ведь совсем не такая! — Разволновавшись, он повысил голос. — А что говорит твоя няня?
— То же, что и Ахмос. Она видела, как моя мать молилась Таурт.
Я перевела дыхание — а вдруг он именно сейчас решит сделать меня главной женой? Если бы я могла вложить решение ему в голову, я бы не преминула это сделать.
Рамсес взял меня за руки и сказал:
— Пусть люди не знают правды, но мы-то знаем. Когда-нибудь я восстановлю доброе имя твоих акху.
— А до тех пор? — разочарованно спросила я.
Рамсес смутился. Конечно, он знал, чего я жду.
— До тех пор постараемся завоевать любовь народа.
Глава девятнадцатая
В ЛАПАХ СЕХМЕТ
В последующие дни я много думала о своей семье, мечтала о несбыточном. Я жалела, что не отправилась в Амарну вместе с Ашой, не видела обвалившиеся стены и руины города, выстроенного Нефертити. Мне хотелось разбить все статуи Хоремхеба, как он разбил статуи Эйе и Тутанхамона, стереть его имя со всех свитков, как он стер их имена. Чтобы мысли о мщении не одолели меня полностью, я старалась больше думать о детях. Я пыталась не привязаться к ним всей душой — ведь половина детей не доживает и до трех лет. И все же каждый день, проведенный с нашими сыновьями, был настоящим событием. Ни я, ни Рамсес не могли удержаться и, едва заканчивался прием в тронном зале, спешили к ним, чтобы взять их на руки; смеялись над гримасками малышей — когда они хотели есть или, наоборот, наедались и хотели спать. К месяцу тиби я уже различала младенцев, и, если ночью слышался крик из комнаты няни, я могла определить, кто из них кричит. После долгого приема в тронном зале я не спешила лечь спать, и Рамсес тоже шел в комнату Мерит.
— Отдохни, — уговаривала я фараона, но ему нравилось сидеть со мной.
Он брал на руки одного царевича, а я — другого, и ясными осенними ночами мы укачивали их при лунном свете и улыбались друг другу.
— Неужели когда-нибудь они вырастут и мы сможем брать их на охоту? — спросил как-то раз Рамсес.
Я рассмеялась.
— На охоту? Да Мерит им даже плавать не позволит!
Рамсес улыбнулся.
— Она — хорошая няня, правда?
Я кивнула, глядя на довольное личико Немефа, спавшего у меня на руках. Наши дети, скорее всего, даже не замечали, что каждый день мы их покидаем. Малыши спали и ели под надзором Мерит, а она была прекрасной мауат и охраняла их, как львица.
— Через месяц Исет отправится в родильный покой, — сказал Рамсес. — А я хочу еще до родов отправиться с войском на север.
— Сражаться с пиратами?
— Да. Я тут подумал… Может, тебе поехать со мной, Неферт?
Сердце у меня затрепетало.
— Если ты будешь со мной, пока я сражаюсь с шардана, — добавил Рамсес, — это убедительнее всего покажет народу, что Амон тебя любит. Ты будешь на корабле под надежной охраной. Опасности для тебя…
— Я согласна!
В полумраке на меня смотрели глаза Рамсеса.
— Согласна?
— Я поеду с тобой. На север, на юг, в самую далекую пустыню…
В пятнадцатый день месяца тиби Рамсес получил и хорошую новость, и плохую. Рано утром Исет отвели в родильный покой, а в Северном море пираты-шардана напали на египетское судно, везшее в Микены груз ценных масел стоимостью пять тысяч дебенов.
В тот день Рамсес не стал принимать просителей и велел немедленно очистить тронный зал. Даже Уосерит и Хенуттауи не могли его успокоить.
— Сегодня ты ничего не сделаешь! — сказала Хенуттауи, но Рамсес пропустил ее слова мимо ушей.
— Стража! — крикнул он.
Сановники нервно озирались у возвышения.
— Позвать сюда начальника колесничих и его отца, полководца Анхури. И
еще полководца Кофу!
— Что ты собираешься делать? — спросила Хенуттауи. — Войско не выводят на десять дней!
— Сегодня же соберу небольшой флот, и мы отправимся, как только Исет разрешится.
— А если будет сын? — спросила Хенуттауи. — Как же Амон узнает, что у тебя родился наследник, если не будет празднества по случаю его рождения?
Рахотеп воздел руки к небу.
Сановники, переглядываясь, ждали, пока Рамсес примет решение.
— Я останусь на празднество, — уступил он. — Но только для того, чтобы о ребенке узнал Амон. Не могу сидеть в Фивах, пока эти разбойники-шардана то и дело оставляют нас в дураках.
Я прочла вслух составленный Пасером список грузов, захваченных пиратами:
— «Груз мирровых деревьев для изготовления притираний, три золотых критских ожерелья, кожаные доспехи из Микен, колесницы, инкрустированные золотом и янтарем, пятьдесят бочонков оливкового масла, двадцать бочонков вина из Трои…» Чем скорее мы отправимся, тем лучше, — со значением добавила я.
Хенуттауи и Рахотеп провернулись ко мне.
— «Мы»? — переспросила Хенуттауи. Глаза у нее стали такие узкие, как будто их прорисовали тоненькой тростниковой палочкой. — Куда ты собралась, царевна?
— Со мной, — твердо сказал Рамсес.
— Ты хочешь взять мать твоих сыновей, — подчеркнуто спокойно спросила Хенуттауи, — на войну с шардана?
— Войной это не назовешь, — ответил Рамсес и посмотрел на меня. — Просто сражение.
Хенуттауи заботилась не обо мне, ее беспокоило, что, пока Исет лежит в родильном покое, я буду вместе с Рамсесом, буду участвовать в битвах, словно богиня Сехмет, которая войной мстит людям за их дурные дела.
— Спасибо, что беспокоишься обо мне — Я заметила, как сильно похожа жрица на змею, изображенную на церемониальной короне. — Спасибо, но с Рамсесом мне ничего не страшно. Он сумеет меня защитить.
Двери тронного зала распахнулись, и вошли Аша, его отец Анхури и Кофу. Сановники расступались, пропуская их вперед. Воины подошли к возвышению и поклонились.
— Вы уже слышали? — спросил Рамсес.
— Пираты-шардана. — Анхури, высокий, как и Аша, только смуглее, выглядел так, словно много лет провел в пустыне без отдыха и воды, причем это ему ничуть не повредило. — Мы слишком долго тянули с пиратами, — продолжил Анхури. — Они скоро совсем осмелеют и не пропустят в Египет ни одного корабля.
— Мы подождем, пока родит моя супруга, — сказал Рамсес. — Пусть флот будет наготове.
— Сколько кораблей? — спросил Кофу. — Разбойники нападают сразу на двух кораблях.
— Тогда готовьте десять. Один корабль отправим вперед, пусть дождется их, — предложил Рамсес, — снарядим его так, чтобы он походил на купеческое судно, оденем воинов, как обычных моряков, а когда шардана нападут…
— Из хищника станут добычей! — закончил Аша.
Глаза у него блестели от возбуждения. Приманка — купеческий корабль — встанет у излучины, а за поворотом будут ждать девять лучших кораблей фараона. Как только разбойники клюнут на наживку, корабли фараона возьмут их в кольцо.
— Правда, шардана не дураки, — осторожно добавил Аша. — Они призадумаются, увидев корабль, медленно идущий по реке.
— Мы можем причалить и выгружать бочонки с маслом, — сказал Рамсес.
— Они уже заелись, — вмешался Анхури. — Бочонки с маслом их не прельстят. Вот если бы они думали, что корабль перевозит золото…
— Быть может, поднять на корабле знамя фараона? — предложил Кофу.
— Нет, они не поверят.
— А если увидят корабль царевны, идущий из Микен? — спросила я.
— Это тоже покажется подозрительным.
— А если на корабле плывет царевна в золотых блестящих украшениях, заметных издалека? Я могу прохаживаться по палубе, и тогда никто не усомнится, что корабль — царский.
Полководцы посмотрели на Рамсеса.
— Мы не станем делать из тебя приманку. Это слишком рискованно.
— Впрочем, мысль отличная, — признал Анхури. — Нарядим какого-нибудь паренька. Шардана могут клюнуть.
В зал вошел посыльный и поклонился.
Хенуттауи спросила:
— Госпожа Исет уже родила?
Я удивилась ее бесцеремонности. Интересно, на кого она оставила Исет, пока сама находится в тронном зале?
— Нет еще, госпожа. Но она вот-вот произведет на свет еще одного наследника фараона.
Рамсес поднялся с трона.
— К ней позвали лучших повитух?
— Да, государь. — Посыльный опять поклонился. — Все наготове.
Мы поспешили по коридорам, а я гадала: чего хочет Рамсес? Я никогда не смела об этом заговаривать, но если у Исет родится сын, то получится, что воля богов неясна. Если же родится дочь…
Мы подошли к родильному покою, и следовавшие за нами придворные остановились у входа. Перед дверью я помедлила.
— Наверное, мне лучше не входить… Она и так думает, что я похитила ка ее первенца.
Рамсес нахмурился.
— Ей придется побороть свои предрассудки.
Я перевела взгляд на Уосерит, которая вошла вслед за нами в родильный покой. Внутри уже поменяли все занавеси и циновки. Даже простыни были другого цвета.
Исет увидела Рамсеса и испуганно вздохнула — она боялась, что его приход навлечет на нее гнев богини Таурт. Исет закричала от боли; повитухи подняли ее под руки с обеих сторон и усадили на кресло. Колени роженице застелили чистым полотном, волосы заплели в сложную прическу. Даже теперь она казалась безупречно красивой. Я-то в этих покоях выглядела не так изысканно.
Подойдя к статуе Таурт, я зажгла благовонную палочку. Повитухи уже сожгли не одну, и у ног богини, изображенной, по обычаю, в виде самки гиппопотама, дотлевала целая кучка благовоний. Я прикрыла глаза и прошептала:
— О, богиня, дай Исет силу львицы, и пусть ее роды будут легки…
Исет пронзительно завопила. Хенуттауи воскликнула, указывая на меня пальцем:
— Нефертари, забери назад свою ужасную просьбу!
Я побледнела. Даже повитухи обернулись.
— Я слышала, о чем она молилась, — сказала Уосерит. — Нефертари молилась о здоровье Исет.
— Уведите ее! — вопила Исет, вцепившись в ручки кресла.
— Нефертари — моя супруга, — отрезал фараон. — Она молилась о твоем здоровье…
— Она украла ка моего сына и хочет погубить и другого!
Я отвернулась от статуи. Рамсес попытался остановить меня, но я твердо покачала головой.
— Нет!
Я толкнула двери и вышла; за мной последовала Уосерит. Стоявшие за дверьми придворные заглядывали внутрь. От толпы сановников отделился Пасер.
— Исет уже родила?
— Нет. — Уосерит нахмурилась. — Она нас выгнала. Хенуттауи заявила, что Нефертари молится о смерти Исет.
Минуту спустя тяжелые дубовые двери снова раскрылись, и на пороге встала повитуха. Все замерли. Я затаила дыхание. Я пыталась прочитать новость по лицу женщины, но ее непроницаемый вид только усиливал всеобщее напряжение.
— Ну, что там? — выкрикнул кто-то.
— Здоровый сын! — в конце концов ликующе выкрикнула повитуха. — Царевич Рамсес!
Сердце у меня застыло. Уосерит сжала мою руку.
— Он младше твоих. Вдобавок ты-то родила двойню.
Из родильного покоя вышел Рамсес. Отыскав меня в толпе, он взял меня за руку.
— Пойди к ней снова и не обижайся на ее слова. У нее были схватки, и…
— А у моей сестры тоже были схватки? — резко вмешалась Уосерит. — Она обвинила твою супругу в том, что та молила богиню о смерти твоего сына!
— Просто Хенуттауи не любит Нефертари, потому что вы дружите. Впрочем, с ней я уже поговорил.
— Что же она сказала? — спросила я.
Вид у фараона сделался усталый. Похоже, разговор с Хенуттауи отнял у него много сил.
— Ты и сама знаешь. Но она — сестра моего отца.
Мы вернулись в зал; в комнате кормилиц вокруг маленького Рамсеса собрались повитухи. Они расступились, и я вздрогнула от злорадного чувства: у младенца оказались темные волосы, как у матери. Ребенок был крупнее первенца и с жадностью сосал грудь кормилицы. Кормилица поднесла его к окну, на солнышко, и Рамсес погладил кудрявый пушок на его головке. Придворные судачили о цвете волос новорожденного, о глазах, о форме рта, а Исет тем временам сидела в постели, перед которой выстроилась долгая череда поздравляющих. Когда я приблизилась, она откинулась на подушки.
— Поздравляю с рождением сына, — сказала я.
— Зачем ты вернулась? — прошипела Исет.
— Оставь свои крестьянские суеверия, — оборвала ее появившаяся вслед за мной Уосерит. — Даже моему племяннику это надоело.
— Тут повсюду развешаны амулеты, — предупредила Исет. — А кормилицы — бывшие жрицы Исиды.
— Если ты думаешь, что я умею колдовать, ты просто глупа!
— Кто же тогда убил мое дитя? — прошептала Исет.
Глаза у нее наполнились слезами.
Уосерит выступила вперед.
— Ты глупая девчонка. Из Нефертари такая же колдунья, как из тебя. Пойми наконец: сами боги призвали Акори в царство мертвых. Если ты ищешь виноватого, то вини Хенуттауи.
— Почему это?
Уосерит посмотрела на меня. Я поняла, чего она хочет, и сказала:
— Потому что, если бы Хенуттауи не припугнула Ашаи, отцом твоего ребенка был бы он.
Исет вздрогнула.
— Какие глупости!
Я отвела взгляд.
— Ты сама не знаешь, что говоришь, — с горечью прошептала Исет. — Он уехал в Мемфис, к больному отцу.
— Это тебе Хенуттауи сказала? — Уосерит подняла брови. — Нет, Ашаи — живописец и остался в Фивах. Он работает на постройке Рамессеума и женился на красивой девушке из своего народа. Хотя теперь, когда у тебя родился сын, тебе до Ашаи нет дела.
Впрочем, и я, и Уосерит видели, что это не так.
Лицо у Исет стало недвижным, словно пустыня в безветренный день.
— Мы воскурим в храме благовония и поблагодарим Амона за твое благополучное разрешение, — пообещала Уосерит.
За дверью родильного покоя я повернулась к жрице.
— Зря мы ей сказали сразу после родов.
— Минута была самая подходящая. Пока Рамсес будет воевать, Исет пусть выясняет отношения с Хенуттауи. Моя сестра отлично знала, что Исет Рамсесу не пара, и все же протолкнула ее под венец, обрекла несчастную на одиночество. Правда, жалеть ее не стоит. Таков ее выбор — ты ведь тоже сама выбираешь, каким будет твое завтра.
Вечером Мерит накрасила мне веки. На шею я надела украшение из бирюзы, а на голову — золотую диадему и любовалась отраженной в зеркале коброй, изготовившейся для нападения: ее гранатовые глаза сверкали на фоне моих черных волос, как искры пламени.
— А у тебя хорошее настроение, — заметила няня, — учитывая сегодняшние события.
— Я собираюсь в плавание — меня ждет приключение, быть может, самое интересное в жизни.
При мысли о расставании с сыновьями у меня заныло сердце, но я знала — рассказ о нашем походе высекут на памятниках, боги увидят мою преданность Египту, а народ поймет, как я нужна фараону.
— Мы сокрушим шардана и напомним северным народам, что Египет никогда не дает спуску грабителям.
— Битва — не приключение, — проворчала Мерит. — Кто знает, как там дело обернется.
— Так или иначе, но я буду с Рамсесом. А Исет никогда не стать главной женой.
Мерит поставила баночку с благовониями и пристально посмотрела на меня.
— Фараон что-то говорил? — серьезно спросила она. — Это он тебе так сказал?
— Нет. Сегодня он пойдет в родильный покой, будет оказывать Исет всяческое уважение. Но — мы же отплываем! Он уходит воевать на следующий день после ее родов!
— А когда родила ты, он четырнадцать ночей провел с тобой в родильном покое, — запоздало сообразила Мерит.
Няня проводила меня к себе в комнату, и мы посмотрели на моих спящих сыновей. На кроватках висели амулеты — чтобы к ним не смог приблизиться Анубис. На шейки детям повесили серебряные подвески с вложенными в них кусочками папируса, на которых были написаны защитные заговоры. Отправляясь в путь с Рамсесом, я буду спокойна: за моими детьми присматривают и боги, и няня Мерит.
Пока царевичи спали, кормилицы, сидя в креслах, кормили своих дочерей. Я велела поставить колыбельки девочек рядом с комнатой Мерит. Няня бурчала — дескать, незачем, чтобы дети кормилиц спали рядом с царевичами, но Рамсес не возражал. Я хорошо себе представляла, как тяжело кормить чужих детей, а своих оставлять на попечение кому-то другому.
Через год малышей отнимут от груди, будут поить из глиняных бутылочек.
Я вообще-то подозревала, что няня ворчит не из-за происхождения девочек; просто никому не хочется иметь по соседству сразу четырех кричащих младенцев.
Мы пришли в Большой зал, где уже началось празднество. Стройные полунагие танцовщицы, звеня серебряными поясами, извивались под пронзительные трели флейт, словно стараясь привлечь внимание Беса, чтобы он не покидал Малькату и охранял царевича Рамсеса. В другое время фараон увлеченно бы ими любовался и ночью любил бы меня с еще большей страстью, но сегодня мы только и думали, что о морских разбойниках. А если у них стало больше судов? Если они не польстятся на нашу приманку?
Такие празднества тянутся до утра, и, когда мы с Рамсесом поднялись, Исет удивленно повернулась к нему.
— Нам нужно отдохнуть перед отплытием, — сказал фараон.
Он поцеловал руку Исет, но та злобно ее отдернула.
— Нам?! — Она обратила на меня ненавидящий взгляд. — Нефертари отправляется с тобой?
— Она знает язык шардана.
— А Пасер не знает?
— Знает, но если он поедет, кто останется править страной?
Исет, пошатнувшись, встала на лице у нее было отчаяние.
— Когда же я тебя увижу? Как известить тебя о здоровье царевича Рамсеса? Вдруг с твоим кораблем что-то случится?
Рамсеса растрогало ее волнение.
— С кораблем ничего не случится. А у Рамсеса самые лучшие няньки.
— Ты зайдешь в Аварис навестить отца? — поинтересовалась Хенуттауи.
— Да, на обратном пути.
— Тогда можно встретиться там. Мы с братом вместе отпразднуем твою победу.
Я не поняла, что затевает Хенуттауи, но Рамсесу ее мысль понравилась.
— Да, — решительно сказал он. — Приезжайте в Аварис.
Исет раздумывала; Рамсес тихонько пожал ее руку.
— Отплывай в Аварис, как только будешь готова. Хенуттауи поедет с тобой.
Слезы у Исет высохли, и она кивнула. Мы спустились с помоста и пошли к выходу. Придворные поднялись с мест, кланяясь в пояс и протягивая руки в почтительном приветственном жесте. Стражники растворили перед нами высокие двери, и я подумала: «Все уже поняли: будущее Египта — я».
В комнате Мерит мы постояли у детских кроваток. В глазах у меня защипало; Рамсес обнял меня за плечи.
— Я буду заботиться о них, как о собственных детях!
Мерит говорила правду: она жизни не пожалеет ради малышей. Но я знала: если Анубис, бог с головой шакала, захочет забрать моих сыновей, не помогут никакие заговоры. Зато какая радость будет, когда детям исполнится пять лет! Головы им побреют, оставят только длинную прядь на затылке, которую туго заплетут, а конец завьют. Как говорит пословица, сын — опора для отца на старости лет. Аменхе и Немеф значат для своего отца гораздо больше: они наследники его престола — если я стану главной супругой. Они — драгоценности в его короне.
Мерит торжественно произнесла:
— Не тревожься о детях, государь. Я вырастила Нефертари…
— Вот это меня и беспокоит, — расхохотался Рамсес.
Няня скрестила на груди руки и задрала подбородок.
— Я вырастила Нефертари! Она никогда не болела и никогда ни в чем не знала недостатка. А если из нее вышла сумасбродка, так в том не моя вина…
Нижняя губа няни задрожат.
— Ты отлично справилась, няня.
Я обняла Мерит, и ее суровый взор смягчился.
— Надеюсь, что так, госпожа.
Глава двадцатая
СЕВЕРНОЕ МОРЕ
Золотистая предрассветная дымка окутала десять кораблей, стоявших на якоре у ступеней дворца. Самым большим из них был корабль «Благословение Амона». Пятьдесят воинов, переодетых торговцами, грузили на него бочонки с песком. Корабль не отличался от своих собратьев, вот только на мачтах у него развевались под легким ветерком царские знамена. Чтобы разгуливать по палубе и изображать царевну, отыскали какого-то мальчика. Он стоял сейчас рядом с Аша, разглядывая украшенный самоцветами нож. Как только начнется бой, мальчика спрячут в каюте. Придворные дожидались нашего отплытия, чтобы вернуться в теплые покои дворца и приступить к завтраку. Когда погрузили последний бочонок, Исет прижалась к Рамсесу.
— Нарочно тянет время, — сердито сказала я.
Уосерит улыбнулась.
— Пусть все придворные видят, как она строит из себя дурочку, а ты спокойно стоишь, готовая отправиться на войну.
Исет разрыдалась на плече у Рамсеса, и по ее щекам черными полосами сползала краска. Впервые за все годы, что я ее знала, она не была ни красивой, ни привлекательной и, судя по скованной походке, еще не оправилась после родов.
— Вдруг что-то случится с Рамсесом, — рыдала она. — Как я дам тебе знать?
— Мы увидимся в Аварисе, — мягко пообещал Рамсес.
Он отнял Исет от своего плеча и с тревогой посмотрел на Ашу.
— А если беда случится с тобой? — возвысила голос Исет.
Рамсес попытался ласково улыбнуться, но тут она совершила ошибку.
— Займет ли царевич твое… — Исет тут же поняла, какую допустила оплошность. — Я имела в виду, как он займет в жизни достойное место, если будет расти без отца?
Однако было уже поздно. Исет себя выдала, и Рамсес отвечал холодно:
— К счастью, фараонов охраняют боги. Нашему сыну не придется расти без отца.
Я двинулась вперед и присоединилась к Рамсесу у края причала. Он спросил — и его слышали все визири:
— Царица-воительница готова к отплытию?
Тяжесть диадемы не помешала мне гордо вздернуть голову.
— Царица готова показать пиратам-шардана, что Египет не позволит разбойникам грабить народ.
По небу тянулись длинные облака, поднималось солнце, вокруг перекликались ибисы — прекрасный день для отплытия. Мы поднялись на борт «Благословения Амона»; Хенуттауи зашептала что-то на ухо Исет. Впрочем, какие бы планы ни вынашивала жрица Исиды, мои друзья смогут ей помешать. Я махала Уосерит рукой, пока мы не вышли из лагуны, — вдали еще долго виднелись бирюзовое одеяние и темноволосая голова, прильнувшая к плечу Пасера.
Рамсес стоял рядом со мной. Корабль быстро скользил по реке, на мачтах, словно женские кудри, развевались голубые с золотом флажки.
— Сколько я помню, Уосерит и Пасер всегда друг друга любили, — заметил Рамсес. — Ты никогда не интересовалась, почему они не поженятся?
Я поплотнее закуталась в плащ и ответила, тщательно подбирая слова:
— Видимо, боятся навлечь на себя гнев Хенуттауи.
— Хенуттауи может выбрать себе в мужья кого угодно, — убежденно сказал Рамсес. — Она, конечно, не станет возражать.
— Станет, если Уосерит выйдет за человека, который интересует Хенуттауи.
Рамсес уставился на меня.
— Пасер?
Я кивнула.
— И откуда ты об этом знаешь?
— Уосерит рассказала.
Мы спустились в каюту. Под изображением богини Сехмет, разящей своих врагов, стояла кровать.
— О чем она еще рассказывала?
Я посмотрела ему в глаза и решила рискнуть.
— Пасер нужен Хенуттауи только потому, что сама она его не интересует. Так считает Уосерит.
Мы уселись в кресла перед столиком для игры в сенет.
— Хенуттауи меня иногда настораживает, — признался Рамсес. — Она красива, но из-за ее красоты проглядывает что-то темное. Ты не замечала?
Я сдержалась и не стала рассказывать все, что знала о Хенуттауи, хотя мне и хотелось встряхнуть Рамсеса, чтобы он очнулся и понял, какова его тетка. Но вместо этого я произнесла:
— Я бы отнеслась к ее советам с большой осторожностью.
Три дня мы плыли по реке. Останавливались по ночам — готовили еду на берегу, пили шедех из дворцовых подвалов. Я была здесь единственной женщиной и, если не считать мальчика, нанятого изображать царевну в Северном море, самой молодой. Мы пели песни, ели жареную утятину на взятой из дворца посуде; у воинов, сидевших вокруг костров, тек по пальцам жир.
На четвертую ночь Рамсес объявил:
— Местные жители сообщили, что всего несколько дней назад шардана напали на судно, шедшее в Аварис, к моему отцу.
Среди воинов, сидевших у костров, пронесся возмущенный ропот.
— Завтра пошлем лазутчика, — решил Аша.
В серебристом лунном свете он казался старше своих девятнадцати лет. Когда мы учились в эддубе, по нему сохли все девушки. Интересно, есть ли у него кто-нибудь, собирается ли он жениться?
— Лазутчик пойдет сушей, — продолжал Аша. — Как только мы найдем пиратов, отправим вперед «Благословение Амона», а остальные корабли будут держаться неподалеку, за излучиной. Потом снова пошлем человека, он даст сигнал, что пираты приближаются к нашему купеческому кораблю, и мы тут же атакуем.
Аша вскочил на ноги; по пустынному берегу эхом отдались одобрительные крики воинов.
Поздно ночью мы вернулись в каюту. Рамсес обнял меня сзади и гладил мои плечи. Мы дышали в лад, наши тела разделяла только моя набедренная повязка. Он медленно потянул за ее край, и она упала на пол. Я вздрогнула от его прикосновения, а Рамсес поднял меня на руки и опустил на кровать. Он прижался ко мне всем телом, вдыхая запах моей кожи, умащенной жасмином. Корабль стонал и скрипел — и нас никто не мог подслушать. Наконец мы уснули, обнимая друг друга.
Утреннюю тишину прорезал громкий крик. Мы сели на кровати, ничего спросонья не понимая. Кто это кричал — зверь, ребенок?
Крик раздался снова, и мы бросились одеваться. На берегу рыдал мальчик, наряженный в женское платье, парик и украшения. Здоровенный воин тряс его за плечи.
— Отпусти его! — приказала я.
Мальчик изумленно разинул рот, словно я спасла его от нещадной порки. Я сошла на берег, и он бросился к моим ногам.
— Не желает он, государь, — объяснил воин. — Перетрусил. Мы пообещали его отцу, конюшему, семь золотых дебенов, если мальчишка прогуляется по палубе; конюший божился, что сынок его не робкого десятка!
Мальчик снова заревел, жалобно запричитал, и я погладила его по щеке.
— Тише, ничего с тобой не случится.
— И что теперь? — спросил воин. — Шардана вот-вот подойдут близко. У молоденькой девушки может груди не быть, но если нарядить взрослого мужчину…
— Нарядим женщиной воина, пусть стоит спиной к борту, — предложила я.
Мой собеседник презрительно фыркнул.
— А если они разглядят его ручищи? Нужно найти кого-нибудь, кто сойдет за женщину. Мы же изображаем корабль, который везет царевну с приданым! — Воин с мольбой посмотрел на Рамсеса. — Что же делать, государь?
Наверное, став отцом, Рамсес все же изменился. Вместо того чтобы рассердиться на мальчишку, он смотрел на него с жалостью. Мальчик снова захныкал. Я оторвала его от своего подола и решительно заявила:
— Придется мне!
Рамсес встревоженно взглянул на меня.
— Ты ведь понимаешь, как это опасно. Нужно будет взять оружие.
— Я привяжу к бедру нож.
Услышав наш разговор, воин даже поперхнулся.
— Но ведь ты… Ты — женщина! Царевна! Ты подвергаешь себя опасности.
— У нас нет выбора! — ответила я. — Пираты уйдут, и мы только зря потеряем время.
Щеки воина раздулись так, что он стал похож на кобру.
— Пусть мальчишка нацепит парик и делает, как договорились! Ты понимаешь, глупый, что твой отец ждет золотые дебены? Если ты вернешься с пустыми руками, он разозлится!
Мальчик смотрел на него вытаращенными от страха глазами и трясся.
— Я сама ему заплачу, — решила я. — И буду ходить по палубе. А как явятся пираты, спрячусь в каюте.
Воин посмотрел на Рамсеса.
— Государь, это ведь твоя жена!
— Потому-то я ей и доверяю действовать. Мы будем поблизости.
Воин от изумления словно утратил дар речи, а мы вернулись на судно.
Вскоре вернулся лазутчик с вестями: пираты совсем недалеко, в протоке, впадающей в Северное море. На «Благословении Амона» немедля подняли якоря. Я сидела в каюте, глядя, как воины, переодетые торговцами, посмеиваясь друг над другом, готовятся выступить в новой для себя роли.
— Когда мы прибудем, — сказал Рамсес, — запрись на засов. Я поставлю охрану снаружи и еще двоих — внутри. Что бы ни случилось, Неферт, что бы ты ни услышала, что бы ты ни думала — из каюты не выходи!
— Да еще неизвестно, встретим ли мы их сегодня.
— Об этом беспокоиться не стоит, — мрачно ответил он. — У них по всему берегу лазутчики; как только мы причалим в Тамиате и начнем выгружать бочки, нас увидят.
— А как же они сообщат на свои корабли?
— С помощью зеркал… или огнем, — предположил Рамсес и поднялся. — И, как я уже говорил, не выходи из каюты. Даже если тебе покажется, что меня ранили. Это не игра. Пираты очень долго не видели женщины. Они живут на воде, питаются тем, что смогут добыть. Стоит им тебя заметить, и они станут ломиться в дверь каюты.
Рамсес говорил серьезно, и я по-настоящему испугалась.
— Если тебя ранят, лучше укрыться в каюте. Ты не сможешь сражаться раненый.
— Я буду драться, пока мы не победим! — заявил Рамсес.
Я боялась, что безрассудство заведет его слишком далеко. Он взял меня за подбородок.
— Ты самая храбрая женщина на свете. Если с тобой случится беда…
— Не случится. Я запрусь, да и стражники меня защитят.
Оставшуюся часть утра мы занимались приготовлениями. Рамсес проследил, как я одеваюсь, помог выбрать парик и посоветовал надеть самые блестящие браслеты — те, что приготовили для мальчика. Я накрасилась посильнее, чтобы краска была видна издалека. Наконец неубранной осталась только шея. Рамсес стал застегивать на мне золотое ожерелье; я кожей чувствовала его учащенное горячее дыхание. Повернувшись к Рамсесу, я не спеша затянула ремешки на его кожаных доспехах, хотя мне куда больше хотелось погладить мужа по груди. Рамсес надел перевязь с ножнами и опустился на колени, чтобы закрепить перевязь и мне на бедрах. Я вдруг поняла, о чем мы забыли.
— Волосы! Ведь купцы заплетают их в косу!
Мы уже несколько дней толком не мылись, но волосы моего мужа до сих пор пахли лавандой. Я поглядела на него и вздохнула.
— Кто из фараонов так прекрасен перед битвой?
Рамсес засмеялся.
— Мне сейчас нужна не красота, а твердая рука.
В полдень мы вышли из мутных нильских вод на бесконечный голубой простор Северного моря.
Наш корабль причалил в порту Тамиат, и Рамсес взял меня за руку.
— Мы на месте. Бочки уже выгружают. — Он улыбался, но во взгляде его сквозило беспокойство. — Ты готова?
Я посмотрелась в бронзовое зеркало. Грудь моя после родов еще не уменьшилась, на плечах лежали красивые косички нубийского парика. Серьги — бирюзовые, и даже сандалии украшены драгоценными камнями. Никто не примет меня за простолюдинку и уж тем более — за мужчину.
Вслед за Рамсесом я вышла на палубу, где нас встретил Аша.
— Эта повязка тебе очень идет!
В поношенной набедренной повязке, взятой, наверное, у уличного торговца, Рамсес походил на какого-нибудь уборщика палубы. Выдать его могли только сандалии — хорошей работы и на толстой подошве.
— Смейся! — развеселился фараон. — Зато от меня не несет рыбой, как от некоторых!
Аша понюхал свою накидку. Где он только достал такое гадкое тряпье? Мужчины повернулись ко мне.
— Ты все помнишь? — спросил Рамсес.
Я кивнула. Семеро воинов в одежде торговцев привязали судно к причалу и принялись выгружать бочонки с песком. Я стояла на носу, вдыхала морской воздух и запах воды и старалась побольше подставлять солнцу свои украшения.
Море совершенно не похоже на Нил. На берег обрушиваются пенистые волны, встают на дыбы и устремляются обратно, словно их поймали в рыбацкие сети и они вырвались на волю. С наветренной стороны появились два корабля. Разгружавшие наше судно воины насторожились. Я взглянула на Рамсеса, который стоял на носу, держа сигнальное зеркало. Воин с кормы крикнул:
— Шардана идут! Я узнаю их флаги, государь!
Рамсес поднял зеркало над головой, и трое наших лазутчиков, ожидавших сигнала, побежали к остальным кораблям — сообщить о пиратах.
Аша повернулся ко мне.
— Скорее в каюту и запри дверь.
— За меня не беспокойся, — сказала я Рамсесу. — Покажи этим разбойникам, что Египет не дает спуску грабителям!
В каюте я заперлась и присела на кровать. По обеим сторонам столика для игры в сенет стояли вооруженные мечами и копьями воины, но во рту у меня все равно пересохло от страха. Руки дрожали. Я засунула кисти под себя, пытаясь не выдать своего испуга, — не только у слуг бывают длинные языки.
Борт судна глухо стукнул о причал, раздались крики. На палубу стали прыгать люди. За дверями каюты началось сражение — такое яростное, словно сам Анубис явился на палубу «Благословения Амона». Кто-то изумленно завопил на чужом языке — наверное, пираты увидели, как люди фараона сбросили накидки и обнажили оружие. До меня доносился скрежет металла; в дверь ударилось что-то тяжелое, и я вскрикнула. Мои стражи не двинулись с места. Один, с седыми волосами, спокойно сказал:
— Они сюда не войдут.
— Откуда ты знаешь? — едва выдохнула я.
— На этом корабле перевозили когда-то казну, — объяснил воин. — Ни на одном судне нет таких прочных дверей.
Крики стали громче и участились. Послышался чей-то радостный вопль:
— Наши корабли!
Шардана поняли, что их окружили, но драться не перестали.
Солнце стояло высоко в небе, когда прозвучал ликующий голос фараона. Я распахнула дверь, и Рамсес заключил меня в объятия.
— Мы взяли в плен больше сотни, — объявил он. — Теперь они не станут грабить корабли у Тамиата. Ни одного шардана — от Египта до Крита и Микен. Пойдем!
Он повел меня к носу корабля. Воины приветствовали Рамсеса, поднимая мечи, а я вдруг заметила пятна крови на повязке фараона.
— Слава Рамсесу Великому и царице-воительнице!
Сотни воинов подхватили приветствие, крики понеслись над водой и долетели до корабля, где сидели пленные пираты. На пристани разгружали пиратские корабли — раскрытые сундуки, наполненные сверкавшими на солнце драгоценностями и слоновой костью, похищенные сокровища, которым, казалось, не было конца: бирюзовые амулеты, серебряные блюда с кораблей, шедших на Крит, красные кожаные доспехи, алебастровые сосуды, расписанными сценами взятия Трои, золотые носилки, украшенные бусинами из сердолика и голубого стекла…
Рамсес обнял меня за талию.
— Воины только и говорят, что о тебе. Неслыханно отважный поступок.
— О чем ты! — отмахнулась я. — Прогуляться по палубе…
— Столько пленных! — сказал Аша. — Придется поместить их на разные суда. Как мы с ними поступим? Они чего-то требуют, а я ни слова не понимаю.
Я оторвалась от Рамсеса.
— На каком языке они говорят?
— Я его раньше не слышал. Один, правда, говорил на языке хеттов.
— Тогда, наверное, и другие понимают этот язык, — предположила я. — Может, узнали его у троянцев. Что им сказать?
— Они — пленники, — напомнил Рамсес. И повторил мои же слова: — Египет не дает спуску грабителям.
Я улыбнулась.
— А сам ты к ним выйдешь? — спросил Аша.
Это было рискованно. Рамсес не хотел, чтобы шардана считали себя важными птицами, раз ими занимается сам фараон. Но если он выйдет на палубу в немесе, с жезлом, они узнают, кого разгневали, и поймут, что никто, разгневавший Рамсеса, безнаказанным не останется.
Рамсес посмотрел на пристань, полную награбленных сокровищ, и щеки его зарумянились от удовольствия.
— Да, я пойду.
Кто-то из воинов побежал за короной, а Аша, как всегда осторожный, сказал мне:
— Это пираты, так что будь начеку. Они люди свирепые, и если кто-то из них вдруг вырвется…
— Вы с Рамсесом меня защитите.
Мы поднялись на первый корабль, где держали пленников. Удушливый запах крови и мочи заставил меня прикрыть нос рукавом. Я готовилась увидеть закованных людей, окровавленных и злых. Оказалось, раненых перенесли на другой корабль, а пятьдесят человек, что сидели, щурясь на солнце, вид имели вызывающий. В отличие от хеттов они не носили бород, а волосы их представляли удивительное зрелище — длинные и золотистые. Я остановилась и стала разглядывать пленных. Увидев немес фараона, они затрясли цепями и завопили.
— Успокойтесь! — приказала я на языке хеттов.
Пленники переглядывались. Некоторые смотрели на меня подчеркнуто дерзко, чтобы я поняла, о чем они думают. Однако я не дала себя смутить.
— Я — царевна Нефертари, дочь царицы Мутноджмет, супруга фараона Рамсеса. Вы грабили корабли фараона, присваивали его сокровища, убивали его воинов. Теперь вы за это заплатите — будете служить в войске фараона.
Пленники завопили еще громче, и стоявшие рядом со мной Рамсес и Аша подобрались. Рамсес положил ладонь на рукоять меча.
— Если пойдете служить в войско фараона — прокричала я сквозь шум, — вас будут кормить и одевать и кто-то из вас сможет дослужиться до командира! А станете бунтовать — вас пошлют на каменоломни!
Воцарилась тишина — до людей вдруг дошло, что их не собираются казнить, а будут кормить и обучать.
Рамсес посмотрел на меня.
— Главарей все же придется казнить.
Я серьезно кивнула.
— А остальных…
— Остальные нам еще пригодятся.
Глава двадцать первая
ПЕР-РАМСЕС
Аварис
Весть о победе над пиратами-шардана быстро разнеслась по Нилу.
К Аварису мы подплывали под радостные восклицания с берегов: «Фараон! Фараон!» Воины на кораблях выкрикивали: «Царица-воительница!» — и люди, еще не понимая, в чем дело, подхватывали их крики. Мне стало не по себе: кто знает, что придумает Хенуттауи, когда услышит эти приветствия.
Прошло три дня после победы над пиратами. Мы стояли на палубе «Благословения Амона», и корабль наш подходил к берегу. В последние годы из-за войны и бунта — со времени коронации Рамсеса — царский двор не переезжал на лето в Аварис. Город сильно изменился за прошедшие годы: словно кто-то взял картину и выставил на солнце, чтобы краски выгорели, потрескались и отвалились. Я повернулась к Аше.
— Что здесь случилось? — выдохнул он.
Рамсес, который наслаждался ликованием собравшегося на берегах народа, тоже был потрясен.
— Посмотрите на пристань! Она же просто разваливается!
Деревянные мостки на причале прохудились, а грязь, похоже, никто не убирал, и она пачкала ноги и подолы. Торговцы бросали рыбьи головы прямо на пристани — даже в реку их не трудились скидывать.
— А носилки какие!
Рамсес показал на выгоревшие пологи над облезлыми шестами.
— Можно подумать, что фараон Сети несколько лет не покидал дворец, — пробормотал Аша.
— Ведь он приезжал в Фивы на празднество Уаг! Он должен знать. Неужели он не видел…
Мы высадились на берег и в сопровождении двадцати воинов направились во дворец. Ликующие толпы не замечали, как расстроен фараон; люди бежали перед нашими носилками, рассыпая на дорогу лепестки роз; воинам протягивали чаши с ячменным пивом. Мы приветственно махали руками, но я знала, о чем думает Рамсес. На дороге попадались большие выбоины, а ведь, чтобы их заделать, всего-то и нужно немного глины и камней. На улицах было полно мусора, отходов, обрывков папируса. Явные признаки запустения, словно городом никто не управлял и никого не заботило, что в нем делается.
Мы приблизились к дворцу, и вооруженные стражники открыли нам ворота. Сойдя с носилок, Рамсес испуганно покачал головой.
— Что-то не так. Случилось что-то скверное.
В запущенном парке на ковре из сорняков стояли треснувшие и запылившиеся статуи Амона. В любом египетском доме внутренний двор вымощен плитами, чтобы там не могли прятаться змеи, — а здесь у самого порога царского дворца растет сорная трава!
Тяжелые деревянные двери облезли и растрескались, плиты под ногами раскололись.
— Это дворец моего отца или развалины Амарны? — гневно бросил Рамсес и повернулся ко мне: — Ничего не понимаю, ведь нет ничего важнее этого дворца! Пер-Рамсес начал строить мой дед. А теперь дворец разрушается — что же будет с ним через сто лет? Что останется в память о моей семье?
Двери распахнулись. Не увидев в зале встречающих, наши воины занервничали, раздался лязг вынимаемых из ножен мечей. Из полумрака появилась какая-то фигура. Свет упал на лицо — это оказалась рыдающая Уосерит.
— Рамсес, твоему отцу стало плохо. Он лежит в своих покоях и ждет тебя.
Фараон побледнел.
— Когда? — воскликнул он. — Когда он заболел?
— После нашего приезда. Вчера.
Рамсес махнул рукой, отпуская воинов. Аша понял, что их нужно отвести в Большой зал — накормить и напоить. Я испуганно направилась вслед за Рамсесом и Уосерит, которую никогда прежде не видела плачущей. Передо мной колыхалась бирюзовая накидка жрицы; я старалась сосредоточиться на вышитом бусинами узоре и не думать о страшном, что ждало впереди. Фараон Сети болен, но это не объясняет, почему город в таком небрежении, почему дворец пуст, словно скорлупа, — только редкие слуги пугливо выглядывают из-за колонн.
Мы подошли к покоям Сети, и стражники у дверей раздвинули перед нами копья. Фараон лежал в постели, накрытый простынями, и совершенно не походил на того, с кем я разговаривала во время празднества Уаг, — он сильно исхудал и побледнел с тех пор, как мы виделись в последний раз.
— Отец! — воскликнул Рамсес.
У ложа стояли царица Туйя, Исет и Хенуттауи. Неподалеку сидел на деревянной скамье Пасер, и Уосерит присела рядом с ним.
Фараон Сети открыл глаза, но сына как будто не увидел, а узнал только по голосу.
— Рамсес… — прошептал он и закашлялся.
— Исет принесет тебе соку, — сказала Хенуттауи. — Хочешь?
Сети с трудом кивнул. Хенуттауи взяла Исет за руку и быстро вывела из комнаты.
Рамсес опустился у ложа на колени.
— Что с тобой, аби
[116]? — ласково и печально обратился он к отцу.
Раньше Рамсес так его не называл.
Фараон Сети тяжко вздохнул, и царица Туйя разрыдалась. Ее песик лежал тут же, положив мордочку на лапки; казалось, он страдает так же, как и его хозяйка. Он даже не поднял головы, чтобы приветствовать меня своим обычным рычанием.
— Я болею уже много месяцев, Рамсес. Анубис идет за мной по пятам.
— Нет, аби, не говори так.
Сети снова раскашлялся и сделал Рамсесу знак нагнуться к нему.
— Я хочу, чтобы ты восстановил Пер-Рамсес. Он разваливается. — Сети комкал в руке теплое льняное покрывало. — Уже сто лет мы живем под угрозой хеттского нашествия. Они надеются захватить Египет, когда я умру. Вся моя казна пошла на войско, на коней и колесницы. Отныне хетты — твоя забота…
— Мы только что одержали победу над шардана! Мы привезли сюда пленников, и они будут служить в твоем войске.
Старый фараон попытался сесть. Не верилось, что передо мной тот самый человек, который брал меня в детстве на руки и сажал на колени. Все у него как-то съежилось — и тело, и голос, и глаза. Он словно превратился в мумию Осириса.
— Мне уже ничто не поможет. Лекари говорят, что это сердце. Оно у меня слабое, — прохрипел Сети.
Рамсес собрался было возразить, но Сети протестующе поднял руку.
— У меня мало времени. Принесите мне карты. — Выцветшие глаза фараона остановились на низеньком столике. — Мои планы, — тяжело выдохнул он. — Ты должен завершить мои дела.
«С утра мы праздновали победу, — подумала я, — а вечером будем скорбеть о Сети. Наша жизнь лежит на весах богини Маат, и большая радость уравновешивается большим горем».
— В Долине царей выстроена для меня гробница. Стены уже расписаны. Осталось только внести мой саркофаг
[117].
У Туйи вырвалось громкое рыдание, а я, чтобы тоже не расплакаться, сжала губы.
— Дворец… — продолжил фараон, тяжело дыша. — Непременно восстанови дворец. Сделай Аварис столицей, чтобы она была как можно ближе к Хеттскому царству. Если сумеешь отстоять Аварис, Египет никогда не падет.
— Пока я фараон, Египет не падет.
— Не позволяй хеттам отвоевать Кадеш. Без него наши земли будут беззащитны. — Фараон вздохнул. — И еще — Неферт.
Рамсес посмотрел на меня.
— Ты хочешь с ней поговорить?
— Нет! — с силой ответил больной, и я прижалась спиной к дверям. — Пусть помнит меня таким, каким я был раньше. Неферт… — Голос фараона ослабел. — Нефертари — мать твоих старших сыновей. Мудрая царевна… Но народ ее пока не любит.
— Кто тебе сказал? — спросил Рамсес.
Уосерит взглянула на меня, и мы поняли кто — Хенуттауи.
— Неважно. Я слышал. Мнение народа нельзя не учитывать, Рамсес. Ты знаешь, что случилось с Нефертити. Ее убили…
— Жрецы, — напомнил Рамсес.
— А жрецы выражают мнение народа. Эхнатон… — Сети мял пальцами покрывало. Казалось, слышно, как стучит сердце в его впалой груди. — Подожди хотя бы год, прежде чем объявить ее главной женой.
— Аби, год уже прошел, — возразил Рамсес.
— Не рискуй тем, что нам удалось создать! Подожди еще хотя бы год. Обещай.
Затаив дыхание, я ждала ответа Рамсеса. Он молчал.
— Обещай! — воскликнул Сети.
— Обещаю, — прошептал Рамсес.
Я выскользнула за дверь и притворила ее за собой. В груди жгло огнем, и я, чтобы побыть одной, побежала в тронный зал. Дверь была слегка приоткрыта. Входя, я едва не плакала, но звук голосов из-за колонны заставил меня сдержаться. Прислушиваясь, я тихонько пошла вдоль стены.
— Я подарила тебе целый год! Убери с лица хмурую мину и посмотри на меня, — сказала Хенуттауи.
— Боги знают, что ты натворила, — ответила Исет.
— Что
мы натворили, — спокойно заметила Хенуттауи. — Все тебя вчера видели с чашей.
— Чашей, которую дала мне ты!
— А кто это видел? Так или иначе, мы только ускорили неизбежное. Чем дольше мы ждем, тем сильнее становится Нефертари, тут и сомневаться нечего. Если мне придется напоминать… — Хенуттауи перешла на свистящий шепот: — Ты должна найти способ отблагодарить меня, или же я лишу тебя всего, что дала. Как только он сделает эту девчонку главной женой, она сошлет нас в Ми-Вер. Не сомневайся, я, не задумываясь, пожертвую тобой…
В коридоре послышался шум, и они замолчали. Я осторожно вышла и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Ко мне приблизились Уосерит и Пасер, а за ними Рамсес и царица Туйя.
Рамсес был белее мела.
— Его больше нет, Нефертари. — Он плакал и не стыдился своих слез. — Отец ушел к Осирису.
Я обняла его, и тут появились Хенуттауи и Исет с чашами шедеха в руках.
Увидев наши слезы, Хенуттауи вскрикнула, а Исет зажала ладонью рот. Я
прижалась к Рамсесу, чтобы никто не разглядел, как исказилось мое лицо при появлении этих двоих. Он отстранился от меня.
— Нужно написать письма…
— Государь, с твоего позволения, письмами займусь я, — предложил Пасер.
Слово «государь» обрушились на Рамсеса, словно удар. Теперь у Египта только один правитель.
— А мне что делать? — спросила Хенуттауи.
Мне хотелось крикнуть, что хватит с нее убийства фараона, но слова застряли у меня в горле, и жжение в груди усилилось.
— Ступай с Исет и Уосерит, — сказал Рамсес. — Они отведут мою мать в храм Амона, и пусть она скажет богам… — Он не решался произнести страшные слова. — Она скажет богам, что мой отец уже в пути.
Все собрались уходить, но я замерла у дверей в тронный зал и сделала знак Пасеру.
— В чем дело, Нефертари?
— Он бы ни за что не умер! — яростно прошептала я.
Пасер огляделся — вокруг уже никого не было.
— Я вышла из покоев Сети и случайно услышала разговор Хенуттауи и Исет. Речь велась о какой-то чаше, — исступленно прошептала я. — Хенуттауи сказала, что подарила Исет еще год. Еще один год.
— Все видели, как Исет поднесла фараону чашу с питьем.
— Чашу дала ей Хенуттауи! И эту тайну она использует, чтобы погубить Исет — если та не выполнит ее желания. Хенуттауи желает изгнать свою сестру в файюмский храм и перестроить храм Исиды, чтобы сделать его самой богатой сокровищницей в Египте.
— Так будет, только если Исет станет главной женой.
— Но у нее теперь есть целый год! Ты ведь слышал обещание Рамсеса. А захоти он его нарушить… Если уж Хенуттауи убила собственного брата…
Я впервые видела Пасера испуганным.
— Лекари говорят, что у Сети было больное сердце. Отравления даже не заподозрили. Кто еще слышал их разговор?
— Никто.
— Тогда держи это при себе. Я расскажу Уосерит…
— А Рамсесу? Ведь Сети — его отец!
Пасер покачал головой.
— У нас нет доказательств.
— Лекарь может проверить, был ли яд.
— Или установить, что фараон умер из-за больного сердца, а значит, ты ложно обвинила верховную жрицу Исиды. Лучше молчать. Рамсес тебе поверит и вызовет лекаря, но откуда нам знать, не подкупила ли этого лекаря Хенуттауи? Все очень непросто, Нефертари.
— Значит, убийство Сети останется безнаказанным?
Я сжала кулаки, чтобы не дрожать от ярости.
— Ни одно злое дело безнаказанным не останется.
Пасер поднял глаза к изображению богини Маат, взвешивающей чье-то сердце на весах истины. При жизни сердце человека, изображенного на фреске, было правдивым и потому весило меньше перышка. Умерший улыбался: его ка не пожрет бог-крокодил, и душа будет жить вечно.
— Сердце Хенуттауи весит побольше, чем перышко, — заметила я.
— Ешь только ту еду, что готовит Мерит, — печально напутствовал меня Пасер и удалился.
Меня одолевали недостойные мысли: я родила двух сыновей, ездила с Рамсесом сражаться с шардана, а теперь, из-за смерти фараона Сети, все это забыто. Слова приветствия, что выкрикивали утром воины, сменятся завтра горестными причитаниями. Хенуттауи и Исет вместе с царицей Туйей рыдают в храме Амона, оплакивают лживыми слезами моего единственного заступника. Кажется, все, к чему я прикасаюсь, обращается в пепел.
Ужин в тот вечер прошел в печали. Трон Сети на помосте пустовал. Исет предложила Рамсесу сесть на трон, но он резко спросил:
— Зачем?
После этого никто из придворных не произнес ни слова.
Ночью, в своих покоях, я кусала губы, борясь с искушением рассказать мужу о подслушанном разговоре. Рамсес сидел на ложе черного дерева, инкрустированном золотом, на котором я спала еще ребенком, приезжая с двором на лето в Аварис. Оно стояло посреди комнаты на возвышении; за окном виднелся пришедший в запустение парк. Пруды полностью затянула ряска, и рыбки, наверное, погибли.
— Ты видела его конюшни? — тихо спросил Рамсес.
Ему не хотелось говорить о смерти отца. «Он так и будет носить горе в себе, — подумала я, — словно узник — тяжкие оковы».
— Конюшни — огромные. — Голос его звучал словно издалека. — Пять тысяч боевых коней.
Я прижала к груди одеяло. Даже жар от тлеющих в жаровнях углей меня не согревал.
— Во всех Фивах столько не наберется, — сказала я.
— И содержат их как следует. — В глазах Рамсеса блеснул наконец огонек. — Оружия у отца — больше чем на десять тысяч воинов, и всегда наготове четыре тысячи колесниц. Он очень серьезно относился к угрозе со стороны хеттов.
— Хетты много поколений пугают нас войной.
— Но не до такой степени. Оглядись — видишь, какая разруха? Вся царская казна ушла на подготовку к войне! С тех пор как хетты завоевали Митанни, между нами не осталось никаких препятствий. Отец понимал, насколько это опасно. Он знал: война — вопрос времени. Пасер говорит, что Муваталли нападет, едва узнает о смерти Сети.
— Еще одно сражение?
Мы только что одержали победу над шардана. Впереди — погребение фараона. Слишком много всего на нас свалилось.
Рамсес уныло смотрел на угли.
— Нет, Неферт, не сражение. Война.
На следующее утро тело фараона Сети обмотали пеленами и уложили на помост на палубе «Благословения Амона». Губы Сети изогнулись в спокойной улыбке — кончилось его бдение на северных рубежах Египта. Через двадцать дней он приплывет в Фивы, семьдесят дней его будут бальзамировать, а потом фараон уснет в своей гробнице, подобно прочим великим царям Египта.
Рамсес стоял на палубе. Над кораблем торжественно реял один-единственный флаг — с изображением мумии Осириса. На берегах женщины в длинных траурных одеяниях пускали по воде перед кораблем цветы лотоса и били себя в грудь — чтобы боги знали о нашем горе.
Рыболовы и деревенские жители падали на колени, приветствуя своего фараона. Если б они знали правду о его смерти, они бы не только плакали и кланялись!
Наконец мы прибыли в Малькату.
— Не выпускай детей из виду. Даже во время купания, — предупредила меня Уосерит.
— А как же Мерит?
— Расскажи ей то, что слышала.
Под глазами Уосерит появились темные круги: наверное, все эти ночи ее утешал Пасер — так же как я утешала фараона.
В моих покоях меня приветствовала Мерит. Я была так счастлива видеть своих малышей, что даже почувствовала угрызения совести — ведь весь Египет в трауре. Кормилицы стояли и смотрели, как дети тянут ко мне ручки.
— Как же они выросли! — воскликнула я.
Прошел только месяц, а их уже не узнать! Когда я звала их по имени, малыши улыбались, а я удивлялась: какие они уже умненькие!
— А волосы!
Казалось, что головки мальчиков увенчаны коронами чистого золота.
— Как у фараона, — заметила Мерит. Произнеся эти слова, она вспомнила о фараоне Сети и понизила голос до шепота: — Мне так жалко старого фараона, госпожа.
— Он умер вскоре после нашего прибытия в Аварис.
— Мы слышали о вашей победе над шардана, а потом пришла весть о болезни Сети, но никто не верил. Говорят, что сердце…
— Это был яд, — резко сказала я.
Мерит умолкла и махнула кормилицам, чтобы шли к себе. Как только двери закрылись, я сообщила няне все, что знала.
— Не понимаю! — разрыдалась она. — А как же люди, которые пробуют его пищу?
— Сети распустил почти всех слуг, — объяснила я. — Он готовился к войне с хеттами, покупал доспехи на Крите.
Мерит прижала палец к губам.
— Хенуттауи пожертвовала своим ка, чтобы сделать Исет главной женой. Она и тобой займется, — уверенно добавила няня. — Найми человека пробовать твою еду.
Я отмахнулась, но Мерит настаивала.
— У Рамсеса есть такие люди.
— Рамсес — фараон.
— А ты станешь царицей. Если твою еду будут пробовать, Хенуттауи об этом узнает и не решится пустить в дело яд. Подумай о детях! Что с ними будет, если с тобой случится беда? Исет никогда не позволит мне остаться во дворце и присматривать за ними. Нас с Уосерит сошлют в самый дальний храм, а малютки останутся здесь, совершенно беззащитные.
Я похолодела: Мерит была права. Я взглянула на детей, прекрасных царевичей, которые когда-нибудь станут царями.
— Найми мне человека, — решила я.
— А если фараон спросит?..
— Скажу ему…
— Скажем, что ты боишься хеттских лазутчиков, — подсказала Мерит.
Хенуттауи и Исет — лгуньи, а мне так не хотелось обманывать Рамсеса. «Нужно сказать ему правду, — думала я, — признаться, что я боюсь, как бы его собственная тетка не отравила меня чашей вина или глотком шедеха».
В дверь постучали. Прежде чем открыть, Мерит спросила:
— Еще целый год… Как ты полагаешь, госпожа, Рамсес сдержит обещание?
Я старалась не думать о своей обиде.
— Он никогда не нарушал обещаний.
— Даже если он знает, что нарушить — значит поступить по чести? В Фивах слышали от гонцов, как было дело с пиратами. Тебя уже называют царица-воительница. Все знают, что ты рисковала жизнью ради Египта.
Но я повторила:
— Рамсес всегда держит слово.
У Мерит опустились плечи, и она распахнула дверь.
— Государь! — Няня вздрогнула и поправила парик. — Ты никогда прежде не стучал…
— Я услышал ваши голоса и подумал, что Нефертари, наверное, рассказывает тебе новости… — Рамсес увидел меня с сыновьями на руках. — Не хотел вам мешать.
— Мне так жалко твоего отца! Он и госпоже был как отец, всегда такой добрый, ласковый…
— Спасибо, Мерит. После похорон мы переедем в его дворец, в Аварис.
— Весь двор? — вскричала Мерит.
— Даже Тефер.
Рамсес посмотрел вниз, и Тефер жалобно мяукнул. Кот всегда спал под кроватками малышей и покидать свой пост явно не спешил.
— Бальзамирование займет семьдесят дней. Как только отца похоронят в Долине царей, двор отправится в Пер-Рамсес.
Мерит уже прикидывала в уме, какие понадобятся приготовления. Она поклонилась и вышла, а Рамсес приблизился ко мне.
— Мой отец тебя любил, Нефертари.
— Хотелось бы верить, — тихо сказала я.
— Ты должна верить. Я знаю — ты слышала, какого он потребовал от меня обещания. Он опасался за мой престол. Ему хотелось видеть на троне тебя. Просто отец неверно кого-то понял.
— Вряд ли можно говорить о недоразумении, — осторожно возразила я. — Думаю, ему попросту солгали.
Рамсес смотрел на меня; не знаю, думал ли он о Хенуттауи или Исет. У меня не было сил сказать ему правду. К этому он должен прийти сам. Наконец Рамсес перестал смотреть в одну точку и обнял меня.
— Я буду защищать тебя, Неферт. Я всегда смогу тебя защитить.
Я закрыла глаза и стала молиться: «Амон, прошу, помоги ему понять, от кого меня нужно защитить!»
Глава двадцать вторая
ДОЛИНА СПЯЩИХ ЦАРЕЙ
Фивы
Когда миновало семьдесят дней, тело фараона Сети уложили в золотую ладью, и двадцать жрецов понесли его на плечах в Западную долину. Ладья понадобится Сети, чтобы совершать ежедневный путь вместе с солнцем; ему дозволено будет подняться в поля иару, потому что сердце у него легче перышка Маат.
Тысячи жителей Фив пересекли Нил и присоединились к длиннейшей погребальной процессии. Солнце уже опускалось за холмы, прохладный ветер принес запах нагретой солнцем полыни. Аджо поднял мордочку и нюхал воздух. В числе прочих родных Сети я прошла мимо Аджо, но песик сохранял какое-то странное спокойствие. Быть может, ивив почувствовал, что жизнь его хозяйки отныне изменилась — теперь она не царица, а царская вдова. Туйя останется жить в Пер-Рамсесе: наверное, поселится в каких-нибудь дальних покоях и предоставит Рамсесу заниматься и делами, и устройством праздников. Никогда я не видела, чтобы Туйя улыбалась, глядя на детей, или смеялась над их шалостями. Многие вдовы утешаются воспитанием внуков, но она, скорее всего, будет довольствоваться обществом Аджо и пронянчится с песиком все оставшиеся ей годы.
Царица шла, тяжело опираясь на руку Рамсеса, следом за деловито шагавшим верховным жрецом Амона, которому Пенра и несколько визирей указывали дорогу к месту упокоения Сети.
Я оглянулась на жриц Исиды и издалека заметила красное одеяние Хенуттауи. Она предпочла идти не с членами семьи, а со своими жрицами и отнюдь не старалась хранить скорбное молчание.
— И тут красуется, — сердито буркнула я.
— Амон ее покарает, — пообещала Мерит. — Ее сердце скажет само за себя.
— Только будет уже поздно. Она разделается со всеми, кто нам дорог.
Я подумала про Аменхе и Немефа, спавших во дворце. Я велела кормилицам не спускать с них глаз.
Мерит словно прочла мои мысли.
— Я им доверяю. Они шагу из покоев не сделают, а то бы я сама оттуда не ушла. — Няня посмотрела вперед, туда, где виднелись в меркнущем свете зубцы холмов. — Как ты думаешь, госпожа, до гробницы еще далеко?
— Да, она высоко в скалах. Впрочем, бояться нечего.
— Только шакалов, — шепнула Мерит.
— И верховного жреца Амона.
Я посмотрела на Рахотепа, который двигался рядом с ладьей фараона, точно зверь, преследующий жертву. Сгорбленные плечи, кривой оскал — ни дать ни взять гиена, ждущая, когда ей перепадет кусок добычи льва. Эта ночь принадлежала Рахотепу: именно он вел царскую семью в Долину царей, и он же запечатает комнату, в которой упокоится фараон — вместе со всем, что потребуется в загробной жизни.
В последний раз я приходила в гробницу с погребальной процессией царевны Пили. Мне было шесть лет, но я до сих пор помню рисунки на стенах, помогающие умершему найти путь в царство мертвых. Боги задают умершему вопросы, и, когда ка Сети пройдет последний в этой жизни коридор, он запомнит ответы и сможет перейти в мир иной. Если Сети пройдет испытания, ему понадобится все, чем он пользовался в нашем мире. Сети нужна маска — чтобы в полях иару у его души было лицо. Вокруг саркофага поставят сотни маленьких ушебти
[118] — фигурки слуг, которые в ином мире оживут и будут служить своему хозяину. А чтобы ничего из драгоценных вещей Сети не испачкалось, слуги насыплют в светильники по щепотке соли, и светильники не будут чадить.
Исет и верховный жрец напоминали двух гиен, вынюхивающих, чем поживиться. В закатном полумраке страшный оскал Рахотепа не бросался в глаза, и меня вдруг поразило их сходство. Рахотеп и Исет шли рядом, и я удивилась, что до сих пор не замечала, до чего они похожи — и не только звериной повадкой: прямые носы, узкие лица с высокими скулами, одинаковый прищур в последних лучах заходящего солнца. Мать Исет могла бы выбрать себе любого мужа… и все же никто не знал, от кого родилась Исет. А вдруг желание Рахотепа сделать ее царицей происходит не только из ненависти к моим акху? Если Исет станет главной женой, то жрец, быть может, станет дедом будущего фараона? Рахотеп посмотрел в мою сторону, а Исет, заметив мой взгляд, быстро от него отошла.
Я никому не сказала о своей догадке — мы как раз вошли в Долину. Дорога сузилась, и тысячи плакальщиков остались позади: только самым знатным придворным дозволено знать, где находится гробница Сети. Остальные дождутся нашего возвращения и зажгут светильники, чтобы осветить нам обратный путь.
Солнце уже опустилось за горизонт, и на фоне розовеющего неба выступали темные очертания скал. Каждую ночь бог солнца
[119] спускается с небес и проходит через Подземный мир
[120], чтобы поразить бога тьмы — змея Апопи
[121]. Сокрушив змея, Ра, создатель всего живого, поднимается в своей солнечной ладье на востоке, дабы вновь осветить землю. Фараон Сети больше никогда этого не увидит.
Мне вдруг подумалось: «А если в Египте попран закон, то, быть может, он нарушен и в загробном мире? Неужели сегодня ночью Ра потерпит поражение и завтра солнце не поднимется?» Я прогнала тяжелые мысли и напомнила себе, что солнце всегда всходило, Ра всегда побеждал. И я тоже одержу победу.
Мы стали подниматься по известняковым утесам. Сквозь кряхтение тащивших ладью жрецов слышалось тяжелое дыхание Исет. Она боялась темноты, а один раз, когда вдалеке завыл шакал, она испуганно вскрикнула.
— Это воет Анубис, — сказала я. — Бог смерти. Наверное, ищет виновного.
— Не слушай ее, — велел Рахотеп.
Я решила бросить ему вызов.
— Откуда тебе знать, что это не он? Где же еще быть Анубису, если не в этой долине?
— Молчи! — оборвала меня Хенуттауи.
Голос ее отразили утесы, и шедший впереди Рамсес обернулся посмотреть, что происходит. Жрица понизила голос и угрожающе повторила:
— Молчи.
— Неужели тебя пугает мысль, что по холмам бродит Анубис? А я смерти не боюсь. Когда он придет за мной, мне нечего будет скрывать.
Мерит затаила дыхание.
— Имей уважение к покойному! — прошипела Хенуттауи.
— Мне болтать и приплясывать, как ты?
Мы подошли к входу в гробницу. Рамсес приотстал и оказался рядом со мной.
— О чем вы шептались?
— Хенуттауи пожелала сама провести нас в гробницу, — нашлась я. — Хочет первой увидеть саркофаг своего брата в его усыпальнице.
Рамсес посмотрел на тетку. Даже при слабом дрожащем свете факелов было заметно, как она побледнела.
— Я уважаю твою преданность, — сказал Рамсес. — Следуй за Пенра. Он покажет дорогу.
Хенуттауи обратила на меня свои темные глаза, но спорить не стала — с гордо поднятой головой она шагнула вслед за Пенра в кромешную тьму. Уосерит вцепилась мне в руку ногтями, напоминая об осторожности. Но чего мне здесь бояться? Следом идут придворные, и вооруженные стражи стоят у входа. Мы спускались по ступеням в самое чрево земли, стараясь не прикасаться к стенам, разрисованным сценами из жизни Сети. Пенра говорил, что это самая глубокая гробница в Египте. Воздух стал влажным, и я поплотнее закуталась в плащ. При свете факела мы миновали первый коридор, затем второй и остановились в зале с четырьмя колоннами. Я залюбовалась ковчегом Осириса и сценами из Книги Врат
[122].
— Как красиво, — прошептала я, и Рамсес опустил руку мне на плечо. — Твой отец бы гордился.
— А тебе не страшно? — спросила его Исет.
Рамсес взял ее за руку.
— Я еще ребенком видел, как строят эту гробницу.
Мы вошли в другой проход, более глубокий. Верховный жрец снял с шеи тесло, чтобы, согласно обычаю, открыть им рот фараона, и Исет задрожала. Обряд отверзания уст даст возможность Сети дышать в загробной жизни. Рахотеп вставил тесло в рот фараона, и Хенуттауи замерла, словно каменная статуя. И вправду, что сказал бы сейчас Сети, обрети он вновь земное дыхание?
— Восстань!
Голос верховного жреца повторило эхо. Царица Туйя подавила рыдание. Рамсес поддерживал мать, а я стояла рядом с Мерит.
— Да оживет твое дыхание, и пусть будешь ты моложе и здоровее день ото дня. Пусть же боги хранят тебя в твоем новом обиталище, дают тебе пищу и воду для питья. И если ты желаешь что-то сказать, говори теперь, дабы слышал весь Египет.
Державшие факелы придворные застыли; все слушали, затаив дыхание. Наступила тишина. Хенуттауи, глядя на Исет, слегка улыбнулась — или мне померещилось? Из узкого коридора в зал внесли саркофаг. Все повернулись к Хенуттауи; ей предстояло первой поцеловать канопы
[123] и увидеть, как саркофаг опускается в зияющую темноту. Она слегка отступила назад. Потом опустилась на колени и быстро поцеловала канопы, в которых отравленные внутренности Сети отправятся в загробный мир.
Рахотеп, подняв тесло, произнес слова из Книги Мертвых
[124]:
— «Боги вернули мне дыхание. Узы, что держали закрытым мой рот, развязаны, и я отныне свободен. Я прощаю тех, кто причинил мне зло, ибо карать их — дело богов, а не мое».
Хенуттауи встала и отряхнула подол.
У себя в покоях, сидя у жаровни, я рассказала Уосерит и Пасеру о своих подозрениях относительно Исет и верховного жреца. Уосерит глядела в огонь, а Пасер покачивал в руках чашу с пивом. Против моего ожидания, никто из них не удивился.
— Должна же она быть чьей-то дочерью, — отозвался наконец Пасер. — Все так и думали, что ее отец — какая-то важная персона.
— Ее отец — человек, который погубил моих близких! — вскричала я. — Он убил Нефертити. И если это он поджег… — От волнения у меня свело скулы. — Значит, он погубил целых два поколения моей семьи. Думаете, он не решится погубить еще одно?
Пасер и Уосерит, казалось, не видели грозящей мне опасности. Их куда больше волновало, стану ли я царицей. Уосерит прямо спросила:
— Есть вероятность, что Рамсес объявит тебя главной супругой?
Я покачала головой.
— Фараон не нарушит данного отцу обещания. Зато что касается Исет, то няня вчера ночью видела у ее покоев какого-то мужчину.
Мои собеседники подались вперед. Такая новость поразила их не меньше, чем меня.
— Кто же это был? — спросил Пасер.
— Она не разглядела.
— Быть может, Ашаи, — предположила Уосерит.
— Нет. Вряд ли он так глуп, — возразила я.
— Не удивлюсь, если она посылала за ним слугу, — заметила жрица.
— Исет сейчас в отчаянии, — согласился Пасер. — К кому ей пойти? Не к фараону же. И не к Хенуттауи. Она и так вовек с ней не расплатится.
Уосерит положила руку мне на колено.
— Рахотеп ничего для нее не может сделать. Он не может поднять голос против тебя, потому что его прошлое означает для него тюрьму. Исет этого, вероятно, и не знает, но мыто знаем.
Глава двадцать третья
РА — НАШ ВЛАДЫКА
Золотое украшение на груди Рамсеса ярко блестело на солнце, а из-за голубых фаянсовых плиток на помосте казалось, что он идет к трону по воде. Прошло семь дней после похорон Сети. Храм Амона в Карнаке наполняли тысячи знатных людей, прибывших даже из далеких городов вроде Мемфиса. «Как же они собираются короновать фараона без царицы?» — думала я. Со своего места рядом с Исет — на третьей ступеньке — я смотрела на сыновей, сидевших на руках у кормилиц. Такие счастливые, веселые малыши! Хотелось думать, что, если я умру и царицей станет Исет, они не пострадают от ее дурного нрава.
В холодном воздухе месяца фармути гремели трубы, призывая к тишине придворных, одетых в теплые плащи и сандалии на меху. Меня еще не объявили главной женой, однако, когда Рахотеп возложил на голову Рамсеса корону пшент
[125], фараон смотрел на меня. На меня поглядывали и некоторые сановники, а из тех, кто был на возвышении, моего взгляда избегали только царица Туйя и ее капризный ивив.
— Ра — наш владыка, — объявил Рахотеп. — Он создатель всего сущего, начало всех начал. Он — богиня Бастет
[126], хранительница Верхнего и Нижнего Египтов, и восхваляющие его пребудут под его защитой. Он — богиня Сехмет для тех, кто не повинуется его воле. Он — бог Птах
[127]. И отныне он — повелитель Верхнего и Нижнего Египта, Рамсес Второй и Рамсес Великий.
Храм взорвался приветственными криками. Рамсес спустился с возвышения; жрецы пели так громко, что никто не услышал, как фараон прошептал мне:
— Если бы не мое обещание…
На глазах у всех фараон поцеловал Аменхе и взял нашего сына на руки, словно говоря: «Аменхе — будущий царь Египта». Царица Туйя взглядом пыталась остановить сына, но Рамсес высоко поднял мальчика, показывая придворным.
Молодые танцовщицы захлопали трещотками из слоновой кости. Рахотеп многозначительно посмотрел на Хенуттауи.
Я схватила Мерит за руку. Она тоже заметила взгляд жреца. Мерит не спускала глаз с моих сыновей. Любую еду, которую подавали кормилицам, сначала непременно пробовали.
Рамсес протянул мне руку, но я не двинулась с места.
— Иди с фараоном, — шепнула мне в ухо Мерит. — Ничего не случится.
— Но Рахотеп…
Мерит подтолкнула меня.
— Я буду начеку!
Во дворе храма ждал народ — посмотреть, кого посадит Рамсес в свою колесницу. В храме он поднял перед всем двором Аменхе, а теперь, перед ликующей толпой, протянул руку мне. Я затаила дыхание в страхе, что народ сейчас замолчит, но приветственные крики стали еще громче. С целой процессией золотых колесниц мы ехали по городу, и Рамсес, улыбаясь, повернулся ко мне.
— Ты смогла завоевать их сердца, Нефертари. Ты и вправду царица-воительница.
Глава двадцать четвертая
СПРАВА ОТ ФАРАОНА
В тронном зале фараон по-прежнему сидел в короне немес. За последние три месяца он ничуть не изменился, хотя правил теперь всем Египтом. А вот дворец в Малькате со дня коронации изменился сильно. Со стен поснимали красные коврики, изо всех ниш убрали статуи и уложили в деревянные сундуки — для перевозки в Пер-Рамсес. По дворцу сновали слуги с тяжелыми тростниковыми корзинами, наполненными всевозможными предметами роскоши, которых, наверное, нет в Аварисе. Поскольку во дворце царила суета, в этот день мало кто осмелился прийти с прошением в тронный зал. Когда появился Ахмос, Пасер, заранее зная, каков будет мой ответ на просьбу хабиру, просто махнул ему, чтобы уходил.
— Ты неудачно выбрал время, Ахмос, — сказала я. — Двор завтра уезжает.
— Вот и хабиру хорошо бы уйти, — заявил он. — Зачем мучить их переездом в Аварис?
— Воинам мучиться не придется, — смеясь, ответила я. — Они поплывут по реке с флотом фараона.
— Так не все хабиру служат в войске. Некоторым придется продать свои запасы зерна и нанять лодки.
— Но и берегов Ханаана хабиру без лодок не достигнут.
— Они могут и пешком дойти.
— Хабиру не уйдут! — вскричала я громче, чем хотела. — С севера приходят донесения о приближении хеттских войск. Если они опять возьмут Кадеш, начнется война. Понадобится каждый воин. Подожди, пока наступит месяц тот.
— Я хочу знать, когда фараон освободит хабиру!
У Ахмоса сверкнули глаза. Он стукнул посохом об пол, и стражники двинулись к нему. Я жестом велела им остановиться.
Рамсес отвлекся от разговора с Пасером.
— Моя супруга сказала верно. Войско полностью отправится в Аварис. — Своим тоном он дал понять, что разговор окончен, и тихо спросил у меня: — К чему ты тратишь на него время?
Вечером мы с Мерит отправились в бани, и няня задала мне тот же вопрос.
— Моя мать страдала так же, как эти хабиру, — ответила я. — Но если царь Муваталли двинется на Кадеш, Египту может не хватить воинов, чтобы его остановить. А если Кадеш падет, настанет очередь Авариса. Потом Мемфиса, потом Фив…
Мерит покачала головой. Мы шли по выложенной плитами дорожке, ведущей к баням.
— Если фараон узнает, что ты обдумывала такую возможность… — начала она, но я жестом остановила ее.
— Тихо!
Неподалеку кто-то плакал. Я вопросительно посмотрела на Мерит.
— Это там, — прошептала она.
Мы тихонько подошли к входу во внутренний двор. За толстым стволом сикомора я разглядела знакомые очертания фигуры Исет, а рядом с ней — молодого мужчину. Они стояли так, что больше никто не мог их увидеть. Исет была к нам спиной.
— Ты можешь приходить каждое утро, — жалобно говорила она. — Ты ведь живописец и скульптор, Ашаи. Скажем всем, что ты делаешь мое изваяние. Никто и не узнает…
— Не нужно было мне приходить. — Хабиру отступил назад. — Раньше я тебя любил, но теперь люблю свою жену. Она родила мне двоих детей. И вообще — звать меня сюда… Ты подвергаешь опасности мою жизнь.
Тут, наверное, Ашаи заметил в нашей стороне движение, потому что через миг исчез.
Исет повернулась и, увидев меня и Мерит, в ужасе закрыла руками рот. Она опустилась на колени — прямо на цветы, которые окаймляли ведущую к ее покоям дорожку.
— Ты расскажешь Рамсесу? — прошептала она, опуская голову.
— Нет. Он не узнает твоей тайны, — тихо сказала я.
Мерит в удивлении уставилась на меня.
— Госпожа!
Исет глядела на меня снизу вверх, прищурившись.
— А чего ты потребуешь за молчание?
— Только люди вроде Хенуттауи требуют за все платы.
Позже, в своих покоях, я рассказала о случившемся Уосерит и Пасеру.
— Они спрятались за сикомором, и если бы мы шли другим путем, то ни за что бы их не заметили.
— Супруги фараона не должно касаться даже подозрение, — мрачно проговорила Уосерит. — Если Рамсес узнает…
— Он не узнает. Я пообещала ее не выдавать.
Уосерит и Пасер воззрились на меня, но я решительно покачала головой.
— Хенуттауи и так устроила ей невыносимую жизнь. Ашаи сказал, что больше не придет. Разве Рамсесу будет приятно все это слушать?
— Но ведь Исет предала его!
— Ради любви. Моя мать ради любви предала свою семью. Меня бы не было на свете, если бы она не предпочла полководца Нахтмина обязательствам перед сестрой.
— Перед сестрой, но не перед супругом! — воскликнула Уосерит. — Она не давала сестре клятву верности перед лицом Амона.
Уосерит говорила правду: у Исет дело обстояло иначе. Однако теперь, когда пришло время и в моей власти было ее уничтожить, у меня не хватило духу.
На следующее утро все жители Фив, так или иначе связанные с двором, отправились в путь. Я даже красилась сама и с балкона смотрела, как со двора выезжают тысячи повозок, груженных мешками, сундуками, оружием. Те, у кого хватало средств, нанимали лодки. Крестьяне несли в хранилища корзины с обмолоченным зерном, писцы выдавали им плату из казны, и счастливцы покупали на медные дебены места на кораблях для своих семей.
Я крепко обняла Рамсеса, и мы вместе глядели на это людское море.
— Мы поступаем не так, как Эхнатон и Нефертити, — сказал Рамсес. — Мы не строим город в пустыне, чтобы прославить свои имена. Мы переезжаем в Аварис, чтобы лучше защитить Египет. — Он посмотрел на меня и улыбнулся. — Знаешь, какие покои я велел строителям отделать в первую очередь? Твои. Их устроили рядом с моими и нарисовали на стенах сцены из Малькаты.
Никто в жизни так обо мне не заботился. Я приложила руку к сердцу. Рамсес понял, что я лишилась дара речи, и стал целовать меня — в губы, в щеки, в шею.
— Неферт, Малькату построили твои акху. Здесь жила твоя мать. Я не хочу, чтобы сегодня, покидая дворец, ты грустила.
Я положила ладони на его мускулистую грудь и провела ими вниз, до живота и еще ниже. Рамсес поднял меня на руки и внес с балкона в комнату — но оказалось, слуги уже убрали кровать!
Рядом с жаровней лежала на полу овечья шкура — легкая, белая и мягкая.
— Прямо как ты, — шепнул Рамсес, укладывая меня.
Он опустился рядом со мной на колени и стал целовать мои плечи, груди, опускаясь к бедрам. Внизу живота я всегда умащала себя жасминовым маслом, и фараон жадно вдыхал манящий аромат. Мы лежали в пустой комнате на теплой овечьей шкуре и любили друг друга, а потом Мерит изо всех сил заколотила в дверь, и стало невозможно притворяться, что мы не слышим.
Мне захотелось взглянуть в последний раз на фруктовый сад. Ветки деревьев лежали на особых подпорках; мне иногда казалось, что сажала этот сад моя мать. Она очень любила разводить цветы, но теперь никак не узнать, что именно в саду вырастила она. Я обещала Рамсесу, что покину Малькату без грусти, но поняла, что ошибалась. Через четыре месяца, в день поминовения Уаг, негде будет воскурять благовония для ка моей матушки — она останется одна в заупокойном храме Хоремхеба, окруженная тьмой, забытая.
Сзади подошел Рамсес.
— Мы еще вернемся.
— По этим залам ходила моя мать, — сказала я. — Иногда, стоя на балконе, я думаю: быть может, она видела то же самое, что вижу я.
— Мы построим для нее храм, — пообещал Рамсес, — и ее будут помнить. Я теперь фараон всего Египта.
— Эхнатон тоже был фараоном всего Египта…
Рамсес обнял меня за плечи.
— Отныне твоя семья — это я, Аменхе и Немеф. Народ видел мою победу в Нубии и Кадеше, видел нашу победу над шардана. Боги нас хранят. Они нас знают.
После полудня мы отплыли целой флотилией — больше ста кораблей. Я стояла на палубе, глядя на удаляющуюся Малькату. Лучший корабль Рамсеса нагрузили сундуками и тяжелой мебелью из дворца. Из каюты выглядывали эбеновые статуи богов, которым тоже как будто не терпелось поскорее добраться до Авариса. Свободного места почти не осталось, так что плывшие с нами придворные сидели под пологом — ходить им было негде.
Впереди нас ждали большие перемены, и я грустно вздохнула.
— Интересно, каково это — все время жить в Аварисе?
Мерит, по обыкновению рассудительно, ответила:
— Так же как и раньше, когда ты с остальным двором жила там летом. Только теперь не позволяй Исет выбирать лучшие комнаты.
— Рамсес уже приготовил для меня покои. Он построил мне новые, рядом со своими. И там есть еще две комнаты: одна для тебя, другая для Аменхе и Немефа. Тебе больше не придется жить вместе с кормилицами. У нас будут самые лучшие покои в Аварисе.
Мерит радостно прижала руки к груди.
— А Исет уже знает?
В Пер-Рамсес мы прибыли в середине месяца пахона. Это был уже не тот дворец, который мы видели в холодном месяце тиби. В свежевыкрашенных вазонах и на клумбах пышно расцвели цветы. Душистые гирлянды из цветов лотоса обвивали высокие колонны, комнаты наполнял нежный аромат лилий, а в выложенных плиткой двориках среди цветущего жасмина журчали фонтаны.
Похоже, со дня смерти Сети здесь трудилась целая армия слуг. Я представила, как они снуют по дворцу точно пчелы, бегают по комнатам, моют, чистят, натирают, готовясь к нашему приезду. Свежевыкрашенные стены блестели на солнце, тысячи бронзовых светильников ждали наступления темноты, чтобы отразиться в новых блестящих полах. Все было новое, роскошное, сверкающее.
Я с удивлением спросила у Рамсеса:
— Как на это хватило казны Авариса?
Он понизил голос, чтобы нас не услышали.
— Казны бы не хватило. Благодарить нужно пиратов-шардана.
В тронном зале под огромными статуями фараона Сети и царицы Туйи собрались сотни придворных. Пасер читал список — кто где разместится. Вот он произнес мое имя, и весь двор, казалось, затаил дыхание.
— Царевна Нефертари — по правую руку от фараона Рамсеса Великого.
По залу пронесся удивленный шепот, а Хенуттауи пристально посмотрела на Исет. Если меня поселили по правую руку от покоев фараона, значит, Рамсес уже выбрал меня главной женой. Это еще не публичное заявление, которое будет высечено на стенах храмов, но Рамсес ясно дал понять всему Аварису, чего хочет.
— Пойдем, покажу тебе твои комнаты.
Рамсес подвел меня к деревянной двери, инкрустированной черепаховой и слоновой костью, и прикрыл мне ладонью глаза.
— Что ты делаешь? — рассмеялась я.
— Когда войдешь, расскажи, о чем тебе это напоминает.
Рамсес открыл дверь и убрал руку. Я так и ахнула: я словно оказалась дома. На дальней стене резвились рыжие телята — как в моей комнате в Малькате. На другой стене богиня Мут передавала моей матери анк. Я смотрела на рисунок, вспоминая портрет матери, который изуродовала Хенуттауи, и по щекам у меня текли слезы.
В течение следующего месяца в тронном зале каждый день собиралась толпа. Дни наши проходили в трудах, мы ездили по Аварису, следили за тем, как выполняются работы по восстановлению города, принимали посланников и иноземных визирей. Зато по ночам наступало сплошное веселье. Сети истратил свою казну на подготовку к войне — и на развлечения, так что хотя дворец разваливался, но танцовщицы у него всегда были самые красивые в Египте. Они кружились по Большому залу, стараясь понравиться новому фараону, и весь двор оживлялся. Аменхе и Немеф сидели на коленях у Уосерит и хлопали в ладоши в лад систрам. А вот маленького Рамсеса никому, кроме матери, не дозволялось брать на руки — только няньке. Исет стерегла его пуще глаза. Если Аменхе и Немеф подползали к нему слишком близко, она хватала его и относила подальше. Бедняжка Рамсес, вырываясь у матери, только и мог слушать радостные вопли моих малышей, кувыркавшихся на помосте. «Он будет совсем одинок, когда подрастет», — думала я.
В Аварисе же никто не страдал от одиночества. В загородных особняках за Пер-Рамсесом люди каждую ночь праздновали прибытие из Фив все новых и новых родственников. Аромат жареной утятины проникал даже в коридоры дворца, а по утрам так сильно пахло гранатовой пастилой, что я просыпалась с урчанием в животе. С балкона своей комнаты я смотрела на крестьян, собирающих янтарно-желтую смолу мирры, а по вечерам их жены гуляли с детьми по зеленым аллеям Авариса. Страх перед голодом прошел. Египтяне думали, что их жизнь изменилась благодаря изобретению зодчего Пенра, но я-то знала правду. Интересно, что бы подумали мои акху, знай они, что не все в Амарне уничтожено.
Вскоре пришло неминуемое известие. Мы прожили в Аварисе месяц; время празднеств и путешествий окончилось. В наши с Рамсесом покои явился Пасер и плотно закрыл за собой дверь. Рамсес взял у него свиток.
— Десять тысяч хеттских воинов овладели Кадешем, — сообщил Пасер. — Город уже сменил подданство.
— Кто еще знает?
— Только гонец, государь.
Я прочитала послание, глядя через плечо Рамсеса. На рассвете к Кадешу подошло десятитысячное войско; жители перепугались и к полудню сдали город. Рамсес смял папирус.
— Муваталли думает, что я побоюсь выступить против него! Он считает себя ястребом, а нас — курятником! — Рамсес отшвырнул смятый свиток к стене. — Он сильно ошибается!
— Царь Муваталли — опытный воин, — сказал Пасер. — Он сражался со всеми восточными державами.
— А теперь пусть попробует сразиться с Египтом!
Глава двадцать пятая
У СТЕН КАДЕША
Аварис
— Ты собираешься в Кадеш?! — Мерит стояла рядом с Аменхе и Немефом, которые поглядывали на меня сквозь золотистые прядки волос и просились на руки. — Хватит того, что ты плавала на север сражаться с пиратами — ты, египетская царевна!
— Ты же сама видела, как воспринял это народ! — возразила я. — Дело того стоит.
— Пиратов была сотня! — воскликнула няня. — А там — десять тысяч вооруженных хеттских воинов! Неужели фараон не понимает опасности…
На сборы оставался только день, однако Мерит загородила собой сундук.
— Конечно, понимает! Он и так ночами не спал, все не мог решиться. Да оба мы не спали. Сегодня ночью он дал наконец согласие…
— Ты представляешь, что такое война?! — с отчаянием в голосе упрашивала Мерит. — Фараон уйдет сражаться, а ты что будешь делать? Ты ведь останешься совсем одна!
Я глубоко вздохнула.
— Нет. Со мной будут Аменхе и Немеф.
Увидев лицо няни, я поспешно добавила:
— Рамсес впервые отправился на войну, когда ему было одиннадцать месяцев. Исет тоже едет, вместе с маленьким Рамсесом.
Мерит убрала руки с боков. Ее гнев сменился изумлением.
— В Кадеш?
— Это Хенуттауи придумала. Чтобы Рамсес проводил с Исет столько же времени, сколько со мной. Мы будем наблюдать за битвой издалека, из лагеря в горах.
Мерит в ужасе простерла ко мне руки.
— Если ты можешь жить в лагере, я тоже могу!
Няня широко расставила толстые ноги и опять подбоченилась. Спорить с ней было бесполезно.
— Что приготовить? — спросила она.
— Белье, сандалии, — быстро сказала я.
— А для царевичей?
Я поцеловала мальчиков в мягкие щечки — такие умненькие малыши, все им нужно потрогать, схватить, рассмотреть.
— Им ничего и не нужно, кроме друг друга.
Детей недавно отняли от груди, они пили молоко из глиняных бутылочек и ели мелко порубленное куриное мясо. Они вместе ели, вместе играли, а теперь они вместе впервые увидят сражение. Я уложила их в колыбельки; при мысли о том, что в месяце эпифи боги о них узнают, меня охватил трепет. Наверное, их имена еще не достигли ушей Амона, но участие в войне — хорошее начало.
В тронном зале в то утро приема не было. Визири и полководцы обсуждали, какой стратегии следует придерживаться, чтобы отвоевать Кадеш. Аша и его отец рассказывали о хеттском войске.
— У них восемнадцать союзных держав, — сказал Анхури, — почти две тысячи колесниц и тридцать тысяч войска. Многие страны прислали им своих воинов — Алеппо, Угарит, Кеда, Маса…
— А еще у них воюют дарданцы, арцава, кешкеш, шазу и многие другие, — подхватил Аша. — Нам понадобится все наше двадцатитысячное войско.
— Мы разделим его на пять частей, — решил Рамсес.
Несколько ночей мы с ним изучали карты и переводили клинописные донесения, перехваченные лазутчиками.
— Отряд Амона поведу я, отряд Ра возглавит Кофу. Анхури поведет отряд Птаха и назначит командующего для отряда Сета. Каждый отряд выступит днем позже предыдущего. Когда хеттские лазутчики увидят отряд Амона, они подумают, что у нас всего пять тысяч. Последний отряд, поменьше, отправится по реке — поведет его Аша. Если мы окружим хеттов и отрежем их тыл, в хеттском войске начнется голод, и через месяц они сдадутся.
Советники хмуро переглядывались.
— Ты хочешь разделить войско, государь? — осторожно спросил Пасер. — На моей памяти ни один фараон так не поступал.
Все нервно задвигались в креслах. Блестящий план или безумие?
— Думаю, может и получиться, — подал голос Кофу.
— Может получиться или получится? — не отступал Пасер.
— Получится, — решительно сказал Рамсес.
Рахотеп молчал, не сводя налитого кровью глаза с трона.
Пасер же был настроен решительно.
— Даже если и есть вероятность успеха при такой тактике, понадобится еще наладить между отрядами безупречную связь.
— У меня есть серьезные сомнения, — вступил в разговор Анхури.
Рамсес не ожидал услышать возражения от отца своего друга.
— Какие именно?
— Четыре отряда пойдут через Ханаан, через леса Лабауи. Поход займет целый месяц. Если хеттам предстоит встретить отряд Амона, то сколько времени потребуется гонцу, чтобы достичь отрядов Ра, Птаха или Сета? Так никогда не делалось…
— Вот потому и нужно попытаться, — убежденно сказал Рамсес. — Эхнатон потерял Кадеш и долину реки Элевтеры. С тех пор фараоны безуспешно пытались их отвоевать. Ведь это земли Египта! Сколько времени их удерживал мой отец? Без этой долины нам не возвратить и своих земель в Сирии. Если мы оставим хеттам Кадеш, нам никогда не видать наших земель по реке Оронт. Из-за Эхнатона египетская держава ослабла, но мы восстановим ее мощь, отвоюем свои земли — для этого нужно сокрушить хеттов, а не просто выставить мощные оборонительные силы, как раньше. Недостаточно отбросить врагов назад — их требуется окружить и голодом вынудить к полному подчинению!
Речь Рамсеса воодушевила полководцев. Они поняли, что если не принять каких-то новых мер, то придется сражаться с хеттами без конца — давать одно сражение за другим. Врагов нужно победить, уничтожить раз и навсегда.
Наступил вечер. В слабом
свете масляных ламп Рамсес походил на хищную птицу — девятнадцатилетний фараон самой могущественной в мире державы сидел на моем ложе. Через месяц он заставит хеттского царя понять, что Египет — не беззащитная овечка.
— Со времен Тутмоса, — сказал фараон, — только мой отец и я сами водили войско в бой. И очень мало кто из фараонов брал с собой жен.
— С нами ничего не случится, — пообещала я.
— За тебя я спокоен. А вот Исет… Дорога будет долгая, а она не создана для лишений.
Мне очень хотелось спросить Рамсеса, для чего, по его мнению, создана Исет.
— Я могу отправить ее на корабле с Ашой, — продолжил он, — но его войско будет далеко впереди, и там может оказаться еще опаснее.
— Исет сама решила ехать, — напомнила я. — Она справится.
Однако Рамсес не переставал сомневаться.
На следующее утро весь двор собрался на небольшом утесе за Аварисом. Визири, их супруги, жрицы и сановники пришли посмотреть на открывшееся внизу, в полях, необычайное зрелище — двадцать тысяч воинов, готовящихся выступить в поход. На солнце сверкали шлемы и боевые топоры; над каждой частью войска развевались знамена Ра, Сета, Амона и Птаха. Среди воинов были нубийцы, ассирийцы, хабиру и недавно вступившие в войско шардана. Наши воины носили кожаные щиты и потому передвигались в бою ловко и быстро, а у хеттов доспехи громоздкие и тяжелые.
— Видишь, какие легкие у нас колесницы? — спросил Пасер, показывая на колесничего, который пронесся через пойму и остановил коней едва заметным движением поводьев. — А у хеттов — тяжелые, потому что они ездят по трое.
— Колесничий, лучник и щитоносец? — угадала я.
Пасер кивнул. Утренний ветерок шуршал его длинной набедренной повязкой; глаза у советника были усталые.
— Будь осторожна, Нефертари. Хетты не задумаются убить женщину. Это не египтяне, и они не станут непременно брать тебя живой…
Пасер не договорил и отступил назад, пропуская Уосерит, которая тут же меня обняла.
— Ты храбрее, чем я!
— Или глупее. Но я обещала Рамсесу, что буду с ним, куда бы он ни поехал. Если он потерпит поражение, то хетты завоюют Египет. Зачем же мне оставаться здесь? Я должна участвовать в решении своей судьбы.
Неподалеку стояли Исет и Хенуттауи — между ними словно пролегла пропасть. Обе молчали. Женщины из гарема, с которыми росла Исет, места себе не находили. Они в жизни ничего не видели, кроме гарема, и вот теперь Исет предстоит ехать в колеснице по пустыне вместе с войском. Они не могли помочь подруге даже советом. Лицо Исет стало белее ее полупрозрачной туники.
Уосерит покачала головой.
— Она не вынесет. Ей придется всю дорогу ехать в носилках вместе с детьми.
Появился Рамсес в золотом оплечье, и придворные взволнованно загомонили. В доспехах фараона отражалось утреннее солнце. Он подпоясался голубым кушаком, а с боевой короны хепреш грозил врагам урей
[128] — изображение кобры, широко раскрывшей пасть.
— Ты — как бог войны Монту
[129]! — восхитилась я.
— А ты — моя Сехмет!
К фараону подошла Исет: тяжелый пояс тянул ее назад, ногти были выкрашены хной. Выглядела Исет безупречно, словно раскрашенная кукла из дворцовой мастерской.
— Мы отправляемся в пустыню! — воскликнул Рамсес. — Не на пир! — Он посмотрел на мою скромную набедренную повязку и простые сандалии. — Исет, ты слишком красива для поля битвы. Не лучше ли тебе…
Исет его не дослушала.
— Я еду с тобой. Я хочу быть рядом. Битвы мне не страшны.
Даже те придворные, кто всегда держал сторону Исет, видели ее насквозь. Одна из ее приближенных, дочь писца, пожалела ее.
— Останься здесь, с Пасером, в тронном зале. Фараону нужен верный человек, чтобы управлять Египтом.
— Фараону нужен верный человек и на войне! — бросила Исет и повернулась ко мне. — Даже если придется одеться как мальчишка, меня это не остановит.
— Тогда иди переодеваться. — В голосе Рамсеса сквозили нотки нетерпения. — Когда вернешься, садись в носилки — укроешься от солнца и пыли.
Путь занял столько времени, сколько предсказывал полководец Анхури. Целый месяц Исет ехала в крытых носилках, на плечах восьмерых слуг. Жаловаться на палящий зной и на отсутствие возможности купаться она не смела. Маленький Рамсес часто плакал, и тогда Исет кричала, что бросит его на дороге, если он будет плохо себя вести.
«Бедняжка ее скоро возненавидит, — думала я. — Зря она не позволяет ему играть с Аменхе и Немефом». Из вторых носилок доносились восторженные вопли: мои сыновья считали происходящее веселым приключением. Мерит ни на минуту не оставляла малышей. Мне тоже хватило бы места в носилках, но я ехала в колеснице следом за Рамсесом и Ашой. Ночью, когда мы становились на привал. Рамсес приходил в мой шатер и мы слушали Мерит, которая в соседнем шатре рассказывала детям сказки. Иногда близнецы засыпали сразу, но чаще никак не хотели угомониться, потому что вдоволь отсыпались днем. Тогда Рамсес брал их к нам, и они кувыркались на коврах и веселились напропалую, а я переводила донесения, перехваченные у вражеских лазутчиков.
— Царь Муваталли не знает о нашем походе, — уверенно заключила я.
Мы как раз миновали Ханаан и шли по долине Бекаа, неуклонно приближаясь к Кадешу с юга. Я взяла последнее письмо.
— Он пишет, что в месяце эпифи состоится празднование победы, и велит своим женам готовиться к встрече. Царь понятия не имеет о нашем походе. Правда, вот здесь мне не все понятно. — Я показала Рамсесу клинописные знаки: древним хеттским пользовались только жрецы, и я попыталась вспомнить уроки Пасера. — Тут про леса Лабауи. — Я задумалась. — Быть может, про дровосеков?
— Про лазутчиков! — неожиданно воскликнул Рамсес.
Близнецы затаили дыхание — вдруг отец рассердился? Убедившись, что он на них даже не смотрит, малыши продолжили играть.
— В лесах Лабауи прячутся лазутчики!
Продолжая изучать знаки, я кивнула.
— Да. Скорее всего, так.
Хотя я ни разу не видела некоторых слов, но «Лабауи» и «люди в лесу» сомнений не вызывали.
— Завтра будем проходить через Лабауи, — сказал Рамсес. — И если там есть лазутчики, отрежем их от основных сил, чтобы они не смогли предупредить. — Он улыбнулся. — Возьмем Кадеш раньше, чем Муваталли усядется праздновать победу!
На следующее утро все четыре отряда собрались вместе. Двадцать тысяч воинов слушали приказы своих командиров. Рассветное солнце золотило шлемы и блестело на клинках. В войске фараона Сети набралось десять тысяч щитов из натянутой на прочные деревянные рамы кожи, которую не пробить даже самой тяжелой стрелой. Теперь, после месячного похода, они наконец пригодятся.
— Отряд Амона и отряд Ра станут лагерем на реке Оронт, на самом высоком месте, — объявил Рамсес полководцам. — Отряды Сета и Птаха останутся у подножия холма. Из перехваченных донесений ясно, что в лесах скрываются хеттские лазутчики. Их нужно схватить до приближения наших отрядов.
Войска двинулись дальше. Люди были возбуждены. Мы приближались к Кадешу и вошли в кедровые леса Лабауи; всеобщее волнение усилилось. Однако никаких хеттов там не обнаружилось, хотя среди деревьев с высокими плоскими кронами спрятаться было негде. Отряды Амона и Ра поднялись на холм перед Кадешем, воины посмотрели вниз — и раздался удивленный ропот. В обнесенном стеной городе царила тишина, а хеттское войско куда-то исчезло. Опускались прохладные сумерки. Стоя на вершине холма, Рамсес и египетские военачальники не верили своим глазам.
— Наверное, хетты отступили, — предположил Кофу.
— Десятитысячное войско не станет захватывать важнейший на севере город только ради того, чтобы через месяц уйти. Скорее всего, они прячутся в городе, — сказал Анхури.
— Так или иначе, нужно отправить лазутчика, — заявил Кофу. — Даже если хетты уже ушли, они услышат о нашем приходе и вернутся с подкреплением. Можете не сомневаться.
В ожидании новостей египетское войско расположилось на холмах вокруг многочисленных костров, заполнивших воздух дымом. Некоторые играли в сенет и в бабки. После захода солнца ожидание стало напряженным; тишина лежащего внизу города пугала больше, чем столкновение с хеттами.
Сидя у костра, Исет первой нарушила затянувшееся молчание.
— Где же они могут быть? — возмутилась она. — Мы добирались целый месяц! И вот пришли, а тут нет никакой войны!
Анхури осторожно улыбнулся.
— Будет тебе война, госпожа. Через день ли, через десять ли, но хетты возвратятся.
Исет сердито откинула капюшон на плечи.
— А сколько их будет?
— Много, — ответил полководец. — Столько же, сколько нас, или даже больше.
Внезапно в лагере зашумели и засуетились.
К Анхури подбежал юноша в набедренной повязке, какие носят гонцы, и полководец поднялся; все остальные немедля оказались на ногах.
— Какие новости?
Юноша перевел дыхание.
— Никаких! — крикнул он. — Хетты ушли два дня назад. Они поставили своего наместника, а войско ушло!
Полководцы настороженно переглянулись.
— Возможно, это ловушка.
— Нет, государь, я был в городе, — настаивал гонец. — Не заметил ни одной кудрявой бороды, ни одной полосатой повязки. Только у наместника в доме…
— Ушли два дня назад? — недоверчиво переспросил отец Аши. — Странно это, — заявил он.
Я думала так же, однако, по мнению других военачальников, хеттский царь, уверенный в успехе, не счел нужным оставаться в Кадеше.
— Они месяц ждали прибытия египетского войска по реке, а когда никто не пришел, снялись с лагеря, — предположил Кофу.
— Подождем, — решил Рамсес. — Если к завтрашнему вечеру их войско не появится, возьмем город.
Все вернулись к своим кострам, а юного гонца наградили двумя золотыми дебенами.
У меня в шатре Рамсес никак не мог уснуть. Я поцеловала его в плечо, потом в грудь, но он явно не желал продолжения.
— Если хетты и вправду ушли, возьмем Кадеш завтра вечером. А если они вернутся, то закроем ворота и будем защищать город изнутри. Ты останешься вместе с обозом на холмах. Я предупредил начальника стражи Ибенра, что только ты можешь отдать приказ сняться с лагеря. Если к холмам приблизятся войска без знамен Амона, или Ра, или Птаха, или Сета, отправляйся на юг, в Дамаск.
Я прижала руку к губам, а Рамсес медленно ее отнял.
— Бояться нечего. Нас охраняют боги, и победа будет за нами.
За пологом шатра раздался шепот, в лунном свете возникла фигура, и Рамсес схватился за меч.
— Государь!
— Это Анхури!
Я по-детски обрадовалась, что полководец ищет фараона именно у меня.
Рамсес отдернул полог и поспешно вышел из шатра. Рядом со стражниками стояли Анхури, Кофу и двое связанных пленников с волосами, заплетенными в косы. На щеке одного из лазутчиков виднелся глубокий порез.
— Хеттские воины, государь, — сказал Анхури. — Рыскали по холмам вблизи лагеря.
Я быстро оделась и вышла вслед за Рамсесом.
— Что они говорят? — осведомился Рамсес.
— Они плохо знают наш язык, — ответил Кофу. — Вот этот, высокий, говорит, что они дезертиры.
— Кто они?
— Они назвались Аннитас и Тешуб. — Анхури поднял брови. — А уж как на самом деле, можно только гадать.
Высокий пленник доходил Рамсесу только до груди.
— Почему вы ушли из войска Муваталли?
Пленники тряслись от страха. Толстый, по имени Тешуб, ответил:
— Мы плохо говорим на вашем языке.
— Поговорите со мной плохо на нашем языке, — прикрикнул Рамсес, — или будете разговаривать на своем языке с Осирисом!
Тешуб задержал взгляд на мне.
— Мы ушли из войска Муваталли, — быстро сказал он. — Не хотим сражаться за такого труса.
Анхури тронул Тешуба острием меча.
— Почему труса?
— Царь Муваталли убежал, — ответил тот. — Он узнал, что великий фараон Рамсес пришел с войском, которое тянется до самого горизонта.
Рамсес посмотрел на меня, потом на своих полководцев. На лице его появилась широкая улыбка, и он шагнул к дезертирам.
— Муваталли узнал, что я иду, и убежал? — нетерпеливо переспросил он. — А куда?
Тешуб указал на север.
— В Алеппо? — уточнил Кофу.
— Да. — Тешуб быстро кивал. — За подкреплением отправился.
У Рамсеса сияли глаза.
— Завтра возьмем Кадеш! Я поведу отряд Амона к северу и опережу Муваталли с его подкреплением. Поднимайте людей. Сегодня больше спать не придется.
— А другие отряды? — спросил Кофу.
— Пусть выходят с первыми лучами солнца.
Серый рассвет еще не посеребрил небо, а отряд Амона уже собрался на холме. Ему предстояло достичь ворот Кадеша до наступления ночи, и я думала о том, сколько у нас времени до возвращения хеттов.
Наедине со мной, в шатре, Рамсес обнял меня: на бронзовых от загара руках канатами вздулись мускулы, плод многолетних воинских тренировок. Я замерла в крепких объятиях и мечтала, чтобы он меня не отпускал. Однако фараону нужно было еще проститься с Исет и с детьми, которых Мерит сейчас одевала.
— Наместника мы захватим быстро, — задумчиво сказал он. — Когда Муваталли вернется, то увидит, что Кадеш у него отобрали. И тут появится со своим отрядом Аша. С Муваталли будет покончено.
— А что помешает ему взять приступом этот холм?
— Он ведь двинулся на север! Ему придется сначала пройти мимо нас. Вы тут в безопасности, Неферт.
Отряд Амона выступил из лагеря. К полудню все ушли, виднелась только шагающая вдалеке пыльная колонна. Мерит крепко сжимала Немефа, тянущего руки к горизонту, и вытирала ему слезы. Аменхе, который был храбрее своего брата, вертелся у меня на руках и слез не проливал.
— Готов ползком отправиться за фараоном, — заметила Мерит.
— Он у нас маленький воин. Правда, Аменхе?
— Он у нас царевич, — твердо сказала Мерит. — И когда кончится этот год, его объявят наследником!
— Да Рахотеп скорее отдаст свою леопардовую шкуру, чем возложит корону на Аменхе.
— Значит, пусть готовится мерзнуть, — бросила няня.
В палатке, под охраной, сидели хеттские дезертиры. До нас доносились голоса спорящих пленников. Ко мне подошел стражник.
— Госпожа, они лопочут какие-то неведомые слова. Видно, лишились рассудка, попав в плен.
Я быстро отдала Аменхе няне, подошла ближе к палатке и прислушалась. Один из стражников открыл было рот, но я яростно затрясла головой, прижав палец к губам. Услышав достаточно, я отступила назад.
— Они говорят на языке шазу. Их волнует, что мы сделаем с лазутчиками.
Разговоры в палатке стихли. Стражники в ужасе смотрели на меня, а я громко потребовала, чтобы послали кого-нибудь за Анхури. Вопли пленников разнеслись по холмам, и даже Исет вышла из своего шатра, где целый день награждала шлепками маленького Рамсеса.
Прибежал Анхури, держась за рукоять меча.
— Они подосланы! — крикнула я. — Эти люди не дезертиры! Они говорили на языке шазу. — Голос у меня звенел от страха. — Они обсуждали, что с ними сделают, когда Рамсес обнаружит, что хеттское войско прячется в холмах за городом.
Полководец и его стражники с палками в руках вошли в палатку к пленникам. Я поморщилась от звуков ударов. Стоявшие поблизости воины слышали мои слова, и весть о западне, в которую попал фараон, разнеслась по лагерю. Отряд Ра уже приготовился к маршу, воины хватали копья, топоры и щиты. Когда Анхури вышел из палатки, на его повязке была свежая кровь. Кивком он подтвердил то, чего я боялась.
— Выходят все три отряда! — прокричал он. — Царевна Нефертари остается распоряжаться обозом и тремя сотнями стражников.
Три наших отряда скрылись в извилистой долине. Они подойдут к Кадешу только утром, и, хотя с нами осталось достаточно воинов, спать я не ложилась.
— Буду ждать, — сказала я Мерит.
— Чего? — воскликнула она, дрожа под плащом.
— Хочу увидеть, как над городскими стенами взметнется знамя Амона, — упрямо заявила я.
Даже в золотистом свете луны было трудно разглядеть, что делается внизу. Перед стенами Кадеша поблескивали костры; вслед за Рамсесом шли еще три отряда, но с вершины холма виднелись только факелы. В ночной тиши раздавался стрекот сверчков, изредка пробегали мелкие зверьки, но только на рассвете я разглядела, что произошло в долине.
Я в ужасе прикрыла рот рукой. Мерит проследила за направлением моего взгляда и увидела то, что я наблюдала с самого восхода. Отряд Амона взял Кадеш, проломив крепкие стены города. Наши колонны подходили по северной дороге, но до реки еще не добрались, а хеттское войско заходило на нас с флангов — на расстоянии всего лишь дневного пути.
— Они идут! Хеттское войско идет! — испуганно воскликнула няня.
Ее крик переполошил женщин в шатрах, а когда хеттов разглядела Исет, голос ее поднялся до истерического визга.
— Нам нужно уходить! Нужно уходить, пока они до нас не добрались и всех не перебили!
Однако я знала, что Рамсес даст хеттам отпор. Ему на помощь шли три отряда, да еще Аша со своими воинами подойдет по реке — и египтяне сокрушат врага. А вот если мы уйдем…
По холму поднимался юноша-гонец. Ибенра выслушал его сообщение.
— Какие новости? — быстро спросила я.
— Отряд Ра попал в окружение, — тревожно сообщил Ибенра. — Убито больше двух тысяч воинов.
— Давайте уходить, — умоляла Исет. — Нужно бежать, пока нас не поубивали.
Она направилась к своему шатру, но Ибенра загородил ей дорогу.
— Если ты отправишься одна, тебя схватят враги. Мы снимемся с лагеря, когда решит царевна Нефертари.
— Да вы посмотрите! — Исет с безумным видом указывала в долину.
— Вражеское войско еще далеко, — объяснила я. — Если мы пойдем в Дамаск, лучше не станет. Туда два дня пути.
Исет побледнела, а я спокойно добавила:
— Скоро придет Аша. Если мы уйдем, Рамсес останется без припасов и попадет в окружение.
В надежде увидеть победное знамя Рамсеса, мы ждали, пока солнце поднимется выше, но хетты все приближались.
— Его разобьют! — истерически кричала Исет, бегая по холму. — Разве вы не понимаете? Его одурачили эти двое! Он погибнет, а вместе с ним и мы! Не нужно ждать Ашу!
Я посмотрела на Ибенра.
— У нас еще есть время?
— Только до полудня.
Исет умоляюще глядела на меня: если Аша и придет, он не успеет отрезать хеттский отряд, который быстро приближался к нам.
— Нужно идти, — сказала я. — Мы ждали столько, сколько могли.
Исет с глубоким облегчением закрыла глаза, а Ибенра коротко кивнул.
— Выступаем! — прокричал он, и вот, окруженные вооруженной стражей, конями, повозками с зерном, мы устремились с холма — к египетскому городу Дамаску.
Глава двадцать шестая
ТЯЖЕЛОЕ ОДЕЯНИЕ БОГА ПТАХА
Дамаск
Правитель Дамаска получил распоряжение поместить меня в самых лучших покоях. Исет, вне себя от страха, даже не жаловалась. Два дня она бродила по комнатам и заламывала руки, думая о том, какая ее ждет участь, если Рамсес погибнет. На третий день за ужином я села рядом с Исет. Она шарахнулась от меня, словно крыса от ястреба, но я успокаивающе, накрыла ее руку своей ладонью.
— Даже если хетты сюда придут, кого они, по-твоему, пощадят? Оглядись — здесь нет никого краше тебя.
Исет трусливо забегала взглядом по комнате.
— Рамсес не умрет. Хетты его не разобьют, — решительно заявила я.
— Откуда тебе знать?
Свет, падавший сквозь окна, хорошо освещал лицо Исет: даже опухшие и покрасневшие глаза ее не портили. Я говорила правду: она была красивее всех.
— Фараона берегут боги, — напомнила я. — Амон, и Ра, и Осирис, и Сехмет.
Я делала вид, что не сомневаюсь в нашем успехе и победа — только вопрос времени. И все же каждый день, не приносящий новостей, тянулся невыносимо медленно. Ночью над дворцом повисал пыльный жар пустыни, и мне казалось, что это тяжелые покрывала бога Птаха, супруга богини Сехмет, накрывают и душат город погребальной пеленой. Неизвестность томила, не давала спать, есть, даже дышать. Что происходит с Рамсесом под стенами Кадеша?
Пять дней мы жаждали хоть каких-нибудь известий, словно голодные кошки — корма. Ибенра в нетерпении встречал каждого приближающегося к городу всадника. В конце концов прибыл гонец с посланием от сражающихся. Правитель немедленно дал нам знать.
— Госпожа! — кричала Мерит. — Гонец!
Я и позабыла, что женщине бегать неприлично и что на мне нет парика. Ведь Рамсес со своим двадцатитысячным войском попал в окружение! Если его разобьют, он потеряет не только Кадеш, но и весь Египет. Рамсес рискнул, поставил на кон все.
Я вошла в тронный зал, и правитель, подав мне руку, подвел меня к одному из четырех стоявших на возвышении тронов, три из которых предназначались для фараона и двух его самых любимых жен. Я села рядом с Исет. Мы старались выглядеть уверенно, но вряд ли могли обмануть других.
Гонец переводил взгляд с Исет на меня и обратно.
— Объявлено перемирие! — возвестил он. — Перемирие между хеттами и Египтом.
— Перемирие? — спросил Ибенра, стоявший у возвышения. — Что ты такое говоришь?
— Хетты отступили к холмам, — ответил юноша. — А войско фараона с победой идет к Дамаску!
Исет обмякла на троне.
— Мы победили, — прошептала она. — Египет спасен.
— Египет, быть может, и спасен, — сказала я, — но фараон еще не победил. Перемирие — это не победа!
Как только Рамсес мог поверить лазутчикам! Он рискнул всем, желая выполнить завет отца, — повел двадцать тысяч воинов на север, к Кадешу, и даже не усомнился в рассказе нарочно сдавшихся в плен хеттов. Поверил выдумкам о том, что Муваталли, опытный воин, испугался молодого фараона и отступил.
— За кем остался Кадеш? — спросила я.
— За хеттами, царевна. Военачальники говорят, что могло быть куда хуже. Ходят слухи, что фараон уцелел благодаря тебе.
Правитель Дамаска и его сановники повернулись ко мне.
— Я же ничего не сделала.
— Сделала, госпожа. Три отряда, которые ты отправила вслед за отрядом Амона, дали фараону возможность подготовиться и перейти в наступление.
— Они и так должны были выйти…
Юноша покачал головой, словно отметая мои возражения.
— Тебя называют царицей-воительницей, госпожа. Даже хетты знают твое имя!
Вслед за гонцом мы приблизились к окну, из которого правитель всегда обращался к народу. За стенами города уже раздавался боевой клич: «Рамсес!» Затем прозвучал другой: «Царица-воительница!»
— Сколько же их? — прошептала я.
— Двенадцать тысяч, — сказал гонец.
Я повернулась к нему.
— Полегла треть войска?
Он опустил глаза.
— Да, госпожа. Зато погляди на этих!
Молодость не позволяла гонцу полностью осознать случившееся.
Войско приблизилось к воротам дворца, на солнце золотом сверкало оружие. Мы втиснулись в узкий проем окна. От Исет веяло ароматами лаванды и жасмина.
— Он вернулся! — крикнула я. — Вернулся!
Въезжая во двор, Рамсес торжествующе поднял меч. Его кожаные доспехи были в крови, корону немес он снял, и волосы свободно струились по спине. Фараон поднялся к нам по лестнице. Исет держалась позади; передо мной расступились стражники, и я бросилась к мужу.
— Нефертари! — воскликнул он. — Моя Нефертари!
Потом Рамсес крепко обнял Исет, и она зарыдала у него на груди, как рыдала каждый день после выступления из Авариса.
— Как же ты уцелел? — прошептала я, разглядывая мужа, не ранен ли.
— Только милостью Амона, — признал Рамсес. Он повернулся к народу, победным жестом вскинул руку и объявил: — Мы вернулись!
Толпа перед дворцом разразилась оглушительными ликующими криками, которые подхватили на улицах. Потом Рамсес пообещал людям мир, пообещал, что они смогут торговать в Эгейском море на территориях хеттов, и поклялся, что, несмотря на потерю Кадеша, Египет выстоит.
— Мы дали хеттам отличный урок! — прогремел над тысячами собравшихся голос Аши. — Они никогда больше не посмеют вторгаться в царство столь отважного фараона, как Рамсес Великий!
Пока город ликовал, Рамсес пришел в мои покои.
— Расскажи мне все, — попросила я. — Каким образом Египет победил, если объявлено перемирие, а Кадеш навсегда потерян?
Рамсес сел на край постели и обхватил руками голову.
— Мы победили, потому что погибло не все войско. Мы победили, потому что хоть я и потерял Кадеш, но не потерял Египта. — Глаза фараона блестели от слез. — И не потерял тебя. — Он обнял меня и прошептал: — Нефертари, моя гордыня едва тебя не погубила! Она погубила замечательных воинов, которые шли за мной и верили в меня.
— Откуда ты мог знать, что те двое подосланы? — сказала я.
Впрочем, Рамсес говорил правду: его самоуверенность стоила жизни тысячам человек. Мы вернемся в Аварис, и матери будут встречать своих сыновей у ворот, вглядываться в лица проходящих воинов… А когда пройдет все войско, женщины поймут, что их дети уже не вернутся. В этом виновата гордыня Рамсеса, его безрассудство, уверенность, что боги на его стороне, что Сехмет вопреки очевидности поможет ему победить, что разделенное на части войско сумеет противостоять мощи хеттов. Фараону следовало дождаться подхода всех своих сил и только потом брать Кадеш. Но я не могла ему это сказать.
Рамсес в своей белой повязке, золотом ожерелье и в короне немес казался сейчас испуганным мальчишкой — тем, который некогда молил Амона сохранить жизнь царевне Пили.
— Ты же не знал, — повторила я.
— А если бы ты не знала языка шазу? А если бы — после того, как полегло шесть тысяч египтян, — к нам на помощь не пришли неарин
[130]?
«Неарин» означает «молодые люди», но я не поняла, что имеет в виду Рамсес.
— Какие неарин?
Он в упор взглянул на меня.
— Наемники-хабиру из Ханаана.
— Люди Ахмоса? — удивилась я.
— А кто еще мог их прислать? Они появились непонятно откуда вслед за отрядом Птаха. Сражались так, словно их вел сам бог Монту. Откуда Ахмос узнал?
— Видимо, хабиру ждали возможности сразиться за собственные интересы.
Рамсес молчал, размышляя, несомненно, о хабиру.
— Они поднимут мятеж, — уверенно сказал он, — если поселятся со своими собратьями в Ханаане. Войско неарин прекрасно обучено.
— Однако они пришли сражаться на твоей стороне.
— Потому что под хеттами им уж точно не видать свободы. Помогая мне, они помогают себе. Если я их не отпущу, они тоже поднимут мятеж. Мятеж можно подавить, их не так много…
— Хватило, чтобы спасти твое войско.
Рамсес кивнул.
— Под стенами Кадеша я видел больше крови, чем мой отец за всю жизнь. Я обещал Египту победу, хотя и не следовало. Да и много чего не следовало обещать. Я хотел заставить богов услышать меня. Думал, победа в Кадеше впишет мое имя в историю. Старая жрица ошиблась: боги и так меня слышали. Они всегда слышат.
«Доказательство тому — приход неарин», — подумала я.
Глава двадцать седьмая
СМЕРТЬ ОТ КЛИНКА
Аварис
Когда мы вернулись в Аварис и царица Туйя увидела, что Рамсес цел, она долго не выпускала его из объятий и даже взяла на руки Аменхе, удивляясь, как сильно они с братом выросли.
— За два месяца стали совсем другими! — восклицала она.
«Уж не вызван ли ее неожиданный интерес восхвалениями царицы-воительницы, что раздаются на улицах?» — подумала я.
— Расскажи мне о битве, — попросила Туйя, — и о том, как ты помогла сокрушить хеттов.
Я начала свой рассказ.
В тот вечер в обеденном зале состоялось празднество, превосходившее все, что было во времена Сети. Повсюду порхали танцовщицы в золотых украшениях, смеялись, кокетничали с веселящимися гостями. Аша сидел во главе группы придворных и рассказывал о том, как он подоспел в тот самый миг, когда хетты выломали ворота Кадеша. Все подались вперед, внимательно слушая, но он будто обращался только к одной рыжеволосой женщине. Я вздрогнула от неожиданности: за столом сидела жрица Алоли!
Празднику предстояло длиться семь дней. Каждый вечер зажигали светильники, и в Большом зале появлялись нарядные женщины с подведенными сурьмой глазами и нарумяненными щеками. Каждый вечер повара Пер-Рамсеса готовили множество яств. Столы ломились от угощения: оливки, финики, гуси с медовым лотосом, тушенные в крепком гранатовом вине. По утрам я просыпалась от запаха жарящегося мяса. На пятый вечер в Большом зале Рамсес пошутил:
— Думаю, Аменхе и Немеф со времени нашего возвращения в Аварис выросли в два раза.
Придворные вокруг засмеялись звонким, словно колокольчики, смехом. Исет ревниво добавила:
— Царевич Рамсес стал такой большой, что может обхватить рукой копье. Ему еще и двух не исполнится, как он будет охотиться на гиппопотамов.
Она улыбнулась Рамсесу, но тут к фараону подошел Пасер с каким-то свитком.
— Послание из Кадеша, — объявил Пасер.
Хенуттауи вздохнула.
— Вечно ты о делах.
— Да, не всем же развлекаться.
Придворные расхохотались, а Рамсес, беря протянутый свиток, нахмурился.
— Печать не царя Муваталли?
— Нет, его сына, царевича Урхи.
Рамсес огляделся вокруг: все веселились и радовались. Женщины в драгоценных ожерельях и нарядных туниках смеялись, слушая рассказы молодых воинов о том, как бежали хетты от войска Птаха и отряда неарин. Никто не спрашивал, почему египтяне, не вернув Кадеша, считают, что победили; по мнению военачальников, эта битва заставит царя хеттов воспринимать Египет как серьезного противника. Победа состояла в том, что мы заслужили уважение со стороны Муваталли. Но почему нам пишет не сам царь, а его сын?
— Возможно, новости скверные, — тихо сказал Рамсес советнику. — Не хочу читать здесь. Пойдем в пер-меджат.
Фараон посмотрел на меня, и я поняла что меня тоже приглашают.
В пер-меджат Сети я была только раз. Удивительно, но здешняя библиотека была намного больше фиванской. Заполненные свитками деревянные полированные полки доходили до самого верха зала, расписанного изображениями Тота
[131] — бога-ибиса, покровителя писцов. На каждой стене были рисунки или рельефы длинноклювой головки, а вокруг воспроизведены сцены из его священной книги. Читать священную Книгу Тота
[132] запрещено, ибо в ней множество мощных заклятий. Мне пришло в голову, что где-нибудь в огромной библиотеке Сети есть эта опасная книга.
Мы сели за самый дальний стол, Рамсес сломал печать, и я спросила:
— Почему Муваталли сам не пишет?
Рамсес посмотрел на меня поверх свитка.
— Царь Муваталли умер.
Он протянул письмо, и мы с Пасером, который смотрел мне через плечо, щурясь, стали читать при свете свечи.
— Тут не сказано, как он умер!
— Царевич Урхи пишет о другом, — ответил Пасер. — Он сообщает южным державам о вступлении на престол, дабы предупредить претензии своего дяди.
— Хаттусили, брат царя Муваталли, — мрачно отозвался Рамсес. — Тот самый полководец, который устроил засаду на отряд Амона.
Выходит, теперь Хаттусили понадобился трон. Молодой царевич просил Рамсеса о поддержке. Никогда раньше хетты не просили Египет о помощи.
— А как же перемирие? — испуганно спросила я.
— Царевичу нужен мир, — уверенно сказал Пасер. — Ему хватит забот со своим дядей.
— Царевичу, быть может, и нужен мир, — заметила я. — Но если на трон сядет Хаттусили, откуда нам знать, что он не двинется на Египет?
— Он уже попробовал воевать с фараоном, — ответил Пасер, — и ему не особенно понравилось. Если бы хетты могли завоевать Египет, Хаттусили уговорил бы брата продолжать войну.
— Тогда как поступить Египту? — спросила я. — На хеттский трон есть два претендента. Если мы поддержим Урхи, а трон достанется Хаттусили…
— Подождем, — сказал Рамсес, возвращая свиток Пасеру. — Подождем, пока кто-то победит, и примем его сторону.
Пасеру явно понравилось, что Рамсес выбрал самый безопасный путь.
— Написать ответ? — спросил он.
Дверь громко скрипнула, послышался шорох сандалий по каменному полу. Мы повернулись, и на освещенное место вышла Хенуттауи. Судя по запаху, она выпила немало вина.
— Рамсес! Чем ты здесь занимаешься?
— У меня дела, — сурово ответил он.
— С Нефертари? — Жрица засмеялась. Из-за спины жрицы выглянула Исет в наряде из бусин. — Все тебя ждут, пойдем!
Хенуттауи протянула увешанную браслетами руку, но Рамсес, к моему удивлению, ее не взял.
— В Кадеше новая беда. Мне не до пиршества.
В пер-меджат вбежал гонец, напугав Исет. Юноша расправил плечи, стараясь казаться повыше.
— Какие новости? — спросил Рамсес.
— Царь хеттов! — доложил гонец. — Государь, он в тронном зале!
Мы поднялись из-за стола и пошли за юношей по коридорам Пер-Рамсеса. Придворные все еще веселились в Большом зале, пели и смеялись. Рамсес обратился к проходившему мимо слуге:
— Позови ко мне всех визирей, полководцев и начальника колесничих.
Гонец отворил дверь в тронный зал, где царила тишина.
У возвышения стояла одинокая фигура, закутанная с ног до головы в плащ. Рамсес весь подобрался. Гонец приблизился к незваному гостю.
— Государь?
Человек обернулся и снял капюшон. Я поразилась его внешности. У него не было мощной челюсти или красиво очерченных скул Пасера, не было суровой бронзовой красоты Рамсеса — сапфировых глаз или ярко-рыжих волос. Он обладал нежной красотой юности, и я никак не могла представить его в роли царя хеттов.
— Я — Урхи-Тешуб, — произнес человек в плаще на безупречном языке Египта.
— Для чего ты прибыл в Аварис? — сухо спросил Рамсес. — Твое войско с тобой?
— Если бы у меня было войско, — горько ответил царевич, — я бы защитил свой трон. Ты получил мое послание?
Пасер поднял свиток.
— Его доставили сегодня вечером.
— Слишком поздно, — сказал хетт. — Мой отец умер во сне, и престол захватил дядя. Царство, оставленное мне отцом, украл его брат. Я прибыл в Египет просить помощи у фараона, которого называют Рамсес Отважный. Я слышал о тебе удивительные вещи — что ты, как никто другой, умеешь поднять на битву воинов. Ты неистов в бою, ты раскидал сотню наших колесниц, когда твое войско в страхе бежало. Если ты поможешь отвоевать мой престол, я верну тебе города, отнятые у твоего предшественника Эхнатона, — все города, которые он отдал. Они навсегда станут твоими.
Рамсес ничего не рассказывал мне о своих воинских подвигах, но на улицах народ прославлял его как героя. Хеттский царевич протянул руку. Примет ли ее Рамсес?
— Я подумаю, — ответил фараон. — Я соберу военачальников и советников. Ты можешь остаться у нас, пока я решаю, что делать.
Пасер облегченно вздохнул.
— А если Хаттусили потребует моей выдачи? — спросил Урхи-Тешуб.
— Здесь ты в безопасности.
— Он узнает, что я здесь, и попросит выслать меня обратно, дабы принять с распростертыми объятиями, — с горькой усмешкой сказал царевич.
— Ему придется довольствоваться твоими письмами. — Рамсес повернулся к Пасеру. — Царевичу нужно отвести лучшие гостевые покои. И пусть кто-нибудь проводит его к пиршественному столу.
— Я провожу, — быстро предложила Хенуттауи. — Покажу хеттскому царю, как веселятся египтяне.
Она протянула ему руку, и царевич с горящими глазами последовал за ней.
— Теперь он, быть может, и не захочет уезжать из Египта, — заговорщицки произнес Рамсес.
Мне подумалось: «Знай царевич, какова Хенуттауи на самом деле, он бы так не сиял».
Мы перешли к длинному столу. Начали подходить визири и полководцы. Аша посмотрел на Исет.
— Не хочешь ли ты пойти в Большой зал, госпожа?
— А не хочет ли Нефертари пойти в Большой зал? — огрызнулась она.
— Хочу, — ответила я. — Но дела Египта важнее моих желаний.
Рамсес, видя, что Исет не собирается уходить, терпеливо сказал:
— Ты иди развлекись.
— А Нефертари?
— Нефертари побудет здесь, — спокойно ответил фараон. — Она нам пригодится. А ты чем поможешь?
Исет оглянулась на визирей, словно ища поддержки, но те смотрели враждебно.
— Думаю, ты гораздо лучше справишься там, в Большом зале.
Рамсес вовсе не собирался ее обидеть.
Исет резко развернулась и вылетела вон, с таким грохотом захлопнув дверь, что по залу пронеслось эхо.
Полководцы старались не смотреть Рамсесу в глаза. Он повернулся ко мне, но и я избегала его взгляда — пусть видит, как я возмущена поведением Исет.
Пасер тактично прокашлялся.
— Царевич Урхи, — начал он, — сын хеттского царя, пришел к нам с известием, что царь Муваталли умер во сне.
Слушатели испуганно зашептались. Пасер ждал, пока они обсудят возможные причины. По мнению Рахотепа, тут не обошлось без яда. Полководец Кофу предположил, что царь ослаб от многочисленных войн.
— Как бы то ни было, — продолжил Пасер, — трон перешел к его сыну, царевичу Урхи. Но Урхи только семнадцать лет, он никогда не командовал войсками. Он не фараон Рамсес, народ ему не доверяет. Народ принял в качестве царя его дядю, полководца Хаттусили.
— И чего этот царевич хочет от Египта? — подозрительно спросил Анхури.
— Он хочет, чтобы мы посадили его на трон, — ответил Рамсес. — Царевич явился в Аварис с весьма заманчивым предложением.
Снова заговорил Пасер:
— Царевич Урхи предложил вернуть нам земли, которые хетты отняли у фараона-еретика.
— Все земли? — не удержался Аша.
— Все, — подтвердил Рамсес.
Аша покачал головой.
— Откуда нам знать, что он не передумает? Вспомните Кадеш. Хеттам нельзя доверять!
— Мы можем прийти на земли хеттов и попасть в западню, — согласился Рамсес. — Окажется, что царевича никто не лишал трона. Нас разобьют, и Египту придет конец.
— Вряд ли Урхи настолько коварен, — сказала я. — Он никогда не водил войско в сражение. Стоит послушать, что говорят о нем во дворце слуги-хетты. Они повторяют толки, принесенные путешественниками, и называют его славным и хорошим, но только царевичем, а царем — никогда. Кто из египтян осмелился бы назвать Рамсеса царевичем?
Все молчали.
— Если Рамсес отправится с ним в Хеттское царство, Египет получит большую выгоду; Урхи не посмеет нарушить обещание. И он не воин. Однако если царевич недостаточно умен, то корону он сохранить не сможет.
Визири согласно кивали. Египет поможет Урхи вернуть трон, но если он снова его потеряет — к чему тогда все наши усилия?
— А как же перемирие? — спросил Аша. — Если царевич останется здесь, как поступит Хаттусили?
— Он вполне может нарушить перемирие, заключенное его братом, — заявил визирь Небамон.
— Хетты уже не так сильны, — возразил Пасер. — После смерти Еретика — пока они захватывали наши земли на севере — ассирийцы захватили Митанни.
— А теперь ассирийцам и этого мало, — задумчиво сказал Рамсес.
— Теперь они двинутся на запад, — согласился Пасер, — на города, принадлежащие хеттам. Имея у себя за спиной Ассирию, Хаттусили не может позволить себе враждовать с Египтом.
Рамсес откинулся назад и закрыл глаза. Полководцы ждали, пока он примет решение.
— Мы пошлем Хаттусили договор, — медленно начал фараон. — Подписанный мирный договор между Египтом и Хеттским царством. И обязательство предоставить военную помощь в случае ассирийского вторжения. Хетты — наши враги, но сейчас Ассирия — более серьезная угроза.
— Если Хаттусили подпишет договор, — добавил Пасер, — мы пообещаем ему помощь в случае голода.
— А в обмен на это, — воодушевился Рамсес, — они откроют нам путь к своим портам. И в Кадеш.
Визирь Небамон недоверчиво заметил:
— Ни одна держава не заключала с врагом подобного соглашения.
Рамсес выпрямился.
— Значит, мы будем первыми.
До самого рассвета советники сидели в тронном зале, обсуждая условия договора, но к утру нас осталось трое — Рамсес, Пасер и я. В храме завершилась утренняя служба, и Уосерит принесла нам свежих плодов.
— Расскажите мне про договор, — попросила она, но Рамсес так устал, что и разговаривать не хотел.
— Договор даст Хаттусили возможность сохранить мир и укрепить свой трон, — сказала я. — Если он не захочет подписать, то ему грозит война и с Египтом, и с Ассирией. У нас же еще остается царевич…
Пасер устало улыбнулся.
— Фараон Рамсес ищет новые политические пути. Если Хаттусили не подпишет, мы предложим такой же договор Ассирии.
— Речь идет не только о военной помощи, — добавила я. — Если какой-нибудь преступник решится бежать и спрятаться в стране хеттов, они должны будут выслать его в Египет. А если хеттский преступник перебежит к нам, мы тоже вышлем его обратно.
Уосерит увидела на папирусе мое имя и посмотрела на меня. Моя подпись стоит на официальном документе! Получается, что я — царица, хоть меня еще не объявили главной женой. Мне хотелось танцевать, кричать об этой новости из каждого окна, но нужно было хранить молчание. Пока Хаттусили не подписал договор, все следует держать в тайне. Зато если он подпишет, весь двор узнает, что на договоре есть моя подпись.
— Вам не помешает поспать, — сказала Уосерит с неподдельной радостью в голосе. — Ночь у вас была трудная… Хотя и очень плодотворная.
— Да, если хетты согласятся, — вздохнул Рамсес, щурясь от рассветных лучей.
Мы последовали совету Уосерит и отправились в мои покои.
Утреннее солнце уже припекало, и льняные простыни показались восхитительно прохладными. Я спросила Рамсеса, не следует ли нам пойти в тронный зал, но он ответил:
— Никого не желаю сейчас видеть… разве что гонца с новостями от хеттов. И тебя.
Рамсес нежно погладил меня по щеке, но тут в двери постучали, и он убрал руку.
— Нефертари! — позвали из-за дверей. Стук не прекращался. — Нефертари, открой! — кричали за дверьми.
Я узнала голос Исет и взглянула на Рамсеса.
— Что же она делает?! — воскликнул он.
— Не знаю. — Я распахнула дверь.
От ярости Исет даже не заметила Рамсеса.
— Это правда? — набросилась она на меня, и я сразу поняла: Рахотеп ей все рассказал. — Рамсес и вправду поставил твое имя на письме, которое послали хеттам?
Я не успела ответить, как Рамсес выступил вперед и ответил:
— Да.
Исет отпрянула.
— Ты же обещал! — прошептала она.
— Исет…
Рамсес протянул руку, пытаясь ее успокоить, но она злобно затрясла головой.
— Нет! Ты обещал… Мне следовало знать, что ты нарушишь обещание — ради нее!
— Я никогда не нарушал обещаний!
На крики Исет у моих покоев собралась небольшая толпа: останавливались проходившие мимо придворные, у стен замерли слуги.
— Нарушил! — не унималась Исет, не двигаясь с места. — В нашу первую ночь ты
обещал любить меня больше, чем других. Ты обещал! — вопила она, и глаза у нее сделались безумные. — Ты меня обнимал и…
— Исет!
— И уверял, что нет другой такой прекрасной и соблазнительной женщины. Говорил, что народ меня любит! Но на письме не мое имя, а имя Нефертари!
Рамсес посмотрел на меня — как я отреагирую? Ведь теперь о письме узнают все придворные.
— Иди к себе, — велел он Исет. — Иди к царевичу и успокойся.
— Я не могу успокоиться! — взвизгнула она. — Ты оскорбил меня в присутствии всего двора!
Исет огляделась и вдруг сообразила, что здесь и вправду собрался весь двор. На шум явился и Рахотеп. Он шагнул к Исет, собираясь увести ее.
— Не трогай меня! — крикнула она. — Ты тоже уговаривал его так сделать! Ты притворялся, что на моей стороне, а сам старался возвысить Нефертари!
— Никто ее не старался возвысить, — веско сказал Рамсес. — Нефертари сама себя возвысила. И потому, когда кончатся празднества, она станет царицей.
Рахотеп замер на месте; Исет вдруг успокоилась.
— Ты говорил, что не нарушаешь своих обещаний, — прошептала она. — А как же обещание, данное отцу, — подождать год, прежде чем объявить ее главной женой?
Я затаила дыхание.
Рамсес спокойно ответил:
— Это будет первое и последнее обещание, которое я нарушу.
Исет нечего было возразить, и Рахотеп увел ее прочь.
Рамсес закрыл дверь.
— Совсем не та женщина, на которой я женился… — прошептал он.
Мне хотелось сказать, что Исет все та же и ничуть не изменилась — просто она в отчаянии потому, что ей нечем расплатиться с Хенуттауи.
— Иногда мы ошибаемся в людях, — уклончиво заметила я.
— Как, например, я ошибся с лазутчиками? — Вид у Рамсеса был несчастный. — Лучше предоставлю тебе судить. — Он взял меня за руку и повел к постели. — Это правда, ты ведь знаешь.
— Что — правда?
— Я никогда не нарушал слова. Это первое обещание, которое я нарушу. Через несколько дней в Египте будет новый праздник — на престол взойдет великая царица.
К вечеру все во дворце знали, что я стану главной женой. В Большом зале, где Хенуттауи пила вино с хеттским царевичем, меня окружили придворные, спеша поздравить.
— Я пока не царица, — скромно отвечала я.
Алоли, стоявшая среди других женщин, громко воскликнула:
— Не царица? Да ведь осталось только корону надеть!
Вошли, держась за руки, Пасер и Уосерит, и, когда они подошли поздравить меня, жрица сжала мою ладонь. Я поняла, что борьба окончена — наконец-то на меня перестанут смотреть как на племянницу Отступницы. Везде — на улицах, в тронном зале, на помосте Большого зала — мне станут оказывать подобающее царице уважение. В храмах уже не будут стирать со стен изображения моих акху. Их имена высекут на камне рядом с моим, и они останутся в веках. Когда мои акху вернутся в мир живых, боги их вспомнят.
Уосерит улыбалась.
— Вот и кончено.
— Еще должна быть коронация, — волновалась я.
— А что может случиться?
Она смеялась с искренней радостью, и я вдруг поняла, как редко слышала ее смех.
Появилась Мерит с Аменхе и Немефом на руках; слуги поспешно зажигали сотни свечей, которые будут гореть до глубокой ночи.
Я посмотрела на помост, где стояли троны: что меня ждет впереди?
Хенуттауи сидела с хеттским царевичем, угощала его вином, отпивала из его чаши.
Мерит проследила за моим взглядом и прошептала:
— Она ведь еще ждет платы от Исет. И кто знает, чего она сама наобещала Рахотепу за то, чтобы он ославил твое имя.
— Расплатилась своими ласками; этого, наверное, достаточно.
— Для Рахотепа? — Мерит сложила губы трубочкой. — Значит, она его плохо знает.
Я посмотрела туда, где обычно сидел верховный жрец, но его не было.
Ко мне подошел Рамсес в набедренной повязке с золотыми полосами. Он так и сиял.
— Ты готова?
Фараон взял меня за руку, и, миновав толпу придворных, всячески нас благословлявших, мы подошли к помосту. Сегодня здесь поставили два деревянных креслица для моих сыновей, а так как малыши еще не умели есть самостоятельно, то было здесь и кресло для Мерит, которая будет присматривать за ними и кормить.
Я села на трон справа от Рамсеса. Визири встали, а Хенуттауи с усмешкой объявила:
— Наша царевна, которая станет царицей. Прекрасно! Выпьем же за Нефертари!
Она подняла свою чашу, и все за столом последовали ее примеру.
— За Нефертари! — весело пронеслось по залу.
— Я, конечно, не собираюсь долго засиживаться, — сказала жрица заплетающимся от вина языком. — В конце концов, утром мне нужно кое-кого отблагодарить. — Она поднялась и, глядя на Исет, ехидно сказала: — Ты идешь?
Исет посмотрела на Рамсеса.
— Нет, конечно. Я… я должна быть здесь.
Хенуттауи прищурилась.
— Тогда увидимся утром. — Она ласково улыбнулась Урхи: — Удачи тебе в твоем деле.
Ее алые одежды скрылись за двойными дверьми, и остаток вечера хеттский царевич провел в одиночестве, нетерпеливо поглядывая на Рамсеса. Наконец, когда ужин подходил к концу, Урхи спросил:
— Египет принял решение?
— К сожалению, нам нужно еще подумать.
— Государь! — с чувством сказал царевич. — У меня отняли трон. Сам я не смогу собрать войско, но с твоей помощью нас ожидает победа! Я верну тебе все земли, потерянные фараоном Эхнатоном. Все до последнего клочка!
Фараон испытывал сильнейшее искушение, но важнее всего для нас был мир.
— Твое предложение мне понятно… — начал Рамсес.
Неожиданно двери в Большой зал распахнулись, и какой-то слуга крикнул:
— Верховную жрицу Исиды убили!
На миг воцарилась тишина, потом люди пришли в смятение. Придворные вскочили с мест, фараон ринулся к дверям, и я последовала за ним. Первым к молодому слуге приблизился Анхури и отобрал окровавленный нож.
— Скорее! — крикнул побледневший Рамсес. — Скорее!
Он схватил меня за руку, и мы приблизились к Анхури.
— Кто это сделал? — спросил фараон.
Юный слуга испуганно ответил:
— Государь, я услышал на пристани крики. Мы вместе с другими слугами побежали посмотреть, что там, и увидели, как верховный жрец Амона садится в лодку. У него на одежде была кровь, государь, вот я и позвал стражу. Его уже схватили.
Семеро стражей ввели в зал верховного жреца. На набедренной повязке Рахотепа алела свежая кровь. Я крепко сжала руку Рамсеса. Фараон выступил вперед и спросил ужасающим голосом:
— Что ты сделал?
Рахотеп, казалось, собрался все отрицать, но, посмотрев на слугу, расправил плечи.
— Я отомстил за смерть фараона Сети, государь. — Глядя на недоуменное лицо Рамсеса, жрец добавил: — Твоего отца отравили!
По залу пробежал изумленный шепот. Рамсес пытался осмыслить сказанное, а Рахотеп ядовито заметил:
— Если ты не веришь, спроси у других визирей. Или у своей будущей царицы — госпожи Нефертари!
Рамсес повернулся ко мне.
— Это правда? У тебя есть подозрения, что… — Он перехватил мой взгляд в сторону Пасера и вскричал: — Моего отца убила Хенуттауи?
Голос его отразили стены, и в зале повисло тяжелое молчание.
Из толпы вышел Пасер.
— Этого мы точно не знаем, — спокойно ответил он. — В тронном зале случайно подслушали разговор.
У Рамсеса прилила к щекам кровь.
— Чей разговор?
— Разговор между Хенуттауи и Исет. Возможно, Хенуттауи дала твоему отцу яд.
— Кто же знает правду? — крикнул Рамсес.
Голос у него дрогнул от гнева и боли, словно мы его предавали своим молчанием.
— А что мы могли сделать? — воскликнула я, но, даже говоря, понимала: нужно было давно ему все рассказать. — Обвинить верховную жрицу? Она бы никогда не призналась…
Я хотела успокоить Рамсеса, но он оттолкнул мою руку.
— Нет! — воскликнул фараон, глядя на Рахотепа. — Ты-то знаешь! Что она тебе сказала?
— Что по ее приказанию фараону поднесли отравленное вино.
Гнев Рамсеса как будто утих; он огляделся.
— А Исет? Она слышала это от Хенуттауи и даже не…
— Исет не могла тебе сказать, — возразил Рахотеп, — ведь твоя тетка обвинила бы ее! Она незаметно добавила яд в питье и дала чашу ни в чем не повинной Исет. Жрица Хенуттауи была очень коварна.
Я видела, к чему идет дело. Если его рассказ никто не опровергнет, Рамсес простит ему убийство Хенуттауи. Но ведь жрец убил еще и Нефертити и устроил пожар, в котором погибла моя семья!
— Хенуттауи была настоящая змея, — с достоинством произнес Рахотеп. — Теперь она мертва.
— Он убил ее не из-за этого!
Все повернулись ко мне.
— Верховный жрец утверждает, что убил Хенуттауи, мстя за фараона, но он лжет! Рахотеп убил ее, чтобы заставить молчать. Хенуттауи готова была свалить всю вину на его дочь и выгородить себя!
— А кто же его дочь? — прошептал Рамсес.
Я прикрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Исет подошла и встала рядом с фараоном.
— Исет, — промолвила я.
Рамсес, вне себя, повернулся к ней.
— Верховный жрец Рахотеп — твой отец?
— Откуда мне знать! — воскликнула она.
Рахотеп шагнул вперед, и на этот раз стражники его не остановили.
— Хенуттауи хотела от моей дочери того, чего она дать не могла: золота, дебенов, власти. Я убил ее не только из мести за фараона, но и ради дочери.
— Не верь ему! — повторила я. — Он убил твою тетку так же, как убил мою! Из мести. — Я повернулась к Рахотепу. — Я знаю, что Нефертити убил ты. Тогда, двадцать лет назад, Мерит видела тебя, испачканного кровью, так же как сегодня тебя заметил этот юноша. Ты стал верховным жрецом Амона, вернулся в Фивы и пригрозил, что скажешь всем, будто я проклята Амоном как дитя безбожницы. Ты обещал выгнать меня из Фив, если Мерит нарушит молчание. Теперь меня никто не выгонит. — Я посмотрела на Рамсеса. — Спроси у него про пожар в Малькате. Спроси, кто и зачем убил моего отца и моих сестер!
Стражники обступили Рахотепа.
— Вспомни, государь, что сделала Хенуттауи! — дрогнувшим от страха голосом воскликнул верховный жрец. — Она — убийца!
— Это ты убил Нефертити и устроил пожар? — спросил Рамсес.
Понимая, что проиграл, Рахотеп с ненавистью посмотрел на меня.
— Снимите с него плащ, — приказал Рамсес.
Исет в ужасе прижала ладонь к губам.
— Я спас тебя от убийцы! — закричал Рахотеп. — Я спас тебя от неведения!
Два стражника скрутили жрецу руки за спиной; ноздри у него раздулись, и он стал похож на жертвенного быка. Когда-то Рахотепу удалось безнаказанно убить царицу, а теперь на его пути оказался какой-то презренный слуга.
— Зачем Хенуттауи убила отца? — спросил Рамсес, и красный глаз Рахотепа заметался по залу. — Ты можешь умереть быстро от клинка или медленно — от голода.
Видя, что Рахотеп отвечать не будет, я сказала:
— Она хотела получить власть, используя свое влияние на Исет. Хенуттауи обещала сделать ее царицей и постаралась, чтобы та никогда не забыла, чем должна заплатить.
— А чем она должна была заплатить?
— Перестроить храм Исиды — сделать его самым большим в Фивах, чтобы каждый паломник нес дебены только к ней.
— И ее сокровищница стала бы самой большой в Египте, — медленно произнес Рамсес. После полного неведения на него обрушился весь ужас коварства, о котором он и не подозревал. Рамсес посмотрел на Рахотепа и выпрямился во весь рост. — Анхури! Отвести Рахотепа в темницу. Пусть он умрет той смертью, какую, по твоему мнению, заслужил.
Видя, как уводят ее отца, Исет завизжала. Вокруг нее захлопотали ее приближенные. Я крепко сжала руку фараона и повела его подальше от суеты, в свои покои. Я заперла за нами двери, и мы сели рядышком на постель.
— Я хотела все тебе рассказать, — прошептала я. — Это мучило меня много месяцев, но все уговаривали меня хранить молчание: Пасер, Уосерит… даже няня убеждала меня, что, если я заговорю, Хенуттауи найдет способ уверить всех, что я лгу.
— Значит, все они знали? — воскликнул Рамсес.
— Да, но доказать никто не мог! Я хотела открыть тебе все после того, как стану царицей, ведь тогда у меня не станет причин ложно обвинять Рахотепа или Хенуттауи. Они понимали: мое вступление на престол означает для них конец. Раньше я не могла тебе сказать — они бы все сделали, чтобы ты мне не поверил! Ты пойми…
Но Рамсес не понимал.
— Нужно было рассказать раньше, — признала я. — Мне не следовало ничего от тебя утаивать. Рамсес, прости меня.
— Почему же Исет скрывала, кто ее отец?
— Наверное, стыдилась.
— Стыдилась, что ее отец — верховный жрец Амона?
— Что ее отец — убийца, человек, которого прозвали шакалом!
Мне следовало защищать себя, а не Исет, но я так устала просчитывать каждый шаг, взвешивать каждое слово!
— Дворец — настоящая паутина заговоров! — в отчаянии воскликнула я. — Каждую ночь я ложилась спать в страхе, ожидая неприятностей от Хенуттауи или Рахотепа. Это меня не оправдывает. Только не гневайся на Уосерит и Пасера. Даже у Исет были свои причины так поступать.
Рамсес спрятал лицо в ладонях.
— Ведь я верил и Хенуттауи, и Рахотепу. Я верил и двум хеттским лазутчикам. Почему все так? — Он гневно возвысил голос. — Почему?
Настал самый подходящий момент, чтобы рассказать ему про Исет и Ашаи. Но я побоялась. Я испугалась, что он спросит себя, сколько же еще тайн я храню в глубине сердца, и решила: пусть эта будет похоронена там, где живет Ашаи.
— Вокруг меня — тьма… — прошептал он.
— Ты — царь величайшей в мире державы. — Я погладила его по щеке. — У тебя есть наследники, три прекрасных царевича.
Рамсес посмотрел через открытую дверь в комнату кормилиц и улыбнулся. Он меня простил, хотя я и не заслужила подобного великодушия, потому что утаила от него важные вещи. Будь я смелее — открыла бы ему все, не заботясь о своем положении. И все же на сердце у меня было легко, словно закончилась наконец долгая и трудная дорога.
Глава двадцать восьмая
ПОТОМУ ЧТО ПТАХ НИЗВЕРГ ТВОИХ ВРАГОВ
На следующее утро при дворе царило подавленное настроение. Люди отдавали в тронном зале свои просьбы, не желая нарушать тревожной тишины. Наконец появилась Уосерит в голубом одеянии жрицы, и среди придворных пробежал шепоток.
— Уосерит!
Рамсес обнял ее.
Визири поднялись, выражая сочувствие. Я искала в лице Уосерит признаки печали, но когда жрица повернулась ко мне, я увидела в ее глазах лишь неимоверное облегчение.
— Нефертари! — Она протянула ко мне руки и шепнула мне на ухо: — Все позади!
Прозвучало это так, словно Уосерит никогда по-настоящему не верила, что ее сестра может умереть.
Жрицу окружили придворные, желавшие высказать ей соболезнования.
Вечером, одеваясь к обеду, я тихонько спросила Мерит:
— Как ты думаешь, что теперь будет с Хенуттауи?
— Да не все ли равно! — Мерит усадила малышей на постель и вернулась ко мне — застегнуть ожерелье. — Похоронят в какой-нибудь безымянной могиле, зароют и даже амулета не положат; боги и не будут знать, кто это.
Я подумала о последних минутах Хенуттауи и содрогнулась, представив себе, каково ей было понять, что клинок Рахотепа предназначен для нее. Подойдя к постели, я нежно поцеловала щечку Аменхе.
— Теперь сомнений нет, — прошептала я. — Когда ты научишься ходить и говорить, все взоры в Пер-Рамсесе будут устремлены на тебя; отныне ты — наследник трона своего отца.
Сын потянулся к моим серьгам и залился смехом, словно понимая, о чем я говорю. Но больше во дворце никто не веселился.
Десять дней мы ждали известий от хеттов, и, хотя на возвышении тронного зала стояли только два трона из слоновой кости и золота, я чувствовала себя так, словно мою победу украли. В месяце тот я стану царицей, но, пока не пришли вести из Хеттского царства, радость моя оставалась неполной.
Рамсес взял послание и, прочитав его, медленно поднял на меня глаза.
— Что там? — спросила я.
— Мир! Мир с державой хеттов!
Зал разразился приветственными криками, нарушив тишину, которая висела над дворцом, словно тяжкая пелена. Фараон протянул послание мне. Согласно договору хетты оставляют за собой Кадеш, но в случае войны с Ассирией и мы, и хетты обязуемся не пользоваться своим преимуществом и не нападать друг на друга. Я во второй раз перечитала документ, составленный Пасером на языке хеттов — без единой ошибки! — и подумала: «Это договор на века. Пройдет тысяча лет, а он останется как свидетельство нашего царствования».
— Ты хочешь что-нибудь здесь изменить? — спросил Рамсес.
— Нет. — Я радостно улыбнулась. — Я поставлю печать и отошлю до заката.
— Подайте воск, — приказал Рамсес.
Ему поднесли плошку с расплавленным воском, и после Рамсеса я прижала к воску перстень со своей печатью. На воске появились два сфинкса и анк — символ, который принадлежал моим акху с незапамятных времен. Моя семья будет жить, даже когда Амарна окажется похоронена под песками, а лицо моей матери исчезнет со стены заупокойного храма в Фивах, — ведь останется символ моей семьи.
— Отныне между нашими державами — мир! — провозгласил Рамсес.
— Нужно благословить этот договор! — напомнил Пасер. — Не выбрать ли нам сейчас новую верховную жрицу?
Тут подал голос Аша:
— Предлагаю назначить жрицу Алоли из Фив.
Рамсес посмотрел на меня.
— Думаю, из нее получится хорошая верховная жрица, но Уосерит должна сама решить, отпустит ли она Алоли.
Призвали Уосерит, и я вновь тщетно искала в ее лице признаки скорби. Ее сестра приговорена к вечному забвению, а она улыбается Пасеру. Фараон спросил про Алоли, и Уосерит повернулась к Аше.
— Алоли отлично справится, — произнесла она. — И если хочет, может начать уже с утренней службы.
Аша откинулся на спинку кресла, покраснев до самых бровей.
— А верховный жрец Амона? — спросил Рамсес. — К началу следующего месяца в храме должен быть верховный жрец. Я и так ждал два года, чтобы короновать свою царицу, и больше ждать не стану.
Я мало что помню о коронации, которая состоялась в месяц тот. Против ожидания, когда настал долгожданный день, я испытывала странное спокойствие. Мерит носилась от ларца к ларцу, служанки метались между сундуками в поисках лучших кожаных сандалий и благовоний, а я сидела перед зеркалом из полированной бронзы и думала о событиях, что предшествовали этому дню. Моих злейших врагов уже нет. Хотя змеи, говорят, не умирают от яда своих собратьев, но оказывается, и такое случается.
Когда в Большом зале объявили о казни Рахотепа, все повернулись к Исет, но она не плакала. Наверное, гибель Хенуттауи стала ей возмещением за смерть отца.
Помимо своих мыслей я мало что помню. Тот день в моей памяти — словно палитра живописца, на которой смешались все цвета и краски. Помню, что Мерит надевала на меня лучшие в Пер-Рамсесе наряды, что царица Туйя подарила мне ожерелье из фаянсовых бусин и золота. Еще помню, что ко мне приходили Алоли и Уосерит и были как никогда веселы и разговорчивы. Алоли поблагодарила меня за то, что я предложила назначить ее верховной жрицей. Я призналась, что первым ее имя назвал Аша.
— Думаю, он сильно влюблен, — заметила я. — И кое-кто еще.
Мы посмотрели на Уосерит, и жрица потупила взгляд, словно молоденькая невеста.
— Вы поженитесь после коронации Неферт? — спросила Алоли.
— Да, — вспыхнула Уосерит. — Думаю, поженимся.
— Но ведь верховная жрица…
Уосерит кивнула.
— Я оставлю свою комнату в храме и переселюсь во дворец. Утреннюю службу будет вести кто-нибудь другой. Потом, если у нас будут дети, наверное, уйду совсем… Но не теперь.
— А Хенуттауи? — шепотом спросила я. — Ты знаешь, как…
— Ее похоронят в могиле без имени. Я положу ей в рот амулет, чтобы боги знали, кто это.
Я спокойно кивнула, понимая, что, хоть они никогда не были близки, все же они сестры и Уосерит поступит как должно.
В храме Амона в Аварисе новый верховный жрец Небуненеф капнул мне на парик священное масло. Я закрыла глаза. Где-то у подножия помоста стояла Исет. Я представила ее лицо — с тем же кислым выражением, как когда-то у Хенуттауи. Может, это Исет натравила Рахотепа на Хенуттауи — если и так, я не хотела знать.
— Царевна Нефертари, дочь царицы Мутноджмет и полководца Нахтмина, внучка фараона Эйе и царицы Тии, от имени бога Амона объявляю тебя царицей Египта!
Раздались оглушительные ликующие крики. Аменхе и Немеф, зараженные всеобщим весельем, тоже хлопали и прыгали.
С меня сняли парик и надели корону с грифом — корону царицы. Крылья грифа опускались с двух сторон мне на волосы. Больше мне не носить диадему сешед. У ступеней алтаря Рамсес взял меня за руку.
— Ты — царица, — сказал он, любуясь прекрасной короной из золота и лазурита. — Царица Египта!
Позади нас ликовали сотни придворных, а в собравшейся перед храмом толпе виднелись только радостные лица.
Утро выдалось ясное и солнечное, звон систров из храма разносился по берегам Нила. Дети держали над головами пальмовые ветви, женщины в самых нарядных париках смеялись, прикрываясь от солнца льняными пологами. Повсюду, куда хватало глаз, царило веселье. По улицам витали запахи жареной утятины, ячменного пива и вина.
На дорогах толпились тысячи людей, желающих разделить радость этого дня. Я стала их царицей — не царицей-еретичкой, но царицей-воительницей, возлюбленной супругой Рамсеса Великого.
— С чего ты начнешь? — спросил Рамсес.
Я вспомнила про неарин, которые пришли на помощь египтянам у Кадеша, и повернулась к мужу. Похоже, он уже знал мой ответ.
В тот вечер Рамсес объявил в Большом зале, что я изгнала из Египта безбожников. Люди радовались так, словно наше войско снова взяло Кадеш. Только Исет, сидевшая напротив меня, побледнела.
— И все хабиру уйдут? — с отчаянием в голосе спросила она.
— Только те, кто захочет, — тихонько ответила я.
Исет ушла рано, и хотя я знала, куда она идет, ничего не стала говорить.
Наутро Мерит сообщила мне, что живописец по имени Ашаи не отправится на север, а останется с семьей в Аварисе.
Глава двадцать девятая
ТВОИ АКХУ БУДУТ РЯДОМ С МОИМИ
Нубия, 1278 год до н. э.
Шел третий месяц сезона ахет. Еще до рассвета весь двор целой флотилией отплыл по Нилу. На мачте «Благословения Амона» трепетали золотые флаги. Рамсес стоял на палубе и смотрел на запад. Он ждал два года, чтобы показать нам то, что хотел.
— Ты видишь? — спросил он.
На востоке, где за холмами алело небо, лучи солнца обрисовали два храма, вырезанные в скалах. Придворные прильнули к бортам, изумленные видом грандиозного сооружения, ради которого мы отправились так далеко на юг.
— Это ты придумал? — спросил Аша у зодчего Пенра.
Пенра покачал головой.
— Все придумал фараон — от начала до конца.
Корабли причалили. Рамсес повел меня к меньшему храму, а потрясенная свита шла следом. В тот миг я поняла, что чувствует муравей рядом с человеком. Все вокруг было такое огромное, что я показалась себе совсем маленькой. На Нил смотрели две гигантские статуи Рамсеса и две — моих. Наверное, даже боги не создавали ничего столь колоссального.
Рамсес показал мне высеченные на камне слова:
«Моей царице Нефертари, ради которой в Нубии каждый день восходит солнце».
— Тебе.
Впервые за девятнадцать лет жизни я могла возложить пожертвования своим акху в собственном заупокойном храме. Такой храм простоит вечность. Мы вошли под прохладные своды, и от избытка чувств я утратила дар речи. Живописцы изобразили меня на каждой стене — я улыбаюсь, воздеваю руки, приветствуя богиню Хатор, воскуряю благовония в честь богини Мут. Были здесь и гранитные статуи моих предков. Рамсес рассказал, как долго пришлось мастерам трудиться в пустыне, — и я разрыдалась, смывая слезами краску вокруг глаз. Я прикасалась к статуям матери, царицы Мутноджмет, и отца, полководца Нахтмина, и впервые чувствовала, что я — у себя. Из всех цариц только у Нефертити был свой храм. Увидев на противоположной стене ее лицо, ее глаза, смотревшие прямо в мои, я поняла, как сильно мы похожи.
— Рамсес, — прошептала я, — а где ты нашел…
— Я посылал Пенра в Амарну — поискать там изображения.
В горле у меня встал болезненный комок.
— А что скажут люди?
— Храм принадлежит тебе, а не придворным Авариса или визирям из Пер-Рамсеса. Пока стоит Египет, твои акху будут рядом с моими.
Рамсес повел Аменхе и Немефа во внутреннее помещение храма, а Пенра сделал придворным знак оставаться на месте.
Рамсес улыбнулся.
— Это происходит только два раза в году. Ты готова?
Я не знала, к чему нужно быть готовой. В прохладных сумерках утра по полу внутреннего святилища медленно поползли солнечные лучи, и статуи Рамсеса, Ра и Амона вдруг оказались полностью освещены; только статуя Птаха, бога подземного мира, оставалась в темноте. В храме раздались восторженные крики.
— Волшебство… — пробормотала Мерит.
Рамсес смотрел на меня и ждал, что я скажу. Наши с ним заупокойные храмы будут стоять бок о бок целую вечность. В храме Рамсеса на каждой стене были и мои изображения такие же большие, как и его. Были тут и сцены охоты на болотах вместе с Ашой, ловли водяных птиц на Ниле, а на самой большой стене живописцы изобразили битву при Кадеше.
— Боги никогда о нас не забудут, — сказала я фараону.
— Тебе-то самой нравится?
Я улыбнулась сквозь слезы.
— Ты даже представить не можешь! Когда наши дети подрастут, мы приведем их сюда — они увидят своих акху и поймут, что никогда не были одиноки на земле.
— И ты тоже не одинока.
Рамсес обнял меня.
Глядя на свою няню, на Уосерит, на наших прекрасных сыновей, я поняла: это действительно так.
Исторический комментарий
Рамсес Второй — один из самых известных царей Древнего Египта, и написано о нем больше, чем о других фараонах. Клинописная копия найденного у города Хаттусы
[133] первого известного в истории международного мирного соглашения — Кадешского договора — встречает посетителей при входе в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН. Кроме того, Рамсесу приписывается возведение наиболее известных достопримечательностей Египта: гробницы Нефертари, Рамессеума, большей части дворца Пер-Рамсес, Луксорского комплекса, гипостильного зала в Карнаке и огромных заупокойных храмов в Нубии (современный Абу-Симбел).
Рамсес пережил почти всех своих детей и умер на десятом десятке; целые поколения египтян жили при одном и том же фараоне — Рамсес, должно быть, казался им бессмертным. Когда в 1881 году обнаружили его мумию, ученые установили, что фараон имел рост около ста семидесяти пяти сантиметров, ярко-рыжие волосы и крупный нос, который унаследовали многие его сыновья.
В истории египетской Девятнадцатой династии остается немало белых пятен. Стараясь придерживаться известных генеалогических таблиц, событий и фактов, я заполняла эти белые пятна с помощью собственной фантазии; моя книга в первую очередь — произведение художественное.
К сожалению, в романе выведены не все важные исторические личности эпохи Рамсеса, но такие персонажи, как Сети, Туйя, Рахотеп, Пасер и многие другие, имеют в основе реальных людей, и, описывая их, я придерживалась исторической правды.
Рамсеса принято считать великим полководцем и выдающимся строителем, хотя его величайшее сражение — битва при Кадеше — кончилось не победой, а всего лишь перемирием. На стенах храма в Абу-Симбеле Рамсес изображен летящим на своей колеснице в гущу врагов; он разит и со славой побеждает хеттов. Рамсес прекрасно владел приемами пропаганды. На его стелах изображались только победы, независимо от действительного исхода сражения. Считается, что Нефертари сопровождала его в исторической битве при Кадеше и в шестнадцать лет стала главной женой фараона.
У нас нет сведений, что Нефертити или Нефертари произвели на свет близнецов. Я использовала этот сюжетный ход, чтобы подчеркнуть сходство между своей героиней и имевшей в народе дурную славу царицей-еретичкой. В точности неизвестно, в каком родстве состояли Нефертити и Нефертари. Если Нефертари — дочь царицы Мутноджмет, то правление Хоремхеба было недолгим, хотя, по его собственным утверждениям, он занимал престол в течение пятидесяти девяти лет. Уничтожив город Нефертити — Амарну — и присвоив заупокойный храм Эйе, Хоремхеб стер со стен имена Нефертити и ее родных и прибавил годы их правления к собственным. Согласно древнеегипетскому историку Манефону, Хоремхеб правил всего несколько лет, а значит, Нефертари вполне могла быть дочерью царицы Мутноджмет. Однако все это только предположения. О Нефертари известно лишь, что их с Рамсесом связывала глубокая любовь. О ней свидетельствуют многочисленные архитектурные и литературные памятники. В одном из наиболее известных стихотворений Рамсес называет Нефертари «той, ради которой восходит солнце». Стихи, посвященные Рамсесом Нефертари, можно встретить от Луксора до Абу-Симбела. В письме Рамсеса хеттской царице Пудухепе есть и подпись Нефертари; ясно, что она играла важную роль во внешней политике Египта.
Нефертари родила супругу не меньше шести детей, но ни один из них не пережил отца и не стал фараоном. Престол Рамсеса унаследовал сын Исет — Мернептах. В романе Исет описывается как вероломная супруга, но какой она была в жизни, никому не известно. Я также допустила вольность, приписав отравлению смерть фараона Сети, умершего в возрасте около сорока лет. Мумии многих царей Восемнадцатой династии, включая фараона Эйе и царицу Анхесенамон, до сих пор не обнаружены, и потому я решила объяснить их отсутствие пожаром.
Читатели, знакомые с историей Древнего Египта, заметят также, что в книге изменены некоторые имена и названия. Например, Фивы и Луксор — названия современные, но они более привычны, чем древние названия Ипет-Ресит и Уасет. Ради простоты я использовала имя Исет вместо Исетнофрет, так же как Аменхе вместо длинного и неудобопроизносимого Аменхерхепешеф. Самая очевидная замена имен — это, конечно, замена Моисея на Ахмоса. Читателей, желающих видеть на страницах романа библейского Моисея, ждет разочарование. Помимо Ветхого Завета, нет никаких достоверных подтверждений его пребывания в Египте. Как известно, в Египте той эпохи проживали люди племени хабиру, но доказательств того, что они имеют отношение к библейским евреям, не найдено. И поскольку исторического материала у меня было немного и я пыталась изобразить события такими, какими они могли быть, то решила ввести в повествование персонажа по имени Ахмос.
В романе упоминается миф о Саргоне, согласно которому некая жрица помещает свое незаконнорожденное дитя в корзину и пускает по реке, где его потом находит царский водонос. Этот миф старше мифа о Моисее на тысячу лет, подобно тому как свод законов вавилонского царя Хаммурапи
[134], якобы полученный им на вершине горы от бога солнца, на полтысячелетия старше законов Моисея. Мне хотелось ввести этот миф в книгу, поскольку его знали египтяне, так же как вавилоняне знали наиболее значительные египетские мифы.
Помимо восполненных мною пробелов в романе есть эпизоды, которые могут показаться вымышленными. Таково, например, сражение Рамсеса с пиратами-шардана. Кроме того, Троянская война была, как полагают, в эпоху Девятнадцатой династии. Во время битвы при Кадеше египтяне схватили двух лазутчиков, которые позже сообщили о засаде, устроенной хеттами. После смерти царя Муваталли его сыну и вправду пришлось искать помощи у Рамсеса.
Неудивительно, что быт древних египтян иногда кажется слишком современным. Это потому, что они пользовались множеством вещей, которые можно счесть более поздними изобретениями: колыбели, кровати, постельное белье, духи, притирания для кожи и даже складные скамьи. И хотя устройство, обнаруженное Пенра в гробнице Мерира, кажется совсем невероятным, тем не менее это первое в Египте изображение колодезного журавля.
Что касается царицы Нефертари, то она царствовала вместе с супругом не меньше двадцати пяти лет. Рамсес построил ей в Абу-Симбеле заупокойный храм рядом со своим, и дважды в году восходящее солнце освещает статуи так, как описано в романе. Когда Нефертари умерла, ее похоронили в Долине цариц. Ее гробница — под номером QV66 — самая большая и красивая во всем некрополе. На стене погребальной камеры Рамсес так написал о своей любви к Нефертари:
«Моя любовь не имеет равных, и с ней никто не может соперничать… Просто пройдя мимо, она похитила мое сердце».
Глоссарий
Аби — ласковое обращение к отцу.
Акху — предки человека; бессмертная душа.
Алебастр — твердый белый минерал, добываемый близ города Алабастрон на территории Древнего Египта.
Аммит — божество, изображаемое с телом льва и головой крокодила. Если сердце умершего человека весит больше, чем перышко богини Маат, Аммит пожирает его душу и обрекает на забвение.
Амон — царь богов и создатель всего сущего.
Анубис — бог-покровитель мертвых. Он взвешивает сердца на весах истины и решает, будут ли их обладатели продолжать путь по загробному миру. Часто изображался с головой шакала, потому что шакалов можно было встретить в Долине царей, где покоились мертвые.
Анх — символ жизни; по форме напоминает крест с петлей.
Апопи — злой демон, изображался в виде змея.
Атон — солнечный диск, которому поклонялись при правлении Эхнатона.
Бастет (Баст) — богиня солнца и луны. Кроме того, считалась богиней войны. Изображалась с головой львицы или кошки.
Бес — бог-карлик, покровитель плодородия и материнства.
Визирь — советник царя.
Дебен — кольцо определенного веса из золота, серебра или меди, применяемое в качестве денежной единицы.
Дес — древнеегипетская мера объема, приблизительно равная 0,5 литра.
Дешрет — красная корона, символ власти над Нижним Египтом. Власть над Верхним Египтом символизировала высокая белая корона хеджет.
Дуат — подземный мир, куда каждую ночь опускается бог солнца Ра, чтобы поразить змея Апопи. Победив змея, Ра каждое утро возвращается на небо и несет земле солнечный свет.
Жезл и
цеп — символы власти фараона, которые он держал в руках, напоминая, что он для своего народа — пастух (жезл или посох) и кормилец (цеп для обмолота зерна).
Заупокойный храм — храм, который возводился ради сохранения памяти об умершем; часто строился отдельно от усыпальницы.
Пару — считалось, что после смерти душа человека приходит в загробный мир — Дуат, и его сердце взвешивается на весах богини Маат, весах истины. Если сердце весит не больше перышка, душе человека позволяют идти в поля иару — небесные поля где-то на востоке.
Ибис — болотная птица с длинным изогнутым клювом.
Исида — богиня красоты и колдовства; почиталась также как супруга и мать.
Ка — дух, или душа человека, которая создается одновременно с его рождением.
Канопы — сосуды, в которые при бальзамировании помещали важнейшие органы человека — печень, легкие, желудок, кишечник — для хранения в загробной жизни. На каждой канопе изображали голову одного из четырех сыновей Хора.
Картуш — рамка с горизонтальной полосой внизу; в ней писалось тронное имя фараона.
Клинопись — идеографическое письмо; клинописные знаки выдавливались на глиняных табличках. Изобретено шумерами, позднее принято хеттами.
Корона немес — корона в виде платка с золотыми и голубыми полосами. Немес изображен на саркофаге Тутанхамона.
Корона хепреш — голубая корона, надеваемая на войне.
Маат — богиня правды и правосудия; часто изображалась в виде женщины с крыльями (или в короне с одним пером). Перо Маат клалось на весы при взвешивании сердца умершего, чтобы определить, достоин ли он перейти в Царство мертвых. Имя Маат было символом справедливости, честности и порядочности — свойств, которыми предписывалось обладать каждому египтянину.
Мауат — мать.
Менат — ожерелье — символ богини Хатор. Состояло из множества нитей с бусинами, к которым спереди прикреплялась небольшая пектораль, а сзади у ожерелья был декоративный наконечник, спускающийся на спину.
Миу — кот.
Монту — бог войны с головой ястреба.
Мут — богиня материнства и супруга Амона. Часто изображалась с головой кошки.
Наос — термин греческого происхождения, используемый египтологами для обозначения ковчега, содержащего статуэтку бога или богини.
Неарин — племя, упоминаемое в египетских источниках; считается, что неарин помогали Рамсесу в битве при Кадеше.
Осирис — супруг богини Исиды; судья мертвых. Осириса убил его брат — бог Сет, который разбросал части его тела по всему Египту. Исида, собрав все части, оживила супруга, и Осирис стал символом вечной жизни. Осириса часто изображали как человека с бородой, одетого в погребальные пелены.
Папирус — тростниковое растение, высушенные листья которого можно использовать для письма.
Пер-меджат — библиотека.
Пилон — колонна, столб, обычно со скульптурными украшениями, стоящий в воротах здания.
Празднество Уаг — египтяне верили, что в восемнадцатый день месяца тота души мертвых посещают заупокойные храмы. В этот день принято было почитать своих предков, принося им еду и воскуряя благовония.
Праздник Опет — самый значительный праздник в Фивах. В этот день статую Амона перевозили в лодке из карнакского храма в луксорский храм.
Птах — бог, покровитель зодчих и живописцев.
Пшент — двойная корона, символ власти над Верхним и Нижним Египтом.
Ра — бог солнца, часто изображавшийся в виде сокола.
Саркофаг — каменная гробница, часто покрытая золотом.
Свод законов Хаммурапи — один из древнейших сводов законов, относящийся к 1750 году до нашей эры. Законы записаны клинописью на стеле с изображением вавилонского бога солнца Шамаша. Стела была обнаружена в 1901 году и находится в Лувре. Вавилонский царь Хаммурапи считал, что боги выбрали его, чтобы он донес эти законы до своего народа.
Сенет — считается первой в мире настольной игрой. Позднее приобрела религиозное значение и часто изображалась на гробницах.
Сет — злой бог пустыни и бурь, брат и убийца Осириса. Изображался с головой неизвестного животного, с рыжими волосами.
Сехмет — богиня войны и разрушения, изображаемая с львиной головой.
Сешед — диадема с уреем.
Систр — небольшой медный или бронзовый музыкальный инструмент типа погремушки; состоит из рукояти и рамки с тарелочками или колокольчиками.
Сурьма — вид краски для ресниц и век, изготовлялась из сажи и растительного масла.
Таурт — богиня, покровительница деторождения; часто изображалась в виде самки гиппопотама.
Тот — бог писцов, автор известной Книги Мертвых. Считался изобретателем речи и письменности и часто изображался с головой ибиса.
Урей — кобра на короне, символ власти; изображалась с раздутым капюшоном.
Ушебти — маленькие статуэтки, помещаемые в гробницы в качестве слуг. Считалось, что в загробном царстве они будут выполнять за умершего все работы.
Фаянс — голубая или зеленая глазированная керамика, из которой изготавливались небольшие бусины и амулеты.
Хабиру — малоизвестное племя, проживавшее на Аравийском полуострове между Средиземным морем и Персидским заливом. Упоминается древними египтянами, хеттами и шумерами.
Хатор — богиня радости, материнства и любви. Часто изображалась в виде коровы.
Хнум — бог; изображался как человек с головой барана, сидящий за гончарным кругом. Считалось, что Хнум лепит из глины живых существ и помещает их в материнскую утробу и, таким образом, является создателем жизни.
Хор — бог солнца и неба, изображался с головой сокола.
Шазу — кочевые племена, появившиеся в Египте около 1400 года до нашей эры.
Шамаш — вавилонский бог солнца.
Шедех — египетский напиток из сока гранатов или винограда.
Шен — символ вечности; знак, имеющий форму петли. Картуш — это вариант знака шен.
Календарь
| Праздник |
Месяц |
Дата |
| Ахет (осень) |
| День поминовения Уаг |
Тот |
19 июля — 17 августа |
| Праздник Опет |
Паофи |
18 августа — 16 сентября |
| Праздник богини Хатор |
Хатир |
17 сентября — 16 октября |
|
Хойак |
17 октября — 15 ноября |
| Перет (зима) |
|
Тиби |
16 ноября — 15 декабря |
| Праздник богини Исиды |
Мехир |
16 декабря — 14 января |
|
Фаменот |
15 января — 13 февраля |
|
Фармути |
14 февраля — 15 марта |
| Шему (лето) |
|
Пахон |
16 марта — 14 апреля |
| Праздник Долины |
Паини |
15 апреля — 14 мая |
|
Эпифи |
15 мая — 13 июня |
|
Месоре |
14 июня — 13 июля |
| Дополнительные дни |
|
Первый день |
14 июля |
|
Второй день |
15 июля |
|
Третийдень |
16 июля |
|
Четвертый день |
17 июля |
|
Пятый день |
18 июля |
Послесловие автора
Когда вышел мой первый роман, я поблагодарила всех, начиная с учителя седьмого класса и заканчивая соседями по дому; здесь мне хочется сказать спасибо именно тем, кто внес вклад в создание романа «Нефертари. Царица египетская».
Как и всегда, я многим обязана моей маме, Кэрол Моран, которая во всех смыслах этого слова поддерживала меня своим благородством и невероятной силой духа.
Мой муж тоже всегда был со мной — редактировал мой труд от начала до конца, и так как у него рыжие волосы, то мне нравится думать, что у меня есть свой собственный Рамсес (разумеется, за вычетом безрассудства и гарема).
И конечно, без стараний лучшего в Нью-Йорке редактора Эллисон Маккейб (это она настояла на том, чтобы на страницах книги непременно был ивив) роман «Нефертари. Царица египетская» — в том виде, в каком он существует, — не появился бы на свет.
Благодарю Дэнни Бэрора, Дайану Мессина, Донну Пасананте, Хизер Пру, моего редактора Лори Макги и Синди Берман — спасибо, что вы принимали участие в подготовке книги к публикации.
И огромное спасибо моему замечательному агенту, Энн Гош, которая пристроила в издательство «Корона» мой третий роман, «Дочь Клеопатры».
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам
Линдсей Дэвис
«Серебрянные слитки»
Действующие лица
В императорском дворце:
Веспасиан Август, веселый старикан, который внезапно появился из ниоткуда и стал императором Рима.
Тит Цезарь, старший сын Веспасиана, популярен, очень умен, выдающийся полководец, 30 лет.
Домициан Цезарь, младший сын Веспасиана, не такой выдающийся и не такой популярный, 20 лет.
В I-м регионе (район Капенских ворот):
Децим Камилл Вер, сенатор, миллионер.
Юлия Юста, жена сенатора, дама благородного происхождения.
Елена Юстина, дочь сенатора, здравомыслящая молодая женщина, недавно разведена, 23 года.
Публий Камилл Метон, младший брат сенатора; занимается внутренней и внешней торговлей.
Сосия Камиллина, дочь Метона, блондинка, красавица, а потому ей не обязательно быть умной и здравомыслящей, 16 лет.
Наисса, служанка Елены Юстины, смотрит на мир широко раскрытыми глазами.
Гней Атий Пертинакс, мелкий чиновник, занимающий пост эдила (особое внимание уделяет дисциплине).
В ХIII-м регионе (район Авентина):
Марк Дидий Фалько, частный информатор, республиканец.
Мать Фалько, мать, имеющая свою точку зрения по всем вопросам.
Дидий Фест, брат Фалько, национальный герой (погиб).
Марция, дочь брата Фалько, 3 года.
Петроний Лонг, начальник стражи на Авентине.
Ления, прачка.
Смаракт, владелец недвижимости, которую сдает внаем, ему также принадлежит школа гладиаторов.
В других частях Рима:
Астия, проститутка, подруга извозчика.
Юлий Фронтин, капитан преторианской гвардии.
Глаук, киликиец, владелец приличного гимнасия, которые встречаются нечасто.
Виночерпий, подающий подогретое вино (вонючий).
Стражник (пьяный).
Лошадь садовника (характер неизвестен).
В Британии:
Гай Флавий Иларий, прокуратор, занимающийся финансовыми вопросами в провинции. Его интерес распространяется и на серебряные рудники.
Элия Камилла, жена прокуратора, младшая сестра сенатора
Камилла Вера и его брата Публия.
Руфрий Виталий, бывший центурион Второго легиона Августа, вышел в отставку, проживает в Думнониоре.
Клаудий Трифер, подрядчик, владелец прав на управление императорскими серебряными рудниками в Вебиодуне, в Мендипских горах.
Корникс, садист, старший мастер, отвечающий за рабов на императорских серебряных рудниках.
Симплекс, военный врач во Втором легионе Августа в Глеве (особо интересуется хирургией).
ЧАСТЬ I
Глава 1
Рим, лето — осень 70 года н. э.
Когда я увидел девушку, бегущую вверх по ступенькам, то подумал, что на ней слишком много одежды.
Был конец лета. Рим напоминал скворчащий на сковороде блин. Люди расшнуровывали обувь, но не могли ее снять: даже слону не удалось бы пройти по улице босиком. Обнаженные до пояса горожане плюхались на стулья в затененных дверных проемах, широко разводя голые колени, а на дальних улочках в районе Авентина, где я жил, так делали и женщины, только женщины.
Я стоял на Форуме. Она бежала. Девушка надела на себя слишком много одежды и опасно раскраснелась, но ее еще не хватил солнечный удар, и она не задохнулась. Девушка покрылась липким потом и блестела, напоминая тарелку с залитым глазурью печеньем. Когда она взлетела по ступеням храма Сатурна и устремилась прямо на меня, я не сделал попытки отодвинуться в сторону. Она пролетела мимо, едва меня не задев. Некоторые мужчины рождаются счастливыми, других называют Дидий Фалько.
Когда незнакомка приблизилась, я снова подумал, что ей было бы лучше не надевать столько туник, только поймите меня правильно. Я люблю, когда на женщинах что-то надето — тогда я могу надеяться на шанс это что-то снять. Если же на них ничего нет, я впадаю в уныние, потому что они либо только что разделись для кого-то еще, либо, если учитывать мою работу, уже мертвы. Эта была явно жива, причем полна жизни и энергии. Возможно, в богатом особняке, облицованном мрамором, с фонтанами, садами и затененными двориками, отдыхающей молодой девушке было бы и не жарко даже в тяжелых дорогих одеждах, гагатовых и янтарных браслетах, обвивающих руку от запястья до локтя. Но если она оттуда поспешно выбежит, то сразу же об этом пожалеет, просто растает от жары, а эти изысканные одежды прилипнут ко всем частям ее стройного тела, а волосы, спадающие дразнящими локонами, приклеятся к шее. Ступни будут скользить по влажным внутренним частям сандалий, струи пота польются по теплой шее в манящие ложбинки подо всей этой изысканной одеждой…
— Простите меня… — выдохнула девушка.
— Простите меня!
Она сделала вокруг меня вираж, я вежливо отступил в сторону. Она увернулась — я увернулся. Я пришел на Форум на встречу с банкиром, отчего был угрюм и мрачен. Я встретил это запыхавшееся создание с интересом человека, которому нужно, чтобы его избавили от проблем.
Девушка оказалась маленькой и худенькой. Я предпочитаю высоких, но был готов пойти на компромисс. Она была опасно молодой. В то время я увлекался более зрелыми женщинами, но ведь эта тоже вырастет, и я определенно могу подождать. Пока мы отплясывали на ступеньках, девушка в панике обернулась назад. Я восхитился красотой ее плеча, прищурился и сам взглянул в ту же сторону и остолбенел.
Их было двое. Две тупые уродливые горы плоти, два типа, место которым в тюрьме, два широкоплечих высоченных головореза проталкивались к ней сквозь толпу и уже находились всего в десяти шагах. Малышка явно была в ужасе.
— Уйди с дороги! — умоляюще сказала она.
Я задумался, что делать.
— Какие у тебя плохие манеры! — произнес я задумчиво-укоризненно. Головорезы тем временем оказались уже в пяти шагах.
— Уйдите с дороги, господин! — закричала девушка. Она была безупречна.
Жизнь на Форуме шла, как обычно. Слева от нас находился архив и возвышался Капитолий, справа — суды, а дальше, вниз по Священной дороге, — храм Кастора. Напротив, за белой мраморной ростральной трибуной находился Сенат. Все портики были заполнены мясниками и ростовщиками, все открытые места — запружены потными толпами, в основном мужчин. На площади раздавались ругательства рабов, которые пересекали ее то в одну, то в другую сторону, напоминая плохо организованный военный парад. В воздухе сильно пахло чесноком и помадой для волос.
Девушка отскочила сторону, я устремился туда же.
— Вам подсказать, куда идти, юная госпожа? — желая помочь, спросил я.
Она была в отчаянии и не могла притворяться.
— Мне нужна местная магистратура.
Три шага. Варианты выбора быстро заканчивались. У нее изменилось выражение лица.
— О, помогите мне!
— С удовольствием.
Я взял ситуацию в свои руки. Как только первый головорез сделал выпад, я быстро одной рукой оттолкнул девушку в сторону. Вблизи эти типы выглядели еще большими гигантами, а я на Форуме не мог рассчитывать на поддержку. Я опустил подошву сапога на грудь первого головореза, затем резко выпрямил колено и услышал хруст собственного сустава. Бык пошатнулся, завалился на своего приятеля, и они полетели спиной вперед, словно допустившие ошибку акробаты. Я стал судорожно оглядываться по сторонам, чтобы каким-то образом отвлечь внимание.
Ступени, как обычно, были заполнены прилавками спекулянтов, подпольно продающих свой товар. Я подумал, не сбросить ли мне на ступени несколько дынь, но разбить фрукты — значило снизить количество жизненных средств у того, кто их выращивает. Я сам страдал от скудости этого количества, поэтому решил остановиться на изящной медной посуде. Я задел прилавок плечом, и весь товар полетел наземь. Высокий крик продавца утонул под грохотом падающих больших плоских бутылей, кувшинов для умывания и чаш, которые полетели вниз по ступеням храма. За ними в отчаянии несся владелец и несколько добродетельных прохожих, которые явно надеялись отправиться домой с новой миленькой чашей для фруктов под мышкой.
Я схватил девушку и побежал вверх по ступеням храма. Не останавливаясь для восхищения величественной красотой Ионического портика, я протолкнул ее среди шести колонн, а затем внутрь здания. Она пискнула, я не снижал скорости. Внутри оказалось темно и достаточно прохладно, и мы поежились. Я вспотел. Это было очень старое здание, и запах оказался соответствующим. Наши быстрые шаги резко отдавались от древнего каменного пола.
— А мне позволено сюда заходить? — прошептала она.
— Постарайся выглядеть набожной. Другого пути все равно нет.
— Но мы не сможем выбраться!
Если вы что-то знаете о храмах, то поймете, что в них имеется единственный, впечатляющий вход в передней части. Если вы что-нибудь знаете о священниках, то обращали внимание на неприметную маленькую дверцу где-то в задней части, которую они обычно держат для себя. Служители храма Сатурна нас не разочаровали.
Я вывел девушку со стороны ипподрома, и мы направились на юг. Бедняжка выбралась с арены прямо в яму со львом. Я повел ее по темным переулкам, заставляя передвигаться ускоренным шагом, почти бегом, к знакомым местам.
— Где мы?
— Авентинский сектор, Тринадцатый квартал. К югу от Большого цирка, направляемся к Остийской дороге.
Это так же успокаивало, как улыбка акулы маленькую рыбешку. Мою спутницу определенно предупреждали о подобных местах. А если любившие ее старые няньки знали свое дело, то ее предупреждали и о типах вроде меня.
После того как мы перешли улицу Аврелия, я замедлил шаг во многом потому, что оказался в безопасной родной местности, но также и потому, что девушка от усталости еле стояла на ногах.
— Куда мы идем?
— Ко мне в контору.
Судя по виду, она испытала облегчение. Но ненадолго — моя контора, одновременно служившая и местом жительства, располагалась на шестом этаже неприятно сырого здания, в котором стены держались только благодаря скрепляющей их грязи и мертвым клопам. До того как кто-то из моих соседей смог оценить ее одежду, я повернул девушку с грунтовой дороги, для которой название дороги было слишком громким, а затем завел ее в прачечную Лении, предназначенную для низших классов.
Услышав голос Смаракта, моего домовладельца, мы резво выскочили назад, на улицу.
Глава 2
К счастью, он уходил. Я завел девушку в портик плетенщика корзин и наклонился к ней, пытаясь справиться со шнурками на левом сапоге.
— Кто это? — прошептала она.
— Кусок местных отбросов. — Я избавил ее от речи о владельцах недвижимости, которые являются истинными паразитами и обирают бедных, но смысл она уловила.
— Он — ваш домовладелец!
Умница.
— Он ушел? — спросил я.
Она кивнула.
— Пять или шесть тощих гладиаторов вместе с ним? — уточнил я, не желая рисковать.
— С подбитыми глазами и в грязных бинтах.
— Тогда пошли!
Мы пробрались сквозь мокрую одежду, которую Лении разрешали сушить на улице. Приходилось постоянно отворачиваться, чтобы мокрые тряпки не били нас по лицу. Потом мы вошли в помещение.
* * *
Прачечная Лении. В лицо ударил пар, от которого мы чуть не рухнули на пол. Мальчишки, работавшие в прачечной, стояли в лоханях с горячей водой и топтали белье. Вода доходила им до маленьких потрескавшихся коленок. Было очень шумно, слышался плеск белья, топот ног, глухие удары, звон котлов, ударяющихся друг о друга, — и все это в небольшом замкнутом пространстве, где звуки еще и повторялись эхом. Прачечная занимала весь первый этаж, а также задний двор.
Нас встретили насмешки неряшливо одетой, обутой в стоптанные сандалии владелицы. Ления, вероятно, была младше меня, но выглядела на сорок. У нее было усталое, изможденное лицо, а через край корзины, которую она несла, свешивался отвислый живот. Из-под выгоревшей ленты, охватывающей голову, выбивались пряди вьющихся волос. При виде моей красавицы Ления расхохоталась грудным смехом.
— Фалько! А твоя мать позволяет тебе играть с маленькими девочками?
— Красавица, да? — я говорил вкрадчиво, при этом мое лицо приняло слащаво-учтивое выражение. — Я заключил неплохую сделку на Форуме.
— Ты не очень-то увлекайся, — насмешливо заметила Ления. — Смаракт велел намекнуть: или платишь, или его мальчики с трезубцами займутся кое-какими нежными частями твоего тела.
— Если он желает вывернуть наизнанку мой кошель, то ему следует представить счет в письменном виде. Скажи ему…
— Скажи ему сам.
Ления проявляла ко мне благосклонность, я, возможно, ей даже нравился, но она никогда не влезала в мои дела с домовладельцем. Смаракт демонстрировал Ленин определенные знаки внимания, но в настоящее время она сопротивлялась, поскольку любила независимость. Однако, будучи предприимчивой деловой женщиной, она никогда не отметала все возможные варианты. Смаракт был мерзким и подлым. Я считал, что Ления сошла с ума, и высказал все, что думаю по этому поводу. В ответ Ления заявила мне, чтобы не лез не в свое дело.
Ее беспокойный взгляд снова переместился на мою спутницу.
— Новая клиентка, — похвалился я.
— Правда? Она платит тебе за опыт или ты платишь ей за удовольствие?
Мы обернулись, чтобы осмотреть девушку.
На ней была тонкая белая нижняя туника, скрепленная на плечах голубыми зажимами из эмали. Поверх она надела длинную тунику без рукавов, перехваченную поясом из сплетенных золотых нитей. Вышивка украшала грудь и подол, а также шла широкими полосами по всему переду. Судя по прищуренным водянистым глазам Лении, я мог сказать, что мы наслаждаемся видом очень качественной одежды. Каждое аккуратное маленькое ушко моей богини украшала петелька с крошечными стеклянными бусинками. На ее шее висела пара цепочек, на левой руке красовались три браслета, на правой — четыре. Пальцы унизывало множество колец в форме узелков, змей и птичек с длинными перекрещивающимися клювами. Мы могли бы продать все эти девичьи украшения и получить больше, чем я заработал за весь прошлый год. А сколько владелец борделя мог бы отстегнуть нам за симпатичную девчонку, лучше было бы и не думать.
Она была блондинкой. Ну, она была блондинкой в этом месяце. А поскольку она вряд ли приехала из Македонии или Германии, то, вероятно, использовалась краска, и использовалась умело. Сам я никогда бы не догадался, но позднее меня просветила Ления.
Лента перехватывала мягкие волосы у основания шеи, откуда они ниспадали тремя тяжелыми локонами. У меня возникло искушение развязать эту ленту, причем руки зудели, словно после укуса осы. Конечно, она использовала косметику. Все мои сестры раскрашивали себе лица и сияли, будто недавно позолоченные статуи, поэтому я был привычен к подобному зрелищу. Мои сестры — это поразительные, но довольно грубые произведения искусства. Здесь же все было сделано более тонко, и эффект достигался незаметно, только после пробежки на жаре один глаз явно смазался. У девушки оказались карие широко расставленные глаза, милые, не коварные и не хитрые.
Ления устала глядеть на нее задолго до меня.
— Воруешь уже из колыбели! — без обиняков сказала она мне. — Пописай в ведро перед тем, как вести ее наверх.
Ления не просила меня сдать анализ мочи для уточнения болезни — кражи детей из колыбели. Это была просьба гостеприимной соседки с деловым подтекстом.
* * *
Мне придется кое-что объяснить насчет ведра и чана для отбеливания. Прошло немало времени, и я объяснял то же самое одной знакомой. Мы обсуждали, что прачки используют для отбеливания ткани.
— Разведенный в воде древесный пепел? — неуверенно предположила моя знакомая.
Они на самом деле используют пепел. Они также применяют соду, сукновальную или валяльную глину и мягкую белую трубочную глину для обработки великолепных нарядов кандидатов на выборах. Но тоги, которые издавна носят в нашей империи, очень эффективно отбеливаются при помощи мочи, которую собирают в наших общественных уборных. Император Веспасиан, всегда быстро соображающий, где еще выжать деньги, и все время придумывающий новые способы их выжимания, быстро наложил налог на эту торговлю продуктами человеческой жизнедеятельности. Ления платила налог, хотя из принципа постоянно пополняла запасы бесплатно всякий раз, когда ей это удавалось.
— Как я предполагаю, в сезон овощей, когда все едят свеклу, половина тог на Форуме окрашивается розовым? — заметила женщина, которой я это рассказывал. — Они их прополаскивают?
Я пожал плечами, давая преднамеренно уклончивый ответ. Я не стал бы упоминать эти не совсем приятные детали, но в конце концов чан Лении, использовавшийся для отбеливания, оказался крайне важен для нашего рассказа.
* * *
Поскольку я жил на шестом этаже в коморке, оснащенной не лучше, чем какие-либо другие трущобы в Риме, ведро Лении давно стало моим добрым другом.
Ления повернулась к моей гостье.
— Девушкам — за лестницу, дорогая, — сказала она добрым голосом.
— Не смущай мою утонченную клиентку, Ления! — я покраснел вместо нее.
— На самом деле мне пришлось поспешно уйти из дома…
Утонченная, но в отчаянии. Клиентка проскользнула мимо шестов, на которых были вывешены сухие вещи из ткани с начесом. Шесты продевались в рукава и закреплялись на специальных стержнях. Над ворсом будут работать позднее. Дожидаясь возвращения девушки, я заполнил ведро обычной нормой и поговорил с Ленией о погоде. Обычная пустая болтовня.
Через пять минут я больше не мог говорить о погоде.
— Исчезни, Фалько! — поприветствовала меня девушка, занимающаяся начесом, когда я выглянул из-за развешанной сухой одежды.
Моей клиентки не было. Если бы она была менее красивой, я мог бы смириться с пропажей. Но девушка отличалась исключительной привлекательностью, и я не видел оснований расставаться с такой невинностью в пользу кого-то еще. Ругаясь себе под нос, я пронесся мимо гигантских прессов и выскочил во двор прачечной.
Там стояла печь, на которой грели колодезную воду для стирки. Над некоторыми жаровнями с горящей серой была развешана одежда, которой требовалось дополнительное отбеливание. Какой-то таинственный химический процесс и дым обеспечивали это отбеливание. Несколько молодых людей засмеялись при виде меня, что привело меня в ярость, пахло там отвратительно. Девушки не было. Я перескочил через ручную тележку и быстро понесся по переулку.
Она проскочила мимо емкостей с ламповой сажей, использовавшейся красильщиками, смело обогнула навозную кучу и уже дошла до середины клеток с птицей, в которых перед завтрашним рыночным днем отдыхали гуси с больными ногами и понурый светло-вишневый фламинго. При моем приближении девушка резко остановилась. Путь ей загородил веревочник и уже расстегивал ремень, обхватывающий его дюжее тело (весом восемнадцать стоунов), чтобы было легче ее насиловать. Насилие в наших местах осуществлялось с небрежной грубостью и жестокостью, которые считались оценкой женских форм. Я вежливо поблагодарил веревочника за то, что присмотрел за моей клиенткой. Затем, не дожидаясь того, как кто-то из них смог бы начать со мной спор, я вернул ее назад.
Это была клиентка, контракт с которой придется заключать силой, привязывая ее к моему запястью длинной веревкой.
Глава 3
После гула Форума и суматохи римских площадей моя квартира казалась благословенно тихой, хотя негромкие звуки доносились с улицы внизу. Время от времени сквозь красную черепичную крышу можно было услышать пение птиц. Я жил на самом верхнем этаже. Мы добрались до моей каморки, как и все посетители, сильно запыхавшись. Девушка остановилась, чтобы прочитать надпись на керамической табличке. В табличке вообще-то не было необходимости, потому что никто не пойдет на шестой этаж, не зная, кто там живет. Но я пожалел странствующих торговцев, которые все-таки поднимались, дабы убедить меня в необходимости рекламы. Они считали, что она поможет ремеслу, впрочем, ничто никогда не помогает моему ремеслу, но не в этом дело.
— М. Дидий Фалько. «М» стоит вместо Марка. Мне называть тебя Марком?
— Нет, — ответил я.
* * *
Мы вошли.
— Больше ступеней, ниже арендная плата, — объяснил я с унылым видом. — Я жил на крыше до тех пор, пока голуби не стали жаловаться, что я занимаю слишком много места на черепице…
Я обитал на полпути к небу. Девушка была очарована. Она явно привыкла к просторным хорошо обставленным комнатам не выше первого этажа, с собственными садами и выходом к акведукам, поэтому, вероятно, не замечала недостатков моего орлиного гнезда. Я опасался, что фундамент рухнет и шесть жилых этажей обвалятся, подняв столбы пыли и штукатурки, или однажды я не услышу сигнал пожарной тревоги и зажарюсь в своей коморке.
Девушка направилась на балкон. Я позволил ей побыть там одной, потом присоединился, по-настоящему гордый открывающимся видом. По крайней мере, вид был сказочным. Наш дом стоял достаточно высоко на Авентине, и можно было видеть соседей вплоть до моста Пробия. Можно было шпионить на много миль, рассмотреть, что происходит за рекой, в квартале за Тибром, вплоть до Яникула и западного побережья. Лучше всего было по ночам. Все звуки обострялись, после того как грузовые повозки с товарами прекращали грохотать. Слышался плеск воды о берега Тибра и звук копий, втыкаемых в землю императорской стражей на Палатине. Девушка глубоко вдохнула теплый воздух, насыщенный городскими запахами готовящейся еды, жаровен и паникадил, а также ароматом пиний из публичных садов на Пинции.
— О, как бы мне хотелось жить в каком-то месте, подобному этому… — Вероятно, она заметила выражение моего лица. — Я была обречена как ребенок, с которым все носятся! Ты думаешь, будто я не вижу, что у тебя нет воды, тепла зимой, нет печки и тебе приходится покупать горячую пищу…
Она была права. Я именно так и подумал.
— Кто ты? — резко спросила она более тихим голосом.
— Ты же прочитала: «Дидий Фалько», — наблюдая за ней, ответил я. — Я — частный информатор.
Девушка на мгновение задумалась, потом выпалила:
— Ты работаешь на императора!
— Веспасиан ненавидит информаторов. Я работаю на печальных мужчин средних лет, которые считают, что их хитрые жены спят с возницами колесниц. Есть еще более грустные, которые знают, что их жены спят с их племянниками. Иногда я работаю на женщин.
— А что ты делаешь для женщин? Или неприлично спрашивать?
Я рассмеялся.
— То, за что они платят! Что угодно!
Я не стал ничего уточнять.
Я вернулся в комнату и быстро убрал кое-какие вещи, которые не хотел бы ей демонстрировать, затем принялся за приготовление ужина. Через некоторое время она тоже вернулась с балкона и осмотрела жалкую дыру, которую сдавал мне Смаракт. Это было оскорбление за цену, которую он требовал, впрочем, платил я редко.
В первой комнате могла развернуться только собака, причем тощая и с поджатым хвостом. У меня был шатающийся стол, косая скамья, полка с посудой, очаг из сложенных рядами кирпичей, на котором я готовил, рашпер, пустые кувшины для вина и полная мусорная корзина. Из первой комнаты был выход на балкон, куда можно было выбраться, устав наступать на тараканов. Второй дверной проем, завешенный шторой в яркую полоску, вел в спальню. Вероятно, девушка почувствовала, что скрывается за занавеской, и не стала спрашивать.
— Если ты привыкла к пирам, которые растягиваются на всю ночь и состоят из семи блюд — от яиц в рыбном соусе до замороженного шербета с фруктами и орехами, выкопанного из ледника, предупреждаю: по вторникам мой повар навещает бабушку.
У меня не было повара, вообще не было рабов. Моя клиентка опечалилась. — Пожалуйста, не беспокойся. Я смогу поесть, когда ты отведешь меня домой…
— Пока ты никуда не уходишь, и я не знаю, когда и куда тебя верну. А теперь ешь!
Мы ели свежие сардины. Мне хотелось бы предложить что-то более изысканное, но сардины оставила женщина, которая взяла на себя обеспечение моего обеда. Я приготовил холодный сладкий соус, чтобы оживить рыбу, — мед, немного одних специй, щепотку других. В общем, как обычно. Девушка наблюдала за мной так, словно никогда в жизни не видела, как кто-то толчет любисток и розмарин в ступке. Возможно, она на самом деле никогда не видела.
Я закончил трапезу первым, затем поставил локти на край стола и склонился вперед, наблюдая за девушкой с честным и вызывающим доверие лицом.
— А теперь расскажи все дяде Дидию. Как тебя зовут?
— Елена.
Я так старался выглядеть честным, что не заметил внезапно появившуюся у нее на лице краску. Это должно было подсказать мне, что жемчуг в раковине поддельный.
— Ты знакома с этими варварами, Елена?
— Нет.
— И где они тебя прихватили?
— У нас дома.
Я тихо присвистнул. Это меня удивило.
Вспомнив о них, девушка явно испытала негодование, а от этого стала более разговорчивой. Они схватили ее среди бела дня.
— Эти люди смело позвонили в дверной колокол, проскочили мимо стоявшего у двери слуги, пролетели по дому и вытащили меня на улицу. Там они засадили меня в паланкин и побежали по улице! Когда мы добрались до Форума, им пришлось снизить скорость из-за толп людей, поэтому я выпрыгнула и бросилась прочь.
Они достаточно напугали ее, чтобы она молчала, но явно недостаточно, чтобы сломать.
— Ты представляешь, куда они тебя тащили?
Она не знала.
— А теперь не волнуйся! — успокоил я девушку. — Скажи мне, сколько тебе лет?
Ей оказалось шестнадцать. О, Юпитер!
— Замужем?
— Я выгляжу как замужняя женщина?
Она выглядела, как та, которая вскоре должна ею стать!
— У папы есть какие-то планы? Может, он уже приметил какого-нибудь хорошо воспитанного офицера, вернувшегося из Сирии или Испании?
Ее, похоже, заинтересовала эта мысль, но она покачала головой. Я придумал замечательный способ удержать эту красотку и постарался выглядеть еще более честным и надежным.
— Кто-то из папиных друзей рассматривал тебя слишком откровенно? Мама представляла тебя достойным сыновьям своих подруг детства?
— У меня нет матери, — тихо перебила она.
Последовала пауза, во время которой я размышлял над ее странной формулировкой. Большинство людей сказали бы: «Моя мать умерла». Я решил, что ее благородная мамочка пребывает в добром здравии, только ее, вероятно, застали в постели с рабом, после чего последовал позорный развод.
— Прости меня — профессиональный вопрос. Есть у тебя какой-то почитатель, о котором не знает семья?
Внезапно она расхохоталась.
— О, прекрати говорить глупости! Нет никого подобного!
— Ты очень красивая девушка, — настаивал я, потом быстро добавил, — конечно, со мной тебе нечего бояться.
— Я вижу! — сказала она.
На этот раз огромные карие глаза внезапно блеснули. Я с удивлением понял, что меня поддразнивают.
Кое-что было блефом. Она сильно испугалась, а теперь старалась показать себя смелой, и чем смелее она становилась, тем привлекательнее выглядела. Красивые глаза смотрели в мои, в них плясали хитрые огоньки. А у меня возникли серьезные проблемы…
Очень вовремя перед дверью снаружи послышались шаги, а потом постучали уверенно и нагло, как могут стучать только представители закона.
Глава 4
Представитель закона восстанавливал дыхание после подъема по лестнице.
— Заходите, — крикнул я. — Не заперто.
Он зашел и рухнул с другой стороны скамьи.
— Присаживайся, — предложил я уже после этого.
— Фалько! Негодник! Это шаг вперед.
По его лицу медленно расплылась улыбка. Петроний Лонг, начальник стражи в Авентине. Крупный, спокойный мужчина сонного вида, которому доверяют люди. Возможно, потому что он так мало говорит.
Мы с Петронием знакомы очень давно. Мы в один и тот же день пошли в армию и познакомились в очереди желающих дать клятву императору. Потом мы выяснили, что выросли всего в пяти улицах друг от друга. Семь лет делили одну палатку. А когда вернулись домой, у нас оказался еще один общий пункт в биографии: оба мы считались ветеранами Второго легиона Августа в Британии. И не только это. Мы также были ветеранами легиона, служившими в период восстания Боудикки против Рима. Поэтому после ужасного выступления Второго легиона мы оба ушли из армии на восемнадцать лет раньше положенного срока и нас связывала общая тема, которую мы никогда не хотели обсуждать.
— Верни глаза на место, — сказал я ему. — Нечего тут пялиться. Ее зовут Елена.
— Приветствую, Елена. Какое красивое имя! Фалько, где ты ее нашел?
— Она участвовала в забеге вокруг храма Сатурна.
Я выбрал именно этот простой, четный ответ, поскольку нельзя было полностью исключать, что Петроний не в курсе случившегося. Кроме того, я хотел, чтобы девушка знала, что имеет дело с мужчиной, который говорит правду.
Я представил начальника стражи моей ослепительной клиентке.
— Петроний Лонг, возглавляет стражу в нашем квартале. Самый лучший стражник.
— Добрый вечер, господин, — ответила она.
Я горько рассмеялся.
— Нужно начать работать в местном управлении, и тогда женщины станут называть тебя господином! Дорогая, нет необходимости все преувеличивать.
— Не обращайте внимания для этого хитреца. Он вечно все запутывает и усложняет, — с легким укором сказал Петроний, который держался свободно и заинтересованно ей улыбался. Этот интерес в его глазах мне не очень понравился.
Елена улыбнулась Лонгу в ответ.
— Мы, мужчины, хотим посплетничать над вином, — вставил я, не вдаваясь в подробности. — Иди в спальню и подожди меня там.
Она бросила на меня удивленный взгляд, но послушалась. Вот преимущество либерального образования. Эта девушка знала, что живет в мире мужчин. Кроме того, она обладала хорошими манерами, и находилась в моем доме.
— Прелестна! — одобрил Петроний тихим голосом.
У него есть жена, которая почему-то его обожает. Он никогда о ней не рассказывает, но, вероятно, заботится. Петроний как раз относится к типу мужчин, которые заботятся о жене. У него три дочери и, как хороший римский отец, он становится очень сентиментальным при упоминании его девочек. Относится он к ним очень трепетно, и я жду приближения дня, когда Туллианская тюрьма будет забита испуганными молодыми парнями — щенками, посмевшими бросить похотливый взгляд на дочерей Петрония. Я достал два кубка для вина, они выглядели чистыми, но я протер предназначенный для Петрония подолом своей туники перед тем, как поставить на стол. В дыре под половицей, служившей винным погребом, у меня хранилась кое-какая испанская отрава — подарок благодарного клиента. Вино было темно-красным, а вкус… Создавалось впечатление, что его похитили из какой-то гробницы этрусков. У меня также нашлась старая амфора с приличным белым сетийским вином. Поскольку Петроний появился в такой неудачный момент, я колебался, что подавать: просто поставить на стол этрусское вино, раз надо что-то ставить, или все-таки остановиться на сетийском. В конце концов я остановился на сетийском, поскольку мы старые друзья и в любом случае я сам был не прочь немного выпить.
Как только Петроний попробовал его, то понял, что ему дают взятку, но ничего не сказал. Мы опустошили несколько кубков. Наступил момент, когда разговор стал неизбежен.
— Послушай, — начал он. — Поступил сигнал о том, что сегодня утром из дома одного сенатора выкрали девчонку в юбке с золотым подолом. Не спрашивай меня, почему…
— Ты хочешь, чтобы я держал глаза и уши открытыми? — предположил я веселым тоном, хотя видел, что нисколько его не обманул. — Она наследница, да?
— Заткнись, Фалько. Позднее ее видели вместе с каким-то отвратительным типом, описание которого чудесным образом тебе подходит. Тип куда-то ее тащил. Ее зовут Сосия Камиллина, она совершенно не для тебя, и я хочу отправить ее назад, туда, откуда она пришла. И отправить до того, как какие-то помощники претора начнут ползать по всей подвластной мне территории и делать грубые замечания насчет того, как я тут управляюсь… Это она там? — он кивнул на дверь в спальню.
Я кротко кивнул.
— Наверное, она.
Мне нравился Петроний. Он хорошо выполнял свою работу. Мы оба знали, что он нашел своего потерянного котенка.
Я объяснил, как она у меня оказалась, и особо подчеркнул свою доблестную роль спасителя представительницы благородного сословия, попавшей в трудную ситуацию. При этом я сделал гораздо меньший упор (в виду более раннего замечания Петрония) на разгроме рыночных прилавков… Казалось, что лучше не ставить его перед дилеммами, решить которые ему будет трудно, и решение поставит его в неловкое положение.
— Мне придется забрать ее с собой, — заявил Петроний. Он много выпил и опьянел.
— Я сам ее отведу, — обещал я. — Сделай мне одолжение. Если ее отведешь ты, тебе скажут: «Спасибо, офицер. Вы выполнили свой долг». Если же ее приведу я, то могу получить небольшое вознаграждение. Мы его поделим.
Подмазанный хорошим вином, мой приятель Петроний становится чутким. Немногие люди так внимательно относятся к прибылям и убыткам М. Дидия Фалько.
— О-о… — он уронил кубок и с унылым видом посмотрел на него. — Это меня устраивает. Дай мне слово.
Я дал ему слово и остатки сетийского, после чего он ушел счастливым. На самом деле я не собирался ее возвращать. Ну… пока нет.
Глава 5
Я влетел в спальню, опасно раздраженный. Занавеска с шумом проехалась по палке, с которой свисала. Маленькая потеряшка виновато подпрыгнула, уронив мои личные записные книжки на пол.
— Отдай мне их! — заорал я.
Теперь я на самом деле пришел в ярость.
— Ты — поэт! — воскликнула она, явно пытаясь выиграть время. — А «Аглая — белая голубка» посвящено женщине? Наверное, они все посвящены дамам, но довольно грубы… Прости. Мне стало интересно.
Аглая была моей знакомой девушкой, но совсем не белой, и нисколько не похожей на голубку. А если уж говорить до конца, то ее вообще звали не Аглая.
Гостья продолжала смотреть на меня горящими глазами, но выглядела весьма сконфуженной, эффект оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала, а гораздо хуже. Самые красивые женщины блекнут после того, как ловишь их на лжи.
— Сейчас ты услышишь кое-что значительно более грубое! — рявкнул я. — Сосия Камиллина? Так почему ты представилась другим именем?
— Я испугалась! — парировала она, — не хотела называть свое имя. Я не знала, что ты хочешь…
Я не стал это никак комментировать, я сам не знал.
— Кто такая Елена?
— Моя двоюродная сестра. Она отправилась в Британию. Она развелась…
— Экстравагантность или просто прелюбодеяние?
— Она сказала, что все слишком сложно и объяснить невозможно.
— А-а! — с горечью воскликнул я. Я никогда не был женат, но мог считаться экспертом по разводам. — Прелюбодеяние. Я слышал о женщинах, которых ссылают на острова за аморальное поведение, но ссылка в Британию кажется уж слишком унылой и мрачной!
На лице Сосии Камиллины появилось любопытство.
— Откуда ты знаешь?
— Я там бывал.
Из-за восстания я говорил скупо и отрывисто. В то время ей, вероятно, было лет шесть. Она не помнила большое восстание британцев, а я сейчас не собирался устраивать урок истории.
— Почему твой друг назвал тебя хитрецом, который вечно все запутывает и осложняет? — внезапно спросила девушка.
— Я — республиканец. Петроний Лонг считает это опасным.
— Почему ты республиканец?
— Потому что любой свободный человек должен иметь голос в правительстве города, в котором вынужден жить. Потому что Сенат не должен отдавать контроль над империей одному человеку пожизненно. Он ведь может сойти с ума, стать коррумпированным или аморальным — и вероятно станет. Потому что я ненавижу то, что Рим вырождается в сумасшедший дом, контролируемый несколькими аристократами. А теми, в свою очередь, манипулируют их циничные бывшие рабы, в то время как многие граждане не могут нормально заработать себе на жизнь…
Невозможно сказать, что она из этого поняла и к каким выводам пришла, но следующий вопрос девушки оказался удивительно практичным.
— А частные информаторы прилично зарабатывают на жизнь?
— Используя каждую законную возможность, они получают столько, чтобы не помереть с голоду. В хорошие дни на столе может стоять пища, дающая нам силы для возмущения несправедливостью мира…
Теперь меня понесло. Я ведь выпил столько же вина, сколько и Петроний.
— Ты считаешь мир несправедливым?
— Я знаю это, госпожа!
Сосия очень серьезно посмотрела на меня — так, словно ей стало грустно от мысли, как жестоко мир со мной так обошелся. Я тоже посмотрел на девушку, сам я не особо радовался.
* * *
Я чувствовал себя усталым и отправился в гостиную, куда через пару минут за мной последовала девушка.
— Мне снова нужно в уборную.
Я почувствовал дикое беспокойство. Такое ощущает человек, который принес домой щенка. Щенок выглядит таким милым, но внезапно хозяин понимает, что на шестом этаже у него возникают проблемы. Не паниковать не стоило. Квартира у меня спартанская, но я слежу за гигиеной.
— Так, есть несколько вариантов на выбор, — поддразнил я ее. — Ты можешь спуститься вниз и попытаться убедить Лению снова открыть прачечную, хотя работа уже закончилась. Или можешь пробежаться по улице к большой общественной уборной. Но не забудь монетку. Вход платный, а возвращаться за деньгами на шестой этаж отнимает много времени…
— Как я предполагаю, ты и твои друзья-мужчины справляете нужду с балкона? — надменно спросила Сосия.
Я изобразил на лице крайнее удивление. Я и на самом деле был несколько смущен.
— Ты знаешь, что это противозаконно? — спросил я.
— Даже не представляла, что тебя будут беспокоить законы и нарушение общественного порядка! — ухмыльнулась Сосия.
Она начинала понимать суть моей работы, вернее, уже поняла, что я собой представляю.
Я поманил девушку пальцем — она последовала за мной в спальню, где я показал ей удобства, которыми пользовался сам.
— Спасибо, — поблагодарила она.
— Не стоит, — ответил я.
Сам я опорожнился с балкона просто, чтобы доказать свою независимость.
* * *
На этот раз, когда она снова вошла в гостиную, я размышлял. Похоже, в случае с Сосией мне было труднее обычного разобраться с подоплекой похищения. Я не мог решить, упустил ли я смысл, или на самом деле знал все, что можно узнать об этом деле. Я задумался, что представляет собой ее сенатор. Он политически активен? Сосию могли схватить, чтобы повлиять на его голосование. О боги, конечно нет! Она слишком красива. Наверняка в это дело вовлечено гораздо большее.
— Ты отведешь меня домой?
— Слишком поздно. Слишком рискованно. Я слишком пьян.
Я отвернулся, прошел в спальню и рухнул на кровать. Сосия стояла в дверном проеме, словно оставшаяся после трапезы рыбья кость.
— А где я буду спать?
Я был пьян почти так же, как Петроний. Я лежал на спине и прижимал к груди свои записные книжки и был способен только на слабые жесты и глупости.
— У моего сердца, маленькая богиня! — воскликнул я, затем широко развел руки. Правда, разводил очень осторожно, по одной за раз.
Она испугалась.
— Хорошо! — ответила она. Девчонка оказалась крепким орешком. Стойкая, решительная и отважная.
Я слабо улыбнулся ей, затем занял предыдущее положение. Я сам довольно сильно испугался.
Однако я был прав. Слишком рискованно выходить на улицу с кем-то таким ценным. Не после наступления темноты. Не в Риме. Не на эти улицы, погруженные в кромешную тьму и заполненные ворами и всякими мерзавцами. Она была в большей безопасности со мной.
На самом деле была в безопасности? Кто-то потом спросил меня об этом. Я ушел от ответа. До этого дня я на самом деле не знаю, была ли Сосия Камиллина в безопасности со мной в ту ночь или нет.
* * *
— Гости спят на кушетке для чтения, — сообщил я Сосии хриплым голосом. — Одеяла в деревянном ящике.
Я
наблюдал за тем, как она устраивает сложный кокон. У нее получилось ужасно. Сооружение напоминало палатку, установленную новобранцами легиона. Нечто подобное бывает, когда восемь вялых сентиментальных парней в новых туниках, никогда не ходившие в поход, впервые встают лагерем. Сосия очень долго крутилась вокруг кушетки, взяла слишком много покрывал и слишком долго их раскладывала.
— Мне нужна подушка, — наконец пожаловалась она слабым голоском, но очень серьезно, словно ребенок, который может спать только, если соблюдается определенный ритуал.
Я был счастлив от вина и возбуждения. Меня не волновало, есть у меня подушка или нет. Я завел руку за голову, выдернул собственную подушку и бросил девушке — она ее поймала.
Сосия Камиллина осмотрела мою подушку, словно по ней бегали блохи. Еще один повод испытывать негодование к господам благородного происхождения. Возможно, блохи там и обитали, но все представители живой природы были плотно зашиты внутри веселенькой пурпурной наволочки, которую мне всучила мама. Мне не нравится, когда важничающие и задирающие нос девчонки с презрением смотрят на предметы моего быта, а тем более клевещут на них.
— Она идеально чиста! Пользуйся и благодари.
Сосия очень аккуратно положила подушку на край кровати. Я потушил свет. Частные информаторы, когда слишком пьяны, могут быть галантными, чтобы быть способными на что-то еще.
Спал я как младенец. Не представляю, спала ли моя гостья, вероятно, нет.
Глава 6
Сенатор Децим Камилл Вер жил в районе Капенских ворот. Этот район располагался через один от моего, поэтому я пошел пешком. По пути я встретил свою младшую сестру Майю и по крайней мере еще двоих маленьких безобразников, имена которых значатся в нашем генеалогическом древе.
Некоторые информаторы создают образ одиночек. Может, в этом-то я как раз и ошибся. Каждый раз, когда я украдкой следил за каким-то прелюбодеем в яркой тунике, я поднимал голову и видел кого-то из младших родственников. Они вытирали рукой нос и кричали через улицу, называя меня по имени. Я был в Риме хромым ослом. Наверное, я связан родственными узами с большинством людей между Тибром и Ардейскими воротами. У меня пять сестер, и еще есть одна несчастная девушка, на которой мой брат Фест так никогда и не нашел времени жениться, тринадцать племянников и четыре племянницы, и еще несколько намечаются, что уже заметно. В этот список я не включил родственников, которых юристы именую наследниками четвертой и пятой очереди: братьев моей матери, сестер моего отца, всех троюродных братьев и сестер детей от первого брата отчимов тетей бабушки. Мать у меня тоже есть, хотя я пытаюсь игнорировать это обстоятельство.
Я махнул безобразникам в ответ. Не стоит с ними сориться, среди наших ребят найдется парочка неплохих. В любом случае я использую этих изобретательных деток для слежки за прелюбодеями, когда сам вместо этого отправляюсь на бега.
* * *
Децим Камилл владел большим домом, который стоял на принадлежавшей ему земле среди тихих улиц, заполненных жилыми домами. Он купил право брать воду прямо из старого проходящего рядом Аппиева акведука. У него не было финансовой необходимости сдавать участок перед домом под прилавки или лавки, а верхний этаж — в наем жильцам, хотя он и делил участок желанной земли с владельцем точно такого же соседнего дома. Из этого я сделал вывод, что этого сенатора ни в коем случае нельзя считать баснословно богатым. Как и все мы, бедняга пытается поддерживать уровень жизни, положенный ему по рангу. Различие между ним и остальными нами заключалось в том, что для прохождения в Сенат Децим Камилл Вер должен был быть миллионером.
Поскольку я отправлялся в гости к миллиону сестерциев, то рискнул подставить шею под бритву цирюльника. Я облачился в поношенную белую тогу, дыры которой умело прикрыл, перебрасывая ее через плечо. Еще я надел короткую чистую тунику, свой лучший ремень с кельтской пряжкой и коричневые сапоги. Свободный гражданин, патриций, о статусе которого свидетельствует длина строя сопровождающих его рабов, правда, моем случае рабы отсутствовали.
На дверных замках сенатора красовались совершенно новые пластинки с гербами. Как только я дернул за веревку большого медного колокола, сквозь решетку на меня уставилось лицо запуганного жалкого привратника с большим синяком на скуле. Он тут же открыл дверь, здесь явно кого-то ждали. Вероятно, того же, кто вчера врезал привратнику и утащил девушку.
Мы пересекли зал, выложенный черными и белыми плитками, с брызгающим во все стороны фонтаном и выцветшими, когда-то ярко-красными стенами, похоже, их покрывали киноварью. Камилл оказался неуверенного вида мужчиной лет пятидесяти с небольшим, он сидел в библиотеке, обложившись горой бумаг. Тут же стоял бюст императора и парочка приличных бронзовых ламп. Выглядел Камилл нормально, но на самом деле таковым не являлся. Во-первых, он оказался вежливым…
— Доброе утро. Как я могу вам помочь?
— Меня зовут Дидий Фалько. Вот моя верительная грамота, господин.
Я протянул ему один из браслетов Сосии. Он был сделан из британского гагата, который привозят с северного побережья. Браслет был выполнен в форме сжатых китовых зубов. Сосия сказала, что этот браслет прислала ее двоюродная сестра. Я знал стиль со времен армейской службы, однако в Риме подобные браслеты встречались редко.
Сенатор внимательно осмотрел браслет.
— Могу ли я спросить, где вы взяли эту вещь?
— С руки одной красавицы, которую спас вчера от двух головорезов.
— Она как-то пострадала?
— Нет, господин.
Его удачно посаженные глаза под густыми бровями смотрели прямо на меня. Волосы торчали ежиком, и хотя не были особо короткими, делали его похожим на веселого мальчишку. Я видел, как сенатор собирается с силами, чтобы спросить, чего я хочу. Я решил ему помочь.
— Сенатор, вы хотите, чтобы я ее вернул?
— Ваши условия?
— Вы представляете, кто ее схватил?
— Совершенно не представляю.
Я не думаю, что он врал, а если врал, то можно было бы восхититься его манерой речи. Говорил он как деловой человек, и в любом случае мне понравилась его настойчивость.
— Пожалуйста, назовите ваши условия.
— Просто профессиональное любопытство. Я поместил ее в безопасное место. Я частный информатор. Начальник стражи Петроний Лонг из Тринадцатого квартала может поручиться за меня…
Камилл протянул руку к чернильнице и сделал пометки в уголке письма, которое читал. Мне это тоже понравилось. Он собирался проверить.
Не оказывая давления, я предложил Камиллу нанять меня, раз он мне благодарен. Сенатор выглядел задумчивым. Я назвал свои ставки, немного надбавив из-за статуса заказчика, поскольку, если мне и дальше придется именовать его «господином», наше общение несколько растянется. Камилл продемонстрировал некоторое нежелание. Я решил, что оно вызвано тем, что он не хочет видеть меня рядом с девушкой. Но в конце концов мы договорились: я дам ему несколько советов по обеспечению безопасности дома и постараюсь что-то выяснить о похитителях.
— Возможно, вы правильно сделали, спрятав Сосию Камиллину, — сказал он. — А она в приличном месте?
— За ней присматривает моя мать, господин!
Это в некотором роде было правдой. Мать регулярно осматривала мои комнаты в поисках доказательств пребывания распутных женщин. Иногда она их находила, иногда я успевал вовремя их вывести.
Этот сенатор не был идиотом. Он решил, что кто-то должен отправиться со мной и проверить, все ли в порядке с девушкой, я же не советовал ему так делать. Какие-то неприятные типы показались в таверне напротив дома сенатора, следили за входящими в его дом. Нельзя было с уверенностью говорить, что они как-то связаны с Сосией. Молодчики вполне могли оказаться обычными ворами-взломщиками, неудачно выбравшими день для оценки потенциальной жертвы. Поскольку сенатор в любом случае показывал мне дом, мы отправились на них взглянуть.
На входной двери висел надежный деревянный замок, открывавшийся шестидюймовым трехзубчатым железным ключом, а также четыре латунные задвижки. Также была установлена решетка, закрывавшаяся отодвигающейся планкой. Сквозь решетку привратник осматривал посетителей. На ночь дверь запиралась еще и на толстую перекладину из каменного дуба, которая подвешивалась поперек на две крепко вбитые опоры. Привратник жил в маленькой комнатке сбоку от входной двери.
— Достаточно? — спросил у меня сенатор.
Я долго смотрел на него, потом перевел взгляд на сонное воздушное создание, используемое в качестве привратника — вялого типа, которого сдует сильный порыв ветра, впустившего похитителей Сосии в дом.
— О да, господин. Система прекрасная, но позвольте мне дать вам один совет: пользуйтесь ею!
Как я видел, он понял, что я имею в виду.
Я заставил его посмотреть сквозь решетку на двух типов в таверне.
— Эти два наблюдателя видели, как я пришел. Я перепрыгну через вашу стену позади дома. Позвольте мне осмотреть дом сзади. Отправьте раба к дежурному в местном временном помещении для арестованных и добейтесь их ареста за нарушение общественного порядка.
— Но они не…
— Они его нарушат, — сообщил я ему. — Когда отряд преторианской гвардии будет их арестовывать.
Сенатор был убежден. Руководителей империи вообще так легко убедить. Сенатор обратился к привратнику, который выглядел раздраженным, но, тем не менее, отправился исполнять поручение. Я заставил Камилла Вера показать мне верхний этаж, а когда через десять минут мы спустились вниз, я снова глянул через решетку. На этот раз я увидел, как двух типов из таверны ведет по улице группа солдат. Руки у молодчиков были скручены за спиной.
Я убедился, что обращение важного гражданина к магистрату с жалобой вызывает быструю реакцию, и это радовало!
* * *
Если на единственной входной двери на фасаде дома было множество разнообразных засовов, то сзади насчитывалось семь различных входов в сад и ни единого приличного замка. Кухонная дверь открылась легко, стоило мне достать свою отмычку. Ни на одном из окон я не увидел решеток. Балкон, идущий вокруг верхнего этажа, открывал доступ ко всему дому. Элегантная голубая столовая закрывалась хлипкими раздвижными дверями, которые я без труда открыл обломком плитки с клумбы. За моей работой наблюдал секретарь сенатора. Это был худой раб, грек с горбатым носом, смотрел он надменно. Кажется, что секретари-греки просто рождаются с подобным надменным выражением лица. Я долго диктовал указания.
Я решил, что мне нравится диктовать. Мне также понравилось выражение лица грека, когда я улыбнулся на прощание, перебрался через солнечные часы, поставил для опоры ногу на ветку плюща и взлетел на стену, разделяющую участок, чтобы осмотреть соседний дом.
— Кто там живет?
— Младший брат хозяина.
Я сам был младшим братом и с удовольствием отметил, что младший Камилл — человек разумный. Он установил на каждом окне крепкие планчатые ставни, окрашенные в темно-малахитовый цвет. Оба дома облицевали стандартными плитами из лавы, верхние этажи поддерживались тонкими колоннами, вырезанными из самого обычного серого камня. Архитектор щедро украсил фронтон скульптурами из терракоты, но к тому времени, когда потребовалось заниматься садом и выставлять там обычные статуи грациозных богинь, деньги закончились. Сад украшали одни решетки для вьющихся растений, правда, растения цвели пышно и определенно были здоровыми. Оба дома по разные стороны стены явно строились одним архитектором. Трудно сказать, почему один из них, сенаторский, казался привлекательным и словно улыбался, а дом его брата выглядел строгим и холодным. Я порадовался, что Сосия живет в улыбающемся доме.
Я долго смотрел на дом брата, не уверенный в том, что именно ищу, затем махнул греку и прошел по верху разделяющей дома стены до самого конца. Там я беспечно спрыгнул вниз.
Приземлившись в переулке за стеной сенаторского сада, я запачкался в пыли и сильно ушиб колено. Один Геркулес знает, почему я это сделал, ведь рядом имелся въезд для телег, которые доставляли продукты, с очень хорошими воротами.
Глава 7
Возвращаясь домой, я заметил, что людей и шума на улице прибавилось. Кричали торговцы, слышался стук копыт, звенели колокольчики на упряжи. Маленькая черная собака со свалявшейся плотными комками шерстью, торчавшими во все стороны, яростно облаяла меня у лавки булочника. Когда я повернулся, чтобы обругать собаку, ударился головой о кувшины, вывешенные на веревке гончаром. Этот гончар считал, что его товар следует рекламировать таким образом — кувшины выдерживали удар головой. К счастью, моя голова тоже оказалась крепкой. На Остийской дороге меня сильно задели, а потом еще и зажали чьи-то слуги-носильщики, но мне удалось отомстить, отдавив ноги нескольким из них. В трех улицах от дома я заметил мать, она покупала артишоки. Ее губы были поджаты, а лицо выражало недовольство — верный признак, что думает она обо мне. Я юркнул за бочки с улитками, а затем отступил назад, чтобы не выяснять, на самом ли деле она обо мне думала. Похоже, мать меня не заметила. Дела шли хорошо: я подружился с сенатором, у меня появилась бессрочная работа, а что лучше всего, — Сосия.
Из мечтательного состояния меня быстро вывело приветствие двух крепких парней и заставило взвыть от боли.
— Ой! — заорал я. — Послушайте, парни, это ошибка. Скажите Смаракту, что моя арендная плата…
Я не узнал ни одного из них, но гладиаторы у Смаракта редко задерживаются надолго, если они не сбегают, то неизбежно погибают на ринге. Если же они не добираются до ринга, то умирают от голода, поскольку у Смаракта свои представления о диете для тренирующегося гладиатора: горсть бледно-желтой чечевицы в использованной для мытья воде. Я предположил, что это два последних приобретения моего домовладельца.
Мое предположение оказалось неправильным. К этому времени моя голова оказалась зажатой под локтем первого парня. Второй наклонился ко мне и улыбнулся. Уголком глаза я увидел часть шлема последней модели с нащечниками и привычный красный шейный платок у него под подбородком. Ребята явно были из армии. Я подумал, не сообщить ли им, что я сам старый солдат, но, если вспомнить историю моего легиона, было маловероятно, что покинувший Второй легион Августа солдат может на кого-то произвести впечатление.
— Муки совести? — прокричал тот, что был сбоку. — Тебя должно еще кое-что волновать. Дидий Фалько, ты арестован!
Арест молодчиками в красном был обыденным делом, как и требования наличных Смарактом. Более крупный из этих верзил пытался выдавить мои миндалины и действовал с ловкостью и быстротой поваренка, выдавливающего горох из стручка. Я бы попросил его остановиться, но лишился дара речи от восхищения его техникой…
Глава 8
Я чувствовал себя в караульном помещении как дома, будто находился на вечеринке, устроенной эдилом Атием Пертинаксом. Я ожидал, что меня потащат в тюрьму — Лаутумийскую, а то и Мамертинскую, если удача от меня полностью отвернулась. Вместо этого они поволокли меня на восток, в Первый квартал. Для меня это было ново и удивительно, поскольку я раньше никогда не имел никаких дел в районе Капенских ворот. Получается, я оскорбил власти за такое короткое время.
Если есть какой-то класс людей, которых я ненавижу больше всех остальных, то это эдилы. Ради провинциалов позвольте мне сказать, что в Риме за законом и порядком следят преторы, их выбирают по шесть человек за раз, и они делят между собой четырнадцать кварталов. У каждого есть помощник для выполнения вспомогательной работы — ногами. Это и есть эдилы, наглые и дерзкие молодые политики, которые впервые заняли какой-то пост на службе обществу. Таким образом они убивают время перед тем, как занять лучшие места, на которых дают больше взяток.
Гней Атий Пертинакс был типичным представителем племени, этакий коротко стриженный щенок, взбирающийся по политической лестнице. Он надоедал мясникам требованиями мыть фасады лавок, а тут еще и избил меня. Раньше я никогда не видел его. Когда пытаюсь вспомнить происходившее, то вижу только какую-то серую полосу, наполовину скрытую потоком ослепительного солнечного света. Серая полоса — это, вероятно, утраченные воспоминания. По-моему, у него были светлые глаза и прямой острый нос, ему еще не исполнилось тридцати (то есть он был немного младше меня), а природная скупость уже отпечаталась на лице. Такие лица обычно бывают у людей, страдающих запорами.
Также присутствовал и мужчина постарше, в одежде которого я не заметил ничего пурпурного, то есть не сенатор. Он молча сидел в глубине комнаты. Этот человек обладал совершенно непримечательным лицом, которое к тому же ничего не выражало, и лысая голова. По опыту я знаю, что сидящие в углах люди — это наблюдатели. Вначале меня ждал обмен любезностями с Пертинаксом.
— Фалько! — закричал он после того, как с формальностями было быстро покончено и выяснилось, кто я. — Где девушка?
У меня была серьезная претензия к Атию Пертинаксу, хотя я об этом еще не знал.
Я придумывал грубый ответ, но сказать не успел — он приказал сержанту меня подбодрить. Я заявил, что я свободнорожденный гражданин, а избиение гражданина является оскорблением и нарушением демократии. Оказалось, что ни Пертинакс, ни его бугаи не изучали политические науки, и без колебаний и мук совести принялись за оскорбление демократии. У меня было право подать апелляцию прямо императору, но я решил, что толку от этого не будет.
Если бы я думал, что Пертинакс впал в такую ярость из-за привязанности к Сосии, мне было бы легче вынести избиения, но мы с ним не разделяли общих чувств. Все происходящее меня беспокоило. Сенатор вполне мог передумать, отказаться от нашего контракта и донести на меня магистрату, тем не менее, Децим Камилл выглядел мягким человеком и знал (в большей или меньшей степени), где находится его пропавшая девочка, поэтому я терпел. Я был хоть и в синяках, но гордый.
— Я верну Сосию Камиллину ее семье, когда они меня попросят, и что бы ты ни делал, Пертинакс, я не верну ее никому другому!
Я увидел, как его взгляд метнулся в сторону сидевшего в углу ничем не примечательного типа. На лице мужчины появилась легкая, грустная улыбка терпеливого человека.
— Спасибо, — сказал этот тип. — Меня зовут Публий Камилл Метон. Я ее отец. Возможно, я могу попросить вас об этом сейчас.
Я закрыл глаза. Это вполне могло так и быть, никто на самом деле не объяснял мне родственных взаимоотношений сенатора и Сосии. Вероятно, это его младший брат, который живет в холодном соседнем доме. Значит, мой клиент — только ее дядя. А все права принадлежат отцу.
В ответ на дальнейшие вопросы я согласился отвести к ней отца и его очаровательных друзей.
* * *
Ления высунулась из прачечной, заинтригованная гулким топотом ног. Увидев меня под арестом, она не очень удивилась.
— Фалько? Твоя мать сказала… О-о!
— С дороги, грязный старый мочевой пузырь! — закричал эдил Пертинакс, отталкивая Лению в сторону.
Чтобы спасти его от унижения быть раздавленным женщиной, словно фрукт под прессом, я решил вмешаться.
— Не сейчас, Ления, — сказал я мягко.
После двадцати лет выжимания тяжелых мокрых тог Ления обладала большой силой, о которой не сразу можно было догадаться. Эдил мог бы серьезно пострадать. Мне хотелось, чтобы он пострадал, мне хотелось бы подержать его, пока Ления им занимается. Мне и самому хотелось ему врезать.
Но мы практически сразу же оказались на лестнице. Визит получился коротким. Когда мы ворвались в мою коморку, Сосии Камиллины там не оказалось.
Глава 9
Пертинакс пришел в ярость, я же сильно расстроился. Отец девушки выглядел усталым. Когда я предложил ему помощь в ее поисках, то увидел: он тоже приходит в ярость.
— Держись подальше от моей дочери, Фалько! — гневно закричал он.
Это было понятно. Вероятно, он мог догадаться о моей заинтересованности. Вероятно, он тратит немало времени на то, чтобы отгонять всяких бездельников от дочери.
— Значит, меня отстраняют от дела… — пробормотал я голосом человека ответственного, достойного доверия.
— Ты никогда по нему и не работал, Фалько! — каркнул эдил Пертинакс.
Я знал, что лучше не спорить с обидчивым политиком, в особенности если у него такое болезненное лицо и острый нос.
Пертинакс приказал своим людям обыскать мою квартиру, им требовались доказательства. При обыске не нашли даже тарелки, с которых мы ели сардины, — их кто-то помыл, но только не я. Перед тем, как уйти, люди Пертинакса превратили мою мебель в куски дерева. Когда я попробовал протестовать, один из них с такой силой врезал мне по лицу, что чуть не сломал нос.
Если Атий Пертинакс хотел, чтобы я считал его вонючей вошью с манерами помойной крысы, то преуспел в этом деле.
* * *
Как только они ушли, Ления бросилась вверх по лестнице, чтобы проверить, не поставить ли в известность Смаракта о смерти одного из жильцов. Она резко остановилась при виде моего разгромленного имущества.
— О, Юнона! Твоя комната! И твое лицо, Фалько!
Комната никогда не представляла собой ничего особенного, но своим лицом я когда-то гордился.
— Мне нужен новый стол, — простонал я остроумно. — В наши дни можно купить великолепные столы. Приличные кленовые столы длиной шесть футов, на одной единственной мраморной ножке. Он очень подошел бы к моему бронзовому канделябру…
Я обычно освещал комнату сальными свечами.
— Дурак! Твоя мать сказала…
— Избавь меня от этого! — воскликнул я.
— Как хочешь! — она отправилась прочь. На ее лице читалось: «Я просто передаю чужие послания».
Дела шли не очень хорошо. Тем не менее мой мозг оказался не полностью превращен в пыль. Я слишком беспокоился о своем здоровье, чтобы проигнорировать послание от мамы, но необходимости беспокоить Лению не было. Я и так знал, что хотела мне передать моя родительница, а, учитывая потерю моей малютки с ласкающими глаз карими очами, у меня возникло предположение о ее местонахождении.
* * *
Новости по Авентину распространяются быстро. Появился Петроний, обеспокоенный и не очень довольный. Я тогда еще вскрикивал от боли, умывая лицо.
— Фалько! Пусть твои друзья из гражданских лиц с отвратительными манерами не появляются у меня на пороге…
Он присвистнул и взял черный керамический кувшин из моей дрожащей руки и помог мне умыться. Это напоминало старые времена после тяжелой драки перед клубом центурионов в Думнониоре, но в двадцать девять все болело гораздо сильнее, чем в девятнадцать.
Через некоторое время Петроний занялся остатками моей скамьи, вернее, тем, что от нее осталось: поставил доску на два кирпича из очага, на которую меня и усадил.
— Кто это сделал, Фалько?
Я попытался рассказать ему, используя только левую сторону рта.
— Перевозбужденный эдил по имени Атий Пертинакс. Мне очень хотелось бы вспороть ему брюхо как цыпленку, и зажарить его на рашпере со всеми костями, причем на очень горячем рашпере!
Петроний зарычал. Он ненавидит эдилов еще больше, чем я. Они ему мешают, нарушают заведенный им на месте порядок, приписывают себе все заслуги, а ему потом приходится подчищать за ними все дерьмо.
Петроний поднял половицу и достал вино, но оно сильно щипало, поэтому он выпил все сам. Мы оба очень не любим, когда что-то пропадает.
— Ты пришел в себя? — спросил он.
Я кивнул и позволил ему одному все рассказывать.
— Я проверил семью Камилла. Дочь сенатора отправилась в путешествие. Есть два сына, один служит в армии в Германии, другой протирает задницу за письменным столом утирает нос губернатору в Бетике. Твоя маленькая подружка — это дочь брата сенатора, результат замалчиваемой неосторожности. Он не женат, и не спрашивай меня, как ему это сходит с рук! Судя по данным цензора, Сосию зарегистрировали как ребенка одной из его рабынь, признанную, а потом удочеренную им. Может, ее отец просто — приличный, порядочный человек, или ее мать была более важной женщиной, и он не может назвать ее имя.
— Я с ним встречался, — выдавил я из себя нечто, напоминающее писк цыпленка. — Тонкогубый. Почему он не в Сенате, как брат?
— Обычная история. Семья смогла купить только одно место в политике. Старший сын надел пурпур, младший вместо этого отправился в торговлю. Как повезло торговле! Это правда, что ты потерял девчонку?
Я попытался улыбнуться. Это не получилось. Петроний поморщился.
— Она не потерялась. Пошли со мной, Петроний. Если она там, где я думаю, то мне требуется твоя поддержка…
Сосия Камиллина оказалась там, где я думал.
Глава 10
Мы с Петронием нырнули в выложенный плитками проход между лавками ножовщика и продавца сыров. Затем мы завернули на лестницу перед элегантной квартирой на первом этаже, которую занимал не работающий бывший раб. Этому бывшему рабу принадлежал весь дом и еще несколько других домов (они знают, как надо жить). Мы вошли в серое здание цвета графита, расположенное за Эмпорием, недалеко от реки, но не очень близко, поэтому его не заливало весной, во время наводнений. Это был бедный район, но, тем не менее, все колонны окутывали вьющиеся растения, откормленные кошки с лоснящейся шерстью спали на подоконниках, на балконах пестрели цветы, здесь рос лук, и кто-то всегда подметал ступени. Мне это место казалось дружелюбным, впрочем, я давно его знаю.
На площадке второго этажа мы постучались в красную дверь, выкрашенную под цвет кирпичей. После оказанного на меня давления я красил ее самолично. Нас впустил крошечный субтильный раб, похожий на призрака. Мы сами нашли дорогу в комнату, где, как я знал, должны все находиться.
— Ха! Сегодня все винные лавки закрылись слишком рано?
— Здравствуй, мама, — сказал я.
* * *
Мать в кухне и следила за работой повара. Это означало, что повара нигде не было видно, но мама что-то быстро делала с овощем, орудуя острым ножом. Она трудится по принципу: если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, сделай это сама. Везде вокруг крутились чужие дети, втыкавшие стальные челюсти в караваи хлеба или фрукты. Когда мы появились, Сосия Камиллина сидела за кухонным столом и наслаждалась куском пирога с корицей, причем так его смаковала, что я понял: она освоилась и чувствует себя как дома. Так случается со всеми людьми, попадающими в дом моих родителей.
Где мой отец? Лучше не спрашивать. Когда мне было семь лет, он отправился поиграть в шашки. Вероятно, игра очень растянулась, потому что он до сих пор не вернулся домой.
Я поцеловал маму в щечку как хороший сын, надеясь, что Сосия это заметит, но за вместо этого за все мои старания удостоился удара дуршлагом.
Мама поприветствовала Петрония улыбкой. (Такой хороший мальчик, такая трудолюбивая жена, такая постоянная, хорошо оплачиваемая работа!) Здесь же на кухне сидела моя старшая сестра Викторина. Мы с Петронием вели себя тихо и старались не привлекать внимания сестры. Я испугался, что Викторина назовет меня Бедой перед Сосией. Я не мог представить, почему Петроний выглядит таким обеспокоенным.
— Привет, Беда, — поздоровалась сестра, потом повернулась к Петронию. — Привет, Примула!
Теперь она замужем за штукатуром, но кое в чем она совсем не изменилась с тех пор, как терроризировала Тринадцатый квартал, когда мы были детьми. Петроний в те дни не был знаком ни с кем другим из нашей семьи. Однако, как и все на много миль вокруг, знал нашу Викторину.
— Как мой любимый племянник? — спросил я, поскольку сестра держала на руках своего последнего отпрыска с плоским лицом и толстым приплюснутым носом. Более того, это лицо было сморщенным, а глаза слезились, как у столетнего старика. Он уставился на меня через ее плечо с явным презрением. Он едва ли начал ползать, но уже чувствовал обман.
Викторина устало посмотрела на меня. Она знала, что мое сердце отдано Марции, нашей трехлетней племяннице.
Моя мать успокоила Петрония миской изюма и тем временем вытягивала из него важные факты его отношений с женой. Мне удалось схватить кусок дыни, но отпрыск Викторины ухватился за него с другой стороны. У него оказалась хватка борца с Либурнии. Мы боролись несколько минут, затем я отдал кусок более сильному противнику. Мерзавец бросил дыню на пол.
Сосия наблюдала за всем происходящим огромными серьезными глазами. Предполагаю, что ей никогда не доводилось бывать в местах, где столько всего происходит одновременно, царит такой хаос, но все делается добродушно.
— Привет, Фалько!
— Привет, Сосия!
Я улыбнулся и оглядел ее так, словно желал покрыть ее золотом. Мать с сестрой обменялись насмешливыми взглядами. Я поставил ногу на скамью рядом с Сосией и принялся смотреть на нее с похотливой улыбкой сверху вниз, пока на это не обратила внимания мать.
— Убери ногу с моей скамьи!
Я снял ногу со скамьи.
— Маленькая богиня, нам с тобой нужно поговорить с глазу на глаз.
— Все, что ты хочешь обсудить, можно обсудить прямо здесь, — заявила мне мать.
Улыбавшийся больше, чем нужно, по моему мнению, Петроний Лонг сел за стол и опустил подбородок на руки. Он ждал, когда я начну. Все знали, что я не представляю, что хочу сказать.
Недовольные и возмущенные женщины несколько раз в прошлом описывали мне выражение лица моей матери, когда ей доводилось встречать накрашенных и надушенных женщин у меня в квартире. Иногда я их больше никогда не видел. Следует отдать должное моей матери: среди покоренных мною дам встречались большие ошибки.
— Что здесь происходит? — спросила моя мать у Сосии, когда обнаружила ее в моей квартире во время моей вынужденной беседы с Пертинаксом.
— Доброе утро, — ответила Сосия.
Моя мать фыркнула, отправилась в спальню, отбросила в сторону занавеску и оценила ситуацию со спальными местами.
— Так! Я вижу, что происходит. Клиентка?
— Мне не позволено говорить, — ответила Сосия.
Моя мать ответила, что она сама будет решать, что позволено. Затем она усадила Сосию за стол и дала ей поесть. У мамы свои методы. Очень скоро она вытянула из девушки всю историю. Моя мать спросила у Сосии, что подумает благородная мама девушки, а Сосия неблагоразумно ответила, что никакой благородной мамы у нее нет. Моя собственная дорогая родительница пришла в ужас.
— Так! Ты можешь пойти со мной, — объявила мама.
Сосия пробормотала, что чувствует себя здесь в безопасности. Мама посмотрела на нее своим особенным взглядом. Сосия отправилась с ней.
* * *
А теперь Петроний, будь он благословен, встрял, чтобы мне помочь.
— Пришла пора отвести тебя домой, юная госпожа! — сказал он.
Я рассказал Сосии, что меня нанял сенатор. Из этого она сделала слишком много выводов.
— Значит, он все объяснил? Я думала, что дядя Децим проявляет слишком большую осторожность…
Она замолчала, затем бросила на меня обвиняющий взгляд.
— Ты не понимаешь, о чем я говорю!
— Ну, тогда объясни мне, — мягко предложил я.
Она была очень сильно обеспокоена. Ее огромные глаза повернулась к моей матери. Люди всегда доверяют моей матери.
— Я не знаю, что делать! — умоляющим тоном произнесла Сосия.
— Не смотри на меня. Я никогда не вмешиваюсь, — ответила моя мать раздраженно.
Я хмыкнул. Мама меня проигнорировала, но даже Петроний не смог сдержаться и подавился смешком.
— О, расскажи ему про свою банковскую ячейку, дитя. Самое худшее, что он может сделать, — это украсть содержимое, — сказала моя мать.
Какое доверие! Наверное, ее нельзя винить. Мой старший брат Фест каким-то странным образом стал героем войны. Я не могу с ним соперничать.
— Дядя Децим прячет что-то важное в моей банковской ячейке на Форуме, — виновато пробормотала Сосия. — Я — единственный человек, который знает шифр, открывающий ячейку. Те мужчины пытались затащить меня туда.
* * *
Я смотрел на нее, не мигая, и заставлял ее страдать. В конце я повернулся к Петронию.
— Что ты об этом думаешь? — спросил я, не сомневаясь в ответе.
— Нужно туда сходить и взглянуть!
Сосия Камиллина вела себя очень застенчиво и робко, правда, предупредила, что нам потребуется тележка для перевоза добра.
Глава 11
На Форуме было прохладнее и тише, чем в предыдущий раз, когда я там появлялся и встретил Сосию, в особенности на длинной колоннаде, где менялы предлагали услуги нервным клиентам. Семья Камилла осуществляла банковские операции с помощью улыбающегося вифинца, который сделал нездоровый вклад в жир на теле. Сосия прошептала цифры для идентификации своей собственности, и тип со счастливым лицом открыл ее ячейку. Она арендовала большой ящик, хотя то, что оказалось внутри, было относительно небольшим.
Крышка свалилась. Сосия Камиллина шагнула в сторону. Мы с Петронием заглянули внутрь. Ее сбережения оказались даже менее впечатляющими, чем мои. Ее дядя арендовал для нее этот ящик, что было разумным, но ей принадлежало не более десяти золотых монет и нескольких приличных ювелирных украшений, для ношения которых, по мнению ее тети, она еще не доросла. (У каждого своя точка зрения. Для меня она была достаточно взрослой.)
Интересовавший нас предмет был завернут в фетр, а потом обвязан веревками. Поскольку банкир наблюдал за нами с типичным для вифинцев любопытством, Петроний помог мне вытащить предмет, не разворачивая. Он оказался невероятно тяжелым. Нам повезло, что мы арендовали ручную тележку у мужа моей сестры, штукатура, который, как обычно, сидел без работы. (Мой зять сидел без работы не потому, что все стены Рима вдруг стали ровными и гладкими, а потому, что жители Рима предпочитают смотреть на голые плиты, чем нанимать эту наглую, ленивую свинью). Шатаясь, мы пошли прочь. Наша тележка скрипела под весом груза. Петроний взвалил на меня большую часть работы.
— Не урони его на себя! — воскликнула Сосия, что было мило с ее стороны.
Петроний ей подмигнул.
— Он не такой хрупкий, как кажется. Он тайно тренируется с гирями и поднимает тяжести в зале, где тренируются гладиаторы. Давай, напряги мускулы…
— Когда-нибудь ты должен мне рассказать, почему моя сестра Викторина называет тебя Примулой, — выдохнул я в ответ.
Он ничего не сказал, но покраснел. Клянусь, что покраснел.
К счастью, Рим — современный город, который трудно чем-то удивить. Двое мужчин с девушкой и тележкой могут запросто заползти в таверну, не вызывая интереса и комментариев. Мы прошли на затененную боковую улочку и оттуда пробрались в таверну. Я выбрал столик в темном углу, Петроний купил несколько горячих пирожков. Нам обоим пришлось приложить усилия, чтобы поднять предмет на стол. Опустили мы его с глухим звуком. Потом мы осторожно сдвинули фетр.
— Царство Гадеса! — выдохнул Петроний.
Я понял, почему дядя Децим не хочет, чтобы новость куда-то просочилась.
* * *
Сосия Камилла не представляла, что это такое. Мы с Петронием знали, и нам стало немного не по себе, нас даже стало подташнивать. Однако Петроний, обладающий железным желудком, вонзил зубы в овощной пирог. Это было лучше, чем предаваться неприятным воспоминаниям, и я тоже принялся за еду. Мой пирог оказался с кроликом, куриной печенкой и думаю, можжевельником. Неплохо. Еще нам подали тарелку с кусочками свинины. Мы отдали ее Сосии.
— Та глухая дыра на таможенном посту в стороне от всего, — в ужасе вспоминал Петроний. — В устье Сабрины, не на нашей стороне границы. Нечего делать, кроме как считать кораклы, плывущие в тумане, и следить, не сделают ли вылазку через реку маленькие смуглые человечки. О Боже, Фалько, ты помнишь дождь?
Я помнил дождь. Долгий, монотонный дождь в Британии незабываем.
— Фалько, что это? — прошипела Сосия.
— Сосия Камиллина, это серебряный слиток! — сообщила я, наслаждаясь драматизмом момента.
Глава 12
Он весил двести фунтов. Однажды я попытался объяснить знакомой, насколько он был тяжелым.
— Не намного тяжелее тебя. Ты — высокая девушка и довольно крепкая. Жениху удастся тебя поднять, перенести через порог и не успеть прекратить улыбаться глупой улыбкой…
Девушка, которую я оскорблял, впечатляла внешне, хотя ее ни в коей мере нельзя было назвать толстой. Это звучало грубо, но если вы когда-то пытались взять на руки хорошо упитанную молодую даму, то оцените мое сравнение и признаете его точным. На самом деле после того как мы поднимали этот серый кусок, не зная, что делаем, у нас обоих заныли спины.
Мы с Петронием смотрели на серебряный слиток, как на старого друга, причем не совсем приятного друга.
— Что это такое? — спросила Сосия. Я ответил.
Я объяснил, что, когда ценная руда проходит очистку, расплавленный металл попадает в длинный желоб, из которого стекает в расположенные по обеим сторонам формы для образования брусков. По виду это напоминает свиноматку с присосавшимися к ней с двух сторон поросятами. Петроний скептически смотрел на меня, пока я все это объяснял. Временами Петроний удивляется моим познаниям.
Этот ценный предмет представлял собой длинный тусклый кусок металла, длиной примерно двадцать дюймов, шириной пять и высотой четыре, немного скошенный или обрезанный по бокам. С одного конца было выгравировано имя императора и дата. Человек, который попробует нести слиток, вскоре согнется пополам. Двадцать четыре ковша расплавленной руды для каждой стандартной формы, не очень тяжело заливать, но трудно украсть. Однако, если сможешь, оно того стоит. Мендипская руда дает удивительно высокий процент серебра — в среднем сто тридцать унций на тонну. Я задумался, извлекли ли уже серебро из лежавшей на столе штуковины. Серебро очень редко встречается в чистом виде, обычно в сочетании с другими металлами. Руды у серебра и свинца одни и те же. Руда помещается в разделительную печь, где происходит отделение благородного металла от свинца.
Правительство объявило монополию на ценную руду. Откуда бы ни поступил этот металл, он принадлежал монетному двору. Мы перевернули его и стали искать какое-нибудь клеймо.
Слиток на самом деле оказался клеймен — Т КЛ ТРИФ. Какая-то новая таинственное чушь, причем клеймо стояло не один раз, а целых четыре! Затем мы обнаружили еще одно клеймо — EX ARG BRIT, старую знакомую метку, которую мы одновременно надеялись и боялись найти. Петроний застонал.
— Британия. То самое клеймо!
Мы оба почувствовали себя неуютно.
— Лучше уходите, — предложил Петроний. — Мне это убрать? Наше обычное место? Ты заберешь девушку?
Я кивнул.
— Фалько, что происходит? — взволнованно спросила Сосия.
— Он уберет серебряный слиток в одно неприятное место, куда преступники навряд ли полезут, — сказал я. — Они слишком нежные. А ты отправляйся домой. Мне нужно срочно поговорить с твоим дядей Децимом!
Глава 13
Я доставил Сосию домой в паланкине. Там хватила места для двоих. Моя спутница была миниатюрной девушкой, а я так редко мог позволить себе нормально питаться, что носильщики позволили нам обоим забраться внутрь. Я долго молчал. Девушка же, решив, что я не нее больше не сержусь, принялась болтать. Она была слишком молода, чтобы молча сидеть после испытанного удивления. Я слушал, не вникая.
Меня начинало раздражать семейство Камиллов. Ничто из сказанного каждым из них не было или полной правдой, если только они не говорили то, что я предпочел бы не слышать. Мой контракт без указания даты его окончания поставил меня в тупик.
— Почему ты такой тихий? — внезапно спросила Сосия. — Ты хотел бы украсть серебряный слиток?
Я ничего не сказал. Естественно, я думал, как бы организовать подобное.
— А у тебя когда-нибудь бывают деньги, Фалько?
— Иногда.
— И что ты с ними делаешь?
Я ответил, что плачу арендную плату.
— Понятно, — ответила девушка с серьезным видом.
Сосия обеспокоено смотрела на меня своими огромными глазами. Грустное выражение ее лица сменилось укоризненным. Малышке явно не нравилась моя агрессивность. Я хотел заметить, что ей не стоит так смотреть на мужчин, с которыми остаешься с глазу на глаз. Правда, я ничего не сказал, потому что предвидел трудности с объяснениями.
— Дидий Фалько, что ты на самом деле делаешь с деньгами?
— Отдаю матери.
Мой тон породил сомнения в душе Сосии о правдивости моих слов. Люблю, чтобы женщина пребывала в сомнениях.
Тогда я считал, что мужчина никогда не должен говорить женщинам, куда девает деньги. (Конечно, в те дни я еще не был женат, и моя жена еще не решила вопрос с деньгами.)
На самом деле в те дни я иногда платил арендную плату (чаще не платил). Затем после вычета расходов, которых не избежать, я отдавал половину маме. Остальное я отдавал одной молодой женщине, на которой мой брат не нашел времени жениться до того, как его убили в Иудее, и ребенку, о существовании которого брат так и не узнал. Но все это не касалось племянницы сенатора.
* * *
Я сдал девушку на руки ее тети, которая явно испытала от этого облегчение. Жены сенаторов, по моему мнению, делятся на три типа: те, которые спят с сенаторами, но не с теми сенаторами, которые бы на них женились; те, которые спят с гладиаторами; и наконец, те немногие, что сидят дома. До Веспасиана первые два типа встречались повсеместно. Потом их стало еще больше, потому что, когда Веспасиан стал императором и находился со старшим сыном на Востоке, его младший сын Домициан жил в Риме. Домициан считал, что стать Цезарем означает совращать сенаторских жен.
Итак, жена Децима Камилла относилась к третьему типу — она оставалась дома. Я это твердо знал, в противном случае я бы о ней слышал. Камилла оказалась именно такой, как я ожидал: ухоженной, напряженной чопорной, с идеальными манерами и бренчащими золотыми украшениями. Она была женщиной, о которой хорошо заботятся и которая сама за собой превосходно ухаживает. Вначале взгляд ее внимательных черных глаз метнулся на Сосию, затем — на меня. Она была как раз той разумной матроной, которую повезет найти холостяку, если он вдруг окажется с незаконнорожденным ребенком на руках. Я понял, почему ловкий Публий поместил Сосию сюда.
Юлия Юста, жена сенатора, приняла потерянную
племянницу без суеты и суматохи. Она задаст вопросы позднее, после того как в доме все успокоится. Это была благовоспитанная, достойная женщина, которой не повезло выйти замуж за человека, занимающегося нелегальной валютой. И человек этот оказался столь неумел и глуп, что нанимает своего информатора для изобличения себя же.
Я проследовал в библиотеку и без объявления ворвался к Дециму.
— Вот уж удивили так удивили! Сенатор, который коллекционирует не грязный греческий антиквариат, а слитки с художественной правительственной гравировкой. У вас и так достаточно проблем, господин, так зачем же еще нанимать меня?
Мгновение он не знал, куда девать глаза, затем, похоже, взял себя в руки. Предполагаю, что политик привыкает к тому, что люди называют его лжецом.
— Ты ступил на опасную тропу, Фалько. Когда ты успокоишься…
Я был абсолютно спокоен. В ярости, но прозрачный как стекло.
— Сенатор, серебряный слиток явно украден. Я не считаю вас вором. Во-первых, если бы вы потрудились украсть британское серебро, то получше бы позаботились о вашей добыче, — хмыкнул я. — Как вы с этим связаны?
— Официально, — сказал он, затем передумал. Это было хорошо, потому что я ему не поверил. — Полуофициально.
Я все равно ему не поверил и подавил смешок.
— И полукоррумпированно? — спросил я.
Он отмахнулся от моей прямоты.
— Фалько, это должно остаться конфиденциальным.
Самоуверенность и наглость этой семьи мне совсем не нравились.
— Слиток обнаружили на улице после драки и отнесли к магистрату. Я знаю претора этого квартала. Мы с ним вместе обедаем, а его племянник обеспечил должность моему сыну. Естественно, что мы обсуждали слиток.
— А-а, просто среди друзей!
Что бы Децим Камилл ни сделал, все равно я вел себя неприлично грубо, разговаривая с человеком его ранга. Его терпение меня удивило. Я внимательно наблюдал за сенатором, он точно также внимательно наблюдал за мной. Я подозревал, что он попросил бы меня об услуге, если бы относился к другому сословию.
— Моя дочь Елена повезла письмо в Британию, у нас там есть родственники. Мой родственник занимает должность прокуратора, отвечающего за финансы в Британии. Я написал ему…
— Все остается в семье! Я понимаю, — я снова фыркнул.
Я забыл, насколько тесны у этих людей семейные связи, как они все делают внутри кланов. Надежные друзья отправлены во все провинции от Палестины до Гераклеи.
— Фалько, пожалуйста! Гай, мой родственник, сделал проверку и обнаружил, что с британских рудников постоянно пропадает товар, по крайней мере, начиная с года четырех императоров. Это воровство в большом масштабе, Фалько! После того как мы это услышали, захотели, чтобы наши доказательства хранились в надежном месте. Мой друг претор попросил у меня помощи. Я сожалею, что использование банковской ячейки Сосии Камиллины было моей собственной «блестящей» идеей.
Я рассказал, куда мы перепрятали слиток. Сенатору стало дурно — Петроний увез серебряный слиток в прачечную Лении (мы собрались хранить его в чане с мочой для отбеливания).
* * *
Сенатор никак не прокомментировал ни то, что мы заполучили его слиток, ни вонючее место, выбранное для его укрытия. Он предложил мне гораздо более опасное дело.
— Ты занят в настоящий момент?
Я никогда не был занят. Я не очень хороший информатор.
— Послушай, Фалько, а ты не согласишься нам помочь? Мы не можем доверять официальной системе. Кто-то, вероятно, уже проболтался.
— А как насчет вашего дома? — перебил я.
— Я ни разу не упоминал здесь слиток. Я отвел Сосию в банк, не объясняя зачем, после чего претил ей об этом кому-либо рассказывать. — Децим Камилл сделал паузу. — Она — хороший ребенок. Я кивнул с унылым видом.
— Фалько, я признаю, мы были не осторожны до того, как осознали возможные последствия и все, что тут может быть замешано, но, если из управления претора идет утечка информации, мы больше не имеем права рисковать. Ты, как мне кажется, очень подходишь для этой работы — лицо полуофициальное и полукоррумпированное…
Вот ведь старый негодник! Какой сарказм! Я понял, что этот человек обладает тонким чувством юмора и весьма опасен. Сенатор был гораздо умнее и проницательнее, чем казалось на первый взгляд, и определенно знал, что меня беспокоит. Он провел рукой по ежику волос, затем снова заговорил. Похоже, чувствовал он себя неуютно.
— Сегодня у меня состоялась встреча во дворце. Больше я ничего сказать не могу, но для восстановления империи после Нерона и гражданской войны эти слитки просто необходимы казначейству. Во время наших бесед всплывало твое имя. Как я понял, у тебя был брат…
У меня на самом деле изменилось выражение лица — теперь оно не предвещало собеседнику ничего хорошего.
— Прости меня! — воскликнул он обеспокоено так, как иногда это делают аристократы, правда, я никогда не верил им полностью. Сенатор извинился передо мной, но я проигнорировал извинение. Никому не позволено обсуждать моего брата.
— Ну, ты хочешь получить эту работу? Мой начальник готов платить по твоей обычной таксе. Как я понял, ты ее несколько завысил для меня! Если же ты найдешь украденного серебра, то можешь ожидать высокой премии.
— Мне хотелось бы встретиться с вашим начальником! — безапелляционно заявил я. — Наши с ним представления о премии могут не совпадать.
— Представление моего начальника о премии — это самое большее, что ты получишь! — проревел в ответ Децим Камилл.
Я знал, что это означает. Мне предстояло работать на какой-то задирающий носы и воображающий из себя невесть что секретариат из выскочек-писарей, которые при малейшей возможности урежут мой гонорар, но я все равно согласился на работу. Наверное, у меня помутился рассудок. Тем не менее сенатор приходился дядей Сосии, и мне было жаль его жену.
* * *
В этом деле было что-то странное.
— Кстати, господин, это вы отправили за мной хитрую рысь по имени Атий Пертинакс?
Сенатор выглядел раздраженным.
— Нет!
— У него есть связи с вашей семьей?
— Нет, — нетерпеливо ответил он, затем исправился, — есть небольшая связь.
Так, тут все не просто. Сенатор смотрел на меня с непроницаемым каменным лицом.
— У него есть деловые связи с моим братом.
— Вы сказали брату, что Сосия находится у меня?
— У меня не было возможности.
— Кто-то сказал. Он попросил Пертинакса меня арестовать.
Сенатор улыбнулся.
— Я прошу прощения. Мой брат очень сильно беспокоился из-за дочери. Он будет рад, что ты привел ее домой.
Децим Камилл очень ловко закончил разговор и вышел из щекотливой ситуации. Петроний Лонг говорил, что мои приметы известны, поэтому эдил вполне мог меня разыскать. Пертинакс с Публием предположили, что я — негодяй и преступник. Старший брат Децим решил не упоминать младшему брату Публию, что нанял меня на работу. Я не удивился. Я сам из большой семьи, и Фест многое забывал мне сказать.
Глава 14
Эта утечка серебра была очень хитро придумана! Британские рудники, которые в дни моего пребывания в Британии охранялись армией, очевидно, теперь имеют множество отводов. Система напоминает нелегальные трубы, которые отдельные граждане подсоединяют по всей протяженности Клавдиева акведука. Блестящие куски серебра плывут в Рим, словно хрустальные голубые воды источника. Ах, как я сожалел, что мы с Петронием ничего подобного не сделали десять лет назад.
Проходя помещение для задержанных у Капенских ворот, я заглянул внутрь. Мне хотелось посмотреть на тех арестованных бездельников, которые утром шпионили за сенатором из таверны. Мне не повезло, Пертинакс отпустил их. Оказалось, что, по мнению Пертинакса, не существовало доказательств для удерживания их под стражей.
Я посмотрел на стражника и вздохнул, как человек, знающий, как устроен этот мир.
— Замечательно! — сказал я. — А он хоть удосужился их допросить?
— Сказал несколько дружеских слов.
— Отлично! И как тебе вообще этот Пертинакс?
— Всезнайка! — пожаловался стражник. Мы оба знали этот тип людей и обменялись полными боли взглядами.
— Он просто некомпетентен, или ты считаешь, что тут что-то еще?
— Я сказал бы, что он мне не нравится, но я это могу сказать о них обо всех.
Я улыбнулся.
— Спасибо. Послушай, а что говорят про слиток правительственного серебра? — спросил я, решив уговорить его с помощью лести. — Это неофициально официально, если ты понимаешь, что я имею в виду.
Это была шутка. Я сам не понимал, что несу.
Стражник заявил, что получил строгий приказ ничего не рассказывать. Я протянул ему несколько монет (этот способ всегда срабатывает).
— На прошлой неделе его принес ломовой извозчик, надеялся на награду. Сам магистрат спускался вниз, чтобы посмотреть. Извозчик живет по адресу… Еще немного магического звона монет. — С другого берега Тибра, в хижине у самой реки, рядом с мостом Сульпиция, там еще есть поворот…
Я нашел хижину, но не извозчика. Три дня назад его лошадь в темноте натолкнулась на серебряный слиток, а его самого вытащили из Тибра два рыбака, удивших на плоту. Они отвезли его на остров на Тибре, в хоспис при храме Эскулапия. Большинство пациентов хосписа умирают, но это не касалось извозчика: он итак был мертв.
Перед тем как покинуть остров, я облокотился на парапет старого моста Фабриция и глубоко задумался. Ко мне кто-то очень осторожно приблизился. Я всегда настораживаюсь при таком приближении.
— Ты — Фалько?
— Кто это хочет знать, госпожа?
— Меня зовут Астия. Ты спрашивал про утонувшего мужчину?
Я догадался, что Астия была подружкой извозчика. Она оказалась худой, маленькой, сморщенной женщиной с усталым обветренным лицом. Лишь взглянув на эту замухрышку, становилось понятно, что живет она на берегу реки. Все они выглядят одинаково. Лучше сразу же определиться, с кем говоришь.
— Ты — его женщина? — прямо спросил я.
Астия горько рассмеялась.
— Больше не его! Ты из преторианцев? — выплюнула она.
Я постарался сдержать удивление.
— Жизнь слишком коротка, — сказал я и стал ждать. Это было единственное, что я мог сделать, поскольку совершенно не представлял, чего жду. Казалось, женщина раздумывает, можно ли мне доверять, затем, через некоторое время она мне все выдала.
— Эти люди приходили сюда после случившегося. Он сам их нисколько не волновал, выведывали информацию.
— Ты им что-то сказала?
— А ты как думаешь? Когда у него водились деньги, он был добр ко мне… Я ходила в храм, сама хоронила его. Фалько, может, его и нашли в реке, но я точно знаю: он не утонул. В храме мне сказали, что он, вероятно, рухнул в воду, поскольку был пьян. Но когда он напивался, он обычно ложился в свою повозку, и лошадь сама привозила его домой.
Я подумал, что, вероятно, он напивался слишком часто, но такт не позволил мне это уточнить.
— А повозку нашли?
— Она стояла на Бычьем рынке. Лошади только не было.
— М-м-м. А что хотели стражники, госпожа?
— Он нашел что-то ценное. Он не хотел говорить что, но это его напугало. Вместо того чтобы продать находку, он отнес ее ближайший стражникам. Стражники знали, что он это нашел. Они не знали, что он сделал с находкой.
Значит, юную Сосию выкрали не стражники. В любом случае это было маловероятно: от них малышка с такой легкостью не сбежала бы. Она вполне могла бы и не сбежать.
— Мне придется с ними поговорить. Ты случайно не слышала их имен?
Астия знала очень мало. Их капитана, как она сказала, звали Юлий Фронтин. Как у члена элитного полка, у него, несомненно, было целых три имени, но мне хватит и двух, чтобы его разыскать. Впервые в жизни я добровольно собирался на встречу с преторианской гвардией императора.
Глава 15
Я медленно шел к лагерю преторианской гвардии, который располагался в дальней части города. Добравшись туда, я ожидал получить тяжелым сапогом (которым меня вполне могли раскрошить, как яичную скорлупу) от какого-нибудь гвардейца.
Я сразу же узнал Фронтина. Нагрудник кирасы у него был сделан из эмали, а ремень украшала серебряная пряжка, однако он когда-то ходил в школу и изучал алфавит, сидя на одной скамье под навесом в углу нашей улицы рядом с курчавым негодником по имени Дидий Фест. Другими словами, для Юлия Фронтина я был младшим братом национального героя. Поскольку он больше не мог отправиться в таверну вместе с Фестом и напоить его допьяна (Фест лежал мертвым в Иудейской пустыне), он взял туда меня.
Таверна, в которую мы пришли, оказалась удивительно приличной и чистой. Она не бросалась в глаза, потому что располагалась в северном углу Рима, рядом с Виминальскими воротами. В ней сидели солдаты из городских полков, и дело у хозяев явно шло хорошо. Еды, впрочем, не было, женщин тоже. Выпивка предлагалась всех сортов, как теплая, так и охлажденная, со специями и без, дороже обычного, хотя мне и не разрешили за нее платить. Сам по себе я никогда бы не попал внутрь: мне не позволили бы занести и одну ногу, но поскольку я пришел вместе с Фронтином, на меня никто не покосился.
Мы устроились среди высоких крепких мужчин, которые явно подслушивали, но не произносили ни слова. Фронтин, вероятно, их знал, они же, похоже, были в курсе того, что он собирается сказать, но чтобы заставить моего спутника это сказать, потребовалось время. Когда такой человек приглашает вас выпить, понятно, что перед тем, как начать говорить о деле, необходимо соблюсти церемонии. Наша церемония состояла в том, чтобы оказать мне честь и доставить ему удовольствие. Поэтому мы обсуждали героев и их героизм, пока не напились до сентиментальных слез.
После того как мы поговорили о Фесте и до того, как я отрубился, я смог задать несколько вопросов. Фронтину удалось на них ответить еще до того, как он отправил меня домой в фургоне строителя вместе с грузом плиток.
— Почему он это сделал? — все еще продолжал задумчиво рассуждать Фронтин. — Первым полез через городскую стену Бетеля и поэтому первым погиб… Больше он никогда ничего не сможет сделать, только его могильная плита будет становиться все белее под солнцем пустыни. Сумасшедший!
— Хотел получить все наличные, перечисляемые в фонд помощи семьям погибших. Не мог терпеть всех этих вычетов из жалованья, не хотел терять эти деньги. Итак, брат-патриот, за упокой твоей души!
После смерти Феста прошло два года. Он погиб в конце галилейской кампании Веспасиана, хотя в городе с тех пор произошло столько событий, что казалось, будто прошло гораздо больше времени. Тем не менее я не мог поверить, что его нет. В некотором смысле я никогда этого не пойму. Я все еще жду гонца с сообщением, что Фест высадился в Остии с просьбой приехать туда за ним на повозке и привезти несколько бурдюков с вином, потому что у него закончились деньги, а он на корабле познакомился с несколькими ребятами, которых хотел бы угостить… Вероятно, я буду ждать этого послания всю жизнь.
Было приятно произносить его имя, но я уже получил достаточно. Возможно, это отразилось у меня на лице. Я тоже достаточно выпил, и вероятно, создавалось впечатление, что меня стошнит. Несмотря на это, Фронтин снова наполнил наши кубки, затем склонился ко мне, очевидно готовый к разговору.
— Фалько! Фалько — это имя тебя дали родители?
— Марк, — признался я. — Все точно так же, как у Феста, и это должен был знать Фронтин.
— Марк! О, Юпитер, я буду называть тебя Фалько. Как ты впутался в это дело, Фалько?
— Назначена награда за серебряные слитки.
— Нет, парень, не назначена! — он внезапно заговорил покровительственным тоном, словно отец. — Это политическое дело. Оставь его гвардии. Фест сказал бы это тебе, но его здесь нет, поэтому послушай меня. Послушай, и я все объясню. После того как на троне менее чем за двенадцать месяцев сменились четыре человека, Веспасиан кажется приятным вариантом. Но на него продолжают охотиться несколько типов. Ты знаешь, как это бывает. Когда у тебя увольнительная, они подходят и что-то тебе предлагают. Маленькие человечки, у которых для продажи есть нечто большое…
— Серебряные слитки! — Все встало на место. — Ex Argentiis Britaniae. Финансирование политического заговора. И кто За этим стоит?
— Именно это и хочет знать гвардия, — с мрачным видом сообщил мне Фронтин.
Я заметил движение мужчин вокруг него.
— Верность императору, — сказал я осторожно, не глядя ни на кого из них.
— Если хочешь… — Юлий Фронтин рассмеялся.
Они гордятся верностью. В свое время преторианская гвардия физически поднимала императоров на трон. Они таким образом короновали Клавдия, а в год четырех императоров даже такой бритый олух, как Отон, смог захватить империю после того, как заручился поддержкой преторианской гвардии. Но для их подкупа потребуется частный монетный двор. Кто-то не испугался британской погоды, чтобы это организовать.
— Когда ко мне подошли, я потребовал доказательств, — сообщил Фронтин. — Я тянул время. Они появились через два дня с бруском, на котором стояло клеймо. Мои ребята преследовали долгоносиков назад в их логово, когда те поспешно разбежались и сбросили добычу.
Поскольку я уже поднимал слиток, то понимал, почему они это сделали.
— Мы их потеряли, а когда отправились назад, то не нашли и слитка. Мы отправили шпионов в дешевые кабаки на берегу Тибра и вскоре услышали, что какой-то извозчик хвастается, что нашел некую штуку, за которую получит золотое спасибо от самого императора. Кто-то менее нежный, чем преторианцы, очевидно тоже про него услышал.
Фронтин посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я почувствовал холод в груди под нижней туникой. Он был абсолютно трезв.
— Веспасиан не дурак, Фалько. Возможно, он выпрыгнул из ниоткуда, но он все правильно рассчитал и действовал умно. Он полагался на сообразительность и инстинкты. Мы решили, что он в курсе. А теперь появляешься ты! Ты работаешь информатором на дворец, луч света? Ты выполняешь специальное задание, прикрывая Веспасиана на тот случай, если преторианцы его подведут?
— Насколько я знаю, нет, Юлий…
Я начал понимать, сколько же всего я на самом деле не знаю.
Глава 16
На следующий день я снова отправился к сенатору. Я смог добраться до него после вечера с Фронтином лишь во второй половине дня, впрочем. Детали моего утра мы, пожалуй, опустим. Скажу лишь, что большую часть утра я провел в постели, мучаясь повторяющимися болезненными спазмами. Когда я появился в доме сенатора, то нашел его страдающим от послеобеденных болей в желудке. У меня тоже болел живот, хотя я не мог смотреть на еду и не обедал.
Я ворвался в дом. Сенатор определил мое настроение по внезапности моего появления. Сегодня я выскочил, как негодяй, из пьесы какого-то драматурга, злобно фыркая, кудахча и желая поделиться своими злыми умыслами со зрителями. Камилл Вер был достаточно мил, отложил в сторону бумаги, с которыми работал, и позволил мне выпустить цветную пену.
— Никаких серебряных слитков, но я натолкнулся на заговор! Вы меня обманули, господин. Вы лжете гораздо больше, чем больная шлюха в храме Исиды, и с гораздо более гнусной целью, но рассказанной точно, ловко и умело.
— Фалько! Можно мне объяснить?
Нет, он по крайней мере задолжал мне разрешение на бурю эмоций. Мои ярость и возбуждение очаровали его.
— Избавьте меня от этого, сенатор. Я не касаюсь политической работы. Я не считаю риск стоящим. Моя мать уже подарила одного сына Веспасиану в Галилее. Я — единственный из оставшихся у нее, и я очень хочу жить дальше!
Камилл Вер выглядел обиженным и раздраженным. Он считал, что я недооцениваю его политические доводы. Поскольку я считал, что это делает он, мы выглядели как два шашиста после пата — оба в безвыходном положении.
— Ты хочешь, чтобы Веспасиана убили? О, Фалько! Ты хочешь, чтобы страну снова раздирала гражданская война? Ты хочешь краха империи? Больше войн и боев, больше неуверенности, больше пролитой римской крови на римских улицах?
— Людям платят немалые деньги за защиту императора, — выпалил я. — Мне платят ложью и обещаниями.
Внезапно я потерял терпение. Здесь для меня не было будущего. Меня обманули, попытались использовать. Более умные люди, чем этот сенатор, принимали меня за деревенского клоуна, фигляра и обнаруживали затем свою ошибку. Я немного успокоился и закончил смехотворное театральное представление.
— Веспасиан не любит информаторов, а я не люблю императоров. Я думал, что мне нравитесь вы, но любая килька, оказавшаяся не в своих водах, может допустить ошибку! Прощайте, господин!
Я вышел. Он позволил мне уйти. Как я заметил раньше, Децим Камилл Вер был умным и хитрым человеком.
* * *
В гневе я мчался по залу с фонтаном в центре, как вдруг услышал какой-то шорох.
— Фалько! — меня звала Сосия. — Иди в сад. Нам нужно поговорить.
Было бы неправильно сплетничать с молодой госпожой, даже если бы я и дальше работал на ее дядю. Я стараюсь не расстраивать сенаторов, общаясь с опекаемыми ими лицами в их собственных домах, где слуги могут увидеть все происходящее. Если я вообще буду разговаривать с Сосией — что я должен сейчас сделать, поскольку сия благородная дама заговорила со мной — разговор должен быть быстрым. И нам следует остаться в зале.
Я шаркнул по мраморным плиткам пола каблуком.
— О, Дидий Фалько! Пожалуйста!
Исключительно из желания сделать назло я последовал за ней.
Девушка провела меня во внутренний дворик, который я не видел раньше. Здесь блестел белый камень, черно-зеленые подстриженные кипарисы создавали прохладу, ворковали голуби и бил фонтан еще большего размера, чем в зале. За одной из каменных ваз, покрытых лишайником, пронзительно закричал павлин. В вазах цвели гордые белые лилии. Это было прохладное, красивое тихое место, но я отказался устроиться в тени в перголе, увитой ползущими растениями, и успокаиваться. Сосия села. Я смотрел на нее стоя, сложив руки на груди. В некотором роде это было неплохо. Однако как бы мне ни хотелось ее обнять, я не позволил себе этой радости.
Она надела красную тунику, по подолу отделанную тесьмой цвета терносливы. Платье Сосии подчеркивало бледность ее кожи под толстым слоем грима. Девушка склонилась ко мне с обеспокоенным лицом, мгновение она казалась хрупкой слабой маленькой девочкой. Казалось, что девушка извиняется от имени семьи, хотя, когда она пыталась расположить к себе, выглядела серьезнее, чем когда-либо раньше. Видимо, кто-то когда-то научил ее стоять на своем и не отступать.
— Я подслушивала. Фалько, ты не можешь допустить, чтобы Веспасиана убили. Он будет хорошим императором!
— Я в этом сомневаюсь, — ответил я.
— Он не жестокий. Он не сумасшедший. Он ведет простую жизнь. Он много работает. Он старый, но у него есть талантливый сын.
Слова вылетали эмоционально. Она верила в то, что говорила, хотя я знал, что сама она не могла разработать подобную теорию. Я удивился тому, что император смог получить такую поддержу, поскольку не имел традиционных преимуществ. Никто из членов семьи Веспасиана никогда не занимал высоких постов. Я не винил его за это. Никто из моих родственников тоже никогда не занимал таких постов.
— Кто вбил тебе эту чушь? — в ярости спросил я.
— Елена.
Елена. Двоюродная сестра, которую она упоминала. Дочь сенатора, с которой повезло развестись какому-то несчастному простофиле, ее бывшему мужу.
— Понятно… Так что представляет собой эта твоя Елена?
— Она великолепна! — мгновенно воскликнула Сосия, но затем с такой же уверенностью добавила, — тебе она не особо понравится.
— Это почему? — рассмеялся я.
Сосия пожала плечами. Я никогда не видел эту двоюродную сестру, тем не менее, моя интуиция подсказывала не верить этой женщине с тех самых пор, как Сосия попыталась представиться ее именем, потому что отказывалась мне доверять. На самом деле единственным, что мне не нравилось в Елене и я имел против нее, было значительное влияние, которое, как я видел, она имела на Сосию Камиллину. Я предпочел бы сам оказывать влияние на Сосию. В любом случае я считал, что Сосия не права. Обычно я любил женщин. Но если эта Елена пытается защитить и оградить свою юную родственницу от проблем, а я понял, что это так и есть, то велика вероятность, что я не понравлюсь ей.
— Я с ней переписываюсь, — объяснила Сосия, словно читая мои мысли.
Я ничего не сказал. Нужно было идти. Говорить больше было нечего. Я стоял, улавливая чистые запахи летних цветов и нежное тепло, исходящее от камней.
— Я все рассказываю Елене.
Я посмотрел на Сосию с большей теплотой, сраженный смущением. Странно, что чувствуешь больший стыд, когда отвечать-то не за что, чем когда на самом деле пытаешься скрыть какой-то позорный и скандальный факт.
Поскольку я продолжал молчать, Сосия продолжила говорить. Это была единственная ее привычка, вызывающая раздражение. Она никогда не могла сидеть тихо и спокойно.
— Ты на самом деле уходишь? Я тебя больше не увижу? Я хочу тебе кое-что сказать. Марк Дидий Фалько, я уже много дней раздумываю, как…
Она использовала мое официальное имя. Никто этого никогда не делал. Ее уважительный тон было трудно выдержать. Я столкнулся с настоящей проблемой, и моя ярость испарилась.
— Не надо! — тут же воскликнул я. — Сосия, поверь мне, когда тебе требуется много дней для составления сценария, лучше вообще ничего не говорить.
Она колебалась.
— Ты не знаешь…
В свободное время я баловался поэзией. Есть много вещей, которые я никогда не узнаю, но это я понял.
— О Сосия, я знаю!
Одно мгновение я фантазировал. Я погрузился в мечту, в которой беру Сосию Камиллину в свою жизнь. Но я тут же вернулся назад. Только дурак пытается перешагнуть через барьеры разрядов таким образом. Человек может купить себе место в среднем классе, или получить золотой перстень за службу императору (в особенности, если это услуги сомнительного характера). Но пока ее отец и ее дядя знают, что делают, и не забывают, кто они такие, — а ее дядя не может этого забыть, поскольку он миллионер — Сосию Камиллину пристроят таким образом, что ее положение только возвысится, а капитал их семьи увеличится, даже несмотря на странную проблему отсутствия матери. Наши жизни никогда не смогут соединиться. Сердцем она это понимала, потому что, даже предприняв смелую попытку объясниться, смотрела на мои большие пальцы ног в плетеных золотых сандалиях, прикусывала губу, но, тем не менее, принимала сказанное мною.
— Если ты мне понадобишься… — начала она тихим голосом.
Я ответил резко, ради себя самого.
— Я тебе не потребуюсь. В твоей спокойной, сладкой, обеспеченной жизни без тревог и забот тебе не нужен никто, типа меня. И, Сосия Камиллина, на самом деле и ты не нужна мне!
Я быстро ушел, чтобы не видеть ее лица.
Я шел домой пешком. Рим, мой город, который до этого времени всегда был моим утешением и успокоением, никогда меня не подводившим, лежал передо мной, как женщина, таинственная и красивая, требовательная и щедрая, вечно искушающая. Впервые в жизни я не позволил себя совратить. Я отказался от совращения.
Глава 17
Я все-таки снова увидел Сосию Камиллину. Она попросила меня о встрече. Конечно, я пошел на нее. Не пошел, а побежал, как только смог.
* * *
К тому времени лето уже терлось о шею осени. Дни казались такими же длинными и жаркими, но к сумеркам температура воздуха падала быстрее. Я отправился в Кампанию на праздник сбора винограда, но сердце у меня к нему не лежало, и я вернулся домой. Я не мог избавиться от мыслей о серебряных слитках. Эта загадка меня заинтересовала, и никакая ярость из-за отношения ко мне Децима Камилла этого не изменила. При каждой встрече Петроний Лонг спрашивал меня, как идет расследование. Он знал, что я чувствую, но был слишком любопытен, чтобы проявлять тактичность. Я начал избегать встреч с ним, из-за чего погрузился в еще большее уныние. В дополнение к этому весь мир наблюдал за нашим новым императором Веспасианом. Не было возможности посплетничать у цирюльника или в банях, на ипподроме или в театре и не чувствовать угрызений совести, поскольку я не мог забыть то, что знал.
Шесть недель или даже больше я оставался в тени. Я плохо сработал в деле о разводе, не вручил ордер, забыл даты появления в суде, оскорбил семью, избегал встреч с домовладельцем, слишком много пил, слишком мало ел и отказался от женщин навсегда. Если я ходил в театр, то терял нить сюжета.
Как-то однажды Ления зажала меня в углу.
— Фалько! Приходила твоя девушка.
По привычке я спросил которая. Я все еще любил намекать, что ко мне каждый день пристают полуголые акробатки из Триполитании. Ления прекрасно знала, что я покончил с женщинами. Ей не хватало постукивания их маленьких сандалий по лестнице и смеха, который она всегда слушала, когда я их приводил к себе. Ей также не хватало криков негодования, когда на следующий день моя мать выметала их вместе с пылью.
— Маленькая изящная госпожа с родословной и браслетами. Я дала ей пописать в чан для отбеливания, она оставила тебе записку наверху…
Я понесся вверх по лестнице. Когда добежал до квартиры, то очень тяжело дышал, сердце судорожно колотилось в груди. Там побывала мама. Лежала груда зашитых туник, рисунок колесницы, выполненный моей племянницей на грифельной доске, тушеное мясо с луком и картофелем в закрытой посуде. Я отодвинул все это в сторону и занялся поисками.
Записка лежала у меня в спальне. Я почувствовал странную боль, представив Сосию здесь. Она оставила послание на куче моих стихов, прижав его гагатовым браслетом, который я видел на ней. Я задумался, поняла ли девушка, что в стихотворении под названием «Аглая, лучезарная богиня» на самом деле говорится о ней. Все девушки в моих одах зовутся Аглая. Поэту ведь необходимо себя защищать.
Сосия оставила мне деревянную табличку, снятую из одного из четырехстраничных блокнотов. Писала она круглым почерком человека, которому никогда не приходилось много писать.
«Дидий Фалько, я знаю место, где могут храниться серебряные слитки. Если я тебе его покажу, ты сможешь получить награду. Встреться со мной у Золотого мильного камня через два часа. Если ты занят, я отправлюсь вместо тебя и посмотрю сама…» В панике я бросился вниз.
— Ления! Ления, когда она была здесь…
Меня уже ждали у подножия лестницы. Смаракт!
* * *
Подо мной двигались тени, их босые ноги бесшумно ступали по каменным ступеням. Это были гладиаторы домовладельца, которые пришли за арендной платой.
У меня есть договоренность с портным, который шьет плащи, он живет на втором этаже: в случае крайней необходимости я могу пробежать через его комнату, спрыгнуть с балкона на защищающий от огня навес над входом, а оттуда на улицу. Я уже миновал дверь портного, полуобернулся назад. Дверь открылась. Вышел человек, который вовсе не был портным.
Гладиаторы только что вернулись из грязного гимнасия Смаракта и оставались в боевом облачении. Подо мной находились так называемые мирмиллоны, с намазанными маслом телами, блестевшими над ремнями. Их правые руки от ключицы до кулака покрывали металлические поручи, а крепкие высокие шлемы на голове по форме напоминали изогнувшуюся ухмыляющуюся рыбину. Когда я развернулся, то увидел над собой двух легких смеющихся мужчин в одних туниках, у каждого из которых вокруг руки была обернута дьявольская сеть. Это были ретиарии. Я ринулся назад.
— Дидий Фалько! Куда ты так торопишься?
Я узнал говорившего, узнал по фигуре. Он слегка склонился, приняв боевую стойку. Я не видел его лица за забралом. Наверное, я что-то выкрикнул.
— О, нет! Не сейчас, о боги, не сейчас…
— Сейчас, Фалько!
— Вы не можете, о-о, вы не можете…
— О-о, мы можем! Давайте покажем человеку…
Затем оба ретиария бросили сети вниз мне на голову.
Безнадежно пытаясь выпутаться из двух десятифутовых врезающихся в тело сетей, я знал, что дальнейшее будет гораздо хуже ареста головорезами эдила. Если Смаракт просто пытался мне напомнить о необходимости платить, они отлупят меня, словно осьминога, прижатого камнями к берегу. Если же Смаракт нашел себе нового жильца на верхнюю квартиру, мне конец. Хуже ничего и представить нельзя. Единственным утешением было то, что я об этом мало что узнаю, поскольку вскоре потеряю сознание и возможно никогда не очнусь.
Вероятно, их было пятеро, но казалось, что больше. Ретиарии не могли появляться на улице с трезубцами с шипами, однако мирмиллоны принесли с собой деревянные учебные мечи. Пока я дергался в сетях, они систематично избивали меня, и, наконец, я погрузился с темноту и вообще перестал слышать даже разрозненные звуки.
* * *
Я приходил в себя. «Наверное, с новыми жильцами туго. Может, они слышали, что представляет собой жизнь в квартире Смаракта. Квартира все еще оставалась моей». Я просыпался.
Но оказался не у себя в комнате, а где-то в другом месте. Я чувствовал ужасную усталость. Боль растекалась по мне, словно густой нектар, затем я вдруг попал в поток ощущений и яростных звуков, словно меня закрутило в водовороте.
— Он приходит в себя! Скажи что-нибудь, Фалько! — приказала Ления.
Мой мозг выдал слова. Я не услышал звуков, мой рот, словно шарик ваты, даже не пошевелился.
Мне было жаль этого Фалько, если у него все болит так, как у меня. Я отключился от действительности, возможно, секунд на тридцать, а может, и на сотню лет. Где бы я ни был, было лучше, чем здесь, и я хотел туда вернуться.
— Марк! — это больше не Ления. — Не пытайся говорить, сын.
Ления послала за моей матерью. Боже праведный.
Красный туман у меня перед глазами медленно рассеивался. Я и тот другой несчастный по имени Фалько медленно соединились в одно целое.
— Это…
Кто это сказал? Я или Фалько? Думаю, что он.
Послышался голос матери, полный облегчения.
— Именно поэтому люди не задерживают арендную плату!
Надо мной маячила Ления, ее морщинистая шея напомнила мне гигантскую ящерицу.
— Лежи и не шевелись, — приказала она.
Я сел, мне помогла мать. Я хотел снова лечь, но она подперла мне спину рукой и держала меня прямо, словно кукловод палкой свои игрушки.
Мать подняла мне голову и поддержала ее под подбородком уверенной рукой опытной сиделки, которая всю жизнь посвятила этой работе. Она воспринимает меня как безнадежный случай и разговаривает со мной, словно я умственно отсталый ребенок. Потеря моего великого брата горит между нами огнем и горчит, словно полынь в горле. Это постоянный упрек. Я даже не знаю, за что она меня упрекает. Я подозреваю, что она сама не знает.
Похоже, теперь она в меня верит. Мать заговорила голосом, который глубоко врезался в месиво, некогда бывшее моим мозгом.
— Марк! Меня беспокоит та девушка. Мы прочитали ее записку. Я отправила Петрония на ее поиски, но тебе следует идти…
* * *
Я прибыл на Форум на носилках. Меня несли сквозь толпы людей, словно какого-то огромного евнуха, у которого денег больше, чем вкуса. Мы поднялись к Золотому мильному камню, откуда начинаются все дороги в империи. Я думал о Сосии, ожидающей встречи со мной в центре мира. Теперь ее не было и следа. Один из подчиненных Петрония передал мне, что его начальник ждет меня в переулке Ворсовщиков. Этот человек задерживался. Он ждал кого-то еще, поэтому отправился пешком.
В поисках нужного переулка на задворках я нашел нескольких мастеров, которые прокладывали канализационные трубы и всей толпой крутились вокруг одного люка. Мастера работали с большим, чем обычно, энтузиазмом. Бетон яростно бросали вниз, а поблизости не стояло ни одной емкости с вином для освежения.
Я обратился к мастерам официальным тоном, который всегда использую с профессионалами.
— Простите, что отрываю вас от работы. Вы случайно не видели Петрония Лонга, начальника авентинской стражи?
Старший в ответ изложил мне свою жизненную философию.
— Послушай, центурион, когда огромная канализационная система начинает свой священный путь, заглатывая дерьмо, скопившееся за последние пятьсот лет, у землекопов, укрепляющих кульверт, есть более важные дела, чем следить за прохожими!
— Извините за беспокойство, — вежливо ответил я. — Для разнообразия это сработало.
— На складе перца, с задней стороны, — хрипло сообщил он, — целая толпа глупых сатиров поднимает пыль.
Я находился уже на полпути туда, выкрикивая благодарности. Торопиться не требовалось.
Переулок Ворсовщиков располагался с южной стороны Форума рядом с рынком специй. Это была типичная крутая, петляющая боковая улочка, но достаточно широкая, чтобы по ней могла бы проехать повозка. Множество таких улочек ответвляются от главных улиц. Там было много засохшей грязи, валялись бревна и отходы. На петлях качались ставни там, где здания нависали над улицей, закрывая небо. Пахло затхлостью. В ночное время здесь явно собираются маргиналы. Когда я проходил там, яростно завопил кот. Это была дыра из тех, где начинаешь беспокоиться, если видишь, как кто-то к тебе направляется, и также беспокоишься, если не видишь никого. Она казалась печальным концом для величественных караванов, которые везли богатства Аравии, Индии и Китая через полмира для продажи в Риме.
Склад, который я искал, выглядел заброшенным. Густая растительность пробивалась сквозь выбоины на подъездной дороге. Перед зданием стоял сломанный фургон, накренившийся на один бок. Я нашел Петрония Лонга и еще дюжину мужчин в открытом дворе. Даже до того как я оказался у дверей, грустные голоса мастеров предупредили меня о том, чего ждать. Я много раз в прошлом слышал подобные приглушенные голоса.
Петроний направился мне навстречу.
— Марк!
Я утратил все надежды и сомнения.
Он добрался до меня и взял обе мои руки в свои. Его взгляд прошелся по моим синякам, правда, он был слишком обеспокоен, чтобы все их отметить. Петроний никогда не станет черствым. Пока другие мужчины сидят в кабаках и демонстрируют цинизм фактически на пустом месте, Петроний Лонг просто улыбается улыбкой терпеливого человека, которая медленно появляется у него на лице. У него за спиной послышалось какое-то движение, он повернулся и обнял меня за плечи, не говоря мне, что случилось. Это не имело значения. Я уже знал.
Они нашли ее на складе. Я появился в тот момент, когда ее выносили… Я увидел белое платье, которое висело, словно моток шерсти, на руках у мрачного солдата. Ее голова запрокинулась так, что при одном взгляде на нее становилось понятно: Сосия Камиллина мертва.
Глава 18
Темнота, вспышки, патруль ждет магистрата. Они легко справлялись с задушенными проститутками и торговками рыбой, забитыми палками, но это дело касалось сената. Расследовать не труднее, но предстоит масса бумажной работы.
Петроний стонал от отчаяния.
— Мы потратили несколько часов на поиски. Взяли за жабры нескольких сутенеров, которые за ней следили. Нашли переулок, отдубасили нескольких стражников перед тем, как найти место. Слишком поздно. Я ничего не мог сделать. Я просто ничего не мог сделать. Этот проклятый город!
Он любил Рим.
* * *
Они положили ее во дворе.
На этом этапе обычно несложно сохранять отстраненность. Я редко знаком с жертвой, я встречаюсь с ней только после совершения преступления. Так гораздо лучше. Я закрыл лицо руками.
* * *
Я понял, что Петроний Лонг отводит своих людей назад. Мы дружим очень давно. Мы сражались на одной стороне. Он дал мне столько времени на прощание, сколько мог.
Я стоял в ярде от нее. Петроний тихо подошел и встал за моим плечом. Он что-то пробормотал, потом наклонился и нежно закрыл глаза Сосии своей большой рукой, затем снова встал рядом со мной. Мы оба смотрели на убитую сверху вниз. Петроний смотрел, чтобы не смотреть на меня. Я — потому что больше никогда ни на что не хотел смотреть на этой земле.
Ее милое лицо все еще оставалось ярким от косметики, которой пользуются молодые женщины ее сословия, но кожа под краской уже побелела и напоминала алебастр. Это была она и не она. Погасли огоньки в глазах, исчез смех, осталась только безжизненная, неподвижная белая оболочка. Сосия мертва, тем не менее, я не мог относиться к ней как к трупу.
— Она ничего не поняла, — тихо произнес Петроний и откашлялся, — ее просто убили. Больше ничего.
Изнасилование. Он имел в виду изнасилование, пытки, осквернение, оскорбление.
Она мертва, и этот несчастный дурак пытается сказать мне, что она не подверглась насилию? Я хотел наорать на него, что больше ничего не имеет значения. Друг пытался сказать мне, что все случилось быстро. Я это видел! Сосию Камиллину убили одним быстрым сильным ударом до того, как она догадалась, что сделает этот человек. Крови было очень мало. Она умерла легко.
— Она была мертва, когда вы пришли? — спросил я. — Она успела что-то сказать?
«Рутинные вопросы, Марк. Придерживайся своей рутины». Спрашивать не имело смысла. Петроний в бессилии пожал плечами, затем отошел.
* * *
Итак, я стоял там практически наедине с Сосией, больше такого шанса мне не представится. Я хотел взять ее на руки, обнять, но рядом находилось слишком много людей. Через некоторое время я просто присел на корточки рядом с ней, а Петроний не позволял своим подчиненным к нам приближаться. Я не мог с ней поговорить даже в мыслях и не смотрел на девушку, чтобы не видеть крови. Я мог этого не выдержать.
Я сидел на корточках, переживая то, что здесь произошло. Это было единственной помощью, которую я мог оказать Сосии. Это был единственный способ, которым я мог ее успокоить после того, как она умерла в одиночестве.
* * *
Я узнаю, кто это был, и убийца должен это понимать. Когда-нибудь, как бы тщательно он ни защищался, этот человек будет держать передо мной ответ.
Сосия нашла его здесь что-то пишущим (это было очевидно). Что он писал? Не опись серебряных слитков, потому что она ошиблась, — слитков тут не было, хотя мы на протяжении нескольких дней переворачивали заброшенный склад вверх дном. Но он писал, потому что белая одежда девушки было запачкано чернилами. Возможно, она его знала. Когда она нашла убийцу, тот понял, что ее нужно заставить замолчать, поэтому встал и быстро заколол жертву одним ударом в сердце. Он убил девушку пером.
Петроний был прав. Сосия Камиллина
не могла этого ожидать.
* * *
Я встал. Мне удалось не шататься.
— Ее отец…
— Я им сообщу, — ничего не выражающим тоном заявил Петроний. Эту обязанность он ненавидел. — Отправляйся домой. Я сообщу семье. Марк, просто иди домой!
В конце концов я решил, что будет лучше, если им на самом деле сообщит Петроний.
Пока я шел прочь, чувствовал, как друг провожает меня взглядом. Он хотел помочь, знал, что никто ничего не может сделать.
Глава 19
Я пошел на похороны, в моей работе эта традиция. Петроний отправился со мной.
Как обычно церемонию проводили на улице. Процессия протянулась из дома ее отца, Сосию Камиллину несли на открытых деревянных носилках с гирляндами в волосах. Кремация проводилась за пределами городской черты, у семейного мавзолея на Аппиевой дороге. Они отказались от профессиональных плакальщиц. Носилки несли молодые люди, которые были друзьями семьи.
Дул сильный ветер. Они пронесли носилки через Рим при дневном свете, музыка флейт и плач нарушали покой городских улиц. Один из молодых носильщиков пошатнулся у погребального костра. Это место представляло собой сооружение из кучи дров, сложенных в виде жертвенника, со сплетенными вокруг него темными листьями. Я, не глядя, шагнул вперед, чтобы помочь. Носилки оказались такими легкими, что чуть не вылетели у нас из рук, когда мы поднимали их наверх.
Речь ее отца была краткой, почти небрежной. Это, наверное, правильно. Именно такой была ее жизнь. В тот день Публий Камилл произнес простые слова и простую правду.
— Это моя единственная дочь. Сосия Камиллина была честной девушкой, почтительной, обязательной, преданной долгу и покинула этот мир до того, как узнала любовь мужа или ребенка. Примите ее молодую душу с нежностью, о боги…
Он взял один из факелов и, не глядя на дочь, зажег погребальный костер.
— Сосия Камиллина. Здравствуй и прощай!
Она покинула нас в окружении цветов, маленьких безделушек и благоухании ароматических масел. Люди плакали, я был одним из них. Языки пламени взметнулись вверх. Единожды я увидел ее сквозь пелену дыма. Сосия Камиллина покинула нас.
* * *
Мы с Петронием присутствовали на похоронном ритуале много раз, нам он никогда не нравился. Мы стояли чуть в стороне, и я тихо ругался себе под нос.
— Это ужасно. Напомни мне еще раз, что, именем Гадеса, я здесь делаю?
Он ответил мне тихим голосом, пытаясь меня поддержать.
— Официально выражаешь соболезнования. Также остается слабая надежда на то, что тут может появиться и выродок, которого мы ищем. Вдруг очарованный своим преступлением, он решит пощеголять перед мавзолеем…
Сохраняя траурное выражение лица, я фыркнул.
— Выставит себя любопытным взглядам как раз в том единственном месте, где, как он точно знает, стоят представители закона, мечтающие о возможности броситься вслед за неприглашенным гостем, со странным выражением лица и огнем в глазах…
Петроний опустил руку мне на плечо.
— Ты знаешь, у членов семь, бывает, наблюдаются странные реакции, не совсем соответствующие ситуации.
— Семью можно исключить, — объявил я.
Петроний вопросительно приподнял брови. Он оставил этот щекотливый вопрос претору — пусть магистрат их же ранга пачкает чистую обувь в навозе. Я думаю, Петроний предположил, что у меня разбито сердце и в таком состоянии я не в состоянии обдумывать этот вопрос. Но я обдумал.
— У женщины недостаточно силы, у детей не хватает роста. У Децима Вера в свидетелях пятьдесят членов правительства, чьим словам я никогда не поверю, а вот свидетельства старого раба с Черного моря, его чистильщика обуви, для меня достаточно. Все заявляют, что Децим находился в сенате. Публий Метон обсуждал торговые корабли с бывшим мужем дочери его брата, с которым она развелась. Это, кстати, исключает также и бывшего зятя, даже до того, как мы стали рассматривать его кандидатуру, Петроний.
Я проверял. Я знал о местонахождении родственников сенатора и его брата, о существовании которых они забыли.
Единственное, что я не сделал, не встретился с бывшим мужем Елены Юстины. Я даже не потрудился выяснить его имя. Я исключил его по двум причинам. Полезный раб-чистильщик обуви сказал мне, где находился этот человек. И в любом случае он развелся с Еленой. Я видел слишком много браков других людей, чтобы поверить: сторонам лучше после того, как они положат конец официальному союзу. Если муж Елены был со мной согласен, то он безусловно разумный человек.
* * *
Не думайте, что мой верный старый армейский товарищ ничего не делал. Петроний оказался в составе группы расследования под руководством местного претора. Он стал незаменим для эдила, занимающегося этим делом (к счастью, не Пертинакса. Убийство произошло в Восьмом квартале, районе римского Форума). Петроний лично провел обыск во всех лавках и лачугах переулка Ворсовщиков. Выяснилось, что склад, где нашли Сосию, принадлежал бывшему старому консулу по имени Карпений Марцелл, который медленно умирал от какой-то болезни в сельском поместье в пятидесяти милях к югу от Рима. Претор принял бы предсмертное состояние за алиби, но Петроний тем не менее, проехал в имение, чтобы убедиться. Это не мог сделать Карпений Марцелл. Он так страдал, что едва ли увидел Петрония, стоявшего у его постели.
Склад был пустым, когда мы его нашли, но мы не сомневались, что он кем-то использовался. Во дворе оставались недавние следы колес фургонов. Любой, знавший, что владелец болен, мог тайно им воспользоваться.
* * *
Во время похорон не произошло никаких инцидентов. Мы с Петронием никого не опознали и чувствовали себя не в своей тарелке.
Теперь ближайшие родственники ждали, когда можно будет собрать пепел. Остальным прощающимся пришло время уходить. Перед тем как уйти, я заставил себя подойти к опечаленному отцу Сосии Камиллины.
— Публий Камилл Метон.
Я впервые встретился с ним после того случая с Пертинаксом. Этого человека было легко забыть: гладкое овальное лицо, практически лишенное выражения, отстраненный взгляд с намеком на оправданное презрение. Это также оказался единственный раз, когда я видел его с братом. Лысый Публий выглядел старше, но сегодня во время официальной церемонии голова была прикрыта, и когда он отвернулся от меня, я заметил красивый и решительный профиль, который отсутствовал у Децима. Когда он отошел, послышался слабый запах мирры. Я также заметил золотой перстень с большим изумрудом, с инталией. Эти свидетельства холостяцкого тщеславия я не замечал раньше. После того как я обратил внимание на эти вещи, которые казались такими неважными, я почувствовал себе еще более неловко.
— Господин, наверное, это последнее, что вы хотели бы от меня услышать… — По его выражению лица я понял, что не ошибся. — Господин, я обещаю вам… я обещаю ей… я найду того, кто убил вашего ребенка. Чего бы это ни стоило и сколько бы времени ни отняло.
Он уставился на меня так, словно разучился говорить. Юлия Юста, жена его брата, легко коснулась моей руки. Она метнула на меня полный раздражения взгляд, но я остался на месте. Публий мягко и печально улыбнулся, но эта мягкость лишь скрывала твердость, которую я не видел раньше.
— Ты уже вполне достаточно сделал для моей дочери! — воскликнул он. — Уходи! Оставь нас всех в покое!
Его резкий голос поднялся до крика.
Это было неприятно. Утренняя звезда померкла для нас обоих, и вот он я, здесь, пристаю к нему. Он не знал, кого еще винить, поэтому обвинял меня.
Тем не менее причина заключалась в другом. Это было неприятно, потому что Публий Камилл Метон выглядел, как человек, печаль которого мешает суровому самоконтролю. Этот человек сломается, но не сейчас, не на публике, не сегодня, не здесь. Раньше он был таким убедительным, но эта потеря потрясла его.
Я страдал из-за потери его полного жизни ребенка так же искренне, как и он. Мне было его жаль из-за нее. Ради нее я обратился к нему с открытым сердцем.
— Господин, мы разделяем…
— Мы ничего не разделяем, Фалько!
Он ушел прочь.
Я смотрел на бледную жену сенатора, которая взяла на себя обязанность поддерживать брата мужа на протяжении этого ужасного дня. Она подвела его к погребальному костру. Слуги собирали младших детей. Рабы семьи сгрудились вместе. Важные люди, собиравшиеся уходить, пожимали руку сенатора и провожали его брата серьезным взглядом.
Я знал, что могу установить контакт с сенатором. С его младшим братом Публием я просто сотрясал воздух, но с Децимом мы всегда могли поговорить. Я ждал.
Два брата разделяли жизнь Сосии, теперь они разделяли ее уход. Теперь председательствовал Децим. Публий только неотрывно смотрел на кости на костре. Отец Сосии стоял отдельно от других, в одиночестве, а ее дядя готовился полить угли вином. По его сигналу прощающиеся стали уходить. Децим замер у костра, ожидая, когда посторонние уйдут.
Как и принято на похоронах, Децим вежливо позволял посторонним высказать соболезнования, затем прошел к Петронию Лонгу, официальному лицу. Сенатор остановился в трех шагах от нас и заговорил усталым голосом. Его усталость была сродни моей.
— Начальник стражи, спасибо за то, что пришел. Дидий Фалько, скажи мне, готов ли ты продолжать заниматься этим делом?
Никакой суеты. Никакой ссылки на расторжение мною нашего контракта. И мне не убежать. Я ответил с нескрываемой горечью.
— Я буду продолжать! Команда магистрата зашла в тупик. На складе ничего не обнаружено. Никто не видел преступника, его перо никак не опознать. Но, в конце концов нас к нему приведут серебряные слитки.
— Что ты намерен делать? — нахмурившись, спросил сенатор.
Я почувствовал, как Петроний переступил с ноги на ногу. Мы это не обсуждали. До этого мгновения я не был уверен — ее больше нет. Мое сознание прояснилось. Курс был очевиден — в Риме мне делать нечего. Здесь нет для меня места, никаких удовольствий, никакого спокойствия.
— Господин, Рим слишком велик. Но наша нить начинается в маленьком сообществе в провинции, находящейся под строгим контролем армии. Упрятать концы там должно быть труднее. Мы вели себя глупо. Мне следовало уехать раньше.
Петроний, который так сильно ненавидел то место, больше не мог молчать.
— О, Марк! Боги…
— Британия, — подтвердил я.
Британия зимой. Уже наступил октябрь. Мне повезет, если я туда доберусь до окончания навигации. Британия зимой. Я бывал там, поэтому знал, насколько там ужасно. Туман, который прилипает к твоим волосам, словно рыбий клей, холод, пронизывающий до костей и забирающийся в плечи и колени. Туманы над морем, бури, метель и ужасные темные месяцы, когда рассвет и вечер, как кажется, едва ли отделены друг от друга.
Это не имело значения. Ничто из этого не имело для меня значения. Чем меньше цивилизация, тем лучше. Теперь ничто не имело значения.
ЧАСТЬ II
Глава 20
Британия, зима 70–71 гг. н. э.
Если вам когда-нибудь захочется поехать в Британию, советую вам не беспокоиться. Если вам этого не избежать, то вы найдете провинцию Британия за пределами цивилизованного мира, во власти северного ветра. Если ваша карта обтрепалась по краям, будьте уверены — вы эту провинцию не найдете. Могу сказать, что это для вас даже лучше. Старина Борей надувает толстые щеки и летит на юг, наверное, потому, что хочет убраться из Британии. Моя легенда состояла в следующем: Камилл Вер отправляет меня туда за своей дочерью Еленой Юстиной, которая гостит у тети. Мне вроде как предстояло доставить ее домой. Похоже, Камилл Вер гораздо больше любил свою младшую сестру.
— Фалько, если моя дочь согласится, сопровождай ее, но детали решай с самой Еленой, — сказал он мне во время обсуждения путешествия.
Судя по тому, как он это произнес, я решил, что Елена — девушка с характером. Децим говорил так неуверенно, что я решил задать прямой вопрос.
— Она не послушается вашего совета? С вашей дочерью трудно сладить?
— У нее был несчастливый брак! — воскликнул отец, пытаясь ее защитить.
— Сожалею, господин.
Я слишком страдал после смерти Сосии, чтобы еще заниматься проблемами других людей. Но возможно, личное горе сделало меня более чутким к несчастьям других.
— Развод был самым лучшим выходом, — кратко сказал отец, давая ясно понять, что личная жизнь его благородной дочери не подлежит обсуждению с типами, подобными мне.
Я допустил ошибку. Он все-таки любил Елену, но в душе побаивался ее. До того как у меня самого появились дети, я думал, что, став отцом дочери, любой мужчина может сломаться. Сразу же после того как улыбающаяся повитуха опускает сморщенный красный комочек тебе на руки и требует дать ему имя, начинается паника, которая длится всю жизнь и…
Мне доводилось раньше справляться с упрямыми женщинами. Я предположил, что несколько крепких словечек помогут усмирить эту Елену.
* * *
Я отправился в Британию по суше. Хотя я ненавидел себя за это, я не мог бы послать никого проделать весь путь по морю, между Геркулесовыми Столбами, по дикой Атлантике, вокруг Лузитании и Испании. Одного перехода по морю из Галлии более чем достаточно. Его бы пережить.
Было сделано все, чтобы облегчить мое путешествие в Британию. Мне выдали достаточно денег и специальный пропуск. Я щедро тратил деньги на булавки для застегивания плаща и крем с мускатным орехом. На пропуске стояла подпись, настолько похожая на подпись императора, что сонные собаки на приграничных постах тут же вскакивали и оставались на задних лапах. Больше всего меня волновала потеря квартиры, но выяснилось, что на время выполнения важного задания заключается специальное соглашение, и квартира остается за мной. Хитрый счетовод грек, работавший у сенатора, обо всем договорится со Смарактом. Мне было жаль, что я пропущу их встречу.
Мать фыркнула и заявила мне, что если бы знала о моем намерении вернуться назад, то сохранила бы поднос, который я привез ей в подарок из Британии после своего первого посещения провинции. Поднос был вырезан из серого глинистого сланца, который добывают на южном побережье. Похоже, его необходимо постоянно смазывать маслом. Я этого не знал и соответственно не сказал ей, поэтому подарок развалился на части. Мать считала, что мне следует найти того, что мне его продал, и потребовать назад свои деньги.
Петроний отдал мне пару старых носков из старой формы, в которой мы ходили в Британии. Он никогда ничего не выбрасывает. Я свои носки сбросил в колодец в Галлии. Если бы я знал об этом несчастливом путешествии, то возможно, и сам бы прыгнул вслед за ними.
* * *
По пути в Британию у меня была масса времени на размышления. Но размышления меня никуда не привели. От Веспасиана хотело избавиться множество людей. На протяжении последних двух лет стало модно менять императоров. После того как парализующие концерты Нерона потеряли привлекательность для восседавших в ложах щеголей с отсутствием слуха, он покончил жизнь самоубийством, и мы получили всеобщую свободу. Вначале Гальба, нетвердо стоявший на ногах старый деспот из Испании. Затем Отон, который был проституткой Нерона и поэтому считал себя его законным наследником. После него пришел Вителлий, наглый обжора, который регулярно напивался с железным упорством и еще оставил после себя рецепт гороховой каши, которую назвали в его честь.
И все это за двенадцать месяцев. Начинало казаться, что любой человек, получивший хотя бы частичное образование и умеющий обаятельно улыбаться, способен убедить империю, что ему следует носить пурпур. Затем после того как Рим был бессмысленно и злонамеренно разрушен, появился этот хитрый старый полководец Веспасиан, у которого имелось одно большое преимущество: никто о нем почти ничего не знал ни хорошего, ни плохого. У него был сын Тит, бесценный союзник, который тут же ухватился за возможность искупаться в политической славе, словно терьер, вцепившийся в крысу…
Мой наниматель Децим Камилл Вер считал, что любой противник Веспасиана должен подождать, пока Тит не вернется из Иудеи. Сам Веспасиан подавлял восстание евреев, когда ворвался во власть. Он вернулся в Рим императором и оставил Тита завершать эту популярную работу с обычным щегольством. Если столкнуть с трона Веспасиана, то это просто позволит его очень умному старшему сыну раньше времени унаследовать империю. Его младший сын Домициан не представлял особой угрозы, будучи несерьезным и ничтожным человеком, но Веспасиана с Титом следовало сметать одновременно, или любой заговор против них обречен на провал. Это означало, что у меня есть время на решение загадки, пока Тит не захватил Иерусалим. Хотя, судя по тому, что мне рассказывал Фест, до того как погиб в Бетеле. Кентавр два раза не успеет махнуть хвостом, как Тит пронесется по Иерусалиму. (Тит командовал Пятнадцатым легионом, в котором служил мой брат.)
Вот так обстояли дела. Любой человек с положением и деньгами, желавший видеть себя императором, мог попытаться сбить новую династию с оливкового дерева. В сенате шестьсот человек, это мог быть любой из них.
Я не верил, что это Камилл Вер. Считал ли я так, потому что знал его лично? Как мой клиент, несчастный неловкий и нескладный человек казался более человечным, чем остальные (хотя я и раньше попадался на такую удочку). Даже если он не при чем, оставались еще пятьсот девяносто девять.
Это был кто-то, знающий Британию или знающий кого-то, кто знал Британию. Прошла четверть столетия после вторжения Рима в провинцию (кстати, имя Веспасиана впервые прозвучало в связи с той кампанией). После этого бесчисленные смелые ребята отправлялись на север выполнять долг. У многих из них была блестящая репутация, а теперь вполне могли взыграть амбиции. Сам Тит являл собой типичный тому пример. Я помнил его там, молодого военного трибуна, командовавшего подкреплением, которое пришло с Рейна для восстановления провинции после восстания. Британия считалась этаким свидетельством о социальной пригодности. Никому она не нравилась, но теперь во всех хороших семьях Рима имелся сын или племянник, который выполнял долг в холоде или на болотах на окраине мира. Я мог искать любого из них.
Этот кто-то мог служить в Северной Галлии. Этот кто-то мог служить в Британском флоте, стоявшем в проливе между провинцией и материком. Этим кем-то мог быть любой человек, владеющий любым кораблем, например, купец, перевозящий британское зерно на военные базы на Рейне или же шкуры охотничьих собак в Италию, а может, экспортер гончарных изделий и вина. Или, зная купцов, целая крепкая группа. Это мог быть местный британский губернатор, а может, его жена.
Это мог быть человек, на встречу с которым я ехал, Гай Флавий Иларий, родственник моего сенатора, который теперь являлся прокуратором и отвечал за финансы. Последние двадцать лет он по собственному выбору жил в Британии. Столь эксцентричный выбор подразумевал, что Иларий определенно от чего-то сбежал (если он только не полностью съехал с катушек).
* * *
К тому времени, как я добрался до Британского океана, я придумал столько диких планов и прокрутил их в своем сознании, что у меня уже кружилась голова. Я стоял на скалах на самом краю Галлии и наблюдал за белыми бурунами. При виде пенящейся внизу воды мне стало еще хуже. Я отвлекся от проблемы и сконцентрировался на том, чтобы не слишком страдать морской болезнью, пока наше судно переходило через пролив. Ох, не знаю, зачем я пытался, меня все равно всегда тошнит.
Мы предприняли пять попыток, чтобы выйти из гавани Гесориака, и к тому времени, как вышли в море, мне хотелось только повернуть назад.
Глава 21
Я направлялся на запад, поэтому устроитель моего путешествия организовал мне маршрут на восток. После семи лет в армии это меня не удивило.
Я планировал не торопиться и провести несколько дней в Лондинии, чтобы акклиматизироваться. Но начальник порта Гесориака вероятно послал сигнал на другую сторону, в Дубрий, как только меня заметил. Лондиний знал, что я приеду до того, как покину Галлию. На причале в Рутупие стоял специальный посланник и постукивал подбитым мехом сапогом. Он был готов спасать меня от бед, с того момента как я сошел с корабля.
Посланник прокуратора был центурионом, которые выполняют особые задания с помпезностью, а сами всегда полны важности, как это принято у героев. Он представился, но оказался недружелюбным типом с заплывшим жиром лицом и жидкими волосенками, имя которого я с легкостью забыл. Он служил в Двенадцатом легионе Валерия, состоявшем из скучных, но достойных солдат, которые покрыли себя славой во время разгрома восстания царицы Боудикки. Теперь их штаб располагался у гор в Вироконии, у границы. Мне удалось выжать из него только одну полезную деталь. Несмотря на усилия сменяющих друг друга губернаторов, граница все еще пролегала в том же месте. Это была старая дорога, по диагонали пересекающая остров от Иски до Линда. Большая часть острова, лежащая за этой границей, так и оставалась не подконтрольной Риму. Я вспомнил, что серебряные рудники находились не на нашей стороне границы.
* * *
Ничто в Британии существенно не изменилось. Цивилизация просто покрывала провинцию, словно слой воска банку с мазью аптекаря, этот слой было легко проткнуть пальцем. Веспасиан отправлял сюда юристов и ученых для превращения их в демократов, которых можно было бы безопасно пригласить на ужин. Рутупие обладал всеми чертами порта империи, но после того, как мы немного проехали по дороге к югу от Тамесия, реки, по которой осуществлялись поставки, я увидел, что все осталось по-прежнему. Круглые хижины, из труб которых поднимался дым, сгрудились на убогих квадратных полях. Угрюмый скот бродил под зловещим небом. Складывалось впечатление, что можно много дней ехать сквозь леса по известковым холмам, пока не увидишь алтарь бога, имя которого знаешь.
Когда я впервые увидел Лондиний, он представлял собой поле пепла с едким запахом. Черепа убитых поселенцев катились красноватым потоком, ударяясь друг о друга, словно галька. Ныне город был новой административной столицей. Мы заехали с юга и нашли новый мост, недавно построенные верфи, склады, мастерские, таверны и бани. Не встречалось ничего старше десяти лет. Я уловил и знакомые, и экзотические запахи, и за десять минут услышал шесть языков. Мы проследовали мимо пустого, чернеющего участка, отведенного для строительства дворца губернатора. Позднее мы миновали еще один большой участок, где будет Форум. Правительственные здания стояли везде, в одном из них проживал прокуратор с семьей. Это был заполненный людьми комплекс с двором, верандами и шестьюдесятью кабинетами.
В жилых покоях прокуратора бросался в глаза удручающий британский стиль: закрытые дворики, тесные комнатки, темный зал, тускло освещенные коридоры, недостаток воздуха. Здесь жили люди с бледными лицами и бледными ногами. Чтобы сделать жизнь терпимой, их окружала арретинская посуда и финикийское стекло. На стене висели картины, выполненные бычьей кровью и охрой: художник, который рисовал аистов и виноградную лозу, вероятно, видел это лет двадцать назад. Я приехал в середине октября, но дом уже отапливали. Сразу перешагнув через порог, я почувствовал, что пол теплый, — отопление проходило и под полом.
Флавий Иларий вышел из кабинета, чтобы лично меня поприветствовать.
— Дидий Фалько? Добро пожаловать в Британию! Как прошло твое путешествие? Ты быстро добрался! Проходи. Давай поговорим, пока твои вещи заносят наверх.
Это был обаятельный, располагающий к себе, полный жизненный энергии мужчина. Я восторгался им, поскольку он продержался на государственной службе почти тридцать лет. У него были короткие аккуратно подстриженные каштановые волосы и тонкие руки, сильные, с чистыми подстриженными ногтями. Я заметил широкое золотое кольцо, свидетельствующее о его статусе. Как республиканец, я ненавидел сословия и разряды, но с самого начала решил, что Иларий мне очень нравится. Его ошибка состояла в том, что он хорошо и тщательно выполнял свою работу и видел в жизни лишь светлую сторону. Люди его любили, но для консервативных судей это не было свидетельством «здравого ума».
Комната, которую чиновники, занимавшиеся проектировкой комплекса, отвели под личный кабинет, на самом деле использовалась Иларием в качестве дополнительного места для приема посетителей. Там стояла кушетка для чтения, уже потерявшая изначальную форму от частого использования, а также стол и скамьи для гостей. Светильники в огромном количестве горели, так как было поздно. Секретари ушли и оставили Илария одного наедине с цифрами и мыслями.
Он налил мне вина. «Приятный жест, — подумал я, — это поможет мне расслабиться». Затем я вздрогнул, поняв, что, может, все как раз и задумано, чтобы усыпить мою бдительность!
Допрос проходил с изматывающим пристрастием. В сравнении с Иларием мой клиент Камилл Вер был просто мягкой сливой. Я уже вычеркнул прокуратора из списка подозреваемых, но он решил обсудить императора, чтобы продемонстрировать свои симпатии.
— Нет лучшего человека для империи, но это новое веяние для Рима. Отец Веспасиана был финансистом среднего звена, тем не менее, теперь Веспасиан стал императором. Мой отец тоже был финансистом, и я стал финансистом.
Мое отношение к нему стало более теплым.
— Не совсем, господин. Вы — второе гражданское лицо в престижной новой провинции, а император считает вас другом. Никто, за исключением губернатора, не имеет в Британии большего веса, чем вы. Самое высокое достижение вашего отца — третьесортный сборщик налогов в одном из небольших городков Далмации.
Я знал это, потому что специально занимался прошлым Илария перед поездкой, и он, разумеется, это понял. Он улыбнулся, я тоже.
— А твой отец был аукционистом, — бросил он мне в ответ. Мой отец исчез так давно, что не многие это знали.
— Возможно, и до сих пор им является! — признал я с мрачным видом.
Флавий Иларий никак это не прокомментировал, хотя и выяснил обо мне все, что мог, перед моим приездом. Вежливый человек.
— А ты, Фалько, отслужил два года в армии, потом добавил еще пять в качестве лазутчиком, как это называют в легионах. Однако местные жители вешают таких армейских агентов как шпионов…
— Если они смогут их поймать!
— А тебя они никогда не поймали… Итак, ты был демобилизован по состоянию здоровья, быстро восстановил силы, возможно, даже слишком быстро, но это говорит о хорошем физическом здоровье, затем занялся нынешней работой. Мои источники сообщают о твоей не самой лучшей репутации, об этакой сонливости, хотя прошлые клиенты о тебе неплохо отзываются. Некоторые женщины выглядят странно, когда это говорят! — немного поджав губы, заметил он.
Я пропустил это мимо ушей.
Затем он сказал то, чего мы оба избегали с начала беседы.
— Мы с тобой служили в одном легионе, Дидий Фалько, — улыбнулся британский финансовый прокуратор.
Я это знал, а он, наверное, это понял.
Разница в двадцать лет. Один и тот же легион, одна и та же провинция. Он служил там, когда славный Второй легион Августа считался элитной частью британской захватнической армии. Его командующим был Веспасиан, именно так они и познакомились. Я служил во Втором легионе в Иске, в то время когда Павл, британский губернатор, решил вторгнуться на Мону, остров друидов, чтобы раз и навсегда очистить эту крысиную нору от нарушителей спокойствия. Павл оставил нас в Иске оборонять его тылы, но наш командующий сопровождал его вместе с советниками. В результате мы оказались с некомпетентным командиром лагеря по имени Фений Постум, который назвал восстание царицы Боудикки «просто местной размолвкой». Когда поступили приказы возмущенного и обеспокоенного губернатора, сообщающего этому придурку о том, что икены прошлись кровавым серпом по всему югу, Постум отказался выходить. Он не поспешил присоединиться к осаждаемой полевой армии либо из страха, либо по причине дальнейшей неправильной оценки ситуации. Я служил в нашем легионе, когда его славное имя стало плохо пахнуть.
— Не твоя вина! — прочитав мои мысли, мягко заметил мой новый коллега.
Я ничего не ответил. После того как восставшие были разгромлены, и правда стала известна, наш бездарный командующий лагеря упал грудью на меч. Но вначале он заставил нас бросить двадцать тысяч товарищей в открытой местности без каких-либо поставок и места для отступления. Им предстояло сражаться против двухсот тысяч орущих кельтов. Восемьдесят тысяч гражданских лиц были убиты, пока мы начищали пуговицы и пряжки в казармах. Мы могли бы потерять все четыре британских легиона. Мы могли бы потерять губернатора. Мы могли бы потерять провинцию.
Если бы какая-то римская провинция пала в результате восстания местных жителей под предводительством женщины, то всей империи мог бы прийти конец. Мы видели Камулодун, в котором горожане собрались вместе в храме Клавдия и погибли в объятиях друг друга в течение четырех дней ада. Мы задыхались от черной пыли Веруламия и Лондиния. Мы срезали с крестов распятых поселенцев в их уединенных загородных домах, мы засыпали землей обожженные скелеты их задушенных рабов. Мы в ужасе смотрели на изуродованных и оскверненных женщин, которые, словно красные тряпки, свисали с деревьев в языческих рощах. Мне было тогда двадцать лет.
Именно поэтому я уволился из армии сразу, как только смог. Для этого потребовалось пять лет, но я ни разу об этом не пожалел и не передумал. Я начал работать на себя и больше никогда не стану подчиняться приказам человека с таким преступным неумением. Я никогда не стану частью системы, которая поднимает таких дураков на командные должности.
* * *
Флавий Иларий все еще наблюдал за моей задумчивостью.
— Никто из нас никогда полностью не восстановится, — признал он хриплым голосом, и его лицо омрачилось.
Пока губернатор Павл сражался с горными племенами, этот человек проводил геолого-разведывательные работы, пытаясь найти медь и золото. Теперь он работал финансистом, занимал второе место после губернатора на высоком административном посту. Но десять лет назад, во время восстания Гай Флавий Иларий занимал гораздо более низкую должность. Он был прокуратором, отвечавшим за британские рудники.
Это мог быть он! Мой усталый мозг продолжал повторять мне, что этот умный человек с ясными глазами и приятной улыбкой как раз может оказаться негодяем, которого я приехал сюда искать. Он понимает, как работают рудники, и способен подделать документы. Никто в империи не занимает лучшего положения.
— Наверное, ты очень устал! — мягко воскликнул он. Я чувствовал себя изможденным. — Ты пропустил ужин. Я пошлю тебе еду прямо в комнату, но вначале воспользуйся нашей баней. После того как ты поешь, я хочу представить тебя своей жене…
Таким образом, я впервые столкнулся со средним классом дипломатии. До этого времени мне не доводилось с ними пересекаться по той простой причине, что они вели жизнь, настолько лишенную обмана, что не привлекали ничьего ненужного внимания. Им самим также никогда не приходилось меня нанимать. Я приехал, ожидая, что ко мне будут относиться как к слуге. Вместо этого меня инкогнито провели в личные покои прокуратора и встретили, скорее, как гостя семьи.
К счастью, я взял с собой и приличную одежду.
Глава 22
Меня разместили так уютно, что это даже смущало. Мне выделили просторную комнату с кроватью, которая стонала под разноцветными перинами. Мигали масляные лампы. Тепло просачивалось сквозь дымоходы в стене. Имелись стулья с низкими квадратными скамеечками для ног, подушки, на полу лежали ковры, предоставлялись писчие принадлежности для личного пользования, в блестящей керамической вазе лежали поздние яблоки.
Франтоватый проворный раб проводил меня в баню, еще один мыл меня, затем проводил в отведенную мне комнату, где уже ждал пухленький мальчик. Он разгружал поднос с серебряной посудой, наполненной холодной дичью и ветчиной. Я воспользовался возможностью поесть, раз уж она мне выдалась. Мальчик мне прислуживал, похоже, я произвел на него впечатление. Я ему подмигнул, но потом отвернулся, чтобы у него не сложилось неправильного впечатления.
В виде уважения к хозяину я причесался. Затем я достал свою лучшую тунику. Она была белого цвета, и продавец одежды, услугами которого я всегда пользуюсь, сообщил мне, что до меня ее носил только один человек. (Моя мать всегда велит мне спрашивать, от чего они умерли, но если нет видимых пятен крови, я не спрашиваю. Какой торговец признается, что у твоего предшественника было заразное кожное заболевание?)
Открыв свой багаж, я задумчиво посасывал остатки ветчины, застрявшие у меня между зубов… Все было сделано очень умело, однако во время нашей беседы с хозяином в кабинете мои вещи обыскали.
* * *
Я нашел Илария отдыхающим в теплой комнате, предназначенной для совместного семейного досуга. Он снял ремень и с удовольствием читал, коротая время с женой. Это была стройная женщина вполне обычной внешности, одетая в малиновое платье. Было заметно, что в этом элегантном одеянии она чувствовала себя немного неловко. На руках у нее спал грудной ребенок, а девочка двух или трех лет расположилась на коленях женщины помоложе в темной одежде, которую не стали сразу же представлять.
Флавий Иларий с готовностью поднялся на ноги.
— Дидий Фалько. Элия Камилла, моя жена.
Это была женщина в малиновом. Я не лелеял никаких надежд. Флавий Иларий давно работал дипломатом и был предан делу. Конечно, он женился на приличной, некрасивой женщине, которая знает, как подавать сласти губернатору и с какой тарелки, или может в течение трех часов вежливо беседовать с вождем племени, затем снять со своего колена его лапу так, чтобы его не оскорбить.
Я был прав. Элия Камилла, сестра сенатора, на самом деле была приличной, непривлекательной внешне женщиной. Она все это умела. Но ее отличали живые, выразительные глаза. Только смелый вождь или губернатор допустит с нею вольности.
Хотя ее муж их допускал. Вскочив, чтобы меня представить, Флавий Иларий забыл о собственной кушетке и вместо этого расслабился рядом с ней, опустив руку на бедро Элии Камиллы, словно для мужчины было вполне естественно таким образом ласкать жену. Ни один из них не выглядел смущенным. Такое никогда бы не случилось в Риме. Я был поражен.
* * *
Децим Камилл говорил о сестре с любовью. Она была младше него, вообще самой младшей из детей в их семье, тем не менее, ей близилось к сорока. Сестра Децима оказалась скромной, домашней женщиной, которая в то же время великолепно играла публичную роль. Она мило мне улыбнулась, причем ее улыбка казалась искренней.
— Значит, это вы друг Сосии Камиллины!
— Не очень хороший, — признался я, после чего утопил свою печаль в этих полных сочувствия глазах.
Приличные некрасивые женщины ничего для меня не значат, тем не менее, мне сразу же понравилась тетя Сосии. Это была как раз та добрая женщина, о которой мечтает мальчик, если решит, что настоящая мать потеряла его при рождении и его воспитывают чужие люди в чужой земле… О, я весело фантазировал. Но меня кружило в личном кошмаре, и я только что преодолел путь в тысячу четыреста миль.
* * *
Друг Гай жестом указал мне на кушетку, но я заметил в комнате дополнительную жаровню, устроился на небольшой скамье рядом с ней и протянул руки к тлеющим углям. В другой ситуации я бы промолчал насчет того, что обнаружил наверху, но я предпочитаю сражать клиентов честностью, затем слушать их крики.
— Как я понимаю, кто-то обыскал мои вещи. Вероятно, это было неприятно. Куча нестираных нижних туник…
— Больше этого не повторится! — улыбнулся Иларий и добавил, — просто проявляем осторожность.
Это не было извинением, и я не забеспокоился. Профессиональные предосторожности, которые мы оба понимали, поэтому вежливо кивнули друг другу.
Внезапно и резко прозвучал полный ярости голос, и я даже подпрыгнул.
— У вас браслет, который принадлежал моей двоюродной сестре!
Я наполовину обернулся. Напряженная молодая женщина с маленькой девочкой. Глаза цвета жженой карамели на полном горечи миндалевидном лице. Золотые серьги в форме колец, на каждом — небольшие бусинки из сердолика. Внезапно я понял. Это дочь моего сенатора. Это и есть Елена.
Она сидела в полукруглом плетеном кресле, а ребенок счастливо залезал ей на колени и слезал с них. (Я знал, что своих детей у нее нет, поэтому маленькая девочка должна быть из этого дома.) Никто не назвал бы эту женщину некрасивой, но по привлекательности она не составляла конкуренции тете. У нее были густые и широкие брови отца, а поджатые губы и недовольное выражение лица напомнили мне его брата Публия.
— Вам следует его вернуть, Фалько!
Я никогда не любил женщин с громкими голосами и плохими манерами.
— Простите, но я оставлю его себе.
— Я подарила браслет ей!
— А она подарила его мне.
Я видел, почему сенатор так привязан к своей сестре с добрыми глазами, если это злобное существо породил сам.
Как только между нами возникло напряжение, вмешалась Элия Камилла, у нее в голосе слышались укоризненные нотки.
— Мне кажется, что мы все должны вести себя по-взрослому. Дидий Фалько, вы были привязаны к моей несчастной племяннице?
Это был классический тип римской матроны. Элия Камилла не допускала неприятных сцен. После тридцати лет сражений с собственной матерью, вечно задающей мне вопросы о женщинах, с которыми я имел дело, я к ним привык, и они от меня просто отскакивают.
— Мне очень жаль, — Элия Камилла явно укоряла себя за неприятную сцену. — Это было непростительно.
Эти открытые интеллигентнее люди поколебали мою уверенность. Мне удалось выдавить из себя ответ.
— Госпожа, все, кто знал вашу племянницу, были к ней привязаны.
Она грустно улыбнулась. Мы оба понимали, что мой простой комплимент был не тем, что она имела в виду.
Элия Камилла бросила взгляд на мужа, который снова взял в свои руки нити разговора.
— Конечно, я получил официальное извещение, копию протоколов официального расследования и объяснение причин твоего прибытия в Британию. Хотя мне бы хотелось услышать от тебя самого о твоих мотивах, — сказал он мне с понятной прямотой. — Ты винишь себя?
— Я виню человека, который ее убил, — заявил я. Я увидел, как приподнимаются его редеющие брови. — Но пока он не опознан, я беру ответственность на себя.
Женщина, с которой я поругался, высвободилась от ребенка и быстро вышла из комнаты. Она была высокой. Наблюдая за ней, я вспомнил, как когда-то любил высоких женщин.
Поскольку лицемерие помогает, я заговорил уважительно и с самым серьезным видом.
— Я только что имел честь оскорбить благородную дочь своего клиента?
Элия Камилла явно была обеспокоена тем, как вышла молодая родственница. Иларий протянул ребенку палец, и ребенок схватился за него во сне, одновременно лягая в воздухе одной ножкой. Очевидно, Флавий Иларий с юмором относился к подобным сценам. Вместо того чтобы широко улыбнуться, он сконцентрировался на том, чтобы снова надеть на ножку ребенка крошечный фетровый сапожок.
— Фалько, я приношу извинения! Это Елена Юстина, племянница моей жены. Мне следовало вас представить друг другу. Как я понимаю, было высказано предложение, чтобы ты проводил Елену домой?
Я достаточно долго не отпускал его взгляд, чтобы разделить шутку, затем подтвердил, что так и есть. Или я так понял.
Глава 23
Я и без конфронтации с этой злобной ведьмой Еленой Юстиной пребывал в мрачном настроении. Ее ждет долгий путь домой, через варварскую территорию, поэтому я понимал, почему сенатор так хочет обеспечить ее каким-то профессиональным сопровождением. Правда, после моего провала с Сосией Камиллиной, казалось смехотворным то, что он выбрал меня. Я хотел ему помочь, но теперь, после знакомства с Еленой, перспектива близкого контакта с этим человеком его отпрыском с дурным характером меня совсем не радовала. Когда-то завоевание ее на свою сторону могло бы стать вызовом. Теперь я очень болезненно переживал смерть Сосии, и у меня не хватало энергии. Только тот факт, что мне нравился Децим Камилл Вер, давал мне терпение вообще разбираться со сложившейся ситуацией.
В день нашего знакомства я не обнаружил у Елены Юстины никаких положительных качеств, если у нее такие вообще имелись. По каким-то причинам, которые я не мог понять, она отнеслась ко мне с презрением. Я в состоянии терпеть грубость, но казалось, что она даже не желает повиноваться дяде и тете.
Она отсутствовала недолго. Я подозревал, что она не упустит возможности найти еще что-то, что можно было бы во мне презирать. Когда она резко зашла назад, я ее проигнорировал. С такими наглыми особами это лучший способ.
Тем не менее мне было любопытно. Просто потому, что ты решил отказаться от женщин, еще не значит, что ты отказался от взглядов на них. Натура у нее была темпераментная, фигура костлявая, но мне нравилось, как она укладывала волосы. Я заметил, как маленькая дочь Флавия сразу же бросилась к ней. Не каждому удается так очаровать ребенка. Значит вот она какая: знаменитая кузина любимой мною потерянной души.
Их отцы были братьями, но сами девушки ни в коей мере не походили друг на друга. Елене Юстине к тому времени перевалило за двадцать, тем не менее, она полностью владела собой. Внутри нее горело сильное, но ровное пламя, рядом с ней еще не повзрослевшая Сосия показалась бы определенно глупышкой. Елена Юстина была всем, чем обещала стать Сосия, но теперь никогда не станет. За это я ее ненавидел, и она знала, что ее ненавижу. Я сильно ее раздражал, и она не принимала меня.
Когда я оказываюсь в чужих домах, то стараюсь под них подстроиться. Хотя я устал, я держался и не уходил. Через некоторое время Элия Камилла извинилась и вышла, забрав и ребенка, и девочку. Я видел, как хозяин проследил за женой взглядом, вскоре он тоже ушел. Мы с Еленой Юстиной остались вдвоем.
Если сказать, что наши взгляды встретились, то это подразумевало бы слишком многое. Я посмотрел на нее, потому что когда мужчина остается в погруженной в тишину комнате вдвоем с женщиной, у него это происходит естественно. Она уставилась на меня. Я не представлял, почему она это делает.
Я
отказывался говорить. Вздорная дочь сенатора решила меня поддеть.
— Дидий Фалько! Разве это путешествие не является бессмысленной тратой времени и сил?
Я продолжал сидеть на той же скамье. Тут я поставил локти на колени и ждал ее объяснений. Моя упрямая дознавательница проигнорировала мое любопытство.
— Может быть, — наконец сказал я. Я смотрел в пол. Конфронтация продолжалась в молчании, но потом я добавил, — послушайте, госпожа, я не стану спрашивать, что с вами, потому что, если честно, мне до этого нет дела. (Неприятные особы женского пола — это одна из составляющих моей работы.) Я приехал выполнять опасное задание в место, которое ненавижу, потому что это — единственное, что могли предпринять мы с вашим отцом…
— Это была бы хорошая речь, если бы ее произносил честный человек!
— Значит, это хорошая речь.
— Это ложь, Фалько!
— Вам придется объяснить поподробнее. Вы считаете меня бесполезным. Этому я не могу помочь, но я делаю все, что в моих силах.
— Мне хотелось бы знать, заключили ли вы контракт только ради прибыли или это преднамеренный саботаж, — очень неприятно ухмыльнулась дочь сенатора. — Вы предатель, Фалько, или просто теряете время?
Или я был тупой, или она сошла с ума.
— Объясните, пожалуйста, — попросил я ее.
— Сосия Камиллина видела одного из похитивших ее мужчин заходящим в знакомый ей дом. Она написала мне об этом, хотя и не назвала, чей это дом. Она написала, что сообщила это вам.
— Нет! — воскликнул я.
— Да.
— Нет! — ужаснулся я. — Возможно, она собиралась сообщить мне…
— Нет, она утверждала, что сообщила.
Мы оба замолчали.
Что-то явно пошло не так. Сосия была своенравной, упрямой и легко возбудимой, но, несмотря на неопытность, она была умной девочкой. Она не стала бы упускать нечто настолько важное. Она слишком гордилась своими открытиями и очень хотела, чтобы я о них знал.
Я принялся судорожно размышлять. Сосия могла написать мне еще одну записку, но если так, то где она? Когда девушку нашли, при ней оказались две неиспользованные таблички из пачки, в которую входят четыре. Одну она оставила у меня в комнате, и у нас не было оснований предполагать, что четвертая была использована на что-то более серьезное, чем список покупок для дома. Что-то явно пошло не так.
— Нет, госпожа, вам придется поверить мне на слово.
— Почему мне следует верить вам на слово? — Елена Юстина фыркнула.
— Потому что я вру, только когда могу с этого что-нибудь получить.
Она поморщилась, словно от боли.
— Вы врали ей? О, моя бедная сестра!
Я посмотрел на нее так, что она на мгновение замолчала, правда, остановить ее можно было с тем же успехом, что и сбежавшего быка, протягивая ему горсть сена.
— Ей было всего шестнадцать лет! — воскликнула дочь сенатора, словно это все объясняло.
Ну, по словам Елены становилось понятно, что, по ее представлениям, я сделал и почему она относится ко мне с таким нескрываемым презрением.
* * *
Вдруг Елена Юстина раздраженно вскрикнула и вскочила на ноги. Похоже, ей нравилось выбегать из комнат. Она пронеслась мимо меня, небрежно кивнув. Так она пожелала мне спокойной ночи. Я удивился, что вообще удостоился этого знака внимания.
Какое-то время я посидел на скамье, устало прислушиваясь к звукам незнакомого дома. Больше думать о Сосии я не мог, к тому же устал, поэтому не чувствовал груза давящих на меня проблем. Я был отчаянно одинок и находился слишком далеко от дома.
Я был прав. Ничто в Британии существенно не изменилось.
Глава 24
Флавий Иларий объяснил свой план на следующий день. Мне было неуютно в незнакомом доме, и я проснулся, как только люди начали ходить. Я надел четыре туники и осторожно спустился вниз. Сильно кашляющий раб показал мне на столовую, в которой слышались голоса, и, судя по тону, обсуждалось что-то серьезное. Как только я появился, все замолчали. Элия Камилла поприветствовала меня теплой улыбкой.
— Вот он! Вы проснулись слишком рано для человека, который приехал так поздно!
Она встала, чтобы отправиться по хозяйственным делам, но вначале поставила для меня тарелку. Простота нравов этого официального дома смущала. Сам Иларий с салфеткой, подоткнутой под подбородком, передал мне корзинку с хлебом. Молодая женщина с недовольным выражением лица по имени Елена сидела там же. Я ожидал, что она уйдут вместе с тетей, но она осталась, обхватив чашу и бросая на меня гневные взгляды. Едва ли ее можно было назвать застенчивым цветком.
— Поскольку ты здесь служил, ты, как я понимаю, старался быть в курсе последних событий, — сразу же начал ее дядя, прямой и не испытывающий колебаний человек, который сразу же переходит к делу, как только видит зрителя.
Я придал лицу благочестивое выражение человека, который находится в курсе событий.
К счастью, прокуратор привык начинать совещания с местного резюме. Он не мог приблизиться к обеденному столу, не попросив принести ему цены на сезонные овощи. Он сам ввел меня в курс дела.
— Как тебе известно, ценные металлы были главной причиной инвестирования в Британию. У нас есть металлургические заводы в лесах в южной части провинции. Ими занимался военно-морской флот, и сделал все совершенно безобразно.
В сердце я был верен армии, поэтому улыбнулся.
— На крайнем западе, в горах, есть золото, свинец встречается в центральном горном районе, хотя процент получаемого серебра низкий. Лучшие рудники находятся на юго-западе. Когда-то Второй легион Августа непосредственно ими управлял, но мы с этим покончили в процессе поддержки самоуправления племен. На всех рудниках у нас имеются крепости, что позволяет нам наблюдать за происходящим, но мы отдаем управление местным дельцам.
Я пытался не расхохотаться, видя очевидное наслаждение прокуратора своей работой. Неудивительно, что другие чиновники никогда не воспринимали его серьезно!
— Человека, работающего в Мендипских горах, зовут Клавдий Трифер, именно он сейчас владеет правом на разработку, вычитает свой процент, затем передает остатки в казначейство. Он родился в Британии. Я его арестую после того, как выясню, как слитки крадут и перевозят.
Я закончил трапезу, и для облегчения пищеварения сел на кушетке, скрестив ноги. Флавий Иларий сделал то же самое. Он выглядел болезненно, как человек, мучающийся камнями, который из-за беспокойства или смущения так никогда и не нашел времени, чтобы посетить врача и дать ему себя осмотреть.
— Твоя работа будет заключаться в расследовании кражи, Фалько. Я хочу устроить тебя на рудник, чтобы ты стал одним из рабочих…
— Я вообще-то нацеливался на руководящую должность.
Он пренебрежительно рассмеялся.
— Все посты заполнены дальними племянниками сенаторов, которые приехали сюда охотиться на кабанов. Прости, Елена.
Будучи дочерью сенатора, она могла бы возразить, тем не менее, выдавила из себя легкую улыбку. Я тем временем задумался.
Моя новая работа требовала выносливости. На рудниках обычно работают довольно мерзкие типы преступного вида. Группы рабов трудятся там от рассвета до заката. Это тяжелая работа, и хотя, как кажется, свинец в Мендипских горах лежит совсем недалеко от поверхности, отсутствие физических опасностей в этих рудниках компенсируется их полной изолированностью и удаленностью.
— Фалько? — подал голос Флавий. — Раздумываешь о том, как тебе повезло?
— Если честно, то я предпочел бы сидеть в церемониальных одеждах, без зонтика, на открытом раскаленном амфитеатре, куда привратники запрещают проносить вино, а музыканты объявили забастовку, и в течение пяти часов смотреть греческую пьесу без слов! Кому я обязан этим великолепным зимним отдыхом? — спросил я привередливо.
Иларий сложил салфетку.
— Насколько я помню, первой идею подала Елена Юстина.
Мне пришлось улыбнуться.
— Пусть боги защищать госпожу! Надеюсь, вы все объясните моей седой матери после того, как я сломаю спину, и меня похоронят в болоте? Вы, госпожа, как-то связаны с фуриями, и поэтому таким образом мстите мне?
Елена Юстина уставилась в чашу и не ответила. Я поймал вопросительный взгляд ее дяди.
— Елена Юстина отвечает сама за себя, — кратко сказал он.
Мне казалось, что в этом и заключается ее проблема. Произнесение этого вслух ничего бы не дало, а мне не хотелось критиковать ее отца Децима. Ни одного мужчину нельзя полностью винить за женщин его дома. Я это понял задолго до того, как у меня появились женщины.
Глава 25
Флавий Иларий договорился, чтобы меня отвезли на запад, и я воспринял это как любезность с его стороны, пока не выяснил, как мне придется ехать. Он отправил меня обходным путем, по морю. Там у Флавия Илария имелся городской дом в центре южного побережья и поместье с частной летней виллой еще дальше на западе. Для того чтобы передвигаться между принадлежащими ему объектами недвижимости, он приобрел кельтский кеч, обшитый внакрой, который в шутку называл своей яхтой. Это старое, обросшее ракушками судно не совсем подходило для мечтаний на августовском солнце на озере у Волсинии. Вероятно, это представлялось Иларию удачной мыслью, но я после этого сам договорился о переезде.
Меня высадили в Иске. Восемьдесят миль от рудников, но это было хорошо. Нет смысла появляться сразу же с судном прокуратора. Это бы фактически означало приехать со штандартом, на котором значилось «шпион прокуратора». Я знал Иску. По-моему, этот город помогает нырнуть в водоворот со скалы, где твои ноги чувствуют себя как дома.
С тех пор как я стоял там десять лет назад, произошли военные перегруппировки. Из четырех изначальных британских легионов Четырнадцатый в настоящее время находился в Европе и ждал решения Веспасиана относительно своего будущего. Они активно действовали во время гражданской войны, но не на той стороне. Девятый испанский легион находился в процессе перевода на север в Эбурак, а Двенадцатый легион Валерия отправился к западным горам. Мой старый Второй легион Августа наступал к Глеву и добрался до верхнего течения огромной Сабрины. В настоящее время задачей легионеров было усмирение и сдерживание силуров, которые готовились к следующему броску на запад, как только почувствуют себя уверенными.
Иска без Второго легиона была для меня городом-призраком. Казалось странным снова увидеть наш форт, но еще более странным было обнаружить все ворота открытыми, а амбары пустыми. На перекрестках сгрудились в беспорядке мастерские, местный магистрат разместился в доме командующего. За фортом, там, где заканчивались пристройки с односкатной крышей и лавки, как я и ожидал, находились небольшие наделы тех ветеранов, которые ушли в отставку, пока Второй все еще стоял здесь. Печально, если приходится брать надел, чтобы жить рядом с товарищами, а потом смотреть, как они уходят в новый форт, расположенный в ста милях. Тем не менее некоторых из них явно удерживают браки с местными жительницами. Я исключил вариант, что они остались в этой мерзкой провинции из-за климата или пейзажа.
Я полагался на ветеранов. Я полагался на то, что они будут здесь, рядом с фортом Второго легиона, и на то, что Второй снялся с места. Казалось вполне вероятным, что если я теперь приду с предложением о приключении, то вполне могу найти товарища, у которого зудят ноги.
* * *
Бывший центурион Руфрий Виталий жил в небольшом каменном домике на ферме с красноземом, примостившейся неподалеку от мрачных болот. Все его соседи были видавшими виды ветеранами, которые тоже занимались фермерским хозяйством. Я заметил его в городе, специально с ним столкнулся и заявил, что знаю его, хотя на самом деле его помнил, но не очень хорошо. Он же так отчаянно желал услышать новости о Риме, что мы мгновенно оказались старыми товарищами.
Он поддерживал себя в хорошей форме. Этот физически крепкий, сильный, толковый мужик с внимательными глазами и серой щетиной на подбородке обветренного лица был родом из Кампании, из семьи фермеров. Даже в Британии он работал на улице в одежде с коротким рукавом. В нем было столько энергии, что он мог не обращать внимания на холод. Перед уходом в отставку Руфрий Виталий отслужил тридцать лет — на пять больше, чем требовалось, но после восстания опытным солдатам предложили послужить в Британии дополнительно за более высокое жалованье. Я никогда не перестану удивляться тому, что люди делают за двойную оплату.
Мы провели какое-то время в кабачке, обмениваясь сплетнями. Когда он повел меня домой, я не удивился, обнаружив, что он живет с местной женщиной — ветераны так обычно и делают. Ее звали Труфорна. Она была намного младше его, бесформенной и какой-то бесцветной, просто мучнистая пышка с бледно-серыми глазами, но я понимал, как мужчина, оказавшийся в лачуге за океаном, может убедить себя, что и Труфорна имеет фигуру и привлекательную внешность. Мой новый знакомый явно игнорировал свою женщину, а она, в свою очередь, бродила по маленькому домику, наблюдая за ним.
В доме Руфрия Виталия мы продолжили беседу, используя при этом спокойный тон, не демонстрируя никакого возбуждения, дабы не беспокоить Труфорну. Меня спросили, зачем я приехал. Я упомянул кражу, коснулся политических тем, хотя и не стал точно указывать, какой именно политический уклон имеет это дело. Руфрий не спрашивал. Любой рядовой, дослужившийся до центуриона до выхода в отставку, имеет слишком большой опыт, чтобы его интересовала политика. Ему хотелось знать, какую стратегию я планирую.
— Пробраться внутрь, расследовать, что происходит, выбраться.
Он недоверчиво покосился на меня.
— Это не шутка. Это все, что я могу придумать.
— Разве прокуратор не может тебя пристроить?
— Меня беспокоит, как выбраться!
Он снова посмотрел на меня. Мы разделяли чувства по отношению к классу администрации. Он понимал, почему я предпочитаю собственный план и кого-то, кому могу доверять, чтобы вытянул меня за веревку, когда я крикну.
— Тебе нужен помощник, Фалько?
— Да, но кого я могу попросить?
— Меня?
— Как насчет твоей фермы?
Он пожал плечами. Это требовалось решать ему самому. Он задал настоящий вопрос.
— Мы тебя туда пристраиваем, мы тебя вытаскиваем. Что происходит потом?
— Если солнце будет нам светить, то я возвращаюсь прямо в Рим!
Мой крючок попал ему прямо в горло. Мы говорили о Риме, пока его сердце не стало вылезать из-за ребер. Он спросил, не удастся ли кому-то еще пристроиться ко мне. Может, найдется какая-то вакансия? Поэтому я предложил нанять его ответственным за багаж Елены Юстины. Наши глаза из-под опущенных век покосились на Труфорну.
— А как быть с ней? — тихо спросил я.
— Ей не нужно ни о чем знать, — объявил Виталий со слишком большой уверенностью.
«О, центурион!» — подумал я. Но это тоже должен был решать он.
* * *
Он знал район. Я позволил ему разработать план.
Через неделю мы прибыли в Вебиодун, к серебряным рудникам. Виталий сидел на малорослой лошади, одетый в кожу и меха, и изображал из себя охотника из разряда тех, которые истребляют вредных животных за вознаграждение. Я бежал за ним в лохмотьях раба. Виталий пояснил старшему мастеру, что путешествует по известняковым ущельям и собирает беглых рабов из пещер. Он выбивает из рабов имена их хозяев, которым и возвращает беглецов за вознаграждение. Я отказался сказать, кому принадлежу, поэтому через три надели, которые Виталию пришлось меня кормить, он потерял терпение и решил восстановить мою память, заставив меня немного поработать на рудниках.
Руфрий Виталий с возмущением представлял версию, которую мы разработали. Он надел на меня кандалы, на самом деле ударил, чтобы оплыл глаз, а на щеке осталась запекшаяся кровь, затем вывалял меня в свином дерьме, позаимствованном у какого-то беззубого деревенского жителя. Мой мрачный внешний вид, как и запах, убедительно подтверждали его рассказ. Виталий заявил, что, по его мнению, я убил своего хозяина и поэтому и не желаю признавать, кто я такой. Без этой характеристики добродетельности моей натуры я мог бы и обойтись. Виталий заявил, что я вполне мог сбежать из Вебиодуна.
— Я зову его Весельчак, потому что он никогда не веселится. Не дай ему сбежать, — сообщил Виталий. — Я вернусь, когда смогу, чтобы проверить, не решил ли он со мной немного побеседовать.
Мастер всегда называл меня Весельчак, а я никогда им не был.
Глава 26
Из соседней округи холмы выглядят обманчиво. Известняковый кряж, где расположены свинцовые рудники, выглядел не более враждебно, чем какая-либо из низких гор южной Британии. Только по приближении к этому кряжу с юга или запада у вас перед глазами внезапно начинают вырастать голые острые скалы, совершенно не похожие на мягко поднимающиеся известковые холмы в других местах. С южной стороны лежат ущелья и древние пещеры, бегут непредсказуемые воды, которые уходят вниз, под землю, или яростно разливаются после внезапного дождя. Северная сторона более спокойна, там, на крутых склонах стоят маленькие деревушки. Между ними проложены опасные тропы, которые то поднимаются вверх, то спускаются вниз, огибая участки пастбищ.
С востока кажется, что эта местность вообще едва ли поднимется. Дорога к рудникам никак не отмечена. Все официально прибывающие, по делу идут с проводником. Одиночным визитерам поселение найти трудно.
Если ехать со стороны границы, то лес и фермерские угодья незаметно отступают. Практически без предупреждения ты теряешь из вида сельскую местность внизу, и дорога пересекает холодное лишенное растительности плато. Она ведет только к рудникам. Идти по этому голому плато неприятно, одиноко. Все в округе кажется серым, а широкая Сабрина постоянно дает себя почувствовать, даже на удалении от берегов. Эта узкая дорога на высоте тянется по известняку на протяжении десяти миль. С каждой милей пустошь, бессменный унылый пейзаж и порывы ветра все больше и больше влияют на настроение, делая его меланхолическим. Даже в самый жаркий летний период на эту длинную дорогу налетают ветры, но и тогда солнце не особо греет, потому что плывущие высоко по небу облака бросают тени на безлюдную пустынную местность.
* * *
Я работал в свинцовых рудниках на протяжении трех месяцев. После восстания это было самое худшее время в моей жизни.
Я пробрался во все уголки шахты, нашел ямы на открытом воздухе, где породу просто выкапывали из земли. Потом трудился в помещении, в первой плавильне — на самой жаркой работе в мире. Затем я получил повышение на участок купелирования с распределительной печью, где рабочие раздували меха и горячим воздухом раскаляли металл до бела, отделяя от очищенных кусков вкрапленное в них серебро. Там я вначале раздувал меха, а потом собирал и сортировал остывшее в печи к концу дня серебро. Для раба подобная работа по сбору серебра — редкость, и считается большой удачей. Если повезет, то удается чуть-чуть украсть. Конечно, обжигаешь пальцы. Но после такой работы в голове появляется мысль: побег! Эта мысль горит, словно негасимый огонь.
Каждый день проводился обыск, но мы находили свои, не самые приятные способы его пройти. Даже теперь я время от времени просыпаюсь по ночам и резко сажусь в постели весь в поту. Моя жена говорит, что я никогда не произношу никаких звуков. Рабы умеют скрывать любую мысль.
Было бы легко сказать, что только смерть Сосии удерживала меня на плаву. Легко, но глупо. Я никогда не думал о ней. Воспоминание о чем-то таком ярком и светлом в этой убийственной дыре только усилило бы агонию. Меня заставляла продолжать поиски воля и самодисциплина. В любом случае обо всем забываешь.
У раба нет времени на неторопливые воспоминания в свободное время. Его просто нет. Мы не тешили надежд на будущее, мы не помнили прошлое. Вставали на рассвете, засветло, слабо переругивались над тарелками каши, которую раздавала грязная женщина. Эта женщина, казалось, никогда не спала. Потом мы молча шли по спящему поселку, изо рта валил пар, клубы которого кружили вокруг нас, словно призраки. На шеях мы носили ошейники, за которые нас цепями прикрепляли друг к другу. У пары счастливчиков имелись шапочки, которые они низко натягивали на грязные головы. У меня этого никогда не было, мне никогда не везет. В час, когда только начинает светать, и холодный свет кажется отчасти возбуждающим и зловещим, а ноги мокнут от росы, и каждый звук разносится в тихом воздухе на много миль, мы, шатаясь, отправлялись на очередные рабочие места. С нас снимали цепи, и начиналась работа. Мы целый день копали. Во время единственного перерыва мы пустыми взглядами смотрели в никуда, каждый уходил в себя и лелеял свою мертвую душу. Когда темнело так, что уже ничего не было видно, мы стояли, опустив головы, словно изможденные животные, и ждали, когда нас снова скуют цепями. Потом нас, рабов, вели назад, кормили, после чего мы падали и засыпали. На следующий день мы просыпались в темноте, и все повторялось снова.
Я говорю «мы». Там были преступники, военнопленные (по большей части бритты и галлы), беглые рабы (опять по большей части представители различных кельтских племен, но встречались и другие — сардинцы, африканцы, испанцы, ликийцы. С самого начала у меня не возникало необходимости притворяться. Жизнь, которую мы вели, сделала меня одним из них. Я верил, что я раб. Синяки, растянутые мышцы, грязные волосы, разбитые и порезанные пальцы — все это у меня было, вдобавок мое тело покрылось волдырями и, как и у всех остальных, почернело от грязи. У меня все чесалось, причем постоянно и во всех местах. Я редко разговаривал, а если и открывал рот, то ругался. Раньше в моей голове кружились мечты, теперь они выветрились. Нынешняя жизнь была наказанием. Если бы я услышал поэзию, то она вызвала бы у меня негодование, или я бы просто тупо уставился на чтеца. Он произносил бы бессмысленные для меня звуки на иностранном языке.
Я научился ругаться на семи языках и очень этим гордился.
* * *
Во время работы сборщика и сортировщика я впервые столкнулся с организованным воровством. Заметив первые свидетельства этого явления, я обнаружил такую коррупцию, которая пронизывала всю систему, что было сложно разделить вклад в воровство, вносимый каждым отдельным человеком. Здесь существовало и мелкое воровство отдельных лиц, и грандиозное мошенничество, которое могло быть организовало только руководством. Все об этом знали и молчали. Никто никого не сдавал, потому что на каждом этапе всякий задействованный человек немного брал себе. После того как он взял один раз, он становился виновным в тяжком преступлении. За такое преступление предусматривалось два вида наказания: или казнь, или рабство в рудниках. Все, кто какое-то время жили в Вебиодуне и видели наше плачевное состояние, знали, что казнь предпочтительнее.
В конце декабря, в виде подарка к Сатурналиям, появился Руфрий Виталий. Он выглядел цветущим, за широкий коричневый ремень Виталий заткнул кнут из шкуры какого-то животного. Он приехал посмотреть, достаточно ли я узнал, чтобы меня вытащить. При виде моего плачевного состояния, его честное лицо помрачнело.
Он увел меня от печи, затем проехал какое-то время по тропе, для вида подгоняя меня кнутом. Затем мы уселись во влажных папоротниках, где нас никто не мог подслушать.
— Фалько! Судя по твоему виду, тебя нужно немедленно отсюда вытаскивать.
— Пока не могу уйти. Пока нет.
К этому времени я стал угрюмым. Я больше не верил в освобождение. Я чувствовал, что теперь моя жизнь всегда будет крутиться вокруг печей. Носить я буду только в набедренную повязку, моя бритая голова будет блестеть от пота и грязи, а руки навсегда останутся красными и обожженными. Единственной целью станет украсть побольше серебра лично для себя. Мои умственные и физические возможности настолько снизились, что я почти утратил интерес к тому, зачем я сюда приехал. Почти, но не совсем.
— Фалько, ты спятил? Продолжать подобное — это самоубийство…
— Это не имеет значения. Если я уйду слишком рано, то больше не смогу жить со своей совестью. Виталий, я должен закончить дело.
Он уже собрался ворчать, но я быстро перебил его.
— Я рад тебя видеть. Мне нужно передать информацию на тот случай, если я сам не смогу представить полный отчет.
— Кому?
— Прокуратору по финансам.
— Флавию Иларию?
— Ты его знаешь?
— Я знаю о нем. Говорят, что он честный человек. Послушай, парень, времени мало. Будет подозрительно, если я тут останусь надолго. Я его найду. Просто скажи, что ему передать.
— Он должен быть на вилле у Дурноварии.
Гай обещал жить там, в пределах досягаемости, на тот случай, если мне удастся передавать послания.
— Скажи ему вот что, Виталий: все рудники коррумпированы, причем в гигантских масштабах. Вначале, когда куски руды выходят из первой плавильни перед купелированием, их считает один скользкий тип, который на самом деле не умеет считать. Он ставит палочку на дощечке, но иногда просто «забывает» ее поставить. Поэтому все цифры, которые Трифер сообщает казначейству, неправильны с самого начала. Это касается и производства в целом, и отдельных этапов.
— Ха! — Виталий, видимо, предполагал, что слышал в жизни почти все, однако был удивлен услышать новую уловку.
— Потом каждый день несколько кусков не доходят до купелировки. Удивительно, сколько их не доходит, хотя я думаю, что количество постепенно увеличивалось на протяжении лет. В результате получается, что каждый кусок дает меньше серебра, чем должен бы. Как я понимаю, снижение выдачи серебра объяснялось Риму во времена Нерона, как геологические разновидности в залежах руды. В ту пору на все смотрели сквозь пальцы, поэтому на тот случай, если теперь Веспасиан прикажет кому-нибудь проверить цифры, в считаные недели подбрасывается несколько дополнительных слитков и заявляется, что минерологи обнаружили лучший пласт.
— Какой тонкий подход!
— О да, мы тут имеем дело с экспертами. Ты способен все это запомнить?
— Попробую. Фалько, верь мне. Продолжай.
— Теперь о слитках чистого серебра, которые получаются после купелирования. Некоторые теряются. Это неизбежные потери.
Руфрий Виталий снова с восхищением фыркнул.
— Затем, куски свинца, из которых извлекли серебро, снова отправляются в плавильню…
— А это зачем?
— Чтобы очистить от различных добавок перед тем, как отправить на продажу. Mars Ultor, Виталий, давай не углубляться в технические детали, иначе мы вообще запутаемся! И так все сложно. Иларий должен знать процедуру…
Виталий положил мне руку на плечо, чтобы я успокоился и говорил тише. Я вспотел от усилий, пытаясь рассказать ему все. Я нахмурился и продолжал.
— После второй плавки исчезают еще какие-то слитки. Правда, поскольку к тому времени их ценность значительно уменьшается, на последнем этапе они исчезают в меньшем количестве, и в этом уже не участвует начальство. Очевидно, это позволяется надсмотрщикам в качестве привилегии, чтобы оставались довольными.
Я замолчал. Я так отвык говорить, что представление всех этих деталей меня утомило. Я отвык ясно выражать мысли. Я видел, что Виталий за мной внимательно наблюдает, хотя после первой попытки он больше не делал предложений вернуть меня в цивилизованное общество. Я правильно выбрал товарища. Он понял все, что я сказал, и все, что это подразумевает.
— Как им это сходит с рук, Фалько?
— Это полностью закрытое сообщество. Никого со стороны сюда не допускают.
— Но у них цивилизованное поселение…
— В котором у каждого пекаря, цирюльника и кузнеца есть право на обеспечение рудников. Специальная лицензия! Все они — люди, и вскоре после появления здесь их подкупают, и они включаются в систему.
— Как ты считаешь, о чем думают молодые мечтатели из форта?
У поселения стояла небольшая крепость, аванпост Второго полка Августа. Предполагалось, что он следит за рудниками. Я улыбнулся Виталию. Вероятно, он предполагал, что после его отставки, вся дисциплина в армии пошла к чертям собачьим.
— Ты говоришь как центурион! Никто не может их винить. Конечно, все операции проходят проверку…
— И офицеров, и солдат следует регулярно менять…
— Их и меняют. И я видел, как из форта к нам приходят расчеты, чтобы оглядеться. Как я понимаю, они путаются, потому что все слитки выглядят одинаково. Как они могут определить, в которых есть серебро, а в которых нет?
— А как кто-то может это определить?
— А-а! Слитки, которые крадут до купелирования, маркируют особым образом:
Т КЛ ТРИФ, четыре раза.
— Фалько, ты это видел?
— Я видел их здесь, и скажи прокуратору Флавию, что я видел один такой в Риме!
Он все еще лежал в чане для отбеливания в прачечной у Лении… Рим! Я когда-то там жил…
Наш разговор прервали. Моя нынешняя жизнь научила меня чувствовать неприятности, как лесной олень, который улавливает их с дуновением ветра. Я коснулся руки Виталия, чтобы предупредить его, и мы быстро изменили выражения лиц.
— Привет, Виталий! Этот мерзавец в чем-то признался?
Это был Корникс — мерзкий и наглый мастер, настоящий специалист по применению пыток к рабам, садист с широкими, словно налитыми свинцом, плечами и лицом, вырубленным, как кусок мяса. Жизнь наложила на него отпечаток. Как только я появился на рудниках, Корникс выбрал меня мишенью для издевок и безжалостно третировал. Однако в его курином мозгу все-таки брезжила мысль, что я когда-нибудь могу вернуться к какой-то предыдущей жизни и рассказать о нем.
Виталий пожал плечами.
— Ничего. Молчит. Завязал рот, словно девственница передник. Мне его оставить еще ненадолго? Есть вам от него какая-то польза?
— Никакой, — соврал Корникс.
Это было неправдой. К этому времени я конечно устал от работы, но при появлении на рудниках был сыт и крепок. Я смотрел в землю, скрывая негодование, пока Виталий и Корникс притворялись, будто ведут переговоры.
— Внимательно следи за ним и заставляй побольше работать, — с упреком в голосе говорил Руфрий Виталий мастеру. Я стоял рядом с жалким видом. — Еще несколько недель туманов и морозов — и он сам запросится домой. Но я не смогу много за него получить в его нынешнем состоянии. Ты не мог бы немного подкормить ублюдка? Я могу поделиться с тобой наградой. Например, пополам?
При этом намеке Корникс мгновенно согласился перевести меня на более легкую работу. Когда Виталий уехал после легкого кивка мне в виде прощания, я закончил работу сборщика серебра из печи и был переведен в возницы.
— Это твой счастливый день, Весельчак! — неприятно ухмыльнулся Корникс. — Пошли праздновать!
До этого мне удавалось избегать привилегии быть выбранным в сексуальные партнеры Корникса, правда, требовалось проявлять изворотливость. Я сказал негодяю, что у меня болит голова. Для снятия боли он со всей силы мне врезал.
Глава 27
Казалось, что быть возницей не трудно. Поскольку мы ехали по гористой местности, то использовали мулов, а в повозку укладывали четыре слитка. Это был большой вес, и ехали мы дьявольски медленно.
В путь отправлялось сразу же несколько повозок. Я следовал во второй, сразу же за главным. Говорили, что новый парень просто не знает дороги. На самом деле, пока себя не зарекомендуешь, начальство принимало предосторожности на случай побега.
Никому из рабов, вкалывающих в рудниках, никогда не доверяли. Тем не менее я к тому времени научился придавать своему лицу честное выражение. Мне доверяли, если вообще кому-то доверяли.
Мне требовалось провести последнюю проверку воровства богатств империи. Покинув рудники, мы проезжали мимо форта, где солдаты считали все слитки и выписывали соответствующий документ — грузовой манифест. Этот документ следовал с серебром до самого Рима. Из Вебиодуна вела одна хорошая дорога — к границе. Все повозки со слитками должны были проезжать по ней, поскольку другие были слишком узкими или слишком неровными для такого груза. Это означало, что все слитки, которые когда-либо покидали рудники, регистрировались в официальном документе — этом самом грузовом манифесте.
Нашей целью был военный порт в Абоне. Чтобы добраться до широкого устья, мы вначале поворачивались к нему спиной, следовали десять миль на восток к дороге вдоль границы, по ней ехали на север к священным источникам, затем — на запад по еще одному ответвлению дороги. В целом путь составлял примерно тридцать миль. К устью подходили тяжелые баржи для перевозки слитков. Они везли их вокруг двух мысов, а затем под охраной британского флота через пролив. Потом они следовали по Европе наземным путем. Большая честь серебра отправлялась на юг через Германию. Его прохождение гарантировало большое количество расквартированных там войск.
Я уже знал Абону. Ничто не изменилось. Мы с Петронием Лонгом когда-то провели там два мерзких года на таможенном посту. Пост так и стоял там, и на нем по-прежнему служили молодые солдаты, и на их новых плащах еще не выцвела краска. Они ходили словно вельможи, игнорируя угрюмых рабов, которые доставили сокровища империи. У всех этих парней были худые лица с заостренными чертами, текло из носа, но в отличие от наших проныр и соглядатаев на рудниках, все они умели считать. Они проверяли документ и внимательно считали все слитки. По прибытии баржей они снова их пересчитывали. Пусть небо поможет Триферу, если что-то здесь не сойдется по количеству или весу.
Все всегда сходилось. Но так и должно было быть. После выезда повозок на дорогу из Вебиодуна, мы всегда останавливались, чтобы возницы могли отлить перед деревней, расположенной перед самой границей. Мы останавливались и отдыхали, независимо от того, требовалось это кому-то или нет. Грузовой манифест менялся, пока мы там находились.
* * *
Теперь видел конец. После трех поездок я оказался довольно далеко от начала каравана. И я мог видеть, что происходило после того, как мы покидали эти жалкие плетеные лачуги, в одной из которых не вполне честный работник занимался бумагами. После того как основная часть каравана на идущей вдоль границы дороге заворачивала к северу, последние две повозки тихонечко отделялись и следовали на юг. Использование ворами военной дороги может показаться глупым, хотя это была хорошая дорога, позволяющая быстро передвигаться. От нее велись подходы ко всем плацдармам для высадки морского десанта на южном побережье. Обычный транспорт, который регулярно и открыто проезжал каждую неделю, легко пропустят все войска, которые они только встретят. А отвод Второго полка Августа в Глев ясно говорил о том, что эта часть дороги больше не подвергалась активному патрулированию.
Теперь я восстановил былую форму. У меня была четкая цель: завоевать достаточно доверия, чтобы меня посадили на одну из повозок, отправлявшихся на юг. Я отчаянно хотел выяснить, куда они направляются. Если мы найдем их порт посадки, то сможем определить, какой именно корабль отвозит украденные слитки в Рим. Корабль и его владелец должны составлять часть заговора.
Я достаточно пожил, чтобы понимать риск и помнить, что у меня могут сдать нервы. После трех месяцев тяжелого труда и жестокого обращения, при наихудшем питании в империи я был изможден физически и психологически. Тем не менее новый вызов творит чудеса. Вернулась моя внимательность, а нервы я держал под контролем.
Но я не учел удачу Дидия Фалько.
* * *
Шанс представился мне в конце января. Половина рабочих заболели и лежали в сараях, где жили рабы. Некоторые заболели так серьезно, что перестали бороться за жизнь и умерли. Те, кто остался на ногах, чувствовали себя отвратительно, но дополнительные усилия того стоили, потому что если ты жив — получаешь дополнительный паек. Еда была ужасной, но помогала бороться с холодом.
Прошел легкий снегопад, никто не был уверен, отправят ли на этой неделе повозки. Небо стало ясным, и показалось, что следует ждать еще больших холодов. Зима по-настоящему вступала в свои права. В последний момент груз все-таки решили отправить, собрав лишь нескольких возниц. Даже начальник каравана был другой. Я оказался на предпоследней повозке. Никто ничего не сказал, но я знал, что это означает.
Мы подъехали к форту. Недовольный центурион с распухшими от болотной лихорадки глазами вышел и проштамповал наш грузовой манифест. Мы тронулись в путь. Было так холодно, что нам даже выдали грубые фетровые плащи с остроконечными капюшонами, а заодно снабдили и рукавицами, чтобы могли держать вожжи. На возвышенностях ветер налетал на людей с низко висящих туч, рвал одежду и был таким холодным, что мы прищуривались и оскаливались и стонали от жалости к самим себе. Темная полоса повозок ползла по пустой дороге. В одном месте оказалась яма, наполненная талым снегом и жидкой грязью. Нам пришлось слезть с повозок и вести мулов под уздцы, потом тянуть их вверх на склон под дикие завывания ветра. Затем мы кружили по серой местности, где тут и там маячили могильные холмы забытых царьков. Потом мы попали в густой туман.
Когда мы остановились для подделки документа, мы все — и надсмотрщики, и рабы оказались в одной упряжке, страдая от нестерпимого холода. У сопровождавшего нас человека возникли проблемы: в доме было слишком темно, а на улице, куда он попытался выйти из дома, слишком ветрено. Мы, казалось, стояли целую вечность, сжимаясь под укрытием тележек. Мы сгибались в три погибели и корчились, пытаясь хоть как-то защититься от ветра. До деревни мы добирались в два раза дольше обычного. Небо стало опасно менять цвета: стало каким-то желтовато-серым. Похоже, ожидался снег.
Наконец мы снова были готовы тронуться в путь. До поворота у границы предстояло проехать две мили. Начальник каравана мне подмигнул. Повозки тронулись в путь. Мулам всегда трудно тронуться с места с такой поклажей, а в этот день, когда дороги пребывали в столь плачевном состоянии, животные справлялись с задачей еще хуже, чем обычно. Животные заскользили в железных подковах по грязи, которая превращалась в лед практически на наших глазах, затем яростно дернулись, заклинило одну ось — она обледенела. Застрявшие задние колеса пошли в сторону, ось затрещала, одно колесо отвалилось, один угол повозки внезапно накренился, мулы завопили и встали на дыбы. Я тоже встал и в следующее мгновение вылетел на дорогу, а мой груз полетел в канаву. Сломанная повозка осела на одну сторону. Один мул так пострадал, что нам пришлось перерезать ему горло, другой вырвался и унесся прочь.
По какой-то непонятной причине все стали винить в случившемся меня.
* * *
О свалившемся грузе долго спорили. Если вести его в Абону, нужно снова менять грузовой манифест, не считая проблем размещения дополнительных слитков на других повозках. Тогда получится по пять. Кроме того, мои слитки были особенными — этот украденный товар предстояло продавать незнакомцам. Это были украденные слитки с серебром. Не для Абоны! Другая повозка, предназначенная для отправки на юг, не сможет отвезти восемь слитков. После долгих споров людей, совершенно не привычных к решению проблем, тем более, стоя в темноте на пронизывающем холоде, было решено оставить мой груз здесь и контрабандным путем доставить его назад в Вебиодум на обратном пути.
Я вызвался остаться с грузом.
* * *
После того как остальные уехали, стало ужасно тихо. Несколько местных хижин использовались скотоводами летом и теперь пустовали. У меня было убежище, но я понимал: если погода еще ухудшится или пройдет сильный снегопад, мои товарищи задержатся. Я могу остаться в этом капкане на долгое время без еды. С гор пришел дождь, причем такой мелкий, что не шел, а прилипал к лицу и одежде, если я выглядывал наружу. Прекращаться он не собирался. Впервые за три месяца я остался совершенно один.
— Привет, Марк! — сказал я, словно приветствовал друга.
Я стоял и думал. Это был как раз момент для побега, но меня оставили здесь одного по одной единственной причине — в середине зимы через горы не пробраться. Любого, кто попытается сбежать, найдут только весной вместе с замерзшими коровами и утонувшими овцами. Я, может, и добрался бы до ущелий, но меня там никто не ждал. И я все еще хотел выяснить, как переправляются слитки.
Дождь прекратился. Стало холоднее. Я решил действовать. Согнувшись в три погибели, я поднимал слитки по одному за раз и шатаясь уносил их подальше от дороги, через канаву. Там я выкопал яму в мокрой земле. Тогда я и обратил внимание, что только на одном из четырех слитков стояло четыре клейма, по которым мы определяли, что в них все еще остается серебро. Трифер обманывал заговорщиков. Они пытаются подкупить преторианцев свинцом! Я опустился на корточки. Если мы скажем это преторианцам, то у заговорщиков начнутся проблемы, и Веспасиан окажется в безопасности.
Я закопал все четыре слитка и отметил место грудой камней, после чего отправился пешком назад к рудникам.
Путь составлял восемь миль — достаточно времени, чтобы убедить себя: я дурак. Чтобы заставить ноги передвигаться, я вел долгий разговор с Фестом, своим братом. Это не помогло — Фест тоже считал меня дураком.
Странно разговаривать с мертвым героем, но Фест обладал удивительным магнетизмом, и от разговоров с ним, когда он был жив, мне всегда становилось легко. Здесь, под затянутым тучами небом, я был замерзшей точкой, передвигавшейся по темному плато назад в страшное рабство, в которое попал по собственной воле. Разговор с Фестом казался более реальным, чем мой собственный дикий мир.
Полдня спустя на последнем участке пути я сошел с дороги, чтобы срезать угол. Римские дороги обычно проложены прямо, только если нет особой причины делать повороты. Здесь такая причина имелась, и широкая дуга была оправданной. Она огибала колодцы и ямы отработанной шахты. Шатаясь, я пробирался сквозь палки, напоминающие копья, — стебли засохших растений. Внезапно земля исчезла. Ноги соскользнули с торфа, покрытого тонким слоем льда, и я полетел вперед и свалился в одну из ям. Я поскользнулся и подвернул ногу. Вначале я ничего не почувствовал боли, но, когда стал выбираться из ямы, ногу пронзила боль. Я сразу же понял, что у меня сломана кость. Фест сказал, что подобное могло произойти только со мной.
Я лежал на спине и смотрел в холодное небо, и говорил моему героическому брату, что я обо всем этом думаю.
* * *
Пошел снег.
Воцарилась мертвая тишина. Если я останусь лежать тут, то умру. Если я умру здесь, то могу и искупить вину за случившееся с Сосией, но кроме отчета, отправленного мною Иларию (если Руфрий Виталий до него когда-нибудь доберется и все толково объяснит) я ничего больше не сделал. Умереть, не рассказав всего, что я выяснил, — глупо, особенно после всего, что мне пришлось пережить.
Снег продолжал падать, жестоко, спокойно и безмятежно. Я согревался, пока ходил, но, как только лег, тепло покинуло мое тело. Я заговорил, теперь мне никто не отвечал.
Лучше предпринять усилие, даже если оно провалится. Я, как мог, соорудил шину — нашел старую палку и обвязал ее веревкой из козьей шерсти, которую использовал в качестве ремня. Сработано было плохо, я смог держаться на ногах. Едва.
Я заковылял дальше. Назад в Вебиодун. От меня не будет пользы в Вебиодуне, но больше идти мне было некуда.
Одна моя знакомая потом спросила меня, почему я не попросил убежища у солдат в крепости. Причин было две, даже три. Во-первых, я все еще надеялся выяснить, куда отправляют украденные слитки. Во-вторых, если сумасшедший истощенный раб появится с пустоши и станет заявлять, что он — личный представитель прокуратора, отвечающего за финансы в деле, затрагивающем интересы императора, то может ожидать только порки. В-третьих, не все информаторы идеальны. Мне это не пришло в голову.
У меня все онемело. Я был изможден, промерз снаружи и изнутри, был разочарован и терпел боль. Я пришел к рудникам. Хромая, приблизился к месту последней выработки и, шатаясь, предстал перед мастером Корниксом. Когда я сказал ему, что оставил четыре украденных слитка без надзора, он издал рык и схватил один из шестов, которыми мы иногда подпираем породу, нависающую сверху. Я открыл рот, чтобы объяснить, как надежно закопаны слитки. Но до того как я успел открыть рот, сквозь снег, залепляющий мне глаза, я увидел, как Корникс замахивается шестом. Он врезался мне в бок и сломал несколько ребер. Ноги подогнулись, привязанная к ноге палка треснула и я, падая, потерял сознание.
Когда они бросили меня в подвал, я ненадолго пришел в себя и услышал восклицание Корникса.
— Пусть там сгниет!
— А если придет охотник?
— Никому не нужен этот слюнтяй, — выпалил Корникс и расхохотался. — Если кто-то про него спросит, он мертв. И он на самом деле скоро умрет!
Именно тогда я понял, что никогда не вернусь домой.
Глава 28
Мой слух, казалось, необычно обострился. Это было понятно. Я оставался в сознании только благодаря звукам, доносившимся снаружи. Крупицы сознания помогали мне остаться в живых.
Я не мог пошевелиться. Никто не приходил, чтобы поговорить со мной. Я не видел ничего, кроме различных оттенков серого, которые отличали день от ночи. Меня окружали влажные каменные стены. Окон не было, а в камнях имелись щели. Иногда дверь со скрипом открывалась, и мне вталкивали миску с густой жирной похлебкой. Я предпочитал дни, когда обо мне забывали.
Я не знал, сколько времени провел в заточении. Вероятно, меньше недели. Неделя для человека, которого оставили умирать, кажется вечностью.
По шагам скованных цепью рабов, проходивших мимо, я научился определить, идет ли дождь или просто висит обычный зимний туман. Я также слышал грохот повозок, иногда улавливал стук копыт лошадей и знал, что мимо проехал офицер из форта в малиновом плаще. Иногда ветер доносил До меня отдаленный стук топоров и звук падающего в деревянные ведерки угля. Плавильная печь постоянно шумела, я слышал, как раздували меха, это иногда разнообразило звуки плавильни.
Теперь, иногда вспоминая, что произошло дальше, я улыбаюсь.
Однажды я услышал стук копыт лошади, которая тянула какую-то повозку, явно отличавшуюся от тех, которые постоянно проезжали мимо. Также по-деловому проехало несколько всадников и остановились неподалеку. Голос, принадлежащий военному, объявил имя прокуратора Флавия. Кто-то заворчал. Затем прозвучал еще один голос — резко, словно скобель на дереве.
— … тот, кого вы называете Весельчаком.
Так, я на самом деле в плохой форме. Начались галлюцинации, если и не сама смерть приблизилась ко мне. Голос, похоже, принадлежал сенаторской дочери. Вначале я даже не мог вспомнить ее имя. Затем я словно втащил его в сознание из другого мира. Елена.
— Так, кто это… Думаю, он мертв…
— Тогда я должна буду осмотреть тело! Если вы его похоронили, выкопайте его.
— О, госпожа, пусть мои слуги подадут вам самое лучшее вино!
Дверь со скрипом отворилась и повисла на одной петле. Я увидел неожиданно ослепляющий огонь.
— О да! Это он — наш ценный беглец!
Я не мог выругаться, поскольку слишком охрип, но мне все-таки это удалось.
* * *
Мастер Корникс стоял сразу же за ее плечом. Выглядел он жалким и присмиревшим. Она недовольно оглядела мою камеру, затем заговорила резким и ехидным голосом.
— Что это вы ему устроили? Отдых в постели и особый уход?
Мне стало жаль Корникса. Ее отношение было невыносимо. Кроме того, она прибыла с военным сопровождением. Он ничего не мог сделать.
Корникс стащил меня с тонкой подстилки из вонючего папоротника, а потом положил у ее ног в грязь снаружи. Я закрыл глаза. Свет меня слепил, несмотря на большие облака. Я успел увидеть молодую женщину, одетую во что-то синее, шерстяное. Я помню складки на платье и нахмурившееся белое лицо, обрамленное мягкими, прямыми волосами.
На мгновение я почти потерял сознание.
— Марк! — произнесла Елена Юстина покровительственным тоном, которым говорила бы с обесчестившим себя рабом.
Мое лицо лежало в луже всего в нескольких дюймах от ее ног.
Красивые ботинки. Серая кожа с маленькими круглыми дырочками для шнурков. И лодыжки гораздо лучше, чем она заслуживала.
— Ну и сцена! Дядя Гай так в тебя верил. Ты только посмотри на себя!
А что она ожидала? Беглец редко упаковывает чистые туники, личную губку и туалетные принадлежности… Я держался за реальность в виде белого пятна — незнакомого враждебного лица.
— О, в самом деле, Марк! Чего ты добился? Сломанная нога, сломанные ребра, обморожение, стригущий лишай и грязь!
Ей было неудобно смотреть на эту грязь. Елена отправила меня в баню, предоставляемую официальным лицам, перед тем как я обесчестил повозку ее тети. Солдат, который, вероятно, знал, кто я на самом деле, привязал мою ногу к новой шине. Видимо, ему было стыдно, и он не смог сделать это лучше.
* * *
К тому времени как Елена позволила мне забраться в повозку, меня полностью отмыли и переодели из лохмотьев в чью-то далеко не самую новую тунику. Пахла она незабываемо, хотя в несколько раз лучше, чем от меня воняло раньше. Корникс отбыл в места содержания рабов в приступе желания пытать и насиловать. Я дрожал. Госпожа набросила на меня плед, предназначенный для путников, и издала при этом злобное шипение. Мне казалось, что я так и не обсох. Мне удалось вымыться, но мытье под наблюдением солдата и Корникса не позволяло достаточно хорошо вытереться, в особенности между пальцев.
У меня дико чесалась голова, чистота опьяняла. Вся моя кожа чувствовала себя ожившей, легкое дуновение ветра ранило мое лицо.
Елена Юстина достала плащ, который я узнал. Смутные воспоминания подсказали, что это мой плащ из другой жизни. Приличное темно-зеленое одеяние с крепкими металлическими застежками. Вероятно, когда-то я был парнем, не обделенным вкусом. Каким-то образом я забрался в повозку с впряженной в нее небольшой лошадкой.
— Отличная упряжка! — сказал я Елене, стараясь, чтобы голос звучал привычно, как у меня в прошлом. Затем я вспомнил, что она женщина и, как хороший парень, предложил взять вожжи.
— Нет, — ответила она.
Некоторые сказали бы: «Нет, спасибо». Тем не менее я едва ли мог сидеть прямо на сиденье. Она устроилась сама и только после этого удостоила меня следующего обращения.
— Если бы у тебя имелось собственная упряжка, ты позволил бы мне ею управлять?
— Нет, — согласился я.
— Ты не доверяешь женщинам. Я не доверяю мужчинам.
— Справедливо, — сказал я и подумал, что она права: многие мужчины склонны к озорству или даже опасны на колесах.
Лошадка бойко тронулась в путь, и вскоре поселение осталось позади. Елена Юстина, как и следовало ожидать, ехала впереди, быстро оторвавшись от сопровождения. Небольшой, но явно надежный и отважный эскорт робко следовал сзади.
— Скажешь мне, если я поеду слишком быстро и тебя испугаю, — бросила она мне вызов. Смотрела она только прямо вперед.
— Едешь ты слишком быстро, но меня не пугаешь!
Она свернула на боковую дорогу.
— Ты не туда повернула. Нужно следовать на восток, по дороге через возвышенности.
— Нет. У нас есть солдаты. Нет необходимости держаться на границе. Нам нужно на север. Тебе следует благодарить друга Виталия за сегодняшнее спасение. После последней встречи с тобой он заявил дяде Гаю, что тебя нужно вытаскивать, независимо от того, закончил ты работу или нет. Я вызвалась тебя забрать — лучшая маскировка. Кроме того, я чувствовала себя виноватой из-за твоей седой матери…
Поскольку я не помнил, что бы мы обсуждали мою мать, я позволил ей болтать дальше.
— Дядя Гай арестовал этого Трифера и держит его в Глеве…
Непривычный к объяснениям, мой мозг пропускал или оставлял без внимания слишком много фактов.
— Понятно, — сказал я, — на север, да?
Разговор казался бессмысленным усилием. Пусть кто-то еще берет бразды правления в свои руки. Эта повозка выглядела красивой игрушкой, слишком хрупкой для перевозки четырех слитков. Можно было бы что-то организовать с лошадьми солдат, но я слишком устал, чтобы об этом беспокоиться. Тем не менее я, вероятно, беспокойно завозился. Елена Юстина замедлила ход повозки.
— Чем ты занимался на той заболоченной местности? Фалько, скажи мне правду!
— Я спрятал четыре украденных слитка. Закопал в землю и отметил место камнями.
— Доказательства? — спросила она.
— Если хочешь.
Наверное, она пришла к собственным выводам, потому что начала бить несчастную лошадь кнутом, пока та фактически не полетела по воздуху. У Елены горели глаза.
— Ты хочешь сказать — хорошая небольшая пенсия для тебя!
Мы оставили их там. Четыре моих слитка вполне могут лежать в той яме до сих пор.
* * *
Елена Юстина продолжала подгонять лошадь. Вероятно, муж развелся с нею, чтобы спасти свою шкуру. Однако я ни разу по-настоящему не испугался. Она очень умело управляла повозкой. Эта женщина обладала редким сочетанием терпения и смелости. Лошадь ей полностью доверяла, а через несколько миль стал доверять и я. До Глева требовалось преодолеть пятьдесят миль, поэтому доверие было очень кстати.
Пару раз мы останавливались. Она позволяла мне выйти. В первый раз меня начало тошнить, хотя это не имело никакого отношения к ее управлению повозкой. Елена Юстина оставила меня отдохнуть, а сама тем временем тихим голосом разговаривала с одним из солдат. Затем перед тем как мы снова тронулись в путь, Елена принесла мне подслащенного вина во фляге. Она собственноручно крепко поддерживала меня за плечи. При странном прикосновении женской руки у меня выступил пот.
— Если хочешь, мы можем остановиться неподалеку отсюда на mansio, — сказала она деловито, очень внимательно за мной наблюдая. Я покачал головой и не произнес ни звука. Я хотел продолжать путь и предпочел бы умереть в военном форте, где меня похоронят с могильным камнем над урной, а не в каком-то доме у дороги, после чего меня сбросят в канаву и завалят тонной разбитых кувшинов вместе с раздавленной полосатой кошкой. Мне пришло в голову, что имеется причина, объясняющая, почему Елена Юстина так гонит лошадь, а кнут постоянно свистит в воздухе. Она не хочет оказаться в середине пустоши с моим трупом. Я поблагодарил Юпитера за ее безжалостный здравый смысл. В любом случае я не хотел, чтобы мой труп остался с ней.
Она прочитала мои мысли, или, скорее, мое болезненное выражение лица.
— Не беспокойся, Фалько. Я похороню тебя должным образом!
Глава 29
Я думал, что вернулся на рудники. Нет. Другой мир… Я покинул рудники, хотя они никогда полностью не оставят меня.
Я лежал на высокой жесткой кровати в маленькой квадратной палате в госпитале для легионеров. Иногда по длинному коридору кто-то неторопливо проходил. Я лежал в задней части административного блока, выходящей во двор. Воздух был пропитан неприятным запахом скипидара, который использовали для дезинфекции. Я чувствовал успокаивающее давление чистых, крепких бинтов. Мне было тепло. Меня вымыли. Я отдыхал в спокойном месте, где обо мне заботились.
Тем не менее я был в ужасе.
* * *
Меня разбудил звук трубы на валу, который объявлял о выходе ночной стражи. Форт. Форт — это хорошо. Я услышал злобные крики чаек. Должно быть, это Глев. Этот город стоит в устье реки. Значит, Елена все-таки добралась до цели. Я уже несколько часов проспал на новой большой базе Второго легиона Августа, при его штабе. Второй легион. Я из его ярдов. Я один из них. Я дома. Мне хотелось плакать.
— Думает, что вернулся на службу в армию, — сказал сухой голос прокуратора Флавия. Его что-то забавляло.
Я его не увидел. Я был словно поваленное дерево, которое пробиралось сквозь теплый суп с перловой крупой, хотя мои ноги и руки едва могли пробираться сквозь надменные крупинки. Мне дали морфий, чтобы унять боль.
— Марк, сейчас отдыхай. Я получил твой отчет от Виталия, и уже смог начать действовать. Отличная работа!
Гай, мой друг. Мой друг, который послал меня туда…
Я резко попытался сесть. Кто-то схватил меня за руку.
— Тихо! Все закончилось. Ты в безопасности.
Елена, его племянница, мой враг. Мой враг, который приехал за мной и привел меня назад…
— Лежи тихо, Фалько, не нужно беспокоиться…
Знакомая мстительность в голосе Елены оставалась со мной и в бреду. Для освобожденного раба тирания может быть странно успокаивающей.
Глава 30
Я снова проснулся. Действие опиума закончилось. Стоило мне пошевелиться, как боль возвращалась. Надо мной маячила красная туника, заколотая на одном плече фибулой в виде змеи с чашей. Когда я посмотрел врачу в глаза, он отошел. У этого эскулапа полностью отсутствовало умение найти подход к больному. Наверное, этот тип тут главный. Ученики вытягивали шеи из-за его плеча, словно полные благоговения утята, бегущие за мамой-уткой.
— Скажи мне правду, Гиппократ! — пошутил я. Они никогда не говорят правду.
Он пробежался пальцами вверх и вниз по моим ребрам, словно меняла по абаку. Я закричал, хотя и не от того, что у него были холодные руки.
— Все еще чувствует дискомфорт, и это продлится несколько месяцев. Можно ожидать сильные боли. Никаких серьезных проблем, если не подхватите воспаление легких… — Судя по голосу, он будет разочарован, если подхвачу. — Истощение. Есть угроза гангрены на ноге. — Мне стало грустно, потом я гневно уставился на него, и это, похоже, подняло ему настроение. — Можно ему что-то дать! — успокоил наконец он своих слушателей. Вы знали, что главным в подготовке хирурга является получение навыков игнорирования криков?
— Почему бы не подождать и не посмотреть, что разовьется? — удалось прохрипеть мне.
— Ваша молодая госпожа просила меня, чтобы…
Теперь его голос звучал очень уважительно. Вероятно, на него произвело впечатление то, что он обнаружил кого-то с еще более плохими манерами, чем он сам.
— Она не моя! Не нужно меня оскорблять, — злобно зарычал я. (Девушка вызывала у меня раздражение. И это раздражение было способом борьбы с тем, что он сказал. Но нужно смотреть правде в глаза.) В таком случае делайте, что должны — режьте ногу!
Я опять погрузился в сон.
* * *
Он снова меня разбудил.
— Флавий Иларий хочет с вами срочно поговорить. Вы можете с ним поговорить?
— Это вы — врач.
— Что вы от меня хотите?
— Оставьте меня в покое.
Я снова заснул.
* * *
Они никогда не оставляют вас в покое.
— Марк…
Флавий Иларий. Он хотел, чтобы я снова рассказал ему все про рудники, — все, что я уже передал через Руфрия Виталия. Флавий был слишком вежлив, чтобы объявить об официальном снятии показании на тот случай, если я умру под ножом хирурга. Но я все понимал, поэтому рассказал ему то, что знал. Все, что угодно, только бы он ушел.
Гай, в свою очередь, рассказал мне, что Трифер, подрядчик, отказывается говорить. Стояла середина зимы, в горах лежал снег, сложно было проследить за повозками, поворачивающими на юг. Вероятно, никакие повозки не будут вообще никуда отправляться на протяжении многих недель. Гай собирался запереть Трифера в камере на какое-то время, после чего допросить снова, когда я смогу оказать помощь. Для восстановления сил меня перевезут к священным источникам, если, конечно, выживу.
Мой новый друг долго сидел у моей постели, держа мою руку, при этом он выглядел расстроенным. Гай сказал, что отправил в Рим письмо, в котором заявил, что мне должны выплатить гонорар в двойном размере. Я улыбнулся. После тридцати лет на государственной службе он должен был бы лучше знать, на что можно рассчитывать. Я вспомнил, что думал после прибытия в Британию: «Может быть, это он!». Я снова улыбнулся и опять погрузился в сон.
* * *
Хирурга звали Симплекс. Когда врачи представляются по имени, ты уже знаешь, что лечение, которое они намерены использовать, в лучшем случае — опасная авантюра, в худшем — очень болезненно.
Симплекс провел в армии четырнадцать лет. Он мог успокоить шестнадцатилетнего солдата, которому стрела попала в голову. Он умел лечить волдыри, справляться с дизентерией, промывать глаза, даже принимать роды у жен легионеров, которых те не должны были видеть. Ему все это надоело. Он скучал. Теперь я стал любимым пациентом Симплекса. Среди его набора шпателей, скальпелей, зондов, ножниц и щипцов наличествовал блестящий молоток, достаточно большой для объявления ставок на борцовских турнирах. В хирургии он использовался при ампутациях, для вбивания долота в конечности солдат. У Симплекса имелись и долото, и пила — полный набор инструментов, и все они были выложены на столе у моей кровати.
Они усыпили меня, но, видимо, недостаточно. Флавий Иларий пожелал мне удачи, затем выскользнул из комнаты. Я его не виню. Если бы меня не привязали к кровати ремнями, а четверо кавалеристов ростом шесть футов каждый с суровыми лицами не держали меня за руки и за ноги, я сам бы сразу же вылетел вслед за ним.
Несмотря на дурман, я видел, как приблизился Симплекс. Я изменил свое мнение. Теперь я считал его маньяком, обожающим орудовать ножом. Я попытался заговорить, но никаких звуков из горла не вылетело, тогда я попытался закричать.
Закричал кто-то еще. Это был женский голос.
— Прекратите это немедленно!
Елена Юстина. Я не представлял, когда она зашла. Я не понимал, что она находится в комнате.
— Никакой гангрены нет! — заорала дочь сенатора. Она была в ярости и бушевала. Казалось, она выходит из себя, где бы ни оказывалась. — Я ожидала, что армейский хирург это знает — при гангрене появляется специфический запах. Может, ноги Дидия Фалько и в плохом состоянии, но не настолько.
Прекрасная женщина. Попавший в беду информатор всегда может на нее рассчитывать.
— У него обморожение. В Британии этому не приходится удивляться, а для этого ему требуется только горячая размятая репа. Вправьте ему ногу, выпрямите ее, как можете, потом оставьте его в покое. Несчастный и так достаточно настрадался!
Я отключился с облегчением.
* * *
Они два раза пытались вправить мне ногу. В первый раз мне дали кляп, чтобы вставил между зубов и кусал. Я кусал ее и шокировано молчал, а горячие слезы лились у меня по щекам и стекали на шею. Во второй раз я этого ожидал. Второй раз я кричал.
Кто-то рыдал.
Я подавился слюной, но до того, как задохнулся, рука — предположительно принадлежащая одному из крепких парней, которые меня держали — извлекла ткань у меня изо рта. Я весь вспотел. Кто-то потрудился вытереть мне лицо.
В то же самое время я уловил запах пикантных духов. Этот запах ворвался в мое сознание и показался таким же великолепным, как королевский бальзам, который готовят для королей Парфии из двадцати пяти различных масел. (Я сам никогда там не был, но любой поэт-любитель наслышан о длинноволосых правителях Парфии. Они всегда хорошо подходят для оживления хромающей оды.)
Это не был королевский бальзам, но запах казался не хуже его. Я помню, как весело тогда подумал, что некоторые кавалеристы весом по пятнадцать стоунов, совсем не такие, как кажутся…
Глава 31
В Аква-Соле я провел пять недель, мною занимался личный врач прокуратора. Горячие источники били из скалы рядом со святыней, куда удивленные кельты все еще приходили поклоняться Солю. Они демонстрировали терпение и выдержку, глядя на новую табличку, гласящую, что права теперь перешли к римской Минерве. Царила атмосфера скрытой коммерции, скрываемая под религией, которая всегда окружает места расположения святынь. Рим заменил кое-что из базового местного оснащения правильным резервуаром, облицованным свинцом. Тем не менее я не верил, что из этого места когда-нибудь что-то получится. О, имелись планы, но планы есть всегда. Мы сидели в резервуаре, полном песка, сбрасываемого источником, пили теплую воду, насыщенную минералами с отвратительным вкусом, и наблюдали за строителями, землемерами и инспекторами, которые лазали по скалам и пытались себя убедить, что здесь можно обустроить популярный водный курорт.
Мы много играли в шашки. Я ненавижу шашки. Я презираю шашки, если приходится играть с египетским врачом, который всегда выигрывает. Однако больше на водах делать было нечего — на курорте в Британии, в конце снежного марта, да еще на объекте, который находится в процессе разработки. Я мог бы побегать за женщинами, но я от них отказался. В моем нынешнем состоянии, даже если бы я одну и поймал, мне было бы трудно сделать что-то, что оценит женщина.
Горячие источники помогли, но лежа в них, я смотрел в пространство мрачным взглядом. Кости могут зажить, но никогда не заживет душа раба. Врач прокуратора сказал, что питье воды вызвало у него геморрой. Я ответил, что мне очень жаль это слышать, впрочем, он мог заметить неискренность моих слов.
Иногда я думал о Сосии. Это нисколько не помогало.
* * *
Назад в Глеев. Мы с Иларием вместе занялись Трифером. Деятельность мне помогла, и у нас получилась сильная команда. Гай сидел на положенном ему по статусу стуле — складном с желтыми ножками из слоновой кости. Он сказал мне, что от этого стула очень болит спина. Я носился из угла в угол с угрожающим видом.
Трифер был громкоголосым и шумным британским парнем, недалеким, с переплетающимися короткими ожерельями из натурального золота и серебра на шее, и в узких ботинках с заостренными носами. Он носил тогу фасона, который рекомендовали принять людям среднего класса, но солдаты, которые его втащили, сняли ее с него после кивка от нас. Мы посадили его на стул таким образом, что если он повернет голову в любую сторону, то уставится на мускулистую ляжку, у которой болтались кое-какие устрашающие приспособления, свисавшие с пояса. По обеим сторонам от него стояли мрачные и угрюмые испанские кавалеристы, которые игнорировали его изобретательные шутки. (У них только офицеры говорят на латинском языке. Мы по этой причине и выбрали стражников из испанцев.)
Если не считать ожерелий под одутловатым британским лицом, Трифер мог бы быть уличным торговцем в любом из городов мира. Он пользовался именами Тиберий Клавдий — это, возможно, освобожденный раб, названный в честь старого императора, но скорее, какой-то мелкий местный сановник, отмеченный как союзник в прошлом. Я сомневался, что он в состоянии представить документ, подтверждающий гражданство.
— Мы знаем, как вы действуйте. Просто перечисли имена! — рявкнул я на него.
— Не нужно так, Фалько! — тихо сказал Гай, показывая себя старшим, который вынужден подчиняться Риму и не имеет надежды поступать по-своему. — Это Британия. Мы ведем здесь дела по-другому. Трифер, от тебя зависит, смогу ли я тебе помочь. Этот человек — императорский агент.
Трифер попытался пойти на блеф.
— Вес? Размер? Техника безопасности? В чем проблема, офицер?
У него был высокий голос, причем говорил он в нос. Это голос меня раздражал. Трифер происходил из самодостаточного племени корилтауви, проживавшего в долине в центре острова.
Я проверил кончик кинжала большими пальцами и бросил взгляд на Гая, он кивнул.
— Ты не можешь рассказать нам про свинцовые рудники ничего нового, — начал я. — Трифер, я сам побывал там для проведения расследования.
Его лицо заблестело от пота. Я поймал его врасплох.
— Ваша система воняет от шахт до печей. Даже пекари в Деревне используют кусочки серебра в виде сдачи…
— Проблема с декларациями продавца? — застонал он и невинно мигнул. — Вмешалось казначейство? Нужно проверить?
Я бросил на стол на трех ножках крупицы серебра, собранные мною лично. Они рассыпались по столу на уровне носа Трифера. Затем я ударил по ним ладонью. Даже Гай выглядел удивленным.
— Я три недели работал на раздувании мехов на участке купелирования и смог собрать вот это! Можно сделать неплохое кольцо для какой-нибудь девчонки в Риме.
Трифер резко превратился в смелого парня.
— Засунь его себе в анус!
Я мило ему улыбнулся.
— О, я именно это и делал!
Гай побледнел.
* * *
Я широкими шагами подошел к Триферу, схватил его за одно из ожерелий и прижал металл к яремной вене достаточно сильно, чтобы остался отпечаток.
— Умный раб может оплатить себе дорогу в Галлию, если выживет после общения с твоим старшим мастером-садистом. Корникс получает свою премию, с которой не нужно платить налогов. Каждая группа занятых на производстве людей снимает свой маленький процент. Ты организовал собственную личную схему обогащения. Как на тебя надавили эти предатели из Рима — угрожали тебя сдать, если ты не возьмешь их в долю?
— Послушайте, вы, собаки, должны смотреть фактам в глаза! — одну последнюю минуту полный отчаяния Трифер продолжал притворяться. — Ведение горных работ и разработок — это совершенно особое дело. Это не то, что продавать пиво и устрицы солдатам…
— Не тратьте на него время, господин! — рявкнул я на прокуратора. — Позвольте мне забрать его в Рим. У нас там есть хорошее оснащение. Он быстро запищит. После этого — цирк на Ватикане. Скормим его львам!
Я выпустил ожерелье, словно его владелец вызывал у меня слишком большое отвращение, и мне не хотелось пачкаться, потом повернулся к Гаю.
— Спросите его про маркировку, — закричал я раздраженно. — Слитки, которые он ворует сам, помечены четыре раза, если в них все еще остается серебро. Это один брусок из четырех. Из остальных серебро выплавлено, но этот находчивый ублюдок продает их как серебряные. Сколько времени пройдет перед тем, как наши питающие иллюзии политики заметят этот обман? Мне не хотелось бы оказаться на месте человека, который дает взятку преторианцам фальшивками!
— Трифер, неужели ты не понимаешь, что они знают?! — прокуратор впервые заговорил голосом, лишенным какого-либо притворства. — Британские слитки были обнаружены в Риме. Если мы не арестуем заговорщиков, пока они не добрались до тебя, ты потеряешь гораздо больше, чем контракт на добычу руды в Молверне? Веспасиан пришел надолго, не зависимо от того, что тебе говорили. Спасай свою шкуру. Парень, представь доказательства, какие у тебя только есть, — это твой единственный шанс на спасение!
Цвет лица Трифера изменился и теперь напоминал некрашеную штукатурку на стене. Он попросил разрешения поговорить с Гаем с глазу на глаз, в беседе он назвал ему два имени.
* * *
Гай написал письмо императору, которое должен был доставить я, хотя и отказался сообщить мне эти два имени. Я решил, что он бессмысленно играет в бюрократа, хотя позднее понял почему.
* * *
Мы с Гаем отправились вдоль побережья в Дурноварию, на его любимую виллу. Мне требовалось спросить его почтенную племянницу Елену, готова ли она отправиться домой, а если готова, желает ли, чтобы я сопровождал ее по Европе. Меня туда вез Гай. Мы ехали сто миль так медленно, что мне страшно хотелось вырвать поводья у него из рук.
Я должен признать, что стиль Елены Юстины, несущейся во весь опор, мне нравится гораздо больше, и я сожалел, что меня везет не она.
Глава 32
Гай отправился на виллу вместе со мной, потому что хотел подрезать виноградную лозу. Она была в жалком состоянии. Он так долго жил в Британии, что забыл, как по-настоящему должна выглядеть виноградная лоза.
Вилла прокуратора представляла собой богатую ферму в долине маленькой речушки с видом на низкие зеленые горы. Мягкий климат очень хорошо подходил человеку с больными ребрами. Дом был полон книг и игрушек. Жена и дети отправились в Лондиний после Сатурналий, но я догадывался, какая тут идет жизнь в летние месяцы. В этом доме я мог бы долго отдыхать, именно такой я хотел бы когда-нибудь иметь.
Гай забавлялся, занимаясь в Дуноварии ерундой и попусту тратя время. Он выступал там в роли местного магистрата. Его неприятная племянница находилась на вилле, но держалась сама по себе. Если бы мне нравилась Елена Юстина, то я мог бы посчитать ее скромной, но мне она не нравилась, поэтому я называл ее необщительной. Поскольку Елена не вернулась к комфорту Лондиния вместе с Элией Камиллой, следовало предполагать, что теперь она намеревалась возвращаться в Рим. Но планы ее путешествия оставались неясными.
Я наслаждался собой в гостеприимном доме. Днем я читал, писал письма или, хромая, гулял по ферме. Слуги были дружелюбными и вполне приемлемыми для общения. Каждый вечер я с радостью беседовал с хозяином. Даже несмотря на Британию, это была идеальная римская жизнь. Уезжать мне не хотелось.
Однажды, когда шел особо неприятный дождь, Гай не смог уехать и налагать штрафы на кельтов, ворующих скот. Вместо этого он решил со мной побеседовать.
— Руфрий Виталий просил меня с тобой поговорить. Как я понял, ты обещал организовать ему отправку в Рим в качестве ответственного за багаж Елены?
— Позвольте мне догадаться самому — он не хочет ехать?
— Частично в этом виноват я, — Гай улыбнулся. — Он произвел на меня большое впечатление. Я предложил ему контракт на работу на руднике — в должности моего аудитора. Он должен заняться исправлением процедурных нарушений.
— Отличный выбор. Он вам здорово поможет. Кроме этого, насколько я помню, у него имеется некто по имени Труфорна, с кем он никак не может расстаться! — хмыкнул я.
Прокуратор улыбнулся вежливой улыбкой человека, сторонящегося вникать в детали личной жизни других людей. Затем он указал, что если Виталий отказывается, то сопровождать Елену придется кому-то другому…
— Она разговаривала с тобой, Фалько?
— Мы не разговариваем. Она считает меня крысой. Флавий Иларий посмотрел так, словно ему больно.
— О, я уверен, что это не так. Елена Юстина ценит все, что ты сделал. Она была глубоко потрясена твоим состоянием, когда забирала тебя с рудника…
— Я это переживу!
Я лежал на кушетке и наслаждался зимними грушами, которые управляющий виллы тщательно выбрал для меня из запасов и подал в чаше. — Кажется, ваша племянница, если вежливо выразиться, очень нервная и возбудимая особа.
Флавий Иларий сурово на меня посмотрел.
— Я не хочу сплетничать, — добавил я рассудительным тоном. — Если мне предстоит ее сопровождать, то было бы неплохо знать, в чем заключается проблема.
— Это справедливо, — мой новый друг Гай тоже мог считаться разумным человеком. — Итак, приехав к нам после развода, она выглядела подавленной и запутавшейся. Я подозреваю, что она до сих пор не оправилась и в какой-то мере чувствует себя сбитой с толку, но теперь ей удается это лучше скрывать.
— Вы можете мне сказать, что пошло не так?
— Только с чужих слов. Насколько я знаю, муж с женой так и не сошлись. Молодого человека знал ее дядя, брат моей жены Публий. Именно Публий предложил этот брак ее отцу. В то время Елена описала своего будущего мужа в письме моей жене, как «человека с положением, без неприличных привычек».
— Ничего себе!
— Вот именно. Элия Камилла не одобрила этот брак.
— Тем не менее это лучше, чем начинать с затуманенными любовью глазами.
— Возможно. В любом случае Елена никогда не ожидала страсти, единения умов, но в конце концов обнаружила, что для нее недостаточно высокого положения и хороших манер. Недавно она поделилась со мной. Она предпочла бы, чтобы он ковырял в носу и бегал за работающими на кухне девушками, но, по крайней мере, разговаривал с ней!
Мы оба посмеялись над этим, хотя и сочувственно. Если бы мне нравились женщины с чувством юмора, то девушка, сказавшее подобное, могла бы приглянуться.
— Значит, я понял неправильно, Гай? Это он развелся с ней?
— Нет. Обнаружив, что они несовместимы, Елена Юстина сама написала уведомление о разводе.
— А-а! Она не считает необходимым притворяться.
— Нет. Но она чувствительная, и ты сам видел результат! К этому времени стало очевидно, что прокуратора мучает совесть из-за таких откровенных высказываний, поэтому я оставил эту тему. Когда Гай в следующий раз отправился в город, я поехал вместе с ним. Я воспользовался возможностью приобрести двадцать разнообразных винных кубков из сплава олова со свинцом. Это была местная продукция.
— Сувениры для моих племянников и племянниц. Плюс несколько «серебряных» ложек для каши для новых членов семьи, которых мои сестры обязательно мне гордо представят, как только я вернусь.
— Галлы услышат твое приближение! — фыркнул Гай. Двадцать кубков громко звенели.
Все еще было трудно думать о возвращении домой.
* * *
Поскольку это была Британия, большую часть нашего пребывания в Дурноварии Елена Юстина страдала от сильной простуды. Пока она оставалась у себя в комнате, делая паровые ванны с разогретым маслом пинии, можно было легко забыть, что она в доме. Когда она вдруг вышла и унеслась куда-то на повозке с запряженной небольшой лошадкой, мне стало любопытно. Девушка отсутствовала весь день. Она едва ли могла отправиться за покупками — из собственных попыток я знал, что покупать нечего. Мой приятель, управляющий, принес мне лук-порей в винном соусе для возбуждения аппетита, который значительно улучшился. Поскольку я происхожу из семьи, которая выращивала овощи на продажу, лук-порей мне нравится. Я спросил у управляющего, куда отправилась молодая госпожа. Он не знал, но добродушно посмеялся над моей широко известной неохотой сопровождать ее.
— Она не может быть такой страшной! — укорял он меня.
— В сравнении с почтенной Еленой Юстиной змеи Медузы выглядят безобидными, как горшок с червями для рыбной ловли! — заявил я грубо, поглощая лук-порей как истинный внук тех, кто высаживал овощи на продажу. В этот момент Елена Юстина как раз влетела в комнату. Меня она проигнорировала, но это было в порядке вещей. Она выглядела сильно расстроенной, что было непривычно. Я не сомневался, что она все слышала.
Управляющий поспешно скрылся, чего я и ожидал. Я устроился на кушетке в гнезде из взбитых подушек. Я ожидал, когда на меня обрушится приливная волна.
Елена уселась на дамский стул. Ноги она поставила на скамеечку, руки положила на колени. На ней было скучное серое платье с дорогим красивым ожерельем из цилиндрических агатовых бусинок красного и коричневого цвета. Мгновение казалось, что она ушла в себя и очень серьезно о чем-то думает. Я кое на что обратил внимание: если сенаторская дочь не огрызалась на меня, у нее изменялось лицо. Кому-то она могла бы показаться спокойной, здравомыслящей, задумчивой молодой женщиной, происхождение которой заставит ее покраснеть, если придется иметь дело с мужчинами, тем не менее вполне доступной.
Елена встала.
— Чувствуешь себя лучше, Фалько? — спросила она насмешливо.
Я лежал на кушетке и выглядел бледным.
— Что ты пишешь?
Она сменила тему совершенно спокойно и невозмутимо, и поэтому поймала меня врасплох.
— Ничего.
— Не притворяйся. Я знаю, что ты пишешь стихи!
Я протянул в ее сторону дощечку, покрытую воском. Она спрыгнула со стула и пересекла комнату, чтобы взглянуть. Дощечка оказалась пустой. Я больше не писал стихов и не считал себя обязанным объяснять ей почему.
Я чувствовал себя неловко, поэтому тоже решил задать вопрос.
— Твой дядя сказал мне, что ты вскоре собираешься покинуть Британию?
— Это не так, — язвительно ответила она. — Дядя Гай настаивает, чтобы я отправилась вместе с тобой, используя возможности императорской почтовой службы.
— Обязательно воспользуйся возможностями почтовой службы, — заметил я.
— Ты говоришь, что не станешь меня сопровождать?
— А ты не просила, — улыбнулся я в ответ.
* * *
Елена прикусила губу.
— Это из-за рудников?
Я смотрел на нее ничего не выражающим лицом скованного цепью раба.
— Нет, — сказал я. — Елена Юстина, я готов выслушать предложения, но не предполагай, будто можешь мне что-то диктовать, и я это проглочу.
— Дидий Фалько, я насчет тебя ничего не предполагаю, по крайней мере, больше не предполагаю.
Мы ругались, но без обычного удовольствия. Казалось, что она все время отвлекается.
— Если тебе предложат выбор и приемлемую оплату, ты согласишься сопроводить меня домой?
Я намеревался отказаться. Елена Юстина прямо смотрела на меня, понимая это. У нее были ясные, умные, выразительные глаза интригующего карего оттенка…
— Конечно, при условии возможно выбора, — услышал я собственные слова.
— О-о, Фалько! Назови свои ставки.
— Мне платит твой отец.
— Пусть платит. Я сама тебе заплачу, а затем, если я захочу разорвать наш контракт, я это сделаю.
В любом контракте должны быть обговорены условия расторжения. Я назвал свои ставки.
* * *
Очевидно, она все еще злилась.
— Что-то не так, госпожа?
— Я ездила на берег, — сообщила она и нахмурилась. — Пыталась договориться о переправе в Галлию.
— Я сам бы это сделал!
— Ну, это уже сделано.
Я видел, что она колеблется. Ей требовался кто-то, с кем можно было бы поделиться, а в наличии имелся только я.
— Сделано, но не без проблем. Я нашла судно. Но, Фалько, в порту у сланцевых складов стоял корабль, который, я надеялась, нас возьмет. Но капитан отказался. Корабль принадлежит моему бывшему мужу, — выдавила она из себя.
Я ничего не сказал. Она пребывала в плохом настроении.
— Мелочно! — заметила она. — Мелочно, низко и подло! И какие отвратительные манеры!
Меня беспокоили истерические нотки у нее в голосе. Однако я давно взял себе за правило никогда не вмешиваться в дела супругов, а когда они разведены, так тем более.
* * *
Перед нашим отправлением Флавий Иларий обнял меня на причале как друга.
Из всех людей, с которыми я сталкивался в процессе работы, он мне особенно понравился. Я ему этого никогда не говорил, но знаю, что он это понимал. Я сказал ему, что никто, кроме меня, не смог бы найти дело, в котором честными оказались только государственные служащие. Мы оба рассмеялись и скорчили гримасы сожаления.
— Присматривай за этой дамой, — обнимая Елену на прощание, велел мне Гай. — А ты присматривай за ним! — обратился к девушке.
Я думаю, он имел в виду ситуацию, если у меня начнется морская болезнь. Она со мной случилась, хотя нет нужды говорить, что я сам за собой присматривал.
Глава 33
У нас был долгий переход по морю, судно качалось на волнах под грузом голубовато-серого британского мрамора, который везли из Гесориака в Галлию. Затем по суше мы отправились в Дурокортор, где повернули в Бельгию, а оттуда в Германию и проследовали по военному коридору.
Использование императорской почтовой службы — гнетущая привилегия. Специальные посланники на лошадях преодолевают по пятьдесят миль в день. Мы посчитали себя менее срочной посылкой и сели в повозку: четыре колеса на крепких осях, высокие сиденья, смена мулов каждую дюжину миль, а после двух смен мулов питание и размещение. Благодаря нашему пропуску все это оплачивали местные власти. В продолжение всего пути мы страшно мерзли.
Мы достигли профессионального взаимопонимания, нам было просто необходимо его достичь. Мы зашли слишком далеко, чтобы продолжать ругаться. Я был компетентен, и она это видела. Она же могла себя нормально вести, когда хотела. Когда мы останавливались, Елена Юстина оставалась в поле зрения, и еле со мной разговаривала, то не привлекала внимания воров, развратников и скучных владельцев гостиниц, которые пытались с ней заговорить. Деревенские дурачки и нищие, стоявшие у мостов, бросали один взгляд на ее стиснутые челюсти, и тут же убирались прочь.
Все курьеры и возницы считали, что я с ней сплю, но я этого ожидал. По натянутому выражению ее лица во время разговоров с ними, я видел, что она знает, о чем они думают. Мы избегали этой темы. Мне же было трудно в шутку воспринимать то, что на меня смотрели, как на любовника Елены Юстины.
На крупной военной базе в Аргенторате на Рейне, мы встретили младшего брата Елены, который там служил. Мы с ним хорошо поладили. Те, у кого есть ужасные свирепые сестры, обычно находят много общего. Молодой Камилл организовал ужин, который стал единственным светлым пятном во время нашего мерзкого путешествия. После этого он отвел меня в сторону и с беспокойством спросил, сообразил ли кто-нибудь мне заплатить за сопровождение госпожи. Я признал, что уже беру за это двойную оплату. Когда он прекратил хохотать, мы с ним выбрались на прогулку по городу, чтобы ознакомиться с его ночной жизнью. Он сообщил мне по секрету, что у Елены неудачно сложилась личная жизнь. Я не смеялся. Он был молодым парнем с добрым сердцем, и в любом случае этот идиот напился.
Похоже, Елена Юстина любила брата. Это было заслуженно. Меня удивляла его привязанность к ней.
В Лугдуне мы сели на корабль, который пошел вниз по Родану. Я чуть не свалился в воду. Мы чуть было не
опоздали на корабль, он уже поднял сходни и начал отплывать. Но команда зацепилась крюками за берег реки, чтобы мы перепрыгнули на борт, если пожелаем. Я перебросил наш багаж через палубные ограждения, затем, поскольку никто из моряков не выказал желания помочь, поставил одну ногу на палубу, а вторую оставил на земле. Я выступал в виде этакого каната, при помощи которого госпожа забралась на борт.
Елена была не из тех, кто выдаст свои сомнения. Я протянул вперед обе руки. Корабль качало, и он находился почти вне пределов досягаемости, но Елена смело ухватилась за меня, и я переправил ее на борт. Моряки тут же убрали крюки. Я остался висеть. По мере того, как проем увеличивался, я приготовился к купанию в ледяном Родане, но тут госпожа обернулась, увидела, что происходит, и схватила меня за руку. Секунду я висел в воздухе, широко разведя ноги, потом она ухватила меня покрепче, я оттолкнулся от земли и вцепился в палубу, словно краб.
Я был очень смущен. Большинство людей обменялись бы улыбками. Но Елена Юстина отвернулась, не произнеся ни звука.
* * *
Тысяча четыреста миль. Долгие дни в пути, на протяжении которых мы мчались на высокой скорости, потом ночи в одинаковых гостиницах, полных мужчин, которых Елена Юстина справедливо называла ужасными и отвратительными. Она никогда не жаловалась. Плохая погода, весенние паводки, мерзкие, вызывающие презрение типы, работающие курьерами, я сам. Я ни разу не слышал от нее стона. К Массилии я уже находился под впечатлением от этого. Я начинал беспокоиться — она выглядела усталой. Ее голос стал бесцветным, лишенным эмоций. Наша гостиница с маленькими комнатами была забита постояльцами. Я знал, что Елена очень боится сломаться и отправился в ее номер, чтобы забрать ее перед ужином, на тот случай, если она нервничает. Она не хотела идти и притворялась, что не голодна. Однако мое веселое настроение помогло выманить Елену Юстину из номера.
— С тобой все хорошо?
— Да, Фалько, не беспокойся и не суетись.
— Выглядишь ты не лучшим образом.
— Со мной все нормально.
Так, может один из женских дней? Она ведь человек в конце концов. Я набросил на девушку шаль, впрочем, я бы и колючего дикобраза баловал бы и нежил, если бы он платил мне в двойном размере.
— Спасибо.
— Это входит в перечень услуг, — сказал я и повел ее на ужин.
Я был рад, что она пошла. Я не хотел есть в одиночестве. Это был мой день рождения, но никто об этом не знал. Мне исполнилось тридцать лет.
* * *
В Массилии мы остановились в гостинице у порта. Она была не хуже и не лучше, чем остальная часть Массилии. Она была ужасна. Слишком много приезжих, чтобы это пошло городу на пользу. Я устал после дороги, у меня затекло все тело, болели ребра. Я чувствовал себя неуютно, словно за нами следили. Еда мне совершенно не понравилась.
Акустика в обеденном зале оказалась ужасной — звуки оглушали. Меня отозвал в сторону капитан нашего корабля, чтобы договориться о погрузке. Он все сказал прямо: плати заранее, никакой роскоши, отплываем на рассвете, багаж доставляйте сами, сами добирайтесь до причала, или корабль уйдет без вас. Спасибо! Какой прекрасный город!
Когда я снова присоединился к Елене, она отгоняла собаку владельца гостиницы, помесь шотландской овчарки с борзой, которая уже опустила морду в мою тарелку. Мы находились в южной Галлии, где местные жители умеют заставить незнакомцев страдать, и ели жаркое с рыбой — некое месиво красного цвета, состоявшее из мелких кусочков, причем среди кусочков попадались и обломки ракушек. Я поставил тарелку на пол для собаки. День рождения в Массилии, что ж тут удивляться наказаниям! Я голоден и нахожусь в компании девушки, которая смотрит на меня так, словно от меня дурно пахнет.
Я убедил Елену сесть во дворе. Это означало, что я тоже туда пойду, именно поэтому я и потрудился ей это предложить. Мне хотелось подышать свежим воздухом. Спускались сумерки. Мы слышали отдаленные звуки порта, звук бегущей воды. Перед нами находился пруд с прыгающими лягушками, то и дело слышался всплеск воды. Больше рядом никого не было. Похолодало. Мы оба устали и позволяли себе немного расслабиться, поэтому устроились на каменной скамье. До Рима остался всего один морской переход.
— Здесь поспокойнее. Чувствуешь себя лучше?
— Не надо суетиться, — заявила она, поэтому я укорил ее своим днем рождения.
— Не повезло, — только и сказала она.
— Да, Марк! — произнес я задумчиво. — Приходится праздновать день рождения в пятистах милях от дома: невкусная рыба на ужин, мерзкое галльское вино, болят ребра, бесчувственная клиентка.
Я продолжал весело перечислять свои трудности. И Елена Юстина наконец улыбнулась мне.
— Прекрати ворчать. Ты сам во всем виноват. Если бы я знала, что у тебя день рождения, то купила бы тебе бисквит с вареньем и кремом, пропитанный вином. И сколько тебе?
— Тридцать. Все ближе и ближе к черной лодке, которая переправляет через Стикс. Вероятно, меня стошнит и через борт лодки Харона… А тебе сколько лет?
Это было смело, но, судя по ее голосу, она жалела, что не купила мне бисквит.
— О-о… Двадцать три.
Я рассмеялся.
— Еще есть время заарканить нового мужа… Мои дамы обычно любят рассказывать мне про свои разводы, — добавил я небрежным тоном.
— Это твой праздник, — фыркнула Елена Юстина.
— Так побалуй меня… Что пошло не так?
— Прелюбодеяние в конюшне.
— Врешь!
Мне она не нравилась, но это все-таки должно было быть неправдой. Она была твердой, как камень, и прямолинейной. Вероятно, по этой причине она мне и не нравилась.
— Значит, он виноват. И что он сделал? Жалел денег на серьги с опалами или допускал слишком много вольностей с сирийками, играющими на флейте?
— Нет, — только и ответила она.
— Бил тебя? — рискнул я. К этому времени мне на самом деле стало любопытно, и любопытство требовало удовлетворения.
— Нет. Если на самом деле хочешь знать, то ничто во мне не интересовало его достаточно, чтобы беспокоиться, — с усилием объявила Елена. — Мы были женаты четыре года. Детей нет. Никто из нас не изменял… — она замолчала. Вероятно, знала, что никогда нельзя быть уверенным. — Мне нравилась управлять домом, но ради чего? Поэтому я с ним развелась.
Она была скрытным человеком, и я пожалел, что спросил. Обычно в этот момент женщины плачут. Но Елена Юстина не плакала.
— Хочешь об этом поговорить? Вы ругались?
— Один раз.
— Из-за чего?
— О-о… Политика.
Это было последнее, чего я ожидал, тем не менее, очень похоже на нее. Я расхохотался.
— Послушай, мне очень жаль! Но ты не можешь здесь остановиться, расскажи мне.
Теперь я понимал, в чем дело. Елена Юстина была достаточно смелой не только для того, чтобы привести себя к нынешнему неспокойному состоянию, она видела, как ее нынешнее отчаяние влияет на ее душу. Вполне вероятно, что лучшая жизнь, к которой она стремилась, не существует вообще.
Я хотел взять руку девушки в свою и сжать, но она не относилась к типу женщин, которые это приветствуют. Возможно, ее муж думал примерно так же. Все же она решила мне рассказать. Я ожидал, что удивлюсь, поскольку ничто из того, что она говорила, никогда не оказывалось банальным. Елена начала говорить осторожно, я слушал с серьезным видом. Она объяснила, что привело к разводу.
Пока она говорила, мои мысли вертелись вокруг серебряных слитков.
Глава 34
В год четырех императоров моя семья — отец, дядя Гай и я — поддержали Веспасиана, — начала Елена. — Дядя Гай давно его знал. Мы все восхищались этим человеком. У моего мужа не было твердых убеждений. Он был торговцем — арабские специи, слоновая кость, индийский порфир, жемчуг. Однажды кое-какие люди в нашем доме обсуждали второго сына Веспасиана, Домициана. Тогда парень попытался вмешаться в германское восстание, как раз перед тем, как Веспасиан вернулся домой. Они убедили себя, что из этого зеленого юнца получится идеальный император. Домициан достаточно симпатичен, чтобы стать популярным, и одновременно им легко манипулировать. Я пришла в ярость! Когда гости ушли, я попыталась поговорить об этом с мужем, переубедить его…
Она колебалась. Я посмотрел на нее украдкой, решая, перебивать или нет, и пришел к выводу, что мне лучше помолчать. В сумерках глаза Елены приобрели цвет старого меда — таким видятся самые остатки, которые маячат в самых дальних уголках горшка, как раз вне пределов досягаемости пальца. И ты не можешь допустить, чтобы его выбросить.
— О, Дидий Фалько, что я могу сказать? Эта ссора не стала концом нашего брака, но помогла мне увидеть пропасть между нами. Он не подпускал меня к себе, не доверял мне. Я не могла его поддерживать, как следует жене. А что хуже всего, он никогда не выслушивал моего мнения.
Даже дикий критский бык не заставил бы меня заявить, чего ее муж боялся. Он боялся, что она права.
— Наверное, он неплохо зарабатывал на специях и порфире, — заметил я. — Ты могла бы вести спокойную жизнь, не вмешиваться…
— Да, могла! — гневно согласилась она.
Некоторые женщины считали бы, что им повезло, завели бы любовника, а то и нескольких, и жаловались бы матерям, тратя деньги мужа. Я неохотно восхитился ее целеустремленностью.
— Почему он на тебе женился?
— Жизнь в обществе. Жена обязательна. А, выбрав меня, он привязал себя к дяде Публию.
— Твой отец его одобрил?
— Ты знаешь семьи. Давление нарастает на протяжении лет. Мой отец имеет привычку делать то, что хочет его брат. В любом случае мой муж выглядел абсолютно нормальным человеком: слишком развит эгоизм, неразвито чувство юмора…
Немногие мужчины могли бы так выразиться! Чтобы ее успокоить, я задал практичный вопрос.
— Я думал, что сенаторам не позволяется заниматься торговлей?
— Именно поэтому он заключил партнерство с дядей Публием. Он инвестировал средства, а все документы были на имя моего дяди.
— Значит, твой муж богат?
— Его отец богат. Хотя они пострадали в год четырех императоров…
— И что тогда случилось?
— Это допрос, Фалько?
Внезапно она рассмеялась. Я впервые слышал ее искренний смех, ей явно было забавно. Смех оказался неожиданно привлекательным, и я непроизвольно засмеялся в ответ.
— Ну, хорошо. Когда Веспасиан объявил о своих претензиях на престол и установил блокаду на поставку зерна в Александрии, чтобы оказать давление на сенат и заставить его себя поддержать, возникли трудности в торговле с востоком. Мой муж и дядя пытались разведать новые европейские рынки. Дядя Публий даже посетил Британию, чтобы разузнать, что могут экспортировать кельтские племена! Дяде Гаю это не понравилось, — добавила Елена.
— Почему нет?
— Они не ладят.
— Почему нет?
— Разные люди.
— А что думает Элия Камилла? Она взяла сторону мужа или брата Публия?
— О-о, она очень трепетно относится к дяде Публию по тем же причинам, по которым он раздражает дядю Гая.
Госпожа развеселилась. Я снова хотел услышать ее смех и приложил для этого усилия.
— И что тут смешного? Какие причины?
— Я не буду говорить. Ну, не смейся… Много лет назад, когда они жили в Вифинии, а моя тетя была ребенком, дядя Публий научил ее управлять гоночной колесницей!
Я не мог этого представить. Элия Камилла выглядела такой величественной и горделивой.
— Ты знаешь дядю Гая — он милейший человек, зачастую авантюрист, но может быть степенным и уравновешенным.
Я об этом догадался.
— Дядя Гай жалуется, что тетя Элия ездит слишком быстро! Боюсь, что она научила этому и меня, — призналась Елена.
Я задрал голову и с серьезным видом уставился в небо.
— Мой хороший друг, твой дядя, прав.
— Дидий Фалько, давай обойдемся без твоей неблагодарности! Ты был так тяжело болен, что мне требовалось спешить. Ты был в полной безопасности.
Совершенно не привычно для себя, она протянула руку и притворилась, будто собралась отодрать меня за уши. Я остановил движение и схватил ее за запястье, но остановился.
* * *
Я повернул руку Елены Юстины ладонью вверх и сморщил нос, вдыхая аромат духов. У нее оказалась крепкая маленькая ручка, а сегодня вечером она не украсила ее драгоценностями. Как и у меня, у Елены были холодные руки, но они пахли духами. Он напоминал корицу, только к ней примешивалось что-то еще. Запах заставил меня вспомнить парфянских королей.
— Какое экзотическое розовое масло!
— Малобатр, — сообщила она, пытаясь вырвать руку, но не особенно. — Из Индии. Очень дорогая реликвия от моего мужа…
— Щедро!
— Пустая трата денег. Дурак никогда не обращал на запах внимания.
— Возможно, у него был насморк, от которого он не мог отделаться, — поддразнил я.
— Четыре года?
Мы оба смеялись. Мне следовало отпустить ее руку. Но я решил снова наклонить голову и насладиться еще одним вдохом.
— Малобатр! Прелестно. Мой любимый запах! Он от богов?
— Нет, от дерева.
Я чувствовал, что она начинает беспокоиться, но была слишком горда, чтобы велеть мне отпустить ее руку.
— Четыре года, значит, ты вышла замуж в девятнадцать?
— Восемнадцать. Довольно поздно. Как и насморк моего мужа — трудно что-то изменить.
— О-о, я в этом сомневаюсь! — галантно заметил я. Когда женщины удостаивают меня своих рассказов, я всегда даю им совет.
— Тебе следует почаще над ним смеяться.
— Возможно, мне следует смеяться над собой.
Только маньяк попытался бы поцеловать ее руку. Я, как истинный кавалер, положил ее на колени Елены Юстины.
— Спасибо, — сказал я тихо, другим тоном.
— За что?
— За то, что ты однажды сделала.
* * *
Мы сидели молча. Я откинулся назад, вытянул ноги и положил одну руку на сильно ноющие ребра. Я думал о том, какой Елена была до того, как богатый дурак с насморком сделал ее озлобленной по отношению к другим людям и настолько же недовольной собой.
Пока я думал, на небе, среди неровных бегущих облаков, зажглась вечерняя звезда. Шумы, долетавшие из гостиницы за нами, стали тише. В перерыве между обжорством и полным опьянением клиенты рассказывали грязные истории на двенадцати языках. На поверхности пруда появился карп. Время хорошо подходило для размышлений — конец долгого путешествия, нечего делать, кроме как ждать наш корабль, да и место в саду располагало к разговорам. Здесь приятно разговаривать с умной женщиной, с которой мужчина, прилагающий немного усилий, мог легко обмениваться мыслями.
— Mars Ultor, я подошел так близко… Мне жаль, что мне не удалось выяснить, как эти слитки переправляются.
Я выражал свое раздражение вслух. И едва ли ожидал ответа.
— Фалько, — осторожно заговорила Елена. — Ты знаешь, что я ездила на побережье. В тот день, когда я вернулась злой…
Я рассмеялся.
— Самый обычный день. Как и многие другие.
— Слушай! Кое-что я тебе никогда не рассказывала. Они загружали сланец. Кривобокие товары из серого глинистого сланца для кладовок — кубки, чаши, подсвечники, ножки для столов в виде ухмыляющихся морских львов. Это все жуткие поделки. Не могу представить, кто это купит. Все это нужно мазать маслом, или вещи трескаются и разваливаются…
Я виновато заерзал, вспоминая поднос, который подарил матери.
— О, госпожа! Что-то подобное вполне может служить прикрытием. А ты подумала спросить…
— Конечно, Фалько. Человек, занимающийся экспортом этих безделушек, — Атий Пертинакс.
«Пертинакс!» Это имя было последним, которое я ожидал здесь услышать. Пертинакс, торгующий кухонной утварью плохого качества! Атий Пертинакс, остроносый эдил, который меня арестовал, пока искал Сосию, затем избил и сломал мою мебель! Я выплюнул короткое слово, используемое рабами на свинцовых рудниках. Я надеялся, что Елена его не поймет.
— Не нужно произносить таких отвратительных слов, — заявила она без всякого выражения.
— Нужно, госпожа! Ты знакома с этим извивающимся клещом?
Елена Юстина, сенаторская дочь, которая постоянно заставляла меня удивляться, произнесла необычно тихим и робким голосом:
— Дидий Фалько, ты плохо соображаешь. Да, я с ним знакома. Конечно, знакома. Я была за ним замужем.
Наконец долгое путешествие сказалось на мне. Я почувствовал себя раздавленным и больным. Меня тошнило.
Глава 35
Теперь ты думаешь, что это я.
— Что?
Ты проводишь несколько месяцев, решая проблему, и решение постоянно от тебя ускользает. А затем за полсекунды понимаешь больше, чем твой мозг в состоянии переварить.
Именно поэтому Децим с такой неохотой говорил о Пертинаксе. Это был его нелюбимый зять. Атий Пертинакс! Теперь понятно. Я знал, как серебряные слитки доставляют в Италию, кто и как их прячет под таким неинтересным грузом. Сквозь руки таможенников в Остии проходят красивые вещи, с которых берется особый налог на предметы роскоши, эти люди обладают хорошим художественным вкусом. Они один раз заглядывают в трюм, стонут при виде жуткого сланца и никогда не удосуживаются обыскать корабль. Бедная Елена невинно пыталась договориться о том, чтобы нас взяли на борт корабля, на который загружены серебряные слитки!
Более того, с самого начала этого дела Атий Пертинакс, эдил сектора Капенских ворот, был шпионом в управлении претора, который подслушал, где на Форуме друг претора Децим спрятал потерянный слиток. Вероятно, именно он организовал похищение Сосии Камиллины из дома. После того как я сорвал этот план, он выяснил, что девушка у меня, сказал об этом ее отцу, потом использовал Публия в виде оправдания для моего ареста за то, что я подобрался слишком близко. И все это в большой панике, потому что потерянный на улице слиток мог указать на него.
Елена была его женой.
— Твоя первая мысль: я замешана в деле, — настаивала она.
Теперь она ему не жена.
— Ты слишком правильная.
Моя вторая мысль — всегда самая лучшая.
Она решила меня подогнать.
— Каким образом твой медленно работающий мозг пришел к этому выводу? Вероятно, Трифер назвал дяде Гаю имена моего мужа Пертинакса и Домициана, сына Веспасиана.
— Да, — сказал я.
Я чувствовал себя таким бесполезным, как она всегда намекала. Наверное, Гай отказался назвать нам имена, потому что Пертинакс был ее мужем.
Последовало долгое молчание.
— Скажи мне, как давно ты пришла к этому выводу? — спросил я несколько напряженным тоном.
Мгновение она молчала.
— Когда капитан корабля моего мужа отказался нас везти. Мы с Гнеем расстались хорошо. А капитан отнесся ко мне так недоброжелательно и злобно.
Значит, она до сих пор называет его Гнеем!
— Вероятно, капитан корабля твоего бывшего мужа чувствовал себя в большой растерянности, когда ты к нему обратилась!
Потом мне в голову ударила еще одна мысль, еще один аспект проблемы.
— А насколько твой бывший муж близок с твоим дядей Публием? — спросил я.
— Дядя Публий не может об этом знать.
— Ты уверена?
— Это невозможно!
— А что он думает о Веспасиане?
— Конечно, дядя Публий его поддерживает. Он — деловой человек и хочет стабильности. Веспасиан стоит за хорошо управляемое государство — высокие налоги, но и большая прибыль от торговли.
— Твой дядя обеспечивает великолепное прикрытие для Пертинакса, и не одним способом.
— О, Юнона, мой бедный дядя!
— Правда? Скажи мне, а какой точки зрения придерживался Публий о Домициане Цезаре во время спора, после которого вы поссорились с Пертинаксом?
— Никакой. Его там не было. Они приходил к нам в дом только на семейные торжества. И отстань от моего дяди.
— Я не могу.
— Фалько! Почему? Ради всего святого, Фалько, он же отец Сосии!
— Именно поэтому. Для меня было бы слишком просто его игнорировать…
— Дидий Фалько, ты должен быть уверен в одном: никто из ее родственников — и уж, тем более ее отец — не мог участвовать ни в чем, что принесло бы зло этому ребенку!
— А как насчет твоего собственного отца?
— Прекрати, Фалько!
— Пертинакс был его зятем. Тесная связь.
— Мой отец совсем не испытывал к нему теплых чувств после того, как я с ним развелась.
Это соответствовало тому, что я видел. Децим явно испытывал раздражение при упоминании мною Пертинакса.
Я спросил ее, кто же все-таки участвовал в обсуждении Домициана. Елена перечислила несколько имен, которые мне ни о чем не говорили.
— А ты знаешь что-нибудь про переулок Ворсовщиков? — резко спросил я. Елена посмотрела на меня округлившимися глазами, я быстро продолжил. — Сосия Камиллина погибла на складе в этом переулке. Он принадлежит старому патрицию, который умирает в загородном поместье — человеку по имени Карпений Марцелл…
— Я его немного знаю, — перебила Елена ровным голосом. — Я бывала у него на складе. Сосия ходила вместе со мной. Это высохший, болезненно умирающий старик, у которого нет сына. Он усыновил наследника. Так делается довольно часто. Представительного молодого человека, у которого не было надежд пробиться самому по себе. Он обрадовался приглашению Марцелла в дом господина благородного происхождения. Он оказал должные почести его блистательным предкам, обещал похоронить старика с должными почестями и оказать уважение, а в ответ управлять внушительным имуществом Марцелла. Цензор сообщил бы тебе, если бы ты потрудился об этом спросить. Полное имя моего мужа, моего бывшего мужа, звучит: Гай Атий Пертинакс Карпений Марцелл.
— Поверь мне, у твоего бывшего мужа есть еще несколько грязных имен, — заметил я мрачно.
* * *
Наиболее удобным казалось какое-то время помолчать.
— Фалько, я полагаю, вы обыскивали склад?
— Предполагаешь правильно. Обыскивали.
— Пусто?
— К тому времени, как мы начали обыск.
* * *
В пруду распрыгались лягушки, некоторые из них квакали. Из воды выпрыгивала рыба. Я бросил камень вводу, и он тоже выпрыгнул. Я откашлялся и квакнул.
— Мне кажется, что хамы из управления претора и щенки из дворца не в состоянии организовать происходящие события, — заявила сенаторская дочь. В эти минуты она очень напоминала свою британскую тетю.
— О нет, этой труппой обезьян управляет настоящий руководитель!
— Я не думаю, что Атий Пертинакс способен на убийство, — сказала Елена Юстина гораздо более робко.
— Ну, если ты так считаешь.
— Я так считаю! Можешь быть циничным, если хочешь. Возможно, люди никогда на самом деле не знают, что представляю собой другие. Тем не менее мы должны пытаться. В твой работе ты должен доверять собственным суждениям и впечатлениям…
— Я доверяю твоим, — просто признал я, поскольку этот комплимент соответствовал истине.
— И все же ты мне не доверяешь!
Ребра меня сильно беспокоили, нога болела.
— Мне на самом деле важно твое мнение, — сказал я, — и я его ценю. Ради нее, ради Сосии, в этом деле не должно быть удовольствий и наслаждений. Никакой верности, никакого доверия, а если повезет, и никаких ошибок.
Я поднялся на ноги и стал хромать из стороны в сторону. Произнося имя Сосии, я хотел немного отдалиться от Елены. Прошло много времени с тех пор, как я думал о Сосии так просто, и воспоминания все еще оставались невыносимыми. Мне хотелось подумать о Сосии Камиллине, но только в одиночестве.
Я завернулся в плащ и прошел к пруду. Елена осталась на скамье. Вероятно, она разговаривала с серой фигурой, полы плаща которой время от времени хлопали на ночном ветру, прилетавшем с моря. Я услышал, как она меня тихо зовет.
— До встречи с родственниками мне было бы неплохо знать, как умерла моя двоюродная сестра, — сказал она. — Это поможет.
Гай, который, вероятно, сообщил ей печальную весть, похоже, скрыл детали. Поскольку я уважал Елену, то рассказал ей голые факты.
— А ты где был? — спросила Елена тихим голосом.
— Лежал без сознания в прачечной.
— Это связано?
— Нет.
— Ты был ее любовником? — удалось ей выдавить из себя. Я молчал. — Отвечай мне. Я тебе плачу, Фалько!
Я в конце концов ответил только потому, что знал об ее упрямстве.
— Нет, — сказал я.
— А ты хотел им быть?
Я молчал достаточно долго, чтобы это само по себе стало ответом.
— У тебя была возможность! Я знаю, что была… Почему не тогда?
— Другое сословие, — заявил я. — Возраст. Опыт. — Глупость! — добавил я через некоторое время.
Затем она спросила меня о нравственности. Мне казалось, что мои нравственные принципы очевидны. Это ее не касалось, но в конце я сказал ей, что мужчине не следует пользоваться готовностью юной девушки, которая поняла, что хочет, обладает инстинктами это получить, но не имеет смелости справиться с неизбежной печалью, которая последует.
— Если бы она осталась жива, то кто-нибудь другой развеял бы иллюзии Сосии. Я не хотел, чтобы это был я.
Ночной ветер усиливался и развивал мой плащ. На душе было тяжело, требовалось прекратить этот разговор.
— Я иду в номер.
Я не собирался оставлять свою клиентку одну в темноте. К этому времени, если в мире существует справедливость, она уже должна была бы это знать. Из гостиницы доносились звуки веселья, часто сиплые и хриплые голоса. Елена чувствовала себя не очень уютно в общественных местах, а Массилия в период оргий не место для благородной госпожи. Это не место ни для кого. Я сам начал чувствовать себя здесь несчастным на открытом воздухе.
Я ждал, не могу сказать, что проявлял нетерпение.
— Лучше я тебя провожу, — сказал я.
Я проводил ее до двери номера, как делал всегда раньше. Вероятно, она никогда не узнает, сколько претендующих на нее типов мне пришлось отгонять на протяжении нашего путешествия. Однажды ночью мы ночевали в месте, где еще не изобрели замки. Клиенты там были особенно настойчивыми и отталкивающими. Я спал у ее порога с ножом в руке. Я предпочитал, чтобы было так. Это моя работа. Именно за это мне платила эта ценная госпожа, даже хотя ей было неудобно выразить это словами в нашем контракте.
Она гораздо сильнее переживала смерть Сосии, чем я думал. Когда в тускло освещенном коридоре я повернулся, чтобы пожелать ей спокойной ночи и наконец взглянул на Елену, то понял, что хотя ничего не заметил в саду, она плакала.
Я замер на месте, беспомощный при виде этого непривычного зрелища.
— Спасибо, Фалько, — тем временем произнесла Елена самым обычным голосом.
Я тоже повесил на лицо обычное выражение, несколько застенчивое и робкое, чтобы соответствовать. Елена Юстина это проигнорировала, как и всегда.
— С днем рождения! — тихо сказала она как раз перед тем, как отвернуться.
Затем в честь моего дня рождения она поцеловала меня в щеку.
Глава 36
Вероятно, она почувствовала, как я дернулся.
— Прости меня! — воскликнула она. Ей следовало резко повернуться и уйти. Мы могли бы на этом закончить, на самом деле меня бы это не беспокоило. Ее жест был вполне приличным.
Проклятая женщина не знала, что делать.
— Мне очень жаль…
— Никогда не извиняйся! — я услышал, как проскрипел мой голос. После смерти Сосии я ушел в себя. Я больше не мог иметь дел с женщинами. — Ничего нового, госпожа. Богатая грудинка ищет густого соуса. Гладиаторы сталкиваются с этим постоянно. Если бы я хотел этого, то ты бы давно об этом узнала!
Ей следовало сразу же уйти в номер. Но она просто стояла на одном месте и выглядела обеспокоенной.
— О, ради всего святого! — раздраженно воскликнул я. — Прекрати на меня так смотреть.
Ее большие усталые несчастные глаза напоминали озера. На протяжении двух часов я думал, что почувствую, если ее поцелую. Поэтому я ее поцеловал. Раздраженный, озлобленный, выведенный из себя, я шагнул к дверному проему, потом сжал ее локтями, а ладонями взялся за ее бледное, как кость, лицо. Все закончилось довольно быстро, удовольствия не было. Вероятно, это оказалось самым пустым жестом в моей жизни.
Она вырвалась. Она дрожала от холода в саду. Все лицо у нее было холодное, а ресницы влажные от слез. Я поцеловал ее, и тем не менее, все равно не понял, каково это. Я знаю мужчин, которые скажут вам, что с женщинами следует общаться грубо, потому что так хотят женщины. Эти мужчины глупцы. Елена Юстина заметно смутилась. Если быть полностью честным, то я и тоже был смущен.
Елена могла бы справиться с ситуацией, но я не дал ей времени — я резко развернулся и ушел.
* * *
Я вернулся. За кого вы меня принимаете? Прошел по темному коридору украдкой как слуга с посланием, которое он забыл передать раньше. Я постучал ей в дверь особым стуком — три раза подряд, быстро, костяшками пальцев. Мы никогда об этом не договаривались специально, так получилось само собой. Обычно она сразу же подходила к двери и впускала меня.
Я снова постучал. Я попробовал дверь, зная, что она не поддастся (я сам показывал Елене, как запирать дверь на палку, если останавливаемся в гостинице). Я прижался лбом к дереву и тихо произнес ее полное имя. Она не желала отвечать.
К этому времени я понял, что она предполагала, будто мы наконец достигли некоторого понимания. Она предложила мне перемирие, а я по глупости этого даже не понял, тем более не принял. Елена Юстина была настолько щедра, насколько я глуп. Мне хотелось бы получить возможность сказать ей, что я сожалею. Она не желала или не могла предоставить мне эту возможность.
Прошло какое-то время, ждать здесь больше было нельзя, или я мог бы подмочить ее репутацию. Елена Юстина наняла меня именно затем, чтобы избавлять ее от этого. Единственное, что я мог для нее сделать, — это уйти.
Глава 37
Утром я оделся, упаковал вещи, затем, проходя мимо двери госпожи, громко в нее постучал. Она показалась, только когда я уже сидел на ступенях перед гостиницей и намазывал сапоги гусиным жиром, и остановилась за моей спиной. Я медленно завязал обувь, чтобы не поднимать голову. Мне никогда в жизни не было так стыдно.
— Для нас обоих будет лучше, если мы сейчас расторгнем наш контракт, — сказала Елена Юстина по-деловому.
— Госпожа, я закончу то, что начал.
— Я не стану тебе платить, — сказала она.
— Считай, что ты расторгла контракт! — заорал я.
* * *
Я не мог себе позволить ее бросить. Я схватил ее багаж, независимо от того, нравилось ей это или нет, и широкими шагами пошел вперед. Моряк вполне вежливо помог ей подняться на борт, насчет меня никто не побеспокоился. Елена отправилась на нос судна и стояла там в одиночестве. Я расположился на палубе, поставив ноги на ее багаж. Ее тошнило. Меня нет. Я подошел к ней.
— Я могу помочь?
— Уйди прочь.
Я ушел. Казалось, это помогло.
* * *
На всем пути из Галлии в Италию мы не перекинулись ни словом. В Остии, в утренней суматохе, она стояла рядом со мной, пока мы ждали разрешения сойти на берег. Мы не разговаривали. Я позволил другим пассажирам пару раз ее толкнуть, затем поставил Елену впереди себя, и пихать стали меня. Она смотрела прямо вперед. И я тоже.
Я первым сошел со сходней и нашел паланкин. Елена проскользнула мимо меня и забралась в него одна. Я бросил свой багаж на противоположное сиденье, затем отправился в другом паланкине, который несли следом.
В Рим мы заходили во второй половине дня, ближе к вечеру. Весна вступила в свои права, на дорогах усиливалось движение. Мы остановились у Остийских ворот из-за затора, поэтому я заплатил мальчишке, чтобы бежал вперед и предупредил ее семью о нашем приближении. Я сам пошел вперед, чтобы посмотреть, что случилось у ворот и почему образовался такой затор. Когда я проходил мимо паланкина Елены Юстины, она высунула голову. Я остановился.
Я оглядывал дорогу.
— Ты видишь, в чем дело? — спросила она тихо спустя мгновение.
Я поставил локоть на окно ее паланкина. Так было легче общаться.
— Повозки с поставками, — ответил я, все еще глядя вперед. Ждут вечернего звона, чтобы заехать в город. Похоже, перевернулся фургон с бочками вина, и дорога стала липкой.
Я повернул голову и посмотрел прямо в глаза Елене.
— Да еще какой-то шум и суматоха из-за солдат со знаменами. Какой-то могущественный тип с соответствующим сопровождением торжественно въезжает в город…
Она не отводила взгляда. Я никогда не умел мириться. Я чувствовал, как у меня на шее напряглись жилы.
— Дидий Фалько, ты знаешь, что мой отец и дядя Гай заключили пари? — спросила Елена с легкой улыбкой. — Дядя Гай считал, что я уволю тебя в припадке гнева. Отец считал, что ты первым откажешься иметь со мной дело.
— Два негодяя, — заметил я.
— Мы можем доказать, что они неправы, Фалько.
Я скорчил гримасу.
— Они потеряют деньги.
Елена подумала, что я именно это имею в виду. Она резко отвернулась.
У меня сильно заныл низ живота. Я диагностировал это, как чувство вины. Я дотронулся до ее щеки одним пальцем, словно это была Марция, моя маленькая племянница. Елена закрыла глаза, предположительно от того, что ей было неприятно. Движение возобновилось.
— Я не хочу домой! — прошептала Елена печально.
Мне стало ее жаль.
Я понял, что она чувствует. Она покинула отчий дом невестой, выросла женой, сама вела хозяйство, и вероятно, делала это хорошо. Теперь у нее не было места. Она не хотела снова выходить замуж. Мне об этом сказал ее брат в Германии. Она должна вернуться к отцу. Рим не позволял женщинам жить по-другому. Елена попадет в капкан бесполезной жизни девушки, жизни, которую она уже переросла. Посещение Британии было побегом от действительности, но длился он не так долго. Теперь она вернулась.
У нее была настоящая паника, я это видел. В противном случае она никогда бы в этом не призналась, не мне. Я чувствовал ответственность.
— Ты еще не отошла от морской болезни, — заявил я, — предпочитаю доставлять своих клиентов на место здоровыми. Поехали, увидишь много интересного. Я отвезу тебя на набережную и покажу Рим!
* * *
Как я изобретаю подобные безрассудные планы? На востоке города, во многих милях от дома ее отца, можно взобраться на высокий земляной вал, где стояла изначальная городская стена. Древние крепостные валы — прекрасное место для прогулок, к тому же там дует приятный ветерок. Нужно пройти мимо скрипучих кабинок кукольников, фокусников с дрессированными мартышками и лодочников, предлагающих свои услуги. Чтобы добраться до валов, нам пришлось ехать через центр города мимо Форума к Эсквилину. Большинство людей поворачивают на север, к Коллинским воротам. По крайней мере, у меня хватило ума повести Елену в противоположном направлении и пройти половину пути по Священной дороге.
Боги знают, что думали носильщики. Ну, зная, что обычно видят носильщики, я могу догадаться, что они думали.
Мы взобрались наверх, затем пошли рядом. В начале апреля, прямо перед ужином, мы были фактически одни. Перед нами простирался город. Ничто в мире не сравнимо с этим зрелищем. Шестиэтажные многоквартирные дома вздымались вверх с узких улочек и бросали вызов дворцам и частным домом, не обращая внимания на взыскательность и утонченность. Бежевый свет освещал грибовидные крыши храмов или дрожал в струях фонтанов. Даже в апреле воздух казался теплым после сырости и холода Британии. Мы спокойно шагали рядом и вместе пересчитали семь холмов Рима. Пока мы шли на запад вдоль Эсквилина, вечерний ветер дул нам в лицо, он нес запахи мяса, бурлящего в темной подливе в пятистах харчевнях. Мы чувствовали и запах устриц с кориандром в белом винном соусе, свинину с фенхелем, перцем и орехами в какой-то полной суеты кухне частного особняка прямо под нами. До высокого места на валу, где мы находились, доносились постоянные шумы, присутствующие внизу, — торговцы усиленно предлагали свой товар, ораторы произносили речи, повозки сталкивались друг с другом, кричали ослы, звенели дверные колокольчики. Мы слышали топот марширующего отряда стражников и множество криков людей, живущих гораздо более тесно, чем в каком-либо месте империи или известной части мира.
Я остановился, повернул лицо к Капитолию и улыбнулся. Елена находилась так близко, что ее длинный плащ хлестал мой бок. Я почувствовал приближение развязки. Где-то в этой метрополии прячутся люди, которых я ищу. Осталось только найти доказательства, которые удовлетворят императора, затем обнаружить местонахождение украденных серебряных слитков. Я находился на половине пути к ответу, конец нужно искать здесь, в Риме. Моя уверенность усилилась. Наслаждаясь знакомой сценой, зная, что, по крайней мере, в Британии я сделал все, что только мог, отчаяние, которое сжимало меня тисками после смерти Сосии, наконец отпустило.
Я повернулся к Елене Юстине и обнаружил, что она наблюдает за мной. Теперь она взяла под контроль собственные переживания. На самом деле с этой девушкой все было нормально, просто она на какое-то время сделала себя несчастной. Многие так иногда поступают, а кто-то занимаются этим всю жизнь. Кажется, некоторые наслаждаются несчастьем, но не Елена. Она слишком прямолинейна и слишком честна с собой. Если оставить ее в покое, то у нее очень спокойное лицо и доброе сердце. Я чувствовал, что она снова обретет душевный покой. Возможно, не со мной, но если она меня ненавидит, то я едва ли могу жаловаться, ведь когда мы познакомились, я сам себя ненавидел.
— Мне будет тебя не хватать, — поддразнила она меня.
— Как волдыря после того, как боль уходит!
— Да.
Мы рассмеялись.
— Некоторые мои дамы просят о новой встрече со мной, — поддразнил ее я.
— Зачем? — Елена словно отбросила в сторону ярость и смотрела на меня горящими глазами. — Ты так очевидно их обманываешь, когда выставляешь счет за свои услуги?
В последнее время она похудела на несколько фунтов, но фигура у нее оставалась привлекательной и здоровой. Мне нравилась ее прическа, я улыбнулся.
— Только если хочу их увидеть.
— Я предупрежу счетовода, чтобы внимательно следил, нет ли ошибок, — фыркнула она в ответ.
Ее отец и ее дядя проиграли. Хотя это и не продлится вечно, но сейчас мы были друзьями.
Елена выглядела задорно взъерошенной и румяной. Можно было вернуть ее родственникам в таком виде. Они подумают обо мне самое худшее, но это лучше, чем правда.
* * *
Есть две причины, побуждающие привести девушку на набережную. Первая — подышать свежим воздухом, что мы и сделали. Я подумал о второй причине, затем решил, что лучше этого не делать. Наше долгое путешествие закончилось. Я повез Елену Юстину домой.
ЧАСТЬ III
Глава 38
Рим, весна 71 года н. э.
На улице, где стоял дом ее отца, для нас была подготовлена встреча. Мы без проблем добрались до квартала Капенских ворот, протряслись по нескольким боковым улочкам, затем повернули к дому сенатора. Паланкины остановились, и мы оба вышли. Елена резко вдохнула воздух. Я повернулся: к нам неслись четверо или пятеро типов, которым отказали на рынке рабов. На каждом была остроконечная шляпа, надвинутая на лицо. Не требовалось надвигать их так низко, чтобы скрыть оспины. Одна рука у каждого типа была засунута под плащ. Там точно прятали не мешки с булочками и крестьянским сыром.
— Геркулес, госпожа! Звони в колокол, пока кто-то не выйдет!
Елена бросилась к двери отца, а я быстро отстегнул один из шестов, к которому крепился паланкин и за который его несли. Я огляделся. Прохожие исчезали с мостовых, словно таяли в воздухе. Они ныряли в ювелирные мастерские и цветочные лавки, открытые для вечерней торговли. Над портиками висели фонари. Квартал предназначался для избранных, поэтому помощи ожидать не приходилось. Гуляющие горожане исчезли, словно пузыри на Тибре во время наводнения.
Нападавшие действовали быстро, но все равно не так быстро, как я. Под плащами у них оказались дубинки с шипами, но после трех месяцев, проведенных на свинцовом руднике, во мне скопилось больше агрессии, чем они могли предположить. Я мог нанести немало вреда, размахивая восьмифутовым шестом.
В конце концов в ответ на яростный звонок колокольчика, за веревку которого дергала сенаторская дочь, из дома вылетел Камилл в сопровождении рабов. Нападавшие тут же разбежались. Они оставили позади себя кровавый след и мертвеца. Это был тот тип, что бросился на Елену. Я оттолкнул ее в сторону, достал нож, который прячу в сапоге, врезал ему по голени, как меня учили в армии, затем нанес удар ножом, направляя лезвие вверх. Это никогда не остановило бы человека, прошедшего армейскую подготовку, но было очевидно, что мой противник не служил в армии. Я его прикончил.
В Риме ношение оружия незаконно, тем не менее, я защищал дочь сенатора. Никакой обвинитель не сможет убедить судью вынести мне приговор. Кроме того, я терпел ее общество на протяжении тысячи четырехсот миль не для того, чтобы позволить убить ее на пороге отчего дома и отказаться от положенной мне двойной оплаты.
* * *
Камилл Вер, стоя с мечом в руке, тяжело дышал, наблюдая веселенькую сцену. Вокруг нас царил жуткий хаос, в сумерках все казалось более зловещим.
— Я упустил их! Далеко убежали, но одного я задел…
— Неплохо, господин. Я дам вам рекомендации в мой гимнасий. Мы там занимаемся борьбой!
— Фалько, ты не очень хорошо выглядишь.
— Потрясен теплой встречей…
Убийство людей плохо на меня действует. И сенатор, и его жена выскочили из дома в сопровождении множества тупых унылых служанок и ждали возможности обнять свою благородную дочь. Схватив Елену в начале потасовки, я как-то забыл ее выпустить. (Хорошее правило в отношениях с женщинами, хотя ему трудно следовать в толпе.) Вероятно, благородные родители впервые увидели Елену Юстину такой — с побелевшим лицом, потерянной, прижатой к груди небритого разбойника с диким взглядом и окровавленным ножом в руках. Я поспешно передал свою клиентку в руки отца. Камилл Вер был так потрясен увиденным, что не мог говорить.
* * *
Меня била дрожь. Я сидел на краю огромной ванны, которая благоухала цветочными лепестками, пока все вокруг носились с Еленой Юстиной. Поскольку никому не хотелось ругать меня за их испуг, все ругали ее. Она казалась слишком растерянной, чтобы возражать. Я наблюдал за всеми, так привыкнув к роли защитника, что чувствовал себя неловко из-за того, что здесь мне приходилось держаться на заднем плане.
— Прекрасно сработано, Фалько! — ее отец широкими шагами пересек помещение и поднял меня на ноги. Затем спросил
голосом человека, который поставил деньги на мой ответ.
— Хорошо ли прошло путешествие?
— О, спокойствие путешествия соответствовало низкой оплате.
Елена странно взглянула на меня. Я смотрел на вечернее небо как обыкновенный усталый человек.
* * *
Децим послал сообщение магистрату насчет человека, которого я убил. Тело очень быстро убрали с площадки перед домом за счет граждан. Больше об инциденте я не слышал.
Было очевидно, что хотели эти негодяи: когда они внезапно побежали, с ними исчез и наш багаж.
Я организовал поисковую группу, и рабы Камилла вернулись с нашей поклажей, которую нашли брошенной на улицах недалеко от сенаторского дома. Я поставил канделябр на холодный плиточный пол в холле, опустился на колени и принялся распаковывать свой нехитрый скарб, чтобы тщательно все обыскать. Елена устроилась рядом со мной и помогала. Пока я тщательнейшим образом все осматривал, мы разговаривали тихими голосами людей, которые вместе путешествовали на протяжении многих недель. Мать Елены явно чувствовала себя неуютно, но мы были слишком заняты, чтобы обращать на это внимание. Все, кого мы встретили на пути в Рим, глядя на нас, предвкушали какой-то скандал, лучшее средство от серой рутины жизни. Мы оба привыкли это не замечать. Но даже и так я почувствовал, что Юлия Юста теперь смотрит на меня как на обузу. Я улыбнулся про себя: элегантная мать гордой молодой дамы раздражает ее так же, как моя меня.
— Практически ничего не перевернуто, и пропало очень мало, — сообщил я Елене Юстине, советуясь с ней как с партнером в расследовании дела.
— Письмо дяди…
— Не страшно. На самом деле бессмысленно — он может написать его снова.
Кое-что еще. Кое-что, что принадлежало мне. В то мгновение, когда я это понял, Елена, вероятно, смотрела на меня. Я догадался по ее взгляду, что выражение моего лица сильно изменилось. Я фактически посерел.
— О, Фалько…
Я коснулся ее запястья.
— Девочка, это не имеет значения.
— Имеет!
Я просто покачал головой.
Они забрали гагатовый браслет, который Елена подарила Сосии, а Сосия в свою очередь мне.
Глава 39
Сенатор решил отправиться во дворец в тот же вечер. Он сообщит все, что стало известно нам и, в частности, наши подозрения о причастности Домициана. Мне было нечего делать до получения дальнейших указаний. Я мог это пережить.
Мне предложили ужин и пуховую постель, но я отправился домой — хотелось побыть одному по нескольким причинам.
Прачечная была закрыта, поэтому я отложил удовольствие встречи с Ленией до следующего дня. Шесть этажей — это большое препятствие для усталого после путешествия мужчины. Тяжело ступая по ступеням, я понял, что хочу переехать. Однако когда добрался до собственной квартиры, во мне проснулось упрямство, и я решил остаться.
Ничего не изменилось. В первой комнате едва ли могла развернуться собака, тощая собака с зажатым между ног хвостом. Качающийся стол, накренившаяся скамья, полка с посудой, стопка кирпичей, рашпер, кувшины для вина (грязные), корзина для мусора (полная)… Но мой стол стоял не в том месте. Кирпичи, на которых я готовил еду, почернели от сажи. Какой-то бездушный ублюдок морил голодом ласточку в клетке. В моей квартире кто-то жил!
Я вначале уловил его запах. В воздухе смердело старыми шерстяными туниками, которые не стирали месяц. Я увидел модную красную вечернюю одежду, которую не узнал, и пару тапок, запах которых в виде приветствия донесся до меня из дальнего конца комнаты. Несмотря на то, что Децим вносил арендную плату Смаракту, мой бесчестный и корыстный домовладелец пустил виночерпия, подающего горячее вино, который наполнил мое жилище всеми возможными запахами тела. Смаракт сдал ему мою квартиру в субаренду на время моего отсутствия.
Вонючего незнакомца сейчас не было дома — ему повезло. Я выбросил чужое барахло на балкон, сбросил тапки вниз на площадку перед входом, покормил его ласточку, затем немного убрал грязь, чтобы как-то устроиться. Я съел анчоусы, которые он оставил в моей любимой чаше. Судя по вкусу, они были трехдневными. Вдруг он вошел. Моим квартирантом оказался виночерпий с сальными волосами, плохими зубами и склонностью к метеоризму от испуга, причем это происходило каждый раз, когда я бросал взгляд в его сторону. А случалось довольно часто. Он относился к неприятным типам, с которых нельзя спускать глаз.
Я поставил этого убогого в известность о том, что ему следует платить мне сумму, которую берет с него Смаракт, а также спать на улице под звездами, пока не найдет другое жилье, или я его вышвырну отсюда прямо сейчас. Он выбрал балкон.
— Ты съел мои анчоусы!
— Тебе не повезло, — нахмурился я. Он не знал, что я нахмурился потому, что его выражение лица напомнило мне кое-кого другого.
Не стану говорить, что мне ее не хватает. Женщины с отвратительным характером, которые считают свою жизнь трагедией, слишком часто встречаются там, где я живу. Мне не хватало приятного тепла от ощущения зарабатывания денег просто за то, что я составляю кому-то компанию. Мне не хватало ответственности за другого человека, не хватало возбуждения и учащенного пульса от размышлений, что еще выкинет сумасшедшая девица, пытаясь вызвать у меня раздражение.
* * *
Новости все также быстро распространялись на Авентине. Петроний Лонг постучал в дверь за час до того, как я его ждал. Я увидел знакомую крепкую фигуру и скромную улыбку. Он отпустил бороду и выглядел ужасно. Я сказал ему об этом, он ничего не ответил, но я знал, что к следующей нашей встрече он побреется.
Виночерпий нашел мой тайник и опустошил его содержимое (хотя он это отрицал, поскольку вранье лучше всего получается у виночерпиев, подающих разогретое вино). К счастью, Петроний принес амфору своего любимого кампанского вина. Он устроился на скамье, прислонился к стене и вытянул длинные ноги. Каблуки оказались на краю стола, а кубок он держал на животе. Так ему было удобнее. Казалось, прошло очень много времени с тех пор, как я видел удобно устраивающегося Петрония, чувствующего себя, как дома. Бросив один взгляд на мое вытянувшееся лицо и похудевшую фигуру, он произнес только одну фразу.
— Круто пришлось? — спросил друг.
Потирая ребра, я суммировал для него последние четыре месяца.
— Круто! — сказал я.
Он был готов выслушать весь рассказ полностью, но знал, что мне в настоящий момент требуется хорошо выпить вместе со сдержанным и спокойным другом. Его карие глаза горели.
— А как госпожа клиентка?
Петрония всегда очаровывали стаи страстных женщин, которые, по его мнению, меня осаждают. Обычно я ублажаю его пикантными деталями, даже если мне приходится их придумывать. Он понял, что я страшно устал, когда я ответил кратко.
— Хвастаться нечем. Просто обычная девчонка.
— Проблемы из-за нее возникали? — спросил он с интересом.
Я заставил себя грустно улыбнуться.
— О-о, я вскоре с ней разобрался.
Он мне не поверил. Я сам себе не верил.
Мы выпили все его красное кампанское, не разбавляя его водой, затем, кажется, я заснул.
Глава 40
Елена Юстина появилась у меня на следующий день. Это меня сильно смутило, потому что у меня на коленях, задрав ноги вверх, устроилась одна юная прелестница в короткой рубиновой тунике. Эта юная госпожа делила со мной завтрак и очень глупо себя вела. Девочка была симпатичной, сцена интимной, а Елена — последним человеком, которого я ожидал увидеть.
Елена Юстина казалась спокойной и невозмутимой в свободных, идеально чистых белых одеждах. Мне стало ужасно неловко из-за того, что эта высокомерная и полная достоинства дама в подобной одежде поднялась на шестой этаж в мою грязную дыру до того, как я успел побриться.
— Я бы сбежал вниз…
— Не нужно. Я страстно желала увидеть тебя на троне твоего королевства! — она придирчиво оглядела меня, принюхиваясь к неприятным запахам. — Место выглядит чистым. Кто-то за тобой ухаживает? Я ожидала мрачные залежи паутины и следы крыс.
Кто-то — моя мама — уже побывала тут и подсуетилась, и поэтому пауки временно убрались под стропила вместе с голубями. О крысах я пытался не думать.
Я пересадил хихикающее существо, занимавшее мои руки, на скамью рядом.
— Пойди на балкон и подожди там.
— Там мужчина. Он воняет!
Виночерпий. Ему придется уйти. Я вздохнул. Елена Юстина улыбнулась мне сводящей с ума улыбкой.
— М. Дидий Фалько в полусонном состоянии и с кубком вина в руке. Немного рановато, Фалько, даже для тебя?
— Это горячее молоко, — прохрипел я.
Ей показалось, что я вру, поэтому Елена перегнулась через стол, чтобы посмотреть. Это на самом деле было горячее молоко.
Сенаторская дочь в своей обычной манере опустилась на стул, который я держу для клиентов. От нее пахло духами, она вела себя снисходительно и не думала демонстрировать вежливость. Она уставилась на мою ерзающую компаньонку. Я сдался.
— Это Марция, моя любимая маленькая подружка.
Марция, моя любимая подружка в возрасте трех лет, властно прижалась ко мне, демонстрируя собственнические инстинкты, и гневно выглядывала из-под моей руки. Вероятно, ее суровый взгляд напомнил Елене обо мне. Я схватил Марцию за тунику сзади, пытаясь хоть как-то держать ее под контролем.
К моему ужасу, сенаторская дочь протянула к Марции руки и перетащила ее через стол с уверенностью человека, у которого до этой минуты всегда получалось ладить с детьми. Я вспомнил чистенькую, послушную маленькую девочку, которую видел у нее на коленях в Лондинии, и выругался про себя. Марция опустилась на колени Елены, словно мешок, и выглядела задумчивой. Затем она посмотрела на нее снизу вверх, преднамеренно пустила слюни, а потом еще и начала надувать пузыри из слюны.
— Веди себя прилично, — сказал я слабым голосом. — Вытри лицо.
Марция вытерла лицо ближайшим куском материи, которым оказался вышитый конец длинного белого шарфа Елены Юстины.
— Твоя? — осторожно спросила меня Елена.
Я позволял использовать себя в качестве няньки по утрам, и это было моим личным делом.
— Нет, — просто ответил я, это было грубо, даже для меня, поэтому я снизошел до краткого пояснения, — моя племянница.
Марция была ребенком моего брата Феста, о рождении которого он так и не узнал.
— Она плохо себя ведет, потому что ты ее балуешь, — заметила Елена.
Я ответил, что кто-то должен ее баловать. Казалось, этот ответ Елену удовлетворил. Марция принялась за исследование серег Елены — голубых стеклянных бусинок на золотых колечках. Если Марции удастся снять бусинки, то она их съест до того, как я успею перегнуться через стол и схватить их. К счастью, оказалось, что они хорошо закреплены, а серьги надежно держатся в нежных мочках госпожи. Лично я тоже обратил бы внимание на ее уши, потому что они располагались близко к голове и просто просили, чтобы их покусали. Довольно напряженным тоном я спросил, как могу служить Елене Юстине.
— Фалько, мои родители сегодня ужинают во дворце, тебя там тоже хотят видеть.
— Ужин с Веспасианом? — я пришел в ярость. — Конечно нет! Я — убежденный республиканец!
— О, Дидий Фалько! Сколько шуму из ничего! — крикнула Елена.
Марция прекратила выдувать пузыри.
— Сиди тихо! — прикрикнул я на нее, когда она внезапно начала раскачиваться из стороны в сторону и сдавленно смеяться с довольным видом. Этот ребенок был тяжелым и неловким, как теленок. — Послушай, отдай мне ее назад. Я не могу с тобой разговаривать и нервничать…
Елена схватила Марцию, усадила прямо, снова вытерла ей лицо (отыскав кусок материи, который я держу для этой цели), поправила серьги, не прерывая разговора со мной.
— Она не доставляет хлопот. Фалько, ты слишком много болтаешь языком.
— Мой отец — аукционист.
— Я не могу в это поверить! Просто перестань волноваться.
Я закрыл рот и поджал губы. Мгновение казалось, что она закончила выступление.
— Фалько, я попыталась встретиться с Пертинаксом, — призналась Елена Юстина.
Я ничего не сказал, поскольку то, что мне хотелось сказать, не подошло бы для ее благородных красивых ушей. У меня перехватывало дыхание от воспоминаний о другой девушке в белом, лежащей неподвижно у моих ног.
— Я ходила к нему домой. Наверное, хотела бросить ему вызов. Его там не оказалось…
— Елена… — запротестовал я.
— Я знаю. Мне не следовало ходить, — быстро пробормотала она.
— Госпожа, никогда не ходи одна к мужчине, чтобы заявить ему, что он — преступник! Он это знает. Вероятно, он это докажет, набросившись на тебя с первым подвернувшимся под руку оружием. Ты хоть кому-нибудь сказала, что туда направляешься?
— Он был моим мужем. Я не боялась…
— Тебе следовало бояться!
Внезапно ее тон смягчился.
— И теперь ты боишься за меня! Мне на самом деле жаль. — Меня охватил болезненный озноб, особенно неприятные ощущения возникли в низу живота. — Я хотела взять тебя с собой…
— Я бы пошел.
— А если бы я попросила тебя должным образом? — поддразнила она меня.
— Если я увижу, что у тебя проблемы, просить не придется, — сказал я напряженно.
У Елены округлились глаза. Он была удивлена и потрясена.
Я выпил молоко.
* * *
Я снова успокоился. Марция прижалась растрепанной головкой к красивой груди Елены и наблюдала за нами, а я наблюдал за ней, вернее, делал вид, пока Елена меня уговаривала.
— Пойдешь сегодня вечером? Это бесплатный ужин, Фалько! Один из твоих нанимателей примчался из-за границы, чтобы с тобой встретиться. Ты сам знаешь, насколько ты любопытен, поэтому просто не можешь пропустить это мероприятие.
— Нанимателей — во множественном числе?
Она сказала, что их двое, возможное трое, хотя, вероятно, и нет. Я сообразил, что двое означает двойную ставку.
— Твоя ставка — это то, на что согласился мой отец! — ответила она. — Надень тогу, возьми с собой салфетку. Можешь побриться, думаю, это даже следует сделать. И, пожалуйста, Фалько, постарайся меня не смущать…
— Нет необходимости, госпожа, — ты сама себя смущаешь. Отдай мне мою племянницу! — невежливо прорычал я. Наконец она это сделала.
* * *
После того как Елена Юстина покинула мою квартиру, мы с Марцией вышли на балкон, держась за руки. Мы выгнали виночерпия, который храпел в набедренной повязке на матрасе, и ждали, вдыхая оставшиеся от него мерзкие запахи, пока Елена Юстина не появилась на улице. Мы видели, как она садится в паланкин. Ее голова находилась далеко внизу, словно блестящая шарообразная ручка из тикового дерева среди пены белоснежных одежд. Она не смотрела вверх. Мне стало грустно.
— Красивая! — заметила Марция, которая обычно предпочитала мужчин. Я поддерживал ее в этом, считая, что если она любит мужчин в три года, то это вскоре перерастет в увлечение, и у меня будет меньше проблем к тому времени, как ей исполнится тринадцать.
— Эта женщина никогда не вела себя со мной красиво, — проворчал я.
Марция посмотрела на меня уголком глаза. Этот взгляд оказался удивительно взрослым.
— О, Дидий Фалько! Сколько шуму из ничего!
* * *
Я сам отправился к Пертинаксу. Все, что я сказал Елене, было правдой. Это было глупо. К счастью, наглая вошь так и не появлялась дома.
Глава 41
Я случайно встретился с Петронием на следующий день. Он присвистнул, затем стал меня разглядывать, держа на расстоянии вытянутых рук.
— Так! И куда это ты направляешься, красавчик?
В честь ужина с правителем цивилизованного мира я надел свою лучшую тунику, над которой трудились в прачечной, пока старые винные пятна не стали почти невидимыми. Я надел сандалии (начищенные), новый ремень (колючий) и перстень моего двоюродного дедушки Скаро с обсидианом. Я провел всю вторую половину дня в банях и у цирюльника, причем не просто обмениваясь новостями (хотя я и этим занимался, до тех пор пока у меня не начала кружиться голова). Меня подстригли, и я чувствовал себя примерно так, как ягненок, лишившийся шерсти. Петроний вдохнул непривычные запахи ароматического масла для мытья, лосьона после бритья, смягчающего кожу масла и помады для волос — всем этим пахло от меня. Затем он осторожно, одним пальцем приподнял две складки моей тоги на четверть дюйма, делая вид, что улучшает результат работы портного. Изначально эта тога принадлежала моему брату, который как хороший солдат считал, что должен экипироваться всем самым лучшим, независимо от того, нужно это ему или нет. Я потел под тяжестью шерсти и собственного смущения.
Я решил заговорить первым, чтобы мой скептический товарищ не пришел ни к каким неправильным выводам.
— Просто сопровождаю один старый сосуд с уксусом на пир во дворец.
Петроний выглядел шокированным.
— Ночное поручение? Будь осторожен, цветочек! У симпатичного парня могут возникнуть проблемы.
У меня не было времени на споры. Я столько времени провел у цирюльника, что уже опаздывал.
* * *
Привратник в доме Камилла отказывался меня узнавать. Мне просто пришлось ему врезать и испортить свое хорошее настроение и аккуратный наряд. Сенатор и Юлия Юста уже отбыли. К счастью, Елена спокойно ждала меня в зале, поэтому вышла на шум, вернее, ее вынесли в паланкине. Она выглянула в окно, но мне представилась возможность ее также внимательно рассмотреть, только когда мы добрались до Палатина. Она меня сильно удивила. Наверное, деньги играют большую роль. Я помог ей выйти из паланкина, и тут же почувствовал дискомфорт, который возникает, когда кто-то знакомый разоделся так, что выглядит незнакомцем. Она облачилась в накидку, половину лица закрывало тонкое покрывало. Я увидел, что несчастные служанки ее матери на самом деле выполнили долг по отношению к хозяйской дочери. Они сделали моей госпоже маникюр, выщипали брови, завили волосы. Видимо, она всю вторую половину дня провела в маске для лица, после чего маску сняли губкой, добавили охры на скулы и подвели сурьмой глаза. Вероятно, они хотели, чтобы Елена Юстина выглядела, как и положено женщине ее положения. На самом деле она казалась отполированной до блеска — от филигранной тиары, приколотой к изысканно уложенным волосам, до туфелек, украшенных бусинами, которые поблескивали из-под подола. Наряд Елены был сшит из зеленого шелка, при этом руки оставались открытыми. В результате получилась холодная стройная высокомерная наяда.
Я отвернулся, затем снова повернулся к ней и откашлялся, затем признался хриплым голосом, что никогда раньше не появлялся в городе с наядой.
— Если бы ты вышла на пляж в Байи, то возникла бы серьезная опасность появления какого-нибудь похотливого старого морского божества, который перекинул бы тебя через плечо, чтобы совокупиться на матрасе из водорослей! На это Елена заявила, что врезала бы божеству по плавникам его же трезубцем. Я ответил, что его попытка все равно бы того стоила.
Мы присоединились к медленно движущейся толпе. Люди выстроились в очередь и пробирались к обеденному залу. Эта процессия проходила сквозь вычурные коридоры Нерона, где пилястры, арки и потолки были украшены золотом в таком количестве, что оно сливалось, создавая впечатление, будто здесь все им покрыто. Тщательно выписанные фавны и амуры делали пируэты в крытых колоннадах и беседках, увитых ползучими растениями. Розы цвели, несмотря на то, что их сезон еще не наступил. Стены были такими высокими, что после того как художники сняли леса, мелкими деталями их работы могли насладиться только мухи и моль, садящиеся на фрески. У меня помутилось в глазах от роскоши, как у человека, ослепшего после долгого разглядывания солнца.
— Ты подстригся! — обвиняющим тоном сказала Елена Юстина. Пока мы продвигались к обеденному залу, говорила она негромко, слова вылетали у нее из уголка рта.
— Тебе нравится?
— Нет, — честно ответила она. — Мне нравились твои локоны.
Хвала Юпитеру, девушка все еще оставалась самой собой. В ответ я гневно посмотрел на ее модную прическу — завязанный на макушке пучок, из которого ниспадали завитые служанками пряди.
— Ну, раз мы перешли к локонам, госпожа, то ты мне больше нравилась без них!
* * *
Пиры Веспасиана были ужасающе старомодными: во-первых, служанки подавали в одежде, и, во-вторых, он никогда не отравлял пищу.
Веспасиан не любил устраивать развлечения и приемы, хотя регулярно проводил пиры. Он устраивал их, чтобы развлечь людей, которых приглашал, и дать заработать тем, кто их обслуживал. Как республиканец, я не позволил себе подпасть под впечатление. Посещение одного из хорошо организованных ужинов у императора привело меня в уныние. Я отказываюсь вспоминать меню, я постоянно прикидывал в уме, сколько все это стоило. К счастью, Веспасиан сидел слишком далеко от меня, и я не мог высказать ему свое мнение. Он выглядел молчаливым. Зная его, он тоже явно подсчитывал урон казне.
Примерно в середине вечера отказав себе в наслаждении, посыльный похлопал меня по плечу. Мы с Еленой Юстиной так ловко удалились с пира, что я все еще держал клешню омара в руке, а у нее за щекой оставался наполовину пережеванный кальмар. Слуга-гардеробщик помог мне надеть тогу, причем за пять секунд придал мне достойный вид, на что у меня дома ушел час. Другой мальчик, в обязанности которого входило снимать и надевать обувь гостям, обул нас, а затем провожатый повел нас в роскошную приемную, где два стражника с копьями дежурили у внутренней двери, отделанной бронзой. Ее распахнул слуга, а сопровождающий объявил наши имена камерарию, который в свою очередь повторил их своему помощнику, тот снова их произнес четким голосом, только немного исказил оба, таким образом испортив удивительный эффект. Мы зашли внутрь. Раб, который до этого не делал ничего особенного, забрал остатки клешни омара.
Опустилась штора, заглушая звуки снаружи. Молодой человек примерно моего возраста, не слишком высокого роста, с выступающей нижней челюстью быстро поднялся с обитого пурпурной тканью кресла. С него лепились множащиеся по всему Риму мраморные копии. Он обладал крепким, мускулистым телом, энергия так и била в нем ключом. По подолу туники шли вышитые золотом листья аканта. Толщина вышивки составляла один дюйм, ширина полосы четыре дюйма. Молодой человек махнул рукой, прогоняя помощников, и сам бросился вперед, чтобы лично нас поприветствовать.
— Пожалуйста, проходите! Дидий Фалько? Я хотел поблагодарить вас за вашу работу на севере.
Елене не требовалось предупредительно касаться меня рукой. Я сразу же понял, кто это, и кто были два моих нанимателя. Я не работал, как подозревал до этой минуты, на какой-то много воображающий из себя секретариат вольноотпущенников, маячивших в нижних эшелонах дворцового протокола.
Это был Тит Цезарь собственной персоной.
Глава 42
Он только что провел пять лет в пустыне, но, клянусь Юпитером, был в прекрасной физической форме. Он был талантлив. Сразу же становилось понятно, как этот человек командовал легионом в двадцать шесть лет, а затем мобилизовал половину империи, чтобы завоевать трон для отца.
Тит Флавий Веспасиан. Я только что чувствовал в горле сильно перченый соус, теперь оно пересохло, словно я проглотил сухой пепел. Два нанимателя: Тит и Веспасиан. Или, скорее, две важные жертвы, если это по-другому сформулировать.
Предполагалось, что этот веселый молодой полководец застрял на осаде Иерусалима. Очевидно, он уже разобрался с Иерусалимом, и я вполне мог поверить, что во время покорения города он также прихватил и сказочную иудейскую царицу. Кто мог его винить? Независимо от того, кто что думал о прошлом и нравственности царицы Береники (она вышла замуж за собственного дядю и, по слухам, спала с братом-царем), она была самой красивой женщиной в мире.
— Елена Юстина!
Мои зубы заскрипели на куске панциря омара. Прихватив для себя царицу, ему не требовалось посягать на мою наяду, да еще так ее лапать. Я мог сказать, что Елена произвела на него впечатление, в особенности, когда обратилась к нему спокойным голосом.
— Вы хотите поговорить с Фалько, господин? Мне уйти?
Меня охватила паника при мысли, что она на самом деле может уйти, но Тит быстро махнул рукой, приглашая нас обоих в комнату.
— Нет, пожалуйста, не уходите. Это также касается и вас.
* * *
Мы находились в помещении, потолок которого располагался в двадцати футах над головой. Нарисованные мифологические герои прыгали на фантастических панелях под вьющейся зеленью и искусно переплетенными цветами. Все поверхности были покрыты золотым листом. Я моргнул.
— Простите, что так слепит, — улыбнулся Тит. — Это Нерон так представлял хороший вкус. Мой несчастный отец, как вы можете догадаться, находится в затруднительном положении — мириться ли с этим или выделить фонды на строительство еще одного, нового дворца на том же месте.
Я позавидовал им из-за стоящей перед ними проблемы — оставить дворец, который им уже принадлежит, или построить новый.
Тит продолжал говорить серьезным тоном.
— Некоторые комнаты настолько ужасны, что нам пришлось их закрыть. Комплекс растянулся на три из семи холмов, и у нас все равно возникают проблемы. Не найти скромных мест для размещения семьи, не то что на самом деле функциональных общественных приемных. Но вначале о более важных вещах…
Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать вкус в оформлении помещений, но Тит изменил темп и показал, что намерен обсуждать дело, поэтому я расслабился.
— Отец попросил меня встретиться с вами в неформальной обстановке, потому что публичная аудиенция может оказаться опасной. Добытые вами сведения о том, что украденные слитки лишены серебра, передали преторианцам. Им на это намекнули. Они выслушали новость с интересом, несмотря на свою верность!
Он говорил иронично, но без цинизма.
— Но заговорщики все равно остаются на свободе… — ответил я.
— Давайте я введу вас в курс последних новостей. Сегодня утром мы арестовали Атия Пертинакса Марцелла. Доказательств было мало, но мы должны выяснить, кто еще участвует в этом деле. Поэтому… — он колебался.
— Мармертинская тюрьма? — спросил я. — Камеры для политических?
В них умирали царевичи, эти камеры пользовались печальной известностью. Елена Юстина резко вдохнула воздух.
— Ненадолго, — сообщил ей Тит, почти без извинений. — К нему приходил посетитель. Это не по правилам. И я пока не знаю кто. Полчаса назад тюремные охранники нашли его задушенным.
— О нет!
Тит сообщил новость о смерти ее мужа самым обыденным тоном. Елена Юстина заметно нервничала, как и я. Я обещал доставить себе удовольствие и лично разобраться с Пертинаксом. Мне не показалось странным, что он выбирал соратников, которые лишили меня этой возможности.
— Елена Юстина, вы с Пертинаксом оставались в хороших отношениях?
— У нас вообще не было отношений, — ровным тоном ответила она.
Тит задумчиво посмотрел на нее.
— Вы упомянуты в его завещании?
— Нет. Он проявил щедрость, когда мы делили имущество, но составил новое завещание.
— Вы это обсуждали?
— Нет. Но одним из свидетелей выступал мой дядя.
— Вы разговаривали с Атием Пертинаксом после вашего возвращения из-за границы?
— Нет.
— Тогда скажите мне, зачем вы сегодня ходили к нему домой? — спросил Тит Цезарь холодным тоном.
Сын императора задавал такие же неожиданные вопросы, какие люблю я сам. Он совершил переход от любезностей к допросу одним плавным движением. Между тем и другим не наблюдалось никакого заметного шва. Елена ответила ему спокойным голосом, хотя такой поворот событий явно застал ее врасплох, и ей было больно.
— Мне в голову пришла одна мысль, господин. Я его хорошо знала и считала, что должна прямо в лицо высказать ему все выводы, к которым мы пришли. Слуги заявили мне, что его нет дома…
— Нет, его не было.
Он находился в Мамертинской тюрьме и был уже мертв. Тит хитро посмотрел на меня.
— А вы зачем туда отправились, Фалько?
— Решил вмешаться, на случай если этот человек поведет себя грубо.
При моем ответе Тит улыбнулся, затем снова обернулся к Елене. Она в свою очередь резко повернула ко мне голову. Диски чеканного золота — старинные серьги — слегка задрожали, послышался тихий металлический звон. Игнорируя ее упрек, я приготовился вмешаться, если Тит перегнет палку и зайдет слишком далеко.
— В завещании Пертинакса есть кодицилл, — объявил Тит. — Он был написан только вчера, с новыми свидетелями. Требуется объяснение.
— Я об этом ничего не знаю, — заявила Елена. Выражение ее лица стало натянутым и напряженным.
— Это необходимо, Цезарь? — перебил я. Судя по виду, он явно собирался продолжать, но я настаивал. — Простите, господин. Если женщину вызывают в суд, то она может пригласить друга, чтобы выступил вместо нее.
— Как я понимаю, Елена Юстина сама способна ответить!
— О, конечно способна! — я улыбнулся ему. — Поэтому для вас может быть предпочтительнее общаться со мной.
Она сидела молча, как и следует женщине, если о ней говорят мужчины. Елена продолжала смотреть на меня, мне это нравилось. Цезаря же, похоже, не интересовало на кого она смотрит.
— Госпожа не на суде, — спокойно заметил Тит, но я понял, что мне удалось придержать его. — Фалько, я думал, что вы работаете на нас! Разве мы недостаточно вам платим?
Мужчине, сердце которого обольстила самая красивая женщина, простителен романтизм.
— Если честно, то платите вы скуповато, — не моргнув глазом, ответил я.
Он слегка улыбнулся. Все знали, что Веспасиан трудно расстается с деньгами.
— Боюсь, что новый император этим знаменит! Ему требуется четыреста миллионов сестерциев, чтобы восстановить империю и добиться ее процветания. В его списке приоритетов вы стоите где-то между перестройкой храма Юпитера и осушением озера в Золотом дворце Нерона. Он почувствует облегчение, выяснив, что Елена Юстина следит за тем, чтобы вы не голодали! Итак, Дидий Фалько, позвольте мне сообщить вам как ее другу и представителю, что бывший муж вашей клиентки оставил ей довольно неожиданный дар.
— Любой дар от этого прыща кажется мне неожиданным. И что он ей оставил? — спросил я.
Тит прикусил ноготь большого пальца, маникюр на котором был идеальным.
— Содержимое склада специй на переулке Ворсовщиков.
Глава 43
Я быстро думал, скрывая свое возбуждение.
— А как вы думаете, что он имел в виду, господин?
— Я отправил людей провести расследование.
— Они что-то нашли?
— Для нас ничего интересного. Для госпожи — большие запасы специй и достаточно духов, чтобы, купаться, как Клеопатра, до конца жизни. — Затем он повернулся к Елене и спросил другим тоном. — Елена Юстина, это вас расстроило? У Пертинакса не было семьи, за исключением приемного отца. Возможно, он сохранил к вам привязанность с тех пор, как вы были его женой.
Это на самом деле ее расстроило. Я сидел тихо. Не моим делом было обсуждать, чувствовал ли Пертинакс привязанность к Елене и хотела ли она этого.
Тит продолжал беспокоить Елену Юстину, которая, в свою очередь, несмотря на удивление, явно пыталась что-то придумать. Наверное, у нее кружилась голова.
— По закону имущество предателя конфискуется, но, учитывая вашу помощь, мой отец хочет, чтобы наследство Пертинакса досталось вам. После проведения необходимых процедур подарок будет вам передан…
Елена хмурилась. Мне хотелось бы посмотреть, как она «съест» Цезаря для разнообразия, не все же ей ругаться со мной. Вместо этого я дал ей разумный совет.
— Елена Юстина, теперь тебе следует рассказать Титу Цезарю про людей, которые приходили в дом твоего мужа. Про тех, кого мы обсуждали в Массилии.
При упоминании Массилии я напрягся, пытаясь не думать об ошибке, которую допустил в гостинице. Елена приняла мою поддержку также спокойно, как всегда. Она повторила рассказ для Тита в своем обычном стиле — говорила прямо, не пытаясь ничего скрыть. Он потребовал назвать имена, Елена перечислила список. На этот раз я вспомнил некоторые из них, хотя они все равно для меня ничего не значили. Куртий Гордиан, брат Гордиана Лонгин. Фауст Ферентин, Корнелий Грацилий…
Тит вскочил, взял блокнот и стал быстро стенографировать. Он не побеспокоился позвать секретаря, вероятно, считая, что это может быть опасно. В любом случае он славился скоростью стенографирования.
Пока он изучал имена, я поинтересовался:
— Будет ли неприлично спросить, допросили ли и задержали ли вашего брата?
— Нет, — холодно ответил он мне. Его лицо ничего не выражало. — Вещественных доказательств вины Домициана нет.
Тит был юристом, и это был ответ юриста. Внезапно он забеспокоился.
— Вы знаете, почему я так спешил домой? Слухи! — он взорвался. — Я присутствовал при освящении Аписа в Мемфисе. Меня короновали диадемой — это часть обычного ритуала, а Рим решил, что я становлюсь императором на Востоке!
— Сегодня во второй половине дня я слышал у цирюльника, что даже у вашего отца возникли такие мысли! — заметил я.
— Тогда вашему цирюльнику следовало бы взглянуть на нас обоих, когда я вчера ворвался во дворец с криком: «Отец, вот он я!» Что касается моего брата, то во время гражданской войны он чуть не лишился жизни на Капитолии, пока у него над головой горел храм Юпитера. Мой дядя, который дал бы ему совет, был только что убит соратниками Вителлия. В восемнадцать лет, без какого-либо политического опыта Домициан обнаружил себя представителем императора в Риме. Это было совершенно неожиданно. Он сделал глупый выбор и понимает это теперь. Никто не может просить меня осудить собственного брата, просто потому что он так молод!
Я встретился взглядом с Еленой. Ни она, ни я не произнесли ни слова.
* * *
Тит потер себе лоб.
— И что говорят у вашего цирюльника про эту неразбериху, Фалько?
— Ваш отец ненавидит неверность, но всегда слушает вас. А пока вы оба находились в Александрии, Веспасиан вышел из себя, когда услышал, что ваш брат намеревается совершить набег на германцев, восставших против него, но вы уговорили его быть терпимым по отношению к Домициану. — Поскольку Тит не стал этого отрицать, я весело добавил:
— Как вы могли заметить, я выбрал цирюльника из-за возможности получать информацию, господин!
Елена Юстина печально посмотрела на меня. Как мне показалось, печалилась она из-за моих утраченных локонов. Я старался на нее не смотреть.
— И что теперь, Цезарь? — спросил я.
Тит вздохнул.
— Отец попросил Сенат предоставить ему церемониальный триумф. Мы будем праздновать захват Иерусалима. По городу пройдет самая грандиозная процессия, которую когда-либо видел Рим. Если у вас есть дети, возьмите их с собой. Больше они никогда в жизни не увидят ничего подобного. Это будет наш подарок городу. Смею сказать, что в ответ будет обеспечено будущее династии Флавиев!
Ситуацию оценила Елена.
— У вашего отца два взрослых сына, и это одно из его достоинств как императора, — задумчиво заметила она. — Флавии предлагают Риму долгосрочную стабильность, поэтому вы с Домицианом должны оба участвовать в параде. Все должно выглядеть гармонично.
— К концу недели положение моего отца закрепится, — ушел от прямого ответа Тит. — Фалько, у моего цирюльника говорят, что теперь ни преторианцы, ни мой брат не станут противостоять отцу. Эти люди хотят продолжать ходить по земле и забыть о прошлом. Теперь, после того как у меня появился список имен, я готов позволить этим людям ходить по…
Я долго смотрел на него, потом хмыкнул.
— И за этим вы ходили к цирюльнику?
У Тита Цезаря были густые, пышные волосы, по моде аккуратно подстриженные, но слишком длинные, чтобы сохранились красивые завитки. Я ненавижу красивых мужчин, в особенности если они постоянно посматривают на женщину, которая пришла со мной.
— Что это значит, Фалько? — спросил Тит, которому не было весело.
— Судя по выдаваемой им информации, господин, ваш цирюльник — просто разбойник.
— Фалько!
Это крикнула Елена, пытаясь снова спасти меня от утопления, но я продолжал говорить.
— Он не прав по двум причинам, поскольку кое-кто посчитал необходимым заставить Пертинакса замолчать, и этот факт должен вас во многом убедить. — Тит смотрел на меня спокойно и явно хотел услышать продолжение. — Цезарь, ни вы, ни я не можем отпустить этих предателей. Даже притом что Трифер их обманывал, они получили внушительную часть серебра империи, которое требуется вашему отцу. И есть еще одна причина. Красивая честная и преданная долгу шестнадцатилетняя девушка по имени Сосия Камиллина.
Елена Юстина смотрела на меня не отрываясь, от этого взгляда мне стало неловко. Я продолжал настаивать на своем, не обращая внимания на них обоих.
Тит Цезарь провел пальцами обеих рук по ухоженным волосам.
— Вы абсолютно правы. Мой цирюльник — негодяй и преступник, — сказал он.
* * *
Он мгновение смотрел на меня.
— Люди недооценивают вас, Фалько.
— Люди недооценивали Веспасиана на протяжении шестидесяти лет!
— Дураки до сих пор недооценивают. Позвольте мне передать вам его указания.
Они ранее пытались меня обмануть и надуть. Тит до сих пор хотел меня отодвинуть и позволить делу против Домициана тихо умереть, но я обратил внимание, что он подготовил речь на тот случай, если попытка провалится. Он с готовностью склонился вперед.
— Исключите имя моего брата из ваших вопросов. Найдите серебро и убийцу этой невинной девушки. Важно опознать человека, который это все спланировал.
Я предложил увеличить мне оплату. Он решил, что за то же дело они будут платить те же самые деньги. Я всегда был падок на логику и согласился.
— Но я не могу исключить Домициана.
— Вы должны, — ничего не выражающим голосом заявил мне Тит.
Затем штору за нашими спинами внезапно отдернули в сторону. Я начал поворачиваться, желая посмотреть, что там происходит. Человек, вошедший без объявления, начал насвистывать. С большим удивлением я узнал мелодию.
Это была песня о Веспасиане, Тите, Беренике. Солдаты распевали ее по вечерам тихими голосами, всегда похабно и пьяно ухмыляясь. Ее пели в барах, борделях, с завистью и одобрением, и ни один солдат, которого я знал, никогда не стал бы повторять ее здесь. Звучала она так:
О-о, старик улыбнулся!
Затем молодой мужик улыбнулся!
Итак, царица всех евреев
На самом деле не могла проиграть.
Ей требовалось только выбрать,
Когда старик
И молодой мужик улыбнулись!
Только один человек посмел бы насвистывать так нагло в присутствии Цезаря — другой Цезарь. Веспасиан сидел во главе стола на банкете, поэтому я понял, кто зашел к нам без предупреждения. Домициан, младший брат Тита Цезаря, красавчик, замешанный в нашем заговоре.
Глава 44
— Наверное, это было состязание, брат! Борьба!
— Не вся жизнь — борьба, — спокойно сказал Тит.
* * *
В случае Домициана «титул учтивости» казался ироничным. У него были фамильные локоны, типичная для Флавиев выступающая вперед нижняя челюсть, бычья шея, квадратное тело. Домициана отличало крепкое телосложение, но выглядел он как-то неубедительно. Он был на десять лет младше Тита, что объясняло и его недовольство, и желание брата его защищать. Несмотря на то, что Домициану уже исполнилось двадцать лет, лицо его все еще сохраняло детскую мягкость, пухлость и розовощекость.
— Простите! — воскликнул он.
В первое мгновение я подумал, что он обладает способностью брата обезоруживать. Во второе я решил, что он просто хороший актер.
— Что здесь происходит — вершатся государственные дела?
Я вспомнил, как роли Домициана в государстве быстро положил конец папа-император.
— Этого человека зовут Дидий Фалько, — представил Тит, в этот момент говоривший голосом полководца. — Он — родственник центуриона из моего легиона, служившего со мной в Иудее.
До меня наконец дошло, что эту работу я получил благодаря брату. Веспасиан с Титом знали Феста, поэтому и доверяли мне. Не в первый раз в жизни я думал о брате со смешанными чувствами. Не впервые за время расследования этого дела я чувствовал, что до меня все ужасно медленно доходит.
Словно все было обговорено заранее, вошел слуга и вручил мне мешок с монетами, который я с трудом поднял.
— Это подарок вашей матери, Дидий Фалько, лично от меня как командующего Пятнадцатым легионом Аполлинария, — объявил Тит ровным голосом. — Небольшая компенсация за утерянную поддержку. Дидий Фест незаменим для нас обоих.
— Вы его знали? — спросил я не потому, что хотел это услышать, а потому, что когда буду рассказывать матери обо всей этой позолоченной чуши, она меня обязательно спросит.
— Он был одним из моих солдат. Я пытался лично знать всех.
— Нам обоим повезло, Дидий Фалько, что у нас есть братья с такой великолепной репутацией! — со смехом встрял Домициан. Смех казался искренним.
Ему были присущи черты других представителей дома Флавиев — изящество, отличные умственные способности, серьезное отношение к предстоящей задаче, сообразительность, здравый смысл. Домициан это тоже демонстрировал. Он мог быть не менее хорошим государственным деятелем, чем его отец или брат. Иногда ему все удавалось. Веспасиан в равной мере поделился талантами. Отличие заключалось в том, что один из сыновей на самом деле умело и уверенно ими пользовался.
Тит завершил беседу с нами.
— Передайте своей матери, Фалько, что она может вами гордиться.
Мне удалось сохранить спокойное выражение лица и не взорваться.
Когда я повернулся, Домициан отступил в сторону.
— А кто эта госпожа? — прямо спросил он меня, когда Елена Юстина поднялась на ноги, блеснув золотом и тряхнув серебром. Его бесстыжие глаза осмотрели ее так, словно намекали на движение шаловливых ручек.
Я разозлился из-за ее дискомфорта.
— Бывшая жена мертвого эдила по имени Атий Пертинакс, — ответил я.
Я увидел, как у него в глазах промелькнуло беспокойство при упоминании этого имени.
* * *
Тит проводил нас до двери и тоже решил проверить брата.
— Эдил оставил даме странное наследство. Теперь этот
охотник за удачей ходит за ней повсюду и ревностно следит за соблюдением ее интересов…
Домициан больше никак не демонстрировал своей нервозности. Он поцеловал Елене руку, прикрыв глаза и глядя на нее из-под наполовину опущенных век, как делают очень молодые люди, считая, что великолепны в постели. Она смотрела на него с каменным лицом. Тит вмешался. Действовал он так гладко и ловко, что я ему позавидовал. Когда мы оказались у самой двери, он поцеловал ее в щеку, как родственник. Я ему позволил. Если Елена захочет, она в состоянии сама его остановить.
Я надеялся, что она понимает: эти двое происходят из старомодной сабинской семьи. Если снять с них пурпурные одежды, они окажутся провинциальными обычными людьми, скупыми трудоголиками и подкаблучниками. К слову, у обоих братьев уже имелись животики, и оба были ниже меня ростом.
* * *
Мне пришлось оставить Елену в одиночестве, чтобы отправить кого-то за ее паланкином. Пустой атрий казался таким огромным и просторным, что я пошатнулся, пытаясь увидеть его весь. Однако, вернувшись, я сразу же заметил ее, сидящую в сочно-зеленом наряде на краю фонтана. На нее отбрасывала тень стофутовая статуя Нерона в виде бога Солнца. Елена выглядела обеспокоенной и смущенной.
К ней обращался мужчина в свободных одеждах сенатора с пурпурными полосами, из тех, у кого пузо вываливается из-за ремня. Елена отвечала кратко и резко. Увидев, как я спешу через холл, она посмотрела на меня с благодарностью.
— Где еще можно искать наяду, как не у фонтана? На поиски паланкина ушло много времени, но его вскоре подадут…
Я устроился рядом. Господин в сенаторской одежде выглядел раздраженным, я повеселел. Она не желала нас представлять. После того как он ушел, я увидел, как Елена расслабилась.
— Твой приятель?
— Нет. Странно, но мы дружим с его женой.
— Просто подскажи мне кивком, если ты хочешь, чтобы я исчез.
— О, спасибо! — гневно воскликнула она.
Я сел рядом с ней у фонтана и заговорил задумчиво.
— Забавная штука развод. Похоже, на груди женщины появляется табличка: «Уязвима». Это оказался один из тех редких моментов, когда Елена Юстина позволила мне увидеть под маской свое истинное лицо.
— Это обычное дело? Я уже начинала чувствовать свою странность.
Я увидел, как подают паланкин, поэтому просто улыбнулся в ответ.
— Дидий Фалько, ты проводишь меня до дома?
— Боги, да! Это же ночной Рим. А я помещусь в твоем паланкине вместе с мешком золота?
После ужина с Цезарем у меня появились экстравагантные идеи. Тем не менее, Елена кивнула и холодно информировала носильщиков, что им также предстоит нести и меня.
Мы забрались внутрь и поставили ноги под углом, чтобы не ударяться коленями. Носильщики отправились в путь по северной стороне Палатина. Шли они медленно из-за дополнительного веса. Еще не совсем стемнело.
Елена Юстина выглядела такой несчастной, что я был вынужден сказать:
— Не думай о случившемся с Пертинаксом.
— Постараюсь.
— И не пытайся убедить себя, что он жалел, когда ты с ним развелась.
— Прекрати, Фалько! — я откинулся назад на стенку паланкина в своем углу и скривил губу. Она извинилась в почти полной темноте:
— Ты даешь советы с таким пылом! У твоего героического брата была жена?
— Была девушка и ребенок, о котором он так и не узнал.
— Марция! — воскликнула она. Ее тон изменился. — Я думала, что она твоя дочь.
— Я же сказал тебе, что нет.
— Да.
— Я не вру тебе.
— Нет. Прошу прощения… И кто теперь о них заботится?
— Я.
Это прозвучало слишком резко, и я ерзал, но это не имело отношения ни к чему из того, о чем мы говорили. Когда мы спустились к Форуму, у меня не осталось сомнений: за нами кто-то шел украдкой, и шел слишком близко.
— В чем дело, Фалько?
— За нами следят. На всем пути от дворца.
Я ударил по верху паланкина и выскочил, как только носильщики остановились. Елена Юстина выскользнула за мной, пока я еще не успел предложить руку. Я схватил мешок с золотом для матери. Затем я подхватил госпожу, желая поскорее увести ее с открытой улицы. Я толкнул Елену в освещенный дверной проем ближайшего дешевого трактира, словно она была какой-то светской дамой, которой все наскучило и которая заплатила мне, чтобы я показал ей злачные заведения ночного Рима.
В тусклом свете крошечной прихожей она выглядела так напряженно, что я задумался, не хотелось ли ей на самом деле это сделать.
Глава 45
Перед входной дверью красовалась голова Венеры с вздернутым кончиком носа и надувающимися щеками, рядом висела табличка с приглашением заходить. Огромный мужик брал немереную плату за вход. Это был бордель. Я ничего не мог поделать. Таким образом мы покинули улицу. Здесь было тепло, темно и, несомненно, появление в этом месте еще раз подтвердило отвратительное мнение госпожи обо мне.
Мне самому придется найти плату за вход. Клиентка или не клиентка, я едва ли мог заставить сенатора взять деньги из банковской ячейки, чтобы заплатить мне за то, что отвел его нежную дочь в подобное грязное место.
Владельцы борделя зарабатывали на скромную жизнь благодаря доходам от прелюбодеяния, и делали большие деньги на воровстве из карманов и продаже краденой одежды. Заведение состояло из одного большого помещения, напоминающего пещеру, где на шестах висели шкуры, разделяя пространство на маленькие закутки. В них можно было заниматься мошенничеством, кражей или убийством в относительном уединении. Совокупления происходили в таких же затененных уголках, которые уже кто-то занимал.
В центре зала, на полу, освещенном факелами, шло представление, оживляемое звоном потрескавшихся кастаньет. Три девочки-подростка с тонкими руками и поразительными бюстами крутились вместе на ковре. Они улыбались широкими искусственными улыбками, а на их телах из одежды были только маленькие кожаные ремешки. Сбоку ждала обезьяна. Я не стал думать, для какой цели. За столами сидели темные фигуры с остекленевшими лицами и пили слишком дорогое вино, наблюдая за представлением, время от времени они что-то кричали. Это были отрывочные и несвязные крики.
Невысокая полная хозяйка появилась перед нами в лиловом, почти прозрачном наряде, спущенном с плеч. На талии наряд распахивался и открывался целый ярд ноги с пораженными варикозом венами. От этого прозрачного наряда у меня возникло желание видеть поменьше ее тела и вообще больше ее не видеть, когда она заговорила.
— Хочешь поиграть на моем тамбурине, центурион? — спросила женщина усталым голосом. От былой живости мало что осталось.
Я не успел остановить сенаторскую дочь.
— Со мной его высочество! — резко сказала она.
Женщина ожила при этом экзотическом намеке (я сам немного ожил).
— О-о! Два золотых или четыре, если приводите собственную девушку.
Мужчина при входе взял с меня больше этого, но я предполагаю, что и он, и обезьяна хотели получить свою долю.
— Плата, взимаемая с посетителей за откупоривание принесенных ими бутылей? — восхитилась Елена. Я был потрясен. Женщины, обменивающиеся грубостями и непристойностями, так вульгарны.
— Не нужно так себя вести! Это недостойно дамы! Гадес, за нами следили. Ты заманила меня в это место…
Несколько крупных мужчин проскользнул во входную дверь за нами. Их цели явно не предвещали ничего хорошего. Протесты от слуги в дверях говорили о том, что они ему не заплатили. Эти типы явно не собирались тут задерживаться после того, как доберутся до нас.
Моя спутница тихо обратилась к своей новой подруге.
— Этот шут скрестил ноги. Нет ли тут…
— В задней части, дорогая.
— Пошли, Фалько! Я тебя выведу!
Она потащила меня прямо через центр зала, где шло представление. Едва ли кто-то это заметил. Те же, кто обратил на нас внимание, посчитали, что мы — его часть, и на одно смехотворное мгновение мы и были ею. Извивающаяся молодая амазонка, не понимающая, в какую сторону движется, врезалась в Елену и фактически упала ей на руки. Елена передала ее мне, как нежелательный кусок хлеба. Я смачно поцеловал девушку и пожалел об этом, поскольку от нее пахло потом и чесноком. Этот запах можно выдержать, только если от тебя самого пахнет точно также. Затем я аккуратно усадил ее на ближайший стол, где она исчезла под похотливыми руками группы счастливых корсиканцев, которые не могли поверить в свою удачу. Соперники из других групп иностранцев заорали от ревности. Стол перевернулся, сорвав штору. Открылась белая задница какого-то гражданина, которая поднималась, словно богиня Луны, пока он нетерпеливо совокуплялся с одной из девушек. Бедный кролик остановился по середине движения, затем на него нашло полное затмение. Народ стал кричать и подбадривать его. Елена захихикала.
— Здравствуйте и прощайте!
К этому времени пришедшие в ярость кочегары и портовые грузчики, качаясь, поднимались на ноги, готовые сразиться с кем угодно. Их не интересовала причина драки. Обезьяна ела яблоко, пока никому не требовалась. Я щелкнул пальцами у нее над головой, выхватил яблоко, обезьяна посмотрела вверх. В этот момент я отвел руку назад, словно копьеметатель, чтобы бросить яблоко в банду, которая нас преследовала. Обезьяна обнажила зубы и прыгнула в центр группы, кусая всех, до чьего лица могла дотянуться.
Елена Юстина нашла небольшую дверцу. Я не успел и вдохнуть, как она уже вытолкнула меня в узкий переулок. Мы не выпили ни капли. Ну, люди не ходят в бордель, чтобы пить.
В самом широком месте расстояние между зданиями составляло половину ярда. Темные балконы нависали у нас над головами и скрывали небо. Вонь была такой сильной, как львиная моча, я ударился коленом об ящик из-под лука, потом вступил в липкую грязь и через несколько шагов почувствовал, как эта холодная жижа собирается у меня между голых пальцев. Я был в сандалиях.
Я смело хромал, а сенаторская дочь помогала мне поспешать, крепко держа меня рукой за предплечье и не теряя самообладания.
— Дидий Фалько, я и не знала, что ты такой робкий. Я бросил взгляд назад через плечо.
— А я и не знал, что ты нет, — пробормотал я.
Наши шаги издавали неприятные резкие звуки на блоках лавы на должном образом вымощенной улице.
— Теперь, после того как мы вместе побывали в борделе, могу ли я называть тебя Елена?
— Нет. Представление на полу выглядело поразительно. Мне очень жаль, что я его пропустила.
— Мне показалось, что тебе следует уйти. Шелудивая горилла странно на тебя посматривала.
— Это был шимпанзе, — педантично сказала Елена Юстина. — И мне показалось, что это ты очаровал обезьяну!
* * *
Мы сбавили темп, но нас шатало, пока мы не добрались до одной из основных улиц. С тех пор как мы покинули дворец, проезд открыли, и стали впускать повозки с поставками, как и обычно после вечернего колокола. От всех ворот Рима к нам приближались разнообразные транспортные средства, создавая дикий шум. Мы заткнули уши, чтобы не слышать скрипа осей и ругани возниц. Стояла кромешная тьма, если не считать повозок с прикрепленными светильниками. Внезапно послышались крики. Нас заметили, какие-то крепко сложенные мужчины преследовали нас, правда, мы пока видели только их тени. Что-то в движении этих теней убедило меня, что это солдаты. Они следовали за нами без суеты по двум сторонам дороги и пробирались между фургонов, словно поплавки, то появляющиеся, то ныряющие в гавани. Они молча и уверенно пробирались сквозь тьму к цели.
— Еще какие-то бандиты! Лучше нам взять повозку…
— О, Юнона! — в отчаянии выдохнула Елена. — Фалько, только не гонка на повозках вверх и вниз по семи холмам!
Теперь ночь ожила. Улицы были заполнены. Очереди, шум, свалившиеся с повозок товары, пробки. Я поставил ногу на медленно передвигающийся фургон сзади, забрался в него и затащил Елену. Мы обнимались с мраморной могильной плитой на протяжении половины квартала, потом перебрались в повозку с навозом, поняли, куда попали, быстро сошли и вместо навоза разделили путь с сетками, наполненными капустой.
Я пытался пробраться на юг, где знал улицы. Возница, перевозивший капусту, остановился, чтобы обменяться ругательствами с конкурентом, который врезался в его повозку, поэтому мы спрыгнули на землю.
— Смотри, куда ноги ставишь!
Я отскочил, чтобы не попасть под колеса проезжающей телеги.
— Спасибо. Давай вон туда…
Мы воспользовались подводой без бортиков.
— Попытайся выглядеть амфорой хорошего латинского вина…
Я рухнул на повозку, истерически хохоча, когда трезвая госпожа послушно имитировала кувшин с вином: руки на бедрах изображали изогнутые ручки, а напряженно-смешное выражение лица — горлышко.
Через шесть повозок с запряженными волами тени продолжали нас преследовать и даже приблизились. Быстрее было бы идти пешком. Мы снова соскользнули на землю, мои выходные сандалии оказались в чем-то теплом, недавно оставленном ослом. Я все еще нес подарок матери от Тита и беспокоился о том, что не смогу сконцентрироваться на защите Елены. Я испугался, что потеряю ее, но не тут-то было! Пока я издавал возгласы, она схватила меня за свободную руку. Она была готова бежать. В свете, падающем из таверны, у нее блестели глаза. Я позволил себе раньше наслаждаться иллюзией, что Елена Юстина — уравновешенная и спокойная особа. Это была чушь. Она нацелилась не дать себя схватить и победить, тем не менее, сдавленно смеялась себе под нос при виде моего удивленного выражения лица. Я почувствовал точно такое же возбуждение, рассмеялся и быстро побежал.
* * *
Повозки вывезли нас с Форума, через Аврелиеву дорогу и дальше на юг. Мы обогнули Большой цирк и понеслись на восток, пока не оказались у центрального обелиска. При приближении к Двенадцатому кварталу я остановился, укрывшись в переулке, и мы отдышались. Я прижал госпожу к стене без окон, закрыл ее одной рукой и стал оглядываться, напряженно прислушиваясь. Через некоторое время я опустил руку и также молча опустил на землю мешок с золотом. От зданий вокруг нас доносился только тихий шум, в котором не слышалось ничего необычного. Место, в котором мы очутились, внезапно показалось спокойным. Мы стояли в этаком пруду тишины: я, сенаторская дочь, силуэт совы на стропильной ноге. Из ближайшей канавы пахло старыми стручками гороха. Любителям гороха место могло бы показаться весьма романтичным.
— Мы от них ушли! — прошептал я. — Как тебе прогулка, нравится?
Елена Юстина рассмеялась почти беззвучно.
— Я слишком устала сидеть у фонтана и смотреть, как рабыни пришивают оборки к платьям!
Я собирался что-то сделать, в любом случае что-то сказать, но тут вместо моего голоса прозвучал голос какого-то другого разбойника.
— Это отличное этрусское ожерелье, госпожа. Опасно бегать в нем по улицам. Вам лучше отдать его мне!
Глава 46
Елена Юстина редко надевала много ювелирных украшений, но сегодня вечером она выбрала все самое лучшее. Я почувствовал ее боль даже в темноте.
— Что мне делать? — не двигаясь, спросила она меня тихим голосом.
— Думаю, то, что он говорит. Он не очень крупный парень, но он вооружен.
Я разглядел более черную тень примерно в двух ярдах справа. Интуиция подсказала мне, что у него есть нож. Я передвинул девушку, чтобы она оказалась слева от меня. Голос рассмеялся с упреком.
— Освобождаешь правую руку — словно у тебя есть меч. Госпожа, давайте ваше добро!
Елена раздраженно дернулась, но сняла позвякивающие серьги, браслеты с головами пантер с каждой руки и тиару с головы. Держа все это, она пыталась расстегнуть ожерелье.
— Позволь мне.
— Большой опыт? — хмыкнул вор.
Он был прав. Мне доводилось раньше расстегивать ожерелья. Я мог это сделать. Там были две петельки, которые я вначале прижал друг к другу, а затем разъединил. Пока ожерелье оставалось на шее, его вес помогал им оставаться на нужном месте. Шея Елены Юстины была мягкой и теплой после бега. Я знаю это, потому что только дурак расстегивает ожерелье на женщине, не пощекотав ей шею.
— Сложная застежка! — заметил я, потом опустил золотое украшение в руку Елены.
Тощая лапа протянулась, чтобы все это забрать.
— И твой перстень тоже! — рявкнул ее обладатель на меня.
Я вздохнул. Это было единственное наследство, если не считать долгов, которое я когда-либо получал. Я бросил ему перстень своего двоюродного дедушки.
— Спасибо, Фалько.
— Он тебя знает, — раздраженно сказала Елена. Очевидно, разбойник был одним из сборщиков утиля на Авентине, но я его не помнил.
— Меня знают многие, но не многие посмеют взять перстень моего дедушки Скаро, — резко ответил я.
Елена напряглась, словно надеялась, что я вытащу какое-то скрытое оружие, а затем прыгну. Веспасиан отдал преторианцам приказ прекратить обыскивать посетителей. Это служило сигналом о наступлении спокойных времен, но я не был сумасшедшим, и не отправился во дворец с ножом в рукаве. Мне не с чем было прыгать.
Внезапно наш вор утратил интерес. Поскольку я тоже прислушивался, то понял, почему. Я уловил свист, который узнал. Тип бросился к входу в переулок и исчез с уловом.
С другой стороны в переулок ворвался мужчина с факелом.
— Кто здесь?
— Я, Фалько!
К нему подбежал еще кто-то.
— Петроний, ты?
— Фалько? Мы только что видели коротышку Мелития. Он у тебя что-то взял?
— Драгоценности. Ты очень удачно подвернулся. У меня также был мешок с золотом.
— Я все выясню. Что у тебя было?
— Мешок золота.
Все время, пока мы разговаривали, Петроний Лонг шел ко мне. Теперь в свете факела он заметил и мою наяду.
— Фалько! А это уже лжесвидетельство! — взорвался он.
Он схватил своего подчиненного за руку и высоко ее поднял. Теперь факел светил как маяк. С этой минуты Петроний меня игнорировал. В свете факела Елена Юстина блестела и сияла, словно опал: глаза сверкали от возбуждения, выражением лица она словно бросала вызов, а ее плечи я назвал бы лучшими у Капенских ворот…
Она была одного роста со мной, поэтому мы оказалась ниже моего высокого медлительного друга на четыре дюйма. Он был одет во все коричневое, с ремня свисала деревянная дубинка, положенная ему по статусу. Средства защиты включали наручи, наголенники, а бритую голову предохранял специальный обруч. Я знал, что дома Петроний играет с котятами детей, но сейчас он выглядел мрачно. Елена приблизилась ко мне, я воспользовался возможностью и обнял ее. Петроний покачал головой, все еще не веря глазам своим.
— Наверное, ты попытаешься мне сказать, что это и есть твой горшок с уксусом? — с детской невинностью спросил этот придурок. — Если я правильно помню, ты говорил про старый горшок с прогорклым уксусом, не правда ли?
Какой мстительный ублюдок.
До того как я успел выкрутиться, Елена высвободилась из моих объятий и ответила слабым голосом:
— О, это не я! Обычно он говорит, что в сравнении со мной змеи Медузы выглядят безобидными, как черви для рыбной ловли.
— Петроний Лонг, для тихого человека ты создаешь слишком много излишнего шума! — заорал я.
* * *
Я ничего не мог ей сказать, поэтому ворчал на него.
— Она — сенаторская дочь…
— А ты где их берешь?
— Выиграл ее во время игры в кости.
— Юпитер громовержец! И где ведутся такие игры? — спросил он, поднимая ее руку для поцелуя.
— О, отпусти ее! Тит и Домициан Цезарь сегодня уже оставили ядовитые следы на бедной девушке…
У Петрония горели глаза, поскольку он застал друга в щекотливой ситуации. Он вызывающе улыбнулся, затем поцеловал руку сенаторской дочери с чрезмерным уважением, которое обычно демонстрирует только когда провожает девственниц-весталок по Остийской дороге. Я пытался его остановить.
— Mars Ultor, Петроний! Это дочь Камилла…
— О, я это понял. Если бы это была одна из твоих ливийских танцовщиц, то она уже находилась бы в какой-нибудь спальне, лежа на спине!
Он считал, что я преднамеренно ему врал насчет нее. Он был в ярости.
— О, я согласен насчет спальни, но совсем не обязательно на спине! — процедил я сквозь стиснутые зубы.
Петроний почувствовал смятение. Я знал, что так и будет. Он считал, что похабные разговоры могут вести только мужчины между собой, но никак не в присутствии дам. Он быстро отпустил руку Елены, и она вздернула подбородок. Она была бледна, как отбеленное постельное белье. У меня опустилось сердце.
— Начальник стражи, пожалуйста, дайте мне совет. Я хочу добраться до дома моего отца. Можно что-то сделать?
— Я ее провожу, — перебил я, предупредительно глядя на Петрония, чтобы не вмешивался.
При этих словах Елена очень неожиданно повернулась ко мне.
— Нет, спасибо! Я слышала твое мнение. А теперь я выскажу тебе свое! — она стала говорить тише, но поморщились. — Ты отправился в Британии в царство Гадеса, и смог вернуться оттуда, ты спас мне жизнь. Ты — единственный человек в Риме, который все еще оплакивает мою кузину. Ты все это делаешь, но все равно остаешься сквернословом с предубеждениями и любителем мелких унижений. У тебя отсутствуют хорошие манеры, как и хороший характер и добрая воля. Большинство из того, в чем ты меня винишь, на самом деле не является моей виной…
— Я ни в чем тебя не виню…
— Ты винишь меня во всем!
Она была прекрасна. Я не мог поверить, что когда-то думал по-другому. Но любой мужчина может ошибиться.
— Дидий Фалько, если я и буду о чем-то жалеть до конца своих дней, то о том, что не дала тебе свалиться в Родан, пока у меня была такая возможность!
Елена Юстина умела говорить любезности так, что у мужчины возникало ощущение, будто с него содрали кожу. Она так разозлилась, что я почувствовал себя беспомощным. Я прислонился к стене за нами и смеялся до тех пор, пока не ослаб. Петроний Лонг продолжал в смущении смотреть в стену над нашими головами, затем сухо заметил:
— Вы можете жалеть об этом еще больше, госпожа, если узнаете, что даже в армии Фалько так никогда и не научился плавать.
Она еще больше побелела.
* * *
Мы услышали крики. До нас донесся звук шагов. Патрульный, который сторожил вход в переулок, позвал тихим голосом. Петроний с беспокойством направился к нему.
— Петроний, помоги нам выбраться отсюда!
— Почему бы и нет? — пожал плечами он. — Давай поменяемся… — он замолчал. — Госпожа, я могу проводить вас…
— Отстань, Петроний, — перебил я угрюмо. — Госпожа со мной.
— Доверяйте ему, госпожа, — снизошел Петроний до добрых слов. — Он прекрасен в критической ситуации!
— О, он прекрасен везде, — с неохотой капитулировала Елена Юстина. — Судя по его словам!
Эта заявление из уст сенаторской дочери удивило его также, как и меня.
* * *
Мы все выбрались из переулка на шумную улицу. Подчиненный Петрония что-то пробормотал. Мы все нырнули назад. Петроний застонал.
— Они кишат тут, как пчелы на Гибле, — проворчал он, глядя на меня через плечо. — Если мы проведем отвлекающий маневр…
— Уведи их от реки, — быстро согласился я.
— Крикни, если госпожа столкнет тебя в Тибр, чтобы мы все могли посмотреть, как ты тонешь! Отдайте мне вот это…
Петроний улыбнулся и снял с Елены Юстины белую накидку, которую она носила на улице. Он накинул ее на самого маленького из своих подчиненных, который тут же побежал в поток движения. Остальные что-то кричали ему вслед, подбадривая или оценивая.
У перекрестка с Остийской дорогой Петроний поставил своих людей регулировать движение. Я знал, чего ждать — все замерло на местах в течение нескольких секунд. Я заметил поднятую руку — это белая накидка Елены мелькала среди орущих возниц. Все они встали на козлах и выкрикивали оскорбления в адрес стражников.
Во время этого хаоса мы убежали прочь. Чтобы не тащить лишний вес, пока забочусь о Елене, я отдал мешок с золотом Петронию, с просьбой доставить его моей маме вместо меня. Я предупредил его, что все золото принадлежит матери, чтобы не вздумал забрать часть себе. Затем мы с Еленой быстро вернулись на дорогу, по которой следовали изначально. Вскоре мы сильно отклонились на запад, но находились на более тихих улицах, на Авентине, со стороны реки, неподалеку от моста Пробия. Я шел на юг мимо Дворца свободы и остановился у библиотеки Поллионов, чтобы напиться из фонтана. Заодно я также вымыл грязную обувь и ноги. Елена Юстина принялась украдкой делать то же самое. Я обхватил ее пятки и быстро вытер ей ноги, словно опытный раб, прислуживающий на пирах.
— Спасибо, — тихо произнесла она. Я с самым серьезным видом чистил ее украшенную бусинками обувь. — Теперь мы в безопасности?
— Нет, госпожа. Мы в Риме, в темноте. Если кто-то на нас набросится, то, вероятно, просто прирежет только от одного расстройства, что с нас большего нечего взять.
— О, ты сможешь дать им отпор! — попыталась она меня умаслить.
Я не ответил, пытался решить, что делать. Я считал, что следят и за моим, и за ее домом. У Елены Юстины поблизости не было никаких друзей. Все, кого она знала, жили дальше на севере. Я решил отвести ее к своей матери.
— Ты поняла, в чем дело, госпожа?
Она прочитала мои мысли.
— Серебряные слитки находятся в переулке Ворсовщиков!
Это было единственное объяснение наследства, оставленного ей в последнюю минуту ее невежливым и неприятным мужем.
— Его имя значилось в письме, которое у нас украли, — продолжала она. — Он понял, что теперь объявлен вне закона. Он придумал этот кодицилл на тот случай, если его предадут сообщники, чтобы в отместку лишить их средств. Но что по его представлениям я буду делать со слитками, если их найду?
— Вернешь их императору. Ты честная, не правда ли? — спросил я ее сухим тоном.
Я обул ее, и мы тронулись в путь.
— Фалько, почему они нас преследуют?
— Слишком бурная реакция Домициана? Тит намекнул на подозрения насчет твоего наследства. А он вполне мог подслушивать под дверью перед тем, как зайти со свистом. А это что-то такое?
Я уловил какой-то звук. Небольшая компания всадников появилась словно ниоткуда. Мимо грохотала пустая повозка с высокими краями, в которых обычно выводят мусор из сада. Я затащил Елену в повозку и быстро поднял заднюю часть. Мы лежали внутри, не шевелясь, пока мимо проносились лошади.
Может, это было совпадение, а, может, и нет.
Мы покинули дворец два часа назад. Начинало сказываться напряжение. Я выглянул из повозки, заметил всадника, затем так резко нырнул назад, что сильно ударился головой и чуть не лишился сознания. И только тогда я понял, что заметил лишь статую какого-то древнего полководца, которая позеленела у венка. Что-то щелкнуло.
— Похожа, эта повозка знает, куда направляется, — пробормотал я. — Давай просто не поднимать головы!
Создавалось впечатление, что повозка страдает артритом, лошадь астмой, а управляет ею самый старый в мире садовник, который просто не может ехать ровно. Я предположил, что они не уедут далеко.
Мы прятались, пока не добрались до конюшни, затем старик распряг лошадь и отправился домой. Несмотря на опасность возникновения пожара, он оставил гореть тонкую восковую свечу. Значит, он был или в хлам пьян, или же лошадь боялась темноты.
Мы остались в одиночестве — в безопасности. Имелась только одна проблема: когда мы выглянули наружу, оказалось, что мы находимся в саду, открытом для посещения всех желающих. Высота ограды составляла восемь футов, а, уходя, садовник запер ворота.
— Я буду ждать здесь и плакать о несостоявшейся встречей с мамой, — тихо сказал я Елене. — А ты вылезешь и отправишься за помощью.
— Если мы не можем выбраться, то никто не может забраться…
— Я не собираюсь спать вместе с лошадью!
— О, Фалько, неужели тебе не хочется приключений?
— А тебе хочется?
Мы устроились спать с лошадью.
Глава 47
В стойле рядом с лошадью лежало сено, которое многочисленные клещи и блохи посчитали чистым. Я расправил там свою тогу, мысленно извинился перед Фестом, хотя он, вероятно, хорошо посмеялся бы, узнав, где она используется и с какой целью. В менее уважаемой компании я сам мог бы похихикать.
Я расстегнул пояс, отбросил в сторону сандалии, рухнул на сено и смотрел, как Елена Юстина аккуратно ставит мои сандалии рядом с собственной обувью. Она отошла от меня, повернулась спиной, словно отделяясь, и стала в отчаянии вытаскивать из волос шпильки из слоновой кости. Она бросила шпильки в обувь, а распущенные волосы упали ей на спину. Я решил не протягивать руки и не позволять себе дружеских подергиваний. Нужно очень хорошо знать женщину перед тем, как можно себе позволить дернуть ее за волосы.
Она села и обняла руками колени. Без накидки ей очевидно было холодно.
— Ложись — наше причудливое национальное одеяние может служить уютной постелью. Завернись в него и согреешься. Тихо! Кто узнает?
Я притянул ее к себе, прижал к земле одним локтем и быстро обернул длинные полы тоги вокруг нас обоих.
— По моей теории, изобретая этот наряд, отцы-основатели думали как раз о согревании женщин…
Сенаторская дочь оказалась в оборудованном мною коконе, ее голова — под моим подбородком. Она слишком замерзла, чтобы сопротивляться. Один раз она содрогнулась, затем лежала неподвижно, словно доска из забора. Как только Елена Юстина поняла, что сможет сбежать, только приложив немало усилий, она дипломатично заснула. Она на самом деле ненавидит суматоху и суету.
Я лежал без сна. Вероятно, Елена слышала, как скрипят мои мозговые извилины, пока я прокручивал в сознании события вечера. Теперь я устроился в своей любимой позе для размышлений, вернее, понял, что моя любимая поза для размышлений — прижавшись щекой к голове спокойной женщины. Раньше мне не удавалось этого обнаружить. Ливийские танцовщицы слишком много ерзают.
Танцовщицы на самом деле стали для меня испытанием в нескольких планах. Во время охоты на человека обнаженная до талии, паникующая танцовщица может послужить причиной смерти. У них есть свое место, они легко отдаются, хотя с таким же энтузиазмом и берут, как может подтвердить мой банкир. Связь с танцовщицами стоила мне больше, чем потеря лица сегодня. Так или иначе, но мне их хватило. Теперь с ними было покончено.
* * *
После того как Елена Юстина заснула, я постепенно расслабился.
Она весила мало, но я едва ли мог забыть, что она там. Она идеально помещалась у меня на руке, а повернув голову, я вдыхал теплый запах ее волос. Красивые, чистые, блестящие волосы противились завивочным щипцам, и вскоре распрямились. Ответственным служанкам это бы не понравилось. Они любят видеть лощеных женщин с локонами. Елена снова душилась малобатром. Эта мерзкая свинья, ее муж, вероятно, подарил ей большой горшок, если, конечно, эта девушка, полная странных сюрпризов, не решила сберечь его дня меня… (Мужчина может позволить себе помечтать.)
Я слишком устал, чтобы многого добиться мыслительным процессом, даже когда мне было так комфортно. Я потерся о приятно пахнущие волосы Елены, готовый заснуть. Вероятно, я вздохнул, так медленно и грустно, как вздыхает мужчина, который не решил стоящую перед ним проблему, несмотря на полчаса размышлений. В момент, когда я отказался от борьбы, казалось совершенно естественным лежать на сене, обняв Елену Юстину. А поскольку к этому времени я устроился весьма близко, а Елена спала, также естественным показалось и нежно поцеловать ее в лоб перед тем, как я сам засну.
Она слегка пошевелилась.
Мне пришло в голову, что она все это время не спала.
* * *
— Прости! — Дидий Фалько был странно смущен. — Я подумал, что ты спишь.
Я шептал, хотя необходимости в этом не было, поскольку проклятая лошадь постоянно перебирала неспокойными ногами и тоже не спала. Вероятно, половина Рима знала, что я сделал. Я услышал шепот Елены, изъяснявшейся в обычной скептической манере.
— А вечерний поцелуй в лоб перед сном — это услуга, которую твои дамы находят в представляемом тобой счете?
— Я включаю все, чего удается добиться, — я пошел на блеф. — Когда мне удается затащить даму в конюшню в саду, ее поцелуй, конечно, является бесплатным.
Сенаторская дочь подняла голову, оперлась на локоть и повернулась. Она располагалась как раз над моим сердцем, которое стучало в сумасшедшем ритме. Я продолжал ее легко обнимать, но попытался вжаться в сено и игнорировать импульсы, посылаемые ее телом, которое прижималось к моему. Игнорировать было трудно. Вероятно, она почувствовала, как напряглась моя грудь. Елена выглядела по-другому с распущенными волосами. Не исключено, что она и была другой. Я не мог знать, натолкнулся ли я на какого-то другого человека или женщину, которой всегда была Елена Юстина. Но я знал, что такой, как сегодня ночью, она мне очень нравится.
— И как часто это случается, Фалько?
— Не достаточно часто!
Я посмотрел вверх, ожидая суровых слов, но нашел ее лицо неожиданно мягким. Я хитро улыбнулся. Затем, как раз когда улыбка стала сходить с моего лица, Елена Юстина склонилась вперед и поцеловала меня.
Я запустил руку в копну ее волос на тот случай, если она попытается от меня отстраниться, но она не пыталась. Через вечность блаженного неверия, я вспомнил, что нужно снова дышать.
— Прости! — мягко поддразнила она меня.
Ей было точно также не жаль о случившемся, как и мне. Я прижал ее покрепче, чтобы вернуть ее назад, но обнаружил, что она уже там.
До этого я при встречах с женщинами полагался на стратегические кувшины с вином и многочисленные шутки и остроумие, за ними следовал изысканный балет в моей личной постановке. Умелыми, отрепетированными движениями я уводил партнершу со сцены в какую-то удобную кровать. Опыт Дидия Фалько был менее частым и гораздо менее интересным, чем можно предположить из постоянных намеков, но в мою пользу можно сказать, что я обычно способен найти кровать.
Теперь, не проявляя серьезных намерений, я целовал Елену, как хотел поцеловать уже так давно, что даже не представлял, когда это желание возникло. Она смотрела на меня вполне спокойно, поэтому я продолжал ее целовать, точно так, как мне на самом деле следовало поцеловать ее в Массилии и целовать каждую ночь на протяжении тысячи миль до Массилии. Она отвечала мне, и я понял, что ни один из нас на этот раз не считает это ошибкой. Я остановился.
— Мы смущаем лошадь…
Один из фактов жизни, которые первыми понимает мужчина, состоит в том, что женщине никогда не следует говорить правду. Тем не менее этой я сказал правду. Я всегда это делал и всегда буду.
— Елена Юстина, я покончил с совращением женщин.
Я держала ее лицо двумя ладонями, отведя волосы назад. Она осмотрела меня с серьезным видом.
— Это была клятва богам?
— Нет — обещание самому себе.
На тот случай, если она почувствовала себя оскорбленной, я снова ее поцеловал.
— Почему ты мне это говоришь? — она не спросила, почему я дал это обещание, и это хорошо, потому что я на самом деле не знал.
— Я хочу, чтобы ты в это поверила.
Елена очень осторожно меня поцеловала. Я взял ее ладонь в свою. Ее холодные пальцы переплелись с моими, а одна из ее обнаженных ног заводила дружбу с моей.
— А ты хочешь не нарушать это обещание? — спросила она.
Я молча покачал головой (Елена снова меня целовала). Различные связанные с делом обстоятельства вынудили меня признать:
— Я не думаю, что смогу…
Прошло столько времени с тех пор, как я так сильно хотел женщину. Я почти забыл боль острого физического желания.
— Сегодня я в любом случае не хочу…
— Марк Дидий Фалько, ты меня не совращаешь, — улыбнулась Елена Юстина, решая мою нравственную дилемму с мягкостью и сладостью, которую я так долго не видел в ней. — Я стараюсь как только могу совратить тебя.
Я всегда знал, что эта девушка все говорит прямо. Я не намерен описывать то, что случилось потом. Это очень личное между мною, сенаторской дочерью и лошадью садовника.
Глава 48
До утра оставалось два часа, и большая часть Рима спала. Все фургоны и повозки встали на прикол. Те, кто поздно ужинал, смело отправились домой, бросая вызов засадам на перекрестках. Проститутки и сутенеры дремали на тростниковых матрасах рядом с грязными сопящими клиентами. Свет во дворцах и особняках горел тускло. Было достаточно холодно, легкий туман спускался на долины между семью холмами, но когда я проснулся, мне было тепло. У меня в душе медленно крепло убеждение мужчины в том, что девушка в моих объятиях будет женщиной моей жизни.
Я не шевелился, вспоминая. Я наблюдал за лицом спящей женщины. Оно стало мне таким знакомым, и одновременно во время глубокого сна она странно не походила на себя. Я знал, что не должен ожидать новых объятий или наблюдения за тем, как она спит, никогда больше. Возможно, поэтому я и чувствовал, что не выдержу, если выпущу ее из объятий.
Она проснулась. Она тут же опустила взгляд. Она смущалась, но не из-за того, что произошло, а из-за того, что я мог измениться. Ее рука пошевелилась рядом со мной, в одном очень интимном месте. Я увидел, как у нее округлились глаза от удивления, затем она снова устроилась, как раньше. Я улыбнулся ей.
— Елена… — я смотрел на ее закрытое, осторожное лицо. Скульптор мог бы выискивать недостатки и придираться, но для меня она была красавицей. В любом случае, если бы скульпторы что-то понимали, то стали бы заниматься чем-то более прибыльным. — Тебе нечего сказать?
Через некоторое время она ответила. С типичной честностью.
— Как я предполагаю, прошлой ночью все было так, как должно быть?
Ну, она мне кое-что рассказывала про Пертинакса. Мой ответ был таким же сдержанным.
— Думаю, что да.
Если ее интересовало прошлое, то этот ответ кое-что сказал ей обо мне.
Я начал смеяться — над нею, над собой, над жизнью, над беспомощностью.
— О, Елена, Елена!.. Прошлой ночью я узнал с тобой кое-какие чудеса о женщинах.
— Я сама кое-что про себя узнала! — ответила она насмешливо. Затем она закрыла глаза и прижалась к внутренней части моего запястья. Она не хотела, чтобы я видел ее чувства.
Несмотря на ее сдержанность или как раз из-за нее, я хотел, чтобы она поняла.
— Это подобно изучению иностранного языка. Ты изучаешь грамматику, набираешь какой-то необходимый словарный запас, у тебя ужасный акцент, и тебя едва понимают. Годами ты упорно пытаешься заговорить на чужом языке, а затем без предупреждения все вдруг получается, ты понимаешь, как это все срабатывает…
— О, не надо! Фалько… — она замолчала. Я ее потерял.
— Марк, — попросил я, но, казалось, она не слышит.
Елена заставила себя говорить дальше.
— Нет необходимости притворяться. Мы нашли приятный способ провести время…
«О, Юпитер!» Она снова замолчала, потом опять заговорила.
— Вчерашняя ночь была прекрасна. Ты, наверное, понял. Но я вижу, как это бывает — по девушке в каждом деле. Новое дело — новая девушка…
Ожидается, что все это думает мужчина.
— Но ты не какая-то девушка в деле! — раздраженно воскликнул я.
— А кто я? — спросила Елена.
— Ты сама, — я не мог ей сказать.
Я едва ли мог поверить, что она не понимала.
* * *
— Нам нужно уходить.
Мне очень не нравилось, что Елена теперь стала такой неприступной. О, я знал почему, боги, как хорошо я это знал! Я поступал подобным образом по отношению к другим людям. Это жесткое отношение, такое неблагодарное, но такое разумное. Резкое расставание, сильно беспокоясь из-за того, что час страсти может быть использован против тебя, как оправдание для жизни, полной болезненных обязательств, которых ты никогда не хотел и не притворялся, что хочешь…
Здесь была ирония. Впервые в жизни я чувствовал все, что следовало, все, что, по мнению большинства женщин, им требуется. Это был единственный раз, когда это имело значение, тем не менее, Елена или просто не могла в это поверить, или судорожно пыталась меня избегать. Я крепко сжал ее в объятиях.
— Елена Юстина, — медленно начал я, — что я могу сделать? Если я скажу, что люблю тебя, это будет трагедией для нас обоих. Я ниже твоего достоинства, а ты вне пределов моей досягаемости…
— Я — сенаторская дочь, — перебила она сухо. — А ты на два разряда ниже. Это не противоречит закону, но не будет разрешено… — она беспокойно завертелась, но я не желал ее отпускать. — Мы ничего…
— Все возможно! Госпожа, мы с тобой оба очень цинично относимся к миру. Мы будем делать то, что должны, но не сомневайся во мне. Я очень сильно тебя хотел, я очень давно тебя хотел, так же, как ты хотела меня!
Я увидел, как изменился ее взгляд. Она колебалась. Внезапно у меня появилась надежда, и я заставил себя поверить, что она думала обо мне лучше, чем я считал, и не только прошлой ночью, но и вероятно задолго до нее. Я бросился в эту надежду, зная, что я дурак, но меня это не волновало.
— А сейчас…
— Сейчас? — повторила она.
В уголках ее рта мелькнула легкая улыбка. Я понял, что она отвечает на мою улыбку. Все-таки она оставалась со мной. Сражаясь за ее дружбу, я наблюдал, как она снова тает в близости, которую мы так неожиданно обнаружили прошлой ночью. Я стал более уверен в себе, погладил то нежное местечко на шее сзади, которого касался много часов назад, расстегивая ожерелье. На этот раз я позволил себе заметить дрожание кожи в месте прикосновения. На этот раз я понял, что она чувствует, что все нервы в моем теле ощущают ее.
Во второй раз я сказал ей правду, которую она должна была уже знать.
— Теперь я снова хочу тебя.
Глава 49
После этого я в благоговейном трепете почувствовал, как ее сотрясают рыдания. Она выпускала напряжение, которое я вчера ночью, даже в ее объятиях, осознавал лишь частично.
— Марк!
Я заснул, отметя все чувства, после того, как Елена Юстина произнесла мое имя.
Я назвал ее дорогой. Любой уважающий себя информатор знает, что лучше этого не делать. В тот момент, когда слово вырвалось, мы оба были сильно заняты, и я сказал себе, что она, вероятно, не слышала. Но в душе я знал, что надеюсь на другое. Я надеялся, что как раз слышала.
* * *
Когда ворота в конце концов отперли, мы прошли мимо зарослей жестких побегов аканта, а садовники в широкополых шляпах на больших тупых головах стояли грязными ногами в росе и смотрели нам вслед, раскрыв рты. Тем не менее я должен сказать, что они не впервые
обнаруживали неприглашенных гостей в своих владениях. Перед тем, как проводить Елену домой, я купил ей завтрак, немного горячего. Мы остановились у колбасной лавки. Мне сопутствует удача, вы имеете дело с человеком, который один раз кормил сенаторскую дочь перченой рубленой телячьей котлетой, обернутой лавровым листом. Пусть удача сопутствует моей госпоже — она это съела на улице!
Я свою котлету тоже съел, хотя и осторожно, потому что мама учила меня есть только в доме. Она считает, что на улице есть неприлично.
Рассветало, над Тибром вставало бледное солнце. Мы сидели в испорченных лучших одеждах на причале у реки и смотрели, как лодочники неторопливо разрезают речную гладь. У нас состоялся долгий веселый разговор. Мы обсуждали, является ли мое мнение о садовниках — то, что все они полоумные, — еще одним примером бессмысленной предубежденности… До нас долетали восхитительные запахи сухой рыбы и свежеиспеченного хлеба. Начинался ясный день, хотя в тени у стоящих на берегу домиков все еще было прохладно. Мне казалось, что это начало нечто большего, чем ясного дня.
Мы выглядели как пара грязных сорвиголов. Мне было стыдно провожать Елену домой. Я нашел небольшую частную баню, которая уже открылась. Мы вошли вместе. Больше там никого не было. Я купил фляжку масла по невероятно завышенной цене, затем за неимением раба сам намазал им Елену. Похоже, ей это понравилось. Я знаю, что это понравилось мне. Затем она терла меня специальной позаимствованной щеточкой для растирания тела — и мне это понравилось еще больше. Затем, когда мы сидели, прижавшись друг к другу, в сухой парной, Елена внезапно молча повернулась ко мне. Она крепко прижалась ко мне и спрятала лицо. Мы молчали. Слова были излишни. Никто из нас не мог говорить.
* * *
Все было тихо, когда я доставил ее домой. Самым трудным оказалось убедить тупую свинью привратника проснуться и впустить госпожу. Это был тот же самый раб, который вчера вечером отказывался меня узнавать. Теперь он меня запомнит — заходя в дом, сенаторская дочь быстро обернулась и поцеловала меня в щеку.
Я пешком отправился от Капенских ворот назад к Авентину. Я шел, не разбирая дороги. Меня одновременно охватили и измождение, и возбуждение. Я чувствовал, что за одну ночь прожил целую жизнь и стал на целую жизнь старше. Я был ужасно счастлив и милостив ко всему миру. Несмотря на невероятную усталость, у меня на лице от уха до уха светилась улыбка.
Петроний маячил перед прачечной Лении с розовым лицом и влажными волосами человека, который долго потел в прачечной. Я почувствовал сильный прилив нежности, который он не заслужил и никогда бы не понял. Он ткнул меня пальцем в живот, затем внимательно осмотрел. Я почти лишился сил, едва стоял на ногах, поэтому воспринял его тычок, только раз моргнув.
— Марк? — неуверенно спросил он.
— Петроний. Спасибо за помощь.
— Всегда рад. Твоя мать хочет с тобой поговорить насчет этого мешка золота. А это твое, да? — он протянул мне перстень дедушки Скаро.
— Ты нашел этого негодяя Мелития?
— Без проблем. Мы знаем его норы. Я забрал все драгоценности твой клиентки. Сегодня утром я отнес их ей домой. Там мне сказали, что ее нет…
Он неуверенно замолчал.
— Теперь она там. Я сказал ей, что если тебе удастся вернуть ее драгоценности, нужно тебя отблагодарить. Я предложил подарить что-то твоей жене.
Он уставился на меня. Я смотрел на него с искренней теплотой. Какой прекрасный друг!
— Послушай, Фалько, насчет прошлой ночи…
Я рассмеялся и отмахнулся.
— Судьба! — сказал я.
— Судьба? — взорвался он. — Что это за дерьмо?
Он — простая душа со здоровой философией. У него разрывалось сердце при виде меня в беде. (Он мог определить, что я в беде, по моей смехотворно мягкой улыбке.)
— О, Фалько, несчастный восторженный дьявол, что же ты наделал?
Вышла Ления. У нее за спиной грохотали тазы, пока она не закрыла задницей дверь. Ления всю жизнь ходит с полными грузной одежды руками, и делает это автоматически. Она открывает двери ногой, а закрывает задницей. Сейчас ее руки были свободны, но наморщенный лоб подсказал мне, что у нее болит голова после слишком большого количества выпитого прошлой ночью вместе со Смарактом. Платье прилипало к ее пышным формам, вечно влажное от пара. По какой-то причине она в последнее время стала набрасывать тонкие шарфики на плечи, чтобы выглядеть более утонченно. Она оценила мое состояние также беспристрастно, как пятно на простыни, затем хмыкнула.
— Размяк, как сдобный кекс. Дурак снова влюбился.
— Это все? — Петроний пытался успокоить себя, хотя, обычно сталкиваясь с одной из моих экстравагантностей, твердый Петроний сомневался. — С Фалько это случается по три раза в неделю.
Он ошибался. Теперь я это знал. До этого утра я ни разу не влюблялся.
— О, мой друг Петроний, на этот раз все по-другому.
— Цветочек, ты всегда так говоришь! — Петроний грустно покачал головой.
Я перевел взгляд с Петрония на Лению, я слишком устал и был слишком потрясен, чтобы говорить. Затем я отправился на лестницу.
* * *
Любовь! Она застала меня врасплох.
Однако я был к ней готов. Я также всегда знал, что ожидать. Какая-то бессердечная девчонка, красивая и холодная как стекло. Никому я не нужен (я намеревался страдать, я же в свободное время писал стихи). С этим справиться можно (я в состоянии написать целые реки стихов). Несколько ярких бусинок из эмали, или целые бусы в подарок, пока не найдется одна, чей суровый отец настоит на браке. После этого я бы погрузился в рутину и скуку как любой законопослушный гражданин, хотя мне было бы удобно жить…
Зная Елену Юстину, я понимал, что удобства не будет никогда. Она относилась к типу людей, которых можно изучать половину жизни и не опасаться, что тебе станет скучно. Если бы у меня был другой статус, я мог бы пожалеть, что у меня нет половины жизни, которую я мог бы на это потратить.
Я не мог себе это позволить. Даже не мог позволить себе ожерелье. Человек с таким состоянием банковского счета, как у меня (обычно в минусе), должен приготовиться к погоне за богатыми вдовушками, причем пожилого возраста, которые будут мне благодарны…
Я поднимался наверх, чувствуя в этом уверенность. Я поднялся до четвертого этажа. Там я изменил свое мнение.
Любовь — это конец. Она совершенная и самовластна. Ужасное облегчение. Я снова спустился вниз и отправился в лавку, где продавали духи.
— Сколько стоит малобатр?
Вероятно, владелец лавки родился с оскорбительной усмешкой на лице. Он назвал мне цену. Я едва ли мог позволить Елене понюхать пробку от флакончика. Бросив гордый взгляд, я заявил ему, что подумаю, потом снова отправился домой.
Ления видела, как я возвращался. Я отстраненно улыбнулся. Это улыбка говорила, что я не стану отвечать на вопросы, после чего снова отправился наверх.
* * *
Вернувшись в свою коморку, я долго стоял на месте, пока на меня не нашло вдохновение. Я отправился в спальню и стал копаться в рюкзаке, который брал с собой в путешествие. Там я нашел небольшой личный запас серебра с рудника в Вебиодуне, затем снова прошагал вниз шесть этажей и оказался на улице. На этот раз я отправился к серебряных дел мастеру. Гордостью его коллекции была закрученная цепочка филигранной работы, с которой по всей внушительной длине свисали крошечные желуди. Эта цепочка идеально подходила под сдержанный вкус, который демонстрировала в выборе одежды и украшений Елена Юстина. Я долго восхищался цепочкой, а, услышав цену, притворился, что думаю остановиться на серьгах. Но от последних работ мастера я отвернулся, поморщившись, затем извлек свое богатство и объяснил, что хочу.
— Наверное, вы смутитесь, если я спрошу вас, где вы это взяли? — усмехнулся серебряных дел мастер.
— Совсем нет, — беспечно ответил я ему. — Я работал рабом на серебряном руднике в Британии.
— Очень смешно! — хмыкнул мастер.
Я отправился домой.
Ления снова меня увидела. Она не потрудилась задать никаких вопросов, а я не потрудился улыбнуться.
* * *
Мои проблемы еще не закончились. Я выгнал виночерпия с балкона, мама должна была прийти, чтобы его отмыть. Она недружелюбно замахнулась на меня тряпкой.
Я улыбнулся матери, что было серьезной ошибкой.
— Ты был с одной из своих танцовщиц!
— Нет, — я схватил тряпку. — Сядь, выпей со мной вина, и я перескажу тебе, что знаменитый Тит Цезарь сказал о твоем славном сыне.
Она на самом деле села, хотя от вина отказалась. Я рассказал ей, как Тит хвалил Феста, и очень сильно налегал на комплименты. Она слушала, но я не замечал никаких изменений в выражении ее лица, затем в конце концов она с серьезным видом попросила вина. Я налил, мы подняли кубки в память о Фесте. Она потягивала вино мелкими глотками, как и обычно сидя очень прямо, словно пила только для того, чтобы не показаться невежливой и поддержать общение.
Лицо моей матери никогда не постареет, только в последние годы кожа как будто устала и больше не выглядела упругой и натянутой на костях. После того как я вернулся из Британии, она казалась мне меньше, чем раньше. Ее обведенные черным глаза останутся яркими, а взгляд пронзительным и умным до самой смерти. Когда-нибудь это случится, и, хотя теперь я тратил столько времени, отбиваясь от ее посягательств на мою жизнь, когда она умрет, я буду в отчаянии.
Я сидел тихо, позволяя ей переварить все, что я сказал.
Никто, даже его подруга никогда не критиковали Феста за то, что он сделал. Мать, получив новость о его самопожертвовании, проверила, чтобы Марина и ребенок были должным образом обеспечены (мною). Люди говорили о нем, мать же никогда не сказала ни слова. Мы все понимали, что потеря этого отличного, шумного, щедрого парня выбила почву у нее из-под ног.
Теперь, находясь вдвоем со мной, она внезапно сказала, что думает на самом деле. Когда я допустил ошибку и назвал его героем, она напряглась еще больше. Лицо стало суровым. Она осушила кубок и резко, с грохотом опустила его на стол.
— Нет, Марк! — резко сказала мама. — Твой брат был дураком!
Наконец она смогла плакать, жалея Феста и думая о его глупости у меня в объятиях, зная, что я всегда считал точно также.
С этого дня при постоянном отсутствии отца я стал главой семьи официально. Все это восприняли нормально. Для того чтобы с этим справиться, очень помогло взросление на целую жизнь.
Глава 50
Вскоре после полудня я наведался в переулок Ворсовщиков.
Ничего не изменилось. В переулке валялся мусор, все дома выглядели пустыми и заброшенными, даже прокладывающие канализационные трубы работники трудились у того же люка. На том же месте стояло корыто для извести и лоток для подноса кирпичей. Вокруг самого склада находилось много военных, они были практически везде. Их капитан с грубыми чертами лица отказался меня впустить, хотя сделал это весьма вежливо. Видимо, некто высокого ранга, к кому он относился серьезно, предупредил его о моем возможном появлении.
Таким образом, у меня осталось два пути. Я мог показать себя дураком, оставляя горшки с розовыми гвоздиками у двери одной дамы, или поработать над телом в гимнасии. Я не хотел ее смущать, поэтому отправился в гимнасий.
Я посещал гимнасий, которым заправлял один умный киликиец по имени Глаук. Гимнасий располагался рядом с частными банями, в двух улицах от храма Кастора. Очень необычно то, что он считался приличным. Глаук не допускал в свое заведение профессиональных гладиаторов и аристократических юношей с впалыми щеками, сохнущих по маленьким мальчикам. Он держал заведение для физических упражнений, в котором приличные граждане развивали тело и приводили его состояние в соответствие с умственными способностями (которые в целом были весьма неплохими), а после упражнений наслаждались приятной беседой в бане, в которой выдавали чистые полотенца. На колоннаде имелась небольшая библиотека, а у ступеней портика — отличная лавка, где продавали сласти.
Первым человеком, которого я увидел, зайдя во двор, где располагалась площадка для игры в мяч, оказался Децим Камилл Вер, благородный отец Елены. Он вполне серьезно и с поразительной готовностью и рвением воспринял мое шутливое предложение представить его владельцу гимнасия. Большинство патронов Глаука были молодыми мужчинами, у них еще не выросли животы, и они могли без конца лупить по наполненной песком груше, на что не способно пожилое тело. Глаук считал, что, если какой-то господин пятидесяти лет помрет с красным лицом у него на ступенях, это приведет в уныние других клиентов, и далеко не все они станут впредь посещать его заведение. Я уже разговаривал с Глауком и сказал, что почтенный Децим хорошо заплатит, в виду чего можно время от времени поучить укрощенного сенатора обращению с легким мечом. Если это и не совсем разумно, то по крайней мере, выгодно.
И вот мой сенатор оказался здесь. Мы устроили бой учебными мечами. Я уже заметил, что Камилл Вер лучше управляется с оружием, хотя он никогда и не станет обладателем отменной реакцией. Тем не менее он заплатит, хотя и не сразу же (кто же платит сразу?), и Глаук отработает эти деньги на простых упражнениях и одновременно проследит, чтобы никто никогда случайно не задел благородную шкуру.
Мы побросали мяч во дворе вместо того, чтобы признать усталость, потом расслабились в бане. Мы легко могли здесь встречаться, и в независимости от того, чем закончится дело, похоже, наша дружба продолжится. Гимнасий был тем единственным местом, где мы можем быть приятелями, несмотря на пропасть между нашими сословиями. Его семья притворяется, что не знает об этом, моя уже считала, что я не обладаю чувством такта.
Но теперь мы обменивались новостями. Вспотев в парной и искупавшись в теплой воде, мы легли на плиты, наслаждаясь вниманием девушек, делающих маникюр. Мы ждали огромного массажиста, выворачивающего руки, которого Глаук украл из городских бань Тарса. Он был хорошим массажистом, а это означает — он был ужасен. После его процедур выходишь из бани, словно мальчик после первого в жизни борделя, притворяясь, что чувствуешь себя прекрасно, хотя на самом деле это не так.
— Вы — первый, господин, — улыбнулся я. — Ваше время ценится выше.
Мы оба благородно пропустили вперед кого-то еще. Я заметил, что сенатор выглядит усталым. Я спросил, и к моему удивлению, он ответил без колебаний:
— Сегодня утром у меня был ужасный разговор с матерью Сосии Камиллины. Она только что вернулась из-за границы и узнала новость. Фалько, как продвигается твое расследование? Есть ли хоть какой-то шанс, что я вскоре смогу ей сказать, что мы, по крайней мере, определили, кто нанес удар? Женщина была в большом возбуждении. Она сама хотела кого-то нанять, чтобы занялся этим делом.
— Более низких ставок, чем у меня, она не найдет.
— Хотя наша семья и не такая богатая, мы сделаем все, что только можно сделать! — ответил сенатор довольно натянуто.
— Я думал, что Сосия не знала свою мать, — решил я прощупать почву.
— Нет. — Он молчал какое-то время, потом наконец объяснил. — Все сложилось несколько неудачно, и я не извиняю брата за его поведение. Мать Сосии была женщиной с положением, и замужем, как ты, вероятно, понял. Она никогда не намекала, что хочет что-либо изменить. Теперь ее муж — бывший консул, и ты понимаешь, что это подразумевает. Даже в то время он был важным человеком. Эта дама познакомилась с моим братом, когда ее муж отправился в дипломатическую поездку на три года. Из-за длительного отсутствия мужа было невозможно притвориться, будто это его ребенок.
— Тем не менее она его родила?
— Она отказалась от аборта. Твердо стояла на своем, исходя из нравственных убеждений.
— Несколько поздновато для нравственных убеждений! — хмыкнул я. Сенатору явно было не по себе. — Значит, вы воспитывали их ребенка в своей семье?
— Да. Мой брат согласился ее удочерить…
Я задумался, сколько давления пришлось оказать Дециму, чтобы заставить Публия это сделать.
— Время от времени я давал женщине знать, как идут дела у Сосии. Она настаивала на том, чтобы давать мне деньги для покупки подарков для ее дочери. Но казалось, что лучше им не встречаться. Но теперь это не упрощает ситуацию!
— И что случилось сегодня?
— О-о… несчастная женщина наговорила много вещей, за которые я не могу ее винить. Самое худшее — это ее обвинение моей жены и меня в невнимании и недосмотре.
— Это, конечно, несправедливо, господин?
— Я так надеюсь, — с беспокойством пробормотал он. Очевидно, его очень расстраивала такая возможность. — Мы с Юлией Юстой определенно старались сделать все возможное для Сосии. Ее очень любила вся моя семья. После той попытки ее выкрасть моя жена запретила Сосии покидать дом. Мы думали, что этого достаточно. Что еще мы могли сделать? В чем мы ошиблись? Но мать Сосии обвиняет меня в том, что я позволил ей бегать по улицам, словно торгующей спичками девчонке с другой стороны Тибра…
Он сильно расстроился. Мне самому было очень больно вести этот разговор, поэтому я приложил все усилия, чтобы успокоить сенатора, и как только смог, сменил тему.
Я спросил, не слышал ли он каких-то новостей из дворца насчет ареста заговорщиков. Сенатор оглянулся по сторонам (это лучший способ обеспечить подслушивание) и заговорил более тихим голосом.
— Тит Цезарь говорит, что кое-какие господа в страхе разбежались!
Эти разговоры украдкой были забавой для сенатора, но не давали большой практической помощи.
— Господин, мне нужно знать, кто и куда сбежал.
Он прикусил губу, но сказал. Фауст Ферентин отплыл в Ликию. Он отправился туда без разрешения — это запрещено сенаторам, которые должны жить в Риме. Корнелий Грацилий попросил аудиенции у императора, но слуги нашли его мертвым. Он лежал, вытянувшись с мечом в правой руке, хотя был левшой, до того как успел посетить дворец. Очевидно, это было самоубийство. Куртий Гордиан и его брат Лонгин внезапно были назначены жрецами в небольшом храме на берегу Ионического моря. Вероятно, это большее наказание, чем любая ссылка, которую мог бы для них придумать старый тиран Веспасиан. Ауфидий Крисп был замечен среди толп на берегу моря в Оплонтии. Мне казалось, что никто, кто мог прибрать к рукам частный монетный двор с серебром, не позволит себе страдать от летней жары в светском обществе среди роскошных вилл вдоль побережья Неаполя.
— Что ты об этом думаешь? — спросил Децим.
— Титу следует установить слежку за Ауфидием. До Оплонтия всего несколько дней пути. Если больше ничего не случится, я сам туда отправлюсь, но мне не хочется уезжать, пока остается хоть какой-то шанс найти серебряные слитки. Тит что-нибудь нашел в переулке Ворсовщиков?
Децим покачал головой.
— Очень скоро туда будет дозволено заходить моей дочери.
В бассейне слева от нас послышался сильный всплеск. Грузный мужчина, явно не умеющий плавать, плюхнулся в него с бортика.
— Я предполагаю, что вы не позволите Елене туда отправиться, — тихо предупредил я его. Мне следовало использовать ее полное имя, но теперь было уже поздно.
— Нет. Нет. Место может осмотреть мой брат. Я посоветую ей продать специи.
— Здание все еще принадлежит старику Марцеллу?
— М-м-м. Мы быстро его освободим из уважения к нему, хотя Елена и старый Марцелл в хороших отношениях. Он все еще смотрит на нее как на свою невестку. Она умеет очаровывать стариков.
Я лежал на спине и пытался притвориться мужчиной, который не смог заметить шарма Елены.
Отец Елены тоже неловко смотрел вверх.
— Я беспокоюсь за дочь, — признался он.
«Лошадь заговорила!» — подумал я. Мне хотелось истерически рассмеяться.
— Я допустил ошибку в случае Пертинакса. Наверное, ты в курсе. Она никогда меня не винила, но я всегда буду винить себя.
— У нее очень высокие требования, — сказал я, закрывая глаза, словно мне просто захотелось спать после бани. Услышав, как Децим перевернулся и оперся на локоть, я открыл глаза.
Теперь, после того, как я так внимательно изучил Елену, я видел в лице ее отца физическое сходство, которое упустил бы другой человек. Она унаследовала от него прямые волосы, открытое лицо, скулы, правда, чуть заметные ироничные складки в уголках рта были ее собственными. Иногда у нее также проскальзывали отцовские интонации. Децим наблюдал за мной пристальным, внимательным взглядом, в котором проскальзывала хитринка. Мне всегда нравился этот взгляд. Я был рад, что мне нравится ее отец, и с благодарностью вспоминал, что он понравился мне с самого начала.
— Высокие требования, — повторил Децим Камилл Вер, очевидно изучая меня. Потом он вздохнул, почти неуловимо. — Елена, похоже, всегда знает, чего хочет!
Он беспокоился за дочь. Я предполагаю, что он беспокоился из-за меня.
Есть вещи, которые простой гражданин не может сказать родителям уважаемой дамы знатных кровей. Если бы я объявил сенатору, что земля, на которой стояла его дочь, становится для меня священной, он бы не успокоился. Я это видел.
К счастью, именно в этот момент к нам приблизился массажист из Тарса. Через руку у него было переброшено полотенце. Я уступил Дециму очередь в надежде, что после больших чаевых тарский гигант станет ко мне добрее. Этого не случилось. Чаевые только обеспечили ему новый прилив энергии.
Глава 51
В тот день во второй половине вернулась моя мать, чтобы сообщить, что завтра мне предстоит возглавить большой семейный выход на триумфальное шествие Веспасиана. Семья собиралась занять одну трибуну. Это обещало солнечный удар, едкие замечания сестер, крики уставших детей, впадающих в раздражительность по непонятным причинам. В общем, мое любимое времяпровождение. Сама мама собиралась разделить тихий балкон с тремя старыми приятельницами. Тем не менее она принесла мне огромного золотого леща, чтобы смягчить удар.
— Ты убрал в комнате! — фыркнула она. — Наконец взрослеешь?
— Может, у меня будет гость, на которого мне хочется произвести впечатление.
Гостья, которую я хотел видеть, так и не пришла.
Проходя мимо скамьи у меня за спиной, мама взъерошила мои волосы, затем пригладила. Я ничего не мог поделать, если она впадала из-за меня в отчаяние. Я сам пребывал в отчаянии.
* * *
Я сидел на балконе и притворялся, что философствую, и внезапно узнал легкие шаги перед дверью. Кто-то постучал, затем, не дожидаясь ответа, вошел. Я напрягся в предвкушении и быстро вскочил на ноги. Затем сквозь раздвижную дверь, я наблюдал за тем, как моя великолепная мать встречала молодую женщину в моей комнате.
Это не было стычкой, к которым привыкла мама. Она ожидала смешные ножные браслеты из кораллов и девическое смущение, а не мягкие ткани приглушенных тонов и серьезные глаза.
— Добрый день. Меня зовут Елена Юстина, — объявила Елена, которая умела вести себя спокойно, даже при виде двенадцатидюймового ножа в руках моей родительницы над миской с миндальным фаршем. — Мой отец — сенатор Камилл Вер. Служанка ждет меня снаружи. Я надеялась поговорить с Дидием Фалько. Я его клиентка.
— Я — его мать! — заявила моя мама, словно Венера с покрытыми пеной ногами, выступающая от имени Энея. (Учтите, я не думаю, что благочестивый Эней, этот несносный самодовольный хлыщ, питался рыбой, которую его прекрасная мать богиня сама для него чистила и фаршировала.)
— Я так и подумала, — ответила Елена в своей спокойной, приятной манере, глядя на неприготовленный для меня ужин так, словно ей очень хотелось, чтобы ей предложили остаться. — Однажды вы позаботились о моей двоюродной сестре Сосии. Я очень рада, что мне представилась возможность вас поблагодарить.
После этого она поправила покрывало и скромно замолчала, как делает молодая женщина после обращения к старшей, если обладает воспитанием. (До этого ни одна женщина, которая знала меня, не считалась с моей матерью и не проявляла такта в общении с ней. Это было впервые.)
— Марк! — заорала мама, сбитая с толку, после того как над ней так вежливо одержали верх. — К тебе по делу!
Пытаясь выглядеть беззаботным, я вошел в комнату. Мама схватила тарелку с рыбой и вышла на балкон, в знак уважения к клиентке, которой не требуются свидетели. Это не было настоящей жертвой — она все равно могла подслушивать и с балкона. Я предложил Елене стул, предназначенный для клиентов, а сам устроился с другой стороны стола. Выглядел официально.
Наши глаза встретились — и мое актерство рухнуло. Елена пыталась решить, рад ли я ее видеть. Я точно также осторожно наблюдал за ней. В одно и то же мгновение наши глаза загорелись от нелепости ситуации. Нам обоим хотелось смеяться над собой. Затем мы просто сидели в тишине, которая говорила сама за себя, и счастливо друг другу улыбались.
— Дидий Фалько, я хотела бы обсудить оплату твоих услуг.
Глядя одним глазом на балкон, я потянулся через стол и коснулся кончиков ее пальцев. Меня словно пронзило током, и на руках выступила гусиная кожа.
— Что-то не так с представленным мною счетом, госпожа?
Она вырвала руки в настоящем негодовании.
— Что означает «спорные вопросы»? — спросила она. — Пятьсот сестерциев за что-то, что ты даже не объясняешь?
— Это просто выражение, которое используют некоторые счетоводы. Я советую тебе просто как следует поторговаться — поспорить и не платить! — я улыбнулся. Она поняла, что это было только поводом, чтобы пригласить ее ко мне.
— Хм! Я об этом подумаю. Мне следует поговорить с твоим счетоводом?
— Я никогда не пользуюсь услугами счетовода. Половина из них умеет только рассчитывать процент, положенный им в виде оплаты услуг, а у меня достаточно нахлебников и без какого-то лысого финикийского учетчика и его чахлого болезненного помощника, которые также хотят ко мне присосаться. Когда будешь готова, тебе лучше поговорить напрямую со мной.
Я вперился на Елену честным взглядом, предполагая таким образом напомнить ей про вечер, который ей следовало забыть, но прекратил это, потому что мое собственное сердце билось слишком часто. Я чувствовал себя легкомысленно и весело, и еще мне казалось, что я потерял две пинты крови. Я прислонился к стене и сплел руки над головой, с улыбкой наслаждаясь ее видом. Елена улыбнулась в ответ. Я наслаждался ее улыбкой…
Я должен был это прекратить. Это было ужасной ошибкой. В жизни мне обычно требовалась какая-нибудь доступная девушка с цветком за ухом, которая будет хихикать, когда я читаю ей свои стихи. Я никогда не стану читать свои стихи Елене. Она сама их прочитает, потом подчеркнет места, где допущены ошибки в правописании и рифмах. Я буду яростно возмущаться, но потом все равно исправлю все так, как она сказала…
— Есть кое-что еще, — заговорила она. Мое лицо расплылось в счастливой улыбке. Наверное, я напоминал бессловесную лягушку. — Очень скоро таможня освободит склад в переулке Ворсовщиков, и туда будет открыт доступ. Отец очень не хочет, чтобы я туда ходила.
Я резко опустил руки.
— В переулке Ворсовщиков было совершено убийство. Твой отец прав.
— Мне на самом деле хочется осмотреться.
— Тогда возьми кого-нибудь с собой.
— Ты пойдешь?
— С радостью. Дай мне знать когда.
Я хитро посмотрел на нее широко раскрытыми горящими глазами. Мой взгляд говорил ей о том, что мы можем сделать на складе перца. Это что-то само по себе будет пикантным. Елена казалась серьезной. Я разумно откашлялся. Она встала, чтобы уйти.
— Завтра твой триумф. Ты пойдешь?
— Не для себя. Выполнять семейный долг. Давай я займусь твоим складом после этого.
Я вылез из-за стола и проводил ее к двери. Мы оставили ее открытой для маскировки, и вышли из квартиры. Тут нас ждало смущение — ее служанка все еще ждала на площадке, где ее оставили.
Некоторые служанки знают, как незаметно исчезнуть, если мужчина хочет поцеловать красавицу, которую они сопровождают. С одной стороны, мне было приятно обнаружить, что служанка Елены не считала, что ее хозяйка захочет быть поцелованной. В то же самое время я пришел в ужас, что госпожа может этого больше не хотеть.
— Наисса, спускайся вниз. Я тебя догоню, — приказала Елена спокойным, деловым тоном.
* * *
Мы слушали, как стихают шаги Наиссы, пока она не завернула на следующий пролет. Больше никто из нас не произнес ни слова.
Елена повернулась ко мне с обеспокоенным видом. Я поцеловал ей руку, стоя на расстоянии вытянутой руки, затем немного приблизился и поцеловал другую руку. Я притянул Елену поближе, поцеловал ее в обе щеки. Со вздохом, который повторил мой, она упала в мои объятия, затем одно мгновение мы стояли без движения, а проблемы словно упали с нас, как лепестки с розы после сильного порыва ветра. Все еще сжимая Елену в объятиях и целуя, я медленно повел ее по площадке. В конце концов у начала лестницы я ее отпустил.
Елена пошла вниз. Я наблюдал за ней на всем пути до улицы. Пять минут я стоял на одном месте после того, как она ушла.
Эта женщина изменила мой день.
* * *
Я снова уселся за стол, притворяясь, что все в порядке. Лицо покалывало в том месте, где его коснулась Елена перед тем, как уйти.
Меня ждала мать. Она знала, что я много раз, проводив женщину, возвращался домой и долго бродил по комнатам, молча демонстрируя свои чувства. Они приходили, они уходили. Они не угрожали ничьему спокойствию.
Теперь мама с грохотом опустилась на противоположную скамью и поджала губы.
— Значит, это она и есть!
У меня под ребром перевернулось сердце. Я неловко рассмеялся.
— А ты откуда знаешь?
— Я знаю тебя!
* * *
Я вытянул подбородок и посмотрел в потолок: заметил новую дыру, в которую попадал дождь. Я подумал о Елене Юстине, представил, какой, вероятно, ее увидела моя мать. Женщина с прекрасной кожей, элегантная, с дорогими, но не вычурными украшениями и прекрасными манерами, а также унаследовавшая от отца способность казаться застенчивой. Правда, странное сочетание внутренней силы и иронии бросалось в глаза. Елена Юстина, сенаторская дочь, которая так холодно разговаривала со мной об оплате и складах, пока ее глаза молча пели о счастье, которое мы разделили… Все знали, что я ищу (когда я вообще удосуживался, потому что поиски проводились время от времени) кого-то типа Марины, девушки моего брата: простую душу, у которой есть разум и симпатичное лицо, способную вести хозяйство и имеющую достаточно собственных друзей, чтобы мне не мешать. Все это знали, я сам это знал.
Я снова уставился в стол, теребя в руках выпавшие веточки полыни.
— Ну! — бросила вызов моя мать. — Мне начинать печь шафранные кексы или надеть черный платок и отправляться плакать в храм Юноны? Что теперь будет?
— Ничего, — ответил я, учитывая все факты. — Она сказала тебе, кто ее отец. Я ничего не могу поделать.
Мама еще раз злобно фыркнула.
— Марк, увидев ее, я не думаю, что она для тебя!
У меня вытянулось лицо, и я покосился на мать, а она довольно странно посмотрела на меня в ответ.
Глава 52
В тот вечер мне было нечего делать, поэтому я отправился к цирюльнику в конце нашей улицы. Я сидел на тротуаре, пока он занимался моим подбородком. Мне удалось заставить споткнуться ликтора одного второстепенного должностного лица, причем так, что это выглядело настоящей случайностью. Ликтор чуть себя не кастрировал своим церемониальным топориком. Я собой гордился.
Я снова ее увижу. Кого? Никого. Просто девушку. Просто клиентку. Забудьте, что я ее упомянул.
Подошел сын цирюльника. Он жевал конец луканской колбасы. Ему было тринадцать лет, вроде не совсем дурак, но ел он колбасу так, словно это было сложной задачей, вставшей перед его мозгом. Дети моей сестры Майи зовут его Платоном.
— Фалько! Тебя перед домом ждет какая-то госпожа.
Редко человек с испанской бритвой у горла так быстро вскакивал на ноги.
* * *
Я перепрыгнул через бочонок со съедобными моллюсками, обежал груду пустых амфор, ударился головой о корзину с цветами перед похоронной лавкой, где нанятые плакальщики тренировались в пении — не для похорон, а для триумфа, запланированного на следующий день. Из-за него никто в городе не будет работать, объявлен всеобщий праздник. Все музыканты Рима будут отвлекать людские толпы, чтобы воры-карманники могли спокойно работать.
Я не увидел никакой госпожи. Неудивительно. Чего ждать от этого дурака Платона? Меня хотела видеть Ления. Она маячила перед прачечной и выглядела виноватой.
У нее за плечами имелся двадцатилетний опыт объяснений на тему, почему потерялась нижняя туника, поэтому вид расстроенной и виноватой прачки был таким непривычным, что я понял: дело на самом деле серьезное. И так и было. Чтобы отпраздновать триумф императора, она планировала безрассудный и опрометчивый поступок. Наша королева тазов с мощными руками собиралась вступить в брак.
Когда люди объявляют о бракосочетании, я стараюсь не говорить им, что они совершают серьезную ошибку. Обычно они все равно ее делают, но если бы все неподходящие браки в Риме душили в зародыше добрые друзья дельным советом, то не было бы нового поколения цивилизованных граждан, способных усмирять варваров остального мира.
— И кто счастливый жених?
— Смаракт.
Я передумал и дал Ленин самый лучший совет, который только мог придумать.
* * *
Причина, по которой не стоит беспокоиться, заключается в том, что в любом случае тебя никогда не слушают.
— Заткнись, Фалько, — дружелюбно ответила Ления. — Он тянет на полмиллиона сестерциев!
По нескольким причинам у меня от этой новости перед глазами возник красный туман.
— Если тебе это сказал Смаракт, женщина, то могу тебе заявить: он врет!
— Не будь дураком. Я никогда его не спрашивала.
— Хорошо. Это зависит от того, кого ты совратила. Если это его счетовод, то он хвастается, поэтому раздели сумму напополам. Если это его банкир, он проявляет осторожность, поэтому умножь сумму на два…
— Ни тот, ни другой. Поверь мне, я не собираюсь рисковать. Я прочитала его завещание.
— Ления, нет таких глубин, на которые не опустится хитрая женщина! — грустно заметил я.
* * *
Стратегический альянс с моим вредным домовладельцем мог быть лишь частью хитрого плана оборотистой Лени. Он положил глаз на ее прачечную, эту маленькую, но постоянно дающую доход золотую жилу, а она явно нацелилась на его внушительную недвижимость. Их совместная жизнь будет укрепляться острыми приступами жадности. Каждый будет ежедневно молиться своим богам, чтобы второй умер первым.
Многие браки существуют десятилетиями на подобной здоровой основе, поэтому я пожелал ей всего наилучшего.
— Он будет жить здесь, Фалько…
— Я думал, что он здесь уже живет.
— Я просто тебя предупреждаю.
— Мне плевать, на какое дерево испражняется эта мерзкая птица…
— Я не могу не пускать его в прачечную. Я подумала, что до свадьбы ты мог бы забрать из чана ту свою штуковину…
Самый первый серебряный слиток! Тот, который нашли на улице, а потом мы с Петронием спасли из банковской ячейки Сосии Камиллины. Я забыл о нем, забыли и все остальные…
Наша могучая Ления вытащила слиток из чана, и он сох под скопившейся за неделю отданной в стирку грязной бельевой мелочью из какого-то храма. Ления вытерла слиток митрой жреца, которая все еще пахла благовониями с прошлого четверга.
— Ты знаешь, что кто-то прикрепил к нему еще и список сдаваемого в стирку? — спросила Ления.
Мы с Петронием оставили веревку вокруг слитка. Теперь к веревке была прикреплена одна восковая табличка…
— О, боги!
Даже до того как я забрал табличку из распухших рук Ленин, я знал, что это и от кого. Я вспомнил, как Ления говорила мне шесть месяцев назад: «Я дала ей пописать в чан для отбеливания, затем она написала записку наверху…»
Затем я также вспомнил, как Елена Юстина кричала на меня в первый вечер в Британии. «Она написала, что сообщила это вам…» И так и было. Восковая табличка — это достаточно официально, и может быть представлена в виде доказательства. Сосия Камиллина оставила мне список имен.
«Сосия Камиллина, дочь П. Камилла Метона, М. Дидию Фалько, частному информатору. В октябрьские иды, во время второго консульства Веспасиана Августа, в первый год его пребывания императором
Т. Флавий Домициан
Л. Ауфидий Крисп
Гн. Атий Пертинакс Карпений Марцелл
Т. Фауст Плаутий Ферентин
А. Куртий Гордиан
А. Куртий Лонгин
Кв. Корнелий Грацилий
Я называю этих людей в знак почтения к императору и преданности богам».
* * *
Вот они все. Все? Очевидно, все, за исключением одного. Перед последним предложением остался один пробел. Похоже, Сосия написала еще одно имя. Похоже, она его написала, а потом стерла тупой стороной пера то, что только что вывела по воску острой.
В этом деле, как я однажды сказал Елене, не может быть ни верности, ни доверия. Сосия Камиллина отличалась и тем, и другим. Вероятно, это было очень тяжелым грузом для шестнадцатилетней девушки.
* * *
Эта табличка ничего не доказывала. Просто семеро мужчин, которые знали друг друга. По виду это мог быть список приглашенных на ужин. Возможно, Сосия нашла такой список в доме, в котором побывала. Это была записка с указаниями чьему-то управляющему. Сосия тщательно скопировала имена…
Семеро мужчин, которые вполне могут сказать, что спокойно ужинали вместе, если мы бросим им вызов в суде. Хотя их истинная цель не станет менее зловещей из-за этого.
И кто же тогда организовывал эту мерзкую вечеринку?
Я уставился в пустое место, где остался след тупой части пера Сосии, стершего еще одно имя. Моя бедная Сосия оказалась связанной путами, которые не были моими. Если бы она сейчас стояла здесь, и смотрела на меня огромными, горящими готовностью глазами, которые я так хорошо помнил, я должен был бы сохранять ее тайну до конца. Но ее давно нет в живых. А мне все еще страстно хотелось отомстить за ее смерть.
В это дело был замешан еще один человек: кто-то, умеющий очень ловко исчезать из поля зрения. Я практически преднамеренно игнорировал очевидную связь. Поблагодарив Лению, я подхватил слиток и стал тяжело подниматься наверх в свою коморку. Вскоре я снова спустился вниз в своей лучшей тоге, которая раньше принадлежала Фесту, и отправился выполнить необходимое дело на Палатинском холме.
Глава 53
К тому времени как я добрался до дворца, я пребывал уже в таком истеричном состоянии, что ожидал ареста преторианцами при одном только взгляде на меня. Было приятно обнаружить, что стража императора, очевидно, способна отличить настоящего наемного убийцу от возбужденного, но честного человека. Это успокаивало. Когда я попросил встречи с Титом, мне пришлось встретиться с несколькими чиновниками, ранг которых все время поднимался, пока меня не передали высокому худому секретарю. При взгляде на него создавалось впечатление, что у него не дрогнет ни одна красивая длинная ресница, даже если его теща застанет его занимающимся содомией с мясником у нее на заднем дворе. Он выслушал меня, потом усадил на стул. Я аккуратно сложил тогу на коленях, а он ушел во внутренние помещения.
Вышел Тит. Выглядел он великолепно. Он снова облачился в военную форму со всеми регалиями главнокомандующего в Иудее. Форме соответствовала уверенность и настроение ее обладателя. На полководце были декоративные доспехи и широкий плащ сочного пурпурного цвета, который окутывал торс героических пропорций. Тунику по всем краям украшали вышитые пальмовые листья. Недостаток роста героя компенсировался мускулистым телосложением. Он был готов отправиться в храм Исиды, где собирался провести торжественную ночь с отцом и братом перед завтрашним въездом в Рим. Победоносные римские полководцы поведут домой пленных и понесут блестящие трофеи.
Теперь меня одолевали сомнения. Мой клиент оделся так, чтобы служить моделью для официальных статуй, которые будут его прославлять на протяжении нескольких тысяч лет. Я не верил в силу церемоний, но понял, что пришел не в тот день.
Я встал. Я вручил Титу восковую табличку Сосии и почувствовал крепость его руки, когда он ее принимал. Он молча и напряженно уставился на имя Домициана, затем пробежал глазами остальной список.
— Спасибо, Фалько. Это полезно, но ничего нового…
Взгляд у Тита казался отстраненным, он мысленно уже находился в завтрашнем дне и предстоящих почестях. Но несмотря на это, в конце концов ему передалось мое возбуждение.
— Что?.. Ты считаешь, что это оно и есть?
Я показал на пробел.
— Господин, дочь Камилла Метона не была писарем. Она писала как ребенок и сильно надавливала пером. Я должен был показать вам список, но если вы согласитесь, ценой его уничтожения… — я сглотнул, потому что мне было нелегко уничтожать подарок Сосии Камиллины. — Если мы полностью расплавим воск, то вполне может оказаться, что на дереве таблички остались какие-то следы.
Тит внимательно посмотрел на меня. Его взгляд был таким же пронизывающим, как испанский меч.
— Недостающее имя все еще можно рассмотреть? — Тит Цезарь и в мирной жизни принимал решения как полководец. — Нам нечего терять!
Он крикнул своего тощего секретаря. Этот сутулый вампир пытался слегка рисоваться, но, тем не менее, наклонил табличку над пламенем, затем стал вертеть костлявым запястьем, чтобы капли воска падали в гравированную серебряную чашу, после чего отдал табличку назад с учтивым поклоном.
Тит бросил взгляд на поцарапанную поверхность, затем подал знак секретарю, чтобы тот исчез. Одно болезненное мгновение мы смотрели друг на друга. Затем Тит снова заговорил тихим голосом.
— Ну, Дидий Фалько, насколько ты хороший информатор? Хочешь сказать мне, до того как я тебе покажу табличку, чье имя по твоему мнению здесь значится?
* * *
Военный трибун, со знаками отличия, свидетельствующими о принадлежности ко второму рангу, вошел в приемную по какому-то официальному делу, связанному с триумфом. Его глаза горели, он обул лучшие сандалии, а броня была начищена до блеска. Он явно много времени провел в бане, начистив все — от коротко подстриженных ногтей на ногах до покрасневших юношеских ушей. Тит даже не взглянул на него.
— Вон! — приказал он почти вежливо, правда, трибун вылетел, не бросив больше ни одного взгляда на
начальника.
* * *
Комната снова погрузилась в молчание. Тит и я… Тит продолжал держать табличку, которую я так и не видел.
У меня пересохло во рту. Я был средним информатором (слишком мечтательным и слишком осторожным, чтобы браться за поручения сомнительного характера — как раз те, за которые хорошо платят). Но все-таки я неплох. Раньше я поклялся себе никогда больше не связываться с правящими и влиятельными особами, тем не менее, снова предоставлял свои услуги своему городу и империи. Я никогда не приму божественности императора, но я уважал себя и хотел обеспечить получение денег.
Поэтому я сказал Титу Цезаря, на кого думаю.
— Это должен быть один из братьев Камиллов, Цезарь. Только я не уверен который.
Глава 54
Мы услышали, как снаружи собирается группа сопровождения. Тит прошел к дверному проему и сказал несколько слов. Шум стих, кто-то выставил стражу.
У меня так болел живот, словно я лишился кого-то из родственников.
* * *
Когда Тит вернулся, то предложил мне сесть и сам занял место на кушетке рядом, потом положил табличку между нами, стороной для письма вниз.
— Бедная девочка! О, Фалько, вся эта семья несчастна! Хотя подобное случалось и раньше. Пожалуйста, объясни мне, как ты пришел к таким выводам.
— Господин, после того, как хорошо подумаешь над всеми известными фактами, все становился ужасающе очевидным. Я вернусь к началу. Случившееся с Сосией Камиллиной оказалось тесно связанным с первым обнаруженным в Риме слитком. Я всегда так думал. Возможно, Атий Пертинакс, занимая пост эдила в управлении претора, смог сообщить заговорщикам, где спрятан слиток. Но теперь я считаю, что они это уже знали. Определенно, кто-то близкий к Сосии понял, что она знает номер банковской ячейки. Поэтому самым быстрым способом в нее забраться было отвести туда саму девушку. Использовать головорезов, чтобы всех запутать и не дать ей никого узнать.
Тит кивнул.
— Что-то еще? — спросил он.
— Да. Как раз перед смертью Сосия написала письмо двоюродной сестре с сообщением, что опознала дом человека, который связан с похитившими ее людьми. Я считаю, что там она и обнаружила этот список. Дело в том, что в то время ради ее собственной безопасности после попытки похищения, она сидела дома, то есть в сенаторском доме. Хотя я не сомневаюсь, что когда бы она ни захотела, ей все еще дозволялся доступ в дом ее отца, расположенный по соседству.
Тит кивнул, неохотно принимая услышанное.
— Цезарь, с того самого момента, как я взялся за это дело для вас, кто-то очень близкий наблюдал за моими успехами и продвижением вперед и мешал на каждом повороте. Когда мы с Еленой Юстиной вернулись из Британии, после многомесячного отсутствия, кто-то знал достаточно, чтобы устроить нам засаду в самый первый день. На самом деле я послал сообщение о нашем приближении от Остийских ворот — семье Елены Юстины.
— И таким образом ты потерял письмо от друга Илария? — произнося эту фразу, Тит дружески улыбнулся. Честный Гай, славящийся педантичной преданностью тяжелой работе, часто заставлял людей улыбаться. Я тоже улыбнулся, но просто потому, что мне нравился этот человек.
— Вот именно. Я всегда предполагал, что два имени, которые Флавий Иларий отправил Веспасиану, — это Домициан и Пертинакс. Однако он отказывался мне их называть. Я был не прав. Маловероятно, что подрядчик с рудников Трифер понял бы, что в дело вовлечен ваш брат… Пертинакс, перевозчик, должен был быть одним из них, и Пертинакс был женат на собственной племяннице Гая. А если предположить, что второй — еще более близкий родственник его жены? Это, вероятно, оказалось болезненно. Неудивительно, что Флавий Иларий решил отступить в сторону и позволить Веспасиану принимать решение.
Тит ничего не стал комментировать и осторожно спросил:
— А ты никогда не рассматривал вариант, что и Иларий может быть замешан в этом деле?
— Не после того, как я с ним познакомился!
Я рассказал Титу свою шутку про то, что в этом деле только государственные служащие оказываются честными. Он рассмеялся.
— Рыцари заслужили почестей, — воскликнул он, аплодируя среднему классу, затем добавил со всей серьезностью:
— Тебе самому следует подумать насчет более высокого разряда. Мой отец хочет пополнить списки достойными людьми.
— Имущественный ценз для второго разряда — это собственность стоимостью четыреста тысяч сестерциев.
Тит Цезарь не понимал, насколько смехотворно его замечание. В некоторые годы мой доход был таким низким, что я был вправе претендовать на пособие, выдаваемое беднякам пшеничной крупой. Проигнорировав шутку императорского сына, я напомнил, что на протяжении двадцати лет Флавий Иларий был другом Веспасиана.
— Фалько, грустный факт заключается в том, что когда человек становится императором, ему приходится по-новому смотреть на своих друзей.
— Когда человек становится императором, господин, его друзьям может потребоваться по-новому смотреть на него!
Он снова рассмеялся.
* * *
Недавно стихшие голоса за дверью снова зазвучали громче: кто-то что-то напряженно обсуждал. Тит смотрел в никуда.
— А Флавия Илария попросили повторить письмо? — спросил я.
— Мы отправили срочное сообщение, но из-за триумфа все передвижения замедлились. Ответ должен прийти в конце завтрашнего дня.
— А он вам все еще требуется?
Именно тогда он перевернул табличку Сосии, чтобы я сам мог прочитать, что там написано.
— Боюсь, что да, — сказал Тит.
На бледном дереве просматривалось несколько царапинок. Я догадался правильно: Сосия сильно нажимала на перо, когда писала. По всей поверхности выделялись четкие линии, петли, даже отдельные буквы.
Но было невозможно прочитать отсутствующее имя.
Глава 55
Тит Цезарь сложил руки на груди.
— На самом деле это ничего не меняет. Нам просто придется все выяснять самим. У тебя есть мысли насчет того, который из братьев?
— Нет, господин. Это может быть сенатор, который, как кажется, с такой готовностью оказывает содействие вашему отцу, но на самом деле делает это, чтобы иметь возможность мешать нашим усилиям. И с точно такой же вероятностью это может быть его брат, который так тесно сотрудничал с Атием Пертинаксом. Я предполагаю, что это даже могут быть оба.
— Фалько, а как давно у тебя зародились эти подозрения? — с любопытством спросил меня Тит.
— Цезарь, если вы хотите еще больше рассуждений, то я мог бы еще шесть месяцев назад вручить вам список с тысячью имен…
Руки Тита оставались сложенными на груди, но тут он выдал знаменитую улыбку Флавиев.
— И как ты сам относишься к вовлеченности к делу этой семьи? Ты ведь, очевидно, к ним привязан?
— Нет, Цезарь, — настаивал я.
Мы были на грани жаркого спора. Неудивительно, я в одно или другое время спорил и ссорился со всеми остальными людьми, связанными с этим делом. Но Тит, с его сильной сентиментальной жилкой, внезапно сдался. Он еще дальше закинул голову и воскликнул грустным голосом:
— О, Фалько! Как я все это ненавижу!
— Вы это ненавидите, — сказал я ему резко, — но вам придется с этим разбираться.
* * *
Снаружи снова послышались движения. В комнату вошел трибун, по возрасту немного старше первого, в форме, свидетельствующей о принадлежности к сенаторскому чину. Увидев, что мы с Титом беседуем, наклонившись друг к другу, он тихо встал у двери. Очевидно, ему очень доверяли, поэтому он не ожидал, что его сразу же выставят вон. Он явно считал, что завтрашний день важнее моих мелких интриг. Присутствие постороннего и его нежелание уходить напомнило Титу о предстоящих делах.
— Какие-то проблемы, господин? Домициан Цезарь уехал вперед, но ваш отец откладывает отъезд и ждет вас.
— Хорошо. Я иду.
Трибун ждал. Тит оставил его.
* * *
— Ты нам нужен, чтобы помочь опознать остающихся заговорщиков! — настаивал Тит, обращаясь ко мне. Я колебался. Я был слишком тесно связан с задействованными людьми, чтобы и дальше трезво оценивать ситуацию. Я понял, что он ожидал увидеть нежелание с моей стороны.
— Цезарь, теперь этим для вас могут заняться стражники. Я хотел бы порекомендовать вам одного капитана, который кое-что уже знает о деле. Его зовут Юлий Фронтин. Он заинтересовался делом, когда в Риме нашли первый слиток. Тогда он помог мне встать на правильный путь…
— Друг?
— Они вместе учились в школе с моим братом.
— А-а!
Общение с Цезарем проходило неприятно учтиво официально. От его хороших манер мне становилось плохо. Вместо того чтобы сбежать, я чувствовал, как подпадаю под давление.
— Фалько, я не могу заставить тебя продолжать вести это дело, хотя хочу, чтобы именно ты продолжал им заниматься. Послушай, ты можешь отложить свое решение на день? Ничего не случится за следующие двадцать четыре часа. Весь Рим замрет. Завтра мой отец будет вручать подарки людям, которым платит. Ты определенно это заслужил. Ты вполне можешь воспользоваться возможностью! Тем временем мы оба подумаем, что делать. Приходи после триумфа, и поговорим.
Он встал, теперь готовый ответить на призыв подчиненного, тем не менее, меня он не торопил.
— Это люди не моего круга, — неловко заявил я ему. — Я могу скрутить головореза или вора, бросить его к вашим ногам с петлей на шее, живого или мертвого, как вы захотите. А для этого дела я недостаточно ловок.
Тит Цезарь сардонически приподнял одну бровь.
— Маловероятно, что загнанный в угол предатель отреагирует в соответствии со строгим дворцовым этикетом. Дидий Фалько, мой отец получил письмо от Флавия Илария, который восторгается твоей физической выносливостью и умственными способностями. Он поет тебе дифирамбы на трех страницах первоклассного пергамента! Тебе удалось самому, в весьма суровых условиях разбираться со всеми, кто попадался на пути, когда это тебе подходило, тем не менее, тебя что-то не устраивает сейчас?
— Хорошо, господин. Я выполню условия контракта и найду того, кто организовал заговор…
— И найдешь серебряные слитки!
— Сосия Камиллина подозревала, где они находятся. Я считаю, что она была права.
— Переулок Ворсовщиков?
— Переулок Ворсовщиков.
— Фалько, я не могу больше держать своих людей в переулке Ворсовщиков! — теперь Тит был раздражен. — У них есть работа в других местах. Этот склад фактически разобрали и собрали заново, причем несколько раз. Стоимость содержимого серьезно осложняет работу ответственного офицера. Даме, которую ты представляешь, пообещали, что мои люди оставят содержимое…
— И пусть оставят, — предложил я с легкой улыбкой. — И позвольте мне сказать Елене Юстине, что ваши подчиненные с завтрашнего дня отозваны для выполнения других обязанностей. Завтра — день триумфа, и у них есть другие дела. Возможно, будет полезно дать этой новости погулять среди членов семьи…
Я не стал объяснять зачем, но, как и другие умные люди, Тит наслаждался разговором, во время которого ему требовалось напрягать умственные способности.
— Ничего не случится, пока мои солдаты сидят на слитках? Согласен. Можешь сказать Елене Юстине, что склад открыт. Я попрошу преторианцев время от времени тайно его осматривать. Но, Фалько, я полагаюсь на тебя!
* * *
Я вышел из дворца с северной стороны и спустился к Форуму по склону Победы. Все улицы, которые обычно в это позднее время были погружены во тьму, освещались многочисленными мигающими факелами. Нечетко различимые в их свете фигуры украшали гирляндами портики. Бригады муниципальных подрядчиков строили временные трибуны. В канавах постоянно что-то булькало — грязь и строительный мусор несло от одного острова к другому. Отряд за отрядом солдат маршировали мимо на большой смотр на Марсовом поле. Граждане, которые обычно запирались в своих лавках и домах после наступления темноты, группами маячили на улице в ожидании. Город уже гудел.
* * *
Я отправил одного из племянников с запиской к Елене Юстине, сообщил, что специи теперь принадлежат ей, но я больше не могу сопровождать ее при осмотре склада, как она хотела. Я не объяснял почему. К тому времени, как мне станет стыдно от нарушения обещания, она поймет, почему я это сделал. А пока она подумает, будто я решил ее избегать.
Возможно, мне следовало ее избегать. Я никогда раньше не писал Елене. Теперь я, вероятно, никогда этого больше не сделаю. Несомненно, после того как она узнает, что я сделал на Палатинском холме, достопочтенная Елена Юстина сама захочет меня избегать.
Я велел племяннику дождаться ответа. Но его не последовало.
* * *
В тот вечер я навестил Петрония у него дома. Его жена, которая и так в самые лучшие дни смотрит на меня мрачно, совсем не обрадовалась. Она хотела, чтобы Петроний провел время с детьми, в виде компенсации за потерянные часы во время всеобщего праздника, когда ему придется следить за лавочниками на Остийской дороге.
Я рассказал другу о том, что, по моему мнению, должно произойти в ближайшее время, и он обещал вместе со мной вести наблюдение за складом, как только я подам ему сигнал. Когда я уходил, он стоял на четвереньках и изображал слона, на котором катались три маленькие девочки. Перед моим уходом жена Петрония вручила мне кровяную колбасу. Думаю, это была благодарность за то, что я оставил их в покое.
Мне хотелось напиться. К счастью для жены Петрония, я придерживаюсь философии, что напиваться можно в любой момент ведения дела, но только не когда ты, наконец, узнаешь, кого ищешь.
Отправляясь во дворец, я думал, что все закончилось. Самые ненавистные дела, как кажется, не заканчиваются никогда.
Глава 56
Я взял всех сестер и дюжину маленьких детей наблюдать за триумфом Веспасиана. Только за одно это моя душа заслужила спокойного отдыха на Элисийских полях.
* * *
Мне удалось пропустить скучный марш консулов и сенаторов по простой причине — я проспал. (Даже когда город гудит от возбуждения, на шестом этаже можно спокойно спать, словно голубиное яичко в гнездышке, свитом на каменной сосне.) На Марсовом поле для парада выстроилась армия, Веспасиан с Титом заняли места на тронах из слоновой кости в портике Октавии, чтобы принимать парад. Когда крики солдат донеслись до небес, даже самый большой соня на Авентине вскочил с кровати. Пока император с приближенным завтракал под Триумфальной аркой, я достал праздничную тунику, спокойно полил цветы на балконе и расчесал волосы. Напевая себе под нос, я оправился в северную часть города и, пройдя под украшенными гирляндами арками, оказался среди шумной толпы.
День был хорошим, теплым и солнечным, торжественность ощущалась даже в воздухе. Это оказался плохой день для тех, кто страдает бурситом большого пальца стопы. Когда я, наконец, подошел к трибунам, остались только стоячие места. Все храмы открыли двери, а бани закрыли. На тысячах алтарей курился фимиам, и его запах смешивался с запахом пота полумиллиона человек, которые надели праздничные одежды и весь день не имели возможности помыться. Если не считать парочки преданных делу воров-взломщиков, которые проскальзывали по пустым переулкам с неприметными мешками награбленного добра, все, кто не участвовал в процессии, за ней наблюдали. Вдоль пути прохождения процессии собралось столько зевак, что марширующие продвигались вперед крайне медленно, словно ползком.
Мужу моей сестры Мико (штукатуру) тоже нашлось дело. Как только рассвело, его отправили строить помост для одной нашей семьи перед частным домом одного ничего не подозревающего гражданина. Вся семья Дидиев устроилась на больших плетеных корзинах с крышками, в шляпах я полями, которые носят сельские жители. Все наше семейство поедало сочные дыни, запивая их прихваченным с собой вином, и было готово дать отпор каждому, кто помешает. Заметившие их солдаты эдила взяли по куску предложенной дыни, затем отправились прочь, даже не пытаясь разрушить помост.
К счастью, к тому времени как я прибыл на место, сенаторы уже прошли, мимо нас теперь несли трубы и рожки. Их пасти, изрыгающие звуки, находились на одном уровне с нашими головами. Викторина и Алия стали меня ругать. Остальные члены семьи заткнули уши, спасаясь от шума труб и рожков, и решили не напрягать голосовые связки жалобами на мое опоздание.
— Вы помните тот триумф в честь завоевания Британии, когда слоны императора испугали Марка так, что его стошнило? — занялась воспоминаниями Викторина, когда в рядах трубачей на мгновение образовался проем. Говорила она очень громким голосом.
Это не имело никакого отношения к слонам. Мне было семь лет. Я сидел, скрестив ноги, на земле перед подносом с персидскими засахаренными фруктами, который стоял в тени. Из триумфа в честь завоевания Британии я видел только ноги людей. За день я сжевал три фунта жареных фиников, обваленных в меду, губы у меня разъело, живот разболелся и решил устроить мятеж. Я слонов даже не увидел…
Майя бросила мне шляпу. Из всех моих сестер Майя особенно добра ко мне. Было только одно исключение. Именно Майя внедрила в нашу семью моего зятя Фамию. Этот Фамия — ветеринар, лечит лошадей, впрягаемых в гоночные колесницы, причем из команды зеленых. Я посчитал бы его бездарной посредственностью, даже если бы не был активным болельщиком голубых. На самом деле мне не нравились мужья всех моих сестер, и это была одна из причин моей нелюбви к семейным сборищам. Я не считаю, что праздничный день нужно проводить, демонстрируя любезность идиотам и конченным типам. Если не считать мужа Галлы, которого она временно выбросила в кучу мусора, эти презренные и жалкие типы на протяжении всего дня только приходили и уходили. Меня утешало только то, что их жены относились к ним еще более язвительно, чем ко мне.
И это был долгий день. После прохода трубачей, нам демонстрировали военные трофеи. Тит был прав: ничего подобного никто никогда в мире не видел. Прошел год после захвата трона Веспасианом и шесть месяцев после того, как сам Тит вернулся домой. Прошло достаточно времени, чтобы дворец организовал зрелище, и он его организовал. Час за часом нам представляли, как проходила Иудейская кампания Веспасиана. Мы видели пустыни и реки, захваченные города и горящие деревни, армии, проходящие по раскаленным долинам, осадные орудия, которые придумал сам Веспасиан. Все это было нарисовано яркими красками на парусине, натянутой на щитах высотой в три или четыре этажа, и проплывало мимо нас. Затем среди болезненного скрипа колес и запаха свежей краски, трескавшейся на солнце, по улицам поплыли корабли с нарисованными веслами. Они вздымались вверх и опускались вниз, словно носы настоящих кораблей. Корабли мне понравились больше всего. Плавание по сухой земле казалось мне идеальным.
Шествие продолжалось. Ряд за рядом от Марсова поля шли носильщики в праздничных одеждах и лавровых венках. Их путь пролегал мимо театров, где толпы расположились на наружных стенах, сквозь Бычий рынок, вокруг цирка, между Палатином и Целием, затем на Форум по Священной дороге. Они несли знамена и полотнища в богатом вавилонском стиле, нарисованные прекрасными художниками или украшенные вышивкой с драгоценными камнями. В паланкинах качались статуи самых почитаемых богов города в праздничных одеждах. Тоннами несли сокровища, причем в таком количестве, что они становились практически бессмысленными. Там были не только золото и драгоценные камни, извлеченные из обломков разгромленного Иерусалима, но и бесценные сокровища, полученные при помощи суровой дипломатии по приказу Веспасиана из городов в богатейших уголках мира. Отдельные драгоценные камни горами лежали на носилках — грудами, без разбора по сортам, словно все рудники Индии вдруг одновременно изрыгнули ночью свои драгоценности: оникс и полосчатый халцедон, аметисты и агаты, изумруды, яшма, гранат, сапфиры и лазурит. За ними последовали золотые короны покоренных царей, небрежно сложенные горками на носилках, в солнечных лучах блестели диадемы и бросали лучи во все стороны. Короны украшали гигантские рубины и жемчужины. Золото засверкало так, что, казалось, расплавленный металл медленно и неторопливо тек с героической экстравагантностью к Капитолию, извиваясь.
Я помню, что после полудня шум стал стихать, но не потому, что люди охрипли (хотя на самом деле охрипли) или утратили интерес (они не утратили), а потому, что толпы больше не могли смотреть на все это великолепие империи, которое в начале и вызывало восторженные крики. Казалось, что аплодисментов уже недостаточно. В то же самое время бесконечные марширующие ноги шли мимо с нарастающей гордостью. Подходил самый важный момент, основная часть процессии — сокровища из священного Иерусалимского храма — странный семисвечник, золотой стол весом в несколько центнеров, и пять свитков Торы.
— Здесь следовало бы быть Фесту, — захныкала Галла, и все мои родственники шмыгнули носами. (Все емкости с вином уже успели опустеть.)
* * *
Похоже, возникла пауза. Мы с Майей спустили всех детей на землю и повели их к ближайшей общественной уборной. Затем мы привели их назад и напоили, чтобы малыши не умерли от обезвоживания и возбуждения.
— Дядя Марк! А вон тот дядя запустил руку тете под тунику, — сказала Марция.
Какой наблюдательный ребенок! Подобные вызывающие смущение случаи происходили весь день. Марина, мать моей племянницы, ничего не сказала. Она уже устала от постоянных неприличных восклицаний Марции и поэтому редко что-то говорила.
— Наверное, хочет залезть ей в карман и что-то украсть, — беззаботно ответил я.
Майя взорвалась.
— Боги, Марк, ты бы хоть постыдился!
* * *
Жрецы и юноши вели на малиновых поводках ослепительно белых жертвенных животных с гирляндами цветов вокруг рогов. Их сопровождали флейтисты в клубах фимиама, рядом крутились танцовщики, ловко выбирая место, где оно вообще было. Они делали сальто и крутили колесо. Мальчики-прислужники несли золотые кадила и все необходимое для жертвоприношений.
— Дядя Марк, вон тот дядя там! Тот дядя, который воняет!
Лицо в толпе. Нет, запах.
* * *
Я увидел его, как только она закричала. Он стоял у колонны портика на другой стороне улицы. У него было вытянутое лицо, болезненная кожа и тонкие отвратительные волосы. Забыть или перепутать эту физиономию было невозможно. Виночерпий, которого я обнаружил в своей комнате после возвращения из Британии. Наконец до меня дошло, что никакого совпадения в том, что во время моего отсутствия Смаракт нашел нового жильца, не было. Этот вонючий кусок дерьма специально туда поместили, чтобы следить за мной. И он продолжал за мной следить. Я снял ребенка с плеч и прошептал Майе, что оставляю ее за старшую, пока схожу переговорить с одним знакомым насчет скачек. Он должен мне подсказать, на кого ставить.
Не думаю, что наша Майя когда-либо меня простила. Я ведь так и не вернулся.
Глава 57
Я пересек улицу под ногами первых рядов пленных из Иудеи. Семьсот пленных специально выбрали из-за их впечатляющей внешности для доставки за море и демонстрации Титом во время парада победы. Их одели в дорогие одежды, чтобы скрыть синяки, которые оставили на их телах солдаты во время путешествия. Перебираясь на другую сторону улицы до того, как они меня раздавят, я почувствовал их страх. Они, вероятно, слышали, что перед совершением жертвоприношения на Капитолийском холме, император сделает перерыв до того, как придет сообщение о ритуальной казни его врагов в Мамертинской тюрьме. Эти несчастные парни не знали, что виселица ждет не всех семьсот пленных, а только одного главаря их восстания.
На сегодня для удушения был выбран некий Симон, сын Гиора. Охрана пленников яростно замахнулась на меня, когда я перебегал дорогу прямо перед ними. Они явно уже готовились бить Симона по почкам, вытягивая его из строя у лестницы Стонов на склоне Капитолийского холма. Я едва успел увернуться и в целости и сохранности добраться до противоположной стороны. Виночерпий меня заметил и уже протискивался сквозь толпу по направлению к Священной дороге. Несмотря на то, что улица была забита людьми, ему не представляло труда убедить людей расступиться. У меня не было преимущества личной вони, поэтому моя задача оказалась сложнее, но раздражение от этого грязного дела придавало мне сил. Я нещадно расталкивал людей локтями, чтобы не мешали.
Я следовал за ним по всей улице, идущей на север, в тени здания, которое мы называем Верхним дворцом, по территории, прилегающей к Золотому дворцу Нерона. Мы оказались на Священной дороге. На углу у храма Весты, с тростниковой крышей и решетками, толпы, вытягивающие шеи в ожидании Веспасиана и Тита, стояли так плотно, что моя дичь могла повернуть только в одну сторону — на Форум с южной стороны. Когда нас догнали марширующие пленные, мы оказались прижатыми спинами к общественным зданиям. Теперь нам обоим приходилось прилагать огромные усилия. Продвигаться вперед можно было только одним единственным способом — при движении толпы, словно последний обед внутри тела змеи.
Надежды спрятаться не было, так как время от времени виночерпий с беспокойством оглядывался назад. Он пролетел мимо фасада Юлианского суда, я весь в поту следовал за ним. Я слышал, как продолжает идти процессия и чеканят шаг двадцать четыре ликтора, сопровождающие императора. Предположительно, все они облачились в красные туники и несли на плечах пучки прутьев, хотя оставались скрытыми от меня давящими толпами. Теперь приближался сам Веспасиан. Возбуждение нарастало, а с ним и мое отчаяние. Я старался пробираться вперед, тем не менее, делать что-либо, кроме как стоять спокойно и аплодировать Веспасиану, как все остальные, было практически невозможно. У храма Сатурна я совсем отстал от виночерпия, а когда повернулся, отвлеченный грохотом императорской колесницы, наконец в последний раз потерял его из вида. Я позволил ему уйти. Жизнь мне слишком дорога, чтобы ее терять. Я старался удержаться на ногах и оказался на ступенях, практически в том самом месте, где стоял в летний день, когда ко мне подбежала Сосия Камиллина, и все это началось.
И теперь я тоже стоял там, сдавленный со всех сторон так, что мне стало трудно дышать, пока император, в которого она так свято верила, ехал в колеснице на встречу с Сенатом в храме Юпитера, для празднования победы. Он был героем города и собирался совершать жертвоприношения в честь мира и процветания Рима в роли главного жреца. Четверка сильных белых коней тянула внушительную колесницу мимо благодарно кричащих толп. Старик стоял в украшенных богатой вышивкой одеждах, под золотым дубовым венком, который держали у него над головой. Это была корона Юпитера, слишком тяжелая, чтобы ее носил смертный. На крепком плече лежала лавровая ветвь, которую Веспасиан положит на колени богов на Капитолийском холме. В твердой руке он держал традиционный скипетр из слоновой кости с взлетающим орлом. Раб, задачей которого было напоминание о бессмертии императора, похоже, сдался. (Раб должен был восклицать: «Помни, что ты — человек!», когда воины пели хвалебные песни. Это делалось с целью магической защиты триумфатора, но в этом сейчас не было смысла.) Веспасиан был мрачным старым циником. Он знал, как обстоят дела на самом деле.
Золоченая триумфальная колесница медленно прогрохотала мимо. Как сам Веспасиан скажет в дальнейшем, чувствовал он себя в эти минуты глупо, к тому же сожалел о потраченном дне на этот бесконечно ползущий парад. Я не выкрикивал приветствий, но не смог удержаться от смеха.
За Веспасианом следовал Тит. Он ехал во второй огромной колеснице и выглядел так, словно у него сейчас разорвется сердце. Наконец появился Домициан, младший сын, красавец на гарцующем белом коне.
Они это сделали. Они были здесь. Трое провинциалов сабинян, о которых никто никогда не слышал до прошлого года. Им повезло, они проявили доблесть и сделали себя правящей династией Рима.
* * *
Я отвернулся. За тремя Флавиями теперь маршировала основная масса армии: ряд за рядом несли штандарты, шли трубачи, офицеры с жезлами с высокими малиновыми гребнями на шлемах, авгуры, инженеры, затем бесконечные ряды пехотинцев, выстроившихся по шесть в ряд. Сейчас им было легко шагать по городу, но именно этот шаг помог легионам без усилий пройти по миру. Следовала когорта за когортой солдат регулярной армии. За ними выстроились экзотические вспомогательные части — темнолицые лучники в блестящих чешуйчатых доспехах на быстрых лошадках, затем более тяжелая кавалерия, выглядящая сегодня зловеще в золоченых масках, украшенных драгоценными камнями. Маски ничего не выражали, когда кавалеристы одновременно поднимали украшенные перьями копья.
Требовалось долго ждать, пока император взберется на лестницу Стонов на коленях, потом была новая отсрочка, пока он проводил официальное жертвоприношение в храме Юпитера на Капитолийском холме. Вернуться тем путем, которым я пришел, будет невозможно еще на протяжении часа. Я решил обойти Палатин по кругу и пробираться к остальным вдоль Целия. Это также позволит, не привлекая внимания, проверить кое-какие объекты по пути.
Я следовал вдоль большого сточного канала, построенного пятьсот лет назад, чтобы осушить болота вокруг Форума и прибрежной части Авентина. Вскоре дорога привела меня к рынкам специй, где я натолкнулся на стражника, охраняющего люк, у которого ежедневно продолжали трудиться рабочие, что-то делающие с трубами под переулком Ворсовщиков. Сегодня они отсутствовали. Во всеобщий праздник никто не работает, только иногда стражники что-то охраняют, если хотят найти какое-то тихое место, где можно напиться. Этот стражник уже осушил один бурдюк и вздремнул, чтобы набраться сил для следующего.
Пока ничего неожиданного. Тем не менее в конце переулка я заметил девушку, которая показалась мне знакомой.
— Наисса? — это была служанка Елены Юстины, которую она постоянно где-то оставляла.
В честь этого торжественного дня Наисса использовала позаимствованную у госпожи косметику. Она красилась при плохом освещении, поэтому при ярком солнечном свете окончательный результат не подчеркивал черты лица нужными цветами. Выглядело это ужасно неестественно.
— Где твоя госпожа, девушка? — с беспокойством спросил я.
— На складе своего свекра. Я побоялась идти дальше. Она велела мне ждать здесь.
— Это же склад, в нем нет ничего зловещего. Тебе следовало пойти с ней!
— Что мне теперь делать? — нервно спросила Наисса, округляя фантастически накрашенные глаза.
— То, что она тебе сказала, Наисса! — велел я без особого сочувствия, пока судорожно размышлял.
Вчера я поставил Елену Юстину в известность, что не могу пойти на склад. Я знал, что должен отказаться от теперешнего плана. Мне очень хотелось ее увидеть, но я себе этого не позволил. Я теперь принял как факт, что по крайней мере, один из ее близких родственников замешан в плане заговорщиков, и мне было трудно смотреть ей в глаза. И все же я постоянно помнил, что Сосию убили именно на складе. Оставить Елену одну было еще труднее.
— Вы Дидий Фалько? — спросила Наисса, у нее в глазах мелькнуло узнавание. Я остановился. — Она велела мне отправиться к вам домой с этим…
Девушка протягивала мне что-то, завернутое в шарф. Как только вещь оказалась у меня в руке, вес показался знакомым.
— А она что-то передавала на словах?
— Нет, господин.
Я уже понял, что происходит что-то серьезное.
— Возвращайся назад и смотри шествие с семьей, — сказал я служанке напряженным тоном. — Скажи матери Елены Юстины так осторожно, как только можешь, что теперь твоя госпожа находится со мной. Ее отец должен присутствовать при жертвоприношении, но нет необходимости пока его беспокоить. Но если Елена не появится ко времени праздничного ужина, тут же отправляйся к сенатору и сообщи, где мы.
Я снова быстро зашагал и теперь я следовал по переулку Ворсовщиков. По пути я развернул шарф Елены.
В моей руке оказался браслет из британского гагата, сделанный в форме сжимающихся китовых зубов. Этот браслет мне когда-то подарила Сосия Камиллина, и его у меня украли на ступенях сенаторского дома.
Глава 58
Иногда дело состоит из последовательности фактов, которые ведут тебя от одного к другому в логической последовательности. При помощи них информатор, имеющий хоть немного мозгов, способен сам выполнить всю работу, в своем темпе. Иногда все происходит иначе. Все, что вы можете делать, — это помешивать трясину, затем собирать куски мусора, которые всплывают на поверхность, пока сам стоишь на берегу и ждешь, пока покажется какая-нибудь гнилая реликвия, имеющая смысл. Теперь кое-что показалось, но проблема заключалась только в том, что болото расшевелила Елена. Но если Елена нашла этот браслет там, где Сосия обнаружила список имен, это имело смысл. И это означало, что Елена Юстина теперь знает, кто последний заговорщик.
Чтобы сберечь браслет, я прикрепил его к своему ремню.
* * *
Когда я зашел в переулок, заметил, что кое-что изменилось, кое-что нет. Буйно разросшиеся сорняки качались у разрушающихся дверных косяков, грибок на которых напоминал креветочную икру. Чуть дальше ярко блестели новые цепи висячих замков на новых дверях явно каких-то контор. Вероятно, в этом месте право собственности постоянно переходит из рук в руки, и перемены отражают коммерческие бури, пусть то зарождаемые в океане богами в плохом настроении, или создаваемые в торговом городе спекулянтами.
С внешней стороны склада Марцелла я не заметил особых перемен. Сломанный фургон, который стоял на подъездной дорожке и который я помнил по предыдущим посещениям, отодвинули на пару ярдов. Я удивился, что его вообще можно было подвинуть. Я обратил на это внимание, потому что на том месте, где раньше находился фургон, очевидно, оставленный на вечное гниение, стал заметен люк с открытой крышкой. Ворота во двор были закрыты, но не заперты. Я поспешно зашел внутрь.
Когда я приходил сюда искать Сосию, склад Марцелла выглядел почти заброшенным. С тех пор морские пути, связывающие Рим с Александрией, снова открылись, и видимо, несколько трирем, нагруженных до предела, прибыли к Пертинаксу, пока он все еще был жив и занимался торговлей. Судя по всему, теперь склад работал. У одной стены во дворе стоял ряд повозок, а при приближении к двери склада, я уловил другой запах, пока мне оставалось пройти еще пять шагов. Во внешнем замке кто-то оставил большой ключ. Двенадцатифутовая дверь поддалась со скрипом. Мне пришлось надавить на нее всем телом, чтобы этот монстр раскрылся.
Ну и место! Теперь, когда Пертинакс и его партнер Камилл Метон снова им пользовались, атмосфера стала магической. Но мертвая тишина подсказала мне, что там никого нет.
Склад перца представлял собой квадратное, забитое товаром помещение с высоким потолком, тускло освещавшееся сверху. Даже теперь оно было заполнено меньше, чем наполовину, но в этот теплый день различные ароматы специй внутри ударили в меня, словно пар из плотно закрываемой парилки в бане. После того как я смог сфокусировать взгляд в странном свете, я рассмотрел стеклянные сосуды с корнем имбиря, которые рядами стояли на затененных полках, словно статуи фараонов вдоль дороги к гробницам в каком-то тихом городе мертвых. Мешки были свалены в центре на полу и забиты гвоздикой, кориандром, кардамоном и корицей. Вдоль одной целой стены шли деревянные столы, на которых находились различные виды перечного зерна — черного, белого и зеленого. Я почти неосознанно запустил руку по локоть в один из мешков и извлек из него пригоршню, которую опустил в карман. Ее стоимость равнялась моему годовому заработку.
Елены нигде не было видно. Я пошел прямо вперед вдоль длинного ряда корзин и бочонков в дальний конец здания, затем вернулся. У меня стали слегка слезиться глаза. Я стоял в этом спертом воздухе из ароматов и чувствовал, как тону в лечебном бальзаме.
— Елена! — позвал я негромко. Я подождал, напрягаясь, чтобы обнаружить ее присутствие, но мог сказать, что ее здесь нет. — Елена…
* * *
Я вышел во двор на солнечный свет. Кто-то здесь был и оставил ключ. Этот кто-то собирался вернуться.
Во дворе никого не оказалось. Я снова посмотрел на ряд выставленных повозок. Они выглядели весьма внушительно. Обычно специи перевозят в корзинах на вьючных животных, как правило, мулах. Я зашагал к воротам. Наисса ушла, а больше ничего не изменилось. Я отправился назад, туда, где стражник только что проснулся и смотрел на меня счастливым затуманенным взором.
— Я ищу девушку.
— Удачи вам, господин!
К этому времени он уже любил весь мир. Он настаивал, чтобы я разделил с ним следующую бутыль, поэтому я уселся рядом, решая, что делать дальше. Делить с ним бутыль означало делить с ним компанию. И то, и другое объясняло, почему стражник пил один, поскольку его общество было невыносимо, а вино еще хуже. Казалось, что вино его отрезвляет, поэтому, чтобы перестать думать об этом скучном типе и мерзком привкусе у меня рту, я спросил у стражника, как идет работа по очистке канализации. Мне не следовало этого делать. Выяснилось, что это самоуверенный и упрямый оратор, он с мрачным видом начал речь с рассуждений о некомпетентности эдилов, которые отвечают за общественные работы. Он был прав. Но от этого мне не захотелось слушать его мнение. Я прожевал перечное зерно и отругал себя.
— Эта работа продолжается почти год. Почему так долго?
Если бы я был удачливым человеком, то он ответил бы только, что он просто стражник и не представляет почему. Но люди, которые читают вам лекции о местном управлении, никогда не бывают честными и никогда не говорят кратко. Он заплетающимся языком прочитал мне трактат об искусстве поддержании канализации в рабочем состоянии, с очень большими неточностями в плане инженерных работ. А после того как он принялся рисовать схемы в пыли, слушать его стало просто невыносимого. Правда, я выяснил, что залатанные трещины постоянно появляются вновь, работа доставляла много хлопот. Основная проблема была в двухстах ярдах под переулком Ворсовщиков. Никто из уважающих себя владельцев не позволял перекопать свои дворы, поэтому приходилось мешать бетон здесь, а потом спускать его в корзинах под землю…
— Неужели нельзя воспользоваться люком поближе? — спросил я.
Он ответил с логикой истинно пьяного, что такого там нет.
— Спасибо! — воскликнул я и пониже надвинул на лицо шляпу, подаренную сестрой Майей.
Даже не двигаясь с места, я знал, что нашел серебряные слитки.
* * *
Мы лежали на земле рядом друг с другом — безнадежный пьяница с полуобнаженным животом и его случайный собеседник, прикрывший лицо шляпой с полями. Я переваривал мысль. Почему-то я совсем не удивился, услышав приближение быстрых шагов с основной улицы. Шаги проследовали мимо нас дальше по переулку. Я чуть-чуть приподнял шляпу Майи с носа — и увидел мужчину. Я его узнал. Он вошел в ворота склада.
* * *
Мне едва хватило времени, чтобы пробежать по переулку и вскочить в повозку. Там я прижался ко дну, до того как мужчина вылетел наружу, словно взорвавшийся стручок люпина. Вероятно, он обнаружил тот же ключ, что и я, который так и остался в замке. Я прижимался ко дну повозки и слышал, как он идет прямо к ложному люку, который был спрятан под развалившимся фургоном, пока его не сдвинули с места. Похоже, он остановился и прислушался. Я пытался не дышать. Я услышал, как зажглась серная спичка, и встал на железную лестницу. Я, словно краб, выскользнул на землю и приблизился к люку. Я специально держался на некотором расстоянии, чтобы на спускающегося человека не упала моя тень. Я оставался в стороне, пока слабый звук его шагов не перестал отдаваться звоном от лестницы, затем подождал еще несколько секунд на случай, что он посмотрит вверх после того, как доберется до низа.
Никого не было видно. Я подбежал к люку и сам стал спускаться по лестнице, тихо опуская ступни на металлические перекладины.
Вскоре я очутился в маленьком помещении, которого едва хватало, чтобы развернуться. Из него шел коридором проход, проложенный под огибающей двор стеной. Проход оказался достаточно высоким, чтобы идти, не пригибаясь к полу. Все поверхности тщательно покрыли известковым раствором, было почти сухо. Из люка проникал свет — можно было добраться до тяжелой открытой двери, где я и остался в темноте прохода, чтобы понаблюдать за человеком, за которым я следил. Он разговаривал с Еленой. Это был младший из братьев Камиллов, ее дядя Публий.
Но я до сих пор не знал, пришел ли он как негодяй, желающий обезопасить свои трофеи, или, как и я, он был просто любопытным ни в чем не виноватом гражданином.
Глава 59
И Публий, и Елена держали по светильнику. За этими небольшими источниками света, которые бросали блики на их лица, делая их болезненными и словно полупрозрачными, маячила черная прямоугольная масса.
— Значит, ты здесь! — воскликнул Камилл Метон с легким удивлением человека, который считал, что молодая женщина захочет посмотреть триумф. Судя по акустике, я решил, что они находятся в небольшом помещении, причем чем-то заполненном. — Я тебя напугал?
Ни один из них не казался особенно испуганным. Это я испугался, даже слышал стук своего сердца. В груди клокотало, как клокочет вода, попавшая в воздушную пробку в узкой бронзовой водопроводной трубе.
Елена Юстина стояла в подземном помещении почти неподвижно, словно погрузилась в глубокие размышления. Вероятно, она слышала шаги дяди, но не выказала никакого удивления. Она обратилась к нему весело, как к любому родственнику.
— Ты только посмотри на это! Этот склад шафрана хорошо хранит секреты. Я думала, нашли ли его солдаты. Очевидно, нет!
— Ты знала про это место? Тебя сюда приводил Пертинакс?
— Несколько раз, чтобы показать мне духи. Конечно, тогда мы были женаты. Он хвастался передо мной сухим погребом с потайной дверью, где запирал самые дорогие специи. Такая простая уловка — сделать вход снаружи. Я ему не верила, когда он говорил, что это надежно… Я нашла и другие лампы…
Она начала их зажигать, затем они оба уставились в стену.
Там оказалась низкая ниша с полками из необработанного камня, на
них стояли керамические и стеклянные сосуды, как эликсиры у аптекаря. Здесь кроме сухих цветков вифинского шафрана, в честь которого и назвали склеп, Пертинакс и Публий Метон хранили ценные ароматические масла. В этом подземном хранилище масла находились в безопасности от обложения акцизным сбором и от загребущих рук работников склада. Запах шафрана не чувствовался из-за более концентрированных ароматов духов, которые наводняли небольшое закрытое помещение. Но Елена с дядей не замечали этих запахов. Большую часть пола занимал темный куб, высотой доходящий до груди взрослого человека. При виде него в душе бывшего раба с серебряных рудников все похолодело. Серебряные слитки стояли во мраке ровными рядами, одинаковые, плотно прилегающие друг к другу, словно куски торфа в стене, построенной военными.
* * *
Я видел, как Камилл Метон наблюдает за своей племянницей.
— Фалько с тобой?
— Нет, — ответила она кратко.
Метон хохотнул с намеком, против которого я возражал.
— Отверг тебя?
Елена проигнорировала замечание.
— Плата за империю! — восхитилась она в своем старом горьком стиле. — Фалько захотелось бы взглянуть на эти слитки. Как жаль, что он обнаружил правду! Три четверти этих внушающих суеверный страх трофеев больше вообще не содержат серебра.
— Умный старина Фалько! — тихо сказал Публий. — Не могу представить преторианцев, стучащих в виллы в Помпее и Ополонии на берегу моря и пытающихся по дешевке продать недорогие свинцовые водопроводные трубы! — он казался более уверенным, чем я помнил его по прошлым встречам. — А что ты здесь делала в одиночестве, когда я пришел?
— Думала, — судя по голосу, ей было грустно, — думала о Сосии. Не в этом ли склепе она умерла? Она знала, что он здесь есть. Один раз она тут побывала вместе со мной и Гнеем. Она могла прийти, зная про это потайное место…
Отец Сосии поставил свой светильник на полку одним резким движением и сложил руки на груди. Лицо его прорезали глубокие морщины. Он с мрачным видом обводил взглядом помещение.
— Слишком поздно, чтобы это имело какое-то значение! — заявил он натянутым голосом.
Он хотел ее остановить. Ради себя самого, как и я. Он не мог здесь оставаться и смотреть фактам в лицо. Его голос охрип, как на похоронах Сосии, словно он все еще страдал, словно хотел не думать о ее смерти и резко отталкивал всех, кто ему о ней напоминал.
Елена вздохнула.
— «Честная, почтительная, обязательная и преданная долгу». Отец читал мне твой панегирик. Он был так подавлен…
— Он справляется! — резко ответил Публий.
— Не так хорошо, как раньше. Недавно отец сказал мне, что чувствует себя так, словно тонет в водовороте. Теперь, увидев это, я понимаю.
— Что? — я заметил, как Публий резко поднял голову.
— Разве это не очевидно? — спросила Елена Юстина почти нетерпеливо, но с ноткой горечи. Она расправила плечи, потом объявила натянутым тоном, который я слышал от нее, только когда она чувствовала себя оскорбленной мною до глубины души:
— Пертинакс мог предоставить склад с потайным склепом, но у него не было мозгов для придумывания такого хитрого, дьявольского заговора. Я предполагаю, что все это организовал мой отец.
* * *
Когда она гневно показала на ряды слитков, Камилл Метон пристально посмотрел на нее. И он, и я раздумывали над последствиями ее предположения. Если в Риме случается скандал, то никому из семьи не удается избежать последствий. Еще не рожденные поколения, о которых судят по чести их предков, уже обречены этим деянием против государства. Обесчещенный сенатор потянет за собой вниз всех своих родственников. Потеря им чести влияет на уважаемых и невиновных, включая брата и сыновей. Публий будет страдать всегда, словно обезображенный шрамами. Добрый и щедрый парень, с которым я познакомился в Германии, когда путешествовал вместе с Еленой, обнаружит, что его карьера закончилась, даже толком не начавшись. То же случится и с его братом в Испании. Проклятие падет и на Элию Камиллу, а через брак даже на Гая. А здесь — на Елену.
Ее дядя откинул назад голову и сказал напряженным тоном:
— О, Елена, Елена! Конечно, я знал. Я знал давно. Я не был уверен, понимаешь ли ты.
Я подумал, что если этот человек на самом деле сам замешан в заговоре, то ведет себя исключительно хорошо. Если он задействован, то это может знать Елена. Но в таком случае девушке повезло, что я здесь. Оставаться с ним одной было исключительно опасно…
Глава 60
— Что ты предлагаешь делать? — осторожно спросил племянницу Камилл Метон.
— Если смогу, все исправлю, — она говорила очень резко, не задумываясь надолго. В этом была вся Елена. Я любил эту бедную, введенную в заблуждение девушку за ее прямоту.
У меня так сильно чесалась ступня, что я поднял ногу и потряс ею, хотя знал, что в этой сухой норе не выживет ни одна тварь. Тьма давила, было прохладно, и мои руки покрылись гусиной кожей. Из прохода не доносилось ни звука, хотя я слышал далекие аплодисменты. Триумф продолжался, процессия, видимо, приближалась к Капитолию.
В тусклом свете полудюжины маленьких масляных ламп Елена Юстина наполовину отвернулась, хотя я знал эту девушку так хорошо, что мог определять ее настроение по интонации. Она побледнела, выглядела изнуренной и говорила через силу. Так случалось всегда, когда она была обеспокоена и чувствовала себя одинокой. Сейчас я не мог определить, сказала ли она правду дяде или же проверяла его. Что касается самого Камилла Метона, то он выглядел как человек, который мало подвержен проявлению эмоций или же умеет их так глубоко прятать, что нельзя и надеяться их узнать.
— Я ожидал, что ты посчитаешь своего отца слишком уважаемым и достойным человеком для этого! — заметил он.
Елена вздохнула.
— Разве не в этом дело? Семья полагается на него, ожидая, что он всегда поступит благородно. Но когда я была в Британии, я долго говорила с тетей. Элия Камилла многое мне рассказала, чтобы все это объяснить. Как дедушка, Камилл жил в Вифинии, частично, чтобы сэкономить деньги, когда у семьи их было мало. Как он бережно хранил приданое жены на протяжении двадцати пяти лет, чтобы найти средства для обеспечения отцу места в Сенате…
— Так как вы с сестрой Элией все это объясняете? — спросил Публий. Судя по голосу, он был заинтригован, тем не менее, в его тоне слышалась обычная усмешка.
— Ты знаешь папу, — серьезно говорила Елена. — Он не зачинщик, не подстрекатель и не смутьян. Не исключено, напряжение от ответственности, которую он считал выше, чем могут позволить его таланты, привело его к какому-то дикому политическому поступку. Если наш Гней, используя положение зятя, как-то надавил, папа мог оказаться уязвимым. Может, Гней использовал шантаж. Затем мой отец пытался отвести от семьи позор, но таким образом оказался втянутым в дело уже так, что из него не выйти. Пока я все еще была замужем, он, вероятно, каким-то образом надеялся меня защитить. Как сказал бы Фалько, у каждого человека есть свои слабости.
— А-а, снова Фалько! — теперь в голосе Публия появилось почти не скрываемое презрение, с которым он всегда общался со мной. — Фалько подошел опасно близко. Если нам и удастся что-то спасти из всего этого, то нам необходимо указать этому молодому человеку новое направление.
— О, это я уже пыталась! — Елена Юстина странно улыбнулась. У меня внутри все похолодело. По ноге пробежала дрожь.
— Я так и думал! — откровенно хмыкнул Публий. — Ну, это наследство для тебя — неожиданная награда. Что ты с ней будешь делать, сбежишь с другом Фалько?
— Поверь мне, Дидий Фалько не поблагодарил бы тебя за это предложение, — гневно выкрикнула Елена как та девушка, с которой я познакомился в Британии. — Его единственная цель в жизни — это избавиться от меня, как только сможет.
— Правда? Мои шпионы говорят мне, что он смотрит на тебя так, словно ревнует к тому воздуху, которым ты дышишь.
— Правда? — саркастически повторила Елена, затем ядовито спросила:
— И что это за шпионы, дядя?
Дядя ей не ответил.
И именно тогда, думая, что Елена может раскрыть свои чувства ко мне, разрываясь на части от страха и желания, я не смог удержаться и очень громко чихнул.
* * *
Не было времени отступать по проходу, поэтому я придал лицу самое беззаботное выражение и проскользнул в склеп.
— Твой зеленый перец высшего качества! — поздравил я Елену, чтобы скрыть истинную причину чихания.
— О, Фалько! — я надеялся, что заметил блеск в ее глазах, словно она радостно приветствовала меня, тем не менее, судя по голосу, она сильно разозлилась. — Что ты здесь делаешь?
— Насколько я понял, ты меня пригласила.
— Насколько я поняла, ты отказался со мной пойти.
— К счастью для тебя, когда третий пятилетний ребенок ударил меня по голени маленьким башмаком с железными набойками, семейный долг стал надоедать. Именно здесь Атий Пертинакс обычно хранил мелкую наличность?
— Это склад шафрана, Фалько.
— Я должен не забыть построить такой же, когда буду проектировать себе виллу в сельской местности. Не могу ли я получить полпинты малобатра? Хочется сделать подарок одной особенной знакомой девушке.
— Только ты можешь сделать комплимент женщине и польстить ей подарком, который вначале у нее украл, — заметила, Елена.
— Я так надеюсь, — весело согласился я. — Если повезет то я — единственный, кто знает, что на самом деле для тебя лучше всего подходит.
Все это время ее ухмыляющийся дядя наблюдал за нами обоими. У меня было достаточно здравого смысла, чтобы подумать, будто он надеется научиться у меня технике обольщения.
— Молодой человек, — обратился он ко мне слабым голосом, — а все-таки почему вы сюда зашли?
Я улыбнулся широко и невинно, как деревенский дурачок.
— Ищу серебряные слитки!
Теперь, после того как я нашел слитки, я пересек комнату, чтобы их осмотреть и поздоровался с ними, дружески ударив по ним ногой, как сделал бы любой раб с серебряных рудников. У меня заболел большой палец, но это меня не волновало. По крайней мере, я теперь точно знал, что эта призрачная масса реальна. Когда я наклонился, чтобы потереть ушибленную ногу, моя рука коснулась небольшого предмета, спрятанного под платформой с выложенными слитками. Этим предметом оказалась простая латунная чернильница, я ее поднял, содержимое которой давно высохло. Мы все втроем уставились на нее, но никто не произнес ни слова. Я медленно опустил чернильницу в карман туники, после чего вздрогнул.
Елена Юстина заговорила с намеком на драматизм и напряженность.
— Ты зашел на чужую территорию, Фалько. Я хочу, чтобы ты ушел.
Я повернулся. Наши глаза встретились, и я внезапно почувствовал знакомый подъем. Настроение улучшилось. Я также был уверен, что мы — партнеры, участвующие в одном фарсе.
Теперь нас в склепе было трое, и снова возникло напряжение. Создавалось ощущение, будто решаешь геометрическую задачку, в которой элементы или отдельные части, расположенные в определенном порядке, позволят нам получить фигуру, если строго исходить из правил Эвклидовой геометрии. Я улыбнулся госпоже.
— Я наконец понял, что нескольких бочонков мускатного ореха недостаточно, чтобы большой сточный канал постоянно обваливался. Однако свинцовых брусков достаточно! Политический заговор провалился, поэтому главарь, вероятно, собирается взять слитки себе. Я также понял что он отправится к слиткам, а затем сбежит. Во дворе стоит аккуратный ряд повозок, на которых можно перевозить тяжелый груз. Я предполагаю, что они должны покинуть двор, груженые серебром, сегодня ночью после вечернего звона. А когда этот негодяй за ними придет, я буду здесь.
— Фалько! — в бешенстве закричала Елена. — Это мой отец. Ты не можешь его арестовать!
— Тит может. Тем не менее в случае государственной измены мы освобождаем сенаторов от неудобства публичного суда, — сухо заметил я. — Достопочтенный сенатор может ожидать получения уведомления с предупреждением, чтобы у него было время аккуратно упасть на меч в тишине его родного дома…
— Доказательств нет, — заявила Елена.
— Большое количество косвенных доказательств всегда указывало на Децима, — печально возразил я, — с самого первого случая, когда он добровольно вызвался помочь другу претору, до того как на нас с тобой была устроена засада, и до неприятного типа, которого поселили у меня в квартире, пока твой отец платил за мою квартиру… Кстати, мне интересно, госпожа, а почему ты никогда не упоминала о существовании этого склепа? Что собираешься делать — позволить отцу сбежать с серебром? Какая преданность! Ты определенно произвела на меня впечатление!
Она молчала, поэтому я повернулся к ее дяде, продолжая играть роль простака.
— Несколько неожиданный поворот для вас, господин? Ваш высокопоставленный брат назван казначеем Домициана…
— Заткнись, Фалько, — произнесла Елена, но я продолжал говорить.
— Присутствующая здесь госпожа, которая так восхищается императором, и будет оформлять все документы по хранящимся грузам, тем не менее, она кажется вполне готовой позволить своему бедному отцу доить монетный двор… Елена Юстина, ты знаешь, что не можешь этого, сделать.
— Ты ничего обо мне не знаешь, Фалько, — пробормотала она очень тихо.
Я резко развернулся, возможно, более резко, чем собирался.
— О, душа моя, я хотел это выяснить!
Я отчаянно пытался увести ее отсюда, пока дело не приняло крутой оборот. Я не сомневался, что вскоре так оно и будет.
— Господин, это не место для дамы, — обратился я к ее дяде. — Вы прикажете своей племяннице его покинуть?
— Это ей решать, Фалько, — Камилл поджал губы привычным образом и выглядел безразличным. У него было до странности неподвижное лицо. Я догадался, что он всегда был независимым и самоуверенным и настолько самодостаточным, что это выглядело странным.
Я стоял спиной к холодным сложенным рядами свинцовым брускам. Елена находилась слева от меня, ее дядя — справа. Я видел, что Камилл Метон понимает: что бы я ни говорил Елене, за ним я не переставал наблюдать. Я сделал еще одну попытку.
— Послушай меня, госпожа. Когда мы с тобой находились в Британии, ты сказала, что Сосия сообщила мне имена заговорщиков. Она сообщила.
— Значит, ты мне врал, Фалько!
— Не зная этого. Но теперь я знаю, что перед смертью Сосия выяснила, кто участвовал в заговоре. Доказательства находятся у Тита Цезаря. Поэтому сделай то, что я от тебя прошу, Елена, ладно? То, что случилось здесь раньше, и то, что происходит сегодня, не должно иметь к тебе никакого отношения…
— Ты ошибаешься, Фалько! — наконец вмешался Публий Камилл Метон.
Елена Юстина обернулась легкой накидкой, стараясь согреться. В склепе было прохладно. Публий был одет в тогу, как и любой человек, занимающий положение, во время всеобщего праздника. Тут он сложил руки чуть выше талии, как солдат, выполняющий задание и бессознательно успокаивающий себя тем, что его кинжал и меч все еще под рукой. Он смотрел прямо на меня, пытаясь выяснить, что мне на самом деле известно. Я приподнял одну бровь, приглашая его продолжать.
— Если тебя правильно информировали, то ты должен был понять, что Елена Юстина находилась в центре заговора, поскольку являлась женой Пертинакса! — заявил он голосом, полным мстительности.
Иногда разум работает очень странно. До того, как я даже повернулся к ней, я принял его слова за правду.
* * *
У меня кружилась голова. Наши глаза встретились. Елена не предпринимала попыток это отрицать. С моей неудачливостью я всем сердцем привязался к этой женщине и до этой минуты никогда не сомневался в ее честности!
Она наблюдала за тем, как я принимаю эту новость, в ее в глазах я увидел презрение. Я специально тренировался, чтобы не реагировать заметно для окружающих, тем не менее, понял, что все мои чувства к Елене Юстине полностью отразились на моем на лице. Я не мог изменить выражение лица. Одно страдание приковывало меня к слиткам. Я не мог ее обвинить, даже говорить было тяжело.
Затем в глазах все почернело — кто-то сзади ударил меня по голове. Среди черноты я видел только вспыхивающие огоньки.
Глава 61
«Ничто из того, что она когда-либо говорила мне, не было правдой. Ничто из того, что она когда-либо делала, не было настоящим…» Я оставался без сознания, но все еще видел ее лишенное маски лицо, застывшее в момент, когда она наблюдала за тем, как до меня доходит истина.
Я достаточно пришел в себя, чтобы понять, что лежу лицом вниз, а кто-то — Камилл Метон собственной персоной — связывает мне руки и ноги. Он хорошо поработал, но допустил ошибку — не связал две веревки между собой, как сделал бы я на его месте. Если он оставит меня одного, то я смогу добиться некоторой подвижности.
Странно, как продолжает работать сознание, даже если ты еще не пришел в себя. Я постепенно приходил в себя и теперь слышал возмущенный голос, который задавал вопросы: «Если это Елена, то почему она сказала, что Пертинакс является владельцем корабля с контрабандой? Почему она передала Титу Цезарю имена заговорщиков? Почему она сегодня отправила мне браслет Сосии?..» Вероятно, я застонал.
— Не шевелись, — проворчал Метон.
Я всегда подозревал, что за непримечательной внешностью может скрываться исключительно умный человек. Он выбрал то единственное заявление, которое может меня потрясти до глубины души, затем ударил рукояткой меча. Теперь я видел, что меч валяется рядом. Пытаясь отвлечь Метона, я принялся бормотать себе под нос:
— Я не чувствовал себя так глупо с тех пор, как командир в армии сказал нам, что учения окончены, а потом бросился на нас с мечом, как раз когда мы уходили с тренировочной площадки… Урок состоял в том, что никогда нельзя доверять противнику до тех пор, пока он не превратился в мертвечину… — Подумав, я невинно добавил, — или пока ты его надежно не связал!
Метон стоял прямо надо мной.
— Прости! — извинился он неискренне.
На самом деле притворство закончилось. И у меня не осталось сомнений: в тот момент когда он ударил меня по голове, он признал свою вину.
— Где Елена? — спросил я.
— Я вывел ее наружу.
Я пытался говорить ровным голосом, но от этой новости пришел в отчаяние. Что он с ней сделал? Что он с ней сделает?
— Люди начнут меня искать, Метон.
— Пока нет.
— А тебе требовалось это о ней говорить? — я был в дикой ярости.
— Это имеет значение только, если она имеет для тебя значение…
— О нет! — с удовольствием перебил я. — Это только имеет значение, если я когда-то имел значение для нее.
Метон рассмеялся и поднял меч.
— Ну, Фалько, если ты ее и волновал, то ты сам все испортил.
— О, я все порчу! — с сожалением признал я.
Но я знал лошадь, которая могла бы поклясться, что это неправда.
* * *
Я лежал неподвижно. У меня была мысль, что Камилл Метон вполне может оказаться типом, который врежет мне ногой по ребрам. В этом деле мои ребра и так достаточно пострадали и до сих пор болели. Пока я был рабом, я всегда ждал пинков и тумаков, но рудники и рабство остались в прошлом. Поэтому я почувствовал неконтролируемую панику, нарастающую от одной лишь угрозы драки.
В конце прохода прозвучал тихий свист. Я услышал, как Метон идет к двери. Он обменялся с кем-то несколькими словами прямо за ней, затем вернулся в склеп.
— Мои люди прибыли, чтобы забрать серебряные слитки. Не пытайся ничего предпринимать, Фалько, помни о девушке. Я забираю ее с собой, поэтому ни ты, ни мой брат не должны ничего предпринимать и отправлять за нами преследователей!
Он вышел. Я лежал на полу связанный. Одна неосторожная эмоция стоила мне дела. Пока я потерял серебро, потерял свою женщину, потерял негодяя и, вероятно, до окончания дня мне еще придется распрощаться со своей несчастной жизнью.
* * *
День казался долгим. Кто-то откатил меня в сторону. Затем туманные фигуры выбрали в куче отмеченные бруски. Они работали методично, отбирая проштампованные. Шатаясь, они ходила взад и вперед, вынося эти бруски из склепа. Среди группы я узнал двух головорезов, которые выкрали Сосию из дома. Ни один не проявил ко мне интереса.
После завершения дела стонущие работники покинули склеп и оставили меня и не нужные им свинцовые бруски в кромешной тьме.
Я почувствовал легкие вибрации, затем догадался, что у меня над головой проехали повозки, груженые серебром. Они решили рискнуть, надеясь, что триумф Веспасиана внес сумятицу в заведенные порядки и им удастся проскользнуть по пустынным улицам при дневном свете, несмотря на законы о передвижении грузов ночью. Слабая надежда, которую я лелеял, испарилась. Я надеялся на патруль преторианцев, который мне обещал Тит. Я ждал, что он появится, пока повозки все еще находились здесь. Но никто из стражников не освободится, пока император сегодня вечером не вернется во дворец. И даже тогда будет велика вероятность, что дежурящие сегодня ночью парни предпочтут праздновать…
Петроний Лонг всегда говорил, что преторианцы в любом случае не способны поймать даже блоху.
Я задумался, где же в эти минуты находится сам Петроний Лонг…
* * *
Я лежал на спине. Я начал переваливаться на бок, раскачиваясь все больше и больше, пока, наконец, со стоном не перевернулся на живот. К рукам болезненно приливала кровь. Лицо было выпачкано в пыли, я для порядка выругался несколько раз, затем согнул ноги в коленях и схватился за лодыжки связанными руками.
После того, как эта пытка продолжалась несколько минут, удача для разнообразия оказалась на моей стороне. В результате яростных извиваний мне удалось высвободить нож, который я прятал в левом сапоге сзади. Я почувствовал, как он скатился по ноге и упал на пол.
Я снова выругался, с большим чувством, потом выпрямился с мучительной болью.
Я стал скользить по полу в поисках ножа. Когда я наконец его нашел, начались настоящие проблемы. Я извивался в сторону, затем наполовину опускался на спину, пока после нескольких отчаянных попыток мне не удалось схватить нож пальцами одной руки.
Вероятно, я смог бы перерезать веревку, связывающую лодыжки, не потеряв значительной части ноги, но поскольку я не был акробатом, это не приблизило бы меня к свободе, ведь руки оставались недоступными у меня за спиной. К счастью, люди, которые выносили слитки, так устали к концу работы, что оставили дверь не полностью закрытой. Извиваясь и то и дело обо что-то ударяясь, я смог найти ее по памяти. Мне также помогал сквозняк. Я вставил рукоятку ножа между дверью и косяком. Одним плечом я привалился к двери и принялся разрезать путы, сковывающие мои руки.
Эта хитрая игра закончилась победой Фалько и двумя порезанными запястьями.
Потребовалось много времени, несколько раз я был на грани апоплексического удара, но наконец мне удалось освободиться.
Глава 62
Шум триумфа стал тише, но все равно отвлекал, когда я вышел на поверхность.
Конечно, двор опустел, но я решил осмотреться. Я быстро его пересек и оказался у больших дверей, прислушался, ничего не услышал и украдкой проскользнул внутрь. Я оставался у двери, пока мои глаза привыкали к мерцающему туману из корицы.
Они все еще были здесь! Елена Юстина, приглушенный свет моей разбитой жизни, выглядела почти также измученно, как я себя чувствовал. Она сидела на каком-то тюке, по виду не пострадала, правда была связана. Причина того, что ее скользкий дядя еще не сбежал, сразу же стала очевидна: он забирал запасы ее первоклассных специй. Пертинакс был его партнером, поэтому, как я и предположил, Метон считал, что половина добра по праву принадлежит ему. Он поднял голову и заметил меня.
— Господин! Я не могу позволить вам обокрасть свою клиентку! — закричал я.
Елена мгновенно огляделась, и мы встретились взглядами. Между нами промелькнула искра, но это было только обоюдным укором любовников, словно боль, оттого что ее предали, грызла ее также сильно, как меня.
— О боги, Фалько, неужели ты никогда не сдаешься? — жалобно произнесла она.
У меня дрожали ноги, а пальцы стали липкими от крови. Одним глазом я неотрывно смотрел на ее дядю, а он — на меч, который лежал на бочонке на равном удалении от нас обоих. Можно было сразу же определить, к какому сословию принадлежит Метон, — по небрежному отношению к орудиям труда.
— Нет смысла лежать в темноте и ждать, пока какой-то негодяй не будет готов вонзить клинок мне между ребер…
Метон опустил на пол корзину с перечным зерном, которую наполнял ковшиком. Он увидел, что у меня в руке кинжал.
— Конечно, я использую слово «негодяй» обдуманно, после тщательного рассмотрения всех аспектов дела, — добавил я мягко.
Не отводя взгляда, я принялся расстегивать ремень. Я намотал его на левый кулак, а затем продемонстрировал Метону гагатовый браслет, который свисал с кожаной части.
— Вы кажетесь странно тоскующим по прошлому, господин! Возьмите вот эту вещь, к примеру. Драгоценность Сосии Камиллины…
Он напрягся. Я тихо задал вопрос:
— Зачем вы это взяли? Почему вы это хранили? Что это — чувство победы надо мной или жалость к ней? Трофей или на самом деле напоминание? — Он не ответил, и я бросил ему вызов:
— Или чувство вины? Публий Камилл Метон, ты убил собственного ребенка?!
Елена резко вдохнула воздух.
— Не будь дураком! — воскликнул Метон.
Я потряс их обоих. Произнеся это обвинение вслух, я потряс себя самого.
— Или ее убил Пертинакс? — заорал я, чтобы вымотать Метона. На самом деле я знал, кто это сделал.
— Нет, — тихо ответил он.
— Но ты убил его!
— Не говори глупостей! Это смешно… — я увидел, что он начинает сопротивляться. — Фалько, моя дочь погибла из-за твоего вмешательства…
Его перебила Елена, которая пришла в ярость и внезапно присоединилась ко мне.
— Не обвиняй шута за всю пантомиму!
— Твою дочь убил Домициан, — закипая от ярости и взвешивая каждое слово, сказал я. — Ты очень хорошо это знаешь. Возможно, ты был в ужасе, и я верю, что это так, но ты не мог ничего сказать, потому что это могло бы быть вменено тебе в вину. Ее убил Домициан. Его инициалы стоят на чернильнице, которую, как ты видел, я нашел в склепе. Домициан убил ее. Как я догадываюсь, он там был один. Он действовал поспешно после того, как понял, что она, скорее всего, узнала его лицо. Кто-то — он? Ты? Атий Пертинакс? — перенес ее тело из склепа сюда, вероятно, не ожидая, что тут появится стража с Авентина. Стража с Авентина и я…
Я услышал, как у меня перехватило горло.
— Марк! — воскликнула Елена.
Тогда я точно понял, что он мне врал. Я был абсолютно в этом уверен. Елена Юстина никогда не участвовала в заговоре.
* * *
Я перевел на нее взгляд. Публий начал движение.
— Кто нашел браслет? — этот предмет явно очаровал дядю Елены.
— Я нашла, дядя. Я нашла его сегодня у тебя дома. О, Юнона, в какую ярость ты меня приводишь! Ты думаешь, что другие люди абсолютно бесчувственны. Ты устроил похищение Сосии, твое имя значилось в письме, которое дядя Гай написал Веспасиану. Сегодня я видела, как ты спокойно стоял и позволял мне обвинять папу — папу, который двадцать лет покрывал твой позор! Моя тетя Элия Камиллина рассказала мне правду о твоей молодости в Вифинии, которая была слишком бурной и продолжалась слишком долго, чтобы считаться просто избытком чувств. Твоя публичная карьера в Мавретании окончилась слишком внезапно по причинам, которые никогда не объяснялись. Тебя высылали из одной провинции за другой, а теперь ты не можешь остаться и в Риме. Политические спекуляции, скандал в обществе, нарушение общественного порядка, бесчинства, подозрительные сделки, женщины, Сосия! Ее мать, жена назначенного, но еще не вступившего в должность консула, муж так некстати оказавшийся за границей. Ты предпочел бы, чтобы ребенка бросили в навозную кучу, но, как и всегда, к делу подключился порядочный отец. Жизнь отца была сплошным несчастьем, тебе даже удалось его обмануть, чтобы он согласился на мой брак с человеком, который ему так не нравился! А это тебе требовалось, чтобы убедить Пертинакса помогать в импорте серебра!
Я слышал ее крики и раньше, но никогда в них не было столько страсти, как сейчас.
— Ты считаешь, что никто не мог знать…
— Даже Сосия знала, — вставил я. — Твое имя включено в список, который она передала мне. В список, переданный простому информатору, Метон, твоим собственным ребенком!
Я не видел оснований сообщать ему, что Сосия стерла его имя.
Метон переводил взгляд с Елены Юстины на меня, затем тихо засмеялся, как никогда не делал раньше. На мгновение я увидел красоту, на которую обращал внимание раньше, во время похорон Сосии. Я понял, что когда он хотел и старался, он мог привлекать женщин.
— Отличная команда! — похвалил он нас.
Это было правдой. И мы всегда ею были. В этом деле мы сформировали истинное партнерство. И теперь мы вместе сражались с ним.
— Жизнь среднего класса не для меня, — фыркнул он. — Жизнь, основанная только на высоких моральных принципах и больше ни на чем, меня не устраивает! Она не для меня. Быть пойманным в капкан среди третьесортных сборщиков налогов, освобожденных из рабства секретарей, командующих британского флота! Тяжелая работа за маленькое жалованье или борьба в торговле. Никаких церемоний за границей, никакой роскоши или власти дома…
Если он сожалел об этом, то меня это не впечатляло. Я гневно посмотрел на него со всей ядовитостью усталого человека с Авентина, живущего в многоквартирном доме.
— Ты никогда ни в чем не нуждался, — прорычал я. — У тебя был комфорт, и ты всю жизнь мог жить в свое удовольствие. Чего ты хочешь?
— Роскоши и власти! — признал он, не моргнув глазом.
Елена Юстина внезапно встала. Ее голос звучал звонко и четко.
— Тогда забирай серебро. Пусть это будет мой подарок за моего несчастного, пребывающего в постоянном беспокойстве отца. Забирай его. Уезжай прочь и никогда больше не беспокой его или кого-либо из нас вновь.
Это был смелый поступок, это был риск, и я понял теперь, чего раньше пыталась добиться моя принципиальная честная красавица. Как и ее отец, она пыталась спасти репутацию своего дяди, даже на его условиях. Она попала в болото, и путы семейного долга и семейных обязательств, в сравнении с которыми мои мелкие пререкании и стычки с собственными родственниками казались смешными.
— Твой отец, обуреваемый муками совести, ничего мне не оставил… — заговорил Публий.
Это был обманный маневр. В то же самое мгновение и он, и я бросились вперед к месту, где беспомощно стояла Елена Юстина. Она понимала, что находится в опасности. Метон понял, что я предусмотрел этот шаг, и вместо Елены прыгнул к мечу. Я увидел, как он меняет направление, и молнией ринулся за ним.
Глава 63
Как только я бросился на него, я понял, что он умеет бороться. В некоторых сомнительных и подозрительных частях империи он научился уловкам, которые господину среднего класса знать не положено. К счастью для меня, я не принадлежал к среднему классу.
Драка была яростной. Более того, Метон относился к типу людей, которые считают, что противника отвлекает рев. Поэтому он много ревел и рычал, и очень активно размахивал оружием, независимо от того, послужит ли какой-то цели наносимый удар или нет. Меня это не волновало. Вскоре я сам принялся вопить. Мы скакали по проемам между перцем и специями, ударялись о бочонки и тюки, и вскоре оба жадно хватали ртом воздух. Я радовался, что у Елены Юстины достаточно здравого смысла, чтобы не путаться под ногами.
Я сражался со сбившимся с пути младшим братом сенатора в этом мрачном, пронизанным острыми запахами месте на протяжении получаса. Вываливая дорогое наследство Елены себе под ноги и безжалостно его топча, мы продолжали биться. У нас обоих слезились глаза. Вероятно, Публию было ближе к пятидесяти, но его отличал высокий рост, типичный для их семьи. Ничего не выражающее лицо выводило из себя. Я не видел никаких непроизвольных реакций, которыми мог бы воспользоваться, нельзя было ввести его в заблуждение, сбить с толку, обмануть.
У него имелось оружие лучше моего, более длинное, хотя это меня беспокоило меньше всего. Я на протяжении многих лет тренировался как раз для подобных схваток в гимнасии у Глаука. Однако Метон тоже тренировался. И где бы он ни проходил подготовку, в том месте считали, что противнику следует перерезать подколенное сухожилие, вообще посильнее покалечить, а еще лучше попасть пальцем в глаз. По крайней мере, я подготовился к тому, чтобы удерживать его на расстоянии, размахивая снятым с пояса ремнем. Затем, когда Метон подошел слишком близко, я обвязал ремень вокруг предплечья, как делают гладиаторы, чтобы отразить выпады клинка.
Метон был в хорошей физической форме. Я устал. Мы в третий раз проскочили мимо Елены, я постарался не встречаться с ее обеспокоенным взглядом. Я знал, что со стороны, вероятно, кажется, что я прилагаю массу усилий, и это было вполне нормально. Затем ее дядя расслабился. У меня снизилась концентрация — и внезапно он выбил кинжал у меня из руки. Я судорожно бросился за оружием, головой вперед, затем меня качнуло в сторону — и я рухнул на пол, распластавшись по нему, мне в ладони и колени врезались рассыпанные по полу перчинки и специи.
Я все еще оставался на полу, лежал на животе и был готов перекатиться с поднятой вверх рукой, но знал, что, вероятно, уже слишком поздно. Елена Юстина стояла так тихо, что мы с Метоном про нее забыли. Ее дядя понесся ко мне с высоко поднятым мечом, ужасающе кричал. Когда он несся, связанная Елена всем своим весом надавила на бочонок, за который я ее затолкнул в начале драки. Бочонок рухнул. Содержимое вывалилось и раскатилось на много ярдов вокруг по твердому полу склада.
Не было времени ее благодарить. Я подогнул одно колено и быстро встал, затем перебрался через рухнувший бочонок. Метон вскрикнул и пошатнулся, когда крошечные, твердые, как железо шарики под его ухоженными ступнями, во все больших количествах стали забиваться в обувь. Более того, ему было больно на них ступать в мягкой обуви. Мои же мозолистые ноги оказались обуты в сапоги с тройными подошвами, толщиной с дюйм. Я легко продвигался вперед по мускатным орехам и легко отбрасывал их ногами. Затем, до того, как Метон пришел в себя, я нырнул ему под гарду и врезал рукояткой ножа по запястью. Он выронил меч. Чтобы удостовериться, я еще подтолкнул его плечом подальше от клинка.
Елена Юстина отшвырнула меч в сторону.
* * *
— Не двигайся! — ублюдок пошевелился. — Все закончено! — выдавил я из себя. — Не двигайся. Все закончилось…
Я освободил Елену.
— Неплохо, — выдохнул Метон. — Для… грязного грубияна из трущоб Субуры! — Мне нечего терять. Не двигайся! — я знал этот тип людей. Этот мужик будет доставлять мне проблемы до тех пор, пока за ним не захлопнется дверь камеры. — Не выводи меня из себя, Камилл!
— Что теперь, Фалько? — быстро спросила Елена.
— Во дворец. Решение будет принимать Веспасиан.
— Фалько, ты дурак! — воскликнул Публий. — Давай разделим с тобой серебро, как и специи. И девчонка, Фалько…
Тогда я разозлился. Один раз он распорядился ее судьбой, чтобы это подходило его низменным целям. Тогда он выдал ее замуж за Пертинакса. Но это больше никогда не повторится.
— У твоей племянницы ужасный вкус, но все-таки не такой ужасный! Игра закончена. Стража с Авентина блокирует Остийскую дорогу и обыскивает все, что по ней движется — от корзины, с которой старушка ходит на рынок, до вьюков на верблюдах. Петроний Лонг не пропустит незаконный караван повозок. Это серебро — твой смертный приговор…
— Ты врешь, Фалько!
— Не суди меня по своим стандартам. Пора идти.
* * *
Отец Сосии (а он на самом деле был отцом Сосии), и, я думаю, он знал: я никогда этого не забуду, повернул ко мне открытые ладони. Это унылый жест гладиатора, который потерял оружие и признает поражение.
— Позволь мне самому выбрать свой путь.
— Что? — фыркнул я. — Ты выбираешь смерть, руководствуясь высокоморальными принципами, которые презирал всю жизнь? Предатель из среднего класса — и слишком благороден для виселицы?
— О, Марк… — прошептала Елена. В это мгновение я впервые услышал скрип большой двери. — Позволь человеку воспользоваться гражданским правом, — умоляла она. — Дай ему шанс. Посмотри, как он им воспользуется. Позволь мне дать ему меч…
Она сделала это до того, как я смог ее остановить, ее честное красивое лицо с блестящими глазами было ясным как день. Конечно, он сразу же приставил меч к ее нежному горлу.
У Камилла Метона было не больше чести, чем у жалящей крапивы, а девушка подошла слишком близко. Он запустил руку глубоко в ее мягкие волосы и заставил Елену опуститься на колени. Она посерела. Одно движение кого-то из нас — и он резанет ей по шее, словно отрезая кусок копченой испанской ветчины.
— Отпусти ее… — приказал я ему ровным голосом, пытаясь удержать его взгляд.
— О, Фалько! Это твое по-настоящему слабое место!
— Нет — моя сила.
Елена не сопротивлялась и молчала. Она неотрывно смотрела на меня. Я сделал шаг.
— Не приближайся!
Он стоял между мной и дверью. Таким образом у него было лучшее освещение, а у меня — лучший обзор.
— За спиной, Камилл!
— О боги! — фыркнул он. — Только не эта старая уловка.
— Партнер! — крикнул я громким голосом. — Тебе потребовалось много времени.
Елена вскрикнула, когда дядя причинил ей боль, безжалостно дернув за волосы. Таким образом он пытался вывести меня из себя. Это было его ошибкой. Я не сводил с него глаз из-за Елены, но, в конце концов, он услышал яростный топот ног.
Он начал оборачиваться.
— Твой ход! — крикнул я.
Публий дернулся. Я прыгнул вперед и вырвал у него Елену. Я развернул ее и прижал лицом к груди.
Она прекратила сопротивляться раньше, чем все закончилось. Она все поняла. Я очень нежно ее отпустил, затем прижимал к себе, пока срезал веревки, и только потом позволил ей взглянуть…
Ее дядя был мертв. Возле него в луже крови лежал меч, но не его собственный, а его палача.
* * *
Сенатор Децим Камилл опустился на колени. Мгновение его глаза были плотно закрыты. Не поднимая головы, он обратился ко мне голосом, которым разговаривал в гимнасии Глаука, где мы были приятелями.
— Чему нас учит твой тренер, Марк? Чтобы убить человека мечом, требуется сила, скорость и истинное желание видеть его мертвым!
Честный Глаук на самом деле обычно так и говорил. Децим нанес хороший сильный удар, в который была вложена душа, но я никогда ему этого не скажу.
— О, брат мой, здравствуй и прощай!
* * *
Все еще обнимая его дочь одной рукой, я подошел к Дециму и предложил ему другую руку, чтобы подняться. Елена, продолжая прижиматься ко мне, повисла на шею отца. Я обнял их обоих. Мгновение мы втроем были равны, мы делили огромное облегчение и боль.
* * *
Мы продолжали стоять вместе, когда прибыли преторианцы. Петроний Лонг появился в дверном проеме, белый как молоко. За его спиной я слышал грохот возвращающихся повозок.
Похоже, шума было много. Высокопоставленные лица взяли дело в свои руки, все запуталось, началась суматоха. Люди, которые не играли никакой очевидной роли в событиях дня, поздравляли себя с завершением дела. Я медленно вышел наружу, чувствуя невероятную усталость. Мое лицо напоминало маску актера с вырезанными отверстиями для глаз.
Склад опечатывали с телом внутри, на ворота, ведущие во двор, навесили цепь. Децима отвели во дворец для объяснений. Я видел, как его дочь провожают к паланкину. Мы не разговаривали. Преторианцы знали, что у информатора — даже императорского информатора — не может быть никаких дел с сенаторской дочерью.
Метон меня ранил, и на лице Елены Юстины осталась моя кровь. Она хотела видеть меня рядом, я знал, что хотела. Она пострадала, получила ушибы, была потрясена, тем не менее, я не мог к ней подойти.
Если бы Елена подала хоть малейший знак, то я бы оттолкнул в сторону всех преторианцев, но она этого не сделала. Я стоял в растерянности. Стража провожала ее домой.
Наступила ночь. В Риме творились дурные дела, раздавались злобные и жуткие крики. Над Капитолием прокричала сова. Я услышал грустные звуки флейты, прорезающие городские улицы. Флейта пела о несправедливости мужчины к женщине, про несправедливость богов к людям.
Петроний Лонг стоял рядом, не произнося ни звука. Как мы оба знали, дело о серебряных слитках успешно закончилось.
Глава 64
Это был Рим. Требовалось соблюсти формальности. В ту же самую ночь, пока Веспасиан развлекал фаворитов и счастливчиков на устроенном им пире во дворце, а весь Рим ужинал семьями и трибами в других местах, меня потащили на Палатин для разговора с его сыном. Тит Цезарь, знаменитый своими милостями и любезностями, поздравил Камилла Вера, Петрония Лонга и меня. Сенатор был слишком сильно потрясен, чтобы возражать. Елена Юстина молча стояла рядом с матерью, лица обеих скрывали покрывала. Но даже и так я мог определить, что Елена пребывает в мрачном настроении, она чем-то напоминала мертвую медузу.
Особым событием дня должно было стать вручение М. Дидию Фалько золотого перстня, четырехсот тысяч сестерциев и перевода в средний класс. Щедрый жест от молодого Цезаря, который любил творить добрые дела.
* * *
М. Дидий Фалько, славящийся дурным характером, поведением и неблагодарностью, легко и беспечно оправдал свою репутацию замечательного информатора. Я подумал о том, что это означает не просто получение земли и разряда, но также изменение образа жизни. Флавий Иларий по-своему вспахивает полезную борозду и наслаждается спокойными, уютными домами с женой, которую сильно любит. Я смог бы, как и он, жить той жизнью, которую выберу, среди людей, которые мне нравятся. Я знал, что смогу преуспеть.
Затем я вспомнил Сосию. Сосию, которая умерла и у которой теперь нет даже отца, чтобы просить богов нежно с ней обращаться.
— Значит, это ваша премия за работу по контракту! — обратился я к Титу Цезарю. — Оставьте ее себе, Цезарь. Я ее не заслужил. Меня наняли, чтобы найти человека, убившего Сосию Камиллину…
В ушах у Тита все еще звенели радостные крики и приветствия, с
которыми его встречали в Риме, и он весь день пребывал в радостном настроении, но все равно немного поморщился после произнесения мною этих фраз. Присутствовало несколько официальных лиц, но я сделал ему одолжение и не стал называть имя Домициана. Это имя я не хотел произносить больше никогда.
— Дидий Фалько, Веспасиан лично закрыл этот счет! — осторожно заметил Тит.
— У меня он никогда не будет закрыт, — холодно ответил я на метафору.
— Вероятно, нет. Я это понимаю. Поверь мне, мы все сожалеем о смерти этой бедной девушки. Фалько, попытайся в ответ проявить понимание. Теперь Риму требуется верить в свою первую семью. Императоры должны устанавливать свои правила…
— Именно поэтому, господин, я — республиканец!
Я был возбужден, но Тит не пошевелился. Он задумчиво смотрел на меня, затем обратился к сенатору. С усилием, явно вызванным печалью и измождением, а не антипатией ко мне, попытку предпринял и Децим.
— Марк, ради моей дочери…
Но я прямо сказал сенатору, что его дочь, прекрасный чистой души человек, явно заслуживает большего, чем побитый, подкупленный, только что получивший взятку за молчание информатор.
Он довольно хорошо это принял. Вероятно, он соглашался. Гарантирую, что его жена согласилась. Если это и не было его собственным мнением, когда я начал его оскорблять, то теперь оно не могло у него не сложиться. Для завершения процесса, я присовокупил в конце:
— Сенатор, не позволяйте вашим суждениям сложиться под впечатлением одного мгновения, от которого кружится голова.
Затем я развернулся и отправился прямо к его дочери, прямо в общественную приемную. Слава богам, что на ней было покрывало. Я не смог бы это сделать, если бы мне пришлось видеть ее лицо.
— Госпожа, вы знаете, как обстоят дела: каждое дело — девушка, новое дело — новая девушка. Тем не менее я привез домой подарок для украшения вашего пальчика: Ex Argentiis Britanniae. Подарок благодарного раба с серебряных рудников.
Я вручил Елене Юстине серебряное кольцо. У меня не будет больше возможности ее увидеть, поэтому я сегодня вечером забрал его у серебряных дел мастера. Внутри был выгравирован один из дешевых девизов ювелиров, которые не значат ничего или значат очень многое, в зависимости от твоего настроения. Anima Mea…
Я знал, что безнадежен. Я отказался от нее публично, затем навесил этот груз на ее одиночество. Это не было моей виной. Серебряных дел мастер не получил никаких указаний, поэтому выгравировал то, что ему понравилось. Увидев гравировку, я не мог заставить себя попросить что-то изменить.
И, в конце концов, ведь девиз был настоящим. «Anima Mea» — моя душа.
* * *
Я поднял ладонь Елены Юстины, положил в нее подарок и плотно сжал пальцы девушки. Подарок остался внутри. Затем, не глядя ни на кого, я ушел.
Глава 65
Я отправился на набережную. Я шел мимо закрытых кабинок кукольников на пустынный променад. Тут я однажды гулял с Еленой Юстиной. Туда я иногда я отправлялся в одиночестве. Теперь было темно, но мне хотелось темноты. Я закутался в тогу, прислушивался к звукам ночного Рима и боролся с паникой от содеянного.
Я стоял в полном одиночестве на высоте, над Римом. Дул холодный ветер. Издалека доносилась музыка, которая то прерывалась, то звучала вновь, я слышал, как топают ногами часовые, до меня доносились взрывы смеха, а время от времени зловещие крики.
Когда я снова успокоился, а это произошло после того, как я очень сильно замерз, я спустился вниз.
* * *
Я отправился назад во дворец и снова попросил аудиенции у Тита. Теперь было очень поздно. В коридорах меняли направление высокие тени, а несколько слуг, которых я смог найти, сплетничали и испуганно поднимали головы, когда их отвлекал призрак с белым лицом.
Похоже, никто не находил мое присутствие странным. Похоже, никому не было дела. Иногда подобное случается в официальных учреждениях после того, как на службу заступает ночная смена. Обычно происходит так мало событий, что люди радуются любому изменению рутины.
Меня пропустили сквозь многочисленные помещения, от богато украшенных до довольно простой приемной, которую я не видел никогда раньше. Кто-то зашел во внутренние покои, и я услышал, как мое имя произносит тихий голос, не проявляющий любопытства. Мгновение спустя, вышел веселый чудной старикан в домашних тапках, за ним мелкими шажками следовал мужчина, который меня привел. Провожатый исчез почти сразу же. Старик внимательно меня осмотрел.
— Оба молодых Цезаря уже в постели. Я подойду?
На нем была помятая пурпурная туника, никакого ремня. Этого крупного мужчину плотного телосложения, примерно шестидесяти лет отличали широкие плечи и здоровый вид. Лоб прорезали глубокие морщины, смотрел он открытым взглядом. Каким-то образом то, что он обходился без церемоний, запросто, способствовало его теперешнему влиянию. На протяжении лет он привык вести за собой людей только силой своей личности. У него это прекрасно получалось. Будь проклят этот ублюдок от больших пальцев ног до тонких волос на голове, но мне он сразу же понравился.
Я знал, кто это. Это был император Веспасиан.
Я решил, что лучше ответить вежливо, и сказал, что он сойдет.
* * *
Он смотрел на меня снисходительно и явно забавлялся, затем жестом пригласил меня войти. Он работал в небольшой комнате, которая стала уютной благодаря удачно расположенным светильникам. Веспасиан занимался двумя аккуратными стопками писем. Создавалось впечатление очень хорошей организации труда. Мне самому хотелось бы работать в таком кабинете.
— Значит, ты и есть Фалько. Выглядишь ты немного нездорово. Хочешь выпить вина?
— Нет, спасибо. Я просто немного замерз. Пожалуйста, не беспокойтесь.
— О-о, никакого беспокойства! — весело воскликнул Веспасиан. — В коридоре ждет неограниченное количество тех, в обязанности кого входит подносить кубки и разливать вино. Они ждут возможности показать свое мастерство… — Я все равно покачал головой. К моему удивлению, он продолжал болтать. — Тех, кто что-то приносит и что-то уносит. Каждый из них — большой специалист своего дела. Если хочешь, вероятно, можно среди них найти раба, мастера чистки пупков. У него окажется специальный передничек чистильщика пупков и специальное приспособление с украшенной жемчугом ручкой.
Похоже, он успокоился.
— Можно прекрасно отдохнуть и расслабиться в таком окружении, господин, — с серьезным видом устало заметил я.
— Я перестал расслабляться, как только увидел, сколько денег уходит на выплату жалованья, — горько ответил Веспасиан.
Он посмотрел на меня глубоко посаженными глазами, и я понял, что если мог справиться с Титом, с этим человеком справиться не могу.
— Я слышал про твое кривлянье в связи с оплатой.
— Я не хотел никого оскорбить, господин.
Веспасиан молчал. Мне показалось, что взгляд и напряженный вид, которыми он так славился, легко могли быть результатами многолетних усилий по сдерживанию смеха в общественных местах. Однако теперь он не смеялся.
— Ты оскорбил свой собственный ум, которым несомненно обладаешь! — Я люблю прямых людей. Пусть лучше будет так. — Так с чем же связана эта твоя последняя пантомима? — более спокойно спросил император.
Именно тогда я объяснил Веспасиану, зачем пришел сейчас во дворец и чего надеюсь добиться.
Я рассказал ему историю и признался, что мне очень жаль. Я попросил второго шанса. Он спросил, зачем он мне. Я пояснил, что из-за нее, он дал отрицательный ответ.
И тогда я спросил: что нужно сделать? Но он снова ответил нет.
* * *
Это было не то, что я ожидал, совсем не то, что я ожидал.
После этого Веспасиан предложил мне работу. Пришел мой черед отвечать отрицательно. Я указал, что он не любит информаторов, а я не люблю императоров, поэтому едва ли мы подходим друг другу. Веспасиан объяснил, что неприязни к информаторам как таковым у него нет, чего нельзя сказать о работе, которую они выполняют. Я признался, что примерно то же самое чувствую насчет императоров.
Он долго смотрел на меня, хотя не казался особо расстроенным.
— Значит, этот визит связан с дочерью Камилла? — Я ничего не сказал. — Я не верю в связи между представителями разных сословий. Они вредны. Сенаторская дочь обязана уважать честь своей семьи. Меня считают старомодным, — заметил император.
Я едва ли мог этого не знать, поскольку весь Рим говорил о том, что сам Веспасиан на протяжении практически всей жизни имел связь с освобожденной рабыней, которая впервые стала его любовницей сорок лет назад. Говорили даже, хотя это и казалось маловероятным, что он теперь притащил это верное старое тело с собой во дворец.
— Господин, с должным уважением к вам я не стану расспрашивать вас по этим вопросам, поэтому не ожидаю, что мне придется отвечать за себя.
Я думаю, что на этот раз он оскорбился, но через несколько секунд улыбнулся.
— Тит говорит, что она кажется разумной девушкой.
— Я тоже так думал, пока она не связалась со мной! — резко ответил я.
— Мой старый друг Иларий был бы категорически не согласен, — запротестовал Веспасиан, опровергая мое утверждение. — Я никогда не спорю с Гаем, это ведет к слишком большому количеству бумажной работы. Он о тебе хорошего мнения. И что я ему скажу теперь?
Я смотрел на императора, а он смотрел на меня. Мы достигли соглашения. Он просто сидел со сложенными на груди руками, пока я представлял свою идею. Он включит меня в список претендентов для перехода во второй разряд. И он включит меня во второй разряд после того, как я сам заработаю деньги, которые требуются для этого.
Я обязался заработать — и сберечь — четыреста тысяч золотом.
* * *
Перед тем, как уйти, я настоял еще на одной вещи.
— Я хочу, чтобы вы это увидели.
Я достал чернильницу, которую нашел в склепе с шафраном. Я извлек ее из кармана вместе с несколькими горошинами перца. Император повертел ее на ладони большой руки. Это была обычная чернильница, простой формы, с крышкой. На дне было аккуратно выцарапано: Т ФЛ ДОМ, инициалы младшего сына Веспасиана.
До того как он успел что-то сказать, я ее забрал.
— Поскольку она не потребуется в суде, я оставлю ее у себя, как память об этом деле.
Отдать должное Веспасиану, он на самом деле позволил мне ее забрать.
* * *
Я отправился домой. Когда я спускался с Палатина, над Римом уже царила ночь. Везде вокруг меня город спал и напоминал серию глубоких черных прудов между тусклыми огнями на вершинах семи холмов. Я пошел по спящим улицам и наконец добрался до знакомого убожества и запустения родных кварталов и мрачной квартиры, где я жил и куда однажды привел девушку по имени Сосия Камиллина.
Это был худший день в моей жизни, но, войдя к себе, я понял, что он еще не закончился. Дверь на балкон оказалась приоткрыта. Когда я вошел, в комнату ворвалась струя холодного воздуха — получился сквозняк. Кто-то меня ждал, притаившись на балконе.
Глава 66
Мама никогда не приходила так поздно. Петроний подозрительно относился к пребыванию на улице в ночное время. Я решил, что поджидающий меня там человек точно не относится к тем, кого бы мне хотелось видеть.
* * *
На первые гонорары от сенатора я купил несколько керамических ламп, теперь я их все впервые зажег, чтобы стало очевидно: я вернулся домой и больше никуда не собираюсь. Я не сводил глаз с балконной двери, разделся, налил себе тазик воды и вымылся, чтобы запах богатства и упадка исчез с моей холодной кожи. Я зашел в спальню, производя много шума, нашел чистую тунику, которую любил, затем расчесал волосы. Они до сих пор оставались слишком короткими, чтобы виться.
Все это время тот, кто скрывался на балконе, продолжал ждать снаружи.
Я хотел лечь. Я отправился назад в гостиную, взял одну лампу, затем направил усталые ноги на балкон. Я был полностью изможден и совершенно безоружен.
* * *
Воздух был теплым, давно стемнело, время от времени слабые шумы города вдруг становились резкими. Иногда отдельные звуки долетают до шестого этажа, а поскольку они вырваны из общей массы, то кажутся странными.
— Да, это зрелище!
Она стояла у балюстрады и смотрела в ночь, но когда я заговорил, она развернулась. Миндалевидные глаза цвета корицы на нежном белом лице. Только боги знают, сколько времени она там стояла, и какие сомнения ее одолевали, пока она ждала моего возвращения домой.
— Сосия писала мне про вид у тебя с балкона.
— Не про вид, — сказал я.
И продолжал неотрывно смотреть на Елену.
* * *
Она стояла там, а я стоял здесь, она в темноте, а я со своей лампой. Ни один из нас не был уверен, остаемся ли мы друзьями. Из ночи стали прилетать обеспокоенные мотыльки. Когда-нибудь мы поговорим о том, что случилось, но не теперь. Вначале нам требовалось многое восстановить в наших отношениях.
— Я думала, что ты никогда не придешь. Ты пьян?
По пути домой я заглянул несколько питейных заведений, открытых всю ночь.
— Я быстро трезвею. А ты давно ждешь?
— Давно. Ты удивлен?
Я задумался об этом. Нет. Зная ее, я не был удивлен.
— Я считал, что никогда больше тебя не увижу. Что я могу сказать, госпожа?
— Теперь, после того, как ты публично плюнул мне в глаза, тебе, вероятно, следует называть меня Елена.
— Елена, — покорно пробормотал я.
Мне нужно было сесть. Я опустился на скамью, которую использовал для мечтаний на открытом воздухе, и застонал от усталости.
— Ты хочешь, чтобы я ушла, — неловко сказала она.
— Слишком поздно, — ответил я, повторяя то, что говорил в другой день, другой гостье. — Слишком темно. Слишком рискованно… Я хочу, чтобы ты осталась. Сядь рядом со мной, Елена. Посиди с мужчиной у него на балконе и послушай ночь!
Но она осталась там, где стояла.
— Ты был с женщиной?
Было слишком темно, и я не видел ее лица.
— Я занимался делами, — заявил я.
Елена Юстина отвернулась и снова стала смотреть на город. Мои ребра были перевязаны тугой повязкой, и она давила и как с той стороны, где я повредил их в Британии, и с той стороны, где у меня ничего не болело.
— Я так рад тебя видеть!
— Меня? — она гневно повернулась. — Или просто кого-то?
— Тебя, — сказал я.
* * *
— О, Марк, где ты был? — на этот раз, когда она задала этот вопрос, ее голос звучал по-другому.
Я рассказал про набережную и про Веспасиана.
— Это означает, что ты работаешь на императора.
Я работал ради нее.
— Я работаю на себя. Но если мне удастся скопить достаточно денег, он согласен включить меня в список претендентов для перехода во второй разряд.
— Сколько времени для этого понадобится?
— Примерно четыреста лет.
— Я могу подождать!
— Это если я откажусь от еды, а жить буду в бочке под мостом Фабриция. Я не позволю тебе ждать.
— Я буду делать то, что хочу.
Елена Юстина потерла глаза рукой, а когда ее ярость утихла, я понял, что она устала так же, как и я. Я протянул одну руку. Наконец она подошла и устроилась рядом. Я положил руку так, чтобы заслонить любимую от грубой стены. Елена сидела напряженно, немного отклоняясь от меня. Я скинул с ее головы капюшон накидки, в которую она была одета, и стал гладить мягкие волосы. Она внезапно закрыла глаза. Теперь я знал, что это означает желание, а не неудовольствие.
Я заправил ей за ухо выбившуюся из прически прядь и тихо сказал, что мне всегда нравилось, как она укладывает волосы.
— Пока я ждала, мне пришлось прогнать трех девок в неприличных платьях, которые слышали, что ты можешь быть богат… — холодно сообщила Елена, притворяясь, что не слышала моих слов.
Я протянул руку и взял ее ладонь в свою. Подаренное мною кольцо было надето! Я этого ожидал. Хотя не ожидал, что оно окажется на среднем пальце левой руки. Приходила твоя мать, — снова заговорила Елена, успокаивающе сжав мои пальцы. — Она считала, что кто-то должен тут остаться. Она предупредила меня, что, в конце концов, ты появишься, замерзший, усталый, пьяный и несчастный, как Цербер. Она считает, что ничего хорошего тебя не ждет, путного из тебя ничего не выйдет. И кончишь ты плохо.
— Она считает, что мне нужна хорошая женщина.
— А ты сам что думаешь?
— Если я такую найду, то разочарую ее.
— Вы можете разочаровать друг друга. Или…
— Или можем не разочаровать! — осторожно согласился я. — Моя дорогая, дело не в этом.
Минуту спустя Елена заговорила опять.
— Однажды ты сказал, что если бы любил меня, это было бы трагедией? А если я люблю тебя?
— Я тебя прощу, если ты можешь простить себя.
Она открыла рот, чтобы ответить, но я остановил ее, нежно прижав один палец к ее губам.
— Не надо. Я этого не вынесу. Ты видела, как я живу. Я никогда не смогу привести тебя сюда. Ты знаешь о моих перспективах — практически нулевые. Я не могу оскорблять тебя обещаниями. Лучше прими ситуацию так, как есть. Лучше ничего не говори. Лучше беги прочь, пока можешь…
— Слишком поздно, — уныло повторила Елена Юстина мои недавние слова.
Я выпустил ее и закрыл лицо руками.
Момент прошел.
* * *
Огромная ночная бабочка ударилась о мой светильник. Она лежала на столе, даже не опалив крылья, хотя и оглушенная. Ее длина составляла два дюйма, по форме она напоминала стрелу катапульты. У бабочки были коричневые крылья с множеством пятнышек, крепко сложенные. И выглядела она такой же потрясенной, каким я себя чувствовал.
Я встал и осторожно взял бабочку краем туники. Можно быть смелым человеком, но не получать удовольствия от трепыхания живой бабочки в вашей голой руке. Елена потушила лампу.
Я опустил бабочку на цветок в ящике у окна. Она немного покачалась, потом успокоилась. Я оставил ее там — пусть воспользуется шансом улететь или утром станет завтраком голубя. Какое-то время я стоял и смотрел на Рим. Момент прошел, но слова Елены останутся со мной. Когда я буду работать в одиночестве и окажусь в тишине, не отвлекаемый никем и ничем, слова Елены будут со мной.
— Марк! — умоляюще произнесла она.
Я повернулся. От стоявших в комнате ламп на балкон падал мерцающий свет. Его было едва ли достаточно, чтобы рассмотреть лицо девушки, но это не имело значения. Я все про нее знал. Один ее вид, даже ссутулившейся и грустной, с испарившейся самоуверенностью, вызывал во мне одновременно панику и возбуждение. Сердце начинало судорожно биться в груди.
— Ты знаешь, что мне придется отвести тебя домой.
— Завтра, — сказала она мне… — Если ты хочешь, чтобы я осталась.
— Я хочу, чтобы ты осталась, — я сделал шаг вперед, преодолевая разделявшее нас расстояние.
Сенаторская дочь посмотрела на меня, и этот взгляд однозначно говорил: она знает, что я думаю, — это был именно такой взгляд. Я находился достаточно близко, чтобы протянуть к ней руку и обнять за талию. Затем я крепче прижал любимую к себе и вспомнил, что это такое — быть рядом с ней, обнимать ее… Мы оба проявили осторожность и действовали с опаской. Я поднял ее на руки. Елена Юстина весила немногим меньше государственного слитка. Ее было не очень тяжело держать на руках, хотя трудно украсть… Мужчина мог перенести ее через порог своего дома, не прекращая глупо улыбаться. Я знаю, потому что сделал это именно так.
Было очень поздно, уже давно миновал час вечернего звона, и грохот грузовых повозок, наконец, начинал стихать. Слишком поздно, чтобы провожать Елену домой или чтобы кто-то из дома ее отца пришел забрать ее у меня. Завтра утром начнется моя обычная жизнь. Завтра мне придется вернуть ее домой.
Но это будет завтра. Сегодня ночью она моя.
Комментарии
ЧАСТЬ 1
Эдилы (лат. ediles) — младшие магистраты, помощники древнеримских трибунов, наблюдавшие за общественными зданиями и храмами, дорогами, рынками и пр. Эта должность была создана в 493 до н. э. одновременно с трибунатом, по всей вероятности, для попечения о храме Цереры. В 366 до н. э. на трибутных комициях, т. е. в народном собрании по трибам, двоих патрициев избрали курульными эдилами. Затем патриции и плебеи сменяли друг друга в этой новой должности, а позднее ее занятие уже никак не регламентировалось происхождением. Курульные эдилы носили тогу с пурпурной каймой, другие знаки почета, на которые они имели право, — курульное кресло и маски предков.
Магистрат (новолат. magistratus «власти, управление») — в Древнем Риме — лицо, занимающее государственную должность, представитель власти.
Авентин — Авентин, или Авентинский холм — один из семи холмов, на которых стоит Рим. По преданию, здесь великан-разбойник Как (Какус) пас свое стадо коров, а Ромул и Рем предсказали основание Рима. На холме находился храм богини Дианы, святилище Латинского союза. В 5 в. до н. э. Авентин был заселен плебеями и сразу возникло противостояние с Палатином, заселенным патрициями. В период их противоборства на Авентин демонстративно удалялись плебеи. При императоре Августе он стал 12-м (или 13-м) районом Рима. В правление императора Клавдия Авентин был включен в черту города и его стали заселять богатые граждане вплоть до захвата Рима Аларихом в 410 г.
Гимнасий (греч. gymnasion) — государственное учебно-воспитательное заведение в древнегреческих городах и на эллинистическом Востоке, получившее наибольшее распространение в 5–4 вв. до н. э. В гимнасий поступали после палестры юноши 16 лет из знатных рабовладельческих семей и до 18 лет занимались в нем гимнастикой, получали литературное, философское и политическое образование.
Кенида — наложница Веспасиана.
Магистратура (новолат. magistartura < magistratus «управление») — государственная должность в Древнем Риме, также совокупность лиц (магистратов) на таки должностях.
Delator (лат.) — доносчик.
Vigilia — караул, преимущественно ночной, охрана, стража.
Форум (лат. forum) — Площадь в Древнем Риме, на которой происходили народные собрания, устраивались ярмарки и совершался суд.
Туника (лат. tunica) — древнеримская одежда, белая шерстяная или льняная, в виде длинной рубашки с короткими рукавами, носилась под тогой. Мужская туника доходила спереди до колен, сзади была длиннее, женщины носили туники до лодыжек, причем обычно надевали две — нижнюю с рукавами и верхнюю без рукавов.
Остия — портовый город Рима в устье Тибра.
Тога (лат. toga, от tego — покрываю) — верхняя одежда древнеримских граждан мужского пол, длинная белая накидка. Тога шилась из куска материи эллиптической формы. Один конец спускался вперед с левого плеча, главная часть покрывала спину, ее пропускали под правой рукой и перебрасывали на левое плечо, таким образом закрывая переднюю часть тела.
Яникул — один из холмов Рима на правом берегу Тибра.
Палатин — один из холмов Рима, на котором расположен императорский дворец.
Пинций — холм на севере Рима, названный в честь рода Пинциев, которые владели здесь замком, но в 4 веке н. э. Во время действия романа он назывался Холм садов, так как здесь находились парки знатных римлян.
Боудикка — царица британского племени икенов. Возглавляла восстание против римского господства в 61 году н. э. После первоначальных успехов потерпела сокрушительное поражение и покончила жизнь самоубийством.
Гадес, или Аид — владыка царства мертвых.
Туллианская тюрьма — тюрьма, построенная при Сервии Туллии, подземная часть государственной тюрьмы в Риме.
Этруски — римское название одного из самых значительных племен Древней Италии. Сами этруски называли себя «расенами».
Претор — (лат. praetor < praeitor — «идущий впереди») — лицо, обладавшее высшей судебной властью в Древнем Риме. В эпоху империи (время действия романа) преторами называли назначавшихся императорами чиновников для охраны порядка в Риме, а также высших должностных лиц в городах.
Сестерций (лат. sestertius) — древнеримская серебряная монета.
Бетика — римская провинция в южной Испании, в настоящее время — Андалузия и часть Гранады.
Цензор (лат. censor, от censeo — делаю опись, перепись) — в Древнем Риме один из двух крупных магистратов, в обязанности которого входило проведение цензовой переписи, наблюдение за правильным поступлением налогов и надзор за благонравием населения. Избирались цензоры вначале на пять лет, потом на полтора года.
Эмпорий — торговая площадь, рынок.
Либурния — побережье Иллирии между Истрией и Далматией.
Вифиния — страна в Малой Азии.
Коракл — рыбачья лодка, сплетенная из ивняка и обтянутая кожей, типична для Ирландии и Уэльса.
EX ARG BRIT (лат.) — Ex Argentiis Britanniae — деньги из Британии.
Т КЛ ТРИФ — аббревиатура, сокращение имени, как будет понятно из дальнейшего повествования.
Четыре императора — Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан. Годом четырех императоров называют 69 год н. э. — за этот год в Риме сменилось четыре императора.
Эскулап или, Эскулапий (Aesculapius, из греч. AsklhpioV) натурализовавшийся у древних римлян греческий бог врачебного искусства, которое вместе с его божественным представителем, проникло в Рим в начале III-го века до Р.Х.
Отон, Марк Сальвий (32–69) — римский император 69 г. н. э.
В начале гражданской войны поддерживал Гальбу, провозглашенного войсками императором, так как рассчитывал стать его преемником. Когда эти надежды не оправдались, поднял против Гальбы преторианцев, которые провозгласили Отона императором. Покончил жизнь самоубийством.
Пергола — открытая беседка.
Кампания — область в средней Италии на западном побережье, одна из наиболее благодатных частей Италии.
Золотой мильный камень — путевой столб, с которого начинаются все дороги в империи.
Мирмиллоны — разряд гладиаторов. Их отличало снаряжение: шлем с украшением в виде рыбы, большой овальный щит и прямой меч.
Ретиарии — разряд гладиаторов. Ловили противника сетью, имели на вооружении короткое копье и кинжалы.
Ватикан — здесь один из семи холмов Рима, на правом берегу Тибра.
Инталия — резное углубленное изображение на камне.
Борей — в греческой мифологии бог северного ветра.
Геркулесовы столбы — Гибралтарский пролив.
Лузитания — юго-западная часть Пиренейского п-ова, приблизительно соответствует нынешней Португалии.
Галлия (лат. Gallia) — в древности область, занимавшая территорию между рекой По и Альпами (Цизальпинская Галлия) и между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном (Трансальпийская Галлия). С 6 века до н. э. заселена кельтами (получившими у римлян название «галлы»).
Арретий — город в восточной Этрурии.
Фурии — в римской мифологии богини мести и угрызений совести, наказывающие человека за совершенные грехи. Ф. — аналог греческих эриний.
Кеч — двухмачтовое парусное судно вместимостью 100–250 тонн.
Волсинии — этрусский город.
Силуры — древнейшее население Уэльса.
Купелирование, или купеляция — отделение благородных металлов от свинца путем окислительного плавления в пламенных, печах при ~ 1000 "С.
Ликия — область в Малой Азии.
Сатурналии — древнеиталийский праздник, справлявшийся в течение ряда дней с 17 декабря, в память о «золотом веке» (Сатурна), и отмечавшийся с особым весельем.
Ultor (лат.) — прозвище Марса и Юпитера как богов-мстителей.
Mansio (лат.) — место отдыха, привал, ночлег В данном случае имеется в виде гостиница.
Абак (от греч. abax — доска) — счетная доска, счеты.
Соль — в римской мифологии бог солнца. В древности почитался как Соль Индигет. Культ Соля и Луны до 2 века был распространен в основном среди крестьян, затем он становится одним из ведущих в империи, когда в образе Соля сочетались: религиозно-философские учения о Солнце как верховном боге; представления о Солнце как блюстителе справедливости, пропаганда идеи особой близости к Солю императоров, изображавшихся в солнечной короне и, как и Соль, именовавшихся «непобедимыми».
Медуза — младшая, смертная, из трех сестер, крылатых женщин-чудовищ (горгон). Горгоны отличаются ужасным видом: крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос, клыками и взором, превращающим все живое в камень.
Родан — главная река юго-восточной Галлии, в настоящее время — Рона.
Массилия — город на юго-восточном побережье Галлии, теперь Марсель.
Малобатр — масло, получаемое их дерева тамала и употреблявшееся римлянами для придания блеска волосам.
Эсквилин или Эсквилинский холм — самый большой и высокий из семи холмов Рима, находится в северо-восточной части города.
ЧАСТЬ 2
Геркулес — римский вариант имени греческого героя Геракла. Культ Геркулеса был одним из самых распространенных в римском мире. Герой через некоторое время стал почитаться, как бог-«победитель». Для мужчин была обычна клятва его именем, женщины из участия в культе Геркулеса исключались, и им запрещалось клясться.
Палатин или Палатинский холм — один из семи холмов Рима, расположенный между Авентином и Капитолием, южнее Форума. Иногда также называют императорский дворец, так как резиденция Августа располагалась на Палатинском холме.
Байи — город в Кампании к западу от Неаполя.
Береника — дочь иудейского царя Агриппы I, супруга Ирода Халкидского, впоследствии возлюбленная императора Тита.
Кодицилл (юр.) — дополнительное распоряжение к завещанию.
Апис — священный бык в Древнем Египте.
Триумф, предоставить кому-то триумф — имеется в виду право триумфального въезда в Рим за победу. По решению Сената триумф предоставлялся полководцу, одержавшему победу в войне, в которой было убито не менее 5000 врагов. Если изначально триумфа удостаивались полководцы, которые вели войну в качестве главнокомандующего, то в императорское время лишь императоры и их ближайшие родственники. В дальнейшем слово приобрело значение «победа, торжество», в котором используется теперь.
Титул учтивости — титул, носимый по обычаю и фактически не дающий прав.
Сабиняне — племя в гористой области к северо-востоку от Рима. Отличались суровыми обычаями.
Атрий — передняя, приемная или зал, то есть первая комната от входа в дом.
Гибла — гора на Сицилии, славившаяся медом.
Поллион — фамильное имя в родах Азиниев и Требеллиев.
Киликия — область в юго-восточной части Малой Азии.
Тарс — главный город Киликии.
Ликия — область в Малой Азии.
Эней — сын Анхиса и Венеры, легендарный царь дарданцев, основатель рода римских царей.
Ликтор (лат. lictor) — одна из низших государственных должностей в Древнем Риме. Упоминаются в истории со времени правления в Риме этрусских царей (VII век до н. э.). Первоначально ликторы были исполнителями распоряжений магистратов, позднее осуществляли лишь охранные и парадные функции при них. Охранные и парадные функции ликторов заключались в том, что вооружённые фасциями, ликторы сопровождали высших магистратов. Ликторы расчищали путь среди толпы и приводили в исполнение приговоры. Например, у консула было 12 ликторов, у претора 6, у весталки 1.
Лукания — область на западном побережье южной Италии.
Иды — 15-е марта, мая, июля, октября. В остальные месяцы — 13-е число.
Военный трибун — командная должность в римской армии, первоначально трибуны командовали легионами, потом отдельными отрядами из состава легиона. В каждом легионе их было шесть. Они исполняли военно-административные и хозяйственные обязанности.
Элисийские поля, или Элисий — обитель блаженных в царстве мертвых.
Целий, или Целийский холм — один из семи холмов Рима. Во времена Республики был густо населен плебеями, после пожара в 27 году н. э., уничтожившего большинство построек, превратился в квартал нобилитета.
Симон Бар Гиора — один из вождей сикариев. В самом начале Иудейской войны повстанцы под его предводительством нанесли значительные потери римской армии, он также являлся одним из организаторов обороны Иерусалима во время осады города римлянами. По приказу Тита казнь Симона была отложена до «триумфальной жертвы» в Риме.
Лестница Стонов — лестница в Древнем Риме, по которой крюками стаскивались в Тибр тела казненных.
Авгуры — жрецы-птицегадатели, делавшие предсказания по полету птиц, их крику и другим признакам.
Трирема (лат. triremis — имеющий три ряда весел) — боевое гребное судно в Древнем Риме с тремя рядами весел, расположенных один над другим в шахматном порядке. В Древней Греции корабли, аналогичные триремам, называли триерами.
Субура — район Рима в низине между Эсквилином, Кваириналом и Виминалом, людный и оживленный, с большим количеством притонов.
Трибы — в Древнем Риме первоначально три римских племени, из которых состояла римская патрицианская община. Впоследствии — административно-территориальные округа. Триба включала 10 курий, каждая курия 10 родов. В императорский период (время действия романа) трибы уже утратили свое значение.
Цербер — много- или трехголовый пес со змеиным хвостом, охранявший вход в подземное царство.
Примечания
Единицы измерения, используемые в романе
1 дюйм = 2,54 см.
1 фут = 30,48 см.
1 ярд = 91,44 см.
1 миля = 1609 м.
1 милларий = 1598 м. (милларий — единица измерения длины в Древнем Риме).
1 фунт = 453,59 г.
1 унция = 28,35 г.
1 стоун = 6,35 кг.
1 пинта = 0,57 литра.
Линдсей Дэвис
«Заговор патрициев, или Тени в бронзе»
Действующие лица
Л. Петроний Лонг — командир авентинских стражников. Лучший друг Фалько. Хороший человек.
Аррия Сильвия — жена Петро. Женщина, знающая свое дело.
Петронилла, Сильвана, Тадия — их дочери.
Оллия — няня их дочерей.
Рыбак — поклонник их няни.
Ления — хозяйка прачечной «Орел».
Юлий Фронтин — преторианец, который был знаком с братом Фалько, но предпочел бы его не знать.
Гемин — аукционист, который мог быть отцом Фалько, но надеялся, что это не так.
Главк — тренер Фалько; в других отношениях разумный человек.
Д. Камилл Вер — сенатор с проблемой.
Юлия Юста — его жена.
Елена Юстина — их проблема. Бывшая жена Атия Пертинакса (ее проблема) и бывшая подружка Фалько (его).
Имя неизвестно — их привратник (идиот).
Встречаются во время исполнения служебных обязанностей:
Имя неизвестно — жрец храма Геркулеса Гадитанского на Авентине.
Туллия — подавальщица в винном погребе с правого берега Тибра с большими идеями.
Лэс — честный капитан дальнего плавания из Тарента.
Вентрикул — водопроводчик в Помпеях (довольно честный, для водопроводчика).
Росций — любезный тюремный надзиратель в Геркулануме.
С. Эмилий Руф Клеменс — магистрат в Геркулануме с очень впечатляющей родословной (и не особо разумный).
Эмилия Фауста — его сестра, однажды помолвленная с Ауфидием Криспом.
Капрений Марцелл — пожилой бывший консул. Приемный отец Атия Пертинакса (тоже не особо разумный).
Брион — дрессировщик чистокровных лошадей Пертинакса в имении Марцелла.
Также встречаются:
Имя неизвестно — священная коза.
Нерон (также известный как Пятнышко) — вол, наслаждающийся своим отдыхом.
Нед — довольно удивленный осел.
Цербер (также известный как Фидон) — дружелюбный сторожевой пес.
Чистокровные лошади Пертинакса:
Ферокс — Чемпион.
Малыш — Посмешище.


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
РИМ
Поздняя весна, 71 г.н. э
Люби скромное дело, которому научился, и в нем успокойся…
Марк Аврелий
I
Когда мы дошли до конца переулка, настроение у меня совершенно испортилось. Был конец мая, и в Риме уже целую неделю стояла теплая погода. Яркое весеннее солнце вызывало внутри склада сильную затхлую вонь. Все эти восточные пряности пахли просто кошмарно, но именно там находился труп, который мы собирались закопать.
Я привел четверых добровольцев из Преторианской гвардии, а также их начальника по имени Юлий Фронтин, который был знаком с моим братом. Мы с Юлием ломали замки и снимали цепи с ворот, а потом бродили по большому двору, пока солдаты открывали огромную внутреннюю дверь.
Пока мы ждали, Фронтин ворчал:
— Фалько, с сегодняшнего дня считай, что я никогда в жизни не знал твоего брата! Это отвратительное задание — последнее, во что ты мог меня втянуть…
— Личное одолжение императору… Фест нашел бы для всего этого подходящее слово!
Фронтин описал императора словом моего брата, которое было не очень приличным.
— Посильный труд! — беспечно произнес я. — Красивая форма, бесплатное жилье, лучшие места на представлениях — и столько медового миндаля, сколько сможешь съесть!
— А что заставило Веспасиана выбрать тебя для этого дела?
— Меня легко запугать, и мне были нужны деньги.
— О, тогда логичный выбор!
Меня зовут Дидий Фалько, для особых друзей Марк. В то время я был тридцатилетним свободным римским гражданином. Я родился в трущобе, жил в трущобе и был абсолютно уверен, что умереть мне придется тоже в трущобе.
Я был личным осведомителем, и императорский дворец от случая к случаю пользовался моими услугами.
Задания вроде сегодняшнего — избавление от разложившегося трупа гражданина из списка цензора — считались почти нормой. Это было негигиенично, оскорбляло религиозные чувства и отбивало всякий аппетит.
В свое время я работал на лжесвидетелей, мелких банкротов и мошенников. Я давал в суде под присягой письменные показания о таком вопиющем распутстве сенаторов, которое даже при Нероне невозможно было скрыть. Я искал пропавших детей по поручениям богатых родителей, которым лучше было бы оставить их в покое, и вел бесперспективные дела оставшихся без наследства вдов. Большинство мужчин пытались схитрить, чтобы не платить, в то время как большинство женщин хотели заплатить мне натурой. Догадайтесь, в какой именно форме, — не свежим петушиным мясом или вкусной рыбкой.
После армии я пять лет занимался всем этим внештатно. Затем император предложил мне работать на него. Зарабатывать этим деньги было почти невозможно, но продвижение по службе вызвало бы гордость моей семьи и зависть друзей и стало бы ужасно раздражать всех прочих. Так что все сказали мне, что это весьма стоящая затея. Пришлось согласиться, хотя я всегда был республиканцем. Теперь я действовал от имени императора — и не оченьто этому радовался. Я был новичком, поэтому на меня взваливали худшую работу. Этот труп, например.
* * *
Склад со специями, куда я привел Фронтина, находился в ремесленном квартале, довольно близко к форуму, так что до нас даже доносился оживленный шум базарной площади. Солнце все еще светило; в голубом небе стаями летали ласточки. Тощий кот без всякой причины заглянул в открытые ворота. Из расположенных неподалеку помещений долетал скрежет блока и свист рабочего, хотя в целом они казались заброшенными, как часто бывает в хранилищах и на складах пиломатериалов, особенно когда тебе нужно купить дешевых досок.
Преторианцам удалось взломать замок. Мы с Фронтином завязали рты шарфами и потащились к высоким дверям. Вонь была ужасной, и мы отпрянули; казалось, от этого потока воздуха наша одежда приклеилась к коже. Подождав, пока запах немного рассеется, вошли внутрь. Мы оба остановились. Нас накрыла волна первобытного страха.
Всюду царила зловещая тишина — за исключением того места, где уже много дней, выписывая параболы, жужжала целая туча мух. Воздух наверху, освещенный маленьким темным окошком, казалось, был наполнен вонючей, налитой солнцем пылью. Внизу свет был более тусклым. На полу в центре помещения мы разглядели очертания тела человека.
Запах разложения оказался не таким сильным, как мы ожидали, но все равно довольно явным.
Подойдя к телу, мы с Фронтином обменялись взглядами. Мы стояли в нерешительности, что же делать дальше. Осторожно приподнимая ткань, я стал снимать тогу, которая была накинута поверх останков. Затем я снова бросил ее и отошел назад.
Этот человек пролежал мертвым на складе с перцем одиннадцать дней, прежде чем какойто умник во дворце вспомнил, что нужно его похоронить. Пробывшая так долго в жаре и духоте мертвая плоть отламывалась, как переваренная рыба.
Мы отошли на минутку, чтобы взять себя в руки. Фронтина резко стошнило.
— Ты сам его прикончил?
Я покачал головой.
— Не моя привилегия.
— Убийство?
— Разумное наказание — позволяет избежать ненужного судебного разбирательства.
— Что он сделал?
— Государственная измена. Почему, потвоему, я привлек к этому делу преторианцев? — Преторианцы были элитной дворцовой стражей.
— А зачем все скрывать? Почему бы не сделать из этого урок для остальных?
— Потому что официально наш новый император был принят единодушно. Так что не может быть никаких заговоров против Веспасиана!
Фронтин саркастически усмехнулся.
Рим был полон заговоров, хотя большинство из них срывалось. Попытка противиться судьбе, предпринятая этим человеком, была умнее большинства других, но теперь он лежит распростертый на пыльном полу рядом с почерневшей дорожкой его собственной засохшей крови. Несколько его товарищейзаговорщиков сбежали из Рима, даже не взяв с собой запасные туники или фляжку с вином в дорогу. По крайней мере, один из них был мертв — его нашли задушенным в камере страшной Мамертинской тюрьмы. Между тем Веспасиан и двое его сыновей были приняты в Риме с безоговорочным радушием, и они собирались восстанавливать империю после двух лет ужасной гражданской войны. Повидимому, все было под контролем.
Заговор раскрыли и пресекли; осталось только избавиться от его разлагающихся доказательств. Идея позволить семье этого человека провести нормальные открытые похороны — с идущей по улицам процессией, музыкой флейты, профессиональными плакальщиками, шагающими горделивой походкой и одетыми, как его знаменитые предки, — показалась придворным писцам плохим способом сохранить неудавшуюся секретность в тишине. Так что они
приказали младшему должностному лицу нанять добросовестного мальчика на посылках; тогда он послал за мной. У меня была большая семья, которая зависела от меня, и строгий хозяин квартиры, которому я на несколько недель задерживал плату. Для прислужников, которым нужно было совершить необычные похороны, я стал легкой добычей.
* * *
— Ну, оттого, что мы будем здесь стоять, он никуда не денется…
Я сдернул тряпку, накрывающую труп, и мы увидели тело во весь рост.
Мертвец лежал в том же положении, как и упал, но находился в совершенно ином отвратительном состоянии. Мы чувствовали, как отваливались его внутренности, а в теле все кишело личинками. Я не осмеливался посмотреть на лицо.
— Юпитер, Фалько; этот ублюдок принадлежал к среднему классу! — Фронтин казался обеспокоенным. — Ты должен знать: ни один представитель среднего класса не умирает без сообщения в «Ежедневной газете», чтобы предупредить богов в Гадесе, что тень знатного человека рассчитывает на лучшее место в лодке Харона…
Он был прав. Если обнаружится тело в одежде с узкими фиолетовыми полосками римского всадника, сыщики будут настойчиво раскапывать, чьим сыном или отцом был этот достойный экземпляр.
— Будем надеяться, что он не очень застенчивый, — тихо согласился я. — Его придется раздеть…
Юлий Фронтин снова пробормотал грубое слово моего брата.
II
Мы работали быстро, борясь с отвращением.
Нам пришлось раскромсать две туники, воняющие тем, что осталось от тела. Отыскать эти тряпки так далеко и обнаружить вышивку с именными надписями на внутренней стороне воротника мог бы только самый безумный старьевщик. Однако мы хотели быть абсолютно уверенными.
Снова выйдя во двор и полной грудью вдыхая свежий воздух, мы сожгли все, что можно; даже ботинки и пояс превратились в пепел. На пальцах этот человек носил кольца. Фронтину какимто образом удалось их снять: золотое кольцо, указывающее на принадлежность к среднему классу, огромную изумрудную камею, перстень и еще два других, на одном из которых стояло женское имя. Продавать их было нельзя, на случай, чтобы они не всплыли вновь; позднее в тот же день я выбросил кольца в Тибр.
Наконец, обвязав почти обнаженный труп веревкой, мы затащили его на носилки, которые принесли с собой. Я собрался было подтолкнуть тело ногой, но одумался.
Молчаливые преторианцы следили за тем, чтобы в переулке никто не появился, пока мы с Фронтином, шатаясь, прошли по нему, чтобы сбросить свою ношу в канализационный люк. Мы прислушались; на дне послышался всплеск. Довольно скоро на тело наткнутся крысы. Когда во время следующего летнего дождя с форума уйдет вода, останки через массивную арку под Эмилиевым мостом попадут в реку, а затем тело либо прибьет к бревнам, чтобы пугать лодочников, либо унесет в море, и там какаянибудь рыба дочиста обглодает его.
* * *
Проблема была решена; Рим больше не вспомнит о своем пропавшем гражданине.
Мы зашагали обратно. Сожгли носилки, вымыли пол хранилища, тщательно оттерли свои руки и ноги. Я принес ведро чистой воды, и мы оба вымылись еще раз. Я вышел, чтобы вылить грязную воду.
Ктото в зеленом плаще с капюшоном замер, увидев меня у ворот. Я кивнул, стараясь не встречаться с ним глазами. Незнакомец пошел дальше по улице. Этот уважаемый гражданин, наслаждавшийся прогулкой на свежем воздухе, продолжил свое дело, ничего не зная о той ужасной сцене, которую только что пропустил.
Учитывая погоду, я удивился, почему он так сильно закутался; иногда кажется, будто в Риме все крадутся по тихим переулкам, выполняя какието задания, где требуется маскировка.
Я сказал, что закрою ворота.
— Тогда мы пошли! — Фронтин повел своих парней выпить по заслуженному стаканчику. Меня он с собой не пригласил — и я не удивился.
— Спасибо за помощь. Еще увижу тебя, Юлий…
— Если я не увижу тебя первым!
После их ухода я некоторое время стоял, ощущая на сердце какуюто тяжесть. Теперь, когда я остался один, у меня появилось больше времени, чтобы замечать всякие мелочи. Во дворе мой взгляд упал на интересную груду у наружной стены, предусмотрительно прикрытую старыми шкурами. Будучи сыном аукциониста, я никогда не проходил мимо брошенных вещей, которые можно было продать; я направился к стене.
Под шкурами увидел пару живых пауков и множество свинцовых слитков. Пауки были чужаками, а вот слитки оказались старыми друзьями: заговорщики собирались воспользоваться краденым серебром, чтобы взятками проложить себе дорогу к власти. Преторианцы нашли все слитки, содержащие драгоценные металлы, и отнесли их в Храм Сатурна, но воры, которые контрабандой вывезли слитки с британских рудников, повеселились, прислав заговорщикам огромное количество свинца — бесполезного для подкупа. Повидимому, императорский обоз оставил свинец здесь для коллекции. Все куски металла были ровненько сложены с военной точностью, каждый следующий ряд — под идеальным углом к нижнему. Для человека с полезными связями свинцовые слитки имели свою ценность. Я снова накрыл их, как и следовало поступить честному государственному служащему.
* * *
Я оставил ворота открытыми и снова отправился к люку канализации. Из всех сгнивших трупов неудачливых предпринимателей, которые засоряют Рим, этот в последнюю очередь заслуживал такого неуважения. У каждого изменника есть семья, а его семью я знал. Его ближайшим родственником мужского пола, который должен был совершить эти похороны, был сенатор, чья дочь очень много для меня значила. Типичная проблема Фалько: встретившись с очень важной семьей, я старался произвести впечатление. Мне приходилось демонстрировать свой замечательный характер, сваливая их мертвых родственников в общественную канализацию без какихлибо похоронных обрядов…
Тихо ворча, я снова поднял крышку, поспешно бросил вниз горстку земли и пробормотал основную заупокойную молитву: «Богам теней я посылаю эту душу…»
Я кинул ему монету, чтобы заплатить перевозчику, и с надеждой подумал, что если фортуна мне улыбнется, то я последний раз слышу об этом человеке.
Никаких шансов. Богиня фортуны всегда лишь строит мне гримасы, как будто только что прищемила в дверях свой святой пальчик.
* * *
Вернувшись на склад, я ногами разбросал остатки нашего костра по двору. Я положил цепи себе на плечи, чтобы закрыть ворота. Перед уходом я в последний раз вошел внутрь.
Вонь совершенно не уменьшилась. Неугомонные мухи продолжали кружить над пятном на полу, как будто здесь все еще присутствовала душа покойного. В тени неподвижно висели мешки бесценных восточных пряностей.
Я повернулся, чтобы уйти. Мой глаз уловил какоето движение. Меня затрясло от приступа страха, будто я увидел призрака. Но я не верил в призраков. Из пыльной темноты прямо на меня бросилась закутанная фигура.
Она была вполне реальной. Фигура схватила палку и ударила меня по голове. Свет падал только на спину этого человека, но я смутно почувствовал, что знаю его. Не было времени, чтобы спрашивать, чем он недоволен. Я развернулся, неловко запустил в него цепью, а потом потерял равновесие и, ослабев под своей тяжелой ношей, свалился на пол на правый локоть и колено.
Если бы мне повезло, то я смог бы схватить его. Удача редко бывает на моей стороне. Пока я выпутывался из железных цепей, негодяй убежал.
III
Хотя я отходил к люку всего на минутку, мне следовало быть к этому готовым. Это Рим; стоит на три секунды оставить сокровищницу без присмотра, как пронырливый ворюга обязательно туда заберется.
Я не видел лица этого человека, но меня не покидало чувство, что я знаю его. Зеленый капюшон, так надежно закрывавший его голову, не оставлял никаких сомнений: этого человека я видел, когда выливал из ведра воду после мытья. Проклиная его, а потом самого себя, я, прихрамывая, вышел в переулок; по моей ноге текла кровь.
Разбросанные лучи яркого солнца ослепляли, в то время как непроницаемая тень была беспокойной и холодной. Дорога с задней стороны склада была шириной всего в три локтя с одним входом по грязной узкой протоптанной тропинке. Другой выход скрывала из виду сворачивающая в сторону дорожка. По обе стороны располагались промозглые склады, заполненные старыми тележками и неустойчивыми грудами бочек. Грязные веревки тянулись к открытым дверям. Страшные объявления, прибитые гвоздями, запрещали посетителям подходить к воротам, которые выглядели так, словно их уже лет десять никто не открывал. Глядя на эту противную дыру, кажется невероятным, что за две минуты можно пешком дойти до веселой суеты рыночной площади — это Рим. Как я и сказал.
Никого не было видно. На крышу прилетел голубь, затем проскочил внутрь сквозь сломанную черепицу. Скрипнула подставка для бочек. Больше ничто не двигалось. Кроме моего сердца.
Злодей мог быть где угодно. Пока я искал его в одном месте, он мог ускользнуть другим путем. Пока я был увлечен поисками, он или любой другой негодяй мог неожиданно выскочить и пробить мою кудрявую голову. К тому же я рисковал провалиться через прогнивший пол в один из заброшенных складов. В обоих этих случаях меня вряд ли бы нашли.
Я отскочил назад. Чтобы закрыть замок на двери хранилища, я воспользовался старым гвоздем. Осмотрел высушенный солнцем двор. С помощью военного пинцета, который принес Фронтин, я, как ответственный человек, снова повесил на ворота цепи. И ушел.
* * *
Вся моя одежда пропиталась трупным запахом. Не в состоянии больше его выносить, я отправился домой, чтобы переодеться.
Я жил в Тринадцатом квартале. По пустым улицам туда можно было добраться за десять минут, однако в это время дня мне пришлось пробиваться сквозь толпы людей, что заняло в три раза больше времени. На улице было очень шумно. Я почти оглох и пришел в отчаяние.
Квартира Фалько — это лучшее, что я мог себе позволить, так что она была довольно мрачной. Я арендовал грязный чердак над прачечной «Орел» на улице, которая называлась Фонтанный дворик — хотя она не являлась двором и там никогда не было ни одного фонтана. Чтобы попасть в это впечатляющее место, мне пришлось свернуть со сравнительно роскошной мощеной Остийской дороги, а затем пройти через множество извилистых проездов, которые с каждым шагом становились все более узкими и пугающими. Та точка, где они уходили в никуда, и была Фонтанным двориком. Я прошел мимо нескольких рядов влажных тог, загораживавших фасад прачечной, затем проделал длинный путь наверх по шести лестничным пролетам высоченной лачуги, которая служила мне рабочим местом и домом.
Оказавшись наверху, я постучал — просто так, чтобы распугать всякую живность, которая проказничала здесь в мое отсутствие. Затем я сказал самому себе, что можно заходить, и открыл защелку на двери.
У меня было две небольших комнаты. Я дополнительно платил за неустойчивый балкон, но хозяин дома Смаракт давал мне скидку в виде естественного дневного света через дырку в крыше плюс бесплатную воду, когда шел дождь. В Риме жили богачи, которые своих лошадей содержали в лучших условиях, однако тысячи неизвестных личностей жили даже хуже.
Мой дом предназначался для таких жильцов, которые подолгу отсутствовали. Хотя за пять лет эта убогая дыра стала казаться вполне сносной, особенно потому, что, бегая за клиентами, я редко здесь бывал. Она никогда не считалась особенно дешевой — впрочем, как и все жилье в Риме. Мои соседилюди были ужасными типами, зато недавно поселился дружелюбный геккон. Открыв дверь на балкон, я мог принять четырех гостей. Я жил один; с финансовой точки зрения у меня не было выбора.
Желая поскорее скинуть свою отвратительно пахнущую тунику, я быстро прошел в дальнюю комнату. Там стоял стол, за которым я ел, писал или думал о том, как отвратительна жизнь, а также скамейка, три стула и духовка, которую я смастерил сам. В спальне находилась моя кривобокая кровать, недалеко от нее стояли кушетка и сундук, также служивший умывальником и опорой, на которую я вставал, когда приходилось затыкать протекающую крышу.
С облегчением раздевшись, я еще раз как следует отмылся остатками воды из кувшина, а затем нашел тунику, которая порвалась еще всего в двух местах с тех пор, как моя мама в последний раз ее зашивала. Я небрежно причесался, свернул свою вторую тогу на случай, если потом пойду в какоенибудь приличное место, и спустился вниз.
Занося вещи, я слышал, как меня охрипшим голосом окликнула Ления, прачка:
— Фалько! Смаракт требует с тебя плату!
— Вот так сюрприз! Скажи ему, что невозможно получить всего на свете…
Я увидел ее в углу, который служил местом для расчетов. Она сидела в своих грязных тапках и попивала мятный чай. Пока эта жалкая дурочка не решила выйти замуж за хозяина этого дома Смаракта, она была одной из моих старых подруг; и если бы я смог убедить ее бросить эту скотину, она снова стала бы ею. Ления была раз в пять большей неряхой, чем казалась. Ее растрепанные рыжие волосы постоянно вылезали изпод легкого шарфика, повязанного вокруг головы. Когда она собиралась куданибудь пойти, ей приходилось убирать пряди волос обратно, чтобы видеть дорогу.
— Он серьезно, Фалько! — У нее были нездоровые глаза, а голос напоминал такой звук, как будто в миске гремят сорок сухих горошин.
— Хорошо, мне нравятся люди с серьезными намерениями…
К тому времени я уже отвлекся от темы, что Ления, несомненно, поняла. Там была еще одна женщина, которую представили Секундой, подругой. Давно уже прошли те времена, когда я использовал любую возможность пофлиртовать с Ленией, так что я несколько минут строил глазки ее подруге.
— Привет! Я Дидий Фалько; кажется, я тебя раньше не видел?
Девушка сверкнула своими браслетиками и со знанием дела улыбнулась.
— Будь осторожна с ним! — посоветовала Ления.
Секунда была зрелой, но не перезревшей; она была достаточно взрослой, чтобы бросить мне интересный вызов, однако довольно молодой, чтобы предположить, что победа может быть очень даже стоящей. Она внимательно осмотрела меня, пока я сам откровенно глазел на нее.
Мне предложили мятного чаю, но его отталкивающий серый цвет заставил меня отказаться, сославшись на здоровье. Секунда отнеслась к моему предстоящему уходу с очаровательным сожалением; я принял вид человека, который может задержаться.
— Фалько, к тебе приходил какойто мусорщик с лицом сыщика, — нахмурившись, сказала Ления.
— Клиент?
— Откуда мне знать? Особыми манерами не отличался, так что, кажется, твоего типа. Он встрял в разговор и назвал твое имя.
— А потом что?
— Он ушел. И правильно.
— Но, — ласково добавила Секунда, — помоему, он ждет тебя на улице. — Она ничего не пропускала — если это было связано с мужчиной.
Я высунулся из прачечной так, чтобы выглянуть, но не оказаться замеченным. Зеленый плащ с капюшоном околачивался у открытой двери хлебной лавки Кассия через два дома от меня.
— Это он в зеленом? — Девушки кивнули. Я нахмурился. — Тут какойто портной нашел себе золотой прииск! — По всей видимости, зеленые плащи с остроконечным капюшоном в этом месяце — самый последний крик моды… Скоро я это узнаю; в следующий вторник день рождения моего старшего племянника, и если это действительно была последняя мода, Ларий обязательно попросит такой. — Он давно уже здесь?
— Пришел сразу после тебя и с тех пор ждет.
Я почувствовал сильную тревогу. Я надеялся, что этот гражданин в зеленом — просто воришка, который заметил, как на складе чтото происходит, и зашел внутрь посмотреть, так как думал, что мы с Фронтином ушли.
То, что он следил за мной до самого дома, придавало всему этому совсем иное значение. Такое любопытство невинным уже быть не могло. Это означало, что его интерес к происходящему в хранилище не был случайностью. Должно быть, он из тех людей, которым ужасно необходимо выяснить, что там произошло, и узнать имя каждого участника происшествия. Такая ситуация порождала неприятности у тех из нас во дворце, кто думал, что мы полностью закопали историю про заговор против императора.
Пока я смотрел на него, он потерял интерес к своему шпионскому занятию и зашагал в сторону Остийской дороги. Мне нужно было узнать о нем побольше. Я помахал Лении, подарил Секунде такую улыбку, которая не должна была оставить ее равнодушной, и отправился в погоню.
Пекарь Кассий, сидевший у окна, бросил в мою сторону задумчивый взгляд.
IV
На главной улице я почти потерял его. Я мельком увидел, что моя мама рассматривает лук у овощной лавки. Под ее осуждающим взглядом луковицы, как большинство моих подружек, не соответствовали ее нормам. Мама убедила себя в том, что моя новая должность во дворце приносила хорошие деньги, заключалась в простой секретарской работе и оставляла мои туники чистыми. Мне не хотелось, чтобы она так быстро узнала, что это был все тот же старое ремесло слежки за негодяями, которые решают побродить по улицам, когда я хочу пообедать.
Чтобы убежать от матери и не потерять мужчину из виду, мне пришлось ловко поработать ногами. К счастью, зеленый плащ имел такой неприятный оттенок, который легко было заметить снова.
Я следил за ним до реки, которую он перешел по Свайному мосту; такая десятиминутная пешая прогулка от цивилизации к хибарам на правом берегу Тибра, где толпились городские продавцы, когда с наступлением темноты их выгоняли с форума. Четырнадцатый район являлся частью Рима со времен моего деда, но в нем было довольно много приезжих, отчего он казался чужим. После моего задания сегодня утром я не беспокоился, что ктонибудь из них всадит мне нож в спину.
Когда не беспокоишься, они никогда и не пытаются этого сделать.
* * *
Теперь мы шли в полной темноте по улицам, над которыми нависали тяжелые балконы. В канавах бегали худые собаки. Оборванные цыганские дети с клочьями вместо волос кричали на испуганных псов. Если я начинал задумываться об этом, то весь район пугал меня.
Зеленый плащ шел по улицам ровным шагом, как гражданин, идущий домой на обед. У него было обычное телосложение, узкие плечи и моложавая походка. Я все еще не видел его лица; он не снимал капюшон, несмотря на жару. Мужчина был слишком застенчивым, чтобы открыться, вот это точно.
Хотя ради профессионального этикета я и старался, чтобы между нами были водовозы и продавцы пирогов, в этом не было никакой надобности. Он не нагибался, не прятался, что было вполне разумно при таком близком соседстве. И он ни разу не обернулся.
А вот я оборачивался. Регулярно. Никто меня не преследовал.
У нас над головами развевались на ветру развешанные на веревках простыни, а внизу на других веревках висели корзины, медные изделия, дешевая одежда и тряпичные коврики. Африканцы, продававшие их, казалось, благосклонно отнеслись к человеку в зеленом плаще, но когда мимо них проходил я, резко закричали чтото друг другу; хотя, может, они просто восхищались мною как симпатичным парнем. Я уловил запах несвежего хлеба и отвратительных заграничных пирожных. За полуоткрытыми окнами старые женщины с ужасными голосами раздраженно кричали на ленивых мужей; иногда мужчины теряли терпение, так что, ускоряя шаг, я с сочувствием слышал, что там происходило. В этом районе продавались необычные маленькие медные ножи с написанными на лезвиях заклинаниями, вызывающие привыкание наркотики, полученные из восточных цветов, или похожие на херувимов мальчики и девочки, которые уже разлагались внутри изза своего порочного занятия. Вы могли бы купить обещание исполнения сокровенного желания или жалкую смерть — для когото другого или самого себя. Если слишком долго стоять на одном месте, то смерть или какаянибудь еще более страшная беда могла прийти к вам, даже если вы о ней не просили.
Я потерял мужчину из виду южнее Аврелиевой дороги, в зловеще тихой улочке, примерно за пять минут до конца Четырнадцатого района.
* * *
Он свернул в узкий переулок, все еще двигаясь ровным шагом, и к тому времени, как я дошел до угла, его уже и след простыл. В этом месте было много противных дверных проемов, ведущих к кривым серым стенам, хотя, возможно, они только казались такими мрачными.
Я задумался, что же делать. Там не было никаких колонн, за которыми можно было бы спрятаться, а отсутствие моего зеленого друга могло продлиться до вечера. Я понятия не имел, кто он такой и почему мы следим друг за другом. Да я и не уверен, что меня это волновало. Стояла самая сильная дневная жара, и я начал терять интерес. Если ктонибудь из района на правом берегу Тибра заподозрит, что я сыщик, то завтра меня найдут на мостовой с вырезанной на груди монограммой убийцы.
Я заметил вывеску винного погреба, вошел в прохладную темноту помещения и, когда показалось тело огромной неповоротливой хозяйки этого заведения с короткой, толстой шеей и большой грудью, заказал вина со специями. Больше там никого не было. Помещение казалось крошечным. Стоял лишь один столик. Стойка практически спряталась в темноте. Я проверил, не торчали ли из скамейки щепки, потом осторожно сел. Это было одно из таких заведений, где напитков приходилось ждать целую вечность, потому что даже для иностранцев хозяйка подавала их горячими и свежими. Такое естественное гостеприимство показалось мне неблагодарным и застало врасплох; оба эти чувства были слишком знакомы.
Женщина снова исчезла, так что я остался один на один со своим стаканом.
Я скрестил пальцы и задумался о жизни. Я слишком устал, чтобы размышлять о жизни в целом, так что сосредоточился на своей собственной. Я быстро пришел к выводу, что она не стоит и динария, который я заплатил за то, чтобы сидеть здесь в размышлениях над стаканом вина.
Я почувствовал себя глубоко подавленным. Моя работа была ужасна, а оплата еще хуже. И еще я готовился закончить роман с молодой женщиной, которую я едва знал и не хотел потерять. Ее звали Елена Юстина. Она была дочерью сенатора, так что встречаться со мной не считалось совсем противозаконным, однако случился бы порядочный скандал, если бы узнали ее друзья. Обычно ввязываешься в подобную интригу, зная, что все это наверняка безнадежно, а потом почти сразу же прекращаешь, потому что продолжение становится даже более болезненным, чем расставание.
Сейчас я не имел ни малейшего представления, что ей сказать. Елена была потрясающей девушкой. Ее вера в меня приводила меня в отчаяние. Однако она, возможно, видела, что я ускользаю от нее. Насколько я заметил, Елена уже понимала, что происходит, но это не помогало мне составить свою прощальную речь…
* * *
Стараясь забыться, я равнодушно глотал. Но, почувствовав небом горячую корицу, вспомнил про тот склад. Внезапно мой язык онемел. Я отставил стакан с вином, со звоном бросил на тарелку несколько монет и попрощался. Я уже выходил, когда голос сзади закричал: «Спасибо!» Обернувшись, я остановился.
— Не за что, милая! А где же та женщина, что я видел раньше?
— Я ее дочь! — засмеялась девушка.
Вы можете себе ее представить — хотя бы примерно. Через двадцать лет это роскошное маленькое тело, может быть, станет точно таким же непривлекательным, как у ее мамы — но за это время оно пройдет несколько очаровательных этапов. Сейчас девушке было около девятнадцати, и этот этап мне нравился. Дочка хозяйки винного погреба ростом была выше своей матери, за счет чего ее движения выглядели более изящными; у нее были огромные темные глаза и крошечные белые зубки, гладкая кожа, блестящие сережки и аура абсолютной невинности, которая являлась ужасным обманом.
— Я Туллия, — сказало это живое видение.
— Привет, Туллия, — воскликнул я.
Туллия улыбнулась мне. Она была аппетитной пышечкой, у которой сегодня не так много дел, в то время как я — мужчиной, кому необходимо было поднять настроение. Я ласково улыбнулся ей в ответ. Если я вынужден расстаться с чудесной девушкой, которую я хотел, то пусть безнравственные женщины покажут мне, на что они способны.
Личный осведомитель, который знает, что делает, быстро может превратить подавальщицу в своего друга. Я вовлек ее в это безобидное подшучивание, а потом сказал:
— Я коекого ищу; возможно, ты его видела — он всегда носит плащ довольно чудовищного зеленого цвета.
Я не удивился, когда прекрасная Туллия узнала моего человека; заметив Туллию, большинство мужчин этого района должны были немедленно стать клиентами ее матери.
— Он живет через переулок… — Она подошла к дверям и указала на маленькое квадратное окошко комнаты, которую он снимал. Все указывало на то, что парень в зеленом жил так же убого, как и я.
— Интересно, дома ли он сейчас…
— Могу посмотреть, — предложила Туллия.
— Как это?
Она глазами указала наверх. У них была обычная лестница наверх вдоль внутренней стены, ведущей на обшитый досками чердак, где жили и спали хозяева. Там обычно имелось одно длинное окно над входом в магазин, через который поступали свет и воздух. Энергичная молодая девушка, интересующаяся людьми, естественно, в свободное время наблюдала за мужчинами.
Туллия была готова любезно подняться наверх. Я мог бы пойти за ней, но подумал, что там скрывается ее мать, и это испортило все веселье.
— Спасибо! Не хочу сейчас его беспокоить. — Кем бы он ни был и чего бы он ни хотел, никто не собирался платить мне за то, что я оторву его от обеда. — Ты чтонибудь о нем знаешь?
Туллия с опаской посмотрела на меня, но я держался непринужденно, и мое любопытство выглядело вполне естественно; кроме того, я оставил ее матери приличные чаевые.
— Его зовут Барнаб. Он приехал сюда около недели назад… — Пока она рассказывала, я думал; имя Барнаб я совсем недавно гдето встречал. — Он заплатил за три месяца вперед — без всяких споров! — удивлялась девушка. — Когда я сказала ему, что он дурак, он лишь засмеялся и ответил, что скоро разбогатеет…
Я ухмыльнулся.
— Интересно, почему он тебе так сказал? — Нет сомнений в том, что для мужчины это обычный случай — пообещать женщине безумное богатство. — А чем занимается этот многообещающий предприниматель, Туллия?
— Сказал, что он хлеботорговец. Но…
— Но что?
— На это он тоже засмеялся.
— Да он просто комик! — То, что он назвал себя продавцом хлеба, больше не объединяло его с тем Барнабом, которого я имел в виду. Тот был получившим свободу рабом сенатора и не отличил бы пшеницу от деревянной стружки.
— Ты задаешь много вопросов! — в шутку упрекнула меня Туллия. — А к чему тебе все это? — Я ушел от вопроса проницательным взглядом, на который она ответила. — О, секреты! Хочешь выйти через черный ход?
Мне всегда нравилось разведывать место, куда, возможно, я захочу вернуться, так что вскоре я живо шагал через внутренний дворик за винным погребом. Туллии, казалось, было здесь уютно; нет сомнений, что счастливый съемщик помещения осознал ее способности. Она выпустила меня через незапертые ворота.
— Туллия, если Барнаб заглянет выпить, то можешь упомянуть, что я его ищу… — Желательно также заставить его понервничать. В моей профессии никогда не выиграть лавровый венок, если не быть таким же, как незнакомцы, которые провожают до дома. — Скажи ему, если он придет в дом на Квиринале — думаю, он поймет, что я имею в виду, — я смогу передать ему наследство. Он мне нужен, чтобы перед свидетелями установить его личность.
— Он поймет, кто ты?
— Просто опиши ему прекрасные черты моего классического носа! Назови меня Фалько. Сделаешь это для меня?
— Тогда попроси получше!
Эта улыбка и раньше обещала сделать одолжение сотне мужчин. Сто первый, должно быть, надеялся, что сможет превзойти остальных. Не обращая внимания на муки вины перед той дочерью сенатора, я попросил Туллию самым лучшим способом, который был мне известен; казалось, это сработало.
— Ты уже занимался этим раньше! — захихикала она, когда я отпустил ее.
— Наслаждаться поцелуями красивых женщин — это преимущество обладания классическим носом. Ты тоже это делала — а ты как объяснишься?
Подавальщицам редко нужны объяснения. Она снова хихикнула.
— Приходи поскорее; я буду ждать, Фалько!
— Будь уверена, принцесса, — убедил я ее, уходя. Возможно, это ложь. С обеих сторон. Но на правом берегу Тибра, который даже более жесток, чем Авентин, людям приходилось жить в надежде.
Солнце все еще светило, когда я с острова на Тибре попал в Рим. Я остановился на первом мосту, Цестиевом, где самое быстрое течение, и выбросил из кармана туники кольца трупа из хранилища.
Изумрудной камеи не было; должно быть, я выронил ее на улице.
Меня посетила мысль, что ее могла стащить девушка из винного погреба, но я решил, что она слишком красива для этого.
V
Я шел на север. Купил пирожок с начинкой из рубленой свинины и на ходу ел его. Сторожевой пес завилял передо мной хвостом. Я хорошо знал, что такое нужда, поэтому остановился и поделился с собакой пирожком.
Я направился в дом в районе Верхних аллей на Квиринальском холме. Его владельцем был молодой сенатор, замешанный в том же заговоре, что и человек, которого мы с Фронтином сбросили в канализацию. Этот мужчина тоже был мертв. Его арестовали для проведения допроса, а затем нашли задушенным в Мамертинской тюрьме. Его убил сообщник, чтобы удостовериться, что он не заговорит.
Теперь его дом освобождали от содержимого. Распродажа имущества была семейным делом Дидиев, так что, когда во дворце заговорили об этом деле, я вызвался добровольцем.
Кроме того, знатный владелец этого дома однажды был женат на моей особой подруге Елене Юстине, так что мне хотелось посмотреть, как они жили.
Я получил ответ, очень щедрый ответ. Увидеть это было большой ошибкой. Я подошел к их дому в тоскливом настроении.
Большинство римлян сходят с ума от своих соседей: мусор на лестницах и невынесенные баки с грязной водой; грубые продавцы со своими неаккуратными лавками на первом этаже и шумными шлюхами наверху. Но это не про его честь; его прекрасный участок занимал собственный отдельный дом. Вилла на два этажа возвышалась над Квиринальскими склонами. Через простую, но хорошо укрепленную дверь я с улицы зашел в тихий коридор с двумя небольшими помещениями для прислуги. Главный атрий находился под открытым небом, так что со вкусом подобранная внутренняя обшивка стен из глянцевой черепицы сверкала под лучами искрящегося солнца. Восхитительный фонтан во втором внутреннем дворике дополнял прохладную и яркую атмосферу, мерцая над экзотическими пальмами в бронзовых вазах высотой до плеча. Богато украшенные мраморные коридоры расходились в две стороны. Если хозяин уставал от залов для официальных приемов, то на верхнем этаже за тяжелыми узорчатыми шторами были спрятаны различные маленькие мужские укромные уголки.
* * *
Прежде чем приступить к своей официальной работе в этом доме, мне нужно было избавиться от беспокойства о том, что персонаж, который шел по моим следам сегодня утром, както связан с этой изысканной резиденцией.
Я снова подошел к привратнику.
— Напомните мне, как зовут того вольноотпущенника, которого так любил ваш хозяин?
— Вы имеете в виду Барнаба?
— Да. У Барнаба когданибудь был мерзкий зеленый плащ?
— А, этот! — брезгливо поморщился привратник.
Вольноотпущенник Барнаб исчез. Если рассматривать возможные варианты, то вряд ли стоит заявлять о нем как о беглеце, если он был пропавшим рабом. Не стоило этого делать, даже если он умел читать и писать на трех языках, играть на флейте и был шестнадцатилетним девственником с телосложением метателя диска с волевым характером и влажными темнокарими глазами. Его хозяин оставил после себя столько полученной сомнительным путем собственности, которую можно продать, что одна потеря не имела значения.
Я считал вполне удобным не принимать этого Барнаба во внимание. Император, в интересах своей репутации добродушного человека — репутации, которой у него никогда не было, но которую он так хотел заработать, — решил проявить уважение к небольшому личному завещанию этого покойного; я сам это организовывал. Маленьким прощальным подарком сенатора своему любимому вольноотпущеннику стали целых полмиллиона сестерциев. Я хранил их в своем денежном ящике на форуме и благодаря процентам от них уже приобрел розовый куст в керамическом горшке, который стоял у меня на балконе. До настоящего момента я считал, что, когда Барнабу понадобится его наследство, он сам придет ко мне.
События сегодняшнего дня резко привели меня в чувства. То, что он вынюхивал чтото на складе, показывает его нездоровый интерес к определенным событиям. А любой разумный вольноотпущенник предпочел бы прикинуться, что ничего о подобных событиях не знает. Нападение на меня было какойто дурацкой игрой. Я знал, что еще не могу дальше работать с ясной головой, так что снова принялся энергично расспрашивать тех бродяг, которых мы еще не отправили на рынок рабов.
— Кто знает Барнаба?
— А что нам за это будет?
— Отвлеките меня полезной информацией и, возможно, я забуду, что хотел вас побить…
Выжимать факты из этих олухов было тяжелым делом. Я сдался и разыскал Крисосто, левантийского секретаря, который продал бы все по высокой цене, если бы мы поручили ему устроить аукцион, однако на этот раз я использовал его, чтобы провести инвентаризацию.
Крисосто был хромым пустомелей с дряблой кожей и усталым затуманенным взглядом, потому что совал свой нос туда, куда нос лучше не совать. Он носил белую тунику, которая была так коротко подогнута, что ноги, которыми он так гордился, казались простыми бледными стебельками и заканчивались волосатыми холмиками на коленях и мятыми сандалиями. Его кривыми пальцами можно было заколачивать гвозди.
— Прекрати писать на минутку. Что необычного было в Барнабе?
— О, его величество и Барнаб росли на одной ферме.
Под моим пытливым взглядом Крисосто задвинул свои тощие ноги под стол. Вероятно, когдато у него был талант. Но написание писем для человека небольшого ума и раздражительного нрава быстро научило его не проявлять инициативу.
— На кого он похож?
— На грязнулю из Калабрии.
— Он тебе нравился?
— Не очень.
— Как ты считаешь, он знал, чем занимался твой хозяин?
— Барнаб считал, что он знает все.
Этот хорошо информированный калабриец стал свободным гражданином, так что теоретически если бы он захотел уйти из дома, то это его дело. Поскольку его хозяин был предателем, то я изначально благожелательно относился к тому, что он посчитал разумным удрать. Теперь мне стало интересно: может, он свалил, потому что был замешан в какомто скользком дельце.
— Есть какиенибудь соображения, Крисосто, почему он мог убежать? Он очень расстроился изза смерти своего хозяина?
— Возможно, но после этого его никто не видел. Он сидел в своей комнате за запертой дверью; еду мы оставляли ему снаружи. Никто из нас никогда с ним не ладил, так что никто не пытался вмешиваться в его жизнь. Даже когда он пошел в тюрьму, чтобы попросить тело, никто здесь об этом не знал. То, что он устроил похороны, выяснилось только тогда, когда за них принесли счет.
— Так при кремации вообще никто не присутствовал?
— Никто не знал. Но прах находится здесь, в семейном мавзолее; вчера я ходил, чтобы почтить память. Там новая урна, из гипса…
Вот так, будучи аристократом, молодой сенатор смог избежать участи быть сброшенным в канализацию. После того как он умер в тюрьме, его тело оставили для совершения дорогих похоронных обрядов, даже если они и были проведены вольноотпущенником, в одиночестве и в тайне.
— И еще коечто. Когда твой хозяин отпустил Барнаба на свободу, начал ли он какоенибудь дело — чтонибудь связанное с ввозом зерна, например?
— Насколько я знаю, нет. Если эти двое когданибудь о чемто говорили, то только о лошадях.
Вот теперь Барнаб действительно тревожил меня. Получив через Туллию мое сообщение, он, возможно, вернется сюда, если захочет получить деньги. На случай, если он даже не придет, я послал курьера, чтобы он написал и повесил на площади объявление, обещающее скромное вознаграждение за информацию о его местонахождении. Это могло бы соблазнить готовых помочь граждан сдать его караульному.
— Какую награду написать, Фалько?
— Попробуй три сестерция; этого хватит, чтобы вечером купить чтонибудь выпить, если не страдаешь от слишком сильной жажды…
Тут я вспомнил, что сам выпил бы чегонибудь.
VI
Чтобы найти выпивку, не было никакой необходимости выходить из дома. Человека, который здесь жил, звали Гней Атий Пертинакс, и после себя он оставил все для комфортной жизни: там было море напитков, а у меня был к ним доступ.
Поскольку Пертинакс стал предателем, его имущество конфисковали: его забрал наш новый величественный император. На несколько захудалых ферм в Калабрии (типа той, на которой вырос Барнаб) уже был наложен арест. Немногое, что принадлежало престарелому отцу Пертинакса, ему неохотно вернули: несколько прибыльных участков земли и пару красивых скаковых лошадей. Было также два судна, но император все еще спорил за то, чтобы оставить их государству. Между тем мы конфисковали эту виллу в Риме с очень приятным содержимым, которое насобирал Пертинакс, как всегда делают такие деятели: как личное наследство, через рискованные торговые сделки, в качестве подарков от друзей, взяток от коллег по работе и благодаря успехам на скачках, где он обладал исключительной интуицией. Виллу на Квиринале поручили троим представителям императора: Мому, Анакриту и мне.
Нам потребовалось почти две недели. Мы изо всех сил старались получать удовольствие от этой нудной работы. Каждый вечер мы приводили себя в чувство, лежа в банкетном зале, где все еще чувствовался легкий аромат сандалового дерева, на огромных диванах из резной слоновой кости с шерстяными матрацами и наслаждаясь оставшимся после покойного владельца албанским вином пятнадцатилетней выдержки. На одном из столов с тремя ножками мы поместили серебряный прибор для подогревания вина с отделением для горящих углей, подносом для золы и небольшим краном для наливания напитка, когда он дойдет до идеального состояния. В стройных подсвечниках с тройными львиными лапами масло разливало для нас по комнате свой чудесный аромат, пока мы пытались убедить себя, что нам следует ненавидеть жизнь в подобной роскоши.
Летняя столовая виллы была украшена фресками талантливого художника; напротив сада располагались захватывающие сцены, изображающие падение Трои, но даже сад оказался расписной лепной работой на внутренней двери, дополненной реалистичными павлинами, к которым подкрадывался полосатый кот.
— Вина нашего покойного хозяина, — заявил Анакрит, притворяясь самоуверенным ценителем (типа тех, кто делает много шума, хотя на самом деле ничего не знает), — почти так же прекрасны, как и убранство его дома!
Анакрит называл себя секретарем; он был шпионом. Этот человек имел небольшое крепкое тело и ласковое лицо с необыкновенными серыми глазами и такими тонкими бровями, что их было почти не видно.
— Тогда выпей! — грубо произнес Мом.
Мом был типичным надсмотрщиком над рабами: обритая голова, чтобы отпугивать вшей, пивное пузо, засаленный пояс, грязный подбородок, хриплый голос от профессиональных болезней, и он был тверд, словно старый гвоздь, застрявший в деревяшке. Мом улаживал дела со слугами. Он выпроводил всех вольноотпущенников с небольшими денежными вознаграждениями, чтобы они остались благодарными, и сейчас разбирался с рабами, которых мы нашли позади здания забившимися в бараки. Сенатор имел работников на все случаи жизни: один делал ему маникюр и завивал волосы, другие готовили выпечку и соусы, выгуливали собак и дрессировали птиц. У него были свои рабы в ванной и спальне, библиотекарь, три счетовода, арфисты и певцы, даже целый отряд шустрых молодых парней, чья работа заключалась только в том, чтобы сбегать и сделать за него ставки на скачках. Для моложавого мужчины без какихлибо семейных обязательств он прекрасно себя обеспечил.
— Дело продвигается, Фалько? — спросил Мом, воспользовавшись чашей для благоуханий как плевательницей. У нас с Момом были хорошие отношения; он бесчестный, подлый, неряшливый и хитрый — вот такой замечательный яркий тип.
— Составление списка движимого имущества сына консула может многому научить простого авентинского парня! — Я увидел улыбку Анакрита. Мои друзья предупредили меня, что он интересовался моим прошлым, пока, должно быть, не выяснил, с какого я этажа, из какого разваливающегося дома и куда выходили окна комнаты, где я родился тридцать лет назад, — на двор или улицу. Он, конечно, узнал, настолько ли я прост, насколько казался.
— Я спрашиваю себя, — пожаловался Мом, — почему людям с таким богатством обязательно рисковать всем этим, оскорбляя императора?
— Так вот что он сделал? — невинно спросил я. Мы втроем больше следили друг за другом, чем искали заговорщиков. Мом, который был преданным соглядатаем, неубедительно отправился спать.
Я был в курсе, что Анакрит следил за мной, но позволил ему продолжать в том же духе.
— Счастливый денек, Фалько?
— Всю дорогу мертвые мужики и сгорающие от желания женщины!
— Я полагаю, — поинтересовался он, — секретари во дворце держат тебя в неведении?
— Кажется, что так, — ответил я, будучи совсем не в восторге от этой мысли.
Анакрит помог мне компенсировать потерянное время албанским нектаром.
— Я пытаюсь определить твое место, Фалько. Какова твоя роль?
— О, я был сыном аукциониста, пока мой беззаботный папаша не ускакал из дома; так что сейчас я разгружаю произведения искусства и антиквариат этого мота в торговые палатки с модными товарами в Юлиевой септе… — Он все еще казался любопытным, так что я продолжил шутить. — Это как целовать женщину — если не быть грубым, то может привести к чемуто серьезному!
Анакрит искал личные документы покойного; я это знал. Такая работа мне бы и самому пришлась по душе. Он был скрытным, неуверенным в себе типом. В отличие от Мома, который мог по неосторожности продать восьмерых носильщиков паланкинов из Нумидии за два ножа для резки мяса, Анакрит — возничий из Ксанта и большой любитель потанцевать — осматривал кабинет так тщательно, словно аудитор,
которого будет проверять еще один.
— Фалько, Мом прав, — забеспокоился он. — Зачем было так рисковать?
— Острые ощущения? — предположил я. — После смерти Нерона заговоры с целью сделать когото следующим Цезарем стали более захватывающими, чем игра в бабки. Наш парень получал удовольствие от азартной игры. И он должен был унаследовать целое состояние. Пока он его ждал, один дом на Квиринале мог показаться не таким уж особенным для стремительно сделавшего карьеру служащего, который хотел, чтобы Рим его заметил.
Анакрит поморщил губы. То же самое сделал и я. Мы огляделись по сторонам. Дорогая вилла Пертинакса казалась нам особенной.
— Ну, — продолжил я, — и что вы обнаружили в папирусных свитках его величества?
— Писал он довольно глупо! — пожаловался Анакрит. — Его друзья были любителями скачек, совсем не литературные типы. Но вот денежные книги безупречны; его казначей всегда держался на должном уровне. Пертинакс жил на наличные.
— Ты нашел какиенибудь имена? Подробности заговора? Доказательства?
— Только биографию; полдня, проведенные с документами цензора, позволили узнать о нем почти все. Атий Пертинакс родом из Тарента; у его настоящего отца было звание и друзья на юге, но ни денег, ни власти. В семнадцать лет Пертинакс это исправил, когда привлек внимание старого бывшего консула по имени Капрений Марцелл, который обладал высоким социальным статусом и кучей денег, но не имел наследника…
— И, — подбодрил я, — этот пожилой денежный мешок увез молодого Гнея с «пятки сапога» и усыновил его?
— В лучших традициях. Так что теперь у Пертинакса Капрения Марцелла были грандиозные замыслы и ежемесячное содержание, чтобы платить за них. Новый отец обожал его. Он служил трибуном в Македонии…
— Безопасной, теплой провинции! — снова перебил я, опьянев. Я сам был на службе в Британии, холодной, сырой, ветреной — и тогда, во время мятежа, ужасно опасной.
— Естественно! Парню с будущим приходится следить за собой! Вернувшись в Рим, в качестве первого шага в общественную жизнь он женится на серьезной дочери довольно тупого сенатора, затем его самого быстро избирают в сенат — с первой попытки; привилегия богатенького мальчика.
На этом я потянулся и налил себе еще вина. Анакрит молчал, смакуя свое, так что я решил углубиться в подробности, о которых, как я думал, он мог не знать.
— С виду надежная дочка сенатора была ошибкой; через четыре года их брака она ошарашила Пертинакса неожиданным разводом.
— Точно! — улыбнулся Анакрит в своей вкрадчивой манере. Такова часть его шпионского мастерства — знать о других людях больше, чем они сами знали о себе. Но даже в этом случае я знал о бывшей жене Атия Пертинакса больше него.
Одно я знал точно: две недели назад она соблазнила гражданина по имени Фалько — пусть против его рассудка, но совсем не против желания.
Я осушил свою чашу. Глядя на нее, промолвил:
— Я один раз видел Пертинакса.
— По работе? И как он выглядел?
— Я не смогу вежливо описать его, не выпив еще один бокал! — На этот раз мы оба налили сладкого янтарного напитка. Анакрит, которому нравилось казаться культурным, налил себе теплой воды. Я наблюдал, как он грациозно наклонял запястье, когда регулировал толщину струйки из украшенного драгоценными камнями кувшина, а затем взболтал чашу, чтобы перемешать. Моя вода была в том виде, как мне нравилось — в отдельной чашке.
Минуту я наслаждался вином, забыв про воду, затем сказал о Пертинаксе:
— Он злой. Настоящая акула! В то время, когда я на него наткнулся, он был эдилом… — Младшее должностное лицо, следящее за порядком, при поддержке районного магистрата. — Пертинакс под предлогом арестовал меня и зверски избил, а затем его дружелюбные подчиненные вломились в мою квартиру и разнесли всю мебель.
— Ты подавал жалобу?
— На сенатора? — усмехнулся я. — А потом судья окажется его дядей и упечет меня в тюрьму за оскорбление?
— Так эдил использовал против тебя свою дубинку и теперь в ответ, — предположил Анакрит, оглядываясь вокруг, — ты роешься в македонском антиквариате его величества!
— Жестокое правосудие, — улыбнулся я, изящно держа белую спиралевидную ножку моего бокала с вином.
— Удачно! — я увидел в его бледных глазах какието размышления. — Так, значит, ты виделся с Пертинаксом… — Я догадывался, что будет дальше. — По слухам, вы с его женой не совсем чужие люди?
— Я делал для нее коекакую работу. Вспыльчивый нрав и высокие принципы — не твой тип! — невозмутимо ответил я.
— А может, твой?
— Вряд ли! Она дочь сенатора. Я писаю в канавы, на людях чешу задницу и известен тем, что вылизываю свою тарелку.
— Ха! Она не вышла замуж второй раз. Я считаю, этот их развод был чемто вроде слепого…
— Тихо! — фыркнул я. — Пертинакса арестовали, потому что его бывшая жена донесла на него.
Анакрит казался сердитым.
— Никто не счел нужным предупредить меня об этом! Мне было поручено просто сходить и допросить эту женщину…
— Вот так повезло! — сухо сказал я.
— Зачем было его выдавать? Ради мести?
Справедливый вопрос; однако я возмутился.
— Политика. Ее семья поддерживает Веспасиана. Она никогда не понимала, что, если Пертинакса посадят в тюрьму, близкие друзья будут покрывать его, пока его не смогут допросить…
Шпион вздрогнул; он знал, как его коллеги из правоохранительных органов добывали информацию в тихом уединении тюремной камеры.
— Ну, Пертинакс Марцелл, — здравствуй и прощай! — закричал Анакрит, сделав шуточный реверанс.
Лично я предпочел бы перебраться через Стикс совсем без паспорта, чем быть переданным в Гадес с благословения главного императорского шпиона.
* * *
Анакриту пора было отчитываться перед императором. Мом спал, подняв кверху свои грязные ноги.
На меня смотрело невозмутимое циничное лицо Анакрита; я решил, что смогу с ним работать, поскольку я всегда оставался на один шаг впереди.
— Ты оцениваешь меня для Веспасиана, — предположил я, — пока Мом…
— Погружен в ночной отчет о нас обоих! — с презрением выдохнул Анакрит. Его светлые брови пренебрежительно поднялись. — Ну, Марк Дидий Фалько, так что ты теперь намерен делать?
— Только разбираться со старыми счетами Пертинакса!
Анакрит не мог заставить себя поверить мне; разумный парень. Само собой, я тоже ему не доверял.
Сегодня вечером, когда он встал, собираясь уйти, я развернул свою мятую тогу и последовал за ним. Мы вышли очень тихо, оставив Мома в глубоком сне.
VII
Теплая майская ночь в Риме. Мы остановились на крыльце и вдохнули воздух. Над двумя вершинами Капитолия висели тусклые брызги крошечных звезд. От аромата горячих колбас из фарша я вдруг безумно проголодался. Вдалеке звучала музыка, в то время как ночь оживала от смеха людей, которым не о чем было жалеть.
Мы с Анакритом бодро отправились по Длинной улице, чтобы распугать нежелательную ночную торговлю. Мы прошли форум с правой стороны и по взвозу Победы вошли в Палатинский дворец. Над нами весело светились комнаты служащих, хотя если император или его сыновья и развлекались, то их пирушки уже закончились; наша новая многострадальная династия поддерживала свое государство в состоянии, достойном уважения.
У Криптопортика, на входе в длинную галерею Нерона, кивнув, нас впустили преторианцы. Мы поднялись наверх. Первыми, кого мы встретили, и последними, кого я хотел видеть, были сенатор Камилл Вер и его дочь Елена.
Я сглотнул, поджав одну щеку; Анакрит понимающе улыбнулся (черт бы его побрал!) и поспешно вышел.
У сенатора был распушившийся, официальный, свежевыглаженный вид. Я ласково подмигнул его дочери, прямо перед ним; она ответила мне слабой, скорее беспокойной улыбкой. Сильная внешность и сильный характер: девушка, с которой ты можешь пойти куда угодно — при условии, что живущие там люди не возражают, когда им откровенно говорят, что в их жизни не так. Елена была в строгом сером одеянии, ее ноги задевали тяжелые оборки на подоле платья женщины, побывавшей замужем, а темноволосую голову венчала остроконечная диадема из чистого золота. Свиток, который нес Камилл, говорил о том, что они приходили сюда с целью ходатайствовать императору, и я мог угадать их просьбу: Камилл Вер — непреклонный сторонник Веспасиана; у него был брат, который таковым не являлся. Брат устроил заговор против новой династии Флавиев; был разоблачен, убит и оставлен лежать там, где и упал. Раньше мне было любопытно, сколько времени потребовалось сенатору, чтобы осознать свою ответственность за душу брата. Теперь я знал: одиннадцать дней. Он пришел, чтобы попросить у Веспасиана труп со склада.
— А вот и Фалько! — сказала Елена своему отцу. — Он для нас разузнает…
Жена сенатора была надежной опорой, но я понял, почему сегодня он взял с собой именно дочь. За маской тихого официального поведения Елена Юстина всегда знала свое дело. К счастью, она все еще была обеспокоена их разговором в тронном зале и почти никак не отреагировала на нашу встречу. Ее отец объяснил, почему они здесь; он сказал, что император был неуступчив (неудивительно); потом в разговор вступила Елена и попросила меня провести расследование.
— Это противоречит интересам моей работы во дворце…
— Когда тебя это останавливало? — весело набросился на меня сам Камилл. Я ухмыльнулся, но вернулся к разговору о предложенном ими поручении.
— Господин, если преторианцы в свободное от работы время запихали куданибудь тело вашего брата, то вам будет легче, если вы об этом узнаете?
Елена угрожающе молчала. Комуто это предвещало нечто недоброе; я предполагал, кому именно. Я старался не вспоминать омерзительные подробности кончины ее дяди, на всякий случай, если Елена вдруг умела читать по лицу.
Я указал в том направлении, куда пошел Анакрит, намекая на срочные дела в другом месте. Камилл попросил меня остаться с Еленой, пока он будет искать повозку, и умчался прочь.
Мы с ней стояли в одном из таких широких коридоров дворца, что они сами по себе были почти целыми комнатами, а мимо нас тудасюда проходили разные служащие. Я не собирался прекращать наши нежные отношения под безвкусной роскошью приемной Нерона, так что я вел себя грубо и ничего не говорил.
— Ты знаешь! — спокойно обвинила меня Елена, все еще глядя на своего отца, который находился за пределами слышимости.
— Даже если и знаю, то не имею права сказать.
Она посмотрела на меня таким взглядом, от которого у дикобраза отсохли бы иголки.
Пока эта тема медленно таяла между нами, я наслаждался тем, что рассматривал Елену. Громоздкие складки ее столы, какую обычно носили почтенные женщины, только подчеркивали нежные формы, которые они должны были скрывать и которые, как совершенно неожиданно оказалось двумя неделями ранее, принадлежали мне. Встреча с ней этим вечером окутала меня знакомым чувством, что мы оба знали друг друга лучше, чем когданибудь узнаем когото другого — хотя никто из нас пока не разгадал и половины всего…
— Такой ты мне нравишься, — поддразнил я. — Большие карие глаза и пылающее возмущение!
— Избавь меня от этого постыдного диалога! Я полагала, — напряженным голосом сообщила мне ее светлость, — что мы могли бы увидеться и раньше.
В общественных местах у Елены был прелестный осторожный взгляд, от которого мне всегда хотелось подойти поближе, чтобы защитить ее. Одним пальцем я очень нежно провел от мягкой ямочки на ее виске до прекрасного контура подбородка. Она с таким упрямством позволила мне это сделать, что говорило о ее полном безразличии, но под моим прикосновением ее щека побледнела.
— Я думал о тебе, Елена.
— Думал о том, чтобы бросить меня? — Мне потребовалось десять дней, чтобы принять решение больше с ней не встречаться — и десять секунд, чтобы решить не расставаться. — О, я знаю! — гневно продолжила она. — Сейчас май. Тогда был апрель. Я была девушкой последнего приключения месяца! Все, чего ты хотел…
— Ты чертовски хорошо знаешь, чего я хотел! — вмешался я. — Это еще одно, чего я не могу тебе сказать, — продолжил я чуть тише. — Но поверьте мне, госпожа, я был очень высокого мнения о вас.
— А теперь ты забыл, — резко отпарировала Елена. — Или, по крайней мере, хочешь, чтобы я забыла…
Как раз в тот момент, когда я собирался продемонстрировать, как хорошо я помню и как не хочу, чтобы ктонибудь из нас забыл, яркая фигура ее великого отца снова появилась в поле зрения.
— Я приду к тебе, — вполголоса пообещал я Елене. — Мне нужно кое о чем поговорить…
— О, есть вещи, которые ты можешь нам сказать? — Она намеренно дала своему отцу услышать это. Камилл, должно быть, видел, что мы ссорились, и к этому факту отнесся с нервной скромностью, и это противоречило его истинному характеру. Когда требовали обстоятельства, он был довольно волевым человеком.
Прежде чем Елена смогла опередить меня, я сказал ему:
— О душе вашего брата позаботились с должным почтением. Если подземное царство на самом деле существует, то он валяется на травке в Гадесе и бросает палки Церберу. Не спрашивайте, откуда я это знаю.
Он воспринял это легче, чем Елена. Я коротко попрощался с ними, дав понять, что мне нужно работать.
* * *
Я вновь присоединился к Анакриту, и мы стали ожидать своей очереди у дверей императорского зала с сильным напряжением, от которого почти никто не может избавиться перед посещением такой важной особы; его расположение к нам может легко измениться. Анакрит ковырялся ногтем между зубами. Я был подавлен. Я нравился Веспасиану. Обычно он выражал это тем, что давал мне невыполнимые задания, за которые я едва чтото получал.
Нас вызвали. Управляющие императорским двором шарахались от нас, словно мы были покрыты язвами от какойто восточной болезни.
Веспасиан был не одним из тех высоких аристократов с длинной шеей, а дородным бывшим военачальником. Его роскошная пурпурная туника сидела на нем так же просто, как коричневая деревенская шерстяная одежда. У него была репутация человека, который боролся за возможность давать закладные и кредиты, но он любил рисоваться в роли императора, берясь за работу с такой хваткой, которую не показывал ни один из его предшественников со времен Августа.
— Сюда приходил Камилл Вер! — воскликнул он, обращаясь ко мне. — И эта его дочь! — У императора был раздраженный тон. Он знал о моей связи с этой девушкой и не одобрял ее. — Я ответил, что мне нечего им сказать.
— И я тоже! — печально уверил я его.
Император уставился на меня так, словно я был виноват, что мы попали в это затруднительное положение, но потом успокоился.
— Что доложите?
Изысканное удовольствие приврать господину мира я оставил Анакриту.
— Дела продвигаются, император! — Он казался таким способным, что все мои внутренности протестовали.
— Уже нашли какиенибудь доказательства? — прогремел Веспасиан.
— На Пертинакса Марцелла донесла его бывшая жена…
Я был в ярости, слыша, как Анакрит раскрыл мою информацию о Елене, но император подскочил первым.
— Не вмешивай в это девочку Камилла! — Я не сказал Анакриту, что Веспасиан и отец Елены были в дружеских отношениях; он не спрашивал.
— Очень хорошо, император, — шпион заговорил более подходящим тоном. — После Нерона новые императоры менялись, словно игральные кости; мне кажется, эти заблудшие души недооценили вашу выдержку…
— Им нужен сноб с великими предками! — язвительно усмехнулся Веспасиан. Он славился своей приземленностью.
— И с несколькими приступами сумасшествия, — прошептал я, — чтобы завоевать доверие Сената! — Веспасиан сжал губы. Как большинство людей, он думал, что моя страсть к республике была признаком съехавших мозгов. Мы все какоето время неловко молчали.
В конце концов, император заметил:
— Чего я не прощу, так того факта, что эти предатели пытались соблазнить моего младшего сына! — Трудно было представить, как серьезные противники пытались превратить молодого Домициана в императорскую марионетку; однако Домициану, у которого был знаменитый и зрелый старший брат, узурпировать естественный порядок всегда казалось блестящей идеей. Ему было двадцать лет: это уже десятилетия потрясений.
Мы с Анакритом уставились в пол. Он был выполнен с хорошим вкусом: Александрийская мозаика — большой, рельефный, витой узор черного и кремового оттенков.
— Вы не можете обвинять меня за то, что я защищаю самого себя! — настаивал любящий отец.
Мы угрюмо покачали головами. Он знал, что мы оба считали Домициана отвратительным человеком. Старик сдерживался. Ни Веспасиан, ни его первый сын Тит никогда публично не критиковали Домициана, кроме как недовольным взглядом — хотя мне кажется, что за закрытыми дверями они откровенно задавали ему хорошую трепку.
Атий Пертинакс был заодно с драгоценным сыном императора, вот почему Анакрит доставал свои бумаги серебряными щипцами. Если мы найдем какоенибудь доказательство против его мальчика, Веспасиан захочет его уничтожить.
— Так! — воскликнул он, устав от размышлений. — Заговор раскрыт: забудьте о нем. — Тон разговора изменился. — Рим повязан со мной! Мой предшественник любезно ушел в отставку…
Это один взгляд на происходящее. Последний император Вителлий был убит толпой на форуме, легионы капитулировали. Его сын был еще младенцем, а дочь Веспасиан быстро выдал замуж с огромным приданым, что на много лет привязало к ней мужа, который будет благодарно подсчитывать богатство.
Веспасиан злобно оскалил зубы и продолжил:
— Изза этого фиаско у меня в Сенате осталось четыре пустых места. Правила ясны: сенаторы должны находиться в Риме! Фауст Ферентин уплыл распивать вино с какойто старой теткой в Ликию. Я послал ему разрешение, из уважения к тетушке… — Не нужно думать, что уважение к пожилым дамам говорило о мягкости Веспасиана; под отзывчивой внешностью угрожающе ворчала стальная воля. — Трое других клоунов скрываются за городом. Гордиан и его брат Лонгин ускакали к жрецам на побережье подальше отсюда, а Ауфидий Крисп греется на солнышке на судне в заливе Неаполя. Если ктонибудь желает отметить мое вступление в должность уходом со службы, — объявил Веспасиан, — то я не возражаю. Но сенаторы должны отвечать за себя! Курция Лонгина я попросил вернуться в Рим, чтобы дать мне объяснения, после чего, полагаю, я буду обязан сделать ему одолжение, которое он не сможет забыть… — Похоже на секретную дворцовую кодовую фразу, значения которой мне никогда не объясняли. — Он на ночь останется со жрецами в храме Геркулеса Гадитанского, а завтра его допросят. Анакрит, я хочу, чтобы ты был там…
Что я ненавидел в этой работе, так это то, что меня все время исключали из всего, что бы тут ни происходило. Нахмурившись, я стал водить каблуком своего ботинка по красивому Александрийскому полу; потом я решил сделать так, чтобы они почувствовали мое присутствие.
— У нас могут возникнуть проблемы, император.
Я рассказал императору, как на меня напали на складе, как я следил за Барнабом и о своих подозрениях, что его связь с домом Пертинакса может оказаться существенной.
Главный шпион повернулся.
— Ты не упоминал об этом, Фалько!
— Прости, вылетело из головы.
Я наслаждался зрелищем, когда Анакрит разрывался между своим раздражением на меня за то, что я взял на себя инициативу, и желанием казаться таким шпионом, который все равно должен был это выяснить.
— Да просто какойто чокнутый вольноотпущенник, который думает, что чемто обязан своему мертвому патрону, — таково было его мнение, которым он пытался оправдаться.
— Возможно, — согласился я, — но я хотел бы знать, есть ли в документах Пертинакса какоелибо указание на то, что Барнаб был связан с хлеботорговлей.
— Нет, — решительно ответил Анакрит. — И я не буду ставить дорогие ресурсы дворца на слово подавальщицы с правого берега Тибра!
— У тебя свои методы, у меня свои.
— И какие же?
— Я уверен, что харчевни и винные погребки — очень хорошие источники информации!
— Оба ваших метода действенны, — вмешался Веспасиан. — Вот почему я нанял вас двоих!
Во время нашей ссоры карие глаза императора стали необыкновенно спокойными. Анакрит казался растерянным, а я был зол. Вот так мы и стояли, обсуждая государственную измену, как будто торговлю с Киликией или цены на кельтское пиво, но Веспасиан знал, о чем я думаю и почему. Спустя шесть часов после того, как я трогал размякший труп, у меня в легких все еще стояла вонь от этого мертвеца. Казалось, что мои руки до сих пор пахли его кольцами. Каждый раз, когда я пытался расслабиться, у меня в памяти всплывало то мертвеннобледное лицо. Сегодня я сделал империи немалое одолжение, однако, по всей видимости, я подходил только для избавления от трупов — работы, которая была чересчур грязной для ухоженных рук.
— Если ты проводишь время в винных погребах, береги свою печень! — предупредил Веспасиан с сардонической ухмылкой.
— Незачем, — резко сказал я. — Я имею в виду, император, что незачем мне рисковать своим здоровьем и невинностью в местах, где околачиваются головорезы, добывая информацию, которой никто никогда не воспользуется!
— Какой невинностью? Терпение, Фалько. Для меня главное — примириться с сенатом, а ты не дипломат! — Я посмотрел на него, но сохранял спокойствие. Веспасиан слегка расслабился. — Мы сможем взять этого парня, Барнаба?
— Я назначил ему встречу в доме Пертинакса, но начинаю подозревать, что он может не прийти. Он отсиживается неподалеку от таверны под названием «Заходящее солнце» к югу от Аврелиевой дороги…
Управляющий ворвался в помещение так, словно в дешевую уборную после хорошего завтрака.
— Цезарь! Горит храм Геркулеса Гадитанского!
Анакрит уже приготовился бежать, но Веспасиан его остановил.
— Нет. Ты отправляйся через Тибр и задержи этого вольноотпущенника. Просто дай ему понять, что заговор раскрыт. Выясни, знает ли он чтонибудь, а потом желательно отпустить его — но убедись, что он понял: если продолжит и дальше мутить воду в пруду, то это не будет воспринято положительно. — Когда Веспасиан повернулся ко мне, я старался избавиться от всплывшего в воображении сатирического образа императора в виде огромной лягушки, сидящей на листе лилии. — За пожаром может присмотреть Фалько.
Поджог — это грязное дело; там не требуется дипломатия.
VIII
Я шел к храму в одиночестве. Активность и уединение были для меня словно глоток свежего воздуха.
В трудные моменты мне нужно было идти одному — и пешком. Я снашивал свои ботинки, но моя профессиональная целостность была невредима.
Каждый раз, когда я платил своему сапожнику, целостность беспокоила меня все меньше.
Храм Геркулеса находился в Авентинском квартале, в котором я и жил, так что я мог появиться там как любой местный зевака, заметивший пламя на пути домой из публичного дома и воспринявший это зрелище как второе развлечение за вечер. Храм был достоин сожаления. Его впихнули между сирийской булочной и будкой точильщика. У него были две потертые ступеньки, где ворковали голуби, спереди четыре колонны, перекошенный деревянный фронтон и разваливающаяся красная крыша, изобилующая доказательствами того, что именно туда перелетали голуби со ступенек.
Кажется, храмы всегда сгорают дотла. Правила их строительства, должно быть, не предусматривают спасательных ведер и противопожарных покрытий на полах, как будто посвящение богам служит своей страховкой. Но, повидимому, боги устали защищать алтари, на которых без присмотра оставляют вечный огонь.
Пожар был в самом разгаре. Собралась оживленная толпа. Я пробивался к зданию.
Авентинские стражники облокотились на портики неподалеку, а пламя освещало их лица пылающим красным светом. У всех были шрамы, хотя большинство имело любящих матерей и один или двое могли даже сказать, кто их отец. Среди них, задумчиво подперев подбородок, стоял мой старый друг Петроний Лонг — широкоплечий, спокойный человек с квадратным лбом и дубинкой за поясом. Он был из тех, кого можно затащить в уголок, чтобы поболтать о женщинах, о жизни и о том, где купить испанский окорок. Петроний командовал отрядом стражников, но никогда не позволял этому обстоятельству мешать нашей дружбе.
Я проталкивался вперед. Жар был настолько сильным, что мог растопить костный мозг. Мы оглядели толпу на тот случай, если там был поджигатель с безумными глазами, все еще наблюдавший за этой сценой.
— Дидий Фалько, — прошептал Петроний, — ты всегда первым возвращался в казармы и тушил пожары! — Мы оба отслужили в армии на суровом севере — пять лет во втором легионе Августа в Британии. Половину этого времени мы провели на границе. Вернувшись домой, мы оба думали, что никогда уже не согреемся. Петроний женился; он решил, что это поможет. Разные полные страсти молодые девушки пытались таким же образом помочь мне, но я их не подпускал. — Был у своей подружки?
— У которой? — усмехнулся я. Я знал, кого он имеет в виду. За последние, по крайней мере, две недели была всего одна. Я прогнал от себя живые воспоминания о том, как обидел ее сегодня вечером. — Петро, ведь здесь произошел несчастный случай, которого легко можно было избежать?
— Простая неудача. Служителей храма не было на месте, они играли в кости в харчевне в конце улицы; курильницу оставили тлеть…
— Есть пострадавшие?
— Сомневаюсь. Двери заперты… — Петроний Лонг взглянул на меня и по моему лицу увидел, что для этого вопроса есть повод, затем с тяжелым стоном повернулся к храму.
Мы были беспомощны. Даже если его люди выбьют эти двойные обитые двери с помощью стенобитного орудия, все внутри взорвется, превратившись в огненный шар. Языки пламени уже вспыхивали высоко на крыше. Черный дым и тревожный запах достигли реки. Снаружи на улице от пламени наши лица сверкали, как стекло. Внутри никто бы не выжил.
Двери все еще были на месте и заперты, когда сдались балки крыши.
* * *
Ктото, наконец, отыскал пожарных в одной забегаловке, и они начали ведрами заливать здание снаружи. Сначала стражникам пришлось найти работающий фонтан, что со стороны казалось обычными неловкими попытками. Петроний разогнал большую часть толпы, хотя несколько особ, которых дома ждали свирепые жены, остались здесь, чтобы насладиться покоем. Мы зацепили за одну из дверей абордажные крюки и с оглушительным скрежетом вырвали наружу несколько выжженных бревен; затвердевшее тело, предположительно человеческое, валялось внутри. Профессиональный жрец, который только что пришел, сказал нам, что расплавленный амулет, прилипший к костям груди, на вид не отличается от того, что всегда носил Курций Лонгин, заговорщик, о котором упоминал Веспасиан.
Лонгин гостил в его доме. Тем вечером служитель ужинал с этим человеком; жрец с удрученным видом отвернулся.
Петроний Лонг накинул на кусок обуглившейся плоти кожаную занавеску. Я дал ему начать расспросы, пока сам продолжал осматриваться по сторонам.
— Вы обычно запираете двери на ночь? — начал он, кашляя от дыма.
— Зачем нам запираться? — У служителя храма Геркулеса была здоровая черная борода; он, наверное, был лет на десять старше нас, но выглядел таким же крепким, как стена цитадели. В мяч с этим здоровяком лучше играть только в том случае, если он возьмет вас в свою команду. — Мы же не храм Юпитера, наполненный награбленным богатством, или сокровищница храма Сатурна. Некоторые святыни приходится закрывать, когда темнеет, чтобы туда не забирались бродяги, но не нашу!
Я видел почему. Несмотря на то, что неприветливый старик Геркулес Гадитанский, вероятно, любил бродяг, там все равно негде было удобно присесть и нечего воровать. Простой кирпичный чулан, не больше, чем хранилище на ферме.
Терракотовая статуя бога, теперь поваленная массой рухнувшей с крыши черепицы, имела незаконченный вид, который хорошо сочетался с наспех построенным зданием. Служитель был похож на изголодавшегося человека, работающего в бедном районе и целый день общающегося с кулачными бойцами, у которых отбиты все мозги. Под бородой у него скрывалось красивое восточное лицо, а огромные глаза были такими грустными, словно он знал, что его бог популярен, но его никто не воспринимал всерьез.
— Кто оставался за главного? — устало продолжал Петроний, все еще расстроенный находкой трупа. — Вы знали, что этот человек находился здесь?
— Я был за главного, — заявил служитель. — На завтра Курцию Лонгину была назначена встреча с императором. Он молился в храме, чтобы успокоиться…
— Встреча? По какому вопросу?
— Спросите императора! — фыркнул служитель.
— У кого хранятся ключи от храма? — вмешался я, осматривая, что осталось от святилища.
— Мы оставляем их на крючке на стене сразу за дверью.
— Больше не оставляете! — злобно поправил Петроний.
Крючок был на месте — пустой. Я шагнул, чтобы посмотреть.
Служитель храма беспомощно уставился на дымящиеся остатки разрушенного дома Геркулеса. Искры на внутренних стенах продолжали оставлять трещины на цементном покрытии. Он не хотел расстраиваться, подсчитывая ущерб, пока мы с Петро смотрели на него.
— Я должен написать его брату…
— Не делайте этого! — холодно приказал я ему. — Император сам уведомит Курция Гордиана.
Служитель собрался уходить, так что я приготовился последовать за ним. Я кивнул Петро, который дернул головой, раздраженный моим уходом. Я похлопал его по руке, а затем стал выбираться вслед за чернобородым типом.
Поднимаясь, мы прошли мимо нервной фигуры человека, который работал на Анакрита; он был так занят тем, чтобы дать о себе знать, что пропустил нас. Когда я оглянулся, этот мужчина доставал Петро. Петроний Лонг отставил свою большую ногу и просто слушал с отрешенным видом уставшего человека, которому очень нужно выпить. Шпион никуда не уходил. Спокойное пренебрежение — это особенность авентинской стражи.
Когда служитель направился в сторону дома, я тоже поспешил за ним.
— Курций Лонгин вернулся в Рим сегодня вечером?
Он молча кивнул. Сейчас у него был шок, и этот человек не хотел разговаривать. Его сознание было обеспокоено, но ноги автоматически шли большими сильными шагами; чтобы держаться, не теряя достоинства, требовались силы.
— Значит, у него не было возможности ни с кем встретиться?
Служитель покачал головой. Я ждал. Он чтото вспомнил.
— Во время ужина его позвали поговорить с какимто знакомым.
— Вы видели, кто это был?
— Нет. Он отлучился всего на минутку. Я предполагаю, — решил жрец, который так радовался своим способностям к дедукции, что ему даже удалось замедлить шаг, — Лонгин отложил их встречу до сегодняшнего вечера!
— Здесь, в вашем храме! Вполне вероятно. Откуда вы узнали, что тот таинственный человек был мужчиной?
— Мой служитель сказал Курцию Лонгину имя его гостя.
Я тихонько прошептал молитву благодарности Геркулесу.
— Помогите себе и вашему храму; скажите мне…
Мы остановились на углу у фонтана, который лился из интимных отверстий меланхоличного речного бога.
— Чем это может помочь? — раздраженно спросил служитель.
— Скоро наш великодушный новый император будет планировать свою гражданскую программу по реконструкции. Повторное освящение храмов сделает императору доброе имя!
— Насколько я понял, в казне катастрофически не хватает средств…
— Это ненадолго. Отец Веспасиана был сборщиком налогов; вымогательство у него в крови.
Жрец достал ключ от входной двери.
— Кажется, вы довольно легко говорите о неполученных доходах императора! — заметил он. — Кто вы?
— Меня зовут Дидий Фалько; я действую от имени дворца…
— Ха! — Он оживился, нападая на меня. — Почему же умный, добрый сын Рима связался с таким сомнительным дельцем?
— Именно об этом я себя и спрашиваю! Так скажите мне, — снова надавил я на него, — кем был тот знакомый Лонгина?
— Некто по имени Барнаб, — сказал служитель.
IX
Сейчас уже было темно, но я знал, что Веспасиан работает допоздна, и отправился в императорский дворец.
Я ждал, пока он выпроводит людей, которые отгоняли мух и подносили вино. Правда, они никогда даже и не надеялись остаться в комнате, если здесь происходило чтото интересное. Потом я ждал еще, пока надменные секретари также получат свой приказ маршировать отсюда.
Оставшись наедине, мы оба расслабились. Я растянулся на императорской кушетке для чтения и смотрел на сводчатый потолок на расстоянии двадцати футов надо мной.
Эта комната была отделана темнозелеными панелями из Брешии, разделенными пилястрами из известкового туфа кремового цвета. Подсвечники на стенах были позолочены, все в форме раковин, все зажженные. Я вырос в мрачных домах, где мои кудри задевали потолок; с тех пор я неловко чувствую себя в огромных пространствах с изысканными цветовыми гаммами. Я лежал на кушетке с таким чувством, будто беспокоился, что на ее шелковой обивке от моего тела останется некрасивое пятно.
Император облокотился на высокий подлокотник и с хрустом грыз яблоки. На его квадратном смуглом лице с морщинками вокруг глаз скалой выдавался нос и хорошенький вздернутый подбородок, какой можно увидеть на монетах. Что не передает среднестатистический динарий, так это то, что Веспасиан Август открыл во мне хороший источник легкого утешения.
— Ну, Фалько? — Он нахмурился, глядя на большой спелый фрукт, возможно, из его собственного сабинского имения. Веспасиан никогда не платил за то, что мог вырастить сам.
— Цезарь, я терпеть не могу, когда грязные дикари получают доброе имя, но по действительно сладким яблокам Британия — чемпион мира!
Веспасиан проходил в Британии военную службу, которая имела определенно выдающиеся последствия. Моя британская служба была двадцатью годами позже и совсем не выдающейся. Ктонибудь типа Анакрита обязательно должен был сказать ему об этом.
Старик замер на минутку, как будто мое упоминание маленьких хрустящих яблочек из Британии, которое вызвало на языке взрыв такой неожиданной сладости, сыграло на старых чувствах. Если бы я не ненавидел Британию так сильно, то сам, возможно, почувствовал бы приступ тоски по дому.
— Что произошло в храме?
— Боюсь, плохие новости, император. Курций Лонгин мертв. К счастью для него, кремация у нас сегодня в моде. — Веспасиан застонал и ударил по кушетке огромным кулаком. — Император, за имена ваших противников предполагается премия. Входит ли сюда поиск маньяка, который крошит их на мелкие кусочки?
— Нет, — сказал Веспасиан. Он знал, что для меня это серьезный удар.
— Вся империя обожает великодушие императора!
— Не надо сарказма, — грозно рявкнул он.
В какомто смысле мы с ним не подходили друг другу. Цезарь Веспасиан был высоким сенатором из низкой семьи, но аристократом не в одном поколении. Я был искренним общительным грубияном с авентинским акцентом и без всякого чувства уважения. Тот факт, что мы успешно могли работать вместе, был типичным римским парадоксом.
Пока он со злым хмурым видом обдумывал мои новости, я воспользовался этим временным затишьем, чтобы рассказать всю историю от начала до конца.
— Император, пропавший вольноотпущенник, о котором я вам говорил, слышал, что Лонгин находится в Риме. Я уверен, что они встретились. Выглядит так, будто вольноотпущенник устроил пожар. Анакриту удалось отыскать его на правом берегу Тибра?
— Нет. Вольноотпущенник упаковал свои вещи и отбыл. Когда он устроил тот пожар, то, должно быть, уже приготовился сменить место жительства. Это четкий план. Во что он играет, Фалько?
— Либо это сумасшедший акт мести за смерть своего патрона в тюрьме, либо чтото более опасное.
— Ты хочешь сказать, что либо Барнаб считает Лонгина виновным в убийстве Пертинакса, либо Лонгина пришлось заставить замолчать, прежде чем он встретится со мной завтра изза чегото, что он мог рассказать? Неужели Курций Лонгин стал причиной смерти Пертинакса?
— Нет, император. Возможно, это устроил человек, которого я по вашему приказу сбросил сегодня утром в канализацию.
— Тогда что же Лонгин мог мне сказать?
— Я не знаю. Вероятно, его брат сможет нас просветить.
Здоровяк с угрюмым видом задумался.
— Фалько, почему у меня сложилось впечатление, что в тот момент, когда мы закопали один заговор, на свет появляется новый?
— Я подозреваю, потому что он есть.
— Я не из тех, кто тратит свое время, бегая в страхе перед убийцами.
— Да, император.
Веспасиан недовольно заворчал.
— Ты мне нужен для коекакого дела, Фалько, — предложил он. — Это очень плохо отражается на моей власти — я хочу, чтобы люди знали, что я служу им верой и правдой! Небезопасно приглашать другого брата Курция в Рим, но лучше, если ктото быстро поедет туда, чтобы предупредить его. В этом деле замешано не так много людей. Передай ему мои соболезнования. Помни: он сенатор. Из старинного рода, с хорошей репутацией. Просто расскажи ему, что произошло, пусть его защищают охранники, потом попроси его написать мне…
— Мальчик на посылках! Цезарь, это вы попросили меня работать здесь! Однако мне приходится выжимать комиссионные, как капли из яловой коровы… — Выражение его лица остановило меня. — А что насчет того, чтобы предупредить владельца корабля Криспа в Неаполе?
— Мечтаешь прихватить его прямо на судне?
— Не оченьто; у меня морская болезнь, и я не умею плавать. Но я хочу выполнять настоящую работу.
— Извини, — пожал он плечами, раздражительно и бесцеремонно. — Анакрит ждет не дождется морского бриза, когда будет вручать эту повестку.
— Так, значит, Анакрит будет развлекаться вместе с богачами, пока я проделаю три сотни миль на спине резвого осла, а затем получу удар в челюсть, когда поведаю Гордиану о его потере. Цезарь, я хотя бы имею полномочия поговорить насчет его возвращения? Что вы называете «одолжением, которое он не сможет забыть»? А что, если он меня об этом спросит? Если он скажет, чего хочет?
— Он не скажет, Фалько. А если скажет, то прояви инициативу.
Я засмеялся.
— Вы имеете в виду, император, что у меня нет четкой власти; если я смогу завоевать его расположение, то какойнибудь снобуправляющий, возможно, поблагодарит меня, но если чтото пойдет не так, то я полностью сам по себе!
Веспасиан сухо кивнул.
— Это называется дипломатией!
— За дипломатию я беру дополнительно.
— Мы можем обсудить это, если твои попытки сработают! Задача состоит в том, — более спокойно объяснил он, — чтобы выяснить у Курция Гордиана, почему его брат Лонгин оказался убит.
Доедая свое последнее яблоко, император спросил:
— Ты сможешь уехать из Рима прямо сейчас? Как справляешься с имением Пертинакса?
— Распродажа имущества идет хорошо! Уже распределили все предметы роскоши; сейчас на блошиных рынках мы устраиваем распродажи со столов: всякие кувшины с болтающимися ручками и помятые горшочки для соусов. Даже в лучших домах обнаруживаются целые корзины тупых старых ножей, ни один из которых не подходит… — я остановился, потому что, судя по тому, что я слышал, это напоминало кухонные буфеты дома у семьи Веспасиана до того, как он стал императором.
— Хорошие цены назначаете? — быстро спросил он.
Я улыбнулся. Эта скупердяйская мысль императора насчет хороших цен была слишком уж неестественной.
— Вы не разочаруетесь, император. На меня работает аукционист по имени Гемин. Он относится ко мне как к собственному сыну.
— Анакрит думает, что ты и есть его сын! — выдал Веспасиан. Меня поразила хитрость Анакрита. Мой отец ушел из дома с рыжей вязальщицей шарфов, когда мне было семь лет. Я никогда его не простил, а моя мама смертельно обиделась бы, узнав, что у меня с ним сейчас какието дела. Если Гемин и был моим отцом, я бы предпочел этого не знать.
— Анакрит, — коротко сказал я Веспасиану, — живет в своем романтическом мире!
— Очень азартен в своей работе. А что ты думаешь о Моме?
— Так себе.
Веспасиан проворчал, что мне никто никогда не нравится; я согласился.
— Жалко Лонгина, — задумчиво произнес он, клоня к окончанию нашей беседы.
Я понял, что он хочет сказать. Любой император может казнить людей, которые с ним не согласны, но оставлять их на свободе, чтобы те снова на него нападали, — это особый стиль.
— Вы понимаете, — пожаловался я, — что брат Гордиан подумает, будто сегодняшний ад приказали устроить вы. Когда я появлюсь перед ним со счастливым лицом, он предположит, что я ваш личный истребитель — или так и есть? — подозрительно спросил я.
— Если бы мне нужен был дрессированный убийца, — отвечал Веспасиан, позволяя мне оскорблять его, как будто он получал удовольствие от этого нового занятия, — я бы нанял когонибудь, кто меньше высказывает свое мнение о нравственности…
Я поблагодарил его за комплимент, хотя Веспасиан сделал его ненамеренно, затем вышел из дворца, проклиная шанс получить премию, который я потерял изза пламенной кончины жреца Лонгина. Чтобы относиться к среднему классу, мне нужно было четыреста тысяч сестерциев. Веспасиан оплачивал мои расходы наличными плюс скудную суточную норму. Если бы я не зарабатывал немного дополнительно, это приносило бы мне жалкие девять сотен в год. Чтобы прожить, нужна, по крайней мере, тысяча.
X
Несмотря на все опасности ночных улиц, я снова пошел к дому Пертинакса. Мне удалось добраться до Квиринальского холма всего лишь с синяком на руке от пьяницы, который, абсолютно не чувствуя пространства, врезался прямо в меня. Однако пространство он чувствовал лучше, чем казалось; когда мы выделывали неистовые пируэты, бродяга свистнул мой кошелек — тот, в котором я ношу мелкие камешки для разбойников такого рода.
Я ускорял шаг на протяжении нескольких улиц, на случай, если он бросится за мной, чтобы извиниться.
До виллы я дошел без дальнейших несчастий.
Изза установленного в Риме комендантского часа мы смогли привезти колесное транспортное средство на Квиринал только с наступлением темноты; быть душеприказчиком — занятие для призраков. Теперь на улице стояли четыре повозки, а люди аукциониста грузили на них кушетки из атласного дерева и
эмалированные египетские серванты, в которые втиснули светильники, чтобы уравновесить нагрузку. В доме я помогал носильщикам, подставив плечо к шкафу для одежды, который они двигали по коридору.
— Фалько!
Мастер Горний хотел мне чтото показать. Под сопровождение эха от наших шагов мы из пустого красного коридора спустились в спальню на первом этаже, где я еще не был. Мы вошли через обшитую панелями дверь, которая находилась между двумя базальтовыми скульптурами.
— О, очень мило!
Женская комната — роскошная и тихая. В пять раз больше любой из комнат, в которых я когдалибо жил, а потолки в два раза выше. Нижняя обшивка стен была расписана под нежносерый мрамор, а верхние панели небесноголубого цвета обрамляла лента пастельных тонов, завершаясь в центре медальонами. Напольная мозаика составляла замысловатый узор в оттенках серого, безусловно придуманный специально для этой комнаты, на котором даже выделялось пространство для кровати; там потолок был ниже, создавая уютную нишу для сна.
Кровати уже не было. Осталась всего одна вещь. Горний указал на небольшой сундук из резного восточного дерева, который стоял на четырех круглых расписных ножках.
— Привезен из Индии? Ключ есть?
Горний вручил мне кусочек холодного металла с тревожным взглядом, словно боялся, что мы сейчас найдем мумию какогонибудь ребенка. Я сдул пыль и открыл.
Ничего ценного. Старые письма и несколько ниточек янтарных бус, все неровной формы и неудачно сочетающихся цветов. Подобные вещи может хранить полная надежд девушка на тот случай, если у нее появится ребенок, который будет с ними играть. Бумажка на самом верху сундука вызывала аппетит: «Палтус под тминным соусом».
— Для Анакрита здесь ничего нет. Забирай ящик; я об этом позабочусь… — Горний поблагодарил меня, и двое носильщиков унесли сундук.
Я остался стоять один, посасывая нижнюю губу. Я понял, кто здесь когдато жил. Елена Юстина, бывшая жена заговорщика.
Мне нравилась эта комната. Ну, хорошо, мне нравилась она. Она мне настолько нравилась, что я пытался себя убедить, что мне лучше больше с ней не встречаться.
Сейчас какаято старая коробка, однажды принадлежавшая ей, заставила мое сердце биться, как у безнадежно влюбленного двенадцатилетнего мальчишки.
Все, что здесь осталось, это массивный канделябр на великолепном позолоченном рельефном украшении на потолке. Движение воздуха между его дорогими свечками создавало прыгающие тени, которые через раздвижные двери проводили меня в личный садик во дворе, где росли инжир и розмарин. Наверное, Елена любила сидеть здесь, утром за своим теплым чаем из трав или днем за письмами.
Я вернулся и просто стоял, представляя, как, должно быть, когдато выглядела эта прекрасная комната, заполненная ее личными вещами: высокая кровать и обязательно плетеные из прутьев кресла и скамеечки для ног; шкафы и полки; баночки для духов и флаконы с маслами, серебряные горшочки для косметики, шкатулки из сандалового дерева для украшений и ленточек, зеркальца и гребни, сундуки для одежды. Служанки и горничные ходят тудасюда. Арфист развлекает ее, когда ей грустно. На это была уйма времени: четыре несчастных года грусти.
Спальня Пертинакса находилась в отдельном крыле. Вот как живут богачи. Когда Пертинакс желал, чтобы его великолепная молодая жена выполнила перед ним свои супружеские обязанности, то раб приводил ее через два холодных коридора. Возможно, иногда она приходила к нему сама, но я в этом сомневался. Как и в том, что он когдато пытался ее здесь чемто удивить. Елена Юстина развелась с Пертинаксом изза того, что он не уделял ей никакого внимания. Я ненавидел его за это. Он купался в роскоши, хотя имел нелепые моральные ценности.
Я вернулся в атрий, чувствуя боль в груди, и случайно столкнулся с Гемином.
— Паршиво выглядишь!
— Собираю идеи по декорированию.
— Найди себе нормальную работу и зарабатывай приличные деньги!
Мы уже вынесли статуи, но пока болтали, обнаружилась еще одна. Гемин про себя оценил произведение искусства, затем открыто с вожделением посмотрел на девушку. Скульптура была великолепно высечена, затем отлита из бронзы, смотреть на нее было одно удовольствие: это оказалась сама Елена Юстина.
Я слегка присвистнул. Искусная работа. Меня поразило, как можно было в металле запечатлеть то чувство злого возмущения, которое всегда готово вотвот вырваться наружу, и намек на улыбку в уголках ее губ… Я стряхнул кучу мокриц с ее локтя, затем похлопал по изящной бронзовой попке.
Гемин был тем аукционистом, которого Анакрит выдал за моего родителя. Я видел, почему люди могут так думать. Точно так же, глядя на свою семью, я понимал, почему отец решил сбежать. Он был коренастым, скрытным, угрюмым человеком примерно шестидесяти лет с пышными кудрявыми седыми волосами. Гемин был довольно красивым — хотя менее красивым, чем он думал. Его профиль вырисовывался в одну строгую линию без выступа между глазами — настоящий этрусский нос. У него был нюх на скандалы и глаз на женщин, что сделало из него легенду даже в Юлиевой септе, где собираются торговцы антиквариатом. Если бы один из моих клиентов захотел продать какуюнибудь фамильную ценность, то я отправил бы ее ему. Если бы клиентом была женщина, а я оказался бы занят, то отправил бы и ее тоже.
Мы стояли и играли в искусствоведов. Скульптура Елены была без подписи, но выполнена хорошим греческим скульптором, с натуры. Изумительная, с позолотой на прическе и раскрашенных глазах. Она изображала Елену в возрасте приблизительно восемнадцати лет, с волосами, уложенными в старомодном стиле. Одета она была формально — с искусным намеком на то, как она выглядела под одеждой.
— Очень мило, — прокомментировал Гемин. — Очень симпатичное произведение!
— Где они прятали эту красавицу? — спросил я носильщиков.
— Запихали в укромное местечко, за кухней.
Я мог сам догадаться. Я не представлял себе, как Пертинакс задумчиво смотрит на нее в своей комнате. Все, что хранил этот идиот в своей спальне и кабинете, — это серебряные статуэтки его колесниц и картины с кораблями.
Мы с Гемином любовались ее пышными формами. Должно быть, он заметил мое выражение лица.
— Кастор и Поллукс! Ты бегаешь за ней, Марк?
— Нет, — сказал я.
— Лжец! — возразил он.
— Правда.
На самом деле, когда ее светлость захотела познакомиться поближе, она сама за мной бегала. Но это было не его дело.
С восемнадцати до двадцати трех женщины сильно меняются. Больно было видеть Елену, когда ее еще не коснулись все эти испытания с Пертинаксом, и мечтать о том, чтобы я первым познакомился с ней. Чтото в выражении ее лица, даже в том возрасте, заставило меня с тревогой осознать, что я слишком активно коегде флиртовал сегодня — и всю свою жизнь.
— Слишком покорная. Он не уловил ее нрав, — прошептал я. — В реальной жизни эта женщина смотрит так, будто откусит тебе нос, если ты подойдешь слишком близко…
Осматривая мой нос на предмет укусов, Гемин протянул руку, чтобы ущипнуть его, будто это был его собственный. Я вскинул руку, чтобы оттолкнуть его.
— И как близко ты обычно подходишь?
— Я встретил ее. В прошлом году в Британии. Вернувшись в Рим, она наняла меня в качестве телохранителя — видишь, все абсолютно просто и никакого скандала…
— Ты теряешь хватку? — издевался Гемин. — Немногие знатные молодые девушки могут проехать тысячу четыреста миль с симпатичным парнем и не позволить себе некоторого утешения за трудности в пути! — Он рассматривал ее. Я на мгновение почувствовал нерешительность, как будто только что познакомились два важных для меня человека.
Я все еще сжимал в руке ее рецепт.
— Что это?
— Как готовить палтус в тмине. Нет сомнений, что эта любимая обеденная закуска ее мужа… — мрачно вздохнул я. — Знаешь, как говорят: по цене трех лошадей можно купить приличного повара, а с тремя поварами ты, вероятно, сможешь приготовить палтуса — а у меня даже нет лошади!
Он дьявольским взглядом посмотрел на меня.
— Хочешь ее, Марк?
— Негде ее поселить.
— Эту статую? — спросил он с широкой улыбкой.
— Ах, статую! — ответил я, тоже печально улыбаясь.
Мы решили, что будет крайне неправильно продавать скульптуру известной женщины на общественном рынке. Веспасиан согласился бы с этим; он заставил бы ее семью выкупить статую обратно по какойнибудь непомерной цене. Гемин относился к императорам так же неодобрительно, как и я, поэтому мы изъяли Елену Юстину из императорского имущества.
Я отослал скульптуру ее отцу. Для перевозки я сам завернул ее в дорогостоящий египетский ковер, который также был исключен нами из списка. Аукционист присвоил его себе.
* * *
Поздно ночью в пустом доме воображение может играть с тобой в странные игры.
Горний со своими грузчиками уже уехал; Гемин ушел передо мной. Я вошел в гостиную, чтобы забрать свою мятую тогу. Выходя из комнаты, я потирал уставшие глаза. Свет был тусклым, но я краем глаза заметил когото в атрии — предположительно, одного из рабов.
Он смотрел на статую.
В тот момент, когда я отвернулся, чтобы закрыть за собой дверь в комнату, он исчез. Это был светловолосый худой мужчина примерно моего возраста, с острыми чертами лица, напомнившие мне человека, которого я однажды видел… Невозможно. На одно леденящее душу мгновение я подумал, что увидел призрака Атия Пертинакса.
Должно быть, я в последнее время слишком много думал; у меня было богатое воображение, и я устал. Целый день размышляя о мертвецах, я свихнулся. Я не верил, что улетевшие обиженные души когданибудь возвращаются и бродят в своих безмолвных домах.
Я направился в атрий. Открыл дверь, но никого там не нашел. Вернулся к бронзовой статуе и сам дерзко уставился на нее. Из ковра, который я сам ранее обернул вокруг нее, выглядывало только лицо.
— Так значит здесь ты, я и он, дорогая. Он призрак, ты статуя, а я, похоже, сумасшедший…
Серьезное лицо юной Елены смотрело на меня своими яркими, нарисованными глазами и неземной, милой и искренней улыбкой.
— Ты настоящая женщина, принцесса! — сказал я ей, еще раз игриво шлепнув по ее завернутому в ковер заду. — Совершенно ненадежная!
Призрак растворился в одной из мраморных стенных панелей, статуя взглянула на меня с презрением. Сумасшедший затрясся от страха, после чего поспешил к выходу, чтобы успеть догнать Гемина на пути домой.
XI
На мой взгляд, лучшие римские дома — это не те прекрасные закрытые ставнями виллы на Пинции, а характерные жилища вдоль берега Тибра в моем квартале, с их тихими лесенками, по которым можно спуститься к реке, и удивительными видами. Там жил Гемин. У него были деньги и вкус, и он родился на Авентине.
Чтобы подбодрить меня, он всегда говорил, что их затапливает река. Ну, у него было столько рабов, что они могли бы укротить Тибр. И если у аукциониста намокнет мебель, то он с легкостью достанет новую.
Гемин сегодня возвращался домой в своем обычном тихом стиле: барский паланкин с шестью здоровыми носильщиками, веселый отряд людей с факелами и два личных телохранителя. Я догнал носильщиков. Пока мы ехали, мне трудно было говорить, потому что всю дорогу Гемин ужасно мерзко посвистывал сквозь зубы. Он хмуро посмотрел на меня, остановившись за два грязных квартала от моего дома.
— Держись за свои корни, Марк; оставь знать для того, чтобы обирать, а не флиртовать! — Я был не в настроении спорить. Кроме того, этот человек был прав. — Расскажешь об этом?
— Нет.
— Ты хочешь оказаться…
— Пожалуйста, не говори мне, чего я хочу! — недовольно усмехнулся я и вылез.
Гемин наклонился ко мне и спросил:
— Деньги могли бы помочь?
— Нет.
— Ты хочешь сказать, не от меня…
— Ни от кого. — Я с упрямым видом стоял посреди улицы, когда паланкин Гемина тронулся дальше.
— Я никогда не понимал тебя! — проворчал он мне вслед.
— Хорошо! — сказал я.
* * *
Подходя к своему дому, я услышал зловещий хохот Смаракта, хозяина моей квартиры, который веселился от низкосортного вина и непристойностей Лении. Я был истощен. Казалось, что до шестого этажа целая миля. Я собирался заночевать в прачечной в какойнибудь корзине с грязными тогами, но самонадеянность Смаракта так меня взбесила, что я поспешил наверх, даже не раздумывая.
Внизу резко распахнулась дверь.
— Фалько?
Я бы не вынес еще одной ссоры изза моей неуплаты, поэтому прыгнул на следующую лестничную площадку и стал подниматься дальше.
Через шесть пролетов я уже почти успокоился.
В темноте открыв дверь, я услышал, как зашуршали хитрые тараканы, убегая прочь. Я резко бросился вперед и стал наобум убивать оставшихся. Затем присел на скамейку и дал уставшим глазам отдохнуть от сверкающего мрамора богачей, уставившись на серые дощатые стены дома.
Я сдержался от ругательства, потом перестал сдерживаться и разразился. Мой геккон в шоке скользнул на потолок. Я заметил железную сковородку, стоявшую на кухонном столе; в ней была еще половина вчерашней тушеной телячьей отбивной. Когда я подошел, чтобы заглянуть под перевернутое блюдо, которое использовал в качестве крышки, телятина показалась мне такой слипшейся, что мне не захотелось ее есть.
На столе мне оставили документ — папирус хорошего качества и печать Веспасиана. Его я тоже проигнорировал.
Что касается моего разговора с Гемином, то единственная статуя, для которой у меня найдется место, — это одна из тех трехдюймовых глиняных миниатюр, которые люди оставляют в храмах. Здесь не было места для девушки в полный рост, которой необходимо пространство, чтобы хранить свои платья и в уединении сердиться, когда она обидится на меня.
* * *
Борясь с усталостью, я, спотыкаясь, вышел на балкон и полил растения. Здесь наверху могло быть ветрено, однако мои заросли пыльного плюща и голубая сцилла в горшочках цвели лучше меня. Моя младшая сестра Майя, которая присматривала за ними в мое отсутствие, сказала, что этот сад должен произвести на женщин впечатление. Наша Майя была маленькой умной плюшечкой, но в этом она ошибалась; если женщина была готова забраться по ступенькам на шестой этаж, чтобы увидеть меня, то заранее знала, ради какого нищего героя она поднималась по этой лестнице.
Я медленно вдохнул ночной воздух, вспоминая последнюю девушку, которая побывала в моем гнезде, а потом ушла с цветком в брошке.
Я сильно по ней скучал. Казалось, никто другой не стоит такого беспокойства. Мне нужно было с ней поговорить. Каждый день без Елены казался какимто незаконченным. Я легко переносил суматоху, но вечерняя тишина напоминала мне о том, что я потерял.
Я ввалился в комнату, слишком уставший, чтобы поднимать ноги. Я хотел пить, однако сейчас письмо Веспасиана требовало моего внимания. Отдирая воск, я автоматически оценивал события сегодняшнего дня.
Участник раскрытого заговора умер, что было совершенно не нужно; вольноотпущенник, который не должен был играть никакой важной роли, внезапно стал ее играть. Этот идиот Барнаб ставил непреодолимые препятствия. Улыбаясь, я развернул документ.
а) «По приказу Веспасиана Августа; М. Лидий Фалько обязан доставить прах А. Курция Лонгина, сенатора (покойного), его брату А. Курцию Гордиану (жрецу), который, как нам известно, находится в Регии. Отправление: немедленно.
б) Документы для поездки прилагаются».
Звучало довольно твердо. Само собой, праха не было; и мне пришлось бы подписывать какуюто бумагу, чтобы забрать его. Вместо Регия читай Кротон. Писцы во дворце всегда невнимательны: имто не придется делать крюк в сорок миль по горным дорогам, если они неправильно напишут. Как обычно, они забыли приложить мой паспорт, и в бумаге ни слова не было об оплате.
Внушительная змея на полях рукой самого императора восклицала:
в) «Почему я должен восстанавливать храм Геркулеса? Не могу этого себе позволить. Объясни, пожалуйста!»
За половинкой кабачка я нашел чернильницу и на обратной стороне написал:
«Цезарь!
а) Жрец готов был помочь нам.
б) Всем хорошо известна щедрость императора.
в) Храм был не очень большим».
Затем я снова запечатал письмо и переадресовал, чтобы отправить обратно. Под кабачком, который, должно быть, оставила для меня мама, я обнаружил еще одно важное послание — от нее. Она мрачно заявила:
«Тебе нужны новые ложки».
Я почесал затылок. Непонятно, обещание это или угроза.
Император знал цену своим деньгам; я пошел спать. Обычная процедура была проста: я ставил стакан моего любимого вина на край ящика с постельным бельем, снимал тунику, забирался под ворсистое покрывало и выпивал вино в постели. Сегодня я просто упал на кровать прямо в одежде. Мне удалось думать о Елене довольно долго, чтобы отвлечься от остальных переживаний, но как только я понял, что может случиться потом, сразу почувствовал, что засыпаю. Даже если бы она сейчас была здесь, в моих объятиях, события, возможно, разворачивались бы по тому же сценарию…
Осведомитель — это скучная старая профессия. Оплата паршивая, работа еще хуже, и если ты когданибудь встречаешь женщину, которая заслуживает твоих усилий, то у тебя нет денег и времени, а если и есть, то просто не хватает энергии.
Я уже не помнил, как уходил из дома сегодня утром; вечером я вернулся слишком измученным, чтобы поужинать, и слишком расстроенным, чтобы наслаждаться выпивкой. Я прошел мимо своего лучшего друга не в состоянии поболтать с ним; забыл навестить маму и не позволил Елене узнать, каким отвратительным образом я связан с историей избавления от трупа ее родственника. Я поделился обедом со сторожевым псом, обменялся оскорблениями с императором и подумал, что видел дух убитого человека. Теперь у меня ныла шея, болели ноги, нужно было побриться, я жаждал принять ванну. Днем я хотел пойти на гонки на колесницах, вечер собирался провести в городе. Вместо этого я подписался на путешествие на триста миль, чтобы навестить человека, которого мне не разрешается расспросить и который, возможно, откажется встретиться со мной, когда я приеду.
Для личного осведомителя это был всего лишь обычный день.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИК В КРОТОНЕ
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ (Великая Греция)
Несколько дней спустя
…Кротон, город древний, когдато первый в Италии…
Если же вы люди более тонкие и способны все время лгать тогда вы на верном пути к богатству.
Ибо науки в этом городе не в почете, красноречию в нем нет места, а воздержанием и чистотой нравов не стяжаешь ни похвал, ни наград…
Петроний
XII
Веспасиан подписал мой паспорт. Я с трудом выбил это сокровище у его секретарей и забрал казенного мула из конюшни у Капенских ворот. Старинная сторожевая башня все еще стояла в начале Аппиевой дороги, хотя город разросся в тихие окрестности, которые славились более разборчивыми миллионерами. Отец Елены Юстины жил недалеко, так что я занес ее коробку с рецептами и осмелился сказать, что хочу зайти к ней, чтобы передать несколько слов благодарности, но она была общительной девушкой со своей собственной жизнью, и привратник утверждал, что ее нет дома.
С юным Янусом у нас и раньше были стычки. Семье Камилла никогда не требовалась напольная мозаика, чтобы предупредить: берегитесь собаки; этот двуногий чесоточный экземпляр отпугивал посетителей еще до того, как в дверях покажутся их сандалии. Этому парню было около шестнадцати. У него было очень вытянутое лицо — прекрасный рассадник для такой массы прыщей — и очень маленькая вмятина для мозгов на макушке; внутри же мозг был неуловимым комочком. Разговор с ним всегда меня утомлял.
Я отказывался верить, что это распоряжение Елены. Она способна была отправить меня на паром в Гадес в один конец, но если и хотела это сделать, то сказала бы сама. Хотя одной проблемой меньше. Если Елена не пускала меня, трудно было сказать ей о том, что я не собираюсь больше с ней встречаться.
Я спросил, где она; мальчик не знал. Я ласково уведомил привратника, что знаю об его лжи, потому что даже когда Елена Юстина станет тронутой старой каргой, лысой или беззубой, она будет слишком хорошо организованной, чтобы укатить в своем паланкине, не сказав прислуге ни слова. Затем я передал дружеский привет сенатору, оставил коробку Елены и уехал из Рима.
* * *
Сначала я отправился на юг на Аппиеву дорогу, чтобы объехать ненавистное мне побережье. После Капуи Аппиева дорога вела в Тарент на «каблучок» сапога, в то время как я свернул на запад, к «носку». Сейчас я ехал по Попилиевой дороге, на Регий и Сицилию, намереваясь свернуть с нее перед самым Мессинским проливом.
Мне пришлось пересечь Лаций, Кампанию и Луканию и заехать глубоко в Бруттий — половину территории Италии. Казалось, мое путешествие длилось уже несколько дней. За Капуей последовали Нола, Салерно, Пестум, Элея, Буксент, а затем долгий путь вдоль Тирренского побережья до дороги на Козенцу далеко на юге. Когда я свернул с главного пути, чтобы пересечь полуостров, дорога стала резко подниматься в гору. Тогдато мой мул, которого я взял на последней стоянке, вдруг обиделся на меня, и я увидел, что был прав, когда опасался подобного развлечения в горах.
Козенца — провинциальная столица Бруттия. Горбатая коллекция одноэтажных лачуг. Она находилась на холме, так что до нее трудно было добраться, и в течение нескольких сотен лет не имела такого значения, как второй Бруттийский город, Кротон. Однако Козенца была их столицей; бруттии — странный народ.
На ночь я остановился в Козенце, однако спал очень плохо. Это Magna Graecia — Великая Греция. Рим завоевал Великую Грецию уже давно — теоретически. Но по ее мрачной территории я перемещался с опаской.
Сейчас улицы были почти пусты. На постоялом дворе в Козенце кроме меня остановился всего один проезжий — человек, которого я никогда раньше не встречал. У этого парня была пара собственных лошадей, которых я высоко оценил, — большой жеребец чалой масти, который чутьчуть не дотянул до звания скакового, и пегая вьючная лошадь. Мы ехали рядом от Салерно, если не дольше, но перед тем, как он показался утром, я все время был в пути и не спал, а к тому времени, как он вечером меня догнал, я уже свалился в постель. Если бы я знал, что он все еще находится здесь со мной в Козенце, то постарался бы не ложиться спать, а подружился с ним.
* * *
Я ненавидел юг. Все эти старомодные города с огромными храмами Зевсу и Посейдону; все эти философские школы, которые заставляют чувствовать себя низко; все эти атлеты с хмурыми лицами и задумчивые скульпторы, ваяющие их. Не говоря уже об их заоблачных ценах для чужестранцев и ужасных дорогах.
Если верить «Энеиде», Рим был основан троянцем. Когда я двигался на юг, у меня волосы на голове шевелились, будто эти греческие колонисты видели во мне своего древнего врага во фригийском колпаке. Казалось, людям больше нечем было заняться, кроме как, притаившись на пыльных крылечках, наблюдать за незнакомцами на улице. Козенца была довольно отвратительна; Кротон, считавший себя более важным, должен был оказаться еще хуже.
Чтобы попасть в Кротон, нужно было преодолеть горы. По мере того как я поднимался, температура воздуха падала. Равнины Сила покрывали густые леса каштана и турецкого дуба, затем бук и благородная пихта, в то время как ольха и тополь оккупировали гранитные скалы. Местные называли это хорошей дорогой; такой дикий и извилистый путь. Я никогда не шел после сумерек; даже днем мне казалось, что я слышал горных волков. Однажды, когда я обедал на солнечной опушке леса, усыпанной земляникой, за камень скользнула гадюка, зловеще появившись изза ботинка моей вытянутой вперед ноги. Я чувствовал себя в большей безопасности, обмениваясь ночью оскорблениями с беспощадными римскими проститутками.
На вершинах гор все еще лежали снежные шапки, но моряки уже начали подниматься на заготовку леса, так что изза дыма от их костров разреженный воздух становился более резким. У меня потекло из носа, когда я пошел по тропинке среди придорожных фиалок, чтобы обогнать волов с длинными повозками, которые тянулись под стволами могучих деревьев. Взъерошенная равнина поднималась над морем более чем на тысячу футов. В Риме уже приближалось лето, но здесь климат отставал. От потепления все вокруг капало, неистовые ливни хлынули в долины глубоких рек, и ледяная весенняя вода утолила мою жажду.
Я пару дней медленно продвигался по этой суровой местности. Над долиной Нето открылся впечатляющий вид на Ионическое море. Через возделанные оливы и виноградники я спустился вниз, однако земля стала неровной от размывов и бугристой от комков глины, осевших здесь во время летних наводнений, которые унесли более рыхлый слой почвы, оголяя сухую землю, словно яростно высосанную смоковницу. Наконец моя дорога снова резко поднялась вверх, и я добрался до Кротона, который, словно ужасная болячка, прячется под подушечкой большого пальца Италии.
Это местечко Кротон было последним приютом Ганнибала в Италии. Я считал, что если здесь пройдет еще какойнибудь деятель типа Ганнибала, то Кротон с готовностью позволит ему бесплатно плескаться в провинциальных банях и почтит его изгнанием с прощальной пирушкой за счет городской казны. Однако меня здесь приняли недружелюбно.
Когда я въехал в Кротон, у меня между лопатками ручьем лил пот. Владелец мансиона для государственных служащих оказался тощим копушей с узкими, как щелки, глазами, который полагал, что я приехал проверять его записи для ревизора казны. Я надменно заявил, что еще не пал так низко. Он сначала пристально рассмотрел меня и только потом снизошел до того, что позволил зарегистрироваться.
— Вы надолго? — украдкой проскулил он, словно надеясь, что нет.
— Не думаю, — ответил я, с вежливой римской прямотой намекая: «надеюсь, что нет». — Я должен найти жреца по имени Курций Гордиан. Знаете о нем чтонибудь?
— Нет.
Я был уверен, что знает. В Великой Греции врать государственным служащим из Рима — это образ жизни.
Я находился в своей собственной стране, однако чувствовал себя иностранцем. Эти засушливые старые южные города полны мелкой пыли, свирепых насекомых, обременительных местных законов, дружных коррумпированных семей, которые почитали императора, только если это устраивало их карманы. Люди были похожи на греков, у них были греческие боги, и они говорили на греческих диалектах. Когда я вышел прогуляться и показать себя Кротону, то в первые же полчаса нарвался на неприятности.
XIII
Тога в Кротоне была бы не к месту. Только магистраты носили формальную одежду. К счастью, я не обидел чужой город тем, что был одет слишком нарядно. На мне была неотбеленная туника под длинным серым плащом, а также простые кожаные сандалии и мягкий шнурок в качестве ремня. Остатки хорошей римской стрижки в отдельных местах выросли, но никто не мог к этому придраться, поскольку моя голова была надежно спрятана под складками белой ткани. Я не боялся солнечного удара; я маскировался под жреца.
Форум — это то место, где ищут людей. Я шел в его сторону, вежливо уступая гражданам Кротона более затененную сторону улицы. Они вели себя довольно нахально.
Кротон был захудалым разросшимся городом, где полно зданий, покосившихся от землетрясений. Из шумных переулков лились запахи чегото прокисшего, а на облупившихся стенах висели предвыборные афиши с именами людей, о которых я никогда не слышал. Собаки, похожие на волков с гор Сила, рылись в отбросах или носились по улицам тявкающими сворами. На балконах вторых этажей толстые молодые женщины с узкими глазами, выставляя напоказ свои украшения, ждали, пока я пройду, после чего бросали мне вслед непристойные комментарии по поводу моего телосложения; я отказывался им отвечать, потому что эти женоподобные дочери Кротона могли быть родственницами лучших мужей города. Кроме того, как жрец, я был слишком праведным для остроумных уличных разговоров.
На форум мне указали болтовня и сильный запах рыбы.
Я брел по рынку. Все остальные уставились на меня. Взгляды людей провожали меня от одного прилавка до другого, а ножи надолго зависали над мечрыбами, прежде чем разрезать их на мелкие кусочки. Остановившись у колоннады, я мельком увидел молодого парня, который суетился вокруг колонны с таким видом, будто у него не было реальных причин находиться здесь; я искоса посмотрел прямо на него, так что если бы он был карманником, то знал бы, что я его заметил. Парень исчез.
Суматоха была страшная. Однако там продавались и полезные товары. Сардины, килька, анчоусы — все так ярко мерцало, словно новенькие оловянные подсвечники, а свежие овощи казались довольно крупными даже по меркам моей матери, которая выросла в доме с небольшим участком в Кампании. Было также обычное барахло: кучи когдато таких сверкающих медных вещичек, которые дома уже не кажутся какимито особенными, и длинные мотки дешевой каймы для туники непривлекательного цвета, которая при стирке полиняет. Далее горы арбузов; кальмары и угри; свежие венки для сегодняшних пиршеств и лавровые короны, оставшиеся со вчерашнего дня якобы по самым низким ценам. Кувшины с медом; пучки трав, которыми питались пчелы.
Все, что я сделал, это спросил цену на лакрицу. Ну, я так думал.
В Великой Греции все говорили погречески. Благодаря изгнанному мелитанскому разменщику денег, который както жил с моей матерью и платил за мою школу, я получил основы римского образования. Греческий был моим вторым языком. Я мог принять соответствующую позу и процитировать семь строчек из Фукидида и знал, что Гомер — это не только имя собаки моего деда Скаро. Но мой школьный учитель из Фракии с тонкой бородкой упустил словарную практику, которая необходима человеку, чтобы обсуждать бритвы с цирюльником из Буксента, попросить ложку блюда из улиток у полусонной официантки из Элеи, — или никого не обидеть в Кротоне, торгуясь с продавцом ароматных трав. Я был уверен, что знаю, как называется корень лакричника; в противном случае даже ради моей матери, которая ждала подарка с юга и заботливо порекомендовала, что купить, я бы никогда не стал пытаться. На самом деле, я, должно быть, нечаянно употребил какоето крепкое старое греческое непристойное слово.
Продавец внешне был похож на толстую горошину. Он так загоготал, что привлек внимание людей на расстоянии трех улиц от него. Собралась плотная толпа, которая прижимала меня к прилавку. Расталкивая всех локтями, вперед пробивалось несколько местных бездельников, которые считали неотъемлемой частью хорошего дня на рынке избить невооруженного жреца. Под туникой у меня была гарантия неприкосновенности, подписанная Веспасианом, но здесь, вероятно, люди даже еще не слышали о том, что Нерон заколол себя. Кроме того, мой паспорт был на латыни, что вряд ли вызовет уважение у этих задир из городка, где стоят одни лачуги.
Изза толпы я не мог двигаться. Я принял важный вид и понадежнее натянул на голову свою религиозную маскировку. На лучшем деловом греческом я извинился перед торговцем травами. Он толкнул меня еще более жестоко. К нему присоединился коренастый кротонец. Это определенно был один из тех дружелюбных южных рынков, где мошенники с сияющими лицами и двумя левыми ушами только и искали возможности напасть на незнакомца и обвинить его в том, что он украл собственный плащ.
Ссора становилась все ужаснее. Если я перепрыгну через прилавок, они схватят меня сзади, этого дешевого приключения я предпочел избежать. Я вытянул назад одну ногу, чтобы ощупать палатку; она оказалась простыми козлами, накрытыми тканью, так что я упал на землю, подобрал свое одеяние жреца и прошмыгнул снизу, словно одинокая мышь.
Я оказался между двумя грудами корзин, носом уткнувшись прямо в колени торговца. Казалось, он туго соображал, так что я ударил его в челюсть. Продавец с визгом отскочил назад, а я выбрался наверх.
Теперь один неустойчивый стол отделял меня от преждевременных похорон. Один взгляд на толпу убедил меня в том, что мне нужен был маленький амулет в виде фаллоса от дурного глаза — подарок моей сестры Майи; так неловко, что я оставил его дома. Толпа раскачивалась, стол пошатывался, я ударил бедром, чтобы он перевернулся на кротонцев. Когда они все отпрыгнули назад, я сложил обе руки в молитве.
— О, Гермес Трисмегист… — Здесь я сделаю паузу и скажу, что поскольку я был вынужден сказать своей матери об отъезде из Рима, то единственным божеством, которое могло наблюдать за моими успехами, был Гермес трижды величайший, покровитель всех путешествующих. — Помоги мне, быстроногий! — Если на горе Олимп сейчас все тихо, то он, возможно, соизволит прибыть сюда по делам. — Своим священным кадуцеем защити своего посланника!
Я замолчал. Надеялся, что любопытство заставит наблюдателей оставить меня в живых. Если нет, то позаимствовать крылатые сандалии было бы недостаточно, чтобы свободно улететь из этого затруднительного положения.
Никаких признаков молодого Гермеса и его змеиной команды. Зато последовало минутное замешательство, еще одна раскачивающаяся волна, затем из этой волны выпрыгнул смуглый босой человек в шляпе с загнутыми полями, который перемахнул через прилавок прямо на меня. Естественно, я не был вооружен; я же жрец. Он размахивал чудовищным ножом.
Однако я спасся. В один миг оружие этого привидения оказалось у горла продавца лакрицы. Сверкало острое лезвие — такие ножи бывают у моряков для разрезания опасно запутанных веревок на борту корабля или для того, чтобы убивать друг друга, когда они наслаждаются выпивкой на берегу. Он был более или менее трезв, но создавалось такое впечатление, что отнимать жизни у людей, которые посмотрели на него слишком пристально, — это для него способ расслабиться.
Он во всю глотку закричал толпе:
— Еще один шаг — и я зарежу этого торговца!
А затем мне:
— Приятель, беги, если хочешь жить!
XIV
Схватив свое религиозное одеяние, я проскочил мимо здания суда, не останавливаясь, чтобы спросить, не рассмотрит ли судья мое дело. Перед третьим темным переулком я услышал позади топот босых ног моего спасителя.
— Спасибо! — задыхаясь, произнес я. — Хорошая встреча. Кажется, ты полезный человек!
— Что ты сделал?
— Понятия не имею.
— Обычное дело! — воскликнул парень.
Мы пошли по дороге, которая ведет из города, и вскоре сидели в харчевне на берегу. Мой новый друг посоветовал похлебку из моллюсков с шафрановым соусом.
— Смесь из моллюсков, — осторожно ответил я, — в таверне без вывески в чужом порту — это риск, которого моя мама учила меня избегать! Что еще здесь готовят?
— Похлебку из моллюсков — без шафрана!
Мужчина улыбнулся. У него был идеально ровный нос, который соединялся с лицом под неудачным углом в тридцать градусов. На левой стороне лица находилась вздернутая бровь веселого, смешного парня, а на правой — рот грустного клоуна с опущенным вниз уголком. Обе эти половины были вполне нормальными; просто в целом лицо создавало впечатление какойто искусственности. Два его профиля были настолько разными, что я, как загипнотизированный, уставился на этого человека, словно его исказили.
Мы оба заказали похлебку и вина. Ведь жизнь довольно коротка. Можно крепко пить и умереть с шиком.
Я заплатил за графин, пока мой новый друг заказывал остальные блюда: корзинку с хлебом, блюдце оливок, яйца, сваренные вкрутую, салатлатук, снетки, семечки, корнишоны, кусочки холодной колбасы и так далее. Немного перекусив, мы представились друг другу.
— Лэс.
— Фалько.
— Капитан «Морского скорпиона», из Тарента. Я совершал плавания в Александрию, но бросил и взялся за более короткие расстояния, где меньше штормов. Мне нужно в Кротоне кое с кем встретиться.
— Я приехал из Рима. Прибыл сегодня.
— Что привело тебя в Бруттий?
— Что бы то ни было, сейчас это кажется ужасной ошибкой!
Мы подняли рюмки и принялись за закуску.
— Ты не сказал, чем занимаешься, Фалько!
— Совершенно верно. — Я отломил хлеб от круглой буханки, а потом сосредоточенно ковырялся косточкой от оливки между передними зубами. — Я никогда об этом не говорил!
Я выплюнул косточку. Я не был настолько невоспитанным, чтобы скрывать чтото от парня, который спас мне жизнь; Лэс понимал, что я дразнил его. Мы притворились, что забыли об этом.
Местечко, куда мы пришли, было на удивление оживленным для середины дня. Заведения на берегу моря часто похожи на это, обслуживающее моряков, которые не имеют представления о времени. Некоторые клиенты пили в помещении за стойкой, но большинство расположилось на скамейках под открытым небом, как мы, терпеливо ожидая своей еды.
Я рассказал Лэсу, что по моему опыту таверны на пристани тоже все похожи на эту. Ты часами сидишь здесь, воображая, что они готовят филе только что пойманной барабульки специально для тебя. На самом деле правда такова: повар — апатичный дурень, убежавший по какомуто делу для своего зятя; на обратном пути он ссорится с девушкой, которой должен денег, потом останавливается, чтобы посмотреть на собачью драку перед тем, как поболеть за игру в солдатиков в ресторане конкурентов. Он возвращается к середине дня в паршивом настроении, разогревает тошнотворную рыбу во вчерашнем бульоне и бросает туда мидии, которые он даже не позаботился почистить, затем час спустя ты выблевываешь свой обед в гавани, потому что слишком напился, пока ждал его…
— Успокойся, Лэс: портовая еда никогда не задерживается в желудке настолько долго, чтобы можно было отравиться.
Он лишь улыбнулся. Моряки привыкли слушать вымыслы иностранцев.
Принесли нашу похлебку. Она была хороша, попортовому обильна. Я управлялся с ней, процеживая языком, чтобы поймать куски крабовых клешней, пока Лэс в шутку донимал меня:
— Поскольку ты стесняешься сказать мне, я угадаю… Ты похож на шпиона.
Я был оскорблен.
— Я думал, что похож на жреца!
— Фалько, ты похож на шпиона, который маскируется под жреца! — Я вздохнул, и мы выпили еще немного вина.
Мой новый друг Лэс был странным явлением. В городе, где у меня не было никаких причин комуто доверять, он казался весьма надежным. Оба его глаза были черными и похожими на бусинки, как у дрозда. Лэс всегда носил шляпу моряка. У нее был круглый войлочный верх, окруженный закрученными полями, так что она была похожа на загнутую вверх шляпку гриба.
Компания редела. Мы остались с двумя старыми моряками и несколькими путешественниками, которые, как и я, искали убежища в тихом порту. А также трио молодых девушек с именами Гая, Ипсифиль и Мероэ. Они были одеты в коротенькие платьица, не обладали почти никакой индивидуальностью и много бегали тудасюда. За неимением свежего винограда или жареных каштанов эти сочные фрукты можно было получить в качестве десерта этажом выше.
Гая была на удивление привлекательной.
— Хочешь попытать счастья? — спросил Лэс, поймав мой взгляд.
Он вел себя очень великодушно; казалось, Лэс с удовольствием посторожил бы мое место за столиком, если бы я удалился с одной из девушек. Я с ленивой улыбкой слегка покачал головой, как будто требовалось слишком много усилий, чтобы кудато идти. Потом я закрыл глаза, все еще улыбаясь, словно вспоминал о другой своей знакомой симпатичной девушке — и ее уничтожающем взгляде, если она узнает, что я помышляю о дешевом развлечении с портовой шлюхой. У элегантной и полной достоинства Елены Юстины глаза были насыщенного, темного золотистокоричневого цвета пальмовых фиников из пустыни, а когда ее светлость была чемто раздражена, то фыркала, как невоспитанный верблюд…
Подняв глаза, я увидел, что Гая пошла наверх с кемто другим.
— Скажика, — вдруг спросил я Лэса. — Если ты из Тарента, встречал ли ты когданибудь сенатора по имени Атий Пертинакс?
Он прожевал.
— Я не пью с сенаторами!
— Он был владельцем корабля; вот почему я спросил. Пока я ехал по лесам Сила, меня осенило, что раз Пертинакс родился на юге, то, возможно, здесь строились его корабли…
— Понятно! — сказал Лэс. — У него неприятности?
— О, самые худшие из всех, какие могут быть. Он мертв. У Лэса был испуганный вид. Я с трудом проглотил вино.
— Ну, — осмелел он, приходя в себя. — Как он выглядел?
— Пару лет не дожил до тридцати. Тощее телосложение, худое лицо, нервный нрав — у него был вольноотпущенник по имени Барнаб.
— О, я знаю Барнаба! — Лэс выронил ложку из рук. — Весь Тарент знает Барнаба! — Я задумался, известно ли им, что теперь он убийца.
Лэс вспомнил, что четыре или пять лет назад Барнаб был в Таренте от имени своего господина по делам, связанным со строительством двух новых торговых кораблей.
— «Калипсо» и «Цирцея», если я правильно помню.
— Верно, «Цирцея». Она задержана в Остии.
— Задержана?
— Для установления права собственности. Ты знаешь о них еще чтонибудь?
— Это не по моей части. Пертинакс задолжал тебе, Фалько?
— Нет, у меня есть деньги для Барнаба. Это наследство его господина.
— Если хочешь, я могу поспрашивать в Таренте.
— Спасибо, Лэс! — Я не стал говорить о хобби вольноотпущенника в последнее время — живьем поджаривать сенаторов — поскольку Веспасиан хотел скрыть политические аспекты. — Послушай, дружище, я интересуюсь этими двумя суднами для себя. Они были популярны среди местных?
— Барнаб был спесивым бывшим рабом. Люди, у которых он выпрашивал выпивку, надеялись, что Рим задаст ему хорошую головомойку.
— Рим еще может это сделать! А что насчет Пертинакса?
— Любой, у кого есть собственные корабли и скаковые лошади, может убедить себя, что он популярен! Многие подхалимы старались обращаться с ним как с великим человеком.
— Хм! Интересно, в Риме было подругому? Он ввязался в какоето глупое дельце; вот почему он не стал первым парнем из провинции, который приехал показать Риму, какой он большой, но был разочарован приемом.
Люди, которые сидели за нашим столиком, собрались уходить, так что мы оба положили ноги на противоположную скамейку, устроившись более свободно и удобно.
— А с кем ты собираешься встретиться здесь в Кротоне, Лэс?
— О… просто с одним старым клиентом. — Как и все
моряки, он был очень скрытным. — А ты? — спросил Лэс, искоса посмотрев на меня. — На рынке ты назвал себя посланником — ты имел в виду для Барнаба?
— Нет, для жреца. Курция Гордиана.
— А онто что сделал?
— Ничего. Я просто привез ему коекакие семейные известия.
— Шпионаж, — высказался он, — похоже, сложное ремесло!
— Правда, Лэс; я не шпион.
— Конечно, нет, — ответил он, будучи очень вежливым.
Я улыбнулся.
— Я бы хотел им быть! Я знаю одного шпиона; все, чем он занимается, это работа за столом и поездки на популярные морские курорты… Лэс, добрый мой друг, если бы это был приключенческий рассказ какогонибудь неприличного придворного поэта, то ты бы сейчас воскликнул: «Курций Гордиан — какое совпадение! Тот самый человек, с которым я сегодня собирался поужинать!»
Он открыл рот, словно вотвот собираясь сказать это, сделал такую продолжительную паузу, что я напрягся всем телом, но потом передумал.
— Никогда не слышал об этом чертовом парне! — заявил Лэс.
XV
Капитан Лэс оказался великолепной находкой; хотя нужно отметить, что после моего спасения он привел меня в харчевню, которая стала виновницей моей ужасной болезни.
Когда я возвращался к мансиону, меня мутило от шафрановой похлебки, хотя не долго. Должно быть, у меня в супе были плохие устрицы. К счастью, у меня был разборчивый желудок; как часто шутили в моей семье, когда им надоест ждать своего наследства, последнее, что они сделают, это попробуют меня отравить.
В то время как другие путешественники, жившие в том же мансионе, грызли у хозяина неописуемое отварное свиное брюшко, я лежал на кровати, постанывая про себя; позже я медленно помылся в бане и потом сел в саду с книжечкой.
Ближе к концу ужина гости вывалили на улицу, где могли насладиться вином под последними лучами солнца. У меня был лишь стакан с холодной водой, чтобы помочь выздоровлению.
В холле стояло много столов; это оградило хозяина — простого ленивого бездельника — от необходимости заполнять пустое пространство клумбами, которым требовалось бы внимание. Большая часть столов была пуста. Мне не хотелось, чтобы ктото нарушил мое уединение, поэтому, когда ктонибудь направлялся в мою сторону, я замирал, делая вид, что скорее испорчу зрение, читая весь отпуск, чем подниму глаза и позволю незнакомцам настаивать на том, чтобы подружиться.
Не сильно это помогало.
Их было двое. Один — ходячий кошмар: ноги словно стволы вяза под грудой хорошо накачанных мышц и невидимой шеей; его закадычный друг был похож на креветку, со щетиной на лице, недоброжелательным взглядом и рахитичным телом. Все остальные присутствующие в саду спрятали носы в стаканы с вином; я, как близорукий, уткнулся в свой свиток, хотя без особой надежды. Пришедшие осмотрелись вокруг, затем заметили меня.
Эти двое уселись за мой стол. У них обоих был такой знающий, выжидающий вид, который означал самое плохое. Осведомитель должен быть общительным, но я с опаской относился к местным, которые казались такими самоуверенными. Другие посетители рассматривали свои напитки; никто не предложил помочь.
На юге для мошенников вполне обычное дело с улыбкой зайти в мансион, устроиться вокруг какойнибудь тихой группы людей, а затем угрозами заставить их выйти вечером на улицу. Путешественники еще легко отделаются, если удерут всего лишь с головной болью, избитыми, лишившись денег, проведя ночь в тюремной камере и подхватив мерзкое заболевание, которое передадут своим женам. Одинокий мужчина чувствует себя безопаснее, но не намного. Я был похож на ученого, казался сдержанным; я изо всех сил старался произвести впечатление, что сумка у меня на поясе слишком пуста для того, чтобы всю ночь пить сухое красное вино, пока мне танцует смуглая девица с тамбурином.
Благодаря карманнику на рынке, пустая сумка была чистой правдой. К счастью, это снова оказался мой кошелекприманка; серьезные деньги я хранил вместе с паспортом, вокруг шеи. Так что они пока еще были при мне. Но жалование, полученное от Веспасиана, было слишком ничтожным, чтобы соблазнить девушку с грандиозными планами.
Я довольно долго ждал, что будет дальше, затем заложил свой свиток сухой травинкой и легонько постукивал этим свертком себе по подбородку, прокручивая в уме то, что только что прочитал.
Оба моих новых приятеля были одеты в белые туники с зелеными поясами. Судя по самоуверенному выражению их лиц, это было одеянием подручных какогонибудь советника небольшого городка, который считал себя важным среди окружения. Здоровяк смотрел на меня, словно фермер, который только что выкопал из земли нечто омерзительное.
— Я должен вас предупредить, — напрямую начал я, — мне известно, что когда незнакомец приезжает в город, то его сбережения во время важных событий воруют всякие смельчаки, а грешницы лишают его целомудрия в подвальных притонах… — Наверное, проще было вызвать эмоции у пары древних статуй в заброшенной могиле. Я задумчиво выпил воду и решил: будь что будет.
— Мы пытаемся разыскать жреца, — рявкнул здоровяк.
— Мне вы верующими не показались!
Последовав совету Лэса сменить внешность, после бани я облачился в старую темносинюю тунику. С моими войлочными тапочками с открытой пяткой эта вещь цвета индиго смотрелась как костюм, в котором можно провести целый вечер с хорошей книжкой. Я, вероятно, был похож на сентиментального студентафилософа, который изводит себя собранием красивых легенд. На самом деле я изучал поход Цезаря на кельтов, и любой перерыв был хорошей новостью для моего больного живота, потому что величественный Юлий уже начинал меня бесить; писать он умел, но его чувство собственной важности напоминало мне о том, почему мои суровые предки настолько не доверяли его своевольной политике.
Непохоже, чтобы мои гости хотели обсуждать политику Юлия Цезаря.
— Кто этот жрец, которого вы ищете? — начал я.
— Какойто тупой иноземец, — пожал плечами здоровый террорист. — Он устроил на рынке беспорядок. — Его маленький приятель хихикнул.
— Я об этом слышал, — признал я. — Назвал лакрицу какимто грубым словом. Не представляю, как это. Ведь лакрица — это греческое слово.
— Очень неосторожно! — проворчал силач. Из его уст это прозвучало так, словно неосторожность с языком — это преступление, карающееся распятием на кресте. — Ты спрашивал о человеке, которого мы знаем. Что тебе нужно от Гордиана?
— А какое тебе до этого дело?
— Меня зовут Мило, — гордо сказал он мне. — Я его управляющий.
Мило поднялся. Я решил, что Гордиану, должно быть, есть что скрывать: у управляющего его хозяйством была такая комплекция, как у охранника очень сомнительного игорного притона.
Кротон известен своими атлетами, и самого известного из них звали Мило. Управляющий Гордиана легко мог быть натурщиком для сувенирных статуэток, от которых я отказывался на рынке. Когда Кротон захватил Сибарис — настоящий город грехов дальше по берегу Тарентского залива — Мило отпраздновал это тем, что пробежал по стадиону с быком через плечо, убив зверя одним ударом кулака, а затем съев его сырым на обед…
— Пойдем внутрь, — сказал мне этот Мило, глядя на меня так, словно представил себе полцентнера сырого филея.
Я улыбнулся как человек, притворяющийся, что может справиться с ситуацией, потом позволил им проводить меня внутрь.
XVI
Мило сказал креветкоподобному понаблюдать за улицей.
Мы с управляющим втиснулись в клетушку, в которой меня разместили. Определенно я бы получил большее удовольствие, проведя этот жалкий вечер в Кротоне с какойнибудь ловкой танцовщицей. Не было никаких сомнений, что со мной тут произойдет; остался единственный вопрос — когда.
В помещении стояло три кровати, но некоторые туристы были в состоянии выдерживать летние экскурсии по Кротону, так что комната была полностью моей. По крайней мере, когото это спасло от несчастья. Большую часть оставшегося пространства занял Мило. Я увидел в этом Мило какоето наказание. Он был огромным. Он знал, что он огромный. Большую часть времени этот здоровяк наслаждался ощущением своих габаритов, когда давил обычных людей в маленьких комнатках. Его жирные мускулы блестели в свете моего напряжения. Вблизи от него чувствовался запах выветрившегося лекарства.
Мило вдавил меня в трехногий табурет легким надавливанием двумя мощными большими пальцами, которые так и чесались, желая причинить мне еще более острую боль. Чтобы досадить мне, он ткнул в мои вещи.
— Это твое? — спросил Мило, указывая пальцем на мои «Галльские войны».
— Я умею читать.
— Где ты это украл?
— Я из семьи аукциониста. В Риме я первый снимаю сливки с палаток с подержанными вещами…
У меня был несчастный взгляд. Том казался выгодной покупкой, хотя мне бы пришлось продать его обратно, чтобы приобрести следующий свиток этой серии. У него были хорошо разрезанные страницы, а кедровое масло все еще неплохо защищало бумагу, в то время как на одном из узоров на ролике остались следы позолоты. Другой орнамент изначально отсутствовал, но я сам вырезал ему замену.
— Цезарь! — заметил Мило с одобрением.
Я почувствовал себя счастливым оттого, что читал военную историю, а не какиенибудь глупости типа пчеловодства. Этот тип использовал свое массивное тело в целях нравственной борьбы. У него был холодный взгляд животного, убежденного, что разрушать жизни проституток и поэтов — его личное призвание. Один из тех, кто боготворит диктаторов вроде Цезаря, — слишком тупой, чтобы понять, что Цезарь был самодовольным снобом со слишком большими деньгами и презирал Мило даже больше, чем галлов, у которых, по крайней мере, были поразительные обряды человеческого жертвоприношения, умнейшие жрецы и суда, ходившие через Атлантику.
Мило неуклюже положил моего Цезаря, как головорез, которого научили не портить дорогие вещи — за исключением, возможно, тех случаев, когда его хозяин особо просил запугать жертву, разбив бесценную керамику у него на глазах.
— Плата за шпионаж!
— Сомневаюсь, — терпеливо сказал я. — Это не плата. Я не шпион; я посыльный с официальным донесением. Все, что я получаю, это сестерций в день и возможность выяснить, что магистраты в Бруттии упорно никогда не ремонтируют дороги…
Все еще думая о Цезаре, Мило отвернулся. Я забрал свой свиток, потом вздрогнул, услышав, что моя бутылка с маслом треснула об пол, когда он вываливал мой багаж из двух скромных корзин, снятых с мула. Мило называл себя управляющим, но я бы не доверил ему и скатерти в стопку сложить. Шесть смотанных в клубок туник, рваная тога, два шарфа, шляпа, губка, мочалка и коробка с письменными принадлежностями. Он нашел нож, который я спрятал в прутья одной из плетеных корзин.
Он повернулся ко мне. Вытащив нож из ножен, здоровяк коснулся им моего подбородка. Я нервно дернулся, когда он обвил мою шею ремнем, чтобы вытащить у меня небольшие наличные и паспорт. Потом ему пришлось опустить нож, чтобы держать паспорт обеими крепкими лапищами, пока он медленно его рассматривал.
— М. Дидий Фалько. Зачем ты приехал в Кротон?
— У меня сообщение для Гордиана.
— Какое сообщение?
— Конфиденциальное.
— Говори.
— Оно личное, от императора.
Мило фыркнул. В Кротоне это, вероятно, изящно выражало логические размышления.
— Гордиан не будет встречаться ни с каким деревенским курьером!
— Будет, когда узнает, что я ему привез.
Мило снова набросился на меня. Ощущение было такое, как будто тебе угрожает чересчур игривый бык на пашне, который только что заметил, что пять минут назад его ужалила оса. Я терпеливо поднял взгляд на полку, где в скрученных стеганых покрывалах хозяин оставил несколько блох. Полка находилась под самым потолком, что позволяло не биться об нее головой, но означало, что, замерзнув южной ночью, ты потратишь много времени, пытаясь в темноте отыскать второе одеяло. Сейчас там наверху стояла красивая порфировая ваза, более фута высотой и с милой рифленой крышечкой, которую я привязал веревкой; зная, что внутри, я не хотел, чтобы содержимое попало на мое белье.
— Возьми ее! — сказал Мило.
Я медленно поднялся и потянулся наверх. Я взялся за две ручки, сжав их посильнее. Этот сосуд был из дорогого зеленого камня из Пелопоннеса, и довольно прочным; его содержимое почти ничего не весило, хотя плечи хорошо чувствовали вес порфировой вазы, когда я держал ее, подобно неустойчивой кариатиде, только мужского пола. Этот камень практически невозможно обрабатывать, но Веспасиан заплатил за эту вещь огромную сумму; но если бы это гладковысеченное произведение искусства выскользнуло у меня из рук, то проделало бы в полу порядочную дыру.
— Смотри! — пробормотал я, все еще стоя с поднятыми руками, — это коечто личное для Курция Гордиана. Не советую смотреть, что внутри…
У Мило был простой подход к ситуациям, когда ктото говорил ему чегото не делать: он это делал.
— Что ты ему привез? — Он подвинулся поближе, намереваясь взглянуть.
— Его брата, — сказал я.
В следующую секунду я ударил урну с прахом о голову Мило.
XVII
Примерно в двенадцати милях южнее Кротона мыс, который называется Колонна, заканчивал длинный участок пустынного побережья на северной оконечности залива Скилакий. Прямо на берегу — типичное греческое расположение — стоял храм Геры с открывающимся видом на ослепительный блеск Ионического моря. Это великая святыня в классическом стиле, а для человека, у которого неприятности — например, для Курция Гордиана, пытающегося избежать прямой стычки с преторианцами, — хорошее безопасное место далеко от Рима.
Здесь Гордиан носил титул верховного жреца. У больших храмов всегда были местные покровители, которые проводили голосование на выборах их жрецов. Пока я не запугал подручного Мило в мансионе, я и не надеялся узнать, что потомственный верховный жрец поселился в действующем храме. Вряд ли это подходящее для сенатора занятие — собственноручно украшать алтарь.
Даже под жарким солнцем от холодного чистого воздуха мои руки покрылись мурашками, пока яростный океанский воздух натягивал кожу мне на скулы, а сильный ветер пытался сорвать волосы с головы. Храм переливался от света с моря и неба. Когда я поднялся на горячие камни дорической колоннады, ее всепоглощающая тишина чуть не расплющила меня.
Перед портиком на алтаре под открытым небом жрец с закрытым вуалью лицом совершал тайное жертвоприношение. Члены семьи, чей день рождения или успех он отмечал, собрались вокруг в лучших нарядах, с красными щеками от палящего солнца и ветра с моря. Служители храма держали в руках красивые коробочки с фимиамом и блестящие курильницы для него; шустрые помощники, которых выбрали за приятную внешность, держали чаши и топоры для жертвоприношения, флиртуя с молодыми рабынями семьи с помощью своих тонких усиков. Чтобы привлечь внимание богини, воздух был наполнен приятным яблоневым ароматом и отвратительной вонью от шерсти козы, которую жрец только что ритуально опалил на жертвенном огне.
Они приготовили белую козу с венком на рогах и беспокойным видом; спрыгивая с колоннады, я подмигнул ей. Коза встретилась со мной глазами, неистово заблеяла, потом укусила юношу, державшего ее на веревке, в чувствительный молодой пах и дала деру к берегу.
Креветкообразный помощник Мило бросился за козочкой. Помощники жреца весело понеслись за ним. Убитые горем посетители храма, чье великое дело оказалось погребенным под руинами, поставили свои дорогие лавровые венки к алтарю, где на них не наступят, и тоже устремились вдоль берега. Коза уже пробежала не меньше стадия. Я был в своем религиозном одеянии; смеяться было бы недостойно.
Я собирался побыть здесь какоето время, пока не вернется вся эта процессия. Верховный жрец чтото раздраженно воскликнул и направился к крыльцу храма. Я последовал за ним, хотя его поведение обескуражило меня; плохое начало моей новой дипломатической роли.
Авл Курций Гордиан был в возрасте около пятидесяти лет, слегка выше меня и имел неказистое сгорбленное телосложение. У него, словно у слона, были большие перепончатые уши, маленькие красноватые глазки и лысая морщинистая кожа нездорового сероватого оттенка. Мы оба сели на край площадки и обхватили руками спрятанные под одеждой колени.
Понтифик закрылся рукой от солнца и раздраженно вздохнул, глядя на цирк, который к тому времени уже превратился лишь в движущиеся точки на расстоянии четверти мили.
— О, это просто смешно! — вскипел он от злости.
Я мельком взглянул на него, словно мы были незнакомцами, которых свел забавный случай.
— Жертва должна охотно идти к алтарю! — любезно произнес я, предавшись воспоминаниям. В двенадцать лет я пережил серьезный религиозный период.
— Действительно! — Он вел себя приветливо и общительно, как и подобает профессиональному служителю храма, но вскоре показалась колкость, присущая сенатору в нерабочее время. — Вы производите впечатление посланника, — заметил он, — который надеется, что его прибытие должно быть предсказано мне во сне!
— Мне кажется, вы слышали обо мне от того назойливого человека на осле, который, как я только что видел, возвращался в Кротон. Надеюсь, вы отблагодарили его динарием. И надеюсь, приехав в Кротон, он обнаружит, что динарий фальшивый!
— Вы стоите динарий?
— Нет, — признал я. — Но тот выдающийся персонаж, который меня послал, платит даже несколько.
Я ждал, пока Гордиан повернется и внимательно посмотрит на меня.
— Кто это? Кто вы? Жрец?
Он был очень резок. Как некоторые сенаторы. Некоторые скромны; некоторые рождаются грубыми; некоторым так надоело в политике иметь дело с олухами, что они невольно кажутся нетерпимыми.
— Скажем, я несу свою службу у алтаря ради государства.
— Вы не жрец!
— Каждый мужчина является верховным жрецом в своем собственном доме, — набожно произнес я. — А вы? Добровольное изгнание при вашем положении непозволительно! — Продолжая подтрунивать над ним, я чувствовал, как горю от раскаленных от солнца больших камней позади меня. — Здесь верховный жрец считается хорошей, почетной должностью, но никто не ожидает, что сенатормиллионер каждый день будет заниматься скучной работой, снимая шкуры с коз на влажном морском воздухе! Даже если бы служение хозяйке Олимпа было завещано вам одному с вашими семейными оливковыми рощами — или вы со своим знатным братом тотчас подкупили бы этих служителей? Скажите, какова сейчас плата за такую изумительную должность, как эта?
— Слишком велика, — перебил он, заметно сдерживаясь. — Что вы хотели сказать?
— Сенатор, гражданская война только что закончилась, и ваше место в Риме!
— Кто вас сюда прислал? — холодно настаивал он.
— Веспасиан Август.
— И это его слова?
— Нет, это мое мнение, сенатор.
— Тогда держите свое мнение при себе! — Он повернулся, подобрав одеяние. — Если божественная сила не заставит эту козу споткнуться, я не вижу ничего, что помешало бы ей пробежать на север вдоль всего Тарентского залива; так что сейчас мы можем обсудить ваше дело.
— Можно ли прерывать священное действо, сенатор? — с сарказмом спросил я.
— Это сделала коза… — сдался он с усталым видом. — С вашей помощью! Этим несчастным людям завтра придется начинать все сначала с другим животным…
— О, это хуже, сенатор. — В большинстве храмов считается, что смерть в семье оскверняет жреца. Я тихо сказал ему: — Курций Гордиан, им понадобится другой жрец.
Слишком тонко: по его выражению лица я понял, что он окончательно потерял мою мысль.
XVIII
В Колонне у верховного жреца был дом, примыкающий к храму. Обычное дело: просторный, солнечный, хорошо оборудованный — как на морском курорте. Каменная кладка снаружи выцвела, а балюстрада потеряла свой вид изза непогоды. Окна были маленькими и хорошо защищали помещение; у дверей находилось массивное крыльцо. Внутри висел позолоченный канделябр, стояла легкая мебель, которую можно было в любой день вынести на улицу, и висели фонари на случай шторма в неспокойную ночь.
Когда хлопнула дверь, несколько рабынь в замешательстве высунули головы, как будто Гордиан слишком рано пришел домой на обед. Красивая обстановка никак не отражала стиль так называемого управляющего Мило, поэтому я решил, что на самом деле хозяйство вели эти трудолюбивые женщины. Дом был хорошо проветрен, а воздух в нем свеж, как лаванда. Я слышал, как по мокрым полам шуршали веники, и почувствовал запах жареной печени — возможно, эти лакомые кусочки понтифик оставил себе во время предыдущего жертвоприношения. Каждый жрец, знающий свое дело, берет отборные куски: это лучшая причина выполнять обязанности жреца из всех, какие я знаю.
Гордиан быстро провел меня в комнату. Всюду лежали подушки, а в серванте среди серебряных чаш и графинов стояли маленькие вазочки с дикими цветами. Вот плоды государственной измены: привлекательная загородная жизнь.
— Сенатор, я Дидий Фалько. — Никаких признаков, что меня узнали. Я подал свой паспорт; Гордиан посмотрел его. — Я оставил вашего управляющего в Кротоне, привязанным к кровати.
Гордиан скинул свое одеяние. Он казался расстроенным, все еще чувствуя за него свою ответственность.
— Его ктонибудь найдет?
— Это зависит от того, как часто работники мансиона пересчитывают одеяла.
Он еще больше задумался.
— Тебе удалось одолеть Мило?
— Я ударил его каменной вазой.
— Но зачем?
— Он думал, что я шпион, — пожаловался я, давая жрецу понять что некомпетентность его управляющего заставила меня закипеть от злости. — Мило делает хорошую репутацию своему дешевому спортивному залу, но нужно тренировать его мозги! Быть придворным посыльным — неблагодарное дело. На меня набросились герои Гомера, продающие цыплят на рынке Кротона, потом напал ваш тупой работник…
Я получал большое удовольствие от этой тирады. Нужно было установить свою власть. Знатное происхождение Гордиана означало, что он всегда мог рассчитывать на поддержку сената; я работал на Веспасиана, и если бы я расстроил сенатора — пусть даже и предателя — то не смог бы больше действовать от имени императора.
— Мило утверждал, что вы не будете со мной говорить. При всем уважении к вам, сенатор, это бессмысленно и оскорбительно для императора. Вернувшись в Рим, мне будет нечего сказать Веспасиану, кроме того, что нужно хорошенько встряхнуть его города в Великой Греции, поскольку понтифик храма Геры слишком упрям, чтобы узнать судьбу своего старшего брата.
— Какую судьбу? — Курций Гордиан смотрел на меня с презрением. — Мой брат стал заложником? Веспасиан мне угрожает?
— Для этого уже слишком поздно, сенатор. Вы со своим братом нашли повод для ссоры с кемто гораздо менее деликатным.
Затем, добившись, наконец, его полного внимания одним ярким предложением я описал пожар в храме.
* * *
Гордиан сидел на широком стуле. Он усадил свое неуклюжее тело в ближайшее место, куда смог приткнуться с минимальными усилиями. Когда я рассказал ему о смерти Курция Лонгина, он невольно вздрогнул, опустившись своими тяжелыми ногами на пол. Потом на него накатилась безумная волна чувств от ужасной кончины его брата. Сенатор стоял, неловко скривившись, не в состоянии поверить в эту трагедию, когда на него смотрел незнакомый человек.
Будучи хорошо воспитанным, я тихо вышел из комнаты, оставив его одного, пока сам ходил за порфировой урной. Несколько минут я постоял на улице рядом со своим мулом, тихонько поглаживая животное, пока смотрел на море и наслаждался теплыми лучами солнца. Тяжелая утрата, поразившая этот дом, не имела ко мне никакого отношения, однако, объявив о ней, я посочувствовал Гордиану. Я снял веревку, которой была связана огромная урна, заглянул внутрь и быстро закрыл крышку.
Прах человеческого существа кажется очень скудным.
Когда я снова вошел в комнату, Гордиан с большим трудом поднялся на ноги. Я освободил маленький столик, чтобы поставить урну с прахом его брата. Он покраснел от вспышки гнева, но потом постарался скрыть свои страдания, изменив выражение лица.
— Каков ответ Веспасиана?
— Сенатор? — Я огляделся вокруг, пытаясь найти место для чернильниц и тарелочек с фисташками, которые подвинул, чтобы пристроить урну.
— Моего брата вызвали в Рим, чтобы он объяснил нашу позицию…
— Император не говорил с ним, — перебил я. Я поставил то, что мешало, с краю на полку. — Веспасиан приказал устроить вашему брату славные похороны, и он сам, — сухо отметил я, — заплатил за эту урну. Когда вы придете в себя, я попробую объяснить…
Жрец Геры схватил маленький бронзовый колокольчик и с отчаянной жестокостью зазвонил в него.
— Убирайся из моего дома!
Ну, я и не ожидал, что меня попросят остаться на обед.
Обитатели этого дома стали сбегаться в комнату, но остановились, увидев, насколько потрясен жрец. Пока он не успел приказать им выставить меня, я заставил его услышать факты:
— Курций Гордиан, ваш брат пал жертвой вольноотпущенника, связанного с Атием Пертинаксом Марцеллом. Вы поймете, как умер Пертинакс. Повидимому, обвиняя сообщников своего старого господина, этот Барнаб убил вашего брата; теперь он может прийти за вами! Сенатор, я здесь для того, чтобы передать вам императорское расположение. Вам понадобится девять дней для официального траура. После этого я надеюсь с вами увидеться.
В коридоре я столкнулся с Мило, который только что пришел. Его зияющую рану окружал темный синяк.
Я мягко воскликнул:
— Отвратительная шишка! Не волнуйся насчет урны — я смыл кровь!
И прежде, чем он успел ответить, я выскочил через дверь.
* * *
Я снова появился в храме, когда уставшая процессия, спотыкаясь, шла по берегу. Всю дорогу коза упорно рвалась обратно. Ее положение почемуто вызывало у меня сочувствие. Я тоже большую часть своей жизни блеял и следовал определенной судьбе.
У них больше не осталось главного, так что старший проситель обратился ко мне.
— Иди домой, — скомандовал я, весело размышляя. — Подмети свой дом ветками кипариса…
— А что делать с козой?
— Эта коза, — с достоинством произнес я, думая о вкусных ребрышках, пожаренных на открытом воздухе с морской солью и диким шалфеем, — сейчас посвящена богине Гере. Оставьте ее со мной!
Люди, заказавшие жертвоприношение, собрали свои венки и потащились по домам; помощники побежали в храм, чтобы посмотреть, во что там играли несносные юные слуги, когда поняли, что за ними никто не смотрит. С улыбкой я решил сам позаботиться о козе.
Животное на длинной веревке несчастно дрожало. Козочка была маленькой и милой. К счастью для нее, хотя мне и нечего было есть, я, как жрец, внезапно почувствовал себя слишком чистым душой, чтобы сожрать священную козу Геры.
Лучше признаться откровенно: я не способен убить существо, которое смотрело на меня такими трогательными, грустными глазами.
XIX
Я не мог вспомнить, как считаются девять дней траура: с момента, когда человек умер, или когда об этом сообщили. Гордиан придерживался второго варианта; это плохо сказалось на моей гигиене, но так у него было больше времени, чтобы оправиться.
Девять дней я скитался по побережью, в то время как моя коза изучала прибитые к берегу бревна, а я рассказывал ей о лучших прелестях жизни. Я выжил на козьем молоке и пшеничных оладьях у алтаря. На ночь сворачивался калачиком между мулом и козой. Мылся я в море, но все еще пах животными, и негде было побриться.
Когда в храм приходили люди, я держался подальше от входа. Никто не хотел бы увидеть, что в святыне, которую они посещают в религиозных целях, живут бородатый бродяга и сбежавшая коза.
Через два дня заместитель верховного жреца вызвался поработать за Гордиана. К тому времени я организовал из служителей две команды по игре в мяч и проводил соревнования на берегу. Когда парни уставали, я усаживал их и читал вслух «Записки о Галльской войне». Свежий воздух и Верцингеториг оберегали их от неприятностей на большую часть дня, хотя я предпочел не углубляться в изучение их ночных привычек.
С наступлением темноты, когда все вокруг погружалось в тишину, я обычно в одиночестве шел в храм и, ни о чем не думая, сидел перед богиней супружеской любви и жевал ее пшеничные оладьи. Я не просил никаких одолжений, и повелительница никогда не разрушала мой скептицизм, появляясь как видение. Нам с ней не было необходимости общаться. Богиня Гера, должно быть, знала, что у Зевса, ее грозового мужа, были те же слабости, что и у личного осведомителя: слишком много свободного времени и слишком много любовниц, предлагающих, как его провести.
Иногда я стоял на шумящей кромке моря, погрузив ноги в воду и думая о Елене Юстине, которая тоже об этом знала. Меня терзали воспоминания о том юном привратнике в доме сенатора, который отказался впустить меня, чтобы всего лишь извиниться; она была разумной и предусмотрительной. Елена Юстина бросила меня!
Я пошел обратно в храм и злобно встал перед богиней супружеской любви. Королева Олимпа смотрела на меня каменным лицом.
* * *
На десятое утро, когда от голода и одиночества у меня уже помутился рассудок, за мной спустился на берег один из прислужников храма. Этого маленького грешника звали Демосфен — типичный мальчик при алтаре, на вид старше своих лет, однако видно было, что у него еще молоко на губах не обсохло.
— Дидий Фалько, люди начинают плохо думать о вас и вашей козе!
— Чушь, — печально отшутился я. — Эта коза пользуется уважением! — Демосфен уставился на меня бездонными глазами на красивом, ненадежном лице. Как и коза.
Прислужник вздохнул.
— Курций Гордиан в храме, Фалько. Он сказал, что вы можете пользоваться его частными термами. Хотите, потру вам спинку? — предложил он с намерением меня оскорбить. Я сказал, что, принимая его одолжения, только наживу проблем с козой.
* * *
В Кротоне я научился жить и без удобств. Я отправился прямиком в храм, привязал свою козочку у портика, потом поднялся в святилище к Гордиану.
— Благодарю за возможность помыться! — закричал я. — Должен признаться, что к этому времени я бы уже продался в рабство к какомунибудь одноглазому перегонщику верблюдов из Набатеи, если бы он сначала пообещал мне час в горячей парной! Сенатор, нам нужно поговорить о вашем пребывании здесь…
— Цезарь Домициан утвердил мой отпуск…
— Я имел в виду, насколько безопасен для вас Кротон. Император сохранит ваш отпуск. — Гордиан выглядел удивленным. — Политика империи заключается в том, чтобы поддерживать официальные акты Домициана.
— А как насчет неофициальных? — резко засмеялся сенатор.
— О, согласно политике, нужно выразить лютое неодобрение к ним — а потом посмеяться и забыть!
Мы вышли на улицу на крыльцо.
Гордиан двигался очень медленно, опустошенный изза утраты. Он сел и обмяк, как забродившее тесто в глиняном горшке, почти сморщившись, затем уставился на океан, как будто в его движущихся сверкающих волнах и потоках он увидел все философии мира — увидел их в новом понимании, но с новым глубоким отвращением.
— У тебя незавидная работа, Фалько!
— О, она посвоему привлекательна: путешествия, физические тренировки, встречи с новыми людьми всех родов деятельности… — Коза так натянула конец веревки, что могла жевать рукав моей туники. Я держал ее обеими руками; с глупым видом она заблеяла.
— Насилие и сообщения о несчастье! — с насмешкой сказал Гордиан. Я смотрел на него поверх чубчика на лбу у козы, поглаживая ее по широким белым ушам. Она опустилась на колени и принялась жевать конец моего пояса. — Фалько, что тебе известно об этом случае?
— Ну, давайте рассудим здраво! Многие люди — помимо тех, кто поддерживает покойного, не слишком оплакиваемого императора Вителлия, — принимают политику новой императорской династии не оченьто охотно. Но очевидно, что Флавии продолжат свой цирк. Сенат полностью утвердил Веспасиана. Он уже наполовину стал богом, так что все мудрые смертные принимают более благочестивый вид… Не хотите ли поведать мне, что ваш брат намеревался сказать императору?
— Он говорил от нас двоих. Мы, как ты сказал, приняли более благочестивый вид по отношению к Флавиям.
— Это трудно, — посочувствовал я, заразившись его плохим настроением. — Значит, несчастный случай с вашим братом, должно быть, стал для вас сильным ударом…
— Его убийство, ты имеешь в виду!
— Да — так что скажите мне, что он мог собираться сказать императору такого, что ктото так сильно захотел это предотвратить?
— Ничего! — нетерпеливо оборвал Гордиан. Я верил ему. Значит, оставалось только одно: это было чтото такое, что Лонгин узнал только после возвращения в Рим… Пока я размышлял, Гордиан мучительно нахмурился. — Должно быть, ты считаешь, что только мы сами во всем виноваты.
— Не совсем. Курций Гордиан, вы можете умереть от несчастного случая тысячей разных способов. Писец цензора както сказал мне, что свинцовые трубки, медные кастрюли, грибы, которые готовят молодые жены своим пожилым мужьям, купание в Тибре и женские кремы для лица все смертельно опасны; но, возможно, он был пессимистом…
Гордиан беспокойно качался на ступеньке.
— Моего брата удушили преднамеренно, Фалько. И это ужасная смерть!
Я тут же тихо заметил:
— Удушье происходит очень быстро. Насколько известно, это не болезненная смерть.
Через некоторое время я вздохнул.
— Возможно, я вижу слишком много смертей.
— И как же ты остаешься человечным? — спросил он.
— Глядя на труп, я вспоминаю, что у него гдето должны быть родственники; может, у него была жена. Если могу, нахожу их. Рассказываю, что произошло. Я стараюсь сделать это быстро; большинству людей нужно время, чтобы в одиночестве осознать все это. Но некоторые из них позже приходят ко мне и снова расспрашивают о подробностях. Это довольно неприятно.
— А что хуже?
— Думать о тех, кто хочет спросить, но никогда не приходит.
У Гордиана все еще был какойто загнанный вид. Я заметил, что хоть он призвал всю свою выдержку, чтобы противостоять Веспасиану, несчастье очень сильно подавило его.
— Мы с моим братом, — с большим трудом объяснял он, — думали, что Флавий Веспасиан — сабинский авантюрист из бездарной семьи, который превратит империю в развалины и заработает ей дурную славу.
Я покачал головой.
— Я непоколебимый республиканец, но не стал бы пренебрежительно отзываться о Веспасиане.
— Потому что ты на него работаешь.
— Я работаю за деньги.
— Тогда не принимай в этом участия.
— Я выполняю свои обязанности! — резко возразил я. — Мое имя числится в налоговом списке, и я ни разу не пропускал голосование! Важнее то, что я здесь, пытаюсь примирить вас с Веспасианом, чтобы дать ему вздохнуть свободно и восстановить развалины, доставшиеся ему в наследство от Нерона.
— Он на это способен?
Я колебался.
— Возможно.
— Ха! Фалько, для большинства римлян он все равно будет авантюристом.
— О, я думаю, он об этом знает!
Гордиан продолжал смотреть на море. Когда на нас стало светить солнце, он с большим усилием отодвинулся, словно морской анемон, мягкая серая капля, лежащая на камне и слабеющая.
— У вас есть дети? — спросил я, неловко пытаясь найти способ понять его.
— Четверо. А теперь еще двое моего брата.
— А ваша жена?
— Мертва, слава богам… — Любая женщина, которая высоко себя ценит, захотела бы дать ему хороший пинок; я знал как минимум одну. Возможно, он увидел это по моему лицу. — Ты женат, Фалько?
— Не совсем.
— Ктото есть на примете? — Если тот, кто задавал этот вопрос, не был слишком уж циничным, то для холостяка проще всего было притвориться. Я помедлил, затем кивнул. — Значит, детей нет? — продолжал он.
— Насколько я знаю, нет — и это не легкомыслие. У моего брата был ребенок, которого он никогда не видел; со мной такого не случится.
— А что случилось с твоим братом?
— Несчастный случай, в Иудее. Он был героем, как мне сказали.
— Это случилось недавно?
— Три года назад.
— А… тогда ты можешь сказать, как справляются с подобной ситуацией?
— О, сначала приходится терпеть грубое вмешательство людей, которые едва знали покойного; потом мы устраиваем дорогие поминки, которые не производят впечатления на их настоящих друзей. Мы чтим их дни рождения, успокаиваем их женщин, следим, чтобы их дети росли под какимто родительским контролем…
— Это помогает?
— Нет, не очень… Нет.
Мы оба хмуро улыбнулись, потом Гордиан повернулся ко мне.
— Повидимому, Веспасиан прислал тебя, потому что считает тебя убедительным, — усмехнулся он. Я завоевал его доверие хотя не стоило играть на том, что произошло с моим братом в пустыне. — Ты кажешься искренним. Что посоветуешь?
Все еще думая о Фесте, я не сразу ответил.
— О, Фалько, ты не можешь себе представить, какие мысли меня посещали! — Я мог. Гордиан принадлежал к типу таких измученных пораженцев, кто мог бы легко подвести под меч все свое семейство, а потом убедить какогонибудь верного раба убить и его тоже. Я ясно представил такую картину; все рыдают и портят хорошие ковры своей бесцельно проливаемой кровью — его типу никогда не следовало предпринимать попытки государственной измены. А если он и обнаглел до такой степени, то этот поступок не хуже, чем те, над которыми многие сенаторы каждый день размышляли за обедом.
Конечно, именно поэтому такие люди имели значение. Именно поэтому император так осторожно к ним относился. Некоторые заговоры рождались за поеданием холодных артишоков во вторник, но таяли за анчоусами с яйцом в среду. Курций Гордиан проявлял безумную настойчивость. Он связался с дилетантами, которые торопили события, хотя инстинкт самосохранения давно вернул бы любого другого к привычным забавам типа выпивки, азартных игр и соблазнения жен лучших друзей.
— Так какие остались варианты, Фалько?
— Веспасиан не будет возражать, если вы уедете в свое частное имение…
— Уйти из общественной жизни! — Настоящий римлянин. Такое предложение его шокировало. — Это приказ?
— Нет. Простите…
Пойманный на своей ошибке, я начинал терять терпение. Гордиан бросил на меня недоуменный взгляд. Я вспомнил, как живо он впервые приветствовал меня в роли верховного понтифика; я решил, что его, как примятую подушку, нужно взбить, поручив какуюнибудь роль в обществе.
— Император был впечатлен тем, что вы приняли религиозный пост, хотя он предпочел бы, чтобы вы заняли место, которое больше нуждается в вас… — Я говорил, как Анакрит. Я слишком долго проработал во дворце.
— Например?
— Пестум?
Теперь Гордиан притих. После ссылки на это суровое побережье, могущественный комплекс храмов в Пестуме представлял собой абсолютную роскошь.
— Пестум, — соблазнительно продолжал я. — Цивилизованный город с мягким климатом, где растут самые красивые фиалки в Европе, и все розы парфюмеров цветут дважды в год… — Пестум на западном побережье Кампании — легко досягаемый для Веспасиана.
— В какой должности? — Сейчас он говорил больше как сенатор.
— Я не имею полномочий утверждать это, сенатор. Но во время моей поездки сюда я узнал, что у них есть вакантная должность в большом храме Геры…
Он тут же кивнул.
Я это сделал. Все кончено. Я вытащил Курция Гордиана из изгнания и удачно заработал себе премию. О, если быть реалистичным, то я получу ее при условии, что Веспасиан согласится на решение, которое я предложил, только если нам когданибудь удастся прийти к согласию, что это решение ценно для империи — и в том случае, что он заплатит.
Я встал, разминая спину. Я чувствовал себя грязным и уставшим; знакомое состояние в моем деле. От недостатка приличного общения моя речь стала медленной. Ноги болели от бесчисленных царапин после того, как я пробирался по приморским зарослям по прихоти моей козы. Я был разбит. У меня выросла ужасная десятидневная щетина; наверное, я был похож на горного разбойника. Волосы огрубели, а брови затвердели от соли.
Наблюдая, как Гордиан начинал торжествовать от собственной удачи, я старался не думать о своих неприятностях. Если я действительно получу эту премию, то она станет одним маленьким взносом из четырехсот сестерциев, которые могли бы мне помочь добиться Елены. Осведомитель — это скучная старая профессия. Оплата паршивая, работа еще хуже, и если ты когданибудь найдешь женщину, то у тебя не будет денег, или времени, или энергии… И она все равно тебя бросит.
Я сказал себе, что мне станет лучше, как только я получу удовольствие в виде долгого часа в парной, с приличной горячей водой в достаточном количестве, в частных термах понтифика. Хорошая баня, когда действительно в ней нуждаешься, может помочь преодолеть практически все.
Потом я вспомнил, что этот неловкий ублюдок Мило разбил мою любимую бутылку с маслом в мансионе Кротона.
XX
Я наконецто был чистым, хорошо выбритым и начинал расслабляться, когда началась вся эта суматоха.
Поскольку терма была частной, на мраморной полочке постоянно жили несколько стеклянных и алебастровых баночек с интересными маслами. Я осторожно залез туда и приметил особую зеленую бутылочку с помадой для волос, чтобы нанести последний лечебный штрих…
Успокоившись в роскошной горячей парилке, я почувствовал, что могу оценить все произошедшее. У братьев Курциев было такое древнее генеалогическое древо, что еще Ромул и Рем вырезали на его мху свои имена. Для них Веспасиан был никем. Его хорошее управление ничего не значило; даже те сорок лет службы, которые он уже посвятил Риму. У него не было денег и знатных предков. Людям, у которых нет ничего, кроме таланта, непозволительно дорастать до высших должностей. Тогда какие возможности существуют для растяпаристократов и дураков?
Лонгин и Гордиан, два впечатлительных болвана, у которых статус выше умственных способностей, должно быть, стали легкой добычей для более сильных людей с более безнравственными идеями. Лонгин жестоко заплатил за это, а все, чего сейчас действительно хотел Гордиан, это бегство, за которое он смог бы оправдаться перед
своими сыновьями…
В этот момент тяжелые шаги вывели меня из задумчивости.
* * *
Когда я вместе с рабом, которого послали позвать меня, выбежал на улицу, из храма в дом на самодельных носилках несли раненого человека. На крыльце Мило яростно спорил с Гордианом; когда появился я, с мокрыми кудряшками, намазанный прекрасными маслами и завернутый в маленькое полотенце, Верховный жрец холодно воскликнул:
— Фалько был в бане!
Я сказал:
— Спасибо за алиби; что за преступление?
Гордиан, чья обычная серая бледность превратилась в болезненно белую, кивнул, когда мимо нас в дом пронесли человека без сознания. Это был заместитель жреца, тот самый, который исполнял обязанности понтифика, пока Гордиан был в трауре. Вуаль, которая покрывала его голову у алтаря, все еще была намотана на него, окрасившись в темнокрасный цвет.
— Беднягу нашли истекающим кровью с раной на голове. Его ударили подсвечником. Ктото оставил твою козу здесь, в храме…
— Если вы пытались обвинить меня, то это бестактно! — зло перебил я. — Я никогда не приводил ее в святилище, что вы отлично знаете! — Раб принес мне тунику, и я с некоторым трудом натянул ее, поскольку все еще был мокрым.
— Фалько, к удару плохо прицелились; он может выжить — но в таком случае он просто счастливчик…
— Прекратите рассуждать, удар предназначался вам! — Я одернул свою прилипшую к телу тунику, отворачиваясь от Гордиана к его управляющему, который бросил на меня сердитый косой взгляд. — Мило, я держался подальше от храма, пока там находились посетители. Ты был на страже? — Громила, казалось, не хотел разговаривать, все еще не забыв, как я ударил его по голове в Кротоне. — Подумай, Мило! Это срочно! Был ли здесь ктонибудь, кто вел себя както неестественно? Ктонибудь задавал вопросы? Кто по какимто причинам тебе запомнился?
Это была тяжелейшая работа, но мне удалось вытянуть из Мило приметы возможного посетителя. Этот человек настаивал, чтобы его жертвоприношение совершил лично Гордиан. Слуги не пустили его, сказав, что понтифик не будет совершать жертвоприношений до сегодняшнего дня.
— И сегодня утром он снова приходил сюда? — Мило показалось, что да.
— Почему ты в этом уверен? — отчеканил сам Гордиан.
— Изза лошадей, — пробормотал Мило.
Я резко поднял глаза.
— Лошадей? Не пегая ли вьючная и чалая с дергающимися ушами? — Мило нехотя согласился.
— Ты знаешь этого негодяя, Фалько? — с негодованием закричал Гордиан, как будто подумал, что я с этим человеком заодно.
— Он следовал за мной по пути сюда, по крайней мере, от Салерно, возможно, от Рима… — Наши глаза встретились. Мы оба подумали об одном и том же.
— Барнаб!
Я схватил жреца за локоть и толкнул его в дом, где он мог бы чувствовать себя более или менее безопасно.
* * *
Для меня не могло быть сомнений, что нападавший был уже далеко, но мы послали Мило и нескольких слуг прочесать местность. Недалеко от берега мы видели корабль, который только подогрел наши подозрения о том, что у противника могли быть сообщники, которые выручали его лодкой, лошадьми и всем остальным. Гордиан застонал, обхватив голову руками. Он позволил себе представить, как его заместителя, закрытого вуалью так, что его нельзя было узнать, ударили по голове, когда он стоял в молитве, держа руки на главном алтаре…
— Я оставил в Риме свою семью, Фалько. Они в безопасности?
— От Барнаба? Я не оракул, сенатор. Я не сижу в пещере, жуя лавровые листья; не могу просто погрузиться в транс и предсказать его следующий шаг… — Жрец в отчаянии кусал нижнюю губу. — Этот человек убил вашего брата, — терпеливо напомнил я ему. — Веспасиан настаивает, что за это отвечает он. Теперь Барнаб пытался напасть на вас; когда он узнает о своей ошибке, то может попытаться снова. — Гордиан уставился на меня. — Сенатор, это подтверждает мои подозрения: ваш брат Лонгин представлял какуюто угрозу. И вы тоже, повидимому. О чем бы ни было известно вашему брату, он мог послать вам сообщение между встречей с вольноотпущенником в доме жреца и походом в храм Геркулеса тем вечером; должно быть, Барнаб боялся, что он это сделал. Если от Лонгина чтонибудь придет, то в ваших интересах рассказать мне об этом…
— Конечно, — пообещал понтифик, но неубедительно.
Забывшись, я схватил его за плечи и встряхнул.
— Гордиан, единственный способ остаться в безопасности, это если я первым достану Барнаба! С вольноотпущенником разберутся, но его нужно найти. Вы можете сказать мне чтонибудь, что могло бы помочь?
— Ты охотишься за ним, Фалько?
— Да, — сказал я, потому что хотя эта сомнительная привилегия досталась Анакриту, я был полон решимости взять Барнаба, если смогу.
Все еще находясь в шоке после сегодняшнего наглядного доказательства собственной опасности, Гордиан казался рассеянным.
— Вы с Пертинаксом были в близких отношениях, — настаивал я. — Вы знали его вольноотпущенника? Он всегда был таким опасным?
— О, я никогда не имел никаких дел с его работниками… Он запугал тебя?
— Не очень, но я воспринимаю его всерьез! — Я ослабил тон. — Не многие вольноотпущенники считают, что их обязанности по отношению к патрону включают убийство. К чему такая излишняя преданность?
— Барнаб считал, что у его господина золотая судьба. Если уж на то пошло, то и Пертинакс думал так же! Его приемный отец внушил ему огромное чувство собственного достоинства. На самом деле, если бы Пертинакс остался в живых, опасен был бы он сам.
— Амбиции? — тихо усмехнулся я. Мертвый он или нет, мне уже надоело все, что связано с этим Пертинаксом, изза его брака с Еленой. — Пертинакс жаждал власти для себя?
— Пертинакс был ужасным хамом! — возмутился Гордиан с внезапным всплеском нетерпения. Я согласился. — Ты знал его? — неожиданно спросил он.
— Мне это не нужно, — угрюмо ответил я. — Я знал его жену.
Отведя бывшему мужу Елены Юстины место в цепочке человечества ниже, чем букашке на коровьей лепешке, я с трудом мог поверить, что этот человек вынашивал планы на империю. Но после Нерона появилось несколько странных кандидатов; одним из них был Веспасиан. Если вольноотпущенник считает, что смерть Пертинакса отняла у него шанс стать главным министром императора, то его мстительность становится понятной.
Курций Гордиан молча постоял, потом сказал:
— Будь осторожен, Фалько. Атий Пертинакс был опасной личностью. Он, возможно, и мертв, но я не верю, что так закончилось пагубное влияние этого человека!
— Что это значит, сенатор? — Если верховный жрец хотел казаться загадочным, я мог бы не пытаться воспринимать его всерьез.
Вдруг он улыбнулся. От этого его лицо неприятно сморщилось, а зубы следовало бы оставить строго для личного пользования — они были обломаны и все в пятнах.
— Возможно, днем я жую лавровые листья! Тогда с зубами все ясно.
Мне пришлось оставить Гордиана здесь, потому что вернулись люди, отправленные на поиски, — само собой, без нашего парня. Но они нашли одну вещь, которая могла оказаться полезной. За святилищем в храме лежала записная книжка, которая скорее принадлежала нападавшему, а не заместителю жреца: в ней было несколько записей, похожих на счета из таверны: «табак: один асс; вино: два асса; еда: один асс…» Эти расчеты, казалось, принадлежали какомуто бережливому типу, который с подозрением относился к хозяевам трактиров — ну, тогда был огромный выбор! Что в особенности привлекло мое внимание, так это список на первой странице, который был похож на даты — в основном в апреле, но несколько в мае — рядом с названиями «Галатея», «Лузитания», «Венера из Пафоса», «Конкордия»… Это не лошади, их всех звали бы «Буян» и «Гром». Произведения искусства, возможно, — список торговца на аукционах? Если это были статуи или картины, которые сменили хозяев на протяжении последних шести недель, то, должно быть, это известная коллекция, которую распродали по частям; Гемин знал бы наверняка. Другой вариант, который я, в конце концов, предпочел: похоже на график отплытий, а величественные символические названия представляли корабли.
Мне больше нечего было делать на мысе Колонна. Я очень хотел оттуда уехать. Перед моим отъездом Гордиан угрюмо сказал:
— Вольноотпущенник слишком опасен, чтобы ловить его в одиночку. Фалько, тебе нужна помощь. Как только Мило поможет мне безопасно устроиться в Пестуме, я пошлю его к тебе, чтобы вы объединили силы…
Я вежливо поблагодарил Гордиана, пообещав себе по возможности избежать такого удара судьбы.
* * *
Вернувшись в Кротон, я наткнулся на Лэса, хотя совсем не ожидал увидеть его еще раз, а он, казалось, был весьма удивлен встречей со мной. Но я узнал, что пока я бродил по берегу Колонны, этот замечательный непоседа Лэс сплавал в Тарент. Мой новый добрый друг сказал мне, что поспрашивал про Барнаба на старой ферме Пертинакса, которая теперь является собственностью империи.
— Кого ты спрашивал?
— А кто должен был чтонибудь знать? Его мать, страшная ведьма. Зевс, Фалько! — пожаловался Лэс. — Эта старая мерзкая проститутка выгнала меня из своего дома сковородкой с кипящим жиром!
Я ласково поддержал его.
— Лэс, ты должен был очаровать ее еще до того, как она подойдет к печи. Брось в дом через порог кошелек. Но помни, что обычная бабуля может с двадцати метров определить, что кошелек набит всего лишь камнями!
Лэс беззаботно произнес:
— Ей не нужны деньги, только моя кровь. Эта противная старуха начала жизнь рабыней, но теперь она свободна и за ней присматривают люди — предполагаю, Барнаб об этом позаботился.
— Ее любящий мальчик! Как она выглядит?
— От нее пахнет, как под мышкой у тигра, и она совсем не ориентируется во времени. Если эта спятившая старая кошелка вообще чтото знает, то ты можешь оставить средства вольноотпущенника себе. Насколько я смог понять, она думает, что он мертв.
Я засмеялся.
— Лэс, я готов поспорить, что моя мать думает так же; но это означает лишь то, что я неделю не писал домой!
События на мысе Колонна показали, что Барнаб был очень даже жив.
Я должен был поехать сам, чтобы лично посмотреть на эту злую старую калабрийскую летучую мышь и разобраться во всей истории. Но жизнь слишком коротка; невозможно сделать всего на свете.
Я показал Лэсу записную книжку, которую мы нашли в храме Геры.
— Погляди на список: нон апреля, «Галатея» и «Венера из Пафоса»; за четыре дня до идов, «Флора»; за два дня до мая, «Лузитания», «Конкордия», «Парфенопа» и «Грации»… — Это чтонибудь значит? Я думаю, это корабли. Мне кажется, либо график постановки кораблей в док, либо, что более вероятно в это время года, расписание плавания…
Лэс посмотрел на меня своими ясными черными глазами дрозда.
— Я ничего не узнаю.
— Ты говорил, что сам плавал в Александрию!
— Здесь не упоминается Александрия! — возразил Лэс с таким обиженным видом, словно его завалили на вопросе по его профессиональной сфере. — Это было давно, — стыдливо признался он.
Я безжалостно улыбнулся Лэсу.
— Давно и неправда, так?
— Ладно, оставь мне список, я поспрашиваю…
Я покачал головой, пряча книжку себе в тунику.
— Спасибо, я оставлю его себе. Все равно тут, наверное, нет ничего важного.
Обаяние его несимметричного лица имело страшную силу, поскольку, хотя от одного взгляда на воду во время прилива меня тошнило, я почти согласился отправиться в Регий с Лэсом на его корабле. Но от морской болезни можно умереть; я предпочел остаться на суше.
Я подарил козу Лэсу. Я подумал, что она, возможно, закончит свою жизнь на берегу в чьейнибудь похлебке. От этой мысли мне стало плохо. Но существовали две вещи, которыми личному осведомителю лучше себя не обременять: женщины и домашние животные.
Я не сказал, что она священна. Убиение священного животного приносит страшное несчастье, но, как показывает мой опыт, только если знаешь, что сделал. Когда не знаешь и не беспокоишься, у тебя больше шансов.
Коза спокойно пошла с Лэсом: ненадежное существо, как большинство моих друзей. Я сказал ей, что если ей придется быть съеденной моряком, то я не смогу поручить ее более подходящему человеку, чем этот.
XXI
Так я вернулся, чтобы рассказать императору о своих успехах в Бруттии.
Неделя, которую я провел в Риме, была ужасна. Моя мать презирала меня за то, что мне не удалось привезти ей лакрицу. Ления угрожала изза трехнедельной арендной платы. Елена Юстина ничего не передавала. В доме Камилла я узнал, что она уехала из Рима, чтобы провести разгар лета в уединении за городом; гордость не позволила мне спросить у привратника, где именно. Отец Елены, очень приятный человек, должно быть, слышал, что я пришел; он послал за мной раба, чтобы пригласить на ужин, но я был для этого слишком расстроен.
На фоне всех этих неприятностей я с некоторым беспокойством вошел во дворец, чтобы отчитаться. Прежде чем встретиться с Веспасианом, я отыскал Анакрита, чтобы поделиться впечатлениями.
Я нашел его в тесном кабинете, когда он изучал счета. Мне удалось выудить признание, что он потерпел неудачу в поисках Ауфидия Криспа, заговорщика, который сбежал в Неаполь. Также всплыло, что он ничего не добился в отношении Барнаба; даже мое известие о том, что вольноотпущенник совершил еще одно нападение на сенатора, не воодушевило его. Сейчас Анакрит проверял людей, которые организовали торжественный въезд императора в Рим после победы над Иудеей, так что его мысли были заняты участниками и нормами дневной оплаты; казалось, он совсем потерял интерес к заговорам.
Проклиная его за раздражительность и сосредоточенность на самом себе, я поковылял на встречу с императором, чувствуя себя совершенно одиноким.
* * *
После того как я закончил свой рассказ, Веспасиан на некоторое время задумался.
— Цезарь, надеюсь, я не перешел границу?
— Нет, — наконец ответил он. — Нет, все нормально.
— Вы дадите Гордиану должность в Пестуме?
— О, да! Хорошо, что его это устраивает…
Противостоять императору — это крайне эффективное дело! Гордиан получил большое удовольствие от заговора со своими приятелями, после чего просто сидел на Колонне и жевал поджаренное на сковородке мясо с алтаря, ожидая своей награды. Я ничего не сказал, но то, что подумал, могло отразиться у меня на лице.
У нас был короткий безрезультатный спор о деньгах, а потом Веспасиан продолжал смотреть на меня както странно. Чувство, что меня исключили из секретного дворцового соглашения, снова начинало меня раздражать, но как только мое возмущение вызвало у меня желание сбежать, чтобы шесть месяцев пасти овец на горе Этна, император вскользь заметил:
— Мне следовало и за владельцем судна послать тоже тебя!
Мне понадобилось мгновение, чтобы осознать, что он, возможно, предложил мне работу.
— О? — произнес я нечаянно.
— Угу! — сказал он с хмурой улыбкой. — Анакрит сделал все возможное, как он говорит, но ему пришлось привезти обратно мое письмо Криспу с пометкой «адрес неизвестен».
— О, как не повезло! — воскликнул я.
Мне очень нравилось чувство, которое сейчас меня наполняло. Император, возможно, это понимал.
— Мне кажется, — оживленно предположил Веспасиан, — тебе не очень хочется покидать Рим так сразу после возвращения?
С важным видом я покачал головой.
— У меня пожилая мама, император, которой нравится, когда я нахожусь рядом! Кроме того, — добавил я, понижая голос, потому что это было серьезно, — я ненавижу работу, где уже прошелся какойто неудачник и сжег все мосты.
— Я ценю это. Но Ауфидию Криспу принадлежит половина Лация, — сказал мне Веспасиан не без следа зависти. — Так что я вынужден беспокоиться, когда не могу с ним связаться.
Лаций — это освященная временем сельскохозяйственная область, богатая оливковым маслом и вином. Новый император, который локтями отпихнул своих противников, будет внимательно относиться к человеку, играющему важную роль в Лации.
Я улыбнулся императору. Никто из нас не упомянул святого слова «дипломатия».
— Ну, император, многие люди бросились бы наутек, когда с ними здоровается придворный шпион!
— Может случиться так, что с ним поздоровается ктонибудь еще похуже. В качестве моего доброго жеста я хочу, чтобы ты предупредил Криспа. Найди его, Фалько; и найди его раньше, чем это сделает Барнаб!
— О, я найду его. Мне кажется, для этого понадобится, — любезно предложил я, — сменить внешность, чтобы быть совершенно не похожим на государственное должностное лицо…
— Точно! — сказал Веспасиан. — Письмо у моего секретаря. Это первосортный папирус, так что, когда найдешь Криспа, постарайся не уронить документ в вино.
Я заметил, что цены в районе Неаполитанского залива, как известно, высоки, однако не смог убедить императора повысить мое дневное содержание.
— Но дорога за счет государства, — вот лучшее, что он мог предложить. — Есть корабль, называется «Цирцея», который я хочу вернуть отцу Пертинакса; я узнал, что раньше он стоял в Помпеях, так что ты можешь плыть туда на нем, чтобы вернуть старику.
Я считал, что смогу достать себе сухопутное средство передвижения. Однако доступ к торговому судну давал много возможностей; я вспомнил о некоторых брошенных вещах, которые могли бы увеличить мои средства к существованию и в то же время обеспечить удобную маскировку… Я появлюсь в Кампании как путешественник, продающий свинец.
Уходя, я заглянул в кабинет Анакрита, где он все еще сидел с хмурым видом над стопкой скучных счетов. Я подарил ему широкую счастливую улыбку и помахал, чтобы подбодрить его.
В ответ он наградил меня взглядом, который намекал, что я стал ему врагом на всю жизнь.
Несмотря на Анакрита, в процессе подготовки к путешествию в Неаполь я начинал радоваться все больше и больше. Я без особого труда отыскал одного бывшего заговорщика. Казалось, что этот второй будет не хуже. Разыскивать мужчин, как и ухаживать за женщинами, было моим образом жизни. Я без особых усилий научился добиваться и того, и другого.
Если бы я знал чтото об этом другом человеке, которого собирался искать в Кампании, то у меня, возможно, было бы иное настроение.
И если бы я знал о женщине, которую там встречу, то я, возможно, вообще бы не поехал.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ТИХИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Конец июня
… о разврате, о любовных связях, о блуде,
о Байях, о взморье, о пирах, о попойках,
о пении, о хорах, о прогулках на лодках…
Цицерон
XXII
Когда мы пересекали равнину Капуи, у нас произошла первая авария.
К тому времени мой друг Петроний Лонг, стражник, вспомнил, что когда мы в последний раз ездили отдыхать, он сказал, что никогда больше не поедет. Я работал, используя семейство Петро как прикрытие. Одного из моих многочисленных племянников, Лария, которому только что исполнилось четырнадцать, отправили с нами, потому что, как сказала его мать, у него был трудный переходный возраст. Моя сестра решила, что Ларию нужен контроль. Вряд ли он его получит. На мой взгляд, курорт существовал для того, чтобы дать мне возможность вести себя безответственно.
Я высказал эту мысль прямо перед Аррией Сильвией, женой Петро; это была одна из уже нескольких ошибок, а мы еще находились в десяти милях от моря.
Воздух становился все более морским. Как Петроний, так и Сильвия предполагали, что мы направлялись в Байи, лучший курорт на заливе, но Байи находились намного севернее того места, куда мне нужно было попасть. Я думал, когда же безопаснее об этом сообщить.
Мы уже проехали Капую. Утесы Апеннин, покрытые белыми рубцами, все еще тянулись слева от нас, но холмы по правую руку, пропитанные влагой от дождей, уже закончились. Далеко впереди плоская равнина погружалась в низкий серый океанский горизонт. Мы искали гору Везувий, которая отделялась от основной горной цепи недалеко от Неаполя.
Поводья держал Петроний. Он любил управлять, и поскольку сзади сидела его семья, то естественно, что отвечал за них он. Мы ехали в повозке, запряженной волом: трое взрослых, трое маленьких девочек, корзины с продуктами, множество амфор, одежда, которой хватило бы на путешествие длительностью шесть месяцев, несколько котят в том возрасте, когда они неугомонны и все изучают, мой угрюмый парень Ларий и пятнадцатилетняя соседка, которую Сильвия взяла в качестве помощницы. Эта девочкаподросток была странным созданием, впадающим в дикое плаксивое состояние. Ее звали Оллия. У этой служанки была мечта, только она все никак не могла решить, какая именно.
Я предупредил Сильвию, что Оллию обязательно соблазнит на пляже какойнибудь хитрый рыбак. Сильвия лишь пожала плечами. Она была маленькой и грубой. Петроний терпел ее только благодаря своему легкому доброму характеру, но меня она пугала.
Петроний Лонг взял Сильвию в жены около пяти лет назад. Она была дочерью чеканщика монет. Как только мы вернулись домой из Британии, я наблюдал, как Сильвия со своим отцом насели на Петро, словно две старухи, выбирающие на рынке свежую кильку для праздничного угощения. Я ничего не сказал. Не было смысла его расстраивать. Его всегда привлекали привередливые девушки с плоской грудью и пренебрежительным голосом, которые им помыкали.
Пока брак был на удивление удачным. Отец Сильвии помог им очень хорошо устроиться, что показывало, насколько он благодарен, что избавился от дочери. Наверняка парочка ссорилась, но оставляла это между собой. Когда они за довольно короткий срок произвели на свет Петрониллу, Сильвану и Тадию, не было никаких оснований считать, что Петро сделал это только ради славы трижды отца, чтобы улучшить свои гражданские права. Он обожал своих детей; у меня было подозрение, что Петро даже стал романтиком по отношению к своей жене. Но хотя в некоторых аспектах Сильвия была о нем очень высокого мнения, для нее он всегда был ничем.
У Петро был довольно спокойный подход к отцовству. Когда его шумные малыши забирались на него, он продолжал заниматься своими делами. Двое старших карабкались по его могучей спине, а потом снова съезжали вниз, порвав пояс от туники. Тадия, самая маленькая, сидя у меня на коленях, осматривала местность. Зная, что ей нельзя сосать свой большой палец, она кусала мой. Личные осведомители — это животные со стальной челюстью и жестоким сердцем, которые обращаются с женщинами как с бродягами. Но Тадии было всего два года; она еще не могла оценить, что ее добрый дядя Марк подцепил бы любую хорошенькую девочку, чтобы поиграть с ней, а потом бросил бы, как только ему улыбнулась следующая…
Петроний остановил повозку.
У Тадии были большие глаза, панический хныкающий вид. Ее отец холодно попрекнул меня:
— Ей, очевидно, нужно в туалет, так почему ты не мог сказать?
Тадия Петрония была известна тем, что переносила страдания молча; как раз тот тип женщин, которыми я всегда стремился обладать, но никогда не мог.
К этому времени мы все уже устали и начали сомневаться, действительно ли это путешествие было умной мыслью.
— Ну, я остановился, — объявил Петроний. Он был преданным своему делу возницей, который терпеть не мог остановок, хотя с тремя детьми младше пяти лет у нас их было много.
Никто не пошевелился. Я вызвался спустить Тадию на землю.
На равнине Капуи не было общественных туалетов. Однако никто не станет возражать, если несчастная двухлетняя девочка польет растения.
Пока мы с Тадией, спотыкаясь, бродили по округе, Петроний Лонг ждал в повозке. Мы находились в самом плодородном регионе Италии, чьи цветущие виноградники, аккуратные огороды и кривые оливковые рощи тянулись от великой реки Вольтурн до красивых гор Лактарий, где стада по численности достигали шестисот овец. С таким же успехом мы могли бы находиться в пустыне Аравии. Нам пришлось искать куст. В том месте, где мы стояли, была только чахлая поросль. В два года Тадия была светской женщиной, что означало, что она отказывалась от выступления на публике, поскольку в радиусе пяти миль ктото мог прятаться в лисьей норе и увидеть ее.
Поиски укрытия для Тадии заняли столько времени, что мы уже с трудом видели дорогу. Она была восхитительно спокойна. С веточки цветущего ракитника на нас прыгнул кузнечик, а под ногами чувствовался одурманивающий запах теплого смятого тимьяна. Повсюду пели птицы. Мне, возможно, захотелось бы побродить и насладиться природой, но строгий взгляд Петрония дал понять, что семья спешит ехать дальше.
Мы с Тадией хорошенько смочили ее куст, потом вышли.
— Хм! Тадия Лонгина, смотри, какая красивая бабочка; давай постоим и понаблюдаем за ней… — Тадия смотрела на бабочку, пока я нервно уставился на дорогу.
Я заметил, как там внезапно появилось чтото темное и мрачное. Вокруг наших спутников толпилась куча всадников, словно стая воробьев у хлебной корки. Затем поднялась стройная фигура Аррии Сильвии, как будто она произносила перед сенатом речь Катона Старшего о необходимости разрушить Карфаген… Всадники както поспешно поскакали прочь.
Я схватил Тадию, бросился к дороге, поймал убежавшего котенка, запрыгнул и сел рядом с Петронием, который уже пустил повозку.
Сильвия сидела в напряженном молчании, пока я старался не выдать своего волнения, а Петроний гнал вола. Он сидел и правил, как обычно, за исключением тех моментов, когда замечал впереди узкий мост или слышал ссоры детей, что его напрягало. Петро левой рукой легко держал поводья, опираясь вперед на одно колено, а правая рука лежала на груди. С виду казалось, что он пытался унять первые признаки сердечного приступа, однако он просто так расслаблялся.
— Что тут произошло? — осторожно произнес я.
— О… — Перед тем, как заговорить, Петро медленно расправил плечи. — Полдюжины сквернословящих деревенщин в бронированных шлемах искали какогото идиота, который наступил им на ногу. Они лапали нашего котенка и всем нам угрожали, пока Сильвия не сказала им, что она о них думает… — Узнавать от Сильвии то, что она думает, это такое же испытание, как залетевшая в нос мошка. — Я притворился простым римлянином, который всего лишь остановился у большой дороги поругаться со своей женой… — Мне стало интересно, о чем они ссорились; зная их, можно предположить, что обо мне. — Они поехали в сторону Капуи. Главарь в противном зеленом плаще сказал, что я все равно не тот…
— А кто же тогда им нужен? — кротко спросил я.
— Какойто тупой ублюдок Фалько, — рявкнул Петроний.
XXIII
Конец июня: все, кто смог, уехали из Рима. Некоторые отправились на свои загородные виллы. Большинство из тех, кто выбрал море, должно быть, приехали за два дня до нас. Толпы людей только усугубляли мою проблему; я предпочел бы находиться в безопасности за дверями своего дома.
По крайней мере, я знал свое положение: Барнаб все еще прятался в этом ужасном зеленом плаще. Он был здесь, в Кампании — и сейчас искал меня.
Вокруг залива располагалось множество городов и деревень, но некоторые исключили мы, а остальные отвергли нас. Сам Неаполь с его красивыми летними дворцами казался слишком вычурным, чтобы мы могли себе его позволить, в то время как Путеолы, будучи для Рима главным выходом к морю до развития Остии тридцать лет назад, оставались шумным торговым портом. Мизены кишели государственными служащими, поскольку там располагался флот. Байи, модное место для купания, были попроще, но полны грязных домов, куда отказывались пускать с детьми. Суррент перешагнул через изумительный залив, куда можно было попасть либо морем, либо по долгой извилистой дороге; если меня преследовал сумасшедший убийца, то Суррент мог стать опасной ловушкой. Помпеи были слишком дерзкими, Геркуланум — чересчур чопорным, а термальный источник в Стабиях переполнен хрипящими пожилыми гражданами и их раздражительными женами. На склонах Везувия было несколько деревень, но детям обещали море.
— Если еще один нищий домовладелец Кампании покачает головой, глядя на наших котят и ночные горшки, — признался мне Петроний опасным тихим тоном, — мне кажется, что я выйду из себя!
— Как насчет Оплонтиса? — предложил я, пытаясь принять обычный невинный вид.
Оплонтис был маленькой рыбацкой деревушкой в центре залива, о прелестях которой красноречиво говорил распространяющийся повсюду запах жареной кефали. Его гордостью были чрезвычайно элегантные виллы, заколоченные досками. Контрабандисты мирно выпивали, а мальчики на берегу, притворяясь, что зашивают сетки, смотрели на нас. Это место показалось подходящим. Это место показалось дешевым. Оно показалось довольно маленьким, а значит безопасным; если сюда с шумом ворвется вооруженная банда из Геркуланума, то из каждого домика на берег выбежит любопытная толпа. Оплонтис оказался тем местом, где я захотел остановиться.
Мы нашли какуюто старую бабу с редкими зубами, которая сдала нам две потрепанные комнаты на первом этаже обшарпанного постоялого двора. Я заметил, что Петроний выясняет, как можно вывести его семью через конюшню с задней стороны здания в случае, если во двор войдет ктото подозрительный.
Здесь никто больше не проживал; мы понимали почему.
— Мы можем пожить здесь одну ночь, — пытался убедить себя Петро. — Потом на завтра найдем чтонибудь получше… — Он знал, что раз уж мы здесь остановились, то останемся до конца.
— Нам следовало остановиться в Байях! — жаловалась Сильвия. Даже когда большинство путешественников устают, как собаки, жены некоторых людей всегда находят силы поплакаться. Ларий принюхивался; он почувствовал необычный запах. Наверное, морские водоросли. А может, и нет.
— О, Ларий, заткни себе нос! — прикрикнул я. — Подожди, когда понюхаешь общественный туалет в Стабиях и канализацию в Помпеях!
Во внутреннем дворике были фонтанчик и худая виноградная лоза, вьющаяся по беседке. Мы с Ларием умылись и сидели на скамейке, пока Сильвия готовила нам постели. Мы заметили, что она хотела поругаться с Петро. В одной из наших комнат было окно, прикрытое шкурой, через которое нам с Ларием удалось подслушать семейную ссору; фраза «Ничего кроме проблем!» прозвучала несколько раз: это обо мне.
Возлюбленная Петро сообщила ему, что завтра с первыми лучами солнца они повезут детей домой. Его ответ был слишком тихим, чтобы расслышать. Когда Петро ругался, это было ошеломляюще грубо, но ужасно тихо.
Наконец все успокоилось; потом Петро спустился во двор. Он вылил себе на голову ведро воды, помедлил, потом присел с нами на скамейку — очевидно, ему необходимо было побыть одному. Он принес зеленую глазурованную бутылку, хлебая прямо из нее, как путешественник, который заехал дальше, чем хотел, и пережил много неприятностей.
— Ну, как помещение? — рискнул спросить я, хотя догадывался.
— Скверное. Четыре кровати и ведро.
— Сильвия расстроена?
— Пройдет. — Слабая измученная улыбка коснулась губ Петро. — Мы положили детей и Оллию в одну комнату; вам двоим придется ночевать с нами.
Дешевый ночлег для нашей большой компании породил тактические проблемы: для Петро с Сильвией они оказались хуже. Я предложил увести Лария на часок, но Петро только раздраженно заворчал.
Он снова отхлебнул из своей бутылки, которую больше никому не предложил. Опять оказавшись в тихом местечке и с выпивкой, Петро вскоре достаточно расслабился, чтобы возмутиться:
— Ты должен был предупредить меня, Фалько!
— Послушай, я найду другую ночлежку…
— Нет, если тебя преследует какойто громила, собравший шайку бандитов, я хочу, чтобы ты был в моем поле зрения!
Я вздохнул, но ничего не сказал, потому что спустилась жена Петро.
Сейчас Сильвия выглядела спокойнее. Она испытывала чувство злорадной гордости, потому что знала свое дело, что бы ни случилось, поэтому принесла нам поднос с чашами. Ларий держал бутылку; я ее не трогал. Я с нетерпением ждал возможности попробовать знаменитые вина Суррента и Везувия, хотя определенно не сегодня.
— Фалько, ты должен был нас предупредить! — резко обвинила меня Аррия Сильвия, как будто действительно думала, что Петроний этого не сказал.
Я вздохнул.
— Сильвия, у меня есть одно дело. Я бы хотел остаться в кругу семьи и никому не мешать. Как только смогу встретиться с человеком, с которым мне необходимо поговорить, я уеду. Петроний не имеет к этому никакого отношения…
Сильвия фыркнула. Ее голос стал напряженнее:
— О! Я знаю вас обоих! Вы бросите меня со всеми детьми в этой ужасной деревне, пока будете делать то, что вам нравится! Я не узнаю, где вы, или что вы делаете, или к чему вообще все это. Кем, — спросила она, — были те люди сегодня днем? — Сильвия ловко уловила все, что пытались скрыть ее спутники.
Наверное, я устал. Я чувствовал, что больше не могу; типичное для отпуска настроение.
— Тот в зеленом, должно быть, недовольный вольноотпущенник по имени Барнаб. Не спрашивай, кто одолжил ему кавалерию. Ктото мне говорил, что он мертв…
— Призрак, да? — отрывисто произнес Петроний.
— Вопрос времени! — Петро подарил мне язвительную улыбку; я решил сосредоточиться на Сильвии. Я налил ей выпить; она так жеманно попивала вино, что мне хотелось скрипеть зубами. — Слушай, ты знаешь, что я работаю на Веспасиана. Некая группа людей упрямится признавать его императором; я убеждаю их, что это плохая идея…
— Убеждаешь? — спросила Сильвия.
— Повидимому, — сухо сказал я, — новая дипломатия состоит из разумного обсуждения — подкрепленного внушительными взятками.
Я слишком устал, чтобы спорить, а еще больше боялся ее. Сильвия слегка напомнила мне Елену в худшем смысле, но споры ни о чем с ее высочеством всегда приносили мне внутреннее удовлетворение, которое некоторые мужчины находят в игре в шашки.
— Ты все еще получаешь от Веспасиана какиенибудь приличные деньги? — придирался Петроний. Мой ответ мог бы быть грубым, но мы хотели хорошо провести здесь время, так что я сдержался. В грязном жилище у Неаполитанского залива никто не скажет спасибо за сдержанность.
— Я хочу знать, что ты здесь делаешь? — вмешалась Сильвия.
— Мой беглец находится на судне, которое заметили в этих окрестностях…
— Заметили где? — настаивала она.
— На самом деле в Оплонтисе.
— Так значит, — неумолимо пришла к выводу Сильвия, — наше пребывание в этой отвратительной деревне — это не совпадение! — Я старался казаться вежливым. — Что ты будешь делать, когда найдешь судно, Фалько?
— Поплыву поговорить с одним человеком…
— Для этого мой муж тебе не нужен.
— Нет, — сказал я, выругавшись про себя. Грести я умел. Но я думал, что Петроний возьмет на себя тяжелую работу, пока я буду рулить и когда спрыгну на пристань. — Если только, — начал я с осторожным взглядом, — ты не сможешь отпустить его в Помпеи, чтобы он помог мне разгрузить слитки, которые я буду использовать для прикрытия.
— Нет, Фалько! — разозлилась Сильвия.
Петроний не пытался заговорить. Я старался не встречаться с ним глазами.
Сильвия бросила на меня ядовитый взгляд.
— О, а какой смысл спрашивать меня? Вы оба все равно сделаете все так, как хотите!
Мне показалось умной мыслью отвести Лария наверх, чтобы осмотреть комнату и распаковать вещи.
На это потребовалось не так много времени. Наши комнаты находились в конце темного коридора. Мы снимали две душные спальни с рассыпающимися плетеными стенами. В тех местах, где сломалась кровать, были вставлены неровные доски из мягкой древесины. Мы с Ларием приподняли свою постель, чтобы посмотреть, нет ли жуков, но жукам, которые любили комфорт, там негде было сделать гнездо. Мы увидели только жесткую подстилку, покрытую многовековой грязью, соединявшей несколько спутанных куч соломы, которая всю ночь будет впиваться нам в спины, как каменные обломки.
Я поменял ботинки на сандалии и направился вниз, собираясь предложить оставить Оллию с детьми, пока остальные пойдут есть. Отвернувшись, Ларий рылся в сумке; я сказал ему следовать за мной. Когда этот рассеянный воробей долго не шел, я остановился на первом этаже, уже собираясь заорать на него.
Напротив во дворе Петроний Лонг сидел там же, где мы его и оставили, откинув голову, протянув свои длинные ноги, с беззаботным выражением лица, словно он впитал в себя всю вечернюю умиротворенность. Он ненавидел ссоры, однако время от времени они его касались. Теперь, когда не нужно было управлять повозкой, Петро, несмотря ни на что, начинал получать удовольствие. Его хорошо знакомые каштановые волосы казались более взъерошенными, чем обычно. Его чаша для вина наклонилась; очевидно, она была пуста, а в руках он держал ее просто для утешения. Своей правой рукой Петроний непринужденно обнимал жену.
Пережив пять лет трудностей брака, наедине эти двое справлялись лучше, чем казалось со стороны. Аррия Сильвия втиснулась рядом с Петронием. Она плакала, превратившись в расстроенную молодую женщину, которая под маской сильного человека чувствовала себя истощенной. Петро дал ей повздыхать на его огромном плече, пока сам продолжал мечтать о чемто своем.
В тот момент, когда я находился под впечатлением от этих умных рассуждений на тему брака, Сильвия вытерла глаза. Я увидел, как Петро вновь собрался с мыслями и притянул ее поближе к себе. Я уже много лет знаю его, и видел, как он целовал больше женщин, чем хотелось бы слышать его жене. Я понимал, что для того, чтобы сохранить мир, этому старому развратнику сейчас предстоит гораздо больше, чем простой поцелуй. После этого Петроний чтото сказал жене, очень тихо, и она ответила. Потом они оба встали и вышли к дороге, обнимаясь и склонив друг к другу головы.
Я почувствовал внутри какуюто боль, которая не имела ничего общего с голодом. Появился Ларий. Я сказал ему, что передумал насчет ужина, потом потащил его обратно в комнату.
Одним признаком трудного переходного возраста моего племянника, как я заметил, было то, что куда бы его ни отвезли, у этого молодого ворчуна был такой вид, словно он хотел бы остаться дома.
XXIV
На следующий день светило солнце; при моем настроении это было неожиданностью.
Я вышел на улицу, чтобы осмотреться; справа и слева простирались две руки залива, мерцая в слабой сероватой дымке. Впереди остров Капри полностью скрылся за туманом, а когда я оглянулся через плечо, вершина Везувия также показалась лишь далеким пятном. Но даже в такой ранний утренний час блеск моря начинал ослеплять; эта нежная всюду проникающая дымка предшествовала замечательному, жаркому, морскому дню.
Я был подавлен. Мой племянник спал крепким сном, несмотря на наш жесткий матрац. Петроний храпел. Его жена тоже.
* * *
— У Фалько измученный вид. Мы должны найти ему подружку! — оживленно щебетала Аррия Сильвия за завтраком, впиваясь в персик своими злыми передними зубами. Я сказал себе, что, по крайней мере, мы здесь еще не так долго, чтобы подхватить расстройства желудков и начать делиться впечатлениями на эту тему за едой.
— Дай ему пять минут в Помпеях, — съязвил Петро, — и он ее себе найдет… — На мгновение мне показалось, что он имел в виду боль в желудке.
Я не мог сосредоточиться на бессмысленной семейной болтовне. Я был очень обеспокоен. Вот я и в Кампании в разгар летнего сезона. Приехав сюда вчера, я со всех сторон увидел смеющиеся лица. Искренние молодые девушки в самом расцвете, расслабляющиеся и пополневшие на жарком прибрежном воздухе, на каждой из которых надето ужасно мало одежды, и они только и ищут повод, чтобы ее снять… И здесь был я, красивый дьявол в почти новой горчичной тунике, купленной в лавке подержанных вещей. И если бы из фонтана прямо ко мне на колени выпрыгнула девушка с внешностью Венеры Праксителя, на которой не было бы ничего, кроме пары модных сандалий и улыбки, я бы ушел прочь, чтобы поразмышлять в одиночестве.
На завтрак была вода с фруктами. Если это не соответствовало тому, к чему ты привык дома, то фрукты можно было не есть.
* * *
В тот же день мы — мужчины — удрали в Помпеи.
Сразу за городом в устье Сарно находился маленький порт, который также обслуживал более крупные центры Нолу и Нуцерию. Повозку мы оставили в порту; Морские ворота были слишком крутыми, чтобы тащить ее наверх. Ларий хотел остаться посмотреть на корабли, но я не смог бы сказать своей сестре, что ее первенцу грубо открыл глаза на мир какойто толстый боцман на пристани реки Сарно, так что мы взяли его с собой. Мы с Петро прошли по пешеходному тоннелю слева от ворот; там был отдельный склон для вьючных животных, по которому Ларий демонстративно проковылял сам. Пока мы ждали его наверху, нам было слышно его презрительное бормотание.
В Помпеях было вино, зерно, шерсть, металлы, оливковое масло, дух всеобщего процветания и десять маленьких сторожевых башен, установленных в мощных городских стенах.
— Это место еще долго простоит! — Вот одно из моих самых острых замечаний.
Ну, ладно; я знаю, что произошло в Помпеях — но это было восемь лет спустя. Любой человек, изучающий естествознание, считал вулкан потухшим. Между тем, помпейские щеголи верили в искусство, Исиду, гладиаторов Кампании и наличные, чтобы покупать шикарных женщин; мало кто из этих крикливых ублюдков был великим знатоком естествознания.
В то время Помпеи были знамениты двумя событиями: мятежом в амфитеатре, когда помпеянцы и нуцерийцы, как хулиганы, напали друг на друга, оставив довольно много погибших, и потом разрушительным землетрясением. Когда мы приехали туда, за восемь лет после землетрясения, весь город все еще напоминал строительную площадку.
Форум был похож на развалины, главным образом изза того, что горожане совершили ошибку, поручив своим архитекторам перестроить его в большем масштабе. Как обычно, под этим предлогом архитекторы промечтали и потратили свою зарплату, не думая о том, что года идут. Отпущенный на свободу раб, который уехал, чтобы сделать себе имя, реконструировал храм Исиды, а граждане заколотили свой амфитеатр на случай, если когданибудь снова захотят побить своих соседей. Но храмы Юпитера и Аполлона стояли закрытые лесами со спрятанными в крипте скульптурами, и нелегко было пробиваться между тачками подрядчиков, чтобы подняться наверх мимо продовольственного рынка, пройти под одной из церемониальных арок и попасть
в город.
Нам с Петронием это место показалось хорошим источником знаний для молодого Лария. Поскольку их покровительницей была Венера, члены городского совета хотели, чтобы она чувствовала себя как дома. Когда они перестроили ее собственный храм, он возвышался над Морскими воротами, но вряд ли ей это было нужно. Модной чертой каждого изысканного внешнего дворика в Помпеях было настенное изображение Приапа с его неустанной эрекцией; чем богаче были люди, тем дальше от дверей простиралось гостеприимство бога потомства. Иностранцам не так легко было отличить коммерческие публичные дома от частных домиков. Судя по пикантной репутации города, если вдруг ошибешься, то это и не страшно.
Заметив, как мой племянник с милым изумлением оглядывался вокруг, проститутка у настоящего борделя улыбнулась ему, показав свои немногочисленные почерневшие зубы.
— Привет, сынок! Хочешь познакомиться с красивой девушкой?
Бог плодовитости, нарисованный мелом у них на стене, как видно опять зрелый, демонстрировал то, что требовалось от парня, хотя дама не вызывала большого доверия. Она была довольно отвратительна под тяжелыми слоями краски для век.
— Мы сейчас просто осматриваемся, — дружелюбно извинился я, когда Ларий сбежал и спрятался ко мне под крылышко. — Извини, бабуля… — По какойто причине этот старый мешок с костями стал выкрикивать оскорбления. Петроний начал волноваться, так что мы нырнули в безопасную атмосферу винной лавки под открытым небом.
— Не надейся, что я поведу тебя плохими путями, — прошептал я Ларию. — Твоя мама думает, что я за тобой присматриваю. Спроси у своего отца, когда вернешься домой.
Муж моей сестры Галлы был ленивым лодочником, чье главное преимущество состояло в том, что его никогда не было дома. Он был безнадежным бабником. Мы все могли бы с этим справиться, если бы Галла не обращала внимания, но она была необыкновенно разборчивой и обращала. Иногда он ее бросал; чаще Галла выгоняла его. Время от времени она уступала «ради детей» — избитый старый миф. Отец семейства жил с ней месяц, если везло, а потом уезжал за своей следующей недальновидной продавщицей венков. Моя сестра рожала еще одного несчастного ребенка, и снова вся семья оставалась сама по себе; когда становилось совсем худо, бедняжек посылали ко мне.
Ларий, как обычно, был замкнутым. Я не мог решить: то ли это изза того, что было совсем худо, или потому, что его послали ко мне.
— Развеселись! — приставал я к нему. — Если хочешь потратить свои карманные деньги, то спроси у Петро, сколько заплатить. Он человек, умудренный жизненным опытом…
— Я счастлив в браке! — протестовал Петроний, хотя потом рассказал моему племяннику, что, насколько он понял, можно получить основные услуги за медный асс.
— Я бы хотел, — высокомерно произнес Ларий, — чтобы люди перестали приказывать мне развеселиться! — Он гордо отошел и наклонился над фонтаном на перекрестке, чтобы попить воды. С ним заговорил сутенер, и мальчик поспешно вернулся обратно; мы с Петро притворились, что ничего не видели.
Я облокотился на стол, опустив нос в чашу с вином, осознавая тот факт, что у меня десяток племянников, из которых угрюмый Ларий Галлы был всего лишь первым, кто в четырнадцать лет снял свою детскую тунику. Благодаря моему сбежавшему отцу, я играл роль главы нашей семьи. И вот я связался с высокими политиками, прочесываю побережье в поисках предателя, убегаю от убийцы, забытый женщиной, которой отдал свое сердце. Однако я пообещал сестре, что какнибудь во время этой поездки просвещу ее мальчика о чемнибудь таком, чего он еще не успел узнать от своих противных друзей в школе… Петроний Лонг всегда добр к людям, оказавшимся в затруднительном положении; он похлопал меня по плечу и угостил нас, заплатив за вино.
Уходя, я заметил, что оглядываюсь, опасаясь, что меня преследует зловещий призрак в зеленом плаще.
XXV
Мы приехали, чтобы встретиться с одним человеком. Как обычно в подобных обстоятельствах, мы подозревали, что он будет водить нас за нос и потом обманет. Поскольку он был водопроводчиком, это было совершенно точно.
Мы поехали на север мимо храма Фортуны Августы к водонапорной башне рядом с Везувианскими воротами. Помпеянцы сделали удобные приподнятые пешеходные дорожки, но в те часы, когда мы там находились, жители сами занимали большую часть тротуара, так что мы — трое честных иноземцев — шагали по мусору на дороге. Будучи сосредоточенными на том, чтобы не наступить сандалиями в ужасно липкий бычий помет, мы с трудом могли рассмотреть улицы, но с задних аллей были видны верхушки решеток и ореховых деревьев над высокими стенами садов. Красивые, просторные двухэтажные дома смотрели своими окнами на главные оживленные улицы, хотя там, похоже, были свои проблемы: очень многие из них превращались в прачечные и склады или сдавались по частям.
До землетрясения городская система водоснабжения зависела от акведука, который подводил воду от Серино к Неаполю. Этот акведук представлял собой красивое произведение человеческих рук с второстепенным ответвлением, которое шло сюда, к большой квадратной башне с тремя кирпичными арками, украшавшими ее внешние стены. Воду несли главные каналы: один к общественным фонтанам, а два других к торговым помещениям и частным домам, но землетрясение повредило резервуар для воды и разрушило распределительные водопроводные трубы. Человек, который был нам нужен, без энтузиазма пытался починить цистерну. У него была обычная рабочая туника с одним рукавом, две маленькие бородавки у подбородка и причудливое, слегка уставшее выражение лица человека, который сам намного интереснее, чем требует его работа.
— Ты уже долго там? — спросил я, пытаясь скрыть свое удивление, что деревне потребовалось восемь лет, чтобы зацементировать протекающий бак.
— Все еще ждем приказа городского совета. — Он с грохотом поставил на землю корзину с инструментами. — Если покупаешь дом в Помпеях, то выкопай глубокую скважину и молись о дожде.
Нашим знакомством я обязан своему зятю, скульптору; оно приняло форму той фразы с черепом: «Только упомяни мое имя»… Его звали Мико. Я упоминал его крайне осторожно.
— Имя Мико, — произнес я, — даже стойкого мастера с тридцатилетним опытом заставляет нестись к ближайшему фонтану, чтобы утопиться. Я осмелюсь спросить, помнишь ли ты его?
— О, я помню Мико! — заметил водопроводчик сквозь стиснутые зубы.
— Я думаю, — предположил Петроний, который знал моего неловкого зятя и презирал его так же, как и все мы, — что после перенесенного мятежа и землетрясения визит молодого Мико подтверждает поговорку, что Бог троицу любит!
Водопроводчик, которого звали Вентрикул, был тихим, спокойным, на вид честным типом, которому удавалось создавать впечатление, что если он сказал, что вам нужен новый бак, то это могло быть почти правдой.
— Он довольно отвратительный, — согласился водопроводчик.
— Настоящая пытка! — сказал я, начиная улыбаться впервые за эту поездку. Меня всегда веселили оскорбления в адрес моего зятя. — Художник из Лация лишился глаза, когда они подпрыгнули на кочке во время жесткой езды с Мико и кисточка отскочила ему в лицо. Он не получил никакой компенсации; судья сказал, что если он следовал повсюду за Мико, то должен быть готов к любым кочкам… — Я остановился, потом мы все улыбнулись. — Так ты друг Мико?
— А разве не все на свете его друзья? — прошептал Вентрикул, и мы все снова улыбнулись. Мико был убежден, что его любили все, кто знал. На самом же деле они просто стояли, польщенные его великодушием, пока он покупал им выпивку. Он действительно покупал выпивку — много выпивки; если уж Мико заставил вас остаться в таверне, то вы будете ерзать там не один час. — Почему, — дразнил меня Вентрикул, — любой любящий брат отдал бы Мико свою сестру?
— Моя сестра Викторина сама ему отдалась!
Я мог бы добавить, что она отдавалась каждому с достаточно плохим вкусом для того, чтобы взять ее, обычно за храмом Венеры на Авентине, но это бросало тень позора на остальных членов семьи, чего мы не заслуживали.
Мысль о моих родственниках так меня расстраивала, что я перешел к тому, чего хотел от Вентрикула. Он слушал со спокойствием человека, который восемь лет ждал, пока его городской совет составит перечень срочных ремонтов.
— У нас есть технические возможности. Я могу нанять иностранца…
Так мы все вместе отправились обратно через Помпеи, вышли в порт. Водопроводчик брел молча, похожий на человека, который, имея дело с инженерамистроителями, научился быть терпеливым с душевнобольными.
Думая о своем племяннике, я забыл проверить прибытие моего корабля, но когда император говорил, что судно переправят из Остии к Сарно, можно считать, что моряки отплывут немедленно и по дороге не станут останавливаться, чтобы сыграть в кости на какихнибудь морских нимф.
Корабль под названием «Цирцея» ждал в гавани. Это была одна из галер Тарента, построенных для Атия Пертинакса — огромное торговое судно с квадратным парусом, глубиной трюма тридцать футов, с двумя большими веслами для управления с каждой стороны высокой кормы, которая изгибалась, словно тонкая гусиная шея. Оно было достаточно прочным, чтобы бросить вызов Индийскому океану и вернуться загруженным слоновой костью, перцем, трагакантом, горным хрусталем и морским жемчугом. Но со времен своего первого путешествия «Цирцее» жилось тяжелее; в прошлом году Пертинакс использовал ее для того, чтобы плавать вокруг Галлии. Сейчас она была до планширя нагружена холодным атлантическим грузом — длинными прямоугольными слитками британского свинца.
Вентрикул восхищенно присвистнул, когда мы все столпились на борту.
— Я же говорил вам, откуда они, — сказал я, пока он удивленно оглядывал слитки.
— Я надеюсь, — напрямик спросил Вентрикул, — это не пропавшие сокровища?
— Взяты из государственной казны, — ответил я.
— Украдены?
— Не мной.
— Что с ними было?
— Они связаны с обманом, который я расследовал. Ну, вы знаете, как это бывает. Они могли быть полезны в качестве улик, поэтому были сложены во дворе, пока большие «шишки» раздумывали, чего они хотят: предстать перед судом или скрыться.
— И что же решили?
— Ничего, интерес угас. Так что я обнаружил, что они все еще лежат без дела… К ним нет никаких документов, и хранитель в храме Сатурна никогда не заметит пропажи. — Ну, скорее всего не заметит.
— В них еще есть серебро? — спросил Вентрикул, и когда я отрицательно покачал головой, он казался очень разочарованным.
Петроний мрачно смотрел в открытый трюм, с горечью вспоминая, как его послали в крепость на линии фронта в провинцию на краю света — в Британию, где, куда бы ты ни повернул, мерзкая погода всегда била тебе в лицо… Я видел, как он расправил плечи, словно все еще чувствовал ту сырость. Он ненавидел Британию почти так же, как я. Хотя не совсем. Петроний все еще предавался воспоминаниям о знаменитых устрицах восточного побережья и резко останавливал взгляд на женщинах с рыжезолотистыми волосами.
— Веспасиан знает, что ты сбагрил эти запасы? — тревожно пробормотал он. У него была ответственная работа с достойной зарплатой; жене нравилась эта зарплата.
— Особая привилегия! — весело заверил я его. — Веспасиан любит делать деньги на стороне.
— Ты просил его поделиться с тобой?
— Он никогда не говорил «нет».
— И «да» тоже! Фалько, я в тебе разочарован…
— Петро, хватит волноваться!
— Ты даже корабль урвал!
— Корабль, — твердо заявил я, — нужно вернуть снисходительному богачу, который купил его своему сыну; когда я закончу, я сообщу старому торговцу, где стоит его морская недвижимость. Смотри, тут порядочно веса нужно перетаскать; так что нам лучше поторопиться… О, Парнас! Где этот парень?
С внезапным приступом страха я вышел на палубу, оглядывая гавань в поисках Лария, который исчез. Как раз в тот момент этот слабоумный брел по пристани своими обычными размашистыми шагами и с рассеянным видом, таращась на другие корабли. Я поймал его взгляд — недалеко от морщинистого портового грузчика с покрывавшим лицо девяностолетним загаром, который сидел на швартовной тумбе и наблюдал за нами.
XXVI
У нас был тяжелый день.
Все утро мы разгружали слитки на нашу повозку. Вентрикул арендовал мастерскую в Театральном квартале. Стабианские ворота находились ближе всего, но дорога к ним была такой крутой, что вместо этого мы покатили к Нуцерии, рядом с которой располагался некрополь, отбили углы от нескольких мраморных надгробий и там повернули в город. У нашего вола, которого мы звали Нерон, вскоре стал нездоровый вид. У него был терпеливый нрав, но, очевидно, идея тянуть свинцовые брусья выходила за рамки чувства долга для зверя во время отдыха.
Вентрикул сразу приступил к работе. Я хотел, чтобы он переплавил слитки в водопроводные трубы. Это означало, что их нужно было расплавить и затем прокатать в узкие полоски длиной примерно десять футов. Листовой свинец охлаждался, затем накручивался на деревянные рейки так, чтобы можно было соединить два края и запаять их при помощи другого расплавленного свинца. Именно этот шов и придает трубам грушевидную форму, если смотреть на них в разрезе. Вентрикул очень хотел сделать их различной ширины, но мы остановились на стандартном калибре: квинарий, или палец с четвертью в диаметре, — удобный в хозяйстве размер. Водопроводные трубы тяжелы: даже квинарий длиной десять футов весил шестьдесят римских фунтов. Мне приходилось все время предупреждать постоянно отвлекающегося Лария, что он хорошо это узнает, если уронит трубу себе на ногу.
Как только мы перевезли все слитки в мастерскую, а водопроводчик изготовил кучу труб, мы отправили повозку обратно в Оплонтис. Вентрикул добавил бесплатно мешок бронзовых кранов и задвижек, которые показывали, какую прибыль он получал от этого дела. План был таков: я должен был возить с собой образцы и продавать их прямо на месте, но, где можно, заключать за Вентрикула крупные договоры на последующие партии товара. Я сейчас хотел отправить большую партию обратно в Оплонтис, что означало только одного водителя и никаких пассажиров; груз перевез бы Петроний. Он был достаточно крупным, чтобы постоять за себя, и хорошо ладил с Нероном. Кроме того, хотя он и не жаловался, я знал, что Петро хотел пораньше вернуться, чтобы успокоить свою жену. Когда я отправил его, то почувствовал себя настоящим народным благодетелем.
Я сводил водопроводчика и Лария поплескаться в Стабианских термах. Затем перед отправлением домой мы с парнем прошли через гавань, чтобы я мог последний раз поговорить с капитаном «Цирцеи». Я показал ему записную книжку, которую привез домой из Кротона, и рассказал свою теорию о том, что список названий и дат связан с кораблями.
— Может быть, Фалько. Я знаю, что «Парфенопа» и «Венера из Пафоса» перевозят зерно из Остии…
Пока мы разговаривали, я снова потерял из виду своего племянника.
Я оставил его бродить по пристани. Нацарапанный рисунок двух гладиаторов свидетельствовал о последнем месте его игр: в отличие от прыщавых трусов, стоящих на коленях, которых мы видели в качестве украшения на стенах городской таверны, каракули моего шалопая были убедительными; он действительно умел рисовать. Однако художественный талант не был гарантией здравого смысла. Следить за Ларием — это все равно что дома дрессировать хамелеона. Корабли обладали особой притягательностью; вскоре я стал беспокоиться, не проскочил ли он на борт «зайцем»…
Внезапно Ларий снова появился в поле зрения: он болтал с загорелым типом с наблюдательного поста, который, как я заметил еще раньше, с большим интересом шпионил за нами.
— Ларий! Ты, маленький негодяй с блошиными мозгами, где тебя боги носили? — Он открыл рот, собираясь ответить, но я оборвал его. — Прекрати удирать, ладно? Мне и без тебя приходится постоянно оглядываться через плечо, опасаясь маньякаубийцы!
Возможно, он собирался извиниться, но моя тревога так меня разозлила, что я лишь кивнул любопытному портовому грузчику, после чего потащил своего племянника за ухо.
От воспоминаний о Барнабе еще одна струйка холодного пота скатилась у меня под туникой. В последний раз окинув взглядом порт, словно опасаясь, что за нами мог наблюдать вольноотпущенник, я устремился в направлении дыры, которую мы называли домом.
* * *
Оплонтис был промежуточной станцией на пути в Геркуланум. Не так уж далеко, хотя дальше, чем хотелось бы идти человеку, который целый день таскал свинец. Помпеи располагались на возвышенности; когда мы в теплых сумерках повернули на север, перед нами предстала панорама побережья. Мы остановились.
Был уже почти июль. Ночи становились темнее, но не прохладнее. Сейчас были сумерки, и крутой пик Везувия только еще исчезал из виду. Вдоль всего прекрасного залива, от Суррента до Неаполя, где за последние пятьдесят лет местные богачи и всякие важные римляне настроили своих прибрежных вилл, сверкали огоньки, которые освещали их причудливые портики и романтичные колоннады. В это время года большинство жителей находились дома. Вся береговая линия была усыпана танцующими желтыми огоньками костров.
— Очень живописно! — весело прокомментировал Ларий. Я затаил дыхание, позволив себе минутку восхищения. — Дядя Марк, кажется, сейчас подходящее время, чтобы начать наш трудный разговор. Ларий, — передразнивал он, — почему твоя глупая мамаша говорит, что ты плохо себя ведешь?
Он был в два раза младше меня и в два раза более угнетенным, но когда мой племянник переставал прибедняться, у него было удивительное чувство юмора. Я очень любил Лария.
— Ну, так почему она так говорит? — раздраженно проворчал я, потому что меня вывели из задумчивого состояния.
— Понятия не имею. — Через секунду, которая мне потребовалась, чтобы произнести этот полезный вопрос, он опять превратился в замкнутого оболтуса.
Пока мой племянник любовался пейзажем, я внимательно его рассмотрел.
У него были брови умного человека под растрепанными волосами, которые спадали на серьезные, темнокарие глаза. С тех пор как я видел его во время прошлых сатурналий, когда он бросался орехами в своих младших братьев, парень, должно быть, вырос на три пальца. Его тело вытянулось так быстро, что оставило мозг позади. Ноги, уши и те части тела, о которых он вдруг так застеснялся говорить, были как у мужчины на полфута выше меня. Пока они у него росли, Ларий был убежден, что выглядит смешно; сказать по правде, так и было. И он мог обрести красивое телосложение — но мог и не обрести. Мой двоюродный дед Скаро всю жизнь был похож на перекошенную на один бок амфору с непропорциональными ручками.
Учитывая его угрюмый ответ, я решил, что разговор между мужчиной и мальчиком сегодня не выйдет. Мы отправились дальше, но еще через десять шагов он драматично вздохнул и выдал:
— Давайте с этим покончим; я обещаю вам помогать!
— О, спасибо! — он застал меня врасплох. В отчаянии глядя по сторонам, я формально спросил его: — Что о тебе думает твой учитель в школе?
— Ничего особенного.
— Это хороший знак! — я слышал, как он нерешительно повернул голову. — Так что же так огорчает твою маму?
— Она вам не говорила?
— Твоя мать уже приготовилась вылить поток слов, но у меня не было трех лишних дней. Расскажи сам.
Должно быть, полминуты мы шли молча.
— Она застала меня за чтением стихов! — признался он.
— Бог мой! — рассмеялся я. — Что же это было — неприличные стихи Катулла? Мужчины с большими носами, мстительные проститутки на форуме, грязные любовники, чавкающие интимные части тела друг друга? Поверь мне, тебе доставит гораздо больше удовольствия и будет намного питательнее приличный обед из козьего сыра и булочек… Ларий переминался с ноги на ногу. — Твоя мама, возможно, права, — добрее прошептал я. — Галла знает лишь одного человека, который пописывает элегии в блокноте — это ее эксцентричный брат Марк; у него всегда неприятности, нет денег, и обычно он таскает за собой какуюнибудь полураздетую танцовщицу… Она права, Ларий: забудь о поэзии. Так же постыдно, но гораздо прибыльнее продавать зеленый любовный напиток или стать архитектором!
— Или быть осведомителем? — поинтересовался Ларий.
— Нет; профессия осведомителя редко приносит деньги!
На заливе запрыгали новые слабые огоньки, когда ночные рыбаки зажгли лампы, чтобы приманить свой улов. Пока мы шли, гораздо ближе незаметно появился одинокий корабль; должно быть, он приплыл со стороны Суррента, под прикрытием сумерек держался у берега под горами, но сейчас гордо выплыл в центр залива. Мы только что заметили судно. Оно было намного меньше «Цирцеи», совершенно другой корабль по сравнению с огромным торговым судном Пертинакса. Это была игрушка, которую каждый богатый человек, владеющий виллой в Байях, держал у плавучей пристани — подобно другому прогулочному судну, появившемуся в данный момент в моей жизни, на борт которого так ловко сбежал заговорщик Крисп.
Мы с Ларием оба замедлили шаг. Скользя в тишине, корабль представлял собой прелестную, слегка меланхоличную картину. Мы зачарованно наблюдали, как это слабое видение плыло через залив — несомненно, какойнибудь толстый молодой адвокат, который гордился своими предками из сената, вез домой дюжину первоклассных девиц с низкими моральными устоями с пляжной вечеринки на берегу Позитано; его дорогой корабль грациозно скользил, оставляя серебристый след, к одному из домов на побережье…
Мой племянник воскликнул, с возбуждением, которое он почти не мог сдерживать:
— Интересно, это «Исида Африканская»?
— А что такое, — спокойно спросил я, — «Исида Африканская»?
И все еще переполненный чувствами от зрелища, Ларий проговорил:
— Она принадлежит тому человеку, Ауфидию Криспу. Это название яхты, которую вы ищете…
XXVII
Мы снова ускорили шаг, наши глаза все еще следили за кораблем, но становилось все темнее, и мы потеряли его в заливе.
— Очень умно! — усмехнулся я. — Я полагаю, что этим я обязан твоему испачканному дегтем зануде на пристани? — Ларий проигнорировал мой вопрос. Я старался сдержать гнев. — Ларий, нам следовало дать ему динарий, чтобы он не предупредил владельца о том, что мы спрашивали. — Мы шли дальше. Я предпринял попытку восстановить мир. — Я извиняюсь. Скажи, что я злая неблагодарная свинья.
— Вы свинья… Просто у него такой возраст; он из этого вырастет! — злобно заявил Ларий океану.
Я засмеялся, взъерошив ему волосы.
— Быть личным осведомителем, — признался я через двадцать шагов, — это менее роскошно, чем ты думаешь, — это не только драки и доступные женщины, а в основном плохие обеды и стаптывание ног! — Свежий воздух и физические упражнения были полезны мальчику, но у меня было мрачное настроение.
— Что мы будем делать, когда найдем ее, дядя Марк? — неожиданно спросил он. Я понятия не имею, почему между нами снова установились дружеские отношения.
— «Исиду Африканскую»? Мне придется определиться со своей тактикой, когда у меня будет возможность спокойно подумать. Но этот Крисп кажется коварным типом…
— Что в нем коварного?
— Большие планы. — Я выполнил свое домашнее задание перед тем, как уехать из Рима. — Знаменитый Луций Ауфидий Крисп — сенатор из Лация. Он владеет имениями в Фрегеллах, Фундах, Норбе, Формиях, Таррацине — плодородной землей в известных районах, — а также огромной виллой на минеральном источнике в Синуэссе, где он может сидеть на солнце и считать свои деньги. В процессе государственной службы Крисп получил работу во всех неблагополучных провинциях. Ты учился в школе: где находится Норик?
— Нужно подняться в Альпы и повернуть направо?
— Вполне может быть. В любом случае, когда умер Нерон, и Рим выставили на аукцион, никто и не слышал о Норике и Криспе. Несмотря на это, Крисп видит императорский пурпур в своем гороскопе. Что будет действительно коварно, так это если он убедит Фрегеллы, Фунды, Норбу, Формии и Таррацину тоже его увидеть.
— Местный парень, который хорошо себя ведет?
— Точно! Так что он опасен, Ларий. Твоя мама никогда меня не простит, если разрешу тебе впутаться в это дело.
Досада заставила его замолчать, но он был слишком любопытным, чтобы долго дуться.
— Дядя Марк, вы всегда называли политику игрой дураков…
— Так и есть! Но мне надоело помогать раздражительным женщинам разводиться со слабовольными продавцами из канцелярских магазинов, а работать на продавцов — и того хуже; они всегда хотели заплатить мне низкокачественным папирусом, на котором даже ругательства не нацарапать. Потом мне предложили тяжелую нудную работу на Палатине. По крайней мере, если император чтит свои обязательства, тут должна быть выгода.
— Значит, изза денег? — Ларий казался озадаченным.
— Деньги — это свобода, парень.
Если бы он не был таким нежным для драк и слишком скромным в обращении с женщинами, этот Ларий мог бы стать хорошим осведомителем; он умел очень настойчиво донимать вопросами, пока у человека, которого он допрашивал, не возникнет желания ударить ему в ухо. Также его необычайно длинные молодые ноги переносили дорогу до Оплонтиса гораздо лучше, чем мои; у меня ужасно болел палец.
— А для чего вам нужны деньги? — безжалостно допытывал он меня.
— Чтобы купить свежее мясо, туники по размеру, все книги, которые я мог бы прочитать, новую кровать со всеми четырьмя ножками одинаковой высоты, пожизненный запас фалернского вина, чтобы пить с Петро…
— Женщину? — прервал он мою счастливую речь.
— О, сомневаюсь! Мы же говорили о свободе, не так ли?
Последовало молчание с немым упреком. Потом Ларий тихо проговорил:
— Дядя Марк, вы не верите в любовь?
— Больше не верю.
— Ходят слухи, что вам недавно сделали больно.
— Та девушка бросила меня. Изза того, что у меня недостаточно денег.
— О, — сказал он.
— Конечно, о!
— Как она выглядела? — Он не просто хитро на меня смотрел, он казался искренне заинтригованным.
— Изумительно. Не заставляй меня вспоминать. А сейчас, — продолжил я, чувствуя себя старше своих тридцати, — я согласился бы всего лишь на большой медный таз с очень горячей водой, куда можно погрузить мои нежные ножки!
Мы брели дальше.
— А эта девушка была… — настойчиво продолжал Ларий.
— Ларий, мне бы хотелось притвориться, что ради нее я готов стянуть свои ботинки и пройти босиком по горящим углям еще сотню миль. Но, честно говоря, когда у меня на пальце появляется мозоль, мой романтический настрой исчезает!
— Она была важна для вас? — упрямо закончил Ларий.
— Не очень, — сказал я. Из принципа.
— Так значит это не та, — настаивал Ларий, — «чью жизнь ты наполняешь сладким смыслом…»? Катулл, — добавил он, словно думал, что я этого не знал. Я хорошо знал; мне самому когдато было четырнадцать, и я был полон фантазий о сексуальных подвигах и наводящей тоску поэзии.
— Нет, — сказал я. — Но могла бы быть — и, к твоему сведению, это истинный Фалько!
Ларий пробормотал, как он сочувствует, что у меня болит палец.
XXVIII
Когда мы дошли до постоялого двора в Оплонтисе, я увидел две затаившиеся фигуры на темном берегу.
Ларию я ничего не сказал, но по тени незаметно провел его в конюшню. Мы нашли там Петро, который устраивал на ночь быка. Бедный Нерон уже почти заснул на своих раздвоенных копытах. Натаскавшись моего свинца, он так устал, что даже не мог согнуть шею, чтобы достать до корыта с кормом, так что Петроний Лонг, крутой парень из стражи, клал пучки сена в огромную пасть зверя, нашептывая ласковые ободряющие слова.
— Еще чутьчуть, дорогой… — пытался он уговорить быка таким же тоном, как грустного ребенка упрашивают съесть ложечку супа. Ларий захихикал; Петро ничуть не смутился. — Я хочу привести его домой в хорошем состоянии!
Я объяснил племяннику, что Петроний со своим братом (который был неутомимым коммерсантом) для покупки этого быка сформировали синдикат с тремя их родственниками; Петро всегда было неудобно появляться на загородной ферме его двоюродных братьев, чтобы одолжить свой вклад.
— Как тогда они будут делить Нерона? — спросил Ларий.
— О, остальные четверо сказали, что каждому из них достается по ноге, а мне — его яйца, — хмуро ответил Петроний, простак из большого города. Он скормил последний пучок сена, после чего бросил это занятие.
Ларий был довольно сообразительным парнем, но все же еще не достаточно. Он присел, чтобы проверить, потом вскочил и заявил:
— Это вол! Его кастрировали; у него нет…
Увидев наши лица, он замолк, и шутка медленно растворилась в тишине.
— Так или иначе, — сказал я, — этому быку должно быть четыре года; какой больной назвал его Нероном, пока император был еще жив?
— Я, — ответил Петроний, — когда брал его на прошлой неделе; другие зовут его Пятнышком. Не считая того, что у быка был кудрявый чуб и мощные челюсти, тот, кто отрезал его хозяйство, ошибся, так что с нашим великим покойным императором этого зверя объединяло беспорядочное распутство: вол, телка, ворота с пятью бревнами — этот дурак набрасывался на что угодно…
У Петрония Лонга были суровые взгляды на правительство. Попытки сохранить общественный порядок среди граждан, которые знали, что ими правит сумасшедший игрок на лире, разочаровали его; хотя это был единственный открытый политический жест, который я у него видел.
Пустив длинную струйку слюны, Нерон, которого с трудом можно было представить набрасывающимся на что угодно, опустил свои сероватокоричневые веки и прислонился к стойлу. Передумав, он любовно ринулся к Петронию. Петро отпрыгнул, и мы все вместе заперли ворота, стараясь сохранить невозмутимый вид.
— Есть коекакие новости, — сказал я Петро. — Наш корабль называется «Исида Африканская» — это Ларий выяснил.
— Какой умный мальчик! — похвалил Петро, теребя его за щеку, зная, что Ларий это ненавидел. — И у меня для тебя коечто есть, Фалько. Я остановился у поворота на одну из тех деревень на горе…
— Зачем вы остановились? — перебил Ларий.
— Не будь таким любопытным. Собрать цветов. Фалько, я спросил одного местного, кто тут у них важная шишка. Ты помнишь того старого бывшего консула, которого мы искали в связи с заговором Пертинакса?
— Капрения Марцелла? Его отца? Инвалида?
Сам я никогда не встречал этого человека, но, конечно, помнил Марцелла — пожилого римского сенатора, в чьей славной родословной значилось семь консулов. У него было огромное состояние и ни одного наследника, пока Пертинакс не привлек внимание этого человека и не стал его приемным сыном. Или он был очень близоруким, или происхождение от консулов не делает сенаторов умными.
— Я видел этого стреляного воробья в Сетии, — вспоминал Петро. — В этом местечке хорошее вино! Он был таким же богатым, как Красс. Марцелл владеет виноградниками по всей Кампании — один на вершине Везувия.
— Официально, — размышлял я, — Марцелла оправдали от заговора. Даже если ему принадлежал склад, где заговорщики хранили свои слитки, хорошая родословная и огромное состояние послужили отличной защитой; мы навели о нем справки, а потом с уважением отступили. Его считают слишком больным для политики — а если так, то его здесь не будет. Если вся эта история правдива, то он не смог бы путешествовать. Хотя его дом, возможно, стоит посетить…
Мне пришло в голову, что в этой загородной вилле может скрываться Барнаб. На самом деле вилла на горе Везувий, чей владелец гдето лежал больным, могла стать отличным укрытием. Я был уверен, что Петроний думал так же, но с его осторожностью он ничего не сказал.
Сменив тему, я упомянул две загадочные фигуры, которых заметил раньше на берегу. Прикрывая Лария спинами, мы с Петро вооружились фонарем и вышли на улицу посмотреть.
Они все еще были там. Если эти люди лежали в засаде, то уж точно не были профессионалами: до наших ушей донесся приглушенный шепот их голосов. Когда их побеспокоили наши шаги, тень поменьше поднялась и с шумом забежала в постоялый двор. Я поморщился, когда почуял запах прогорклой второсортной розовой воды, потом заметил знакомую большую грудь и взволнованное круглое лицо. Я хихикнул.
— Оллия быстро справилась! Она нашла себе рыбака! Она тоже хихикнула. Рыбак медленно прошел мимо нас с самоуверенным любопытным взглядом, который обычно бывает у этих красавчиков. Мечта глупой девчонки! У него были мило уложенные волосы, короткие крепкие ноги и мускулистые загорелые плечи, созданные специально для того, чтобы красоваться перед городскими девчонками, когда он забрасывал сети.
— Спокойной ночи! — твердо сказал Петро голосом начальника полиции, который умел себя сдерживать. Молодой ловец омаров смотался, ничего не ответив. Его черты не очень соответствовали авентинским стандартам, и я подумал, что для ученика лодочника он был довольно неряшлив.
Мы оставили Петрония во внутреннем дворике: прежде чем ложиться спать, этот человек, который серьезно относился к жизни, обошел и проверил, все ли в порядке.
* * *
Когда Ларий шел передо мной в нашу комнату, он обернулся и задумчиво прошептал:
— У него не может быть подружки, пока тут его семья. Так для кого он рвал цветы?
— Для Аррии Сильвии? — предположил я, стараясь говорить нейтральным тоном. Потом мой племянник (который с каждым днем становился все изощреннее) так на меня покосился, что всю дорогу наверх я беспомощно смеялся.
Аррия Сильвия спала. Сквозь спутанные волосы, рассыпавшиеся по подушке, было видно ее румяное лицо. Она дышала с глубокой удовлетворенностью женщины, которую напоили и накормили, потом летним вечером отвели домой, после чего ее согрел муж, известный своим основательным подходом ко всему. Рядом с ее кроватью стоял большой букет роз в кувшине для засолки рыбы.
Когда чуть позже Петроний поднялся наверх, мы слышали, как он чтото напевал себе под нос.
XXIX
Каждому, кто снимал квартиру, это знакомо; у дверей мужчина или мальчик продает то, что тебе не нужно. Если не проявишь силу, эти надоедливые люди обязательно чтонибудь подсунут: от фальшивых гороскопов или разваливающихся железных кастрюль до подержанных колесниц с украшениями под серебро и очень маленькой нарисованной сбоку Медузой. Как потом выясняется, ее покрасили в темнокрасный цвет, а конструкцию кареты переделали после того, как она вдребезги разбилась при столкновении…
Мы с Ларием стали такими мужчиной и мальчиком. Наш груз с черного рынка давал полную свободу входить в частные имения. Никто не посылал за стражниками. Мы ехали по берегу, поднимались с Нероном по покрытым застывшей лавой дорожкам для повозок и иногда снова спускались уже через пять минут; хотя, к нашему удивлению, зачастую визиты оказывались дольше, и когда мы уходили, наш список заказов становился длиннее. Во многих красивых виллах вокруг Неаполитанского залива сейчас стояли британские водопроводные трубы, и большинство жителей не покупало товары, которые официально являлись бывшими государственными запасами. Некоторые люди воспользовались нашими низкими ценами, чтобы полностью обновить оборудование.
Я не удивлялся; мы стучали в коринфские ворота богачей. Их прапрадеды, возможно, наполнили фамильные сундуки за счет честного труда в своих оливковых рощах или наградами за политическую службу — я имею в виду иностранные трофеи. Но последующие поколения зарабатывали тем, что осуществляли нелегальные сделки с товаром, который контрабандой провозили в Италию, не уплачивая портовые сборы. В плане беззакония их хорошо дополняли управляющие имениями. Этим надменным жуликам новые трубы доставались по цене фундука, но, расплачиваясь, они все еще пытались подсунуть нам старые железные монеты и смешную македонскую мелочь.
Через несколько дней полного косноязычия Ларий обрел дар речи и разработал стратегию сбыта, которая говорила, будто он родился в коробке под прилавком на рынке; более того, я мог доверить ему арифметику. Вскоре нам уже вполне нравилось продавать трубы. Погода стояла потрясающая, Нерон вел себя хорошо, и иногда нам удавалось оказываться у дверей дружеской кухни как раз в тот момент, когда там накрывали к обеду.
Казалось, информацию достать сложнее, чем лепешки из кукурузной муки. Мы обошли почти все прибрежные виллы между Байями и Стабиями. Даже те, кто был готов помочь, утверждали, что не знают Криспа и его корабль. Я потратил несколько часов, выслушивая, как больные артритом привратники предавались воспоминаниям о тех временах, когда они шли через Паннонию с какимто низкосортным легионом, возглавляемым сифилитическим легатом, которого потом выгнали со службы. В это время Ларий прогуливался вдоль причала в поисках «Исиды Африканской»; сейчас в любой день какойнибудь парень с рыболовной леской заподозрил бы его в аморальном поведении и заставил бы выпить с ним.
На фоне такой безрезультатной деятельности торговля свинцом начала нам уже надоедать. Такова скучная сторона работы осведомителя: задавать одни и те же вопросы, которые так и не дают никакого результата; изнурять себя настойчивыми мыслями, что упустил чтото важное. Мое дело двигалось очень медленно. Изза этого я не мог расслабиться и насладиться компанией своих друзей. У меня болел живот. Все комары Флегрейских болот узнали о моем присутствии и слетелись на свое сезонное лакомство. Я скучал по Риму. Мне нужна была новая женщина, но хотя здесь их было доступно огромное множество, мне не понравилась ни одна из тех, что я видел.
* * *
Перед Ларием я старался быть веселым, хотя его неизменное добродушие начинало напрягать. Один день шел дождь. Даже когда небо прояснялось, казалось, что влажный воздух пропитал нашу одежду. Нерон стал раздражительным; им было так тяжело управлять, что вскоре мы разрешили ему идти туда, куда он хотел.
Так мы оказались уже на другой пыльной дороге Кампании, которая проходила между пышными виноградниками и участками с овощами. Нашему вниманию предстали кочаны здоровой капусты, вокруг которых были вырыты небольшие ямки, чтобы задерживать влагу. Вдалеке работники втыкали в черную землю мотыги с длинными ручками. Рядом находилась решетчатая арка над входом в имение, под которой носились коричневые куры, а через забор перелезала невероятно хорошенькая девушка, так что нам были видны ее ноги и большая часть того, что шло выше.
Нерон остановился поговорить с курами, пока Ларий глазел на девушку. Проходя мимо, она ему улыбнулась.
— Пора ее позвать, — решил Ларий с бесстрастным выражением лица. Для меня девушка была слишком низкой, слишком молодой и слишком румяной, но все равно от ее вида замирало сердце.
— Такова ваша оценка, трибун?
— Абсолютно верно, легат! — воскликнул Ларий. Девушка прошла мимо нас; казалось, что она уже привыкла к тому, что ее восхищенно оценивали взглядами мошенники в повозках.
— Если она зайдет, — тихо решил я.
Она зашла.
* * *
Ларий сказал мне идти; он страдал от кишечного расстройства, что делало пребывание вдали от дома таким веселым. Я отправился обрабатывать его подружку, пока парень собирался с мыслями. Когда я проходил под аркой, слабое солнце снова забежало за грозную тучу.
Чтото говорило мне, что этому дому, возможно, чегото не хватало. Это был обветшалый, полуразрушенный участок, полный грязи и болезней. Казалось, он состоял из отдельно стоящих зданий, наспех сколоченных из сломанных дверей и досок. Когда я проходил мимо них, меня встретил запах козлиной мочи и капустные листья. Во всех комнатах слышалось жужжание жирных энергичных мух. Курятники казались разрушенными, а хлева на целый фут были заполнены грязью. У плетеного забора стояло три разбитых улья; там не стала бы жужжать ни одна чистоплотная пчела.
Девушка исчезла. Не считая внешней убогости, этот полуразрушенный дом с фермой, чей вечно отсутствующий хозяин, вероятно, купил его в качестве инвестиций и даже никогда не видел, постепенно умирал изза отсутствия управления.
Я так и не добрался до дома. Здравый смысл взял верх: к каменному столбу цепью был привязан страшный пес со свалявшейся шерстью на хвосте, поднявший страшную панику. Гвозди у него на ошейнике по размеру были с индийские изумруды. Звенья цепи длиной в двенадцать футов весили, должно быть, по два фунта каждое, но, бегая из стороны в сторону, Фидон швырял этот металл так легко, словно венок из бутонов роз во время пира, повидимому, думая, что следующим его пиром могу стать я. На шум изза угла показался бородатый мужик с палкой. Он шел прямо к собаке, у которой намерения вцепиться мне в глотку еще удвоились.
Не дожидаясь, пока мне скажут, что собачка только хотела быть дружелюбной, я развернулся, выдернув ботинок из коровьей лепешки, и направился обратно к дороге. Мужчина оставил своего пса в покое, но сам заорал на меня. Он быстро бросился за мной следом, пока я выбегал через арку, во всю глотку крича Ларию, потом увидел, что парень уже развернул Нерона, чтобы мы могли быстро удрать. Я заскочил в повозку. Нерон беспокойно замычал и рванул вперед. Ларий, расположившийся в задней части телеги, неистово махал из стороны в сторону обрезками от квинария. Фермер мог легко схватиться за конец свинцовой трубы и стащить Лария на землю, но он скоро сдался.
— Повезло! — улыбнулся я, когда племянник залезал, чтобы присоединиться ко мне в передней части повозки.
— Меня осенило, что у нее может быть муж, — скромно ответил Ларий, отдышавшись.
— Не было возможности спросить… Извини!
— Все в порядке. Я думал о вас.
— Хороший парень! — сказал я всей деревне в целом. Хотя питающиеся ячменем девушки с красными щечками и соломой в волосах никогда не принадлежали к моему типу. Мне стало грустно от воспоминаний о женщинах, которые к нему принадлежали.
Ларий вздохнул.
— Дядя Марк, это плохие знаки; мы закончим на сегодня?
Я обдумывал этот вариант, оглядываясь вокруг, чтобы сориентироваться.
— Чертов Крисп! Давай поднимемся на гору, найдем какогонибудь веселого виноторговца с Везувия и сильно напьемся!
Я направил Нерона с прибрежной дороги на гору над Помпеями. Согласно тому, что нам
сказал Петроний, если мы раньше не найдем винный погреб, то будем проезжать участок, который принадлежит Капрению Марцеллу, тому богатому старому консулу, который однажды совершил ошибку, усыновив Атия Пертинакса.
Был примерно полдень, но я уже понял, что вилла Марцелла — это не то место, где нам с Ларием предложат бесплатно пообедать.
XXX
Вход в имение Капрения Марцелла был отмечен местом поклонения моему старому другу Меркурию, покровителю путешественников. Статуя бога увенчивала плоский пьедестал, вырезанный из мягкой помпеянской закаменевшей лавы. У этой придорожной гермы был венок из свежих диких цветов. Каждое утро раб ездил на осле, чтобы сделать новый венок; мы находились на территории богатого человека.
Я посоветовался с племянником, который, казалось, был рад, что избежал похмелья; все равно Нерон взял на себя инициативу и смело ступил на дорогу. Бывший консул Марцелл был фантастически состоятельным; подъезд к его вилле на Везувии давал посетителям достаточно времени, чтобы сделать завистливое выражение лица перед тем, как выразить свое почтение. Прохожие, которые зашли, чтобы попросить глоток воды, умерли бы от обезвоживания на пути наверх.
Мы около мили ехали через виноградники, время от времени замечая постаревшие от дождя и ветра памятники вольноотпущенникам и рабам семьи. Тропинка расширялась в более серьезную торжественную дорогу для экипажей; Нерон выразил одобрение тем, что поднял хвост и выпустил струю жидкого навоза. Мы проехали гусей в богатой оливковой роще, потом через галерею кипарисовых деревьев попали к полю для верховой езды, скрытое от солнца в тени. Два одиноких горных ручья вдоль довольно потертых камней не давали убежать стайке садовых павлинов, которые нетерпеливо выглядывали изза красивых зеленых садовых террас.
Здесь, на нижних склонах горы, где климат был наиболее приятным, находилось фермерское хозяйство, которое, должно быть, связано с двадцатью поколениями; к нему примыкала огромная, построенная намного позднее вилла в красивом стиле Кампании.
— Очень мило! — фыркнул мой племянник.
— Да, аппетитный участок! Побудь здесь; я схожу посмотрю. Свисти, если когонибудь выследишь.
Мы приехали во время полуденной сиесты. Я подмигнул Ларию, радуясь возможности осмотреть имение. Я ступал тихо, поскольку консул Капрений Марцелл когдато занимал должность верховного магистрата и после политического унижения его сына, наверное, был очень ранимым.
Я предположил, что большой дом наверняка заперт, так что сначала принялся за ту более старую загородную виллу. Я прошел во внутренний двор. Окружающие здания были построены из древнего грубо обработанного камня; белые голуби спали на солнце на красных черепичных крышах, которые хорошо выдержали несколько веков, хотя слегка провисли на рейках. Слева находились жилые помещения, где царила тишина. Все вокруг было аккуратно пострижено и цвело, так что там был, по крайней мере, один управляющий, который читал «О сельском хозяйстве» Колумеллы.
Через открытую дверь я вошел в дом, который стоял прямо напротив. Из короткого коридора выходили различные маленькие комнаты, которые когдато были частью старого жилого дома, но теперь отданные под склад. Я обнаружил внутренний дворик, где стояли дробилки и прессы для оливок; они выглядели безупречно чистыми и имели слабый пряный запах. Заглянув в дверь в конце коридора, я увидел огромный амбар с гумном спереди; худой пятнистый кот развалился на мешке с зерном. Гдето кричал осел; смутно слышалось точило. Я обернулся.
Витающий в воздухе запах, который я почувствовал, проходя через дверь, уже указал мне, что в неиспользуемых комнатах размещались бочки с вином — в существенных количествах. Двадцать переносных амфор стояли во внешнем коридоре, частично загородив мне путь; на пороге было пятно насыщенного красноватосинего цвета. Внутри в первом помещении находились прессы, ожидавшие урожая нового сезона; впереди в большей по размеру комнате стояли бочки. Я слышал там какието звуки, так что когда подошел к внутреннему помещению, то постучал в дверь, чтобы казаться вежливым.
Передо мной открылась типичная веселая картина бочек и запахов алкоголя. В прочных стенах не было окон, так что в этом затемненном помещении постоянно сохранялась прохладная температура. Почерневший огарок свечи горел в красном блюде на грубом деревянном столе среди глиняных горшочков и маленьких рюмок. Вокруг на настенных крючках висело оборудование, словно в военном госпитале. Очень высокий пожилой мужчина через воронку переливал вино последнего сезона в бутылку.
— Одна из радостей жизни! — прошептал я. — Винодел процеживает особые запасы своего имения и, кажется, получает от этого удовольствие! — Не говоря ни слова, он ждал, пока медленно стекали остатки из большой оплетенной бутыли. Я спокойно прислонился к дверному проему, надеясь, что мне дадут попробовать.
Большая бутылка вдруг наполнилась до краев. Мужчина вынул воронку, встряхнул бутыль и заткнул ее пробкой, потом выпрямился и улыбнулся мне.
В годы своего расцвета он, должно быть, был одним из самых высоких людей Кампании. Время сгорбило его и сделало неимоверно худым. Его морщинистая кожа казалась бледной, как мука, и прозрачной. На нем была надета туника с длинными рукавами, словно ему постоянно было холодно, однако в тот момент рукава были закатаны для работы. Не важно, было ли у него когданибудь красивое лицо, потому что над чертами полностью доминировал массивно выступающий вперед нос. Жалкое зрелище; с его огромного носа можно было спускать пиратскую трирему.
— Простите за беспокойство, — извинился я.
— Кто вам нужен? — вежливо спросил он. Я сделал шаг назад, чтобы сначала пропустить нос, а потом мы оба вышли во двор.
— Зависит от того, кто здесь есть.
Человек пристально посмотрел на меня.
— По делам фермы?
— Семьи. — Мы дошли до двора и прошли большую его часть. — Сенатор в Сетии? У него есть здесь представитель?
Мужчина замер, словно его скрутил болезненный спазм.
— Вы хотите встретиться с консулом?
— Ну, мне бы хотелось…
— Хотите или нет? — резко спросил высокий мужчина.
О, Юпитер; консул был дома! Последнее, чего я ожидал, хотя мне просто повезло.
Мой собеседник слегка покачнулся, с видимой болью собирая силы.
— Дайте мне руку! — властно приказал он. — Пойдемте со мной!
Было трудно отступить. Я видел, что Ларий ждет меня в повозке, но винодел крепко вцепился в мою руку. Пока он ковылял, я помогал ему нести бутылку с вином.
Мне так хотелось попробовать глоточек его жгучего везувианского напитка, а затем смотаться, прежде чем ктонибудь обнаружит, что я здесь был…
* * *
Когда мы повернули за угол к фасаду главного здания, я увидел, что это была крупная двухэтажная вилла с бельведером в центре. Естественно, она не была заперта! С верхних окон свешивалось постельное белье, которое сохло на периодически выглядывающем солнце, а в темной тени между колоннами стояли квадратные горшки с растениями, с которых еще капало в тех местах, где их совсем недавно полили. В доме было два безмерно длинных крыла, которые расходились в разные стороны от богато украшенного входа. За этим великолепным каменным произведением вился дым, возможно, из печи бани. На крыше ближнего крыла располагался сад; вытянув шею, я заметил персиковые деревья с веерообразной кроной и экзотические цветы, обвивающие балюстраду. В отличие от городских домов, украшенных только внутри, здесь изящные портики выходили прямо на залив.
Я потянул за ручку в виде кольца в бронзовой пасти ощетинившейся львиной головы, чтобы мой спутник мог пройти через центральную дверь. Он остановился в просторном атрии, чтобы восстановить свои силы. В помещении находился прямоугольной формы бассейн с мраморным бордюром и танцующими статуэтками под открытым небом. Там царила атмосфера устоявшихся традиций. Слева стоял шкаф. Справа было небольшое место поклонения богам покровителям дома; перед ними лежал букетик голубых и белых цветов.
— Скажите, как вас зовут!
— Дидий Фалько. — Появилось пять или шесть рабов, но они остановились в нерешительности, когда увидели, что мы разговариваем. Внезапно сообразив, я улыбнулся высокому человеку. — А вы, должно быть, Капрений Марцелл!
Он был всего лишь старым брюзгой в тунике из натуральной шерсти; я мог ошибаться. Но поскольку он не стал отрицать, я был прав.
Бывший консул внимательно изучал меня изпод своего выступающего носа. Интересно, слышал ли он чтонибудь обо мне; по его строгому лицу я никак не мог этого понять.
— Я личный осведомитель императора, прибыл по его поручению…
— Здесь нечем гордиться! — Теперь, когда он заговорил, я без труда заметил чистые гласные и уверенный вид образованного человека.
— Простите, что я так вторгся к вам. Есть пара вещей, которые мне нужно обсудить… — Его сопротивление росло. Рабы осторожно двигались все ближе; меня вотвот вышвырнут. Прежде, чем Марцелл успел подать им знак, я быстро проговорил: — Если это поможет, — в удачном порыве заявил я, — совсем недавно ваша невестка была моей клиенткой…
Я слышал, что он обожал Елену, но его ответ удивил меня.
— В таком случае, — холодно ответил консул, забирая у меня из рук бутылку с вином, — будьте так любезны последовать за мной…
Теперь шагая немного легче, он прошел мимо ларария, где бодрые божества домашнего хозяйства указывали пальцами на ногах в бронзовых сандалиях на вазу с цветами, которую какойто набожный член семьи принес к святыне. Через две минуты я догадался, кто мог это сделать. Мы вошли в боковую комнату. Ее двери были открыты и выходили прямо на сад во внутренний дворик, где к обеду был накрыт низкий столик. Я увидел, что среди горшков с растениями его ждали, по меньшей мере, десять рабов с салфетками, висевшими на руках. К столу меня, однако, не пригласили. В тот день бывший консул ждал гостя, но когото гораздо более высокого сословия, чем я.
У пьедестала из серого мрамора к нам спиной стояла молодая женщина, поправляя цветочную композицию быстрыми твердыми движениями, которые говорили, что когда она ставила вазу с цветами, то та стояла, как следует. У меня чуть не закрылись глаза, когда я узнал нежный изгиб ее шеи. Она нас слышала. Я научился тому, чтобы мое лицо никогда не выдавало удивления, но улыбка, от которой потрескалась сухая кожа моих губ, появилась даже раньше, чем девушка обернулась. Это была Елена Юстина.
* * *
Она была такого же роста, как и я. Я мог смотреть прямо в эти удивленные вздорные глаза, не шевеля ни одним мускулом. Хорошо, потому что в ногах у меня совсем не осталось сил.
С тех пор как я видел эту девушку в последний раз, ее чистая кожа стала более смуглой, а волосы приобрели более насыщенный рыжеватый оттенок, в чем главную роль сыграл самый естественный свежий загородный воздух. Сегодня ее волосы были завязаны лентой, мило и просто, на что потребовалось, наверное, две или три служанки, полтора часа и несколько попыток. Она была в белом. Ее легкое платье было похоже на свежую, большую лилию, которая раскрылась под утренним солнцем, а золотая девушка, которую оно украшало, привлекла все мое внимание, как необычайно соблазнительная пыльца привлекает пчелу.
— Юнона и Минерва! — в ярости сказала она консулу. — Что же это такое: твой местный крысолов или просто пробегавшая крыса?
Когда она заговорила, все краски в комнате стали ярче.
XXXI
Сейчас я понастоящему влип. Когда чувства Елены Юстины облагораживали ее, у нее было больше блеска в глазах и характера в лице, чем у многих женщин с выдающейся внешностью. Мое сердце забилось быстрее и не показывало никаких признаков того, что скоро успокоится.
— Этот нарушитель заявляет, что ты можешь поручиться за него, — предположил Марцелл, хотя его голос звучал так, словно он в этом сомневался.
— Да, она ручается, господин!
Темные карие глаза Елены с ненавистью сверлили меня. Я со счастливым видом улыбнулся, готовый броситься к ее ногам, как игривый пес, который клянчит еще угощения.
Для приза дочери сенатора я находился не в лучшем виде. Продавая свинец с Ларием, я был одет в рабочую красную тунику с одним рукавом, а на поясе у меня висела сильно помятая грязная кожаная сумка, где я хранил письмо Веспасиана Криспу и свой обед; сегодня Сильвия положила нам с собой яблок, которые на уровне паха производили впечатляющий эффект. При каждом движении складная металлическая линейка и угольник, привязанный к моему ремню, глупо бренчали друг о друга. Мой торс демонстрировал широкие красные полосы недавнего загара, и я не мог вспомнить, когда последний раз брился.
— Его зовут Марк Дидий Фалько. — Она произнесла это так, словно потерпевшая вдова обвиняет вора: вдова, которая отлично могла за себя постоять. — Он наплетет тебе больше басен, чем Кумская Сивилла; не бери его на работу, если только тебе не придется это сделать, и не верь ему, если все же возьмешь!
Никто из всех, кого я когдалибо знал, никогда не был так груб со мной; я беспомощно улыбнулся Елене и проглотил ее оскорбления. Консул снисходительно засмеялся.
Марцелл пытался подойти к длинному стулу, похожему на инвалидный. Рабы последовали за нами в дом — десять или двенадцать неуклюжих деревенских болванов, которые все казались такими вежливыми, что мне становилось плохо. Когда консул попытался сесть, круг плотно сжался; но именно Елена двинулась к нему. Она поставила стул поближе и крепко поддерживала старика, давая ему спокойно усесться на него.
Любой мужчина мог бы с нетерпением ждать старости, если за ним будет ухаживать Елена Юстина: появится много возможностей наслаждаться написанием мемуаров, в то время как она будет заставлять вас правильно питаться и следить за тишиной в доме, пока вы спите после обеда… Отказываясь смотреть на меня, девушка взяла бутылку с вином и унесла ее.
— Удивительное создание! — прохрипел я, обращаясь к старику.
Он самодовольно улыбнулся. Нахальный полураздетый ремесленник мог только издалека любоваться волевыми девушками; было ясно, что наши с ней жизни никогда не пересекутся.
— Мы тоже так думаем. — Казалось, ему было приятно слышать похвалу в ее адрес. — Я знаю Елену Юстину с того времени, как она была еще ребенком. Когда она вышла замуж за моего сына, это был знаменательный день для ее семьи…
Поскольку она развелась с Пертинаксом, который сейчас все равно уже был мертв, то мне трудно было чтото ответить. К счастью, Елена вернулась — с танцующими малиновыми ленточками и сладким резким благоуханием какогото дорогого аромата с Малабарского побережья.
— Значит, негодяя зовут Фалько! — объявил консул. — Осведомитель… он хорошо работает?
— Очень, — сказала она.
Тогда на одно мгновение наши глаза встретились.
Я ждал, пытаясь оценить происходящее. Я чувствовал легкую обстановку; ничего общего с малабарским парфюмом. Ее светлость направилась к другому стулу немного подальше, не вмешиваясь в наши дела, как благовоспитанная молодая женщина. Это ерунда; Елена Юстина вмешивалась во все, если могла.
— Что ты хотел обсудить? — спросил меня Марцелл. Я извинился за то, что не пришел к нему в строгой одежде, и принес свои соболезнования по поводу смерти его приемного наследника. Он был к этому готов; на его лице я не заметил никаких изменений.
Дальше я тем же нейтральным тоном рассказал, как меня назначили душеприказчиком имущества Пертинакса от лица империи.
— Оскорбление привело к несправедливости, господин! Сначала какойто нерадивый тюремщик находит вашего сына задушенным; потом пятерых приятелейсенаторов, которые стучали своими инталиями по его завещанию в качестве свидетелей, устраняют представители Веспасиана, возомнившие себя палачами — хорошее расточительство сургуча и тройной веревки!
У консула попрежнему было непроницаемое выражение лица. Он не пытался отречься от Пертинакса:
— Ты знал моего сына?
Хороший вопрос; он мог означать все, что угодно.
— Я виделся с ним, — осторожно подтвердил я. Казалось, проще будет не упоминать, что этот несдержанный молодой выродок однажды сильно меня избил. — Это визит вежливости, господин; вам возвращают судно под названием «Цирцея». Оно стоит в доке на реке Сарно в Помпеях, готовое к тому, чтобы вы потребовали его.
Океанский торговый корабль: человеку победнее он мог бы спасти жизнь. Для обладателя миллионного состояния, как Марцелл, это было просто быстроходное судно, о существовании которого время от времени напоминал ему главный счетовод. Однако он сразу же воскликнул:
— Я думал, вы держите его в Остии!
Я забеспокоился изза того, что он так детально знал имущество Пертинакса. Иногда в моем деле самый простой разговор может дать полезную подсказку, хотя впечатлительный тип мог легко просчитаться и принять за подсказку то, что на самом деле ею не являлось…
Когда консул заметил, что я задумался, я спокойно заверил его:
— Я привез его вам сюда.
— Понятно! Мне понадобятся документы о повторном вступлении во владение?
— Если вы дадите мне письменные принадлежности, господин, я выдам вам свидетельство. — Он кивнул, и секретарь принес папирус и чернила.
Я воспользовался своим тростниковым пером. Его прислуга зашевелилась, удивляясь, что такой грязнуля, как я, умел писать. Это был приятный момент. Даже Елена поглядывала на их замешательство.
Я подписал свое имя с завитушкой, потом обмакнул печатку в шарик воска, который неохотно капнул мне секретарь. От этого штампа мало что зависело, потому что к тому времени моя печатка настолько стерлась, что можно было различить лишь худого одноногого персонажа с половиной головы.
— Чтонибудь еще, Фалько?
— Я пытаюсь связаться с одним из членов семьи вашего сына, который получил личное наследство. Это вольноотпущенник, который родился в имении своего настоящего отца, — парень по имени Барнаб. Вы можете помочь?
— Барнаб… — слабо произнес он дрожащим голосом.
— О, ты знаешь Барнаба! — воодушевилась Елена Юстина с противоположного конца комнаты.
Я задумчиво замолчал, убирая перо в карман своей сумки.
— Насколько я понимаю, Атий Пертинакс и его вольноотпущенник были чрезвычайно близки. Именно Барнаб потребовал тело вашего сына и устроил похороны. Так вы говорите, — уклончиво спросил я, — что после этого его так и не удалось найти?
— Он не имеет к нам никакого отношения, — холодно настаивал Марцелл. Я знал правила: консулы подобны халдеям, которые читают твой гороскоп, и очень хорошеньким девушкам; они никогда не лгут. — Как ты сказал, он из Калабрии; предлагаю поспрашивать там! — Я намеревался спросить о пропавшем Криспе; чтото заставило меня подождать. — Это все, Фалько?
Я покачал головой, не став спорить.
* * *
Этот разговор породил больше вопросов, чем дал ответов. Но спорить с консулом не было смысла; казалось, лучше уйти. Капрений Марцелл уже забыл про меня. Он начал болезненные попытки поднять со стула свои длинные ноги. Стало ясно, что этот инвалид любил создавать шум; проведя с ним всего полчаса, я больше не верил, что его боль появлялась и уходила в такое подходящее время.
Его окружили слуги. Елена Юстина тоже занялась стариком; я кивнул один раз, на случай, если она вдруг соизволила заметить, и ушел.
Прежде, чем я дошел до атрия, меня догнали быстрые и легкие шаги, которые я так хорошо знал.
— У меня есть сообщение от моего отца, Фалько; я провожу тебя до дверей!
Почемуто я не удивился. Оскорбленные женщины опасны при моей работе. Не в первый раз одна из них бросилась за мной, намереваясь затащить меня в угол для ужасной тирады.
Также не в первый раз я спрятал хитрую улыбку, радуясь перспективе такого бесплатного развлечения.
XXXII
Между большими дорическими колоннами в портике с белыми ступеньками висели декоративные тарелки с музыкальными подвесками. Этот дрожащий колокольный звон только усугублял мое чувство нереальности происходящего.
Ларий, который никогда не позволял огромным особнякам наводить на него страх, только что остановил нашего быка на изысканной остановке для повозки Марцелла. Мой племянник сидел и ковырял свои прыщики, пока Нерон, который принес целый рой жужжащих мух, щипал траву на краешке аккуратного газона.
За ними простирался поразительный голубой полукруг залива. Посередине группа садоводов вытаскивала кусок дерна, такой большой, что можно занять работой целый легион; когда Нерон замычал на меня, они все подняли головы. Ларий лишь мрачно взглянул на нас.
Мы с ее светлостью вместе стояли на крыльце. Ее знакомые духи так же сильно били по моим чувствам, как металлический молоток по бронзе. Я ужасно боялся еще одного упоминания о похоронах ее дяди. Но эта тема не всплывала, хотя в разговоре я чувствовал, что злость Елены ощущалась во всем ее теле.
— Ты здесь отдыхаешь? — хрипло спросил я.
— Просто пыталась убежать от тебя! — невозмутимо уверяла меня Елена.
Ладно; если таково ее отношение…
— Хорошо! Спасибо, что проводила меня до быка…
— Не будь таким чувствительным! Я приехала, чтобы утешить своего свекра.
Обо мне она ничего не спросила, но я все равно рассказал.
— А я пытаюсь выследить Ауфидия Криспа — по поручению императора.
— Тебе это нравится?
— Нет.
Нахмурившись, ее светлость опустила голову.
— Тяжело?
— Это не обсуждается, — грубо сказал я, но потом тут же смягчился, поскольку это была Елена. — Это безнадежное дело. Император любит меня ничуть не больше, чем я его. Мне дают лишь всякие пустяковые поручения…
— Ты бросишь это занятие?
— Нет. — Поскольку я взялся за него ради Елены, я стоял и смотрел на нее. — Послушай, ты не могла бы не обсуждать с Марцеллом мой интерес к его сыну?
— О, я понимаю! — ответила Елена Юстина с намеком на возмущение. — Консул — слабый старик, который с трудом ходит…
— Успокойся; я не побеспокою этого несчастного старого воробья… — я замолчал. Большой слуга вышел из дома и заговорил с Еленой; он утверждал, что Марцелл отправил его принести ей зонтик, чтобы защититься от палящего солнца.
Я холодно заметил, что мы стояли в тени. Раб был озадачен.
Мои руки начали сжиматься в кулаки. Слуга казался крупным, но его тело было таким слабым, что он носил повязки на запястьях, как у гладиаторов, чтобы убедить себя, что он крутой. Чтобы убедить меня, требовалось больше, чем несколько ремней с пряжками. Здесь в имении консула он находился в безопасности. Но гденибудь подальше от его дома я мог бы скрутить его в бараний рог и повесить на дерево.
Мое терпение достигло предела.
— Девушка, возможно, у меня манеры таракана в трещине на стене, но тебе не нужен телохранитель, когда ты со мной разговариваешь! — Ее лицо замерло.
— Пожалуйста, подожди там! — попросила Елена Юстина; у слуги был свирепый вид, но он все же ушел из зоны слышимости.
— Прекрати разговаривать так резко! — приказала мне Елена с таким взглядом, который мог бы вырезать на стекле камею.
Я взял себя в руки.
— Чего хочет твой отец?
— Поблагодарить тебя за статую. — Я пожал плечами. Елена нахмурилась. — Фалько, я знаю, где она находилась; скажи мне, как ты ее нашел!
— Со статуей все в порядке. — Ее вмешательство начинало меня раздражать. — Это хорошее произведение искусства, и мне показалось, что твой отец лучше всех его оценит. — Отцу Елены трудно было следить за дочерью, но он очень любил ее. У этого человека хороший вкус. — Ему понравилось?
— Именно отец ее и заказал. В подарок моему мужу… — Елена сложила руки, слегка краснея.
Я решил не представлять себе любезную семью Камиллов, которые так почитали Атия Пертинакса, когда обручили с ним свою молодую дочь. Елена все еще выглядела взволнованной. Наконец, я понял, почему: она боялась, что я украл эту вещь!
— Мне жаль тебя разубеждать, но мне довелось побывать в доме твоего бывшего мужа на законных основаниях!
Я спустился по ступенькам, горя желанием поскорее уехать. Елена последовала за мной. Когда я дошел до повозки, она проговорила:
— Зачем тебе вольноотпущенник Барнаб? Действительно изза его наследства?
— Нет.
— Он сделал чтонибудь не то, Фалько?
— Возможно.
— Серьезно?
— Если убийство — это чтонибудь не то.
Елена закусила губу.
— Давай я для тебя здесь чтонибудь разузнаю?
— Лучше держись подальше от всего этого. — Я заставил себя взглянуть на нее. — Госпожа, будьте осторожны! Барнаб причастен, по крайней мере, к одной смерти — и, возможно, планирует еще одну. — Мою, например, но я об этом промолчал. Это могло расстроить ее. Или, что еще хуже, не расстроить.
Теперь мы стояли полностью на солнце, что давало тому дубине с зонтиком повод спуститься к нам. Притворившись, что я отвернулся, я признался:
— Если ты знаешь Барнаба, то мне нужно с тобой поговорить…
— Подожди в оливковой роще, — быстро шепотом произнесла Елена. — Я приду после обеда…
Я сильно забеспокоился. Ларий уставился на море так внимательно, что я поежился. Любопытный здоровяк Нерон бесстыдно вынюхивал, что тут у нас происходит, капая на рукав моей туники. Потом охранник встал рядом с девушкой, держа над ней зонтик от солнца. Это была огромная желтая шелковая штуковина со свисающей бахромой, словно чудовищная медуза; в цирке она могла бы заслонить зрителей как минимум шести рядов.
Сама Елена Юстина стояла в блестящем белом платье с лентами, словно светлая, яркая, прекрасно украшенная Грация на вазе. Я залез в повозку. Оглянулся. Чтото подтолкнуло меня заявить:
— Кстати, я понимал, что рано или поздно ты дашь мне от ворот поворот, но я думал, что ты достаточно воспитанная, чтобы сказать мне об этом!
— Дам тебе что? — Эта женщина прекрасно знала, что я имел в виду.
— Ты могла бы написать. Не нужно произносить целую речь; «Спасибо и отвали, сопляк» вполне точно выразило бы твою мысль. У тебя не отвалилась бы рука от фразы «Прощай»!
Елена Юстина остановилась.
— Не важно, Фалько! К тому времени, как я это решила, ты уже уехал в Кротон, не сказав ни слова!
Она с очевидным отвращением посмотрела на меня, вышла изпод зонтика, взлетела по ступенькам и забежала в дом.
Я доверил Ларию управлять повозкой. Я подумал, что если попытаюсь сам, то у меня будут дрожать руки.
Елена выбила меня из колеи. Я хотел увидеть ее, но теперь, когда это случилось, я ерзал на сидении, вспоминая все, что связано с этой встречей.
Нерон рванул прямо к оливковой роще, энергично демонстрируя, как хорошо он знал дорогу. Ларий сидел, положив одну руку на колено, бессознательно копируя Петрония. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня.
— У вас такой вид, словно вам ударили в ухо метлой.
— Ничего такого извращенного! — сказал я.
— Простите, — безжалостно подстегивал Ларий. — Но кто это был?
— Это? А, та с ленточками? Достопочтенная Елена Юстина. Отец в сенате и два брата на заграничной службе. Один раз была замужем, один раз разведена. Приличное образование, удовлетворительная внешность, а также имущество в собственности стоимостью четверть миллиона…
— Кажется, очень приятный тип женщины!
— Она назвала меня крысой.
— О да, я догадался, что вы с ней были очень близки! — заявил мой племянник с откровенным легкомысленным сарказмом, который он в настоящее время оттачивал до совершенства.
XXXIII
Мой мозг хотел выйти изпод контроля, а я старался это предотвратить. Всю дорогу в оливковую рощу я с хмурым видом молчал. Ларий беспечно посвистывал сквозь зубы.
Вместо того чтобы думать о Елене, я размышлял о Капрении Марцелле. Сейчас он, возможно, и не участвовал в политике, но все еще был очень бдителен. Должно быть, консул все знал о заговоре его сына, пока Пертинакс был жив — и, возможно, поощрял его. Я также был готов поспорить, что он знал, где Ауфидий Крисп.
Интересно, Марцелл пригласил к себе Елену только для того, чтобы узнать, что творилось в среде государственных служащих после смерти своего сына?
Между тем я не сомневался, что Елена бросила меня. Я с трудом в это верил. Шесть месяцев назад все было совсем подругому. От таких воспоминаний по всему моему телу медленно разливалось тепло, приковывая меня к месту… И о чем сейчас могла думать эта умная молодая девушка? Чего же взять на обед: пару фунтов луканской колбасы или кусочек жирного овечьего сыра с горы Лактарий. У Елены был прекрасный аппетит; возможно, ей потребуется и то, и другое.
Мы с Ларием в оливковой роще ели свои яблоки.
Я приготовился к продолжительному ожиданию, пока консул закончит свою трехчасовую закуску и запьет ее; его честь запасся внушительной бутылкой вина для одного старика и девушки, которая, насколько мне удалось узнать, довольно сдержанна в выпивке. Марцелл был похож на больного, который уже почти выздоровел.
Чтобы занять время, пока Елене удастся ускользнуть из виллы, я начал еще один разговор с Ларием.
Он разбирался в жизни лучше, чем я в четырнадцать лет. Современное образование, должно быть, более продвинуто; все, чему я научился в школе, это семь принципов ораторского искусства, плохой греческий и простая арифметика.
— Лучше я расскажу тебе коечто о том, как обращаться с женщинами, Ларий… — Я посвятил себя женщинам, однако цинично относился к своим успехам.
Наконец, мы дошли до того момента, когда я давал конкретную практическую информацию, хотя старался сохранять высоко нравственный тон. У Лария был хитрый вид, и он, казалось, остался при своем мнении.
— Ты найдешь девушку! Или скорее девушка найдет тебя. — Он определенно думал, что это безнадежно, так что я потратил некоторое время, пытаясь возродить его уверенность в себе. У этого парня было благородное сердце; он терпеливо выслушал меня. — Все, о чем я прошу, это быть разумным. Как у главы семьи, у меня было достаточно слезливых сирот, просящих овсяной каши… Есть способы этого избежать: мужественно сдерживать себя в моменты страсти или есть чеснок, чтобы женщины держались от тебя подальше. По крайней мере, говорят, что чеснок полезен! Некоторые люди рекомендуют обмакнуть губку в уксус…
— Зачем? — казалось, Ларий был озадачен.
Я объяснил. Он состроил такое лицо, словно этот способ показался ему ненадежным. Действительно, трудно найти молодую девушку, которая согласится по твоей просьбе пройти через эту процедуру.
— Мой брат Фест однажды сказал мне, что если знаешь, куда пойти, и готов себе это позволить, то можно купить чехол, сшитый из отличной телячьей кожи, чтобы защитить от болезни интимные части твоего тела; он клялся, что у него был один такой, хотя мне никогда не показывал. По его словам, это позволяло предотвратить появление маленьких кудрявых случайностей…
— Это правда?
— Существование молодой Марсии это опровергает; но, возможно, в тот день его приспособление из телячьей кожи было в стирке…
Ларий покраснел.
— Какие еще есть варианты?
— Сильно напиться. Жить в пустыне. Найти совестливую девушку, у которой часто болит голова…
— Специалистыпрактики, — заявил легкий язвительный женский голос, — идите к дочерям сенаторов! Они оказывают бесплатные услуги, и при «кудрявой случайности» девушка обязана знать когонибудь, кто умеет делать аборт, — а если она богата, то сама может за него заплатить!
Должно быть, Елена Юстина жевала свой обед, прячась за деревом и подслушивая нас. Вот она и пришла: высокая женщина, острая, как испанская горчица, и любой мудрый осведомитель легко прожил бы без ее презрения. Лицо Елены было белым, как жемчуг, а на нем — суровое, независимое выражение, которое я запомнил еще с первой нашей встречи, когда она была подавлена и несчастна после развода.
— Пожалуйста, не вставайте! — Мы с Ларием сделали нерешительную попытку подняться, но потом снова плюхнулись на землю. Елена села с нами на сухую траву, и ей удавалось казаться одновременно общительной и далекой. — Кто это, Фалько?
— Сын моей сестры, Ларий. Его мать считает, что его нужно развеселить.
Елена улыбнулась моему племяннику так мило, как отказывалась улыбаться мне.
— Привет, Ларий. — Она моментально находила общий язык с молодыми людьми, что, как я видел, его привлекало. — Ктото должен тебя предупредить, что твой дядя — лицемер!
Ларий вскочил. Девушка одарила меня раздражающей улыбкой.
— Ну, естественно, у Фалько опасная жизнь. На самом деле в один прекрасный день он умрет от опухоли мозга, когда какаянибудь разъяренная женщина ударит ему по голове каменным горшком…
Теперь Ларий казался действительно взволнованным. Я покачал головой, и он исчез.
Не стоило дочери сенатора вмешиваться в наш разговор, когда я пытался исполнять свои обязанности, заменяя мальчику отца.
— Девушка, это было жестоко! — сказал я, когда Елена рвала вокруг себя травку и снова сердито дышала.
— Правда? — Она прекратила пытать траву и переключилась на меня. — Личные осведомители родом из какогонибудь варварского племени, чьи боги разрешают прелюбодействовать без всякого риска?
Шокированный ее выражениями, я попытался заговорить.
— Твой совет парню, — с некоторой злобой перебила она меня, — это полный фарс!
— О, это нечестно…
— Нет, Фалько!
Губка в уксусе, Фалько? Чехол из телячьей кожи? Мужественно сдерживаться?
Я ощутил прилив воспоминаний, который выразился физически и смутил меня…
— Елена Юстина, то, что произошло между нами…
— Огромная ошибка, Фалько!
— Ну, немного неожиданно…
— Один раз! — усмехнулась Елена. — И вряд ли повторится.
Верно.
— Мне жаль… — Она выслушала мои извинения, так поднимая свои густые брови, что меня это бесило. Я заставил себя спросить: — Чтонибудь не так?
— Забудь то, что я говорила, — резко ответила девушка. — Положись на меня!
Мне больше нечего было ей сказать, но спустя один отчаянный момент я все же попробовал.
— Я думал, ты понимаешь, что это ты можешь на меня положиться!
— О, ради бога, Фалько… — В своей обычной легкомысленной манере Елена сменила тему. — И что ты хотел мне сказать, зачем сюда вытащил?
Я облокотился на нарост на оливковом дереве позади меня. Я чувствовал себя так, словно был пьян; наверное, от голода.
— Как пообедала? Мы с Ларием съели по яблоку, причем самое вкусное в моем раньше меня съел червяк. — Елена нахмурилась, но, вероятно, не изза того, что хотела принести нам корзинку с остатками еды. Глядя на женщину, которая беспокоилась изза моего аппетита, я, в общемто, смягчился. — Не волнуйся за нас… Расскажи мне про Барнаба!
Тут же напряжение между нами ослабло.
— Конечно, я его знала, — сразу же сказала Елена. Наверняка, она размышляла об этом за обедом. Ее лицо выражало интерес. Эта девушка любила тайны. И я всегда радовался, когда она могла мне помочь. — Он легко может быть здесь. Барнаб с Гнеем часто приезжали сюда летом; они держали скаковых лошадей… — Ко мне это не имело никакого отношения, однако всегда было неприятно, когда Елена называла своего мерзкого бывшего мужа по имени. — Что натворил этот дурак, Фалько? Ведь не убийство же на самом деле?
— Плохо организованная месть, как считают во дворце, хотя у меня на этот счет более строгое мнение! Никогда не приближайся к нему; Барнаб гораздо опаснее. — Елена кивнула: неожиданное поведение. Я редко мог повлиять на эту девушку, хотя этот факт никогда не мешал мне давать ей советы. — Когда ты его знала, каким он был?
— О, я ненавидела, когда Барнаб околачивался у нас дома; помоему, он меня презирал, и это сказывалось на отношении моего мужа. Он ужасно повлиял на наш брак. Даже дома мы никогда не обедали наедине; там всегда был Барнаб. Они с моим мужем обсуждали своих лошадей и довольно откровенно меня игнорировали. Везде ездили вместе — ты понял, почему они были так близки?
— Потому что росли вместе?
— Не только.
— Тогда я не знаю.
Елена так печально смотрела на меня, что я ей улыбнулся. Когда девушка кажется тебе привлекательной, трудно об этом забыть. Она отвернулась. Я почувствовал, как улыбка исчезала.
— Барнаб родился у рабыни в поместье Пертинакса; мой муж был законнорожденным сыном в семье. У них один отец, — спокойно сообщила мне Елена.
Ну, довольно обычное дело. Мужчина держит рабов, чтобы удовлетворять свои физические потребности — любые. Возможно, в отличие от Лария, у Пертинаксастаршего не было взрослого родственника, который мог бы его воспитывать. Наиболее вероятное объяснение: зачем беспокоиться, когда спишь с рабыней? Рождение ребенка означало всего лишь еще одну запись в столбце приходов в его счетах.
— Это важно? — спросила меня Елена.
— Ну, факты не изменились — но теперь они кажутся определенно разумнее.
— Да. Больше детей не было; эти двое росли вместе с самого младенчества. Мать моего мужа умерла, когда ему было пять лет; я подозреваю, что после этого больше никто не уделял ему много внимания.
— Они соперничали?
— Не сильно. Барнаб, будучи постарше, стал защитником, а Гней всегда был ужасно предан ему… — Елена излила мне свою историю; сама она могла часами размышлять над ней, но ей хотелось поделиться со мной.
Девушка замолчала. Я тоже ничего не говорил. Она начала снова.
— Они были близки, словно близнецы. Кастор и Поллукс. Для других почти не оставалось места.
От нахлынувшей старой печали Елена сделалась мрачной, сожалея о потраченных годах. Четырех; не так много по сравнению с человеческой жизнью. Но Елена Юстина вступила в этот брак, будучи ответственной молодой девушкой; она хотела, чтобы все получилось. Хотя Елена, в конце концов, выбрала развод, я знал, что это чувство разочарования навсегда оставило шрамы на ее сердце.
— Пертинакс был способен любить, Фалько; Барнаб и консул — это два человека, которых он любил.
— Тогда он был дураком, — возмутился я, не успев подумать. — Их должно было быть три!
XXXIV
На платье Елены приземлилась божья коровка, оправдывая девушку за то, что она посадила букашку на палец и смотрела на нее вместо меня. В любом случае божья коровка была красивее.
— Я прошу у тебя прощения.
— Не нужно, — сказала она; я видел, что всетаки было нужно.
После короткого молчания Елена спросила меня, что делать, если она найдет какойнибудь след Барнаба. Поэтому я рассказал ей, что остановился в Оплонтисе и легче всего застать меня вечером во время ужина.
— Это недалеко; можно послать раба с сообщением…
— Ты один остановился в Оплонтисе?
— О, нет! У нас с Ларием неугомонное женское окружение… — Елена посмотрела на меня. — Здесь Петроний Лонг. У него целая куча маленьких девочек. — Она видела Петро; возможно, он показался ей приличным человеком — каким в присутствии своей жены и детей он вообщето и был.
— О, ты с семьей! Значит, ты не чувствуешь себя одиноким?
— Это не моя семья, — резко ответил я.
На это Елена нахмурилась, потом продолжила.
— Разве тебе не нравится твоя пляжная компания?
Побежденный ее настойчивостью, я, наконец, вздохнул.
— Ты знаешь, какие у меня отношения с морем. Плавание вызывает у меня морскую болезнь; даже находясь рядом с водой, я переживаю, что ктонибудь из моих веселых спутников предложит покататься по волнам… Я здесь работаю.
— Что насчет Ауфидия Криспа? Как далеко ты продвинулся?
— Я продал многим хорошим людям новые водопроводные трубы; отсюда этот ужасный наряд. — Она ничего не сказала. — Слушай, как думаешь, когда ты сможешь сообщить мне чтонибудь насчет Барнаба?
— Сегодня пусть утрясется эта суматоха, которую ты вызвал; завтра я планировала поехать в Нолу со свекром. — Казалось, Елена колебалась, но потом продолжила: — Возможно, я смогу помочь тебе с Криспом. Наверное, я знаю людей, с которыми он встречается, когда выходит на берег.
— Например, твой свекор?
— Нет, Фалько! — строго ответила она, отвергая мои подозрения о политической афере на территории их виллы.
— О, простите! — Я повертелся у своего оливкового дерева и одарил Елену кривой ухмылкой. — В конце концов, я его найду, — заверил я.
Елена задумалась.
— Слушай, попробуй встретиться с магистратом из Геркуланума. Его зовут Эмилий Руф, я знаю его много лет. Его сестра както была помолвлена с Криспом. Из этого ничего не вышло. Она очень им увлеклась, но он потерял интерес…
— Вот и верь мужчине, — любезно вставил я.
— Точно! — согласилась Елена.
Я слабо вздохнул. Мне было грустно.
— Кажется, так давно…
— Так и есть! — сердито бросила она. — А в чем дело?
— Думаю.
— О чем?
— О тебе… О той, кого, казалось, я так хорошо знал, однако вообще никогда не узнаю.
Теперь наступила тишина, которая намекала, что если я начну спорить, то наш разговор окончен.
— Ты собирался прийти ко мне, Фалько.
— Я знаю, когда меня не хотят видеть.
На лице Елены появилось уставшее выражение.
— Ты удивился, увидев меня здесь?
— Никакие женские поступки меня не удивляют!
— О, не будь таким консервативным!
— Извини! — улыбнулся я. — Принцесса, если бы у меня было хоть малейшее представление, что ты сегодня фигурируешь в списке моих заданий, я бы как следует принарядился, прежде чем идти торговать. Я предпочитаю выглядеть как мужчина, о расставании с которым женщина может пожалеть!
— Да, я поняла, что ты хотел меня бросить, — вдруг заявила Елена.
Божья коровка улетела, но скоро Елена нашла другого шестиногого друга, которого посадила себе на руку и стала рассматривать. Чтобы не побеспокоить жука, она почти не шевелилась.
Я думал обо всем, о чем должен был поговорить; ничего из этого так и не озвучил. Мне удалось спросить:
— А что ты думаешь?
— О… все отлично.
Я поднял подбородок и рассматривал пустоту у себя перед носом. Какимто образом тот факт, что Елена не создавала никаких трудностей, наоборот лишь добавлял проблем.
— Людям часто причиняют боль, — настаивал я. — Двое из них — это те, о ком я особо беспокоюсь: я и ты.
— Не переживай по этому поводу, Фалько. Это всего лишь промежуточный этап.
— Особенный этап, — благородно сказал я, закашлявшись.
— Правда? — спросила она
тоненьким слабым голоском.
— Я так думал… Мы все еще друзья?
— Конечно.
Я печально улыбнулся.
— Вот что мне нравится в дочерях сенаторов — они всегда такие благородные!
Елена Юстина быстро стряхнула с руки представителя живой природы.
За нами послышался шум, и в роще показался мой племянник.
— Простите, дядя Марк! — Его скромность была бессмысленна, потому что ничего не происходило. — Мне кажется, идет тот зануда с зонтиком!
Я быстро вскочил на ноги.
— Твой новый охранник, похоже, настойчивый тип! — Когда Елена тоже вставала, я протянул руку, но она ее проигнорировала.
— Он не мой, — коротко сказала девушка.
На меня нахлынула волна беспокойства, словно пьяный в кабаке поднялся на ноги и смотрел прямо на меня.
Мы все направились обратно к дороге. У повозки с быком Елена посоветовала нам:
— Езжайте под деревьями и не попадайтесь никому на глаза…
Я кивнул Ларию, чтобы он ехал незаметно. Ее няньки все еще не было видно. Я внезапно схватил Елену за плечи и недовольно проворчал:
— Послушай, девушка, когда я работал твоим охранником, у нас не было никаких конфликтов. Я получал от тебя приказы и, когда ты хотела уединения, уходил!
Между кипарисами появилось яркое пятно. Я бросил в ту сторону предупреждающий взгляд, потом опустил кулаки, давая Елене уйти. Ее левая рука скользнула по моей — но не сделала никакой попытки ответить на мое пожатие и выскользнула.
Чтото меня взволновало; я понял, что именно.
На пальце, где люди обычно носили обручальное кольцо, у Елены было надето до боли знакомое металлическое колечко, пробежавшее по моей ладони. Оно было сделано из британского серебра, и я сам подарил его Елене.
Скорее всего, она забыла про кольцо. Я ничего не сказал, чтобы девушка не смутилась и не почувствовала, что должна снять его, поскольку считалось, что наши отношения уже заканчивались.
Я стал уходить, но вернулся.
— Если ты едешь в Нолу… Хотя нет, ничего.
— Не серди меня! Что?
Нола славилась своей бронзой. Моя мама ждала подарка из Кампании, так что тактично намекнула, что привезти. Я сказал Елене. Грациозная дочь сенатора подарила мне спокойный взгляд.
— Посмотрю, что можно сделать. Прощай, Фалько!
Мы с Ларием сидели под оливковыми деревьями, пока я отсчитывал время, когда эта высокая девушка решительно пронесется мимо террасы и пастбища и вернется в дом.
— Вы снова с ней встречаетесь? — допытывался мой племянник.
— Типа того.
— Назначили свидание?
— Я попросил ее купить коечто.
— Что? — Его романтическую душу уже затмевало нехорошее подозрение, когда он вдруг понял, что я сделал нечто возмутительное.
— Бронзовое ведро, — признался я.
XXXV
Как раз перед выездом на дорогу мы встретили паланкин какогото аристократа, который несли полдюжины рабов, неспешным величавым шагом направляясь в сторону дома. Того, кто сидел внутри, скрывали непроницаемые стекла, но золотая кайма на одежде носильщиков и большая карета темнокрасного цвета говорили сами за себя. К счастью, подъездная дорога Марцелла оказалась достаточно широкой для нас обоих, поскольку мой племянник считал вопросом чести никогда не уступать дорогу человеку из высшего сословия.
Весь обратный путь до Оплонтиса Ларий был так раздражен моим отношением к Елене, что отказывался со мной разговаривать. Чертов романтик!
Все еще молча, мы устроили Нерона на ночлег.
Мы зашли в дом, чтобы снять грязную одежду. Хозяйка постоялого двора красила свой шкаф в угольно черный цвет, так что по всему помещению распространилась отвратительная вонь экстракта чернильного ореха.
— Вы никогда больше с ней не встретитесь! — взорвался Ларий, когда его отвращение, наконец, вырвалось наружу.
— Нет, встречусь.
Елена купит мне ведро; а потом, возможно, он прав.
* * *
Отпрыски Петрония все были во дворе. Они сидели на пыльной земле, прислонившись головами друг к другу, и играли в умные игры с веточками мирта и грязью. Дети повернулись спинами в знак того, что нам не следовало мешать их напряженной игре. Вокруг бегали котята. Казалось, за ними никто не присматривал.
Мы вышли на улицу. Няня Оллия лежала на берегу, в то время как ее рыбак ходил неподалеку, демонстрируя свою гладкую грудь. Он чтото рассказывал; Оллия вглядывалась в море, увлеченно слушая. У нее был задумчивый взгляд.
Я мрачно кивнул девушке.
— Где Петроний?
— Пошел прогуляться.
Ее рыбак был не старше моего племянника; он носил усики, которые я ужасно ненавидел — над его невыразительным ртом вырисовывался худой черный червяк.
Ларий затаился вместе со мной.
— Мы должны спасти Оллию.
— Дай ей развлечься!
Мой племянник нахмурился, а потом, к моему удивлению, покинул меня. Вспомнив о своем возрасте, я наблюдал, как он подбежал к парочке и тоже присел на песок. Парни глядели друг на друга, а юная Оллия продолжала смотреть на горизонт — полненькая, чересчур эмоциональная дурочка, парализованная своим первым успехом в обществе.
Я оставил эту нелепую картину и побрел вдоль берега. Я думал о Пертинаксе и Барнабе. Я думал о Криспе. Любопытно, но я начинал чувствовать, что Крисп и Барнаб допускали меня к правде только по касательной.
После этого я задумался о вещах, не связанных с работой.
Раздраженный, я брел по кромке воды, играя с высохшей скорлупой от черепашьих яиц, пока постепенно не стал чувствовать себя как Одиссей в пещере Полифема: за мной злобно наблюдал огромный единственный глаз.
Он был нарисован на корабле. Алочерного цвета, с бесстыдным продолжением нарисованного египетского бога. Предположительно на другой стороне гордого носа этого судна находился второй такой же, но оно стояло боком к берегу, так что, не имея дрессированного дельфина, который отвез бы меня туда, у меня не было возможности проверить. Корабль стоял на якоре, на безопасном расстоянии от любопытных отдыхающих. Его внешний вид ярко демонстрировал огромное богатство владельца, который, якобы наслаждаясь уединением, с таким удовольствием позволял широким слоям общества любоваться его морским красавцем. Однако это судно не было похоже на дорогую игрушку, которую покупали и привязывали к жалким кучам соломы, из которой наспех сделаны перила на причале Оплонтиса.
Кто бы ни создал эту морскую красоту, он хотел сделать заявление. По всему кораблю было написано «деньги». Он представлял собой сорок футов истинного искусства. У судна был единственный короткий ряд покрытых красной охрой весел, идеально ровных в неподвижном состоянии, гротмачта с квадратным темным парусом, фокмачта и до боли мягкие очертания. Строителю этого корабля какимто образом удалось объединить стройный киль, как у военного судна, с достаточным пространством в трюме и на палубе, чтобы сделать жизнь на борту удовольствием для богача, обладавшего огромными средствами, благодаря которым и было создано это чудо.
На корме в форме утиного хвоста и на богине на топе мачты от малейшего дуновения вечернего бриза с моря постоянно сверкала позолота. Следом плыл ботик с провизией, по убранству идеально схожий с главным кораблем — такие же весла, такой же игрушечный парус и такой же нарисованный глаз. Пока я таращился на корабль, лодку подтянули ближе, и после какихто неразличимых издалека действий я увидел, как она быстро и изящно поплыла к берегу.
Радуясь такому счастливому событию, я пошел на причал и стал ждать возможности представиться человеку, который, как я был уверен, окажется приказчиком Криспа.
На борту находилось два грубияна: худой настороженный матрос, стоящий на корме, чтобы грести, и здоровый кусок свиного брюха, расслабляющийся на носу судна. Я ждал на пристани, готовый помочь и поймать швартов. Гребец причалил. Я схватил нос лодки, пассажир сошел, после чего матрос на палубе тут же отплыл. Я старался избавиться от чувства, что я здесь лишний.
Человек, который вышел на берег, был в мягких туфлях из оленьей кожи со звенящими на ремешках медными полумесяцами. Я слышал, как матрос назвал его Басс. Очевидно, Басс был о себе очень высокого мнения. Он напоминал огромную бочку, которая, катясь по жизни, оставляла за собой широкую полосу примятой травы. А почему бы и нет? Слишком уж много нытиков со всеми последствиями их слабохарактерности затаились на краешке своего существования в надежде, что их не заметят.
Мы направились к песчаному берегу. Я оценивал своего спутника. Наверное, Басс держал денежные ящики во всех крупных портах от Александрии до Карфагена и от Массилии до Антиоха. Однако, будучи осторожным моряком, каждый раз, сходя на берег, он всегда имел с собой достаточное количество хорошего золота для взяток на тот случай, если его схватят пираты или произойдет конфликт с должностными лицами из провинций. У него были серьги в ушах и носу и столько амулетов, что хватило бы защититься от великой чумы в Афинах. Под весом его медальона бога солнца человек поменьше вообще склонился бы к земле.
Басс даже не был капитаном. Плеть, висевшая у него на поясе, говорила мне, что он всего лишь боцман — надсмотрщик, который спустит шкуру с любого гребца на «Исиде», нарушившего ее спокойное движение пойманным крабом. Он обладал внутренней уверенностью в себе, как человек, чье огромное тело в таверне сразу будет возвышаться над всеми посетителями, но который знал, что старшему помощнику на таком блестящем судне, как «Исида», вовсе не нужно создавать лишнего шума. Если таким был простой боцман, то владелец Ауфидий Крисп, вероятно, считал себя братом богов.
— Ты приехал с «Исиды»! — сказал я, восторженно посмотрев на корабль, но стараясь не раздражать своего спутника очевидными комментариями по поводу потрясающей оснастки судна. Басс соизволил мельком взглянуть на меня. — Мне нужно поговорить с Криспом. Это возможно?
— Его нет на борту. — Коротко и ясно.
— Я не так глуп, чтобы поверить в это!
— Верь, чему хочешь, — он безразлично отвернулся.
По берегу мы дошли до дороги. Я снова обратился к боцману.
— Я привез Криспу письмо…
Басс пожал плечами и протянул руку.
— Если хочешь, давай его мне.
— Это слишком просто, чтобы быть правдой! — Кроме того, я оставил письмо императора наверху в постоялом дворе, когда переодевался.
Боцман, который пока был довольно пассивным, наконец, составил мнение обо мне. Оно было неутешительным. Басс этого не сказал. Просто он предложил мне убираться с его дороги, что, будучи человеком неконфликтным, я и сделал.
Пока Басс исчезал за горизонтом, я подошел к Ларию и попросил его как можно быстрее найти Петрония. Не дожидаясь, по своим следам я вернулся к самому морю, где снова стал глазеть на корабль Ауфидия Криспа.
Должен признаться, это был единственный раз, когда я захотел уметь плавать.
XXXVI
Берег Оплонтиса покрывал обычный мусор из сырых морских водорослей, разбитых амфор, кусочков затвердевшей рыболовной сетки и шарфиков, забытых девушками, которые были настроены на другие дела. На обкусанную корку от дыни слетелись осы. Ржавые кинжалы и брошки для одежды представляли смертельную опасность для гуляющих по берегу людей. Там лежал и простой оставленный ботинок, который всегда оказывается как раз твоего размера и, кажется, идеально подходит, но когда посмотришь поближе, то у него обычно не бывает половины подошвы. Если человеку удалось отделаться от навязчивых мальчишек, уговаривающих за дикую цену поехать на рыбалку, то вместо этого его обожжет медуза, которая оказалась не так мертва, как притворялась.
Сейчас уже наступил вечер. Когда солнце начало светить не так ярко, сильная жара незаметно спала, а тени вдруг стали длинными и смешными, вокруг воцарилась какаято волшебная атмосфера; изза этого было почти терпимо находиться у моря. Люди, уставшие от работы, закончили свой день. Семьи, уставшие от ссор, ушли. Крошечные собачонки довольствовались тем, что насиловали всех сучек, на которых только могли забраться, после чего носились большими кругами, празднуя свою плодовитость.
Я обернулся и посмотрел в сторону нашего постоялого двора. Ларий убежал искать Петрония, и Оллия вместе со своим соленым поклонником тоже ушла. Берег был непривычно пуст. Кроме собак и меня на берегу сидела громко спорившая компания помощников продавцов, которые закончили рабочий день, а их подружки собирали дрова, чтобы разжечь костер. Рыбаки, которых на берегу обычно было больше всего, либо уплыли с фонарями ловить мелководного тунца, либо еще не вернулись со своего более прибыльного дела — вывозить отдыхающих посмотреть на скалу на Капри, с которой император Тиберий сбрасывал оскорбивших его людей. Все, что они мне оставили, — это брошенная плоскодонная лодочка, перевернутая вверх дном у кромки воды, серебрившаяся на солнце.
Я не был полным идиотом. Похоже, эта круглая скорлупка лежала здесь уже долгое время. Я тщательно осмотрел колышки, торчавшие из ее дощатой обшивки, а также ничем не заткнутые отверстия. В этой оказавшейся у меня под рукой лодочке не было ничего опасного, или, по крайней мере, ничего, что мог бы заметить крайне осторожный сухопутный житель.
Я нашел запасное весло, приставленное к изъеденному червями столбу для швартовки, а другое весло обнаружил под лодкой, когда мне удалось ее перевернуть. Взвалив на плечи, я отнес ее к воде; мне помогли девушки тех продавцов. Они были счастливы с пользой провести время, пока еще не стемнело и их приятели не начали строить планы на ночь. Я последний раз оглянулся назад, высматривая Лария или Петро, но никого не увидел, так что забрался в лодку, с напускной храбростью перешел на нос и дал девушкам оттолкнуть меня от берега.
Это была неповоротливая деревянная посудина. Болван, который ее смастерил, должно быть, в тот день пребывал в дурном настроении. Лодка болталась на волнах, словно отравившаяся муха, выплясывающая на гнилом персике. Потребовалось некоторое время, чтобы научиться направлять это безумное судно вперед, но в конце концов я стал немного отплывать от берега. Мне в лицо дул легкий бриз, хотя он не сильно помогал. У моего украденного весла была сломана лопасть, а второе оказалось слишком коротким. Солнце, отражавшееся от моря, добавляло моему загару новый оттенок, хотя также заставляло щуриться. Мне было все равно. Нежелание безобидно побеседовать, которое демонстрировал Ауфидий Крисп, разожгло мою решительность попасть на борт «Исиды» и выяснить, что за большая тайна тут была.
Я ровными движениями глубоко опускал и поднимал весла, пока не проплыл половину расстояния от Оплонтиса до корабля. Я поздравил себя с силой воли и инициативой. Веспасиан гордился бы мной. Я подплыл довольно близко, чтобы можно было прочитать название, написанное высоко на носу судна заостренным греческим письмом… Почти в тот самый момент, когда я торжествующе улыбнулся, меня поразило совершенно иное чувство.
У меня были мокрые ноги.
Я по щиколотку стоял в морской воде, а моя несчастная лодочка шла ко дну. Как только Тирренское море узнало, что может проникнуть через сухие доски, оно со всех сторон устремилось внутрь, и мое судно быстро тонуло подо мной.
Я больше ничего не мог поделать, кроме как закрыть глаза и надеяться, что какаянибудь морская нимфа с добрым сердцем вытащит меня.
XXXVII
Меня вытащил Ларий. Купаться с нереидой было бы веселее.
Мой племянник, наверное, увидел, как я отчаливал, и плыл за мной до тех пор, как я начал тонуть. Я вспомнил, что его отец был лодочником; Лария опускали в Тибр даже раньше, чем отняли от груди. В два года он научился плавать. Парень никогда не плавал тем дурацким спокойным батавским кролем, которому учат в армии. У моего племянника был ужасный стиль, но потрясающая скорость.
Я пришел в себя с таким чувством, что меня жестоко закрутило в водовороте, а потом молотило о бетонную стену. То, как Ларию удалось спасти меня, я понял по страшным мукам, которые получил в результате. Шея, за которую парень героически схватил, осталась в синяках, а на ухе была глубокая рана, потому что он ударил меня головой о причал. Ноги сзади были ободраны, потому что племянник вытаскивал меня на берег по пемзе, а откачал Петроний Лонг, приложившись всем весом своего тела. После этого я чувствовал себя абсолютно счастливым, когда долго и спокойно лежал, ощущая больное горло и побитую плоть.
— Думаете, он будет жить? — услышал я вопрос Лария; в его голосе было скорее любопытство, чем беспокойство.
— Думаю, да.
Я заворчал, чтобы сообщить Петронию, что теперь он может спокойно развлекаться своими шуточками на мой счет. Его кулак, который ни с чем не спутать, ударил меня по плечу.
— Он же был в армии. Почему он не умеет плавать? — Это сказал Ларий.
— О… На той неделе, когда у нас на основном курсе боевой подготовки было плавание, его посадили в казармы на хозяйственные работы.
— Что он сделал?
— Ничего серьезного. У нас был очень своевольный младший трибун, который считал, что Марк развлекался с его подружкой.
Последовала пауза.
— Это правда? — наконец спросил Ларий.
— О, нет! В то время он был слишком скромным! — Неправда. Но Петроний не хотел развращать молодых.
Я отвернулся от них. Я вглядывался в море и искал своими опухшими глазами «Исиду», но она уплыла.
Низкое вечернее солнце яростно жгло мои ноги и плечи, когда лучи проходили сквозь мой маринад из морской соли, слегка запачканный кровью. Я лежал на берегу лицом вниз и думал о том, как можно умереть, утонув, и о других веселых вещах.
Далеко у кромки воды я слышал, как три маленькие дочурки Петро визжали от восторга, смело гоняясь друг за другом тудасюда в наводящем ужас море.
— Слушай! — подшучивал Петроний над Ларием. — Как так получается, что ты всегда спасаешь этого дурака, когда случаются несчастья?
Ларий высморкался. Он задумался перед тем, как ответить, но когда парень заговорил, было заметно, что это доставляло ему удовольствие.
— Я пообещал его маме, что присмотрю за ним, — сказал он.
XXXVIII
На следующий день мои друзья решили, что я должен научиться плавать.
Возможно, это была плохая мысль — пытаться давать уроки тому, кто все еще впадал в ступор при любой вероятности пойти ко дну с полными легкими морской воды. Однако все они отнеслись к делу серьезно, так что я пытался им помочь.
Это было безнадежно. Петроний вряд ли мог держать меня сзади за тунику, как он делал со своими детьми, а когда Ларий попробовал сделать водные крылья из надутых бурдюков, он только зря потратил силы, надувая их.
Однако никто не смеялся. И никто не ругал меня, когда я вылезал из воды, шел по берегу и сидел в одиночестве.
Я стоял наедине с собой, сердито бросая камушки в крабаотшельника. Я бросал их мимо, поскольку не был настроен на откровенную жестокость. Краб нашел свой щит и начал достраивать домик.
XXXIX
Мы ели, когда пришла Елена.
С детьми осталась Оллия; только Тадию, которую сильно обожгла медуза, нам пришлось взять с собой — все еще больную и несчастную. Ларий остался с Оллией; я слышал, как эти двое обсуждали лирические стихи.
Мы кушали в винной лавке под открытым небом, где также подавали морепродукты. По указанию Сильвии Петроний осмотрел кухню; не буду притворяться, что владельцы были ему рады, но он умел ловко проникать в те места, в которые не сунулись бы люди помудрее, и потом к Петро всю жизнь относились как к другу управляющего.
Елена видела нас и к тому моменту, как я подошел, вышла из паланкина. Я слышал, как она приказала слугам пойти чегонибудь выпить и вернуться за ней позже. Они уставились на меня, но у меня на руках лежала полусонная маленькая Тадия, так что я выглядел безобидно.
— Личная доставка, ваша светлость?
— Да — у меня бешеный всплеск энергии… — Елена Юстина запыхалась, но это, наверное, изза попыток вытащить себя и новое ведерко моей матери из паланкина. — Если бы я была дома, то с усердием принялась бы за дела, которых все избегают, типа генеральной уборки кладовой, где хранятся кувшины с соленой рыбой. В чужом доме невежливо подумать, что у них на кухне протекают амфоры… — Елена была строго одета в серое, хотя ее глаза казались очень яркими. — Так что я могу пообщаться с тобой…
— О, спасибо! Я как грязное липкое пятно на полу, которое ждет, когда же его вытрут? — Она улыбнулась. Я смело проговорил: — Когда ты улыбаешься, у тебя красивые глаза!
Девушка перестала улыбаться. Но у нее все еще были красивые глаза.
Я отвернулся. К морю. Оглядел залив. Посмотрел на Везувий — куда угодно. Мне пришлось снова повернуться к Елене. Эти ее глаза наконецто встретились с моими.
— Привет, Марк, — осторожно сказала она, словно изображая клоуна.
И я ответил:
— Привет, Елена.
Получилось так чувственно, что она покраснела.
* * *
Когда я представлял дочь сенатора, то старался не смущать ее, но Елена держала ведро, а мои друзья были не из тех, кто пропустил бы подобную оригинальность.
— Ходите на обед со своей миской, девушка? — Петроний вел себя как типичный авентинский грубиян. Я поймал его взгляд, когда он увидел, что его любопытная жена разглядывает Елену.
Аррия Сильвия уже выщипала волоски у себя на подбородке, на случай, если моя великолепная гостья окажется не просто знакомой по работе.
— Я очень люблю маму Фалько! — царственно заявила Сильвия, когда объяснили, что это за ведро, — как бы устанавливая, что они с Петро узнали меня раньше Елены.
— Как и многие люди, — промолвил я. — И я иногда! — Елена сочувственно улыбнулась Сильвии.
Елена Юстина становилась замкнутой в шумных общественных местах, так что она почти молча села с нами за стол. Мы жадно поглощали моллюсков. Однажды мы с ее светлостью проехали через всю Европу, где нам больше нечего было делать, кроме как жаловаться друг другу на еду. Я знал, что она любила поесть, поэтому не стал спрашивать и заказал ей порцию лангустов. Я отдал Елене свою салфетку, и она без слов взяла ее, что легко могла заметить Сильвия.
— Что с твоим ухом, Фалько? — Елена тоже бывала довольно любопытной.
— Хотел подружиться с пристанью.
Петроний, отрывая креветкам ноги, поведал, как я пытался утопиться; Сильвия добавила несколько смешных подробностей моих сегодняшних неудачных попыток научиться плавать.
Елена нахмурилась.
— Почему ты не умеешь плавать?
— Когда меня должны были учить, я был заперт в казарме.
— Почему?
Я предпочел оставить этот вопрос открытым, но Петроний любезно рассказал историю, которой он смутил Лария:
— Наш трибун думал, что Марк развлекается с его девчонкой.
— Правда? — с пристрастием расспрашивала Елена, с издевкой добавив: — Полагаю, да!
— Конечно! — радостно подтвердил Петро.
— Спасибо! — заметил я.
Потом Петроний Лонг, будучи вообщето добродушным, жадно выпил из своей чаши сок, запихал в рот булочку, налил нам вина, оставил деньги за ужин, поднял свою уставшую дочку, подмигнул Елене — и ушел вместе с женой.
После этого представления я быстро осушил чашу, пока Елена допивала свою. У нее была прическа, которая мне нравилась, — с пробором посередине, а над ушами волосы завивались назад.
— Фалько, на что ты смотришь? — Я посмотрел на нее так, словно вслух поинтересовался, что случится, если я осмелюсь уткнуться носом в мочку ее уха — в ответ она выстрелила в меня таким взглядом, который говорил, что лучше не пробовать.
У меня на лице появилась непроизвольная улыбка. Своим видом Елена дала мне понять, что приставания бабника, живущего по принципу любиибросай, не входили в ее представления о хорошем отдыхе.
Я поднял свою чашу, нежно кивнув Елене; она тоже сделала глоток. Когда я первый раз налил ей, девушка выпила больше воды, чем вина, а после того, как Петро снова наполнил ее чашу, отпила совсем чутьчуть.
— Ты покушала на вилле? — У нее был удивленный вид. — Твой свекор много пьет?
— Одиндва стакана за едой, чтобы пища лучше переваривалась. А что?
— В тот день, когда я приезжал, он набрал такую бутылку, что можно было как следует отметить победу в гладиаторском бою.
Елена задумалась над этим.
— Может, ему просто нравится, чтобы вино стояло на столе для рабов, которые ему прислуживают?
— Возможно! — Никто из нас этому не верил. Поскольку флирт исключался, пора было поговорить о деле.
— Если ты уже побывала в Ноле и успела вернуться, то у тебя был насыщенный день. Что же такого срочного?
Она сверкнула усталой подавленной улыбкой.
— Фалько, я должна извиниться перед тобой.
— Надеюсь, что смогу это пережить. Что ты натворила?
— Я сказала тебе, что Ауфидий Крисп никогда не был на вилле. А потом, как только ты ушел, приехал этот человек, который выводит меня из себя.
Я с подавленным видом ковырялся в зубах ногтем большого пальца.
— На карете с красивыми золотыми вилами сверху и рабами в одеждах шафранового цвета?
— Ты встретил его!
— Это не твоя вина. — Теперь Елена должна была знать, что если я сердился, то ей стоило всего лишь посмотреть на меня тем серьезным извиняющимся взглядом. Сейчас я не сердился, но она все равно знала, судя по выражению ее лица, которое коварно действовало на меня. — Расскажи мне об этом.
— Казалось, он приехал из сострадания. Мне сказали, что он хотел поговорить с Марцеллом о его сыне.
— По предварительной договоренности?
— Похоже на то. Я думаю, мой свекор поспешил пообедать со мной, чтобы они смогли потом поговорить наедине, когда приехал Крисп. — Скромная женщина не должна вмешиваться в мужские дела; Елена была откровенно зла. — Они и взяли бутылку, — подтвердила она. — Ты никогда ничего не пропускаешь!
Я улыбнулся, наслаждаясь лестью. Я также наслаждался ее незаметным взглядом, позволяя Елене манипулировать мной, — а потом ее быстрым, сладким, искренним смехом, когда она заметила, что я все понял.
— Полагаю, старик Марцелл не сказал тебе, что они обсуждали?
— Нет. Я старалась не показывать интереса. Он закончил их разговор словами о том, что Крисп был очень мил… Спроси меня, зачем я ездила в Нолу с Марцеллом.
Я наклонился ближе, положив подбородок на руки, и покорно спросил:
— Елена Юстина, зачем ты ездила в Нолу?
— Чтобы купить тебе ведро, Фалько, — а ты даже ни разу не взглянул на него!
XL
Это было очень милое ведерко — красивой формы, хорошего объема, бронза сверкала, как солнце на озере Вольсинии, все заклепки спрятаны, и оно имело круглую рельефную ручку, чтобы было удобно держать.
— Превосходно. Сколько я должен?
— Ты мог бы заплатить гораздо больше за гораздо меньшее ведро… — Она назвала сумму, и я расплатился, довольный покупкой, которую Елена мне привезла.
— Очень мало людей способны купить хорошее ведро. Я же говорил Ларию, что могу на тебя положиться.
— Кстати, о нем… — Она засунула руку под столу, которую хранила в ведре, пока было тепло. — Я купила это, чтобы помочь тебе его развеселить. — Это была миниатюрная статуэтка оленя, тоже из бронзы, достаточно маленькая, что могла уместиться на моей ладони, и очень красивая. Я передавал свое восхищение правильными звуками, но Елена Юстина могла заметить неискренность на расстоянии стадия. — Чтонибудь не так? Ты обиделся?
— Ревную, — признался я.
— Дурак! — Смеясь, она снова опустила руку. — Твоя мама попросила меня поискать это для тебя. — И Елена передала мне сверток около шести дюймов длиной, тяжелый, обернутый тканью.
Это был набор ложек. Десять штук. Бронзовые. Я поставил одну на палец, чтобы проверить баланс: прекрасно. Они имели приятную яйцевидную форму, слегка вытянутую в длину. Шестиугольные ручки были прямыми, потом загибались книзу и переходили к углублению ложки в крепление в виде крысиного хвостика; в соединении у них находились рельефные бутоны, продолженные подходящим украшением…
— Ну, холодная овсяная каша в них обязательно станет вкуснее!
— Когда будешь мыть, вытирай ложки полотенцем, тогда на них не останется пятен. Тебе нравится?
Они были потрясающими. Я сказал об этом Елене. Сколько бы они ни стоили, это наверняка больше, чем могла позволить себе моя мама; я снова полез за своими сбережениями, испытывая острую боль в области кошелька, но девушка тихо сказала:
— Это мой подарок.
Так на нее похоже. Ни у кого в семье Дидиев никогда не было целого набора одинаковых ложек. Меня переполняли чувства.
— Елена…
— Просто наслаждайся своей кашей.
Она пальцами играла с чашей для омовения рук. Я поднял ее свободную руку — левую — и поцеловал ладонь, потом положил руку обратно. У нее на запястье висел фаянсовый браслет из бусинок, каждая в форме веретена. Больше ничего. Никаких серебряных колец.
Вот и все.
Я нежно держал свои десять ложек, хотя чувствовал себя игрушкой знатной женщины, от которой откупились. Я не пытался контролировать выражение своего лица. А надо было. Потому что когда я сидел в обиженном молчании, дочь сенатора обернулась, чтобы посмотреть на меня. И она тут же поняла, как я расценил причину ее подарка.
Я совершил ошибку.
Один из таких моментов. Две секунды, чтобы разрушить целые отношения.
Одно глупое, неправильное выражение лица, которое разбивает твою жизнь.
XLI
В течение следующих нескольких минут я наблюдал, как передо мной закрылось множество дверей.
— У меня две новости, Фалько. — Спокойный тон Елены подтвердил, что ее желание помогать мне превратилось в неприятный долг перед обществом. — Вопервых, мой свекор ездил в Нолу, потому что Ауфидий Крисп пригласил его в качестве личного гостя на соревнования. — У девушки был такой вид, словно она только что потратила час на маникюр для важного званого ужина, а потом сломала ноготь об дверную задвижку, выходя из дома. — Крисп везде был хозяином; он оплатил соревнования.
— Хорошее представление? — осторожно спросил я. Уже не первый раз я обидел друга — или женщину, — но обычно я старался свести к минимуму вред, который это причиняло мне самому.
— Атлеты, гонки на колесницах, тридцать пар гладиаторов, бой быков…
— Значит, у меня есть надежда отыскать Криспа в Ноле?
— Нет, это зрелище длилось всего один день.
— А! Он очень ответственный гражданин или занимает должность магистрата?
— Ни то, ни другое.
— Но он оказывал поддержку?
Выпытывать из Елены информацию никогда еще не было так тяжело. К счастью, возможность поставить меня на место сделала ее немного более разговорчивой.
— Это же очевидно, Фалько. Кампания, в разгар сезона отпусков. Где амбициозному человеку подвернется лучшая возможность познакомиться с влиятельными римлянами — причем в довольно неофициальной обстановке? Половина сената будет здесь этим летом…
— Значит, Крисп может развлекать, заставлять, манипулировать — все что угодно, не вызывая подозрения! Если бы он устроил общественные представления в Риме, то половина форума принимала бы ставки на то, что же ему нужно…
— Точно.
— Однако здесь он кажется всего лишь великодушным, общительным типом, который наслаждается своим отдыхом! — На этот раз Елена просто кивнула. — Ладно! Это объясняет, почему Крисп не собирается втираться в доверие к новому императору; этот человек сам планирует великие шаги. Веспасиан, возможно, не единственный в Риме избиратель, который с этим не согласен…
— О, мне бы хотелось в это верить… — Подавляя свою немногословность, Елена Юстина ударила рукой по столу. — Почему люди так слабо доверяют Флавиям?
— Этим Рим обязан Веспасиану и Титу. Не было никакого скандала; и это не смешно.
— Не будь дураком! — ожесточенно набросилась она на меня. — Единственный приличный император за всю нашу жизнь! Но Веспасиана выгонят из дворца, ведь так? Раньше, чем он успеет начать; раньше, чем ктото даст ему шанс показать, на что он способен…
— Не отчаивайся раньше времени. — По природе Елена была борцом и оптимистом; я положил свою ладонь на ее кисть, которой она шлепнула по столу. — Это на тебя не похоже!
Девушка безжалостно вырвала свою руку.
— Ауфидий Крисп чертовски могущественный. У него слишком много друзей в нужных местах. Фалько, ты должен его остановить!
— Елена, я даже не могу его найти!
— Потому что ты не пытаешься.
— Спасибо на добром слове!
— Мне не нужно поддерживать твою уверенность; ты достаточно высокого мнения о себе!
— Еще раз спасибо!
— Чего ты добился, преследуя Криспа? Ты бессмысленно слоняешься по округе, развлекаясь своей продажей свинца — тебе нравится притворяться купцом! Я полагаю, ты рисовался перед всеми женщинами, которые владеют винными погребками у дороги…
— Мужчине необходимо получать немного удовольствия!
— О, замолчи, Фалько! Ты должен выяснить, что собирается делать Крисп, и предотвратить это…
— Я так и сделаю, — коротко сказал я, но Елена продолжала горячиться.
— Если ты не хочешь делать это ради императора, то подумай о своей собственной карьере…
— Это ерунда! Я сделаю это ради тебя.
Я слишком поздно заметил, как ее передернуло.
— Я не подружка твоего трибуна, доступная для новой партии новобранцев! Фалько, избавь меня от этой дешевой болтовни!
— Успокойся. Я делаю все возможное. То, что ты называешь «слоняться» — это методичные поиски…
— Ну, и ты чтонибудь нашел?
— Ауфидий Крисп никуда не ходит и ни с кем не видится — согласно результатам поисков. Между богатыми любителями морского воздуха существует молчаливый заговор… — Я с беспокойством посмотрел на Елену; о женщинах ее сословия неплохо заботились, хотя в ее глазах отражалось горе, что не смогла скрыть даже хорошая косметика. Боль может стать жестоким другом. Я снова рискнул взять ее за руку. — Что тебя беспокоит, сокровище? — Она злобно отдернулась от меня. — Елена — что случилось?
— Ничего.
— О, боже! Ладно, о чем еще ты хотела сказать?
— Не бери в голову.
— Хорошие девочки не ссорятся с мужчинами, которые покупают им лангустов!
— Это было не обязательно! — на ее лице появилось застывшее выражение. Елена ненавидела меня за то, что она считала напрасным беспокойством. — Ты со своими друзьями ел креветки; я не ждала особого угощения…
— Иначе ты не села бы ужинать с моими друзьями…
— Мне нравятся креветки…
— Вот почему я тебе нравлюсь… Милая, я думал, мы говорили о мире в империи — расскажи мне свою историю!
Елена сделала глубокий вдох и отставила икру.
— Когда Ауфидий Крисп уехал из загородной виллы после встречи с Марцеллом, я случайно проходила через комнату, где они сидели, перед тем, как там прибрали. Бутылка была пустой. А на подносе стояло три чаши для вина.
— Все использованные?
— Все использованные.
Я задумался.
— Может, Крисп привел когото с собой; его паланкин был закрыт.
— Когда он уезжал, я сидела в нашем саду на крыше; он был один.
Интересная картина: дочь сенатора шпионит изза балюстрады и осторожно считает бокалы!
— Значит, это Барнаб?
— Сомневаюсь, Фалько. Мой свекор никогда не позволял Барнабу вести его хозяйство. Пока я была замужем, только в компании Марцелла я наслаждалась нормальной семейной жизнью; он не подпускал вольноотпущенника и давал мне почувствовать себя на своем месте — на самом деле, до сих пор так и происходит. Он мог дать Барнабу крышу над головой, но никогда бы не пригласил его на личную встречу с сенатором.
— Не исключай такой возможности, — предупредил я. — Мог Марцелл принимать у себя дома какогонибудь тайного гостя? — Она отрицательно покачала головой. — Елена Юстина, мне нужно обыскать загородную виллу…
— Сначала найди Ауфидия Криспа! — яростно перебила она. — Ищи Криспа — делай то, за что Веспасиан тебе платит!
* * *
Я с хмурым видом расплатился; потом мы вышли из столовой.
Мы медленно шли по берегу к дороге, ожидая, когда снова появятся носильщики. В голосе Елены осталась грубая нотка.
— Хочешь, я познакомлю тебя с Эмилием Руфом в Геркулануме?
— Нет, спасибо.
— Так ты не поедешь?
— Я поеду, если узнаю, что это необходимо. — Она раздраженно воскликнула, когда я попытался подшутить над ней. — Слушай, давай не будем драться… Вот твои носильщики. Давай, ягодка…
— Ягодка? — Она разразилась своим необыкновенным, сладким, неожиданным смехом.
— А у Пертинакса было для тебя прозвище?
— Нет. — Ее смех мгновенно прекратился. Казалось, сказать было нечего. Потом Елена с предупреждающим взглядом повернулась ко мне. — Скажи мне коечто. Ты передумал насчет нас в то время, когда работал в доме моего мужа?
Должно быть, ответ был на моем лице.
Я вспомнил уютный стиль того дома на Квиринале, который, насколько я знал, был свадебным подарком Елене и Пертинаксу от Марцелла. Только богам известно, какие еще глупые предметы роскоши с неба сыпались на головы молодой пары от родственников и друзей. Мы с Гемином, наверное, записали некоторые из них. Изголовье кровати из черепахи. Бокалы из стекла, украшенного мозаикой. Золотые филигранные тарелки. Одеяла с экзотической вышивкой, под какими, наверное, спала царица Дидона. Столики из полированного клена. Кресла из слоновой кости. Подсвечники и канделябры. Сундуки из камфарного лавра… и бессчетные потрясающие наборы ложек.
— Марк, конечно, даже ты мог бы понять, что если дом — это все, чего я хотела, я никогда бы не развелась с Пертинаксом.
— Просто если реально смотреть на вещи!
Елена запрыгнула в свой паланкин раньше, чем я даже успел придумать, как попрощаться. Она сама закрыла дверь. Носильщики наклонились, чтобы взяться за шесты; я схватился за дверцу, желая задержать ее.
— Не надо! — приказала Елена.
— Подожди — мы еще увидимся?
— Нет; не нужно.
— Нужно!
Я жестом попросил носильщиков остановиться, но они подчинялись только приказам Елены. Когда кресло покачнулось, пока они поднимали его, я мельком увидел выражение ее лица. Она сравнивала меня с Пертинаксом. Довольно тяжело быть отвергнутой мужем, который слишком глуп, чтобы понимать, что он делал. Хотя поскольку ни одна дочь сенатора не имела решающего голоса в выборе мужа, то Пертинакс стал просто не имеющей значения записью в ее книге жизни, которую можно признать недействительной и вычеркнуть. Переключиться сразу после него на бесстыдного любовника, который просто использовал и бросил ее, — это была полностью ее собственная ошибка.
Конечно, я мог бы сказать ей, что это случается каждый день. Женщины, знающие жизнь, часто связываются с ненадежными мужчинами, чья верность длится столько же, сколько фальшивая улыбка, которая помогает затащить их в постель…
В отличие от Елены Юстины, большинство женщин себя прощают.
Как только я был готов стать абсолютно искренним, чтобы удержать ее, она задернула штору на окне и отгородилась от меня. Не нужно было спрашивать у Кумской Сивиллы, чтобы понять, что Елена собиралась навсегда исключить меня из своей жизни.
Вот так я и стоял, все еще с открытым ртом, чтобы сказать ей, что я ее люблю, а тем временем носильщики жестоко насмехались надо мной, унося свою хозяйку.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ИГРА НА АРФЕ В ГЕРКУЛАНУМЕ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Июль
Может быть, ждешь ты теперь,
что здесь начнут извиваться.
На гадитанский манер в хороводе певучем девчонки,
Под одобренье хлопков приседая трепещущим задом?
Ювенал
XLII
Городок Геркуланум был очень маленьким, очень спокойным, и если там и жили интересные женщины, то они прятались за закрытыми дверями.
На улицах не было мусора. В Помпеях городскому совету пришлось выкладывать дорожки из камней, чтобы помочь пешеходам переходить через всякие сомнительные вещества, которые стекали с дорог и застаивались; советники Геркуланума делали ставки на более широкие тротуары — достаточно широкие, чтобы выдержать толпу продавцов горячих пирогов; вот только это место не принимало пироги. И в Геркулануме никогда не было видно мусора.
Я ненавидел Геркуланум. Там слабохарактерным жителям с высоким самомнением принадлежали изящные, тщательно прибранные домики. Люди жили на аккуратных маленьких улочках. Мужчины целыми днями считали свои денежки (которых у них было много), пока их добрых жен в закрытых паланкинах несли от собственных безопасных порогов в дома других почетных женщин, где они сидели вокруг тарелок с миндальными пирожными и говорили ни о чем, пока не настанет время снова ехать домой.
В отличие от Помпеев, где приходилось кричать, чтобы нас услышали, в Геркулануме можно было стоять на форуме в самой высокой точке города и слышать крики морских чаек в порту. Если в Геркулануме кричал ребенок, его няня бросалась затыкать ему рот, пока того не посадили за нарушение тишины. В Геркулануме гладиаторы в амфитеатре, наверное, говорили «Прошу прощения!» каждый раз, когда их мечи совершали чтонибудь настолько грубое, как надрез.
Честно говоря, Геркуланум вызывал у меня желание прыгнуть в общественный фонтан или выкрикнуть какоенибудь очень неприличное слово.
* * *
Мы до последнего откладывали поездку к такому сборищу бездарей, потому что я всем сердцем презирал этот улей. Теперь наш друг Вентрикул из Помпеев сообщил мне, что мог бы продать большую часть моего свинца по договорам, которые мы уже заключили. Эта новость поступила раньше, чем я рассчитывал, хотя и не удивился; я ожидал, что водопроводчик по обычаям своей профессии немного меня обманет. Так что это был мой последний шанс. Мы находились здесь с Нероном и одной последней повозкой образцов, в надежде, что нам посчастливится узнать дальнейшие подробности планов Ауфидия Криспа или даже, если повезет, выяснить, куда эта неуловимая сардина поставила свой великолепный корабль.
Я не собирался идти к магистрату, о котором упоминала Елена Юстина. Я был сообразительным, я был крутым, я был хорош в деле. Я не нуждался ни в каком начальнике. Я сам смогу найти нужную информацию.
Рыская по Геркулануму в ее поисках, я признался Ларию, что мы дошли до лимита расходов, которые Веспасиан согласился
компенсировать.
— Это значит, что у нас нет денег?
— Да. Он скуп, когда дело не удалось.
— А он заплатит больше, если вы чтонибудь узнаете?
— Если посчитает, что оно того стоит.
Некоторые люди могли бы запаниковать; я сам чувствовал некую нерешительность. Но Ларий стойко произнес:
— Тогда лучше бы нам поскорее чтонибудь найти!
Мне нравилась позиция моего племянника. Он смотрел на жизнь просто. Вот я снова задумался о том, как настойчивый подход старшего сына Галлы мог пригодиться в моей работе. Я сказал об этом, когда Нерон достиг широкой центральной улицы Геркуланума. Она называлась Декуманус максимум как называл свою главную улицу каждый второй город в Италии. В ответ на мое предложение насчет карьеры Ларий рассказал о художнике, с которым его познакомил Вентрикул. Тот предлагал ему поработать летом, рисуя наброски…
Я ничего об этом не знал и был крайне раздражен. Я сказал своему племяннику все, что думал о художниках. Он выставил вперед свой подбородок с раздражающим упорством, которым я раньше восхищался.
* * *
Именно эта Декуманус максимус была самой чистой и тихой из всех, что я когдалибо видел. Отчасти благодаря безукоризненному стражнику, который маршировал туда и обратно с таким достойным видом, что местные жители, которым нужно было узнать, готов ли их обед, могли спросить у него, сколько времени. Другой способ его служения обществу заключался в том, чтобы сообщать бездельникам типа нас, что на главном бульваре Геркуланума запрещено движение колесного транспорта.
Когда мы расхохотались над его словами, я как раз заметил столбики ограждения, похожие на мильные камни, которые преграждали нам путь. Мы ехали в сторону здания суда — я видел, как сверкало солнце на бронзовом возничем на улице рядом с этой изящной базиликой. Через дорогу находилась арка, которая, наверное, вела к форуму, ряд магазинов недалеко от нас, и фонтан, который обнюхал Нерон.
Ненавижу воспитателей. Этот приказал нам убираться с Декуманус с благовоспитанностью чиновника из сельской местности, которая у них отсутствовала. Если бы у меня был кинжал, я сказал бы ему, куда запихать свою модную дубинку, даже если бы это означало, что мы должны уехать из города… Ларий увидел мой взгляд.
— Просто скажите ему, что мы извиняемся, и поехали отсюда!
Я не мог полностью винить этого человека в том, что он нас оскорбил. Мы с племянником совершили ошибку, сделав на каникулы дешевые прически, что, как обычно, привело к нелепым последствиям. В Помпеях у бараков, где жили гладиаторы, мы пошли к уличному цирюльнику, которому потребовалось стричь три часа, чтобы обкорнать нас, как головорезов. Кроме того, сейчас мы ели сардин, завернутых в виноградные листья, о поедании которых на улице никто из Геркуланума даже не мечтал.
Мы свернули на спуск к порту. С каждой стороны шли боковые улочки; Геркуланум был построен по принципу педантичной греческой сетки. Чтобы не утруждать меня, Нерон сам выбрал направление. Это была живописная панорама навесов и аллей с пилястрами. Человек, плетущий корзинки, дремал на стуле, а пожилая женщина, которая отошла за латуком, стояла и поносила современное общество с другой старой бабкой, которая пошла за хлебом. В водовороте этого светского общества Геркуланума наш сумасшедший бык энергично запрыгал.
Беда случилась быстро, как это обычно и бывает.
Нерон свернул направо. Там у ночлежки стоял привязанный осел развозчика, сильный молодой самец с гладкими лоснящимися ушами и подвижным задом: Нерон сразу заметил его огромную жизненную энергию.
Повернувшись, бык с силой ударил повозку о галерею кондитера. Нас удержала масса свинца, так что он вырвался на свободу. От его радостного мычания свалилось четыре ряда кровельной черепицы. Под копыта полетела глиняная посуда, когда Нерон бросил нас и понесся через лавки с гончарными изделиями той особо изящной величавой поступью быка на свободе, высоко поднимая копыта, весь готовый остановиться на месте и выставить рога, если к нему ктонибудь приблизится. Те части его тела, которые не должны быть задействованы, массивно болтались, опасно нацеливаясь на осла.
На балконы первого этажа вывалили женщины. В колоннадах на улице маленькие дети в ужасе завизжали и замерли на месте, очарованные этой сценой. Я схватил веревку, которую мы держали для того, чтобы накинуть на рога быка, и прыгнул за ним, достигнув Нерона как раз в тот момент, когда он встал на дыбы и упал на своего нового друга. Молодой Нед захрипел и, изнасилованный, завизжал. Какойто сбитый с толку парень из столовой схватил Нерона за хвост. В следующую минуту из меня выбили последнее дыхание, когда сношающийся тысячефунтовый бык вертелся, пытаясь освободить свой хвост, и откинул меня к стене ночлежки.
Стена, сделанная из дешевой каменной кладки в каркасе из лозы, прогнулась подо мной настолько, чтобы я смог избежать переломов.
Я отлетел от стены дома в дожде из штукатурки и пыли. К тому времени Ларий бросался из стороны в сторону, выкрикивая бесполезные советы. Что мне действительно было нужно, так это портовый кран. Я мог бы убежать и спрятаться, но пятая часть этого безумного бычины принадлежала Петронию Лонгу, моему лучшему другу.
Люди пытались спасти Неда всем, что попадалось под руку. В основном они по ошибке попадали по нам с Ларием. Мне в лицо резко выплеснули ведро воды (или чегото другого), а тем временем мой племянник получил опасный удар по самой чувствительной части шеи. Осел пытался лягаться задними ногами, както демонстрируя характер, но когда бык подмял его под себя, он мог настраиваться лишь на неприятную неожиданность.
В момент славы Нерона нас спасла удача. Ноги его жертвы сдались. Осел и бык упали на землю. Дрожа, Нед поднялся с бешеными глазами. Я быстро накинул веревку на заднюю ногу Нерона, Ларий уселся ему на голову, и наш большой мальчик неистово боролся под нами — потом совершенно неожиданно сдался.
Мы должны были стать героями часа. Я ожидал требования компенсации за поврежденные фасады торговых лавок и, возможно, иска по какойто менее известной отрасли брачного права Августа, за то, что мы разрешили тягловому животному внебрачно овладеть ослом. То, что произошло, было гораздо интереснее. Стражник с Декуманус максимус заметил, что мы кричали на нашего быка императорским именем. Мы уверяли его, что он ослышался. Мы звали Нерона «Пятнышком»; этот дурак проигнорировал нас. Мы назвали Нерона «Нероном», и он проигнорировал и это тоже, но, по видимому, это не имело значения.
Нас с Ларием обоих арестовали. За богохульство.
XLIII
Карцер для бродяг был переделанным магазином сбоку от храма.
— Ну, он новый! — сдавленно засмеялся я.
К моему племяннику снова вернулся тот прежний угрюмый вид.
— Дядя, как вы собираетесь рассказать моей маме, что я был в тюрьме?
— Думаю, это будет очень трудно.
Тюремный надзиратель был дружелюбным нескладным человеком, который делился своим обедом. Его звали Росций. У него была седая борода в форме лопаты и бакенбарды по бокам; благодаря его общительному поведению, мы узнали, что Геркуланум был захудалым городком, где часто арестовывали невинных приезжих. У Росция был подвал, куда он бросал любого, кто хоть чутьчуть казался неместным, но мы удостоились чести быть прикованными к скамейке, где он мог с нами поболтать.
— Знаешь сенатора по имени Крисп? — спросил я, главным образом пытаясь впечатлить Лария моим невозмутимым профессиональным мастерством.
— Нет, Фалько. — Тюремщик был из тех людей, которые сначала говорят, а потом медленно думают. — Не Ауфидия Криспа? У него был дом в Геркулануме; он продал его, чтобы купить тот корабль…
— Ты в последнее время его не видел?
— Нет, Фалько. — Он подумал; потом на этот раз предпочел осторожность.
Ларий видел, что дела шли безрезультатно.
— Покажите Росцию ваш паспорт! — Я показал; Росций прочитал и вернул мне.
Ларий в отчаянии закрыл глаза. Я снова передал паспорт Росцию.
— Ага! — сказал он, не поняв, в чем дело, но заметив, что здесь мог быть какойто смысл.
— Росций, друг мой, ты мог бы направить его магистрату? Если там будет человек по имени Эмилий Руф, то лучше отдай ему. — Это все еще вызывало у меня внутренний протест, но где бы ни взял свой обед тюремный надзиратель, там было холодное мясо, которое ужасно почернело по краям. Наши родственники были слишком далеко, чтобы посылать провизию. Я посчитал, что у меня было примерно три часа, прежде чем голодный желудок моего племянника окажет побочный эффект на его очень плохое поведение.
Росций отправил паспорт другу Елены. Мы по очереди пили из его бутылки и все слегка опьянели.
Ближе к концу спокойного дня появилось двое рабов, чтобы сказать, что одному из нас, заключенных, придется остаться в тюрьме, а другой может пойти с ними. Я объяснил Ларию, что заложником придется побыть ему, поскольку Руф был другом моего друга.
— Только поторопитесь, хорошо? — проворчало сокровище Галлы. — Я мог бы слопать целую тарелку бобов из Байев!
* * *
Дом Эмилия Руфа выглядел скромно, хотя у него, наверное, была еще куча великолепных архитектурных произведений в других местах. В этом царила атмосфера непосещаемого музея. Дом был обставлен в тяжелом стиле: настенные изображения сцен различных битв и роскошная остроконечная мебель, расставленная по всем правилам, на которую я никогда не осмелился бы сесть, чтобы случайно не сдвинуть ножку с места. В этом доме не было детей, или домашних питомцев, или струек фонтана, или живых растений. Если на таких мрачных лакированных потолках и водился геккон, то он не высовывал голову.
Его честь сидел на солнечной террасе, где, по крайней мере, распространялся беспорядок, который появляется на большинстве террас. Ее обитатели воспитанно беседовали, хотя когда я, волоча ноги, вышел на солнце, они воспользовались случаем и прекратили разговор. После трудного дня, полного усилий не заснуть в суде, Руф расслаблялся на всю катушку, прижав к груди большой кубок: обнадеживающий знак.
С ним была худенькая аристократка, должно быть, его сестра, и еще одна девушка. Они разместились за плетеным столом, на котором стояла неизменная тарелка с выпечкой. Сестра магистрата периодически брала засахаренные фрукты, в то время как ее гостья весело жевала. Это была Елена Юстина. Она оказала мне величайшую честь, позволив оторвать ее от еды.
Это неизбежно: как только прощаешься навсегда, то натыкаешься на девушку, куда бы ты ни пошел. Так что моя сейчас сидела на солнечной террасе в Геркулануме и слизывала толченый миндаль со своих пальчиков, с соблазнительным пятнышком меда на подбородке, которое я бы сам с удовольствием слизнул.
Елена была одета в белое, как мне нравилось, и сидела очень тихо, что мне не нравилось. Она игнорировала меня, хотя я не собирался изза этого терять силу духа.
* * *
Знаменитый Секст Эмилий Руф Клеменс, сын Секста, внук Гая, из Фалернской трибы; трибун, эдил, почетный жрец и в настоящее время претор, облокотившийся на спинку своей кушетки; я смутился. Меня приветствовала отлично выполненная копия Аполлона Праксителя. Если бы я поставил его на постамент без одежды и с задумчивым выражением лица, Гемин тотчас же купил бы его. Классические черты лица, напористый ум, очень светлый цвет лица в редком великолепном сочетании с невероятно темными карими глазами. Друг Елены Юстины обладал настолько приятной внешностью, что мне хотелось плюнуть на него и посмотреть, не смоется ли эта красота.
Руф быстро продвинулся в обществе. Я бы дал ему немного больше тридцати. Через пять лет он мог бы командовать легионом в одной из лучших провинций, а через десять легко стать консулом. Поскольку магистрат жил с сестрой, я подумал, что он холостяк, хотя это не мешало ему набирать голоса. Причина, по которой он оставался одиноким, возможно, была связана с трудностью выбора.
Он взял мой паспорт с маленького серебряного столика, прочитал его, потом, когда я подошел поближе, оглядел меня своими ясными темными глазами.
— Дидий Фалько? Добро пожаловать в Геркуланум! — Он искренне и открыто мне улыбнулся, как человек, который честно ведет дела, хотя я предполагал, что он не лучше, чем все остальные. — Я слышал, что у когото есть маленький испуганный ослик, который никогда уже не будет прежним… Так как всетаки зовут вашего быка?
— Пятнышко! — твердо заявил я. Он улыбнулся. Я улыбнулся. Дружелюбие никогда не длится долго. — У нас с Ларием, — настаивал я, защищая нас, — было унизительное утро, и мы намереваемся написать жалобу на несправедливый арест. Нерон был одним из немногих императоров, которому удалось избежать чести быть объявленным святым.
— Он считается святым в Кампании, Фалько; он женился на местной девушке!
— Черт возьми! А разве с Поппеей Сабиной не случилось несчастье, когда он ударил ее в живот во время беременности?
— Это бытовая ссора, о которой хорошие жители Кампании предпочитают забыть! — Золотой магистрат Геркуланума улыбнулся мне, обнажив привлекательно блестящие зубы. — Согласен. Богохульство похоже на несправедливое обвинение. Предположим, вместо этого я спрошу о ваших неортодоксальных поставках свинца? — Его извиняющийся тон расстроил меня. Я предпочитал более прямые вопросы, сопровождающиеся ударом коленом по моим нежным конечностям.
— Какието проблемы, магистрат? Чем я могу помочь?
— Поступали, — продолжил Руф с такой добротой, от которой у меня сворачивалась печень, — жалобы.
— О, не понимаю, о чем вы говорите, магистрат! — с возмущением протестовал я. — Это высококачественная партия из Британии!
— Это не ваши клиенты жаловались, — заявил Руф. — Это люди с официальными разрешениями, которым вы сбили цены.
— Маловероятно, — сказал я. Я проигрывал битву, результат которой был мне неподвластен. Утомительное занятие.
Магистрат пожал плечами.
— У вас есть еще свинец?
— Нет, магистрат; это последний.
— Хорошо. Вы можете забрать своего быка с извозчичьего двора, но если вы не покажете мне свидетельство о собственности, то мне придется конфисковать свинец.
Для человека с красивым профилем его деловая проницательность была восхитительно острой.
Теперь, когда Руф отобрал мои слитки, мы стали лучшими друзьями. Он указал мне на стул и налил вина, что пил сам — хорошо очищенное и выдержанное вино высшего качества, которое понравилось бы моему другуспециалисту.
— Вы очень щедры, магистрат. Дамы к нам присоединятся? Две его элегантные спутницы держались в стороне, хотя мы знали, что они нас слушали. Руф прикрыл глаза, делая мне намек на мужской тайный сговор, когда девушки соблаговолили взглянуть в нашу сторону, позвякивая браслетами, чтобы выразить неудобство.
— Моя сестра Эмилия Фауста… — Я отвесил ей официальный поклон; ее подруга мудро наблюдала за этим. — Елену Юстину, я думаю, ты знаешь. Она как раз говорила нам, что о тебе думает…
— О, он типичный мужчина! — остроумно насмехалась Елена, не в состоянии упустить такую возможность. — У него ужасные друзья, глупые привычки, а его выходки вызывают у меня только смех!
Руф открыто и с любопытством посмотрел на меня. Я заявил:
— Дочь Камилла Вера — это человек, которого я глубоко уважаю! — Прозвучало не слишком правдоподобно; так часто бывает, когда говоришь правду.
Елена проворчала чтото себе под нос, и Руф засмеялся. Он скрутил свою салфетку и бросил в нее; она игриво ударила его в ответ с легкой непринужденностью старых друзей семьи. Я мог представить, как они проводят свою юность здесь во время летних каникул, купаясь, катаясь на лодках и устраивая пикники. Плавая в Суррент. Путешествуя на Капри. Байи. Озеро Аверн. Поцелуи украдкой в пещере Сивиллы в Кумах… Я представил, какой эффект, должно быть, производил на Елену Юстину этот великолепный красавец, когда она была еще подростком.
Возможно, до сих пор производит.
Терпкое вино в тюрьме и мягкое вино на солнечной террасе наполняли меня приятным чувством безответственности. Я широко улыбнулся девушкам, затем снова сел на солнце, наслаждаясь напитком.
— Ты работаешь на Веспасиана, — начал магистрат. — Так что привело тебя сюда? — Он играл роль невинного, хорошо воспитанного хозяина и одновременно с этим без промедления выяснял, что мне нужно было в его доме.
Положившись на хорошую оценку Елены, пославшей меня сюда, я сказал:
— Император хочет найти сенатора по имени Крисп. Он находится гдето в этом районе, хотя люди с неохотой признаются, что видели его…
— О, я его видел!
— Ты мне не рассказывал! — Первый раз заговорила сестра магистрата: резким, почти недовольным голосом.
Руф посмотрел на нее.
— Нет, — сказал он; его тон не был вздорным, но в то же время он не оправдывался. Я вспомнил слова Елены, что Эмилия Фауста хотела выйти замуж за Криспа, но он отказался выполнить условия договора. То, что Крисп дал задний ход, могло показаться оскорблением ее семье; брат Фаусты наверняка не одобрял ее продолжающийся интерес. Он снова повернулся ко мне. — Ауфидий Крисп недавно связался со мной; мы виделись в терме в Стабиях.
— Был ли у него какойнибудь особый повод встречаться с вами?
— Нет, — спокойно сказал магистрат. — Ничего особенного. — Ну; ничего, что нарядный молодой аристократ сказал бы такому подлецу, как я.
— Это ваш особый друг, магистрат?
— Просто друг; не особый.
Я любезно улыбнулся ему.
— Не хочу совать нос в чужие дела. Я знаю, что Крисп связан с вашей семьей. Браки, запланированные между людьми высокого класса, — это общественные события.
Я на самом деле сочувствовал ему; у меня у самого были сестры. Кроме того, мне стало жарко, и я снова находился на грани того, чтобы напиться.
Руф смутился, но потом подтвердил мои слова.
— Тут мою сестру постигло разочарование. Нам придется найти ей новые интересы, чтобы компенсировать неудачу. Эмилия Фауста надеялась этим летом заняться музыкой, хотя я боюсь, мне пока не удается найти хорошего преподавателя игры на арфе…
— Жаль! — невинно проговорил я.
— Я слышал, у тебя много талантов, Фалько. Полагаю, ты играешь? — Руф конфисковал мои средства к существованию. Сейчас он, должно быть, сделал вывод, как сильно мне нужно было найти другой источник дохода.
Я задумчиво посмотрел на его сестру, потом попытался не выдать пессимизма, который чувствовал на этот счет.
У Эмилии Фаусты было выражение лица человека, потерпевшего поражение, и никто не мог ее за это винить. Наверное, жалкое дело — быть довольно обыкновенной сестрой великолепного красивого создания, которому доставалось все внимание, куда бы они ни пошли. Фауста соответствовала их дому — старинному и спокойному, как древняя, стоящая в сторонке греческая статуя, которая уже много лет собирала пыль в зале музея. Талант дарить людям радость обошел ее стороной, но не по ее вине. Фауста имела привычку носить одежду цветов низкопробных драгоценных камней — грязножелтый цвет турмалина или тот мрачный оливковозеленый, который ювелиры знают как перидот. Цвет ее лица казался нездоровым под слоем косметики, которая потрескалась на жаре, словно маска марионетки. Даже здесь, на высоком балконе, где с моря дул приятный ветерок, ни одна волосинка на прилизанной бледной голове этой девушки не шевелилась, и, повидимому, она разозлилась бы при едином движении. Ее волосы имели некрасивый медовый оттенок, так что не хотелось обращать на них внимание.
Всетаки Фауста была молодой женщиной. Слишком взрослой, чтобы оставаться одинокой без достаточного на то основания; ей еще было не больше двадцати пяти. Брату досталось хорошее телосложение, но она, наверняка, образованна и богата, и, в отличие от ее подруги Елены, Фаусту можно вывести в общество, не беспокоясь за каждую тарелку с миндальными пирожными, которая попадется ей на глаза. Если бы она когданибудь осмелилась улыбнуться, то для мужчины в нужном настроении могла бы стать застенчивопривлекательной. Сдуть с нее пыль, поухаживать на свежем воздухе, ущипнуть за бесстыдные места, пока она не вскочит и не взвизгнет — из аристократки Эмилии можно было сделать чтонибудь более или менее аппетитное…
Елена Юстина взглядами посылала мне знаки своего неодобрения, так что я тут же запел о том, как буду счастлив взяться за это дело.
XLIV
У меня были дела поприятнее, чем слоняться, надеясь перекинуться парой слов с женщиной, которая только и скажет «прощай». Я пошел обратно в тюрьму, чтобы освободить Лария. Я сводил его в столовую, а потом мы с ним вызволили опозоренного быка Петро. Нерон подружился с лошадьми и ослами в конюшне. Он вел себя как ребенок на празднике: не хотел идти домой.
— Кажется, он устал, — сказал Ларий, когда мы вытащили животное на улицу, чтобы можно было запрячь его.
— Ну, вполне возможно!
Я направил Лария с повозкой обратно в Оплонтис. Поскольку, обучая девушку играть на арфе, ни один мужчина не захотел бы, чтобы рядом находился его племянник, я согласился, что Ларий мог отправиться разрисовывать стены. Я подчеркнул, что это временная работа; парень неубедительно кивнул.
Будучи преподавателем игры на арфе, я жил в доме магистрата. Так мне удавалось экономить на арендной плате. Однако я стал бояться холодного нежилого запаха этого помещения. Чтобы видеть, что в комнатах членов семьи течет жизнь, я оставлял двери открытыми, но дверные проемы были мрачно завешаны шторами. Все кушетки имели острые углы, которые только и ждали того, как бы ободрать комунибудь ногу. Днем здесь всегда был бунт на кухне, а ночью всегда не хватало ламп. Руф обычно ел не дома; должно быть, он заметил, что его повар не умел готовить.
Для работы я вооружился какойто музыкальной рукописью, которую нашел в городе. Эмилий Руф оказался прав, когда сказал, что люди здесь все еще были верны Нерону. В течение недели после его самоубийства все магазины в Риме освободили свои полки от музыкальных сборников императора и разослали их на рынки, чтобы заворачивать рыбу. Но в Кампании их было много. Для новичка эта ерунда Нерона казалась идеальной. Его композиции были поразительно длинными, что давало Фаусте хорошую практику; они были медленными, что помогало ее уверенности в себе; и их было просто играть.
Лира оказалась бы проще, но с типичным упорством Эмилия Фауста бросила себе профессиональный вызов, выбрав кифару. Инструмент был милой вещицей: глубокий резонансный ящик украшен перламутром, края загибались в виде изящных рогов, а к перекладине из слоновой кости крепилось семь струн. Насколько хорошо я играл на кифаре — этот вопрос я оставил открытым, хотя во время службы в армии у меня была флейта, которой мне удалось порядочно всех достать. Эмилия Фауста не собиралась сбегать из дома, чтобы примкнуть к труппе мимических актеров. Но я считал, что способен достаточно хорошо ее подготовить, чтобы она смогла показать себя перед пьяными на какомнибудь пиршестве. И вряд ли это был первый раз, когда учитель на уроке запинался, рассказывая то, что он поспешно прочитал прошлой ночью.
Эта аристократка разговаривала скептическим тоном, который вполне можно было ожидать от подруг Елены. Она однажды спросила меня, много ли я играл.
— Госпожа, уроки музыки похожи на занятия любовью; смысл не в том, чтобы показать, как хорошо я это делаю, а в том, чтобы от тебя добиться самого лучшего! — У нее не было чувства юмора. Фауста беспокойно уставилась на меня своими совиными глазами.
Учителя, которые хорошо играют, довольно сильно увлечены собой. Ей нужен был ктото типа меня; нежные руки, чувствительная натура — и способный простым языком объяснить, что девушка делала не так. Как я и сказал: похоже на любовь.
— Ты женат, Фалько? — спросила Фауста.
Так делает большинство женщин. Я одарил ее своей невинной холостяцкой улыбкой.
Как только мы это прояснили, Эмилия Фауста с величественным видом ушла, а я начал валять дурака с предстоящей лекцией по диатоническим гаммам. Тема, которую, признаюсь, я не смог бы достаточно бегло изложить.
* * *
Наши уроки проходили в доме. Чтобы не раздражать соседей. Они никогда не покупали входные билеты. Зачем же позволять им бесплатно наслаждаться представлением? Служанка Фаусты сидела с нами, чтобы мы вели себя пристойно, что во время нудных пассажей, по крайней мере, давало мне возможность разглядывать служанку.
— Кажется, вы здесь сбились, госпожа. Попробуйте сначала, опуская повторения…
В этот момент служанка, которая зашивала края туники, вскрикнула, уронив коробочку с булавками. Она встала на колени, чтобы собрать их, и я тоже опустился на пол помочь ей. Люди, которые ходят в театр, могли бы подумать, что служанка воспользовалась случаем, чтобы тайком сунуть мне записку.
Эта девушка не смотрела комедий, так что она этого не сделала; и я не удивился. Я жил в реальном мире. Где, поверьте мне, служанки очень редко вручают личным осведомителям секретные записки.
Однако на коленках, на которых она стояла, виднелись соблазнительные ямочки, а у нее были трепещущие черные ресницы и худенькие маленькие руки — так что я не возражал провести несколько мгновений с ней на полу. Эмилия Фауста энергичнее заиграла на арфе. Нам со служанкой удалось найти почти все булавки.
Когда я поднялся, госпожа отпустила свою горничную.
— Наконецто мы одни! — весело закричал я. Фауста ухмыльнулась. Я прервал ее на середине аккорда и взял арфу с нежной заботливостью, которая была частью моей уловки. У девушки был обеспокоенный вид. Я намеренно смотрел ей в глаза. Они, честно говоря, не были самыми лучшими глазами, в которые я когдалибо смотрел по долгу службы. — Эмилия Фауста, я должен спросить, почему ты всегда такая грустная?
Я прекрасно это знал. Сестра магистрата проводила слишком много времени, мучительно думая о потерянных возможностях. Ей не хватало уверенности в себе; возможно, так было всегда. Но больше всего меня раздражало то, что она позволяла своим служанкам рисовать на ее двадцатилетних чертах лицо сорокалетней женщины. Несмотря на маленькие серебряные зеркала в ее хорошо обставленном доме, она никогда не могла как следует на себя посмотреть.
— Я буду счастлив тебя выслушать, — мягко подбодрил я. Моя ученица позволила себе горько вздохнуть, что казалось более обещающим. — Парень того не стоит, если он приносит тебе такое несчастье… Расскажешь мне об этом?
— Нет, — сказала она.
Вот так мне обычно везет.
Я посидел молча, с оскорбленным видом, а потом снова многозначительно предложил продолжить играть на арфе. Фауста взяла инструмент, но играть не стала.
— Это случается со всеми, — уверил я ее. — Вокруг тебя вьются одни кретины, а те, кто нужен, и не посмотрят в твою сторону!
— То же самое говорит мой брат.
— Так как зовут нашего героя?
— Луций. — Мысль о том, что она держала меня в неизвестности, притворяясь, что не поняла моего вопроса, почти заставила девушку улыбнуться. Я уже настроился на то, что сейчас дадут трещину те толстые слои краски, но вновь появилась ее обычная раздражительная тоска. — Это Ауфидий Крисп. Как тебе хорошо известно!
Я проигнорировал ее возмущение и дал ей успокоиться.
— И что же пошло не так? — спросил я.
— Мы должны были пожениться. Кажется, он уже долго откладывает это. Даже мне пришлось признать, что эта задержка будет вечной.
— Такое случается. Если он не был уверен…
— Я понимаю все аргументы! — заявила Фауста слабым голосом, но слишком быстро.
— Я уверен, что понимаешь! Но жизнь слишком коротка, чтобы страдать…
Эмилия Фауста посмотрела на меня темными уставшими глазами женщины, которая всю жизнь слишком сильно страдала. Я действительно терпеть не мог смотреть на таких печальных женщин.
— Позвольте мне помочь вам облегчить ваши переживания, госпожа. — Я посмотрел на нее долгим, грустным, выразительным взглядом. Она криво усмехнулась, не строя иллюзий насчет своей собственной привлекательности.
Затем я бросил в тишину:
— Ты знаешь, где сейчас Крисп?
Любая разумная женщина ударила бы меня арфой по голове.
Не было необходимости разыгрывать драму; я видел, что Фауста действительно ничего не знала.
— Нет. Мне хотелось бы знать! Если ты его найдешь, скажешь мне? — умоляла она.
— Нет.
— Я должна его увидеть…
— Ты должна его забыть! Играйте на своей арфе, госпожа!
Госпожа заиграла на своей арфе.
Она все еще играла, и в комнате все еще царила легкая атмосфера, которую незнакомый человек мог бы понять неправильно, когда веселый голос закричал:
— Я сама загляну! — и появилась Елена Юстина.
Я демонстрировал игру на арфе. Лучший способ это сделать — это сидеть на двойном стуле позади твоей ученицы и обхватить ее обеими руками.
— Оо, мило! Не останавливайтесь! — заворковала Елена шутливым тоном, от которого я чуть не задохнулся.
Эмилия Фауста невозмутимо продолжала играть.
День стоял жаркий, поэтому мы с моей ученицей были одеты лишь в несколько складок легкой ткани. Ради своего музыкального образа я всегда носил лавровый венок; он хотел соскользнуть на один глаз, когда я нагибался к своей ученице — как приходится делать любому преподавателю игры на арфе. Елена Юстина основательно укуталась в несколько слоев одежды, хотя она была в довольно странной широкополой шляпе от солнца, напоминавшей кочан капусты. Контраст между нами и ею говорил сам за себя.
Елена облокотилась на мраморный фронтон, величественно выражая неприязнь.
— Я не знала, что ты музыкант, Фалько!
— Я из далекого рода бренчащих и пиликающих самоучек. Но на самом деле, это не мой инструмент.
— Дайка угадаю — ты играешь на свирели? — с сарказмом насмехалась она.
Чувствуя себя брошенной, Эмилия Фауста запиликала свой довольно размеренный вариант неистового Вакхического танца.
Я думал, что девушки хотели посплетничать, поэтому некоторое время подождал, чтобы показать, что это мое собственное решение, и ушел. Я вернулся в свое помещение для слуг и отрывочно прочитал там коекакой материал к завтрашнему уроку Фаусты. Я не мог заниматься, зная, что в доме находилась Елена.
Проголодавшись, я отправился на поиски пищи. Еда здесь была скромной и неинтересной. С другой стороны, она была бесплатной, и если желудок ее принимал, то разрешалось брать, сколько хочешь. Магистрат держал личного врача на случай действительно серьезных последствий.
Я вышел в холл, весело посвистывая, поскольку меня наняли нести в дом музыку. Какаято старая карга со шваброй с потрясенным видом побежала жаловаться на меня Фаусте. Девушки сидели во внутреннем садике; я слышал, как звенели ложки о тарелки со сладким кремом. Для меня места не оказалось. Я решил выйти из дома.
Жизнь не всегда черная. Когда я проходил мимо комнатки для прислуги, горничная Эмилии Фаусты изза занавески вытянула руку и сунула мне записку.
XLV
Я стоял на улице, со слабой улыбкой читая свое письмо.
— У тебя хитрый вид! — проговорила великолепная дочь Камилла Вера за моей спиной.
— Это игра света… — Я поднял плечо, чтобы она не заглядывала через него, а потом скомкал и выбросил записку, словно именно это я и собирался сделать. Я улыбнулся Елене. — Служанка Эмилии Фаусты только что сделала мне предложение, от которого мне придется отказаться.
— О, как не стыдно! — мягко проговорила девушка.
Я взялся большими пальцами себе за пояс и с важным видом медленно пошел прочь, давая ей возможность последовать за мной, если она захочет. Она захотела.
— Я думал, мы чужие; ты можешь оставить меня в покое?
— Не льсти себе, Фалько. Я хотела навестить Руфа…
— Тебе не повезло. Он пользуется своим великолепным аполлонским профилем в суде. Две кражи овец и дело, связанное с клеветой. Мы считаем, что воры действительно виновны, а вот с клеветой — это подстава; племянник истца — адвокат, которому нужно выставить себя в нужном свете…
— Ты как у себя дома! Я бы никогда не подумала, что Эмилия Фауста в твоем вкусе, — посчитала необходимым добавить Елена.
Я шел дальше, спокойно ответив:
— Она слишком тощая. Мне нравятся блондинки… И всегда есть служанка.
— О, ты ее больше не увидишь! — сдавленно засмеялась Елена. — Если Фауста заметит, что ее горничная проявляет инициативу, то ее продадут быстрее, чем ты успеешь вернуться с нашей прогулки.
В колоннаде я подал Елене руку, когда мимо нас проскрипела ручная тележка, нагруженная мрамором.
— Не трать время, Фалько. Эмилия Фауста никогда не обращает внимания на грубых типов с мерзкой ухмылкой. — Она нетерпеливо спрыгнула с тротуара. — Фаусте нравятся только напомаженные аристократы с опилками между ушами.
— Спасибо; я добавлю эфирного масла… — Я прыгнул за ней, повеселев от нашей беседы. — Мне жаль эту девушку…
— Тогда оставь ее в покое! Она ранима; последнее, что ей нужно, это найти тебя с тем нежным взглядом в лживых глазах, притворяющегося, что не можешь держаться от нее подальше…
Теперь мы стояли на углу, глядя друг на друга. Я дернул Елену за прядь ее новых волос.
— Ты побывала в растворе от блох для овец или начинаешь ржаветь?
— Это называется египетский рыжий. Тебе не нравится?
— Если ты счастлива. — Мне он был отвратителен; я надеялся, что она заметит. — Пытаешься произвести на когото впечатление?
— Нет; это часть моей новой жизни.
— А что тебе не нравилось в старой жизни?
— Ты, в основном.
— Я люблю, когда девушки говорят прямо — но не настолько же! Ну, вот и здание суда, — проворчал я. — Я протиснусь вперед и скажу магистрату, что его хочет видеть рыжеволосая египтянка, а затем уйду тешить его сестру своими лидийскими арпеджио!
Елена Юстина вздохнула. Она положила руку на мою, чтобы остановить меня, когда я отвернулся.
— Не беспокой Эмилия Руфа; я пришла к тебе.
Прежде чем повернуться, я подождал, когда Елена отпустит мою руку.
— Ладно. Зачем?
— Трудно сказать. — Беспокойный взгляд в этих красивых, ярких, широко открытых глазах быстро отрезвил меня. — Мне кажется, что коекто, о ком мне не положено знать, околачивается в нашей загородной вилле…
— Изза чего ты так думаешь?
— Мужские голоса, которые слышатся после того, как Марцелл должен был лечь спать, переглядывания среди слуг…
— Это тебя беспокоит? — Елена пожала плечами. Зная ее, я понимал: больше ее раздражало то, что ее вводили в заблуждение. Но это беспокоило меня. Днем я был свободен, так что немедленно предложил: — Ты собираешься возвращаться?
— Я приехала с приказчиком, которому Марцелл дал задание…
— Забудь. Я отвезу тебя.
Как раз этого она и хотела; я прекрасно это знал.
Мы взяли мула приказчика, оставив записку, что я его верну. Я предпочитал, когда мои девушки едут спереди; молодая ягодка настояла сесть сзади. Мул брыкался, но эту ситуацию спровоцировал я, чтобы Елене пришлось обхватить меня за пояс. Как только мы свернули к имению Марцелла, все пошло не так. Я почувствовал, что она забеспокоилась, и уже почти остановился, но прежде, чем успел поднять Елену, она свалилась с мула на бок, стремительно запутавшись в белых юбках вокруг самых длинных ног в Кампании — потом ее стошнило, сильно, через ограду.
Почувствовав угрызения совести, я тоже упал с мула. Среди всех его колокольчиков и кожаной бахромы я поспешно нашел бутыль с водой.
— О, я ненавижу тебя, Фалько! Ты нарочно это сделал…
Я никогда не видел Елену в таком больном виде. Это меня напугало. Я усадил девушку на большой камень и дал ей попить.
— Тебе станет лучше, только если ты перестанешь спорить…
— Нет, не перестану! — ей удалось неожиданно вспыхнуть на меня, с искренней улыбкой.
Проклиная себя, я намочил свой платок и побрызгал ее горячее лицо и горло. У Елены был такой истощенный вид, пересохший рот, бледная кожа, которые я узнал, поскольку сам плохо переносил дорогу. Я тревожно склонился над ней, а она сидела, обхватив голову руками.
Когда дыхание стало более ровным и девушка печально подняла глаза, я дал монету парню из виноградника, чтобы он отвел мула к дому.
— Когда ты почувствуешь себя лучше, мы сможем дойти пешком.
— Я попробую…
— Нет, просто посиди спокойно! — Она изнуренно улыбнулась и сдалась.
Елена все еще была нездорова. Будь я более нежным мужчиной, то обнял бы ее. Я старался не дать себе вообразить, что был именно таким, или что Елена этого хотела.
— Фалько, перестань прикидываться маленьким потерявшимся утенком! Поговори со мной; расскажи, нравится ли тебе жить в Геркулануме?
Я сел и послушно вытянул клюв.
— Не нравится. Чувствуется, что это несчастливый дом.
— Руф слишком часто уезжает; Фауста сидит дома и хандрит. Почему же ты все равно туда пошел?
— Заработать немного денег. И Эмилия Фауста кажется подходящим ключиком, чтобы отыскать Криспа.
— Соблазнять и шпионить — это аморально! — взорвалась она.
— Соблазнение — утомительный способ выполнять работу, даже ради государственной безопасности!
— Когда ты соблазнял меня, — язвительно спросила Елена, — это было ради государственной безопасности?
Как у настоящих друзей, у нас был истинный талант обижать друг друга.
Я сердито ответил:
— Нет. — Потом дал ей время поразмыслить об этом. Елена взволнованно дернулась. Я сменил тему: — Эмилия Фауста знает о моей работе.
— О, признаваться в своем положении — это часть твоего сомнительного обаяния! — Приходя в себя, Елена снова начала на меня нападать. — Вы и с ее симпатичным братцем тоже друзья?
Я бросил на нее загадочный взгляд.
— Руф может оказаться более восприимчивым к моим нежным лживым глазам?
Елена странно на меня посмотрела, потом продолжила:
— Разве ты не видишь, что Эмилий Руф пустил тебя в свой дом, чтобы держать под присмотром?
— Зачем ему это?
— Чтобы самому поучаствовать в примирении императора и Криспа — помочь своей карьере.
— Я заметил, что он както уклончиво себя ведет; однако его будущее кажется довольно ярким…
— Руф слишком долго жил далеко от Рима; он слишком амбициозен, но не достаточно хорошо известен.
— Почему он уехал?
— Нерон. Любой человек с такой приятной внешностью представлял угрозу для эго императора; это было либо добровольное изгнание, либо…
— Путешествие за счет казны с целью посмотреть выступление львов на арене? Откуда у него такая внешность? — усмехнулся я. — Его мать встретила в кустах торговца македонскими вазами?
— Если бы так выглядела его сестра, ты был бы вполне счастлив!
Я резко засмеялся.
— Если бы так выглядела его сестра, она сама была бы счастливее!
Елена все еще сидела на камне, но казалась более живой. Я развалился на земле, вытянувшись в полный рост на животе у ее ног. Я был счастлив. Лежал тут на солнце, на хорошей земле у Везувия, с чистым воздухом в легких, с приятным собеседником, а в голубом тумане простирался залив Неаполя…
Когда Елена долго молчала, я поднял глаза.
На нее нахлынуло какоето особое настроение. Девушка сидела и смотрела через залив, потом быстро закрыла глаза со странным выражением лица — одновременно болезненным и довольным.
Возможно, она думала о своем симпатичном друге.
— Становится жарче. — Я наклонился вперед. — Я должен отвести тебя в дом. Пойдем.
Я рвался слишком быстро, и Елене пришлось схватить меня за руку, чтобы я шел помедленнее. Чтобы порадовать себя, я взял ее руку в свою, нравилось ей это или нет.
Это была действительно жаркая, но приятная прогулка. Я предпочел бы пойти первым и проверить дом, но за городом мужчина всегда должен найти время для прогулки с девушкой. Никогда не знаешь, когда городская жизнь со своими требованиями еще предоставит такую возможность. И никогда не знаешь, когда девушка согласится.
Мы проходили через виноградники, где наполовину созревшие зеленые грозди уже гнули ветки. Мы преодолели полпути обратно. Свернув на следующий небольшой подъем, увидели виллу. На поле для верховой езды на террасе мужчина по очереди тренировал двух лошадей.
— Это скаковые лошади? А это дрессировщик?
— Брион — да, это он. — Елена замолчала. — Возможно, стоит осмотреть конюшни…
Я запрыгнул на ограду, уцепившись за фиговое дерево в углу поля. Дочь сенатора, которая не понимала, когда что уместно, поставила одну сандалию на забор и тоже подтянулась наверх, держась за меня. Мы наблюдали, как дрессировщик быстро гнал лошадь, затем замедлил ход, развернулся, рванул вперед и стремительно помчался в обратную сторону. Я не интересовался скаковыми лошадьми, но это давало мне возможность крепко держать Елену…
Мы повернулись друг к другу в одно мгновение. На этом поле невозможно было игнорировать наши сильные воспоминания о том, что произошло в прошлом. Я отпустил Елену, пока не стало слишком трудно стоять так близко. Потом я спрыгнул на землю и помог девушке спуститься. Елена дерзко подняла подбородок.
— Полагаю, ты выбросил ложки в море?
— Конечно, нет! Мой отец был аукционистом; я знаю цену ложкам… — Мы с ней были друзьями. Ничто не могло этого изменить. Друзья, которых объединяла любовь к интригам; постоянно ругающиеся, однако мы никогда не раздражали друг друга так сильно, как утверждали. И напряжение между нами, как эмоциональное, так и сексуальное, я все еще постоянно ощущал. — О чем ты сейчас думала? — рискнул спросить я.
Елена тихо отодвинулась от меня, покачав головой.
— Кое о чем, в чем я не уверена. Не спрашивай меня.
XLVI
К тому времени, как мы дошли до дома, Елена снова выглядела ужасно. Обычно у нее было хорошее крепкое здоровье, так что такое состояние в равной степени беспокоило меня и смущало ее. Я настоял остаться с ней, пока Елена не устроилась на кушетке в длинной колоннаде с подносом горячего чая из бурачника.
Пока успокаивалась небольшая суета, вызванная нашим приездом, я играл роль гостя. Елена отослала рабов. Я сидел с ней, попивая из маленькой чаши, которую держал между большим пальцем и двумя другими, как солидный человек. Мне вполне нравился чай из бурачника, если он не был очень крепким.
Утолив жажду, я поставил свою чашку и потянулся, оглядываясь вокруг. Никаких признаков Марцелла и мало работников. Садовники выкапывали
большой куст мимозы. Они низко склонились над ним. Гдето в доме я слышал, как женщина чтото терла щеткой, дребезжащим голосом подпевая себе. Через заостренное ситечко я налил ее светлости еще чаю, после чего лениво встал рядом с ней, словно наблюдал за медленно поднимающимися колечками пара…
Огромный дом казался спокойным и тихим. Обычные люди занимались своей обычной работой. Я тихонько коснулся плеча Елены, потом отошел, как скромный мужчина, который собирался ответить на зов природы.
Появление дрессировщика скаковых лошадей возбудило мой интерес. Я обошел отдельно стоящие здания в надежде найти его. Если стоять лицом к морю, конюшни располагались слева. Там находилась старая постройка, где обычно нагружали мулов и повозки, а также большая новая часть здания, пристроенная около пяти лет назад и имеющая признаки того, что недавно там ктото был. Имея большой жизненный опыт, я смог проникнуть внутрь незамеченным.
Несомненно, здесь Пертинакс и Барнаб когдато держали своих чистокровных лошадей. В комнате со снаряжением для верховой езды стояла одна из серебряных статуэток в виде коня, которые я видел в доме Пертинакса в Риме. Большая часть конюшни сейчас была пуста, предположительно с тех пор, как он умер. Но две лошади, которых, я уверен, я узнал с того самого утра, удовлетворенно пыхтели в соседних стойлах. Их только что вычистил дородный конюх, который сейчас подметал проход между рядами.
— Здравствуйте, — закричал я, словно у меня было разрешение здесь находиться. Он облокотился на свой веник и злобно посмотрел на меня.
Я подошел к двум лошадям и притворился, что мне интересно.
— Это те двое, которых Атий Пертинакс держал в Риме?
Я ненавидел лошадей. Они могли наступить на тебя, или навалиться, или с силой наскочить, сломать ноги и ребра. Когда протягиваешь им угощение, они жадно хватают его вместе с пальцами. Я относился к ним так же осторожно, как к ракам, осам и женщинам, считающим себя живыми сексуальными спортсменками; лошади, как любые из них, могли сильно укусить.
Один конь был хорош. Он действительно был какимто особенным; даже я это видел. Гордый горячий жеребец багрового окраса.
— Привет, парень… — Лаская этого красавца, я взглянул на его приятеля. Конюх с отвращением дернул головой. Второго звали Малыш. У когото было хорошее чувство юмора. Малыш никуда не годился. Он вытянул ко мне шею, ревнуя, что все внимание доставалось его соседу, хотя и знал, что в такой впечатляющей компании бездельник, похожий на замусоленный ершик, не имел никаких шансов.
— С характером? Как зовут этого?
— Ферокс. Он становится нервным. Малыш успокаивает его.
— Ферокс у тебя чемпион?
— Мог бы быть. — Казалось, конюх профессионально разбирался в лошадях. — Сейчас ему пять, и он довольно хорошо подготовлен… Вы катаетесь верхом?
Я отрицательно покачал головой.
— Я военный! Когда легионам нужно кудато попасть, они идут своими ногами. Если кавалерия становится настоящей стратегической необходимостью, то они берут волосатых коротконогих иностранцев, которые в бою могут скакать изо всех сил, знают, как лечить колер, и осмотрительно поступят с навозом. Работает прекрасно. На мой взгляд, любая система, которая применима к легионам, хороша для граждан в обычной жизни!
Мужчина засмеялся.
— Брион, — представился он.
— Меня зовут Фалько. — Я продолжал ласкать Ферокса, чтобы поддержать разговор. — Ты дрессировщик! Почему же ты чистишь конюшню? Разве здесь нет слуг?
— Здесь ничего нет. Все распродано.
— Когда Пертинакс отправился на пароме в Гадес?
Он кивнул.
— Лошади были его страстью. Первое, что сделал старик: в тот же день избавился от всех вещей, всех слуг. Он не мог их здесь терпеть.
— Да, я слышал, ему много чего осталось в наследство. А что с этими двумя?
— Возможно, он потом пожалел об этом. Ферокса и Малыша ему прислали из Рима. — Я об этом знал. Когда мы распродавали имущество в доме на Квиринале, то нашли купчие на этих двух лошадей на имя Марцелла. Я не видел животных, но сам подписывал письменное распоряжение на их перевоз домой. — А почему вы интересуетесь, Фалько? — продолжил Брион. Он казался дружелюбным, но я видел, что на самом деле он был скептиком.
— Ты знаешь Барнаба?
— Знал, — ответил он, решив себя не компрометировать.
— У меня есть деньги, которые принадлежат ему. Он здесь не показывался в последнее время? — Брион посмотрел на меня, потом пожал плечами. — Мне кажется, — настаивал я предупреждающим тоном, — что ты определенно видел его — учитывая лошадей.
— Возможно… Учитывая лошадей! — Он согласился с моим предположением, не пошевелив ни одним мускулом. — Если я его увижу, то передам, что вы приходили.
Я отстранил Малыша, который настойчиво тыкался в меня носом, и сделал вид, что сменил тему.
— Летом в окрестностях виллы у Везувия очень тихо. В доме никто не живет?
— Только члены семьи, — сообщил мне Брион с каменным выражением лица.
— А молодая девушка?
— О, она одна из них!
Проницательный дрессировщик сообразил, что я не имел права находиться здесь. Он решительно проводил меня через дверь и повел к дому. Когда мы шли через конюшню, я удостоверился, что проверил все стойла. Брион, в конце концов, потерял терпение от нашего вежливого притворства.
— Если вы скажете мне, что ищете, Фалько, то я скажу, здесь ли оно!
Ничуть не растерявшись, я улыбнулся. Я искал двух лошадей, которые следовали за мной от Рима до Кротона — не говоря уже об их загадочном наезднике, которым, как я вычислил, был Барнаб.
— Тогда попробуем так: двух первоклассных скакунов — большого коня чалой масти, который, похоже, специально обучен для ипподрома, но выглядит так, как будто только что проиграл, и пегую вьючную лошадь поменьше…
— Нет, — коротко сказал Брион.
Он был прав; их здесь не было. Однако краткость, с которой он ответил, убедила меня, что когдато он видел парочку, о которой я говорил.
Брион отвел меня назад к колоннаде, затем с одновременно разочарованным и облегченным видом отошел, когда Елена Юстина, молодая девушка, которая была членом этой семьи, встречала меня своей сонной, невозмутимой улыбкой.
XLVII
Когда я возвращался к Елене со счастливым посвистыванием арфиста, к ней только что подошел ее свекор. Не упоминая о разговоре с дрессировщиком лошадей, я извинился за свое присутствие, смутно объяснив Капрению Марцеллу, что встретил Елену Юстину, которая перегрелась на солнце…
Приход Марцелла положил конец моему осмотру территории. Ничто не могло мне помочь; я воспитанно ушел, тихо кивнув ее светлости, — все, что я смог сделать, чтобы ответить на вопрос, который читался в ее темных, глубоких, любопытных карих глазах.
Должно быть, Марцелл счел мою историю довольно правдоподобной. Елена выглядела совершенно истощенной. Я чувствовал, что ей необходим не просто отдых под пледом и горячий чай. Она нуждалась в том, чтобы ктонибудь за ней поухаживал. Хуже всего было то, что моя обычно такая выносливая девушка, казалось, тоже так думала.
Когда я повел мула приказчика обратно к дороге с виллы, я не мог вспомнить ни единого слова Елены с того момента, как привел ее домой, и до того, как ушел. Только те глаза, которые смотрели на меня со спокойствием, изза которого я ненавидел уходить от нее.
Чтото было не так. Еще одна проблема. Еще одна закопанная реликвия, которую мне предстоит откопать, как только будет время.
К черту приказчика, ожидавшего в Геркулануме своего мула; я сделал остановку и поужинал со своими друзьями в Оплонтисе. Честно говоря, мне показалось, что они все стали спокойнее, когда я уехал жить в другое место.
* * *
Пророчество Елены насчет служанки оказалось верным. Эту легкомысленную глупую девчонку отправили на рынок рабов! Невероятно. Я надеялся, что она найдет более снисходительную госпожу; я больше никогда ее не видел.
Мне ничего не сказали. На следующий день я сам поднял этот вопрос в разговоре с Эмилией Фаустой. Она выслушала мою точку зрения, потом угрожала прекратить мою работу учителем. Я посоветовал ей сделать это. Фауста проиграла; я остался.
Я разозлился не только изза того, что девушка была привлекательной. Проведя полдня с Еленой, я с трудом мог вспомнить, как выглядела служанка Фаусты. Но мне казалось, что должен существовать другой способ поддерживать дисциплину.
Я не допустил, чтобы эта ссора с Фаустой повлияла на наши с ней профессиональные отношения. Она стала более увлеченно, чем когдалибо, совершенствовать свою музыкальность. Девушка нашла новый стимул: она сказала, что Ауфидий Крисп планировал устроить огромное пиршество для всех своих друзей на этой части побережья.
Руф туда собирался. Он отказывался брать сестру; сказал, что пойдет с одной своей знакомой девушкой. Казалось, Фауста была поражена. Хорошо бы это означало, что ее брат знал только неуместных в таком обществе девушек; так наверняка будет веселее.
Я имел большие надежды попасть к Криспу. Частично изза Эмилии Фаусты, которая была решительно настроена заявиться туда без приглашения. И частично изза того, что она брала с собой арфу. И чтобы ненавязчиво привлечь к себе внимание и пронести ее мимо неприветливого привратника, знатная Эмилия Фауста брала с собой меня.
XLVIII
Сегодня вечером я его увижу. Иногда знаешь наверняка.
Один из моих родственников, наделенный ярким чувством юмора, говорил, что всякий раз, когда женщины испытывают такие чувства, всегда оказывается, что у героя слабые руки, высокомерная мать, а состояние мочевого пузыря сказывается на его личной жизни. К счастью, я знал Ауфидия Криспа не настолько хорошо, чтобы слышать о его семье или жалобах на здоровье.
Он взял виллу в Оплонтисе. Или снял, арендовал, позаимствовал, просто украл ее на одну ночь, кто знает? — кого это волновало, когда атмосфера была приятной, напитки неограниченными, а прекрасные танцовщицы почти обнаженными? Как утверждали местные жители, вилла принадлежала Поппее Сабине, второй жене Нерона. Такая связь дома с императором содержала хороший намек на амбиции его хозяина.
Вилла Поппеи доминировала в местности Оплонтиса. Вероятно, люди, которые в ней жили, могли не заметить шумных бараков грубых рыбаков за пределами своей территории и думали, что их вилла и была Оплонтисом. Людям, живущим в такой роскоши, удобно игнорировать бедняков.
В течение почти всего нашего пребывания в городе этот огромный дом был закрыт ставнями и оставался темным. Аррия Сильвия пыталась попасть внутрь, чтобы посмотреть, что там, но сторож ее выгнал. Насколько нам удалось узнать, когда Поппея вышла замуж за Нерона, эта вилла перешла в собственность империи и после ее смерти оставалась пустой. Казалось, никто не хотел принимать решения, что же делать с этим местом, словно за жестокую смерть такой красивой женщины от рук Нерона даже исполнителям в императорском дворце было стыдно.
Большая часть особняка располагалась на двух этажах, и здание со всех сторон окружали одноэтажные галереи с колоннадами и сады. Широкая терраса выходила прямо на море, ведя к большой центральной анфиладе комнат. В боковых частях здания, должно быть, находилось более ста комнат, каждая из которых была декорирована с таким изысканным вкусом, что следующий хозяин обязательно переделает и реставрирует их. Вилла была готова к небольшому ремонту; я имею в виду, что она и так была прекрасна.
Я бы никогда не смог жить в таком огромном доме. Но поэтулюбителю он дал бы множество возможностей для фантазии.
* * *
Ужин, как и положено, начинался в девятом часу. Мы приехали как раз вовремя. Судя по количеству повозок, переполнявших дорогу Геркуланума, это был один из самых больших приемов, на которых я когдалибо присутствовал. Магистрат поехал раньше, чтобы послушать свежие сплетни, а Эмилия Фауста считала, что другие люди платили местные налоги для ее личного удобства, так что она взяла в сопровождение служащих своего брата; они за казенный счет оживленно проводили нас через толпы и очереди.
Сегодня благодаря любезности великодушного Криспа здесь ужинала большая часть местной знати и простая чернь. Первыми, кого я заметил, оказались Петроний Лонг и Аррия Сильвия. Должно быть, они позволили затащить себя сюда, чтобы послужить цели великого человека распространить то самое всеобщее гостеприимство на широкий общественный фронт. Настоящий покровитель. Отец для голодных клиентов из всех слоев общества — то есть сверху донизу покупающий поддержку триб.
Петроний набрал себе бесплатных булочек и сбежал. Я узнал, что поскольку Петро назначили командиром стражи, он никогда не голосовал. Он считал, что человек, получающий государственное жалование, должен быть беспристрастным. Я с этим не соглашался, но восхищался настойчивостью Петро в его странностях. Ауфидий Крисп был необычным политиком, если допускал такую нравственность у избирателей, которых он привлекал.
Петро и Сильвия на эту тему со мной не разговаривали. Они находились в доме, наблюдая, как у меня получались насмешливые улыбки. Я все еще стоял на улице, красуясь своей лучшей горчичной туникой, а тем временем моя грозная спутница у дверей спорила с управляющим.
Человек, проверявший список гостей, понимал, что к чему. Это торжество было умело организовано. У меня и мысли не возникало, чтобы вмешаться физически. Если бы я попробовал применить какуюнибудь силу, то большая банда с шипами на запястьях, которая пряталась с нардами за горшками с растениями, изящно скрутила бы нас и вышвырнула вон.
Эмилию Фаусту посещало маловато мыслей, но когда появлялась хотя бы одна, то девушка понимала, что такого сокровища, возможно, у нее больше не будет, и зацикливалась на ней. Когда Фауста вступила в спор, это произвело на меня серьезное впечатление. Сегодня она была одета в розоватолиловое платье из муслина с маленькими белыми манишками на груди, похожими на два грибка, уложенные в корзинку в овощной лавке. Заостренная диадема крепко держалась на столбе из ее тусклых волос. Яркие пятна краски пылали на ее щеках. Решительность увидеть Криспа сделала ее сверкающей и свирепой, как акула, почуявшая запах крови. Управляющий вскоре отбивался от нее, запыхавшись от отчаяния, словно попавший в кораблекрушение моряк, который заметил темный плавник.
— Какой хозяин, — презрительно насмехалась Эмилия Фауста, которая была маленького роста и просто подпрыгивала на каблуках, — станет включать в список гостей себя или хозяйку? Луций Ауфидий Крисп надеялся, что вы знаете: я, — заявила знатная Фауста с неописуемой злобой, — его невеста!
Единственное, что преуменьшало в моих глазах эту дерзкую уловку, так это то, что девушка считала это правдой.
Побежденный несчастный слуга проводил нас внутрь. Я поднял кулак, приветствуя Петро, взял венок у безумно хорошенькой девушки, а когда сестра магистрата пробиралась вперед, я шел сзади и нес ее кифару. Приятный распорядитель быстро оценил ситуацию, потом усадил Фаусту рядом с тарелкой битинского миндаля, а сам улизнул, чтобы посоветоваться с господином. На удивление быстро он прилетел обратно. Мужчина уверял Эмилию Фаусту, что ее место ждет ее в личной столовой, изящном триклинии, где Крисп сам будет развлекать самых почетных гостей.
Не знаю, чего я ожидал, но быстрота и любезность, с которыми он устроил прием своей брошенной невесте, указывали на то, что Ауфидий Крисп владел опасным искусством общения.
XLIX
Распорядитель начал извиняться.
— Ничего страшного. Я всего лишь преподаватель игры на арфе; не нужно снова никого пересаживать…
Он обещал втиснуть меня, но я сказал, что когда буду готов втиснуться куданибудь, то сделаю это сам.
Уже почти настало время ужина, но я проскочил через опоздавших, чтобы рассмотреть флотилию, стоявшую у просторной террасы с той стороны виллы, что выходила на море. Понадобилось всего мгновение, чтобы найти «Исиду Африканскую»; она стояла на якоре в стороне от этой морской компании, сама по себе, немного подальше в заливе. На ней было темно, словно все уже сошли на берег.
Вряд ли этот прием был из тех, где хозяин в своей лучшей обуви топчется у дверей, ожидая каждому пожать руку; некоторые руки были слишком неприветливыми, чтобы их пожимать. Но к тому моменту Крисп уже должен был находиться в доме. Я вернулся с террасы, чтобы заранее взглянуть на него, если смогу.
Я прошел через атрий. В основном это помещение было выполнено в красном цвете и расписано имитированной колоннадой из желтых колонн, через которые открывались массивные двойные двери, украшенные символическими фигурками и обитые небесноголубыми гвоздиками среди сказочных пейзажей, религиозных персонажей и триумфальных щитов. Соседняя комната вывела меня в тихий закрытый садик — с живыми растениями и садовыми пейзажами на внутренних стенах. За всем этим находилась большая гостиная, которая выходила через две величественные колонны прямо в главные сады, производя удивительный, типичный для Кампании эффект. Большая часть кушеток для гостей из высших сословий общества поставили в гостиной, так что, когда я заглянул туда, шум, тепло и аромат от множества венков из свежих цветов потекли в летнюю ночь. В приемных поменьше стояли столы для людей пониже классом. Ничего из этого меня не интересовало. Пробиваясь обратно через толпу, я по счастливой случайности обнаружил богатое помещение кухни, рядом с которым, как я ожидал, располагалась столовая хозяина.
В триклиний виллы Поппеи можно было попасть через колонны в виде гермы, где на страже стояли крылатые кентавры, припавшие к земле. Это было маленькое помещение, расписанное в изысканном архитектурном стиле, характерном для всей этой виллы. На стене в триклинии были нарисованы красивые ворота внутреннего двора с крылатыми морскими коньками, извивающимися на архитраве под статуей какогото богапокровителя. На задней стенке мое внимание привлекла особо живописная картина с изображением чаши с инжиром.
Сегодня приятные ароматные масла придавали помещению пикантную обстановку. Стандартные девять мест, по три на каждой кушетке, были покрыты украшенной вышивкой тканью, под павлиньими перьями, образующими дугу над высокой цветочной композицией. Павлины в натуральную величину также были основной идеей в украшении дома. Я мысленно сделал несколько заметок насчет этих великолепных картин, на случай, если когданибудь буду устраивать званый ужин у себя дома.
Я пришел слишком рано; Криспа там еще не было. Почетное место на центральной кушетке все еще оставалось свободным.
* * *
Вскоре я увидел Эмилию Фаусту; она клевала виноград, сидя на кушетке слева — не самое почетное место. Двух сенаторов, которых я не смог узнать, посадили более заметно — по обе стороны от пустого места хозяина. Пара женщин сверкала тяжелыми украшениями, и кроме них там находилось двое мужчин помоложе, модно наряженных в круглые сетчатые тоги для ужина. Одним из них был наш белокурый бог Руф, стоявший в центре комнаты и беседовавший с одним из сенаторов. Он бросил известную красотку одну у края стола как раз передо мной.
Я узнал ее в ту же секунду, как увидел. Прежде чем она успела повернуться и заметить меня, я наслаждался восхитительным зрелищем: длинные светлые ноги, капризно постукивающие друг о друга, когда магистрат не обращал на нее внимания; тело, стройное и пышное одновременно, которое облегала какаято красивая серебристая ткань. Казалось, материал будет чудесно скользить под мужскими руками, если он рискнет ее обнять. Шею окаймляли лазуритовые бусы, стоившие целое состояние. Темные блестящие волосы спереди были завиты, а сзади их тяжелая масса убрана под круглую золотистую сеточку. Это аккуратное темноголубое ожерелье и закрытая золотая шляпка придавали ей более молодой и милый вид. По сравнению с бесстыдной напыщенностью вокруг, девушка обладала скромной, сдержанной элегантностью. Этим вечером она была самой красивой женщиной в Кампании, но у жителей Кампании ужасный вкус, и я, вероятно, был единственным мужчиной, который это знал.
Раб чистил ее сандалии у ножки кушетки, так что девушка обернулась, чтобы поблагодарить его, и увидела меня. Я, подпирая стенку, стоял у дверей с инструментом Фаусты под левой рукой, а правую руку опустил в ее оставленную чашу с миндалем. Пока Елена не обернулась, я жевал орешки.
Брови, которые я узнал бы через всю арену большого цирка, резко поднялись наверх, когда спутница магистрата неотрывно смотрела на меня своими красивыми карими глазами. Я беззвучно восторженно присвистнул. Дочь сенатора в золотой шляпке отвернулась, чем хотела выразить свое крайнее пренебрежение.
Она нарушила это впечатление, предварив его откровенно страстным подмигиванием.
* * *
Началась суета, которая возвещала о приходе Криспа, потом меня вытолкали из комнаты. Уходя, я сбагрил арфу рабу, приказав ему поставить ее к спинке кушетки Фаусты, — я не намеревался всю ночь таскать чьюто кифару. Смирившись с положением дел, я позволил выгнать себя в коридор. Я бы хотел посмотреть на Криспа, но выбрать подходящее время — это решающая часть моей работы. Сейчас, когда его любимые гости чавкали за столами, было не время привлекать внимание большой шишки к моему императорскому заданию.
Я снова заглянул в гостиную, но уже начали подавать закуски. Хотя там оставалось одно или два свободных места, они находились рядом с мужчинами, у которых был неприветливый вид, или с женщинами с толстыми пальцами и искусственными волосами. Я уклонился от стопки подносов с украшенным цикорным салатом, которые несли слуги, потом протиснулся через представителей низших сословий, пока, наконец, с облегчением не плюхнулся между Сильвией и Петронием.
— Опасайся клецок из мидий! — посоветовала Сильвия, не соизволив даже поздороваться со мной. — Луций видел, что еще полчаса назад они были сырыми. — Она разделяла взгляды моей матери на то, как подавать пищу. И я не удивился, когда узнал, что Сильвия послала нашего друга на кухню даже здесь. — На центральном столе есть страус, но нам не хватит…
— Тогда что же здесь будет, Луций? — весело спросил я. Я знал, что его звали Луций, хотя я называл его так только в том случае, если мы были неимоверно пьяны. — Один из тех пиров, где умный шефповар готовит тонну лосося, который производит впечатление, что это сорок разных кусочков мяса?
Петро хихикнул, прежде чем открыть свой рот и положить туда колимбадианских оливок. Они были потрясающими — эти огромные плоды из Анконы плавали в амфоре с маслом и травами, пока не приобрели аромат, который вы никогда не найдете в маленьком, крепком, просоленном халмадианском сорте, что обычно едят люди.
Петроний уверял меня, что они за этот вечер поймали столько морских окуней и омаров, что уровень воды в заливе упал на два дюйма. Два занудных кутилы из Кампании хвастались байскими устрицами; мы молча наблюдали и оба вспоминали устриц, которых вылавливали в Британии из холодного грязного канала между Рутупией и Танетом, и их мрачных братьев с северных берегов дельты Темзы… Поморщившись, Петро принялся за вино. Мне оно казалось приятным, но я видел, что мой друг относился к нему с презрением. Пока меня не было в Оплонтисе, он попробовал местные вина высшего качества и теперь, чтобы проучить меня, восторгался игристыми белыми и крепкими молодыми красными, а я тем временем принялся за закуски, жалея, что покинул его компанию.
Я действительно скучал по Петро. Эта нахлынувшая печаль напомнила мне, что у меня есть дела. И чем скорее я их сделаю, тем скорее смогу сбежать из Геркуланума обратно к моим друзьям…
Если слуги надеялись уйти пораньше, то их надежды не оправдались. Гости рассчитывали на долгий вечер. Плебеи вели себя осторожно, а сенаторы и всадники со своими дамами навалились на кушанья, съедая в два раза больше, чем дома, поскольку это было бесплатно. Должно быть, шум и запахи жгучих винных соусов распространялись на расстояние трех миль. Рабов, разносивших напитки, заносило на мокрых стопах босых ног, когда они бегали вокруг и доливали вино, только и успевая разогревать его и отмерять специи. Не было сомнения, что Крисп получил то, чего хотел. Это было одно из тех ужасных массовых мероприятий, которое потом всем запомнится как прекрасное времяпрепровождение.
Через пару часов прибыла испанская танцевальная труппа. У нас, сидевших вокруг дальнего стола, значительно поднялось настроение, когда в поле зрения показались главные блюда. Официанты проявляли максимум энергии и добродушие, но оказалось нелегко накормить такую толпу, и кроме того, как обычно, присутствовали несносные женщины, которые заказывали телячьи медальоны с фенхелевым соусом — без фенхеля, пожалуйста!
Я думал, что танцоров пригласили для того, чтобы развлекать больших шишек в триклинии, у которых была своя шустрая армия резчиков и носильщиков под руководством хитрого управляющего. Естественно, когда я пошел спросить у крылатых кентавров, как идут дела, большая серебряная тарелка с одной несчастной коричной грушей как раз выходила после подачи десерта, когда ворвался настольный поднос с чашами для омовения пальцев. Я услышал, как яростно защелкали испанские кастаньеты, а один из певцов без голоса, но с отличной показной напыщенностью, громко выражал страдание в диком испанском стиле. Сквозь ворота я мельком увидел горячую девушку с черноголубыми волосами до пола, на которой была надета очень малая часть ее гардероба. Танцовщица принимала такие позы, которые выставляли ее обнаженность самым привлекательным образом. Я так засмотрелся на нее, что забыл, что искал Криспа. Слуги шастали мимо меня под обилием свежих фруктов, часть из которых была настолько экзотической, что я точно не знал, как они назывались. Потом дверь захлопнулась, и меня снова прогнали.
Я бросился назад и шепотом рассказал Петро о танцовщице; он присвистнул, позавидовав такому преимуществу моей работы.
* * *
Сильвия взяла для меня порцию главного блюда. Мне удалось запихать в себя приправленное имбирем крыло утки, салат и несколько кусочков жареной свинины в сливах, а потом я поспешно вернулся к триклинию. Все произошло быстрее, чем мне хотелось. Хозяин и большая часть его личной компании разбрелись. Две женщины с украшениями разговаривали о своих детях, не обращая внимания на мужчину помоложе, перед которым другая танцовщица с поразительными мускулами на животе величественно выписывала спирали.
Судя по основательному подходу к организации обслуживания гостей, я полагал, что Крисп сейчас перешел к серьезному светскому общению. Старался понравиться, как называла это Елена Юстина. Побывав на его ужине, люди станут даже лучше к нему относиться, если увидят, как старательно он демонстрировал восхищение их вкусом в одежде и спрашивал о карьере их старших сыновей. Хозяин бродил вокруг, помогая самому себе; Ауфидий Крисп решительно умел пускать пыль в глаза.
Я вышел и начал осматривать приемные, прося раскрасневшихся слуг указать на Криспа, если он был в поле зрения. Раб, разбрызгивавший духи, отправил меня посмотреть, нет ли его во внутреннем перистиле, но мне не повезло.
Я никого там не нашел — за исключением спокойной одинокой женщины на каменной скамейке, у которой был такой вид, словно она когото ждала. Молодая девушка в облегающем платье и почти без украшений, с красивыми темными волосами, заколотыми под круглой золотой сеточкой…
Это ее дело, раз она смогла найти себе развлечение. Я не собирался вмешиваться и портить ее свидание. Единственная причина, по которой я остался там, это появившийся мужчина. Он определенно думал, что там она ждала его, и я думал точно так же. Поэтому остановился, чтобы посмотреть, кто это.
Я его не знал. Однако, поняв это, я все равно остался, потому что Елена Юстина производила такое впечатление, что и она тоже его не знала.
L
Он появился из кустов гибискуса, словно был способен сделать чтото такое, о чем молодой, хорошо воспитанной женщине лучше не знать. Мужчина был достаточно пьян, чтобы встретить Елену как чудесную находку, однако недостаточно для того, чтобы его оттолкнуло ее ледяное отношение. Я полагал, что девушка сама сможет с этим справиться; этот шатающийся распутник представлял угрозу обществу не больше, чем М. Дидий Фалько, ужасно ласковый, — и мне тоже обычно доставалось несколько оскорблений.
Этот сад был украшен в простом загородном стиле. Я стоял, крепко прислонившись к колонне, которая была выкрашена темными диагональными полосами. Сейчас уже смеркалось, так что никто из них меня не заметил. Мужчина сказал чтото, чего я не расслышал, но я уловил ответ: «Нет; я сижу одна, потому что так хочу!»
Шатаясь, мужчина подошел ближе, чересчур важничая. Елене следовало бы сразу скрыться среди людей, но она была упряма, и, возможно, парень, с которым она на самом деле планировала встретиться в саду, стоил некоторого риска. Пьяный снова заговорил, а девушка настойчиво повторяла: «Нет. Я бы хотела, чтобы вы ушли!»
Он засмеялся. Я так и думал.
Потом Елена встала. Бледная мягкая ткань ее платья колыхалась, держась на брошках на плечах, и пыталась лечь ровно — подчеркивая те места, где девушка, скрывавшаяся под ней, таковой не была.
— Ради Юпитера! — Ее резкое недовольство сразу же привело меня в чувство — но парень был слишком пьян. — У меня болит голова, — яростно говорила Елена, — у меня болит сердце; от шума у меня началось головокружение, а от еды тошнит! Я сидела в одиночестве, потому что здесь нет никого, с кем я хотела бы быть — и уж особенно не с вами!
Елена попыталась уйти, но недооценила ситуацию. Я уже рванул вперед, когда он схватил ее за руку. Пьяный или нет, но он действовал быстро: второй рукой зверски залез ей под платье, в тот момент, когда я с ревом перепрыгнул через невысокую часть стены, соединявшую каменные колонны и покрывавшую землю между нами. Потом я обеими руками схватил его за плечи и оттащил назад.
Последовал удар головами, одна из которых была моей. Этот человек обладал довольно атлетическим телосложением, и, неожиданно ощутив прилив энергии, он нанес мне несколько ударов. Корень имбиря вызывал у меня легкую отрыжку, хотя я был слишком зол, чтобы чувствовать чтото еще. В тот момент, когда точность моего противника стала ослабевать, я напал на него и продемонстрировал свое неодобрение серией безжалостных ударов по тем частям его тела, по которым мой тренер советовал мне никогда не бить. После этого я зажал его голову под одним локтем и потащил его к большому водоему, где поток воды из фонтана ворвался прямо ему в легкие.
Пока пьяный был еще жив, Елена шепотом предупредила:
— Перестань, Фалько; ты убиваешь человека!
Поэтому я опустил его в воду еще пару раз, потом перестал.
* * *
Я вытолкнул парня через колоннаду в коридор, где придал ему ускорение, ударив своей выходной сандалией в поясницу. Он полетел головой вперед. Я подождал, когда этот человек начнет подниматься на ноги, потом подошел к Елене.
— Зачем ты здесь прятался? — обвинила она меня в качестве благодарности.
— Совпадение.
— Не шпионь за мной!
— И не надейся, что я позволю, чтобы на тебя напали!
Она сидела на краю фонтана, оборонительно обняв себя руками. Я протянул руку к ее щеке, но она отпрянула от еще одной мужской атаки; я отступился. Через мгновение девушка перестала трястись.
— Если ты все еще хочешь посидеть в саду, то я буду тебя охранять.
— Тебе больно? — спросила она, проигнорировав мои слова.
— Не так сильно, как ему. — Елена нахмурилась. — Ты расстроилась изза него; тебе нужна была компания. — Она воскликнула; я закусил губу. — Прости, я сказал глупость. Я слышал, что ты говорила…
Потом Елена Юстина прошептала чтото похожее на мое имя, схватила руку, от которой она раньше отпрянула, и зарылась лицом в мою ладонь.
— Марк, Марк, я просто хотела посидеть гденибудь в тишине, чтобы можно было подумать.
— О чем?
— Все, что я делаю, похоже, оказывается неправильным. Все, чего я хочу, становится невозможным…
Когда я собирался чтонибудь ответить на это, она внезапно посмотрела на меня.
— Я прошу у тебя прощения… — Все еще держа мою руку, так что я не мог ее забрать, она спросила своим обычным важным голосом, словно больше ничего не произошло: — Как у тебя дела с Криспом? Ты уже с ним говорил?
Я признался, что еще не нашел его. Так знатная молодая девушка спрыгнула с фонтана и решила, что ей лучше пойти и помочь. Я упомянул о том, что я внимателен, тверд и хорош в своей работе — и так далее. Прежде чем успел перейти к части о том, как я ненавижу, когда меня контролируют, Елена поспешно вывела меня из сада и пошла со мной, хотел я того или нет.
LI
Мне не следовало этого допускать. Ее отец не одобрил бы то, что его цветочек гдето слоняется, а мою работу лучше выполнять одному.
С другой стороны, Елена Юстина, казалось, всегда искала убедительный повод, чтобы игнорировать общественные устои, и когда мы прочесывали огромные приемные, я определенно сэкономил время, имея с собой человека, который мог узнать мужчину, которого я искал. Или на самом деле нет; потому что Криспа нигде не было.
— Он друг семьи?
— Нет; мой отец почти его не знает. Но Пертинакс знал. Когда мы были женаты, он несколько раз приходил на ужин… — Никаких сомнений, палтус в тмине.
Когда мы вышли на улицу в просторные строгие сады, которые простирались за пределы центральной части дома, рука Елены скользнула в мою ладонь. Я уже видел ее такой раньше. Елена ненавидела толпу. Чем больше было народу, тем сильнее она изолировалась от окружающих. Вот почему девушка держалась за меня; я все еще был для нее опасным человеком, но у меня было доброе лицо.
— Хм, — задумался я, когда мы стояли в самом конце сада среди благоухающих роз, оглянувшись на изумительные колонны огромной приемной. — Эта работа была бы приятной, если бы у нас было время получать от нее удовольствие… — Я наклонил свой венок под более обходительным углом, но Елена сурово ответила:
— У нас нет времени!
Она снова утащила меня в дом, и мы начали осматривать комнаты поменьше. Когда мы проходили через большой атрий, мимо нас шел один из сенаторов, ужинавший в триклинии. Они с женой уже уезжали с приема. Он кивнул на прощание Елене, а на меня бросил такой хмурый взгляд, словно я был всего лишь какимнибудь низким плебейским распутником, каких обвивают сенаторские дочери на подобных вечеринках.
— Это Фабий Непот, — вполголоса сказала мне Елена, даже не подумав забрать у меня свою руку, чтобы хотя бы просто уберечь старика от высокого давления. — Очень влиятелен в Сенате. Он пожилой и консервативный; не склонен играть…
— Смотрит так, будто мы можем подумать, что он один из потенциальных предателей, который, не получив должного впечатления, рано уходит домой!
Вдохновленные, мы поспешили в приемную поменьше, которая была украшена изображениями коринфских колонн, театральными масками, павлином, чтобы удовлетворить вкусу большинства, и возвышающимся дельфийским сосудом на трех ножках, чтобы добавить немного культуры для всех остальных. Крайне серьезный мужчина с бородой говорил о философии. Казалось, что он сам себе верил. Люди, которые удостоились чести услышать его выдуманную диссертацию, похоже, думали, что тоже поверят ему, — только природа не дала им необходимых средств, чтобы поймать его волну.
Я слышал его слова. Они показались мне ерундой.
Когда мы снова заглянули в триклиний, там сидела печальная Эмилия Фауста наедине с собой, перебирая струны кифары. Мы вышли, пока она нас не заметила, вместе безжалостно хихикая. Далее мы обнаружили длинный коридор с каменными скамейками для ожидающих клиентов, где стояли брат Фаусты и группа одинаково аккуратно постриженных аристократов с чашами вина, наблюдавших, как молодые слуги играют в кости на полу. Руф удивился, увидев нас, но не предпринял никаких попыток позвать Елену, так что я помахал ему, и мы поспешили дальше.
Казалось, Елена была не в том настроении, чтобы спокойно вернуться к нему. Сейчас ее дух был на подъеме. Она энергично шла впереди меня, распахивая двойные двери и быстро оглядывая присутствующих, словно и не замечала сквернословия пьяных или двигающихся человеческих парочек, которые сплелись с целью получения удовольствия. Как я тогда заметил, это был не тот пир, куда можно было бы взять с собой тетушку Фебу.
— Думаю, тетушка бы с этим справилась, — не согласилась Елена. Если говорить о моей собственной тетушке Фебе, то она, возможно, была права. — Но будем молиться, чтобы твоя мама никогда не узнала, что ты сюда приходил!
— Я скажу, что это ты меня привела… — внезапно улыбнулся я. Я заметил в ее внешности приятную перемену. — Ты вымыла волосы!
— Много раз! — призналась Елена. Потом она покраснела.
В одной из колоннад музыканты, приехавшие с испанскими танцовщицами, теперь бренчали и играли на флейтах для собственного удовольствия — примерно раз в шесть лучше, чем они играли для девушек.
Тем вечером фонтанам не везло. У одного из них в маленьком атрии с четырьмя колоннами мы увидели другого сенатора из триклиния, распластавшегося между двумя рабами, пока его невероятно, до беспамятства тошнило.
— Я не знаю, как его зовут, — сказала мне Елена. — Он много выпил. Это командующий мизенским флотом… — Пока он висел между рабами, мы некоторое время наблюдали за ним, наслаждаясь полнейшей недееспособностью командующего флотом.
После получаса безуспешных поисков мы оба остановились, досадно нахмурившись.
— О, это безнадежно!
— Не сдавайся; я его тебе найду… — Та часть меня, которая хотела фыркнуть, что я сам его найду, с радостью отступила перед второй частью, охваченной откровенной страстью. Когда у Елены Юстины от решимости горели глаза, она была восхитительна…
— Прекрати, Фалько!
— Что?
— Прекрати смотреть на меня так, — прорычала она сквозь зубы, — что у меня пальцы на ногах подгибаются!
— Когда я смотрю на тебя, то подругому не могу!
— Такое чувство, что ты собирался затащить меня в кусты…
— Я знаю места получше, — сказал я.
И потащил ее к пустой кушетке.
* * *
Как только я, наконецто, с удовлетворением обнял Елену, мне под ноги упал надоедливый пучок. Я приземлился на кушетку в грациозной позе, в которой любила видеть меня богиня судьбы — лицом вниз.
— Конечно! — воскликнула Елена. — У него отдельная комната! Я должна была об этом подумать!
— Что? Я чтото пропустил?
— Скорее, Фалько! Вставай и расправляй свой венок!
Две минуты спустя Елена снова привела меня в атрий, где она твердо по указаниям управляющего вычислила комнату для переодевания его господина. Через три минуты мы уже стояли в спальне с темнокрасным потолком, как раз в той части дома, что была обращена к морю.
Через пять минут после того, как мы вошли в его будуар, я узнал две вещи. Ауфидий Крисп носил костюм, который совершенно ясно выражал его амбиции: его парадное одеяние было густо выкрашено экстрактом тысячи морских раковин из Тира до насыщенного пурпурного оттенка, который, по мнению императоров, лучше всего подходил к цвету лица. Второе. Ему повезло больше, чем мне: когда мы вошли, на его кровати лежала связанной самая хорошенькая из танцовщиц. Ее роза была у него за ухом, а половина груди — у него во рту, пока он усердно бил в ее испанский тамбурин с захватывающей энергичностью.
Я подождал, пока он закончит. В моем деле вежливость всегда вознаграждается.
LII
Танцовщица проскочила мимо нас, унося свою розу, чтобы снова использовать ее гденибудь еще. По всей видимости, для нее это было быстро и привычно.
— Прошу прощения, сенатор; я отвлек вас от процесса?
— Честно говоря, нет!
Елена Юстина быстро села на стул, выпрямившись сильнее, чем обычно. Она могла бы подождать снаружи, хотя я был рад, что она осталась посмотреть, как я справлюсь. Крисп взглянул на нее без особого интереса, потом устроился в кресле, расправил свои пурпурные складки, снова просунул голову через лавровый венок, и уделил внимание мне.
— Сенатор! Я бы поблагодарил вас за приглашение на этот совершенно особенный пир, но я пришел с Эмилией Фаустой, так что «приглашение» — это не совсем то слово! — Он слегка улыбнулся.
Криспу было около пятидесяти пяти, но он обладал неутомимым мальчишеским взглядом. У него было смуглое лицо со слегка тяжелыми, но красивыми чертами, а также прекрасный ряд ровных зубов, которые, казалось, он отбеливал порошком из рога. Мужчина показывал их при любой возможности, чтобы подчеркнуть, какие это потрясающие зубы, и как их у него все еще много. Под венком, который он носил с таким видом, словно в нем родился, я заметил, как аккуратно парикмахер уложил ему волосы. Возможно, в тот же день, судя по жирному запаху галльской помады, который наполнял комнату.
— Что я могу для вас сделать, молодой человек? Вопервых, кто ты?
— Марк Дидий Фалько.
Он задумчиво подпер подбородок.
— Ты тот Фалько, который отправил домой моего друга Мения Целера с разноцветными синяками и болью в животе?
— Возможно. А может, ваш Целер просто поел плохих устриц и врезался в стенку… Я личный осведомитель. И один из посыльных, кто пытался доставить вам письмо от Веспасиана.
Когда он напрягся в кресле, атмосфера накалилась.
«Ты мне не нравишься, Фалько! Разве это не то, что я должен сказать? Тогда ответь чтонибудь типа: Все в порядке, сенатор; ваше мнение не так много значит для меня!» Тут я увидел, что это будет совсем не то, что убеждать верховного жреца Гордиана; Крисп собирался получить от нашего разговора настоящее удовольствие.
— Полагаю, вы сейчас вышвырнете меня отсюда, сенатор?
— Почему? — Он рассматривал меня с некоторым интересом. — Я понял, что ты осведомитель! Какие качества для этого требуются?
— О, рассудительность, предусмотрительность, конструктивные идеи, умение брать на себя ответственность, надежность под давлением — а также умение сбрасывать мусор в канализацию, прежде чем он привлечет общественное внимание.
— Почти те же, что и для управляющего! — вздохнул он. — Фалько, с какой целью ты здесь?
— Выяснить, в
чем вы замешаны — что более или менее очевидно!
— О, правда?
— Существует множество государственных должностей, на которые вы могли бы претендовать. Для всех нужна поддержка императора — всех, кроме одной.
— Какое шокирующее предположение! — весело сказал Крисп.
— Простите — но у меня вообще шокирующая работа.
— Возможно, мне следует предложить тебе работу получше? — попробовал он, хотя со скрытым юмором в голосе, словно смеялся над собственной попыткой.
— Я всегда открыт для предложений, — сказал я, не глядя на Елену. Крисп снова улыбнулся мне, хотя я не заметил, чтобы посыпались какиенибудь грандиозные предложения.
— Ладно, Фалько! Я знаю, что Флавий Веспасиан подсунул Гордиану; что он предлагает мне? — То, что Крисп называл императора так, словно он все еще был обычным гражданином, четко выражало его неуважение.
— Как вы узнали о Гордиане, сенатор?
— По одной вещи: если венок, который сейчас на тебе, ты получил сегодня вечером у меня, то он пришел в той партии, которую я перевозил вдоль побережья из Пестума.
— Пестум, а! А кто еще, кроме разговорчивого продавца венков, распространяет слухи, что Гордиан собирается в Пестум?
Изза моего настойчивого возвращения к вопросу я заметил, как вспыхнули глаза Криспа, которые были достаточно карими, чтобы соблазнять женщин, хотя располагались слишком близко друг к другу, чтобы быть классически правильными.
— Он сам мне рассказал. Он написал мне о смерти его брата… — Крисп замолчал.
— Чтобы предупредить вас! — Барнаб.
— Чтобы предупредить меня, — мягко согласился он. — Ты пришел, чтобы сделать то же самое?
— Частично, сенатор; и чтобы поговорить.
— О чем? — взорвался он пренебрежительным тоном. Я вспомнил, что Криспу принадлежала половина Лация, вдобавок к его дорогому парадному наряду и изящному кораблю. — У Веспасиана нет денег. У него никогда не было денег; этим он и знаменит! Известно, что в течение всей своей государственной карьеры он был по уши в долгах. Будучи правителем Африки — самый благодатный пост в империи — он так катастрофически растратил все средства, что ему пришлось торговать александрийской сырой рыбой… Сколько он тебе платит, Фалько?
— Мало! — улыбнулся я.
— Тогда почему ты его поддерживаешь? — промурлыкал Крисп. Мне показалось, с ним легко разговаривать, возможно, потому что я считал, что его трудно обидеть.
— Я не особо его поддерживаю, сенатор. Хотя это правда, что я предпочел бы видеть во главе Рима человека, которому когдато приходилось задавать своему счетоводу хитрые вопросы, прежде чем управляющий смог оплатить счет мясника, чем какогонибудь сумасшедшего, как Нерон, который вырос, считая себя сыном и внуком богов, и думал, что ношение пурпура дает ему полную власть потакать своему тщеславию, казнить понастоящему талантливых людей, разорять казну, сжигать половину Рима — и заставлять зрителей за их же деньги проводить в театрах все дни напролет!
Крисп смеялся. Я и не надеялся, что он мне понравится. Я начинал понимать, почему все говорили мне, что он опасен; известные люди, которые смеются над твоими шутками, опаснее самого страшного преступника.
— Я никогда не пою на публике! — любезно уверил меня Крисп. — Достойный римлянин берет на работу профессионалов… Видишь ли, с моей точки зрения, — объяснял он, медленно убеждая меня, — после смерти Нерона мы видели Гальбу, Отона, Вителлия, Веспасиана, не говоря уже о многочисленных претендентах, кому даже не удалось пристроить на трон свой зад. И единственное, что делало каждого из них лучше других — например, лучше меня! — это то, что им просто повезло, поскольку в то время они занимали государственные посты, имевшие вооруженную поддержку. Отон склонил на свою сторону Преторианскую гвардию, в то время как все остальные оставались в провинциях, где легионы, которыми они командовали, были вынуждены превозносить их собственного правителя до небес. Так что если бы у меня была возможность находиться в Палестине в «год четырех императоров»…
Крисп замолчал. И улыбнулся. И разумно оставил недосказанными какиелибо заявления о государственной измене.
— Я прав, Фалько?
— Да, сенатор, — что касается одного вопроса.
— Какого? — спросил он, все еще крайне любезно.
— Того, где ваш политический ум — который кажется вполне здравым — должен подсказать вам то, что приходится признать нам всем: этот жестокий круг событий достиг своего естественного завершения. Рим, и Италия, и империя истощены гражданской войной. С согласия общества, Веспасиан — это кандидат, который победил. Так что хотел ли ктонибудь еще теоретически бросить ему вызов, на практике это больше не имеет значения. Со всем должным уважением к вам, сенатор! — заявил я.
На этом Ауфидий Крисп поднялся, чтобы налить себе вина которое стояло на столе. Я отказался. Он налил Елене, не спросив ее.
— Это не та женщина, с которой ты пришел! — сатирически сказал он мне.
— Нет, сенатор. Эта великодушная девушка согласилась помочь мне найти вас. Она хорошо играет в жмурки.
Елена Юстина, которая до этого момента ничего не говорила, отставила нетронутую чашу с вином.
— Девушка, с которой пришел Дидий Фалько, моя подруга. Я никогда не расскажу Фаусте о нашем разговоре, но я очень беспокоюсь о ваших намерениях в отношении ее.
Казалось, Криспа поразила эта женская инициатива, но вскоре ему удалось ответить с такой же откровенностью, которую он продемонстрировал мне:
— Возможно, заманчиво будет пересмотреть мое отношение!
— Это я вижу! Гипотетически, конечно, — продолжала Елена.
— Конечно! — насмешливо перебил он обходительным тоном.
— Мужчина, имеющий виды на Палатин, мог бы задуматься над тем, что Эмилия Фауста родом из хорошей семьи, среди ее предков был консул, а ее брат обещает удвоить доброе имя. Ее лицо смотрелось бы достойно на оборотной стороне серебряного динария; она довольно молода, чтобы произвести на свет целую династию, достаточно преданна, чтобы предотвратить любой скандал…
— Слишком преданна! — воскликнул Крисп.
— В этом ваша проблема? — вмешался я.
— Была. Конечно, и сейчас тоже.
— Зачем вы пригласили ее ужинать вместе с вами? — донимала его Елена.
— Потому что я не видел причины унижать эту девушку. Если вы ее подруга, то постарайтесь объяснить ей, что я мог бы жениться ради политики — но если бы не было такой напористости с ее стороны и полного ее отсутствия с моей. — Он сдержался, чтобы не вздрогнуть, но только на мгновение. — Наш брак стал бы катастрофой. Ради нее самой брат Эмилии Фаусты должен отдать ее комунибудь другому…
— Это было бы крайне несправедливо по отношению к другому бедняге. — Елена откровенно считала Криспа эгоистом. Может, он им и был; может, ему следовало попробовать — и потопить их обоих в семейных страданиях, как поступил бы любой другой. — Что вы будете делать? — тихо спросила девушка.
— В конце приема отвезу ее домой в Геркуланум на своем корабле. Любезно скажу ей наедине, что не могу связывать ее. Не беспокойтесь. Она не расстроится; она мне не поверит; да и раньше никогда не верила.
Его бойкость закрыла тему, хотя никто из нас не возражал ее закончить. Нас всех смутило незавидное положение Эмилии Фаусты.
Я поднялся со стула и достал из туники письмо, которое носил столько недель. Крисп улыбнулся, заметно расслабившись.
— Любовное письмо Веспасиана?
— Оно самое. — Я отдал его. — Прочитаете его, сенатор?
— Возможно.
— Он хочет, чтобы я привез от вас ответ.
— Логично.
— Вам, наверное, понадобится время, чтобы подумать об этом…
— Либо ответа не будет совсем, либо я сообщу тебе сегодня.
— Спасибо, сенатор. Тогда, если можно, я подожду в колоннаде на улице.
— Конечно.
Крисп поделовому относился к подобным вещам. У этого человека был талант. Говоря о проблеме Фаусты, он показал, что обладал сочувствием, а это встречалось редко. Также у него были здравый смысл, хорошее чувство юмора, организаторские способности и четкий стиль. Он был вполне прав; достоин Флавиев. У семьи Веспасиана за плечами были годы государственной службы, однако эти люди все еще казались недалекими и простоватыми там, где этот городской привлекательный персонаж никогда бы таким не стал.
Он мне нравился. Главным образом потому, что, в сущности, не давал воспринимать себя всерьез.
— Я хочу спросить тебя еще об одном, Фалько.
— Спрашивайте.
— Нет, — сказал Ауфидий Крисп, холодно взглянув на Елену. — Я спрошу, когда эта девушка выйдет.
LIII
Елена Юстина бросила на нас обоих пренебрежительный взгляд, потом выскочила из комнаты — как девушкатанцовщица, только более агрессивно и без розы.
— Ненавидит секреты, — извинился я.
— Ты ухаживаешь за ней? — Его глаза сузились в том полусерьезном взгляде, которым он пользовался, забавляясь тем, что манипулировал людьми. — Возможно, я могу все устроить…
— Чудесное предложение, но девушка не посмотрит на меня!
Он улыбнулся.
— Фалько, ты странный тип для роли посланника императорского дворца! Если Флавий Веспасиан написал лично мне, то зачем посылать еще и тебя?
— Он берет на работу профессионалов! О чем вы хотели меня спросить? И почему не в присутствии девушки?
— Это касается ее мужа…
— Бывшего мужа, — поправил я.
— Пертинакс Марцелл; развелся с ней, как ты сказал… Что тебе известно о Пертинаксе?
— Высокие амбиции и недалекий ум.
— Не твой тип? Недавно я видел сообщение о его смерти, — прошептал Крисп, задумчиво посмотрев на меня.
— Да.
— Это так?
— Ну, вы же видели сообщение!
Он уставился на меня, словно я сказал нечто такое, что могло быть неправдой.
— Пертинакс участвовал в деле, о котором я коечто знаю, Фалько. — Роль самого Криспа в заговоре так и не была доказана, и вряд ли я ожидал, что он в чемто сознается. — Некоторые люди собрали существенные средства — мне интересно, у кого они сейчас?
— Государственная тайна, сенатор.
— Это значит, что ты не знаешь или не скажешь?
— Одно или другое. Сначала вы скажите, — прямолинейно спросил я, — зачем вам это знать?
Крисп засмеялся.
— Да ладно!
— Простите меня, сенатор; но у меня есть дела получше, чем сидеть на стуле под лучами солнца и ждать у моря погоды. Давайте начистоту! Деньги тайно хранил на складе со специями человек, который, по всей видимости, исчез — дядя Елены Юстины.
— Неправда! — протестовал Крисп. — Он мертв, Фалько.
— Правда? — Мой голос заскрипел, как только я снова почувствовал тот запах разлагающегося тела, которое я сбросил в канализацию.
— Не нужно играть. Я знаю, что он мертв. Этот мужчина носил кольцо; ужасный огромный изумруд, довольно безвкусный. — Даже на свой банкет Крисп не надел украшений, за исключением одной плоской печатки с ониксом, хорошего качества, но скромной. — Он никогда его не снимал. Но я видел эту вещь, Фалько, мне показывали ее сегодня вечером, здесь.
Я не сомневался. Крисп говорил об одном из колец, которые Юлий Фронтин, глава преторианцев, стащил с распухших пальцев трупа со склада. Камея, которую я потерял.
Значит, пока мы были в Риме, Барнаб нашел ее. И, должно быть, Барнаб этим вечером был в Оплонтисе.
Быстро соображая, я понял, что Крисп все еще надеялся присвоить себе ту кучу слитков, которую собрали заговорщики, и намеревался использовать ее в собственных дальнейших целях. Половины Лация и сказочного корабля, наверное, недостаточно, чтобы обеспечить расположение всех провинций, сената, Преторианской гвардии и оживленной толпы на форуме…
В надежде убедить его отказаться от своих планов, я огласил то, о чем подозревал:
— Курций Гордиан хотел предупредить вас, что вольноотпущенник Пертинакса Барнаб превратился в вольнонаемного убийцу. Он был здесь сегодня, не так ли?
— Да, был.
— Что ему нужно? — спросил я, стараясь голосом не выдать эмоций. — Пытался втянуть вас в качестве мецената в это его торговое дельце?
— Мне кажется, ты не понял меня, Фалько, — заметил Крисп в своей любезной милой манере.
Он посмотрел на меня. Я оставил эту тему, как дурак, который случайно нашел разгадку, но не понимает ее значения.
Я не понимал ее, это правда. Но я никогда не был дилетантом, для которого собственные сомнения станут поводом сдаться.
Я начал подозревать, что какое бы место ни занимал ввоз зерна в этой головоломке, Ауфидий Крисп имел к этому какоето отношение. Интересно, сделал ли он, и, возможно, Пертинакс перед смертью какойнибудь личный вклад в первоначальный заговор — добавил ли дополнительную хитрость, свою собственную? Действительно ли Крисп до сих пор надеялся добиться цели? Правда ли Барнаб приходил сегодня с желанием воскресить тот план, который был у мошенника Криспа с его господином? И неужели искренний, готовый помочь, честный посредник Крисп потом решил, что лучше пусть Барнаб расскажет мне историю своей жизни в какойнибудь сырой тюремной камере?
— Вы знаете, что Барнаба сейчас разыскивают за убийство Лонгина? Вы выдаете его, сенатор?
Я знал, что под маской вежливости Ауфидий Крисп был опасным человеком и, как большинство таких, мог так же быстро устранить любые трудности среди своих союзников, как и уничтожить противника. На самом деле, даже быстрее.
— Поищи в вилле Марцелла, — предложил он без всякой задней мысли.
— Я так и думал! У меня не было оснований обыскивать то место, но если это уверенная подсказка, то я смогу взять вольноотпущенника…
— Мои подсказки всегда уверенные, — посвоему элегантно и легко улыбнулся Ауфидий. Потом его смуглое лицо стало более серьезным. — Хотя думаю, Фалько, ты должен быть готов к неожиданностям!
Крисп закончил разговор. Он держал неоткрытое письмо Веспасиана, и я горел желанием оставить его одного, чтобы он мог прочитать этот древний лист папируса, пока не потускнели чернила и его не прогрызли жуки. Я открыл дверную задвижку и остановился.
— Что касается вашего друга Мения Целера. Я ударил его, потому что он приставал к девушке.
— Таков Мений! — пожал плечами Крисп. — Он не хотел ее обидеть.
— Скажите это девушке! — резко ответил я.
Крисп удивился.
— Дочери Камилла? Она выглядела…
— Безупречно; она всегда так выглядит.
— Это официальная жалоба?
— Нет, — терпеливо проворчал я. — Я просто объяснил, почему я ударил вашего дорогого друга!
— Так какое ты имеешь к этому отношение, Фалько?
Я не мог объяснить.
Крисп был умным, успешным коммерсантом. В соперничестве с Флавиями я мог бы легко поддержать его. Но я знал, что безжалостный старомодный Веспасиан, который был согласен со мной в том, что женщин нужно затаскивать в постель только с их радостного согласия, неодобрительно смотрел бы на пьяного Мения и его так называемые безобидные выходки. Я выяснил, что мужчины, которые разделяли мои взгляды на женщин, были самыми успешными в политике. Это означало, что Ауфидий Крисп только что потерял мой голос.
Не было смысла дальше продолжать разговор; я вышел.
LIV
Елена исчезла. Я хотел найти ее, но сказал Ауфидию Криспу, что буду ждать в колоннаде.
Без какойлибо особой причины я пошел прогуляться вдоль веранды, которая находилась подальше от основной части дома. Я остановился только тогда, когда до меня перестали доноситься человеческие звуки. Там в тени светило лишь несколько отдельных ламп.
Я стоял в тишине и слушал, как морская вода, ударяясь о причал, врывалась в залив. Из того, что Крисп назвал меня странным для роли посланника, я понял, что хотя он во время нашей беседы казался вполне благожелательным, этот человек презирал меня. Поскольку Веспасиан взял меня на работу, Крисп презирал и его.
Мне стало слишком тяжело осознавать, что я неспособен повлиять на Криспа. Я потерял всю веру в себя. Мне нужен был друг, который меня утешит, но сейчас, когда Елена ушла, я был совсем одинок.
Вдалеке послышались резкие шаги. Из комнаты появился Крисп. Он стоял перед главным зданием; я находился в одном крыле, с противоположной от моря стороны. Я видел его, но Крисп был слишком далеко, и я не успел догнать его, когда он уходил.
Я мог бы окликнуть сенатора. Не было смысла. Он даже не пробовал поискать меня. Крисп принял свое решение: Веспасиан не получит ответа на свое письмо. Я подумал, что этого человека можно заставить отказаться от цели; но если так, то очевидно, посланником, который справится с этой хитрой задачей, буду не я.
Я никогда так легко не сдавался. Я отправился за ним.
За время моего отсутствия в доме воцарился еще больший беспорядок. Я не нашел ни одного человека в трезвом уме, чтобы спросить, в какую сторону направился Крисп. Подумав, что он, наверное, пошел забрать Эмилию Фаусту, я вернулся в триклиний, где видел ее в последний раз. Она сидела там, все еще с одиноким видом; Криспа не было.
На этот раз Фауста меня заметила.
— Дидий Фалько!
— Госпожа… — Я перешагнул лежащие фигуры нескольких молодых людей, которые этим вечером веселились больше, чем могли выдержать их аристократические тела. — Ты не видела Криспа?
— В последнее время нет, — призналась Фауста, пристально посмотрев на меня, что выдавало ее подозрения относительно танцовщиц. Сам чувствуя себя неудачником, я присел, чтобы пообщаться с ней. — Ты выглядишь расстроенным, Фалько!
— Так и есть! — Я уперся локтями на колени, потирая глаза. — Я заслужил отдых; я хочу домой; мне нужна любящая женщина, которая уложит меня в постель с чашкой молока!
Фауста засмеялась.
— С мускатным орехом или корицей? Молоко?
Я тоже неохотно засмеялся.
— Наверное, с мускатным орехом.
— О, да. Корица становится зернистой, если загустеет… — У нас не было ничего общего. Шутки иссякли.
— Ты не видела Елену Юстину? — Я беспокоился. Я хотел посоветоваться с Еленой о том, что случилось после ее ухода.
— О, Елена ушла с моим братом. У них там чтото слишком личное, чтобы делать это при свидетелях! — игривым тоном предупредила меня Фауста, когда я собирался встать. У меня в горле вырос ком; я старался не обращать на него внимания. Сестра магистрата улыбнулась мне так вкрадчиво, что мне показалось, словно она голодный морской анемон, а я выброшенная креветка. — Елена Юстина не скажет тебе спасибо, если ты им помешаешь…
— Она к этому привыкла. Я раньше на нее работал.
— О, Фалько, не будь таким наивным!
— Почему? — выдавил я, все еще поддерживая беседу. — Что у нее за тайны?
— Она спит с моим братом, — заявила Фауста.
Я ей не поверил. Я хорошо знал Елену Юстину. Было много мужчин, на которых Елена могла пролить свой чудесный свет, но я был абсолютно уверен, что блестящие, белокурые, стройные, успешные магистраты — которые бросали своих спутниц на званых ужинах — не в ее вкусе.
В этот момент Елена и Эмилий Руф вместе вошли в комнату.
И тут я поверил.
LV
Он крепко обнимал ее рукой. Либо Елене по какойто причине нужна была поддержка, либо магистрату просто нравилось ее обнимать. Я не мог его винить; мне самому нравилось обнимать Елену.
Когда Руф появился в дверях — великолепный в своем шафрановом парадном одеянии, — он склонил к Елене золотистую голову и прошептал чтото интимное. Чтобы выйти из комнаты, мне пришлось бы проскочить мимо них, так что я остался на месте, опустив голову. Потом Елена обменялась с Руфом репликами, и он подал мне знак.
Я хладнокровно подошел. Эмилий Руф издевался надо мной своей легкой, бессмысленной улыбкой. Я сдерживался, чтобы не расквасить ему лицо. Не стоило ранить кулак. Если это именно то, чего хотела девушка, то не имело смысла устраивать сцену. У него было высокое положение (что меня не волновало), но у него также была Елена. Это хуже всего.
Елена стояла, молча потупив взгляд, а Руф взял инициативу в свои руки: сильная женщина, которая сделалась послушной перед мужчиной. Она только напрасно тратила себя на него. Хотя так делало большинство девушек.
Руф заговорил:
— Я прошу тебя быть время от времени личным охранником Елены; сейчас ты ей нужен. — Своей ленивой манерой он пытался загладить одно происшествие, о котором я тогда был не в настроении говорить.
Я ненавидел, когда со мной разговаривали свысока.
— У меня слишком много более важных обязанностей, — упрямо отказал я.
Елена знала, когда я злился, особенно на нее.
— Дидий Фалько! — официально обратилась она ко мне. — Мы сегодня здесь коечто слышали; если это правда, то трудно поверить. Я должна поговорить с вами… — В комнату ворвалась толпа кутил, отпихнув нас всех троих в сторону. — Не здесь, — беспомощно нахмурилась Елена, пытаясь перекричать нахлынувший шум.
Я пожал плечами. Я все равно хотел уходить. Если Крисп собирался отвезти Фаусту домой на корабле, то он бросил меня до конца вечера.
Руф отпустил Елену.
— Я попрошу подать твой паланкин. Мы вышли из комнаты.
— Нашла того, кто тебя утешит, как я вижу! — усмехнулся я, обращаясь к Елене. При свете лампы ее глаза стали темными, словно оливки. Они встретились с моими, отражая нахлынувшую боль, которую вызвал мой грубый тон. Ее невысказанный упрек неожиданно обеспокоил меня.
Елена быстро пошла за магистратом; я зашагал следом. Когда мы вошли в атрий, Руф махнул, чтобы отдать приказ, после чего отошел к другой компании людей. Наверное, у них были продолжительные нерегулярные отношения, о которых мне горько было думать. Мы с Еленой ждали снаружи, где дул морской бриз и все казалось гораздо спокойнее.
Воздух был прохладным, хотя все еще приятным. Даже я мог признать, что залив Неаполя был одним из самых изящных географических изгибов на территории империи. Невероятно красивый от звезд. Я видел его сказочную привлекательность. Когда летние волны бились всего в нескольких шагах от меня, я даже мог представить, почему другие дураки так любили море.
Стояла мягкая, прекрасная ночь, и мне ничего не оставалось делать, кроме как разделить спокойствие и свет звезд с девушкой, находившейся рядом со мной — которая когдато была такой милой и нежной и загадочно доброй ко мне, но сегодня казалась самой собой — дочерью сенатора и любовницей магистрата, не имеющей ничего общего с букашкой типа меня.
Ее паланкина долго не было.
— Что произошло у Криспа? — без всяких эмоций спросила Елена, когда молчание стало неловким.
— Мне не удалось убедить его.
— Что он будет делать?
— Сложно сказать.
— Может, он сам еще не знает. — Елена говорила тихо, нахмурившись. Я дал ей возможность сказать. — Он такой. Принимает решение по прихоти, а потом быстро меняет его. Помню, как он говорил о лошадях с Пертинаксом: после долгого обсуждения, когда все решили, как будут делать ставки, Крисп тут же ставил на какуюнибудь другую лошадь… — Она замолчала.
— Он выигрывал? — пробормотал я, глядя на море.
— Нет, он вел себя глупо. Крисп обычно проигрывал деньги. Он даже не понимал, насколько хорошо Пертинакс разбирался в лошадях.
Несмотря на мое настроение, я заинтересовался разговором.
— Он не любил проигрывать?
— Нет. Крисп никогда не боялся потерять деньги — или ударить лицом в грязь.
— Это тоже похоже на азартную игру. У него нет того сильного чувства несправедливости или амбиций. По крайней мере, Гордиан продемонстрировал какуюто активность! Если худшее, на что может пожаловаться Крисп, это растрата денег Веспасианом в Африке, то этого человека определенно не одолевает маниакальная зависть… — Молчание Елены помогало мне прояснить этот вопрос для самого себя. — Его можно было склонить на свою сторону. Он талантлив и заслуживает поста. Но чтобы вызвать его, император послал не того человека. Крисп считает меня примерно столь же важным, как клок шерсти на овечьем хвосте; и он прав…
— Он не прав! — нахмурилась Елена, только наполовину думая о моих словах. — Ты сможешь убедить его. — Она вдруг повернулась и прислонилась ко мне сбоку. — О, Марк, я не могу вынести всего этого — Марк, обними меня! Пожалуйста, всего на минутку…
Я резко отодвинулся от Елены.
— Женщины, принадлежащие другим мужчинам, в определенной мере привлекательны — но, извини, я сегодня не в настроении!
Она стояла, выпрямившись, как копье, и я слышал ее глубокое потрясенное дыхание. Я сам был потрясен.
Пора ехать. Слуги Марцелла доставили паланкин. Руфа нигде не было видно.
— Мне нужно сказать тебе две вещи! — яростно прошептала Елена. — С одной я должна разобраться сама! Но я прошу тебя поехать со мной на виллу…
— А почему не твоего красивого друга?
— Потому что мне нужен ты.
— Почему я должен работать на тебя?
Она посмотрела мне прямо в глаза.
— Потому что ты профессионал и видишь, что я боюсь!
Я действительно был профессионалом. Елена никогда это не забывала. Иногда мне бы хотелось, чтобы забыла.
— Хорошо. Цена как обычно, — мягко ответил я. — Правила те же, что и раньше: когда я говорю тебе, что делать, — не спорь, просто выполняй. И чтобы хорошо делать свою работу, мне нужно знать, что тебя напугало…
Елена сказала:
— Призраки!
Потом она направилась к паланкину, не оглядываясь назад, поскольку знала, что я пойду за ней.
* * *
Паланкин был одноместным. Мне пришлось шагать две мили до виллы следом за ним, по пути пережевывая свою злость изза Руфа.
У Елены было четверо носильщиков и двое толстых мальчиков с фонарями. Все они начали смотреть на меня так, словно точно знали, почему ее светлость взяла меня с собой. Поднимаясь на гору, мы прошли множество мест, где можно было остановиться и полюбоваться панорамой, и я скрипел зубами, чувствуя презрение носильщиков, когда мы продолжали идти без остановки, и они поняли свою ошибку.
В доме было тихо.
— Давай, я пойду первым… — Я снова был ее телохранителем, крепко держал ее, помогая выйти из паланкина, оглядывался вокруг, когда мы заходили в портик, а потом в дом, и только после этого отпустил Елену. Поскольку мы находились за городом, не было необходимости держать привратника; огромные двери открывались легко, без всяких задвижек или замков.
— Пойдем со мной, Фалько; нам очень нужно поговорить…
Несколько керамических ламп в коридоре прогорело, но там никого не было. Елена Юстина поспешила наверх. Мы подошли к тяжелой дубовой двери, которая, как я подумал, вела в ее спальню. Взявшись за защелку, я посмотрел на ее печальное лицо и коротко сказал:
— Я не могу работать в плохой обстановке. Непрофессионально было грубить клиенту. Я извиняюсь. — Потом, не дожидаясь ответа, я открыл дверь и легким прикосновением руки подтолкнул девушку внутрь.
Там находился короткий коридор, где могли спать рабы, хотя Елена никогда не была из тех, кто ночью держал рядом с собой слуг. За закрытой занавеской в спальне горел свет, но когда я закрыл за нами дверь, то на расстоянии шести шагов была темнота. Я сказал чтото стандартное, типа: «Ты видишь, куда идти?» Когда Елена повернулась, чтобы ответить, она в темноте наткнулась на меня, так что мне пришлось быстро решать, стоило ли почтительно отступить назад или нет.
Решение пришло само собой. Это был долгий поцелуй, во время которого я с огромным усилием сдерживал свое непонимание, и если я действительно думал, что она спала с магистратом, то вам, наверное, интересно, зачем я это сделал.
Мне и самому стало интересно. Но я был не против показать девушке, что хотя она имела все, ей, возможно, больше понравится в крепких объятиях своего телохранителя…
Как раз когда я думал, что убедил ее, в комнате загремела металлическая лампа.
LVI
Кипя от негодования, Елена первая вбежала в комнату. Я заметил, как ктото пробирался через раздвижные двери: узкие ребра, тонкие ноги, светлые волосы и борода по контуру лица, одет в уже знакомую белую тунику. Я должен был поймать его; мы были одинаково удивлены, хотя я крайне разозлился изза того, что этот человек лежал тут и ждал девушку. Мне пришлось отпустить его. Пришлось, потому что когда Елена ворвалась в спальню, она вздохнула и упала в обморок.
Мне удалось поймать ее; она не ушиблась. Я поднял девушку, положил на кровать, схватил колокольчик и стал неистово трясти его, потом выбежал из комнаты посмотреть. Длинный балкон тянулся вдоль всего здания, откуда спускалось несколько лестниц на первый этаж и выходили двери во все комнаты наверху. Мужчина исчез. Я поспешил обратно во внутренний коридор и закричал, чтобы поднять тревогу.
Елена уже приходила в себя. Бормоча утешения, я склонился над ней, развязал пояс и расстегнул голубые бусы; она смущенно запротестовала. На ней также была тонкая цепочка, которая закрутилась вокруг шеи. Я распутал ее, ожидая увидеть амулет.
Глупости: Елена сама отводила дурной глаз. На цепочке висело мое серебряное кольцо. Она инстинктивно вырвала его у меня.
Услышав мой шум, в комнату начали врываться люди. Я протиснулся мимо них, вышел, предоставив Елене возможность все объяснить, и отправился за нашим преступником: я не сомневался, что это был Барнаб.
Я обежал конюшни, убежденный, что он скрылся именно там. С испуганным видом появился дрессировщик лошадей Брион. Он был мускулистым и довольно внушительного веса, но прежде чем он понял, что произошло, я схватил его за обе руки и ударил головой, толкнув на деревянный столб.
— Где он?
Его взгляд автоматически переместился на заграждение, где они держали скаковых лошадей. Я сорвался с места и тихо перебежал двор. Нервный чемпион, Ферокс, в панике взревел и ударил копытами в дерево, хотя его приятель, похожий на ершик для бутылок, увидев меня, радостно заржал. Я неистово огляделся по сторонам. Тут я понял: короткая деревянная лестница вела мимо шумных стойл на сеновал под крышей.
Не раздумывая, я поднялся наверх. Вольноотпущенник мог легко ударить меня по голове, пока я открывал решетку; к счастью, его там не было.
— О, ты очень мне помог!
Этот сеновал был самым хорошо обставленным из всех, что я когдалибо видел: украшенная резьбой кровать, стол из слоновой кости, купидон с прекрасной бронзовой патиной, державший лампу из раковины, полка с графинами, остатки обеда из трех блюд на серебряном подносе на столе, оливковые косточки, раскатившиеся, как кроличий помет, — какой неряха… Жильца не было.
Дьявольский зеленый плащ висел на гвозде рядом с кроватью.
Когда я спустился вниз, Брион успокаивал Ферокса.
— Ну, я все еще ищу Барнаба — только теперь я знаю, что он здесь!
Никаких сомнений, что работникам приказали молчать о присутствии вольноотпущенника. Брион хмуро посмотрел на меня.
— Он приходит и уходит. По большей части уходит; сейчас его нет.
Ферокс снова дико взбрыкнул, и Брион пожаловался, что я пугаю коня.
— Мы можем сделать все просто, Брион, — или нет?
— Я не знаю, где он, Фалько, может, разговаривает со стариком. Обсуждать его — дороже моей жизни…
— Насколько я знаю Барнаба, это правда!
Я убежал.
* * *
Я знал, что у меня не было шансов найти его, но если они со стариком были в открытом сговоре, то я подумал, что вольноотпущенник будет чувствовать себя безопаснее, если останется здесь.
Я проверил всю ферму, распугивая кур, потом обыскал дом. На этот раз я хотел дать всем понять, что я о нем знаю. Я вламывался в пустые гостиные, открывал чердаки, ворвался в библиотеку. Я перевернул спальни, нюхая воздух, чтобы понять, заходил ли в них ктонибудь в последнее время. Я трогал губки в уборных и считал, сколько из них были мокрыми. Я проверял, лежала ли на кушетках пыль. Никто из глупых рабов, которых я вытащил из помещений, не мог больше утверждать, будто они не знают, что в доме их господина находился худой мужчина с бородой и его разыскивал вздорный представитель императора. Они вываливали из комнат и стояли полуголые, пока вилла не наполнилась светом ламп: где бы он ни спрятался, должно быть, сейчас ему оттуда не выйти.
Я заставил их оттаскивать сундуки от каминов и переворачивать пустые бочки, которые стояли по углам. После моих поисков слугам потребуется неделя, чтобы привести дом в порядок. Не осталось ни единого тюка с грязной одеждой, не распоротого моим ножом, или мешка с зерном, не рассыпавшегося от моих пинков. Пакет с куриными перьями, который хранили, чтобы набивать матрацы, превратился в неимоверный беспорядок. Кошки с воплем улетали с моего пути. Голуби на крыше топтались в темноте и несчастно ворковали.
Наконец, я влетел в комнату, где в тишине сидели Елена с Марцеллом, пораженные устроенным мною разгромом. Вокруг груди Елена крепко завязала длинный шерстяной шарф. Я накинул еще одну столу ей на колени.
— Ты нашел его? — спросил консул, больше не притворяясь.
— Конечно, нет. Я здесь чужой; он, должно быть, знает вашу виллу вдоль и поперек. Но он здесь! Надеюсь, он лежит в печи, уткнувшись лицом в пепел и с лопаткой в ухе! Если этот человек собирается пугать вашу невестку, то я надеюсь, ктонибудь затопит печь, пока он там!
Я упал на одно колено перед Еленой Юстиной. Марцелл, должно быть, видел, как я смотрел на нее. Мне теперь было все равно.
— Не беспокойся; я не уйду!
Я чувствовал, как она сдерживала гнев, через мою голову обращаясь к Марцеллу дрожащим от негодования голосом.
— Невероятно! — Казалось, что она ждала моей поддержки, прежде чем наброситься на него. — Я не могу в это поверить! Что он делал в моей комнате?
— Глупости! Ты узнала его? — осторожно спросил консул.
— Должна была! — вспыхнула Елена. У меня появилось странное чувство, что ее слова больше были понятны Марцеллу, чем мне. — Мне кажется, он хочет поговорить со мной. Я не могу принять его сегодня — уставшая и потрясенная. Пусть придет завтра и о нем должным образом доложат…
Я резко поднялся.
— Девушка, так не пойдет!
— Не вмешивайся, Фалько! — Консул разразился плохо скрываемой злостью. — Тебе нечего здесь делать, я хочу, чтобы ты ушел!
— Нет; Фалько останется, — своим непоколебимым тоном заявила Елена. — Он работает на меня. — Молча, они внутренне пытались осознать это, потом Елена заговорила настолько спокойно, что Марцелл понял — она непреклонна.
Консул раздраженно ерзал.
— Елена здесь в безопасности, Фалько. Никто к ней больше не вторгнется.
Я хотел закричать, что Барнаб убийца, но решил не приводить его в двойное отчаяние, подчеркивая, что я это знаю. Елена слегка улыбнулась мне.
— Сегодня он совершил ошибку, но это ничем не грозило, — сказала она мне. Я перестал спорить. Роль личного охранника — защищать от нападений; объяснять их грязные мотивы — это дело либеральных философов.
Я указал Марцеллу на то, как Елена устала, и, учитывая то, что случилось ранее, не скрывал тот факт, что собирался проводить ее до комнаты.
Комната Елены была полна слуг. Ради ее безопасности я разрешил им остаться. Кроме того, сейчас все стало так серьезно, что лучше было не играть в красивые игры, как, например поцелуи в коридоре.
Я проводил девушку, потом радостно ей подмигнул. Давать возможность почувствовать себя в безопасности — это часть первоклассного обслуживания, которое я предоставлял.
— Ну, как в старые времена!
— Мне намного легче, когда ты здесь!
— Забудь. Тебе нужна защита. Мы поговорим завтра. Но готовься к тому, что я наложу вето на все твои просьбы встретиться с Барнабом.
— Я встречусь с ним, если придется… — Елена колебалась. — Есть коечто, чего ты о нем пока не знаешь, Марк…
— Расскажи мне.
— После того, как я с ним увижусь.
— Ты с ним не увидишься. Я не позволю, чтобы он снова к тебе приходил! — Она гневно вздохнула, потом затихла, как только ее яркие глаза встретились с моими. Я снисходительно покачал головой. — Ах, госпожа! Я никогда не смогу понять: действительно ли ты моя самая любимая клиентка — или просто самая придирчивая?
Елена щелкнула меня по носу, как будто я был надоедливым домашним животным. Я улыбнулся и оставил ее одну, все еще в золотистой сеточке, которая делала ее такой молоденькой и беззащитной. Служанки порхали вокруг нее, помогая приготовиться ко сну, и мне удалось поверить, что мы с Еленой Юстиной снова были в довольно хороших отношениях, что она с радостью распустит своих горничных и оставит меня.
Я всю ночь ходил у нее на страже. Она была к этому готова.
Барнаб больше не показывался, хотя я постоянно вышагивал по коридору, надеясь, что он услышит мой неустанный патруль.
LVII
На следующее утро я отвез Елену в Оплонтис и оставил ее с Петронием и Сильвией, пока ездил в Геркуланум забирать свои вещи.
— Ты, похоже, не в духе. Надеюсь, это не моя вина! — пробурчала Эмилия Фауста с девическим сарказмом. Я всю ночь не спал, а оттого, что вздремнул часок, пока Елена завтракала, стало только хуже. Я доехал сюда на телеге с навозом и чувствовал себя слишком раздраженным, чтобы выдержать обед у Эмилии из жидких яиц с солью.
Эмилия Фауста, которая хотела, чтобы весь мир узнал о том, что прошлой ночью ее доставил домой великий Ауфидий Крисп, притворно извинялась за то, что в трудную минуту бросила меня.
— Я не смогла тебя найти, Фалько, чтобы рассказать о моих планах…
— Я знал о твоих планах; Крисп рассказал мне о своих. — Не время было отвечать на подшучивания Фаусты. — Не беспокойся, — проворчал я. — Там было полно женщин, которые бегали за мной… Ты возвращалась домой на «Исиде», да? Надеюсь, не произошло ничего скандального?
Фауста возбужденно все отрицала, но выглядело это неправдоподобно. Я не представлял, чтобы холостяк, оставшийся наедине с ней на прогулочном судне, мог позволить себе упустить такой шанс.
— Госпожа, в будущем возьмите себе за правило: просто делайте то, что кажется вполне естественным, а потом извиняйтесь перед музыкантами!
К счастью, в тот момент кухня разразилась грохотом, так что Фаусте пришлось нестись туда и играть роль хозяйки дома. Эта женщина, видимо, могла накричать на кухарку. Я нахмурился ей вслед, думая о Елене Юстине. Казалось, если она увидит, что какаято глупая девчонка не может нормально почистить цветную капусту, то сама молча возьмет нож и продемонстрирует, как это делается… Потом я подумал, может, Елена нужна была Эмилию Руфу для того, чтобы жена поучила его повара.
Испытывая отвращение к Руфу, я вытянул свою зарплату из управляющего, а потом снова нашел Фаусту, чтобы попрощаться.
— Я буду скучать по моим урокам музыки! — весело уверяла она меня. Девушка схватила кифару, которую Крисп, должно быть, тоже привез на «Исиде», и начала водить медиатором, словно муза, которой дал урок Аполлон. Ей нужно было соответствовать своим стандартам. Я спросил с раздражающей живостью:
— Значит ли это, что Ауфидий Крисп все уладил? — Я все еще надеялся, что он пытался избавиться от Фаусты, но мое сердце упало; повидимому, с женщинами он был непостоянным.
Важным тоном Фауста прошептала:
— Если Ауфидию Криспу и суждено добиться величайшей славы, то, естественно, рядом с ним найдется место для императрицы…
— О, естественно, — проскрипел я. — Для когото столь великодушного, кто не станет возражать, когда он завлекает танцовщиц своим высоким постом! Он не добьется этого — потому что меня, например, скорее разорвут фурии, чем я позволю ему это сделать. Эмилия Фауста, если тебе нужно почетное положение в обществе, то ты могла бы получить гораздо больше, выйдя замуж за когонибудь типа Капрения Марцелла, особенно если подаришь ему ребенка… — Я хотел, чтобы Фауста со своим богатым воображением сама представила, как можно добиться великой роли матери ввиду плохого здоровья и преклонных лет консула, но у нее был такой самодовольный вид, что я мстительно произнес вслух: — Заполучи его подпись на договоре, а потом найди себе возничего или массажиста, который поможет тебе сделать старика очень счастливым — и приготовься к долгому и богатому вдовству!
— Ты отвратителен!
— Я всего лишь практичен.
Поглумившись над ней по поводу Криспа, я вывел Фаусту из равновесия. На нее снова навалилась неуверенность. Она склонила голову к кифаре, а ее светлые волосы в безупречном шиньоне напоминали новый твердый лак на прочной каменной статуе.
— Так значит, ты уходишь от меня… Мой брат сказал, что ты сейчас работаешь на Елену Юстину.
Мы уставились друг на друга, одновременно вспоминая, как Фауста в последний раз упомянула своего брата и Елену в одном предложении.
Я осторожно произнес:
— Мне кажется, ты допустила ошибку.
— Какую?
— Твой брат, — спокойно сказал я, — не путается с твоей подругой. — Я был в этом уверен. Магистрат позволил Елене уйти с банкета, только издалека помахав ручкой. А я знал, что если у Елены Юстины был любовник, то она целовала его на прощание.
— Тогда это должен быть ктото другой! — Эмилия Фауста не растеряла ни капли своей злобы. — Может быть, — предположила она, — это человек, от которого тебя попросили ее охранять?
Эта женщина вела себя смешно. Я не собирался тратить силы на споры с ней.
Все равно к тому моменту меня осенило, что новая клиентка поехала этим утром в Оплонтис слишком уж охотно. Я без особых трудностей вернулся туда. Я оказался прав. Елена Юстина была очень своенравна. В ту минуту, когда я удалился в сторону Геркуланума, она извинилась перед Сильвией, а сама отправилась обратно в виллу Марцелла.
Не было сомнений: она надеялась встретиться с Барнабом.
Я нашел Елену в вилле, когда она лежала на кушетке в тени и притворялась спящей. Я цветком пощекотал ее ногу. Она кротко открыла глаза.
— Или делай то, что я говорю, или я бросаю свою работу.
— Я всегда делаю то, что ты говоришь, Фалько.
— Делай — и не ври! — Я не захотел спрашивать, видела ли Елена вольноотпущенника, а сама она не сказала. В любом случае вокруг было слишком много слуг, чтобы как следует поговорить. Я лег и вытянулся рядом с изгородью. Я чувствовал себя ужасно уставшим. — Мне нужно поспать. Разбуди меня, если решишь уйти отсюда.
Когда я проснулся, Елена ушла в дом, ничего мне не сказав. Ктото нелепо прикрепил цветок к ремешку моего левого ботинка.
Я пошел в дом и отыскал ее.
— Девушка, ты невыносима! — Я бросил цветок Елене на колени. — Единственное, что я ценю в этой работе, — это возможность забыть о чтении лекций о диатонических гаммах.
— Ты
читаешь лекции обо всем. Тебе было бы лучше в Геркулануме учить играть на арфе?
— Нет. Мне больше нравится здесь защищать тебя — от тебя самой, как обычно!
— О, прекрати доставать меня, Фалько! — весело проворчала Елена.
Я улыбнулся ей. Это было прекрасно: моя любимая работа.
Я сел в нескольких шагах от нее, где сделал совсем другое выражение лица, чтобы соответствовать обстановке, и всем своим видом был готов прогонять мародеров, если какойнибудь из них рыскал здесь среди бела дня.
У преподавателя игры на арфе было единственное преимущество: для того, чтобы продемонстрировать игру, можно сесть прямо близко к молодой девушке, которую обучаешь, и обнять ее обеими руками. Я буду скучать по этому.
Возможно.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Июль
О, Галатея, приди! Какая в волнах тебе радость?
Здесь же пестреет весна, и земля у реки рассыпает
Множество разных цветов; белый склоняется тополь
Перед пещерой, и лозы сплетаются гибким навесом.
О приходи, и оставь ударяться о берег прибою…
Вергилий
LVIII
За исключением одного недостатка, виллу Марцелла можно посоветовать как местечко для отдыха. Она была хорошо обставлена, из ее окон открывались лучшие в империи виды, а при наличии нужных проживание было бесплатным. Все, что требовалось от гостя, это забыть, что он делил это изысканное поместье с убийцей. Хотя в этом отношении вилла была не хуже, чем любая ночлежка за два асса на этом заполоненном блохами побережье, где посетители обязательно зарежут тебя, пока ты спишь.
Я не собирался позволять Барнабу оставаться на свободе. В первый день я сходил в конюшню, пока Елена с консулом в безопасности обедали, окруженные своей армией рабов. Но Брион не стал секретничать.
— Он кудато уехал.
Заглянув в богатый сеновал, я в этом убедился: убежище вольноотпущенника казалось нетронутым, вплоть до оливковых косточек, которые высохли на вчерашней тарелке. Но вот зеленый плащ с гвоздя исчез.
— Куда он направлялся?
— Понятия не имею. Но он вернется. Что ему еще остается делать?
— Чтонибудь опасное! — воскликнул я, громче, чем сам того хотел.
* * *
Вторую ночь я провел на балконе перед комнатой Елены. Я не предупредил ее, но служанка принесла мне подушку; Елена все знала.
Мы вместе позавтракали на балконе, как родственники, приехавшие за город; очень странное чувство. Потом я снова проверил конюшню.
На этот раз я встретился с Брионом во дворе. У него был обеспокоенный вид.
— Он не приходил, Фалько; такого обычно не бывало.
Я выругался.
— Тогда он удрал!
Дрессировщик покачал головой.
— Это на него не похоже. Послушайте, я не дурак. Сначала он приехал сюда, но никто не должен был об этом знать. Потом приезжаете вы; я думаю, теперь он отчаялся…
— О, да! Мне нужна правда, Брион…
— Тогда дождитесь ее. Он вернется.
— Он заплатил тебе, чтобы ты это сказал? Ты его защищаешь?
— Зачем мне это? Я родился здесь; я считал себя членом семьи. Это моя ошибка! Неожиданно меня продали. Потом они выкупили меня обратно, но только чтобы ухаживать за лошадьми. Для меня это было двойным потрясением, и они никогда не говорили со мной об этом. О, у нас с ним всегда были хорошие отношения, — заявил Брион. — Но больше никогда не будет попрежнему. Так что поверьте мне. Он покажется.
— Потому что ему нужен старик?
Брион мрачно улыбнулся.
— Нет. Изза того, как сильно он нужен старику!
Он не объяснил.
* * *
Он действительно вернулся. И я нашел его. Но до этого много всего произошло.
Этим утром Елена Юстина дышала свежим воздухом в компании парня, который менял цветы в венке на герме на границе поместья. Я сопровождал их. Потом в поле зрения появилось два осла, которые везли Петрония Лонга, Аррию Сильвию и корзину, заполненную, насколько я разглядел, вещами для пикника: запланированная встреча.
Петроний жаждал вытащить меня выпить с того момента, как мы приехали. Это был его шанс. Он, должно быть, подумал, что праздничный карнавал както мне поможет.
Я был раздражен.
— Не смеши меня! Я ищу убийцу; он может появиться в любое время. Как же я пойду в горы…
— Не будь занудой! — подшучивала Елена. — Я еду, значит и тебе тоже придется. — Прежде, чем я успел возразить, она отправила парня домой, уговорила меня сесть на осла и забралась сзади меня. Елена взяла меня за пояс. Я взялся за свое самообладание.
Это был тихий туманный день с безобидной дымкой, которая на побережье Кампании означала, что позднее будет сильная жара. Наш маршрут выбрал Петроний. Мой осел оказался ужасно неуклюжим, что добавляло веселья.
Мы ехали вдоль темночерной пашни на низких склонах, потом через цветущие виноградники, которые тогда покрывали гору почти до самой вершины, естественным образом делая Вакха своим богомпокровителем. Пока наш путь вился все выше и выше к разреженному воздуху, дикий ракитник все еще продолжал цвести. В то время Везувий был гораздо более величественным, чем сейчас. Вопервых, он был в два раза больше — спокойная, роскошная, богато возделанная гора, хотя на вершине существовали древние тайные места, куда ходили только охотники.
Петроний Лонг остановился на дегустацию у придорожного виноторговца. Я не хотел пить. Я сказал, что всегда мечтал подняться наверх и посмотреть ущелья на самой вершине горы, где Спартак, восставший раб, победил войско консула и почти разгромил государство; я тоже пребывал в том старом добром настроении разгромить государство.
* * *
Елена отправилась со мной.
Пока ослы могли идти нормально, мы ехали на них, двигаясь наверх через спутанные кусты, где, насколько я знал, часто встречались кабаны. Мы оба слезли с осла, привязали Неда, а потом отправились исследовать последний отрезок дороги до вершины. Идти было трудно, Елена остановилась.
— Тебе тяжело?
— Я устала… Ты иди дальше; я подожду с ослом.
Она вернулась. Я пошел дальше. Я думал, что хочу побыть один, но как только Елена ушла, почувствовал себя одиноко.
Я быстро добрался до вершины, огляделся вокруг, решил, что исторические исследования не стоили таких усилий, и стал пробираться обратно вниз к Елене.
Она расстелила плащ, села, расстегнула сандалии и задумалась. Когда девушка оглянулась, я намеренно дал ей понять, что заметил это. На ней было надето бледнозеленое платье, которое показывало, что ей было, что показать. Волосы, разделенные на пробор и заплетенные так, как мне сразу понравилось, лежали над простыми золотыми серьгами. Если Елена и красилась, то это было совсем незаметно. К сожалению, я не мог убедить себя, что она сознательно планировала произвести на меня столь яркое впечатление.
— Ты дошел до вершины? Как там?
— О, пик в форме конуса с огромной каменистой впадиной и гигантские расщелины, в которых полно дикого виноградника. Должно быть, именно так восставшему войску удалось уйти, когда Красс преследовал их…
— Спартак — твой герой?
— Любой, кто борется с правящими кругами, — мой герой. — Ничто из этого меня тогда не интересовало, так что я был немногословен. — Ну, а к чему эта веселая прогулка?
— Возможность поговорить с тобой наедине…
— О Барнабе?
— И да и нет. Я видела его вчера, — призналась Елена. Ее сдержанность предотвратила мою грубость. — Все было совершенно цивилизованно; мы посидели в саду, и я ела медовые пирожные. Он хотел встретиться со мной. Вопервых, у него нет денег…
Это меня разозлило.
— Ты развелась с его хозяином. Он не имеет права выжимать из тебя деньги!
— Нет, — сказала она после странной паузы.
— Ты не давала ему денег? — придирался я.
— Нет. — Я ждал. — Ситуация очень сложная, — сказала Елена все тем же усталым голосом; я продолжал смотреть на нее. — Но у меня самой, возможно, не так много средств…
Я не мог представить, чтобы у Елены Юстины были финансовые затруднения. По женской линии она унаследовала землю, потом после развода с Пертинаксом ее отец отдал ей часть приданого, возвращенного ее мужем. И сам Пертинакс завещал ей маленькое состояние в виде дорогих пряностей. Так что она считалась богаче большинства женщин, и Елена Юстина была не из тех, кто мог растратить все на диадемы или раздавать тысячи на какиенибудь сомнительные религиозные секты.
— Я не вижу, чтобы тебе не хватало денег, если только ты не собираешься флиртовать с танцором с очень большими запросами!
— Ну ладно… — Она упорно закрывала эту тему. — Теперь ты скажи мне коечто. Что такого произошло в вилле, что тебя так сильно расстроило?
— Ничего особенного.
— Чтото связанное со мной? — настаивала она.
Я никогда не мог противиться серьезности Елены; я резко выдал:
— Ты спишь с Эмилием Руфом?
— Нет, — сказала она.
Она могла бы ответить: «Конечно, нет; не будь дураком». Это звучало бы гораздо сильнее, хотя меньше убедило бы меня.
Я поверил Елене.
— Забудь, что я спрашивал. Слушай, в следующий раз, когда ты будешь есть медовые пирожные с Барнабом, я буду прятаться за беседкой. — Ее молчание мне не понравилось. — Милая девушка, он беглец…
— Сейчас уже нет. Позволь мне разобраться с ним. Ктото должен вернуть его к реальности…
Меня поражала ее любовь к упрямству во всем.
— Елена Юстина, ты не можешь взять на себя все проблемы империи!
— Я чувствую свою ответственность… — Когда она спорила со мной, выражение ее лица оставалось странно отстраненным. — Не приставай ко мне, у меня куча других проблем…
— Каких проблем?
— Никаких. Сделай свою работу для императора, а потом мы сможем уделить внимание Барнабу.
— Моя работа может подождать; я забочусь о тебе…
— Я сама могу о себе позаботиться! — внезапно взорвалась Елена, удивляя меня. — Всегда. Мне придется — и я это хорошо понимаю!
Я почувствовал, как сжались мои челюсти.
— Ты говоришь ерунду.
— Нет, я говорю правду! Ты ничего обо мне не знаешь; и никогда не хотел узнать. Живи, как тебе хочется, — но как ты мог сказать такое про Руфа? Как ты мог такое подумать?
Я никогда не видел Елену такой обиженной. Я так привык нападать на нее, что не заметил, как неожиданно закончилось ее терпение.
— Слушай, это было совсем не мое дело…
— Все, что касается меня, не твое дело! Уходи, Фалько!
— Ну, похоже, такой приказ можно понять! — Я чувствовал себя настолько беспомощным, что тоже вышел из себя. Я грубо прогремел: — Ты наняла меня, потому что я хорош — слишком хорош, чтобы тратить свое время на клиента, который никогда в меня не поверит. — Елена не ответила. Я пошел к ослу. — Я возвращаюсь. И забираю осла. Ты будешь разумной и пойдешь со мной, или останешься одна на этой горе? — Опять тишина.
Я отвязал животное и забрался на него.
— Не бойся, — грубо сказал я. — Если из леса выйдет кабан, просто зарычи на него так же, как ты рычишь на меня.
Елена Юстина не пошевелилась и не ответила, так что я, не оглядываясь, отправился вниз.
LIX
Три минуты я спускался с одной скоростью. Как только тропинка расширилась, я остановил осла и повернул его обратно.
Елена Юстина сидела на том же самом месте, где я ее оставил. Ее лица я не видел. Никто не напал на нее: только я.
Когда сердце успокоилось, я подошел, потом наклонился и нежно погладил пальцем по ее макушке.
— Я думала, ты меня бросил, — сдавленно сказала Елена.
— А что, похоже?
— Откуда мне знать?
— Я тоже думал, что бросил тебя, — признался я. — Я такой дурак, что мог так подумать. Если ты будешь на том же самом месте, и я смогу найти тебя, то всегда вернусь. — Она задыхалась от рыданий.
Я опустился на землю и обнял ее обеими руками. Я крепко прижал ее, но после того, как несколько горячих слезинок капнули под воротник моей туники, девушка успокоилась. Мы сидели в полнейшей тишине, пока я отдавал ей свою силу, и мне показалось, что напряжение, которое я так долго испытывал, тоже совершенно естественным образом уходило.
Наконец Елена справилась со своим страданием и посмотрела на меня. Я подцепил двумя пальцами ее цепочку и вытащил свое старое серебряное кольцо. Она немного покраснела.
— Я привыкла носить его… — Смутившись, она замолчала. Двумя руками я расстегнул цепочку; Елена открыла рот, а маленькое колечко из серебра упало ей на колени. Я взглянул на надпись: anima mea, «моя душа». Я взял ее левую руку и сам надел кольцо.
— Носи его! Я дал его тебе, чтобы ты носила!
Казалось, Елена колебалась.
— Марк, когда ты отдал мне свое кольцо — ты был влюблен в меня?
Тогда я понял, как все было серьезно.
— Однажды я взял себе за правило, — сказал я, — никогда не влюбляться в клиента… — Она в отчаянии набросилась на меня, но потом увидела мое лицо. — Дорогая, я устанавливал много правил и большинство из них нарушил! Разве ты меня не знаешь? Я боюсь, что ты будешь презирать меня, и ужасаюсь, если другие люди это увидят — но без тебя я потерян. Как мне это доказать? Сразиться со львом? Вернуть все долги? Переплыть Геллеспонт, как какойнибудь сумасшедший?
— Ты не умеешь плавать.
— Научиться — это самая сложная часть испытания.
— Я научу тебя, — проговорила Елена. — Если ты упадешь в какуюнибудь глубокую воду, я хочу, чтобы ты держался!
Здесь вода была довольно глубока. Я смотрел на Елену. Она смотрела на землю. Потом призналась:
— В тот день, когда ты уехал в Кротон, я так сильно скучала, что ходила к тебе домой, чтобы найти тебя; должно быть, мы разминулись на улице…
Переполненная чувствами, она снова склонила голову к коленям. Я печально захохотал.
— Ты должна была мне рассказать.
— Ты хотел бросить меня.
— Нет, — сказал я. Правой рукой я поддерживал ее затылок ощупывая ямку, которая, казалось, была сделана специально под размер подушечки моего большого пальца. — Нет, моя дорогая. Я никогда этого не хотел.
— Ты сказал, что хотел.
— Я осведомитель. Много говорю. В основном не то, что надо.
— Да, — задумчиво согласилась Елена Юстина, снова поднимая голову. — Дидий Фалько, ты действительно говоришь, глупости!
Я улыбнулся, потом сказал ей еще парочку.
* * *
Над заливом солнце выбилось из своего туманного облачного покрывала, и пучок света, словно шелковый, быстро пробежал по прибрежной равнине и забрался на гору, где сидели мы. Тепло окутало нас. Изящный овал береговой линии стал ярче; на ее открытой оконечности, как темное пятнышко, показался остров Капри, дополняя изгибы цепи Лактарий. Под нами вдоль берега рассыпались маленькие, белые, с красными крышами домики Геркуланума, Оплонтиса и Помпеев, а на склонах более далеких холмов притягивали взгляд деревни и фермы, расположившиеся среди гор…
— Хм! Это один из тех впечатляющих пейзажей, куда обычно привозишь красивую женщину, а сам ни разу не взглянешь на природу…
Когда солнце стало светить прямо на нас, я уложил Елену на спину и вытянулся рядом, улыбаясь ей. Она начала гладить мое ухо, словно оно было чемто чудесным. Моему уху досталось больше всего; я повернул голову, чтобы оно оказалось ближе к Елене, пока сам наслаждался ее внимательным взглядом.
— На что ты смотришь?
— О, на эти черные жесткие кудряшки, которые, кажется, никогда не расчесывали — Я узнал, что Елене нравились мои кудряшки — На один из тех длинных, прямых, высоких носов с рисунков на этрусских гробницах… Глаза, которые всегда подвижны, на лице, которое никогда не выдает, что они видели. Ямочки! — засмеялась она, переводя пальчик к одной из них.
Я дернул головой, схватив палец зубами, потом притворился, что ем его.
— Прекрасные зубы! — сердито добавила она чуть позже.
— Какой чудесный день! — Мне всегда нравилась теплая погода. Также мне всегда нравилась Елена. Тяжело было вспоминать, что когдато мне приходилось притворяться, что это не так. — Мой лучший друг счастлив, напиваясь со своей женой, так что я могу забыть о нем. Я лежу здесь на солнышке, когда ты вся принадлежишь мне, и через мгновение я буду целовать тебя… — Елена улыбнулась мне. У меня по шее пробежала дрожь. Сейчас наедине со мной у нее был совершенно спокойный вид. Я тоже расслабился до того места, где расслабление уходило… Елена наклонилась ко мне, как раз когда я притянул ее ближе и, наконец, поцеловал.
* * *
Много секунд спустя я серьезно посмотрел на небо.
— Спасибо тебе, Юпитер!
Елена засмеялась.
Зеленое платье на Елене было достаточно легким, чтобы показать, что на ней больше ничего не было. Оно держалось на пяти или шести пуговицах из мозаичного стекла, продетых в петли, нашитые на обоих рукавах длиной до локтя. Я расстегнул одну, чтобы посмотреть, что произойдет; Елена, улыбаясь, пальцами расчесала мои кудри.
— Я могу помочь?
Я отрицательно покачал головой. Пуговицы были застегнуты туго, но к тому моменту упорство и другие факторы взяли верх, так что я справился с тремя, двигаясь к плечу; потом я ласкал ее руку, и поскольку казалось, что ей это нравилось, я продолжил расстегивать пуговицы до конца рукава.
Моя рука скользила от запястья к плечу, а потом опять вниз, уже не по руке. Ее прохладная нежная кожа, которая никогда не видела солнца, сжалась, но потом, когда девушка вдохнула, снова ответила на мое прикосновение; мне пришлось силой воли справляться с дрожью в пальцах.
— Это к чемуто ведет, Марк?
— Надеюсь! Не думай, что я могу привезти тебя на вершину горы и не воспользоваться таким шансом.
— О, я так и не думала! — тихо заверила меня Елена. — Почему же, потвоему, я хотела, чтобы ты пошел?
Потом, будучи женщиной практичной, она сама расстегнула все пуговицы на другом рукаве.
Долгое время спустя, когда я был крайне беззащитен, из леса вышел кабан.
— Ррр! — приветливо произнесла дочь сенатора через мое голое плечо.
Кабан засопел, потом развернулся и с осуждающим фырканьем ушел прочь.
LX
Когда Петроний Лонг перестал храпеть и поднялся, на него нахлынули противоречивые эмоции. Он понял, что мы спустились с горы в совершенно ином настроении по сравнению с тем, в котором уходили. Пока он спал, мы с Еленой допили его вино (хотя тут дело было не в деньгах); сейчас мы с ней сплелись в объятиях в тени, как щенки. Будучи человеком, который твердо придерживался моральных норм, Петроний был заметно поражен.
— Фалько, тебе нужно быть осторожным!
Я постарался не засмеяться. Десять лет наблюдая за моими мудреными отношениями, Петро первый раз дал мне дружеский совет.
— Верь мне, — ответил я. То же самое я сказал Елене. Я вспомнил, как в решающий момент, когда я пытался прекратить свои попытки, она расплакалась и не дала мне уйти…
Петро рявкнул:
— Ради бога, Марк! Что ты будешь делать, если это ошибка?
— Извинюсь перед ее отцом, признаюсь своей маме и найду жреца, который делает скидки… За кого ты меня принимаешь?
У меня затекло плечо, но ничто не могло заставить меня сдвинуться с места. Радость моей жизни склонила голову мне на сердце и крепко спала. Все ее проблемы исчезли; ее неподвижные ресницы все еще были остренькими от пролитых беспомощных слез. Я и сам мог легко заплакать.
— Девушка, наверное, думает подругому. Ты должен все это прекратить! — упрямо советовал Петро, хотя сейчас этот поход в горы доказал, что я никогда не смогу этого сделать.
На скамейке рядом с ним проснулась его жена. Теперь я наблюдал, как на эту сцену реагирует Сильвия. Елена Юстина прилегла на моем боку, ее колени находились под моими. В своей ладони она сжимала мою, а я рукой теребил ее прекрасные волосы. Она крепко спала; я сидел, не улыбаясь, с умиротворенным видом…
— Марк! Что ты собираешься делать? — обеспокоенным тоном настаивала она. Сильвия любила, чтобы все было ясно.
— Закончу свою работу и подам заявление, чтобы мне заплатили как можно скорее… — Я закрыл глаза.
Если Сильвия думала, что у нас началось чтонибудь скандальное, то она, должно быть, обвиняла в этом меня, потому что когда Елена проснулась, они вдвоем пошли умываться и приводить себя в порядок. Когда девушки вернулись, у них был таинственный, удовлетворенный вид двух женщин, которые только что посплетничали. Сильвия завила волосы на затылке, как обычно делала Елена, а волосы Елены они завязали ленточкой. Ей было к лицу. Она выглядела так, словно должна была делать чтото типично афинское на чернофигурной вазе. Мне бы понравилась роль свободного эллина, который лежит и ждет, как бы подхватить ее под ручку вазы…
— Запутаться можно, — пошутил Петро. — Которая из них моя?
— О, я беру ту с хвостиком, если ты не против.
Мы с ним обменялись взглядами. Когда один из друзей женат, а второй остался холостяком, справедливо это или нет, но предполагается, что они живут по разным правилам. Прошло много времени с тех пор, как мы с Петро вместе выезжали куданибудь на таких выгодных условиях.
* * *
Любой, кто знал Петро и его интерес к вину, также знал, что он обязательно воспользуется возможностью купить немного себе домой. В доказательство его привычного основательного подхода ко всему, как только Петроний Лонг нашел хорошее белое — с пузырьками, как он, словно настоящий ценитель, описал мне с любовью, — он приобрел столько, сколько смог: пока я оставил его одного, он купил целый бурдюк. Серьезно. Огромную бочку высотой с его жену. Как минимум, двадцать амфор. Хватит, чтобы поставить на стол тысячу бутылок, если бы у него был трактир. Еще больше, если бы он разбавил вино. Сильвия надеялась, что я отговорю его от этой безумной сделки, но Петро уже расплатился. Нам всем пришлось ждать, пока он выжигал на бочке свое имя, потом долго договаривался о возвращении с Нероном и повозкой, что было единственным способом доставить этот бурдюк оттуда домой. Мы с Сильвией спросили, как он теперь собирается везти домой семью — не говоря уже о том, где они будут жить, если их дом будет занят вином, — но он погрузился в эйфорию. Кроме того, мы знали, что у него все получится. Петроний Лонг и раньше делал глупости.
Наконец, мы поехали обратно.
Я взял ту, с хвостиком. Она сидела спереди, в полном молчании. Когда мы подъехали к вилле, было почти невозможно отпустить ее. Я снова сказал Елене, что люблю ее, потом мне пришлось проводить ее в дом.
* * *
Петроний и Сильвия тактично ждали у входа в имение, пока я отводил Елену к дому. Когда я приехал обратно на взятом напрокат осле, они воспитанно молчали.
— Мы встретимся, когда я смогу, Петро. — Должно быть, у меня был печальный вид.
— О, Юпитер! — воскликнул Петроний, слезая с лошади. — Давайте все вместе еще раз выпьем, прежде чем ты уйдешь! — Даже Аррия Сильвия не выразила недовольства.
Мы открыли бурдюк, сидя в сумерках под сосной. Втроем мы выпили, ощущая не слишком сильное, но некоторое отчаяние оттого, что Елена ушла.
После этого я поднялся к дому, чувствуя, что для ног любовь так же тяжела, как для кармана и сердца. Теперь я заметил коечто, чего раньше не видел: звон сбруи под кипарисами привел меня к двум потертым седлами мулам, привязанным вдали от дороги. У них была грубая шерсть и надетые торбы. Я прислушался, но не уловил больше никаких признаков жизни. Если гуляки — или любовники — поднялись на гору с берега, то мне показалось странным, что ради своих счастливых целей им пришлось так далеко зайти в частное имение. Я погладил животных и задумчиво пошел дальше.
* * *
К тому времени, как я снова дошел до виллы, прошел уже час с тех пор, как я проводил Елену.
Любой убийца или грабитель мог пробраться в этот дом. Слуги, которые встретили Елену, давно исчезли. Вокруг никого не было. Я поднялся наверх, уверенный, что, по крайней мере, в комнате Елены будет тот, кто надо; мера безопасности, на которой я настоял. Это означало, что сам я мог провести с ней только пять минут, чтобы быть вежливым, но я с нетерпением ждал глупого фарса перед другими людьми, пока буду играть роль ее надежного телохранителя, с мрачным чувством юмора…
Дойдя до комнаты Елены, я открыл тяжелую дверь, проскользнул внутрь и тихо закрыл ее. Это было откровенное приглашение; мне пришлось запереть дверь на засов. Во внутреннем коридоре снова было темно, а за занавеской опять горел тот же свет.
Она была не одна. Ктото говорил, но не Елена. Мне следовало уйти. Я был готов к любому разочарованию, но к тому моменту я так отчаянно хотел ее увидеть, что это привело меня прямо в комнату.
Зеленое платье лежало сложенным на сундуке; ее сандалии в беспорядке валялись на прикроватном коврике. Елена переоделась во чтото более темное и теплое с шерстяными рукавами до запястья; ее волосы были заплетены и лежали на одном плече. У нее был опрятный, мрачный и непонятно уставший вид.
Елена вернулась домой так поздно, что ужинала на подносе. Она сидела лицом к двери, так что когда я влетел через занавеску, ее испуганные глаза наблюдали, как я неистово смотрел на происходящее.
С ней был мужчина.
Он раскинулся в кресле, положив одну ногу на подлокотник, небрежно жуя орехи. Елена казалась более угрюмой, чем обычно, уплетая куриные крылышки, хотя она сидела с таким видом, словно присутствие этого человека в ее спальне было привычным делом.
— Здравствуйте, — гневно набросился я. — Вы, должно быть, Барнаб! Я должен вам полмиллиона золотыми монетами…
Он посмотрел на меня.
Определенно, это был тот человек, который напал на меня на складе, и возможно, тот, кого я заметил с Петро у повозки на пути в Капую. Я внимательнее посмотрел на него. Через три месяца преследования человека в зеленом плаще я, наконец, узнал, кем он был на самом деле. Старая мать вольноотпущенника из Калабрии оказалась права: Барнаб был мертв.
Я знал этого человека. Это был бывший муж Елены Юстины; его звали Атий Пертинакс.
Согласно «Ежедневной газете», он тоже был мертв.
LXI
Он казался вполне здоровым для человека, которого три месяца назад убили. И если это зависело от меня, то Атий Пертинакс скоро тоже будет ужасно мертвым. В следующий раз я сам все устрою. И уже навсегда.
На нем была совсем простая туника и новая бородка, но я очень хорошо его знал. Ему было двадцать восемь или двадцать девять. Светлые волосы и худощавое телосложение. Тусклые глаза, которые я забыл, и кислое выражение лица, которое я не забуду никогда. Постоянная раздражительность сделала мускулы вокруг глаз более напряженными, а челюсти крепко сжатыми.
Я виделся с ним один раз. Не тогда, когда преследовал его на правом берегу Тибра; за год до этого. Я все еще чувствовал, как его солдаты превращали мое тело в месиво, и слышал его голос, когда он называл меня дикими словами. Я все еще видел его бледные ноги под сенаторской тогой, выходящие из моей квартиры, где он бросил меня у сломанной скамейки, когда я беспомощно выплевывал кровь на собственный пол.
Он был предателем и вором; бандитом; убийцей. Однако Елена Юстина позволила ему рассесться в своей спальне, словно богу. Ну, наверное, он так тысячу раз сидел с ней в той великолепной, сероголубой, со вкусом обставленной комнате, которую он выделил для нее в их доме.
— Я ошибся. Вас зовут не Барнаб!
— Разве нет? — посмел сказать он.
Я видел, что он все еще не знал, как реагировать на мой внезапный приход.
— Нет, — спокойно ответил я. — Но официально Гней Атий Пертинакс Капрений Марцелл гниет в своей погребальной урне…
— Теперь ты видишь, в чем проблема! — воскликнула Елена.
* * *
Я задумался, как она могла сидеть там и кушать. Но потом заметил, как Елена обгладывала куриную косточку, обнажая зубы, словно относилась к его проблемам с таким презрением, что они не могли помешать ее аппетиту.
Я вошел в комнату. Не считая того факта, что я намеревался арестовать этого преступника, существовала старая добрая римская традиция, что в присутствии человека, который нравственно выше тебя, ты должен встать. Пертинакс напрягся, но остался сидеть.
— Кто ты, черт возьми, такой? — Он тоже наделал слишком много шума. — И кто разрешил тебе заходить в комнату моей жены?
— Зовут меня Дидий Фалько; я захожу, куда хочу. Кстати — она не ваша жена!
— Я слышал о тебе, Фалько!
— О, мы с вами старые знакомые. Однажды вы арестовали меня ради забавы, — напомнил я ему, — но мне нравится думать, что я выше этого. Вы разгромили мою квартиру — но в ответ я помогал распоряжаться вашим домом на Квиринале. Ваши греческие вазы были хороши, — я раздражающе улыбнулся. — Веспасиану они очень понравились. Хотя «Купидон» Праксителя нас разочаровал… — Я знал, что Пертинакс много за него заплатил. — Копия; думаю, вы понимали…
— Мне всегда казалось, что у него большие уши! — сказала мне Елена, чтобы поддержать разговор. Пертинакс был раздражен.
Я подтащил к себе скамеечку для ног и присел там, где мог заслонить Елену, но также перекрыть выход ему. Она слегка покраснела под моим спокойным внимательным взглядом; я задумался, понимал ли Пертинакс, что я был ее любовником — с той страстью, которой я гордился — всего несколько часов назад. Взглянув на него, я понял: такое никогда не приходило ему в голову.
— Так что случилось? — задумчиво размышлял я. — В апреле этого года преторианцы вломились, чтобы устроить вам допрос… — Пертинакс слушал с наигранным скучным видом, словно я говорил чтото смешное. — Барнаб был одет в вашу сенаторскую одежду; недальновидные преторианцы загнали его в тюрьму. Он ожидал, что когда они узнают, то грязно изобьют его, но не более. Бедный Барнаб определенно заключил в тот день плохую сделку. Один из ваших товарищейзаговорщиков решил заткнуть рот их несчастному заключенному…
Пертинакс откинулся на спинку, сгорбив свои худые плечи.
— Прекрати, Фалько!
Я как загипнотизированный смотрел на орешки. Некоторые скорлупки падали на стол, когда он неаккуратно выплевывал их обратно в тарелку; большинство оказывалось на полосатом египетском коврике.
— Вскоре вы поняли, что во дворце разоблачили ваших товарищей по заговору. — Наблюдая за ним, я дал Пертинаксу время осознать мои слова. Дрессировщик лошадей Брион назвал его отчаянным, но мне он казался просто неприятным. На самом деле я считал Пертинакса настолько отвратительным, что от нахождения с ним в одной комнате у меня на шее волосы встали дыбом. Однако он был одним из тех людей, кто, кажется, даже не осознает, насколько он противен. — Если бы вы появились снова, то за вами начали бы следить. Ваш брат мертв. Вы представились им, чтобы забрать из тюрьмы его труп. Похоронили его и оказали последние почести, сообщив его матери правду, хотя одно неверное слово этой тронутой старухи в Таренте могло выдать вас. Потом вы осознали, что вы с Барнабом были настолько похожи, что у вас есть первоклассная, возможно, постоянная маскировка. Так что вы глупо поставили себя, уважаемого господина, всего лишь на один шаг от рабства!
Пертинакс, чьих грубых манер можно ожидать от человека родом из Калабрии, которому в обществе повезло больше, чем он того заслуживал, раскусил еще один орех. Если бы он был плебеем, то его история, рассказанная мною, стала бы первым шагом к тюрьме. Но он не хуже меня знал, что сын консула мог смотреть на меня с насмешкой. По нескольким причинам — все они личные — я бы с удовольствием расколол кулаком его фисташки — после того, как он их съест.
Елена Юстина закончила ужин и убрала свой поднос. Она опустилась на колени, собирая скорлупки, которые рассыпал Пертинакс, словно жена, которая старалась, чтобы слуги не заметили, какой у нее невоспитанный муж. Пертинакс, как муж, не стал мешать ей это делать.
— Вас не существует! — повторил я в его сторону так жестоко, как только смог. — Ваше имя вычеркнуто из списка сенаторов. Ваше положение в обществе ниже, чем у привидения. — Пертинакс беспокойно заерзал. — Теперь все ваши попытки связаться с заговорщиками пойдут прахом. Скажите, Курций Лонгин удостоился такой участи, потому что, когда снова увидел вас в Риме живым, он угрожал выдать вас, чтобы получить благосклонность Веспасиана к себе и своему брату? — Пертинакс не пытался отрицать обвинение. Это могло подождать. — У Криспа сейчас тоже свои планы, в которых вы не участвуете, — дразнил я его, когда еще больше разозлился. — Вы виделись с ним в Оплонтисе. Хотели принудить его, но он дал отпор; я прав? Ваше место за ужином отдали женщине — Эмилии Фаусте, которая даже не была приглашена, — а потом Крисп открыто указал мне на вас, надеясь, что я заставлю вас слезть с его шеи. Ауфидий Крисп, — подчеркнул я, — еще один обманщик, который был бы рад видеть вас задушенным, Пертинакс!
Елена все еще находилась на полу, сидя на пятках.
— Хватит уже, — спокойно перебила она.
— Слишком неприлично, да?
— Слишком сильно, Фалько. Что ты будешь делать?
Хороший вопрос. Бывший консул вряд ли позволит мне вытащить его драгоценного сына из имения.
— Предложи чтонибудь, — сказал я, уклоняясь от ответа. Елена Юстина сложила руки на колени. У нее всегда готов план.
— Самое простое решение — это оставить конспиратора Пертинакса с миром в мавзолее Марцелла. Мне кажется, что моему мужу следует забыть все свои ошибки в прошлом и начать жизнь заново. — Хотя Елена пыталась помочь ему, Пертинакс сидел и пренебрежительно кусал свой большой палец. Ему нечего было добавить.
— В роли Барнаба? — спросил я. — Прекрасно. Его дети будут считаться гражданами, его потомки могут стать сенаторами. Вольноотпущенник может использовать свои права; накопить состояние; даже получить наследство от Марцелла, если тот согласится вызвать этим общественное недовольство. Ты удивительная девушка; это удивительное решение, а он счастливчик, что ты так поддерживаешь его. Только одна проблема! — рассердился я, сменив тон. — Предположительно, заговорщик Пертинакс мертв — но Барнаба разыскивают за поджог и преднамеренное убийство сенатора.
— Что ты говоришь, Фалько? — Елена быстро переводила взгляд между мной и Пертинаксом.
— Авл Курций Лонгин погиб в пожаре в Малом храме Геркулеса. И я говорю, что «Барнаб» устроил пожар.
Я не рассказывал Елене подробностей. Она была в шоке, однако оставалась очень логичной.
— Ты можешь это доказать?
Наконец Пертинакс потрудился грубо вставить:
— Этот лживый ублюдок не может этого сделать.
— Но Фалько, если ты хочешь расследовать это дело, то придется доводить его до суда… — Те, кто был женат, поймут, что она игнорировала его. — Суд вынесет последние события на открытое…
— О, пойдет множество нежелательных слухов! — согласился я.
— Это поставит Курция Гордиана в неудобное положение перед его служителями в Пестуме; Ауфидию Криспу обещали, что прошлое может остаться конфиденциальным…
Я мягко засмеялся.
— Да, они потеряли все шансы осторожно отказаться от своего заговора! Елена Юстина, если твой бывший муж примет это предложение, я могу заступиться за него перед императором. — Я бы скорее приготовил ему засаду из легионеров: ночью вырыть на его пути канаву, поставить колья с шипами, замаскированные под лилии, но представив его кающимся грешником, я получу больше. — Так что сейчас ему придется решить, чего он хочет.
— Да, он должен. — Елена отвела от меня взгляд и довольно пренебрежительно посмотрела на Пертинакса. Он без всякого выражения взглянул на нее. Зная его настоящий характер, я понимал, почему Елена так беспокоилась. Он был жив, но лишен имущества. Так что этот человек требовал вернуть ему то, что завещал ей. По крайней мере, это; возможно, намного больше.
У меня было такое чувство, что они поссорились, хотя я мог бы догадаться раньше.
Елена Юстина осторожно поднялась на ноги, держа одну руку сзади, как будто у нее болела спина.
— Мне бы хотелось, чтобы сейчас вы оба ушли. — Девушка позвонила в колокольчик. Тут же появился раб, словно когда здесь находился Пертинакс, требовалось быстро выполнять приказы.
— Я пойду с вами, — сказал я ему. Я не собирался упускать этого преступника из виду.
— Не нужно, Фалько! — быстро проговорила Елена. — Он не может уехать с виллы, — настаивала она. — Он никто — ему некуда идти.
— Кроме того, — добавил он с угрюмым безразличием, — твои мерзкие приятели изведут меня, если я попытаюсь это сделать!
— Что это значит?
— А ты не знаешь?
Елена просветила меня беспокойным голосом.
— Два человека повсюду преследуют Гнея. Вчера он уезжал, и они всю ночь не давали ему вернуться домой.
— Как они выглядели? — с любопытством спросил я.
— Один с телосложением гладиатора и коротышка.
— Это мне ни о чем не говорит. Вам удалось от них отделаться?
— Они были на мулах; у меня была приличная лошадь.
— Правда? — Я не сказал ему, что сегодня вечером встретил двух мулов здесь, в имении его отца. — Я работаю один и не имею к ним никакого отношения.
Если Елена думала, что я оставлю мужчину с ней в спальне, то ей следовало подумать получше. Но Пертинакс почти сразу пожелал ей спокойной ночи, потом презрительно усмехнулся мне и вышел на балкон.
Я дошел с ним до раздвижных дверей, а потом наблюдал, как он спустился и вышел — его тощий силуэт вышагивал слишком уж самоуверенно. Из дальнего угла дворика с садом Пертинакс один раз оглянулся. Он, наверное, увидел меня — крепкое темное очертание, которое сзади подсвечивали лампы из спальни.
Я зашел обратно, закрывая замок на раздвижных дверях. В присутствии слуг Елены мы не могли свободно откровенно поговорить, но я видел, что ей стало намного легче, когда она поделилась со мной своей тайной. Я ограничился фразой:
— Я мог бы догадаться, что это тот человек, кто разбрасывает еду, и кто так и не научился закрывать за собой дверь! — Она устало улыбнулась.
Я пожелал спокойной ночи и пошел в свою комнату. Ее охраняли. Сегодня ночью Елена была в безопасности.
Чего не скажешь о Пертинаксе. Когда он обернулся в сторону дома и хмуро посмотрел на меня, он упустил коечто еще: две темные фигуры, появившиеся из темноты под балконом.
Один похож на гладиатора и коротышка… Должно быть, они слышали над собой мой голос. И когда эти люди проскочили через внутренний двор, словно причудливые тени на плохо отполированном зеркальце, они тоже должны были понять, что и я их видел.
Когда Пертинакс пошел дальше, они тихо двинулись вслед за ним.
LXII
Больше ничего не произошло, но ночь показалась длинной.
Этот возмущенный клещ никогда спокойно не сдастся. У Елены Юстины было высокое чувство долга: она все еще считала себя ответственной за его положение. Так что рано или поздно у нас с Пертинаксом появились личные счеты.
Когда мой первоначальный шок прошел, я вспомнил, что слышал об их браке. Елена вела отшельническое существование. Она спала одна в той прекрасной комнате, в то время как у Пертинакса было просторное помещение в другом крыле, с Барнабом в качестве наперсника. Для молодого амбициозного сенатора женитьба стала частью государственной службы, которую он вытерпел ради того, чтобы получить дурацкие голоса. Сделав это, Пертинакс рассчитывал на свои супружеские права, но был скуп с Еленой.
Неудивительно, что жены сенаторов бегают за гладиаторами и другими низшими формами жизни. Пертинакс должен был считать себя счастливчиком, что его жена оказалась достаточно воспитанной, чтобы сначала развестись с ним…
На следующее утро я обошел виллу, осматривая, что произошло. В большом саду с задней стороны дома я увидел бывшего консула, обсуждавшего спаржу с одним из слуг.
— Вы видели своего сына сегодня утром? — Я надеялся, что ночью те два незваных гостя сбросили Пертинаксу на голову чтонибудь тяжелое. Но Марцелл разочаровал меня.
— Да, видел. Фалько, нам нужно поговорить…
Он сказал садовнику несколько слов о погибших цветах, а потом мы медленно — изза слабости консула — пошли среди ровных клумб. Как обычно, у них было обилие урн, фонтанов и статуй Купидона с виноватым выражением лица, хотя в глубине души садовод консула страстно любил растения. У него было в два раза больше ящичков и розмарина, спиралями высаженного в грунт; подпорок и каменных ограждений было почти не видно под разросшимися кустами волчеягодника и буйной айвой. Сетки везде прогибались под жасмином; огромные деревья шелковицы нежно склонились в стройных цветниках. Из двенадцати видов роз я насчитал не меньше десяти.
— Что ты собираешься делать? — прямо спросил Марцелл.
— Мои инструкции как раз этого не оговаривают. Император захочет, чтобы я посоветовался с ним, прежде чем чтото предприму. — Мы замолчали, глядя на освещенные солнцем глубины длинного водоема для разведения рыбы, безмятежно отражающего худой высокий силуэт Марцелла и мой, покороче и покрепче. Я нагнулся, с восхищением наблюдая за необыкновенно разноцветным моллюском. — Не возражаете, если я выловлю одного?
— Бери, если хочешь.
Я вытащил существо, которое, казалось, снова было готово прицепиться к чемунибудь; консул весело наблюдал за мной.
— Семейная неудача, консул! Насчет вашего сына. Я не надеюсь, что вы позволите мне привязать его к ослиному хвосту. Даже если я так и сделаю, это бессмысленно, если император потом скажет мне, что не может обидеть такого выдающегося человека, как вы, засадив вашего наследника. Домициан тоже участвовал в заговоре. Было бы нелогично отнестись к вашему сыну менее снисходительно.
Это была азартная игра, но император предпочитал простые решения, и предложение амнистии могло заставить Марцелла посодействовать.
— А почему, — спросил он, хитро глядя на меня поверх своего массивного носа, — ты расспрашиваешь о несчастном случае в храме Геркулеса?
— Потому что это был не несчастный случай! Но я знаю, что к чему. Любой хороший адвокат сможет осудить Барнаба, но трудно будет найти обвинителя, способного выступить против безбородых, шустрых адвокатов, которые бросятся зарабатывать себе репутацию, защищая сына консула.
— Мой сын невиновен! — настаивал Марцелл.
— Большинство убийц невиновны — если спросить их самих! — Консул старался не показывать своего раздражения. — Консул, предложение Елены Юстины кажется мне лучшим планом…
— Нет; это не обсуждается! Моему сыну нужно сохранить свое собственное имя и
общественное положение — нужно найти выход.
— Вы намереваетесь помогать ему, независимо от того, чем все закончится?
— Он мой наследник.
Мы свернули к беседке.
— Консул, реабилитация может быть трудной. А если Веспасиан посчитает, что возвращение к жизни мертвеца вызовет слишком много вопросов? Поскольку ваше состояние является очевидным мотивом для мошенников, ему, возможно, покажется более удобным объявить: «вот злой вольноотпущенник, который надеется нажиться на смерти своего господина!»
— Я ручаюсь за его настоящую личность…
— Ну, хорошо, консул! Вы — пожилой человек с плохим здоровьем, потерявший наследника, в котором души не чаяли. Естественно, вы хотите верить, что он все еще жив…
— Елена будет ручаться за него! — ухватился консул.
Я улыбнулся.
— И правда. Как ему повезло!
Мы оба стояли какоето время, улыбаясь мысли о том, как Елена побежит рассказывать правду, если заметит какуюнибудь проблему.
— Им не следовало расходиться! — горько пожаловался консул. — Я знал, что мне не нужно было этого допускать. Елена не хотела развода…
— Елена Юстина, — холодно согласился я, — считает, что брак, как соглашение о близких отношениях, длится сорок лет. Она знала, — решительно сказал я, почувствовав нервный приступ, — что с вашим сыном у нее этого не было.
— О, могло бы быть! — спорил Марцелл. — У моего сына были огромные перспективы; нужно чтото для него сделать…
— Ваш сын — обычный преступник! — Это была правда, хотя бесполезная. Мягче я добавил: — Мне кажется, старомодное уважение Веспасиана к патрицианскому имени поможет Пертинаксу Марцеллу; он выдержит, чтобы сделать маски с ваших умерших предков. В конце концов, еще одним преступником в сенате больше — какая уже разница!
— Больное мнение!
— Я говорю то, что вижу. Консул, я испробовал тюремную камеру в Геркулануме; это неприятно. Если я позволю Пертинаксу остаться на вашем попечении, дадите ли вы слово, что будете держать его в имении?
— Конечно, — сухо сказал он. Я не был убежден, что Пертинакса это устроит, но у меня не было выбора. Марцелл мог созвать огромное количество слуг, чтобы помешать аресту. Безобразная вооруженная кавалерия, которой командовал Пертинакс, пытаясь перехватить меня в Капуе в тот день, когда я ехал с Петро, возможно, состояла из кузнецов и кучеров с поместья, одетых в железные шлемы.
— Ему придется ответить на обвинения против него, — предупредил я.
— Возможно, — небрежно сказал консул.
Изза его самоуверенного вида я почувствовал полное разочарование; мы обсуждали государственную измену и убийство, но мне совершенно не удалось донести до Марцелла, насколько серьезной была ситуация. Я понял, что разговор окончен.
* * *
Елену я нашел на балконе. Я быстро поднялся наверх и улыбнулся ей. Она сидела, откинувшись назад, со стаканом холодной воды, нерешительно попивая из него.
— Ты не в духе?
— Я долго просыпаюсь… — Она улыбнулась с таким блеском в глазах, что у меня в горле защекотало.
— Слушай, решение проблемы Пертинакса сейчас будет зависеть от оперативности. Не надейся, что компания дворцовых секретарей рано вынесет приговор… — Елена смотрела на меня, оценивая мою реакцию на открытие прошлой ночи. Через минуту я пробормотал: — Как давно ты знаешь?
— С того пира у Криспа.
— Ты не говорила!
— Ты ревнуешь к Пертинаксу?
— Нет, конечно, нет…
— Марк! — нежно проворчала Елена.
— Ну а чего ты ожидала? Когда я вошел вчера вечером, я полагал, что он пришел по той же причине, что и я.
— О, сомневаюсь! — сухо засмеялась она.
Я все еще сидел на перилах балкона, размышляя над этим, когда ко мне пришел посыльный.
Это был раб из Геркуланума; Эмилий Руф хотел встретиться со мной. Я подумал, что это насчет Криспа. Крисп меня больше не интересовал — не считая того факта, что он был добычей, за которую Веспасиан согласился мне заплатить, а я отчаянно нуждался в деньгах.
Я отпустил слугу, пока решал. Елена сказала:
— Это может быть важно; ты должен поехать.
— Только если ты останешься с Петро и Сильвией до моего возвращения.
— Гней никогда не причинит мне вреда.
— Ты этого не знаешь, — сердито сказал я, раздраженный оттого, что она называла его по имени.
— Я нужна ему.
— Я надеюсь, что нет! Для чего?
К тому моменту я был так взволнован, что Елене пришлось признаться.
— Ты расстроишься. Консул убедил его, что он должен снова на мне жениться. — Она была права. Я расстроился. — Ты сам спросил! Слушай, у Капрения Марцелла существуют две великие цели: сохранить Гнею карьеру государственного деятеля и иметь наследника. Внук получил бы имение…
— Я не желаю этого слышать. Иногда ты меня поражаешь; как ты вообще можешь говорить об этом?
— О, девушке нужен муж! — шутливо сказала Елена.
Это было совершенно несправедливо. Я пожал плечами, стараясь выразить свой собственный недостаток общественного положения, и связей, и денег. Потом меня захлестнула безнадежная ярость.
— Ну, ты знаешь, чего от него ожидать! Пренебрежения, никакого интереса — а сейчас, наверное, еще хуже! Он бил тебя? Не беспокойся, будет! — Елена слушала с застывшим выражением лица, когда я сорвался, словно пес с цепи.
— Ну, ты мужчина. Я уверена, что тебе лучше знать! — сухо отпарировала она.
Я спрыгнул с места.
— Делай, что хочешь, моя дорогая! Если тебе нужно быть уважаемой женщиной, и ты думаешь, что это выход, то возвращайся к нему… — Я понизил голос, сдерживая себя, потому что нужно, чтобы она это запомнила: — Но в любое время, когда тебе это надоест, я приду и вытащу тебя отсюда. — Я пошел вдоль балкона. — Вот что называется верностью! — обидным тоном бросил я назад.
— Марк! — умоляюще позвала Елена.
Я выпрямил спину и не стал ей отвечать.
* * *
На полпути по дороге из имения я встретил Пертинакса. Он обучал своих лошадей на поле для верховой езды; даже на большом расстоянии видно было, что он очень увлечен. Оба скакуна стояли на улице. Одного он держал в тени, пока скакал галопом на другом. Все выглядело гораздо основательнее, чем просто легкое развлечение молодого человека, для которого изначально задумывалась эта площадка в тени деревьев. Он профессионально тренировал их. Пертинакс прекрасно знал, что делал; приятно было наблюдать за этим процессом.
Малыш вынюхивал в траве ядовитые растения, от которых у него потом заболит живот. Пертинакс сидел на чемпионе, Фероксе. Если бы он был один, то я бы тогда напал на него и все уладил, но с ним был Брион.
Брион, облокотившийся на столб и жующий инжир, с любопытством посмотрел на меня, но я не стал говорить с ним в присутствии его хозяина. Пертинакс не обращал на меня внимания. То мастерство, с которым он скакал на Фероксе, казалось, подчеркивало преимущества, которые у него всегда будут передо мной.
Под кипарисом лежал свежий коровий навоз, но двух животных, которых я видел там прошлой ночью, не было. У меня возникло такое чувство, что скоро я опять их увижу.
* * *
Я дошел до большой дороги, пока меня не догнал какойто парень.
Ему пришлось добежать только до гермы. Я сидел на большом камне, ругая себя за то, что поссорился с Еленой, ругая ее, ругая его… отчаянно переживая.
— Дидий Фалько!
У этого парня были пятна от рыбного маринада на тунике, проблемы с кожей, о которых лучше не думать, и ужасно ободранные грязные колени. Но если бы он упал в обморок на скамье рынка рабов, я бы заложил свою жизнь, чтобы спасти его от жестокости.
Он вручил мне запечатанный воском блокнот. Почерк был для меня незнакомым, но сердце подпрыгнуло. Записка была короткой, и в каждом слове я слышал рассерженный тон Елены:
«Он никогда не бил меня, хотя я всегда чувствовала, что может. Почему ты думаешь, что я могу выбрать когото в этом роде после того, как познакомилась с тобой?
Не падай в воду. Е.Ю.»
Возвращаясь в дом на Авентине, я иногда находил любовные записки на коврике перед дверью. Я никогда не хранил компрометирующие письма. Но у меня было такое чувство, что через сорок лет, когда бледные душеприказчики будут распоряжаться моим личным имуществом, именно это письмо они найдут завернутым в тряпку, спрятанным в коробочке с письменными принадлежностями среди сургуча.
LXIII
Тот факт, что Эмилий Руф попросил меня приехать к нему, не означал, что он потрудился быть дома, когда я пришел. Весь день магистрат был в суде. Я пообедал у него дома, вежливо ожидая хозяина. Руф мудро поел в другом месте.
Я уселся на один из серебряных стульев с острыми, как нож, краями, облокотившись на подушки из конского волоса с печальным выражением лица человека, который не может удобно устроиться. Я ерзал под изображением царя Пенфея, разрываемого на клочки жрицами Вакха — милая, успокаивающая вещица для гостиной, — когда услышал, как выходит Эмилия Фауста; я быстро спрятался в дальний угол, чтобы не встречаться с ней.
Наконец Руф соизволил вернуться домой. Я высунул голову. Он разговаривал с факельщиком, красивым рабом из Иллирии, который сидел на крыльце и чистил фитиль интересного фонаря; у него были гремящие бронзовые цепочки для переноски, темные роговые края для защиты пламени и снимающаяся крышка, пронизанная отверстиями для вентиляции.
— Привет, Фалько! — Руф был потрясающе милым после обеда. — Любуешься моим рабом?
— Нет, магистрат; я любуюсь его фонарем!
Мы с ним обменялись странными взглядами.
Мы перешли в кабинет хозяина. В нем, по крайней мере, присутствовал какойто стиль: он был увешан сувенирами, которые Руф насобирал на иностранной службе. Необычные сосуды из тыквы, копья разных племен, флаги с кораблей, старые потертые барабаны — такие вещички, которые привлекали нас с Фестом, когда мы были подростками и не переключились на женщин и выпивку. От вина я отказался; Руф сам решил не пить, а потом я наблюдал, как он трезвел, когда начинал действовать обед. Он плюхнулся на бок на кушетку, подставляя мне лучший вид на его профиль и блеск в его золотистых волосах, которые сверкали на солнце, попадающем через открытое окно. Думая о женщинах и о том, в какой тип мужчин они влюбляются, я мрачно присел на низкий стул.
— Вы хотели меня видеть, магистрат, — терпеливо напомнил я ему.
— Да, конечно! Дидий Фалько, определенно все оживляется, когда ты поблизости! — Люди часто мне это говорили; не представляю, почему.
— Чтото насчет Криспа?
Возможно, Руф все еще пытался использовать Криспа, чтобы извлечь какуюнибудь пользу для себя, и ушел от ответа. Я прогнал свою следующую мысль: что его сестра какнибудь неприятно пожаловалась на меня Руфу.
— Ко мне приходили! — угрюмо посетовал он. Магистраты в скучных городах типа Геркуланума хотят жить спокойно. — Тебе о чемнибудь говорит имя Гордиан?
— Курций Гордиан, — внимательно уточнил я, — жрец, получивший должность в храме Геры в Пестуме.
— А ты в курсе всех новостей!
— Хорошие осведомители читают газеты форума. Я все равно с ним виделся. Так зачем он к вам приезжал?
— Он хочет, чтобы я коекого арестовал.
Большой неподвижный ком, словно из холодного металла, вырос у меня в груди.
— Атия Пертинакса?
— Так значит, это правда? — беспокойно спросил Руф. — Пертинакс Марцелл жив?
— Боюсь, что так. Когда богиня судьбы разрезала его нитку, какойто дурак толкнул ее. Вы это услышали на званом ужине?
— Крисп намекнул.
— Крисп такой! Я надеялся натравить Криспа и Пертинакса друг на друга… Готов спорить, что и вы тоже!
Он улыбнулся.
— Гордиан, кажется, любит все усложнять.
— Да. Мне следовало этого ожидать. — Этот новый ход верховного жреца соответствовал его упорной активности. После моего отъезда из Кротона я мог представить, что он дошел до кипения, оплакивая своего умершего брата. А теперь, когда магистрат упомянул о Гордиане, я вспомнил те две знакомые тени, которые видел вчера наблюдением.
— Значит, ты его видел?
— Нет. Я видел их.
Магистрат посмотрел на меня, не понимая, что именно мне известно.
— Гордиан наплел мне странную историю. Ты можешь чтонибудь объяснить, Фалько?
Я мог. И объяснил.
Когда я закончил, Руф слегка присвистнул. Он задавал разумные правовые вопросы, потом согласился со мной; все доказательства косвенные.
— Если бы я поместил Пертинакса Марцелла под арест, могли бы всплыть новые факты…
— Хотя это риск, магистрат. Если бы какаянибудь вдова без гроша в кармане пришла к вам с этим делом, то вы бы не стали ее слушать.
— О, закон беспристрастен, Фалько!
— Да; а адвокаты ненавидят деньги! Как Гордиан узнал, что Пертинакс был здесь?
— Крисп сказал ему. Слушай, Фалько, мне придется воспринимать Гордиана всерьез. Ты императорский представитель; каков официальный взгляд на это дело?
— Мой таков, что если Гордиан доведет дело до суда, то поднимется ужасная вонь отсюда и до самого Капитолия. Но у него может получиться, несмотря на недостаточные доказательства. Мы оба знаем, что вид убитого горем брата, требующего справедливости, — это такая трогательная сцена, от которой присяжные будут всхлипывать в свои тоги и признают его виновным.
— Так я должен арестовать Пертинакса?
— Я считаю, что он убил Курция Лонгина, который, возможно, угрожал выдать его, а позже пытался убить также и Гордиана. Это серьезные обвинения. Мне кажется, неправильно помиловать его только потому, что он приемный сын консула.
Эмилий Руф слушал мои основания для действий с осторожностью, которой можно ожидать от провинциального магистрата. Если бы я сам был жертвой злонамеренного судебного преследования, основанного на незначительных доказательствах, я мог бы одобрить его скрупулезность. Но так я чувствовал, что мы зря теряли время.
Мы обсуждали эту проблему еще час. В конце Руф решил скинуть ее на Веспасиана: просто какойто безрезультатный компромисс. Мы остановили следующего императорского посыльного, проезжавшего по городу. Руф написал изящное письмо; я набросал краткий отчет. Мы сказали наезднику скакать всю ночь. С такой скоростью он сможет прибыть в Рим не раньше, чем завтра на рассвете, а Веспасиан любил читать письма с первыми лучами солнца. Думая о Риме, я почувствовал тоску по дому и хотел сам броситься и отвезти письмо на Палатин.
— Ну, больше мы ничего не можем сделать, — вздохнул магистрат, сидя на кушетке и развернув свой атлетический торс, чтобы он мог дотянуться до стола на трех ножках и налить нам вина. — Можно также получить удовольствие…
Он был не тем типом, которого я бы предпочел в качестве компании, и я хотел уйти, но написание отчетов вызывало у меня сильное желание напиться. Особенно на деньги сенатора.
Я чуть не предложил вместе сходить в баню, но какаято счастливая случайность остановила меня. Я наклонился вперед, потянулся и слез, чтобы принести себе вина; вооружившись, я снизошел сесть с ним на кушетку, чтобы легче было чокаться бокалами, как близкие друзья, которыми мы не были. Эмилий Руф одарил меня своей спокойной, золотой улыбкой. Я с благодарностью принялся за его фалернское вино, которое было безупречным.
Он сказал:
— Прости, я мало с тобой виделся, когда ты обучал мою сестру. Я надеялся, что смогу это исправить…
Потом я почувствовал, как его правая рука ласкала мое бедро, пока он говорил мне, какие у меня красивые глаза.
LXIV
У меня была только одна реакция на подобные подходы. Но прежде, чем я успел ударить кулаком в его красивую дельфийскую челюсть, он убрал руку. Ктото, кого он никак не мог ожидать, вошел в комнату.
— Дидий Фалько, я так рада, что нашла тебя! — Горящие глаза, гладкая кожа и быстрая, легкая поступь: Елена Юстина, дорогая моему сердцу. — Руф, извините меня, я пришла к Фаусте, но поняла, что она ужинает не дома… Фалько, уже намного позднее, чем я ожидала, так что если ты возвращаешься в виллу, — невозмутимо попросила она, — могу я поехать под твоей защитой? Если это не нарушит твои планы и не доставит много хлопот…
Поскольку у магистрата было самое лучшее фалернское вино, я осушил чашу, прежде чем заговорить.
— Девушка никогда не может доставить много хлопот, — ответил я.
LXV
— Ты могла бы меня предупредить!
— Ты сам достукался до этого!
— Руф казался таким безукоризненным — он застал меня врасплох…
Елена захихикала. Она разговаривала со мной через окошко своего паланкина, пока я шел рядом с ним и ворчал.
— Ты выпивал с ним вино, расположившись на одной кушетке. Туника приподнялась над коленями; этот нежный беззащитный взгляд…
— Меня это возмущает, — сказал я. — Гражданин должен иметь право выпить, где ему хочется, без того, чтобы это расценили как откровенное приглашение к заигрываниям от мужчины, которого он едва знает и который ему не нравится…
— Ты был пьян.
— Неважно. Вообщето не был! Повезло, что ты пришла к Фаусте…
— Везение, — заметила в ответ Елена, — тут совершенно ни при чем! Тебя так долго не было, что я начала беспокоиться. На самом деле я видела Фаусту, но она ехала в другую сторону. Ты рад, что я пришла? — внезапно улыбнулась она.
Я остановил паланкин, вытащил Елену, потом отправил носильщиков вперед, пока мы шли сзади в сумерках, а я показывал, был ли рад.
* * *
— Марк, как ты думаешь, почему Фауста направлялась в Оплонтис? Она узнала, что коекто снова будет в вилле Поппеи ужинать с командующим флотом.
— Крисп? — застонал я и переключился на другие вещи.
— Что такого особенного в префекте Мизен? — удивлялась Елена, не впечатленная моими отвлекающими маневрами.
— Понятия не имею…
— Марк, я потеряю сережку; давай я ее сниму.
— Сними все, что хочешь, — согласился я. Потом я поймал себя на мысли, что задумался над ее вопросом. Чертов командующий мизенским флотом ловко встал между мной и романтическим настроением.
Не считая британской эскадры, на которую не обращали внимания почти все цивилизованные страны, римский флот расположился единственным возможным для длинного узкого государства способом: одна флотилия базировалась под Равенной, чтобы защищать восточное побережье, а другая у Мизен на западном.
Сейчас появились ответы на несколько вопросов.
— Скажи мне, — задумчиво начал я, обращаясь к Елене. — Не считая Тита и легионов, какова была ключевая черта кампании Веспасиана, чтобы стать императором? Что в Риме было хуже всего?
Елена вздрогнула.
— Все! Воины на улицах, убийства на форуме, пожары, лихорадка, голод…
— Голод, — сказал я. — В доме сенатора, я полагаю, у тебя все было нормально, а в нашей семье никто не мог достать хлеба.
— Зерно! — ответила она. — Вот что было в критическом состоянии. Египет обеспечивал целый город. Веспасиана поддерживал префект Египта, так что тот всю зиму сидел в Александрии, давая Риму понять, что именно он контролировал доставку зерна и без его доброй воли корабли могли и не прийти…
— Теперь представь, что ты сенатор с необыкновенными политическими амбициями, но тебя поддерживают только в изможденных провинциях типа Норика…
— Норик! — фыркнула она.
— Точно. Там не на что надеяться. В то же время префект Египта оказывает сильную поддержку Веспасиану, так что поставки гарантированы — но предположим, что в этом году, когда корабли с зерном показываются в поле зрения у полуострова Путеол…
— Флотилия останавливает их! — Елена была в ужасе. — Марк, мы должны остановить флотилию! Я представил любопытное зрелище, как Елена Юстина, словно богиня, выплывает на корабле из Неаполя, поднимая руку, чтобы остановить конвой, несущийся на всех парусах. Она задумалась: — Ты на самом деле говорил серьезно?
— Думаю, да. И понимаешь, мы говорим не о паре мешков на спине осла.
— Сколько? — педантично спросила Елена.
— Ну, пшеницу привозят из Сардинии и Сицилии; я не уверен в точных пропорциях, но писец в канцелярии префекта по продовольствию както сказал мне, чтобы нормально накормить Рим, ежегодно необходимо пятнадцать миллиардов бушелей…
Дочь сенатора позволила себе вольность присвистнуть сквозь зубы.
Я улыбнулся ей.
— Следующий вопрос в том, Пертинакс или Марцелл сейчас продвигает этот гнусный план?
— О, на него есть ответ! — заверила меня Елена в своей быстрой убедительной манере. — Это Крисп поддерживает флотилию.
— Правда. Я считаю, что они оба были с этим связаны, но теперь, когда Пертинакс принялся на всех нападать и все такое, Крисп считает его помехой. Суда отправляются в Египет в апреле… — продолжил я. Нон апреля — «Галатея» и «Венера из Пафоса»; за четыре дня до ид — «Флора»; за два дня до мая — «Лузитания», «Конкордия», «Парфенопа» и «Грации»… — Потребуется три недели, чтобы добраться туда, и не меньше двух месяцев, чтобы вернуться обратно против ветра. В этом году первые из них, должно быть, опоздают домой…
— В этом и проблема! — проворчала Елена. — Если все произойдет на воде, то ты застрянешь! — Я поблагодарил ее за доверие и ускорил шаг. — Марк, как, потвоему, они планируют поступать дальше?
— Задержат корабли, когда они прибудут сюда, а потом пригрозят отправить та в какоенибудь секретное место. Если бы этим занимался я, то я подождал бы, пока сенат отправит на переговоры какогонибудь упрямого претора. А потом начал бы опустошать мешки за борт. Вид Неаполитанского залива, превратившегося в одну большую тарелку с овсяной кашей, возможно, произвел бы правильное впечатление.
— В общем, — с чувством сказала Елена, — я рада, что не ты этим занимаешься! Кто просил тебя расследовать ввоз зерна? — любопытным тоном спросила она.
— Никто. Я сам наткнулся на коечто.
По какойто причине Елена Юстина обняла меня и засмеялась.
— За что это?
— О, мне нравится мысль, что я отдала свое будущее в руки человека, который так хорошо работает!
LXVI
Я решил совершить налет на виллу Поппеи, пока Крисп был там.
В идеале я самостоятельно проникну внутрь. Мой опыт осведомителя привел бы меня к гостям как раз в тот момент, когда они придут к согласию о грязных подробностях плана; потом, вооружившись вескими доказательствами, М. Дидий Фалько, наш полубожественный герой, столкнется с ними лицом к лицу, разрушит их планы и одной рукой закует их в кандалы…
Такими идеальными эпизодами будут хвастаться большинство личных осведомителей. В моем случае все было более сложно.
Первая проблема заключалась в том, что Елена, Петроний и Ларий, которые все были крайне любознательными, тоже отправились со мной. Мы прибыли туда, как барабанщики из храма, — слишком шумные — и слишком поздно. Пока мы стояли на террасе, обсуждая, как лучше попасть в дом, вся толпа гостей вывалила из дверей и прошла мимо нас. Не было никакого шанса выжать из когонибудь признание — или малейший признак сознания.
Исходом руководил сам Крисп, ногами вперед и лицом вниз; он ничего ни о чем не знал. Ко всему привыкшие рабы, которые несли его к скифу, просто подняли обеденный стол, на который он упал кверху ногами, и прямо на нем вынесли его на улицу, как недоеденный десерт. На одной из ручек висел его сегодняшний мягкий венок, а в другую были продеты ремни от обуви. Пройдет много времени, прежде чем его величество проснется, и в тот момент он будет не самым лучшим собеседником.
Гостями Криспа были капитан из Мизен, а также группа капитанов трирем. Морской флот состоял из действительно суровых людей. В течение последних гражданских войн у нас был ужасный налет пиратов в Черном море, но здесь на западном побережье все было мирно. У мизенского флота было не так много дел, кроме как разбираться с многочисленными жалобами на их общественную жизнь. Вокруг залива Неаполя каждую ночь устраивались пиры, так что в основном по вечерам моряки занимались тем, что использовали свое положение для поиска бесплатной выпивки. У них были невероятные способности, а их ловкость после этого держать курс к дому, распевая солдатские песни в ужасно неприличных вариантах, заставляло трезвых расступаться на их пути.
Когда гости только показались из дома, полдюжины капитанов трирем притворялись собаками на охоте. Они кусали друг друга, выли, тявкали, поднимали передние лапы, задыхались, вытаскивая языки, фыркали на луну и нездоровые спины тех, кто стоял перед ними. Было весело смотреть, какое удовольствие они получали от собственной глупости. Их командующий ходил на четвереньках вокруг этих потрясающих ребят, блея, как овца с гор Лактарий. Они все бродили, словно группа греческих комиков, чей хозяин не смог поставить представление на сцене. Потом события стали разворачиваться както сами по себе. Они поднялись по сходне, положив тяжелые руки друг другу на плечи, сцепившись в милую цепочку, словно родные братья, и стали танцевать, поднимая колени. Один чуть не упал за борт, но когда он дугой склонился над водой, его приятели, воспользовавшись центробежной силой, затащили его обратно, хором издав возрастающий неистовый возглас. Волоча за собой сходню, их транспорт исчез.
После их ухода вечер показался более меланхоличным. Петроний сказал, что он сразу стал в три раза сильнее уважать моряков.
* * *
Мы уже уходили, когда Елена Юстина вспомнила о своей подруге. Я хотел оставить Фаусту здесь, но надо мной взяли верх. Одна из причин, почему осведомитель должен работать один: чтобы его не втягивали в совершение добрых дел.
Девушка пряталась в атрии, сильно рыдая. Она побывала у амфор. Фауста стала бы хорошей находкой для виноторговца с маленькой прибылью — если такой человек существовал.
Вокруг нее поставщики провизии приводили все в порядок, не обращая внимания на растрепанное привидение, стоявшее на коленях. Я видел, как Елена разозлилась.
— Они презирают ее! Она женщина, которая глупо себя ведет, но хуже того, что у нее даже нет мужчины, который о ней позаботится…
Ларий и Петро скромно сделали шаг назад, но Елена уже заставила раба остановиться и все объяснить. Он сказал, что Фауста опять упрямо вторглась в виллу прямо посреди ужина. Пир был довольно непристойным: одни мужчины исключительно с женскими развлечениями…
— И Ауфидий Крисп, — надменно закричала Елена, — обнимался с испанской танцовщицей?
— Нет, госпожа… — Раб покосился на нас с Петро. Мы улыбнулись. — На самом деле с двумя! — Он был рад удариться в подробности, но Елена сквозь зубы шикнула на него.
Повидимому, Фауста просто упала духом и ушла, погрузившись в смиренное горе, которое было ей так хорошо знакомо; Крисп, возможно, даже не заметил ее. Теперь она осталась здесь, в пустой вилле, где слуги сталкивали с пристани в море пустые амфоры и собирались уходить.
Елена подняла немало шума, пока не принесли ее паланкин. Сегодня носильщиками Фаусты были плохо подобранные рабы из Либурнии, один хромой, а второй с множеством опасных нарывов на шее.
— О, мы не можем оставить ее с этими простофилями, — заявила Елена.
Не признавая себя ответственными, мы с Ларием сумели усадить Фаусту в паланкин. Носильщики донесли ее только до постоялого двора Оплонтиса, но пока мы обсуждали, что делать дальше, она выскочила и побежала на берег, проклиная мужчин, выкрикивая названия тех частей тела, которые она хотела бы видеть высохшими и отвалившимися в таких подробностях, что мне стало плохо.
Мне уже надоела вся ее семейка. Но чтобы угодить Елене, я согласился потратить еще немного из того времени, что могло бы в других обстоятельствах стать приятным вечером, и какнибудь успокоить ее…
Если бы удача была на моей стороне, то какойнибудь бандит, которому нужен повар, чтобы разогревать похлебку, утащил бы Фаусту первым.
* * *
Я настаивал посадить Елену в ее собственный паланкин и отправить обратно на виллу. Это заняло довольно много времени, по тем причинам, о которых всем, кроме меня, знать необязательно.
К тому времени большая часть побережья была окутана темнотой. Когда я вернулся к постоялому двору, Фауста исчезла. Хотя было уже слишком поздно, я нашел Лария, который читал стихи няне Оллии на скамейке во дворе; по крайней мере, он перешел от Катулла к Овидию, который лучше относился к любви и, что еще важнее, к сексу.
Я сел с ними.
— Вы развратничали, дядя?
— Не смеши меня. Никакой дочери сенатора не понравилось бы лежать на голой земле среди любопытных пауков с сосновой шишкой под спиной!
— Правда? — спросил Ларий.
— Правда, — солгал я. — Что заставило Эмилию Фаусту покинуть морских обитателей?
— Добродушный, свободный от работы центурион. Он ненавидит, когда сестры знатных граждан сидят на берегу в пьяном состоянии.
Я застонал. Петроний Лонг всегда был слишком доверчивым по отношению к женщине в слезах.
— Значит, он перекинул ее через плечо, усадил в паланкин, пока она разглагольствовала, какой он милый человек, а потом сам отправился в Геркуланум в качестве ее трогательного сопровождающего?
Ларий засмеялся.
— Вы знаете Петро!
— Он даже не побеспокоится попросить вознаграждения. Что сказала Сильвия?
— Ничего — очень подчеркнуто!
Это была прекрасная ночь. Я решил запрячь Нерона и встретить Петро, чтобы отвезти его домой. Ларий решил составить мне компанию; потом, будучи молодой и нелогичной, Оллия поехала, чтобы составить компанию ему.
Когда мы доехали до дома магистрата, привратник сказал, что Петроний приехал с девушкой, но поскольку она плохо стояла на ногах в своих выходных туфлях, он помог ей зайти. Чтобы не рисковать, отказываясь от предложений Эмилия Руфа развлечься, мы остались ждать в повозке.
Петро, которого долго не было, удивился, увидев нас там. Мы все задремали, так что он залез на переднее сидение и взял поводья. Все равно среди нас он был лучшим водителем.
— Берегись этого магистрата! — запел я. — Его фалернское вино прекрасно, но я бы не хотел встретиться с ним за столбом в темной бане… Его сестра доставила тебе много хлопот?
— Нет, если не обращать внимания на ерунду типа «Мужчины отвратительны; почему я не могу встретить одного?» — Я сказал несколько грубых слов о Фаусте, хотя Петроний настаивал, что эта бедняжка довольно мила.
Ларий дремал на удобном плече Оллии. Я мог поразмышлять о женщине получше, чем эта дурочка, сестра магистрата, так что я забрался в уголок и тоже собрался поспать, убаюкиваемый легкими поскрипывающими движениями повозки в теплую ночь в Кампании.
Как всегда хорошо воспитанный, Петроний Лонг чтото тихонько мурлыкал себе под нос, пока вез нас домой.
LXVII
Два дня спустя магистрат пытался арестовать Атия Пертинакса. Это был день рождения дочери Петро, так что я отправился в Оплонтис с подарком. После того как я отверг Руфа, он не пытался предупредить меня. Так что я пропустил действо.
Там почти нечего было пропускать. Руфу следовало прислушаться к моему совету: поскольку вилла Марцелла выходила на море, разумнее было зайти сверху, с горы. Но когда от Веспасиана пришел приказ задержать Пертинакса, Эмилий Руф взял группу воинов и ворвался с главной дороги имения, которую хорошо было видно из дома.
Марцелл оказал ему холодный прием и разрешил провести обыск, а сам сидел в тени и ждал, пока этот идиот обнаружит очевидное: Пертинакс сбежал.
Как только фурор поутих, Елена Юстина приехала за мной в Оплонтис рассказать эту историю.
— Гней ускакал верхом с Брионом. Брион, при всей своей видимой наивности, вернулся чуть позже с обеими лошадями, чтобы сказать, что его молодой хозяин решил отправиться в круиз…
— У него есть на чем?
— Брион оставил его на корабле Ауфидия Криспа.
— Крисп знает, что есть ордер на арест?
— Это неизвестно.
— Где находится судно?
— В Байях. Но Брион видел, как оно вышло в море.
— Потрясающе! Значит, знаменитый Эмилий Руф загнал Пертинакса на самое быстрое судно между Сардинией и Сицилией…
От Руфа не вышло никакой пользы. Мне нужно было зафрахтовать корабль и самому искать «Исиду Африканскую». Сейчас уже было слишком поздно, так что, по крайней мере, я мог сначала насладиться еще одним вечером с моей девушкой.
* * *
Именинницей была Сильвана — средняя дочь Петро; ей исполнялось четыре, и сегодня дети ужинали вместе с нами. Однако мы задержались, потому что наступил один из тех радостных семейных моментов, без которых не обходится ни один праздник. Аррия Сильвия нашла няню Оллию всю в слезах.
Два важных вопроса о личном календаре Оллии показали, что мое предсказание насчет того рыбака должно быть верным. Он все еще околачивался здесь каждый день. Оллия это отрицала, что окончательно определило приговор. Сильвия дала Оллии подзатыльник, чтобы освободиться от собственных чувств, потом приказала нам с Петронием разобраться с причиняющим беспокойство ловцом омаров, когда уже все равно было поздно.
Мы нашли молодого красавца, приглаживающего свои усы, у старого якоря; рука Петро схватила его за загривок быстрее, чем можно было того ожидать. Конечно, он заявил, что никогда не трогал девчонку; мы были к этому готовы. Мы отвели парня в покрытую дерном лачугу, где он жил со своими родителями, и, пока юноша сердился, Петроний Лонг кратко и лаконично выложил им всю суть проблемы. Отец Оллии был опытным легионером, который служил в Египте и Сирии более двадцати лет, пока не ушел с двойной оплатой, тремя медалями и документом, который делал Оллию законнорожденной. Сейчас он организовал школу для подготовки кулачных бойцов, где этот человек был известен своим благородным поведением, а его подопечные славились верностью по отношению к нему…
Старый рыбак был беззубым, бесталанным, ненадежным типом, которому нельзя слишком доверять, когда он стоял рядом с тобой с ножом для мяса. Но то ли из страха, то ли просто из хитрости он с готовностью помог нам. Парень согласился жениться на девушке, а поскольку Сильвия никогда не оставит Оллию здесь, мы решили, что рыбаку придется вернуться с нами в Рим. Его родственники, казалось, были впечатлены таким результатом. Мы приняли этот вариант как лучшее, чего мы могли добиться.
Новость о том, что честной женщиной Оллию предстояло сделать хитрому грубияну с усами из морских водорослей, снова заставила девушку разрыдаться. Ларий, от которого мы скрывали грязные подробности, смотрел на меня ужасно сердито.
— Оллия совершила ошибку со своим куском китового жира, — просветил я его. — Она только сейчас поняла, почему мама всегда предупреждала ее: следующие пятьдесят лет девушка будет расплачиваться за эту ошибку. Когда этот рыбак останется дома и не отправится бегать за женщинами, он будет целый день валяться в постели, кричать, чтобы Оллия принесла ему обед, и называть ее сонной тетерей. Теперь ты оценишь, почему женщины, которые могут себе позволить, готовы рисковать и принимать лекарства врача, делающего аборт…
Ларий поднялся, не сказав ни слова, и пошел помогать Петронию договариваться насчет вина.
Пока Сильвия успокаивала Оллию, Елена Юстина разговаривала с детьми. Она посмотрела на меня долгим спокойным взглядом дочери сенатора, которая повидала жизнь и с темной стороны и тоже решила, что любая женщина, которая может себе такое позволить, потратила бы серьезные деньги, чтобы этого избежать.
* * *
Нам удалось хорошо провести вечер — так отчаянно, как это делают люди, когда выбор стоит между тем, чтобы упорно бороться за жизнь или увязнуть в болоте.
Как только снова появился Петро с подносами с хлебом и бутылками вина, напряжение стало рассеиваться. Ласковое прикосновение его больших рук к уставшим головам всех успокоило, словно он оживил нас. Оказавшись рядом с Сильвией, у которой сегодня вечером было больше забот, чем обычно, я утешал ее, положив руку ей на колено. Стол был таким узким, что люди, которые сидели напротив, практически оказывались у тебя на коленях. Сильвия пнула Петро, подумав, что это был он, так что, даже не отрываясь от кефали, он сказал:
— Фалько, убери руки от моей жены.
— Почему ты так плохо себя ведешь, Фалько? — при всех заворчала на меня Елена. — Положи руки на стол, и если тебе обязательно к комуто приставать, то строй глазки мне.
Я мрачно задумался, почему Елена была так строга со мной: изза того, что переживала за Пертинакса, которому пришлось сбежать? Я наблюдал за ней, но она об этом знала; ее бледное лицо решительно не выдавало никаких чувств.
Это был один из тех вечеров, когда приезжала труппа провинциальных танцоров, которые скоро развеселили нас. В любом уголке мира можно встретить этих уставших артистов: девушек с алыми ленточками и тамбуринами, которые, если присмотреться, оказывались немного старше, чем казались вначале; мальчика с горящими глазами, дружелюбной улыбкой и ужасно кривым носом, который неистово играл на свирели; надменного лысеющего персонажа, пиликающего на священной флейте, вид которой неизвестен даже музыковедам. Пастухи ли это с подножий гор или родственники хозяина постоялого двора — кто знает? Это была работа на лето — мало денег, немного выпивки, хилые аплодисменты, свист из толпы местных, а для нас поучительная наценка, когда выходишь в уборную и обнаруживаешь там одного из танцоров, который, прислонившись к стене, поедает палку салями. Он выглядит уже менее ярким, менее веселым и определенно менее чистым.
Эти артисты были так же хороши, или так же плохи, как бывает обычно. Они крутились, и скользили, и били своими каблуками без всякого интереса, хотя девушки всегда улыбались, проходя после выступления с корзинами роз, и шепотом ругали крупного черноволосого мужчину, который должен был выжимать из нас деньги. Он же демонстрировал особо сильное желание сесть, выпить за чейнибудь счет и отдохнуть от своих старинных танцевальных туфель. Пока он разговаривал с Петронием, я одной рукой обнял Елену и вспоминал, как в старые времена всегда оказывалось, что мой старший брат Фест знал флейтиста, так что детям на представлении давали бесплатный инструмент из связки настроганных дома палочек грустного музыканта, и нам не приходилось за них платить…
Петро наклонился к Елене.
— Как только он начнет болтать о своем брате, забери у него стакан с вином! — Она так и сделала. Я не возражал, потому что в это время она так нежно мне улыбалась, что я почувствовал слабость во всем теле. Петроний великодушно вручил Елене грецкий орех. К его достижениям относилась способность так искусно раскалывать скорлупу грецких орехов, что ядро оставалось целым: обе половинки все еще хитро скрепляла тонкая пленка. Съев его, девушка положила голову мне на плечо и взяла меня за руку.
Вот так мы все и сидели вечером под виноградником, с мерцанием темного моря за каменным пилястром, а тем временем люди в коротких туниках поднимали пыль в легком тумане над листьями гибискуса. У Оллии болел живот, а у моего бедного Лария болело сердце. Я думал о том, как завтра буду искать Атия Пертинакса. Елена мечтательно улыбалась. Петроний с Сильвией решили, что получили от отпуска все, что могли, а теперь пора возвращаться домой.
Флейты больше не играли. Они никогда не играют, но мы с Петро никогда к этому не привыкнем.
* * *
Мы все медленно шли к постоялому двору, и поскольку сегодня был день рождения Сильваны, мы совершили целую церемонию, укладывая детей спать. Я не знал, через что мне еще придется пройти, прежде чем я снова увижу Елену, так что я утащил ее в сторонку, чтобы попрощаться наедине. Ктото снизу крикнул, что ко мне посетитель. Петроний подмигнул мне и спустился, чтобы посмотреть.
Одна из девочек, достигшая высшей степени непослушания, на какую могла осмелиться, понеслась за ним в одной ночной рубашке. Спустя двадцать секунд, даже несмотря на шум наверху, мы услышали ее крики.
Я первый пробежал по коридору и первый спустился вниз по лестнице. Петронилла стояла в дверях, как вкопанная, все еще крича. Я взял ее на руки. Больше ничего нельзя было сделать.
Петроний Лонг лежал лицом вниз во дворе с раскинутыми руками. Его сбили с ног яростным ударом, нанесенным в самую опасную, чувствительную область шеи. Кровь, медленно вытекающая из раны, говорила обо всем.
Долгое время я держал его дочку, и просто стоял, не в состоянии пошевелиться. Я ничего не мог для него сделать. Я знал, что он был мертв.
LXVIII
Среди шагов, которые следовали за мной по лестнице, я услышал шуршание сандалий Сильвии, потом она в один миг пролетела мимо меня и бросилась на Петро прежде, чем я успел схватить ее. Мне показалось, что она с трудом произнесла «О, моя детка!» — но, должно быть, здесь была какаято ошибка.
Я сунул ребенка комуто в руки, потом выбежал и пытался убедить Сильвию отпустить его. Елена Юстина протиснулась мимо меня и встала на колени у головы Петро, чтобы аккуратно проверить дыхание и пульс.
— Марк, иди, помоги мне — он жив!
После этого мы с ней работали сообща. Жизнь снова дала надежду. Можно было чтото сделать.
Ларий на осле отправился искать врача. Оллия с удивительным сочувствием подбадривала Сильвию. Я не хотел шевелить Петро, но с каждой минутой становилось темнее, а мы не могли оставить его на улице. Елена заняла комнату на первом этаже — думаю, заплатив за нее, — затем мы отнесли туда Петро, положив его на переносную изгородь.
Он должен был умереть. Человек поменьше умер бы. Я умер бы. Наверное, какойто преступник, который специализируется на бессмысленных поступках, сейчас так и думал.
Петроний лежал глубоко без сознания, настолько глубоко, что это было опасно. Даже если он когданибудь и проснется, этот человек, возможно, не останется прежним. Но он был крупным, здоровым мужчиной с соответствующей физической силой; во всем, что он делал, чувствовались выдержка и решительность. Ларий нашел доктора, который обработал рану, уверил нас, что Петроний потерял не так много крови, и сказал, что все, что мы сейчас могли сделать, это держать его в тепле и ждать.
Елена успокаивала детей. Она устроила Сильвию на подушках и под одеялом в комнате Петро. Елена проводила врача, разогнала зевак и утешила Оллию с Ларием. Я даже видел, как они с Оллией кормили котят детей Петро. Потом она послала в виллу сообщение, что останется здесь.
Я обошел вокруг постоялого двора, как делал Петро каждый день.
Я стоял на дороге с
внешней стороны здания, вслушивался в темноту, ненавидел того, кто это сделал, планировал месть. Я знал, что это должен был быть Атий Пертинакс.
Я заглянул в конюшню и с руки покормил Нерона сеном. Снова вернувшись в комнату, где лежал Петро, я увидел, как Сильвия нежно укачивала Тадию на руках. Я улыбнулся, но мы не разговаривали, потому что дети спали. Я знал, что Сильвия винила меня. Здесь нам не о чем было спорить: я сам винил себя.
Я затушил все свечки, кроме одной, потом сел рядом с другом. Этим вечером черты его лица были странно впалыми. Под синяками от сильного падения его лицо казалось таким бесцветным и невыразительным, словно чужое. Я знал его уже десять лет; мы жили в одной казарме на другом конце света в Британии и в одной палатке на маршбросках. После этого вернувшись в Рим, мы с Петронием распили больше бутылок вина, чем я мог вспомнить, издевались над женщинами друг друга, смеялись над привычками, обменивались одолжениями и шутками и редко ссорились. Кроме тех моментов, когда его работа мешала моей. Он был мне братом, хотя мою работу было слишком тяжело терпеть.
Петро не знал, что я сидел здесь. Наконец, я ушел, оставив двух его старших дочерей, заснувших калачиком рядом с ним.
* * *
Я поднялся наверх, будучи бдительным и стараясь сохранить силы. Я перевернул матрац на кровати Петро и там, где я и ожидал увидеть, нашел его меч. Я поставил его рядом со своей кроватью. В другой нашей комнате Елена разговаривала с Оллией и Ларием; я заглянул, чтобы пожелать спокойной ночи, поскольку нужно было пересчитать головы. Мне удалось помпезно прохрипеть Елене:
— Это не очень уместно, но спасибо, что осталась. Без тебя здесь был бы полный хаос. Я не хотел обременять тебя нашими проблемами…
— Твои проблемы — это мои проблемы, — упрямо ответила Елена.
Я улыбнулся, не в состоянии сдержаться, потом повернулся к Ларию.
— Пора спать.
Но Елена убеждала Оллию поверить ей, а Ларий был частью урока, так что когда я ушел, еще некоторое время слышался шепот их голосов.
* * *
Прошло уже три часа с того момента, как стемнело. Я лежал на спине, сложив руки, рассматривая верхнюю часть оконной ниши на противоположной стене, пока ждал дня и своего шанса осуществить месть. Скрипнул пол; я ожидал Лария, но это была Елена.
Мы так хорошо знали друг друга, что не сказали ни слова. Я протянул ей руку и подвинулся, освободив место на ужасной кровати. Она задула свою лампу и чутьчуть смочила ее, чтобы от фитиля не распространялся запах; потом я тоже пальцем затушил свою.
Теперь я лежал на спине со сложенными руками, но на этот раз мои руки крепко обнимали Елену. Ее холодные ноги, чтобы согреться, нашли себе местечко под моими. Я ясно запомнил, как мы оба выдыхали в один момент, хотя не мог сказать, кто из нас заснул первым.
Ничего не произошло. Существовала не единственная в мире причина, чтобы спать в одной постели. Елена хотела быть со мной. А она была нужна мне.
LXIX
Следующие три дня я прочесывал залив в судне, взятом напрокат в Помпеях, — медленной лодке с тупым капитаном, который не мог или не хотел понять, как я спешил. Я опять искал «Исиду Африканскую», и опять это казалось напрасной тратой времени. Каждый вечер я возвращался на постоялый двор, истощенный и мрачный. В первый день поздно вечером Петроний начал приходить в сознание. Он казался очень тихим и растерянным изза своего состояния, однако был самим собой. Но даже его постепенное выздоровление не могло улучшить мое кислое настроение. Как я и ожидал, Петро ничего не мог вспомнить о нападении.
На третий день я написал Руфу с предложением объединить силы. Я рассказал ему, что случилось, и назвал новое обвинение против Пертинакса: покушение на убийство римского стражника, Луция Петрония Лонга. Парень, которому я поручил передать сообщение, вернулся с просьбой приехать домой к Эмилию. Ларий отвез меня на повозке с Нероном.
Руфа не было дома. Это его сестра хотела меня видеть.
* * *
Я встретился с Эмилией Фаустой в холодной комнате, где тяжелая тень от орехового дерева на улице падала прямо на открытое окно. Она казалась меньше и худее, чем когдалибо. Ее бледность усугубляли нелестные тона безвкусного платья зеленоватоголубого цвета.
Я был зол.
— Я ждал твоего брата. Он получил мое письмо? — Предчувствовав мою реакцию, она виновато кивнула. — Понятно! Но он продолжит охоту без меня?
— Мой брат говорит, что осведомители не принимают участия в жизни общества…
— Твой брат слишком много говорит! — Я дал ей понять, что злился; я потратил время на дорогу и потерял целый день поисков.
— Мне очень жаль, — осторожно перебила меня Эмилия Фауста, — твоего друга. Его сильно ранили, Фалько?
— Тот, кто его ударил, хотел снести комуто голову.
— Ему?
— Мне.
— Он поправится?
— Мы надеемся. Больше ничего сказать не могу.
Она сидела на плетеном стуле, вокруг колен был завернут длинный шарф с бахромой. У нее было застывшее выражение лица, а голос звучал сухо и монотонно.
— Фалько, это точно, что напал Пертинакс Марцелл?
— Ни у кого больше не было мотива. Многие люди не любят меня; но не так сильно, чтобы хотеть убить!
— Мой брат, — продолжала она, — считает преимуществом то, что Крисп и Пертинакс сейчас вместе…
— Твой брат ошибается. Пертинакс полностью утратил нравственность; эти дикие нападения — были и другие — показывают весь размах его морального падения. Криспу нужно лишь избавить его от грандиозных идей.
— Да, Фалько, — тихо согласилась Фауста.
Задумчиво разглядывая ее, я сказал:
— Веспасиан не согласен с его политикой, а тебе не нравится его личная жизнь — но это не влияет на его потенциал в государственной службе.
— Нет, — подтвердила она с грустной улыбкой.
В ожидании у меня зазвенело в ушах.
— Вы хотите дать мне коекакую информацию, госпожа?
— Возможно. Мой брат договорился встретиться с Криспом, чтобы арестовать Пертинакса. Я боюсь, что может произойти. Секст бывает импульсивным…
— Секст? О, твой брат! Я полагаю, Пертинакс ничего не знает о том, что они договорились на эту дружескую встречу? — Интересно, сделал ли Ауфидий Крисп свой выбор: сохранить расположение Веспасиана, выдав беглеца. А может, он просто скрывался за этой суматохой, прежде чем сам попытается претендовать на трон. При этом тут он, возможно, заблуждался: Эмилий Руф пытался схватить Пертинакса, чтобы можно было въехать в Рим в лучах славы… В этом великом проекте, как я заметил, никто не запланировал никакой активной роли для меня. — Эмилия Фауста, где они встречаются?
— На море. Мой брат еще до обеда уехал в Мизены.
Я нахмурился.
— Было бы умнее с его стороны не доверять морякам. У Криспа есть близкие союзники среди капитанов триер…
— Так же, — более сухо призналась Эмилия Фауста, — как и у моего брата!
— А! — сказал я.
Сменив тему, девушка резко спросила:
— Что я могу послать, чтобы помочь твоему другу и его семье?
— Ничего особенного. Спасибо, что предложила…
Как в большинстве случаев, Фауста, казалось, ожидала получить отказ.
— Ты думаешь, что это не мое дело.
— Правильно, — сказал я. Мне в голову пришла мысль, которую я отогнал, поскольку это было бы предательством по отношению к Петронию.
Я видел, что Эмилия Фауста относилась к тому типу людей, которые легко могли от страстной одержимости Криспом перейти к простодушному увлечению кемнибудь довольно глупым, чтобы выслушивать ее проблемы. Это не новый сценарий. Будучи крупным, терпеливым человеком, любящим посадить себе на колено чтонибудь изысканное и обнимать, мой сосед по палатке Петроний оставил в своей памяти много горячих молодых девушек, которые относились к нему как к своему спасителю по причинам, о которых я слишком стеснялся спросить. Они обычно оставались друзьями. Так что Петро не захотел бы, чтобы я поссорился с Фаустой от его имени.
Я предложил:
— На самом деле, в твоих силах коечто сделать. Сейчас Петроний мог бы пережить поездку; мне нужно отвезти его домой. Ты могла бы одолжить его семье пару приличных паланкинов, чтобы было удобно ехать? А еще лучше — убедить твоего брата предоставить вооруженную охрану? Он поймет зачем. Тогда я смогу и Елену Юстину отправить в город в безопасности… — Фауста благородно кивнула. — Теперь мне нужно идти. Ты сказала «на море». Ты не могла бы уточнить место их встречи?
— Ты пообещаешь, что Ауфидий Крисп будет в безопасности?
— Я никогда не даю обещания о том, что я не могу контролировать. Но моя работа — сохранить его для Рима… Так где состоится встреча?
— У Капри, — сказала Фауста. — Сегодня днем. Под императорской виллой Юпитера.
LXX
Мне нужен был корабль, быстро.
Я выбежал из дома. На улице Нерон, который ничего не стеснялся, знакомился с парой грязных дешевых мулов, которых оставили у портика в рое мух. Я знал этих мулов. Ларий прислонился к стене в тени, болтая с их наездниками: страшным громилой, которого стоило бояться на улице, и карликом со щетиной на хитром лице. Они оба были одеты в белые туники с зеленым поясом; я узнал это одеяние: управляющий Гордиана и его креветкоподобный приятель.
— Ларий, не разговаривай с незнакомыми людьми!
— Это Мило…
— Мило — это плохие новости. Пойдем; нам нужно ехать. Направь Нерона на набережную, чтобы я мог взять лодку…
— О, у Мило есть лодка на берегу…
— Это так? — Я заставил себя говорить вежливо.
Мило ухмыльнулся мне. Он был моей головной болью; единственным утешением являлось то, что это и наполовину не так плохо, какую головную боль я однажды вызвал у него куском порфира.
— Попробуй узнать! — пригрозил он с косым взглядом: снова кротонский этикет.
— Давай я попрошу вежливо: покажи мне свою лодку, и я обещаю не рассказывать Гордиану, что ты отказался помогать! Пойдем — сестра магистрата намекнула на местонахождение Пертинакса…
* * *
На южной окраине города волноломы, пронизанные мощными арками, были тем местом, где граждане Геркуланума по дороге в загородные термы могли походить по любому кораблю, соблюдавшему строгие морские правила, будучи живописно привязанным на пристани. Порт не был оснащен кранами и шкивами для разгрузки, но предоставлял место для прибывшего на время судна. Креветкообразный остался с Нероном и мулами.
— Он хорошо ладит с животными…
— Должно быть, поэтому он ходит с тобой!
Корабль, на который указал Мило, оказался коротким и толстым куском дерева под названием «Морской скорпион». Команда была начеку и видела, как мы приближались; как только мы с Ларием и Мило ступили на борт, матрос был готов затащить сходню.
На палубе ждала знакомая растрепанная массивная фигура Верховного жреца Гордиана, который прятал свои огромные, похожие на паутину уши в длинный плащ, словно со смерти своего брата он все никак не мог согреться. Он все еще был нездорового серого цвета, хотя его лысая кожа приобрела пятна розового загара.
Мы пожали друг другу руки, словно командующие армией посреди войны: такое же чувство, что с нашей последней встречи столько всего произошло, и тот же слабый оттенок подозрительности.
— Хорошо, что мы встретились, Фалько! Все в порядке?
— Я несколько раз сталкивался с опасностью, которой чудом удалось избежать. Пертинакс только что пытался убить меня точно так же, как он напал на вас… Скажите, как вы узнали, что он все еще жив?
— Вы были правы, мой брат написал, чтобы предупредить меня. Он оставил письмо своему распорядителю; оно пришло, когда вы уехали с Колонны.
— Есть какиенибудь новости о вашем раненом помощнике, сенатор? — Я был наполовину готов к ответу. Гордиан поднял свои глаза к небу: заместитель жреца умер. Еще одно обвинение против Пертинакса, хотя, как обычно, без доказательств.
Со свежим попутным бризом мы отправились на «Морском скорпионе» через залив. Гордиан спросил, узнал ли я корабль. Я думал, что нет, и был прав, поскольку на самом деле никогда его не видел. Но когда он крикнул капитану направляться к Капри, я понял, что слышал о нем. Капитан был моим другом: энергичный, с глазамибусинками молодой парень в загнутой, словно у гриба, шляпе, который скромно стоял и ждал, пока его узнают…
— Лэс! В какойнибудь другой день это мог бы быть счастливый момент!
Я представил своего племянника, который вытянул шею, чтобы применить к странному двухстороннему лицу моего друга из Кротона художественную перспективу. Ларий застенчиво сгорбился, став подозрительным тощим типом в грязной тунике; он все еще был с сумкой, с которой мы ходили, когда продавали свинец. Потом я несколько раз резко перевел взгляд с Гордиана на капитана.
— Вы все это время знали друг друга?
Гордиан засмеялся.
— Нет, мы познакомились, когда мне нужно было перевезти свою семью с мыса Колонны в Пестум. Ваше имя всплыло позже, и тогда я услышал о ваших совместных приключениях.
— Повезло встретиться с надежным человеком!
— Правда. Лэс останется, пока мы не уладим это дело. Он помог мне найти Ауфидия Криспа; потом, когда Крисп подтвердил, что насчет «Барнаба» все правда, Лэс работал с Мило, выслеживая Пертинакса. — Мы облокотились на леер корабля, пока команда устанавливала парус для долгого путешествия вдоль побережья Суррента. — Скажите, что вы думаете об этом человеке, Руфе, — неожиданно спросил Гордиан. — Мне показалось, что он довольно легкомысленно себя ведет.
— Ну, он умен и активно трудится на благо общества. — Я был не так глуп, чтобы критиковать сенатора перед Гордианом только за то, что он любил вино хорошей выдержки и молоденьких служанок. С другой стороны, его неумелая попытка арестовать Пертинакса была непростительна. — Эта неразбериха в вилле Марцелла говорит сама за себя.
Гордиан хмыкнул.
— Эгоистичный и незрелый! — таков был его строгий вердикт магистрату. Это объясняло, почему он решил продолжать свои собственные поиски Пертинакса даже после того, как официально подняли шум.
Я коечто вспомнил и повернулся к Мило, который, пригнувшись, стоял под гротмачтой.
— Если ты следил за Пертинаксом, то ты должен был быть там, когда он ударил моего друга на постоялом дворе! — Он был. Мило всегда злил меня — но никогда еще так сильно. — Юпитер и Марс! Почему ты не закричал, когда Петроний Лонг подошел к дверям?
— Мы слышали, как Пертинакс позвал тебя! — недовольно согласился Мило. — Извини, но мы не могли остаться, чтобы помочь; мы пошли за ним обратно на судно…
Мне нужно было уйти одному на другой конец корабля, чтобы не разорвать управляющего в клочья и не скормить дельфинам.
Поездки из Капри всегда оказываются дольше, чем кажется. Мрачный старый император Тиберий выбрал себе хорошее убежище; была масса времени приготовить гостям страшный прием, прежде чем подплывающие корабли пристанут.
У меня не было морской болезни, хотя я об этом беспокоился.
— Вы в порядке? — заботливо спросил Ларий.
Я ответил, что добрые вопросы никогда не помогают человеку со слабым желудком.
Ларий, который любил корабли и никогда не чувствовал себя на море плохо, облокотился на леер рядом со мной, наслаждаясь плаванием. Пока бесконечные склоны полуострова Лактарий медленно проплывали мимо, Ларий сощурился от ветра, со счастливым видом стоя под брызгами воды и любуясь видом залитого солнцем океана.
— Дядя Марк, Елена говорит, что я должен с вами поговорить.
— Если это насчет твоих кровавых настенных росписей, то я не в настроении.
— Насчет Оллии.
— О, это шутка! — Он неодобрительно посмотрел на меня. — Извини! Тогда давай. — Ларий, шокирующий романтик, принял позу фигуры, какие обычно помещают на носу корабля, бросая вызов жизненным невзгодам, с решительным выражением лица, а его мягкие волосы сдувало со лба назад. Во время морского путешествия проявились его худшие черты.
— У Оллии не будет ребенка; Сильвия ошиблась. На самом деле, между Оллией и ее рыбаком никогда ничего не было…
— Боже! — усмехнулся я. — Тогда почему она этого не отрицала? Или он?
— Они оба отрицали. Правда.
— И как же все было на самом деле?
— Он околачивался вокруг нее, а она не знала, как от него отделаться. Все остальные неправильно понимали…
— Кроме тебя? — предположил я.
Ларий покраснел. Я сдержал улыбку. Он убедительно продолжал.
— Оллия очень боялась объяснить все Сильвии. — Я улыбнулся. — Рыбаку она не нужна…
— А что ему нужно?
— Он хочет уехать в Рим. Чтобы получить повышение. — Я выразил свое презрение. — О, он хороший, — пробормотал Ларий. — Петро сказал, что он так старался, что мы все равно должны взять его. Мой отец возьмет его гребцом. Это даст мне возможность…
— Какую, солнышко?
— Стать мастером по настенной росписи в Помпеях. — Я сказал Ларию, что если он собирался быть таким глупым, то я все еще не в настроении.
Я внимательнее присмотрелся к нему; казалось, пока нас не было, он стал более покладистым. Он перестал спрашивать насчет фресковой живописи, но у меня сложилось впечатление, что только потому, что в любом случае все уже было определено.
— Ну, передай Оллии мои поздравления, что ей удалось избежать материнства…
— Насчет Оллии… — начал Ларий.
Я застонал, стараясь не засмеяться.
— Дай угадаю. Оллия решила, что ее большая мечта — это тощий парень, читающий стихи, с краской под ногтями? — Ларий спрятал руки, но мне было приятно видеть, как он отстаивал передо мной свое мнение.
У них был один из тех милых, хорошо продуманных планов, которые так опрометчиво выдумывают себе молодые. Ларий настоял рассказать мне его: вернуться домой в Рим, объяснить все матери; вернуться в Помпеи; выучиться своему ремеслу; заработать достаточно денег, чтобы снимать комнату с балконом…
— Жизненно необходимое для одинокого холостяка!
— Дядя Марк, почему вы всегда так циничны?
— Я холостяк, которому судьба даровала балкон!
Потом они поженятся; подождут два года, пока Ларий накопит еще денег; заведут троих детей с разницей в два года; спокойно проведут остаток своих дней, сожалея о неприятностях других людей. Существовало два возможных варианта: либо они надоедят друг другу и Оллия сбежит с какимнибудь сапожником, либо, зная Лария, ему удастся воплотить в жизнь весь этот безумный план.
— Елена Юстина все это знает? Что она думает?
— Она подумала, что это хорошая идея. Елена дала мне мое первое задание, — сказал мне Ларий с лукавым взглядом. — Я нарисовал ей картину: вы, спящий с открытым ртом.
— Она же не взяла ее?
— О, взяла! Она хотела привезти сувенир со своего путешествия…
Я ничего не сказал, потому что матрос закричал:
— Капри!
* * *
Когда мы отплывали, небо было затянуто облаками. Склоны на побережье у Суррента напоминали покрытую тенью смесь темнозеленой растительности и гор медового оттенка, контрастирующих с еще более туманным цветом горной цепи позади; море было покрыто рябью серого, как олово, цвета, слегка пугающе под мрачным небом. Теперь, когда мы добрались до острова, похожего на двойной горб из двух греющихся на солнце китов, облака немного рассеялись. Только пенистый белый треугольник, который часто парил над Капри, все еще издалека указывал на него. Мы плыли под ярким солнцем по голубому морю, которое блестело, как рассыпанные драгоценные камни.
Казалось, что остров приближался к нам все быстрее. Из главной гавани вывалила небольшая флотилия лодок, их паруса в бесцельной погоне образовали ряд темнокрасных точек. Если «Исида Африканская» и была среди них, то мы никогда бы не отличили ее, но как только Курций Гордиан отдал Лэсу приказ, маленькие суда остались далеко сбоку от нас, а мы тем временем прижимались ближе к отвесным скалам. Мы медленно обследовали те глубокие укромные заливы, куда можно попасть только по воде. Иногда над темными входами в пещеры возвышались каменные стены. Вокруг всего острова наблюдалось какоето движение от рыбной ловли и прогулочных лодок, хотя никто не нарушал спокойствие яркой живописной лагуны, куда, наконец, подкрался «Морской скорпион» и где нашел стоявшую на якоре «Исиду».
Крисп с Пертинаксом купались. Это было странное непринужденное зрелище.
Без лишнего шума мы подплыли ближе, и Лэс бросил якорь. Купающиеся наблюдали за нами. Не показывая лица, Гордиан весело поприветствовал Криспа, словно старый друг, чей сегодняшний приезд стал счастливым совпадением. Мы видели, как Крисп плыл на спине, словно размышляя над чемто и, возможно, проклиная нас; потом он направился к «Исиде» ленивым кролем следом за Пертинаксом, который поплыл быстро. Как только стало ясно, что они не снимаются с якоря, мы с Верховным жрецом на скифе подплыли к ним, прихватив с собой Мило.
Когда мы поднялись на борт, Ауфидий Крисп вытирался на палубе — коренастая мускулистая фигура, покрытая черными волосами. Пертинакс исчез в камбузе, словно хотел одеться в уединении; наверное, он надеялся, что мы обычные посетители, которые надолго не останутся. Крисп натянул свободную красную тунику, у которой металлическая тесьма потускнела от частого контакта с морской солью. Он вытряхивал воду из ушей с той же энергичностью, которую я видел у него и в других вещах.
— Какая неожиданность! — сказал Крисп, без всякой неожиданности на его смуглых щеках. Он ждал магистрата, но понял, что вместо него приехали мы, поэтому громко крикнул: — Гней! Иди сюда; я хочу познакомить тебя со старыми друзьями!
Поскольку ему больше почти ничего не оставалось делать, Атий Пертинакс, шаркая, поднялся на палубу. На нем была уже подпоясанная белая туника, а на лице обычное напряженное выражение. Когда он узнал Гордиана, его глаза цвета воды в реке насторожились. Он неохотно улыбнулся; потом наклонился ближе к нему, предлагая пожать руки.
Вспомнив о своем брате, Гордиан замер. Он не мог вытерпеть предлагаемого рукопожатия. Я сам сделал шаг вперед.
— Меня зовут Фалько, — объявил я, когда наша добыча дернула головой от раздражения и шока. — Предполагалось, что я мертв — но и вы тоже. — Потом я дождался внимания и официально заявил: — Гней Атий Пертинакс Капрений Марцелл, также известный как Барнаб, от имени Веспасиана Августа вы арестованы! Я заключаю вас под стражу и перевожу в Рим. Вы имеете право на суд равными вам по положению людьми из сената или можете использовать любое гражданское право и обратиться к самому императору. Чтобы это сделать, — с наслаждением сообщил я, — вы должны сначала доказать, кто вы!
— В чем я обвиняюсь? — взревел Пертинакс.
— О, в заговоре против императора, убийстве, поджоге храма, нападении на римского стражника — и намерении убить меня!
LXXI
Казалось, что Пертинакс, наконец, понастоящему увидел меня. Однако его самонадеянность едва ли была подорвана. Казалось, он не мог понять, как уже второй раз с того момента, как их заговор провалился, его пугали тюремным заключением, в то время как союзники хладнокровно бросали его. Мне было почти жалко Пертинакса — но когда ктото пытался меня убить, мое добродушие испарялось.
Я стоял, слегка расставив ноги, беспокоясь изза качающейся палубы под ними и хрупкости «Исиды» после прозаичных огромных размеров «Морского скорпиона».
Пертинакс вяло взглянул на Криспа, очевидно полагая, что его тоже арестуют. Крисп пожал плечами и не стал ему ничего объяснять. Я кивнул Мило. Поскольку ялик, на котором мы приплыли, был слишком мал, чтобы перевозить более троих человек, Мило первым переправился на «Морской скорпион» вместе с заключенным, потом отправил пустую лодку обратно для нас с Гордианом.
Пока мы ждали, никто из нас не сказал ни слова.
Ялик медленно плыл обратно к кораблю. Крисп обменялся любезностями с Гордианом, пожелав ему удачи на посту в Пестуме. Они оба игнорировали меня с какимто вежливым почтением, словно находились на очень важном званом пиру и заметили счастливого червячка, показавшегося из булочки.
Я сам был не в настроении поздравлять себя. Вид Атия Пертинакса вызывал у меня только неприятные чувства. Я не смогу расслабиться, пока не доставлю его в очень надежную тюремную камеру.
Я первым пропустил Гордиана в лодку.
— Ну, спасибо за то, что передали нам его, сенатор! — Ялик качнулся, такое чувствительное судно, что от этого движения я потерял равновесие и схватился за леер. — Вы можете рассчитывать на признательность Веспасиана.
— Я рад, — улыбнулся Крисп. Здесь, на корабле, в выходной одежде он выглядел старше и беднее, чем когда светился уверенностью в себе в вилле Поппеи, — хотя сейчас был больше похож на человека, с которым можно сходить на рыбалку.
— Вот как! — спокойно спросил я. — Значит, я могу исключить вас из любых нечистых махинаций, которые, как я узнал, связаны с кораблями зерна из Египта?
— Я это бросил, — признался Крисп, по всей видимости, достаточно честно.
— А что — флотилия не радовала?
Он не пытался отрекаться от плана.
— О, командующий и капитаны трирем выпьют с любым, кто заплатит за выпивку — но весь морской флот считает себя воинами. Доверься своему начальнику, Фалько; армия полностью верна Веспасиану.
— Они знают, что Веспасиан — хороший военачальник, сенатор.
— Ладно, будем надеяться, что он также станет хорошим императором.
Я изучающе смотрел на его лицо. Елена была права; Крисп с легкостью воспринимал свои поражения, какой бы большой ни была ставка. Если это действительно поражение. Единственный способ узнать — это оставить его в покое и присматривать за ним.
Когда я перешагнул через леер, собираясь спуститься, Крисп задержал мою руку.
— Спасибо. Я говорил серьезно; мне кажется, вы можете попросить у Веспасиана ту должность, какую пожелаете, — пообещал я, все еще пытаясь спасти его.
Ауфидий Крисп хитро взглянул вниз, на ялик, где Гордиан как обычно посвоему неуклюже переместился на нос.
— Тогда мне нужно будет больше, чем чертова должность жреца!
Я улыбнулся.
— Просите! Удачи, сенатор; увидимся в Риме…
Возможно.
* * *
Пока арест Пертинакса казался слишком легким. Мне следовало знать. Богиня, распоряжающаяся моей судьбой, обладала злым чувством юмора.
Ялик от «Морского скорпиона» был на полпути к кораблю, когда в лагуне появилось еще одно судно. Гордиан посмотрел на меня. Это была трирема из мизенской флотилии.
— Руф! — пробормотал я. — Он только и может, что появиться в венке из бутонов роз, когда пир уже почти окончен!
Судно приближалось беззвучно, но как только мы его заметили, там забарабанили. Сбоку мы увидели, как в воду погрузилось восемьдесят весел. Пока гребцы продолжали свое дело, солнце блеснуло на щитах и наконечниках дротиков целого войска моряков, которые выстроились на боевой палубе триремы. Корабль был стального и сероголубого цветов, а вокруг рога на носу гордо сверкал алый. Искусно нарисованный глаз придавал ему свирепость мечрыбы, когда корабль несся вперед, беспощадно движимый тремя огромными рядами весел. Позади я услышал, как бочкообразный Басс, боцман «Исиды», предупредительно закричал.
Наш матрос, который сидел за веслами, нерешительно остановился. Хотя триремы считались рабочими лошадками военноморского флота и были вполне привычны в заливе, от такого зрелища, когда одна из них неслась на полном ходу, захватывало дух. Ничто на воде не было столь прекрасным или опасным.
Мы с Гордианом наблюдали, как трирема плыла на нас. Я осознал, что она проходила на опасно близком расстоянии. Мы страшно испугались, когда взглянули на ее челюсти — крупные бревна, помещенные в бронзовую оправу, образующие таран, на этот вечно открытый, дьявольский зубчатый рот прямо над поверхностью водой. Судно прошло так близко, что мы слышали грохот уключин и видели, как с весел стекала вода, когда они поднимались. Потом наш гребец опустился на дно лодки, и мы все вцепились в борта, а огромные волны от триремы били наше крохотное суденышко.
Мы замерли, осознавая, что трирема могла развернуться на всю длину. Мы в ожидании смотрели, как она угрожающе понеслась на яхту Криспа, потом, устроив водоворот, замедлилась, возвышаясь над лагуной. Беспомощно стоя у нее на пути, словно часть красивого сброшенного за борт груза, «Исида Африканская» тоже ждала. Но трирема не остановилась. Перед самым столкновением Ауфидий Крисп принял свое последнее странное решение. Я узнал его красную тунику, когда он нырнул в воду.
Благодаря роковой черте характера, он снова проиграл.
Крисп попал прямо под весла триремы по правому борту. Только гребцы на верхней палубе, которые видели концы весел, могли знать, что он там. Я увидел его торс лишь один раз. Он неистово барахтался. Весла остановились, но несколько продолжало работать. Потом и остальные непрерывно задергались, словно волнистый плавник какойнибудь гигантской рыбы, пока они несли стройный киль корабля прямо на яхту. Таран превратил ее в настоящий ужас. Несомненно, это было намеренно. Трирема врезалась в «Исиду» одним неистовым ударом, потом сразу же поменяла направление: классический маневр, чтобы зацепить разломанные доски корпуса своей жертвы, когда два судна отталкиваются в разные стороны. Но «Исида» была настолько маленькой, что, не дав ей от удара свободно отскочить обратно, трирема потащила за собой и помятый корпус лодки, насаженный на ее нос.
Все стихло.
Я заметил, что трирема называлась «Пакс». Вряд ли это было уместно в слабых руках незнающего магистрата из маленького городка.
* * *
Наш гребец потерял весло; он поплыл за ним, оставив нас подпрыгивать на волнах бушующего моря. Когда мы снова вытащили его на борт, он развернул ялик в сторону триремы, и мы, взяв себя в руки, пытались починить, что могли.
К тому моменту, как мы подплыли достаточно близко, волнение прекращалось. Члены команды «Исиды» держались за веревки и медленно поднимались на борт «Пакса», а в это время моряки толпились над могучим бронзовым тараном, крушившим все, что осталось от яхты. Разбитые куски прекрасной игрушки разлетались по заливу. До нас доносились крики из части корпуса, висящей на паре досок, где оказался запертым один из матросов; хотя моряки и пытались спасти его, но прежде, чем им это удалось, деревянная часть отломилась и унесла его на дно. Потрясенные, мы с Гордианом оставили их и полезли по веревочной лестнице на трирему, чтобы встретиться лицом к лицу с магистратом. Мы поднялись на борт в кормовой части. Руф не пытался нас найти, поэтому мы вдвоем прошли огромное расстояние вдоль всего корабля и подошли к нему как раз в тот момент, когда группа моряков, которым с мрачным видом помогал боцман Басс, вытаскивали на борт через леер то, что осталось от Ауфидия Криспа.
Еще один труп.
Этот шлепнулся на палубу весь мокрый, окрашенный бледным едким цветом, который приобретает свежая кровь, смешиваясь с морской водой. Еще один труп, и снова без всякой необходимости. Я видел, что Гордиан был зол не меньше меня. Он скинул свой плащ, потом мы с ним завернули в него побитое тело; прежде, чем отвернуться, он сказал Эмилию Руфу одно грубое слово:
— Дерьмо!
Я был менее сдержанным.
— К чему этот безумный маневр? — взревел я, выплескивая свое презрение. — Не говорите мне, что это приказ Веспасиана — у Веспасиана больше ума!
Эмилий Руф колебался. У него все еще была та потрясающая внешность. Но дух уверенности, который однажды произвел на меня такое впечатление, оказался мишурой. Теперь я увидел его в деле и понял, что он был лишь еще одним аристократом с непонятным рассудком и абсолютным отсутствием практичного ума. Я видел такое в Британии во время мятежа, и вот оно дома: еще одно низкое должностное лицо с богатой родословной дурака, отправляющее хороших людей в могилу.
Он не отвечал. Я и не ждал ответа.
Руф осматривал спасенную команду, пытаясь скрыть свое волнение, потому что не мог найти одного человека, которого, как мы все знали, он искал. Его изящное лицо с тонкой кожей выдало тот момент, когда он решил не обращаться к Гордиану — раздражительному престарелому сенатору, который устроил бы ему короткую расправу. Вместо этого такая честь досталась мне.
— Довольно неудачно! Но это решает проблему с Криспом…
— Крисп не был проблемой! — Мой резкий ответ вывел его из себя.
— Фалько, что случилось с Пертинаксом?
— Кормит байских устриц; если это вообще ваше дело! О, не беспокойтесь; на «Морском скорпионе» он должен быть в безопасности…
Мне следовало догадаться.
Когда мы все повернулись к лееру и стали искать моего старого друга Лэса и его прочный торговый корабль, то обнаружили, что во время схватки «Морской скорпион» снялся с якоря. Он был уже далеко от нас, направляясь на юг в открытое море.
LXXII
Нужно было еще потратить время на то, чтобы очистить трирему от обломков и собрать сломанные весла. Даже тогда мы должны были его догнать. Но как только мы отправились в погоню, то наткнулись на суденышки, которые я видел раньше, когда мы только подплывали к острову. «Морской скорпион» уже находился в самом конце этого ряда, так что у нашего большого судна не было другого выбора, кроме как пройти по диагонали между маленькими корабликами, ни на одном из которых не понимали, что мы когото преследовали. Их владельцами были сыновья сенаторов и племянники всадников, и если мы однажды помешали их гонке, эти горячие молодые люди решили, что отплатят нам, если пронесутся вокруг нас, словно безумная мелкая рыбешка, что клюет на мокрую булку.
— О, ради Юпитера! — проревел Гордиан. — Должно быть, Пертинакс както одолел Лэса, и теперь он удирает! — Ему в голову пришла какаято мысль. — У него Мило…
— Да ладно Мило, — глухо проговорил я. — У него мой племянник Ларий!
У триремы был парус, но во время всего действа его опустили, так что мы теряли драгоценные минуты, снова поднимая паруса на мачту и закрепляя их на реях. Тем временем торговое судно приближалось к оконечности полуострова. Бриз, который донес нас к Капри, все еще гнал его со скоростью хороших пяти узлов, когда оно направлялось к скалистому мысу. Потом судно свернуло к побережью Амальфи, и мы потеряли его из виду.
— Как ему это удалось? — беспокоился Гордиан.
— Друзья в нужных местах! — мрачно сказал я. — Наш с вами союзник, надежный Лэс, должно быть, с самого начала был заодно с Пертинаксом!
— Фалько, что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что мы жертвы группировки из Калабрии. Когда я впервые встретился с Лэсом в Кротоне, это не было случайностью; он, наверное, находился там, чтобы встретиться с Пертинаксом. Мне показалось, он был в шоке, когда я сказал ему, что Пертинакс мертв! Как только Лэс узнал, зачем я туда приехал, я уверен, что он пытался меня отравить. Потом, когда Пертинакс напал на вашего заместителя в Колонне, держу пари, он уплыл на «Морском скорпионе». Когда Лэс так кстати согласился подбросить вас до Пестума, он хотел навести на вас Пертинакса…
— Но зачем?
— Они оба из Тарента. Скорее всего, они знали друг друга задолго до того, как Марцелл усыновил Пертинакса. Тарент — это один из бесчестных городов Калабрии с непоколебимой преданностью местных жителей.
Я с грустью вспомнил, что Лэс признал, что раньше плавал в Александрию: Пертинакс наверняка спросил, что ему известно об отплытии кораблей с зерном в ближайшем году. Крисп мертв, но теперь Пертинакс на свободе с полной информацией о том, как его коллега планировал шантажировать Рим. Пертинакс, чей приемный отец внушил ему нелепые мысли о его собственном достоинстве…
На первый взгляд, по сравнению с кандидатом, имеющим такие впечатляющие таланты, как Крисп, Пертинакс не представлял для империи вообще никакой угрозы. Но я оказался более циничным. Вспомнить хотя бы Калигулу и Нерона: у Рима была привычка брать в так называемые императоры невменяемых личностей.
* * *
Появился магистрат Эмилий Руф: еще одна проблема.
— Мы скоро их догоним, — закричал он.
Как обычно, он оказался неправ. Мы так и не догнали «Морского скорпиона». Когда мы, наконец, обогнули скалистый мыс и направились к Позитано, море было полно мусора с палуб «Морского скорпиона», но корабль исчез.
Не было смысла спешить; мы уменьшили парус.
Потом моряк закричал. «Пакс» подплыл поближе и мягко остановился. Несколько матросов в воде держались за плавающие бревна; мы вытащили их на борт. Потом я с облегчением хрипло вздохнул. Я узнал слабо улыбающегося, но такого уставшего, что он не мог говорить, Лария, плывущего на спине. Он отчаянно пытался удержать наполовину ушедшую под воду фигуру, которая глупо молотила по воде:
— Мило! — закричал Гордиан. — Фалько, твой отважный племянник спас моего управляющего!
Я пробормотал, что Ларий никогда не был особо разумным.
* * *
Должно быть, мы пропустили целое представление. Когда Мило увидел, как Атий Пертинакс победно улыбался приветствию капитана, управляющий просто озверел. Но его избили и связали рыболовной леской. Тем временем мой племянник стоял с невинным видом; капитан предложил Пертинаксу оставить Лария в качестве заложника.
— И он это сделал, Юпитер! Но как ты оказался в воде, Ларий — и где корабль?
На лице моего племянника появилось выражение игривой беспечности.
— О, я заметил, что «Морского скорпиона» нужно заново покрыть смолой. Мне показалось, он весь оброс ракушками. Я притворился, что у меня морская болезнь и спустился под палубы в трюм. С тех пор, как мы продавали свинец, у меня в сумке лежала стамеска, так что я сразу принялся за днище. Все равно черви сделали почти всю работу; корабль был такой изъеденный, что один хороший шторм превратил бы его в обломки. Потом я пробил корпус, и в нем стало больше дырок, чем в дуршлаге…
— Что произошло потом?
— Как вы думаете? Он пошел ко дну.
Пока на сына моей сестры смотрели как на героя, я выяснил, что когда «Морской скорпион» начал тонуть, все выпрыгнули за борт. Те, кто умел плавать, поплыли. Мило все еще был связан. Мудреная совесть моего племянника заставила его спасти управляющего: нелегкая задача для четырнадцатилетнего парня. Даже когда Ларий схватился за плавающую мачту, от него требовались решительные усилия, чтобы удержать сто килограммов, когда Мило бился в панике. К тому времени, как мы их нашли, у моего парня был совсем слабый вид.
Мы подгребли на «Паксе» как можно ближе к скалам, и спустили шлюпки на берег. Мы подобрали еще нескольких насквозь промокших членов команды, но вот Лэсу с Пертинаксом удалось уйти. Люди видели, как они вместе поднимались в горы Лактарий. Эмилий Руф направил трирему к Позитано и навел много шуму, организуя поиски.
У него ничего не получилось. Вот и положись на него.
Я остался в порту у горного маленького городка и купил поесть, чтобы Ларий мог восстановить силы. Мило с трогательной благодарностью тоже увязался за ним, но если я надеялся, что он компенсирует затраты на обед, залезая в карман за бутылкой, то я ошибался. Когда вокруг нас все утихло, Ларий прошептал мне:
— У Пертинакса есть убежище, которым он пользуется, по направлению обратно к Неаполю. Он сказал чтото капитану о том, чтобы спрятаться.
— На ферме!
Этот тихий голос принадлежал Бассу. После того, как трирема потопила «Исиду», мы вытащили из воды этого большого веселого человека, как раз перед тем, как он чуть не утонул от тяжести собственных золотых амулетов. Он молча много выпил: оплакивая потерю своего начальника, судна и особенно средств к существованию. Я жестом пригласил его сесть к нам. Когда он плюхнулся рядом с Ларием, Мило и мной, под его массой опасно прогнулась скамейка.
— Ты был на этой ферме, Басс?
— Нет, но я слышал, как он жаловался Криспу, что там противно. Этим он оправдывал свою просьбу взять его с нами на борт…
— Басс! — Басс, который был уже сильно пьян, нахмурился, смутно понимая, что я обратился к нему. — Басс, подскажи нам, как найти это убежище.
— Он сказал, что это дом на ферме — и там воняет.
Потом Мило добавил:
— Наверное, эта старая навозная куча.
— Ты знаешь это место? — сразу же накинулся я на него. — Ты следил за ним? Сможешь найти его?
— Не надейся. Фалько. В ту ночь он носился по всей горе, пытаясь сбить нас со следа. Было темно, и мы заблудились…
— Какой горе? Везувий? Рядом с имением его отца?
Ларий вдруг засмеялся — это был тихий уверенный сдавленный смешок глубоко в горле.
— О нет! О, дядя Марк, вам это совсем не понравится — наверняка то место, где за вами гнался один человек: с хорошенькой девушкой — и большой дружелюбной собакой!
Как только он сказал это, я подумал, что Ларий прав. Без лишних разговоров мы осушили чаши, поднялись и направились к выходу. Я спросил боцмана:
— Ты с нами, Басс? — Но глубоко потрясенный от потери «Исиды», Басс сказал, что останется в Позитано с выпивкой.
Хотя он пошел с нами до дверей. Когда мы оказались под неожиданными яркими лучами солнца, которое выглядывало из гавани, я услышал, как у него вырвался иронический смешок.
— Ну, вам повезло! — Затем он указал на море в сторону юга. — Вот они идут…
К побережью Амальфи медленно шло самое изумительное судно, какое я когдалибо видел. Я полагал, что королевская баржа Птолемеев должна быть больше, но мне никогда не выпадало чести полюбоваться Египетским флотом. Судно было громадным. Если его палуба и была меньше двухсот футов длиной, то не хватало не больше, чем мог переплюнуть любой парень на набережной Тибра. Стоя в доке, корабль, наверное, возвышался над всем остальным, как многоэтажные здания в Риме. В ширину он легко достигал сорока футов. А в высоту корпус, который так тяжело раскачивался на волнах, был, возможно, даже больше.
Чтобы привести эту громадину в движение, у нее был не только обычный квадратный парус, но также невероятные красные верхние паруса. Далеко позади нее я мог разглядеть другие темные пятна, будто неподвижные на горизонте, хотя они тоже направлялись в нашу сторону, низко опустившиеся в воду под своим тяжелым грузом, неумолимо двигаясь вперед.
— Басс! Что это еще такое?
Он задумчиво взглянул на корабль, когда тот незаметно приблизился к скалистому берегу.
— Наверное, «Парфенона», но может быть и «Венера из Пафоса»…
Я понял еще до того, как он это сказал: прибыл первый
корабль с зерном.
LXXIII
Теперь я соображал быстро.
— Басс, я могу оценить твою преданность Криспу. На самом деле я сам был о нем высокого мнения. Но его больше нет. И если мы коечего не сделаем, Атий Пертинакс — совсем другой вымогатель для всей империи — захватит судно с зерном и будет угрожать Риму.
Боцман слушал, как обычно ничего не воспринимая. Стараясь не казаться слишком поспешным, я признался ему:
— Я не справлюсь один. Мне нужна твоя помощь, Басс, или игра окончена. Ты потерял человека, на которого работал, и потерял свой корабль. Сейчас я предлагаю тебе шанс получить славу героя и заработать вознаграждение…
Своим затуманенным выпивкой разумом он подумал над этим. Вино, по всей видимости, сделало Басса добрым, сговорчивым типом.
— Ладно. Я смогу жить, будучи героем. Значит, нам нужно придумать план…
Я не стал тратить время зря и скромничать. Я думал над этой проблемой с тех пор, как впервые приехал в Кампанию. У меня уже был план. Не делая лишнего шума насчет моей предусмотрительности и сообразительности, я объяснил Бассу, что, как я думал, мы должны делать.
Я оставил его в Позитано связаться с кораблями с зерном, когда они прибудут. Как только большая их часть соберется в Салернском заливе, все еще находясь вне поля зрения мизенской флотилии, он даст мне знать.
* * *
Когда магистрат направил свою взятую напрокат трирему снова вокруг скалистого мыса, я попросил его подбросить мою небольшую компанию до Оплонтиса — хотя я не сказал ему зачем. Гордиан знал. Он поставил себе задачу сопровождать тело Ауфидия Криспа до Неаполя, так что теперь я остался только с Ларием и Мило. Мой племянник уже сегодня сделал для империи доброе дело; я оставил его на постоялом дворе.
Мы с Мило поехали на ферму.
Когда мы осторожно прошли через арку с решеткой, то почувствовали ту же мерзкую заброшенную атмосферу. Сначала я обрадовался, когда увидел, что пса не было на цепи; потом я понял, что он вообще бегает на свободе. Когда мы пришли туда, уже смеркалось; после долгого жаркого дня на ферме стоял тошнотворный запах плохо ухоженных животных и старого навоза. Мило струсил.
— От тебя никакой пользы, — весело сказал я ему. — Поверь, я не отойду от тебя. Мило, большие собаки совершенно трусливы, пока не почуют страх. — Полное возражения лицо управляющего обильно покрылось испариной, и я сам чуял его страх. — Все равно он нас еще не нашел…
Прежде чем вломиться в дом, мы осмотрели вонючие здания вокруг. За кучей навоза, огороженной сломанными досками, которая служила конюшней, мы обнаружили крепкую пегую лошадь, которую я узнал.
Пертинакс использовал этого бродягу в качестве вьючного животного, когда преследовал меня до Кротона! Интересно, этот ублюдок уехал кудато на чалом?
Я шел впереди, отбиваясь от синих мух, и мы уже приближались к дому, когда оба остановились как вкопанные: нас задержал сторожевой пес.
— Не волнуйся, Мило; я люблю собак…
Правда, но не эту. Пес рычал. Я пришел к выводу, что это не какаянибудь дворняжка, которая убежит, если посмотреть ей в глаза и крикнуть «бу»!
Если бы этот пес встал на задние лапы, то стал бы ростом с человека. Это было одно из тех коричневочерных существ, которых разводят для боев, с головой, как у быка, и маленькими некрасивыми ушами. Мило был тяжелее его на несколько фунтов, но мы с псом оба понимали, что Фидон весил, как я. Я был тем крохотным лакомым кусочком, на которых любил целиться этот громила; собака хладнокровно смотрела прямо на меня.
— Хороший мальчик, Цербер! — спокойно подбодрял я его. Сзади себя я слышал, как сглотнул Мило. Все, что мне было нужно, это отравленная курица; но поскольку Мило стоял и смотрел, как Петронию разбили голову, я очень хотел, чтобы приманкой стал он.
Я прошептал Мило:
— Если у тебя с собой есть немного веревки, то я смогу привязать его. — У пса были другие планы. Ворчание в собачьем горле приобрело более зловещий тон. Я принялся успокаивать его.
Когда пес прыгнул, я все еще говорил.
Я ударил локтем ему в грудь и схватил за обе лапы, а тем временем пытался удержать его голову и защищаться. Я чувствовал запах сырого мяса у него изо рта, и у пса были невероятные зубы. Мне следовало свирепо на него закричать; приходится укрощать таких бандитов. У меня не было шанса.
— Стой сзади, Мило…
Все тот же Мило: скажи ему, что делать, и он сделает все наоборот. К счастью для нас обоих, идея Мило по укрощению собаки заключалась в том, чтобы схватить ее сзади, потом приподнять морду, резко вывернуть ее и сломать ему шею.
Мы стояли во дворе, понастоящему дрожа. Я признался Мило, что, наверное, мы квиты.
* * *
Лэс был в доме. Я нашел его; Мило обезоружил его своим матросским ножом.
Мы вытащили его на улицу, задом. Грустная часть лица Лэса плюхнулась в коровью лепешку; счастливая половина увидела, что Мило сделал с огромной собакой.
— Фалько! — вздохнул он, стараясь улыбаться в своей прежней дружеской манере. Сначала я поддерживал это.
— Лэс! Я надеялся снова встретиться с тобой, мой старый друг. Я хотел предупредить тебя, что в следующий раз, когда ты будешь есть шафрановую похлебку в твоей любимой столовой, берегись белладонны, которую они добавляют в бульон!
Улыбаясь от мысли, что ктото отравил мой суп, Мило еще глубже вдавил капитана лицом в навоз.
— Я потерял свой корабль! — пожаловался Лэс. Он легко переносил запах рыбы, но близкий контакт с радостями сельского хозяйства вывели бедного Лэса из себя.
— Какая трагедия. Ты можешь винить моего племянника — или списать на то, что сожрал мою священную козу! — Он застонал и попытался заговорить снова, но Мило получал самое огромное удовольствие: демонстрировал, какой он могущественный, наказывая человека самым неприятным образом. — Где Пертинакс, Лэс? — спросил я.
— Я не знаю… — Мило показал Лэсу точки на его теле, где давление нестерпимо.
Я содрогнулся и отвернулся.
Я рассказал Лэсу, что я понял о преданности жителей Тарента.
— Мне следовало вспомнить, что калабрийцы держатся вместе, словно этот навоз на фермерском дворе! Я полагаю, ты спас меня на рынке в Кротоне потому, что даже в Бруттии мертвый представитель императора на форуме может привлечь внимание. Ты предпочел избавиться от меня лично — и, к счастью для меня, тебе это не удалось! Я думал, почему ты так сильно давил на меня, чтобы я потом поехал с тобой в Регий; несомненно, я оказался бы за бортом с грузилами в ботинках. Гордиану повезло, что с ним был Мило, пока он находился на твоем судне. А теперь — где Пертинакс? Скажи, или тебе предстоит дело похуже, чем есть навоз; Мило удобрит почву тем, что от тебя останется!
Мило поднял капитана за шею и за ноги, достаточно высоко, чтобы тот прохрипел:
— Он здесь увидел записку, что его отец заболел. Но…
— Но что? — рассердился я.
— Он сказал, что, наверное, по дороге заедет к своей бывшей жене!
LXXIV
Мы быстро обыскали ферму, но обитатели, должно быть, смотались. Все, что мы нашли, это еще более дьявольскую вонь, муравьев в прессе для сыра и суетливых мух. Затем, выходя по изрытой тропинке, мы наткнулись на негодяя с черной бородой, который преследовал меня в тот первый день.
Мило был занят Лэсом, который посчитал это своим шансом вырваться и начал яростно драться. Я принялся за фермера. Он был бодрым, и я совершил ошибку, что позволил себе расслабиться. Мы угрожающе ходили по кругу. На это раз у него не было дубинки, но по его позе было видно, что он специализировался на жестоких деревенских боях; я предпочитал делать ставку на ловкость. Мы резко сцепились, в следующее мгновение я лежал на спине, едва дыша. Но после отдыха я был в форме; поэтому следующим рывком я вскочил на ноги, на этот раз будучи более осторожным.
Ничего не последовало. Мелькнуло чтото белое, потом показалось неожиданное движение, и прежде, чем я успел наброситься на него, фермер упал головой вперед. Коза подкинула его в воздух — коза, чьи дикие глаза и энергичный вид казались мне какимито знакомыми… Я сказал:
— Твой скот хорошо выдрессирован! — Потом я врезал валяющемуся на земле мужлану по голове, от чего он потерял сознание. Он проснется с неимоверной головной болью, когда мы будем уже далеко отсюда.
Животное, которое повалило его, пылко заблеяло, затем бросилось ко мне. Я старался устоять, удерживая от знаков внимания еще одного старого друга из Кротона, которого я никогда не ожидал уже встретить.
Казалось, Лэс чувствовал себя неловко.
— Каждый раз, когда мы разжигали огонь, она сбегала. От нее одни проблемы, Фалько; ты можешь забрать ее обратно…
Вот так мы и покинули это ужасное убежище: Мило тащил Лэса на одной веревке, а на другой я вел свою священную козу.
* * *
Когда мы приехали в Оплонтис, я дал Мило задание сопроводить капитана до койки в тюрьме Геркуланума. Мое личное недовольство диктовало мне, что я сам должен отправиться за Пертинаксом. Мило это понимал; следовать своему недовольству было и его собственным хобби.
Хотя Елена Юстина все еще находилась на постоялом дворе, Ларий шепотом уверял меня, что там не было никаких признаков Пертинакса. Кажется, я знал почему. Этот сноб не ожидал, что дочь сенатора останется в таком жалком окружении только ради того, чтобы помочь раненым друзьям; он предполагал, что Елена все еще жила на вилле. Однако даже если Пертинакс и знал, что она у нас, теперь мы могли его отпугнуть. Эмилия Фауста была верна своему слову. Она уже послала транспорт для нашего инвалида и его семьи — и вооруженную охрану из Геркуланума, которые так хотели поучаствовать в какомнибудь деле, что собирались сначала бить, а уж потом задавать вопросы.
Я оттащил Лария в сторонку.
— Я собираюсь съездить на загородную виллу. Не знаю, что я там найду. Мне нужно, чтобы ты присмотрел за людьми, за которых я несу ответственность. Я хочу, чтобы они все уехали из Кампании. Мне не нравится, как Пертинакс озабочен Еленой; это небезопасно. Если я расскажу ей правду, она будет спорить. Так что мы скажем, что Петрония Лонга быстро увозят обратно в Рим под вооруженной охраной, поскольку он важный свидетель, и я попрошу Елену Юстину поехать с ними…
— Чтобы присмотреть за ними? — улыбнулся Ларий; я рассеянно посмеялся в ответ.
— Да; ей это понравится… — Потом я пристально на него посмотрел. — Ты был хорошим помощником в этой поездке. Ты мог бы мне пригодиться, Ларий. Рисовать битву при Акции по три раза в месяц довольно нудно. Тебе нужно использовать свою выдержку и инициативу — и хвастаться перед девочками! Хочешь работать моим помощником, когда вернемся в Рим?
Мой племянник засмеялся. Ларий откровенно сказал мне, что он более разумен.
* * *
Я отправил их тем же вечером. Процессия уезжала в смолистом запахе факелов: такой наспех собранный караван из багажа и недовольных детей, которых Ларий и рыбак Оллии везли в повозке с Нероном с бурдюком вина Петро. Естественно, мы собрали старинную кучу сувениров. Креветкообразный отвечал за мою козу, которую отправили жить на ферме двоюродного брата Петро вместе с Нероном.
Когда дошло до дела, мой план был разрушен. Оказавшись лицом к лицу с Еленой, я рассказал ей правду.
— Да, я понимаю. — Она всегда спокойно отвечала, когда ситуация была критичной, хотя подчинение моим распоряжениям никогда не отличали наши отношения. — Марк, ты все еще хочешь арестовать Пертинакса?
— Он сейчас несет ответственность за две смерти, а также нападение на Петрония. Что бы ни думал его старый отец, Пертинакс теперь не просто заговорщик, который может надеяться на помилование. После его ареста на «Исиде» он наверняка сам это знает. Но от этого Пертинакс становится только еще более отчаянным.
— Я так надеялась, что мы найдем способ все уладить для него…
— Я ненавижу, что ты его защищаешь!
С ужасно обеспокоенным видом Елена обняла меня за плечи.
— Марк, после четырех минут в твоих объятиях я преданна тебе больше, чем была ему после четырех лет в браке — хотя это не значит, что я совсем не лояльно отношусь к Пертинаксу.
Я взял ее лицо в свои ладони.
— Елена! Ты должна отпустить его!
— Я знаю, — медленно сказала она.
— Я так не думаю! Когда ты приедешь в Рим, сиди дома, и если Пертинакс попытается встретиться с тобой, ты должна отказаться!
— Марк, пообещай мне одну вещь: не убивай его.
— Я не хочу его убивать. — Она ничего не ответила. — Елена, любовь моя, возможно, комуто придется это сделать.
— Если это придется сделать, пусть ктото другой несет за это ответственность. Марк, не забывай: что бы ты ни сделал, нам с тобой придется всегда жить с этим…
Этому «всегда» трудно было противиться. Внезапно я увидел ее близко, как никогда не бывало с тех пор, как напали на Петрония.
— Если я опять оставлю его на свободе убивать дальше, то мне придется жить с этим!
Елена Юстина протяжно иронично вздохнула.
— Тогда мне придется хоронить его.
— Обязанность — удивительная вещь!
В ее глазах появились слезы.
— А что мне делать, если он убьет тебя?
— Не убьет, — резко сказал я. — Это я могу тебе обещать!
Я заставил ее замолчать, крепче обняв и нежно улыбнувшись, глядя в ее беспокойные глаза и затмевая все мысли о Пертинаксе. Елена так нежно обнимала меня, что я вспомнил, как сильно она мне нужна. У нее был уставший вид. Она пробыла здесь на постоялом дворе со мной почти целую неделю, не жалуясь и поддерживая меня, даже когда я ночью приползал домой пьяным, чтобы поесть то, что она для меня припасла, не говоря уже о какихлибо проявлениях моей любви.
— Здесь мы жили вместе, — печально сообщил я. — А я был так озабочен, что даже не заметил этого!
— Ну ладно! — улыбнулась Елена в своей спокойной практичной манере. — Я всегда предполагала, что именно такой будет жизнь с тобой!
Я пообещал:
— Когданибудь мы сделаем это как следует.
Елена Юстина разглядывала меня с абсолютно спокойным видом.
— Ты знаешь, что именно этого я и хочу, — сказала она.
Потом я поцеловал ее, стараясь, чтобы это не показалось последним поцелуем, который я, возможно, могу подарить ей, и Елена поцеловала меня — так нежно и долго, что я почти испугался, что она думала, будто так и есть.
Все ждали нас. Мне пришлось отпустить ее.
LXXV
На вилле Марцелла меня встретил Гордиан.
— Я думал, вы на похоронах, сенатор.
— Я слишком беспокоюсь, чтобы расслабиться. Где Мило?
— В Геркулануме; заключает капитана дальнего плавания в тюрьму. А тут как обстановка?
— У Капрения Марцелла был удар…
— Не могу поверить! Этот старик такой же инвалид, насколько правда, что у ленивой жены болит голова…
— Это правда, Фалько; врач говорит, что еще один удар прикончит его.
— А Пертинакс?
— Не показывался. Но его отец уверен, что он придет.
— Тогда нам с вами, сенатор, остается теперь только сидеть на вилле Марцелла и ждать…
Мы ждем его на вилле. А Пертинакс гдето далеко отсюда ждет, когда корабли с зерном прибудут из Александрии.
Я коечто знал об ударах. У моего двоюродного дедушки Скаро, эксцентричного старого жулика, их было несколько, хотя на самом деле мой добрый дед умер, задохнувшись от самодельных вставных зубов. Я пошел лично проведать Марцелла.
Диагноз поставили верно. Ужасно видеть умного человека настолько разбитым. Самое худшее, что его рабы были в ужасе. Поэтому Марцелл был не просто парализован и не мог нормально говорить; он терпел унижение, поскольку с ним обращались, как с идиотом, и он видел, что его слуги боятся подходить к нему.
Я ничего не мог сделать, поэтому начал переводить. По крайней мере, когда старик хотел пить или чтобы ему подняли подушку, ему могли помочь быстрее. Я сидел с ним; читал ему; даже — поскольку я был рядом и не позволял суетиться — помогал бедному старому дьяволу добраться до горшка. Разнообразие моей работы никогда не переставало меня удивлять. Вот он я: вчера нападение триремы; сегодня драка с собакой; теперь работа сиделки консула.
— Ты хорошо справляешься! — прокомментировал Гордиан, заглянув в комнату.
— Я чувствую себя его женой. Скоро я буду жаловаться на то, что он дает мне мало денег на одежду, а потом консул назовет мою мать стервой, которая вмешивается не в свои дела…
— Что он сейчас говорит?
— А… он хочет изменить завещание.
Консул беспокойно забормотал.
— Елена… Гней!
Я спросил:
— Вы хотите оставить свое имущество Елене, чтобы она потом передала его Гнею? — Он удовлетворенно откинулся назад. Я сложил руки, давая ему понять, что меня это не впечатлило. — Хорошо, что вы доверяете девушке! Большинство из них стащили бы ваши деньги, а потом убежали с первым попавшимся подлым кулачным бойцом, в чьей улыбке промелькнет намек на непристойное обещание…
Марцелл снова стал чтото тревожно ворчать. Я подождал, пока Гордиан его успокоит. Любой, кто пытался использовать Елену, чтобы помочь Пертинаксу, лишался моего сочувствия.
После того как Гордиан ушел, я сидел, яростно глядя на Марцелла, а он возмущенно уставился на меня. Чтобы поддержать разговор, я сказал:
— Елена Юстина никогда снова не выйдет замуж за вашего сына!
Капрений Марцелл продолжал сурово осуждающе смотреть на меня. Я видел, что он сейчас понимал мои слова.
Бывший консул, наконец, осознал, какому непреклонному представителю отбросов общества удалось развратить его невестку.
* * *
Мы ждали четыре дня. Потом из осторожного сообщения от Басса из Позитано я узнал, что собралось достаточно кораблей с зерном, чтобы начать первую стадию моего плана.
Я поехал в Оплонтис, чтобы подружески поболтать с отцом рыбака Оллии, который занимался сплавом леса. Вечером я наблюдал, как отплывают тунцеловные суда с их мерцающими фонарями, зная, что куда бы они ни закидывали свои сети, распространится слух: Авл Курций Гордиан, известный жрец, который унаследовал от своего брата виллу на побережье на горах недалеко от Суррента, отмечает получение наследства закрытым званым ужином для своих друзей мужского пола. Предполагалось, что это тщательно хранимый секрет; шла речь о профессиональном танцоре с необыкновенными пропорциями, которого привезли специально из Валентии, и он будет купаться в огромных количествах вина.
Профессиональный танцор так и не выполнил своего обещания, но в отношении всего остального Гордиан втянулся в это дело весьма увлеченно; вряд ли в молодости у него были подобные приключения. Ночь была звездной, но он устроил огромные костры, чтобы любой незваный гость легко нашел его. Когда шумные капитаны трирем со своим командующим сошли на берег, добрый Гордиан только вздохнул, как человек, предпочитающий избегать неприятностей, и помог им найти путь к его бочкам.
Пищи было достаточно для того, чтобы убедить людей, что они смогут выпить больше своих истинных способностей. Были легкие вина и крепкие, молодые и хорошо выдержанные, которые, по мнению Гордиана, его брат хранил не менее пятнадцати лет. Казалось, все было плохо организовано; любой мог туда попасть… Хозяин, будучи очень беспечным, вместо того чтобы не подпускать счастливых триерархов к выпивке, оставил их без присмотра: они давали друг другу философские советы о том, как избежать головной боли — затем даже моряки сразу напились до беспамятства.
За час до того, как стемнело, я оставил свои отвратительные дела и медленно поднялся по тропинке за домом, пока огни торжества совсем не остались позади. С усилием всматриваясь на север через океан, я думал, что смогу увидеть огромные призрачные формы, словно ветряные мельницы, стоящие на воде, неуловимо медленно двигаясь позади острова Капри. Я знал, что они там, и надеялся действительно их разглядеть. В любом случае, можно было расслабиться: хорошая партия в пятнадцать тысяч бушелей, которая нужна для того, чтобы в следующем году накормить Рим, в безопасности шла домой.
* * *
Я сразу поехал обратно в Оплонтис.
Пока старик все еще спал, я обыскал дом и территорию имения. Пертинакса нигде не было видно. Я нашел Бриона и сказал ему, что нарушил планы его молодого хозяина.
Проспав часть своего похмелья, я снова обошел вокруг конюшен; сейчас они казались даже еще более заброшенными. Не найдя Бриона, я стоял в замешательстве, потом рискнул крикнуть. В извозчичьем дворе послышался слабый грохот. Я помчался туда и вскоре нашел связанного дрессировщика.
— О, боги, что с тобой случилось? — Бриона, обладавшего крупным телосложением, сильно избили. У него был разбит рот, через который тот с трудом чтото хрипел, и тело покрывали синяки, на которые больно было смотреть. Эта жестокость была мне знакома. — Не говори ничего: Пертинакс! Он делал это с удовольствием…
Я помог Бриону выбраться на улицу, намочил в корыте его шарф и приложил к тому месту, где повреждения казались самыми сильными.
— Застал его на чердаке — сказал, что вы говорили о его плане…
— И он набросился на тебя? Брион, считай, что тебе повезло, что ты остался жив. Где он сейчас? В доме со стариком?
— Он уехал, Фалько.
Я в этом сомневался; Пертинакс слишком сильно нуждался в деньгах. Я потащил Бриона за собой и поспешил в дом. Но слуги уверяли меня, что никто не приходил к Марцеллу. Я вошел в комнату больного, заставив Бриона пойти со мной.
— Расскажи консулу, что с тобой произошло, Брион!
На какоето мгновение этот энергичный тип, привыкший жить на улице, смутился в присутствии больного, но потом собрался с мыслями.
— Я пришел к молодому господину и предупредил его, что представитель императора разрушил его планы. Я сказал ему, что хватит убегать и пора ответить на обвинения против него…
— Значит, он бросился на тебя, бил, а потом связал и запер? Спрашивал ли он о здоровье его отца?
— Нет. Но я сказал ему, что у консула был тяжелый приступ, и я сказал ему, — заявил Брион тем же спокойным голосом, — что консул звал его.
— Ты уверен, что он знал — но уехал?
— О, да, — тихо произнес Брион, не глядя на консула. — Он уехал. Я достаточно часто слышал стук копыт, когда он в ярости скакал на своем коне.
Я наклонился к кровати, где неподвижно с закрытыми глазами лежал консул.
— Лучше взгляните фактам в лицо, консул! Атий Пертинакс махнул на вас рукой. И вы плюньте на него!
Глядя, как он лежал там, мы перестали ощущать его высокий рост. Даже я видел, что впечатляющая внешность Марцелла, казалось, растаяла. Даже огромный нос сморщился, потеряв то нелепое доминирующее положение на его старом, морщинистом, страдающем лице. Он был одним из богатейших людей Кампании, но всего, что он ценил, теперь не было. Я подал Бриону знак, и мы тихонько вышли из комнаты.
Бывший консул больше не предпринимал попыток спасти Пертинакса. Болезнь и предательство преуспели там, где я потерпел поражение.
* * *
Пертинакс был отличным наездником, и он знал эту местность. Я сам взял лошадь и отправился предупредить помощников магистрата внимательнее искать чалого скакуна, но он наверняка уже проскочил мимо них. Мы не имели ни малейшего представления, куда он мог направляться — возможно, в Тарент. Мы его потеряли. Я вернулся в дом.
Когда ближайшие родственники так жестоко тебя ранят, последнее, что тебе нужно и первое, что получаешь, — это разговоры с любопытными соседями. Эмилий Руф сейчас был здесь с Марцеллом, выражая свое уважение. Его сестра, которая приехала с ним, гуляла по террасе.
Вся в черном, с тяжелой вуалью, спадающей складками, она обходила колоннаду и грустно смотрела на море.
— Эмилия Фауста! Я сожалею насчет Криспа. Я бы сказал тебе, что это никогда не должно было случиться, но это только усиливает трагедию. Я ничего не мог сделать.
Я чувствовал, что она потратила все страдания на своего не отвечающего взаимностью возлюбленного, пока он был жив; теперь, когда он был мертв, она решительно приняла мои соболезнования. Я вполголоса сказал ей:
— В будущем, когда ты будешь читать буколический доклад какогонибудь придворного поэта о том, как толпы людей в Мизенах и Путеолах каждый год выходили встречать прибывающие корабли с зерном, ты можешь улыбнуться, вспомнив то, чего никто никогда не скажет: какие бы знатные люди в этом году ни были консулами, суда прибыли незамеченными…
— Все кончено?
— Корабли стоят в ночи! Еще, возможно, подойдут отставшие суда, но Веспасиан может присмотреть за ними, как только я ему доложу.
Фауста повернулась ко мне, еще сильнее закутывая свое бледное лицо в черную накидку.
— Крисп был особо одаренным человеком, Фалько. Ты будешь гордиться, что знал его.
Я не отреагировал на эту реплику. Через мгновение я улыбнулся:
— Тебе идут строгие цвета.
— Да! — согласилась она, поновому непринужденно засмеявшись. — Дидий Фалько, ты был прав. Мой брат обижает меня, я теперь не могу жить с ним. Возможно, я выйду замуж за какогонибудь богатого старика, а когда он умрет, буду наслаждаться своим положением вдовы, в строгих, темных цветах, стану слишком требовательной и буду кричать на людей — или стану очень плохо играть на кифаре.
Я отогнал мысль, что эта благородная девушка гуляла здесь по роскошному портику консула, прикидывая стоимость его роскошного имения.
— Эмилия Фауста, — галантно ответил я, — как преподаватель игры на арфе, говорю тебе, что ты очень хороший музыкант!
— Ты всегда был обманщиком, Фалько, — сказала она.
* * *
Фауста вышла замуж за бывшего консула; мы устроили это на следующий день. Курций Гордиан погадал и произнес обычную ложь о «хорошем предзнаменовании на долгий счастливый союз». От горя и болезни Капрений Марцелл говорил бессвязно, поэтому его брачные клятвы переводил я. Никто не проявил невежливости, чтобы спросить, что происходило в первую брачную ночь; предположительно, ничего. Естественно, жених поменял свое завещание, оставив все своей новой молодой жене и детям, которые могут у них появиться. Завещание ему тоже помог написать я.
Я больше никогда не видел Эмилию Фаусту, хотя время от времени слышал о ней. Она вдовой прожила безупречную, необыкновенно счастливую жизнь и погибла при извержении Везувия. До этого времени Фауста преданно ухаживала за Марцеллом. Ему удалось дожить до того времени, когда он узнал, что имение и честь его знатных предков были в безопасности: через девять месяцев после того, как они поженились, Эмилия Фауста родила мальчика.
Я однажды видел ее сына, много лет спустя. Он выжил при извержении вулкана и вырос здоровым юношей. Ктото показал мне его. Он сидел в колеснице, облокотившись одним локтем на передний поручень, терпеливо ожидая, когда освободится дорога. Для человека, у которого денег больше, чем ктолибо заслуживает, он показался вполне приличным парнем.
У него были каштановые волосы, широкие неподвижные брови и невозмутимое выражение лица, которое смутно показалось мне знакомым.
Его мать назвала его Луцием. Наверное, в честь Криспа.
Было еще одно событие, о котором я не могу умолчать. Плохие новости мне рассказал Брион. На следующий день после свадьбы я собирался уезжать, когда Брион мне признался.
— Фалько, я знаю, где может быть Пертинакс.
— Где? Говори скорее!
— В Риме. Мы устроили Фероксу и Малышу их первые скачки, в большом цирке…
— В Риме! — В Риме, куда я отправил Елену Юстину, думая, что там безопасно.
— Я разговаривал с новой хозяйкой, — продолжал Брион. — Кажется, она в курсе! Ферокс все еще участвует в забеге. Она также сказала мне, что консул оставил вам особое наследство; повидимому, вы ему нравитесь…
— Ты меня удивляешь. Что за подарок?
— Малыш. — Мне никогда в жизни особо не везло, но это было смешно. — Ее светлость сказала, не могли бы вы забрать его с собой, когда уедете?
Любой гражданин имеет право отказаться от ненужного наследства. Я чуть не отказался от своего.
Однако я всегда мог продать лошадь на сосиски. При всех недостатках его характера, Малыш был хорошо откормлен и не имел видимых заболеваний; вдоль Триумфальной дороги и перед базиликой с подносов торговцы продавали много вещей и похуже.
Так что я оставил его и сэкономил на проезде домой, поднимаясь на протяжении всей Аппиевой дороги на этом косоглазом, колченогом, упрямом, привередливом звере, который теперь принадлежал мне.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ДОМ НА КВИРИНАЛЕ
РИМ
Август
Так оно и должно со всей необходимостью происходить у этих людей; кто не желает этого — не желает, чтобы смоковница давала свой сок. И вообще помни, что так мало пройдет времени, а уж и ты, и он умрете, а немного еще — и даже имени вашего не останется…
Марк Аврелий
LXXVI
Рим: только городской шум убедил меня, что Пертинакс здесь.
Даже в августе, когда половина жителей отсутствовала, а воздух был таким горячим, что при дыхании обжигало печень и легкие, возвращение в Рим наполнило мои вены праздником настоящей жизни после раздражающей безвкусицы Кампании. Я растворился в его живой атмосфере храмов и фонтанов, поразительной высоты красивых зданий, высокомерия искушенных рабов, которые передвигались по дороге, капель, упавших мне на голову, когда мой путь спустился под мрачный акведук, поношенной одежды и свежих нравов, сладкого запаха мирры среди резкой затхлости публичных домов, свежего аромата орегана, перекрывающего старую и незабываемую вонь рыбного рынка. Я с детским восторгом волновался от возвращения на эти улицы, которые знал всю свою жизнь; потом я немного успокоился, когда увидел, как усмехается город, который забыл меня. Пока меня не было, Рим пережил тысячу слухов, и ни один из них меня не касался. Город приветствовал мое возвращение с безразличием тощего пса.
Моя первая проблема заключалась в том, чтобы избавиться от лошади.
Мой зять Фамия был ветеринаром. Не могу сказать, что мне повезло, так как что бы ни сделал безнадежный пьяница Фамия, это были только плохие новости. Последнее, чего я хотел, это быть вынужденным просить об одолжении одного из моих родственников, но даже я не мог держать скаковую лошадь в квартире на шестом этаже, не вызвав враждебных выпадов со стороны других жителей дома. Фамия был менее неприятным из всех мужей, которых пять моих сестер привели в нашу семью, и он был женат на Майе, которая могла бы быть моей любимой сестрой, если бы воздержалась от брака с ним. Майя, будучи в других вещах острее медных гвоздей, которые жрецы забивали в двери храма в новый год, казалось, никогда не замечала недостатков своего собственного мужа. Наверное, их было так много, что она сбилась со счета.
Я нашел Фамию в конюшне его команды, которая, как и все, находилась в Девятом районе, Цирке Фламиния. У Фамии были высокие скулы и щелки на том месте, где должны находиться глаза, и он казался одинакового широким и высоким, словно его чемто расплющило сверху. Он понял, что мне чтото нужно, поскольку я дал ему в течение десяти минут разглагольствовать о слабых показателях Синих, которых, как он знал, я поддерживал.
После того, как Фамия с удовольствием оклеветал моих любимчиков, я объяснил свою маленькую проблему, и он осмотрел моего коня.
— Он испанец?
Я засмеялся.
— Фамия, даже я знаю, что испанцы лучшие! Он такой же испанец, как мой левый ботинок.
Фамия принес яблоко, которое Малыш начал с жадностью жевать.
— Как он скачет?
— Ужасно. Всю дорогу из Кампании он ел солому, хоть я и старался быть с ним помягче. Я ненавижу эту лошадь, Фамия; и чем больше я его ненавижу, тем более нежным притворяется этот копытный болван…
Пока мой конь лопал свое яблоко и после этого рыгал, я повнимательнее взглянул на него. Это был темнокоричневатый зверь с черной гривой, ушами и хвостом. По его носу, который он вечно совал, куда не надо, пробегала ровная полоска горчичного цвета. У некоторых коней — подвижные и прямые торчащие уши; мой постоянно дергал ими взад и вперед. Добрый человек сказал бы, что у него был умный вид; я рассуждал более здраво.
— Ты скакал на нем из Кампании? — спросил Фамия. — Это должно было укрепить его ноги.
— Для чего?
— Для скачек, например. Зачем… что ты будешь с ним делать?
— Продам, когда смогу. Но не раньше четверга. В скачках участвует один красавец по кличке Ферокс — просто потрясающий, если хотите знать — мой балбес стоял с ним в соседнем стойле. Я пообещал их дрессировщику, что мой сможет пойти на скачки; они считают, что Малыш успокаивает Ферокса.
— О! Это старая история! — в своей суровой манере ответил Фамия. — Значит, твой тоже заявлен?
— Хорошая шутка! Я полагаю, он утешит Ферокса не дальше линии старта, а потом его заберут.
— Дай ему показать себя, — уговаривал Фамия. — Что ты теряешь?
Я решил это сделать. Был хороший шанс, что Атий Пертинакс появится посмотреть выступление Ферокса. Самому прийти в Цирк в качестве хозяина лошади — единственный способ убедиться, что у меня будет доступ за кулисы, когда потребуется.
* * *
Я повесил сумку на плечо и отправился домой. Я тащил свои вещи вокруг Капитолия, мысленно приветствуя храм Юноны Монеты, покровительницы денег, столь мне необходимых. Мысли перенесли меня на Авентин к въездным воротам Большого цирка; я остановился, немного задумавшись о своей жалкой лошади и более серьезно о Пертинаксе. К тому времени мои сумки оттянули мне шею, так что я зашел к сестре Галле отдохнуть и поговорить с Ларием.
Я совсем забыл, что Галла будет в ярости относительно планов моего племянника на будущее.
— Ты обещал смотреть за ним, — яростно встретила она меня. Отстраняя ее младших детей, четверых преданных грязнуль, которые всегда заметят дядю, у которого в рюкзаке могут быль подарки, я поцеловал Галлу. — К чему все это? — прорычала она на меня. — Если ты ищешь, где пообедать, то у меня есть только рубцы!
— О, спасибо! Я люблю рубцы! — Вся моя семья знала, что это неправда, но я был очень голоден. Рубцы — это все, что когдалибо было в доме Галлы. На ее улице находилась лавка с потрохами и свиными ногами, а она ленилась готовить. — Что за проблемы с Ларием? Я отправил его домой в форме, в здравом уме и счастливым, в компании маленькой толстенькой подружки, которая знает, чего от него хочет — а также с известной репутацией за спасение утопающих.
— Мастер по фресковой живописи! — с отвращением усмехнулась Галла.
— Почему бы и нет? У него хорошо получается, это приносит деньги, и он всегда будет при работе.
— Я всегда знала, что если есть возможность втянуть его во чтото глупое, то на тебя можно положиться! Его отец, — подчеркнуто пожаловалась моя сестра, — крайне расстроен!
Я рассказал сестре, что думал об отце ее детей, и она сказала, что если я так думал, то я не обязан сидеть на ее террасе и есть ее пищу.
Снова дома! Ковыряясь ложкой в жирных потрохах, я тихо улыбался сам себе.
Появился Ларий, не раньше, чем я был готов его увидеть, и помог мне донести мой багаж: это был шанс поговорить.
— Как добрались, Ларий?
— Все хорошо.
— Петронию было тяжело ехать? Он в порядке?
— Вы его знаете; он никогда не суетится.
Мой племянник казался довольно скрытным.
— А как ты? — настаивал я.
— Меня тоже ничего не беспокоит. Вы спросите о своей возлюбленной?
— Зачем? Как только отдохну и схожу в баню, я собираюсь сам встретиться со своей возлюбленной. Если есть чтото, о чем я должен узнать сразу, скажи!
Ларий пожал плечами.
Мы дошли до Остийской дороги. Я уже почти вернулся в свою помойку. Я остановился у лоджии одной таверны с холодными мясными блюдами; она была закрыта, но запахи копченых окороков и трав для консервирования маняще витали в воздухе. Я со злостью схватил Лария одной рукой за ворот.
— Дело в том, что Пертинакс, возможно, приехал в Рим. Это с ним связано то, о чем ты не хочешь мне рассказать?
— Дядя Марк, ничего не случилось. — Он вырвался от меня. — Елене Юстине некоторое время было плохо, но Сильвия за ней присматривала. Любого может укачать в дороге…
Я както проделал тысячу четыреста миль в компании спокойной Елены, которая ни на что не жаловалась, и точно знал, что ее не укачивало. Я почувствовал комок в горле. К чему я приехал домой? Прежде, чем начать гадать, я поднял сумку и пошел по узкому переулку, который вел к старым знакомым запахам Фонтанного дворика.
* * *
После того как от меня ушел Ларий, я стоял на своем балконе. Наш дом находился на полпути к вершине Авентинского холма, и его единственным огромным преимуществом был шикарный вид из окна. Даже когда я закрыл свои пересохшие, уставшие глаза, можно было многое узнать: скрип повозок; лай сторожевых псов; отдаленные крики лодочников на реке; подозрительные хоры из винных погребов и дрожащие флейты в храмах; визг молодых девушек, то ли от страха, то ли от истерического веселья.
Там внизу Рим, наверное, был приютом многим беглецам. Мужчины убегали от своих матерей; от своих долгов; от своих деловых партнеров; от своей собственной недостаточности. Или, как Гней Атий Пертинакс Капрений Марцелл, убегали от судьбы.
LXXVII
Я хотел увидеть Елену, но у меня внутри зарождался небольшой комочек сомнения.
Стоял тихий вечер, когда я потащил свое уставшее от дороги тело мыться. Гимнастический зал, куда я обычно ходил, стоял около храма Кастора; его посетители в это время в основном ужинали — приличные люди, которые предпочитали кушать дома со своими семьями или в компании старых друзей с легкой музыкой и приятными беседами. Сейчас и сам хозяин Главк уже был дома. Я обрадовался, потому что Главк определенно стал бы вольничать и делать язвительные замечания о том, как разрушительно сказались на моем теле две недели, проведенные в Кампании. Как только он меня увидит, захочет снова привести в форму. Я слишком устал, чтобы позволить ему начать прямо сегодня.
Терма обычно открыта и после ужина. Она была хорошо освещена керамическими лампами, висевшими во всех коридорах, однако в такое вечернее время это место наполнялось какойто зловещей атмосферой. Там гдето скрывались слуги, которые могли потереть тебя щеткой, если позвать их, однако большинство людей, которые приходили, когда стемнеет, справлялись сами. Многие клиенты были взяточниками из среднего класса, имевшими соответствующую работу. Конструкторы акведуков и инженеры в порту, кто иногда допоздна засиживался на рабочем месте, чтобы закончить какуюто срочную работу. Ученые личности, которые потеряли счет времени, сидя в библиотеке, и потом приходили сюда в изнеможении с затуманенными глазами. Торговцы, прибывающие из Остии после дневного прилива. И один или два замечательных вольнонаемных чудака типа меня, за чьей боевой подготовкой следил лично тренер Главк и у кого были странные часы работы по причинам, о которых другие его клиенты из вежливости никогда не спрашивали.
Я оставил одежду в раздевалке, мельком взглянув на вещи на других крючках. Я как следует натерся в парной, ополоснулся водой, потом через тяжелые двери вышел в сухой пар, чтобы расслабиться. Там ктото уже был. Я кивнул. В такой час было принято заходить молча, но когда мои глаза привыкли к влажности, я узнал этого человека. Ему было за пятьдесят, а на лице я разглядел приятное выражение. Он тоже погрузился в свои мысли, но узнал меня, как только я увидел его подвижные брови и помальчишески взъерошенные волосы. Папа Елены.
— Дидий Фалько!
— Камилл Вер!
Мы непринужденно поздоровались. Он нежно посмотрел на мою бесцеремонную позу, а мне нравилось его остроумное хорошее чувство юмора. Я усадил свое уставшее тело рядом с ним.
— Я слышал, ты был в Кампании.
— Только что вернулся. Вы опоздали, сенатор!
— Ищу убежища, — признался он с искренней улыбкой. — Я рад, что встретил тебя сегодня.
Я поднял бровь с явным чувством, что сейчас услышу плохие новости.
— Чтонибудь случилось, сенатор?
— Дидий Фалько, я надеюсь, — заявил Камилл Вер со значительной формальностью, — ты сможешь сказать мне, кто подарил мне честь стать дедушкой.
* * *
Длинная струйка пота уже начала стекать изпод моих мокрых кудрявых волос. Я сидел, пока она бежала дальше — медленно по левому виску, потом с внезапным ускорением мимо уха, по шее и на грудь. Капля скатилась на полотенце, лежавшее у меня на коленях.
— Я правильно понял, что для тебя это новость? — спокойно спросил сенатор.
— Да.
Мое нежелание поверить в то, что Елена могла скрыть нечто столь важное, расходилось с живыми воспоминаниями о том, как она падала в обморок; как ее укачало; как мы возвращались с Везувия; как она беспокоилась о деньгах… Как Елена плакала в моих объятиях по причинам, о которых я никогда не узнаю. Потом пришли другие воспоминания, более интимные и более глубокие.
— Повидимому, это не мое дело, раз я не в курсе!
— Да? — сурово отреагировал ее отец. — Я буду откровенным: мы с моей женой предполагаем, что твое. — Я ничего не сказал. Он, похоже, теперь засомневался. — Ты отрицаешь, что это возможно?
— Нет. — Я никогда не сомневался, что Камилл Вер сразу догадался о моих чувствах к его дочери. В качестве временной защиты я начал профессионально добродушно подшучивать: — Послушайте, личный осведомитель, который ведет интенсивную общественную жизнь, обязательно находит женщин, которые хотят от него больше, чем он ожидает. Пока у меня не возникало трудностей, чтобы убедить магистрата, что это иски с целью досадить мне!
— Будь серьезнее, Фалько.
Я резко выдохнул.
— Я полагаю, вы не хотите, чтобы я вас поздравил, сенатор. И не надеюсь, что вы поздравите меня… — Если это и прозвучало раздраженно, то потому, что во мне начинало гореть дикое чувство несправедливости.
— Это было бы так ужасно?
— Просто пугает! — сказал я, и это была правда. Сенатор нервно улыбнулся. Я уже знал, что он был обо мне достаточно высокого мнения, чтобы понять: если я действительно нужен его дочери, то мы могли справиться вдвоем, даже без обычных затрат на хлеб или родительской поддержки… Он положил мне на руку свою ладонь.
— Я расстроил тебя?
— Если честно, не знаю.
Тогда Камилл попытался сделать меня своим союзником.
— Слушай, мне нет смысла опротестовывать свои сенаторские права, как какомунибудь
старомодному цензору. Это не противозаконно…
— И это не поможет! — воскликнул я.
— Не говори так! Уже хватило проблем, когда Елена была замужем за Атием Пертинаксом; это было ошибкой, которую я пообещал себе никогда не повторять. Я хочу видеть ее счастливой. — У него был отчаянный голос. Конечно, он любил свою дочь больше, чем нужно — но, в таком случае, и я тоже.
— Я не могу защищать ее от самой себя! — Я замолчал. — Нет, это несправедливо. Она никогда не перестает удивлять меня своим дальновидным здравомыслием… — Ее отец начал спорить. — Нет, она права, сенатор! Елена заслуживает лучшей жизни, чем смогу дать ей я. Ее дети заслуживают лучшего; на самом деле, и мои тоже! Сенатор, я не могу это обсуждать. — Вопервых, ей было бы неприятно узнать, что мы это делали. — Мы можем сменить тему? Есть коечто еще, над чем нам нужно срочно подумать. Вы упоминали Атия Пертинакса, и он и есть основная проблема. Вы слышали, что сейчас происходит?
Он сделал злое выражение лица; у Камилла Вера не было времени на своего зятя. Это чувство испытывали многие отцы, но здесь он оказался прав: его дочь на самом деле была слишком хороша для мужчины, который действительно достоин презрения.
Камилл Вер знал, что Пертинакс все еще жив; я предупредил его, что беглец мог переместиться в Рим.
— Оглядываясь на прошлое, не слишком мудро было посылать Елену сюда. Но я знаю ваше мнение, сенатор. Пока я не задержу его, вы не могли бы убедиться, что Елена дома в безопасности?
— Конечно. Ну… насколько смогу. Но ее положение должно заставить ее перестать суетиться, — неизбежно напомнил он мне.
Я немного помолчал.
— Она в порядке?
— Никто мне ничего не говорит, — пожаловался ее отец. Когда Камилл Вер говорил о своих женщинах, он всегда принимал подавленную позу, словно у них было традиционное представление о главе семьи, который существовал для того, чтобы оплачивать счета, создавать много шума, которого никто не слышит, — и чтобы его водили за нос. — У нее какойто осунувшийся вид.
— Да, я это заметил.
Мы обменялись напряженными взглядами.
* * *
Мы вместе закончили мыться, вышли в раздевалку и оделись. На последней ступеньке гимнастического зала мы пожали друг другу руки. Если отец Елены был таким проницательным, как я подозревал, то по моему лицу он понял, как мне горько.
Он неловко стоял в нерешительности.
— Ты придешь к ней?
— Нет. — Так или иначе, это делало меня подвальной крысой. Мерзкое чувство. — Но скажите ей…
— Фалько?
— Забудьте. Лучше не надо.
Отец его будущего внука должен быть самым счастливым мужчиной в Риме. Сколько готов заплатить жалкий кандидат, кто ясно понимал, что им не является, за то, чтобы признать свое положение?
Надо быть разумным. Никто не надеется, что римская девушка с таким знатным происхождением —
отец в сенате, два брата на военной службе, приличное образование, удовлетворительная внешность, имущество в собственности стоимостью четверть миллиона — откровенно признается, что позволила себе несерьезные отношения с таким неотесанным, невоспитанным разбойником с Авентина, как я.
LXXVIII
Было поздно. Скоро стемнеет. У меня были неугомонные ноги мужчины, которому нужно сходить к своей девушке, но который не мог пойти. Очевидной альтернативой показалось завалиться в винный погреб и так напиться, чтобы пришлось беспокоиться только о том, покажет ли мне потом какойнибудь добродушный человек, в какой стороне мой дом, а если покажет, то доплетусь ли я до своей квартиры или упаду пьяным в стельку прямо на дороге.
Вместо этого я пошел во дворец.
Меня заставили подождать. Я так злился на Елену за ее скрытность, что впервые в жизни мне меньше всего нужно было время на раздумья. Я плюхнулся на кушетку, чувствуя себя все более и более опустошенным изза несправедливости, пока сам сомневался, не сбежать ли мне домой и не напиться ли на собственном балконе. В тот момент, когда я решил это сделать, меня пригласили. Я даже не мог выплеснуть свое раздражение, потому что, как только Веспасиан увидел меня, он начал извиняться.
— Прости, Фалько. Государственные дела. — Не сомневаюсь, что он болтал со своей любовницей. — У тебя хмурый вид!
— О, я думаю о женщинах, император.
— Тогда неудивительно! Хочешь вина? — Я так сильно его хотел, что мне показалось безопаснее отказаться.
— Понравилась поездка?
— Ну, у меня все еще морская болезнь, и я все еще не умею плавать…
Император задумчиво посмотрел на меня, словно понял, что я говорил цинично.
Я слишком устал и был не в настроении; я небрежно все ему доложил. Другие, более важные люди, все равно уже рассказали ему большую часть. Я чувствовал, что описывать грустные подробности того, как Ауфидий Крисп бесцельно утонул, это только напрасная трата времени.
— Цензор опубликовал эту новость как «прискорбный несчастный случай на лодке», — злобно проворчал император. — Кто командовал триремой, которой нужно поучиться рулить?
— Претор из Геркуланума, император.
— Он! Он приехал в Рим; я вчера виделся с ним.
— Демонстрировал во дворце свой профиль в надежде на хороший пост за границей! Секст Эмилий Руф Клеменс, — объявил я. — Хорошая старая семья и много посредственной общественной деятельности. Он идиот, но как он может проиграть? Теперь Крисп мертв, и когда дело доходит до наград, я полагаю, этот скорый на руку триерарх опередил меня?
— Стисни зубы, Фалько: я не даю премий, когда тонут сенаторы.
— Конечно, император. Как только корабли столкнулись, я подумал, что меня за это вышвырнут!
— Руф очень мне помог своим советом насчет флотилии, — с самым яростным недовольством выговаривал мне Веспасиан.
— О, и я могу это сделать, Цезарь! Мизенской флотилии нужна тщательная ревизия: больше дисциплины и меньше пьянства!
— Да. У меня сложилось впечатление, что Руф сам мечтает обладать жезлом командующего флотом… — Я был в ярости, пока не встретился с императором взглядом. — В будущем должность префектов мизенской флотилии занято для моих верных друзей. Но я определенно дам этому приятелю шанс испытать себя всеми опасностями командования; он должен быть готов к легиону…
— Что? В видной и неспокойной провинции, где сможет более явно расцвести его некомпетентность?
— Нет, Фалько; нам всем приходится признавать, что карьера общественного деятеля включает и службу в какойнибудь мрачной дыре за границей…
Я начал улыбаться.
— Что вы откопали для Руфа, император?
— Коекакое местечко, почти полностью окруженное сушей; так мы убережем себя от его мореходного мастерства: Норик.
— Норик! — Бывшая провинция Криспа. Там никогда ничего не происходит. — Мне кажется, Крисп бы это одобрил!
— Надеюсь! — улыбнулся Веспасиан с обманчивой мягкостью.
Наш новый император из Флавиев не был мстительным человеком. Но он был привлекателен своим особым чувством юмора.
— Это все, Фалько?
— Все, на что я могу надеяться, — устало произнес я. — Я клянчил у вас вознаграждение за то, что привезу Гордиана, но мы через такое прошли…
— Совсем нет. Я выделил тебе деньги. Тысячи достаточно?
— Тысячи! Это было бы хорошим вознаграждением для поэта, который прочитал красивую оду из десяти строк! Богатый сбор для актера театра, который играет на лире…
— Не верь этому! Сегодня музыканты требуют, по крайней мере, две тысячи, прежде чем уйдут со сцены. На что нужны деньги такому человеку, как ты?
— На хлеб и вино. После этого в основном владельцу моего дома. Иногда я мечтаю найти другого. Цезарь, даже мне может нравиться дом, где легко повернуться и почесаться, не ободрав кожу на локте. Я работаю, чтобы жить — а в моей жизни сейчас совершенно определенно не хватает изысканности!
— Женщин?
— Люди всегда меня об этом спрашивают.
— Интересно, почему! Мои шпионы говорят, — весело пригрозил Веспасиан, — что ты вернулся из Кампании богаче, чем уезжал.
— Одна так называемая скаковая лошадь и священная коза! Коза ушла на пенсию, но в следующий раз, когда вы сломаете зуб об хрящ в мясной котлете, передайте привет лошади Фалько. Рим тоже стал богаче, — напомнил я ему. — На большую часть пятнадцати миллиардов бушелей, которые могли уйти не туда…
Казалось, он меня не слышал.
— Тит хочет знать, как зовут эту лошадь.
Потрясающе. Я вернулся в Рим всего шесть часов назад, а новости о том, как мне ужасно повезло, уже дошли до старшего сына императора!
— Малыш. Скажите Титу, чтобы он сохранил свою ставку! Я выставляю эту лошадь на скачки только ради одолжения принимающим ставки, которые говорят, что в последнее время они мало смеются…
— Как честно для владельца лошади!
— О, император, я бы хотел иметь крепкие нервы, чтобы воровать и лгать, как другие люди, но в тюрьме ужасные условия, и я боюсь крыс. Когда я хочу посмеяться, я говорю себе, что мои дети будут мной гордиться.
— Какие дети? — агрессивно бросил в ответ император.
— О, десять маленьких авентинских мальчишек, которых я не могу себе позволить признать!
Веспасиан повернул свое большое, квадратное тело, в это время его бровь поднялась, а рот сжался, чем он был знаменит. Я всегда знал, что когда у него менялось настроение, и он переставал насмехаться, то наш разговор достигал своего самого главного вопроса. Господин мира заговорил со мной так мягко, словно большой добрый дядя, который позволял себе забыть, как сильно меня осуждал.
— То, что ты сделал с кораблями зерна — замечательно. Префекта по продовольствию попросили доложить о подходящем размере вознаграждения… — Я знал, что это значило: я никогда больше об этом не услышу. — Я дам тебе тысячу за Гордиана — и предлагаю еще десять, если ты разберешься с Пертинаксом Марцеллом без огласки.
Маловато; хотя по шкале государственного вознаграждения Веспасиана безумно щедро. Я кивнул.
— Официально Пертинакс мертв. Не нужно будет снова сообщать об этом в «Ежедневной газете».
— Чего бы мне действительно хотелось, — предложил Веспасиан, — так это какоенибудь доказательство его вины.
— Вы хотите сказать, что дело может дойти до суда?
— Нет. Но если мы справимся с ним без суда, — сухо сообщил Веспасиан, то, возможно, есть даже больше причин иметь доказательство!
Я был республиканцем. Я всегда пугался, когда встречал императора с моральными ценностями.
На этом последнем этапе было почти невозможно найти улики против Пертинакса. Единственной его жертвой, кто выжил, был Петроний Лонг, и даже ему нечего было сказать суду. Тогда оставался один важный свидетель — Мило, управляющий Гордиана. Мило был рабом. Что означало, что мы могли принять его показания, только если они будут получены с помощью пытки.
Но Мило был таким глупым здоровяком, который в ответ на вызов профессионального палача только стиснет зубы, напряжет свои могучие мускулы — и умрет раньше, чем расколется.
— Я сделаю все возможное, чтобы чтонибудь найти! — торжественно пообещал я императору.
Он улыбнулся.
* * *
Я уходил из дворца с едким привкусом, который остался у меня во рту от этого разговора, когда ктото саркастически поздоровался со мной в дверях.
— Дидий Фалько, ты позорный попрошайка! Я думал, что ты, не жалея ног, бегаешь за женщинами вокруг Неаполя!
Я осторожно повернулся, поскольку во дворце всегда был начеку, и узнал грозную фигуру.
— Мом! — Надсмотрщик, который помогал распределять имущество Пертинакса. Улыбаясь своими наполовину беззубыми челюстями, он казался еще более неряшливым, чем обычно. — Мом, меня начинает нервировать это широко распространенное предположение, что я все свободное время прелюбодействовал! Ктонибудь говорил чтото такое, с чем я захотел бы поспорить?
— Многое! — подшутил он. — Кажется, твое имя в эти дни слышится везде. Ты виделся с Анакритом?
— А должен был?
— Постарайся не натыкаться на него, — предупредил Мом. Между ним и главным шпионом больше не осталось любви; у них были разные приоритеты.
— Анакрит меня не беспокоил. Последний раз, когда я его видел, его понизили до счетовода.
— Никогда не доверяй счетоводу! Он хвастается, рассказывая, что хочет проверить тебя насчет коекакой потерянной партии казенного свинца… — Я застонал, хотя убедился, что сделал это про себя. — Дело в том, что Анакрит заказал койку на имя Дидия Фалько в многолетней камере в Мамертине.
— Не беспокойся, — сказал я Мому, словно сам в это верил. — Я в этом участвую. Тюрьма — это всего лишь уловка, чтобы убежать от возмущенных отцов всех тех женщин, которых я соблазнил…
Он улыбнулся и отпустил меня. Остановился только, чтобы крикнуть мне вслед:
— Кстати, Фалько, что там насчет лошади?
— Его зовут Неудачник, — ответил я. — От Плохого Питания, из рода Потерпеть Неудачу! Не ставь на него; он обязательно сломает ногу.
Я вышел из дворца на северную сторону Палатинского холма. На полпути обратно в мой квартал я прошел мимо открытого винного погреба. Я передумал, свернул в него, и, наконец, напился.
LXXIX
Меня разбудил звук очень шустрого веника. Это говорило о двух вещах. Ктото посчитал своей обязанностью разбудить меня. И прошлой ночью я нашел дорогу домой.
Когда падаешь в канаву, люди оставляют тебя там в покое.
Я застонал и несколько раз поворчал, чтобы предупредить, что могу встать; веник обиженно затих. Я натянул тунику, решил, что она грязная, поэтому закрыл пятна второй. Я умылся, прополоскал зубы и причесался, но ничто из этого не помогло мне почувствовать себя лучше. У меня пропал пояс, и я с трудом нашел один ботинок. Спотыкаясь, я вышел из комнаты.
Женщина, которая считала своим делом поддерживать мою квартиру в порядке, какоето время творила чудеса в тишине, прежде чем начала эту ерунду с веником. Ее знакомые черные глаза обожгли меня пронизывающим отвращением. Она убрала комнату; теперь примется за меня.
— Я пришла приготовить тебе завтрак, но скорее это будет уже обед!
— Привет, мама, — сказал я.
Я сел за стол, потому что ноги отказывались держать меня. Я уверил свою мать, что хорошо быть дома и иметь приличный обед, приготовленный для меня моей любящей мамой.
— Значит, у тебя опять проблемы! — проворчала она, не обманувшись лестью.
Мама кормила меня обедом, а тем временем отмывала балкон. Она сама нашла свое новое бронзовое ведро. А также мои ложки.
— Красивые!
— Мне подарил их красивый человек.
— Ты виделся с ней?
— Нет.
— Ты виделся с Петронием Лонгом?
— Нет.
— Какие планы на сегодня?
Большинство людей с моей работой разумно избавляются от внимания их любопытных семей. Какой клиент захочет нанять сыщика, которому приходится предупреждать свою мать каждый раз, когда он рискует выходить на улицу?
— Нужно коекого найти. — Сила моего сознания была ослаблена обедом.
— Почему ты такой раздраженный? За что тебе нужен этот бедняга?
— За убийство.
— Ну ладно, — вздохнула мама. — Он мог наделать вещей и похуже!
Я пришел к выводу, что она имела в виду вещи, которые сделал я.
— Но подумываю, — пробормотал я, когда мыл ложку, которой ел, а потом вытирал ее тряпкой, как меня учила Елена, — вместо этого пойти в винный погребок!
* * *
Я отказывался признаться в похмелье, но мысль о выпивке производила на мои внутренности неприятный эффект. С болезненной отрыжкой я отправился навестить Петрония.
Он хандрил дома, будучи все еще очень слабым, чтобы патрулировать улицы, и беспокоился, что в его отсутствие его заместитель приобретал слишком большую власть над людьми. Первое, что он сказал:
— Фалько, почему этот мошенник из дворца охотится за тобой?
Анакрит.
— Неправильно понял мои расходы…
— Лжец! Он сказал мне, что указано в ордере.
— О, правда?
— Он пытался дать мне взятку!
— Для чего, Петро?
— Чтобы я сдал тебя!
— Если мы говорим об аресте…
— Не будь дураком!
— Только из любопытства, сколько он тебе предложил?
Петроний улыбнулся мне.
— Недостаточно!
Не было никакого шанса, что Петроний когданибудь станет сотрудничать со шпионом из императорского дворца. Но Анакрит наверняка хорошо понимал, стоит ему только распустить слух, что с этим могут быть связаны деньги, и в следующий раз, когда мой домовладелец Смаракт пошлет за арендной платой, какомунибудь коротышке без гроша в кармане придет в голову обворовать меня на черной лестнице. Похоже, чтобы выбраться из этой ситуации, придется потерпеть некоторое личное неудобство.
— Не переживай, — запинаясь сказал я. — Я решу эту проблему.
Петроний резко засмеялся.
Пришла Аррия Сильвия, чтобы проверить нас: наказание за то, что Петро вынужден сидеть дома. Мы поговорили об их обратном пути домой, о моей поездке, моем нелепом скакуне и даже об охоте на Пертинакса, ни разу не упомянув о Елене. Только когда я собрался уходить, терпение Сильвии закончилось:
— Как мы полагаем, ты знаешь о Елене?
— Ее отец описал мне ситуацию.
— Ситуацию! — повторила Сильвия, с прежним сильным негодованием. — Ты виделся с ней?
— Она знает, где меня искать, если захочет встретиться со мной.
— О, ради бога, Фалько!
Я поймал взгляд Петро, и он тихонько сказал своей жене:
— Лучше оставь его. У них свой стиль в отношениях…
— У нее, ты хочешь сказать? — возмутился я, обращаясь к ним обоим. — Насколько я понял, она тебе сказала?
— Я спросила ее! — с упреком ответила Сильвия. — Все видят, что этой девушке сейчас ужасно тяжело…
Я боялся этого.
— Тогда считайте это за честь; мне она ничего не говорила! Прежде, чем осуждать меня, подумайте, что чувствую я: не было никакой причины, почему Елена Юстина должна скрывать это! И я отлично знаю, почему она предпочла не говорить мне…
Сильвия в ужасе перебила меня:
— Ты думаешь, что отец ктото другой!
Эта мысль никогда не приходила мне в голову.
— Это, — холодно заявил я, — один из возможных вариантов.
Петроний, который в определенных вещах был очень прямолинейным, казался потрясенным.
— Ты так не думаешь!
— Я не знаю, как я думаю.
Я знал. То, что я действительно думал, было еще хуже. Я еще раз взглянул на них: они стояли взбешенные и оба объединились против меня. Потом я ушел.
Убеждать себя, что, возможно, я и не отец этого ребенка, — это обидно для Елены и унизительно для меня. Однако это легче, чем правда: посмотреть на то, кем я был. Посмотреть на то, как я жил. В тот момент я не мог винить Елену Юстину, если она отказывалась носить моего ребенка.
Она, когда я еще ничего не знал, уже сказала мне, что собирается делать. Елена «разберется с этим»; я все еще слышал, как она говорит эти слова. Это могло означать только одно.
В оставшейся части дня я признался, что у меня похмелье, и отправился домой отсыпаться.
LXXX
Лежать в постели — это не всегда пустая трата времени. Гдето в промежутке между тем моментом, когда ты убежден, что не спишь, и тем, когда спустя целую вечность просыпаешься, я придумал план, как напасть на след Пертинакса. Я откопал тунику, которая мне раньше нравилась; когдато она была сиреневой, но сейчас стала непривлекательного бледносерого цвета. Я сходил к цирюльнику, чтобы хорошо постричься. Потом, незаметно влившись в толпу, ушел.
В волшебный час перед самым обедом я перешел через Тибр по Аврелиевому мосту. Я был один. Никто не знал, куда я направлялся, и никто не заметил бы, если бы я не вернулся. Ни один человек, кто мог бы когданибудь об этом побеспокоиться, сегодня не стал бы вспоминать обо мне. Пока лечение головной боли было самой продуктивной частью дня.
Дни меняются. В моем случае, обычно в худшую сторону.
* * *
Дым из печей тысячи терм витал в городе. Он попал мне в горло, вызвав несчастный хрип, который уже и так сидел там. К этому моменту Елена Юстина уже поняла, что я вернулся в Рим и узнал о ее положении. Отец обязательно рассказал ей, как глубоко я обиделся. Как я и ожидал, она не предприняла попыток связаться со мной. Даже когда я облегчил ей задачу, проведя большую часть дня дома в постели.
Переходя через реку, я слышал звуки благородных аплодисментов на представлении в театре Помпея — не похожих на разгар веселья сатирического спектакля или даже возгласы и приветствия, которыми встречают обезьянок на канате. Наверное, сегодня показывали чтото старое, возможно, греческое, вероятно, трагическое и определенно религиозное. Я обрадовался. Мысли о том, что другие люди страдают, соответствовали моему настроению: три часа грустного выступления хора, пара кратких речей главного актера из класса ораторского искусства, а потом, как только кровь начинает пульсировать сильнее, твои медовые финики падают на предыдущий ряд, так что приходится нагибаться, чтобы поднять их, пока какойнибудь торговец с огромным задом не откинулся назад и не раздавил их — и когда ты наклонишься, чтобы взять их, то обязательно пропустишь единственный смешной момент в спектакле…
Сурово. Если хочешь развлечений, то сиди дома и лови блох у кота.
* * *
Аврелиев мост не был самым прямым маршрутом туда, куда я шел, но сегодняшний вечер был создан для того, чтобы выбрать длинные обходные пути и сбиться с дороги. Проклинать слепых попрошаек. Сталкивать старых бабушек в канаву. Наступать на нарисованные мелом на тротуарах игры, когда по ним еще прыгали дети. Потерять репутацию. Потерять приличие. Поранить пятку, пытаясь пробить дырку в упрямых перилах из травертина на одном древнем мосту.
Район на правом берегу Тибра наполнялся к вечеру. В течение дня он выгонял свое население на другой берег реки, чтобы торговать отравленными пирогами, отсыревшими спичками, ужасными зелеными бусами, талисманами на удачу, проклятиями, возможностью воспользоваться сестрой торговца на пять минут в крипте храма Исиды, куда половину времени только идти, и если подхватите чтонибудь неизлечимое, не удивляйтесь. Даже серьезные темноглазые дети исчезли с улиц собственного квартала, чтобы играть в свои особые салки — вытаскивать кошельки из чересчур доверчивых карманов вокруг Бычьего рынка и вдоль Священной дороги, где сейчас не осталось ничего священного, хотя, возможно, никогда и не было.
Вечером они все возвращались обратно, как темная река, втекающая в Четырнадцатый район. Тощие мужчины, несущие полные охапки поясов и покрывал. Безжалостные женщины, которые останавливают тебя, предлагая свои запутанные побеги фиалок или амулеты из треснувших костей. Снова те дети с грустными, прекрасными, ранимыми выражениями лица — и неожиданные непристойные оскорбления. К вечеру это место даже еще гуще наполнялось экзотикой. Над теплой аурой восточных ароматов поднималась приглушенная музыка иностранных развлечений, проходящих за закрытыми дверями. Суровые азартные игры на маленькие суммы, которые становились несчастьем на всю жизнь. За распутство дорого платят. Слышится шум барабана. Дрожь крошечных медных колокольчиков. Для гуляющего человека ставни, тихо висящие над головой в темноте, так же опасны, как внезапно распахивающиеся двери, проливающие свет на улицу, и маньякубийца с ножом. Только сыщик, имеющий определенные проблемы с головой, которому нужно, чтобы врач отправил его в морской круиз на полгода с огромной бутылкой слабительного и тяжелым курсом упражнений, мог один отправиться вечером за Тибр. Однако я пошел.
* * *
Подобные места во второй раз никогда не кажутся точно такими же. Когда я нашел нужную мне улицу, она была такой же маленькой и узкой, какой я ее помнил. Однако из винного погреба на улицу выставили два стола, и одна или две лавки в пустых серых стенах, выходивших на переулок, которых я даже не заметил во время полуденного отдыха, сейчас снова подняли свои деревянные ставни для вечерней торговли. Я вошел в булочную, облокотился на прилавок и стал выбирать себе чтонибудь из изделий, думая, как ужасно тяжела для желудка иностранная выпечка. Мое пирожное оказалось круглым, с половину моего кулака; у него была плотная консистенция, как у домашних фрикаделек моей сестры Юнии, но пахло оно, как старая попона. Когда пирожное проваливалось в желудок, что оно делало очень медленно, я чувствовал, как мои потревоженные кишки на каждом сантиметре пути выражают моральное возмущение. Я мог бы выбросить его в канализацию, но это вызовет засор. В любом случае, моя мама воспитала меня так, что я ненавидел выбрасывать пищу.
У меня была куча времени притвориться, что я жую свою сладость, почувствовать два твердых кусочка, которые были либо орехами, либо хорошо поджаренными мокрицами, проникшими в тесто. Тем временем я тщательно осмотрел окно комнаты на первом этаже, которую когдато арендовал так называемый вольноотпущенник Барнаб.
Окно было слишком маленьким, а стены дома слишком толстыми, чтобы увидеть много, но я мог разглядеть только тень, по крайней мере, одного человека, который перемещался по комнате. Необычайно повезло.
Я облизывал пальцы, когда напротив внезапно открылась входная дверь и на улицу вышли два человека. Одним был болтливый парень с чернильницей на поясе, похожий на писца. Другим, кто игнорировал поток жалоб своего спутника, пока сам незаметно во все стороны оглядывал переулок, был Пертинакс.
Он научился смотреть вокруг, но не видеть; если я был достаточно близко, чтобы узнать его — светлые спутанные волосы и узкие ноздри на беспокойном лице, — тогда даже с новой прической и в тунике нового цвета он тоже должен был узнать меня.
На пороге они пожали друг другу руки и пошли в разные стороны. Я пропустил чернильницу, который направлялся туда, откуда я сам пришел, и приготовился идти за Пертинаксом. К счастью, я не стал спешить. Двое мужчин, которые лениво играли в солдатиков за одним из столиков на улице у винного погреба, отодвинули доску и фишки и встали. Прежде, чем Пертинакс дошел до угла улицы, они тоже двинулись — за ним и как раз передо мной. Эти двое разделились: один ускорил шаг, пока не догнал Пертинакса, а второй остался позади. Когда человек, который шел медленно, дошел до угла, он встретился с другой тихой фигурой в более широкой улице. Почувствовав внезапный голос интуиции, я открыл дверь и зашел в помещение. Потом номера два и три объединили силы, и я был достаточно близко, чтобы подслушать, о чем они шептались.
— Вот он. Крит — первый ориентир…
— Есть какиенибудь успехи с Фалько?
— Нет; мне надоело проверять его излюбленные места, а потом я слышал, что он весь день провел дома — я упустил его. Я останусь с тобой; самый простой способ поймать Фалько — это использовать этого как приманку…
Задние ориентиры разошлись на противоположные стороны улицы и снова двинулись вперед. Наверное, это люди Анакрита. Я подождал, пока они все уйдут.
Дополнительная сложность. Теперь мне придется дать Пертинаксу понять, что за ним следят. Если я не смогу убедить его сбить со следа этих помощников из дворца, не остается никакой возможности достать его, чтобы меня самого при этом не арестовали.
Так или иначе, это был идеальный момент для того, чтобы еще раз напиться.
LXXXI
Вечером в винном погребе было полно народу и царила душная, отвратительная атмосфера. Его посетителями были мостильщики и кочегары, крепкие мужчины в рабочих туниках, которые очень хотели пить и, как только садились, начинали сразу обливаться потом. Я крайне вежливо пробирался мимо мускулистых спин к стойке. У уродливой старой дамы я заказал кувшин и сказал, что подожду на улице. Как я и догадывался, с вином вышла ее дочка.
— Что такая симпатичная девушка, как ты, делает в этой лачуге?
Туллия одарила меня улыбкой, которую берегла для незнакомцев, тем временем переставляя с подноса кувшин и чашу для вина. Я и забыл, какой привлекательной была подавальщица в этом винном погребе. Ее огромные темные глаза искоса смотрели на меня, оценивая, мог ли я влюбиться, пока я сам сидел и тоже думал над этим. Но этим вечером я оставался холодным, с небольшой ноткой грусти: такой подозрительный тип, которых кокетливые девушки, знающие свое дело, всегда избегают.
Туллия знала; как только она дернулась, чтобы уйти, я схватил за ее изящную ручку.
— Не уходи; побудь тут со мной! — Она рассмеялась, с искусным артистизмом, пытаясь оттолкнуть меня. — Сядь, дорогая… — Она ближе посмотрела на меня, чтобы понять, насколько я пьян, потом поняла, что я был абсолютно трезв.
— Привет, Туллия! — Насторожившись, ее глаза обратились к занавешенному дверному проему в поисках помощи. — Я коечто потерял, Туллия; тебе ктонибудь давал большую зеленую камею? — Она вспомнила, откуда знала меня. Она вспомнила, что я мог быть в нездоровом настроении. — Меня зовут Фалько, — мягко напомнил я. — Я хочу поговорить. Если ты позовешь своих больших друзей, то окажешься на другом берегу реки и будешь разговаривать вместо этого с Преторианской гвардией. У меня есть преимущество, что мне очень даже нравятся симпатичные девушки. Преторианцы известны тем, что им не нравится никто.
Туллия села. Я улыбнулся ей. Это ее не успокоило.
— Чего ты хочешь, Фалько?
— То же самое, что и в прошлый раз. Я ищу Барнаба.
Ктото выглянул из двери. Я потянулся за пустой чашей на другом столике и с пьяной несдержанностью налил Туллии выпить. Выглянувшая голова исчезла.
— Его нет, — попыталась ответить Туллия, но ее тон был слишком настороженным, чтобы я посчитал это правдой.
— Интересно. Я знаю, что он ездил в Кротон и на мыс Колонна… — Я понял, что названия этих мест девушка слышала впервые. — Потом он грелся под тем же солнышком, что и я, в Кампании. Я заметил загар, когда он сейчас только что выходил из дома, но я не собираюсь разговаривать с ним в присутствии группы шпионов из дворца императора.
Тот факт, что у «Барнаба» были неприятности, никак не удивил подавальщицу. Ее напугало то, что его неприятности были связаны с дворцом.
— Ты врешь, Фалько!
— Зачем мне это? Лучше предупреди его, если он твой друг. — У Туллии был хитрый вид. Я тут же спросил: — Вы с Барнабом встречаетесь?
— Возможно! — уклончиво сказала она.
— Регулярно?
— Может быть.
— Ты еще глупее!
— Что это значит, Фалько? — Из того, как подробно Туллия спрашивала меня, я понял, что она заинтересовалась.
— Я ненавижу, когда красивые женщины тратят себя понапрасну! Что он тебе пообещал? — Девушка ничего не ответила. — Я могу угадать! Ты согласна? Нет. У тебя такой вид, словно теперь ты научилась не доверять всему, что слышишь от мужчин.
— Я все равно тебе не верю, Фалько!
— Я знал, что ты умна.
Блеснув дешевыми сережками, Туллия взяла с соседнего столика лампу, чтобы получше меня разглядеть. Она была высокой девушкой и обладала такой фигурой, смотреть на которую в другом настроении было бы удовольствием.
— Он несерьезный, — предупредил я.
— Он предложил мне жениться!
Я присвистнул.
— У него хороший вкус! Тогда почему ты сомневаешься?
— Мне кажется, у него есть другая женщина, — заявила Туллия, облокотившись на свои красивые локотки и пристально глядя на меня.
Я совершенно бесцеремонно думал о его другой женщине.
— Возможно. Он бегал за кемто в Кампании. — Я старался сохранить нейтральное выражение лица. — Полагаю, если ты спросишь его, то он лишь будет все отрицать — если только у тебя нет какихнибудь доказательств… Почему бы тебе не провести расследование? Сейчас его нет дома, — предложил я, — ты можешь осмотреть его комнату. Осмелюсь сказать, что ты знаешь, как туда попасть?
Естественно, Туллия знала.
* * *
Мы вместе перешли улицу и забрались наверх по грязным ступенькам, которые были скреплены парой простых реек. Как только мы поднялись, мне в ноздри бросилась вонь из невымытого бака с нечистотами на лестничной клетке здания. Гдето плакал убитый горем ребенок. Дверь в квартиру Пертинакса усохла от летней жары, так что она криво висела на петлях и ее нужно было приподнимать всем телом.
У комнаты не было никакого стиля, частично изза того, что в отличие от его сеновала в Кампании никто не наполнил ее различными предметами, а частично изза того, что у Пертинакса вообще не было индивидуальности. Там стояла кровать с одним выцветшим одеялом, стул, маленький столик из тростника, сломанный сундук — все вещи, которые прилагались к комнате. Пертинакс добавил только обычную грязную тарелку, которой он пользовался, когда к нему никто не приходил, гору пустых амфор, другую гору грязного белья, пару крайне дорогих ботинок с присохшей к ремням грязью с той фермы на Везувии, и несколько открытых сумок. Он жил на чемоданах, возможно изза лени.
Всегда готовый помочь, я предложил осмотреть все вокруг. Туллия нерешительно стояла в проходе, нервно реагируя на движения внизу.
Я нашел две интересные вещи.
Первая лежала на столе с едва высохшими чернилами — документы, написанные этим вечером писцом, которого я видел с Пертинаксом. Я с презрением положил пергамент на место. Потом, поскольку я был профессионалом, продолжил поиски. Все обычные тайники оказались пустыми: ничего не было под матрацем или под неровными досками на полу, ничего не зарыто в сухую землю ящика для растений, в котором не было цветов.
Но в глубоком пустом сундуке моя рука нашла чтото, что Пертинакс наверняка забыл. Я и сам почти пропустил, но потом наклонился пониже и искал не спеша. Я вытащил огромный железный ключ.
— Что это? — прошептала Туллия.
— Точно не знаю. Но могу выяснить. — Я выпрямился. — Я возьму его. Теперь нам лучше уйти.
Туллия преградила мне путь.
— Нет, пока ты мне не скажешь, о чем та бумага.
Туллия не умела читать; но по моему мрачному лицу поняла, что это важно.
— Это два экземпляра документа — и пока не подписанные… — Я сказал ей, что это было. Девушка побледнела, потом покраснела от злости.
— Для кого? Барнаба?
— Писец указал не это имя. Но ты права; они для Барнаба. Мне очень жаль, дорогая.
Подавальщица злобно подняла подбородок.
— А кто эта женщина? — И это я ей тоже рассказал. — Та из Кампании?
— Да, Туллия. Боюсь, что так.
Мы нашли свидетельство о браке, приготовленное для Гнея Атия Пертинакса и Елены Юстины, дочери Камилла Вера. Ну, девушке нужен муж, как она сказала.
LXXXII
— Она привлекательная? — заставила себя спросить Туллия, когда мы поспешно спускались в темную маленькую улицу.
— Деньги всегда привлекательны. — Остановившись, чтобы проверить, не следил ли за нами ктонибудь, я невозмутимо спросил: — А в чем его привлекательность — хорош в постели?
Туллия саркастически засмеялась. Я радостно глубоко вздохнул.
В безопасной темноте винного погреба я схватил девушку за плечи.
— Если ты решишь спросить его об этом, то убедись, что с тобой твоя мать! — Туллия упрямо уставилась в землю. Вероятно, она уже знала, что Пертинакс мог быть жестоким. — Слушай, он скажет тебе, что у него есть причины иметь этот документ…
Внезапно Туллия подняла глаза.
— Чтобы получить деньги, о которых он говорит?
— Принцесса, все, что Барнаб когданибудь может получить, это могила вольноотпущенника. — Она, возможно, не верила мне, но, по крайней мере, слушала. — Он скажет тебе, что както был женат на этой женщине, и ему нужна ее помощь, чтобы получить большое наследство. Не обманывай себя; если он когданибудь получит наследство, то у тебя нет будущего! — Подавальщица злобно покосилась на меня. — Туллия, его уже преследует императорская компания — и у него быстро заканчивается время.
— Почему, Фалько?
— Потому что согласно брачным законам женщина, которая остается одинокой более восемнадцати месяцев после развода, не может получить наследства! Если он хочет унаследовать чтонибудь с помощью своей бывшей жены, то ему придется пошевелиться.
— И когда они развелись? — спросила Туллия.
— Понятия не имею. Мужем был твой дружок, положивший глаз на деньги; лучше спроси его!
* * *
Оставив приманку, я кивнул на прощание и протиснулся через мускулистых посетителей к выходу. На улице двое клиентов наткнулись на мой оставленный кувшин и сразу накинулись на него. Я уже был готов выразить свое негодование, когда заметил, кто это был. В тот же самый момент двое воришек, которые оказались сторожевыми псами Анакрита, узнали меня.
Я шагнул обратно в помещение, активно жестикулируя Туллии, потом бросился вперед и открыл дверь, через которую она выпустила меня, когда я был здесь в прошлый раз.
Через десять секунд шпионы ворвались внутрь вслед за мной. Они дико озирались вокруг, потом заметили открытую дверь. Мостильщики терпеливо раздвинулись, чтобы дать им выбежать, потом сразу же снова сомкнулись в еще более плотную толпу.
Я выпрыгнул изза стойки, махнул Туллии и выскочил через переднюю дверь: самый старый трюк в мире.
Я убедился, что исчез в том направлении, где не мог появиться шпион номер три, если он вернулся на главную улицу.
Когда я снова брел через реку, было слишком поздно чтото делать. Первый поток повозок с грузом уже рассеивался; улицы были полны тележек с бочками с вином, мраморными плитами и банками с соленой рыбой, но первоначальное безумие, которое всегда появлялось после запретного часа, уже прошло. Рим становился более настороженным, когда люди, поужинавшие поздно вечером, отваживались идти по менее людным темным дорогам, чтобы попасть домой в сопровождении зевающих факельщиков. В тени шел случайный одинокий прохожий, пытаясь избежать внимания на тот случай, если поблизости околачивались грабители или ненормальные. Там, где на лоджиях висели фонари, они уже постепенно гасли — или их намеренно гасили взломщики, которые хотели потом в темноте уйти домой со своей добычей.
Вполне вероятно, что за моей собственной квартирой наблюдал главный шпион, поэтому я пошел домой к своей сестре Майе. Она была лучшей поварихой, чем любая другая, и более терпеливой ко мне. Но даже при таких обстоятельствах это было ошибкой. Майя приветствовала меня новостью о том, что Фамия будет очень рад видеть меня, потому что он привел домой на ужин жокея, которого убедил участвовать в скачках на моей лошади в четверг.
— У нас был суп из телячьих мозгов; там еще осталось, если хочешь, — сообщила мне Майя. Опять потроха! Майя достаточно давно знала меня, чтобы понять, что я об этом думал. — О, ради бога, Марк, ты хуже ребенка! Улыбнись и получай, наконец, удовольствие…
Я изобразил такое же веселье, как у Прометея, прикованного цепью к камню на горе, который смотрит, когда прилетит ворон и выклюет его печень.
* * *
У жокея был безупречный характер, но это не имело большого значения. Он был клещом. И думал, что я его новая овца. Но я привык вычесывать паразитов; жокей удивился.
Я забыл, как его звали. Я специально забыл. Я запомнил только то, что он и этот транжир Фамия надеялись, что я много заплачу за жалкие услуги этого коротышки, но, учитывая то, что я давал ему шанс проехать в главном стадионе города, когда на императорской трибуне будет сидеть Тит, сам жокей должен был заплатить мне. У него была худощавая комплекция и грубое лицо со шрамами; он слишком много выпил, и, судя по тому, как парень все время смотрел на мою сестру, он ожидал, что все женщины упадут к его ногам.
Майя игнорировала его. Единственное, что могу сказать о моей младшей сестре, это то, что в отличие от большинства женщин, которые совершили в жизни одну ужасную ошибку, она, по крайней мере, осталась с ней. Раз уж Майя вышла замуж за Фамию, она никогда не чувствовала необходимости усложнять свои проблемы, заводя романы на стороне.
Вскоре позволив жокею до беспамятства напоить нас с Фамией, я опозорился. Меня послали принести бутылку вина, но я сбежал, чтобы увидеть детишек. Они должны были уже спать, но я обнаружил, что малыши играли в колесницы. Майя воспитывала детей на удивление добродушными; они видели, что я дошел до веселого и беззаботного состояния, так что на какоето время втянули меня в игру, а один из них стал рассказывать историю, пока меня не разморило. Потом они на цыпочках вышли из комнаты, оставив меня крепко спать. Клянусь, я слышал, как старшая дочка Майи прошептала:
— Он уснул! Разве он не похож на ангелочка…
Ей было восемь лет. Издевательский возраст.
Сначала я собирался отсидеться у Майи, пока все шпионы не разойдутся по своим собственным грязным норам, а потом проскочить обратно в жилище Фалько. Мне следовало так и сделать. Я никогда не узнаю, что изменилось бы, если бы я так и сделал. Но возможно, если бы я пошел на ночь к себе домой вместо того, чтобы лечь спать у Майи, то это спасло бы жизнь.
LXXXIII
Август.
Душные ночи и страстные характеры. Несколько часов спустя я снова проснулся, слишком вспотевший и слишком несчастный, чтобы расслабиться. Это плохое время года для мужчин с беспокойным нравом и женщин, переживающих тяжелую беременность. Я думал о Елене, только усугубляя свои сердечные страдания мыслями, что, может, она тоже лежала и не могла уснуть в этой неприятной духоте, и если так, то вспоминала ли она обо мне.
На следующее утро я проснулся поздно. У Майи дома было тихо.
Я никогда не беспокоился, если приходилось всю ночь спать в одежде. Но я не любил полинявшую тунику, которую надел вчера. Мною овладело навязчивое желание сменить эту потускневшую тряпку на более яркий оттенок серого.
Поскольку я не мог рисковать и натолкнуться на негодяев Анакрита у своей квартиры, я уговорил сестру сходить туда вместо меня.
— Просто загляни в прачечную. Не поднимайся наверх; я не хочу, чтобы они выследили тебя до дома. Но мне нужно забрать у Лении коекакую одежду…
— Тогда дай мне денег, чтобы расплатиться с ней, — приказала Майя, которая хорошо понимала мои деловые отношения с Ленией.
* * *
Майи долго не было. Я все равно вышел на улицу во вчерашней тунике.
Моей первой задачей было проверить у цензора дату развода Елены. Архив оказался закрытым, потому что сегодня был государственный праздник — такое в Риме случалось часто. Я знал караульного, который уже привык к тому, что я появлялся время от времени; он впустил меня с бокового входа за обычную скромную плату.
Документ, который я искал, должно
быть, поместили сюда чуть раньше в этом году, потому что после этого Елена уехала в Британию, чтобы забыть о своем неудавшемся браке, где и встретила меня. Зная это, я нашел бумагу за час. Мое безумное предположение оказалось безошибочно точным: Елена Юстина бросила своего мужа восемнадцать месяцев назад. План Пертинакса был сумасшедшим. Анонимный жених вряд ли попадал под законы о наследстве. Но если он хотел попробовать, то ему оставалось всего три дня.
Потом я обошел Авентин в поисках человека, который мог бы узнать большой железный ключ, спрятанный в сундуке у Пертинакса. Это был мой родной квартал, хотя сейчас я находился среди узеньких улочек, куда ходил редко. Наконец, я завернул за угол, где какойто ленивый изготовитель корзин по всему тротуару навалил огромные груды корзин и коробов, смертельно опасные для прохожих. Оглядываясь, я барабанил ногой по обочине, потом перешел фонтан, где речной бог созерцал грустные ручейки, которые текли из его пупка так же печально, как и три месяца назад. Наклонившись, я набрал в ладони воды и сделал пару глотков, а потом начал стучать в двери.
Когда я нашел нужную квартиру, ее дородный чернобородый обитатель был дома, отдыхая после обеда.
— Я Дидий Фалько. Мы както встречались… — Он вспомнил меня. — Я покажу вам коечто. Я хочу узнать, откуда он. Но только скажите, достаточно ли вы уверены, чтобы повторить это в суде.
Я вытащил железный ключ. Мужчина держал его в одной руке и как следует рассмотрел, прежде чем заговорить. Ключ не был какимто особенным: прямой, с большой овальной петлей и тремя простыми зубцами равной длины. Но мой потенциальный свидетель провел своим указательным пальцем по слабо выцарапанной букве «Г», которую я сам заметил на самой широкой части ножки. Потом он поднял эти глубокие, темные, красивые, восточные глаза.
— Да, — печально сказал жрец малого храма Геркулеса Гадитанского. — Это наш пропавший ключ от храма.
Наконецто: явное доказательство.
* * *
Глядя, как жрец после обеда вытирал салфеткой свою бороду, я вспомнил, что мне самому не мешало подкрепиться. Я перекусил в таверне, потом пошел прогуляться вдоль реки, думая о своих открытиях. К тому времени, как я вернулся к Майе, я чувствовал себя более оптимистично.
Майя зашла к Лении, пришла домой пообедать, потом убежала навестить маму, но оставила кучу моей одежды, большую часть которой я узнал с трудом; это были туники, которые я никогда не трудился забирать из прачечной, потому что у них распоролись рукава или они были прожжены маслом от ламп. Самой приличной оказалась та, в которой я был, когда избавлялся от трупа со склада. После этого я бросил ее Лении, где туника до сих пор ждала, когда за нее заплатят.
Я понюхал ее, потом надел и стал размышлять над своим следующим ходом против Пертинакса, когда Майя пришла домой.
— Спасибо за одежду! Сдачу дали?
— Шутник! Кстати, Ления сказала, что ктото пытается найти тебя — и поскольку это сообщение от женщины, о встрече, то ты, возможно, хочешь знать…
— Звучит многообещающе! — осторожно улыбнулся я.
— Ления сказала… — Майя, будучи педантичным посыльным, приготовила надежную цитату.
«Встретишься ли ты с Еленой Юстиной в доме на Квиринале, потому что она согласилась поговорить со своим мужем и хочет встретиться с тобой там?». Ты работаешь над разводом?
— Мне не так повезло, — сказал я с дурным предчувствием. — Когда мне нужно идти?
— Тут может быть проблема — слуга упоминал сегодняшнее утро. Я должна была сказать тебе в обед, но тебя здесь не было…
Я резко воскликнул, потом вылетел из дома моей сестры, не поцеловав ее, не поблагодарив за вчерашний суп и даже ничего не объяснив.
* * *
Квиринальский холм, где жили Пертинакс и Елена, когда были женаты, считался не очень модным местом, хотя люди, которые арендовали квартиры в этом приятном, просторном районе, редко жили так плохо, как жаловались. Когда Веспасиан еще был младшим государственным деятелем, его второй ребенок Домициан, жало скорпиона в успехе императора, родился в задней спальне на Гранатовой улице; позднее там находился особняк семьи Флавиев, прежде чем они превратили его в свой дворец.
Я странно себя чувствовал, возвращаясь на то место, где когдато работал, считая Пертинакса мертвым. Странно также, что Елена посчитала свой старый дом нейтральной территорией.
После того как мы распродали имущество, само здание осталось непроданным. Гемин назвал бы это собственностью, «которая ждет правильного клиента». Под этим он подразумевал, что дом был слишком большим, слишком дорогим и имел грязную репутацию обитающих там призраков.
Как верно.
* * *
Там был привратник из штата дворца, которого я поставил охранять особняк, пока не передадут право собственности на него. Я думал, что он будет крепко спать за домом, но этот человек открыл на мой нетерпеливый стук почти сразу. Мое сердце упало: это, вероятно, означало, что его обычный сон уже сегодня чтото нарушило.
— Фалько!
— Здесь был человек по имени Пертинакс?
— Я знал, что у него неприятности! Он утверждал, что он покупатель…
— О, Юпитер! Я говорил тебе не пускать проходящих мимо перекупщиков — он еще здесь?
— Нет, Фалько…
— Когда это было?
— Несколько часов назад…
— Он был с девушкой?
— Они пришли отдельно…
— Только скажи, что она не ушла с Пертинаксом.
— Нет, Фалько…
Я присел на стул привратника, сжал виски, пока не успокоился, потом заставил его спокойно рассказать все, что произошло.
Вопервых, Пертинакс попал в дом обманным путем. Он начал тихо ходить вокруг, как потенциальный покупатель, и, поскольку там нечего было воровать, привратник оставил его в покое. Потом приехала Елена. Она спросила обо мне, но зашла в дом, решив не ждать.
В тот момент они с Пертинаксом выглядели как пара — возможно, решил привратник, они незнакомцы, чью свадьбу недавно устроили их родственники. Они поднялись наверх, где привратник слышал их спор — ничего сверх необычного, когда два человека смотрят дом: одному всегда нравится внешний вид, в то время как другому ужасно не приглянулись удобства. Мой приятель затаился, пока не услышал, что голоса становятся все громче и резче. Он нашел Елену Юстину в атрии, у нее был ужасно потрясенный вид, а Пертинакс кричал на нее с площадки наверху. Она выбежала прямо мимо привратника. Пертинакс бросился за ней, но перед входной дверью он передумал.
— Он чтото видел?
— Девушка разговаривала с сенатором на улице. Сенатор видел, что она расстроена; он помог ей забраться в паланкин, подгоняя носильщиков…
— Сенатор поехал с ней?
— Да. Пертинакс застыл в дверях, ворча, пока не увидел, что они уезжают вместе, а потом тоже ушел…
Первое, что пришло мне в голову, это что сенатором наверняка был отец Елены, но почти сразу я узнал другое. Неистовый стук указал на Мило, управляющего, который хорошо укрощал собак.
— Фалько, наконецто! — прохрипел Мило, еле дыша, несмотря на его хорошую форму. — Я везде тебя искал. Гордиан хочет, чтобы ты срочно приехал к нам домой…
Мы отъехали от дома Пертинакса. У Гордиана тоже был особняк на Квиринале; по дороге Мило рассказал мне, что Верховный жрец приехал в Рим, и он все еще жаждет отомстить убийце своего брата. Поскольку Квиринал был таким респектабельным районом, после тяжелой вчерашней жары Гордиан рискнул выехать утром на прогулку без всякого сопровождения. Он заметил Пертинакса; проследил за ним; увидел, как приехала Елена; потом видел, как она выбежала. Все, что Мило мог мне сказать, это что сам Гордиан сразу отвез ее домой.
— Ты имеешь в виду — к себе домой?
— Нет. К ней…
Я замер.
— Когда его собственный дом, со всеми слугами, находился всего в трех кварталах? Он, сенатор, поехал через весь город к Капенским воротам? Почему так срочно? Почему девушка была так расстроена? Она была больна? Ее обидели? — Мило этого не сказали. Нам была видна улица, где, как он сказал, жил Гордиан, но я воскликнул: — Нет, это плохая новость, Мило! Скажи своему хозяину, я приду к нему позже…
— Фалько! Куда ты торопишься?
— К Капенским воротам!
LXXXIV
Эта кошмарная поездка через весь Рим заняла еще час.
Я спланировал лучший маршрут, как можно было обогнуть южную часть Палатина, хотя это означало, что придется пробираться через окрестности Золотого дома Нерона. Золотой дом стоял в неопределенности — слишком экстравагантный для Флавиев — так что я встретил целое собрание землемеров, столпившихся вокруг озера, которые пытались решить, что нашему уважаемому новому императору следует делать с участком. У самого Веспасиана была великая идея, что это важнейшее место следует вернуть людям — подарок Флавиев Риму для всех последующих поколений… Собравшиеся готовы были навязать нам пятнадцатилетнее строительство нового городского амфитеатра. Последнее, чего я хотел, пытаясь добраться до дома Камилла, это чтобы мне преградила путь толпа нудных архитекторов в ярких туниках, планировавших постройку еще одного императорского памятника, который легко забудется. Мне пришло в голову, что счастливому римлянину, который изобрел применение бетона, нужно много за что отвечать.
Наконец я добрался до тишины Капенских ворот. Как обычно, привратник отказался впустить меня.
Я спорил; он пожимал плечами. Этот мальчик был похож на короля, а я чувствовал себя деревенщиной. Он стоял в доме; я стоял на улице на крыльце.
К тому времени мне было так жарко от быстрой езды, и я так разозлился, что схватил маленького хама за тунику, швырнул его об косяк и прорвался внутрь. Фалько всегда готов к изощренному подходу.
— Если бы ты знал, что хорошо для тебя, сынок, то научился бы узнавать друзей семьи!
Резкий женский голос спросил, что тут за шум. Я проскочил в гостиную, оказавшись лицом к лицу со знатной Юлией Юстой, сильно раздраженной женой сенатора.
— Извиняюсь, что ворвался, — кратко сказал я. — Кажется, нет другого способа, чтобы выразить соболезнование…
Нам с матерью Елены Юстины не удалось завязать дружеские отношения. Больше всего меня раздражало (поскольку, если говорить прямо, я не нравился ее маме), что хотя Елена Юстина унаследовала выражения и интонации от своего отца, ее внешность передалась со стороны матери. Всегда было странно видеть те же самые умные глаза, как у нее, которые смотрели на меня совершенно подругому.
Я заметил, что Юлия Юста, будучи хорошо одетой, хорошо воспитанной женщиной, чье лицо пользовалось лучшими маслами и косметикой, которую могла купить жена богатого сенатора, сегодня выглядела бледной и напряженной. Также казалось, что ей было трудно решить, что мне сказать.
— Если, — медленно начала мама Елены, — ты пришел к моей дочери…
— Послушайте, я слышал коечто, что меня расстроило; Елена в порядке?
— Не совсем. — Мы оба стояли. Комната казалась невероятно душной; мне было трудно дышать. — Елена потеряла ребенка, которого она ждала, — сказала ее мама. Потом она с измученным выражением лица наблюдала за мной, не зная, чего от меня ожидать — хотя зная, что ей это не понравится.
Было совершенно неприемлемо повернуться спиной к жене сенатора в ее собственном доме, но я неожиданно заинтересовался статуей дельфина, которая служила лампой. Мне никогда не нравилось, чтобы другие люди видели мои эмоции, пока я сам в них не разберусь.
Дельфин был маленьким и хитрым, но мое молчание беспокоило его. Я снова обратил свое формальное внимание на жену сенатора.
— Так, Дидий Фалько! Что ты можешь об этом сказать?
— Больше, чем вы думаете. — Мой голос прозвучал жестко, словно я говорил в металлическую вазу. — Я скажу это Елене. Могу я ее увидеть?
— Не сейчас.
Она хотела, чтобы я ушел из ее дома. Как хорошие манеры, так и нечистая совесть диктовали мне, что нужно быстро уходить. Я никогда особо не следовал хорошим манерам: я решил не двигаться с места.
— Юлия Юста, вы не скажете Елене, что я здесь?
— Я не могу, Фалько — врач дал ей сильное снотворное.
Я сказал, что в таком случае не хочу никого беспокоить, но если Юлия Юста не будет сильно возражать, я подожду.
Ее мама согласилась. Она, возможно, понимала, что если они выставят меня из дома, то я только спровоцирую разговоры среди их знатных соседей, прячась на улице, как жалкий кредитор.
* * *
Я ждал три часа. Они забыли, что я здесь. Наконец дверь открылась.
— Фалько! — Мама Елены посмотрела на меня, поразившись моей выдержке. — К тебе должны были подойти…
— Мне ничего не нужно, спасибо.
— Елена все еще спит.
— Я могу подождать.
На мой мрачный тон Юлия Юста прошла дальше в комнату. Я ответил на ее любопытный взгляд тем, что сам сурово и резко уставился на нее.
— Госпожа, было ли сегодняшнее происшествие несчастным случаем или врач дал вашей дочери чтото, чтобы помочь решить проблему?
Женщина смотрела на меня злобно возмущенными темными глазами Елены.
— Если ты знаешь мою дочь, то ты знаешь ответ!
— Я действительно знаю вашу дочь; она чрезвычайно разумна. Я также знаю, что Елена Юстина не стала бы первой матерьюодиночкой, которой навязали решение ее проблемы!
— Оскорбление ее семьи не поможет тебе ничего узнать!
— Простите меня. Я слишком много размышлял. Это всегда плохо.
У Юлии Юсты вырвался легкий нетерпеливый вздох.
— Фалько, это ни к чему не приведет; почему ты все еще здесь?
— Я должен увидеть Елену.
— Я должна сказать тебе, Фалько — она о тебе не спрашивала!
— А о комнибудь другом она спрашивала?
— Нет.
— Тогда никто не обидится, если я подожду.
Потом мать Елены сказала, что если я так уверен, то лучше увидеть Елену сейчас, чтобы потом, ради всего святого, я мог пойти домой.
* * *
Это была маленькая комната, та, в которой Елена жила в детстве. Она была аккуратной и уютной, и когда девушка вернулась в дом своего отца после развода, она наверняка попросила ее обратно, потому что эта комната была совсем не похожа на ее огромные апартаменты в доме Пертинакса.
На узкой кровати под натуральным льняным покрывалом неподвижно лежала Елена. Ее так сильно накачали лекарствами, что не было никакого шанса разбудить ее. Лицо казалось совсем бледным и некрасивым, изза истощения от тяжелого физического испытания. Поскольку в комнате находились другие женщины, я не смог прикоснуться к ней, но от ее вида у меня вырвалось:
— О, они не должны были так с ней поступать! Как она узнает, что здесь ктото есть?
— Ей было больно; ей нужно отдохнуть.
Я боролся с мыслью, что я, возможно, нужен Елене.
— Она в опасности?
— Нет, — сказала ее мама еще тише.
Все еще чувствительный к обстановке, я заметил, что бледная служанка, сидевшая на сундуке, недавно плакала. Я спросил:
— Скажите мне правду; Елена хотела ребенка?
— О да! — немедленно ответила ее мать. Она скрыла свое раздражение, но я заметил плохое чувство, которое, должно быть, волновало эту семью до сегодняшнего дня. Мало кто из родственников Елены Юстины легко терпел ее; она делала все в своей упрямой гордой манере. — Возможно, это поставило тебя в трудное положение, — слабым голосом предположила Юлия Юста. — Так что это, видимо, большое облегчение?
— Кажется, вы уже составили обо мне мнение! — коротко ответил я.
* * *
Я хотел, чтобы Елена знала, что я был сегодня с ней.
Мне больше нечего было оставить, поэтому я снял перстень и положил его на серебряный столик с тремя ножками сбоку от ее кровати. Между розовой стеклянной чашей для воды и рассыпанными заколками из слоновой кости мое старое поношенное кольцо с грязным красным камнем и зеленоватым металлом казалось уродливым предметом, но, по крайней мере, Елена заметит его и узнает, на чьей смуглой руке она его видела.
— Не убирайте его, пожалуйста.
— Я скажу ей, что ты приходил! — с упреком протестовала Юлия Юста.
— Спасибо, — сказал я. Но кольцо оставил.
* * *
Мать Елены проводила меня из комнаты.
— Фалько, — настаивала она, — это был несчастный случай.
Я верил только тому, что слышал от самой Елены.
— Так что случилось?
— Это твое дело, Фалько? — Для обычной женщины — или такой она казалась мне — Юлия Юста могла придать простому вопросу особую важность. Я дал ей самой решить. Она сухо продолжила: — Бывший муж моей дочери попросил ее встретиться с ним. Они поссорились. Елена хотела уйти; он пытался ее остановить. Она вырвалась, поскользнулась и ударилась, спускаясь бегом по лестнице…
— Значит, это изза Пертинакса!
— Это легко могло случиться и просто так.
— Но не с такими последствиями! — взорвался я.
Юлия Юста замолчала.
— Нет. — Казалось, на мгновение мы перестали язвить. Ее мама медленно согласилась: — Определенно, жестокость усилила страдания Елены… Ты собирался прийти еще?
— Когда смогу.
— Как великодушно! — закричала жена сенатора. — Дидий Фалько, ты приехал на следующий день после торжества; как я поняла, это для тебя обычное дело — тебя никогда нет, когда ты действительно нужен. Теперь я предлагаю тебе держаться от нас подальше.
— Возможно, я могу чтото сделать.
— Сомневаюсь, — сказала мама Елены. — Теперь, когда это случилось, Фалько, я полагаю, моя дочь будет вполне рада, если никогда больше тебя не увидит!
Я любезно попрощался с женой сенатора, поскольку мужчина всегда должен быть вежлив с матерью троих детей, особенно когда она только что сделала крайне драматическое заявление о своем старшем и милейшем ребенке — и этот мужчина собирался обидеть ее позже, доказав ее неправоту.
Потом я вышел из дома Камилла, вспоминая, как Елена Юстина умоляла меня не убивать Пертинакса. И зная, что когда я найду его, то, возможно, убью.
LXXXV
Я отправился прямо за Тибр и поднялся в его комнату. Я совершенно не был вооружен. Глупо. Но все его личное имущество исчезло; и он тоже.
Через улицу в винном погребе шла активная торговля, но посетителей обслуживал незнакомец. Я спросил Туллию, и мне грубо сообщили: «Завтра!» Прислужнику не хватало времени отчитываться за нее. Думаю, мужчины всегда спрашивали Туллию.
Я не стал оставлять сообщения; никто не побеспокоился бы о том, чтобы передать этой занятой молодой девушке, что за ней бегал еще один здоровый мужчина.
После этого я большую часть времени гулял. Иногда я думал; иногда просто шел.
Я вернулся обратно в город, остановившись на Эмилиевом мосту. Беспорядочная река неслась вниз по течению мимо тройной арки на главном выходе большой канализации. В какоето время за последние три месяца здесь, должно быть, проплывал разбухший труп, за который я нес ответственность. Это безликое тело вынесла темная дождевая вода. А теперь… Вы знали, что только императоры и мертворожденные младенцы имели право быть похороненными в Риме? Не то чтобы это имело какоето отношение к нашим бедным отбросам жизни. У меня было извращенное представление о том, что происходило с останками, которые выносило раньше, И возможно, если бы я был другим человеком и менее нейтрально относился к богам, то я мог бы услышать в звуках Тибра, бьющего через большую клоаку, жестокий карающий смех богини судьбы.
Через несколько часов после того, как я пересек Тибр, я оказался в доме Майи. Она бросила на меня один взгляд, потом покормила, увела детей, увела Фамию с бутылкой вина и отправила меня спать. Я лежал в темноте, снова размышляя.
Когда я больше не мог этого выносить, я заснул.
* * *
Пертинакс мог быть где угодно в Риме, но завтра четверг, а на четверг назначен забег его чемпиона в Большом цирке; тогда я знал, где его искать — гдето среди двухсот тысяч зрителей, которые будут болеть за Ферокса и кричать: «Давай!»
Фамия, который любил воспользоваться случаем, чтобы уже с самого рассвета гореть от возбуждения, пытался поднять меня рано, но если бы я провел все утро в полном блеске стадиона, я был бы потом ни на что не способен. Если ты хоть раз видел открывающую соревнования процессию, появляющуюся на арене, то можно было несколько пропустить. Разве было нам дело до какогото магистрата с самодовольным выражением лица, кто возглавлял шествие в квадриге с четверкой лошадей, когда нужно было поймать людей, которые убивали жрецов, избивали отцов молодых семей и забирали жизни еще не рожденных детей, прежде чем их родители успели хотя бы поспорить насчет имен?
Когда я вышел от Майи, то окольным путем отправился к Галле, где, к счастью, застал Лария.
— Извините, молодой господин, мне нужен художник!
— Тогда поторопитесь, — улыбнулся он. — Нам всем нужно идти болеть за коекакую лошадь…
— Избавь меня от этой чести! Слушай, сделай мне небольшой рисунок…
— Вы позируете для гротескного медальона на кельтской кружке?
— Не я. — Я сказал ему — кто. Потом сказал — зачем.
Ларий нарисовал портрет без лишних вопросов.
Потеря еще не рожденного ребенка — это личное горе. Чтобы разрядить обстановку, я потребовал, чтобы он не тратил деньги на ставки на моего коня.
— Не беспокойтесь, — честно согласился Ларий. — Мы будем болеть за вашего — но деньги сегодня ставят на Ферокса!
* * *
Я отправился к Капенским воротам. Никто в семье Камилла не принимал посетителей. Я передал им свое почтение, в полной уверенности, что привратник им ничего не скажет.
Я заметил цветочную лавку и купил огромный букет роз по такой же внушительной цене.
— Они из Пестума! — прохрипел торговец цветами, извиняя их цену.
— Да уж! — закричал я.
Я передал розы Елене. Я хорошо знал, что она предпочла бы получить цветок, который я вырастил у себя на балконе, поскольку девушка была сентиментальной, но ее мама, похоже, оценит стоимость большого букета.
Должно быть, Елена сейчас не спала, но меня все еще не пускали. Я ушел, оставшись ни с чем, кроме воспоминаний о ее вчерашнем бледном лице.
* * *
Поскольку никто меня не любил, я пошел на скачки.
Я приехал туда в полдень; шла атлетика. Внешние своды цирка заполняли обычные сцены жалкой торговли — странный контраст с изысканностью картин и позолоченных декораций, украшавших рельефы и каменную кладку под аркадами. В трактирах и винных лавках пироги были чуть теплыми и жирными, а прохладительные напитки подавали в очень маленьких емкостях по цене вдвое большей, чем можно было бы купить на улице. Распутные женщины шумно привлекали клиентов, конкурируя с настойчивыми игроками за зрителей, которые продолжали прибывать.
Только я мог предпринять попытку поймать в ловушку преступника на самом большом стадионе Рима. Я вошел через ворота со стороны Авентина. Трибуна, где обычно сидел руководитель соревнований, находилась далеко слева от меня над въездными воротами, сверкающий императорский балкон — прямо передо мной напротив Палатинского холма, а часть стадиона с воротами для выезда победителя — вдалеке справа. Блестящие на солнце первые два яруса мраморных сидений к тому времени были обжигающе горячими, и даже во время обеденного перерыва меня приветствовал громкий шум.
В старые времена, когда мужчины и женщины сидели все вместе, как придется, а большой цирк был лучшим местом, чтобы завести новый роман, я не имел бы ни малейшего шанса найти когонибудь, не зная номера его места. Даже сейчас, после того, как по распоряжению Августа людей порядочно разделили, единственные ярусы, которые я точно мог пропустить, это те, что были выделены для женщин, мальчиков с их учителями или общин жрецов. Можно было поспорить, что Пертинакс не станет рисковать и занимать место на нижнем подиуме, где сенаторы узнали бы его. А учитывая, каким он был снобом, он также будет избегать верхней галереи, которую часто занимали низшие сословия и рабы. Даже в таких условиях цирк покрывал целую долину между Бычьим рынком и старыми Капенскими воротами; там могло поместиться четверть миллиона человек, не говоря уже о толпе помощников, которые были заняты тем, что носились тудасюда по важным поручениям, эдилах, следящих за поведением в толпе, карманниках и подстрекателях, не попадавшихся на глаза эдилам, продавцах духов и девушках с венками, и дегустаторах вина, и торговцах орехами.
Я начал с одного сектора, пробегая глазами толпу, а сам тем временем пробирался по проходу между первым и вторым из трех ярусов зрительских сидений. Изза того, что приходилось смотреть вбок, у меня скоро закружилась голова, и многочисленные лица слились в одно неразличимое расплывчатое пятно.
Невозможно найти иголку в стоге сена. Я спустился вниз по следующей лестнице обратно к аркадам, потом прошел мимо палаток и толпы проституток, показывая всем маленькую дощечку с рисунком Лария. Дойдя до той части стадиона, где стояли участники, я нашел Фамию, и он познакомил меня с другими людьми, которым я тоже показал портрет Пертинакса.
После этого единственное, что оставалось — это смотреть на то, как мой зять пытался красиво представить моего скакуна.
С высоко подвязанным хвостом и заплетенной потрепанной гривой Малыш выглядел так же хорошо, как всегда, хотя все еще ужасно. Фамия нашел для него вальтрап, хотя животному придется обойтись без золотистой бахромы и подгрудного ремня с жемчугом, которыми были украшены его соперники. К недовольству Фамии, я настаивал, что даже если он обязательно с треском проиграет, поскольку это единственный раз, когда я мог выставить на соревнования свою собственную скаковую лошадь, то мой Малыш будет участвовать на стороне Синих. Фамия устроил скандал, но я был непреклонен.
Ферокс со своей блестящей багровой шерстью выглядел на миллион; можно было бриться, смотрясь в его бока. Он привлекал огромное внимание, пока они с Малышом бок о бок ждали на Бычьем рынке; среди игроков царила дикая суматоха. Ферокс победит на стороне группировки МарцеллаПертинакса — за Белых.
Некоторое время я играл роль хозяина скакуна, позволяя профессионалам насмехаться надо мной по поводу моей веры, которую, по их мнению, я вкладывал в своего неуклюжего зверя. Потом мы с Фамией ушли обедать.
— Ты делаешь ставки, Фалько?
— Только зря рисковать.
Фамия посчитал бы дурным тоном, что владелец делал ставки на другую лошадь, поэтому я не сказал ему, что Ларий поставил за меня пятьдесят золотых сестерциев на Ферокса: все мои свободные деньги.
* * *
Когда мы вернулись в Цирк, скачки уже начались, хотя, учитывая, какая у нас была очередь, нам придется ждать еще час. Я пошел убедиться, что Малыш успокаивает Ферокса, чтобы защитить мою ставку. Поглаживая Ферокса, я заметил маленького, нервного торговца с полным подносом виноградных листьев, околачивавшегося неподалеку: у этого человека определенно было расстройство желудка — или он хотел сказать чтото важное. Он сказал это Фамии, хотя смотрели они на меня. Из рук в руки передали деньги. Поднос с виноградными листьями удрал, потом Фамия подошел ко мне.
— Ты должен мне десять денариев.
— Увидимся завтра, когда я обналичу свою ставку!
— Человек, которого ты ищешь, на втором ярусе, на Авентинской стороне, рядом с трибуной судей; он расположился на уровне финиша.
— Как бы мне ненавязчиво подойти к нему? — Фамия захохотал, что с моей хорошо известной уродливой внешностью это невозможно. Но он оказался полезным: через пять минут я проскочил через одно темное стойло на стороне въездных ворот и протиснулся через двойные двери.
На меня напали шум, жара, запахи и цвета. Я стоял на арене, как раз на дорожке для скачек. У меня в руках было ведро и лопата. Я подождал, пока прошли жокеи, а потом зашагал по песку, бесцельно тыкая лопатой в землю, когда пересекал диагональную линию старта. Я дошел до центральной части арены, спины, чувствуя, что меня там видно как прыщ на носу адвоката — но Фамия был прав: никто никогда не замечает рабов, которые убирают навоз.
Сейчас шла та часть представления, где наездники вставали сразу на двух лошадей — поразительно, хотя сравнительно медленно. Хитрость в том, чтобы лошади были отлично натренированными, и, чтобы держать хороший ритм; мой брат умел так делать. Мой брат был несдержанным, атлетическим и вопиюще глупым типом; он пробовал все, где можно сломать шею.
Когда стоишь у мраморного подиума, от огромного размера цирка дух захватывает. Ширина составляла половину длины обычного стадиона, и от белой линии старта противоположный конец казался так далеко, что приходилось щуриться. Когда я медленно шел вдоль спины, сразу надо мной возвышались великолепные изваяния — Аполлон, Кибела, Виктория. Я впервые смог оценить искусное огромное позолоченное бронзовое ограждение, которое находилось между местами для сенаторов и самой ареной. За ним располагалось два мраморных яруса и третий деревянный, далее закрытая верхняя галерея, где были только стоячие места. Пока я бесцельно бродил с ведром, я заметил на песке рядом с подиумом и спиной блестящую полоску из слюды, где цветные камешки от прошлых торжественных мероприятий сбились к краям дорожки. В цирке никогда не делали навесов; на песке можно было жарить яичницу. Повсюду постоянно чувствовался запах потных лошадей, перекрывавший съеденный за обедом чеснок и женские духи.
Спина была украшена мозаикой и позолотой, на фоне которых я наверняка казался маленькой темной точкой, надоедливым жуком. За время двух забегов я переместился к огромному красному гранитному египетскому обелиску, который Август поставил в самом центре спины; потом подобрался поближе к финишу и трибуне судей. Места в этой части стадиона всегда были самыми популярными. Сначала масса лиц слилась в одно большое человеческое месиво, но когда моя уверенность возрастала, я начал различать детали: женщины, которые двигали свои скамеечки для ног и перекидывали столы через одно плечо, мужчины, раздражительные и покрасневшие под послеобеденным солнцем, воины в форме, дети, неустанно ерзающие на сидениях или дерущиеся в проходах.
Между скачками был перерыв, который заполняли акробаты. Зрители зашевелились. Я присел у подиума, от пыли у меня пересохли глаза. Тем временем я начал тщательно просматривать второй ярус. Мне потребовалось двадцать минут, чтобы найти Пертинакса. В тот момент, когда я это сделал, мне показалось, что он тоже меня заметил, хотя отвернулся. Как только я его засек, я подумал, как же я мог раньше пропустить его злую физиономию.
Я сидел тихо и продолжал искать. Совершенно точно двумя рядами ниже и на десять мест в сторону я увидел самого Анакрита. Некоторое время он наблюдал за Пертинаксом, но в основном озирался вокруг на другие места. Я знал, кого искал он! На дальнем конце ряда, где сидел Пертинакс, и опять немного выше находились двое шпионов, которых я узнал. Они с Анакритом образовывали треугольник, заключив в него человека, который был мне нужен, и защищая его от меня. Никто из них не посмотрел на арену, пока я на корточках сидел там.
Я встал. То же самое сделал и Пертинакс. Я стал переходить дорожку по направлению к позолоченному ограждению. Он двигался вдоль ряда. Пертинакс увидел меня. Я знал это, как и Анакрит, хотя он не понял, где я. Спотыкаясь о ноги людей, Пертинакс дошел до прохода. Даже если бы я перебрался через ограждение и оказался среди возмущенной знати, сидящей на мраморных скамейках, он успел бы спуститься по лестнице и выскочить раньше, чем я догнал бы его. Тем временем Анакрит вдруг закричал одному из своей суровой команды эдилов и безошибочно указал на меня. Я не только потерял Пертинакса, но сам скоро мог оказаться под арестом.
Потом я очнулся от другого крика среди топота копыт. Я поднял голову и увидел огромные оскаленные зубы украшенного лентами черного жеребца, несущегося прямо на меня. Трюкачинаездники: на этот раз двое мужчин в берберских штанах, сцепившись руками, во весь рост стояли на одной лошади. С дьявольским криком и диким блеском в глазах один наклонялся в стороны, а другой его поддерживал. Они подхватили меня, как какойнибудь жалкий трофей. Мы сбросили второго наездника, после чего понеслись дальше, пока я играл роль испуганного балласта, размахивая лопатой и пытаясь делать вид, что эта сумасшедшая скачка была лучшим развлечением в моей жизни.
Толпе мы понравились. Анакрит нас возненавидел. Не будучи дураком, который возомнил себя наездником, я тоже.
Мы скакали вокруг трех конусообразных столбов и алтаря Конса на конце спины, очень опасно наклоняясь на повороте. Потом понеслись обратно на противоположную сторону по всей длине стадиона. Под скрип отполированных копыт меня сбросили у въездных ворот. Фамия утащил меня с арены.
— Юпитер, Фамия! Что за идиот твой друг?
— Я сказал ему найти тебя — скоро наш заезд!
Наверное, мой зять думал, что меня интересует результат моей дурацкой лошади.
* * *
Мы были следующими. Атмосфера стала другой; говорили, что этот забег стоит посмотреть. Фамия сказал, что на Ферокса поставили большие деньги. Чемпион выглядел поособому — походка с высоко поднятыми копытами, мощное телосложение, пурпурный блеск великолепной шерсти. У него был вид лошади, которая знала, что это ее великий день. Когда я увидел, как Брион сажал на коня их жокея, мы с ним обменялись вежливым кивком. В этот момент я заметил коекого, кто не любовался Фероксом, а пробегал глазами любующуюся им толпу. Коекто несомненно искал Пертинакса.
Я прошептал Фамии:
— Там моя знакомая девушка…
Потом проскочил через толпу, пока мой зять все еще бормотал, как же я мог оставить женщину в такой ситуации…
LXXXVI
— Туллия!
— Фалько.
— Я вчера искал тебя.
— А я искала Барнаба.
— Ты еще с ним увидишься?
— Зависит от лошади, — сурово сказала девушка. — Он думает, что у него чемпион — но он оставил свои ставки мне!
Я потащил Туллию за руку прямо через Бычий рынок в тень и тишину за одним маленьким круглым храмом с коринфскими колоннами. Я никогда в нем не был и не замечал, кто считался его божеством, но аккуратное строение этой святыни всегда притягивало меня. В отличие от большинства дерзких храмов дальше от реки, у этого не было привычной толпы жалких торговцев, и он казался не тем местом, где грязно предлагали молодую девушку с большими глазами в нарядном платье с блестящей каймой.
— У меня есть к тебе коекакое предложение, Туллия.
— Если оно непристойное, то не утруждайся! — с опаской выпалила она в ответ.
— У тебя достаточно мужчин? Тогда ты не хотела бы получить много денег?
Туллия уверила меня, что очень хотела бы этого.
— Сколько денег, Фалько?
Если бы я сказал — полмиллиона, она бы не поверила.
— Много. Их получит Барнаб. Но я считаю, что ты больше их заслуживаешь…
Туллия тоже так считала.
— Как мне их получить, Фалько?
Я тихо улыбнулся. Потом я объяснил подавальщице, как она могла помочь мне взять Пертинакса и получить целое состояние, которое было так же прекрасно, как ее личико.
— Да! — сказала Туллия.
Мне нравились девушки, которые не сомневались.
Мы вернулись к лошадям. Малыш глазел по сторонам, словно все вокруг его удивляло. Какой смешной. В первый раз, когда Фамия посадил на него жокея, мое чудесное животное тут же сбросило его.
— Это который, Фалько? — спросила Туллия.
— Малыш. Он принадлежит мне.
Туллия захохотала.
— Тогда удачи! О — я дам тебе это! — Она вручила мне кожаный кошелек. — Тут его ставки. Почему Барнаб должен выигрывать? Все равно, — сказала мне девушка, — он побоялся использовать свое настоящее имя, чтобы его не узнали, — поэтому Барнаб назвал твое!
Если у него было такое чувство юмора, то я подумал, что наверняка сам Пертинакс дал кличку моему коню.
Поскольку все мои сбережения были поставлены на Ферокса, я хотел посмотреть забег. Поэтому когда Тит Цезарь, с которым я раньше встречался по долгу службы, прислал мне приглашение составить ему компанию на императорской трибуне, я в мгновение ока поднялся туда.
Это было единственным местом в цирке, где я знал, что у Анакрита не будет возможности побеспокоить меня.
* * *
Тит Цезарь был более молодой, более легкой в общении версией своего отцаимператора. Он достаточно хорошо меня знал, чтобы не удивляться, когда я в его присутствии появился со свернутой под мышкой тогой вместо того, чтобы одеться в безупречные складки, в которые облачалось большинство людей на общественных собраниях с сыном императора.
— Простите, Цезарь! Я помогал убирать навоз. У них немного не хватает работников.
— Фалько! — Как и Веспасиан, Тит обычно выглядел так, словно не мог решить: то ли я был самым ужасным человеком, которого можно увидеть в его окружении, то ли самым лучшим на сегодня поводом посмеяться. — По словам моего отца, ты утверждаешь, что Малыш годится только на колбасу. Мне кажется, это придает ему уверенности в себе.
Я беспокойно засмеялся, торопливо одеваясь.
— Цезарь, перевес против моего бедного мешка с костями — сто к одному!
— Тогда можно сорвать большой куш! — весело подмигнул мне Тит.
Я сказал ему, что он достаточно взрослый, чтобы не ставить свою пурпурную мантию на мой веник с лохматым хвостом. У сына императора был задумчивый вид. Потом кудрявый Цезарь поправил свой венок, встал, чтобы толпе было на кого взреветь, и торжественно бросил белый платок, чтобы начать скачки.
Это был забег пятилетних новичков. Оказалось заявлено десять участников, но один отказался еще перед стартом. Пока в программе скачек, немного припозднившись, не появился Ферокс, фаворитом был большой мавританец серой масти, хотя другие люди считали, что умнее будет поставить деньги на компактного маленького черного скакуна с фракийской кровью. Он был очень взволнован. Наш Ферокс был испанцем; в этом не оставалось никаких сомнений. Все от гордого положения головы до голодного блеска в глазах говорило о его чистой породе.
Когда рабы потянули за веревки и въездные ворота в унисон распахнулись, мавританец уже вытянул свою шею, когда лошади пересекали линию старта. Ферокс шел сразу за ним. Малыша оттеснила коричневая лошадь с белыми носочками и злым косым взглядом, так что он оказался последним.
— Ах! — произнес Тит таким тоном, словно заложил свою последнюю тунику и думал, одолжит ли ему брат еще одну. Его братом был скупой Домициан, так что, видимо, нет. — Последний, а? Тактика, Фалько? — Я взглянул на него, потом улыбнулся и устроился поудобнее, чтобы наблюдать за Фероксом.
Семь кругов давали хорошую возможность поболтать с умным человеком. Мы сошлись во мнении, что это хорошее поле и серый мавританец очень смелый, но казалось, надолго его энергии не хватит, так что он, возможно, не придет первым. Белые носочки очень широко огибали столбы, в то время как маленький черный фракиец был красавцем, который легко двигался и держал уверенный шаг.
— Благородный и чистопородный! — хвастался гвардеец, который поставил на него, но фракиец отдал все силы уже к третьему кругу.
Семь кругов, когда на карту поставлены все твои сбережения, тянулись очень долго.
К тому времени, как опустили четвертое из деревянных яиц, служивших для отсчета кругов, в нашей трибуне установилась полная тишина. Начинало казаться, что это гонка двух лошадей: Ферокса и мавританца. Ферокс с заинтересованным видом легко скакал галопом, держа хвост прямо. Он был грациозным и изящным. Конь бежал вперед, высоко подняв голову, чтобы хорошо видеть всех лошадей впереди него. Он мог двигаться с той же скоростью, что и любой другой участник этого забега, но вскоре я начал подозревать, что нашему прекрасному багровому жеребцу нравилось видеть когонибудь перед собой.
— Помоему, твой идет наравне со всеми, — предположил Тит, пытаясь быть вежливым. — Возможно, он не будет последним.
Я мрачно ответил:
— Тогда ему еще работать и работать!
Малыш стал восьмым вместо девятого — но только потому, что бойкий коричневый конь совершил ошибку, упал, и его сняли с соревнований.
Некоторое время я наблюдал за своим. Он был ужасен. Эта морда с горчичной полосой двигалась страшно неуклюже. Даже его хозяин, который старался быть снисходительным, заметил, что у этой лошади был такой вид, словно перед самыми скачками ее записали на скотобойню. Малыш наклонил голову так, как будто жокей душил его. Когда он двигался вперед, то при каждом шаге задние ноги, которые шли слегка не в такт с передними, в нерешительности задерживались позади. Слава богам, ему не приходилось прыгать через барьеры. Там мой Малыш был бы из тех, кто перед каждым прыжком шесть раз посмотрит, а потом на полпути зависнет в воздухе, так что сердце уходило бы в пятки.
По крайней мере, на ходу его хвост изящно подлетал вверх, что мне очень даже нравилось. Он был настолько плох, что мне захотелось поставить на него только из жалости к проигравшему.
К шестому кругу Ферокс уверенно шел на втором месте. Все еще.
Малыш только что сообразил, что прямо перед ним находилась лошадь в белых носочках, которая оттолкнула его на старте. Поэтому он реабилитировался, обогнав ее; он стал немного ближе, но шел хорошо. На этот раз Тит воздержался от комментариев. Шестое место из семи — после столкновения там теперь одна лошадь бегала на свободе, сумасшедшая рыжая штучка; не было повода поднимать шум. Особенно когда осталось всего полтора круга.
Рев толпы усиливался. Я видел, как Малыш дергал ушами. Впереди начало чтото происходить. Серый грязнуля на третьем месте так долго скакал сам по себе, что почти заснул. Пятнистая лошадь, которую никто даже не посчитал серьезным конкурентом, заставила Ферокса прибавить скорость, хотя он держался на своем любимом месте у плеча большого мавританца. У меня вспотели ладони. Ферокс был вторым: он был вторым во всех скачках, в которых участвовал.
Все, что я делаю, похоже, оказывается неправильным. Все, чего я хочу, становится невозможным. Кто это сказал?.. Елена. Елена, когда она думала, что я бросил ее, и узнала, что носит нашего ребенка… Она так сильно была мне нужна, что я почти произнес ее имя. Я мог бы это сделать, но Тит Цезарь всегда с большим любопытством смотрел на Елену, и это меня беспокоило.
Участники состязания сейчас широко растянулись по дорожке. Когда они в шестой раз пронеслись мимо судей, между первой и последней лошадью было расстояние в хороших двадцать корпусов. Зрители болели за Ферокса и все были
уверены, что он рванет на последнем круге. Когда лидеры забега огибали столбы, я всем телом чувствовал, что он никогда этого не сделает.
Они преодолели уже половину и находились на противоположном от судей конце стадиона — осталось чуть больше половины круга, — когда я и большинство римлян узнали нечто новое: мой конь Малыш мог нестись так, словно он был зачат от ветра.
Лошади мчались в нашу сторону. Малыш был широким, так что даже когда перед ним находились остальные участники, я видел, как он поднял свой горчичный нос. Когда он начал свой бег, в это было трудно поверить. Жокей даже не воспользовался кнутом; он просто сидел, а этот дурной конь решил, что пора рвануть — и рванул. Толпа открыла ему свои сердца, хотя большинство проигрывало деньги с каждым шагом. Он постоянно шел последним, бесконечно безнадежный — однако теперь он мчался мимо соперников, словно просто резвился на солнышке.
Ферокс пришел вторым. Малыш выиграл. Перед финишем он был впереди на три корпуса.
Тит похлопал меня по плечу.
— Фалько! Какой удивительный забег! Должно быть, ты ужасно горд!
Я сказал ему, что я ужасно беден.
* * *
Мне потребовалось несколько часов, чтобы выбраться со стадиона.
Тит наградил моего жокея тяжелым кошельком с золотом. Я тоже получил подарок, но мой оказался рыбой: Тит пообещал мне палтус.
— Я знаю, что ты любишь поесть… — Он замолчал, потом из вежливости побеспокоился: — А твой повар знает, что с этим делать?
— О, повар может съездить навестить свою тетушку! — шутливо заверил я его. — Я всегда сам берусь за палтус…
В тминном соусе.
* * *
Два человека сорвали большой куш. Одним стал Тит Цезарь, который был уверен, что, как старший сын великого императора, он окажется в милости богов. Другим, за что я его никогда не прощу, был вредный, хитрый, молчаливый ветеринар Фамия.
Они устроили большой семейный пир, для всех остальных. Мне пришлось вытерпеть его, зная, что это единственный вечер в моей жизни, когда другим будет приятно покупать мне вино. Но мне нужна была светлая голова. Все, что я мог вспомнить из этого ужасного мероприятия, это то, как пьянствовал Фамия, и как моя трехлетняя племянница играла с бесполезным подарком Туллии — ставками Пертинакса… Марсия раскладывала вокруг себя на полу несчастные маленькие костяные кружочки, а люди безрезультатно говорили ей прекратить их есть.
* * *
При первой возможности я отправился к Гордиану. Ему особо нечего было добавить к тому, что я уже знал о вчерашних событиях на Квиринале — но у меня были новости для него.
— Сенатор, служанка из винной лавки с правого берега Тибра сегодня вечером должна привезти вам документы. Сначала нужно внести в них коекакие изменения.
— А что это?
— Брачный договор. Его передает вам жених. Он думает, что его невеста попросила почитать его до формального подписания. Завтра у нас с вами назначена встреча с Атием Пертинаксом.
— Как это, Фалько?
— Мы устраиваем ему свадьбу, — сказал я.
LXXXVII
День, когда мы женили Атия Пертинакса, был освежающе ясным после шумного ночного ливня.
Моей первой задачей было забежать на Бычий рынок, чтобы купить барана. Найденный мною вполне подходил для религиозных целей, хотя если бы мы захотели жаркое в горшочке под соусом из красного вина, то он был бы маловат. Однако нам не требовалось, чтобы боги с благодарностью долго помнили нашу жертву.
Потом отвратительный продавец в храме Кастора набросил на меня какието помятые венки. Моя сестра Майя одолжила нам свою свадебную вуаль. До замужества она ткала в мастерской по пошиву одежды; ткачиха очень ценила Майю, поэтому ее шафрановая вуаль была просто невероятно длинной. Майя давала ее в долг бедным девушкам на Авентине; она послужила многим непостоянным парам, прежде чем стала украшением на торжестве Пертинакса. Моя мама испекла бы нам яблочный пирог, но я не посвящал маму в это дело.
Когда я встретился с Гордианом и привел свой шерстяной вклад, он пошутил:
— Надеюсь, ты сегодня увидишь репетицию своей собственной свадьбы!
Баран, который был на моей стороне, слабо заблеял.
* * *
Мы встретились с Туллией на форуме Цезаря, на лестнице храма ВенерыПрародительницы.
— Он придет? — взволнованно спросил жрец.
— Вчера вечером он был в винном погребе, искал меня. Мама передала ему сообщение и взяла у него договор; ей показалось, что он ей поверил… Если он так и не покажется, — спокойно сказал я, — то мы пойдем по домам.
— Мы можем потерять его, — проворчал Гордиан, как обычно переживая, — если услышит, что его отец все равно снова женился!
— Эмилия Фауста пообещала мне, что не станет публично объявлять о своем браке, — уверил я его. — Не беспокойтесь раньше времени. Пойдем!
Солнце отсвечивало от золотых крыш Капитолия, когда мы все вышли с форума и свернули на север. Это была маленькая свадебная церемония, как мы и пообещали Пертинаксу: невеста, жрец, помощник жреца с ящиком тайных принадлежностей, и очень большой флейтист, играющий на крошечной флейте. Помощник жреца был в военных ботинках, но вряд ли он окажется первым незрелым юношей, который последовал своему религиозному призванию в неподходящей обуви.
Мы оставили флейтиста (Мило) на страже на улице. Узнав нашу скромную процессию, привратник пристально посмотрел на помощника жреца (меня — сильно закутанного вуалью в «религиозных целях»); я вручил ему стоимость хорошего обеда и предупредил, чтобы он не появлялся. Уходя, привратник объявил, что жених уже прибыл. Можно было сразу же его арестовать, но нам еще нужно следовало закончить со свадьбой; я пообещал невесте.
Атий Пертинакс, под вымышленным именем Барнаб, стоял в атрии. Ради такого торжественного мероприятия он пришел в тоге и гладко выбритым, но вместо беспокойного возбуждения жениха у него было обычное угрюмое лицо. Казалось, ему стало слегка плохо, когда он увидел Гордиана, но, возможно, его разговор с Еленой в тот день за домом подтвердил объяснение, которое мрачно дал ему Гордиан:
— Я бы предпочел не участвовать в твоих делах, Пертинакс — но я знаю девушку много лет, и она умоляла меня провести церемонию.
— Можно пропустить формальности! — насмешливо сказал Пертинакс, сжав губы.
Я заметил, как блестящий шафран слегка колыхнулся, хотя невеста продолжала хранить скромное молчание. Высокая, грациозная девушка красиво двигалась, сверкая чудесной вуалью моей сестры; полотно было довольно тонким, чтобы она видела, куда идти, хотя полностью скрывало невесту из вида.
— Очень хорошо. В браке, как и в смерти, — уныло произнес Гордиан, — обряд не является обязательным. Чтобы удовлетворить богов, законы и общество, все, что требуется, это жертва, договор и переезд невесты в дом ее мужа. Невесту уже привели сюда — это необычно, но не является препятствием к браку. При отсутствии родственников девушка выбрала отдать себя…
— Поверьте ей! — сказал Атий Пертинакс. Те из присутствующих, кто знал Елену Юстину, не видели причины возражать. — Приступим?
Мрачно раздали венки. С впечатляющей быстротой Курций Гордиан покрыл голову и поставил переносной алтарь в пустом атрии. Сторож перед уходом включил фонтан — единственная праздничная деталь.
После формальной молитвы жрец позвал своего помощника в белой вуали, чтобы привести барана. Секунду спустя бедный ягненочек был мертв. Гордиан сделал эту работу аккуратно и спокойно. Служба на мысе Колонна дала ему хорошую практику в обращении с жертвенным ножом.
Он рассмотрел внутренние органы, которые выглядели совершенно ужасно, затем повернулся к невесте и без малейшего оттенка иронии объявил:
— Вы проживете долгую, счастливую и плодотворную жизнь!
Теперь Пертинакс нервничал, не без причины. Если первый брак — это большой риск, то делать это во второй раз наверняка покажется крайне смешным. Жрец принес брачные договоры; Пертинакс был вынужден подписаться первым. Помощник жреца передал документы невесте, которая с раздражающей медлительностью писала свое имя, пока Гордиан отвлекал Пертинакса разговором.
С подписанием договоров завершилась основная церемония. Курций Гордиан коротко и злорадно засмеялся.
— Хорошо! Пора счастливому жениху поцеловать свою счастливую невесту…
Между ними было четыре ярда, когда невеста подняла вуаль, а Пертинакс приготовился увидеть обычное холодное разумное презрение Елены. Он встретил более молодую и более дерзкую красоту: огромные темные глаза и крошечные белые зубки, чистая кожа, блестящие серьги, выражение абсолютной невинности, вопиюще обманчивое.
— Туллия!
— О, боги! — с сочувствием воскликнул я. — Кажется, мы привели его величеству не ту невесту!
* * *
Как только Пертинакс двинулся в ее сторону, я откинул свою белую вуаль.
— Фалько!
— Всегда проверяйте предварительно составленный договор перед тем, как подписать его, сенатор. Какойнибудь негодяй мог поменять критически важную деталь! Простите; мы солгали насчет того, что Елена Юстина хотела внимательно прочитать документы, но еще раньше мы солгали насчет того, что Елена согласилась выйти за вас замуж…
Туллия подобрала свою юбку и побежала к двери. Я открыл загадочный ящик, который держал помощник жреца на любой свадьбе. В нашей семье шутили, что юноша хранит в нем свой обед — но у меня был меч.
— Не с места! Гней Атий Пертинакс, я арестовываю вас от имени Веспасиана…
Он презрительно скривил губы, противно обнажив собачьи зубы.
— Верю! — Потом он повернул голову и пронзительно громко свистнул. — Обманывать могут все, Фалько… — Послышался топот ног, и из коридора ворвались полдюжины высоких, небритых воинов в чешуйчатых штанах и с блестящей неприкрытой грудью. — Любой жених хочет иметь на свадьбе своих собственных свидетелей! — насмехался Пертинакс.
Его помощники вломились сюда не с целью разбрасывать орехи. Очевидно, Пертинакс приказал им убить меня.
LXXXVIII
К счастью, я и не надеялся, что жертва уловки со свадьбой ответит изящной речью. Моей первой реакцией было удивление. Следующей — встать спиной к стене, поднять меч вверх и обороняться от них.
От такого человека, как Пертинакс, нужно было неизбежно ожидать чегото подобного. Только богам известно, где он нашел этих головорезов. Они были похожи на германских наемников: большие, длинноволосые хвастуны, сначала нанятые покойным императором Вителлием — а теперь оказавшиеся в Риме после гражданской войны, слоняясь пьяными по борделям вдоль Тибра, поскольку новый, более привередливый Цезарь не брал на службу в пределах Рима иностранные войска.
От чрезмерного потребления пива и кровяной колбасы у этих людей были огромные животы, но они умели драться, особенно с перевесом шесть к одному в их пользу. Какойто злой центурион из иностранных войск на рейнской границе устроил этим бугаям несколько лет легионерской подготовки. У них было огромное оружие, кельтского типа с плоским клинком, которым они размахивали над головами и на уровне пояса, в то время как меня грубо заставили опустить вниз мой короткий, острый римский кинжал. Под костюмом жреца у меня была короткая кожаная куртка и защита для рук — маловато против шести вопящих маньяков, которые получали удовольствие от одной мысли порезать мою соленую хрустящую корочку, словно кабана из Черного леса. Пертинакс засмеялся.
— Улыбайся дальше, — горячился я, глядя на германцев. — Я разделаюсь с твоими тявкающими комнатными собачками, а потом доберусь до тебя!
Он покачал головой и направился к выходу. Но Туллия оказалась там раньше. Благодаря страху перед ним — теперь, когда он знал, что она обманула его, — ее ноги стали быстрыми, а руки уверенными. Она ринулась по коридору привратника, пробежала мимо двух пустых комнат и распахнула огромную, обшитую металлом дверь. Туллия выскочила на улицу — а вместо этого внутрь вломился Мило.
При виде нашего монстра, не имеющего чувства юмора, Пертинакс в нерешительности замер и обернулся. Я видел, как он быстро побежал к лестнице. Я был в ловушке, крепко прижатый половиной дюжины тяжелых клинков. Пока я отчаянно отбивался, их напор, когда они касались моего меча, выбивал из моей руки всю силу. За Пертинаксом побежал Курций Гордиан — его неловкая, похожая на мешок фигура, горящая долго вынашиваемой надеждой на месть, с опасной быстротой спускалась по лестнице. Он ловко держал в руке маленький, острый нож, который мы использовали во время обряда, все еще мокрый от горла нашего жертвенного ягненка.
* * *
Мило своими коровьими мозгами размышлял, что ему делать: мой любимый головорез.
— Сделай одолжение, брось флейту и возьми меч, Мило!
Мило раздобыл меч простым способом: схватил ближайшего наемника, поднял безумца над землей и избивал его до тех пор, пока тот не выпучил глаза и от слабости не выронил меч.
— Прижми еще нескольких! — выдохнул я, пока сам пытался разоружить следующего, а тем временем мой ботинок оставлял на его чешуйчатых штанах след, о котором, если его интересовали женщины, он потом горько пожалеет.
Теперь мы с Мило могли встать спина к спине и отойти от стены. Круг противников расширился, но у нас было больше времени следить за ними. Когда двое наступали с разных сторон, мы, договорившись, пригнулись и дали им с отвратительным хрустом пронзить друг друга.
Грубое фехтование длилось меньше, чем я думал. Двое последних, которые еще могли бегать, оттаскивали раненых. Чтобы скрыть, что они както связаны с домом Пертинакса, мы с Мило выбросили мертвых на улицу в канаву напротив, как грязные остатки от какойнибудь пьяной ссоры прошлой ночью.
— Тебе досталось, Фалько?
Еще ничего не болело, но я весь истекал: на левом боку у меня был длинный разрез. После пяти лет в должности осведомителя я больше не чувствовал необходимости падать в обморок при виде собственной крови, но сегодня я меньше всего этого хотел. Мило торопил меня идти искать врача, но я покачал головой.
Мы поспешили обратно, чтобы найти Гордиана. На наш крик никто не ответил. Я запер дверь на улицу и забрал ключ. Я нашел кран и выключил фонтан; когда вода остановилась, и упала последняя капля, в пустом помещении наступила действующая на нервы тишина.
Мы осторожно поднимались по лестнице, постоянно прислушиваясь. Мы одну за другой распахивали двери. Пустые гостиные и заброшенные спальни. На фронтоне нетронутая пыль. Одуревшие мухи, врезающиеся в закрытые окна в душном одиночестве.
Гордиан был в последней комнате первого коридора, который мы обыскали. Он ударился о мраморный пьедестал, и мы подумали, что, возможно, он мертв. Мы ошиблись; он просто был в отчаянии.
— Я догнал его — воткнул в него нож, — но он ударил меня, и я все испортил…
Посмотрев, не ранен ли он, я сочувственно пробормотал.
— Это совсем разные вещи — предавать смерти какуюнибудь овцу у алтаря или отнимать человеческую жизнь… — Пертинакс крепко привязал Верховного жреца к стене. У него было не так много синяков, но в таком возрасте шок и напряжение имели свои негативные последствия. Гордиан дышал с таким трудом, что я беспокоился за его сердце.
Я помог Мило проводить жреца вниз по лестнице и быстро выпустил их обоих на улицу.
— Мило, позаботься о нем.
— Я вернусь…
— Нет. То, что здесь осталось, — мое.
Он помог наложить давящую повязку и перевязать мой бок вуалью, в которой я был во время церемонии. Потом я видел, как они с Гордианом уходили.
Вот так я и хотел: Пертинакс и я.
* * *
Снова оказавшись в доме, я запер за собой дверь. У Пертинакса, возможно, был свой ключ, когда он жил здесь, но теперь он ему не поможет. Когда я работал душеприказчиком, первым делом я поставил новые замки.
Я медленно шел от двери. Один из нас, в конце концов, возможно, выйдет этим путем. Это была единственная дверь. Особняк богатого человека. В Риме полно взломщиков, а это драгоценное имение было построено для мультимиллионеров, чьи сокровища нуждались в охране. Внешние стены были совершенно пустыми, чтобы их защищать. Окна выходили внутрь. Свет попадал в дом только из внутренних двориков и через открытую крышу атрия. То, что происходило снаружи на улицах города, относилось к совершенно иному миру.
Пертинакс находился в доме. Как и я. У меня был ключ. Пока я его не найду, мы оба останемся здесь.
Я начал искать. В доме было огромное количество комнат и несколько проходов, по которым он мог проскочить мимо меня. Поэтому некоторые места мне приходилось проверять дважды. Я потратил много времени. Рана начала гореть и беспокоить меня. Ткань пропиталась кровью. Я ступал тихо, чтобы шагами не предупредить Пертинакса и сохранить свои силы. Постепенно я обошел все комнаты. И, наконец, вспомнил об одном месте, которое пропустил; так что я знал, где он скорее всего был.
Я второй раз медленно шел по красному коридору. Ботинки опасно скользили по блестящей гладкой мозаике на полу. Я прошел между двумя постаментами, где раньше стояли базальтовые бюсты, и оказался в роскошной сероголубой спальне, которая когдато была приютом хозяйки дома. Меня любезно приняла теплая насыщенная голубизна стен. Я почувствовал себя любовником, идущим по привычному секретному маршруту.
Я заметил небольшое рыжеватое пятно, расплывшееся на геометрическом узоре белосеребристой мозаики. Я с некоторым трудом опустился на колени и потрогал его пальцем. Сухое. Пертинакс прятался здесь уже давно. Возможно, он был мертв.
Поднявшись, я потащил свои уставшие ноги к деревянным раздвижным дверям. Они были заперты. Но когда я открыл их, из дальнего конца садика Елены его злые глаза встретились с моими.
LXXXIX
Я доковылял до каменного бордюра и болезненно опустился, оказавшись в полусидячем положении лицом к нему.
— Две развалины!
Пертинакс гримасничал, глядя на мое состояние, чем пытался облегчить свои страдания.
— Что сейчас будет, Фалько?
— Один из нас кое о чем поразмыслит…
Он сидел в тени. Я был на солнце. Если бы я отодвинулся, то фиговое дерево закрыло бы от меня Пертинакса. Поэтому я остался на месте.
Пертинакс вел себя неугомонно и нетерпеливо; у меня была куча времени. Он замолчал и своим напряженным узким лицом наблюдал за мной.
— Сад вашей жены! — весело произнес я, оглядываясь вокруг. Все было наполнено приглушенным солнечным светом и яркой зеленью. С одной стороны колоннады — потертая каменная скамейка с львиными лапами. Низкая, украшенная скульптурами живая изгородь со слабым запахом розмарина, где я поломал кусты, когда пытался присесть. Тонкие кустики ракитника. И маленькая статуя Купидона, льющего воду — похоже, Елена сама его выбирала.
Сад Елены. Сдержанный, цветущий маленький дворик, такой же тихий и изысканный, как и она сама.
— Спокойное, уединенное место для беседы, — сказал я Пертинаксу. — И хорошее, уединенное место для того, где можно умереть человеку, которого все равно не существует… А, не беспокойтесь. Я пообещал вашей жене — вашей первой жене — не убивать вас. — Я дал ему успокоиться, а потом заговорил стальным голосом: — Я только планирую нанести серию тяжелых, не смертельных ударов, которые убедят вас, что оставаться живым настолько больно, что вы сами себя прикончите!
Жрец уже положил им хорошее начало. Тем лучше; некоторые смерти требуют времени.
Пертинакс сидел на земле, боком ко мне, облокотившись на одну руку. Ему было неудобно почти в любой позе. Приходилось вертеться от боли, которую причинял страшный нож для жертвоприношений, который Гордиан воткнул ему в ребра. Пертинакс крепко держал его. Если вытащить нож, то поток крови мог унести его душу. Некоторые люди рискнули бы; я бы рискнул.
Я сказал:
— Военный хирург мог бы благополучно его вытащить. — Потом я улыбнулся, дав понять, что никогда не впущу в этот дом хирурга.
Пертинакс был бледным. Возможно, я тоже. От напряжения.
Он думал, что скоро умрет. Я знал, что это так.
* * *
У меня закрывались глаза. Я заметил, как Пертинакс с надеждой пошевелился. Я снова открыл глаза и улыбнулся ему.
— Это бессмысленно, Фалько.
— Жизнь бессмысленна.
— Почему ты хочешь, чтобы я умер?
— Увидите.
— Сегодняшний день был бессмысленным, — задумчиво сказал Пертинакс. — К чему эта уловка с Туллией? Я смогу развестись, как только захочу…
— Сначала выберитесь отсюда, сенатор!
Он печально задумался о браке, не обращая на меня внимания. В мутных опухших глазах шевелилась старая неустанная злоба. Его лицо помрачнело от одержимости — чувства возмущения, не изза его неудачи, а оттого, что мир отказался признать его. Душа Пертинакса близилась к безумству. Но пока он еще не сошел с ума. Насколько я мог судить, он все еще мог отвечать за свои преступления.
— Моя жена это устроила? — спросил он, словно к нему только что внезапно пришло понимание.
— Ваша первая жена? Она умна, но разве она настолько мстительна, сенатор?
— Кто знает, на что она способна!
Я знал. В любой ситуации я мог ясно понять: найти очевидное, найти от него самое странное отклонение, и именно так и поступит Елена. Эта девушка принимала странные решения, которые оказывались единственно верными для любого воспитанного и морально устойчивого человека. Она принадлежала Пертинаксу четыре года, пока старалась выполнять обязанности за них обоих — однако он не знал самого главного об этой эксцентричной смеси, которую называл своей женой.
— Елена Юстина хотела помочь вам. Даже когда узнала, что вы предатель и убийца…
— Никогда, — коротко заявил он. — Это единственное, что я просил ее сделать для меня… — Пертинакс наблюдал, как я ослаблял пропитанную кровью ткань вокруг ребер. — Мы можем помочь друг другу, Фалько. У каждого из нас поодиночке немного шансов.
— У меня только внешний порез. А вы истекаете кровью изнутри.
Так это или нет, но моя угроза напугала его.
— Ваша жена не глупа, — сказал я, отвлекая его от страха смерти. — Она сказала мне в Кампании: «Каждой девушке нужен муж».
— О, ей нужен! — воскликнул Пертинакс. — Она говорила тебе, что забеременела? — Он произнес это так, словно речь шла о простуде, которую можно подхватить во время отдыха.
— Нет, — спокойно ответил я. — Она мне не говорила.
— Мой отец узнал об этом, пока она жила в его доме. — Если вспомнить, как Елена иногда выглядела в Кампании, это допустимо. Любой, кто знал обычную выносливость Елены, догадался бы без всяких слов. Включая меня.
Хотя Пертинакс находился в тени, он сильно вспотел; он дышал, надувая щеки. Я предположил:
— Наверное, вашему отцу пришла в голову идея воспользоваться ситуацией, чтобы спасти репутацию Елены — и дать знатное имя ее ребенку?
— Я начинаю думать, что он желает внука даже больше, чем хочет сделать чтонибудь для меня!
— Вы с ним поссорились?
— Возможно, — выдавил Пертинакс.
— Я видел его после того, как вы уехали из Кампании.
Мне показалось, его отношение изменилось.
— Если хочешь знать, Фалько, мой отец сказал, что постоит за меня при условии, что я должен возобновить отношения с Еленой Юстиной — а когда она отказалась от этого одолжения, он обвинил меня… Он передумает.
— Она просила об этом одолжении?
— Нет! — парировал он самым презрительным тоном.
— Вы меня удивляете! — мягко сказал я. Я дал ему время успокоиться, потом выложил: — У этого непредвиденного ребенка гдето должен быть отец.
— Да что ты говоришь! На самом деле я бы хотел, чтобы им был ты. Если Елена Юстина наделала глупостей с возницей своего отца, то это не имеет значения, но если она спуталась с какимнибудь знатным человеком, то я могу надавить на него. Ты был ее охранником; если ты как следует выполнял свои обязанности, то должен знать, в каких фонтанах она мочила пальчики.
Я слабо улыбнулся.
— Можете считать, сенатор, что я выполнял свои обязанности как следует.
В маленьком дворике воздух, наполненный солнцем, был неподвижен. Свет ярко отражался от открытых листьев смоковницы. Жар иссушал заросли колючего лишайника у старой каменной скамеечки и нагревал стену, у которой я сидел.
— Ты когданибудь видел, чтобы Елена Юстина флиртовала с другими мужчинами?
— Ни с кем из тех, кого я видел, сенатор.
Пертинакс раздраженно плюнул.
— Эта гордячка не захотела мне сказать — и от тебя никакой помощи!
— А сколько это стоит?
— Так ты знаешь? Нисколько, — резко огрызнулся он. — Я сам выясню!
— Вытянете из нее? — Пертинакс не ответил. Чтото заставило его посмотреть на меня более внимательно. Я мягко спросил: — Этот человек беспокоит вас?
— Нисколько! — Его пренебрежение медленно таяло. — Когда я сказал Елене, что она сделала глупость, не приняв мое предложение, она призналась, что не сможет забыть о нашем браке, — но ктото на нее претендует…
Я продолжительно многозначительно присвистнул.
— Крутой поворот! Какойто хитрый обманщик, имеющий виды на ее денежный ящик, должно быть, убедил Елену Юстину, что влюблен в нее.
Он уставился на меня, словно не мог понять, шутил я или нет.
* * *
Мой бок заболел сильнее, чем я мог терпеть.
— Кстати, о набитых деньгами ящиках! У меня для вас коекакая новость, Пертинакс. Капрений Марцелл решил, что возлагать на вас надежды — это короткий путь к долгому разочарованию… После того, как вы уехали, даже не повидавшись с ним, он сделал иные распоряжения…
— Распоряжения? Какие распоряжения?
— Такие же, как вы сегодня; он женился.
Первой реакцией Пертинакса было неверие. Потом он поверил. Он был так взбешен, что не чувствовал боли. Я видел, как Пертинакс сразу же принялся искать решения. Беспокойные мысли безумца отражались в его больных глазах; я безжалостно прервал его:
— Марцелл очень любил Елену. С ее помощью вы могли бы его удержать — но он понял правду. О, во многих смыслах она всегда будет связана с вами! Та самая гордость, за которую вы ее презираете, доказывает это. Елена ненавидела быть разведенной. Но любой, кто сможет защитить эту девушку от ее собственного чувства разочарования, довольно легко превзойдет вас. Признайте это, — настойчиво предупредил я его. — Вы потеряли Елену Юстину так же, как потерпели неудачу во всем, за что принимались. — Прежде чем Пертинакс успел оскорбить меня в ответ, я продолжал: — Я знаю, почему она отказала вам. Марцелл знает. — Я выпрямился, сопротивляясь горячей боли в боку. Пертинакс наполовину склонился, сидя во влажной тени у дальней стены, и отказывался отвечать мне. Я все равно сказал.
— Вы такого высокого мнения о себе, Пертинакс! — Производил ли я на него какоето впечатление или нет, теперь я убедил сам себя. Теперь оскорбления посыпались гораздо быстрее. — Вы были бесполезны — когда Елена освободилась от вас, ей стало намного лучше. Наверное, вам кажется, что вы очень хорошо ее знаете, но я в этом сомневаюсь! Например, за все те годы, что вы были женаты на ней, вы хоть поняли, что, когда мужчина делает Елену счастливой, она плачет у него на руках?
Правда вылилась наружу.
— Все верно, — сказал я. — Вы потеряли ее по самой старой причине в мире — она нашла мужчину лучше!
* * *
Пертинакс вздрогнул от ярости. Когда он двинулся в мою сторону, ладонь, на которую он опирался, дернулась и соскользнула. Его голая рука лежала на широкой гравиевой дорожке. Я даже не пытался пошевелиться. В критический момент я закрыл глаза, но слышал легкое шипение выходящего воздуха, когда кинжал для жертвоприношений пронзил его легкое.
Пертинакс умер сразу. Так я узнал, что, когда он упал, нож Верховного жреца пронзил его сердце.
XC
Когда мое собственное сердце перестало бешено колотиться, я медленно поднялся. Сад Елены.
Однажды, сколько бы времени ни понадобилось, я подарю ей другой сад, где не будет призраков.
Я потащился к входной двери, чувствуя себя окостеневшим и опустошенным. На ощупь вставил ключ в замок и выпал на сияющее солнце на улице. Кучерявая собачонка с обрубком вместо хвоста обнюхивала простыню, которую какойто чистоплотный управляющий с Квиринала кинул поверх тел двух германских наемников, в то время как благородные люди этого района сидели дома и жаловались.
Я заворчал на собачонку; она завиляла задом, словно соучастник.
— Фалько!
В тени портика стоял взятый напрокат паланкин. За ним, на ступеньках, сидела Туллия.
— Хорошо, что ты подождала! — Не совсем альтруистический поступок с ее стороны: у меня за поясом все еще было ее свидетельство о браке. Я вручил ей договор и сказал, что как раз оставил ее нового мужа мертвым.
— Отнеси этот документ моему адвокату. Деньги, которые я обещал, — это наследство, оставленное Атием Пертинаксом его вольноотпущеннику Барнабу; как вдове вольноотпущенника, оно переходит тебе. Если спросят про подпись на договоре, просто напомни, что при официальном освобождении рабы берут имена своих патронов.
— Сколько там денег? — весело спросила Туллия.
— Полмиллиона.
— Не шути с такими вещами, Фалько!
Я засмеялся.
— Правда! Постарайся не потратить все в первую неделю.
Она усмехнулась с осторожностью настоящей деловой женщины. Этот лепесток будет крепко держать свои денежки.
— Могу я тебя куданибудь подвезти?
— Нужно избавиться от трупа…
Туллия нежно улыбнулась, потащив меня за руку к своему паланкину.
— Я была его женой, Фалько. Позволь мне кремировать его!
У меня вырвался тихий смешок.
— Обязанность — удивительная вещь!
Туллия отвезла меня, куда я попросил — в мой спортивный зал. Она наклонилась и поцеловала меня на прощание.
— Осторожно — от слишком сильного возбуждения я умру, принцесса!
Я видел, как она откинулась на спинку кресла, со всей серьезностью женщины, которая знала, как проведет остальную часть жизни. Там будет, мне кажется, очень мало мужчин.
Когда паланкин тронулся, Туллия выглянула через окошко.
— Ты уже обналичил ставки, Фалько?
— Ферокс проиграл.
— О, ставки были на Малыша! — смеясь, сообщила мне Туллия, задергивая шторки, чтобы скрыться — теперь она была богатой девушкой — от толпы.
Я зашел, чтобы Главк подлечил меня, с горечью вспоминая, когда последний раз видел те белые костяные кружочки…
— Что с тобой такое случилось? — спросил Главк, не обращая внимания на порез от меча и рассматривая мое мрачное лицо.
— Я только что выиграл целое состояние — но моя племянница съела его.
Главк, мой тренер, был разумным человеком.
— Тогда посади ребенка на горшок — и жди!
Мы обсудили, растворяется ли кость в желудочной кислоте, но не буду беспокоить вас этими подробностями.
* * *
Главк вымыл меня и пообещал, что поправлюсь, если буду беречь себя. Потом я сам взял паланкин — до Капенских ворот. Я сидел и мечтал о новой квартире, которую теперь мог себе позволить, если удастся извлечь из Марсии какойнибудь из жетонов…
Ничто не дается легко. Когда я расплатился с носильщиками в конце улицы сенатора, то заметил группу, которая околачивалась у таверны: люди Анакрита. Они сообразили, что рано или поздно я попытаюсь увидеться с Еленой. Если я подойду к дому, то мое выздоровление пройдет в тюремной камере.
К счастью, я не был неумелым любовником: я знал, где найти в доме сенатора задние ворота.
* * *
Когда я, словно вор, проник туда, сам Камилл Вер, сложа руки, стоял и смотрел на карпа в темном пруду. Я кашлянул.
— Добрый вечер!
— Привет, Фалько.
Я присоединился к нему и начал корчить рожи рыбе.
— Я должен предупредить вас, сенатор: когда я уйду отсюда, меня обязательно арестуют на улице.
— Хоть соседям будет о чем поговорить. — Туника, которую мне одолжил Главк, была всего с одним рукавом; Камилл поднял бровь, глядя на мою повязку.
— Пертинакс мертв.
— Расскажешь мне?
— Какнибудь расскажу. Прежде, чем вспоминать, мне придется забыть.
Он кивнул. Карп высунул свой нос к поверхности, но нам нечего было ему дать, так что мы просто виновато отвернулись.
— Елена спрашивала о тебе, — сказал ее отец.
Камилл Вер проводил меня до атрия. Статуя, которую я послал ему из имения Пертинакса, теперь была гордостью дома. Он поблагодарил меня, когда мы оба взглянули на нее с умиротворенностью, которая была бы неуместна, если бы мы смотрели на чтото настоящее.
— Я все еще думаю, — размышлял Камилл, — может, стоило заказать мраморную…
— Бронза лучше, — сказал я. — Более теплая! — Я улыбнулся ему, чтобы он знал, что это был намеренный комплимент его дочери.
— Иди к ней, — торопил сенатор. — Елена не будет говорить и не будет плакать. Посмотри, что можно сделать…
* * *
Мама Елены и стайка служанок толпились в спальне. Там также находился еще один человек, наверное, врач. Мои розы стояли у кровати Елены, мой перстень был у нее на большом пальце. Девушка с упрямым выражением лица отказывалась прислушаться к хорошему совету.
Я заглянул в комнату, как профессионал — с суровым и серьезным видом. Она сразу увидела меня. У Елены было строгое лицо, которое приобретало свою нежность в зависимости от того, что она чувствовала. Когда это милое личико осветилось от облегчения просто потому, что Елена увидела, как я живой захожу в комнату, суровый и серьезный взгляд трудно было сохранить.
Я вошел внутрь, подпирая дверной проем и стараясь придумать какуюнибудь бестактную грубость, которую она ожидала. Елена заметила повязку.
— Видимо, — сказал она, — ты решил появиться в крови, когда здесь чейто врач, чтобы он бесплатно выдал тебе мазь!
Я тихонько покачал головой, чтобы сказать, что у меня просто царапина. А глаза Елены говорили, что, как бы я с ней ни поступил, она была рада, что я пришел.
Большую часть моей работы нужно делать одному, но было бы здорово знать, что, когда работа закончена, я могу вернуться домой к тому, кто искренне посмеется надо мной, если я начну хвастаться. Ктото, кто на самом деле будет скучать по мне, если я не смогу добраться до дома.
* * *
Очевидно, было нетактично оставаться в комнате, пока девушку осматривал врач. К счастью, доктор уходил. Я преградил ему путь.
— Меня зовут Дидий Фалько. Я живу за Остийской дорогой, над прачечной «Орел» на Фонтанном дворике. — Он был в замешательстве. Я сказал: — Пришлите счета за ваши услуги мне.
В комнате женщины внезапно затихли. Все они смотрели на Елену. Елена неотрывно смотрела на меня.
По происхождению доктор был из Египта. Брови на его квадратной голове встречались посередине над прямым мощным носом. У доктора был необычный вид, но он все делал очень медленно.
— Насколько я понял, сенатор…
— Сенатор, — терпеливо объяснил я, — отец этой девушки. Он дал ей жизнь, питание, образование и хорошее чувство юмора, которое улыбается в ее медовокарих глазах. Но в этой ситуации счета оплачу я.
— Но почему…
— Подумайте об этом, — мягко сказал я. Я взял его за локоть и вывел из комнаты.
Подумай об этом. Нет, не думай. Ребенок был ваш. Наш. Подумай, Марк. Подумай об этом.
Я оставил дверь открытой. Среди женского оцепенения Юлия Юста както выпроводила из комнаты нежелательных присутствующих. Я чувствовал торопливые движения позади меня; потом дверь закрылась.
Тишина. Елена Юстина, ее глаза. Елена и я.
— Марк… Я не была уверена, что ты еще придешь.
Я опустил подбородок, пародируя обычного обходительного самого себя.
— Я говорил тебе, ягодка: просто будь там, где я тебя оставил, и я всегда вернусь… Только обещай мне, — тихо сказал я. — Обещай мне, Елена, что в следующий раз ты мне расскажешь.
Сейчас в этой тишине отразилась вся боль и печаль на свете. Глаза Елены наконецто наполнились ее непролитыми слезами.
— Я работал, — осторожно продолжил я. — Мне нужно было много о чем подумать. Но хочу, чтобы ты поняла, Елена: если бы я знал, что нужен тебе, то я бы бросил все на свете…
— Я знаю! — сказала она. — Я знала это. Конечно.
Вот и все. На самом деле я всегда знал причину.
— Я думала, — через мгновение начала Елена, чуть громче, чем шепотом. Я понял, что она не могла больше говорить. — Я думала, еще так много времени…
— О, любовь моя!
Она потянулась ко мне даже раньше, чем я пошевельнулся. Я прошел комнату за три шага. Поставив одну ногу на ступеньку, я забрался на высокую кровать, а потом заключил Елену в свои объятия так крепко, что едва слышал глубокие отчаянные всхлипывания, от которых ей так нужно было освободиться. Когда я слегка отпустил ее, чтобы еще нежнее ласкать, Елена протянула руку и положила ее на то место, где я был ранен. Никто из нас ничего не говорил, но мы оба знали. Там, где ее лицо прижалось к моей колючей щеке, большинство слезинок были ее, но несколько — моими.
Линдсей Дэвис
«Венера из меди»
Моим родителям - Добро пожаловать в Кент!
Подтверждение
Продуктовый отдел Селфриджа, на поставку палтуса[135]
"Чем палтус на блюде огромней, тем громче соседей укоры, и денег бессмысленней трата…"
Гораций Флакк[136], Сатиры II.2
"Наслаждайся тем, что имеешь, - говорю я, раз не могу палтуса дать голодных нахлебников стае…"
Персий Флакк[137], Сатиры 6
"У меня нет времени наслаждаться размышлениями о палтусах - ведь попугай грызет мой дом…"
Фалько, Сатиры I.1
Рим
Август-Сентябрь 71 г. от Р.Х.

Главные действующие лица:
Друзья, враги и прочая родня
Марк Дидий Фалько - "Частный информатор", пытается за посредственную работу получить честный денарий.
Елена Юстина - Его подруга, во многом его превосходящая.
Мама Фалько – (И этим сказано всё).
Майя и Юния - Две сестры Фалько (просто сумасбродка и сумасбродка, которая о себе высокого мнения).
Фамий и Гай Бебий - Зятья Фалько, о которых лучше ничего не говорить (тем более, что ничего хорошего о них и не скажешь).
Деций Камилл Вер и Юлия Юста - Патриции, родители Елены, перед коей, как они считают, Фалько в ответе за многое…
Луций Петроний Лонг - Верный друг Фалько, начальник стражи на Авентине
[138].
Смаракт - Домовладелец Фалько, который пытается не попадаться на глаза.
Ления - Владелица прачечной "Орел", нацелилась на домовладельца Фалько (или, вернее, на его деньги).
Родан и Асиак - Костоломы Смаракта. Самые жалкие гладиаторы в Риме.
Тит Цезарь[139] - Старший сын и соправитель императора Веспасиана
[140]. Покровительствует Фалько, когда ему разрешает:
Анакрит - Глава шпионов во дворце, ни разу не друг нашего мальчика.
Лапка, Коротышка и Человек на бочке - Люди из службы Анакрита.
Тюремная крыса[141] - Возможно, оттуда же…
Подозреваемые и свидетели
Северина Зотика - Профессиональная новобрачная (очень домолюбивая девушка).
Север Моск - Продавец бус. Ее первый муж (покойный).
Эприй – Аптекарь. Ее второй муж (покойный).
Гриттий Фронтон - Поставщик диких зверей. Ее третий муж (покойный).
Хлоя - Ее попугаиха-феминистка.
Гортензий Нов - Вольноотпущеник, теперь большая шишка в бизнесе. Жених Северины. (может, наконец, последний?)
Гортензий Феликс и Гортензий Крепито - Партнеры Нова по бизнесу (разумеется, все трое - друзья).
Сабина Поллия и Гортензия Атилия - Их жены, полагают, что Гортензий Нов был чем-то взволнован (их интерес, как могли бы сказать некоторые, несколько докучливый).
Гиацинт – Раб на побегушках в доме Гортензиев.
Виридовикс - Галльский шеф-повар, по общему мнению, пленный принц.
Антея – Посудомойка.
Косс – Посредник
[142], знакомый Гиацинта.
Минний - Продавец подозрительно вкусных пирожных.
Лузий - Секретарь претора
[143], подозревает всех (хитрый пройдоха).
Тюхе – Гадалка, что избегает прямых ответов.
Талия - Танцовщица, проделывает забавные штуки со змеями.
Любопытный змий Скавр - Каменотес (весь в работе).
Аппий Присцилл - Влиятельный тип, с большим количеством недвижимости (еще одна крыса).
Гай Церинт - Некто, кого знает попугай. Все время подозрительно отсутствует.
I
Крысы всегда крупнее, чем ты ожидаешь.
Сперва я его услышал: зловещее шебуршание некоего незваного гостя, достаточно близко, чтоб ощутить дискомфорт в тесноте тюремной камеры. Я поднял голову.
Мои глаза уже почти свыклись с темнотой. Как только пришелец снова зашевелился, я увидел его: серовато-коричневый, типичный самец, его розовые лапки неприятно походили на руки человеческого ребенка. Он был величиной со вставшего на дыбы кролика. Я думаю, во многих забегаловках Рима повара не откажутся заполучить в своею кастрюлю этого жирного пожирателя помоев. Потуши его с чесноком, и кто узнает сорт мяса? В дешевых трущобных обжорках возле Большого Цирка
[144] любая кость с настоящим мясом в похлебке будет желанной…
К несчастью, я был голоден, но все что могло поскрипеть у меня на зубах - лишь моя злость от пребывания тут.
Крыса небрежно ковырялась в углу среди мусора, что за месяцы скопился после предыдущих заключенных. Эти отбросы были слишком отвратительными, чтобы я рылся в них. Крысюк казалось, заметил меня, когда я поднял глаза, но на самом деле даже не насторожился. Я догадывался, что если буду лежать неподвижно, он может решить, что я тоже куча старого тряпья, и полезет ее исследовать. Но если бы я шевельнул ногами, это бы его вспугнуло.
Как бы то ни было, крыса все равно будет бегать по моим ногам.
Я пребывал в Латомийской тюрьме
[145], вместе с различными мелкими уголовниками, которые не могли позволить себе адвоката, и всеми
карманниками с Форума
[146], что хотели отдохнуть от своих жен. Все могло быть и хуже. Можно было бы оказаться в Мамертине
[147] – месте краткосрочного пребывания для политических заключенных, с ее подземельями в двенадцать футов глубиной, откуда единственный выход для человека без связей был только вниз, в Гадес. Здесь, по крайней мере, у нас было чем развлечься: божба старых каторжников страстно клянущих Субуру
[148], и дикие приступы белой горячки у безнадежных пьяниц. В Мамертине ничто не нарушает монотонность существования, пока не войдет общественный душитель, чтобы измерить вашу шею.
В Мамертине нет крыс. Тюремщики не будут откармливать приговоренного к смерти, поэтому грызунам объедков не достается. Крысы знают такие вещи. Кроме того, все должно быть чистенько, на случай, если какие-нибудь надутые как павлины сенаторы, имеющие друзей-идиотов, что оскорбили императора, захотят туда заглянуть и поведать новости с Форума. Только здесь, в Латимии, среди социальных отбросов, заключенный может наслаждаться волнующим ожиданием, когда его усатый сокамерник развернется и запустит свои зубы ему в голень…
Латимию заполнял случайный сброд, она была построена для содержания массы заключенных из охваченных беспорядками провинций. Иноземцы были здесь обычным делом. Но любая заноза, что посмела надоедать коррумпированному бюрократу, могла закончить свой путь здесь, что со мной и произошло, и теперь я наблюдал, как растут мои ногти и мрачно размышлял о сём заведении. Обвинение против меня (поскольку у ублюдка, что спровадил меня в тюрьму, было заготовлено обвинение на каждого) было обычным: я совершил главную ошибку, превзойдя главного шпиона императора. Этот мстительный интриган звался Анакритом. Ранее, этим же летом, он был направлен в Кампанию
[149] на задание. А когда он его провалил, император Веспасиан послал меня, чтобы закончить работу, которую я с ловкостью и выполнил. Анакрит отреагировал, как обычно поступает некомпетентное должностное лицо с младшим по чину, проявившим себя: он публично пожелал мне удачи, а при первой же возможности наподдал мне под зад.
Он уловил меня за незначительной ошибкой в бухгалтерской отчетности: он утверждал, что я украл немного казенного свинца - а все, что я сделал, взял его, чтоб моя маскировка была достовернее. Я был готов выплатить деньги, что я получил в обмен на этот металл, если кто-нибудь потребовал бы их с меня. Анакрит не дал мне ни единого шанса, я был брошен в Латимию, и до сих пор никто не удосужился позвать судью, чтоб тот выслушал мои оправдания. Скоро сентябрь, большая часть судов не будет заседать, и все новые дела будут отложены до Нового года…
Я получил по заслугам. Когда-то я знавал лучшее занятие, чем плескаться в политической помойке. Я был частным информатором. За пять лет я не занимался ничем более опасным, чем разыскивать неверных супругов и торгашей-мошенников. Счастливое время: прогуливайся себе туда-сюда по солнышку и помогай торговцам с их семейными неурядицами. Некоторые из моих клиентов были женщинами (а кое-кто из них были весьма привлекательны). Кроме того, частные клиенты платили по счетам. (В отличие от дворца, который придирался из-за каждых невинных расходов.) Если мне когда-нибудь удастся вернуть себе свободу, то перспектива снова работать на себя самого, была весьма привлекательна.
Три дня в тюрьме испортили мой беспечный характер. Мне было скучно. Я становился все более угрюмым. Так же я страдал и физически: рана в боку от меча - одна из тех небольших телесных ран, которые воспаляются в самое неподходящее время. Моя мать присылала мне горячие обеды, чтоб скрасить мою жизнь, но тюремщик забирал себе все мясо. Два человека пытались вытащить меня, оба одинаково безуспешно. Один из них был дружественно настроенным ко мне сенатором, он пытался донести весть о моем положении до Веспасиана, в ему аудиенции было отказано стараниями Анакрита. Другой мой друг - Петроний Лонг. Петроний, командир Авентинской стражи, пришел в тюрьму с амфорой вина под мышкой и попытался действовать через тюремщика - только, чтобы найти себя лежащим прямо посреди улицы с разбитой амфорой. Анакрит сумел отравить даже наши обычные соседские дружественные услуги друг-другу. Так, благодаря ревности главного шпиона, все выглядело, будто я никогда не смогу вновь стать свободным гражданином…
Дверь распахнулась. Голос проскрипел: "Дидий Фалько, кто-то тебя любит несмотря ни на что! Поднимай свою задницу и вали отсюда…"
Когда я с трудом поднимался, крыса пробежала по моей ноге.
II
Мои неприятности закончились, отчасти.
Когда я ковылял через приемную, тюремщик закрывал тяжелую шнурованную сумку, улыбаясь, как будто это был день его именин. Даже его грязных помощников, казалось, впечатлил размер взятки. Мигая от дневного света, я разглядел маленькую, тощую, прямой фигурку, которая встретила меня с презрительным фырканьем.
Римское общество справедливо. Существует множество провинциальных болот, где префекты держат своих преступников в цепях, обрекая их на пытки, если другие развлечения надоедают. Но в Риме, если ты совершил ужасный проступок - или, как дурак, признался - каждый подозреваемый имеет право найти того, кто за него поручится.
– Привет, мам!
Было бы грубо пожелать себе вернуться обратно в камеру к крысе.
Выражение ее лица обвиняло меня в том, что я такой же дегенерат, как и мой отец, хотя даже мой отец (который сбежал с рыжей бабёнкой и оставил бедную ма с семью детьми) никогда не позволил бы себе оказаться в тюрьме… К счастью, моя мать превыше всего ставила честь семьи, чтобы высказать, что она обо мне думает, при посторонних, поэтому она вместо этого просто поблагодарила тюремщика за заботу о сыночке.
– Анакрит, кажется, забыл о тебе, Фалько! – тюремщик надо мной издевался.
– Таково было его намерение, по-видимому.
– Он ничего не говорил об освобождении под залог до суда…
– Он ничего не говорил и о самом суде, – прорычал я. – Держать меня без суда столь же незаконно, как отказать в освобождении под залог!
– Ну, если он решит выдвинуть обвинения…
– Только свистни! - заверил его я. – Я вернусь, выглядя невинным в свою камеру прежде, чем вакханка дважды стукнет в свой бубен.
– Точно, Фалько?
– Разумеется! – я получал наслаждение от вранья.
На улице я сделал глубокий вдох свободы, о котором сразу пожалел. Это был август. Мы стояли перед Форумом. Вокруг трибуны атмосфера была почти столь же душной, как в недрах Латимии.
Большинство аристократов сбежало от этой духоты в летние виллы, но для тех из нас, кто принадлежал к более грубому сословию, жизнь в Риме замедлилась до полусонного состояния. Любое движение в такую жару было невыносимо.
Мать осмотрела своего сынулю-рецидивиста, глядя без всякого восторга.
– Просто недоразумение, ма… - я попытался стереть со своего лица досадливое выражение; частному информатору с крутой репутацией быть спасенным своей мамочкой, как-то несолидно.
– Кто обеспечил столь солидный выкуп? Елена?
Я спросил, имея в виду свою подругу, с избытком наделенную всяческими достоинствами, которую мне удалось приобрести шесть месяцев назад, взамен прежней череды потертых циркачек и цветочниц.
– Нет, залог оплатила я; Елена побеспокоилась об оплате твоего жилища…
Мое сердце упало от такой солидарной поддержки со стороны женщин, что-либо значащих в моей жизни. Я знал, что за все придется заплатить, и не только деньгами.
– Не беспокойся о деньгах.
Тон моей матери свидетельствовал, что с таким сыночком, как я, ей приходится все свои с сбережения держать постоянно под рукой.
– Пошли со мной домой, тебя дожидается отличный обед…
Она, должно быть, планировала цепко держать меня под стражей; а я планировал быть вольной птицей.
– Мне нужно увидеться с Еленой, ма…
В обычной ситуации было бы неразумно для холостяка, которого только что выкупила из тюрьмы его маленькая старая мамочка, сообщить о намерении сбежать к другой женщине. Но моя мать кивнула. Во-первых, Елена Юстина была дочерью сенатора, так что посещение таких высокопоставленных дам считается привилегией для подобных мне, а не, как обычно выражаются матери, развратом. Кроме того, вследствие несчастного случая на лестнице, у Елены только что случился выкидыш, мы потеряли нашего ребенка. В глазах всех моих родственниц я, по-прежнему, выглядел безрассудным бездельником, но, ради Елены, и большинство с этим согласится, в настоящее время я был обязан посещать ее при каждой возможности.
– Пойдем со мной! - стал настаивать я.
– Не будь дураком! – моя мать подняла меня на смех. – Это тебя Елена хочет видеть!
Новость не придала мне уверенности.
Ма жила у реки, за Эмпорием
[150]. Мы медленно пересекли Форум (чтобы подчеркнуть, как ее сгорбило от невзгод, которые я ей причинил), и она отпустила меня на волю у моей любимой бани, что стоит за храмом Кастора
[151]. Там я отмылся от тюремной вони, переоделся в запасную тунику, которую я оставил в гимнасии на всякий непредвиденный случай, и нашел брадобрея, которому удалось сделать меня выглядящим более респектабельно (если смыть всю кровь от порезов, что он мне нанес).
Я вышел, все еще чувствуя, что лицо у меня, от сидения взаперти, серое, но уже гораздо более расслабленный. Я шел к Авентину, расчесывая пальцами свои влажные кудри в тщетной попытке придать себе вид жизнерадостного холостяка, который еще может разбудить страсть в женщине. И тут случилась беда. Слишком поздно я заметил парочку мускулистых парней с сомнительной репутацией, которые стояли напротив портика так, чтобы они могли демонстрировать свои мышцы всем, кому приходилось идти по их стороне улицы. Они носили набедренные повязки, и кожаные подвязки на коленях, запястьях и лодыжках, чтобы выглядеть круто. Их высокомерие было ужасно знакомо.
– О, смотрите - это Фалько!
– О, чаячье дерьмо - Родан и Асиак!
В следующий момент один из них уже стоял позади меня, обхватив мои предплечья, в то время как другой тряс мне руку - так вытягивая запястье, что суставы напряглись в своих сочленениях, словно канаты у борющейся с ураганом галеры. Запах старого пота и свежего чеснока заставил слезиться мои глаза:
– Ох! Прекрати это, Родан, мои руки и так уже достаточно длинные…
Назвать эту парочку "гладиаторами", значит нанести оскорбление даже тем потрепанным увальням, которые обычны в этом бизнесе. Родан и Асиак обучались в бараках, что были в ведении моего домовладельца Смаракта, и когда они не отшлепывали, как идиоты, сами себя тренировочными мечами, он их посылал, чтобы сделать улицы более опасными, чем обычно. Они никогда особо не отличались на арене, их роль в жизни общества была - запугивать несчастных жильцов, что арендовали квартиры у Смаракта. Я, находясь в тюрьме, имел одно большое преимущество – таким образом я избегал встреч с моим хозяином, и его любимыми головоломами.
Асиак поднял меня и сжал. Я позволил ему немного поперемешивать мои потроха. Я ждал, пока это не наскучило ему, и он положил меня на тротуарные плиты - тогда я потянул его вниз, вывел из равновесия и перебросил через голову к ногам Родана.
– Олимп! Разве Смаракт вас двоих никогда ничему не учил? – я бойко вскочил на ноги вне пределов их досягаемости. – У вас устаревшие сведения, моя квартплата выплачена!
– Значит слух верен! – покосился Родан. - Мы слышали, что ты теперь на содержании!
– Чувство зависти придает тебя, Родан, мерзкое косоглазие! Твоя мать должна была предупредить тебя, что это отпугнет девиц! Возможно, вы слышали, что за гладиаторами бегают толпы восторженных женщин; но, Родан и Асиак, в Риме есть только вы двое, настолько убогих, что лишены любых поклонниц.
Асиак встал, вытирая нос. Я покачал головой:
– Извини, я забыл: ни одним из вас не могла бы заинтересоваться даже пятидесятилетняя торговка, слепая на оба глаза и без чувства благоразумия…
Асиак прыгнул на меня. И они оба принялись напоминать мне, почему я столь сильно ненавидел Смаракта.
– Это последний раз, когда ты опоздал с платой! – хрюкнул Родан, который имел долгую память.
– И это за следующий раз! – добавил Асиак – предсказатель-реалист.
Мы практиковали этот болезненный танец столько раз, что я быстро выскользнул из их захвата. Бросив еще одно или два оскорбления, я припустил прочь по улице. Они были слишком ленивы, чтобы бегать за мной.
Я был на свободе уже час. И я был уже побит и пребывал в унынии. В Риме, городе домохозяев, свобода сулит двусмысленные радости.
III
Отец Елены Юстины, сенатор Камилл Вер, жил около Капенских ворот
[152]. Превосходное место, недалеко от Аппиевой дороги, где она выходит за городскую стену времен республики. По дороге мне удалось найти еще одну баню, чтобы ублажить урожай свежих синяков. По счастью, Родан и Асиак всегда молотят по грудной клетке жертвы, так что мое лицо осталось без опознавательных знаков. И если я не забуду не вздрагивать, Елене не узнает о них, ей это без надобности. Болезненного вида сирийской аптекарь продал мне мазь для раны от меча, и мой бедный бок был обихожен, хотя мазь и оставила жирной след на моей тунике, голубоватой, как плесень на стенной штукатурке, которая и не была предназначена, чтобы производить впечатление на модников из окрестностей Капенских ворот.
Привратник в доме Камиллов меня знал, но, как и обычно, отказался впускать. Я не позволил этому вшивцу надолго задержать меня. Я пошел за угол, где позаимствовал шляпу у дорожного рабочего, вновь постучал, повернувшись спиной, и когда привратник глупо открыл, думая что это бродячий торговец, я прошмыгнул внутрь, убедившись, что мой ботинок хорошенько припечатал его по лодыжке, когда он встал на моем пути.
– За четвертак
[153] я бы оставил тебя перед запертой дверью! Я Фалько, ты, баранья отбивная! Сообщи обо мне Елене Юстине, или твои наследники будут ссориться за обладание твоими лучшими сандалиями, раньше, чем ты ожидаешь!
Как только я оказался в доме, он стал относиться ко мне с угрюмым уважением. То есть, он вернулся к себе в каморку, чтобы догрызть яблоко, в то время как я отправился искать свою принцессу самостоятельно.
Елена была в приемной, бледная и задумчивая, с тростниковым пером в руке. Ей было двадцать три - или, возможно, двадцать четыре, в то время я понятия не имел, когда у нее был день рождения; даже после того, как я побывал в постели с их сокровищем, я не был приглашен участвовать в семейных торжествах в доме сенатора. Они только позволяли нам видеться, вот и все, потому что их самих допекло своеволие Елены. Прежде, чем она встретила меня, она была замужем, но решила развестись (по эксцентричной причине, мол ее муж с ней никогда не разговаривал), так что ее родители уже поняли, что их старший отпрыск была еще тем наказанием.
Елена Юстина была высокой, статной девушкой, чьи прямые темные волосы были подвергнуты пытке горячей завивкой, хотя они изо всех сил и сопротивлялись. У нее были красивые карие глаза, которым не нужна была косметика, хотя ее горничные и накладывали ее из принципа. Дома она носила очень мало украшений, и от этого выглядела ничуть не хуже. В компании она была застенчивой, даже наедине с близким другом, вроде меня, она могла бы сойти за скромницу, пока не начнет трубить о своих убеждениях - да так, что дикие псы сорвутся со сворок и помчатся по улицам в поисках укрытия. Я считал, что могу управиться с ней - но я никогда не испытывал свою удачу.
Я встал в дверях со своей обычной неучтивой усмешкой. Елена приветствовала меня сладкой и непринужденной улыбкой. Это было лучшее, что я видел за всю неделю.
– Почему такая красивая девушка, как ты, сидит в одиночестве и строчит рецепты?
– Я переводила Историю Греции, - заявила Елена надменно. Я заглянул через плечо. Это был рецепт фаршированных фиг.
Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Потеря нашего ребенка, из-за которой мы оба до сих пор переживали, придала болезненную формальность нашим отношениям. Затем наши правые руки нашли и вцепились друг друга с таким пылом, что напыщенные старые адвокаты из базилики Юлия
[154] могли бы и осудить нас.
– Я так рада тебя видеть! - прошептала Елена страстно.
– Нужно больше, чем тюремные засовы, чтобы удержать меня вдали от тебя.
Я раскрыл ее ладонь и приложил к своей щеке. Ее пальцы были надушены эксцентричным сочетанием редких индийских благовоний и чернилами из дубовых орешков - совсем не похоже на затхлые запахи, что витали вокруг уличных девиц, которых я знавал раньше.
– О, сударыня, я люблю тебя, - признался я (все еще охваченный эйфорией от моего недавнего освобождения). – И это не из-за того, что я узнал, что это ты заплатила за аренду моей квартиры!
Она выскользнула из кресла, чтоб встать на колени рядом со мной, укрыв голову. Дочь сенатора вряд ли допустит, чтоб домашний раб нашел ее плачущей в подол каторжника, - но я погладил успокаивающе ее шею, на всякий случай. Кроме того, задняя честь шеи Елены была очень привлекательным местом для незанятой руки.
– Не понимаю, почему ты беспокоишься обо мне, - заметил я через некоторое время. – Я неудачник. Я живу в дыре. У меня нет денег. Даже крыса в моей камере смеялась, когда смотрела на меня. Всякий раз, когда ты нуждаешься во мне, меня нет рядом…
– Брось ворчать, Фалько! – Елена фыркнула глядя вверх, на ее щеке отпечаталась вмятинка от пряжки моего ремня, но оставаясь в прежней позе.
– Я выполняю работу, к которой большинство людей и не притронется, - продолжал я мрачно. – Мой собственный работодатель бросает меня в тюрьму и забывает, что я существую.
– Ты был выпущен.
– Не совсем так! - признался я.
Елена никогда не спорила о вещах, с которыми, как она считала, я должен разбираться сам.
– Что ты намерен теперь делать?
– Снова работать на самого себя.
Она ничего не сказала, не нужно было спрашивать, почему я столь безрадостен. Мой блистательный план имел одну большую проблему: мой заработок, работай я сам по себе, будет гораздо меньше, чем жалованье за служение на благо общества, несмотря на то, что кассиры Веспасиана задолжали мне уже за несколько месяцев.
– Как ты думаешь, это глупо?
– Нет, ты совершенно прав! - без колебаний согласилась Елена, хотя она, должно быть, понимала, что уход с государственной службы уничтожал всякую надежду на мой брак с патрицианкой. – Ты рисковал жизнью для государства. Веспасиан нанял тебя потому, что он знал, во сколько ты ему обойдешься. Но, Марк, ты слишком хорош, чтобы страдать из-за жалких подачек от скупого работодателя и мелочной ревности Дворца…
– Милая, ты знаешь, что это значит…
– Я сказала, что буду ждать.
– А я сказал, что я не позволил бы тебе…
– Дидий Фалько, я никогда не обращала внимания на то, что ты говоришь.
Я улыбнулся, потом мы вместе сидели молча несколько минут.
После тюрьмы, эта комната в доме ее отца была оазисом спокойствия. Здесь у нас был лоскутные коврики и подушки с кистями, чтобы обеспечить нам комфорт. Толстая кладка стен приглушала уличный шум, а свет струился сквозь высокие окна со стороны сада, освещая стены, что были расписаны под искусственный мрамор цвета зрелой пшеницы. Это создавало приятное впечатление - хотя и слегка поднадоевшее. Отец Елены был миллионером (тут не требовались мои дедуктивные способности, просто, это обязательное требование для сенатора), но даже он считал себя на грани нищеты в городе, где только мультимиллионеры могли привлечь голоса на выборах.
Мое собственное положение была гораздо хуже. У меня не было ни денег, ни статуса. Чтобы похитить Елену соблюдая приличия, я должен был бы сперва найти четыреста тысяч сестерциев
[155], а затем убедить императора включить меня в список жалких ничтожеств, которые формируют средний класс
[156]. Даже если мне когда-нибудь это удалось бы, все равно считалось бы, что она остановила выбор на человеке с сомнительной репутацией.
Она читала мои мысли:
– Марк, я слышала, твой конь выиграл скачки в Большом Цирке.
Жизнь иногда может и порадовать: конь, которого звали Малыш, по счастливой случайности достался мне по наследству. Я не мог позволить себе содержать его, но прежде чем конь отправился к торговцу лошадьми, я выступил с ним только в одном состязании - которое он и выиграл с удивительным перевесом.
– Елена, ты правы, я срубил немного монет на этих скачках. Я мог бы инвестировать их в более приличную квартиру, чтобы привлечь клиентов получше.
Она одобрительно кивнула, ее голова лежала на моем колене. Ее волосы были заколоты целым пантеоном булавок из слоновой кости, все с резными ручками в виде строго глядящих богинь. Пока я размышлял об отсутствии денег, я вытащил одну и сунул ее за пояс, как охотничий нож, затем поддразнивая Елену принялся за оставшиеся. Елена, слегка раздраженная, попыталась прекратить это, ухватив меня за запястья. В конце концов она рассыпала булавки, которые я сжимал в горсти, по полу, и я позволил ей пошарить вокруг, пытаясь найти их, пока я, согласно с моим планом, методично продолжал.
К тому времени, как я освободил все ее волосы, Елена возвратила себе все заколки – хотя я заметил, что она позволила мне оставить одну, спрятанную в моем поясе. она все еще у меня: Флора, с короной из роз, что прописывают при сенной лихорадке, я нахожу ее иногда, когда роюсь в поисках упущенной ручки в моем письменном ящике.
Я разметал блестящие волосы Елены, как я хотел:
– Так-то лучше! Теперь ты больше похожа на девушку, которая может согласиться, чтоб ее поцеловали… На самом деле ты выглядишь, словно можешь даже поцеловать меня по собственному желанию…
Я наклонился и обвил ее руками свою шею.
Это был длинный, полный глубокой признательности поцелуй. Только то, что я очень хорошо знал Елену, позволило мне заметить, что моя страсть была встречена с необычной сдержанностью с ее стороны.
– Что случилось? Уходишь от меня, ягодка?
– Марк, я не могу…
Я все понял. Этот выкидыш был потрясением для нее, она боялась рискнуть снова. И она, вероятно, боится потерять меня. Мы знали более чем одного умника с его римской прямотой, который, не подумав даже, угробил бы несчастную подругу в такое время
– Прости меня…
Она была смущена, и изо всех сил пыталась убежать. Но она все еще была моей Еленой. Она хотела, чтобы я ее удержал, почти так же сильно, как и я этого хотел. Она нуждалась в утешении – пусть даже она и пыталась уклониться от моей поддержки.
– Моя милая, это естественно.
Я ослабил свои объятья.
– Все как нибудь уладится…
Я знал, что я должен быть крайне аккуратным, поэтому я старался обращаться с ней осторожно, хотя это было трудно, принимая во внимание обманутые надежды, это чувствовалось просто физически. Я ругался про себя, и Елена должна была чувствовала это.
Мы тихо сидели и говорили о семейных делах (плохая идея, как всегда), а потом я сказал, что мне пора уходить.
Елена проводила меня до двери. Привратник теперь исчез, поэтому я откинул засовы сам. Она обняла меня и уткнулась лицом в мою шею.
– Я полагаю, ты будешь бегать за другими женщинами!
– Конечно!
Мне удалось и это обратить в шутку.
От вида ее огромных, полных боли, глаз мне становилось плохо. Я поцеловал ее веки, затем мучая себя, крепко прижал к себе подняв, что ее ноги оторвались от земли.
– Приходи жить ко мне! – предложил я внезапно. – Только боги могут знать, сколько времени мне понадобится, чтобы заработать на респектабельную жизнь для нас. Я боюсь потерять тебя, я хочу, чтобы ты была рядом. Если я сниму квартиру побольше…
– Марк, я просто чувствую…
– Верь мне.
Елена улыбнулась и дернула меня за ухо, как будто она думала, что это самый быстрый способ сделать наши трудности постоянными. Но она обещала подумать о том, что я сказал.
Я легким сердцем шел домой на Авентин. Даже если моя дама не пожелает присоединиться ко мне, с моим выигрышем на Малыше нет ничего, что помешает мне снять более приятную квартиру… Знание, что я наконец иду домой, и мысли о смене жилища подбодряли меня.
Потом я вспомнил, прежде, чем меня потащили в тюрьму, непогашенные жетоны со скачек проглотила моя трехлетняя племянница.
IV
Прачечная "Орел", Фонтанный Дворик.
Из всех скрипучих многоквартирных домов в самых грязных переулках города, самый унижающий достоинство жильца – Фонтанный Дворик. Он всего в пяти минутах ходьбы от большой дороги в Остию
[157], одной из самых важных в Империи, но эта язва в подмышке Авентина совсем иной мир. Наверху, на двойной вершине холма стоят большие храмы Дианы и Венеры, но мы жили слишком близко, чтоб любоваться их возвышенной архитектурой из нашей глубокой и темной путаницы безымянных тупичков. Здесь жилье было дешевым (для Рима). Некоторые из нас готовы заплатить более справедливому домовладельцу, лишь бы тот нанял парочку приставов и выселил нас на лучшую улицу с более свежим воздухом.
Моя квартира располагалась на верхнем этаже огромного ветхого здания. Весь первый этаж занимала прачечная; шерстяные туники, ожидавшие хозяев были единственными чистыми вещами в округе. Однако их первозданную чистоту можно было порушить одной прогулкой вниз по грязной улочке, что использовалась и для выхода из квартала и для слива нечистот. Повсюду была сажа от печи, в которой одноглазый поставщик канцелярских товаров варил зловонные чернила и дым, который напускал наш местный хлебопек Кассий, который, как ни один другой пекарь в Риме, мог обуглить каравай.
Это были опасные закоулки: только я потерял бдительность, и тут же вляпался по самые лодыжки в липкое коричневое дерьмо. Пока я ругался про себя и пытался очистить обувь о бордюрный камень, Ления, прачка, высунула свою круглую голову из-за развешанных на веревке туник. Увидев меня, она, как обычно, поспешила высмеять мою персону. Она была растрепана и напоминала садящегося на воду лебедя: дикие космы огненно рыжих крашеных волос, водянистые глаза и голос, хриплый от слишком большого количества кружек плохо перебродившего вина.
– Фалько! Где ты был всю неделю?
– За городом.
Было непонятно, поняла ли она, что я имел в виду Латомийскую тюрьму. Не то, чтоб Лении было все равно. Она слишком ленива, чтоб быть любопытной, если дело не касалось бизнеса. В этот круг включался и вопрос о том, получил ли мой грязный домовладелец Смаракт свою плату – и то, ее это стало интересовать только с тех пор, как она вознамерилась выйти за него замуж. Решение было принято по чисто финансовым соображениям (Смаракт, десятилетия выжимая деньги из бедняков, стал богат как Красс
[158]), а теперь Ления готовилась к свадьбе с клинической страстью хирурга. (Зная, что пациент заплатит побольше за его услуги, после того как сам же его и искромсал ножом…)
– Я полагаю, что имею кредит, – усмехнулся я.
– Ты наконец-то научился выбирать женщин!
– Это так, все дело в совершенство моего лица, как у скульптур из паросского мрамора…
Ления, которая была строгим критиком изящных искусств, цинично захохотала.
– Фалько, ты – дешевая подделка!
– Только не я – у меня есть сертификат качества от дамы с хорошей репутацией! Ей нравится меня баловать. Я это заслужил, конечно… Сколько она заплатила?
Я видел, ротик Лении открылся, и она было собралась мне солгать, но потом сообразила, что я если мои манеры мне позволят обсуждать с дамой вопрос о своих долгах, то Елена Юстина должна будет мне сказать.
– За три месяца, Фалько.
– Юпитер!
Это было для меня неожиданностью. Максимум, сколько я мог жертвовать за раз в пенсионный фонд своего домовладельца — плата за три недели (да и то, с задержкой).
– Смаракт должен подумать, что его по радуге доставили прямо на Олимп!
По слегка помрачневшему лицу Лении я понял, что Смаракту еще только предстоит узнать, о свалившемся на него счастье. Она быстро сменила тему разговора.
– Какой-то человек все время заходит и спрашивает тебя.
– Клиент?
Я в тревоге подумал, а вдруг Главарь Подглядывающих уже узнал о моем отсутствии в тюрьме.
– А подробнее?
– Ох, мне и без него есть чем заняться, Фалько! Он является сюда каждый день, и каждый день я ему говорю, что тебя нет дома…
Я расслабился. У Анакрита не было никаких причин искать меня до сегодняшнего полудня.
– Хорошо, теперь я вернулся!
Я чувствовал себя слишком утомленным, чтоб возиться с тайнами.
Я направился вверх по лестнице. Мое жилище было на седьмом
[159] этаже, самом дешевом. У меня было достаточно времени, чтоб ощутить знакомые запахи мочи, гнилой капусты; засохший голубиный помет запачкавший каждую ступеньку; рисунки на стенах, далеко не все сделанные детской рукой; проклятия по поводу арендных ставок, скабрезные изображения. Я едва знал своих соседей, но я узнавал их бранящиеся голоса, когда проходил мимо. Некоторые двери были всегда закрыты, с их гнетущими тайнами; другие семьи едва занавешивали вход, что вынуждало соседей быть зрителями их печальной жизни. Голый карапуз выскочил из двери и, увидев меня, бросился обратно с криком. Сумасшедшая старуха на четвертом этаже, она всегда сидит в дверях и провожает каждого прошедшего мимо невнятным бормотанием, я приветствовал ее вежливым жестом, который выделялся среди обычных потоков ядовитых оскорблений.
Мне нужна практика; я спотыкался, когда наконец достиг верхнего этажа. На мгновение я прислушался: профессиональная привычка. Потом я повернул простую защелку и распахнул дверь.
Дом. Что-то вроде квартиры, куда вы приходите сменить тунику, прочитать послания от друзей и найти любой повод, чтоб снова умчаться куда-угодно. Но сегодня я не был готов столкнуться с кошмарами лестницы во второй раз, поэтому я остался дома.
За четыре шага я обошел свое жилище: офис с дешевой скамьей и столом, и спальня с кривобокой конструкцией, служившей мне кроватью. Обе комнаты были пугающе опрятны, это результат того, что моя ма могла целых три дня развлекаться уборкой, и ей никто не мешал. Я с подозрением огляделся, но никого больше тут не было. Тогда я снова все устроил по своему вкусу. Я сдвинул косо мебель, разворошил постель, повсюду наплескал воды, пока освежал зелень на балкончике и раскидал по полу одежду, которую носил.
После этого я почувствовал себя лучше. Теперь это снова был мой дом.
Посреди стола, где я никак не мог не заметить ее, стояла греческая чаша, я купил ее в антикварной лавке за два медных гроша и наглую улыбку; она была наполовину наполнена поцарапанными костяными фишками, некоторые из них имели необычную полосатую окраску. Я хмыкнул. Последний раз, когда я их видел, был ужасный семейный праздник, где моя маленькая племянница Марсия схватила их, чтоб поиграть, и проглотила большую часть: это были мои жетоны с ипподрома.
Когда ребенок съел что-то, что вы не хотите потерять, то у вас только один способ – если вы любите ребенка – чтоб вернуть утраченное. Я был знаком с этой неприятной процедурой с тех пор, как мой братец Фест проглотил обручальное кольцо матери и заставил меня помочь его найти. (Пока он не был убит в Иудее, что положило конец моим братским обязанностям, в нашей семье была традиция: Фест всегда оказывался в беде, и он всегда мог уговорить меня-дурака вытащить его из нее.) Глотание семейных ценностей было явной наследственной чертой; я только что провел три дня в тюрьме, желая запора милому, но безответственному ребенку моего безответственного братца.
Не было причин волноваться. Кто-то из моих сообразительных родственников – моя сестра Майя, вероятно, единственная кто могла все уладить – столь галантно вернула эти фишки. Чтоб отпраздновать, я поднял половицу, под которой я прятал от посетителей пол-кувшина вина, уселся на балкончике, закинув ноги на парапет и обратил все свое внимание на укрепляющий силы напиток.
Как только я устроился столь удобно, тут же явился посетитель.
Я слышал, как он входил, глотая воздух после долгого подъема. Я затаился, но он все же нашел меня. Он высунулся из-за створки двери и спросил меня оживленно:
– Ты
[160] Фалько?
– Не исключено.
У него были руки, тонкие как жерди для плетей гороха. Треугольное лицо сужалось к подбородку до точки. Узкие черные усы от уха до уха. Усы вы замечали сразу. Они словно делили на две половинки его лицо, выглядевшее слишком старым для его подросткового тела, словно бы он был беженцем из провинции, где двадцать лет страдал от голода и племенных войн. Истинная причина была не столь драматична. Просто он был рабом.
– Кто ты такой? – спросил я. К этому времени я уже достаточно согрелся на солнце и расслабился.
– Слуга из дома Гортензия Нова.
У него был легкий иноземный акцент, но он проделал долгий путь от невольничьего рынка, что является общей судьбой для всех военнопленных. Я предположил, что латинский язык он освоил еще в детстве, и теперь, вероятно, с трудом вспомнит свою родную речь. У него были синие глаза и, по-моему, был похож на кельта.
– У тебя есть имя?
– Гиацинт!
Он произнес это не опуская взгляда, словно посмел смеяться надо мной. Он был рабом, и у него было достаточно проблем, кроме как получать оскорбления от каждого встречного только потому, что какой-то надсмотрщик, мучившийся тяжким похмельем, дал ему греческое имя цветка.
– Рад знакомству, Гиацинт.
Я предупредил резкий ответ, который он держал наготове.
– Я никогда не слышал о твоем хозяине, Гортензии. Какая у него проблема?
– Если спросить его самого, он ответит, что никакой.
Люди часто говорят загадками, когда нанимают информатора. Очень немногие из клиентов оказываются способными спросить прямо: "Во сколько мне обойдутся доказательства, что моя жена спит с моим кучером?"
– Тогда почему же он послал тебя? – терпеливо спросил я слугу.
– Меня послала его родня, – поправил меня Гиацинт. – Гортензий Нов не знает, что я здесь.
Это убедило меня, что дело касается денариев
[161], и я взмахом руки пригласил Гиацинта на свою скамью; намек на деньги стоит того, чтоб посекретничать, и всегда заставляет меня навострить уши.
– Спасибо, Фалько; ты правильный парень!
Гиацинт воспринял мое предложение разделить скамью как предложение разделить и кувшин с вином; к моему негодованию он скрылся за дверью и нашел кубок для себя. Устроившись как дома под моей розой, он спросил:
– Это твоя идея устроить такое милое местечко для бесед с клиентами?
– Моих клиентов легко впечатлить.
– Тут воняет! Или это только одно из прибежищ, что у тебя есть в окрестностях Рима?
– Вроде того.
– Это единственный адрес, который у нас был.
Это единственный адрес, который я имел. Он попробовал вино и булькнул.
– Парнас!
– Подарок от благодарного клиента.
Не достаточно благодарного.
Я налил себе добавки, под этим предлогом я убрал кувшин подальше от него. Он искоса посмотрел на меня. Моя непринужденность заставила его начать сомневаться.
– Здесь есть все, что мне нужно, – сказал я, подразумевая, что, чтобы жить в такой нищете я должен быть круче чем выгляжу. – Те люди, кого я хочу видеть, знают, где меня искать – а от тех, кого не хочу, я могу избавиться при помощи лестницы… Все в порядке, Гиацинт, я не рекламирую свои услуги, но здесь то, что я могу предложить: я собираю информацию, главным образом о семейных делах…
– Разводы? – перевел он, с усмешкой.
– Верно! А также добывание сведений о намечающихся зятьях по поручению щепетильных отцов, или консультация наследников насчет, не включает ли еще не принятое наследство скрытые долги. Я занимаюсь беготней для юристов, если им требуются дополнительные доказательства – с явкой в суд, если потребуется. У меня есть контакты среди аукционистов, и я занимаюсь возвращением похищенных предметов искусства. Я не занимаюсь поиском дезертиров из армии или взысканием долгов. И не устраиваю гладиаторские бои.
– Брезгуешь?
– Здравый смысл.
– Мы просто хотим навести справки.
– Чем я обычно и занимаюсь! Все мои дела совершенно законны.
– Сколько ты берешь, Фалько?
– Зависит от сложности дела. Гонорар за результат, плюс подневная оплата. И я не даю никаких гарантий, кроме обещания сделать все, что в моих силах.
– Ты работаешь на Дворец? – внезапно спросил Гиацинт.
– На Дворец я сейчас не работаю.
Это походило на государственную тайну: производит приятный эффект.
– И потому ты здесь?
– Моя семья обратилась к одному из служителей Дворца, чтоб получить рекомендацию о тебе.
– Их промах! Если меня нанимают, я хорошо выполняю свою работу, и при этом не привлекаю лишнего внимания. Итак, Гиацинт, мы договорились?
– Я должен пригласить тебя домой. Там тебе расскажут о деле.
Я все равно намеревался туда сходить. Я предпочитаю видеть людей, которые мне платят.
– И куда идти?
– Район Широкой улицы
[162], на Пинции
[163].
Я присвистнул.
– Приятно слышать! Гортензий и родня к какому сословию относятся?
– Вольноотпущенники.
Бывшие рабы! Это было для меня что-то новое. Но все же смена впечатлений после мстительных чиновников и лицемерных сенаторов.
– Ты имеешь что-то против? – спросил с любопытством Гиацинт.
– Отчего, если у них полновесные монеты?
– И правда… никаких причин, – сказал раб.
Он допил бокал и стал ждать, когда я налью еще, но у меня не было такого намерения.
– Мы живем недалеко от Фламиниевой дороги
[164], Фалько, любой в том районе укажет наш дом.
– Если Гортензий ничего не знает об этом деле, когда мне прийти?
– Днем. Он коммерсант и уходит обычно из дома после завтрака.
– Чем он занимается?
Мой вопрос был обычным, но Гиацинт пожал плечами и проигнорировал его, что было странно.
– Так, а кого мне спросить?
– Сабину Поллию, или если ее не будет, Гортензию Атилию, но Поллия взяла на себя инициативу в этом деле.
– Жена?
Он хитро усмехнулся.
– Нов не состоит в браке.
– Ничего не говори больше! Значит женщины из его семьи хотят, чтоб я вспугнул охотницу за золотом?
Гиацинт посмотрел на меня, пораженный моей догадливостью.
– Когда холостяк имеет полный дом грозных женщин – и не говорите мне, что у Гортензия Нова это не так, – буркнул я, – потому что ты здесь, без его ведома – почему он считает, что решение его проблем лежит в браке с другой женщиной?
– Только скажи мне, что ты не занимаешься охотницами за золотом? – ответил приказчик.
– Все время занимаюсь! – заверил я его мрачно. – Охотницы за чужим золотом – замечательные женщины, основа моего бизнеса.
Уходя он сказал:
– Если когда-нибудь решишь снять квартиру поприличнее…
– Я подумываю.
– Спроси Косса, – предложил Гиацинт услужливо, – он агент на Длинной улице
[165] – спит на ходу, но надежен. У него полно хороших предложений для деловых людей. Упомяни мое имя, и он, будь уверен, позаботится о тебе…
– Спасибо. Возможно, я так и поступлю.
Я догадался, что Гиацинт рассчитывал на чаевые за свой совет. У меня в подкладку туники зашит золотой квинарий
[166], но не было никакой возможности расстаться с ним, дабы угодить рабу. Все что я смог найти, была стершаяся медная монетка, такую бы ни один уважающий себя прислужник в общественной уборной не взял в качестве входной платы.
– Благодарю тебя, Фалько. От нее мой выкупной фонд чуть не лопается!
– Извини. Я еще не заходил к своему банкиру!
Я постарался выдать свое нахождение в Латимийской тюрьме за секретную миссию в Нижней Парфии, чтоб он мог вернуться домой с благоприятным отчетом для моих возможных клиентов.
V
Вольноотпущенник Гортензий Нов жил в северной части города, на благоухающих склонах холма Пинций. Его дом стоял окруженный совершенно гладкой стеной, достаточной высоты, чтоб никто не мог заглянуть через нее. Дом не граничил ни с кем из богатых соседей. Ни у кого тут не граничил. Это был район, где участки богатых вилл были гораздо обширнее, чем общественные сады, которым позволялось заполнять промежутки между ними. Если я упомяну Сад Лукулла
[167], который императрица Мессалина
[168] ценила так высоко, что приказала казнить владельца, когда тот отказался продать его, это даст верное представление об уровне частных имений на холме Пинций.
Я назвал свое имя в сторожке Гортензиевой усадьбы, затем поднялся вверх по склону по засыпанной гравием подъездной дорожке. Вокруг были красивые пейзажи, было чем полюбоваться. По счастью, перед этим я задержался у прилавка торговца сладостями и задал несколько вопросов, так что я был подготовлен к размеру богатства вольноотпущенника. Его деревья, подрезанные в форме крылатых грифонов, его бледные статуи богинь с широкими бровями, его изящные шпалеры, увитые розами и виноградом, его алебастровые урны с розовыми прожилками, его голубятни, его рыбные пруды, его мраморные скамьи в уединенных беседках с видами на аккуратно подстриженные газоны, все радовало глаз.
Меня пропустили мимо бронзовых сфинксов, охранявших лестницу белого мрамора перед входом в парадную прихожую с высокими черными колоннами. Там я потоптался осторожно своими сандалиями по бело-серой геометрической мозаике, пока не появился усталый слуга. Он выслушал мое имя и провел сквозь редкие папоротники и фонтаны в элегантный внутренний дворик, где один из трех вольноотпущенников Гортензиев установил самому себе статую, в своей лучшей тоге, важно глядящую и держащую свиток. Это как раз то, решил я, что необходимо будет в будущем жилище Фалько: я из каррарского мрамора, шикарный щеголь с большим количеством денег, который доволен своим мирком. Я сделал зарубку заказать такое – когда нибудь.
Я остался в приемной, один. Пока я шел через дом, я видел остатки догоревших свечей и факелов. Слабый аромат увядших гирлянд висел в коридорах, и время от времени, когда дверь приоткрывалась, до меня доносился звук убираемых после минувшей ночи блюд и подносов. Пришла весть от Сабины Поллии, она
просила обождать. Я сообразил, что дама еще не вставала и не одета. Я решил отказаться от заказа в случае, если она окажется богатой, любящей закатывать пирушки шлюхой.
Через полчаса мне стало скучно и я вышел в коридор осмотреться. Повсюду висели ярко окрашенные занавеси, немного помятые; изящная мебель была расставлена случайным образом. Декор также являл собой странную смесь: белые отштукатуренные строгие потолки, а под ними настенная живопись с откровенными эротическими сценами. Это было так, словно хозяева дома скупали все, что им предлагал любой торговец, который заглядывал в дом, без всякой связи с общим проектом дома, не говоря уж о вкусе. Единственное что у этих произведений было общим – они стоили тысячи.
Я развлекался, пытаясь прикинуть аукционную цену Фидиевой
[169] "Венеры, поправляющей сандалию" (которая имела все признаки, чтоб быть подлинником, в отличии от почти всех остальных работ Фидия, на которые вы натыкаетесь в Риме), когда позади меня распахнулась дверь и раздался женский возглас: "Вот ты где!"
Я повернулся с виноватым видом. Когда я увидел, как она выглядит, то не стал приносить официальных извинений.
Она была как персик. Она уже распрощалась со своим сорокалетием, но если она шла в театр, то привлекала к себе гораздо больше внимания, чем игра на сцене. Ее томные темно-коричневые глаза были обведены краской для век, даже оставаясь в первозданном виде, ее глаза могут нанести моральный вред любому человеку с нервной системой, столь же восприимчивой как моя. Глаза располагались на почти идеальном лице, а лицо принадлежало телу, которое заставило бы Фидиеву Венеру выглядеть торговкой яйцами вразнос, что проводит весь день на ногах. Она точно знала о эффекте, который производила; я стоял весь покрытый потом.
Так как я спрашивал Сабину Поллию, я предположил, что это она и есть. Из-за ее спины по направлению ко мне выдвинулись два крепких парня в ярко-синих туниках.
– Отзови своих псов! – приказал я. – У меня приглашение от хозяйки дома.
– Ты информатор?
Манера задавать прямые вопросы, давал возможность предположить, что она не леди.
Я кивнул. Она дала знак двум парням на флангах отступить. Они отошли в стороны как раз достаточно чтоб не мешать приватной беседе, но оставаясь достаточно близко, чтоб как следует намылить мне шею, если я вздумаю причинить обиду хозяйке. У меня не было никакого намерения так поступать, если кто-то не обидит меня первым.
– Если бы меня спросили, – сказал я откровенно, – леди не должны нуждаться в телохранителях в собственном доме.
Я старался не выражать своим лицом никаких эмоций, в то время пока дама пыталась сообразить, не обвинил ли я ее в том, что она публичная девка.
– Дидий Фалько. Сабина Поллия, я полагаю?
Я протянул ей руку для рукопожатия, обдуманный и совершенно не по правилам принятого этикета жест. Она не выглядела довольной, но приняла ее. У нее были маленькие руки с пальцами, украшенными множеством колец с драгоценными камнями; короткие пальцы с бледными овальными ногтями, как у девочки. Сабина Поллия решилась и отослала обоих парней в туниках цвета адриатического моря. Что леди должна была послать за дуэньей, она, очевидно, забыла. Она опустилась на кушетку, довольно неизящно; грациозная Венера снова получила преимущество.
– Расскажи мне о себе, Фалько!
Риск – моя профессия: она собралась развлечь себя, допрашивая меня.
– Ты частный информатор. Как давно занимаешься этим?
– Пять лет. С тех пор как покинул легион из-за ранения.
– Ничего серьезного?
Я ответил сухой, вялой улыбкой.
– Ничего, что помешало бы мне делать то, что я хочу!
Мы долго смотрели друг другу в глаза. С такой красоткой трудно было обговаривать условия моего найма.
Она была из тех кошечек с классическими формами: с прямым носом чуть ниже центра хорошо сбалансированного лица, чистой кожей и чрезвычайно ровными зубами – великолепным профилем, хотя лицу чуть-чуть не хватало эмоций, так как владельцы красивых лиц никогда не должны проявлять эмоций, чтоб получить то, что они хотят; кроме того так можно испортить краску на лице, которая им никогда не нужна, но которой они всегда пользуются. Она была хрупкой, и умело играла на этом – толстые браслеты со змеиными головами подчеркивали тонкость ее рук, и маленькие, по девичьи надутые губки. Все было продумано, чтоб заставить мужчину таять. Ни один не сможет уклониться, когда женщина приложит усилие, я покорно растаял.
– Я слышала, ты работаешь на Дворец, Фалько, хотя мой слуга сказал, что ты не хочешь об этом говорить…
– Правильно.
– Быть частным информатором должно быть увлекательно?
Она, очевидно, надеялась услышать скандальные откровения о бывших клиентах.
– Иногда, – ответил я нелюбезно. Большинство моих прежних клиентов были людьми, о которых я предпочел забыть.
– У тебя был брат, герой войны, как я слышала.
– Дидий Фест. Он заработал корону с зубцами
[170] в Иудее.
Мой брат Фест нашел бы это забавным, что я пользуюсь его заслугами.
– Ты знала его?
– Нет, а должна была?
– А многие женщины знали.
Я улыбнулся.
– Сабина Поллия, как я понимаю, есть что-то в чем я могу помочь тебе?
Эти куклоподобные существа могут оставить такую же рану, как стрела из метательной машины.
– И, в чем ты хорош, Фалько?
Я решил, что пришло время восстановить контроль над ситуацией.
– Госпожа, в чем я хорош – это в своей профессии. Мы можем вернуться к делу?
– Давно пора! – заявила Поллия обиженным тоном.
Почему я всегда оказываюсь виноват?
– Если я правильно понял Гиацинта, это семейная проблема? – спросил я несколько сурово.
– Не совсем! – Поллия засмеялась. Она снова надула губки, но это меня не обмануло: леди испытывала трудности. – Ты нужен нам, чтоб не пустить проблему в семью!
– Тогда давайте сперва опишем эту "семью". Здесь живет Гортензий Нов; кто еще?
– Мы все живем здесь. Я супруга Гортензия Феликса; Гортензия Атилия супруга Гортензия Крепито…
Браки между рабами: обычная ситуация.
– Нов, среди этого братского триумвирата, все еще счастливый холостяк?
– Пока еще, – ответила она с напряженностью в голосе. – Но они не братья, Фалько! С чего ты это взял?
Я был немного озадачен.
– Одинаковые имена; ты назвала вас всех семьей…
– Мы не состоим в родстве. Но мы – одна семья. Имя нашего патрона
[171] Гортензий Павл.
В добавок к обычной неразберихе, когда каждый римлянин в знак почтения получает имя своего отца, такое же как его братья и собственные сыновья, здесь я имел целую банду бывших рабов, которые после освобождения носили фамилию своего бывшего хозяина. Женщины тоже.
– Гортензия Атилия – вольноотпущенница из того же самого дома?
– Да.
– Но не ты?
– Ах, нет, из того же.
– Твое имя другое…
Сабина Поллия подняла гордые полумесяцы бровей, забавляясь за мой счет.
– Я запутался! – признался я ничуть не смущаясь.
– Я состояла при хозяйке дома, – заявила она. Слова "принадлежала" и "была освобождена" не были произнесены. – Я взяла ее имя… Фалько, это имеет отношение к делу?
– Возможно, будет полезным.
Главным образом это поможет мне избежать случайного оскорбления; я не хотел бы случайно обидеть клиентов, которые мне платят, иначе я рискую, что мне заплатят меньше.
– Итак: вас пятеро, и вы получили свободу за хорошую службу… (По желанию Павла, без сомнения.) Вы живете с тех пор вместе; переженились между собой; работаете вместе, до сих пор.
Так как минимальный возраст для освобождения раба составляет тридцать лет, проницательный взгляд на Поллию позволял полагать, что она уже минимум десять лет как свободная. Возможно, и больше, подумал я бестактно по отношению к возрасту женщины.
– У вас установившееся хозяйство; вы явно процветаете. Об остальном несложно догадаться: сюда может прийти посторонний – возможно шлюха, но мы перейдем к ней через минуту – и схватить ваш незанятый конец. Вы хотите, чтоб я отшил ее?
– А ты догадлив, Фалько.
– Я люблю быть сытым… Как далеко зашло дело?
– Гортензий Нов формально обручен.
– Неосторожный человек! Прежде чем я соглашусь взяться за это дело, – я глубоко задумался, – скажи мне, почему я должен думать, что ты и Атилия просто не раздражены от того, что эта умная ловкачка может порушить ваш привычный распорядок в доме?
Поллия, кажется, признала этот вопрос справедливым.
– Естественно, нас заботит счастье нашего старого друга.
– Естественно! – воскликнул я, – Как я понимаю, вопрос заключается в деньгах?
– Если Гортензий Нов приведет в дом невесту, у которой будут добрые намерения, мы только поприветствуем ее.
Я посчитал чудом, что две женщины смогли разделить одно хозяйство, не говоря уж о трех. Я так и сказал. Она объяснила, как они достигли гармоничного сосуществования:
– Феликс и я живем в этом крыле; Крепито и Атилия в противоположном. Мы встречаемся для дел и развлечений в официальных помещениях в центре дома…
– А куда запихнули Нова?
– У него роскошные апартаменты на втором этаже, они его вполне устраивают, Фалько.
– Мы, холостяки, имеем умеренные запросы. Но если он женится, вы сможете разместить третью супружескую пару? – спросил я, задаваясь вопросом: было ли все с чем я должен был разобраться, обычной жилищной проблемой, которая так затрудняет семейную жизнь в Риме.
– Достаточно просто, – Сабина Поллия пожала плечами. – Наш архитектор пристроит новое крыло.
– Тогда мы подошли к главному вопросу: если Нов и его жена не создадут проблем внутри семьи, в чем тогда состоят твои и Атилии претензии к его подруге?
– Мы полагаем, она намерена его убить, – сказала Сабина Поллия.
VI
Информаторы — люди простые. Есть труп – мы отвечаем, что надо искать убийцу, но мы предпочитаем сперва иметь труп; это выглядит логичнее.
– Госпожа, в приличном римском обществе, говорить об убийстве до того, как оно произошло, считается невежливым.
– Ты думаешь, я выдумываю! – Поллия закатила свои прекрасные глаза.
– Это звучит настолько смешно, что я принимаю тебя всерьез! Когда люди выдумывают, они обычно сочиняют историю, чтоб выглядела правдоподобной.
– Я говорю правду, Фалько.
– Убедите меня.
– Эта женщина уже была замужем - три раза!
– Ах, мы живем во времена упадка нравов. Сейчас нужно минимум пять раз сыграть свадьбу, чтоб это считалось предосудительным…
– Ни один их ее мужей долго не прожил… – настаивала Поллия; я продолжал скалить зубы. – И каждый раз она шла с похорон всё богаче!
Я убрал усмешку с лица.
– А! Деньги придают этой истории налет истинности… Кстати, как ее зовут?
Поллия пожала плечами (небрежно продемонстрировав свои белые плечи между складками заколотых рукавов).
– Она называет себя Северина. Я забыла ее второе имя.
Я сделал пометку в своей записной книжечке стилом, которое держал наготове: "Личное имя — Северина; Фамилия - неизвестно…"
– Она привлекательна?
– Юнона, откуда мне знать? Она должна что-то иметь, чтоб склонить к браку четырех различных мужчин – состоятельных мужчин.
Я сделал еще пометку, на этот раз мысленно: "яркая личность" (это может создать трудности), и, "возможно, умна" (еще хуже!).
– Она делает тайну из своего прошлого?
– Нет.
– Выставляет его напоказ?
– Тоже нет. Она только дает понять, что все три случая с недолго прожившими мужьями, были самыми банальными.
– Умна.
– Фалько, я уже сказала тебе, что она опасна!
Вещи начали выглядеть интригующими (я был мужчиной; я был нормальным: опасные женщины всегда меня очаровывали).
– Поллия, давай решим, что ты хочешь от меня: я могу расследовать прошлое Северины, надеясь пригвоздить ее за какую-нибудь промашку…
– Ты не найдешь доказательств. После смерти ее третьего мужа делом занимался претор, – пожаловалась Поллия, – ничего из этого не вышло.
– Преторы тоже могут не заметить важных вещей. Это может быть нам на руку. Даже охотники за золотом всего лишь люди; и они делают ошибки. После трех удачных случаев люди начинают считать себя полубогами; именно тогда, подобные мне люди, и могут заманить их в ловушку. Скажи, Гортензий Нов знает ее историю?
– Мы уговорили его спросить ее. У нее был готов ответ на любой вопрос.
– Профессиональная невеста должна быть подготовлена. Я попытаюсь спугнуть ее тем или иным способом. Иногда, оказывается достаточным просто показать, что за ней следят, и они удирают, чтоб начать охотиться на более легкую добычу. Вы думали предложить ей деньги?
– Если это поможет. У нас много денег.
Я улыбнулся, подумав о счете, который выставлю. Я знал богачей, что делали из своего состояния тайну, и я знал людей, которые владели своим состоянием, и относились к этому с легкостью. Вульгарное хвастовство Сабины Поллии заставило меня понять, что я встретился с новым наглым миром.
– Я узнаю ее цену, а потом…
– Если она у нее есть!
– Она обязательно есть! И непременно будет меньше, чем Гортензий Нов воображает. Понимаешь, знание того, в какую малую сумму тебя оценивают, часто помогает увлеченным влюбленным взглянуть на предмет своей страсти иными глазами.
– А ты, Фалько, циник!
– Я часто работал на мужчин, которые думали, что они влюблены.
Она лукаво посмотрела меня через полузакрытые веки. Мы снова свернули на скользкий путь.
– Фалько, ты не любишь женщин?
– Я люблю их!
– Кого-то особо?
– Я сам особенный, – огрызнулся я грубо.
– У нас другие сведения.
Их сведения устарели.
– Я спрашиваю, – Поллия постаралась оправдаться с видом нахальной невинности, – потому, что мне надо знать, не будут ли тебе опасны чары Северины…
– Северина оставит любые поползновения на мой счет, как только узнает, что в моем денежном ящике лежат лишь свидетельство о моем рождении, увольнительная с военной службы и несколько дохлых мотыльков моли.
Я повернул разговор обратно к делам, получил еще немного полезных сведений, в которых я нуждался (адрес, имя претора, и, что самое важное, договоренность о моем гонораре), и попросил разрешения удалиться.
Когда я спускался по широким мраморным ступеням лестницы, скорчив гримасу, от того, что они были скользкие (как и хозяева дома), я заметил, что прибыл паланкин.
При нем было шесть одетых в синие туники огромных, широкоплечих, черных и лоснящихся нумидийцев, которые могли бы пройти весь Форум от Государственного Архива до Дома Весталок, ни разу не сбившись с шага несмотря на толпу. Паланкин был резной, блестящий, инкрустированный черепахой, с малиновыми шторами, лакированными горгонами на дверцах и серебряными украшениями на концах шестов. Я сделал вид, что подвернул лодыжку, и под этим предлогом задержался, чтоб посмотреть, кто из него выберется.
Я не жалел, что задержался.
Я решил, что это Атилия.
Она закрывала нижнюю половину лица вуалью, чтоб выглядеть привлекательнее, над вышитым краем вуали светились темные, влажные глаза, выдававшие восточное происхождение. Она и Поллия имели доступ к большим деньгам, и, очевидно было, тратили на себя столько, сколько хотели. Она звенела дорогими украшениями филигранной работы. На ней было столько золота, что для одной женщины было просто незаконно. Ее платье цвета аметиста переливалось такими оттенками, словно краску делали из перемолотых драгоценных камней. Когда она ступила на лестницу, я приветствовал ее самым любезным жестом и отступил в сторону.
Она сняла вуаль. "Доброе утро!" Это было самое большее, что я смог выдавить; у меня перехватило дыхание.
Она была столь же холодна, как белая шапка на вершине горы Ида
[172]. Если Сабина Поллия была персиком, новое видение было плодом богатой и темной тайны из некой экзотической провинции, где я еще не бывал.
– Ты, должно быть, информатор.
Выражение ее лица было серьезным, и крайне умным. Я не тешил себя никакими иллюзиями; в старом доме Гортензия она была, вероятно, судомойкой – но все равно, она имела взгляд настоящей восточной принцессы. Если Клеопатра могла кинуть подобный взгляд, это объясняло, почему почтенные римские полководцы отбрасывали прочь свою добрую репутацию на грязные отмели Нила.
– Я Дидий Фалько… Гортензия Атилия?
Она утвердительно кивнула.
– Я рад засвидетельствовать свое почтение…
Ее изысканное лицо помрачнело. Серьезное выражение подходило ей; ее лицу шло любое выражение.
– Прости, что не присутствовала на разговоре, я отвозила своего маленького сына в школу…
Заботливая мать: замечательно!
– …Ты думаешь, что сможешь помочь нам, Фалько?
– Пока еще рано о чем-то говорить. Но я надеюсь помочь.
– Благодарю тебя, – выдохнула она, – не смею отнимать твое время теперь…
Гортензия Атилия подала мне руку так церемонно, что заставила меня почувствовать себя неловко.
– …Зайди навестить меня, и рассказать, как продвигаются твои расспросы.
Я улыбнулся. Женщины, подобная ей, ждет от мужчины улыбки; я думаю в большинстве случаев мужчина постарается не разочаровывать такую женщину. Она тоже улыбнулась, потому что знала, раньше или позже, но я найду предлог нанести визит. Ради таких женщин мужчины всегда готовы пойти на это.
На полпути с холма я остановился, чтоб полюбоваться Римом. При взгляде с Пинция, город лежал купаясь в золотом свете утра. Я ослабил пояс, туника в районе талии стала влажной от пота, успокоил свое дыхание и подвел итоги. Поллия и Атилия оставили меня с чувством, что я несказанно рад от того, что мне так повезло покинуть их дом живым.
Предзнаменования были любопытны: два очаровательных клиента, вульгарный образ жизни которых гарантировал, что я славно развлекусь, охотница за приданым, чье прошлое было столь живописным, что давало реальный шанс выставить ее из игры там, где официальный чиновник потерпел неудачу (я люблю доказывать, что преторы тоже ошибаются); плюс большой гонорар – и, если повезет, за совсем ничтожную работу…
Идеальный случай.
VII
Прежде чем я занялся охотницей за золотом, я решил навести справки насчет хозяйства Гортензия. Люди рассказывают о себе гораздо больше, чем им кажется, тем, где они живут и вопросами, что они задают, а соседи могут быть еще откровеннее. Теперь я имел общее впечатление, и был готов посетить еще раз кондитерскую лавку, где получил первоначальные сведения.
Когда я добрался туда, курица, что любила светскую жизнь, клевала крошки. Лавка размещалась против каменной сосны. У нее был откидной прилавок под матерчатым навесом спереди, и маленький очаг, спрятанный сзади. Места было столь мало, что владелец проводил большую часть времени сидя на скамье через дорогу в тени сосны, и играя сам с собой в латрункули
[173]. Если подходил потенциальный покупатель, он давал ему достаточно времени, чтоб тот захотел что-нибудь из товара, а потом медленно переходил дорогу.
Землевладельцы Пинция не допускали соседство магазинов; но им нравились роскошные вещи в них. Я могу понять, почему они позволили этому парковому пекарю обосноваться на своем холме. Недостаток в архитектуре его киоска компенсировался пышностью лакомств.
Центральное место занимало огромное блюдо, где целые плоды инжира были погружены в липкий пласт меда. Вокруг этого блюда соблазнительные деликатесы были разложены так, что образовывали прихотливые завитки и спирали, с пропусками то там, то здесь (таким образом покупатель не чувствовал, что он нарушит целостную композицию). Тут были финики, фаршированные цельными ядрами миндаля теплого оттенка слоновой кости, а другие были заполнены интригующими начинками пастельных оттенков; хрустящие печенья, согнутые полумесяцем или прямоугольником, которые были прослоены тягуче сочащимися фруктами и посыпаны растертой в пыль корицей; свежий чернослив, айва и очищенные груши в сахарной глазури для придания им блеска; бледный заварной крем, посыпанный мускатным орехом, некоторые пластами, другие надрезанные, чтоб показать, что их запекали на слое бузины или шиповника. На полке с одной стороны прилавка располагались горшки с мёдом, маркированные от Гимета
[174] до Гиблы
[175], или целые соты, если вы хотели бы сделать более театральный подарок на вечеринке. Напротив, темные пластины африканского торта, пропитанного молодым вином прохлаждались рядом с другими кондитерскими изделиями, которые владелец палатки выпекал тут же сам из пшеничной муки пропитанной молоком, нанизав на вертел, и пропитывал медом, перед тем, как добавить декоративно нарезанные ядра лесного ореха.
Я изошел слюной над его фирменным блюдом: глазированными голубями из печеного теста, начиненными изюмом и орехами, прежде чем владелец лавки перебрался на мою сторону дороги.
– Вернулся! Нашел дом, что искал?
– Да, спасибо. Знаешь семейство из дома Гортензия?
– Еще бы!
Кондитер был сухощавым мужчиной с осторожными манерами человека, торговля которого завязана на тонком искусстве. На верхушке палатки, вместо обычной надписи "СЛАДОСТИ", было указано имя владельца — "МИННИЙ".
Я рискнул и задал прямой вопрос:
– Что они за люди?
– Ничего плохого не могу сказать.
– Давно их знаешь?
– Больше двадцати лет! Когда я впервые встретил этот выводок расфуфыренных петушков-задир, они были всего лишь посудомойкой, погонщиком мулов и мальчиком, который подрезал фитили домашних светильников!
– Они с тех пор поднялись! Я получил работу от женщин. Знаешь Сабину Поллию?
Минний рассмеялся:
– Я помню, что раньше она причесывала хозяйку и звалась Ирис!
– О! А Атилию?
– Образованная! Я имею в виду, что если она скажет, мол служила секретарем, это не означает, что она была чем-то вроде греческого книжника. Атилия просто царапала списки белья для прачечной!..
Он усмехнулся собственной остроте.
– …В те времена я торговал вразнос фисташками в Эмпории. Теперь я все еще продавец сладостей – в палатке, что принадлежит одному из этих Гортензиев – мальчишке, следившему за светильниками в доме. Во всяком случае, для меня это шаг вниз: клиенты грубее, я плачу этому ублюдку слишком высокую арендную плату, и я скучаю, сидя на одном месте…
Он разрезал дурманящий торт, сочащийся медом, и дал мне попробовать. Многие люди, едва кинут взгляд на мое дружелюбное лицо, и уже испытывают неприязнь. По счастью другая половина человечества ценит открытую улыбку.
– Спроси меня, как им это удалось!..
Я бы так и поступил, но мой рот был заполнен восхитительными крошками.
– …Еще тогда, когда они принадлежали Павлу, все они были предприимчивыми людьми. У каждого из них под кроватью хранился полный горшок медных монет, которые им удавалось заработать самостоятельно. Они ловко находили для себя всякие мелкие поручения, за которые получали свои чаевые. Если твоя Поллия…
– Ирис! – я сладко улыбнулся.
– …Если Ирис дарили шпильку, или обрезок бахромы, она сразу превращала их в денарии.
– Старый Павл одобрял это?
– Не знаю, но он позволял им это. Он был довольно приятным человеком. Хороший хозяин позволяет своим рабам накопить деньги, если те сумеют.
– Они купили свою свободу?
– Павл избавил их от этого огорчения.
– Помер?
Минний кивнул головой.
– По профессии он был полировщиком мрамора. Для них всегда полно работы, хотя он никогда не старался ухватить все заказы, с которыми к нему обращались; он довольно щедро одарил своих людей, когда преставился.
Павл мог отпустить на волю по завещанию значительную долю своих слуг; мои клиенты выглядели как преуспевающие рабы, уверенно числившие себя среди любимчиков, которым он даровал привилегию стать свободными.
– Они быстро приумножили свои сбережения, - задумчиво сказал Минний. – Есть ведь какие-то особые махинации с грузовыми судами?
Я кивнул.
– Поощрительные выплаты за постройку зерновозов…
По стечению обстоятельств я как раз недавно занимался изучением ввоза хлеба и хорошо разбирался во всех связанных с этим делом плутнях.
– …Еще император Клавдий
[176] издал тот закон, чтоб поощрить плавание в зимний период. Он предложил премию в зависимости от грузоподъемности судна тем, кто будет строить новые корабли. И страховку за любое судно, что затонет. Закон никто не отменял. Любой, кто об этом знает, может извлечь выгоду.
– У Поллии был корабль, который утонул, – сказал мне Минний довольно мрачно, – ей удалось слишком быстро раздобыть новый…
Он, очевидно, предполагал, что это был тот же самый корабль, только с новым названием – интригующий намек на мошенничество банды Гортензиев.
– Она оснащала судно сама? – спросил я. В соответствии с замыслом Клавдия, женщина которая сделает такое, приобретает такие же привилегии как мать четырех детей: моя ма говорила, что их суть – право рвать на себе волосы публично и постоянно подвергаться оскорблениям.
– Кто знает? Но она скоро стала носить рубины в ушах и сандалии с серебряными подошвами.
– Чем мужчины Гортензии заработали свое состояние? Чем занимаются сейчас?
– И тем и этим. Практически всем, что может прийти на ум…
Я почувствовал, что моим собеседником овладевает робость: значит пришло время отступить. Я купил двух выпеченных из теста голубей для Елены, и, вдобавок, несколько ломтиков торта для моей сестры Майи – в награду за ее заботу о проглоченных фишках.
Цена была ровно настолько непомерной, как я и ожидал на холме Пинций. Но я получил небольшую опрятную корзинку, устланную виноградными листьями, чтоб донести сладости до дома, не трогая их грязными руками. Это отличалось от тех исписанных чернилами обрывков, что выдраны из философских трудов, в которые заворачивают заварной крем на Авентине, где я живу.
С другой стороны, на виноградных листьях нечего читать, когда вылижешь их дочиста.
VIII
Затем я рискнул поднять себе кровяное давление посещением претора.
Во времена республики двух судей избирали ежегодно (предварительно отобрав из числа сенаторов, так что это были не совсем свободные выборы), но в мое время число судебных дел возросло настолько, что их требовалось уже целых восемнадцать, двое из которых занимались исключительно случаями мошенничества. Того, который занимался охотниками за золотом, звали Корвин. Надписи на стенах Форума познакомили меня с самыми смешными высказываниями на последних судебных слушаниях, поэтому я знал, что Корвин был напыщенным индюком. Все преторы такие. На лестнице государственных должностей претор это последняя ступень перед чином консула, и если человек хочет продемонстрировать всем пренебрежение к современной морали, то должность претора дает ему в этом полную свободу. Корвин занял пост до недавно начавшейся кампании текущего императора по очистке судов, и я считал, что должность претора будет последним достижением Корвина, пока Веспасиан у власти.
К несчастью для моих клиентов, прежде чем Корвин удалился в свою виллу в Лации
[177], он успел вынести решение, что бедная Северина потеряла трех богатеньких мужей за короткий срок просто по несчастливому стечению обстоятельств. Вот так. Теперь вам понятно, почему я так невысоко ценю преторианский суд.
Я с ним никогда не встречался, да и не собирался встречаться, но после того как спустился с Пинция, прямиком направился к его особняку на Эсквилине
[178].
Обветшалые трофеи висели над дверью, посвященные какой-то древней военной стычке, на которой предка наградили за то, что тот не успел сбежать с поля боя до конца свалки. В прихожей стояли две статуи суровых республиканских ораторов, полный безразличия бронзовый Август и огромная цепь для сторожевого пса (без собаки на ней): обычные потертые атрибуты семьи, которая никогда не была столь значительна, как ей хотелось бы выглядеть, а теперь постепенно погружающаяся в полное забвение.
Я надеялся, что Корвин отбыл в Кумы
[179] на лето, но он был из тех болванов, что даже собственный день рождения проведут на судебном заседании; они ворчат о массе дел – но надоедливые просьбы, с которыми их осаждают в августовскую жару только кормят их раздутое эго. Меня впустил скучающий привратник. В атриуме висели фасции
[180], и я слышал, как в соседней комнате ликторы
[181] его чести грызли свою полуденную закуску. В боковом проходе были расставлены скамьи, так что клиенты и истцы могли слоняться с несчастным видом, пока претор почивает после обеда. Солнечный свет бил наклонно через высокое квадратное окно, но когда глаза привыкли к режущей игре света и тени, я обнаружил знакомую толпу жалобщиков, что заполняют офисы известных людей. Все следят друг за другом, хотя притворяются, что это не так; все стараются избежать всезнайки с безумными глазами, который лезет с разговорами; все готовы провести много времени после полудня без всякой пользы.
Я постарался избежать напрасной траты времени, сидя в приемной и ловя рассказы о чужих несчастьях, поэтому я уверенно прошел мимо них. Некоторые из толпы привстали, но большая часть была готова позволить любому, кто выглядел достаточно уверенно, делать то, что ему вздумается. Я не чувствовал угрызений совести, что пролез без очереди. Они пришли на прием к претору, а самая последняя вещь которую я желал, это была встреча с неким официальным ничтожеством. У претора всегда есть секретарь. А так как истцы бывают очень обидчивы, когда имеешь с ними дело, секретари обычно настороже. Я пришел, чтоб поговорить с секретарем.
Я нашел его в тенистом внутреннем дворике. День был теплый, поэтому он вытащил свою складную табуретку из конторы на свежий воздух. У него был восхитительный загар, как если бы он был весь разрисован – вероятно результат усердной обрезки виноградных лоз в течение недели. Он носил большой перстень с печаткой, остроносые красные туфли и блестящую белую тунику, и выглядел столь же элегантно, как истопник в свой выходной.
Как я и ожидал, секретарь был не против после целого утра посвященного разборам дел о сенаторских сынках, что были пойманы за подглядыванием в женской бане, и выслушивания от какой-то старухи истории трех поколений ее предков, хотя она должна была объяснить, зачем стащила два утиных яйца, отодвинуть груду надоевших бумаг и развлечься беседой со мной. Я сразу представился, и он назвал мне свое имя — Лузий.
– Лузий, кое-кого из моих клиентов интересует одна профессиональная невеста. Ее имя Северина, не знаю фамилии…
– Зотика, – резко ответил Лузий. Видимо он решил, что мне просто нечем убить время.
– Ты ее помнишь! Слава богам за удачу…
– Я помню,.. – проворчал секретарь, становясь все более грубым, чтоб выразить свою досаду, – у нее было три мужа, из разных районов города, так что мне пришлось разбираться с тремя бестолковыми эдилами
[182], которые прислали мне совершенно неполные сведения спустя четыре недели, как я их запросил, да еще письмо из конторы цензора
[183], где все имена были перевраны. Я лично готовил обобщающую справку для Корвина.
– Обычное дело! - посочувствовал я. – Так что ты можешь мне сказать по этому случаю?
– А что ты хочешь услышать?
– Если кратко, это она сделала?
– О, да!
– Твой начальник решил иначе.
Лузий в двух словах описал своего шефа: обычное мнение о преторах из уст их секретарей. "Благородный Корвин, – сообщил Лузий по секрету, – сам не сможет определить, сел он задницей в кипяток или нет". Лузий показался мне интересным; он выглядел человеком того же теневого мира, где обитаю и я.
– И снова обычная история! Так я услышу рассказ?
– Почему бы и нет? – сказал он, вытягивая ноги вперед и складывая руки на груди, и говоря тем тоном, словно решил, мол раз он так усердно трудился, то теперь имеет право немного передохнуть и нарушить обычный распорядок.
– Собственно, почему бы и нет? Северина Зотика…
– Какая она из себя?
– Ничего особенного. Но женщины, которые причиняют больше всего хлопот, не стараются приукрасить себя ради посторонних.
Я кивнул.
– А еще она рыжая, – добавил он.
– Я должен был догадаться!
– Привезена подростком с большого рынка рабов на Делосе
[184], но она попала туда кружным путем. Родилась во Фракии – отсюда и цвет волос – затем разные владельцы: Кипр, Египет, затем, перед Делосом, Мавретания
[185], если не ошибаюсь.
– Откуда ты все это знаешь?
– Мне однажды довелось ее допросить. Еще то впечатление!.. – начал он, я заметил, что Лузий постарался не задерживаться на этом. У него было такое выражение лица, словно он намерен придержать исключительно для себя воспоминания о девушке, которую решил не забывать.
– …Как только она попала в Италию, ее купил торговец бисером; у него был магазин в Субуре, магазин все еще на месте. Его звали Север Моск. Он, кажется, был приличным старым ублюдком, который, в конце концов, женился на ней.
– Муж номер один. Прожил недолго?
– Нет, брак длился год или два.
– Жили мирно?
– Насколько я знаю – да.
– Что с ним случилось?
– Перегрелся на солнце, пока смотрел гладиаторов, вот и получил удар от которого умер. Я думаю, он сидел где не было тента, и его подвело сердце.
Лузий был, по видимому, человеком беспристрастным (или хотел таким быть, когда дело касалось рыжей девицы).
– Возможно он был слишком глуп или упрям, чтоб пересесть в тень.
Я тоже мог быть беспристрастным.
– Билет покупала Северина?
– Нет. Один из его рабов.
– Северина оплакивала его потерю?
– Нет… – Лузий задумался, – тут зависит от характера; она не из тех, кто проявляет чувства публично.
– У нее хорошее воспитание, так? Моск настолько ее любил, что оставил ей всё?
– Для старика рыжая девчонка – ей было шестнадцать, когда он женился на ней – не может не быть привлекательной.
– Отлично. Пока всё выглядит правдиво. Но получив внезапно наследство, у нее не появилось идеи, как преуспеть в жизни?
– Может быть. Я никак не мог выяснить, вышла ли она замуж за своего старика-хозяина от безысходности или из чувства благодарности. Она могла его любить, а могла только делать вид. Торгаш мог ее запугать, а могло быть и наоборот: она его заставила силой. С другой стороны, – сказал Лузий, не склоняясь ни к какому собственному мнению, как истинный чиновник, – когда Северина поняла, в каком удобном положении ее оставил Север Моск, она немедленно отправилась искать еще большие удобства.
– Моск был очень богат?
– Он импортировал агаты, полировал их и делал из них бусы. Хороший материал. Достаточно хороший для сенаторских сынков, чтоб дарить шлюхам.
– Процветающий рынок!
– Особенно, когда он стал заниматься и камеями. Знаешь – портреты членов императорской фамилии со всякими девизами: Мир, Удача и переполненный рог изобилия…
– То, чего всегда не хватает в доме! – усмехнулся я. – Портреты императора всегда популярны среди насекомых при дворе. Его изделия были модными, значит его бывшая рабыня унаследовала процветающий бизнес. А что дальше?
– Аптекарь. звали Эприй.
– Как он умер?
– Подавился собственной пилюлей от кашля.
– Сколько он продержался?
– Прилично, ему понадобился год, чтоб предстать с ней перед жрецом: она хорошо изображала нерешительность. Затем он прожил еще десять месяцев; возможно ей нужно было время, чтоб успокоить нервы.
– Аптекарь, вероятно, смог пожить подольше, так как Северине нужно было время, чтоб освоиться с лекарствами… Она была рядом, когда он задыхался? Пыталась вернуть его к жизни?
– Отчаянно!
Мы оба рассмеялись, определенно, у нас были схожие мысли об этом.
– Она была вознаграждена за преданность тремя аптеками и его семейной фермой.
– А затем?
– Гриттий Фронтон. Он ввозил диких животных для арены при Нероне
[186]. Она была тогда решительна. Должна была начать обихаживать Фронтона в то время, пока нотариус еще не разрезал ленточку на завещании Эприя. Управитель цирка прожил после свадьбы всего четыре недели…
– Его съел лев?
– Пантера, – поправил меня Лузий, даже не запнувшись. Он был столь же циничен как и я, мне он нравился. – Выбралась из открытой клетки под ареной Цирка Нерона, и напала на бедного Гриттия возле каких-то подъемных механизмов. Говорят, крови было… Тварь расправилась еще и с канатоходцем, вещь лишняя, но это добавило "несчастному случаю" правдоподобия. Гриттий делал большие деньги – его предприятие включало даже отделение, устраивавшее представления на сомнительных званых обедах. Знаешь, голые женщины, проделывающие всякие необычные штуки с питонами… Обслуживание оргий приносит доход как испанский золотой рудник. Северина ушла от погребального костра с полумиллионом больших золотых монет. О! И с попугаем, речи которого заставили бы покраснеть даже надсмотрщика на галерах.
– Были сделаны медицинские заключения по поводу хоть одного из случаев?
– Сердечный приступ старого торговца бусами выглядел слишком естественно, и не было никакого смысла вызывать врача, чтоб исследовать то немногое, что оставила пантера! - Лузий брезгливо передернулся. – Но некий шарлатан осматривал аптекаря…
Я поднял бровь, и он, даже никуда не глянув, дал мне его имя и адрес.
– …Однако он не нашел ничего такого, чтоб придраться.
– Так, а что сказал насчет Северины закон?
– У Гриттия был внучатый племянник в Египте, он занимался отправкой диких зверей; поставщик ожидал, что наследует добыче львов. Он быстро отплыл домой и попытался подать в суд. Мы провели обычное расследование, но дело до суда не дошло. Корвин выбросил бумаги после первичного прочтения.
– На каком основании, Лузий?
Он сердито сверкнул глазами.
– Отсутствие доказательств.
– А были какие-либо?
– Совершенно никаких.
– Тогда какие основания, что она виновна?
Лузий саркастически рассмеялся.
– Когда это отсутствие доказательств что-нибудь значило?..
Я мог бы рассказать, как было дело. Должно быть Лузий проделал всю работу за эдилов (молодые районные чиновники, ответственные за сбор информации, но занятые только своей политической карьерой). Случай заинтересовал его, потом, когда из-за глупости претора дело закончилось ничем, он взялся за него лично.
– …Она была умна, – рассуждал он задумчиво, – она никогда не переоценивала своих сил; типы, которых она чистила, имели много наличных денег, но они были никем для общества – настолько ничтожны, что никто не стал бы беспокоиться, случись с ними что-то подозрительное. Никто, ну, кроме племянника, который претендовал на одно из состояний. Возможно Гриттий запамятовал упомянуть его в завещании, может забыл его намеренно. Во всяком случае, кроме этой запинки, она должна была быть очень осторожной, Фалько; там на самом деле не было никаких доказательств.
– Только умозаключения! – я фыркнул.
– Или как доходчиво выразился Корвин: "трагическая жертва воистину поразительной цепи совпадений"…
Вот это знаток юридического слога!
Поражающая воображение отрыжка из соседней комнаты предупредила нас, что претор намерен явить себя. Дверь распахнулась. Темноглазый мальчик-раб, который, должно быть служил лакомой закуской после изысканного обеда Корвина, прошагал мимо, неся кувшин, и делая вид, что именно за тем он и был в комнате. Лузий подмигнул мне собирая свитки с неторопливой грацией секретаря, который давно изучил хитрость, как выглядеть занятым.
У меня не было намерения наблюдать, как претор станет развлекать себя отказывая просителям; я вежливо кивнул Лузию и поспешил по тихому убраться.
IX
Я убедил себя, что уже достаточно поздно, чтоб прекратить дневные труды и посвятить время личной жизни.
Елена, которая неодобрительно смотрела на мое безалаберное отношение к зарабатыванию средств на жизнь, казалось, была удивлена, увидев меня так рано, но лакомства из кондитерской с Пинциева холма, заставили ее стать более снисходительной. Удовольствие, которое она получила от моей компании, возможно тоже помогло, но если и так, она это искусно скрыла.
Мы стояли в саду дома ее родителей, ели голубей из теста, а я рассказывал о новом деле. Она обратила внимание, что расследование крутится вокруг женщин.
Так как она могла заявить, что я уклоняюсь от работы, я описал ей весь свой день, все что случилось, всякие роскошества в доме и тому подобное. Когда я перешел к рассказу о Гортензии Атилии, что была похожа на экзотический фрукт, Елена мрачно предположила, на какой:
– Вифинский
[187] чернослив!
– Не столь сморщена!
– Она с тобой беседовала о деле?
– Нет, то была Поллия, тоже лакомый кусочек.
– Как ты с ними всеми управляешься?
– Легкое дело для знатока!
Она нахмурилась и мне пришлось уступить.
– Ты же знаешь, что мне можешь верить! – поклялся я неискренне ухмыляясь. Мне нравилось заставлять своих женщин гадать, особенно, когда мне нечего было скрывать.
– Я знаю, что могу тебе доверить поухаживать за кем-то, одетым в пару легкомысленных сандалий и нитку безвкусных бус!
Я коснулся ее щеки пальцем:
– Ешь свой липкий пирог, птичка.
Елена не купилась на комплимент и глянула на меня, словно я был какой-то бездельник с Форума, что на ступенях храма Кастора пытается задрать ей юбку. Я решил сменить тему:
– Ты подумала о моем вчерашнем предложении?
– Я думала об этом.
– Думала, чтоб перебраться?
– Наверное.
– А звучит словно: "Возможно, нет".
– Я сказала именно то, что сказала!
– Значит ты думала, что это подразумевал я?
Она внезапно улыбнулась мне с любовью:
– Нет, Марк!
Я почувствовал что мое выражение лица изменилось. Когда Елена Юстина так улыбается, я боюсь, что могу зайти слишком далеко…
По счастью ее отец решил присоединиться к нам именно в этот момент. Неуклюжая фигура с копной прямых непричесанных волос, он вышел подышать свежим воздухом с самым невинным видом - но я по опыту знал, что это совсем не так, я обнаружил себя сидящим выпрямившись. Камилл с облегчением сбросил тогу и раб подобрал ее. Был девятый день месяца и Сенат заседал. Он коснулся текущих дел,
обычных пустяковых споров; он был вежлив, но поглядывал на открытую корзинку с пирожными. Я оставил мысль сохранить пирог как подарок моей сестре, и мы пустили корзинку по кругу. Я был не против еще раз посетить Минния в другой день, и купить что-нибудь для Майи.
Когда корзинка опустела, Елена попыталась придумать, как ее использовать: она хотела наполнить ее кампанийскими фиалками в подарок моей матери.
– Это должно ей понравиться, - сказал я. – Все, что стоит в доме, и не приносит никакой пользы, а лишь служит вместилищем всякой ерунды — напоминает ей о моем отце…
– И кое о ком еще!
Я повернулся к сенатору:
– Мне нравится девушка, которая говорит, что думает. Твоя дочь всегда была такой сварливой?
– Мы воспитали ее, - ответил он жуя, - кротким домашним сокровищем. Как ты можешь сам убедиться.
Он был симпатичным человеком, не чуждым иронии. У него было два сына (оба служили послами), и если бы Елена была менее эмансипированным созданием, она бы стала его любимицей. Во всяком случае он относился к ней с осторожностью, но я подозревал, что он относился к ней более заботливо, хотя бы потому, что он никогда не присылал по мою душу бандитов; любой, кто любил бы его дочь столь же сильно как я, заставлял его быть более терпимым.
– Над чем сейчас работаешь, Фалько?
Я рассказал о деле вольноотпущенников Гортензиев:
– Это обычная история богатых и хладнокровных, отражающих приступ авантюриста, желающего породниться с ними. Что делает историю еще более пикантной, так это то, что они сами являются нуворишами. Я возьму с них плату, сенатор, но я должен сказать, что нахожу их снобизм невыносимым.
– Это Рим, Марк! – Камилл улыбнулся. – Не забывай, рабы из богатых домов считают себя стоящими выше даже свободнорожденных бедняков.
– В том числе и тебя! – усмехнулась Елена. Я знал, она подразумевает то, что Сабина Поллия и Гортензия Атилия считают ниже своего достоинства связываться со мной. Я пристально посмотрел на нее через полузакрытые веки, пытаясь вызвать у нее волнение. И, как всегда, потерпел неудачу.
– И вот еще, что я нахожу интересным, – обратился я к сенатору. – Эти люди, вероятно, признали бы, что поднялись практически из ничего. Человек, который ими владел, был полировщик мрамора. Это просто квалифицированный ремесленник, а сдельные ставки таковы, что на них и улитка едва проживет. Теперь же показная роскошь особняка его вольноотпущенников демонстрирует, что их богатство больше, чем у тех, кто может занят консульскую должность по праву рождения. Так что, это тоже Рим!
– Как же они смогли подняться?
– До сих пор это тайна…
Пока мы беседовали, я облизывал мед с виноградных листьев из корзины пирожника, как вдруг получил удар – возможно дочь сенатора не хотела, чтоб ее связывали с мужланом с Авентина, счастливый язык которого очищает обертки от сластей в публичных местах. Или, по крайней мере, не общается с ним в саду ее отца, в окружении дорогих бронзовых нимф и изящных луковичных цветов с Кавказа, особенно в то время, когда ее благородный отец сам сидит рядом…
Мне не стоит беспокоиться. Елена убедилась, что в корзинке не осталось ни единой смородины от пирога. Она даже нашла способ расковырять углы и извлечь все крошки, что застряли между плетеных тростинок.
Я глянул на сенатора. Мы знали, что Елена все еще скорбит о ребенке, которого она потеряла, но мы оба подумали. Что она теперь выглядит гораздо здоровее.
Елена резко оглянулась. Ее отец отвел взгляд. Я не стал смущаться, и продолжал задумчиво рассматривать ее, пока Елена рассеянно глядела куда-то назад, мирно думая, кто его знает о чем.
Затем Камилл Вер нахмурившись посмотрел на меня, скорее с любопытством, подумалось мне.
X
Хотя я и закончил с делами на сегодня, другие люди продолжали трудиться, поэтому я поплелся вдоль Длинной улицы, чтоб выяснить, агент, упомянутый Гиацинтом, еще работает или уже закрылся. Он был на месте.
Косс был бледным длинноносым типом, который имел привычку откидываться назад на табурете раздвинув колени; по счастью, его зеленая с коричневыми полосами туника была достаточно просторна, чтоб все обошлось без оскорбления общественной нравственности. Очевидно, он проводил большую часть дня громко и весело беседуя со своими приятелями, двое из которых и были с ним, когда я его окликнул. Поскольку я хотел от него услуг, я скромно стоял, пока эти ораторы обсуждали различных извращенцев, что выдвинули себя на следующих выборах, толковали о лошади, и горячо спорили, была ли девчонка, которую они все знали (еще одна горячая штучка), беременна или нет. Когда мои волосы отросли на пол-пальца я откашлялся. Слабо изобразив извинения, компания разошлась.
Оставшись наедине с агентом я нашел предлог упомянуть имя Гиацинта, как если бы знал его с тех пор, когда он чесал свои прорезывавшиеся зубы о ремень старой сандалии, затем я объяснил, что желаю знать цены на рынке дорогой недвижимости. Косс втянул в себя воздух.
– Август, Фалько, не так уж много хочет переезжать. Все за городом…
– Зато много смертей, разводов и просроченных платежей!
Поскольку мой отец был аукционистом, я знал, что торговля недвижимостью не прекращается круглый год. Фактически, если бы я хотел приобрести что-то в полную собственность, мой отец мог бы предложить мне несколько ветхих лачуг; но даже он не хотел пачкаться с помещениями, сдаваемыми в аренду.
– Ну, если ты, Косс, не можешь мне ничего предложить…
Лучший способ оживить интерес агента — намекнуть, что ты собираешься обратиться еще к кому то еще.
– В каком районе ищешь жилье? - спросил он.
Все, в чем я нуждался, более-менее просторное помещение со скромной арендной платой, где-нибудь недалеко от центра. Первое, что предложил Косс, была собачья будка за пределами городской стены, прямо на Фламиниевой дороге, в часе ходьбы от города.
– Выбрось из головы! Мне требуется что-нибудь недалеко от Форума.
– Как насчет жилищного товарищества с хорошей репутацией, въезжать можешь сразу, небольшая плата, очень приятный вид на вершину Яникула
[188]?
– Не на той стороне реки.
– В придачу там можно сообща пользоваться террасой на крыше.
– Ты, что, по-латыни не понимаешь? Даже если к квартире будут идти весь парк Юлия Цезаря на берегу реки, Косс, это не мой район! Я не какой-то торговец вразнос всяким хламом. Что еще у тебя есть?
– Квартира выходящая во двор, под сенью пиний, напротив Преторианского лагеря…
– Чушь! Ищи глухого съемщика!
– Первый этаж, у моста Проба
[189]?
– Ищи того, кто умеет плавать в весеннем паводке…
Мы перебрали все тоскливые помойки, которые он, должно быть, не мог сбыть с рук целую вечность, и Косс наконец признал, что ему лучше предложить их какому-нибудь неискушенному провинциалу.
– Хотя… Вот еще… то, что тебе нужно. Аренда на короткий срок в двенадцатом округе. Но кое-то уже интересовался этим адресом, и только ради тебя, Фалько…
– Не надо разыгрывать драму. Скажи короче, что за предложение?
– Четыре хороших комнаты, удобно расположенные на четвертом этаже…
– Выходят во двор?
– На улицу — но это тихая улица. Район расположен вдалеке от складов Авентина и пользуется популярностью среди благородной публики…
Что за комедиант пишет им речи? Он имел в виду, что это слишком далеко от рынков, и округ заселен инженерами-снобами из водопроводной и канализационной управы.
– …Аренда предлагается на шесть месяцев; владелец не уверен в своих планах насчет этого дома.
Это меня устраивало, так как я не был уверен в своей способности достаточно долго оплачивать такое жилье.
– Сколько?
– Пять тысяч.
– Годовая плата?
– За пол-года! – Косс окинул меня холодным взглядом. – Это предложение для человека с деньгами, Фалько.
– Это предложение для идиота.
– Как хочешь. Это обычная ставка.
Я посмотрел на него, мол, в таком случае я ухожу.
– Ну, я мог бы, пожалуй, скинуть до трех тысяч, но только как другу…
Его комиссия была пятьдесят процентов, если я правильно его оценил.
– …Из-за короткого срока аренды, - попытался неубедительно объяснить он.
Я молча посидел, хмурясь и надеясь, что это заставит его еще немного уступить; ничего не вышло. Двенадцатый округ – вполне терпимое место. Он расположен к востоку от Авентина, по другую сторону Остийской дороги
[190] — почти мой дом. Общественные рыбные пруды, давшие имя району
[191], пересохли много лет назад, так что я знал, что москиты вывелись вместе с рыбой… Я договорился назавтра встретиться с Коссом и сходить вместе осмотреть квартиру.
К тому моменту, как я добрался до Фонтанного дворика, я решил снять ту квартиру в Рыбных прудах, какой бы она ни была. Мне надоело повышать себе давление, карабкаясь по лестницам. Меня тошнило от грязи, от шума, от чужих скандалов, вторгающихся в мою жизнь. Сегодня вечером я вернулся в запутанную паутину проулков Авентина, что опутывают все вокруг, как какие то подземные нити некоего мерзкого гриба, и я сказал себе, что четыре комнаты, расположенные в другом районе — всяко лучше чем это.
Весь в мечтаниях, я завернул за угол и увидел прачечную Лении. Завтра я подпишу арендный договор, и у меня будет адрес, за который не придется стыдится, называя его незнакомцу…
Пара ног растоптала мои чудесный мечты.
Ноги были огромны, они переминались в портике плетельщика корзин, примерно в десяти шагах от меня. Кроме их размера, я обратил на них внимание потому, что имел привычку, если у меня были какие-либо основания быть осторожным, всегда сперва осматриваться возле своего жилища, прежде чем показать себя.
Эти ноги определенно бездельничали. Человек, к которому они были приделаны, не обращал никакого внимания на товары плетельщика, несмотря на то, что он болтался перед огромной грудой обычных корзин, которые были бы весьма полезны в любом хозяйстве, а под ногами у него лежала отличная корзинка для пикников, которую с радостью бы ухватил какой-нибудь любитель распродаж… Я втиснулся за пилястр, чтоб получше его рассмотреть. Он не был вором. Ворам нравится, чтоб было что украсть, а даже самые бестолковые из них избегают Фонтанного Дворика.
Клиент или кредитор зашел бы к Лении побеседовать. Эти огромные ступни, должно быть, были посланы сюда Анакритом — Главным Шпионом.
Я выкарабкался в обратном направлении, и через боковой проход пробрался на задний проулок. Местность позади прачечной казалась обычной. В этот жаркий летний день открытая канава для нечистот жестоко терзала ноздри. Две тощих черных собаки спали развалившись в тени. Из-за растрескавшейся ставни у меня над головой я мог слышать злобную каждодневную перебранку супружеской пары. Две женщины, ощипывавшие куриц, спорили, а может просто обсуждали, необычную расцветку каплуна. И человек, которого я видел в первый раз, сидел на бочке ничего не делая.
Он мог быть только вторым шпионом. Он сидел на солнце. Это было самое последнее место, чтоб примостить свою задницу, которое бы вы выбрали, если бы захотели просто дать роздых усталым ногам. Но это было единственное место, откуда сидя можно было наблюдать за входами и выходами из прачечной Лении. Разве, что вы были влюблены в одну из кудрявых прачек, на такого он явно не походил.
Я предпринял стратегическое отступление.
Большая семья может быть полезной. Я имел кучу родни, все из которых, как предполагалось, признавали меня. Большинство согласиться предоставить мне койку, в обмен на возможность потом пожаловаться на мои манеры. Мои сестры не преминули бы порассуждать о нашей старенькой ма, которой пришлось устроить мой побег из темницы, поэтому я пошел к матери. Я знал, что придется быть обходительным с ее постоянным покровителем, но я решил, что смогу изобразить вежливое поведение. И мне действительно удалось притворяться достаточно долго, чтоб слопать миску маминых запеченных в тесте креветок, но когда поддерживать видимость любезности стало слишком невыносимо, я направился домой.
Наблюдатель за тыловым подходом к прачечной все хорошо организовал; он устроил себе замену. Теперь его сменщик взгромоздился на бочку, пытаясь выглядеть неприметным. Это ему не удалось, так как он был лысым коротышкой с крючковатым носом и заплывшим левым глазом.
Со стороны фасада все еще топтались чудовищные ступни — он выглядел еще неубедительнее, так как торговец корзинами уже собрал свой товар и перегородил портик сдвижной дверью, заперев ее на замок. Я проскользнул к местному цирюльнику и заплатив одному из его детей, чтоб тот сказал ногам, мол коротышка хочет побеседовать с ним в переулке. Пока Лапка (я так обозвал большеногого) тащился в проулок без всякой пользы, я одним махом взлетел на седьмой этаж на свой балкончик.
И вот я тут. Бывают дни, когда некоторые дела удаются.
XI
На следующий день я встал рано. Прежде чем грязная команда Анакрита вернулась, чтоб продолжить наблюдение за этим кроличьим садком, я вылез из своей норы и поспешил в уличную харчевню двумя районами далее от дома. Я неспешно и со вкусом завтракал (хлеб и финики с мёдом и подогретым вином — ничего слишком возбуждающего для человека, находящегося под наблюдением), разглядывая дом профессиональной невесты.
Северина Зотика жила во Втором округе
[192], на холме Целий. Ее улица лежала далеко за Клавдиевыми воротами
[193] (в то время в руинах, но были включены в программу Веспасиана по восстановлению общественных зданий и сооружений); охотница за чужими деньгами обитала в тихом треугольнике, который лежал между Акведуком и двумя улицами, сходившимися у Ослиных ворот
[194] в городской стене. Косс посчитал бы, что район холма Целий была бы слишком элитный для меня. Во-первых, у улиц были имена. Мне кажется, он решил бы, что это будет меня волновать; боюсь этот плут решил, что я не умею читать.
Северина обосновалась на Счетной улице
[195]. Это была изящная улица, достаточно широкая, чтоб по ней могла ехать повозка. У перекрестка на одном конце улицы был общественный фонтан в хорошем состоянии; на другом конце — небольшой уличный рынок: в основном кухонная посуда и овощные прилавки. Торговцы мели и поливали улицу перед своими лавками: они это делали в тот час, когда я появился, между прочим, я нашел обстановку приятно деловитой. По обеим сторонам улицы располагались лавочки ремесленников и магазинчики: ножовщики, сыроделы, торговцы соленьями, тканями, и замочники. Между каждыми двумя лавками находилась лестница, ведущая в квартиры выше и проход в жилье помещения на первом этаже, что находилось позади лавок. Здания были в три этажа, с кирпичным фасадом без балконов, хотя многие имели аккуратные окна со ставнями, в некоторых на подоконниках лежали коврики и покрывала для ежедневного проветривания.
Жильцы приходили и уходили. Старая дама с прямой спиной, тихий торговец, выгуливающий декоративную собачку раб, дети с письменными принадлежностями.
Люди мало разговаривали, просто обменивались кивками. Общее впечатление было, что большинство из них живут тут уже многие годы. Они были знакомы, но предпочитали держаться наособицу.
Четырьмя дверями от меня был публичный дом. Он не имел вывески, но это было легко определить, понаблюдав некоторое время. Клиенты заскакивали внутрь (с напряженным выражением), а спустя полчаса выходили (уже довольные собой).
Я продолжал возиться со своим завтраком. Хотя это и заставило меня вспоминать те утра, когда я просыпался после ночи, проведенной вдвоем, и наслаждался утренним часом с некоей молодой особой, которую я заманил домой накануне… Скоро мне особенно будет ее недоставать. Я сказал себе, что в борделе никто не сможет заменить ее.
Разумеется, ни одна из них не заплатит за мою квартиру.
Было еще довольно рано, когда из прохода между лавками сыродела и торговца скатертями, именно там, где, как мне сказали, жила Северина Зотика, появился слегка потрепанный портшез. Занавески скрывали седока. Носильщиками были несколько крепко сбитых невысоких рабов, выбранных ради широты их плеч, а не для того, чтоб красоваться с ними на Священной дороге
[196]; у них были длинные руки и уродливые подбородки, и выглядели они так, словно берутся за любую работу: от переноски воды, до починки обуви.
Я уже заплатил за еду. Я встал, стряхнул крошки. Они прошагали мимо меня и направились в город. Я пошел за ними с небрежным видом.
Когда мы добрались до первого акведука, они повернули налево, пересекли несколько улочек, вышли на Аппиеву дорогу
[197], а затем обогнув Большой Цирк направились к Авентину. Я испытал шок: мне почудилось, что искательница золота сама направляется прямо к обители Фалько…
Но на самом деле она имела целью более цивилизованное место. Носильщики опустили портшез у Зала Свободы
[198]. Из него вышла женщина среднего роста, так со всей подобающей скромностью закутанная в красно-коричневую ткань, что углядеть можно было только прямую осанку и изящную походку. Она зашла в библиотеку Азиния Поллиона
[199], отдала какие-то свитки, обменялась парой шуток со служителем, затем забрала другую подборку книг, которые он уже для нее подготовил. Я ожидал всякого, но не такого, что женщина выйдет из дома всего лишь обменять книги в библиотеке.
Когда она выходила, она прошла совсем рядом. Я сделал вид, что роюсь на полках с философскими трудами, но успел заметить белую руку, сжимавшую новые тома, на третьем пальце было кольцо с каким-то красным камнем. Ее платье было неяркого оттенка умбры, но блеск складок говорил о высокой цене. Край столы
[200], все еще скрывавший ее лицо, был вышит жемчугом.
Если бы я задержался, чтоб расспросить библиотекаря, я бы упустил портшез. Вместо этого я притащился вслед за ней в Эмпорий, где она купила ветчины из Бетики
[201] и несколько сирийских груш. Следующая остановка была у Театра Марцелла
[202]. Она отправила одного из носильщиков за одним билетом в женскую галерею на вечернее представление.
После этого дама в коричневом вернулась на холм Целий. Она купила капусту (мне показалось, она выбирала поплотнее), зашла в женскую баню на часок, потом отправилась домой. Я пообедал в забегаловке (пирожок с мясом), затем просидел там весь день. Одна из ее рабынь выбежала поточить нож, но сама Северина больше не появлялась. Ранним вечером ее отвезли в театр. Я уклонился от посещения. Это была пантомима, изображающая фарс о прелюбодеях, запихивающих мужей-рогоносцев в удачно открытые сундуки; я видел уже этот спектакль; танцы были ужасные. В любом случае у слежки за особой женского пола в театре есть свои сложности. Если такой импозантный мужчина, как я, слишком часто поглядывает на женскую галерею, шлюшки из низов общества начинают слать ему бесстыдные записочки.
Я отправился к Елене. Она ушла с матерью навестить тётю.
Я встретился с Коссом в винной лавке в Двенадцатом округе, купил ему выпить (маленькую), и мы пошли осматривать квартиру. К моему удивлению, она была совсем не дурна; надо было подниматься по довольно узкому проулку, но в скромном доме со съемными квартирами лестницы хоть и были пыльными, но ничем не были загромождены. На поворотах лестницы стояли металлические светильники, правда без масла.
– Ты можешь наполнить их сам, если хочешь осветить свой путь наверх, – сказал Косс.
– Хозяин сам мог бы из наполнить.
– Верно! – он рассмеялся, – я напомню ему об этом.
Я подозревал, что хозяин дома недавно сменился: я заметил строительные козлы в проходе, помещения для торговли на первом этаже были не заняты, и хотя владелец дома (который и будет моим арендодателем) зарезервировал для себя большие апартаменты позади них, они тоже еще стояли пустые. Косс сказал, что мне вряд ли приведется увидится с владельцем дома; всей арендой занимался он сам. Я так привык тратить массу сил, чтоб избежать встреч со Смарактом, что манеры нового хозяина казались милыми, как сон.
Сдаваемая квартира была так же хороша как любая другая в доме, они были совершенно одинаковые и нагромождены одна на другую. В каждой входная дверь вела в коридор, куда выходили четыре комнаты, попарно с каждой стороны. Они были не намного больше, чем у меня в Фонтанном Дворике, но в четырех я мог устроиться более комфортно: отдельная гостиная, спальня, библиотека и офис… В квартире были скрипучие деревянные полы и стоял запах свежей штукатурки. Если крыша протекает, то есть жильцы сверху, и вся вода останется у них, а до меня не дойдет. Я не нашел признаков вредных насекомых. Соседи (если они были живы) вели себя тихо.
Мы с Коссом закрепили сделку рукопожатием.
– Плату за сколько недель ты хотел бы получать за раз?
– За полных пол-года! – воскликнул Косс, он выглядел шокированным.
– Если срок начался в июле, то я теряю два месяца!
– Ладно, тогда за следующие четыре месяца!
Я пообещал, сразу, как смогу обменять жетоны со скачек на наличные, принести ему деньги.
– И залог на случай судебных исков, - добавил он.
– Иски?
Он имел в в иду, что я могу уронить цветочный горшок на голову прохожему, тогда владелец дома будет считаться ответственным, если я всего лишь арендатор. Мой нынешний домовладелец Смаракт никогда не задумывался о подобных претензиях к нему, но большинство живущих на Авентине находят способы получить компенсацию, не обращаясь в суды (они бегут вверх по лестнице и бьют тебе морду).
– Такой залог обычен на этом рынке?
– В новых квартирах залог обычное дело, Фалько.
Так как я собирался приобщится к более изысканным слоям общества, я изящно уступил.
Когда Анакрит следит за моей старой квартирой, то чем быстрее я перееду по адресу, который он не знает, тем проще мне будет жить. Во всяком случае я едва мог дождаться удовольствия сказать Смаракту, куда и каким способом он может отправится со своим грязным клоповником на седьмом этаже. Но прежде, чем я перееду, мне нужно было позаботиться о мебели.
Шпионы все еще наблюдали за домом. Я направился прямо к большеногому.
– Прошу прощения, здесь живет Дидий Фалько?
Он кивнул прежде, чем успел подумать.
– А он сейчас дома?
Соглядатай потупил глаза, пытаясь скрыть свой интерес.
Все еще изображая чужака, я поднялся, чтоб проверить, дома ли Фалько. Когда я поднялся, оказалось, что он дома. Любой, кто следит за зданием, должен помечать, кто входит, и убедиться, что он вышел. Я протянул поперек лестницы веревку с привязанной к ней железной сковородой, которая бы разбудила весь дом, споткнись о нее в темноте, но никто не последовал за мной наверх. Дешевые шпики — все, за что готов платить Дворец. Я знал это, я сам когда-то там работал.
XII
Во второй день моего наблюдения Северина Зотика осталась дома, должно быть читала книги из библиотеки. Были поставки на дом: амфоры с оливковым маслом и рыбным соусом
[203]. Потом была женщина, катившая вихляющую ручную тележку, полную мотков шерсти. Колеса были плохо закреплены, поэтому я подошел и подтолкнул тележку ногой снизу, когда женщина изо всех сил пыталась поднять ее.
– Уж кто-то найдет себе занятие! – прокомментировал я с любопытством.
– Она всегда покупает по-много.
Торговка шерстью спиной вперед тащила тележку ко входу в квартиру Северины пыхтя от натуги.
– Она сама ткет, – похвасталась она предо мной своей клиенткой.
Вполне вероятно.
Это был бедный на события день, если бы я надеялся когда-либо опубликовать свой дневник, добиваясь литературного призвания: завтрак – луканская
[204] колбаса (и расстройство желудка потом); жаркая погода; собачья драка во второй половине дня (ни одного интересного укуса)…
Наконец ранним вечером из прохода появился портшез, сопровождаемый худощавой горничной с косметической шкатулкой в одной руке и скребком
[205] в другой, фляжка масла висела у нее на запястье. Северина исчезла в той же бане, что и вчера, таща за собой горничную. Через час она вышла и поспешила вниз по ступенькам. Ее сандалии были позолочены, все кромки одеяний обшиты тесьмой из золотых нитей, а то, что выглядело как диадема — само просилось, чтоб его украли. Служанка, что убрала ее в этот наряд, отправилась домой пешком, неся прежние тряпки и косметику, в то время как носильщики тащили портшез с Севериной на север, к холму Пинций – светский визит в дом Гортензиев.
Она остановилась у кондитерской Минния, где приобрела одну из выложенных листьями корзинок. Я нагнал ее у ворот виллы Гортензиев, и подмигнул привратнику, который подтвердил, что дама обедает со своим ухажером. Я ничего не получал, торча снаружи весь вечер, пока они там объедаются и болтают о милых пустяках. Я вернулся к Миннию.
– Северина часто заглядывает?
– Каждый раз, как навещает Нова. Он обжора-сладкоежка; их семья регулярно закупается, но она берет его любимые лакомства.
Я купил еще кусок торта для своей сестры, но съел его по дороге к Елене.
– Марк, как твое расследование?
– Все факты говорят, что охотница за золотом – простая девушка, любящая домашний уют, чтение, и желающая получить в конце классическую надгробную плиту. Кроме того, она жила с одним из мужей, которому, как мы можем предположить, она отказывала, это очень целомудренно, возвышенно и достойно… Еще она прядет и ткет шерсть…
– Возможно, она действительно достойная особа!
– И, возможно, в Триполитании
[206] будет метель! Пора бы глянуть на нее вблизи…
– В ее женской бане? – Елена притворилась шокированной.
– Моя дорогая, я рассмотрю разные способы маскировки, но я не могу сойти за женщину, когда я в голом виде…
Размышляя, смогу ли я проникнуть в баню под видом уборщика, я адресовал Елене непристойную ухмылку.
– Не скаль на меня зубы, Фалько! И не забывай, что ты выпущен из Латомийской тюрьмы под залог…
Потом она неожиданно сказала.
– Вчера тебя не было.
Ее голос был тих; для того, кто хотел быть убежден, это бы верный знак, что она тоскует.
– Не моя вина. Тебя не было дома, когда я приходил.
Она уставилась на носки своих туфель (кожаных, неяркого оттенка, но с пурпурными шнурками). Я упомянул, ни к селу ни к городу, что снял новую квартиру. Мне было интересно, как она воспримет это. Она подняла взгляд:
– Я могу прийти посмотреть?
– Как только я обзаведусь хоть какой-то мебелью.
Ни один уважающий себя холостяк не пригласит красивую девушку к себе домой, пока не сможет обеспечить ее зеркалом и всем, что могло бы понадобиться. Например, кроватью.
– Не беспокойся, как только слух о моем переезде достигнет моего семейства, я ожидаю, что на меня посыпется всяких хлам, от которого они мечтали избавиться, в первую очередь кривокосые плотницкие поделки моих шуринов…
– У моего отца есть старая кушетка для чтения, он собирался предложить ее тебе, но, возможно, ты теперь откажешься, поднявшись по социальной лестнице?
– Я беру ее! – уверил я ее. Ее взгляд дрогнул. Елена Юстина всегда с легкостью могла разгадать мои намерения.
Чтение – это не единственное, чем можно заняться на диванчике.
Я ушел рано. У нас кончились темы для разговора.
Так или иначе, я оставил свою милую без поцелуя. К тому времени, когда мы прощались, она показалась мне довольно сдержанной, поэтому я тоже держался довольно строго и только кивнул.
Прежде чем я оказался в конце улицы, где жил ее отец, я почувствовал серьезный укол сострадания, и пожалел, что не был более нежен. Я почти было решил вернуться. Но у меня не было никакого намерения позволить сенаторской дочке видеть, что я веду себя как бесхребетный идиот.
XIII
Остаток вечера я провел превращая жетоны со скачек в деньги. Я нашел Косса, заключил сделку и получил свой ключ. Потом мы немного выпили с агентом – этикет требовал. Затем чуть больше с моим лучшим другом Петронием Лонгом (на самом деле несколько больше чем собирались, но мы наслаждались возможностью иметь хоть какой-то повод для небольшого праздника). В итоге, я чувствовал себя слишком счастливым, чтоб дурачить шпионов у Фонтанного Дворика, поэтому доковылял до новой квартиры, ввалился в нее, растянулся на полу и захрапел.
Кто-то барабанил в дверь, и я слышал голос, спрашивающий: "Все ли в порядке?" Приятно знать, что мои новые соседи такие заботливые личности.
Проснулся я рано. Самые удобные для лежания половицы имеют такой эффект.
Радуясь жизни, несмотря на головную боль, я вышел поохотиться за завтраком. Ночные закусочные в Рыбных прудах казалось были редкостью, что могло стать неудобством при моем беспорядочном образе жизни. Но в конце концов я нашел пивнушку, полную злых мух, где мутноглазый подавальщик сунул мне ломоть древнего хлеба с соленым огурцом и сказал, что еда только на вынос.
Было слишком рано, чтоб наблюдать за домом Северины. Однако, об этой маленькой хищнице нельзя было забывать. У клиентов есть необоснованная привычка ожидать быстрого результата, поэтому мне скоро надо будет отчитываться.
Ноги понесли меня на восток. Они дотащили меня до подножия Эсквилина, в старую часть города, которую люди все еще называют Субура, хотя она носила кучу имен после того, как Август
[207] расширил границы города и перекроил административные округа. Некоторые люди ворчат, мол тогда Рим потерял весь свой характер; однако я смею сказать, что когда Ромул
[208] прокладывал первую борозду, отмечая границы города, вокруг него на Семи холмах
[209] стояли старые крестьяне и бубнили в лохматые бороды, мол жить в этом новомодном поселении волчонка совершенно не стоит…
Субура все еще сохраняла свой республиканский характер. Большая часть ее была уничтожена при Нероне в Великом пожаре. После него он забрал большую часть образовавшегося пустыря с обгорелыми развалинами под свой Золотой Дом
[210], его огромные парки и площадки для развлечений. Также он приказал отстроить Рим заново, разметив улицы в виде правильной геометрической сетки. (даже Нерон признал, что его Золотой Дом достаточно велик для такого маленького человечка, поэтому не было необходимости планировать дальнейшие расчистки под нужды императора). На самом же деле, многие улицы при восстановлении были, вопреки указу императора, проложены на месте старых. Мне это по сердцу. В Империи слишком много похожих друг на друга пресных городов с одинаковой прямоугольной сеткой однообразных кварталов.
Этот район был когда-то самым грязным в городе. Теперь было много соперников, боровшихся за эту честь. Субура походила на пожилую шлюху; у нее все еще была подмоченная репутация, хотя действительность уже была не такова. Но тебя все равно могли тут ограбить. Как и повсюду, на этих улочках, где можно пройти только по одному, в грабителях не было недостатка. Их прием был: рука на горле, нож под ребро, сорвать кошелек и перстни, и перепрыгнуть жертву, роняя ее лицом в грязь.
Я был в полном рассудке. Я знал Субуру, правда не настолько, чтоб узнавать людей по лицам, и не настолько, чтоб местные злодеи избегали меня.
Я пришел сюда с намерением копнуть поглубже прошлое Северины. Секретарь претора Лузий упомянул, что ее первый муж, торговец бусами Моск, был владельцем магазина, который все еще существовал где-то здесь. Я начал искать ювелиров. Они обычно знают, где болтаются их конкуренты. И действительно, с третьей попытки мне указали правильное направление, и я подошел к лавке как раз, когда она открывалась.
Новый продавец был, вероятно, еще одним бывшим рабом из дома Севера Моска, теперь свободный и работающий на самого себя. Он торговал всякого рода камнями, от инталий, что он вырезал на поверхности драгоценных камней, до камей благородного рисунка. Он использовал всякие сорта полудрагоценных камней, но предпочитал агаты – бледно голубые, с молочно-белыми прослойками; белые камни, с просвечивающими зелеными и красными охряными прожилками; полупрозрачные угольно-черные; строгие матовые цвета кожи и бронзы. Он уже сидел на скамейке, сортируя крошечные золотые бусинки. Очевидно, всю работу он делал сам.
– Привет! - крикнул я. – Это здесь живет Север Моск? Мне сказали искать его тут; моя мать была знакома с его…
Он посмотрел на меня задумчиво:
– Они знакомы по Тускулу
[211]?
У него был необычно писклявый голос для человека, державшегося столь солидно.
Подумав, что это может быть ловушка, я неопределенно пожал плечами.
– Может быть. Моя ма жила в разных местах. Она мне об этом рассказывала; Признаюсь, я слушал ее недостаточно внимательно…
– Моск умер.
– Нет! – присвистнул я. – Значит я напрасно потратил время проделав этот путь. Слышь – моя старая мамочка обязательно спросит: можешь ли ты мне сказать, как это случилось?
Продавец облокотился о прилавок и рассказал мне о сердечном приступе от перегрева в амфитеатре.
– Не повезло. Сколько ему было?
– Шестьдесят.
– Не возраст!
Ответа не последовало.
– У него была семья? Моя ма захотела бы, чтоб я выразил им соболезнования.
Я думал, что лицо мужчины было сковано.
– Нет, – сказал он.
Это было странно; и неправильно.
– А ты?
Я держался дружески напористо, словно грубый провинциал.
– Ты теперь владеешь его делом, ты как-то был связан с ним?
– Я работал с ним. Он меня хорошо обучил; я стал заведовать делами, когда он начал чувствовать свои годы, а после того, как он скончался, я полностью заменил его.
Я восхищался его товаром. Тут было все: от ниток дешевого коралла до сказочно красивых подвесок из сардоникса, размером в половину моего кулака.
– Восхитительно! Я знаю даму, которая с радостью примет любой предмет с твоего прилавка…
Не то, чтоб я пытался, с домом, полным всякой мебели, что-то тут купить. У Елены было достаточно всяких ювелирных украшений. Большинство из них было лучше, чем я мог себе позволить; не было смысла соперничать.
– Слышь, не пойми меня неправильно, но я уверен, что моя ма говорила мне, мол Моск был женат.
– Она снова вышла замуж, – ответил он кратко, но не особо угрюмо. – Эту лавку я арендую у нее. Что-нибудь еще хочешь узнать о Моске, сынок? Где у него были родинки, или размер обуви?
Под его агрессивным напором я отступил, с видом стыдливой невинности.
– Юпитер! Я спрашиваю не из любопытства, просто моя ма потребует с меня пристойный рассказ.
– Это так. И ты слышал его, – коротко ответил резчик камей.
– Верно! Спасибо!
Я рискнул задать еще один нахальный вопрос:
– Разве тебя не раздражает, что ты сохранил на плаву бизнес Моска, хотя все еще остаешься лишь арендатором, в то время как его вдова весело проводит время с кем-то другим?
– Нет.
Резчик вызывающе посмотрел на меня, чтоб показать – если до меня не дошло, и я буду пробовать еще наглеть, от может грубо отшить меня.
– Почему я должен раздражаться? – продолжил он своим писклявым голосом. – Она назначила справедливую плату; у нее хорошее деловое чутье. Моск мертв. А что делать со своей жизнью, решать самой девушке.
Если я хотел устроить скандал, у меня не было шансов. Я глупо ухмыльнулся и удалился.
Возвращаюсь к дому охотницы за деньгами. Дневник идет своим чередом. Завтрак. Жаркая погода. Привезли вино. Собака погналась за кошкой. Охотница за золотом пошла в баню…
Так скоро я смогу описывать день Северины еще до того, как она зевнет и составит план на день. Это была легкая работа, но отсутствие результатов меня огорчало. Затем, в тот самый момент, когда я ломал голову над вопросом, как спровоцировать какую-либо перемену, началась цепь событий, что я приобрел массу новой информации в очень быстром темпе.
Портшез появился сразу после обеда. Я последовал за ним через пять улиц до тех пор, пока портшез не внесли в крытый пассаж магазина глиняной посуды. Я остался снаружи на улице. Прошло больше часа, и я начал сомневаться. Я прошел через магазин, ожидая увидеть портшез Северины ожидающим у дальнего конца тенистого пассажа.
Портшеза не было. Пока я как дурак стоял на улице, толкаемый подносами торговцев пирогами, а по моим ногам топтался мул, охотницу за золотом, видимо, пронесли через помещения, и портшез вынесли наружу через садовую калитку. Ловкая работа, Фалько!
Я подошел к дому. Квартиры на первом этаже были довольно скромные. Без окон. Без растений в горшках. Без котят на лестнице. Только темноокрашенная дверь с решеткой на смотровом окошке. Рядом к стене была прикреплена небольшая керамическая табличка. Вывеска была темно-синяя, с черным текстом и рамкой из крошечных золотых звезд. На ней было написано по-гречески только одно слово:
"Τύχη"[212].
Я знал, что это за место. Я знал, из какого рода сумасшедших, сморщенных ведьм должна быть эта Тюхе.
Я взял себя в руки, затем поднял кулак и решительно постучал.
– Есть ли возможность назначить встречу?
– Ты хочешь видеть ее сейчас?
– Если у нее никого нет…
– Да вроде свободна. Последний посетитель ушел некоторое время назад…
Я сглотнул. Затем я вошел, чтоб встретиться с женщиной-астрологом.
XIV
Я испытываю трепет перед подобными местами.
Я приготовился увидеть немытого вавилонянина, бормочущего тарабарщину. К моему облегчению, заполненная дымом комната для предсказаний должно быть находилась в другой части дома; вместо этого опрятный мальчик-раб привел меня в волнующе красивый приемный зал. Там был блестящий черно-белый мозаичный пол. Стены, выше деревянных панелей с простым узором, были окрашены в черный цвет; сами панели отделялись одна от другой стилизованными канделябрами и были украшены маленькими золотыми медальонами – завитки раковин и цветочные букеты. В зале стояли два стула с высокими спинками, какими пользуются женщины, они стояли по сторонам низкого белого мраморного стола, который весил, должно быть, не меньше полутонны. На одной стороне стола стояла астролябия (скорее всего нарочно, я так думаю), на другой лежали развернутые свитки с записями положений планет. Напротив двери находился ряд полок, на которых стояла целая коллекция старинных греческих ваз, при виде которых у аукционистов, что я знал, потекут слюнки – все в превосходном состоянии, все большого размера, все с рисунком в древнем геометрическом стиле; повторяющиеся ряды завитков, кружков и стилизованных антилоп – должно быть специально подобраны собирателем с отменным вкусом. Старинные вещи произвели на меня большее впечатление, чем обстановка. Кроме легкого аромата женских духов, словно комнату недавно покинули, не было никаких запахов ладана или наркотиков, чтоб усыпить внимание неосторожного посетителя. Никаких позвякивающих колокольчиков. Никакой тихой пьянящей музыки. Никаких карликов, выпрыгивающих из замаскированных шкафов…
– Добро пожаловать. Чем могу тебе помочь?
Женщина, что скользнула, раздвинув занавеси на двери, была опрятна, спокойна и обладала приятным голосом воспитанного человека. Ее латинское произношение была гораздо лучше моего.
Выглядела она на шестьдесят. Ее прямое темное платье висело на двух серебряных с чернью плечевых заколках, поэтому ее руки были обнажены, хотя и спрятаны в складках одеяния. Ее волосы были скорее тонкими, по большей частью темными, но с широкими серебряными прядями. В ее лице не было ничего профессионально мистического, за исключением слегка прикрытых тяжелыми веками глаз. Глаза не имели никакого особого цвета. Это было обычное лицо женщины, занимающейся бизнесом, в мужском мире Рима: дружелюбное, но таящее в глубине непреклонную твердость, и с едва заметным, как след улитки, оттенком личной горечи.
– Ты астролог?
Ее губы плотно сжались, как если бы она не одобряла меня.
– Я Тюхе.
– Греческое имя Фортуны
[213] – прелестно!
– Это звучит оскорбительно.
– У меня есть немало менее красивых имен для людей, что тщетно дарят надежды тем, кто в отчаянии.
– Тогда я должна помнить, – ответила Тюхе, – что не стоит пробуждать твои имена.
Я ожидал, что найду себя предметом внимательного изучения.
– Я вижу, что ты не клиент, – прокомментировала она, хотя я ничего не сказал. Конечно, она притворялась, что будто читает мысли, что было частью ее профессиональных уловок.
– Меня зовут Фалько.
– Мне нет надобности знать твое имя.
– Избавь меня от пустой болтовни. Мистический треп вызывает у меня зубовный скрежет.
– О! Я вижу! – Ее лицо смягчилось, как если бы она жалела меня. – Здешняя обстановка разочаровала тебя. Ты ожидал, что будешь напуган до смерти. Полагал, что увидишь кудахчущую старую ведьму, кидающую сушеные потроха в ярко-зеленый огонь? Я перестала творить заклинания. Дым вреден для росписей. Лучше скажи мне, когда ты родился?
– Зачем?
– Все, кто заходят по иным делам, ожидают получить бесплатное пророчество.
– Я не ожидаю! Март, если хочешь знать.
– Рыбы или Овен?
– Никогда не был точно уверен. Пусть будет "на грани".
– А следовало бы!
– Я был прав; ты действительно относишься неодобрительно ко мне, – проворчал я.
– А большинство людей? Твои глаза видели слишком многое, о чем ты не можешь рассказать в кругу друзей.
– Мои ноги топтали слишком много неровных мостовых по следу слишком многих хватких девушек, кто потворствовал смерти! Ее имя – Северина, между прочим.
– Я это знаю, – сказала Тюхе спокойно.
– О!
– Северина была моим клиентом, – пояснила астролог, с легким укором. – Мне были нужны ее имя и адрес, чтоб отправить счет.
Тут я действительно удивился.
– Что удержало руку с серебряными денариями? Я считал, что в вашей профессии в ходу только оплата наличными.
– Конечно, нет! Я никогда не беру в руки деньги. У меня есть три отличных компетентных бухгалтера, которые занимаются моими финансовыми вопросами.
Она, выходило так, была гадалкой, что проделала долгий путь от сообщения полуправды подружкам пастухов в жарких полотняных палатках. Тюхе обслуживала торгашей в позолоченных паланкинах; держу пари, у нее и расценки
были соответствующие.
– Чего ты хочешь, Фалько?
– Предсказатель должен знать! Чего хотела Северина Зотика?
Женщина посмотрела на меня долгим взглядом, который должен был вызвать мурашки по спине. Ей это удалось. Но моя профессия так же основывалась во многом ни блефе, как и ее собственная.
– Ее интересовали гороскопы?
Она молча кивнула.
– Мне нужно знать, что ты ей сказала.
– Профессиональная тайна!
– Разумеется, я заплачу по обычным расценкам…
– Информация не продается.
– Всё продается! Скажи мне, чье будущее она хотела знать?
– Я не могу этого говорить.
– Ладно. Тогда, позволь, я сам это скажу тебе! Ее рассказ был таким: она собирается замуж, и хочет быть уверена в своих перспективах на будущее. Один гороскоп был ее собственный; что позволяет считать, что он был благоприятным. А второй был…
– Ее будущего мужа.
Тюхе криво улыбнулась, как если бы предполагала, что эта информация обязательно будет понята неверно: некоторые люди считают, что обладание чужим гороскопом дает некую власть над его душой.
XV
Первый положительный намек на мотивы Северины; я чувствовал как мои пальцы ног закололо, а пятки пытаются вдавиться в прочный мозаичный пол. Грубый ворс моей поношенной шерстяной туники стал колоть между лопаток. В эту изысканно-цивилизованную комнату, с ее строгим обитателем, прокрался ужас.
Прежде, чем я смог ответить, астролог взяла инициативу в свои руки:
– Я полагаю, ты не суеверен?
– Суть в том, – воскликнул я, – считает ли сама Северина, что обладание гороскопом дает ей власть над женихом!
Рим благосклонно относится к тому, кто проявляет пристальный интерес к собственной судьбе. Но интересоваться чужой – считается признаком дурных намерений. И действительно, в политике получить гороскоп соперника считается очень враждебным актом.
– Будущий он муж или нет, Северина серьезно нарушила запрет на вторжение в личную жизнь. Тюхе, ты можешь оказаться в обвинительном акте, как соучастник в расследовании неестественной смерти. Если вольноотпущенник умрет, то я буду готов указать на тебя, как на лицо, давшее повод убийце, или даже прямого соучастника. Что ты ей сказала?
– Я сказала ей правду, Фалько.
– Хватит наводить тень на плетень! Если Нов должен умереть в ближайшие несколько недель, лучше скажи мне это сейчас…
– Когда человеку предначертано умереть, он умирает!
– Далее ты скажешь, мне, мол все люди смертны…
– Мой дар позволяет только наблюдать. Я могу лишь интерпретировать знаки судьбы, но я не могу изменить ее.
– Ха! И ты никогда не пробовала?
– А ты?
– Меня воспитала хорошая мать; сострадание иногда имеет место в моей работе…
– Ты, должно быть, очень разочаровавшийся человек.
– Я был бы более разочарован, если бы людям с дурными намерениями было позволено и дальше делать свои дела беспрепятственно…
– Любая сила имеет свою противоположность, – заверила меня Тюхе. – Дурные влияния уравновешиваются благоприятными.
Все еще стоя совершенно неподвижно, она внезапно улыбнулась мне с такой энергией, что невозможно было встретить ее прямо в лицо.
– Может быть, ты посланник звезд?
– Выбрось из головы! – зарычал я, отбивая назад ее улыбку. – Никакая небесная канцелярия мной не владеет; Я независимый дух.
– Не вполне, мне кажется!
Мгновение она колебалась, не рассмеяться ли. Она позволила желанию угаснуть, и шагнула в сторону от дверного проема.
Я предсказал (в частном порядке), что некий красивый темноволосый мужчина со смышлеными глазами вот-вот проворно покинет этот дом.
– Тюхе, если ты отказываешься сказать, в безопасности ли Нов, скажи по крайней мере: будет ли Северина Зотика наказана за свои преступления?
– Нет. Может она никогда и не будет счастлива, но она будет жить долго и умрет в своей постели.
– Ты сказала ей это?
Гадалка посмотрела на меня искоса.
– Мы говорили только о ее надеждах на счастье.
– Ну да. Я полагаю, очень немногие спрашивают тебя: не буду ли я скормлен львам как обычный преступник?
– Верно!
– И что ты ответила ей о ее новом замужестве?
– Ты не поверишь.
– Испытай меня.
– Следующий муж Северины проживет дольше нее и умрет стариком.
Я сказал, что это отличная новость для мужа.
Настало время расстаться. Я задумчиво кивнул прорицательнице, с уважением, которое отдаю всякому, на кого трудятся три бухгалтера. Они никогда не дают уйти просто так:
– Ты хотел бы получить предсказание, Фалько?
– Как я могу этому помешать?
– Некто, кто любит тебя, мог бы добиться в жизни большего.
Когда мы затронули Елену, я не мог помешать гадалке заметить изменение выражения моего лица.
– Этот некто не любил бы меня сейчас, если бы имел достаточно здравого смысла избрать менее злую судьбу.
– Твое сердце знает; правда ли это.
Не было никакой проклятой причины, чтоб я оправдывался за Елену перед мелочными уколами вавилонской шарлатанки.
– Мое сердце у ее ног, - резко ответил я. – И я не буду винить ее, если она пнет его ногой прочь! Но не стоит относиться с неуважением к ее верности! Ты видишь меня, и сделала несколько точных умозаключений, но ты не можешь судить о моей женщине…
– Я могу судить о любом, – ответила гадалка спокойно, – посмотрев на того, кого они любят.
Как и любое астрологическое высказывание, это могло означать все, что вы хотели, а могло и вообще ничего.
XVI
Я вернулся по своим следам на Счетную улицу. Почти сразу портшез появился из дома. Я даже не успел добраться до своего привычного места за столом в забегаловке, задержавшись на противоположной стороне улицы, чтоб купить яблоко у старика, который держал там прилавок с фруктами. Он рассказывал мне о своем саде в Кампаньи
[214], который находился всего в нескольких милях от овощной фермы семьи моей матери. Мы были так глубоко погружены в беседу о достопримечательностях и нравах Кампаньи, что я не мог так уж легко отвязаться от него и броситься преследовать носилки.
Затем, пока я все еще пытался отклонить предлагаемые старичком бесплатные фрукты, из прохода позади сырной лавки высунулась голова женщины, чей рост и фигура напоминали Северину. Но была ли это она? Во всяком случае, служанка у ее локтя была горничной охотницы за золотом…
Я заметил их совершенно случайно. Это позволяло предположить, что мое наблюдение было замечено; таким образом, мой промах у Тюхе был подстроен; и этот отбывший портшез был приманкой.
Обе женщины теперь наблюдали за забегаловкой. Я ждал у фруктового прилавка, пока они казалось не были удовлетворены видом пустой скамьи, где я обычно сидел. В конце концов они отправились пешком, а я предпринял все меры, чтоб следить за подозреваемой, оставаясь невидимым.
Если визит к гадалке и был показателен, то это было еще ничего, по сравнению с тем, что произошло дальше: Северина Зотика посетила мастерскую каменотеса.
Она заказывала надгробие.
Я мог догадаться, для кого.
После того, как она выбрала глыбу мрамора, я проследил за ее уходом. Лишь убедившись, что она направляется прямо к себе домой, я поспешил на встречу с каменотесом сам.
Его звали Скавр. Я нашел его в узком проходе между его запасами. С одной стороны были штабеля высотой до потолка грубо отесанных блоков вулканического туфа, применяемых в строительстве; с другой стороны ящики, закрывающие более мелкие мраморные плиты, которым суждено получить самовосхваляющие эпитафии второразрядных чиновников, стать памятниками старым солдатам и превратиться в трогательные таблички в память милых потерянных детей.
Скавр был низкорослый, могучий, покрытый пылью мужик с лысой макушкой, широким лицом, и маленькими ушами, стоявшими торчком по обеим сторонам его головы. Разумеется, все договоренности с клиентами были строго конфиденциальны. И, разумеется, размер взятки, которую с охотой могли обеспечить мои клиенты, ставил нас выше этого.
– Я интересуюсь Севериной Зотикой. Она должно быть из твоих постоянных клиенток, которых ты любишь – какая трагедия!
– Я выполнил один или два ее заказа, – признал Скавр, не находя нужным ссориться из-за моего шутливого вступления.
– Три мужа внизу, а следующий собирается! Прав ли я, что она только что заказала новый могильный камень?
Он кивнул.
– Я могу посмотреть текст надписи?
– Северина заходила только договориться о цене и внесла деньги за сам камень.
– Она назвала имя умершего?
– Нет.
– И что за история?
– Вовлечены другие люди – собирают деньги по подписке. Она должна посоветоваться с ними о словах, какие использовать.
"Держу пари! Факт в том, что их отношения столь благовоспитанны, что этому бедному парню желают смерти раньше, чем они придут к взаимному согласию!" Я начал сердиться.
– Это для нее обычно, что надгробный камень высекается заранее?
Скавр стал более осторожным. С одной стороны была процветающая торговля, а с другой стороны он не хотел оказаться перед фактом, что его обвинят как пособника. Я предупредил его, что вернусь, посмотреть что будет вырезано, затем оставил его с этим.
Он дал мне то, в чем я нуждался. Гороскоп и надгробие говорили сами за себя. Если никто не вмешается чтоб остановить Северину, Гортензий Нов покойник.
XVII
Некоторые информаторы, разузнав хоть самую малость, мчатся к клиенту с отчетом. А мне нравится сперва обдумать ситуацию. С тех пор, как я познакомился с Еленой Юстиной, большинство моих лучших умозаключений было сделано в ее компании; у нее острый ум, и она обладает преимуществом беспристрастного взгляда на мою работу. Ее одобрение всегда убеждало меня в правоте, а иногда она высказывала дельную мысль, которую я мог обратить в хитрую уловку и решить дело.
(Иногда Елена говорила, что я втершийся в доверие хорек, и это доказывает мою точку зрения о ее проницательности.)
Я появился у дверей дома сенатора около девяти, перед обедом. Привратник был моим старым недоброжелателем. Он с готовностью сказал мне, что Елены не дома.
Я спросил, куда она пошла. В баню. В которую? Он не знал. Я все равно ему не поверил. Сенаторская дочка редко покидает дом, не сказав, куда идет. Это не обязательно было правдой. Просто выдумка, чтобы ввести в заблуждение ее благородного отца, мол его цветочек вполне респектабелен, и дать ее матери (которая знает ее лучше) что-то новенькое, о чем можно поволноваться.
Я поделился несколькими избранными остротами с Янусом
[215], хотя, честно говоря, его интеллект никогда не соответствовал моим требованиям. Я повернулся, когда их потерянная голубка решила залететь в дом.
– Где ты была? – спросил я более резко, чем хотелось.
Она посмотрела испуганно:
– Купалась…
Выглядела она восхитительно чистой. Ее волосы сияли; кожа была мягкая и умащена вся каким-то цветочным маслом, что мне захотелось исследовать это поближе… У меня снова потекли слюнки. Я знал, что она может сказать, и я знал, что она будет смеяться, так что я отступил и попробовал отшутиться:
– Я только что встречался с одной гадалкой, и она пророчествовала, что я обречен на любовь. Так что я, естественно, помчался прямо сюда…
– За приговором?
– Творятся чудеса состраданием. А ты предназначена для "высшей судьбы", между прочим.
– Звучит, как для "тяжелой работы"! Это досталось по наследству? А могу я переложить это быстренько на кого-то другого?
– Нет, госпожа, твои звезды неизменны. Однако, по счастью, пророчица определила, что я – посланец созвездий. За небольшую мзду я могу изменить предназначение и распутать ниты судьбы…
– Напомни мне, чтоб я никогда не позволяла тебе болтаться рядом, когда я пряду шерсть… Ты пришел поднять мне настроение, или это всего лишь мучительное видение, чтоб заставить меня скучать по тебе?
Так как привратник отворил для нее дверь, я тоже оказался внутри.
– А ты? – спросил я беспечно.
– Что?
– Скучаешь по мне?
Елена Юстина подарила мне непостижимую улыбку.
Она провела меня в глубь дома и усадила под цветочной аркой в укромной колоннаде. Елена скользнула на сиденье рядом со мной, и вставила розу в мою плечевую застежку, одновременно заставляя домашних рабов бегать, то за вином для меня, то согреть его, принести блюда с миндалем, потом подушки, затем новую чашу, потому что у моей была крохотная щербинка на глазури… Я откинулся назад в ее собственном кресле и наслаждался вниманием (грызя свой большой палец). Она казалась какой-то необычайно заботливой. Что-то случилось. Я решил, что должно быть какой-то глянцевый педик с сенаторской родословной, пригласил ее к себе посмотреть его коллекцию чернофигурных чаш.
– Марк, расскажи мне о своем дне.
Я уныло рассказал ей.
– Приободрись. Тебе нужно больше возбуждающих впечатлений. Почему бы не позволить некоторым шлюшкам покрасоваться перед тобой? Сходи к своим клиентам. Возможно, пустая трата времени, но расскажи им об астрологе и каменотесе, и посмотри, как они на это отреагируют.
– Ты посылаешь меня в логово ведьм!
– Две перекормленных транжиры, без вкуса и без малейших угрызений совести, обе вываливаются из своих платьев… Я думаю, ты справишься с ними.
– Откуда ты все это узнала?
– Должна же была я взглянуть на них.
Ее лицо смягчилось, но она отвернулась от меня, когда я в тревоге посмотрел на нее.
– Елена Юстина! Как?
– Я обратилась к ним сегодня. Я сказала им, что пытаюсь открыть школу для девочек-подкидышей, и – как женщине, а в другом случае, как матери – предложила им принять в этом участие
– Марс Мститель
[216]! А они?
– Сперва только Атилия. Эта Поллия – маленькое твердое шило – но я смутила ее в конце концов. И, разумеется, тогда она дала мне щедрое пожертвование, пытаясь произвести впечатление, какими богатеями они являются.
– Надеюсь, ты не сказала им, кто ты?
– Конечно сказала. У них не было причин связать меня с тобой…
Жестоко, но верно. Было время, когда я сам с трудом находил между нами связь.
– …Люди, что живут на Пинции, жуткие снобы. Они были счастливы видеть сенаторскую дочь, потягивающую их сдобренное пряностями вино в окружении их возмутительных настенных рисунков, в то время как она пыталась вовлечь их в свои скромные общественные дела.
– Они тебя напоили?
– Не совсем. По правде говоря, они считали себя безупречными хозяйками, угощая гостя кипящим ликером в чудовищных кубках, совершенно неподходящим к времени суток. Что мне по настоящему надо было, это маленькую чашку травяного чая. А ты у них напился?
– Нет.
– Невезение! Они хотели, чтоб я восхищалась их массивными серебряными кубками, слишком тяжелыми чтоб поднимать и слишком изукрашенными, чтоб чистить. У моего был топаз, самый большой, какой я когда-либо видела.
Она задумалась, потом прокомментировала:
– Они судят о вещах по тому, сколько они стоят. Если цена не вульгарно высока, то вещь для них ничего не значит… твои расценки слишком разумны; я удивлена, что они наняли тебя.
– Спасибо! – рявкнул я, хотя у меня было неловкое чувство, что моя милая может быть и права. Я на мгновение закрыл лицо руками и рассмеялся.
– Что будешь делать с их деньгами?
– Открою школу. Я не обманщица, Марк.
Она была удивительна. Мне показалось, что лучше оставить свое восхищение при себе. Елена не нуждалась в поддержке. Я был свидетелем, что в публичной жизни она была привлекательно застенчива, но все это она забывала каждый раз, как какая-нибудь странная идея втемяшивалась в ее голову.
– Я беспокоюсь, когда ты неудержимо убегаешь куда-либо. Почему ты так делаешь?
Она не ответила мне.
– Любознательность!
Я скользнул по ее руке, и притянул ее к груди, изучая ее большие темные глаза, в которых невероятно смешивались любовь и отстраненность.
– Так что ты думаешь о моих клиентах?
– Это же более чем очевидно – если я должна буду снова их навестить, возьму в подарок несколько булавок для платья… – ее прежний озорной дух снова искрился, чему я был только рад, – …Сабина Поллия выцарапала себе путь наверх из грязи и грязь еще осталась у нее под ногтями. Мамочка же похожа на трепещущий цветок, который взывает защитить его, а на самом деле, она жестко манипулирует всеми вокруг… Ты встречался с ее сыном? Я подозреваю, что мальчик весь в мать. У Атилии большие планы на его будущее. Цель ее жизни – добиться для него места в Сенате, когда он достигнет подходящего возраста….
Я подумал бы о большей целеустремленности семьи, имеющей достаточно энергии и средств, чтоб дать выдвинуться своему ребенку; но было бестактно так говорить дочери сенатора.
– Зато она замечательная мать! – поддразнил я, не задумавшись, что это тоже бестактно.
– Многие из нас могли бы быть замечательными матерями!
Прежде чем она успела пустить в ход кулаки, я крепко ее обнял обеими руками.
– Ты будешь!
Мы никогда не обсуждали это: не было удобного случая. Возможно это моя вина, я пытался избежать этого разговора; но теперь я нашел себя готовым произнести наспех сочиненную речь:
– Любимая, ни один из нас не был готов; потеря этого ребенка, возможно, была лучшей долей для малыша…
Елена яростно извивалась. Я краем глаза заметил злое выражение, я не стал обращать на это внимание, я не собирался бросать девушку и бежать, только потому, что она ждала этого от меня сейчас.
– …Нет, слушай меня. Я должен сказать об этом. Елена, я никогда ни на что не надеюсь, но насколько я понимаю, нам нужно найти способ быть вместе; и получать от этого радость. И когда это нам действительно покажется хорошей идеей, мы начнем новое поколение забавных чудаков похожих на нас…
– Может быть я не хочу…
– Я сумею тебя убедить…
– Марк, я не хочу об этом думать. Мне нужно жить с тем, что случилось!
– Я знаю что…
Я подозревал, что могу потерять ее навсегда, если она заставит меня сдаться. Кроме того, я был раздражен.
– Позволь мне разделить это с тобой, Не думай, что мне это безразлично!
– Ах, ты и твои старые республиканские привычки! – пробормотала Елена, с обычной для нее внезапной сменой настроения, целуя мое лицо. – Прекрати быть таким рассудительным…
Я ничего не сказал.
– Дидий Фалько, кто-то должен тебе объяснить: информаторы жесткие люди; информаторы суровы и ведут подлую жизнь, и всегда, когда им удается спастись, они бегут обратно в свой низкий мирок…
– Неправда. Информаторы – мягкие слизняки. И любая женщина в приличной обуви может прихлопнуть нас.
Это напомнило мне кое о чем.
– Однако я не собираюсь позволить женщинам из дома Гортензиев размазать меня по садовой дорожке. Не было никакой необходимости устраивать разведку их дома, моя дорогая. Я могу сам позаботиться о себе…
Разумеется я мог это сделать, Моей проблемой было позаботиться о Елене.
– Не вмешивайся в это дело.
– Хорошо, Марк, – пообещала она с кротким видом, который как я знал, был фальшивым.
– Ладно, только не говори мне потом!
Она все еще смотрела на меня.
– Обо мне не стоит беспокоиться. Те две женщины из дома Гортензиев всего лишь дешевки. Никто из них не может сравниться с тобой. Кроме того, у меня есть правило: никогда не спать с клиенткой.
– Один раз ты его нарушил.
– Один раз.
Я смущенно усмехнулся. Она нервно улыбнулась мне. Я положил ее голову мне на плечо и прижал ее к себе.
Колоннада, где мы прятались, была закрыта со всех сторон. Я все так же сидел, продолжая держать Елену. Я чувствовал себя расслабленным и более мягким, чем обычно позволял себе быть. Она же все еще выглядела напряженной; я гладил ее волосы, она стала выглядеть спокойнее. Это ободрило меня, и я попробовал двинуться дальше, вдруг есть еще какие-то маленькие напряженные участки, требующие особого внимания…
– Марк!
Я решил продолжать. Ее гладкая нежная кожа, казалось, была в купальне смазана маслом специально, чтоб привлечь умелую руку.
– Перестань! Мы сейчас не можем…
Я решил подтвердить, что я столь же жесток, как она говорила ранее; я перестал.
Вскоре после этого я решил откланяться; разнообразное позвякивание серебряной посуды возвестило, что ее ужинающие родители становятся обеспокоены. Елена пригласила меня к столу, но я не хотел, чтоб Елена или ее родители (в особенности ее мать) решили, будто я из рода тех паразитов-прихлебателей, кто заходит в гости в обеденное время лишь, в надежде, что их накормят.
Выйдя из дома я в задумчивости пошел на север. Некоторые информаторы создают впечатление, будто повсюду, куда они не пойду, восхитительные женщины сами, без всякого приглашения, скидывают свою скудную одежду и стремятся попасть к ним в постель. Я сказал самому себе, что это так редко случается со мной, потому что я привлекаю более отборный тип девушек.
Что же, однажды я привлек такую.
XVIII
Дамы были дома. Их мужья где-то пропадали. Дамам было скучно. Я появился как подарок богов, чтоб заполнить пустое время после ужина. Если бы я притащил с собой флейту и несколько фригийских танцоров с мечами, я, возможно, был бы более полезен им.
Сколько я не посещал дом Гортензиев, меня ни разу не принимали в одной и той же комнате дважды. Этим вечером меня пригласили в волнующе голубой салон, имевший намек на будуар. На кушетки были вызывающе небрежно наброшены дорогие покрывала. Пухлые подушки в сияющих чехлах были обиты бахромой и толстыми кистями. Комната была заставлена мебелью: столешницы бронзовых прикроватных тумбочек поддерживались сатирами с вздыбленными приапами, ножки серебряных кушеток были в виде львов, шкафы, инкрустированные черепаховыми панцирями. В шкафах стояла целая коллекция спиралевидной сирийской посуды (в том числе как минимум одна ваза, недавно переделанная в Кампании), кое какие безделушки из слоновой кости, собрание довольно симпатичных этрусских ручных зеркал и одна чрезвычайно крупная чаша литого золота непонятного предназначения, они, вероятно, называли это "жертвенной чашей", но на мой взгляд, это больше походило на личный ночной горшок особо великого македонского царя.
С их полированной кожей и насурмленными глазами женщины выглядели так же шикарно, как занавески в той комнате. Сабина Поллия раскинулась на своей кушетке, словно разросшийся куст, что старается занять весь сад. Гортензия Атилия сидела более аккуратно, но ее намеренная поза не позволяла не заметить ее обнаженных ног. И действительно, когда они сидели склонившись обе над огромным блюдом с виноградными гроздями, я не мог не вспомнить насмешливые комментарии Елены (таково и было ее намерение, по видимому). Они обе носили платья с обилием складок, которые подходили больше, чтоб соскальзывать, чем закрывать красивые формы под ними. Я все задавался вопросом: какая из наплечных застежек Поллии соскользнет первой вниз по ее прекрасной руке больше, чем дозволено правилами приличия. Поллия была вся в изумрудах, Атилия в индийских жемчугах.
Сын Атилии, обыкновенный ребенок, был с ними. Он ползал на коленях с глиняным игрушечным осликом в руках. Ему было лет восемь. Я подмигнул ему, и он посмотрел в ответ с обычной враждебностью любого маленького мальчика, заметившего чужака в своем гнезде.
– Ну, Фалько, что ты нам принес? – спросила Поллия.
– Только новости, – извинился я.
Левая тесемка ее темно-красного платья сползла так низко, что стала раздражать ее. Поллия дернула ее вверх, что позволило правой тесемке свободно свалиться, обнажив часть ее груди.
– Говори же! – поторопила меня Гортензия Атилия, дернув пальцами ног. Атилия предпочитала, чтоб ее наплечные заколки оставались на ее роскошных плечах. В результате, когда она лежала на кушетке, лиф ее платья (которое было цвета морской волны, вкус был неплох, но все равно не идеален) опускался настолько низко, что любой, стоящий рядом, мог видеть большую коричневую родинку на два дюйма ниже ложбинки между грудей; той области, что так любят изображать у богинь-матерей (разумеется, это оставило меня равнодушным, я не религиозен).
Без каких-либо преамбул, я рассказал своим клиентам подробные сведения о тех результатах, что получил к этому времени.
– …Что касается астролога, то я не хочу заострять внимание на бытующих суевериях, но лучше об этом не упоминать, если Гортензий Нов начнет беспокоиться; нервничающие мужчины склонны к несчастным случаям…
– Это ничего не доказывает, – решительно заявила Поллия. Она удачно отобедала, и теперь пришло взять в руки щипцы, я был тем самым фундуком, на который она положила глаз, как я мог бы выразиться.
Я спокойно продолжал:
– …Я первым готов это признать. Но заказ надгробия — это совсем другой разговор! Северина Зотика идет к новому замужеству с практичной твердостью, так что будь на месте жениха я, я бы уже мчался к ближайшему храму просить убежища.
– Да.
Маленький мальчик разбил своего игрушечного ослика о ножку стола; его мать нахмурилась и приказала ему покинуть комнату.
– Если быть справедливыми к девушке, – предположила Атилия, – возможно, не стоит ее обвинять, если она хочет быть уверенна, что ее прежние неудачи в замужестве не повторятся. Гороскоп может быть совершенно невинной вещью.
Из двух женщин, Гортензия Атилия, несомненно, обладала самым большим великодушием. Как и все остальное, чем она обладала с избытком, дама выставляла его для свободного обозрения публике.
– Что я сейчас хочу сделать, – сказал я, – это добиться беседы с Севериной…
Поллия и Атилия посмотрели друг на друга. По какой-то причине я вспомнил опасения Елены, что в этом деле есть что-то неправильное.
– Это выглядит довольно хитрым трюком.
Застенчивое выражение Атилии подразумевало, что она наивный цветок, ищущий некоего мужественного типа, чтоб он отражал всякие напасти на нее на цветущем лугу жизни; я попытался вести себя как городской бандит, срывающий головы маргариткам, просто ради забавы.
– Возможно, мы должны подождать, – добавила Поллия, ослепительно мне улыбаясь. – Ты не потеряешь в оплате.
Мой интерес обострился.
– Сабина Поллия, мы договорились, что я узнаю цену охотницы за золотом.
Поллия надула губы, что уверило меня, мол были и другие вещи, о которых мы могли бы договориться.
– Я предлагала сперва собрать побольше доказательств. Но ты профессионал, Фалько. Ты должен выбрать подходящее время, и я уверена, твой выбор будет самым наилучшим…
Я ослабил горловину туники, шея изнемогала от жары.
– Тебе выбирать, я могу понаблюдать за ней еще немного. Если ты готова оплачивать мои расходы, я могу следить за ней столько, сколько тебе будет угодно.
Я никогда не находился в более выгодном положении, когда меня рассматривали, как игрушку богачей.
Обычно я предостерегаю своих клиентов от бесполезных трат. С четырьмя пустыми комнатами, которые необходимо обставить мебелью, и двумя женщинами, способными позволить себе купить новую куклу к себе за стол, мои твердые принципы становились более податливыми.
Я ушел сразу. Маленький мальчик сидел на ступеньках их могучего портика. Его взгляд, когда он смотрел, как я скольжу по полированному мрамору, был полон мрачного презрения, потому что я, очевидно, ушел слишком рано, не вкусив всех радостей.
Я шагал домой, чувствуя себя полным агрессии. Все в Риме наслаждались ужином, кроме меня. В это время забегаловки в районе Рыбных прудов стали более заметны, но, все равно, оставались малопривлекательны. Я порысил прочь, чтоб навестить ма. Там я встретил некоторых из моих сестер, и рискнул сообщить им, что мол если у кого-то есть какая-либо лишняя мебель, я мог бы найти ей новый дом. Юния предложила кровать. Юния считая себя выше многих, сумела поймать в ловушку мужа, имевшего хорошее жалование надзирателя за клерками на таможне; они не держали ничего из мебели более двух лет. Обычно я не брал то, что они выбрасывали, так как не хотел чувствовать себя неким пресмыкающимся паразитом, но ради очень приличной кровати я заставил свою гордость склониться. Эта сделка, с практически новой кроватью, стоила мужу моей сестры почти двести сестерциев, мне было приятно это слышать. Попрошайничать тоже надо уметь.
Было уже достаточно поздно, и движение колесных повозок по улицам было разрешено
[217]. Мой шурин Мико всегда мог раздобыть тележку, так что мы быстро увезли кровать той ночью прежде, чем Юния успела передумать. Потом мы пустились в обход остальных членов нашего рода, собирая их дары в виде сковород с кривыми ручками и колченогих табуреток. Как только я смог избавиться от Мико, я насладился меблировкой своей комнаты, словно маленькая девочка, играющая с кукольной мебелью. Было поздно, но ма дала мне несколько ламп, а Майя подбросила пол-кувшина масла, шипящего и брызгающего, но вполне годного.
Пока я таскал барахло туда-сюда, соседи по дому то и дело барабанили в стены. Я охотно отстукивался им в ответ, я всегда рад заводить новых друзей.
Новая кровать была отличной, но матрас был совершенно не обмят боками семейства Юнии, и походил по твердости на гранитную глыбу. Однако, ночные приключения, которые я обещал самому себе, скоро создадут в нем удобные вмятины.
XIX
Поскольку мои клиенты требовали больше доказательств, как только рассвело, я отправился, вооружившись именем и адресом, которые мне дал Лузий из дома претора; я собирался побеседовать с врачом, которого вызывали ко второму мужу Северины, аптекарю, после того, как тот задохнулся.
Шарлатан очень был раздражен, что его побеспокоили в столь ранний час, хотя он и близко не был столь раздражен, как я, когда понял его полную бесполезность. То, что я разозлился, не оказалось для него чем-то новым. Я понял, что Лузий был с ним столь же резок, когда допрашивал его в прошлый раз.
– Я рассказал секретарю как все было, и мой рассказ остался таким же!..
Это означало, что самонадеянное ничтожество имеет в виду факты, в которых я сомневался в первую очередь.
– …У аптекаря начались конвульсии…
– Ты при этом присутствовал?
– Мне об этом рассказали! В тот момент его слуги разбежались, а жена делала все возможное, чтоб вернуть его к жизни.
– Не удалось?
– Она едва могла дотронуться до него. Этот человек жестоко корчился…
– Ты имеешь в виду…
– Не говори мне о моих профессиональных обязанностях! – перебил он меня сердито, хотя я сформулировал вопрос максимально корректно. – Я уже наслушался от секретаря претора! Он хотел убедить меня, что мол жена могла задушить своего мужа…
Значит мой приятель Лузий тщательно провел расследование.
– …Это же глупость. Бедная женщина получила сильный удар и была в синяках, но она старалась изо всех сил. Должно быть, Эприй бился так сильно, что отбросил ее и она тоже лишилась чувств…
– Разве ты не находишь это подозрительным, если она ему только помогала?
– Конечно нет. Он понятия не имел, что он делает; у него были предсмертные судороги!
– Попробуем другой сценарий, – настаивал я. – Северина попыталась его отравить, но это не сработало должным образом, поэтому ей пришлось его удерживать; Эприй понимал, что с ним происходит, и боролся с ней…
– Ненужное предположение. Я нашел лекарство, что задушило его.
– Ты сохранил его?
– Конечно, – ответил он холодно. – Я передал этот предмет секретарю претора.
– Я полагаю, это была пастилка от кашля. Аптекарь должен был знать, как сосать конфеты! Ты ему прописал это лекарство?
– Я не лечил его. Сомневаюсь, что он обращался к врачам; он был достаточно квалифицирован, чтоб составить лекарство для себя самого. Они позвали меня когда произошел несчастный случай, потому что я жил неподалеку. Эприй был уже мертв, когда я добрался до них; ничего уже нельзя было поделать, оставалось только как-то успокоить вдову. По счастью вольноотпущенник, которого, как оказалось, она знала, заглянул в дом, таким образом я смог оставить эти заботы на другого…
– Она успокоилась! – заверил я его. – Она вышла замуж в том же месяце.
Напыщенный олух все равно не желал подписывать неблагоприятное для Северины заключение.
История, что он мне рассказал, пугала, но не продвигала меня вперед в расследовании ни на шаг. Я ушел недовольный. Тем не менее, я все еще был намерен доказать Поллии и Атилии, что они не зря тратили на меня деньги. Поскольку я потерпел неудачу с торговцем бусами и аптекарем, мое последнее средство спасения был торговец животными.
Я нанял мула и поехал в северо-восточную часть города. Я знал, что животных для арены размещали за городской стеной, по другую сторону от главного Преторианского
[218] лагеря. В Императорском зверинце содержались любые необычные животные, о которых я когда-либо слышал, и многие, о которых и не слышал. Я начал свои расспросы среди крокодилов, щелкавших зубами в клетках позади меня, и страусов, выглядывающих из-за плеч любого, к кому я приближался. Вокруг были полумертвые носороги, грустные обезьяны и леопарды с потускневшей шерстью; за ними ухаживали длинноволосые люди, выглядевшие столь же угрюмо и непредсказуемо и как и сами животные. Стояла кислая, затуманивавшая сознание вонь. Между клетками под ногами хлюпал тонкий слой мерзкой грязи.
Я спросил, где найти племянника Гриттия Фронтона. Мне ответили, что он вернулся в Египет, но если мне надо устроить веселую вечеринку, мне следует обратиться к Талии. Так как я никогда не знал, когда пора смываться, я последовал в указанную мне полосатую палатку, где я смело отдернул закрывающий вход полог и еще более опрометчиво вошел.
– О! – раздался такой скрипучий голос, что им можно было затачивать плужные лемеха. – Удачный день для меня!
Она была большой девочкой. Я имею в виду… ничего так. Она была выше меня. И она была крупной, повсюду. Она была достаточно молода, чтоб описать ее как девушку, не проявив к ней неуважения, и я мог видеть, что то, чем ее наградила природа, полностью соответствовало ее росту. Ее одежда соответствовала тому, как это было принято среди артисток в этом месяце: несколько звезд, пара страусиных перьев (и это объясняло, почему некоторые из птиц снаружи выглядели несколько обиженными), скудные тряпки из прозрачной ткани и ожерелье.
Ожерелье могло бы сойти за коралловое, пока ты не заметишь, что драгоценные витки иногда лениво подрагивали. Время от времени конец ожерелья приподнимался над ее плечом, и она откидывала его назад. Это была живая змея.
– Необычно, да?
У нее было добродушное выражение лица, на котором читалась вся ее биография; в любом состязании с хитрой рептилией мне было бы жалко змею.
– С таким украшением на твоей шее, я полагаю, ты редко сталкиваешься с неприятностями со стороны мужчин!
– От мужчин всегда неприятности, дорогой!
Я улыбнулся извиняясь:
– Все, что я хочу, только несколько добрых слов.
Она громко рассмеялась:
– Все так говорят!
Затем она пристально посмотрела нам меня, словно хотела усыновить. Я испугался.
– Я Талия.
– Одна из Граций
[219]! – это дело уже походило на безумие.
– А ты нахал. Как твое имя?
Против собственных благих правил я назвал свое имя.
– Ну, Фалько, ты убежал из дома, чтоб стать укротителем львов?
– Нет, меня мама не отпустила бы. Ты акробатка?
– Любой бы мог стать акробатом, имей питона, который тебя обожает…
– Довольно! – поспешил я прервать ее.
– Я профессиональная танцовщица со змеями, – холодно сказала она мне.
– Я вижу! Ты выступаешь с этой змеей?
– Этой? Эта, чтоб надевать ежедневно! В моем представлении змея в двадцать раз больше этой!
– Извини. Я думал ты репетировала.
Танцовщица со змеями поморщилась:
– То, что я делаю на представлении достаточно опасно, но за это платят. Кто заплатит за репетицию?
Я усмехнулся.
– Я хотел бы увидеть когда-нибудь этот номер.
Талия проницательно глянула на меня, как смотрят люди, что живут с ядовитыми тварями. Она привыкла все замечать, даже когда ее мысли, казалось, витали где-то далеко.
– Что тебе надо, Фалько?
Я сказал ей правду.
– Я информатор. Пытаюсь установить убийцу. Я пришел спросить, знал ли кто-нибудь Гриттия Фронтона?
Талия снова убрала голову змеи.
– Я знала Фронтона.
Она похлопала по скамье рядом с собой. Так как ее манеры не казались враждебными (а змея выглядела спящей), я рискнул приблизиться.
– Я имел разговор с секретарем, помогавшим претору вести расследование смерти Фронтона. Лузий допрашивал тебя?
– Кто верит женщине, проделывающей необычные вещи со змеями?
– Людям следует верить! (Это казалось подходящим моментом проявить галантность.)
Она кивнула. Я мог заметить, что она расстроена.
– Некоторых мужчин влечет опасность. Тогда, когда умер Фронтон, моим последним несчастьем был неуклюжий канатоходец, столь близорукий, что он не видел собственных шаров!
Я попытался изобразить сочувствие.
– Не пострадал ли и он во время того несчастного случая?
– Он никогда бы не оправился полностью, но я ухаживала за ним.
– Вы еще вместе?
– Нет! Он простудился и умер – все мужики такие сволочи!
Змея внезапно развернулась и заинтересовалась моим лицом. Я постарался сидеть неподвижно. Талия вернула змею на место, обмотав ее дважды вокруг шеи, и расположила голову и хвост змеи чуть ниже своего полного подбородка. Так как я слишком оробел, чтоб говорить, она продолжила без посторонней помощи:
– Фронтон импортировал зверей; занимался этим много лет. В некотором отношении, он преуспел в этом, но самую тяжелую работу делал племянник, находя животных в Африке и Индии и отправляя их сюда. Лучшие времена для сражений на арене были при Нероне, Но даже в трудные времена
[220] случались побочные заработки – было достаточно состоятельных клиентов, желавших заполучить в свои поместья диковинных зверей.
Я кивнул. Рим многое сделал для уничтожения опасных видов в отдаленных провинциях. Тигры, собранные от Кавказа до Индии. Целые стада разрушительных слонов уничтоженные в Мавретании. Змеи тоже, по видимому.
– Что ты хочешь знать? – спросила Талия, став внезапно более сосредоточенной.
– Все, что будет иметь смысл. Например, ты знала жену Фронтона?
– Никогда ее не встречала. Да и встречать ее никогда не было желания. Она была просто бедой; можно сказать, Фронтон думал также. Он не позволял ей вмешиваться в дела. Он никогда не говорил ей, что у него есть племянник. Ты знал это?
– Я догадывался об этом. Итак, что там случилось? Я слышал, что пантера загнала Фронтона и канатоходца под какое-то подъемное колесо. Это было так?
Талия мрачно воскликнула:
– Хорошо, для начала, это все ложь!
– Что ты имеешь в виду?
– Это произошло в Цирке Нерона
[221].
Внезапно я уловил смысл; в отличии от амфитеатра, ипподром устроен проще.
– Там нет подвалов? Ничего вообще нет подземного, и поэтому нет надобности поднимать клетки?
Талия кивнула. Мне хотелось бы, чтоб она этого не делала; это побеспокоило змею. Каждый раз когда она двигалась, это существо оживлялось и начинало проверять, хорошо ли я выбрит, и нет ли у меня вшей за ушами.
– То есть бестолковые эдилы подписали отчет о несчастном случае, даже не сходив посмотреть?
– Должно быть так.
Это было хорошей новостью: появилась возможность отыскать новые улики.
– Ты была там?
Талия кивнула и ее любопытный питомец снова распутался, ей пришлось опять его заматывать.
– Так как же все было на самом деле?
– Это случилось в воротах, ведущих на арену. Фронтон доставил зверей для утреннего представления перед состязанием колесниц – пародия на охоту. Ты знаешь это! Лучники на лошадях скачут туда-сюда вслед за чем-нибудь пятнистым или полосатым, которому случилось оказаться в зверинце в это время. Если у тебя есть очень старый и усталый лев, у которого нет уже зубов, ты иногда позволяешь сынкам аристократов…
– Неужели та пантера была усталая и беззубая?
– О, нет! – Талия посмотрела на меня с укором. – Эта пантера была настоящая. Очень красивая. Ты можешь увидеть ее, если захочешь. Племянник Фронтона содержит ее после всего случившегося – в знак уважения, на случай если его дядя все еще частично находится внутри. Похороны, знаешь Фалько, было сложно провести…
– Я не думаю, что хочу на нее смотреть; как я подозреваю, это животное говорить со мной не будет, а даже если оно это сделает, ни один суд не примет такие доказательства. Так что там случилось то?
– Кто-то ее выпустил.
– Ты имеешь в виду, специально?
– Смотри, Фалько. В Цирк Нерона клетки надо тащить через весь город. Это делается ночью, но все равно возникнет паника, если даже самый маленький лев вырвется на свободу!
Я видел специальные клетки, в которых перевозят диких животных – достаточно больше, чтоб вмещать животное, и достаточно удобные для подъема в амфитеатре. Верхняя секция их крепилась на петлях.
– Фронтон был очень внимателен в отношении животных; они дорого ему обходились! Он самостоятельно проверял замки перед перевозкой, и он проверял их снова, когда клетки прибывали на место. Не было никакой возможности пантере случайно ускользнуть.
– Но, возможно, клетки отпирали в какой-то момент?
– Перед выходом животного на арену. Фронтон должен был всегда за этим приглядывать. Он отпирал замок клетки, только когда ее уже поднимали наверх, на арену. После этого рабу наверху было достаточно сдвинуть защелку, чтоб она открылась…
– Но в Цирке это делалось иначе?
– Да. Клетки для пародии на охоту держали в помещении для колесниц; животные должны были попасть на арену через выездные ворота. Они были бы с радостью размялись, после того как провели ночь в тесных клетках. Так что они живо бы выбежали на арену Цирка, которая была заставлена поддельными деревьями, изображающими лес – это выглядело здорово! Вслед за ними должны были выехать охотники…
– Давай пропустим, как были подстрижены деревья. Что случилось у ворот?
– Кто-то освободил пантеру когда Фронтон и мой канатоходец были в одном из узких проездов для колесниц. Они бросились бежать к воротам на арену, но те были еще заперты, и они оказались в ловушке. Я побежала назад с несколькими мужчинами. Мы видели, как пантера закончила свое первое блюдо и собиралась приступить к десерту. Канатоходец заскочил в пустую клетку и захлопнул
крышку, совсем как в комедии любовник спрятался в коробке для грязного белья. Вот так он спасся.
– О, Юпитер!
– Тебе не следует проклинать пантеру, – сказала добросердечная Талия, – она была голодная, и мы считали, что кто-то ее разозлил!
– Хорошо. Очень важный вопрос, – сказал я с большей сдержанностью, чем мне хотелось. – Кто ее разозлил, и кто ее выпустил?
Талия вздохнула. Когда вздыхает девушка подобных размеров, явственно ощущаются порывы ветра. Змея подняла голову и укоризненно посмотрела на меня. Талия сунула голову змеи себе за пазуху; в наказание (а может быть для змеи это и удовольствие).
– У нас был кладовщик. – сказала Талия. – Мне никогда не нравились кладовщики.
XX
Я наклонился вперед, опираясь руками на колени. Даже "ожерелье" было забыто.
– У меня есть шанс найти этого кладовщика?
– Ты думаешь, племянник Фронтона не пробовал? Почему ты считаешь, что мы ничего не сказали законникам? Почему племянник Фронтона прекратил разбирательство?
– Ты мне об этом и рассказываешь.
– Кладовщик мертв. Несчастный случай.
– Какой?
– Он шел мимо заброшенного здания. И на него рухнула стена.
– Ты уверена, что это был несчастный случай?
– Племянник Фронтона был убежден в этом. Было много шума по поводу обрушения дома, но так как никто из родни нашего кладовщика не выступил с иском, никто не мог привлечь к ответственности арендатора. Племянник Фронтона чуть не рехнулся, потому как это разрушило все его судебное дело против вдовы, если только кто-то еще совершенно посторонний не был причиной смерти Фронтона. Стражники опознали тело кладовщика, ты послушай, по ключу в его кошельке. На ключе было имя Фронтона, это был пропавший ключ от клетки с пантерой.
– А из-за чего он был зол на Фронтона?
– Никто не знает. Он был у нас всего несколько недель, и никак не проследить, с кем он мог быть связан. У нас работает много временных сотрудников.
– Как его звали?
– Гай.
– Это очень поможет!
Более половины мужчин откликается на имя Гай. А из оставшихся каждый второй или Марк или Люций; и это делает жизнь информатора очень трудной.
– Ты можешь дать что-то получше?
– У него, возможно, было второе имя. Я сломала себе голову, но никак не могу его вспомнить. Фронтон был единственным, кто мог бы ответить на этот вопрос.
Я задал акробатке еще несколько вопросов, но ей нечего было добавить к тому, что она уже рассказала. Она пообещала попробовать вспомнить еще какие-нибудь подробности о кладовщике. Я покинул зверинец, чувствуя себя ошеломленным.
Мое утреннее расследование дало немного конкретного материала, но описания, как встретили свою смерть Эприй и Фронтон, были настолько яркими, что когда я добрался до холма Целий и занял свое обычное место, я был необычайно подавлен.
Счетная улица походила на печку; от летнего зноя все на ней просто жарились. Тротуары высыхали почти сразу, как только ведра воды выплескивали на них, клетка певчего зяблика в мастерской слесаря была обмотана тканью, чтоб укрыть от солнца его маленькую пернатую головку. Когда я пришел, я махнул рукой владельцу забегаловки; к тому времени он уже знал, что я обычно заказываю. Так как я заметил, что кто-то уже стоит у прилавка, то я остался снаружи и занял единственный столик под тентом.
Я ждал, пока хозяин подогреет мое вино. Было приятное утро (если ты сидишь за столиком в тенечке), и я знал, что Северина вряд ли объявится еще пару часов. Счастливый от перспективы того, что мне хорошо заплатят за такую легкую работу, я закинул руки за голову и с удовольствием потянулся.
Позади меня кто-то вышел из харчевни. Я думал, что это слуга, но быстро понял свою ошибку. Когда я опустил руки, их притянули к моим бокам при помощи петли из толстой пеньковой веревки. Веревка туго затянулась. Мой тревожный вскрик был заглушен большим мешком, который быстро накинули мне на голову.
Я бросился вперед, рыча. Я почувствовал, что стул позади меня упал, но я не мог определить, в каком я положении сам. Ослепленный, задыхающийся от дурманящей вони внутри мешка, и совершенно изумленный. Моим инстинктивным попыткам освободиться кто-то препятствовал; напавшие грубо швырнули меня лицом вниз на стол. Я вовремя успел повернуть голову, и спас свой нос от расплющивания, но получил жестокий удар, и в моем ухе зазвенело. Я пнул назад наугад и попал во что-то мягкое, повторил, но попал только в воздух. Все еще распластанный на столе я изогнулся вбок. Руки схватили меня; я с силой рванулся в другую сторону, и свалился за край стола.
Все происходило так стремительно, что я не успевал определить, где верх, где низ. В тоже время другие люди имели собственные идеи, куда мне следует двигаться; я лежал на спине, и меня тащили ногами вперед, и очень быстро. Самое лучшее, что я мог сделать, ждать, вдруг кто-то из прохожих вмешается. Я был совершенно беспомощен. Каждый из злодеев вцепился в одну из моих ног – я сильно рисковал, если они не договорятся оба обогнуть с одной стороны какой-нибудь встречный столб. Большая часть меня уже вся болела. Ругать моих похитителей из такого положения – мне стало бы еще больнее. Мне приходилось следовать туда, куда меня волокли.
Канавы у края дороги не представляли большой проблемы; ожидая следующую я выгнул спину. Мешок до некоторой степени защищал меня, но основание моей шеи было все исцарапано, и я чувствовал себя, как цыпленок, с чьих костей сдирают мясо. Я хрюкнул. Тряска по туфовым блокам никак не шла на пользу моей голове.
Я знал, что мы свернули, так как угол стены содрал с меня кожу даже через мешок. Мы попали в более прохладное место; это уже была не улица.
Я проехался спинным хребтом по твердому порогу, отметился о него черепом. Еще повороты, еще удары. Наконец мои ноги бросили, и я свалился на землю. Я лежал неподвижно и наслаждался покоем, пока мог.
Пахло ланолином
[222], решил я. В мешке, куда меня засунули, раньше была непряденная овечья шерсть; неожиданная подсказка.
Я прислушался. В закрытом помещении я был не один. Послышалось какое-то движение; сперва что-то неопределенное, потом стук, словно большими камнями бьются друг о друга.
– Правильно, – проговорила какая-то женщина. Раздосадована, но не слишком взволнована.
– Вытаскивайте его. Дайте на него посмотреть.
Я сердито отбрыкивался.
– Осторожней! Вы так порвете хорошую вещь…
Я узнал крепкого раба, с большими руками, который вытряхнул меня из мешка. Затем я понял, что за стук я слышал: большие глиняные грузила, что качались друг рядом с другом, пока кто-то протягивал нить основы. Она только что опустила ремизку на следующий колышек и подбила ткань. Я никогда не видел ее без покрывала, но узнал ее.
Вот пример моего профессионализма: я был среди бела дня похищен Севериной Зотикой.
XXI
Рыжие волосы оказались волнистыми и рыжеватого оттенка. Они были достаточно красными, чтоб их обсуждали, хотя и не слишком яркими. Они бы не смутили нервного быка, и меня они тоже не испугали. В комплекте к ним шли бледная кожа, белесые ресницы и водянистые глаза. Волосы были зачесаны назад, чтоб подчеркнуть линию бровей; это должно было бы придать ее лицу несколько детское выражение, но выражение ее лица позволяло предположить, что Северина Зотика слишком быстро рассталась со своим детством, чтоб это принесло ей пользу. Она выглядела как ровесница Елены, хотя я знал, что она должна была быть моложе на несколько лет. У нее были глаза старой ведьмы.
– Ты мог захворать, – сказала она угрюмо, – сидя весь день в тени.
Я проверил, нет ли переломов рук и ног.
– В следующий раз, просто пришли мне приглашение посетить твой дом.
– А ты согласился бы?
– Всегда рад познакомиться с девушкой, которая добилась успеха своими силами.
Профессиональная невеста носила верхнюю серебристо-зеленую тунику с рукавами, которая сочетала в себе простоту и хороший вкус. Она обладала хорошим чувством цвета: полотно на ткацком станке было приятного сочетания янтарного, серовато-желтого и красно-коричневого оттенков. Стены в комнате были матовые шафранового колера, подушки на диванах и портьеры были более яркие, а передо мной покрывал пол огромный ковер с темно-коричневым орнаментом по черному фону. Я чувствовал боль в столь многих местах, что глядя на него думал, это неплохое место, чтоб улечься.
Я ощупал затылок и нашел на волосах кровь. Под туникой закровоточила рана, полученная в последнем расследовании.
– Твои громилы избили меня. Если этот разговор собирается затянуться, один из них мог бы притащить мне стул?
– Принеси его себе сам!
Она жестом остановила рабов. Я сложил руки на груди и покрепче встал на ноги.
– Крутой, а? – издевалась она.
Она продолжила ткать. Сидела она ко мне боком, делая вид, что не обращает на меня внимания, хотя это было не так. Ритмичные движения челнока действовали мне на нервы.
– Сударыня, ты не могла бы не делать это, пока мы разговариваем?
– Ты можешь говорить.
Ее рот сердито сжался, хотя голос оставался спокойным.
– Тебе следует многое объяснить. Ты всю неделю следишь за моим домом и за мной. Один из моих арендаторов рассказал мне, что ты был в Субуре и задавал грубые вопросы о моей личной жизни…
– Ты должна была привыкнуть к этому! – прервал я ее. – Во всяком случае, я не повсюду следую за тобой; пантомиму я пропустил, я уже видел ее. Оркестр был уныл, сюжет глуп, а сам мим был старым лысым пузаном с вытаращенными глазами, настолько страдающим подагрой, что его и стукнуть то было стыдно!
– А мне понравилось.
– Любишь грубые фарсы, а?
– Предпочитаю иметь собственное мнение. У тебя есть имя?
– Дидий Фалько.
– Информатор?
– Правильно.
– И ты еще смеешь презирать меня!
Я не был одним из тех подлых червей, которые подслушивают разговоры сенаторов, чтоб донести о их неосмотрительных словах Анакриту во дворец, или их собственным неудовлетворенным супругам, но я позволил себе не отреагировать на оскорбление.
– Итак, Фалько, кто нанял тебя шпионить за мной?
– Семейство твоего жениха. Не вини их.
– Я и не делаю это, – решительно ответила Северина, – со временем мы с ними придем к должному взаимопониманию. У них есть свои сокровенные интересы. У меня тоже, как это и бывает.
– Влюблена? – едко спросил я.
– Как ты думаешь?
– Ни разу! А он?
– Сомневаюсь.
– Честный ответ!
– Нов и я практичные люди. Романтическая любовь редко бывает долгой.
Я задавался вопросом, был ли Гортензий Нов в большей степени влюблен чем она. Человек, проживший холостым столько лет, обычно любит убеждать себя, что его причина отказа от свободы совершенно особая. Девушка говорила со мной с холодной рассудительностью, которую она вряд ли демонстрировала в его компании. Бедный старый Нов мог вводить себя в заблуждение, что его возлюбленная такая скромница.
Северина потянулась к корзине за новым мотком шерсти наблюдая за мной. Тем временем я все еще пытался отгадать, почему она сегодня взяла инициативу в свои руки. Это могло быть простое нетерпение, от того что я все время следовал за ней. Но я чувствовал, что ей действительно нравится играть с огнем.
Она села и положила свой узкий подбородок на сложенные домиком пальцы.
– Ты бы лучше предал гласности тревоги этого семейства, – предложила она. – А мне скрывать нечего.
– Тревогой моих клиентов является то, что обеспокоило бы любого, юная леди, твое запятнанное прошлое, твои настоящие мотивы и твои будущие планы.
– Я уверена, ты это знаешь, – перебила меня Северина, все еще сдерживаясь, но с блеском в глазах, который я только приветствовал, – что мое прошлое было тщательно изучено.
– Старым напыщенным претором, у которого не хватает ума, обратить внимания на своего чрезвычайно толкового секретаря.
Взгляд, которым она наградила меня мог означать как появившееся уважение, так и возросшую неприязнь.
– Я считаю, что секретарь проявил к тебе свое расположение, и не обязательно тайно, – добавил я, вспомнив Лузия, как прямолинейного типа, способного откровенно высказать свое мнение. - Что ты думаешь по этому поводу?
Северина выглядела удивленной этим вопросом, но сумела заставить ответ звучать несколько манерно:
– Понятия не имею!
– Ложь, Зотика! Ну, я здесь новичок, до сих пор придерживающийся нейтралитета. Предположим, ты шепнешь в мое благосклонное к тебе ушко, что произошло на самом деле. Начнем с твоего первого маневра. Тебя таскали туда-сюда начиная с рынка рабов на Делосе в детстве, и до самого Рима. Ты вышла замуж за своего хозяина. Как ты это сделала?
– Никакого обмана, уверяю тебя. Моск купил меня, потому что я выглядела смышленой; ему нужен был кто-то кого можно было обучить присматривать за складом…
– Способность к счету должно быть помогает тебе в качестве наследницы!
Я заметил, как она вздохнула, но мне не удалось добиться от нее вспышки, на которую я надеялся. Как и подобает рыжим, она была зажата и скрытна – словно тот, кто размышляет на руинах империй. Я мог представить себе, что она плетет заговор, чтоб отомстить за воображаемую обиду, спустя много лет после происшествия.
– Север Моск никогда не домогался меня, но когда мне исполнилось шестнадцать, он предложил мне выйти за его замуж. Возможно, потому что он никогда не злоупотреблял мной – в отличии от других – я согласилась. А почему бы и нет? Его магазин был лучшим местом, где я когда либо жила, я чувствовала там себя как дома. Я получила свободу. Но ведь большинство браков по сути, лишь коммерческие сделки; никто не может осмеивать меня за то, что я воспользовалась своим шансом.
У нее была любопытная особенность уметь предугадывать реплики собеседника. Видимо, наедине она часто говорила сама с собой вслух.
– Что он получил?
– Мою молодость. Мое общество.
– Твою невинность? – подкольнул я.
Это заставило ее яростно вспыхнуть.
– Верную женщину и тихий дом, где он мог принять своих друзей! Сколько мужчин могут похвастаться этим? У тебя это есть, или есть лишь какая-нибудь дешевка, что орет на тебя?
Я не отвечал.
Северина продолжила тихим сердитым голосом:
– Он был уже пожилой. Его сила угасала. Я была хорошей женой, пока могла, но мы оба знали, что это, вероятно, не долго продлится.
– Присматривала за ним, не так ли?
Она посмотрела на меня прямо, отбивая мои шпильки.
– Ни у одного из моих мужей, Дидий Фалько, не было повода для сожаления.
– Настоящая профессионалка!
Она криво усмехнулась. Я пристально разглядывал ее. Эта бледная кожа, хрупкое тело и независимый характер; было невозможно представить, какой она была в постели. Но мужчины, ищущие уюта, могли бы легко убедить себя в ее покорности.
– Ты отправила Моска в Амфитеатр в тот день?
– Я знала, что он ушел туда.
– Ты понимала, насколько там было жарко? Ты когда-нибудь подозревала, что у него больное сердце? Пыталась остановить его?
– Я не назойлива.
– Итак, Моск закипел; ты просто вытерла пену с кухонной плиты и достала чистый горшок! Где ты откопала Эприя, аптекаря?
– Он сам нашел меня.
Она слишком долго держалась спокойного тона; невиновный уже давно бы орал на меня.
– Когда Моска хватил удар в театре, кто-то побежал в его лавку за лекарством, в надежде оживить пострадавшего, но без пользы. Моск уже отправился к богам. Жизнь бывает жестокой; когда я оплакивала своего мужа, Эприй пришел требовать плату за микстуру.
– Ты быстро уговорила своего кредитора!
Северина позволила себе, в знак признательности, слегка улыбнуться, и я знал, что она заметила мою ответную усмешку.
– Тогда вот что – он задохнулся?
Она кивнула. Ее хлопотливые ручки продолжали работать за ткацким станком, в то время как я потерял всякое желание испытывать к ней сочувствие; я представил те же самые руки, удерживающие аптекаря во время смертельных судорог.
– Ты была дома?
– В другой комнате.
Я наблюдал, как она мысленно готовится к новой линии допроса. Она слишком много раз повторяла эту историю, чтоб я мог ее обеспокоить.
– Он был без сознания, когда меня позвали. Я сделала все, что могла, чтоб заставить его снова дышать; большинство бы людей ударилось в панику. Пастилка застряла очень глубоко. Врач выяснил это уже после случившегося, но в тот момент, обезумевшая от испуга, я признаю, потерпела неудачу. Я винила себя – но тебе придется признать, что это был всего лишь несчастный случай.
– Он кашлял? – насмешливо спросил я.
– Да.
– Давно?
– Мы жили на Эсквилине.
Хорошо известен как нездоровый район; она придала своему способу убийства достоверность.
– Кто дал ему ментоловую пастилку?
– Я думаю, он сам назначил их себе! Он всегда держал шкатулку из мыльного камня с ними. Я никогда не видела, чтоб он их брал оттуда, но он сам мне сказал, что они для лечения его кашля.
– Ты по своей инициативе стала участвовать в его деле? Умный и услужливый партнер. Я побьюсь об заклад, первое, что ты сделала войдя в его дом в наряде невесты, это предложила составить каталог его рецептов, с указанием содержания ядов в каждом… Что случилось с Гриттием Фронтоном?
В этот раз она дрогнула:
– Ты должен это знать! Его сожрало животное. И прежде, чем ты спросишь, я отвечу – я не касалась его дел. Я никогда не бывала на арене,где это произошло, или где-либо поблизости, когда Фронтон погиб.
Я покачал головой:
– Я слышал, что сцена была очень кровавая!
Северина не сказал ничего. Ее лицо всегда было настолько белым, что было невозможно решить, взволновалась ли она сейчас. Но я знал, о чем я сейчас думал.
У нее в запасе было слишком много хорошо подготовленных ответов. Я попытался задать глупый вопрос:
– Кстати, ты знала эту пантеру?
Наши взгляды встретились. Это было интересное противостояние.
Я, должно быть, поколебал ее самоуверенность.
Северина посмотрела на меня оценивающе.
– Ты, должно быть, очень храбрая, – сказал я, – раз решились сделать это огненного цвета покрывало к еще одной свадьбе.
– Это хорошая ткань, я ткала ее сама!
Рыжая вернула себе самообладание. Эта самоирония делала ее голубые, холодные глаза привлекательными.
– У одинокой женщины, не имеющей опекуна, очень ограниченный круг общения.
– И верно, это ужасно, быть домохозяйкой, у которой никого не осталось, чтоб приветствовать его дома…
К этому времени, если бы я не слышал так много грязных подробностей о том, что случилось с ее мужьями, я вполне мог бы позволить ей одержать над собой верх. Я ожидал чего-то вроде приглашения на званый ужин у вампира. Мне была неприятна мысль, что эти тихие семейные привычки, лишь фасад, скрывающий расчетливую жестокость. Девушки, которые ткут и ходят по библиотекам должны быть безопасными.
– Ты должно быть в восторге, раз нашла астролога, предсказавшего, что твой следующий муж переживет тебя?
– Тюхе тебе это рассказала?
– Ты знала, что она сделает это. Ты же предупредила ее, что я иду по твоему следу? Она выглядела очень хорошо подготовленной к моему визиту.
– Мы, женщины-профессионалы держимся заодно. – ответила мне Северина сухим тоном, который напомнил мне и саму Тюхе.
– Ты закончил, Фалько? У меня есть еще чем сегодня заняться.
Я почувствовал разочарование, когда она прервала беседу. Затем я увидел, как она попыталась отыграть назад. Ошибкой была попытка избавиться от меня; мой допрос с пристрастием должно быть вызвал у нее смятение чувств. Несколько вяло она добавила:
– Если только у тебя есть еще какие-то вопросы?
Я слегка улыбнулся, давая понять, что ее защита выглядит уязвимой.
– Больше ничего.
Мои синяки сковывали тело. Все тяжелее становилось терпеть эту боль. Чтоб это прошло, потребуется несколько дней.
– Благодарю за потраченное на меня время. Если у меня появятся еще вопросы, я приду прямо сюда и просто задам их тебе.
– Как рассудительно!
Ее взгляд вернулся к моткам цветной шерсти в низенькой корзинке у ее ног.
– Признайся, – я решил подольститься, – служанка делает за тебя эту тяжелую работу, после того как гости уходят!
Северина подняла глаза:
– Не так, Фалько. – она позволила тени печали мелькнуть на ее, обычно сдержанном, лице. Трогательное зрелище. – Все на самом деле не так.
– Ах, замечательно. Мне понравилась твоя сказка. Я наслаждался хорошо сыгранной комедией.
Невозмутимая охотница за золотом приказала мне:
– Убирайся из моего дома, Фалько.
Она была жесткой, и, до определенной степени, честной; мне это нравилось.
– Я ухожу. И последний вопрос: шайка Гортензиев выглядит сплоченной маленькой кликой. Разве ты не чувствуешь себя неуместной?
– Я готова приложить усилия.
– Умная девочка!
– Это наименьшее, что я могу сделать для Нова.
Она была умна, но когда я уходил, ее глаза следовали за мной более пристально, чем следовало бы.
Я похромал в ближайшую открытую баню, прошел прямо в жаркое отделение и позволил своим синякам и ссадинам отмокать в горячей воде. Рана от меча, которую я нянчил, сидя в Латомийской тюрьме, частично открылась, когда меня бросали туда-сюда рабы охотницы за золотом. Я лежал в горячем бассейне, позволяя себе погрузиться в приятное забытье, и теребя незабинтованную рану; то, что не следует делать, но всегда делаешь.
В конце концов я вспомнил, что забыл предложить Северине отступные. Не беда. Я еще смогу сделать это предложение. Придется вернуться и поговорить о цене – в другой день. В другой день, когда я буду морально готов и мои конечности снова будут свободно двигаться.
Она была, определенно, проблемой. И мысль, что я мог бы бросить ей вызов, не беспокоила меня совершенно.
XXII
С меня было достаточно волнений на сегодня. Я не мог найти в себе сил, чтоб вскарабкаться на Пинций и сделать доклад своим клиентам, даже если бы я хотел получить еще ссадин из-за бабьей дури. Я решил также не раздражать Елену, щеголяя у Капенских ворот синяками, полученными от другой женщины. Так что оставалась лишь одна приятная перспектива: идти домой и завалиться на свою новую кровать.
Только я осторожно преодолел три лестничных пролета до своей квартиры, счастливый как никогда, что это не те шесть головокружительных лестниц в Фонтанном дворике, как я столкнулся с Коссом.
– Фалько! Ты выглядишь потрепанным…
– Девушка с избытком энергии. Что принесло тебя сюда, собираешь просроченную арендную плату?
– О нет, наши клиенты всегда платят вовремя.
Я постарался, чтоб мое лицо не выдало, какой шок его может ждать в будущем.
– Вдова с пятого этажа подала жалобу. Какой-то идиот нарушает ночной покой – хрипло поет песни и грохочет чем-то заполночь. Знаешь что-нибудь об этом?
– Ничего не слышал, – я понизил голос, – иногда эти живущие одиноко старые склочницы воображают всякое.
Естественно, Косс был готов скорее поверить в сумасшествие вдовы, чем в то, что некий другого квартиросъемщик, от которого вполне можно получить по морде за критику, имеет склонность к антиобщественному поведению.
– Я слышал, как вдова стучит в стену, – проворчал я, – я мог бы сказать об этом, но я очень терпимый человек.
– …Между прочим, – сказал я, плавно меняя тему разговора, – разве аренда в таком месте не предполагает наличия в доме привратника, чтоб носить воду и подметать лестницы?
Я ожидал, что он начнет препираться.
– Конечно, – согласился агент, – часть квартир не заселена, как ты знаешь. Но нанять привратника стоит в моем списке следующим пунктом…
Он был столь услужлив, что я даже дал ему чаевые, за его хлопоты, когда он уходил.
Входная дверь в мою квартиру была открыта, не было причины врываться с возмущенными воплями; знакомые звуки объяснили мне причину. Мико, мой ненадежный шурин, должно быть поделился моим новым адресом.
Я прислонился к дверному косяку. Несколько крупинок песка осыпало мои ноги, а один камушек попал в башмак.
– Доброе утро, мадам. Не здесь ли живет знаменитый Марк Дидий Фалько?
– Судя по грязи, здесь!
Она хлестнула по моим пальцам ног прутьями метлы, заставив меня подпрыгнуть.
– Привет, ма. Значит, ты меня нашла?
– Я полагаю, ты хочешь рассказать, где ты был?
– Что ты думаешь о моей квартире?
– Ни один из нашей семьи не жил в этом округе.
– Время и нам двигаться вверх!
Моя мать фыркнула.
Я попытался идти, будто слегка растянул мышцу во время приятной утренней тренировки на гимнастической арене. Это не удалось. Мать облокотилась на метлу:
– Что с тобой случилось на этот раз.
Шутка о некоей энергичной подруге показалась мне неуместной.
– Кое-какие люди с дурными манерами застали меня врасплох. Но это больше не повторится.
– Ой ли? – это был не первый случай, когда она заставала меня избитого прежде, чем мне удавалось где-нибудь скрыться и отлежаться. – В тюрьме ты был хотя бы целым.
– И терзаем большой крысой, ма! Мне повезло, что меня вытащили оттуда…
Она сильно стукнула меня метлой, чтоб показать, мол видит меня насквозь, как и все мои попытки солгать.
Раз я оказался дома, моя мать ушла. Наличие меня, ухмыляющегося сидя на табурете мешало ей вести поиски доказательств моей безнравственной жизни; она предпочла расстраивать себя в одиночестве, так она сможет поднять больший шум при оказии. Прежде чем покинуть квартиру, она сделала мне горячего вина со специями, что она принесла для моей кладовки на случай, если меня посетит кто-нибудь заслуживающий уважения. Утешенный, я лег спать.
Проснулся я после полудня, совершенно закоченевший, так как не удосужился приобрести какое-либо покрывало на кровать Юнии. После трех дней я так же нуждался в чистой одежде, и различных недостающих сокровищах, коими я обычно окружаю себя в месте, что зову домом. И так как сегодня я еще не чувствовал себя достаточно бодро, я решил совершить экспедицию в Фонтанный дворик.
Магазины были все еще закрыты ставнями, когда я прыгал по Авентину. На моей старой улочке все выглядело тихим. Бандиты моего домовладельца, Родан и Асиак, удостоили окрестности днем мира. Не было никаких признаков прихвостней Главаря Шпионов. В прачечной тоже все наслаждались сиестой. Я рассудил, что проход безопасен.
Я вскарабкался по лестнице и проскользнул в свою старую квартиру. Там я прихватил свои любимые туники, еще пригодную шляпу, праздничную тогу, подушку, пару более-менее целых (несмотря на пять лет использования) кухонных горшков, восковую табличку, на которой я временам царапал сентиментальные стихи, запасные башмаки и самое ценное имущество: десять бронзовых ложек — подарок Елены. Я запаковал все это в одеяло, которое принес домой из армии, и отправился обратно вниз по лестнице, закинув на спину свой сверток, как какой-нибудь взломщик, уносящий свою добычу.
Взломщику бы это сошло с рук. Настоящие воры могут забрать в доме десять возов старинного мрамора, кучу бронзовых статуй, все выдержанное фалернское вино
[223] и красивую дочь-подростка, и никто из соседей ничего не заметит. Я же ни в чем противозаконном не был замешан, и надо же было встретить какую-то грубую торговку колбасами, я прежде ее и не видел, которая заметила меня и подумала самое худшее. Даже в таком случае, большинство воров спокойно продолжили бы свой путь, пока свидетели хлопали глазами им вслед. Я встретил единственного на этом конце Авентина горожанина, который решил вмешаться. Только она увидела меня, спокойно удаляющегося прочь, как тут же подхватила свои огромные шерстяные юбки, издала вопль, что был слышен на другой стороне Тибра, и помчалась за мной.
Паника и досада смазали мои застывшие конечности. Я только припустил вверх по проулку… как два шпиона Анакрита выскочили от цирюльника, где им соскабливали полудюймовую щетину с подбородков. Я завопил, когда мой левый башмак оказался зажат под одной из гигантских ступней.
Я замахнулся своим свертком на второго шпиона. Внутри лежала моя любимая железная сковородка, и она заехала мужлану поперек горла: он отлетел назад с душераздирающим хрипом. Обладатель огромных лап был слишком близко, чтоб достаточно сильно его ударить, но его идея, как одолеть меня, заключалась лишь в том, чтоб созывать криком прохожих на помощь. Большинство из них знало меня, и когда они прекратили ржать над моим беспомощным положением, они стали издеваться над ним. Кроме того они были поражены видом продавщицы колбас – трех футов ростом – которая яростна нападала на нас со своим подносом полным салями. Мне удалось извернуться так, что этот, обутый в лодки, тип получил самые тяжелые удары, включая жестокий удар копченым гигантским фаллосом, который, должно быть, отбил у него вкус к перченой свинине на всю оставшуюся жизнь.
Но его гигантские ласты все еще топтались по моим ногам. Мне мешало то, что я был вынужден крепко держать свой сверток, так как я знал, что если я позволю какому-нибудь бездельнику из Тринадцатого района
[224] завладеть им, как не успею я и глазом моргнуть, он примется распродавать мое имущество с аукциона на ближайшем углу. Так что мы с Лапкой тесно прижались друг к другу, как какие-то атлеты на состязаниях по варварской борьбе, пока я пытался освободиться.
Я заметил, что второй соглядатай приходит в себя. В это время из прачечной, чтоб выяснить причину шума и суматохи, выбежала Ления, таща большой железный таз на своем бедре. Она окинула меня презрительным взглядом, и накрыла своим котлом мужика, которому до этого досталось моей сковородкой: не его день с железяками. На его череп обрушилась тяжесть таза, и ноги снова подогнулись. В этот момент мне удалось немного освободить из ловушки ногу, и я сумел двинуть Лапку коленом в ту часть тела, которая была гораздо менее развита, чем его ноги. Его подружка прокляла бы меня. Пальцы его ноги скорчились в агонии, я был свободен. Ления обрабатывала колбасницу, используя выражения, не годящиеся для храма. Я напоследок стукнул Лапку своей ношей, и не стал извиняться.
Я снова был дома.
После побоища на Авентине, здесь казалось смехотворно тихо. Я оживил обстановку, насвистывая грубую галльскую песенку, пока чокнутая вдова этажом выше не начала снова стучать. Она совершенно не имела понятия, как следует отбивать такт, как что я завершил свое выступление.
Измученный, я спрятал ложки Елены в тюфяке, а потом завернулся в изъеденное молью одеяло и рухнул на кровать.
Прохрапеть всю вторую половину дня – приятное времяпрепровождение, которое частные информаторы проделывают с искусной непринужденностью.
XXIII
На следующий день я проснулся освеженный, хотя все равно боль чувствовалась. Я решил пойти к Северине Зотике и поделиться с ней образцами своей мудрости, пока подходящие случаю высказывания так и вертятся на языке.
Перед уходом я позавтракал. Моя ма верит, что домашняя еда способна уберечь нравственность мальчика (особенно, когда ему приходится торчать дома, помешивая в кастрюльке). Я сообразил маленькую жаровню, способную подогреть оказавшуюся под рукой миску, а сооружение плиты оставил на потом. В августе не было достаточно желания таскать домой украденные на стройке кирпичи, только чтоб заполнить свою изящную квартиру, чадом, жаром и вонью от жареных сардин. С другой стороны, было бы проще покончить с этим разом, чем держать оборону от моей ма, по этому вопросу… Ма никогда не желала понять, что у частного информатора могут быть более важные дела, чем заниматься домашним хозяйством.
Я выпил медовый напиток домашнего приготовления, размышляя о том, что наличие суровых матерей может объяснить, почему большинство информаторов – скрытные одиночки, выглядящие так, будто они сбежали из дома.
Когда я прогуливался по Счетной улице, другие прохожие уже позабыли про завтрак и размышляли о возможности пообедать. Я благородной отрыжкой вспомнил свою собственную недавнюю трапезу, и после этого решил присоединиться к общей тенденции и стал подумывать, а не пора ли мне подкрепиться (тем более, что все затраты на еду здесь я мог отнести на "накладные расходы" в счете Гортензиям).
Появление искательницы золота отвлекло меня от мыслей о харчевне. Свитки у нее под мышкой говорили о том, что усердный школяр снова посетила библиотеку. В сырную лавку, что была перед ее квартирой, завезли товар, и перегородившая улицу ручная тележка с ведрами козьего молока и кругами сыра, завернутыми в ткань заставила ее выйти из портшеза. Когда я подошел, она саркастически отчитывала служащих лавки. Они допустили ошибку, начав оправдываться, мол они всего лишь делают свою работу; это позволило Северине Зотике в красках описать, как надо работать, если бы они имели хоть малейшее понятие о правилах пожарной безопасности, о распоряжениях местных властей насчет движения по улицам, о необходимости соблюдать тишину и порядок и не мешать окрестным жителям и прохожим.
Для Рима это была обычная сценка. Я отступил назад, пока она наслаждалась собственным красноречием. Перевозчики с ручной тележкой, разумеется, слышали все это и прежде, так что они отодвинули испачканное сливками ведро, чтоб она,если подберет свои юбки, смогла протиснуться мимо.
– Снова ты, – бросила она мне через плечо тоном, который многие из моих родственников склонны использовать, общаясь со мной. Я почувствовал, что она снова получает удовольствие играя с огнем.
– Да. Прошу прощения… – кое-что отвлекло меня.
Пока я поджидал в засаде Северину, какой-то мужлан на осле подъехал поговорить с торговцем фруктами из садов Кампаньи, с которым я совсем недавно беседовал. Старик вышел из-за прилавка и, казалось, о чем то умолял. Затем, когда грубиян, казалось, уже уезжал, он резко прижал своего осла к прилавку. Склонность к разрушению была в крови у скотины: он качнул крупом, так, словно его обучали развлекать зрителей на арене, между поединками гладиаторов. Все аккуратно выложенные ряды раннего винограда, абрикосов и ягод просыпались на дорогу. Наездник схватил один нетронутый нектарин, надкусил его, и с презрительным смехом бросил в сточную канаву.
Я уже бежал по дороге. Грубиян приготовился направить зад своего скакуна еще разок на прилавок, когда я вырвал у него уздечку и уперся ногами в землю:
– Осторожней, приятель!
Это был потрепанный наглый тип в вязаной коричневой шапочке, в ширину он был больше чем в высоту. Его руки были столь же толстые, как окорока из Бетики, а плечи застряли бы в триумфальной арке. Несмотря на свои мышцы, он выглядел нездоровым; его глаза были опухшие, а на пальцах были гнойные язвы. Даже в городе, полном прыщавых шей, он был чудом, покрытым фурункулами.
Пока осел пытался зубами ухватиться за уздечку в моих руках, мордоворот наклонился вперед и посмотрел на меня между острыми ушами.
– Ты меня еще узнаешь, – спокойно сказал я, – и я тебя узнаю! Меня зовут Фалько. Любой на Авентине скажет тебе, что я не могу просто стоять и смотреть, как какой-то хулиган портит имущество пожилого человека.
Его слезящиеся глазки метнулись к продавцу фруктов, который испуганно стоял посреди своих уничтоженных груш.
– Несчастный случай, бывает… – пробормотал старик, не глядя на меня. Вмешательство было, вероятно, нежелательным, но такое неприкрытое запугивание приводит меня в ярость.
– Несчастный случай можно было предотвратить! – прорычал я, обращаясь к громиле. Я потянул уздечку, чтоб оттащить осла подальше от прилавка. Он выглядел таким же жалким, как дикий жеребенок, только что пойманный в лесах Фракии
[225], но если он меня попробует укусить, я был настолько сердит, что тут же сам вопьюсь в него зубами.
– Забери своего четвероногого вредителя на какой-нибудь другой утренний рынок, и не возвращайся сюда больше!
Затем я дал ослу такого пинка, что тот заревел и потрусил легким галопом прочь. Наездник оглянулся в конце улицы, я позволил ему видеть себя, все еще стоящим посреди дороги и наблюдающим за ним.
Небольшая толпа стояла молча. Большинство из них тотчас вспомнило о неотложных делах и поспешно рассеялось. Один ли двое помогли мне собрать фрукты старика. Во всяком случае они сгребли продукты и запихали останки их в ведро позади прилавка, придав уцелевшему вид, что будто ничего не произошло.
Как только прилавок стал выглядеть более опрятно, старик, казалось, расслабился.
– Ты знаешь этого дурня? – спросил я. – Что ему от тебя было нужно?
– Посыльный арендодателей…
Я мог догадаться.
– …Они хотят увеличить арендную плату за все помещения в первом ряду. Некоторые из нас, сезонных торговцев, не могут позволить себе платить больше. Я заплатил по старой ставке в июле, и попросил время… Это был ответом мне.
– Я могу чем-то помочь?
Он покачал головой в испуге. Мы оба знали, что я создал ему больше неприятностей, защитив его сегодня от громилы.
Северина все еще стояла на улице у своего дома. Она ничего не сказала, но выражение ее лица было странным.
– Извини, что убежал, – когда мы вернулись к входу в ее квартиру, я все еще кипел от негодования. – У тебя тот же хозяин дома, что и у лавок?
Она покачала головой.
– Кто владеет ими?
– Паевое общество. Недавно было много неприятностей.
– Действовали силой?
– Думаю, да…
Я не оказал продавцу фруктов никакой услуги. Это засело у меня в мозгу. По крайней мере, пока я шатался по этому району с целью слежки за Севериной, я мог бы присмотреть и за ним.
XXIV
После утренней поездки Северину ждали подкрепляющие силу напитки; я был приглашен присоединиться к ней. Пока нас обслуживали, она сидела нахмурившись; как и я она была озабочена нападением на торговца фруктами.
– Фалько, ты знал о проблемах торговца с арендодателем?
– Когда я увидел его запуганного, это было первое, что я начал подозревать.
Сегодня она надела синее, с глубоким стеклянно-серым отливом. Пояс был более тусклого оттенка, к которому она приплела оранжевую тесьму по краям. Синий придал неожиданную яркость ее глазам. Даже ее жесткие рыжие волосы, казалось, стали более роскошного оттенка.
– Итак, твоя лучшая часть натуры одержала верх.
Казалось, она была восхищена мной за то немногое, что я сделал. Я помешал ложкой свой напиток.
– И давно ты ненавидишь домовладельцев, Фалько?
– С тех пор, как первый начал напоминать мне о моей задолженности.
Северина смотрела на меня поверх своего кубка, недорогого, из красной глины, но удобного в руке.
– Сдача участков в аренду, это как заразная болезнь. Мой двоюродный дед имел на этот счет мнение…
Я запнулся. Она умела слушать: так что раз уж я начал, следовало продолжать.
– Мой двоюродный дед владел садом и торговал фруктами, он разрешил своему соседу держать у него в саду в сарайчике свинью. Двадцать лет они жили в мире и согласии, пока у соседа не завелись кое-какие деньги, и тот не предложил деду ежегодную плату. Мой дед сперва принял эти деньги, а потом задумался, должен ли его старый друг заплатить ему и за замену крыши в сарайчике! Это привело его в такой ужас, что он вернул тому деньги. Мой двоюродный дед Скаро рассказал мне эту историю, когда мне было около семи. Он рассказал, как будто это была просто история, но он предупреждал меня…
– Не становиться арендодателем? – Северина бросила на меня короткий взгляд. Я был одет в свою обычную залатанную тунику, повседневный пояс и не причесан. – Нет большей опасности, чем эта, верно?
– Охотники за приданым не обладают монополией на амбиции!
Она восприняла это с хорошим самообладанием.
– Мне лучше признаться. Причина, по которой владелец помещений под лавки не является моим домовладельцем…
Я догадался, – Эта квартира у тебя в собственности?
– Так получилось, я контролирую все сдаваемые в наем квартиры в этом квартале, но не магазины, я в них никакой доли не имею.
Она говорила смущаясь, так как это признание подводило нас к вопросу о ее быстро приобретенных наследствах. Я знал от резчика гемм в Субуре, что по крайней мере некоторые из арендаторов Северины были ею довольны. Но меня больше интересовало, как она сначала приобрела свою добычу, нежели как она ее после вложила.
Я встал. Мы были в комнате, окрашенной в яркий желто-охристый цвет, в комнате были складывающиеся двери. Я раздвинул их шире, надеясь увидеть зелень, но нашел только замощенный двор без единого деревца.
– А сад у тебя здесь есть?
Северина покачала головой. Я изобразил разочарование, отвернувшись от тоскливого затененного дворика.
– Конечно, ты продвигаешься слишком быстро. Сажать растения удел тех, кто склонен оставаться на месте… Не бери в голову, с Новом ты приобретешь половину Пинция…
– Да, хватит места, чтоб развлекаться фигурной стрижкой кустов… А какое у тебя жилье?
– Всего четыре комнаты, одна под офис. Я недавно снял эту квартиру.
– Нравится?
– Не очень; соседи шумные, мне не хватает балкона. Но там просторно, мне это нравится.
– Ты женат?
– Нет.
– Подружки?
Она заметила, что я колеблюсь.
– Позволь угадать – только одна? У тебя с ней проблемы?
– Почему ты так думаешь?
– Ты похож на человека, что любит переоценивать свои силы.
Она надо мной издевалась, но с пятью сестрами я научился игнорировать чужое чрезмерное любопытство. Северина, которая была умнее моих сестер, сменила тему:
– Когда ты за кем-то следишь, у тебя есть помощник?
– Нет, я работаю один.
Услышав это, она рассмеялась; я чувствовал, что по какой-то причине она все еще дразнит меня. Причину я выяснил много позже.
– Ты выглядишь смущенным, Фалько. Тебе не нравится, когда обсуждают твою личную жизнь?
– Я тоже человек.
– О да! Под личиной крутого мужлана скрывается очаровательная личность.
Это была липкая нить паутины: неприкрытая умелая лесть. Я почувствовал, что у меня по спине побежали мурашки.
– Брось это, Зотика! Если ты намерена продолжать этот приятный диалог, то я попрошу меня извинить.
– Расслабься, Фалько!
Я продолжал сопротивляться.
– Я не нуждаюсь в лести. Я и так знаю, что у меня большие карие глаза, я остроумен…
– Тонко!
– И кроме того, я ненавижу рыжих.
Ее взгляд стал пронзительным.
– Что тебе сделали рыжие?
Я слегка улыбнулся. Некая рыжеволосая девица когда-то сбежала с моим отцом. Но я вряд ли мог обвинить в этом все племя огненноволосых; я знал своего отца, и я знал, что это была его вина. Мое мнение было исключительно делом вкуса: рыжие
никогда не притягивали меня.
– Может быть мы поговорим о деле? – предложил я, не позволяя ей продолжить расспросы обо мне.
Северина наклонилась к столу, наполнила свой кубок, затем взяла мой и долила его до края. Так как я подозревал ее в убийстве трех мужей, один из которых был аптекарь, я не исключал возможности, что меня отравят, поэтому я был в растерянности. Зная историю Северины, любой разумный человек отказался бы принять угощение из этих изящных бледных рук. С другой стороны в этом уютном доме, убаюканный приятной беседой, когда тебе предлагают изысканные закуски, казалось было бы плохими манерами отказаться. Был ли и я обезоружен этим так же как все предыдущие жертвы?
– Так что я могу сделать для тебя, Фалько?
Я поставил свой кубок, и водрузил свой подбородок на сплетенные пальцы.
– Я отплачу за комплимент тем, что буду совершенно прям.
Мы разговаривали без резкостей, в открытую, хотя серьезность дела усиливала напряженность. Она смотрела мне прямо в глаза, их расчетливая холодность была смягчена удовольствием, которое она, очевидно, получала от торга.
– Мои клиенты, женщины из дома Гортензиев, попросили меня выяснить, какая сумма потребуется, чтоб ты прекратила отношения с Новом.
Северина так долго молчала, что я начал перебирать свои слова в голове, ища неточность в формулировке. Но, должно быть, именно этого она и ожидала.
– Да, это сказано прямо, Фалько. Ты, видимо, имеешь богатый опыт, в предложении женщинам денег.
– Мой старший брат был светским человеком. Он в свое время удостоверился, чтоб я освоил, как опускать пол-денария в лифчик шлюшки.
– Грубо!
– Разницы никакой.
Я исполнил обязанности того Фалько, которого она назвала крутым мужланом, Северина откинулась назад.
– Что ж, это лестно! Сколько готовы предложить мне эти ужасные Поллия и Атилия?
– Скажи им, сколько ты хочешь получить. Если твое требование будет чрезмерным, я посоветую им отказаться. С другой стороны, мы обсуждаем цену жизни…
– Хотелось бы знать, что это такое! – Северина пробормотала сердито, почти шепотом. Она выпрямилась еще сильнее.
– Фалько, я спросила о предложении из чистого любопытства. Я не собираюсь порывать отношения с Новом. Всякая попытка подкупа будет лишь оскорблением и пустой тратой времени. Я уверяю тебя, то, что меня интересует, это не его деньги!
Последняя часть была произнесена с таким пылом,что я посчитал себя обязанным зааплодировать. Северина Зотика тяжело дышала, но она подавила свое раздражение, потому как нас прервали. Послышалось царапанье. Занавеска дрогнула. На мгновение, я почувствовал себя озадаченным, затем под кромкой занавески показался злой клюв и зловещий глаз с желтым веком, а за ними последовала белая голова и двенадцать дюймов (или около того) серых перьев, оттенка от лунной тени до угольно-черного.
Я заметил, что настроение Северины изменилось.
– Я не думаю, что ты захочешь держать попугая, Фалько? – вздохнула она. По моему мнению, место птицам на деревьях. Экзотических птиц – с их отвратительными болезнями – лучше оставить на их экзотических деревьях. Я покачал головой.
– Все мужики ублюдки! – проверещал попугай.
XXV
Я был столь удивлен, что рассмеялся. Попугай передразнил мой смех, тон в тон. Я почувствовал, что краснею.
– Ублюдки! – повторил попугай одержимо.
– Он очень несправедлив! Кто научил его этим антиобщественным высказываниям?
– Это не он, это она.
– О, какой я глупец!
Птица, которая выглядела как мерзкий комок перьев кусающий насест, с подозрением посмотрела на меня. Она стряхнула с себя дверную занавеску, мелькнув ярко-красным хвостом, а затем вбежала в комнату, таща свой огузок с видом дурного павлина. Она остановилась, чуть дальше досягаемости моего башмака.
Северина окинула взглядом свою любимицу:
– Ее зовут Хлоя. Она была такой, когда я ее получила. Символ любви от Фронтона. Он ввозил диких зверей.
– Да, отлично! Любой, кто проходит мимо мужчин с такой скоростью, как ты, должен скопить гору недооцененных подарков!
Попугаиха распушила передо мной перья; отдельные пушинки полетели в меня. Я попытался удержать себя от чиха.
В это момент занавеска снова отодвинулась, на этот раз это был один из коренастых рабов Северины. Он кивнул ей. Она встала:
– Пришел Нов. Обычно он обедает здесь.
Я был готов незаметно исчезнуть, но она сказала мне, чтоб я остался:
– Я только схожу и поговорю с ним. После этого не хочешь ли присоединиться к нам?
Я был слишком удивлен, чтоб ответить. Северина улыбнулась:
– Я ему рассказал все по тебя, – промурлыкала она, наслаждаясь моей растерянностью. – Останься, Фалько. Мой жених очень хочет встретиться с тобой.
XXVI
Она вышла из комнаты.
Попугаиха издавала чавкающие звуки; я не сомневался, она надо мной насмехалась.
– Одно неуместное слово, – прорычал я угрожающе, – и я склею твой клюв сосновой смолой!
Попугаиха Хлоя театрально вздохнула:
– О, Церинт!
У меня не было времени расспросить птицу о том, кто этот Церинт, потому что Северина вернулась со своим будущим мужем.
Гортензий Нов был тучен и погружен в себя. Он носил тунику столь блестящую, что должен был менять ее раз пять за день, вместе с двумя полными горстями тяжелых перстней. Вся масса его лица была сосредоточена в низком, смуглом подбородке; его пухлые губы были задумчиво сжаты. Было ему около пятидесяти, не слишком стар для Северины в обществе, где наследницы были обручены еще в колыбели, а тучные сенаторы в середине карьеры женились на пятнадцатилетних дочках патрициев. Попугаиха, при виде него, насмешливо захихикала, тот проигнорировал ее.
– Гортензий Нов… Дидий Фалько.
Легкий поклон с его стороны, сдержанное приветствие с моей. Северина, которая теперь была в своей стихии, улыбнулась нам без обычной колкости, вся такая молочно-белая с мягкими манерами.
– Пройдемте в столовую…
Ее триклиний
[226] был первой комнатой, которую я здесь видел с настенными росписями – легкие извивы усиков виноградных лоз и изящные урны с цветами на общепринятом гранатовом фоне. Когда Нов лег на кушетку, Северина сама сняла с него уличную обувь, хотя я заметил, что ее заботливое внимание этим и ограничилось; она позволила одному из своих рабов вымыть его огромные мозолистые ступни. Нов ополоснул руки и лицо, пока раб держал перед ним тазик. Тазик был серебряным и довольно большим; полотенце в руках раба с густым ворсом; сам раб выучен по высшему разряду. Все должно было создавать впечатление, что Северина Зотика с минимумом суеты и расходов могла вести приличный дом.
Даже еда была вещью, тонкость которой напрягала меня. Самый обычный вид римского обеда: хлеб, сыр, салат, разбавленное вино и фрукты. И тут были изящные штрихи роскоши: даже для трех человек был полный набор сыров из козьего, овечьего, коровьего и буйволиного молока; яйца были крошечные, перепелиные; изысканные булочки из белой муки. Даже скромная редька была нарезана самым необычным образом и украшала сказочную композицию, залитую желе – очевидно сделанную специально, чтоб быть выставленной перед нами (с преднамеренным щегольством). Затем, в конце обеда был целый сад фруктов.
Это была простая пища, простая пища в роскошном исполнении.
Нов и Зотика казалось чувствовали себя вместе совершенно непринужденно. У них был разговор накоротке об устройстве их свадьбы, пылкий спор, с целью избежать выбора неблагоприятной даты, которым занимают себя пары на протяжении нескольких недель (пока не выберут день рождения какой-нибудь подагрической тетушки – только чтоб найти старую ворчунью отправившейся в путешествие с красивым молодым массажистом, которому она и оставит все свое имущество).
Так как еды было много, все молчали. В любом случае Нов был энергичным предпринимателем, увлеченным только финансами, и полностью отдавшим себя работе. Его не интересовало, что он является одним из предметов моего расследования, это устраивало меня, хотя и ставило в неловкое положение, лишая мое присутствие тут основания. Честно говоря, Нов мне мало помог, все что я смог выяснить по отдельным репликам, это то, что он полностью доверяет Северине.
– Мой груз из Сидона
[227] наконец прибыл.
– Это большое облегчение для тебя. Что его задержало?
– Противный ветер с Кипра…
Северина передала ему приготовленный в горшке салат. Он был из того сорта людей, что сильно потеют и часто хмурят брови, а едят быстро и жадно. Его можно было бы посчитать вульгарным, но женщина, жаждавшая утешения, закрыла бы на это глаза, если его подарки будут достаточно щедрыми. Северина относилась к нему с некоторого рода официальным уважением; если она выйдет за него замуж, эта манера будет иметь успех, если она и дальше будет оказывать ему почтение (а он сможет остаться в живых).
Он был щедр. Он принес своей невесте ожерелье из двадцати фиолетовых аметистов. Он вручил подарок как нечто привычное; она получила дар со скрытым удовольствием; я оставил свои циничные мысли при себе.
– Утром у Фалько была стычка с посланником Присцилла, – заметила в конце Северина. Нов проявил первые признаки интереса к моей персоне. Пока я скромно жевал маслину, она описала, как я выручал старого торговца фруктами от громилы землевладельца. Нов закашлялся от смеха.
– Ты поосторожней с этим! Оскорблять Присцилла может оказаться вредным для здоровья!
– Что он из себя представляет? Земельный магнат?
– Предприниматель.
– Грязные дела?
– Обычные.
Нова не интересовали мои взгляды на людей, сдающих в аренду земельные участки.
Северина задумчиво спросила своего жениха:
– Аппий Присцилл не слишком ли задирает нос?
– Он собирает свою арендную плату.
– Это казалось…
Нов отмел ее возражение:
– Арендатор, должно быть имел долги. С должниками нельзя разводить сантименты.
Он вел себя как человек, привыкший действовать жестко, но он глядел на нее потакающе, когда произносил слово "сантименты". Я знал этот тип людей: твердый как нож из Норика
[228], которому нравилось держать при себе пушистого котенка, что будет играть роль его совести. Разумно – если бы он еще слушал, когда его совесть говорила.
Северина не выглядела убежденной, но она умолкла, чтоб не поссориться. Именно тот сорт женщин, чтоб присутствовать на обеде: умеющая вести интеллектуальную беседу, и достаточно умная, чтоб сдержаться когда надо. Я начал думать о Елене Юстине. Когда Елене что-то приходило в голову, она считала необходимым настоять на своем.
Я заметил, что Северина тихо наблюдала за мной; по некоторой причине я решил продолжить разговор, оборванный Новом:
– Этот тип Присцилл, грабя окружающих, заставляет тебя нервничать?
Успокаивающая улыбка тактичной хозяйки осветила лицо Северины:
– В коммерческих вопросах я руководствуюсь советами Гортензия Нова.
Мне следовало догадаться, чтоб попусту не тратить дыхание.
Как финальный поклон аппетиту Нова шли пироги, только три (все же это был обед, а не пир), но являвшие собой шедевр кулинарного искусства и элегантно размещенные на серебряном подносе, который Северина затем вручила Нову. Подарок от нее ему выглядел столь же ставшим обычным, как нынешние аметисты. Заодно это дало ему право облизать поднос, его толстый неуклюжий язык елозил по нему, а я с ревностью наблюдал.
Нов ушел вскоре после этого, с подносом под мышкой, но так и не поинтересовавшись, зачем я был там. Северина проводила его, что создало впечатление, будто они целовались наедине. Во всяком случае, я слышал насмешливые вопли попугаихи.
Когда хозяйка вернулась, я сел на кушетку и дал откровенную оценку аметистовому ожерелью, сравнивая его с серебряным подносом:
– Я полагаю, что сегодня Нов был впереди по части финансов. Вещица отлично выглядит, Зотика, красивая работа!
– Жаль, что ты такой циник.
Я встал и подцепил пальцами ювелирное изделие.
– Мило, но пару недостатков и ты скоро заметишь. Если бы моя работа не заключалась в том, чтоб вбить клин между вами, я бы предупредил Нова, не стоит дарить драгоценные камни девушке, прошедшей обучение у ювелира…
Она попыталась отобрать у меня ожерелье. Я уклонился и застегнул его на ее тонкой шейке.
– Не совсем угадал с синим…
– Да, с аметистами всегда сложно угадать.
Она оставалась невосприимчивой к моим попыткам задеть ее.
– Мне пора уходить.
Я взял ее руки в свои и галантно наклонился к ним. У ее рук был цветочный аромат, который напомнил мне о масле для ванн, что недавно принимала Елена. Ромашка, должно быть, в этом месяце была модным ароматом.
На левой руке Северина носила массивное обручальное кольцо с красной яшмой. Лживый символ верности, одна из тех поделок, где две кое-как вырезанные руки крепко сжимают друг друга. Нов носил точно такое же кольцо. На том же пальце другой руки был старый медный ободок, на верхней части расплющенный в виде монеты, и там была незатейливо выгравирована Венера. Дешевая безделушка. Память о ком-то, я догадался. Мало кто из девушек носит медные кольца, опасаясь ярь-медянки
[229].
– Симпатичное. Кто-то из мужей подарил?
– Нет, просто друг.
– Мужчина?
– Мужчина, – согласилась она, когда я поджал губы, чтоб показать свое отношение к женщинам, которые жили без покровительства мужчин, но все же имели поклонников, которых называли "просто друзья".
Она вынула свои руки из моих.
– Что ты думаешь о Нове?
– Он слишком ограничен, а ты слишком умна для него…
– Нормальные условия для брака! – парировала она язвительно.
– Проклятие! Как долго ты собираешься растрачивать свою жизнь, угождая посредственным дельцам?
– Лучше сделать это, пока у меня есть на это силы, чем позже, когда мне придется заботиться о себе!
– А, между прочим, ты действительно уважаешь его?..
Она дала в ответ уклончивую улыбку.
– Ты намекнула, что Нов хочет что-то обсудить со мной. Он меня ни о чем не спросил.
– Он хотел посмотреть, понравишься ли ты ему.
– И какое впечатление я на него произвел?
– Во всяком случае, я могу сказать, что он хотел. Раз ты и дальше собираешься околачиваться около Поллии, есть кое-что, что ты можешь сделать и для Нова.
– Извини, – сразу ответил я, подозревая, что она затевает собственную интригу, – я не работаю одновременно на двух клиентов. Но мне все равно было бы интересно знать, чего он хочет.
– Защиту.
– Ой! Я еще весь в синяках, не заставляй меня смеяться, Зотика!
На этот раз она потеряла терпение.
– Не надоело бить меня моим рабским именем как геркулесовой дубиной?
– Людям следует признавать свое происхождение…
– Лицемерие! – резко возразила она. – Ты свободный гражданин, и всегда им был. Ты не можешь знать.
– Неправильно, Зотика. Я знаком с бедностью, тяжелой работой и голодом. Я то и дело испытываю крушение иллюзий. Я сталкиваюсь с насмешками со стороны как самих богатеев, так и рабов этих богатеев. Предмет моих желаний так же далек от меня, как от любого несчастного, прикованного к жалкой каморке истопника при бане…
– Каких желаний? – потребовала она, но предмет был уже слишком личный для меня.
Мы были все еще в столовой, и я собирался уходить, но Северина, казалось, хотела задержать меня.
– Мне, кажется, нравится разговаривать с тобой, – проворчала она. – Это у тебя такой метод изматывать людей?
– Если позволишь подозреваемому расслабиться, никогда не получишь значительного результата.
– Меня беспокоит, когда ты откровенничаешь!
– Сударыня, это беспокоит и меня!
Она внезапно улыбнулась. Такую улыбку я и раньше видывал: опасное оружие женщины, которая решила, что мы были бы особыми друзьями.
– Сейчас я скажу тебе, – пообещала Северина, – настоящую причину, зачем я ходила к астрологу. Надеюсь это поможет тебе, потому что я волнуюсь за Нова…
Я наклонил голову набок, показывая, что не принимаю ничью сторону.
– …У него есть враги, Фалько. Нову угрожали, и угрозы сопровождались необъяснимыми несчастными случаями. Это началось еще до того, как мы с ним познакомились, и это недавно повторилось опять. Я консультировалась у Тюхе об этой угрозе, он в курсе – фактически я там была от его имени.
Я скрыл усмешку. Она не знала, что я видел, как она заказывала надгробную плиту для этого несчастного.
– Кто эти враги? Что конкретно они ему сделали?
– Ты поможешь нам?
– Я говорил тебе; я не могу работать для разных клиентов одновременно.
– В таком случае Нов не хотел бы, чтоб я говорила что-то еще.
– Ваш выбор.
– А что он может сделать? – крикнула она, изображая беспокойство.
– Лучший способ обращаться с врагами – подружиться с ними.
Глаза Северины встретились с моими, высмеивая мой благонравный ответ. На мгновение мы разделили опасное чувство близости.
– Хорошо, признаю, лучший способ – подкупить их.
– Фалько, если ты не хочешь нам помочь, так хоть не превращай все в шутку!
Если она лгала, то она была потрясающей актрисой.
Но я не исключал возможности, что Северина была лгуньей.
XXVII
Я провел день на Форуме, выслушивая пыльные старые слухи, которые страдающие маразмом ораторы с Ростров
[230] выдавали за новости. Затем я пошел в свой гимнасий
[231] потренироваться, принять ванну, побриться и послушать действительно свежих сплетен. После чего уделил свое внимание личным делам: посетил мою ма и моего банкира. Это было нелегко и по обычным причинам, а тут еще я выяснил, что обоих изводил своими посещениями Анакрит, Глава Шпионов. Его внимание становилось серьезной проблемой. Анакрит официально объявил, что Дидий Фалько сбежал из тюрьмы. А когда моя мать возразила, что мол она внесла поручительство, Анакрит исправил формулировку так, что теперь я был еще и сбежавшим из под залога.
Ма была очень расстроена. А еще было досадно, то, что меня представили перед моим банкиром как ненадежного типа. Ограничение моего кредита в будущем было действительно грязным трюком.
После того, как я успокоил свою мать, я почувствовал необходимость, чтоб кто-нибудь утешил и меня, таким образом я направился к Капенским воротам. И снова неудача: Елена была дома, но вместе с ней там была и половина состоятельной родни Камилла – сенатор давал прием по случаю дня рождения какой-то престарелой тетушки. Привратник, который мог понять по моему неофициальному наряду, что меня не удостоили чести быть приглашенным, позволил мне войти, только чтоб получить удовольствие, наблюдая, как меня снова вышвырнули наружу слуги.
Елена появилась из приемной залы, успокаивающая мелодия флейты звучала позади нее, прежде чем она закрыла дверь.
– Извини, если это неудачное время…
– Это что-то вроде события, – заметила Елена холодно, – видеть тебя вообще!
Дела шли неважно. Утро у Северины лишило меня желания шутить. Я устал; я хотел, чтоб меня успокоили и со мной понянчились. Вместо этого Елена упрекала меня, что мол я, возможно, был бы приглашен на вечеринку, если бы был рядом прошлой ночью, когда ее отец все организовывал. Помимо приятного известия, что ее отец забыл о дне рождения тетушки до самой последней минуты, я так же заметил, как Елена была смущена, не зная, когда она сможет снова увидеть (если вообще сможет) своего неуловимого поклонника.
– Елена, сердце мое, – извинялся я подобострастно, – везде где я, и ты там…
– Дешевая философия!
– Дешевая – значит простая, простая – значит истинная!
Дешево означает просто неубедительно. Она сложила руки:
– Фалько, я женщина, таким образом я считаю, что моя верность будет считаться как само собой разумеющееся. Я знаю, что мое место – ждать, пока ты валяешься дома пьяный, или больной, или и то и другое вместе…
Я сложил свои руки как обычно, неосознанно имитируя ее. Зловещий синяк чуть ниже локтя, должно быть, стал видим.
– Елена, я не пьян.
– На тебе следы драки!
– Я в порядке. Послушай, не противься. Я глубоко увяз в этом деле; у меня есть проблемы, но я могу с ними справится…
– О! Я забыла, – усмехнулась она, – ты же мужик! Самая мягкая критика будит в тебе худшие черты…
Временами я задавался вопросом, о чем я думал, позволяя себе терзать откровенной фурии без чувства времени. Так как я был не при исполнении обязанностей, и возможно, не подготовлен к вероятным неприятностям, я позволил себе упомянуть это, затем добавил очень риторическое описание излишне поспешного на выводы языка ее светлости, ее горячий характер и полное отсутствие веры в меня.
Наступила тишина.
– Марк, скажи мне, где ты был?
Ее тон подразумевал, что она в плохом настроении. Я окинул ее критическим взглядом; дурное расположение духа Елены выражалось в наряде: на ярко карминовое платье было наброшено ожерелье из стеклянных бусин в виде головок гиацинтов, и в таком виде она бесстрашно отправилась развлекаться в шумной компании. Я собирался ответить ей недовольным подшучиванием, когда некий молодой человек вышел из зала для приема.
В честь дня рождения тетушки сенатора он надел тогу, чей роскошный ворс бросал упрек моей вытертой лоснящейся повседневной тунике. Сияющий венок украшал его завитые волосы. У него был строгий вид аристократа, который большинство женщин считает привлекательным, даже если этот эффект происходил из за феноменальной надменности.
Он ожидал, что Елена представит нас. Я знал ее лучше; она была раздражена, что ее прервали. Я улыбнулся ему, демонстрируя терпимость:
– Добрый вечер. Член семьи?
– Приятель моих братьев, – вмешалась Елена, быстро оправившись.
Этот аристократик смотрел с подозрением на мое присутствие, но она дала ему распоряжение в своей обычной манере:
– Мы с Фалько обсуждали дела, если ты не против.
Успокоенный, он вернулся в приемный зал.
Я подмигнул Елене:
– Приятель братьев, а?
– Это собрание для пожилых; мои родители пригласили его, чтоб мне было с кем поболтать. Тебя ведь не было под рукой.
– Тем лучше, дорогая. Твои родители ведь не хотели бы видеть меня тут.
– Фалько, а я, возможно, я хотела бы.
– Ты, кажется, это и делаешь.
– Приходится! – с пылом обвинила она меня.
– Во всяком случае, отец спросил бы о тебе, но кто знает, где ты теперь живешь?
Я сообщил ей свой новый адрес. Она ответила, что теперь отец сможет послать мне старый диванчик из библиотеки, который он обещал.
– Отец вчера пытался срочно связаться с тобой. К нему подходил Анакрит.
– Это не человек, а сущая чума! – выругался я.
– Тебе придется с этим что-то делать. Если он будет преследовать тебя, как ты выполнишь свою работу?
– Я разберусь с этим.
– Обещаешь?
– Да. Жизнь становится невыносимой.
Я вернулся к вопросу о своей новой квартире:
– Я занимаю две комнаты, в третьей мой офис, так что остается одна, которая с легкостью может стать твоей. Ты знаешь, чего я хочу…
– Терпеливую домохозяйку, свободного партнера в постели, и кого-то отважного, чтоб прибить мокрицу, вылезшую из-под половицы!.. Нет, не так, – поправила себя Елена. – Кого-то робкого, кто позволит тебе изображать из себя жутко крутого, убивая насекомых!
– Ладно, предложение остается в силе, хотя я больше не буду напоминать о нем.
Она знала, просить ее внимания не в моем стиле.
– Твой благородный па ждет тебя на вечеринке, мне лучше уйти.
Елена отреагировала со своей обычной задиристостью:
– Так иди же.
Затем она смягчилась:
– Ты придешь снова?
– Когда получится, – ответил я, принимая смягчение ее тона, как извинение. – Просто мне есть о чем подумать. Но сейчас я встретил женщину, и чтоб разрешить задачу по умному, мне надо держаться к ней поближе.
– Ты имеешь в виду, что не придешь, пока не закончишь дело?
– Это звучит, как "проваливай".
Елена выставила вперед подбородок.
– Это я получила "проваливай". Это было благоразумное предложение.
Я сжал зубы:
– Боги, как я ненавижу благоразумных женщин! Тебе решать. Я приду, как только ты позовешь меня. В любое время, когда ты захочешь меня увидеть, ты знаешь, где меня найти.
Я ждал, что она станет просить меня передумать, но Елена Юстина была не менее упряма, чем я. Мы не в первый раз уперлись в какой-то бессмысленный тупик.
Я ушел. Она не стала меня держать.
– Ио
[232], любимая! Все, что мне нужно, это девушка, которая бы оставалась дома и принимала сообщения!
– Ты не можешь позволить себе платить ей, – сказала Елена.
XXVIII
Хвастаться тем, что я быстро решу это дело, оказалось опрометчивым решением. Конца даже видно не было. На самом деле, это было только самое начало, как я вскоре узнаю.
Когда я шел домой, я больше думал о женщинах, чем о деле. Нормальное занятие – хотя навешали на меня сегодня ночью много больше обычного. Мои клиентки, Северина, моя девушка, моя мать – все имели собственные планы относительно моего душевного равновесия. Даже моя сестра Майя, которую я еще ни разу не видел с тех пор, как ма выкупила меня из темницы, маячила как символ вины, потому как я еще и не попытался отблагодарить ее за спасение жетонов с ипподрома, которыми я оплатил новую квартиру… Все это выводило меня из себя. Я должен был что-то сделать; лучший способ что-то сделать – не делать ничего. Я должен на время отступить, дать себе передышку, и дать дамам возможность спокойно подумать.
Я планировал следующие три дня провести, посвятив их исключительно моим удовольствиям и пользе. Я сумел справиться с этим всего за два дня: неплохой показатель успешности моего плана.
Сначала я провел утро в постели размышляя.
Затем, так как я все еще считался официально работающим на Императора (я как-то не удосужился сообщить ему об обратном), я отправился на Палатин
[233] и обратился с просьбой об аудиенции у Веспасиана. Я целый день бродил по лабиринту дворцовых контор, прежде чем какой-то лакей не соизволил мне сказать, что Веспасиан отсутствует, он наслаждается летним отдыхом на холмах Сабины
[234]. Теперь, когда он стал носить пурпур
[235], старик любил напоминать себе о своих скромных корнях, скидывая императорские сандалии и шевеля пальцами ног в пыли старых семейных поместий.
Опасаясь встречи с Анакритом, если я буду тут крутиться слишком долго, я покинул Дворец и отдал личность Фалько в распоряжение своих старых друзей. Тем вечером я обедал в доме Петрония Лонга. У него была жена и трое маленьких детей, поэтому это было тихое событие, которое закончилось рано (и по нашим меркам, довольно трезво).
Утром я перенаправил свое прошение об аудиенции к старшему сыну Веспасиана Титу Цезарю. Тит управлял империей, по сути, вместе с Веспасианом, таким образом он обладал достаточными полномочиями, чтоб приказать Анакриту перестать меня беспокоить.. Он также был известен как чрезмерно доверчивый человек. Это означало, что мое прошение должно будет занять место в горах других свитков с историями разных несчастий от всяких сомнительных типов. Тит трудился упорно, но в августе расточение милосердия на бедствующих должно было продвигаться медленнее, чем обычно.
Пока я ожидал, что моя собственная записка привлечет утомленное внимание Его Цезарского Величия, я отправился на конский рынок со своим шурином Фамием. Мне очень не хотелось расставаться с Малышом, но в конюшне для колесничных лошадей, где Фамий работал ветеринаром на партию Зеленых
[236], не ожидали, что предоставят место моему коню навсегда, – хорошо, хоть не даром, каковой и была существующая договоренность (неизвестная Зеленым). Таким образом Фамий и я выставили на аукцион бедного старого Малыша, прежде чем стоимость его содержания не превысила его выигрыша. С деньгами в кошельке я направился в Септу Юлии
[237], где позволил себе соблазниться ржавым канделябром, выглядевшим так, словно его можно отчистить (как обычно, неправда), и перстнем египетской работы (который хорошо подходил, когда я его примерял, но оказался слишком большим, когда я пришел домой). Затем я заглянул к паре букинистов и ушел с охапкой греческих пьес (не спрашивайте меня зачем, я ненавижу греческие пьесы). Я отдал часть денег матери на ее ежедневные расходы, и, наконец, отнес, что осталось, своему банкиру на Форум.
На следующий день еще не было никаких приглашений подняться во Дворец и заставить Тита посмеяться над моими злоключениями, поэтому я отправился к сестре Майе. Она позволила мне поболтаться вокруг ее дома большую часть утра, что привело к обеду, а затем к послеобеденному сну на солнечной террасе. Я пообещал Майе принести ей кое-каких пирожных с Пинция, но она знала, как со мной следует обращаться: ей удалось расширить обещание до предложения отпраздновать мое новоселье в просторной новой квартире. Подобно дельцу, обещающему все уладить со своим банкиром, я побыстрее ускользнул, забыв условиться о дате.
Мы с Петронием провели этот вечер в различных винных лавках, пытаясь выяснить, настолько ли они хороши, какими мы их помним во времена нашей молодости. Благодаря бесплатным чашам, которые нам наливали, чтоб мы почаще заглядывали, кувшину, которого я купил для Петрония, и стопочек (Петроний честный человек), которые он в ответ выставил мне, это событие закончилось не рано и не трезво. Я проводил его до дома, так как начальник стражи рискует стать жертвой мести, если злодеи, которых ему, возможно, случалось арестовывать в прошлом, встретят его спотыкающейся походкой бредущего через город.
Его жена Сильвия заперла перед нашими носами дверь. Но служители правопорядка знают, как взламывать замки, а информаторы могут силой взять там, где первые потерпят неудачу, итак мы оба оказались внутри, и без того, чтоб слишком многим из соседей пришлось открыть свои ставни, и орать по поводу поднятого нами шума. Мы сломали засов, но дверь осталась целехонькой. Петроний предложил мне кровать, но Сильвия спустилась вниз и стала пытаться при помощи пинцета для выщипывания бровей починить замок, пока Петроний нежно пустил в ход руки, чтоб склонить ее к мирному соглашению (без успеха, я думаю). Затем их дети проснулись напуганные, и младшая дочь Петрония начала кричать, что ее котенок накакал в ее сандалик. Я предпочел удалиться.
Как и большинство решений, принятых после пяти или шести амфор посредственного вина в дешевых пивнушках, это было плохой идеей.
Важный момент: в первый раз я пытался найти свою новую квартиру, когда был безумно пьян. Я заблудился. Большая собака с тонкой мордой чуть не укусила меня, несколько проституток, предложения которых я отверг, кричали мне всякие оскорбления. Затем, когда я все же нашел свои район и улицу, я не заметил, что Преторианский гвардеец низкого ранга (из тех, кого называют "всего пять дней в униформе") поджидает меня, с ордером от Анакрита, набором неудобных ножных кандалов, и тремя такими же зелеными новобранцами в сияющих нагрудниках, которые горели, как Бетийская горчица, желанием выполнить свою первую официальную миссию, арестовав опасного преступника, у которого, по-видимому, было такое же имя как и у меня.
После того, как они опутали меня железом, я просто лег на землю и сказал, что отправлюсь куда им только будет угодно – но им придется нести меня на ручках.
XXIX
Следующие два дня я отходил от своего похмелья, снова помещенный в Латомийскую тюрьму.
XXX
На второй вечер я снова встретился со своим старым сокамерником-крысюком. Я старался держаться в одном углу так, чтоб не беспокоить его, но тот начал поглядывать на меня голодными глазами. Мне пришлось его разочаровать. Меня вызвали из камеры; некто, обладающий большим влиянием, начал расследование моего случая.
Двое преторианцев-первогодков вернулись забрать меня. Сначала я сопротивлялся. Мое хмельное состояние сменилось тяжелым похмельем. Я был не в том состоянии, чтоб выдержать очную ставку с Анакритом и его костоломами, которых он использовал, чтоб стимулировать чистосердечное признание. Только не бояться! Анакрит планировал засадить меня в тюрьму пока я не контролировал себя и был беззуб. Пинком по моей коленной чашечке тюремщик дал понять, что некая шишка хочет на меня взглянуть. Видимо, мое прошение к Титу всплыло из той кучи.
Молодые солдаты были в восторге от перспективы аудиенции у заместителя императора. В прошлом телохранители проявляли склонность заменять императора, который был поручен их заботам, на любого, кто попадется на глаза после хорошей ночной пирушки (Клавдий, благодарение всем богам, и это разряженное ничтожество Отон
[238]). Не буду продолжать. При вступлении его отца на престол, Тит благоразумно взял на себя прямое управление Преторианской гвардией; поскольку он щедро одарил их в свой день рождения, они прилипнут к своему командиру, как колючки к юбке пастушки. Теперь Прокулу и Юсту (если вас случайно арестуют, всегда узнавайте имена своих охранников) предстояло встретиться лицом к лицу с их знаменитым новым префектом в первую же неделю службы, и все благодаря мне.
Они настолько были поглощены своим собственным счастьем, что совершенно бестактно провели меня через весь Форум, не сняв с меня цепи. Но они совсем недавно надели свою форму, чтоб растратить остатки человечности; они позволили мне глотнуть из общественного фонтана, чтоб утолить жажду, прежде чем затащили меня в прохладу подземной галереи, что ведет к различным дворцам, захапавшим всю вершину Палатинского холма. Снаружи комнаты стражи их центурион, закаленный ветеран, заставил их снять с меня ножные кандалы. Он знал, что надо было делать. Мы незаметно обменялись хмурыми взглядами старых солдат, когда он осматривал своих неопытных рядовых, отмечая распущенные пояса и пятна грязи на доспехах. Он сопроводил нас в тронный зал, раздражаясь, если его карапузы сбивались с шага.
В первой приемной служитель, который заявил, что ничего обо мне не знает, запихнул нас в какую-то боковую комнатушку. Прокул и Юст стали краснеть; центуриону и мне уже случалось проходить через этот глупый карантин, так что мы сберегли свой пот.
Полчаса спустя нас перевели в коридор, полный слоняющимися там усталыми людьми в мягких тогах. Прокул и Юст обменялись взглядами, думая, что они застрянут в этой бесконечной церемониальной очереди надолго после того, как часы их дежурства закончатся;. Но мое имя было названо сразу и младшие лакеи протолкнули нас мимо толпы. Затем мы очутились в похожем на пещеру вестибюле, где секретарь с изящной речью, разглядывая нас как каких-то паразитов, отметил нас в списке.
– Этого человека вызвали час назад! Что вас так долго задержало?
Мажордом привел Анакрита, который холено выглядел в своей серой тунике, как ручной голубь у фокусника – но не столь симпатичный. В отличии от меня, он был как следует выкупан и подстрижен, его прямые волосы были зачесаны назад в манере, которая мне совершенно не нравилась. Это делало его похожим на шулера, которым он и был. На его фоне я чувствовал себя измятым и покрытым коростой, со ртом, похожим на дно лоханки для цемента. При виде меня он сузил свои бледные, полные подозрения глаза, но в данной ситуации я воздержался от возможности оскорбить его. В следующую минуту Прокул и Юст получили приказ отконвоировать меня в зал.
Когда мы вошли через огромный травертиновый портал, Анакрит был доверенным чиновником, а я захудалым висельником, под стражей и опозоренным. Но ни один протокол, как мне было известно, не предписывал, чтоб я был с этим согласен. Два дня в оставивших синяки ножных кандалах облегчили мне задачу принять бравый вид и охрометь. Это привело к тому, что первое, о чем спросил Тит Цезарь было:
– Что с твоей ногой, Фалько?
– Всего лишь старый перелом. Прошлой зимой я сломал ногу, проводя расследование для твоего отца в Британии. Это беспокоит меня, когда я ограничен в движениях и не могу выполнять упражнения…
– Урежь пафос, Фалько! - рыкнул Анакрит.
Тит бросил острый взгляд на шпиона.
– Британия, я помню! – его тон был резок. Расследование, которое я провел для его отца в Британии, было слишком конфиденциальным, чтоб вдаваться в детали, но Анакрит знал о нем. Я услышал, как он что-то бормочет от досады. Я также заметил, что секретарь, ведущий стенографические записи, осторожно удержал стило, когда разговор коснулся секретной темы. Его экзотические восточные глаза на мгновение поймали меня; тонко чувствуя атмосферу, он приготовился повеселиться.
В этот момент Тит махнул рукой рабу:
– Надо позаботиться о Дидии Фалько. Ты принесешь ему стул?
Даже тут Анакриту не было никакой нужды волноваться. Я никогда не делал секрета из своих демонстративных республиканских взглядов. Иметь дело с императорской фамилией, для меня всегда вызывало затруднения. Глава шпионов знал, чего можно от меня ожидать: М. Дидий Фалько собрался быть неучтивым грубияном и выставить себя дураком, как и обычно.
XXXI
Итак, мы собрались. Тит развалился на троне закинув ногу за ногу и измяв складки пурпурного одеяния. Рабу-прислужнику показалось уместным поставить удобную скамеечку для ног, предназначенную мне в качестве табуретки, рядом с единственным сидящим человеком в помещении, поэтому он затащил ее на возвышение прямо к подножию трона, потом он помог мне туда вскарабкаться. Анакрит было выступил вперед, но затем решил не высказывать протеста, поскольку был вынужден принять любезность, оказанную мне его императорским хозяином. Я воздержался от ухмылки, Анакрит был слишком опасен. Я взгромоздился на свою скамеечку, время от времени бессознательно потирая ногу, как будто это было привычкой, когда мои бедные треснувшие косточки беспокоили меня…
Титу было лет тридцать. Слишком веселый, чтоб его называли солидным, и слишком доступный для своей должности, хотя серьезное чувство общественных обязанностей недавно отрезвило его. Даже те, кому пришлось влачить существование в провинциях знали, благодаря чеканке монет, что у него менее грубая версия крестьянского лица его папаши, и что у него кучерявые волосы. Когда он был еще мальчишкой, эта копна, вероятно, заставляла его мать выражаться так же как и мою. Но будь Флавия Домицилла
[239] еще жива, она уже могла бы расслабиться, целый цирк парикмахеров сохранял ее старшего в приличном виде, так что он не опозорит Империю перед иноземными послами.
Мы с Титом образовали приятную дружескую группу на возвышении. Мое письмо было у него в руке; он кинул свиток мне. В его глазах мелькнул проблеск. Тит всегда был столь вежлив, что я заподозрил в этом шутку – но его обаяние было подлинным.
– Это очень эмоциональный рассказ!
– Извини, Цезарь. В свободное время я немного пишу стихи: мой стиль имеет склонность к избытку лиричности.
Тит усмехнулся. Он был покровителем изящных искусств. Я был в безопасности.
Это был неудачный момент, чтоб заставлять Главу Шпионов любоваться, как мы наслаждаемся общением друг с другом. Под влиянием моей собственной осмотрительности, Тит кивнул Анакриту, чтоб тот приблизился и изложил свои доводы.
Анакрит взял слово и сразу перешел к делу. Я видел, как он действовал в других ситуациях, так что приготовился к худшему. Он обладал способностью истинного бюрократа придавать вид разумности любой лжи, которую произносил.
В некотором смысле мне стало жалко этого беспринципного прыща. Это был классический случай карьерной деградации. Он, должно быть, изучал свое ремесло при Нероне, в те безумные годы всеобщей подозрительности и ужаса, когда перспективы доносчиков и шпионов выглядели столь радужными, как никогда. Затем, когда он достиг расцвета своих сил и способностей, он обнаружил, что застрял с новым императором Веспасианом, человеком столь неисправимо провинциальным, что он и на самом деле не верил дворцовым шпионам. Поэтому вместо того, чтоб наслаждаться теневой властью в центре некоей тайной паутины, он был вынужден каждый день доказывать, что он не зря числится в платежной ведомости.
Никаких шуток. Веспасиан действительно прижимист в отношении жалования. Один промах, одна дипломатическая ошибка, одна дверь, открытая слишком внезапно, чтоб застать его дремлющим в офисе, хотя он сказал, что будет отсутствовать по служебным делам, и Глава Шпионов окажется на одном из причалов Тибра торгующим рыбой. Он это знал. Я это тоже знал. И он понимал, что я это знаю. Возможно, это объясняло некоторые вещи.
Я не пытался прервать его речь. Я хотел, чтоб он вывалил все игральные кости из своего стакана. Оттуда вылилась тонкая слизь из ложно толкуемых фактов, после озвучивания которой он выглядел как честный профессионал, которого начальство обременило кучей безруких неумех, с которыми приходится работать. Я же был выставлен в качестве простого вора.
Факты тоже были простые. Некие слитки свинца из Императорских рудников хранились на складе. Я знал, что они лежать там, и что Казначейство забыло про них. Когда меня послали в Кампанию, я взял слитки с собой, и продал свинец водопроводчикам. И я не вернул выручку в казну.
Тит слушал, заложив руки за голову. Сам он не был великим оратором, но в свое время исполнял обязанности адвоката, прежде чем поднялся на более высокий уровень. Несмотря на свою нетерпеливость, происходившую от переизбытка энергии, он умел слушать. Только когда Анакрит закончил жаловаться, он обратился ко мне:
– Дело против тебя хорошо обосновано. Свинцовые слитки принадлежали государству, а ты их взял без позволения.
– Анакрит хороший оратор; а его выступление – хорошее упражнение в риторике. Но, Цезарь, нет никакого дела.
Тит поменял позу, он наклонился вперед и оперся локтями о колени. Его внимание было полностью обращено ко мне.
– Цезарь, у меня была особая причина с почтением относиться к тем слиткам, вероятно, я сам выломал часть руды для них из жилы!
Я взял паузу, чтоб дать время обдумать новую отсылку на мою миссию в Британию, где мне пришлось действовать под видом раба на свинцовом руднике.
– Неприятно, Цезарь,но это было сделано для твоего отца. А когда я взял слитки, мне тоже надо было действовать скрытно. Мы искали беглеца. Анакрит может подтвердить, что это была непростая
задача, на которую он сам бесплодно потратил несколько недель…
Челюсти Тита одобрительно сжались.
– …Меня попросили применить мою смекалку. В итоге, мои необычные методы стали причиной того, что твой отец включил в персонал своих служащих меня…
– Это так, – сказал Тит Анакриту резко.
– …Маска водопроводчика на нелегальном рынке помогла мне найти пропавшего человека. Так что маскировка сработала, Цезарь, как тебе это известно.
Шелковым голосом Анакрит напомнил Титу, что слитки, которые я позаимствовал, были необходимы в качестве улик в деле о заговоре.
– Какой обвинитель будет тащить несколько тонн металла в суд? – спросил я. – Вы все знаете, что слитки существовали. Имелись подтверждающие это документы; преторианские гвардейцы уложили слитки, и покорителю Иерусалима я не нужен, чтоб напомнить, мол первое, чему учат новобранцев – подсчитывать все, что попадает им в руки…
Тит сочувственно улыбнулся. Он хотел, чтоб я опроверг обвинения. Я не был наивным. Я знал, что может подвигнуть императора оставить меня в покое: Тит и его отец должно быть столкнулись с какой-то крупной заморочкой, и хотели, чтоб я разрешил ее.
– Я предполагаю, – неизящно намекнул Анакрит, – ты намеревался вернуть деньги от продажи слитков? Или ты растратил всю выручку на женщин и пьянки?
Я выглядел потрясенным. Была всего одна женщина (Елена Юстина); ну пока мы были в Кампании с ней, и еще мой племянник, и Петроний Лонг заодно, и его жена и дети (если уж вспоминать), все мы спокойно ели и пили за казенный счет, но тому объяснением было ведь мое задание от императора.
– Не вешайте вину за задержку на меня, Анакрит! Заключение в Латомийскую тюрьму было незаконным – ведь я использовал те немногие дни, что успел побыть на свободе, чтоб повидать своего банкира и оговорить перевод этих денег в Тайную кассу…
– Хорошая новость! – успокоился Тит. Необходимость списать деньги была единственным препятствием для него, чтоб меня отпустили.
– Но я должен предупредить, Цезарь, – быстро извинился я, – так как я продавал металл нелегально, но и сумма выручки совсем не такая, как при продаже на обычном рынке…
– Он лжет! – взревел Анакрит, – У меня есть полный список его активов. Очень короткий список! У этого краснобая нет ни полушки!
Вот так и доверяй своему банкиру хранить тайну вклада… Но я понял, что Анакрит залез в мою кубышку за день до того, как я продаж своего скакуна; теперь у меня были средства, которые от, должно быть, просмотрел. Теперь не отвертеться. Вздохнув, я мысленно поцеловал на прощание Малыша (или то, что осталось от бедной лошадки, после моих трат в Септе Юлии).
– В этом тронном зале есть лжец, но это не я! – я снял свое кольцо. – Цезарь, если ты пошлешь это к моему банкиру, то сможешь все уладить уже сегодня вечером.
Внезапно заподозрив что-то, Анакрит стал жевать свою губу.
– Слова честного гражданина! – Тит, смутившись, нацелил хмурый взгляд на шпиона, а его слуга, тем временем, взял мое кольцо, в качестве подтверждения моему банкиру, чтоб разорить меня.
– Кажется, это снимает твои обвинения, Анакрит!
– Правда, Цезарь. Если только деньги придут!
– Ты можешь мне верить! Имей в виду, – грустно проворчал я, – я не хочу, чтоб меня оправдали благодаря лживым отговоркам. Если это всего лишь трюк, чтоб сделать меня более сговорчивым для какой-то грязной тайной миссии, с которой никто из ваших штатных сотрудников дворца не может справиться, честно скажу, я предпочту тюрьму…
Тит успокоил меня, слишком поспешно, чтоб это было правдой:
– Дидий Фалько, никаких осложнений нет. Я объявляю тебя свободным человеком!
– И независимым человеком? – начал я торговаться.
– Как всегда! – отрезал он, но затем порывисто добавил. – Итак, ты готов кое-что сделать для моего отца?
Отлично! Прямо из тюрьмы и сразу в фавор. Анакрит выглядел негодующим.
– Рад бы, сударь, но тюрьма не подходящее место для меня; мне надо выздороветь.
Снова в фавор, а потом снова в еще большую немилость.
Тит Цезарь знал меня на протяжении последних четырех месяцев; достаточно долго. Он принял свой самый приятный и любезный вид:
– Что я могу сделать, чтоб переубедить тебя, Фалько?
– Хорошо, – стал размышлять я. – Сначала ты мог бы попробовать заплатить мне за последнее задание, которое я выполнил для Веспасиана…
– А затем?
– Это могло бы помочь, сударь, чтоб мне заплатили за предпоследнее задание!
Он резко выдохнул.
– Британия? Тебе еще не заплатили за Британию?
Я скромно потупился. Тит что-то рявкнул секретарю, стоявшему в тени его трона, и заверил меня, что немедленно будут приняты меры.
– Спасибо, Цезарь, – сказал я, намекая что слово "немедленно" в дворцовом лексиконе имеет смысл "неизвестно когда".
– Как только ты получишь деньги, ты, возможно, почувствуешь себя готовым вернуться к официальной службе?
– Как только я их получу! – бросил я ему вызов.
– Кстати, – я повернулся боком, чтоб адресовать свою реплику и Анакриту, – раз сегодня решено, что я не должен находиться в тюрьме, то могу ли я рассчитывать, что моей пожилой маме вернут деньги, которые она передала тюремщику в качестве залога за меня?
Ублюдок оказался в тупике; ему оставалось только или выполнить это, или признать, что тюремщик присвоил мамины деньги в качестве взятки. В настоящее время штат Латомийской тюрьмы был в кармане у Шпиона и это давало ему возможность пользоваться камерами по своему усмотрению. Естественно, Анакрит хотел сохранить текущее положение дел…
Тит посоветовал ему проследить за этим. (Тит происходил из странной семьи, где женщины чтили своих мужей, а мужчины своих матерей). Анакрит бросил на меня полный ярости взгляд, обещая отомстить потом, и прокрался из зала. Его мать, видимо, взглянула на него, когда он родился, затем испустила визг и бросила в сточную канаву в переулке.
За ним также были отпущены Прокул и Юст с их центурионом. Я почувствовал, как слуги расслабились, когда Тит зевнул и потянулся; он должно быть приберег встречу со мной, как маслину в середине омлета, так как это была последняя аудиенция в этот день. Затем, раз я был теперь свободным и независимым человеком, Тит спросил, могу ли я столь же свободно остаться во Дворце и отужинать с ним.
– Благодарю, Цезарь. Это напомнило мне, что есть и некоторые приятные моменты, почему я позволяю себя вовлекать в политику!
Главная драгоценность Империи сладко улыбнулся мне:
– Возможно, я держу тебя под рукой, на случай, если твой банкир не сможет выдать требуемую сумму…
Я был прав с самого начала. Связываться с политиками – невероятная глупость.
XXXII
Как и всем, мне приходилось слышать, что вечеринки, которые склонен устраивать Тит, как правило, были очень шумные и затягивались допоздна. Людям нравится судачить о скандалах; я сам люблю слушать про скандалы. После моего вторичного пребывания в застенке, я был готов поучаствовать в дебоше за счет Империи, но в эту ночь на Палатине мы наслаждались приятной едой, ненавязчивой музыкой и легкой беседой. Возможно, Тит был просто красивым неженатым парнем, которого заметили по утрам с его приятелями (один или два раза, когда он был моложе), и теперь у него была репутация легкомысленного прожигателя жизни, чем бы он на самом деле не занимался. Я ему сочувствовал. Я сам был красивым и холостым. Моя собственная репутация была настолько плохой, что я и не пытался ее исправить.
Перед ужином я позволил себе расслабиться в Императорской бане, поэтому как только меня накормили и ублажили, мои силы воспряли и я откланялся, под предлогом работы. Было бы неплохо пофорсить по городу с моей новой прической, пока лосьоны дворцового парикмахера все еще источали необычные ароматы. Когда он увидел, как раб завязывает мои сандалии, Тит сказал:
– Фалько, знай, а я не забыл подарке тебе!
– О каком подарке идет речь, Цезарь? – осторожно спросил я, опасаясь, что он имеет в виду обещание дать работу.
– В благодарность тебя за мою удачу на скачках!
Юпитер-громовержец, вот чего я действительно не ожидал.
Этот конь, Малыш, был очень сомнительным приобретением. Тит поддержал заявку его на скачках, и теперь хотел продемонстрировать свое удовольствие от его победы. Я теперь одарен таким подарочком, что мне понадобятся все мои самые дальние связи, чтоб справиться с ним.
– Это честь и удовольствие для меня, Цезарь… – дипломатично солгал я, добавив (с меньшей рассудительностью), что Тит мог бы без церемоний посетить мое обиталище и попробовать кусочек… Он пообещал это запомнить (а я молился, чтоб он забыл).
Моим подарком, если вы задаетесь вопросом, была сказочная рыба.
Я покинул Палатин в задумчивости. Тит намеревался послать мне палтуса.
Палтус был для меня экзотическим блюдом, как и для большей части Рима. Однажды я видел его в рыбацкой лодке, в локоть
[240] шириной. Та рыба одна стоила как мой доход за пять или шесть лет, хотя, на самом деле, они редко оказывались на рынке, так как большинство рыбаков, которым она попадается, благоразумно дарят ее Императору.
Теперь я оказался в сложной ситуации. Я умел готовить. Мне это даже нравилось. После пяти лет жизни в одиночку в убогой конуре, я стал королем кухни на одного человека. Я мог запечь, сварить или изжарить большинство продуктов в самых стесненных условиях, без подходящей посуды и с самым минимумом основных приправ. Мои лучшие достижения были восхитительны, а самые грубые ошибки летели в помойное ведро, не успев причинить мне вред. Но было очевидно, что я не могу изжарить палтуса с каплей оливкового масла нанизав на самодельный шампур над огнем из пары тонких веточек. Чудо, которое мне обещал Тит, требует монументальной сковороды и массивных блюд для подачи к столу, соуса от мастера высшего класса, у которого будет доступ к кухонной плите с кучей всяких приспособлений, и целой толпы облаченных в одинаковые туники подавальщиков, чтоб представить это королевское создание как подобает моим льстивым гостям, еще нужен будет оркестр и объявление в "Ежедневной газете"
[241].
Единственным реальным выходом было отдать эту рыбу кому-нибудь.
Я это знал. И я знал, что, скорее всего, поступлю иначе.
Блуждая по Форуму я остановился у Храма Весты. Левее меня, у конца Ростров, какой-то богатей возвращался в крытом паланкине с пирушки, окруженный восемью телохранителями, чьи факела качались в такт, как хорошо вымуштрованные светлячки на изгибах Серебряного Склона
[242].
Во Дворце я потерял счет времени. Это была жаркая августовская ночь, с безмятежным фиолетовым безоблачным небом. В харчевнях все еще кипела работа, и хотя некоторые лавки были закрыты ставнями и заперты, я миновал мастерские зеркальщика, краснодеревщика и ювелира, чьи двери были распахнуты, и огонь освещал внутри собак, детей и общавшихся женщин. Народ все еще заполнял столики на тротуарах, не желая расставаться со стаканами вина и шашечными досками. Вероятно, те опасные типы, что брали в темноте под свой контроль Рим уже вышли на промысел, но граждане еще не сдали им улицы.
Было много событий. Я остановился поглазеть на пожар. Горел четырехэтажный многоквартирный дом, занявшийся с первого этажа. Мелкие съемщики бежали с тюками скарба, домовладелец изо всех пытался вытащить через дверной проем кровать, инкрустированную черепахой, мешая вигилам
[243], так что тем пришлось ждать чтоб освободился проход, прежде чем проникнуть в здание. В конце концов им всем пришлось спасаться, когда здание вспыхнуло целиком. Домовладелец сидел на мостовой, обхватив голову руками и всхлипывал, пока некий проезжавший мимо магнат не вышел из своего засаленного коричневого портшеза, и не предложил купить земельный участок. Я с трудом мог в это поверить. Мошенничество, старое как мир. Но дурак со сгоревшей кроватью только прижал подушку к сердцу, и не сходя с места принял предложение. Я думал, все слышали, как Красс приобрел свои легендарные миллионы – он разъезжал по Риму и охотился на людей, пока они были в шоке. И я думал, что все в наши дни знают, как отклонить предложение таких акул, что всплывают рядом с еще дымящимся участком земли, и предлагают за него гроши – с целью построить что-то, как только зола остынет, и получать прибыль. Очевидно, еще находятся идиоты, которых достаточно поманить наличными деньгами… На секунду я подумал, а не вмешаться ли, но они уже сговорились об условиях; а застройщики, как известно, очень мстительный народ, и я не мог рисковать вовлечь себя в судебное дело по помехе в исполнении контракта.
Пройдя половину следующей улицы, я обо что-то споткнулся, что оказалось трутницей; она лежала рядом с мотком тряпок, которые кто-то в спешке обронил.
По-видимому, спекулянты земельными участками больше не полагались на удачу. Было бы сложно доказать, когда здание сгорело до пепла, но причиной этого пожара поджог, сомнений быть не могло.
Звезды подмигивали над Капитолийским холмом. Маленькие рабы спали у этих фонарей в дверях, ожидая, пока их хозяева где-то развлекаются. Все было заполнено грохотом колес, так как наступило время ломовым извозчикам выполнять свою работу; затем за лязгом дешевого металла упряжи послышалась сладкая трель серебряных колокольчиков на узких лодыжках танцующих девушек в каком-то дорогом питейном заведении. Я шел сумрачными проулками, пиная пустые амфоры, которые небрежные кабатчики сваливали кучей. Я пробирался среди среди сухой грязи и навоза по более широким улицам. Я наступал на цветочные лепестки, осыпавшиеся с гирлянд приглашенных к ужину гостей. Это была ночь, полная жизни. Я был свободным человеком в моем собственном городе, и еще не готовым идти спать.
Было слишком поздно идти стучаться в дом сенатора. Я так же не смог возбудить в себе желание посетить кого-либо из своей родни. Вместо этого ноги понесли меня к северу. Гортензии всегда производили впечатление, что в их доме жизнь не затихает допоздна. Мои извинения Сабине Полли и Гортензии Атилии, без всякого сомнения, были бы приняты, объясни я им причину бездействия в последние несколько дней. Кроме того, мне нужно было выяснить у дам, не происходило ли чего-нибудь после моей встречи с Гортензием Новом за обедом у Северины.
В этот час весь район Пинция был оживлен. Днем эти частные дворцы казались довольно тихими. Ночью в домах и садах жизнь била ключом. Контракты, связанные с бизнесом и удовольствиями любого рода (законными или нет), обсуждались на этом элегантном холме. Некоторые уже были подписаны и заключены. Один из них касался и меня.
От Форума до Пинция путь, в обход бомжей, дешевых шлюх и счастливых пьяниц, занимает пол-часа. В то время, как я свернул с Фламиниевой дороги, еле заметное изменение преобразило Рим. Фиолетовый оттенок исчез с небес, оставив только серость и тревожную атмосферу. Настало время, когда добрые люди расходятся по домам, а недобрые начинают свою игру. Изменилось и мое настроение. Я скользил, держась середины улиц, я был все время начеку, и я жалел, что был без ножа.
В сторожке Гортензиев было пусто. Я прошел через сад, дважды осматривая каждый встречный темный куст. Рядом с домом факелы были воткнуты вдоль подъездной дорожки, некоторые еще горели, часть наклонились и дымили, а большинство уже потухли.
Было понятно, что семейство развлекается. Парадная дверь была распахнута, и в приемном зале горели лампы. Я смог почувствовать запах духов, которыми обрызгали приглашенных на ужин гостей – это был легкий, но приторный аромат роз, который мне кажется слишком похожим на запах тления. Но не было слышно ни музыки, ни чьих либо голосов. Затем из-за занавески показалась стайка слуг, беспечный вид которых говорил, что они остались без присмотра.
Один дурачился с бубном, другой потягивал вино прямо из горлышка золотого кувшина, то и дело капая на тунику. Они заметили меня, а я, в свою очередь, узнал среди них праздношатающегося Гиацинта, тощего раба, который в самом начале принес мне заказ. Как и на других, на нем была туника, с большим количеством орнамента, чем самой ткани; вульгарная смесь из ярких волнистых узоров, должно быть ливрея дома Гортензиев – ночью, как эта, невыносимо тяжелая и жаркая.
– Гляжу, вы тут развлекаетесь, – сказал я.
– Добро пожаловать, гость! Ходят слухи, что ты в тюрьме…
– Злобные сплетни! По какому поводу вечеринка – что-то особое?
– Просто ужин со старым знакомым.
– Деловая встреча или развлечения ради?
– Деловая…
Я должен был догадаться. В этом доме все посвящено делам.
– …У тебя назначена встреча? Поллия и Атилия обе легли спать.
Я усмехнулся:
– Мне не хватит храбрости беспокоить их в спальне!
Один из рабов захихикал.
– Можно позвать кого-нибудь из мужчин, – добавил Гиацинт.
У меня не было никаких отношений с Крепито и Феликсом. Возможно, было бы полезным поговорить с Новом, но если я хотел добиться чего-то большего, чем непринужденная болтовня за ужином, я должен был встретиться с ним наедине.
– Северина сегодня здесь, Гиацинт?
– Она была тут с полудня, но в последнее время я ее не замечал.
Кто-то сказал:
– Ее носильщики ушли; должно быть, она уехала.
– Могу ли я встретиться с Новом?
Молодой парень вызвался сходить узнать.
Рабы все еще перебрасывались шутками между собой, и им хотелось, чтоб я ушел. По счастью, ожидание не было долгим; парень вернулся и сказал, что Нова нет ни у себя, ни вместе с Феликсом и Крепито, хотя те и ожидали, что он присоединится к ним за бокалом вина поздним вечером.
Рабы потеряли ко мне интерес, но после того, как я зашел столь далеко, возвращаться ни с чем, было для моих натертых мозолей слишком обидно.
– Должно быть, с Новом что-то случилось, и он где-то тут!
Человек с золотым винным кувшином рассмеялся:
– В последний раз, когда я его видел, он согнулся и быстро бежал!
– Что-то из еды не пошло ему впрок?
Это была душная ночь. Моя туника неприятно облепила мои шею и грудь.
– Возможно, ее количество! – усмехнулся любитель вина. Я вспомнил жадность, с которым Нов, демонстрируя дурные манеры, вылизывал блюдо.
– Когда ты видел его бегущим?
– Около часа назад.
Я посмотрел на Гиацинта:
– Может он в уборной лежит отрубившись, или блюет?
Рабы обменялись поскучневшими взглядами.
– Может ли он позвать кого-нибудь, если с ним случится приступ болезни?
– Только затем, чтоб наорать, мол оставьте его в одиночестве. Он предпочитает уединение, если ему поплохеет от обжорства… – человек с кувшином был едким социальным сатириком, – …Во всяком случае, ты ему не очень то и поможешь; срать – это дело, которое и богачам приходится делать самим…
Гиацинт, который молчал, наконец вернул мне задумчивый взгляд.
– Посмотреть вреда не принесет, – сказал он.
Остальные отказались приложить усилия, так что поиски остались Гиацинту и мне.
Как и в большинстве домов, обладающих собственными удобствами, туалеты дома Гортензиев располагались рядом с кухней, так любая вода, которая выливалась из горшков и раковин, могла быть использована для промывки канализации. Дом вольноотпущенников мог похвастаться трехместным нужником, но мы нашли там только одного обитателя.
Гортензий Нов, должно быть, влетел в уборную, и тяжелая дверь за ним захлопнулась. Шум из кухни, где чистили посуду после званого ужина внезапно стих, и он остался один, в этом тихом темном помещении. Если бы он был достаточно трезв, чтоб понять, что происходит, он, должно быть, был в ужасе. Если бы он позвал на помощь, прежде чем ужасное расстройство желудка вызвало паралич, то никто бы его не услышал.
Это, вероятно, было больно и унизительно. Но смерть пришла быстро, проявив некоторое милосердие. Это была его смерть в одиночестве.
XXXIII
– Я… о! – воскликнул Гиацинт. Он инстинктивно направился было на кухню, но я прикрыл его рот ладонью и удержал его.
– Не поднимай пока шум!
Гортензий Нов лежал на полу. Он рухнул, сделав всего пол-шага, на середине пути от двери до стульчака, сраженный смертью, последнее неудобство, которое создает каждый. Если ему повезло, он умер прежде, чем разбил лицо о плиты пола.
Я осторожно наклонился, чтоб пощупать его шею, хотя заранее знал, что это чистая формальность. Затем я увидел гримасу ужаса. Что-то намного худшее, чем жестокое расстройство желудка потрясло его. Возможно, ужасная уверенность в приближении смерти.
Он был еще теплым, хотя и недостаточно теплым, чтоб можно было вернуть его к жизни. Я не был врачом, но я знал, то было что-то более сильное, чем нагрузка от переваривания слишком обильного ужина, остановило сердце вольноотпущенника.
– Кто-то в конце концов добрался до него, Фалько!
Раб впал в истерику; я сам почувствовал приступ паники, но я часто сталкивался с подобными ситуациями, чтоб справиться с ней.
– Успокойся. Давай не будем перегибать палку.
– Его убили!
– Может быть. Но люди иногда умирают во время приступа диареи… и обжоры, действительно, иногда умирают от переедания, Гиацинт…
Мои слова тоже были формальностью. Я тянул время, чтоб оглядеться.
Нов задрал свое светлое одеяние для пиршества на талию. Я набрался решимости, затем вытащил из под него его левую руку с обручальным яшмовым кольцом, и стащил его одеяние вниз. Мертвые заслуживают некоторого почтения.
Я быстро встал. Затем я схватил Гиацинта за локоть и повернул его к двери. Возможно, еще есть время, чтоб найти доказательства, прежде чем их уничтожат – либо случайно, либо кем-то заинтересованным.
– Гиацинт, стой там и не позволяй никому входить.
Один взгляд на кухню подтвердил мои опасения. Домом управляли кое-как. Мухи кружились над рабочими столами с вялым жужжанием. Но посуда, использованная на пирушке, которая могла бы дать ключи к разгадке, уже была для меня потеряна. Лохматая служанка, которая мыла тарелки, знала, что на это уйдет много времени, поэтому она уже соскоблила остатки пищи, пока они не присохли к блюдам и подносам. Когда я шагнул в дверь, она стояла на коленях около котла с грязной водой, окруженная грудами золотых тарелок. Я видел, как она с прищуром смотрит на огромное серебряное блюдо, в котором я признал то, которое Северина подарила Нову в день, когда мы обедали; усталая служанка пыталась убедить себя, что оно чистое, но нашла жирный мазок, и вяло макнула его в таз.
Трудилась только эта служанка. (Любая служанка скажет, что это совершенно обычная ситуация.)
Кое-кто из поваров и резчиков мяса, когда господа разошлись, сидели кругом развалившись. Они помаленьку отщипывали кусочки от остатков еды, с ленивым видом кухонных работников, знающих, что некоторые из кусков мяса были уже склизкими, когда их доставили от мясника, которые из соусов не хотели густеть, и сколько раз овощи роняли во время готовки на пол, испачканный мышиным пометом.
– Кто тут главный? – потребовал я. Я догадывался, что тут так все безалаберно устроено, что нет конкретного ответственного. И я угадал. Я предупредил их, что одному из гостей стало худо, но никто из этих мелких сошек не удивился. Затем я сказал, что болезнь оказалась смертельной, тут они все внезапно потеряли аппетит.
– Если сможете найти собаку, которая никому не нравится, начните кормить ее этими оставшимися лакомыми кусочками, по одному за раз…
Я вернулся обратно к Гиацинту.
– Мы загородим дверь…
Это послужит моей цели, люди будут думать, что туалет затопило – обычный случай.
–…Теперь, прежде чем какой-нибудь любитель соваться куда не следует приберет тут все, я хочу, чтобы ты показал мне столовую.
В доме, где никогда не опорожняют мусорные ведра, и никогда не чистят разделочные доски, тем не менее могут накормить гостя среди захватывающей дух роскоши.
Сверкающий канделябр начал теперь гаснуть, но огней хватило, чтоб осветить позолоту на пьедесталах и тонкую резьбу колонн, и мерцание парчовых складок занавесей, покрывал и украшений, которые делали комнату и три гигантских кушетки в должной мере роскошными для группы запрыгнувших вверх по социальной лестнице мальчиков, подрезавших фитили у ламп, и женского отребья, что вышли за них замуж. Я не стал беспокоиться, чтоб ухватить разом все детали но я запомнил огромные батальные полотна и превосходно полированные ониксовые вазы. Решетки наверху, в сводчатом потолке оставались открытыми, после того, как с них вниз пролились на пировавших духи, от чьих ароматов у меня запершило в горле.
Мальчик-слуга свернулся с большим пальцем во рту и персиком в другой руке. Он так крепко спал, что выглядел, будто дыхание оставило его. Гиацинт в тревоге пнул его, но ребенок проснулся и удалился.
Я осмотрелся вокруг, ища подсказки. Здесь худшим знаком домашних проблем оказались заляпанные винными пятнами скатерти, которые будут заботой хранителя белья дома Гортензиев, и море разлитого на одной из кушеток масла из светильника. Я отпихнул ногой со своего пути зачерствевшую булку.
– Кто здесь был сегодня вечером, Гиацинт? Сколько человек из семейства?
– Все трое, с обеими женщинами.
– Гости?
– Только один. Деловой партнер.
– И Северина.
Семь. На кушетках было достаточно свободного места.
– Какова была последовательность смены блюд?
– Еда это не моя епархия. Фалько, тебе нужен управляющий домом.
Управляющий был самовлюбленным типом, говорившим с этакой утомленной ленцой (я встречался с ним прежде). Он мог подождать.
Я обошел весь триклиний, но ничего на глаза не попалось. Графины с вином и кувшины с водой остались на приставных столиках после трапезы, как и разбросанные в беспорядке чаши для специй и ситечками для процеживания. Единственно оставшимся предметом пиршества была сложная конструкция на низком центральном столе. Это было дерево, сплетенное из золотой проволоки, которое, по видимому, принесли, обвешанным фруктами на десерт. Грозди винограда и абрикосы все еще свисали с его ветвей и лежали на подставке.
Я все еще стоял в задумчивости, а Гиацинт горестно сгорбился на обеденном ложе, когда тишина была нарушена человеком, который прямо ворвался в комнату.
– Кто-то умер? Да?
– Кто-то, возможно, так и сделал, – ответил я мрачно, обратив взор на это дикое явление. У него была залысина на лбу, широкий рот, нос, в два раза больший лица, и быстрые серебристо-карие глаза. Его рост был заурядным, но он занимал много места, источая мощную энергию, подобно хорошо смазанной критской ветряной мельнице, стоящей на тормозе во время бури.
– От кого ты узнал об этом?
– Служанка прибежала и рассказала.
– Почему? Какое это имеет отношение к тебе?
Гиацинт поднял глаза.
– Если ты говоришь, что причиной отравления Нова была еда, – сказал он мне, с легким оттенком веселья, – он думает, что ты подкапываешься под него – это шеф-повар, Фалько!
XXXIV
– Нов! – дикие глаза шеф-повара стали еще крупнее. Он был явно расстроен.
– Успокойся! Как тебя звать?
– Люди здесь зовут меня Виридовиксом, – сообщил он мне сухо. – И если мой хозяин был отравлен – тогда тебе необходимо поговорить со мной!
– Если ты шеф-повар, – прокомментировал я, – тогда большинство из тех, кто этим вечером тут ели, захотят это сделать!
Если бы мне понадобилось подтверждение, что кучка Гортензиев была всего лишь дилетантами в светской жизни, я бы нашел это в том, что у них был галльский повар.
Минуло сто лет с тех пор, как Рим решил приобщить к цивилизации галлов; с тех пор мы перешли от геноцида от рук Юлия Цезаря к приручению племен товарами, что оказалось дешевле для Казны: керамические чашки, италийские вина и демократические тонкости местного самоуправления. В ответ Галлия заполнила студии художников моделями, которые специализировались в изображении умирающих варваров, а затем наслала на нас толпу чиновников среднего уровня вроде Агриколы
[244]. Много видных галлов
[245] прибыло к нам из Форума Юлия
[246], который украшен тем, что можно было бы назвать университетом, а вдобавок порт, из которого легко можно отправится в Рим. Я готов признать, что когда нибудь три холодных галльских провинции
[247] внесут свой вклад в цивилизованное искусство – но никто не сможет меня убедить, что это будет кулинарное искусство. Но даже при всем при этом, я не имел в виду, что Гортензий Нов умер потому, что его повар родом из Галлии. Его, почти наверняка, погубил ужин, но повар к этому был не причастен.
Успокоить Виридовикса было моей первейшей задачей; он мог перестать волноваться без посторонних. Я подмигнул Гиацинту, который любезно исчез.
– Я Дидий Фалько. Я расследую эту трагедию, и, честно говоря, после того, как я нашел тело твоего хозяина, мне нужно выпить! Если предположить, что он был отравлен, я думаю, ты хотел бы присоединиться ко мне. Попробуем найти то, куда скорее всего ничего не подсыпали…
Я усадил его, почти дошедшего до точки кипения. Потом я отыскал один графин с вином, элегантную вещицу из голубого рифленого стекла с серебряным сверкающим горлышком, который стоял уже откупоренный, благоухающий, как особо качественное вино, отложенное для послеобеденных тостов. Янтарное вино плескалось у самого горлышка; трапезничавшие явно забыли про эту благодать. Я рискнул, рассудив, что все, что предназначалось для всей компании, должно быть безопасным. Это был большой риск, но Виридовикс был сильно потрясен, а я был в отчаянии.
– Это должно нам помочь.
Содержимое было густым, как нектар, и, вероятно, имело солидный возраст. Хотя я нашел свою порцию именно такой, как нужно, Виридовикс попросил специй; я нашел небольшой флакон из такого-же голубого стекла, стоявший рядом с графином, и, считая, что повар должен оценить вкус, я вытряхнул все его содержимое – мирру и кассию
[248], судя по запаху – в его бокал.
Один глоток убедил меня, что тот, кто должен был наслаждаться этим, был мой старый друг Петроний. Это было фалернское вино пятнадцатилетней выдержки, насколько я мог судить. Я узнал его по тому, как оно скользнуло в мое горло, словно расплавленное стекло, и по теплому ожогу послевкусия. Я знал это, поскольку Петроний имел обыкновение угощать меня в свой день рождения; он всегда говорил, что это пустая трата, заливать такой благородный виноградный нектар в такого растяпу, как я, но фалернское нельзя пить в одиночку (философия, которую я одобряю).
Мы успокоились. Повар стал выглядеть не таким бледным.
– Полегчало? Виридовикс, факт состоит в том, что Нов умер, но никто не сможет обвинить тебя, если только у тебя не было причины быть недовольным им.
Я хотел напомнить повару, что когда свободный гражданин умирает насильственной смертью, первыми подозреваемыми всегда становятся его рабы, и, если он рассчитывает на мою помощь, он должен быть невиновным.
– Лучшее, что ты можешь сделать, это помочь доказать свою невиновность.
– Я все делал как надо.
– Я понимаю это.
– Другие могут не согласиться с тобой?
Мне понравился его мрачноватый юмор.
– Им придется, если я найду настоящего убийцу.
Виридовикс смотрел скептически.
– Меня наняли, чтоб предотвратить это, – проворчал я. – Так что не только твоя репутация под угрозой, приятель.
Мое мрачное настроение убедило его. Мы сделали еще по глотку, затем я убедил его пройтись по меню ужина. Очевидно, он был склонен беспокоиться по любому поводу, так что он повсюду носил его, нацарапанное на клочке пергамента, в кошельке на поясе:
УЖИН НА СЕМЕРЫХ, ДАВАЕМЫЙ ГОРТЕНЗИЕМ НОВОМ
Закуски:
Салат из лука-латука и мальвы;
Павлиньи яйца;
Сосиски в кольцах;
Устрицы из Байи[249] по-Гортензиански;
Сердечки из артишока;
Оливки.
Главные блюда:
Заяц в жирном винном соусе;
Лобстер в шафране;
Запеченная в горшке свинья, увенчанная лавровым венком;
Дикая цапля;
Жареная на сковороде камбала;
Фенхель; Отварной горошек; Тушеные лук-порей и лук-шалот; Грибы.
Десерт:
Белый сыр;
Фрукты на Дереве Гесперид[250];
Пирожные (покупные).
Вина:
К закускам: Мульсум[251], согретый с мёдом и ароматизированная меластомой[252].
К основным блюдам: Красное и белое хиосское вино, подаваемое по индивидуальному выбору.
Для тостов после трапезы сетийское вино[253].
– И кто придумал эту изящную последовательность блюд? – спросил я.
– Я сам, – похвастался Виридовикс, но затем добавил, – некоторые предложения сделала Северина Зотика.
Я не был готов сейчас думать о Зотике.
– Вечеринка имела успех, Виридовикс?
– Конечною
– Твои творения были хорошо приняты?
– Они были из хороших продуктов, – пожал он плечами, – Ты не там ищешь. Я свободно могу покупать лучшие по качеству продукты.
Он, очевидно, был добросовестным человеком. Я выкинул из головы свою собственную шутку о залоснившемся мясе – а с ней и мучительные сомнения, а вдруг его хозяин отравился случайно, просто съев дурной кусочек.
Перечитывая список, я отметил несколько вопросов к повару, не все они были связаны с моей профессией.
– Что такое "Устрицы по-Гортензиански"?
– Сваренные в светлом бульоне из белого вина с лавровым листом, ягодами можжевельника и любистоком…
– Рецепт придуман кем-то из семейства?
– Рецепт придуман мной! – поправил он меня. Разумеется, никто столь же претенциозный как эти вольноотпущенники не позволил бы представить гостям блюдо, названное по имени кельтского раба. Виридовикс приложил свое умение, а они получили всю славу.
– В наши дни люди подумают дважды прежде чем есть грибы…
Я имел в виду печально известное убийство императора Клавдия его женой. Виридовикс, который успешно опорожнил свой кубок вина, просто фыркнул.
– Выпечка от Минния, что торгует по дороге сюда?
– Как обычно. Его работа не плохая, да и он нам дает специальные цены.
– Потому что один из этих вольноотпущенников сдает ему в аренду лавку?
– Я не знаю почему, я лишь повар.
– А как ты им стал?
– Попал в плен на войне. Нов купил меня, – промурлыкал Виридовикс, слащавым голосом, – потому, что работорговец назвал меня вождем племени.
– Ну и сноб!
– Ему нравилось, когда его овсянку помешивает разорившийся принц.
Повар не был озлобленным человеком. Я наслаждался тем, как изящно он высмеивал вульгарность своего хозяина.
– Ты был один?
Он улыбнулся без слов.
– Может быть ты когда-то был чем-то большим, чем повар… Это было для тебя тяжело, попасть сюда?
– Приходится так жить, – сказал Виридовикс спокойно.
– Значит, ты сдался?
– Раз это стало моей работой, то я решил делать ее хорошо, – добавил он с достоинством слегка выпившего.
– Честь заставляет!
Должно быть, я тоже был пьян. Я обратил внимание, что он носит ту же самую режущую глаза ливрею, что и Гиацинт, дополненную ярким шнуром. Еще повар щеголял витым серебряным браслетом.
– Этот браслет был у тебя, когда тебя взяли в плен?
– Еще чего! На меня это повесили.
– Дополнительный знак отличия? Могу ли я судить по твоей одежде, что ты лично руководишь слугами?
– Плохо нарезав блюдо, можно испортить мою лучшую работу.
– Я хотел спросить у мажордома, кто из гостей что ел.
– Он скажет, что не знает, – сказал пренебрежительно Виридовикс.
– Но ты то ведь заметил? – рискнул я. – Ты знаешь, что каждый брал, и кто что оставил на своих тарелках!
Он посмотрел на меня, польщенный комплиментом, затем любезно ответил на мой вопрос:
– Должен сказать, что каждый брал почти все блюда. Поллия оставила в тарелке все, что ей могло показаться хрящиком, Феликс выковыривал из еды все жирные кусочки и откладывал в сторону, гость всю ночь размазывал еду по тарелкам…
– Какая-то причина?
– Человек, который не умеет есть.
– Или не умеет жить! – закричал я, с восторгом рассматривая его меню. Виридовикс принял новый комплимент:
– Ты верно заметил! Нов, как обычно, сожрал полную тарелку, а потом потребовал добавки. Но никто из них не обратил внимание на то, что им подавали.
– Обидно?
– Нормально, Фалько. Для этого дома.
– Разве это не заставляет тебя терзаться?
– Недостаточно, – быстро ответил Виридовикс, – чтоб я желал им смерти!
– Согласно моей теории, повара совершают убийства перегревшись у жаркой печи, тогда они приходят в неистовство и кидаются с топором для разделки мяса.
– Яд, было бы слишком непрофессионально! – он улыбнулся.
– Скажи мне, как наблюдательный человек. Кто нибудь из них нервничал?
Я тщательно старался избегать упоминания Северины Зотики.
– Все они, – ответил он сразу.
– И Нов?
– Он в особенности.
В некоторой степени это было неожиданным.
– Что их обеспокоило?
Он улыбнулся мне широкой галльской улыбкой, полной умного очарования. Я засмеялся:
– Извини. Ты не можешь знать подробностей, ты же только повар!
– А повар, это уши, когда люди едят его блюда!
– Скажешь мне?
– Это из-за бизнеса, ради обсуждения которого они и встретились.
Я ждал. Он немного потянул паузу для большего эффекта:
– Я думаю, создается новое товарищество.
В этот момент он по настоящему смеялся надо мной.
– В какой области?
– Городская недвижимость.
– Ты знаешь подробности?
– Нет, Фалько. Когда они собрались обсудить детали, всех нас отослали из комнаты. Я жду, когда ты спросишь меня, – тихо продолжил Виридовикс, – видел ли я, чтоб Гортензий Нов ел или пил то, что другие не трогали?
– Я, вероятно, подвел бы разговор к этому!
– Ничего, – разочаровал меня повар. – Большинство из них попробовали все блюда и все вина. Если яд был в пище, все они мертвецы. Слуги были внимательны, но это была такая вечеринка, где присутствующие часто передавали деликатесы друг другу…
– Изысканные манеры для ужина?
– Очень. Даже слишком.
– Значит общее настроение было дружеским?
– Да, но напряжение было высокое. Я боялся, что оно перекинется на слуг; они бы начали ронять блюда. Был приглашен арфист, но с ним расплатились, даже не послушав игры. Они закончили довольно рано…
– Ты видел, что произошло потом?
– Конечно. Мы ждали, чтоб начать уборку. После того, как они вышли, Крепито и Феликс постояли в портике некоторое время с гостем.
– Продолжали обсуждение?
– Тихим голосом, кажется что-то, что сделал Нов, вызвало спор. Затем я попытался подслушать разговор, подойдя с выпивкой, но из этого ничего не вышло. Гость сказал, что у него есть еще дело, которое надо сделать. После того как он ушел, Крепито и Феликс исчезли вместе, что-то тихо обсуждая.
– Довольные?
– Я бы не сказал.
– Где был Нов?
– Где-то бродил.
– С Севериной Зотикой?
– Нет, – сказал повар. – Я должен был сказать раньше, Северина Зотика не была на вечеринке.
В этот момент раздался скрип башмака по мрамору. Виридовикс предупреждающе опустил руку мне на плечо. Я повернулся.
Человек, стоявший в дверном проеме, окутанный ароматами чеснока и ладана, мог быть только одним из триумвирата Гортензиев.
XXXV
Он выглядел старше Нова, хотя и имел некое сходство: тот же оттенок кожи и откормленная солидность. Мясистое туловище с тяжелой головой и густыми черными усами, которые скрывали движения губ.
Он проявил странное отсутствие интереса к тому, кто я такой, и о чем я тут беседую в его домашней столовой комнате с их семейным поваром. Вместо этого он прошел перед нами, и схватил голубой графин, который так помог нам с Виридовиксом. По счастью, я успел положить свой бокал на пол и заслонил его ногами. Виридовикс так же позволил своему кубку незаметно укрыться между складок покрывала кушетки. Вольноотпущенник посмотрел на графин, заметив, что часть нектара исчезла:
– Нов не мог подождать, – проворчал он.
Я отвернулся от Виридовикса:
– Прошу прощения, сударь, ты Крепито?
– Феликс.
Муж Поллии. Он все еще хмурился на графин, словно обвиняя Гортензия Нова в том, что он почал его. Ни Вириловикс, ни я не стали его разочаровывать.
– Я Марк Дидий Фалько. Здесь, потому что нанят твоей женой…
Невозможно было сказать, знал ли он что-то об этом.
– …Если Гортензий Крепито здесь. Могу ли я просить о срочной встрече?
Он поднял графин:
– Особый год вина! Крепито и Нов собираются присоединиться ко мне…
– Только не Нов, сударь. Кое-что произошло. Мы можем поговорить, и чтоб Крепито тоже был, если возможно?
Гортензия Феликса все еще больше занимала фляга, чем эта тайна. Он пожал плечами и проводил меня из столовой.
Трое вольноотпущенников должны были собраться и продегустировать свое фалернское вино в маленькой комнатке с другой стороны от их главного зала. В этой комнате я еще не бывал. Она была необычайно чужеземной – картины с видами Нила, опахала, статуэтки богов с головой ибиса, яркие полосатые подушки и кушетки слоновой кости с подлокотниками в виде сфинксов.
– Наш египетский салон, – заметил мне Феликс, отступая в сторону и давая пройти. – Нравится?
– В каждом доме должен быть такой!
Как гнездо ос или дверь, которую никогда не оставляют закрытой.
Еще одно дуновение чеснока коснулось нас. Крепито, он, видимо, искал Нова:
– Я не могу найти этого дурака, во что он играет?
Хотя Поллия заверила меня, что эти вольноотпущенники не состоят в кровном родстве, когда я видел всех троих, могу сказать, они определенно уроженцы одного и того же восточного племени. У Крепита усы были меньше, чем у Феликса, он был менее плотный, чем Нов, и обладал самым громким и грубоватым голосом из всех троих, но у него были те же самые челюсти, смуглая кожа и раздражительный характер. Нов, должно быть, был самым молодым из троицы.
Я представился во второй раз:
– Гортензий Крепито? Я Дидий Фалько, меня наняли ваши супруги.
Крепито что-то проворчал, поэтому я продолжил, полагая, что он обо мне извещен.
– Мне жаль быть тем, кто приносит дурную весть. С Гортензием Новом произошла неприятность, смертельная.
Оба правдоподобно изобразили удивление.
– Невозможно! Мы совсем недавно были с ним… – заявил Крепито.
– Я сам нашел его, –
сказал я тихо. – С ним случилось что-то вроде приступа, сразу после того, как он поел этим вечером.
Вольноотпущенники переглянулись:
– Ты имеешь в виду…
– Да. Это похоже на предумышленное отравление.
– Как это произошло? – потребовал Феликс, с поспешностью человека, который слишком остро почувствовал, что только что ел ту же самую пищу, что и убитый.
Я заверил их с сочувствием:
– То, что отравило Гортензия Нова, кажется, сработало очень быстро. Если бы кто-то еще пострадал, я уверен, он бы уже знал об этом.
Несмотря на эти слова, Феликс поставил граненый голубой графин и поспешно отступил назад.
Я сожалел, что не встречался с Крепито и Феликсом раньше. Сообщать подобного рода новости незнакомым людям всегда сложно. Трудно судить, насколько их реакция вызвана шоком, и насколько они по настоящему потрясены.
Гортензий Феликс стал мрачным и необщительным. Крепито потребовал подробности, поэтому я описал, как нашел Нова мертвым на полу туалета, где и оставил его.
– Вам может понадобиться, – предложил я, – позвать чиновника, прежде чем вы будете его передвигать.
– Так положено? – внезапно потребовал Феликс. – Положено звать власти?
В состоянии стресса он впервые показал, что принадлежал к какой-то иной культуре, прежде чем прибыл в Рим.
– Лучше всего действовать ответственно, сударь. Большинство домовладельцев сообщают о предполагаемом убийстве претору сами, не дожидаясь, когда он пошлет к ним своих эдилов, после сообщения от соседей.
– Люди не скажут..
– Люди скажут, – сказал я мрачно. – Не ждите поддержки от людей, с которыми привыкли обедать, как только поползут неприятные слухи.
Они снова обменялись взглядами.
– Я знаю, что Гортензий Нов был вам почти как брат, – сказал я мягче. Они приняли это с определенной оговоркой. Они стали прислушиваться ко мне более внимательно. Я подумал, что мне стоит еще раз попытаться их убедить:
– Я пытаюсь дать вам совет. Если убийца бежал с места преступления, вы должны послать за стражниками, чтоб преследовать его. Но отравители обычно рассчитывают остаться незамеченными, поэтому они остаются на месте преступления, изображая невиновного. Вы можете положиться на то, что чиновники завтра начнут расследование. Тогда случай будет рассмотрен с большей щепетильностью (я подразумевал – вежливой некомпетентностью)…
– А в чем твоя работа тогда будет состоять?
– Я могу продолжать работать на вас в частном порядке. Я настолько зол, что могу обойти претора в поисках истины.
Я надеялся, что Крепито и Феликс, как бизнесмены могут сообщить имя местного претора; не повезло.
– Не было никакой возможности предотвратить это, – сказал я, обращаясь к их разуму. – Но я не успокоюсь, пока не разоблачу отравителя. Северина должна быть главным подозреваемым. Мой следующий шаг – допросить ее. Мне было бы интересно услышать: сегодня вечером она была приглашена, но не пришла?
– Она принесла какие-то извинения Нову, – сказал Феликс.
– Но она была здесь перед этим?
И Феликс и Крепито пожали плечами.
– Ну, если она считает, что отсутствие ее на сцене является достаточным для оправдания, у меня будут новости для этой молодой особы!
Эти два вольноотпущенника снова переглянулись.
Повисла тишина, которая намекала, что мне пора исчезнуть.
– Я пойду… Надо ли мне сперва увидеться с Сабиной Поллией и Гортензией Атилией?
Я надеялся увидеть первую реакцию женщин на случившуюся трагедию.
– Нет необходимости, – ответил Феликс с сухостью, от которой было недалеко до враждебности.
– Отлично! Ну, я конечно зайду снова завтра. Принесу свои соболезнования лично. Между прочим… – спросил я как бы походя, – взаимоотношения между вами и Новом сегодня вечером были довольно дружелюбные?
На этот раз они постарались не смотреть друг на друга. На самом деле, твердость, с которой их глаза были уставлены вперед, была подозрительна сама по себе.
Оба с полной серьезностью уверили меня, что вечеринка проходила в самой дружественной и гармоничной обстановке. Благодаря Виридовиксу я знал, что они лгут. Что вызывало интересный вопрос: "Почему?"
Я предположил, что позже этой ночью в доме будут о чем-то жарко спорить. Мне было жаль, что я никак не мог это подслушать. Я задавался вопросом, какую роль будут играть две женщины, что наняли меня.
Но одновременно я размышлял о еще одном: как меня встретит Северина с новостью об этом преступлении.
Я шел на юг по улицам, заполненным телегами поставщиков товаров, пытаясь избежать, чтоб мои ступни были расплющены под колесами, так что я был слишком занят чтоб освободить в голове место для еще одной мысли: "Какой смысл был во всем этом?"
Гортензий Нов умер слишком рано. Северина не имела никакой надежды унаследовать его состояние, кроме как будучи его женой. На данном этапе их отношений, ей была бы удача получить мешок яблок и наилучшие пожелания. Сыграла ли тут какую-либо роль эта женщина?
XXXVI
Большая часть Счетной улицы лежала во мраке. Горело несколько тусклых огоньков, но проход в квартиру Северины был совершенно темным; я ушиб пальцы ноги о бадью, оставленную сыроделом. Сам ее дом выглядел вымершим.
Потребовалась четверть часа, чтоб разбудить одного из ее рабов. Я пытался осторожно привлечь внимание, но смог это сделать, только беспрерывно колотя металлическим кольцом в дверь. Шум, должно быть, разнесся по всему холму Целий, однако никто не открыл своих ставен, чтоб полюбопытствовать или запротестовать. Как это отличается от нетерпеливых типов, которых я знал по Авентину!
Раб узнал меня, он не стал комментировать мой приход в это время. Возможно, Северина знавала и других мужчин, кто приходили в эти тихие часы. Когда он впустил меня, я заметил, что дом казался притихшим, с немногими горевшими светильниками, он, казалось, был полон покоя.
Я остался дожидаться в комнате, где молодая женщина и я встретились впервые. На ткацком станке теперь было новое полотно. Я заглянул в свиток из библиотеки; что-то о Мавретании. Мне не было это интересно. Я стал слушать, как кто-то ходил в другой части дома.
Раб высунул голову из-за занавески:
– Она выйдет, – неохотно пробормотал он.
– Спасибо. Скажи мне, – спросил я, – Нов и Северина уже назначили дату свадьбы?
– Через десять дней.
– Когда они договорились?
– На этой неделе.
– Значит Нов сегодня вечером объявил об этом всему свету?
– Она выйдет! – повторил мне раб, прожигая меня взглядом. Он мог бы сказать, что я стрелял в темноте наугад.
Я не услышал, как она вошла.
Она была одета, как будто слуга действительно поднял ее с постели: босая, в короткой нижней тунике, не прикрывавшей рук, слегка припухшее лицо, копна медных волос рассыпавшаяся по спине.
Вероятно она лежала в постели без сна, ожидая, когда посланник принесет новости.
– К тебе есть разговор, Зотика!
Она встретила мой прямой взгляд и выдержала его. Я ожидал этого. Никаких колебаний.
– Нов мертв.
– Нов? – она быстро произнесла, затем нахмурилась, будто была озадачена.
– Ты знала?
– Мертв? – повторила она.
– Продолжай, Зотика! – я дразнил ее оскорблениями.
Северина выдохнула возмущаясь:
– Тебе необходимо быть таким грубым?
Она вошла в комнату и закрыла лицо руками.
– Что случилось? Скажи по-человечески.
– Я нашел его сегодня вечером, лицом вниз в уборной. Отравлен, Северина. Не говори, что это для тебя неожиданная новость.
Она закусила губу, когда я рассказывал о деталях, но теперь она была сердита. Отлично. Она подошла к кушетке и села, ее била легкая дрожь.
– Который сейчас час, Фалько?
Я понятия не имел.
– Вопрос, который люди всегда задают, – рассеянно пробормотала она, – когда время больше ничего не значит…
Болезненный взгляд не смог меня убедить.
– Оставь этот пафос! Что помешало тебе быть на званом ужине?
Ее лицо помрачнело.
– Я почувствовала себя плохо, Фалько. Женские проблемы.
Она вызывающе выставила подбородок, обняв живот.
– Знаешь, что я имею в виду!
– Или предполагается, что я постесняюсь спросить? Забудь это! Я вырос с пятью сестрами, Зотика. Из них Викторина была заслуженной артисткой – она могла объявить "плохими днями месяца" целых три недели подряд, особенно если было какое-либо скучное религиозное празднество, которое она хотела бы пропустить.
– Сегодня вечером я пришла в их дом, – коротко сказала Северина, – но в конце концов не смогла заставить себя провести долгий вечер, натянуто формальный, среди людей, которые не скрывают неприязни ко мне…
– Да, тебе было бы необходимо мужество, чтоб лежать рядом с жертвой, пока она пробует отравленный соус!
– Это клевета, Фалько! – резко возразила она. – Я пошла проверить повара. Нов слишком нервничает, с тех пор, как разослал приглашения…
Я заметил, что она использует настоящее время, к этому способу люди прибегают после подлинно тяжелой утраты – тонкий штрих!
– …Это была большая ответственность для Виридовикса…
– Что нашло на Нова, что он купил себе галльского повара? Если человек желает иметь повара с другого края Империи, обычно заказывают в Александрии.
– Знаешь, они держат его в доме как "плененного принца" – редкостную новинку.
– Он действительно редкость – он приобретает лучшую из вещей.
Я мог заметить, что этот трюк с временем глаголов остался без внимания, поэтому я оставил его.
– Расскажи мне о компании на вечеринке. Ради чего это грандиозное сборище? Кто были гостями?
– Аппий Присцилл.
На мгновение я был в замешательстве.
– О! Магнат в области недвижимости! Обидчик торговцев фруктами. Что его связывает с компанией Гортензиев?
– Одинаковые интересы: аренда, собственность, землепользование. Отношения между их финансовыми империями сильно ухудшились. Их конкуренция была не в их собственных интересах, поэтому встреча за этим званым ужином должна была уладить все разногласия.
– Кто предложил это устроить? – спросил я, нахмурившись. Я уже знал ответ.
– Это была я. Но, Фалько, собрать их всех вместе, было изначально твоей идеей… Прости, я на минутку. – внезапно пробормотала Северина. Он выглядела так, будто ей стало плохо.
Она выскользнула из комнаты. Я дал ей несколько минут, потом отправился ее искать.
Интуиция привела меня в комнату, смежную с изящным триклинием, где мы с Новом обедали. Северина стояла в темноте неподвижно. Я поднял лампу, что захватил с собой:
– Ты в порядке?
– Так много всего, о чем надо подумать.
Я осторожно приблизился.
– Зотика?
Она глаза были совершенно бесчувственны и неподвижны, признак настоящего шока. На мгновение она прижала руку ко лбу. Затем она заплакала.
Сдерживая раздражение, я сказал:
– Первое правило для информатора: от плачущих женщин пользы не будет.
– Тогда не стой у них на пути! – огрызнулась Северина.
Я взял ее осторожно под локти и подвел к дивану. Она села, не сопротивляясь, затем отвернулась и всхлипнула. Я взгромоздился рядом и позволил ей справится с рыданиями.
– Извини за это, – наконец пробормотала она, наклонившись вперед, чтоб вытереть лицо о край своей туники. Я краем глаза заметил ее колено, которое нашел странно отвлекающим.
Она медленно дышала, словно смиряясь с некоей неожиданной скорбью. Она явно играла на публику. Она должна была так действовать. Я вспомнил Лузия, клерка претора, который сказал, что Северина под действием стресса вела себя естественно и сдержанно, а приятель Лузий казался довольно наблюдательным. Несмотря на это, я чувствовал, что потребность выпустить все эти эмоции, была отчасти подлинной.
– Надеюсь, у тебя есть история, подготовленная для следственного чиновника?
Она смотрела вперед, все еще в своего рода трансе.
– А еще лучше, – подкинул я мысль, – почему бы тебе не рассказать доброму Дядюшке Марку, что именно произошло, и не позволить ему самому разобраться со всем этим?
Северина вздохнула, вытянув свои маленькие ноги перед собой. Ее стопы, и то, что я мог видеть выше (больше чем обычно), были покрыты веснушками. Такими же были и ее обнаженные руки.
– Брось это, Фалько!
– Ты не собираешься поговорить со мной?
– Если бы я отравила Нова, то, конечно, нет!
– Это ты сделала?
– Нет, Юнона и Минерва! Если бы все, что мне было нужно – его деньги, какой в этом был бы смысл?
– Я думал об этом.
– Блестяще! Итак, какое извращенное объяснение ты придумал?
– Я уверен, его убила ты, но я понятия не имею, зачем.
Она вскочила на ноги:
– Дидий Фалько, у тебя нет никаких причин оставаться здесь! Или арестовывай меня или убирайся…
– Что ты делаешь, Зотика?
– Я иду за кувшином вина в столовую и потом намерена напиться!
Мое сердце предупреждающе заколотилось, но я сказал себе, что это может быть единственным шансом, когда я получу возможность склонить Северину сказать что-нибудь неосмотрительно.
– Ох, сядь, женщина! Я принесу кувшин. Прими пару советов от специалиста: напиваться быстрее, а также веселее, если у тебя есть друг, чтоб помочь!
XXXVII
Зачем я это делаю? (Зачем вообще кто-то это делает?)
Я нашел чаши на буфете, и полупустую амфору чего-то, что имело резкий вкус, того сорта вынужденного питья, которое непременно сделает вас больным. Северина принесла кувшин холодной воды. Мы не заботились о приправах. Наше взаимное недоверие, привнесло бы достаточно горечи, если бы мы нуждались в ней.
Мы сели на пол, головы нам подпирала кушетка позади нас. Сначала мы молчали.
Даже после пяти лет работы в качестве информатора, находка мертвого тела всегда выбивала меня из колеи. Я позволяю всплывать в памяти образу, который сам просится наружу: Нов, с ягодицами обнажившимися в той неприличной конвульсии. Нов, лежащий лицом на полу, с выражением абсолютного ужаса…
– С тобой все в порядке, Фалько? – тихо спросила Северина.
– Убийство задевает меня. Хочешь, чтоб я описал сцену смерти?
Я заметил, что костяшки ее пальцев побелели, когда она сжала ножку своей керамической чаши.
– Я, может быть, сумею вынести это!
Я рассказал ей про самые худшие моменты. Я поберег себя, чтоб не вдаваться в остальные подробности. Северина пополнила свой кубок вином. Мы сами обслуживали себя, не позволяя формальностям мешать нам. Это было как пить с мужчиной.
– Ты часто так делаешь? – спросил я.
– Нет! – призналась она. – А ты?
– Только когда улетучивается память о головной боли после прошлого раза. Если мы тут вместе выпиваем, можно мне звать тебя по имени?
– Нет.
Она на мгновенье сжала зубами свой большой палец.
– Считать ли мне тебя своим добрым Дядюшкой Марком?
– Я Фалько, и я не добрый.
– Я вижу! Пьяный, но держишь себя в руках! – она рассмеялась. Всякий раз, когда Северина смеялась, она казалась мне высокомерной, и это раздражало меня.
– Я думаю, у нас с тобой больше общего, чем ты готов признать, Фалько.
– Мы не имеем ничего общего!
Я плеснул еще вина в свою чашу.
– Нов мертв. Что дальше, Зотика?
– Ничего.
– "Что" было неправильным словом. Я должен был спросить "Кто?".
– Не будь таким настырным! – сказала она мне, но сказала с полуулыбкой и блеском глаз за светлыми ресницами. Она осмеливалась задавать мне и более резкие вопросы. Допрос был острым ощущением.
Я знал, как обходиться с подозреваемым, которому нравилось быть в центре внимания. Вместо этого я лениво растянулся.
– Никогда снова, а? Походит на то, что я всегда имел обыкновение говорить, когда какой либо непостоянный предмет моих увлечений смылся с моими деньгами и разбил мое сердце.
– Говоришь в прошедшем времени? – тут же набросилась на меня Северина, не в силах удержаться.
– Слишком стар. Вертихвостки предпочитают мальчиков, которые как огонь в постели, и позволяют собой помыкать…
– Ты романтик, Фалько, – выругалась она, как будто что-то заставило ее насторожится. – Почему ты никогда не отвечаешь прямо?
– Мне становится скучно, – признался я. – Это достаточно прямо?
Мы оба пьяно фыркнули.
***
Северина сидела слева от меня скрестив ноги и выпрямив спину. А я положил на свое согнутое правое колено руку с чашей вина. Это позволило мне немного повернуться и незаметно наблюдать за ней.
Она снова наполнила свою чашу.
– Я пью больше тебя!
– Я заметил.
– Ты намерен остаться трезвым и выведать мои тайны?
– Мне нравятся женщины с тайнами…
– Тебе не нравлюсь я! Прекрати выдумывать… Я должна была спросить, – промурлыкала она, изображая, по ее мнению, лукавство, – тебя кто-нибудь дома ждет?
– Нет.
Я осушил свою чашу. Действие было более поспешным, чем предполагалось. Я почти захлебнулся.
– Ты удивляешь меня! – мягко рассмеялась она.
Когда я прекратил кашлять, я ответил:
– На днях ты была права: я переоценил свои силы.
– Расскажи мне!
– Нечего рассказывать. Один из нас хочет успокоиться и завести семью, а другой хочет остаться свободным.
Северина выглядела растерянной, как если бы она пропустила шутку.
– Женщины такие непостоянные! – пожаловался я. – Они не могут взять на себя ответственность.
– Как ты ее поймаешь?
Теперь Северина присоединилась к игре, хотя и с презрительным выражением..
– У меня свои методы.
– Вы, мужчины, такие коварные!
– Как только она откроет для себя мою стряпню и мое преданное сердце, я привяжу ее к себе…
– Она помогает тебе в работе?
– Ты уже спрашивала меня об этом. Я не вмешиваю ее в мою работу.
– Мне интересно, послал бы ты шпионить ее в места, куда не можешь пойти сам?
– Я бы никогда не отпустил ее туда, куда не мог бы пойти сам.
– Какая предусмотрительность! – сказала Северина.
Мы оба оторвались от вина и сидели, уставившись перед собой, как бестолковые философы. Действие резкого молодого вина, что легло поверх тонкого фалернского, которое я выпил раньше, не говоря уж о мягких столовых винах, которые подавали во Дворце на обеде у Тита, заставило меня начать подумывать, а смогу ли я стоять ровно, когда понадобится. Даже Северину начала одолевать сонливость.
– Ночь откровений! – проворчал я, чувствуя поднимающееся раздражение. – И до сих пор только с одной стороны! План состоял в том, чтоб сперва открыться самому, а потом склонить тебя на откровенность…
– План, Фалько? Ты хотел добиться от меня признания при помощи такого дешевого трюка, как напоить меня?
– Ты сама напилась.
– Я ненавижу тебя, когда ты такой логичный.
– И я ненавижу тебя… Ох, забудь это, – вздохнул я. – Я слишком устал, чтоб опять начинать препираться с тобой.
– Ты засыпаешь! – сдавленно фыркнула Северина. Возможно, и так. Возможно, я просто хотел, чтоб она так подумала. (А, возможно, я уже ничем не мог помочь себе.)
Когда я ничего не ответил, она откинула назад голову со стоном. Затем она сняла с пальца кольцо с красной яшмой, сложила ладони лодочкой и подкинула его в воздух, поймала и положила рядом с собой на пол. Искра, казалось спрыгнула с драгоценного камня, чтоб вспыхнуть в ее волосах. В ее действиях не было никакой непочтительности, но, оно, очевидно, ознаменовывало конец помолвки с мертвецом.
– Ничего не осталось… никого, кому я нужна… ни одного чтоб изменить… Зачем все это, Фалько?
Драгоценный камень, что сняла, выглядел почти таким же тяжелым, как тот, что носил и сам Нов; слишком большой для пальцев Северины, которые были крохотными, как у ребенка.
– Ради прибыли, сударыня! Это кольцо, по крайней мере, приличный кусок золота!
Северина пренебрежительно толкнула яшмовое кольцо по мозаике пола.
– Золото стирается. Как любовь, которую оно символизирует.
– У некоторых она долгая.
– Ты на самом деле в это веришь? – спросила она. – И твоя известная подруга?
Я рассмеялся:
– Она реалистка, держит меня на коротком поводке, на всякий случай.
Через мгновение Северина подняла правую руку, показывая дешевое кольцо с грубо вырезанной Венерой и маленькой загогулинкой, что должна была означать Амура, сидящего у нее на колене.
– Теперь медь, – сказала она мрачно, – и это навечно!
– Вечность становится дешевой! А знаешь, медь названа в честь гор на Кипре, откуда ее доставляют в слитках в форме бычьей шкуры?
Я люблю собирать всякие интересные факты.
– И Кипр, это место рождения Венеры, поэтому медь – металл любви…
– Только отравишь душу ярь-медянкой, Фалько. – пробормотала она.
– Тебе следует обратиться к врачу по этому поводу.
Я решил не спрашивать ее, что она имела в виду. Ничего не поделать с женщиной, которая решила окутать себя тайной.
– Кто дал тебе это медное кольцо?
– Кто-то, кто был рабом вместе со мной.
– У него есть имя?
– Только среди теней в подземном мире.
Я криво усмехнулся:
– Там многие из твоих друзей!
Северина наклонилась, чтоб убрать амфору. Я поднял ладонь протестуя, и она разделила остаток вина между нами. Северина пододвинулась чуть ближе ко мне. Мы пили, медленно, оба в мрачном уединении, которое приходит с пьяной задумчивостью.
– Мне надо идти.
– Можешь спать здесь.
То, в чем я отчаянно нуждался, было безмятежным сном. В этом доме я бы проснулся, ожидая, что механический потолок опустится и раздавит меня… Я покачал головой.
– Спасибо, во всяком случае, что оставался…
Северина сжала губы, как девушка, что была одна, но пыталась быть храброй.
– Сегодня ночью мне был нужен кто-нибудь…
Я повернул голову. Она повернулась ко мне. Я был в полутора дюймах от того, чтоб поцеловать ее. Она знала это, и не делала попыток отодвинуться. Если бы я сделал это, я знал, что последовало бы дальше: я стал бы чувствовать свою ответственность.
Опершись на кушетку позади себя, я встал на ноги.
Северина тоже поднялась, и протянула мне руку, чтоб я помог ей. Вино, и резкое движение, оказали на нас влияние, мы оба зашатались. На мгновение мы соприкоснулись, все еще держа друг друга за руку.
Если бы это была Елена, я я бы обхватил ее сразу. Северина была меньше ростом, мне пришлось наклоняться. Она не была похожа на костлявую птицу, от которых у меня мурашки по коже; под ее свободной туникой я мог видеть ее притягательную плоть. Ее кожа повсюду выглядела чистой и гладкой, она была надушена каким-то знакомым острым ароматом. В свете ламп, и так близко от меня, тускло-серый цвет ее глаз неожиданно приобрел глубину, стал более привлекательным, голубым. Мы оба знали, о чем я подумал. Я был расслаблен и податлив. Мне не хватало моей девушки, мне тоже была нужна компания.
Она не пыталась привстать на цыпочки; она хотела, чтоб решение (и вина) были моими. Слишком утомленный и пьяный, чтоб быстро соображать, я искал способ сбежать, сохраняя тактичность.
– Плохая идея, Зотика!
– Недостаточно притягательна?
– Слишком далеко зашло, – притворился я галантно. В этот момент я чувствовал себя столь усталым, что был готов на все, только бы лечь.
– В другой раз, – пообещал я.
– Сомневаюсь! – ответила она, довольно мстительным тоном.
Мне удалось направится шатаясь в сторону дома.
Я не возвращался в свою квартиру в Публичных Садках с тех пор, как Анакрит повязал меня. Было бы облегчением найти там какое-нибудь послание от Елены Юстины, какой-то знак, что она скучала по мне, какую-либо награду за мою верность. Там ничего не было.
Однако, я вряд ли мог обвинять дочку сенатора, что она слишком горда, чтоб делать подходы. И, сказав, что я буду ждать от нее письма, не было никакой возможности на всей земле, чтоб я пришел к ней первым…
Я лег спать, проклиная женщин. Северина не желала меня, она хотела, чтоб я ее желал; это не одно и то же.
И я думал сердито (из-за вина, теперь оно сделало меня воинственным), было бы возможным, чтоб пара холодных голубых глаз заставила меня позабыть девушку, которая действительно заставила меня стать сумасшедшим; девушку, о которой я хотел думать; девушку, чьи карие глаза, однажды столь откровенно сказали мне, что она меня хочет…
Больше не способный выносить разочарование, я ударил кулаком со всей силы по стене спальни. Где-то рядом, под обшивкой стены, послышался шум сыплющегося строительного мусора, столь громкий, как будто я сместил балку. Мусор пересыпался долго-долго.
В темноте я провел рукой по поверхности стены. Неспособный найти какой-либо след от кулака на штукатурке, я лежал, чувствуя вину, и слушая шорох.
Довольно скоро я уже ничего не слышал и спал.
XXXVIII
Я проснулся гораздо раньше, чем мог бы, из-за своих снов. Снов, что так сильно меня обеспокоили, но я не стану докучать вам рассказом о них.
Чтоб избавиться от дальнейших кошмаров, я сел и переоделся; долгая процедура, если учесть что она заключалась в натягивании чистой туники поверх мятой, в которой я и спал, и в поисках любимых башмаков, которые моя ма куда-то засунула. Во время этого труда, я мог слушать какую-то суматоху. Старуха наверху орала на какую-то несчастную душу, как будто тот покусился на девственность ее единственной дочери.
– Ты можешь пожалеть об этом! – раздался яростный мужской голос.
Я был рад, что в этот раз не я был причиной ее заблуждений. Я выглянул как раз в тот момент, когда Косс, агент, летел вниз по лестнице мимо моей двери. Он выглядел растерянным.
– Трудности? – спросил я.
– Эта старуха… – пробубнил он оглядываясь через плечо, как будто опасался, что женщина нашлет на него ведьмино проклятие. – …Некоторые люди совершенно не понимают, в чем их польза…
Он казался не склонным, чтоб удовлетворить мое любопытство, поэтому я решил получить удовольствие, досаждая ему:
– Как там дела с водоносом, которого ты обещал мне?
– Дай нам время…
На этот раз я позволил ему удалиться, не получив чаевых.
Я вышел из дома не позавтракав. Нянча больную головушку я поплелся проведать женщин на холме Пинций. Мне потребовалось порядочно времени, чтоб добраться до туда. Мои ноги, видимо, объявили на сегодня забастовку, но я обманул их, наняв мула.
Нова удостоили роскошных проводов через Стикс. По всему дому стоял густой аромат масел для бальзамирования и ладана. Вместо нескольких ветвей кипариса, как было принято, каждую дверь охраняла пара деревьев. Они, должно быть, выкорчевали целый лес. Поверьте, они устроили зрелище даже из похорон.
Рабы были в строгом черном одеянии. Ткань выглядела совершенно новой. У вольноотпущенниц швеи должны были работать всю ночь.
Когда мне удалось свидеться с ними (поскольку они демонстрировали, что слишком переутомлены для визитеров), Поллия и Атилия были изысканно задрапированы в белое, траурный цвет высших сословий (более лестный для бывших рабынь).
Я пробормотал положенные соболезнования, затем перешел к сложившейся ситуации:
– Вы можете спросить меня, как я посмел появиться здесь…
Сабина Поллия кудахтала недолго. Горе может сделать некоторых людей раздражительными. Как обычно, ее лицо было красивым, но сегодня стало очевидно, что ее голос лет на десять старше ее лица.
Я собрался с духом.
– Посмотрите, я сделал все возможное, как я и обещал вам.
Огромные темные глаза Гортензии Атилии, которые выглядели скорее напуганными, чем печальными, с тревогой ставились на меня. Сабина Поллия смотрела на меня сердито.
– Вы были правы насчет Северины, хотя ее выбор момента кажется необъяснимым… Не было никакой возможности предотвратить то, что случилось. Но на сей раз, она не сможет избежать правосудия…
– Как ты можешь быть так уверен? – спросила меня резко Поллия.
– Опыт.
– Ты был уверен и прежде!
– Нет. Раньше я был осторожен. Теперь я зол…
– О происшествии сообщили претору, – перебила меня Поллия.
– Да, я сам это предложил… – я уже догадывался к чему идет разговор.
– В таком случае я предлагаю, чтоб мы оставили претору разбираться с этим делом!
После того, как Поллия перестала хлестать меня своим презрением, я осторожно продолжил:
– Вы наняли меня, потому, что я работал на Дворец, где, так уж случилось, я вчера вечером и задержался.
– Наши мужья поручили нам отказаться от твоих услуг.
Это была Атилия, которая всегда казалась более робкой в этой паре. Ни одну из этих женщин и на булавочную головку не волновало, что сказали им их мужья; Феликс и Крепито были просто пустым местом. Но любой предлог годился, если клиент был намерен отказаться от моих услуг.
– Разумеется, – сказал я, – вы должны с почтением отнестись к пожеланию ваших мужей!
– Ты потерпел неудачу, Фалько! – настаивала Поллия.
– Вероятно так!
Даже мучимый жестоким похмельем, я знал, как вести себя профессионально. Они были напряжены, ожидая гневную вспышку; я же мог облегчить душу позже, так что я их разочаровал:
– Дамы, я никогда не слоняюсь поблизости, если потерял доверие своих клиентов.
Я распрощался с ними вежливо (поскольку я хотел, чтоб мне заплатили). Затем я ушел.
Делу конец. Вот замечательно, если мне не удастся заполучить новое дело, я всегда могу снова вернуться к работе на Дворец.
Выведен из игры.
Опять выведен из игры! Это всегда происходит со мной. Почему-то единственными клиентами, которые обращались ко мне, оказывались бесхребетные типы. Едва я начинал проявлять интерес к их серенькой жизни, как они начинали сомневаться в нужности меня.
Я мог бы решить эту задачу. Мне нравилось ей заниматься. Не беда; за несколько недель наблюдения я мог выставить этим женщинам грабительский счет, а затем отщипнуть еще перед самой грязной частью расследования. Это был лучший способ ведения дел, для человека склонного с философии. Пусть у местных представителей закона и порядка болит голова, от задачи, что им Северина подкинула на этот раз. Пусть чиновники Пинция попытаются привлечь ее к суду, там, где претор Корвин на Эсквилине потерпел неудачу. Я смеялся. Я мог бы отправить счет за свои издержки, провести некоторое время в банях, ублажая себя, а затем прочитать о том, как чиновники запутались с этим делом в Ежедневных делах…
Но это был не конец дела.
Я собирался надменно прошествовать мимо домика, где скрывался привратник Гортензиев, как заметил кого-то, кто ждал поблизости в тени – тонкие руки и черные усики, делящие лицо пополам.
– Гиацинт!
Он ждал меня.
– Фалько, мы можем поговорить?
– Не вопрос.
– Я должен спешить. Нам всем приказано не общаться с тобой.
– Почему так?
Он нервно взглянул на дом. Я стащил его с главной дорожки, и мы присели на корточки под сосной.
– Оставим почему, но что случилось?
– Ты беседовал с Виридовиксом…
– Да, и я намеревался побеседовать еще раз сегодня…
Гиацинт коротко рассмеялся, затем поднял сосновую шишку и швырнул ее между деревьев.
– Они тебе заплатили? – спросил он.
– Ну, они меня уволили, и еще предстоит увидеть, получу ли я деньги!
– Как только выставишь им счет. Они не хотят осложнений.
– Осложнений? Каких осложнений?
Он помолчал мгновение, потом произнес:
– Тебе больше не удастся поговорить с поваром. Виридовикс мертв.
XXXIX
Как только он это сказал, я почувствовал, что меня прошиб холодный пот.
– Как это произошло?
– Он умер этой ночью. Во сне.
– Точно так же как Нов?
– Нет. Он выглядел довольно спокойным. Казалось, что все по естественной причине…
– Ха!
– Он был здоров, – нахмурился Гиацинт.
– Повара всегда могут позволить себе что-нибудь из еды.
Для Виридовикса не возраст, по моей оценке, ему было лет тридцать. Как и мне, совсем молодой.
– Кто нибудь занялся его смертью?
– Еще чего! Кто-то предложил Феликсу, что это может быть убийством, но тот отверг, мол, возможно, Виридовиксу стало так стыдно, что Гортензий Нов умер после его кушаний, что он совершил самоубийство…
– Это возможно?
– Ты сам встречался с ним! – рассмеялся Гиацинт.
– Да! Другие что-нибудь будут делать по этому поводу?
– Если вольноотпущенники скажут "нет", то как мы сможем? Он ведь был, – сухо указал мой собеседник, – просто раб!
Таковы были его друзья. Я закусил большой палец.
– Претор, что расследует смерть Нова, должен был об этом узнать!
Гиацинт шаркнул ногой по рыхлой земле.
– Забудь об этом, Фалько! Претор взял большой кредит, который ему подписал Крепито, так что он будет идти у них на поводу. Семья хочет спокойно похоронить Нова, и чтоб не было никаких помех со стороны.
– Я думал, они хотят защитить свои интересы. Думал, именно поэтому они наняли меня!
Гиацинт выглядел смущенным.
– Я никак не мог понять, почему они выбрали именно тебя, – он на меня не смотрел. – У тебя репутация неудачника…
– Ох…. Ну спасибо! – я воздержался от ругательства. Но затем выдал его до конца. Это было одно из выражений моего брата – особенно цветистое. Раба впечатлило.
– Если они верили в это, то почему поручили это мне?
– Возможно, они думали, что ты обойдешься им дешевле.
– Тогда, возможно, это была одна из их ошибок!
Мне вспомнилось, как Елена говорила, что произвести впечатление на этих кошмарных людей можно только величиной трат.
Даже не видя тело, я разделял сомнения прислужника о смерти повара.
– Виридовикс тоже был отравлен, – сказал я.
– Но паралич был не такой сильный, как у Нова.
– Ты видел оба тела. Ты согласен?
Раб кивнул. Я принял решение.
– Мне было необходимо поговорит с Виридовиксом более подробно о вчерашнем дне. Но теперь он умер. Ты можешь найти кого-нибудь глазастого типа, который был на кухне пока готовилась еда для вечеринки?
Он выглядел неуверенным. Я напомнил ему, что никто кроме и пальцем не пошевелит, чтоб смерть повара была отомщена. Я сообщил ему свой новый адрес. Затем, поскольку он все больше беспокоился, что меня могут увидеть здесь, я позволил ему вернуться в дом.
Я сидел под деревом, думая о человеке из Галлии. Он мне понравился. Он смирился со своей судьбой, но сохранил свой стиль. В нем была какая-то целостность. Он был достойным человеком.
Я долго думал о нем. Я был перед ним в долгу.
Он, без всякого сомнения, был убит. Должно быть, это был более медленный яд, чем тот, который поразил Нова, менее опасный. Можно предположить, он тоже был предназначен для Нова, – и я думаю, он был не единственной жертвой, на которую рассчитывали.
И еще, я никак не мог себя убедить, что один и тот же человек приготовил оба яда. Или, по крайней мере, что были сделаны две попытки, возможно, чтоб подстраховаться. Но я знал, как второй яд должна была получить жертва, это знание будет долго меня преследовать. Яд, должно быть, был среди горько-пряных специй, и повар принял его из своей чаши с фалернским.
И я помнил, что сам смешал для него вино; я сам убил Виридовикса.
XL
Когда я ехал на наемном муле на юг, половина меня твердила, что это дело не завершится, пока я не разрешу его, даже если мне придется работать бесплатно. Это была смелая и благородная половина. Другая половина (думая о Виридовиксе) просто чувствовала себя мерзкой и усталой.
Я отправился домой. Не было никакого смысла идти куда-либо еще. В частности, не было никакого резона идти ругаться с Севериной Зотикой, пока я не обзаведусь чем-нибудь, что поможет половчей ухватить эту конопатую змею женского пола.
Через полчаса она сама постучала в мою дверь. Я в это время думал. Чтоб не терять зря времени, я занимался чем-то практичным.
– Отдыхаешь, Фалько?
– Чиню стул.
Я был педантичен и в дурном настроении.
Она уставилась на потрепанный плетеный предмет, у которого была полукруглая спинка, плавно переходящая в подлокотники.
– Это женское кресло.
– Может быть, когда я поправлю стул, я заставлю женщину сидеть в нем.
Рыжая нервно улыбнулась.
На ней было не совсем черное, но темно-фиолетовое одеяние, оттенка ягодного сока. Ее нетрадиционный наряд показывал большее уважение к умершему, чем Поллия и Атилия в своем ярком драматически белом.
Я продолжил свою работу. Работа превратилась в одно из тех сокровищ, когда ты надеешься поправить несколько растрепавшихся ниток, а в итоге разбираешь половину предмета мебели и переделываешь его с нуля. Я уже провел два часа за этим.
Чтоб пресечь раздражающее любопытство Северины я резко бросил:
– Стул мне достался от моей сестры Галлы. Моя мать принесла свежего тростника. Это свинская работа. И все время, пока я это делаю, я знаю, что как только Галла увидит исправленную вещь, она тут же воскликнет: "О, Марк, ты такой умный!" и попросит вернуть стул обратно.
– У тебя слишком сухой тростник, – сообщила мне Северина, – тебе надо увлажнить его губкой…
– Обойдусь без советов.
Тростинка, что я заплетал, треснула в середине ряда. Я сходил за губкой.
Северина уже сидела на табуретке.
– У тебя полно неприятностей.
– Расплачиваюсь за тщательную работу.
Она сидела тихо, ожидая, пока я успокоюсь. Я не собирался проявлять любезность.
– Сегодня ко мне приходил эдил от магистрата с холма Пинция.
Я боролся с жестким кончиком тростины, чтоб потуже натянуть.
– Не сомневаюсь, что ты его надурила.
Я зажал стул между коленями.
– Я ответила на его вопросы.
– И он осчастливленный ушел?
Северина посмотрела поджав губы.
– Видимо, некоторые люди понимают, что обвинять меня без мотива — нелогично.
– Видимо, претор в августе предпочитает отдыхать.
Я сунул свои натруженные пальцы в мокрую губку.
– В любом случае, вот еще одна хорошая вещь. Пока ты сможешь отшивать этого эдила, никто больше не побеспокоит тебя.
– Что?
Я встал с колен, поправил стул и сел в него. Я оказался выше, чем ее легкая, аккуратная фигурка, укутанная шалью, когда она все еще обнимала колени на моей табуретке.
– Я не занимаюсь больше этим делом, Зотика. Поллия и Атилия отказались от моих услуг.
– Глупо с их стороны! – сказала Северина. – Любой, для кого Нов был небезразличен, позволил бы тебе продолжать расследование.
– Они всегда казались странно беспечными.
– Я не удивлена.
Я постарался не проявить эмоций. Все, что после этого могло последовать, означало только проблемы. Однако, с Севериной это не было чем-то новеньким.
– Тот факт, что они уволили тебя, – продолжала она, – доказывает мои слова.
– Как это?
– Поллия и Атилия наняли тебя, чтоб перевести подозрение на меня.
– Зачем?
– Скрыть свои собственные намерения.
– Что за намерения?
Северина глубоко вздохнула:
– Между тремя вольноотпущенниками были серьезные разногласия. Крепито и Феликс не соглашались с тем, как Нов ведет свои дела. Нов ненавидел проблемы и хотел выйти из партнерства.
Хотя я ей не очень то и доверял, это напомнило мне, что сказал Виридовикс о том, как подслушал препирательства вольноотпущенников после ужина.
– Те двое сильно бы потеряли, если бы Нов порвал с ними?
– Нов всегда был лидером, все новые идеи исходили от него, и он всегда брал инициативу на себя.
– Значит, он забрал бы большую часть их совместного бизнеса с собой?
– Точно. То, что он стал встречаться со мной не улучшило ситуацию, если бы он женился, а, в особенности, если бы у нас появились дети – то его нынешние наследники остались бы ни с чем.
– Феликс и Крепито?
– Феликс и сын Крепито. Атилия одержима этим ребенком. Она рассчитывала на наследство, чтоб оно стало базой в карьере мальчика.
– А что насчет Поллии?
– Поллия хочет украсть долю своего мужа в этих деньгах.
То, что она сказала, имело смысл. Я ненавидел это: решив про себя, что Северина и была злодейкой, я не мог заставить себя передумать.
– Ты утверждаешь, что вольноотпущенники или их жены дошли до того, что убили Нова?
– Возможно, они все в этом замешаны.
– Не суди других людей по своим извращенным нормам! Но я должен согласиться, что момент для убийства – когда ты с Новом объявили о дате вашей свадьбы – выглядит достоверно.
Северина торжествующе захлопала в свои маленькие белые ладоши.
– Но хуже того, я уже говорила тебе, у Нова были враги.
Она рассказывала мне столько разных вещей, что некоторые, вероятно, были ложью. Я рассмеялся.
– Слушай меня, Фалько!
Я сделал слабый жест, как бы извиняясь, она надулась и заставила меня несколько мгновений напряженно ожидать.
– Какие враги?
– Кроме Крепито и Феликса он также имел конфликт с Аппием Присциллом.
– Насколько я понимаю, он управляет конкурирующей компанией с частично совпадающими интересами? Расскажи мне об этом, Северина. Какого рода была вчерашняя встреча за ужином?
– Примирение. Я уже говорила тебе. Это тот Присцилл, о котором я пыталась предупредить тебя раньше.
– Он угрожал Нову?
– И Нову и двум другим. Из-за него Атилия старалась держать сына под постоянным присмотром – одной из угроз было похищение его.
Я знал, что Атилия сама отвезла ребенка в школу, это было необычно.
– Итак, кого из многочисленных подозреваемых ты выбираешь? – спросил я с сарказмом.
– В этом то и проблема – я просто не знаю. Фалько, что бы ты сделал, если бы я предложила тебе работать на меня?
Я, скорее всего, позвал бы на помощь.
– Скажу честно. Чего я хочу в самую последнюю очередь – получить плату от профессиональной невесты, когда она находится на полпути между мужьями и склонна непредсказуемо реагировать…
– Ты имеешь в виду то, что почти произошло вчера? – Северина покраснела.
– Мы можем забыть прошлую ночь.
Мой голос звучал ниже, чем я хотел. Я заметил, что у нее постепенно, из под покрывавшего их платка, показываться ее огненного цвета волосы.
– Мы были пьяны, – Северина посмотрела на меня более откровенно, чем мне могло понравится.
– Ты будешь работать на меня? – настаивала она.
– Я подумаю.
– Это означает "нет".
– Это означает, что я буду об этом думать!
В этот момент я был готов спустить охотницу за золотом с лестницы. (Фактически я колебался между двумя альтернативами: бросить свою карьеру информатора, снять будку и заняться починкой стульев или…)
Раздался стук. Северина, должно быть, оставила мою входную дверь незапертой, и прежде чем я успел ответить, ее открыли. В дверь ввалился задыхавшийся человек. Причина его затруднений была ясна.
Он только что затащил на три лестничных пролета самую большую рыбину, которую я когда-либо видел.
XLI
Я встал. Очень медленно.
– Куда ее тебе, легат
[254]?
Он был маленьким человеком. Когда он появился из коридора, он держал мой
подарок за пасть, потому что не мог обхватить рыбу руками; рыбина была в длину почти с самого доставщика. И шире него.
– Вали ее сюда…
Человечек застонал, затем отклонился назад и закинул рыбу боком на маленький столик, который я иногда имею привычку ставить под локоть. Затем, будучи человеком, который доводит игру до конца, он стал прыгать вверх и вниз, каждый раз заталкивая все большую часть скользкой рыбы на столик. Северина резко вскочила, устрашенная хвостом, размером с веер из страусиных перьев, что свесился с края стола в футе от ее носа.
Не было никакого запаха. Рыба была в прекрасном состоянии.
Доставщик, казалось, получил достаточное удовольствие от спектакля, который вызвал его приход, но я решил на этот раз пожертвовать полуауресом, что держал про запас в своей тунике для действительно стоящих чаевых.
– Спасибо, легат! Наслаждайся своим приемом…
И он удалился гораздо более легким шагом, чем когда заявился сюда.
– Прием? – намекнула Северина, стараясь выглядеть скромной. – Ты собираешься пригласить меня?
Я чувствовал себя настолько слабым, что позволил бы ей уговорить себя. Это могло создать для меня кучу трудностей, размером с гору Олимп.
Затем дверь распахнулась во второй раз, чтоб впустить того, кто никогда не считал нужным стучаться, если был хоть малейший шанс застукать кого-либо за чем-нибудь скандальным.
– Привет, ма! – крикнул я отважно.
Ма посмотрела на Северину Зотику тем взглядом, который она приберегает для противных мягких вещей, найденных позади темных кухонных полок. Затем она посмотрела на мой экстравагантный подарок.
– Твой поставщик рыбы нуждается в выговоре. С каких это пор ты начал покупать рыбу не на вес, а в длину?
– Должно быть это путаница, все что я заказал – это каракатица.
– В этом ты весь. Дворцовые идеи о грязных деньгах… Теперь ты захочешь большую тарелку!
Я вздохнул:
– Я не могу это держать тут, ма. Лучше я отошлю это в подарок Камиллу Веру. Может выйдет для меня что из этого хорошее…
– Это один из способов проявить твое уважение к сенатору… Жаль. Я могла бы сделать отличный бульон из костей.
Моя мать все еще не снизошла до разговора с Севериной, но позволила ей узнать, что у меня есть влиятельные друзья. Рыжие всегда расстраивают мою мать. И в целом, она неодобрительно относится к моим клиентам женского пола.
Ма куда-то вышла, так что я мог избавить нас от объяснений при ней.
– Северина, я должен буду подумать о твоем предложении.
– Тебе надо спросить разрешения у мамы? – съязвила она.
– Нет. Я должен посоветоваться со своим парикмахером, посмотреть "черные дни" в своем календаре, принести в жертву красивую девственницу и изучить внутренние органы овец с закрученными рогами… Я знаю, где можно раздобыть овец, но вот с девственницами сложнее… И мой парикмахер уехал за город. Дай мне сутки.
Она хотела поспорить, но я жестом указал на палтуса, чтоб она поняла, я серьезно отношусь к организации чего-либо.
Моя мать тут же появилась, освобождая Северине выход с оскорбительной деликатностью. В ответ Северина послала мне гораздо более сладкую улыбку, чем обычно, закрывая за собой дверь.
– Будь с ней осторожней! – пробормотала мама.
Ма и я печально посмотрели на огромную рыбу.
– Мне придется сожалеть, отдавая ее.
– Ты никогда не заполучишь другую!
– Я чувствую зуд, чтоб оставить ее у себя, но как я смогу ее приготовить?
– Ох, смею сказать, мы сможем что-нибудь придумать…
– Камилл Вер никогда не одобрял меня, так или иначе…
– Нет, – согласилась ма, – Но можно пригласить его отведать этой рыбы.
– Не сюда!
– Тогда пригласи Елену.
– Елена не придет.
– Она никогда не придет, если никто ее не попросит! Ты обидел ее?
– Почему ты считаешь, что я в чем-то виноват? Мы лишь обменялись парой слов.
– Ты никогда не изменишься!.. Значит это улажено, – решила моя мать.
– Скромное семейное торжество. И имей в виду, – добавила она на случай, если эта новость каким-то образом приободрит меня, – я всегда считала, что палтус – безвкусная рыба.
XLII
Временами мне казалось, что моя мать ведет двойную жизнь. Я гнал эту мысль, потому что римскому мальчику неприлично подозревать женщину, которая дала ему жизнь.
– И когда же это ты ела палтуса?
– Твой дядя Фабий поймал однажды.
Это походило на правду. Ни у кого из моей родни не хватило бы мозгов подарить палтуса императору, все что попадалось им в руки, шло прямо в кастрюлю.
– Это была совсем молодая рыба. С этой громадиной и рядом не стояла.
– Если Фабий поймал ее, это было предсказуемо!
Рядом с дядей Фабием все выглядело маленьким – семейная шутка.
– Ты же не хочешь, чтоб она горчила. Я вырежу жабры, – вызвалась мать.
Я позволил ей это сделать. Ей нравилось думать, что я все еще нуждаюсь в уходе. Кроме того, мне нравилась мысль, что моя крошечная, пожилая мама нападает с ножом на что-то огромное.
В идеале, стоило бы запечь его в духовке. Для этого потребовался бы соответствующий горшок (но не было времени, чтоб его делать), а затем поручить приглядывать за ним бездельникам из какой-нибудь общественной пекарни. Я мог бы построить себе собственную духовку, но, кроме того, что мне надо было сперва натаскать к себе домой кирпичей, я опасался возможного пожара, а кроме того, любое сооружение, достаточно большое, чтоб вместить моего палтуса, может привести к тому, что пол моей квартиры провалится.
Я решил его сварить. Плоскую рыбу нужно только осторожно кипятить на медленном огне. Мне нужна была огромная кастрюля, но у меня была идея. На чердаке в доме моей матери, где члены семьи держали не понравившиеся им новогодние подарки, хранился огромный овальный щит, который мой покойный брат Фест приволок домой. Он был сделан из какого-то бронзового сплава, и Фест утверждал, что это дорогая антикварная вещь с Пелопоннеса. Я расстроил его, поклявшись, что это, на самом деле, кельтская поделка, должно быть, дешевый сувенир, который мой бестолковый брат или выиграл на пари, или подобрал на пристани в Остии. Фест еще больше бы расстроился, узнав, что я превратил его пыльный сувенир в огромную кастрюлю для рыбы.
Я забежал к моей матери. Когда я забрался на чердак, чтоб забрать щит, то нашел в нем мышиное гнездо, но вышвырнул их без всяких слов. Внутренняя ручка уже потеряла одну из заклепок, когда Фест забавлялся со щитом. Другая заклепка заржавела и покрылась ярью-медянкой, но мне удалось срезать ее (поранив пару суставов). Выпуклая шишка на лицевой части щита могла бы создать проблемы. Я рассудил, что смогу пристроить щит на двух или трех кастрюлях с водой над жаровней, и просто суну туда рыбы, но сперва вскипячу для нее воду. Я провел час, чистя металл и отмывая щит в общественном фонтане. Он оказался действительно, достаточно большим для палтуса, но слишком мелким. Я установил его, заполнил водой и обнаружил, что она достигнет краев щита прежде, чем покроет палтуса. Кипящий бульон просто расплескивался бы со свистом. И переворачивать палтуса, когда он будет наполовину сваренным было бы затруднительно…
Как всегда моя мать позволила мне составить свой собственный план, а она тем временем сидела дома, дожидаясь, когда я, наконец, сяду в лужу. Когда я все еще взирал на наполовину покрытую водой тушу рыбы на щите, она с грохотом заявилась в мою квартиру, почти полностью скрытая под огромным медным тазом из прачечной Лении. Мы постарались не думать о том, как в нем ногами месили грязное белье.
– Я его как следует вычистила.
Таз был короче кельтского щита, но палтуса можно было бы запихнуть туда по диагонали, если мне удастся развернуть вверх его огромную треугольную голову и хвост. Ма также захватила несколько сеток для варки капусты, чтоб вытащить его, когда он станет студенистым.
Теперь я был готов.
Я пригласил мою мать, моего лучшего друга Петрония с супругой Сильвией, и кое-кого из родни. Во всяком случае, мое семейство было настолько большим, что никто и не ожидал от меня, что я смогу развлечь всех сразу. Я выбрал Майю, за ее подвиг по спасению выигрыша на бегах, и Юнию, за подаренную мне кровать. Я не приглашал своих шуринов, но они заявились сами по себе.
Я сообщил гостям, что прибыть они могут и пораньше, так как наблюдение за самим процессом приготовления рыбы будет частью программы. Ни одному из них напоминаний не потребовалось. Вся неожиданно явились прежде, чем я успел поменять тунику или искупаться. Я позволил им бродить по комнатам, критикуя мое новое жилье, и качество ремонта моего движимого имущества, пока я сам заботился о рыбе.
Я предполагал, что для пиршества мы используем помещение, которое я отвел под свой офис, но все притащили с собой табуретки и теперь толпились в гостиной, где могли мешать мне, и приставать с советами.
– Из чего у тебя бульон, Марк?
– Только вода с вином и лавровый лист. Я не хочу искажать натуральный вкус, считается, что так будет тоньше…
– Ты должен добавить гарум. Майя, разве он не должен добавить гарум?
– Я считаю, что он должен использовать гарум…
– Нет, соус мы будем готовить отдельно…
– Ты пожалеешь об этом, Марк! Это шафран или лук?
– Это тмин.
– Тмин? Ох! Марк делает тминную подливу…
Посреди всего этого шума я растирал в ступке травы для моего соуса (тут должен был быть любисток, но Майя подумала, что я просил принести петрушку, еще должен был быть тимьян, но я оставил свой горшочек с приправами в Фонтанном дворике). Кто-то постучал; Петроний открыл дверь вместо меня.
– Камилл Вер прислал кушетку из библиотеки. Куда поставить? – закричал Петроний. Я предполагал, что она будет стоять в офисе, но именно там уже была собрана всю мебель для пиршества (вся мебель, что еще не успели снова растащить по другим комнатам гости).
– Может в твою спальню поставим?
– Нет, там и так тесно. Лучше в пустую комнату напротив.
Одна из моих жаровен опасно вспыхивает, так что я должен оставить хлопоты о кушетке.
Именно этот момент моя мама и Юния выбрали, чтоб повесить занавески, так что я не мог больше видеть, что творится в коридоре, из-за их машущих рук среди складок полосатой материи. Оба моих шурина были привлечены к забиванию гвоздей, чтоб протянуть веревку для занавески, простая задача по прокладке прямой линии превратилась у них в замысловатый исследовательский проект. Что бы ни происходило в остальной части квартиры, до меня доносились лишь звуки разрушаемых дверных проемов и веселый голос Петрония, но в это время вино начало выкипать по краям ванны для стирки, и мне пришлось проигнорировать этот шум за пределами гостиной. Я с красным от натуги лицом поправил ванну на жаровнях, и теперь еле поднял палтуса, чтоб сунуть его в импровизированную кастрюля, как услышал крик Майи:
– Сожалею, но это частный семейный праздник. Дидий Фалько не принимает клиентов…
В воздухе повисло напряжение. Я развернулся, держа рыбу в охапке. В течении одного неприятного момента я ожидал появления Северины, но все оказалось намного хуже. Петроний, с отчаянием во взгляде, встречал кого-то в дверях, кого-то, кто был незнаком большей части моего семейства, но, разумеется, не мне… Елена Юстина.
В первое мгновение она не уяснила всю ситуацию.
– Марк! Я знала, что ты обнаруживаешь разные интересы, но я никогда не ожидала увидеть тебя в обнимку с рыбой.
Затем опустилась тишина. И весь блеск в ее глазах потух, поскольку Елена увидела полный дом веселых гостей, потрясающий подарок, который я готовил, и осознала факт, что я ее не пригласил.
XLIII
После пяти лет службы в страже на Авентине у Петрония выработался острый глаз на всякие неприятности:
– Кто-нибудь, возьмите у него эту рыбу!
Моя сестра Майя вскочила с табуретки и ухватилась за палтуса, но от потрясения я стал упрям и не отпускал его.
– Это Елена, – любезно объявил всем Петроний. Он скользнул ей за спину, чтоб предупредить отступление. Мы с ней стояли беспомощные. Я не хотел говорить с ней в присутствии посторонних. А Елена не стала бы говорить со мной, когда на нас все смотрят.
Я вцепился в рыбину, как утопающий моряк хватается за обломок реи. Это была только моя вина, как обычно, но именно Елена выглядела испуганной. Она попыталась скинуть заботливую руку Петрония, когда тот подхватил ее.
– Марк, Елена зашла, чтоб проследить за доставкой того диванчика для чтения, – кинулся мне на помощь Петроний, – Марк получил замечательный подарок от Тита. Ты останешься отобедать с нами?
– Только не там, куда я не приглашена!
– Ты всегда приглашена, – заговорил наконец неубедительно я.
– Считается удобным сперва сказать об этом человеку!
– Ну, тогда я сейчас тебе говорю.
– Это мило с твоей стороны, Марк!
С энергией слегка подвыпившего человека Майя отняла у меня палтуса. Прежде чем я смог ее остановить, она закинула его на край медной ванны, откуда он соскользнул так изящно, как церемониальная барка в свое первое плавание. На противоположном конце таза поднялась волна ароматной жидкости, и мои жаровни зашипели. Моя родня встретила это радостными воплями.
Майя села, гордая своим успехом. Мои шурины начали передавать по кругу вино, которое я отложил на более поздний срок. Палтус был временно в безопасности, но его начали готовить прежде, чем я нашел время чтоб сосчитать ложки, состряпать соус, поменять тунику или успокоить девочку, которую я так ужасно оскорбил. Петроний Лонг суетился возле нее, пытаясь извиниться за меня, но она освободилась от его опеки.
– Марк проводит тебя, – сказал он с надеждой.
– Марку надо готовить свою рыбу!
Елена исчезла.
Вода в медной ванне закипела.
– Оставь это! – взвизгнула Майя, борясь со мной за жаровню.
Моя мать, которая сидела, ничего не говоря, разняла нас с ворчанием.
– Мы можем позаботиться об этом. Иди.
Я бросился в коридор – пусто. Распахнул входную дверь – на лестнице никого. Я сердито нахмурился, и побежал назад, заглядывая в остальные комнаты. Рядом с кушеткой из библиотеки сенатора в комнате, которую я не использовал, находился дорожный сундучок, с которым, как я знал, Елена путешествовала… О, Юпитер. Я догадался, что это значило.
Петроний загнал ее в спальню. Елена обладала настолько крепкими нервами, что выглядела обычно более расстроенной, чем была на самом деле. Я вошел, к его огромному облегчению.
– Хочешь, мы все уйдем?
Я энергично покрутил головой (думая о рыбе). Петроний на цыпочках вышел.
Я встал между Еленой и дверью. Она дрожала от гнева, а может и от страха.
– Почему ты меня не пригласил?
– Думал, ты не придешь!
Ее лицо было бледным, напряженным и несчастным. Я ненавидел себя, за то, что заставил ее ненавидеть меня.
– Я все ждал, когда ты напишешь мне. Ты, очевидно, не хотела этого. Елена, я не мог сидеть, уставившись в дверь весь вечер и ждать тебя…
– Но я все равно ведь пришла! – решительно возразила она. – А теперь, я, полагаю, должна сказать: "Ох, ну это же Марк, что с него взять!" – как обычно говорит твоя семья в таких случаях!
Я позволяю ей выговориться. Это идет ей на пользу, а мне дает время. Я видел, что она в отчаянии. И ее сундучок сказал мне отчего. Мало того, что я дал ей пощечину, но я сделал это в тот самый день, когда она решилась прийти и начать жить со мной…
– Даже не пытайся! – предупредила она меня, как только я сделал шаг к ней. – Я не могу больше с этим справляться, Марк…
Я положил руки ей на плечи, она напряглась под их весом.
– Дорогая, я знаю…
Я потянул ее к себе. Она сопротивлялась, но недостаточно упорно.
– Марк, я не могу видеть, как ты уходишь, и никогда не знать, вернешься ли ты когда-нибудь снова…
Я привлек ее ближе:
– Я здесь…
– Отпусти меня, Марк, – Елена отстранилась от меня, должно быть я вонял сырой рыбой.
– Нет, позволь мне все исправить…
– Я все равно не хочу остаться! – ответила она все тем же тихим, грустным голосом. – Я не хочу, чтоб меня обманывали при помощи хитрых софизмов. Я не хочу участвовать во лжи. Я не желаю видеть, как ты ползаешь передо мной: "Елена Юстина, я не приглашал тебя, потому что знал, что ты все равно придешь. Елена, я позволяю тебе обвинять меня, потому что я этого заслужил"…
– Я прошу прощения. Не говори мне, что я ублюдок, я сам скажу это про себя…
Елена быстро кивнула.
– Я не буду оскорблять тебя словами мол "я люблю тебя", но это так, и ты знаешь это…
– Ох, прекрати строить из себя такого сурового и заботливого!
Благодарный за намек я обнял ее:
– Забудь, что я обнимался с палтусом, или ко мне…
Она сморщилась, когда склонилась к моей пахнущей рыбой груди.
Майя просунула голову сквозь новую занавеску на двери, увидела нас и покраснела.
– Мы ставим еще одну миску?
– Да, – сказал я, не советуясь с Еленой. Майя исчезла.
– Нет, Марк, – сказала Елена, – мы будем друзьями, я ничего не могу с этим поделать, но ты никогда не заставишь меня остаться!
У нее не было времени завершить. Прежде чем она успела полностью растереть меня в пыль, кто-то еще начал стучаться в мою дверь. Петроний снова пошел открывать. Я мог вообразить его ужас, если он встретит еще одну мою подругу, ухмыляющуюся на пороге… Я скривился и собрался идти ему помогать. Прежде чем я успел что-то сделать, он ворвался в комнату.
– Есть повод для паники, Марк. Ты можешь выйти?
Мой уравновешенный друг выглядел очень взволнованным.
– Это отряд проклятых преторианцев! Только Марс знает, что за этим последует, но, очевидно, ты просил Тита захватить его обеденную салфетку, чтоб попробовать твою рыбку…
Все шло к социальной катастрофе.
Я подмигнул Елене.
– Отлично! Ты намерена просто стоять там, вся такая красивая, или мы объединим наши усилия?
XLIV
Она выручила меня. Ей это пришлось сделать. Она была совестливая девочка. Она не рискнула бы оставить Тита Цезаря в затруднительном положении с компанией буйных плебеев. Елена скрипнула зубами, я усмехнулся ей – и в течении одного вечера, по крайней мере, у меня была сенаторская дочка, чтоб служить в качестве хозяйки вечеринки. Я не ждал, что она станет готовить, но она знала, как со всем надо управляться.
Члены моей семейки не видели причин отказываться от своих привычек, только потому что я заполучил в гости сына императора. Тит уже втиснулся в комнату, и теперь выглядел испуганным, прежде чем Елена и я смогли появиться и приветствовать его достаточно изысканно, как он привык ожидать. Мои родичи немедленно сцапали его и усадили на табуретку с миской оливок на коленях, чтоб он мог полюбоваться, как готовят его палтуса. Дальше все пошло своим чередом, не ожидая меня, Елена стала проверять готовность рыбы кончиком ножа, Петрений сунул мне в руки кубок с вином, и общий хаос удвоился, в то время как я болтался словно мышь-полевка, утонувшая в ливень.
Через пять минут и одну чашу дешевого вина из Кампании Тит ухватил правила поведения в доме, и присоединился к кричащей ораве, дающей советы. Никто из моей семьи не был снобом, его приняли как одного из нас. Большинству из них была более любопытна некая высокородная особа, что склонила свою надушенную голову к моей импровизированной кастрюле.
Преторианцам пришлось ждать снаружи. По счастью, когда женщины из семьи Дидиев приносят булки для вечеринки, они приносят их достаточно, чтоб отослать несколько корзинок, если какой-нибудь высокопоставленный гость придет с телохранителями.
– Какой соус? – пробормотала Елена, макая палец.
– Тминный.
– Почти безвкусный.
Я посмотрел в рецепт – один из тех, что я украл у самой же Елены. Она глянула мне через плечо и узнала свой собственный почерк.
– Ты негодяй!.. Здесь написано скрупул
[255]. Я положу больше – ты их раздавил?
– Ты пробовала молоть тминные зерна? Они там сидят и смеются над тобой.
Она подняла голову от мешочка.
– Не лезь под руку, я делаю так!
– Ты подручный. Я шеф-повар – я. И вина будет моя.
Я попробовал что получилось.
– Островато немного!
– Это горчица и перец.
– Заболтай туда ложку меда, пока я буду его сгущать.
– Этот парень знает толк! – крикнул Тит, такие гости мне по вкусу.
– Мой младший брат такой самостоятельный, – похвалилась Юния (которая всегда зовет меня не иначе, как безруким клоуном). Я поймал взгляд Елены. Моя сестра Юния очень гордилась своим приличным поведением и хорошим вкусом, но во всяком случае, на любом семейном сборище она казалась грубой и неуместной. Я был рад обнаружить, что Елена смотрела на Майю, сумасбродку, с которой они уже успели сдружиться.
Нам потребовалось четыре человека чтоб вынуть рыбу из таза. Я зацепил концы сеток для варки капусты ложкой, сваренный палтус оказался достаточно крепок, чтоб быть вытащенным целиком, и положить на кельтский щит моего брата, который держал Петроний. Когда мы пытались снять сетки для капусты, жар от рыбы прошел через металл щита, и обжог ему руки. Петроний стал жаловаться, но мы сказали ему, что это проверка на твердость характера.
– Будь аккуратен с выступом на наружной стороне щита!
– О боги! Марк, я что, должен держать поднос с рыбой весь вечер? Как я могу положить его с этим умбоном внизу?
Мой шурин Гай Бебий, таможенный чиновник, вышел вперед. Гай Бебий (который не желал, чтоб его поминали меньше чем обеими именами) осторожно поставил железную кастрюлю на стол. Петроний опустил щит шишкой в эту кастрюлю, которая поддерживала щит теперь довольно устойчиво. У Гая Бебия вышло что-то наподобие вазы для фруктов на тонкой ножке.
Мой шурин, должно быть, тайно запланировал этот удачный ход, как только пришел сюда. Такое коварство.
Палтус выглядел великолепно.
– О, Марк, отлично! – крикнула Елена, продемонстрировав хоть какое-то подобие приязненности.
Теперь, когда компания увеличилась, начались обычные проблемы вечеринок: нехватка тарелок и стульев. Тит пытался убедить всех, что совсем не против сидеть на полу на корточках, и вместо тарелки пользоваться салатным листом, но моя мать настояла на соблюдении приличий. Пока ма взяла на себя обязанность нарезать палтуса, я отправил Майю, у которой не было никаких тормозов, после вина на голодный желудок, собирать по соседям взаймы табуретки и миски.
– Большинство остальных квартир пусты, Марк. Этот дом – храм для призраков! Я взяла это у пожилой женщины наверху, ты знаешь о ком речь?
Я знал.
Вы, должно быть, помните, чем семейство Гортензиев потчевало Присцилла на
их вечеринке, и вам, наверно, будет интересно знать, что было
у меня:
РЫБНЫЙ УЖИН, ДАВАЕМЫЙ В ДОМЕ М. ДИДИЯ ФАЛЬКО
Салат
Палтус
Еще салат
Фрукты.
Простенько, но ничто не было отравлено, это я мог гарантировать.
У нас было изысканное вино, которое принес Петроний (он назвал мне марку, но я забыл). Ну, может, я и преувеличиваю чуток. Мои дядюшки со стороны матери занимались выращиванием овощей на продажу, так что в нашей семье представление о салате никогда не ограничивалось просто нарезанным вареным яйцом на горке листьев цикория. Даже трое моих неприглашенных сестер прислали свои взносы, чтоб я почувствовал себя виноватым; у нас был большой поднос белых сыров, а также холодная колбаса и ведерко устриц, чтоб поглотать с простой зеленью. Еда, буквально, вываливалась за двери – так как Юния не раз доставляла себе удовольствие относить блюда слоняющимся внизу преторианским стражам нашего почетного гостя.
Все сказали мне, что палтус вышел отменным. Как повар, я был слишком занят, чтоб попробовать его самостоятельно. Тминный соус, должно быть, оказался удачной приправой, когда я потянулся к нему, кувшин был уже пуст. И только у меня появилось время присесть, оказалось, что свободное место есть только в коридоре. Было так шумно, что у меня разболелась голова. Никто не удосужился беседой со мной, словно я был просто усталым поваренком. Я мог видеть, как моя мать сгрудилась в углу с Петронием и его женой, обсуждая их потомство, вероятно. Мои шурины жрали и пили, и тайком пукали. У Майи была икота, что было неудивительно. Юния прилагала все усилия, чтоб поухаживать за Его Цезарейшеством, что тот терпеливо переносил, хотя было видно, что он был гораздо сильнее увлечен Еленой Юстиной.
Темные глаза Елены постоянно следили за моими гостями; она и Майя делали много полезного: поддерживали беседу, передавали по кругу блюда. Елена была недоступна. Если я позову, она меня не услышит. Я хотел поблагодарить ее. Я хотел пойти и забрать ее, затем увести в одну из моих пустых комнат и заниматься любовью, пока никто из нас и шевельнуться не сможет…
– Где ты ее нашел? – взвизгнула у моего правого уха Майя, когда она тянулась, чтоб положить побольше клейкого палтуса на мою тарелку.
– Она нашла меня, я думаю…
– Бедная девочка, она тебя обожает!
Я почувствовал себя человеком, который выбрался шатаясь из пустыни:
– Почему ты так думаешь?
– Она так на тебя смотрит! – хихикнула Майя, единственная из моих сестер, кто действительно любил меня.
Я возился со своей добавкой. Затем, сквозь гвалт восьми голосов, говорящих одновременно, Елена подняла голову и заметила, что я наблюдаю за ней. На ее лице было всегдашняя смесь ума и характера, которые встряхнули меня. Она слегка улыбнулась. Знак мне, что все наслаждаются моей вечеринкой; затем наступил момент, когда все на мгновение смолкли.
Тит Цезарь наклонился, чтоб что-то сказать Елене. Она тихо ответила ему, как обычно вела себя при людях – ничего общего с тираном, что только что топтал меня. Тит, казалось, был восхищен ею столь же сильно, как и я. Кто-то должен был бы ему сказать, что когда сын Императора желает поразвлечься, почтив своим посещением дом бедного человека, он может есть рыбу и потягивать вино, и оставить стражу снаружи, чтоб поразить соседей – но он должен быть сдержан, если захочет пофлиртовать с девушкой бедного человека… Он без усилий произвел впечатление на мою родню. Я ненавидел его за его счастливую способность Флавиев приходится везде ко двору.
– Выпьем за хозяина! – кто-то в шутку помянул меня, как обычно поступают люди. Елена Юстина казалось выговаривала Титу, она бросила взгляд в мою сторону, и я понял, что она набросилась на него за то, как со мной обошлись во Дворце. Я подмигнул ему, он смущенно улыбнулся. Моя сестар Юния протиснулась куда-то мимо меня. Она бросила взгляд на Елену:
– Идиот! Ты должно быть скоро совсем упадешь в цене! – фыркнула она, не потрудившись подождать и посмотреть, огорчился ли я. И снова я был типичным хозяином вечеринки: усталым и заброшенным. Моя рыба остыла, пока я раздумывал. Я хмуро заметил, что когда домовладелец заново штукатурил стены, раствор высох, и теперь трещина, проходившая через весь коридор по длине, стала шириной в мой большой палец. Итак, я был председателем идеальной римской вечеринке: вкусный ужин для моей семьи, друзья и покровитель, которого я почитал. Я чувствовал себя подавленным и не выпил ни капли, меня оскорбила моя сестра, мне пришлось смотреть, как красавчик Цезарь пытается отбить у меня подружку, и я знал, что когда все остальные весело разбегутся, развалины, что они оставят позади, мне придется разгребать еще много часов.
Одной из приятных особенностей моей семьи было то, что как только они съедят и выпьют все, до чего смогут добраться, они быстро исчезают. Моя мать, извинившись за свой возраст, отбыла первой, хотя и не до того, как супруга Петрония Сильвия крикнула, не дав Титу выбросить прочь останки палтуса. Разумеется, ма позаботилась прихватить скелет и бульон от палтуса на потом. Петроний и Сильвия проводили мою мать домой (с ее ведром костей). Тит не забыл сказать ей что-то лестное о Фесте (который служил под его началом в Иудее). Все еще не оправившись от чуть не случившейся катастрофы с остатками рыбы, его честь решила, что было бы тактично, если бы он тоже удалился. Он уже поблагодарил меня и взял Елену под руку.
– Дочь Камилла Вера отстаивала твои интересы, Фалько!
Я задавался вопросом, слышал ли он, что мои отношения с Еленой выходили за рамки моей профессии, и знал ли он, как я активно пытался удержать ее здесь. Он выглядел неосведомленным. Скользкий ловчила.
Я слегка поклонился ей:
– Я думал мы решили, что твоя роль сегодня вечером будет всего-лишь любезно передавать по кругу маслины и пересчитать кубки для вина, прежде чем кто-то уйдет!
Тит предложил Елене отвезти ее домой.
– Благодарю тебя, – ответила она в своей твердой манере, – но Дидию Фалько доверено позаботиться обо мне. (Прежде я был ее телохранителем.) Тит пытался настаивать.
– Ему нужно зарабатывать! – зашипела она довольно явно.
Тит рассмеялся:
- О, деньги я ему дам…
– Бесполезно, сударь, – язвительно заметила Елена. – Без работы он не возьмет никакой оплаты. Ты знаешь, какой щепетильный этот Фалько!
Однако она была дочерью сенатора. У меня не было никаких формальных прав на нее. Было невозможно нанести обиду сыну Императора, ссорясь на пороге по простому вопросу этикета, так что я, в конце концов, потерял Елену среди шумной толпы, что провожала Тита вниз на улицу.
Это было грубостью с моей стороны, но я чувствовал себя столь подавленным, что остался наверху. Когда моя родня протопала три пролета вниз и помахала моему визитеру, отбывшему на Палатин, они не видели причин подниматься обратно ко мне для прощания. Они отправились по домам. Почтенные жители Публичных Садков должно быть вздрогнули от шума, когда они расходились.
Квартира была мрачной. Меня ждала долгая ночь. Я бросил в мусорное ведро несколько стеблей салата, апатично выпрямил пару кубков, затем рухнул на скамью, как положено утомленному хозяину, и уставился на беспорядок.
Позади меня закрылась дверь.. Кто-то с нежными пальцами и тонким чувством момента помассировал мне шею. Я наклонился вперед, чтоб дать ей больше места.
– Это ты?
– Это я.
Девочка с совестью. Естественно, она стояла позади меня, чтоб помочь мне мыть тарелки.
XLV
Мне следовало этого ожидать. На самом деле вопрос был, смогу ли я ее остаться со мной потом.
Я решил в начале заняться домашними делами, а сложные вещи оставить на тот момент, когда слишком устану, чтоб чувствовать любую боль.
Мы с Еленой составили отличную команду. Я мог смело приняться за тяжелую работу. Она была брезглива, но не уклонялась ни от чего, что надлежало сделать.
– В каком конце улицы мусорная куча?
Схватив два помойных ведра она стояла у входной двери.
– Оставь их на лестничной площадке на ночь. Район кажется тихим, но не стоит рисковать после наступления темноты.
Елена была толковой, но мне было нужно многому еще ее научить о жизни среди плебеев.
Все еще находясь в коридоре она крикнула:
– Марк, ты видел эту трещину в стене? Это так построено?
– Может и так!
Наконец мы закончили. Рыбный запах все еще заполнял дом, но все было чисто, кроме пола, который я мог вымыть и завтра.
– Спасибо, ты просто драгоценность.
– А мне это даже понравилось.
– Мне приятно осознавать, что все кончилось! Есть разница, моя любовь, между выполнением работы двадцати слуг один раз для забавы, и выполнением этого каждый день.
Несколько минут я сидел, полируя неспешно свои отличные ложки из бронзы.
– Ты мне о чем-то не рассказала?
Елена ничего не ответила.
– И без слов понятно; ты сбежала из дома.
Даже когда мы были в лучших отношениях, она становилась нервной, если ей казалось, что я слишком приближался к догадке об истинных причинах ее поступков. В самом деле, заставить Елену открыться, было тем еще испытанием. Она нахмурилась. В ответ я тоже нахмурился.
– Я профессиональный информатор, Елена. Я умею разгадывать подсказки! Кроме кушетки для чтения от твоего отца тут есть сундучок с твоими запасными лучшими платьями и сбережениями на жизнь…
– Я одета в свое запасное выходное платье, – возразила она мне. – Сундучок предназначен для документов, подтверждающих наследство, оставленное моей тетей Валерией…
Когда я влюбляюсь так же сильно, как это произошло с Еленой Юстиной, я вскоре начинаю спрашивать себя, зачем я это позволил себе. Я знал, что тетушкина ферма в Сабине была частью имущества Елены. Я также знал Елену, это выглядело, словно она отказалась от любого содержания, которое мог дать ей отец.
– Рассталась со своей семьей?
– Если я позорю себя, я не могу пользоваться семейным достоянием.
– Что, все так плохо? – нахмурился я. Елена не была обыкновенным избалованным котенком, которая топает ногами и требует свободы вести скандальную жизнь. Она любила свою семью. И она не хотела бы их расстраивать. Я не слишком склонял ее сделать это, чтоб позволить ей опуститься по социальной лестнице.
Она удивила меня, пытаясь оправдаться:
– Мне двадцать три, я была замужем и развелась, но это позор – оставить дом своих родителей, однако я не могу там больше оставаться.
Была большая разница, между побегом от традиционной жизни послушной дочери и побегом ко мне. Что за этим стояло?
– Они пытались снова тебя выдать замуж? На какой-то заносчивой сенаторской полоске
[256]?
– Раз ты теперь живешь здесь, – намекнула она (проигнорировав вопрос), – то я могу занять твою прежнюю квартиру…
– Не в одиночку.
– Я не боюсь!
– А следовало бы. Фонтанный дворик испугал меня.
– Прости, – хмуро сказала Елена. – Я должна была позволить Титу проводить меня домой…
– В Аид Тита.
У нас была незаконченная ссора, которая мешала теперь решить все разумно. Если мы начнем опять спорить этой ночью, результаты могут быть самыми плачевными.
– Если хочешь, я отведу тебя домой. Но сперва скажи, что ты хотела сказать, когда пришла сюда.
Она устало закрыла глаза, прекращая разговор.
– Елена, ты должна мне сказать!
– Я хотела спросить, свободна ли еще вакансия секретарши.
– Для правильного претендента.
Она ничего не сказала, но снова смотрела на меня.
– Останься здесь на эту ночь и подумай об этом, – сказал я спокойно. – Я обеспечу тебе хороший дом. Мне бы не хотелось обнаружить тебя спящей на жестком полу в дверях храма и просящей медяки у прохожих на мосту Проба!
Елена все еще колебалась.
– У нас тут есть кровать и кушетка. Ты можешь выбирать. Я не прошу чтоб ты разделила постель со мной.
– Кровать твоя, – сказала Елена.
– Хорошо. Не волнуйся, я смогу держать свои руки подальше от тебя.
По счастью, я был слишком усталым, а может, это было и неправдой. Я встал.
– В моей спальне есть плетеное кресло, умоляющее о хозяине. Лампа здесь, есть немного теплой воды, можешь взять умыться. Этого хватит?
Она кивнула и оставила меня одного.
Мы чего-то достигли. Хотя я не знал точно чего именно. Но Елена Юстина сделала огромный шаг, и мне предстоит пережить это вместе с нею.
Не угомонившись, я попытался отскрести от себя запах рыбы, затем пошатался по квартире как обычный домовладелец, позакрывал ставни, залил жаровни – необычное ощущение. Теперь, когда у меня была Елена, чтоб заботиться о ней, я запер входную дверь. Я не был уверен, это для того чтоб не впустить воров-домушников, или чтоб не выпустить Елену.
Я свистнул, для предупреждения, и вошел с двумя бокалами теплого медового питья. Свет лампы мигнул от сквозняка, который я вызвал. Елена свернулась на кушетке своего отца, заплетая волосы. С креслом Галлы, сундучком Елены и другими вещами небольшая комната выглядела уютной, это чувствовалось сразу.
– Я принес тебе попить. Еще что-нибудь нужно? (Я, к примеру?)
Она нерешительно покачала головой.
Я поставил бокал так, чтоб она могла до него дотянуться, затем направился к двери.
– Обычно я добавляю гвоздику, но если тебе не понравится, скажи мне, и в следующий раз я не буду ее класть.
– Марк, ты выглядишь чем-то расстроенным. Это по моей вине?
– Я думаю, это из-за дела.
– Что-то случилось?
– Тот вольноотпущенник был убит, несмотря на мои жалкие потуги. Его повар тоже мертв – и это отчасти моя вина. Я должен завтра решить, чем хочу заняться.
– Ты расскажешь мне об этом?
– Этой ночью?
Елена Юстина улыбнулась мне. Демонстрация интереса было частью ее новой роли. Она намеревалась постоянно задавать вопросы, выяснять все про моих клиентов, вмешиваться… Я мог бы справиться с этим. Сражаться с Еленой за мою работу было бы славно. Она увидела мою усмешку и улыбнулась сильнее. Я сел в кресло Галлы, установил свой бокал с горячим напитком на колено и рассказал, наконец, Елене все, что произошло с момента нашего последнего разговора.
Почти все. Рассказ о том, как меня чуть не соблазнила Северина, показался не стоящим упоминания.
– Это все? – спросила Елена.
– Сначала женщины Гортензиев наняли меня, чтоб поймать Северину. Теперь они бросили меня, а она хочет, чтоб я доказал их вину…
Елена раздумывала над моими заказами, пока я нежно смотрел на нее.
– Поллия и Атилия выставили тебя из дома Гортензия, а это предательство. Я думаю, ты должен принять предложение Северины, и пусть она станет твоей клиенткой. Если она невиновна, ты ведь ничего не теряешь? Если виновна, то у тебя будет больше шансов доказать это и поступить как должно с твоим покойным приятелем – поваром. Кроме того, – закончила Елена, – Северина должна будет тебе заплатить, если ты будешь работать на нее.
– На это нечем возразить!
Я не стал упоминать свое опасение, что охотница за золотом может рассчитывать уплатить мне натурой.
– Чувствуешь себя получше?
– Ммм… Спасибо. Завтра я навещу Северину.
Пора идти спать.
– Кстати, дочь Камилла Вера, я должен заглянуть к твоему отцу и объяснить, как я тебя опозорил…
– Не о чем рассказывать! Я сама себя опозорила.
– Твой отец может с этим поспорить. Вахлак, что соблазнил дочь сенатора, как считается, запятнал и доброе имя ее отца.
Елена отвергла это:
– Любой отец должен гордиться, когда его дочь ужинает палтусом, а гостем у нее старший сын Императора.
– Милая, иногда в доме Фалько вообще не ужинают!
Она выглядела уставшей. Я взял лампу. Наши глаза встретились. Я подошел к дверям.
– Я не стану целовать тебя с пожеланием доброй ночи. Но это только потому, что если я это сделаю, я не смогу доверять себе, чтоб остановиться.
- Марк, сейчас я не могу сказать, чего я хочу…
– Нет. Но то чего ты не хочешь, ясно видно…
Она начала было говорить, но я прервал ее:
– Первое правило этого дома – не спорь с хозяином. Однако я жду, что ты нарушишь его.
Я погасил светильник. Под прикрытием темноты я добавил:
– Второе правило. Будь добра к нему, потому что любит тебя.
– Ну, это я могу. Что еще?
– Ничего. Это все. И кроме того, Елена Юстина, добро пожаловать в мой дом!
XLVI
Северина сразу заметила во мне перемену.
– Что с тобой случилось?
– Добрый ужин вчера вечером.
Поскольку мои отношения Еленой пребывали в очень хрупком состоянии, я решил не оглашать новость о моем квартиранте. Во всяком случае, проверка благонадежности клиентов может оказаться работой для Елены, а вот мои отношения с Еленой моих клиентов не касаются.
– Это все? – ревниво потребовала Северина. Слова звучали знакомо.
Я сказал ей, что принимаю ее предложение. Мое расследование могло бы двигаться в двух направлениях: выяснение отношений между империями Гортензиев и Присцилла, и добывание подробностей относительно пира в вечер смерти Нова. Она спросила, может ли мне чем-нибудь помочь, и удивилась, когда я ответил отказом.
– Ты была под подозрением, Зотика. Лучше держись в стороне.
– Ну а если мне в голову придет что-нибудь полезное, я могу оставить сообщение в твоей квартире…
– Нет, не стоит этого делать. Я сдал одну из своих комнат одному квартиранту, которому я не доверяю находиться одному с моими посетителями женского пола. Я сам приду к тебе.
– Как хочешь!
Я уже должен был объяснять каждый свой шаг Елене. Одного надсмотрщика более чем достаточно.
Светлые глаза Северины блеснули.
– Что заставило тебя согласиться мне помочь?
– Ненавижу неоконченные дела.
Я направился к двери.
– Уже уходишь?
Она последовала за мной.
– Ты моя последняя надежда, Фалько, – сказала она льстиво. – Никто мне не верит…
Я остановил ее, шутя приставив палец к кончику ее маленького веснушчатого носа.
– Нет, я доказал твою невиновность.
Теперь она расплачивалась за эту привилегию, а я позволил себе покровительственный тон. Моя поза была настолько убедительной, что я сам испугался. Даже половина благорасположения со стороны Елены заставила меня чувствовать себя беззаботно.
– Между прочим, ты все еще ищешь для своего попугая новый дом? Я знаю кое-кого, кому могло бы понравиться домашнее животное-компаньон.
– Кому это?
– Моему дальнему родственнику.
(Ну… кое-кому, кто в каком-нибудь необозримом будущем мог бы стать моим родственником.) Но на самом деле у меня были собственные причины желать эту птицу.
– Я не могу обещать, что возьму ее сразу насовсем, но, если ты согласна, я могу взять Хлою на месяц, на пробу…
После того как я ушел, я сделал длинный крюк к реке, чтоб заглянуть к Петронию Лонгу в будку, которую стража Авентина использовала и как карцер, и как место, чтоб перекусить. Она была полна мужчин, играющих в кости, и перемывающих косточки правителям, поэтому мы сели снаружи, любуясь лодками с провизией, поднимающимися на веслах по Тибру.
Петроний был моим лучшим другом, так что я обязан был рассказать ему о Елене. Чтоб избежать неуклюжих шуток, я также должен был упомянуть, что отношения наши держались на очень тонкой ниточке. Он покачал головой, прикрыв улыбку рукой.
– Ну вы и парочка! Никогда не идете простым путем…
– Есть ли простой путь для плебея, чтоб заполучить дочку сенатора?
– Ни одного, но ты непременно попробуй сделать это!
Он начал было благодарить меня за вечеринку, но я остановил его.
– Да пожалуйста, я был вам с Сильвией должен за ваше гостеприимство. И еще, Петро, скажи мне, что сейчас болтают о мире высоких финансов в сфере недвижимости?
– Ничего необычного, как всегда одни надувательства, мошенничества и притеснения. Ты над чем-то работаешь?
– Возможно. Когда-нибудь сталкивался со стаей земельных хищников по имени Гортензии?
Петроний помотал головой.
– А как насчет Аппия Присцилла?
– О, об этом я слышал! Если ты намерен навестить Присцилла, забей в свой
нос затычку…
Я в недоумении поднял брови.
– …Все, чем он занимается, воняет!
– Что-то воняет особо?
– Я сам никогда не встречался с ним, но знаю, половина хозяев магазинов на Остийской дороге прячет головы в котел, при упоминании его имени. Тебе нужны какие-нибудь подробности? Я могу поспрашивать вокруг.
– Буду признателен…
– Ты пытаешься закинуть сеть на очень большую рыбу, Фалько! – предостерег меня Петроний. Размер как таковой – или даже размер, как мера социального статуса – никогда не волновали Петрония, он хотел сказать, что этот человек опасен.
Вернувшись домой, я нашел безупречного личного секретаря, уткнувшегося носом в свиток стихов. Она побывала в бане, тревожные нотки какой-то парфюмерии, половина из которых мне не понравилась, заполняли дом. Она коротко усмехнулась при моем появлении, как будто у меня было шесть ног и жвала, и затем продолжила нахально бездельничать в рабочее время.
Я притворно проскулил:
– Здесь ли живет Фалько?
– Время от времени.
Она не соизволила поднять свою как следует причесанную голову от свитка.
– Не могла ли ты передать ему сообщение?
– Если мне так захочется.
– Просто у меня может быть работа для него, если только он не слишком привередливый.
– Фалько не разборчив, – рассмеялась она с горчинкой.
– Так какова его цена?..
Она наконец оторвалась от чтения.
– …Нет, не говори им, яблочко. Ответ – больше чем ты можешь предложить, судя по твоему виду!
– Почему? Я могу сказать им. Я знаю, какие расценки ты выставил мне…
– Ты была прекрасной женщиной, и я хотел произвести впечатление. И я дал особую цену.
– Особо высокую, ты хочешь сказать.
Под поверхностью этого демонстративного добродушия я посылал сигналы страсти. Елена начинала колебаться.
– Я все правильно делаю? – спросила она.
– Поменьше дружелюбия! Клиенты только приносят проблемы. Зачем их ободрять?
– А что это у тебя трепыхается в сумке?
Я распустил завязки, и рассерженная Хлоя выскочила.
– Не стой там, баба, – прокудахтала она, – дай мне выпить!
Елена взъярилась.
– Дидий Фалько, если ты хочешь тащить в дом подарки, то я не допущу всяких домашних животных, что еще и огызаются!
– Я не хотел тебя оскорблять! Это для тебя работа. Я полагаю, что эта летающая безделушка может дать нам ключик к разгадке. Она девочка, зовут Хлоя, ест всякие семена… мне так сказали. Как свидетель, она хитра и совершенно ненадежна. Лучше держать ее в комнате с запертыми ставнями, если вдруг она захочет смыться прежде, чем проговорится. Я найду тебе грифельную доску – записывай все что она скажет.
– Какого рода ключ я должна услышать?
Попугаиха сделала одолжение, выдав три слова, которые обычно встречаются на стенах уборных в тавернах.
– Это будет еще то удовольствие! – пробормотала возмущенно Елена.
– Спасибо, любимая! Если увидишь агента по имени Косс, попроси его полюбоваться на эту трещину, ради меня.
– Я могу сказать ему, что она мешает твоим планам нанести на стену фреску с Пегасом и Беллерофонтом
[257] за тысячу сестерциев.
– Это должно подействовать. Есть еще вопросы, ягодка?
– Останешься на обед?
– Сожалею, нет времени.
– Куда пойдешь?
– Стучать в двери.
– Кто займется ужином?
Она была целеустремленной девочкой.
Я кинул несколько монет в бокал:
– Ты покупаешь, я готовлю, потом мы вместе едим и говорим о моем дне.
Я ее дал ей короткий целомудренный поцелуй на прощание, который оставил ее равнодушной, но оказал неприятный эффект на меня.
XLVII
Жилище Аппия Присцилла, адрес которого у меня был, оказалось мрачной крепостью на Эсквилине. Таким образом он оказался близким соседом претора Корвина, поселившись в районе, который когда-то был известен своей лихорадкой, а теперь стал домом для чумы иного рода: богатеев.
От дома пахло деньгами, хотя владелец демонстрировал свое богатство не как Гортензии с их показной роскошью в отделке интерьера и сокровищами изобразительных искусств. Присцилл показывал размер своего состояния старанием, с которым он оберегал его. Его дом был лишен каких бы то ни было балконов или пергол, которые могли бы служить укрытием для подбирающегося вора, немногие окна наверху были постоянно заперты. Частные охранники сидели, играя в настольные игры, в будочке на одном из углов улицы, которую целиком занимал мрачный особняк, где, как предполагалось, и обитал этот великий магистр недвижимого имущества. Стены дома были окрашены в черный цвет – тонкий намек на характер его владельца.
Два белых глазных яблока, принадлежащие огромному черному африканцу, скосились на меня через решетку в необычайно крепкой черной входной двери. Глаза впустили меня, но промчались через общепринятые формальности со скоростью, предусмотренной чтоб не допустить любого посетителя стать слишком осведомленным о внутреннем распорядке. В вестибюле содержалась свора британских охотничьих собак (на цепи), которые выглядели лишь немногим более дружелюбно, чем одетые в кожу телохранители; я насчитал по крайней мере пятерых, патрулирующих окрестности с блестящими кинжалами, подвешенными к поясам шириной в ладонь.
Меня затолкали в боковую комнатку, куда, прежде чем я начал скучать и карябать свое имя на штукатурке стен, вошел секретарь с явным намерением послать меня туда, откуда я явился.
– Могу ли я видеть Аппия Присцилла?
– Нет. Присцилл принимает своих клиентов по утрам, но мы держим их список. Если тебя нет в списке, у тебя нет шансов на пособие. Если ты арендатор, тебе надо к секретарю по аренде, если тебе нужен кредит – обращайся к секретарю по кредитам.
– Где мне найти секретаря по информации?
Он сделал паузу. Его глаза говорили, что информация тут ценилась.
– Это, возможно, ко мне.
– Информация, за которой я пришел, чрезвычайно деликатного свойства. Присцилл может предпочесть дать мне ее без посредников.
– Он не настолько раним, – сказал его слуга.
Очевидно, Присцилл не слишком много тратил на секретарей. Этот не был каким-нибудь напыщенным греком, что мог говорить и писать на пяти языках. У него было невыразительное североевропейское лицо. Единственным признаком того, что он выступал и в роли писца, была расщепленная на конце тростинка для письма, которую он засунул за кусок коричневой ткани, служивший ему поясом, и пятна чернил на нем.
– Меня зовут Дидий Фалько, – сказал я. Он не посчитал проявить вежливость и спросить меня об этом, но я решил сам быть вежливым.
– Я хотел бы, чтоб ты сообщил Аппию Присциллу, что у меня есть кое-какие вопросы о событиях в доме Гортензиев две ночи назад. Прояснение этих вопросов будет в наших общих интересах.
– Каких вопросов?
– Это конфиденциально.
– Ты можешь мне сказать.
– Возможно, но я не собираюсь.
Секретарь угрюмо свалил, не предложив мне присесть. На самом деле тут не было ни стульев ни скамеек. В комнате были только тяжелые сундуки, видимо набитые деньгами. Любой, кто присел бы на эти ящики, получил бы отпечаток жутких гвоздей, полос и болтов. Я решил сохранить свой нежный зад неклейменым.
Если бы я был адвокатом, судебный служитель только бы успел запустить водяные часы, чтоб отмерить время моего выступления, как мой посланник вернулся.
– Он не желает видеть тебя!
Я вздохнул.
– И что можно сделать?
– Ничего. Тебя не желают видеть. Теперь уходи.
– Давай еще раз это обсудим, – терпеливо сказал я. – Меня зовут Марк Дидий Фалько. Я расследую отравление вольноотпущенника Гортензия Нова, а заодно и убийство его повара…
– И что с того? – издевательским тоном спросил секретарь.
– Таким образом мне кое-кто намекнул, что Аппий Присцилл может быть замешан в эти убийствах.
Услышав обвинение секретарь даже не моргнул.
– Как мне кажется, – намекнул я, – Присциллу могло бы показаться удобным оправдать себя…
– Если он что-то и сделал – ты этого не докажешь! Если бы ты мог что-то доказать – тебя бы здесь не было!
– Это звучит убедительно, но это риторика бандита. А теперь скажи Присциллу следующее: если он сделал это – я докажу это. И когда я докажу, я вернусь.
– Я сомневаюсь в этом, Фалько. А теперь я предлагаю тебе быстро валить отсюда добровольно, потому что если я скажу фригийцам
[258] выпроводить тебя, то ты можешь весьма жестко приземлиться.
– Передай Присциллу послание, – повторил я, направляясь к двери. Когда я проходил мимо ухмыляющегося писаришки, я быстро повернулся и рывком завел его руку ему за спину, в тот момент, когда он расслабился и потерял бдительность.
– Давай доставим ему послание сейчас, не против? Мы можем второй раз сходить к нему вместе, и мне почему-то кажется, что он не слышал еще о моем сообщении…
Болван начал рыпаться.
– Брось дергаться, или стенографирование в ближайшую пару недель будет делом болезненным…
Я потянул его руку вверх, чтоб подчеркнуть суть своих слов.
– Не принимай меня за идиота – ты не виделся с Присциллом. Ты вышел ровно настолько, чтоб поймать пару вшей у себя.
– Его здесь нет, – задохнулась чернильная душонка.
– Где же он тогда?
– Здесь только его офис. У него есть еще дом на Квиринале
[259], и два напротив Соляных ворот
[260], или он может быть в своем новом владении за рекой на Яникуле. Но он принимает своих друзей только в своих личных домах.
– Итак, когда ты ожидаешь его здесь снова?
– Невозможно сказать…
Неожиданно он вывернулся и издал короткий вскрик, который привлек внимание одного из телохранителей.
– Спокойно. Я ухожу, но предай своему хозяину сообщение, как только он объявится!
– Не беспокойся! Когда я это сделаю, Фалько, ты можешь ждать от него весточки!
Я улыбнулся. Некоторые угрозы реально создают проблемы. Но большей частью они ничего не значат.
Когда я пересекал вестибюль, в пол-глаза следя за фригийским головорезом, я заметил портшез. На что бы не тратил свои доходы Присцилл, но только не на средства передвижения. Это был потертый ветеран из коричневой кожи, столь мятый и грязный, что это бросалось в глаза. Я видел его прежде – возле горящего дома, в ту ночь, когда умер Гортензий Нов. Это означало, что я видел и Присцилла, вылезавшего из него.
Тяжка жизнь бизнесмена. Едва ли найдешь время для заслуженного отдыха после убийством конкурента, прежде чем придется снова вернуться на улицы, и броситься к рыдающим жертвам поджога с контрактом в руке…
Наличие портшеза указывало на то, что Присцилл был где-то здесь. Но я покинул дом больше не споря. Я повредил руку писарю, чтоб быть уверенным: он тут же бросится к своему хозяину с жалобами. Мое сообщение дойдет незамедлительно.
Я встретил за дверью еще одну неприятную вещь, слезавшую со своего мула – гнойный нарыв, который я в последний раз видел обижающим старого торговца фруктами на Счетной улице. Я приготовился к драке, но слепая болячка не узнала меня.
Я развлекал себя в тот день в Храме Сатурна
[261], ковыряясь в записях цензоров о гражданах и их имуществе, которые хранились ради безопасности в Казначействе. Аппий Присцилл был вольноотпущенником с давних пор, приписанный к избирательной трибе Галериев
[262]. Мы давно уже заждались полной переписи жителей Рима, но он должен был бы быть отмечен в каких-нибудь официальных документах. Однако ему удалось скрыть свое существование. Я не был удивлен.
Я обнаружил, что более охотно чем обычно шатаюсь где-то, вместо того, чтоб идти домой. Это было не столько связано с оскоминой, оставшейся после посещения Присцилла, чем с некоей ухмылкой, с которой я мог бы столкнуться в собственном логове.
Она отсутствовала. Это было более-менее приемлемо. Я должен был позволять ей иногда прогуляться свободно по округе. Иначе скептики могли бы решить, что я удерживаю ее дома ради выкупа.
Дома все свидетельствовало, что утро прошло живо. Северина уверила меня, что ее попугаиха выдрессирована, но, по видимому, это означало, что Хлою обучили портить домашнее имущество. Было несколько следов от клюва на дверных косяках и разбитое блюдо в мусорном ведре. Кто-то, смею предположить, что не Елена, яростно напал на мой стул в офисе, и наполовину перегрыз одну из его ножек. А теперь еще и попугай пропал.
Елена оставила мне список высказываний птицы, с яркими комментариями от себя:
"Хлоя умная девочка" (Сомнительно. Е.); "Маникюрный набор"; "Где мой обед?" "Пойдем на вечеринку!" "Яйца в корзинке" (Это какая-то грубость? Е.); Три непристойности (Я отказываюсь писать их. Е.); "Хлоя, Хлоя, Хлоя"; "Хлоя хорошая девочка"; "Ушла к Майе, взяла твою глупую птицу с собой".
Последняя запись привела меня в недоумение, пока я не догадался, что это была шутка, адресованная мне своеобразным угловатым почерком моей сестры.
Я бросился к моей сестре раздосадованный, с намерением подвергнуть цензуре новость о том, что Елена переселилась ко мне. Я должен был знать, что после рыбного пиршества моя семейка будет тыкаться вокруг, в поисках скандалов и остатков трапезы.
Елена и моя сестра устроились на солнечной террасе Майи. Большое количество разнообразных пустых тарелок, бокалов и чаш усеяло край каменного парапета и широкие горлышки больших цветочных горшков Майи. Ни Майя, ни Елена не потрудились встать и предложить мне поесть. Они, должно быть, слегка перекусывали всю вторую половину дня, и теперь были слишком набиты, чтоб сдвинуться с места.
Елена подставила мне щеку, я ее слегка коснулся губами. Майя отвернулась. Наше поведение, казалось смутило ее больше, чем страстные объятия.
– Где попугаиха?
– Спрятана, – сказала Майя. – Она думала, что сможет терроризировать моих детей, но те дали сдачи. Мы должны были накрыть ее кастрюлей для ее собственной же безопасности.
– Я видел, что эта чума сделала дома, – пожаловался я, ища вокруг крошки, как несчастный воробей. – Я раздобуду клетку.
Мне удалось найти пару тусклых миндалин на дне чашки. Они были невкусные. Мне следовало бы знать, что никакие лакомые кусочки, отброшенные моей девушкой и младшей сестрой, не дадут достаточно пропитания.
– Я полагаю, что "два яйца в корзинке" означают тестикулы, – сообщил я им, использовав нейтральный медицинский термин, чтоб показать, что считаю их обоих за светских дам. – Хотя, если "маникюрный набор", это и из солдатского жаргона, то смысл ускользает от меня.
Майя сделал вид, что знает, и скажет Елене потом.
Они позволили мне сесть, кинули мне несколько подушек, и затем снизошли, чтоб выслушать о моем дне. Скоро я понял, что Елена рассказала Майе о деле, которое я расследую.
– Мне никогда не доводилось видеть самого Присцилла. Но он кажется тот тип, что я думал – высокая квартплата и низменные мотивы. Я начинаю склоняться к мысли, что Северина может оказаться права.
– Не смей и пробовать жалеть ее! – предупредила меня моя сестра. Мне показалось, что она и Елена обменялись понимающими взглядами.
Их реакция сразу же сделала мое отношение к охотнице за состояниями более благожелательным.
– А почему бы и нет? Что, если все составили о ней неверно судят? Что, если она просто девушка, желавшая обзавестись домом, и в отношении Гортензия Нова она действовала из лучших побуждений. А со всеми остальными, с кем она была связана, просто произошли несчастные случаи?
Это беспристрастное заявление удивило даже меня. Я должен быть осторожнее.
Моя сестра и моя девушка встрепенулись так, что их браслеты звякнули перед моим носом, затем приказали мне рассказать о Северине Зотике все подробно, так что они могли раскритиковать ее со всех сторон. Майя, которая была опытной ткачихой, особенно заинтересовалась ее домашним рукоделием: "Она что, действительно, делает это сама?" "Как споро она может работать?" "Она использует образец?" "Когда она меняла цвет нити, она задумывалась, или выбирала другой моток ниток автоматически?"
– Ох, я не могу это помнить!
– Марк, ты бездарь!
– Я считаю ее искренней. Разве этот образ непоколебимой Пенелопы
[263] не подтверждает ее невиновность? Сидение за ткацким станком кажется приятным тихим занятием…
– Сидение за ткацким станком, – сделала мне замечание Майя, – дает много времени для интриг и заговоров!
– Традиционное занятие почтенных римских матрон. Август всегда подчеркивал, что вся одежда в его доме соткана женщинами его семьи.
Елена рассмеялась:
– И его родня по женской линии, вся превратилась в символ распущенности.
Она пристально посмотрела на меня оценивающе.
– Ты хотел бы неуклюжую тунику, изготовленную дома?
– И не думал об этом. (Даже не осмеливался!)
– Хорошо, расскажи о ее поездках в библиотеку. Что она читает?
– Географию.
– Это безобидно, – согласилась Елена, хотя она и Майя обменялись еще одним глупым взглядом. – Возможно, она ищет приятную провинцию, куда может отправиться в добровольное изгнание со своим незаконно добытым состоянием!
– Сомневаюсь. Единственный свиток, что я заметил, относился к Мавретании. Кто захочет отправиться в пустыню, охваченную эпизотией среди слонов?
– Если бы она взяла три тома о воспитании попугаев, – хихикнула Майя, – в этом, может быть, и был бы смысл. Тебя привлекает эта женщина?
Елена внимательно изучала меня, скосив взгляд, так как это предвещало проблемы, я сказал:
– Она неплоха, если тебе нравятся рыжие!
Майя сказала, что я отвратный тип, Затем она поручила Елене доставить меня (и моего попугая домой.
Как только мы добрались до моей квартиры, я обнаружил, что моя сестра научила попугаиху кричать: "Ох! Марк был непослушным мальчишкой!"
XLVIII
Следующим утром, пока я предпринимал бесплотные попытки разыскать Аппия Присцилла то в одной, то в другой из его причудливых резиденций, Елена купила клетку для попугая и, после этого, приняла два сообщения для меня.
– К тебе заходил раб, который отказался назвать свое имя, хотя он, скорее всего, слуга из дома Гортензиев.
– Они должны мне кучу денег.
– Он их принес. Я пересчитала и выписала квитанцию. Мне следует вести твою бухгалтерию за тебя?
Меня прошиб холодный пот, когда я столкнулся с еще одним аспектом близких отношений, который я никак прежде не учитывал.
– Конечно нет! Мои мозги и мое тело в твоем распоряжении, но нужна же человеку и некая приватность…
– Посмотрим! – Елену это не привело в восторг.
– Посыльный нашел кого-то, кто может тебе помочь. Он приведет ее завтра утром. Ты сможешь быть здесь? Она работает на кухне, поэтому должна быть тут пораньше. Кроме того, похороны повара будут в четверг, если ты захочешь прийти.
– Да, я должен выразить свое уважение Виридовиксу.
– Я сказала, мол думаю, что ты это сделаешь. Второе сообщение было от Петрония Лонга, он хочет срочно тебя видеть.
Петроний был на службе, поэтому я нашел его на Авентине. Он взял перерыв, оторвавшись от охраны Эмпория, чтоб перехватить по стаканчику вина со мной. Я рассказал ему о своем утреннем преследовании Присцилла по его домам, где везде мне указали на дверь.
– Очевидно, он занят покупкой уединенного места для альбанского праздника
[264]. Если он не может решить, какое место выбрать, он просто купит их все…
– Присцилл был причиной, почему я хотел тебя видеть, – Петроний бросил на меня хмурый взгляд. Он погонял вино между зубами, в знак того, что оно было на вкус как зубной порошок. – Фалько, в какое ослиное дерьмо ты влез? Все, кого я спрашивал об этом магнате считают, что он так же безобиден, как ведро змей. И еще к этому, – добавил Петроний со смаком, – братьев Гортензиев – или кто они там есть – отзывы о которых не многим лучше!
– Какая-то грязь?
– Начнем с Присцилла. История довольно мерзкая. Он впервые появился как крупный делец во время расчисток после Великого пожара. Он "служил народу", гоняясь за обездоленными арендаторами, которых Нерон выгнал из их жилья, чтоб освободить место под свой Золотой Дом. Присцилл приходил к ним, и его жадные глаза видели только возможность выставить требование о компенсации…
– Я полагал, что "компенсация" это была просто дурная шутка.
– В Риме? На самом деле все было так: Нерон бесплатно убрал трупы и обломки, хотя это и было уловкой, и таким образом он мог забрать развалины и все, что осталось себе. Фонд помощи пострадавшим от огня, собрать который все мы, граждане, помогали так усердно…
Петроний имел в виду, что он был выжат из нас откупщиками.
– …оказался не дальше, чем в собственных сундуках Императора. Тысячи остались без крыши над головой и в полном отчаянии. Итак, во-первых открылись хорошие возможности для подрядчиков, предоставляющих временные приюты за пределами города. Тогда мошенники смогли сколотить свои состояния, строя дешевые трущобы для тех беженцев, что смогли спасти хоть что-то, и еще более дешевые бараки для тех, у кого ничего не осталось. Они сорвали большой куш: как только погорельцы поселились, арендная плата поднялась. А когда цены стали кусаться, циничный Присцилл появился снова – в этот раз в роли ростовщика.
Большая часть Рима живет в кредит. Все, от уборщика при храме до консула, как правило, находятся в долгах большую часть своей жизни. Люди высшего общества могут жонглировать своими закладными, менее удачливые скатываются по спирали вниз под бременем пяти процентов годовых до продажи своих сыновей в гладиаторы а дочерей в дешевые бордели.
– Как насчет триумвирата Гортензиев? Они занимались чем-то похожим?
– Да, хоть и малость почище. Их интересы кажутся более разносторонними…
Я упомянул о рассказе торговца пирожными, как Поллия занималась снаряжением зерновозов.
– Похоже, Нов верил, что не следует все яйца класть в одну корзину, торговые надувательства хорошо балансируют мошенничества с недвижимостью!
– Их стиль ведения бизнеса менее жесткий, чем в ходу у Присцилла. Как домовладельцы, они кажутся плохими управляющими. Почему их должно беспокоить, могут ли видеть их квартиросъемщики солнечный свет сквозь стены?
– Почти так же дружелюбны, как Смаракт! – пошутил я.
– Не смешно. Недавно трое детей погибли в квартире в третьем районе
[265], когда обрушился пол. Гортензии в среднем раз в месяц получают судебный иск от пешеходов, которые только чудом избежали упавшей с крыши черепицы или кусков от сломавшейся балюстрады балкона. Целая стена недавно рухнула и насмерть придавила мужчину где-то на Эсквилине. Пренебрежение безопасностью зданий их вторая натура, они гарантируют, что все в порядке, хотя их сооружения всегда рушатся…
– И перестраиваются с прибылью?
– О да! – подтверждая свои слова Петроний слегка поднял руки. – Но их основным методом привлечения финансов является мошенничество с многократным залогом.
– Это как?
– Ты все еще в колыбели, Фалько? – казалось Петроний не мог поверить.
Я был серьезен. Он лучше разбирался в финансовых преступлениях, чем я; как офицер на жаловании, он чаще имел деньги, чтоб вложить их во что-нибудь. Иногда он терял их – но не так часто, как большинство людей, у него было осторожное деловое чутье.
– Юридически это называется "ипотека". Ты понимаешь меня?
– Я не дурак… Так что это означает?
– Это означает жульничество, Фалько!
– Я слышал этот термин, или читал где-то. Разве это слово юристы не используют просто, когда говорят о залоге, которым продолжает пользоваться должник? Какое тут может быть мошенничество?
– Вот как это делается: Гортензии владеют зданием и берут под него кредит. Затем они повторяют операцию – то же самое имущество, но новый кредитор, и затем снова столько раз, сколько получится. Они выбирают простых людей, которые не знают – или не спрашивают – является ли эта собственность уже обеспечением по другому кредиту.
– Значит они закладывают здание на сумму его полной стоимости столько раз, как только смогут?
– Озарения иногда посещают твой пьяный маленький мозг! Затем, как ты догадываешься, Гортензии не возвращают деньги. Конечно, они теряют свою собственность, но они совсем не против! Они получили его стоимость несколько раз за счет кредитов.
– А что делают их кредиторы, Петроний? Разве они не могут подать иск?
– Возмещается в строгом порядке: сперва самый ранний договор. Один или двое могут вернуть свое, когда здание будет продано, но как только вырученная с торгов сумма исчерпается, остальные ничего не могут потребовать.
– Как? Никакой гарантии совсем?
– Они должны были обезопасить себя сами, сначала все проверив! Если нет – значит им не повезло. Это мошенничество основано на лени самих жертв надувательства.
В словах Петрония не было сочувствия. Подобно мне, он был человеком, который к таким вопросам подходит со всей серьезностью.
– Я получил все эти сведения от сирийского банкира. Обычно он только трясет своими сальными локонами, и я не могу вытянуть из него ни слова, но этот Присцилл имеет настолько дурную славу, что все дельцы на Форуме хотели бы, чтоб его как-то ограничили. Мой собеседник рассказал мне о Гортензиях из зависти к их успеху в повторном кредитовании. Никто из профессиональных ростовщиков не купится на такое, но на частном рынке всегда есть болваны, которых можно заинтриговать умными рассуждениями о быстрых процентах. Официальные дилеры ворчат, что Гортензии прибрали к рукам все свободные средства на рынке кредита, в то время как Присцилл, с его зверскими методами, заставляет всех крайне нервничать.
– Что случилось бы, – предположил я, – если бы эти две группы объединили усилия?
Петроний вздрогнул:
– Это был бы просто ужас.
Я сидел и размышлял. Теперь, когда у меня было некое представление о методах работы империй Гортензиев и Присцилла, мне представлялось, какое обширное поле у них всех было для извлечения прибыли. Но это также рождало бесконечную жажду получить еще больше. Бедные привыкают довольствоваться малым, люди с большими деньгами никогда не чувствуют, что имеют достаточно.
– Спасибо, Петроний, что еще мне следует знать?
– Только то, что мой осведомитель сказал, мол если ты хочешь расстроить Аппия Присцилла, то мне следовало бы спросить у тебя, куда ты положил свое завещание.
– Ма знает, – ответил я кратко.
Его спокойные карие глаза осмотрели меня.
– Надень широкий ремень под тунику и держи кинжал в ботинке! Если у тебя будут проблемы – сообщи мне.
Я кивнул. Он вернулся к своим обязанностям, а я остался сидеть со своим стаканом.
Я не буду говорить, что испугался, но моя кожа покрылась мурашками…
Чтоб дать себе возможность побеспокоиться о чем-нибудь другом, я отправился к Северине.
– Как и обещал, я пришел с отчетом.
– Как там моя попугаиха?
– Я слышал, что она чувствует себя как дома…
Я описал следы разрушений, оставленные Хлоей, старательно опуская факт, что птичник, который она рушила, был моим собственным.
– А что ты хотел? – раздраженно упрекнула меня охотница за золотом. – Она чувствительная девочка. Ты должен осторожно знакомить ее с новым местом обитания!
Я улыбнулся, подумав не о Хлое, а о Елене Юстине, которая столь боязливо согласилась раскинуть свой тент у моего водопоя.
– Фалько, ты чему ухмыляешься?
– Мне, вероятно, придется приковать пташку цепью к жердочке.
– Нет, не делай этого. Она может попытаться взлететь и тогда упадет и будет болтаться на ней.
– Ты собиралась от нее поскорее избавиться?
– Да. Хлоя, – объяснила Северина, – была подарком от Гриттия Фронтона, о несчастье с которым я хочу поскорее забыть.
– Расслабься! Я передал твой пучок перьев человеку с гуманными наклонностями, для птички купили большую клетку… Я же хочу поговорить с тобой о более хищных птицах. Садись, слушай внимательно и не говори мне снова "я просто невежественная маленькая женщина".
Прежде чем она снова принялась спорить, я рассказал ей все, что узнал к этому моменту о Присцилле.
– Это соответствует твоей истории, но ничего не доказывает. Расскажи, что тебе известно об отношениях между Присциллом и твоей компанией с Пинция. Ты упоминала ссору, конец которой должен был положить тот ужин. Что послужило причиной первоначального разногласия? Насколько я оказался бы прав, предположив, что Гортензии надули конкурирующую организацию при помощи своего многократного залога?
– Ты умен! – призналась Северина. – Гортензий Нов всегда утверждал, что это произошло случайно, но он обманом склонил Аппия Присцилла подписаться под одним из тех его мошеннических контрактов. Вот почему Присцилл начал угрожать семье, и почему Феликс и Крепито, у которых были не такие крепкие нервы как у Нова, были готовы принять предложение от Присцилла, чтоб сотрудничать в будущем.
– У меня сложилось впечатление, что они пожали руки, договорившись о чем то большем, чем простая компенсация за эту плутню! Я думаю, Феликс и Крепито желали полного слияния их коммерческих империй. Марс Мститель, они могли все же сделать это, и взять за глотку весь рынок арендного жилья в Риме! Твой Нов противился этому?
– Может ты и прав, – сказала она с сомнением в голосе. Я снова узнал ту маленькую невежественную женщину и оставил эту тему. Трюк, при помощи которого, как я обнаружил, можно заставить Северину говорить, заключался в том, чтоб в этой настольной игре сделать маг вперед, и тем заставить ее реагировать на это движение.
– Ты останешься отобедать со мной, Фалько? Мне нужно с кем-нибудь поболтать, а моя подруга в банях слишком занята, чтоб зайти, и я скучаю по своему жениху…
На мгновение я забыл, что Северина была моей клиенткой:
– Не волнуйся, – улыбнулся я любезно, – скоро ты найдешь другого, чтоб заполнить эту пустоту.
Урон, нанесенный ее попугаихой моей квартире, должно быть поколебал мою природную терпимость.
Я хотел видеть Елену, я очень желал наладить с ней отношения, помогая ей управиться с грубой птицей.
Идя домой, я чувствовал, что продвигаюсь в расследовании. Нельзя сказать, что заросли расчистились: у меня было три набора подозреваемых, а мотивов было больше чем блох у кошки. Единственная вещь, которая их объединяла, было то, что ни один из них невозможно было пока доказать.
И все же я радовался. Это намного больше приносило удовлетворения, чем какая-нибудь безнадежная миссия для Веспасиана. Здесь передо мной была более животрепещущая задача, и если бы я ее разрешил, это бы привело не просто к устранению какого-то старого политического червя, исчезновение которого едва ли было бы заметно человеку с улицы. Здесь было реальная социальная язва, чтоб ее раскопать и обличить.
По видимому я уже вскрыл один нарыв. Ожидавший на нижних ступеньках в моем доме оказался посланником. Тучный заикающийся молодой человек с ячменем на глазу передал мне, что Аппий Присцилл получил мое сообщение. Если я хочу встретиться с ним, мне следует быть на Форуме Юлия
[266] через полчаса.
Не было времени даже подняться и сообщить об этом Елене. Я поблагодарил юношу (который был удивлен, что кто-то оказался благодарен за приглашение к Присциллу), затем я поспешил на встречу.
Я знал, что Петроний бы возражал против того, чтоб отправиться туда одному, но у меня был нож и уверенность в своих силах, мне ведь приходилось уже проходить через многое. Кроме того, Форум Юлия Цезаря открытое публичное место.
Я пробрался, как полагал, хитрым способом, через здание Курии
[267] и вышел через большие двойные двери сзади. Это был бы ловкий маневр, но Присцилл еще не прибыл, поэтому я зря потратил свое время.
Все казалось спокойным. С одной стороны от меня был большой общественный туалет, а с другой стороны магазины, я был готов ко всему! Цезарь построил свой Форум для жителей переполненного города и великодушно окружил его колоннадой. Я вышел на открытое место, на всякий случай.
Через пять минут появился коричневый портшез. Он прибыл с восточной стороны и остановился прямо там, под аркой.
Я тщательно осмотрел местность на случай засады. Никого не заметил. Носильщики стояли неподвижно, глядя перед собой и не обращая на меня внимания. Они могли быть немыми, или тупыми, или иноземцами – или всеми тремя одновременно. Я оглянулся по сторонам, затем приблизился. Когда я откинул в сторону кожаную занавеску, я уже убедил себя, что Аппия Присцилла внутри не будет. Но я ошибался.
– Залезай, – сказал он.
XLIX
Это напоминало встречу лицом к лицу с другой крысой: у него были те же зубы и пронзительный взгляд. Я сел, хотя предпочел бы пинаться коленями со своим сокамерником в Латомийской тюрьме.
Никто не может обвинить Присцилла в излишней роскоши. У него было тощая фигура человека, слишком занятого, чтоб наслаждаться едой. Он носил невзрачную старую тунику. Нельзя сказать, что она была плоха, но она была настолько нагоняющая тоску, что даже я выбросил бы ее бродягам (хотя большинство бродяг, которых я знавал, придерживались более изысканной моды). Явно было видно, что брадобрей недавно несколько раз провел бритвой по его узкому подбородку, но это случилось, вероятно, только потому, что деловые люди полагают, что кресло цирюльника – это место, где можно получить всякие новости. (Я не знаю почему, но все чем я там обзаводился – была сыпь). Забота о приведении Присцилла в приличный вид не дошла даже до дорогих безделушек. Его тонкие волосы были слишком длинные, его ногти нуждались в чистке и подрезке. И я не могу представить, чтоб его брадобрей когда либо предлагал ему небольшие флакончики со смолой кедра в противозачаточных целях…
Присцилл не был женат. И теперь я знал почему. И не потому, что женщина была бы слишком разборчива, чтоб жить с ним (большинство из них стерпит грязные ногти в обмен на туго набитые сундуки), но этот скупердяй-карлик, который и себя то держал в черном теле, пожадничает оплачивать стол и проживание столь несущественной вещи, как жена.
Даже с двумя пассажирами носильщики шли бодрым шагом.
– Куда мы направляемся? – спросил я несколько встревоженный, прежде чем представился.
– Дела на Марсовом поле
[268].
Ну, я и так догадался бы, что дела: он вряд ли бы стал тратить время на посещение храма или занятия гимнастикой.
– Итак, ты Фалько. Что тебе от меня надо?
Его голос хрипел, как будто он старался так же цепко удержать свое дыхание, как все остальное.
– Несколько ответов, будь любезен. Я занимаюсь случаем Нова…
– На кого ты работаешь?
– Мне платит Северина Зотика, – ответил я педантично.
– Ты одурачил сам себя! Повнимательнее посмотри на своего собственного клиента, Фалько!
– О, я с ней очень осторожен, но в первую очередь я смотрю на тебя!..
Трудно было сосредоточиться, потому как носильщики продолжали бежать, и сиденья подбрасывало на каждом слоге, пока мы пытались говорить.
– …Северина это профессиональная невеста. У нее не было мотива убивать Нова, прежде чем она не появится в ряду официальных наследников его состояния. Ты и Гортензии более логичные подозреваемые…
В крысиных глазках сверкнула угроза, которая заставила меня вздрогнуть.
– Прошу прощения, но я сужу по фактам: это выглядит мрачным для тебя, если ты намерен объединить дела с Феликсом и Крепито в то время, когда все в Риме знают, что их умерший партнер был так сильно настроен против этого. Между прочим, почему?
Присцилл только впился в меня взглядом. Я ответил сам:
– Он видел это не как объединение, а как поглощение тобой их бизнеса. Нов привык сам быть главным петухом на своей собственной навозной куче. Он отказался довольствоваться вторым местом, в отличии от двух других, так как те всегда были так или иначе зависимы от Нова…
Портшез остановился.
– Ты меня раздражаешь, Фалько, – Присцилл говорил с той усталой небрежностью, которую головорезы всегда используют когда угрожают. Он вел себя как какой-нибудь разжиревший гвардеец в отставке, который перешел улицу, только чтоб получить удовольствие, спихнув меня в сторону.
– Тогда помоги мне.
– Помогай себе сам! – прорычал он оскорбительным тоном. – Мы приехали, выходим.
Я почувствовал, что мы прибыли на Марсово поле с его открытым простором. Я испытал внезапную тоску и желание остаться в безопасности внутри этого портшеза, и далее переносить тряску, пытаясь удержаться от того, чтоб получить синяки от костлявых коленей Присцилла. Он отдернул занавеску и вылез первым. Ему почти удалось одурачить меня, внушив ложное чувство безопасности.
Я вышел наружу. Мои предчувствия меня не обманули. Если бы я стал цепляться и остался внутри, поджидавшие нас фригийцы просто оттащили бы портшез в сторону и занялись бы проблемой, как прикончить моллюска внутри его раковины. Хотя и оказаться снаружи было не лучшим вариантом. Мы остановились посреди площадки для тренировок, и все они держали в руках легкие копья. Наконечники копий не были закрыты тренировочными набалдашниками, их острая норикская сталь была реально острой. Когда я выкарабкался наружу и выпрямился, я оказался зажат между ними так, что при попытке дернуться в любую сторону получил бы порез на своей шкуре.
Я молчал. Один из наконечников упирался мне в трахею, так что при попытке говорить, я бы проткнул себе горло.
В настоящее время равнина Марса довольно плотно застроена всякими монументами, но некоторые ее части все еще пустынны. Мы были в одном из таких мест. Сухой ветер со стороны реки теребил мои локоны, но едва касался моих вспотевших ладоней. Несколько неспешно гарцующих на конях всадников виднелось вдалеке, но они были слишком далеко, чтоб что-то заметить, даже если бы и были готовы вмешаться.
Ни один из фригийцев ни сказал мне ни слова. Их было восемь, никаких шансов. Они были не крупные, но все жилистые. Все остроскулые, и отличались один от другого только отметинами шрамов. Иноземцы, из горных районов Азии, вероятно прямые потомки хеттов
[269], которые славились своей жестокостью.
Сначала они вымотали меня. Забавляясь, они пихали меня локтями то так, то этак. Некоторые поднимали свои копья, а другие в это время толкали меня на них. Я балансировал на пальцах ног, едва я налетал на подставленные копья, как меня тут же отбрасывали назад. Если я не проявлял интереса к этой игре, меня побуждали легким порезом. Если бы слишком резко дернулся – насадил бы сам себя на острие. Все знали, что я все время буду искать шанс вырваться и убежать – но вряд ли бы это был долгий забег. Даже если бы мне удалось от них оторваться, в меня полетели бы их копья…
Сигнал перейти к более решительным действиям, по видимому, пришел от человека за моей спиной. Он схватил меня. Фригийцы бросили свое оружие. Затем они начали новую игру – стали перебрасывать меня от одного к другому, одновременно нанося удары по тем моим частям, куда им удавалось дотянуться. Не слишком жестко – они хотели продлить забаву подольше.
Мне удалось добраться до своего ножа и нанести в отместку несколько ударов, но это только заставило их громче насмехаться надо мной, а их удары стали тяжелее, в то время как я только сильнее чувствовал жгучую горечь злости во рту.
К этому времени я уже понял, что Присцилл не собирается меня убивать. Иначе он заставил бы их сразу перерезать мне горло и оставить мой труп, чтоб на него, мокрый и закоченевший в тумане с реки, наткнулись бы на следующий день любители ранних утренних прогулок верхом. Он хотел, чтоб я послужил предупреждением всем, кто слишком пристально интересуется делами могущественного Аппия Присцилла и мешает ему.
В конце всего этого я все еще был жив.
Фригийцы знали, как выполнять приказы, и были достаточно хорошо тренированы. С другой стороны, казалось, что при удачном стечении обстоятельств они могут и прикончить меня, как бы случайно.
L
Для убийц они были аккуратны. Они вернули меня туда, где меня подобрали – на Форум Юлия. Когда чувства вернулись ко мне, я узнал конную статую диктатора, где его честь надменно смотрела на завоеванный им мир (хотя он не снизошел заметить меня).
Я пополз. Я понятия не имел, куда я направляюсь, так как мои глаза затуманились. Когда наткнулся на ступени, я сказал себе, что это должен быть храм Венеры-Прародительницы
[270].
Я потерял сознание.
В следующий раз, когда я пришел в себя, я поискал глазами и подтвердил мои впечатляющие познания в топографии города. Рядом была высокая платформа, на которой я распластался, и великолепные колонны коринфского ордера. Если бы какой-нибудь иноземный турист наклонился бы, чтоб спросить меня о храме, то я, возможно, сообщил бы ему, что внутри он найдет изящные статуи Венеры, Цезаря, юной Клеопатры и две восхитительные картины работы Тимомаха
[271] изображающие Аякса и Медею. В добавок они могли записать в свои дневники, что снаружи видели несколько менее великолепного частного информатора М. Дидия Фалько, который взывал о помощи таким хриплым голосом, что никто из прохожих не считал безопасным услышать его.
Отличная работа, Фалько. Если тебе суждено недвижно лежать, так именно на ступенях всемирно известного храма на самом красивом форуме Рима.
Вышел священник. Он пнул меня и быстро прошел мимо, думая, что я один из обычных нищих, которые околачиваются на ступенях храма.
Через несколько часов он вернулся, выполнив порученное ему. Теперь я был готов.
– Подождите, во имя Божественного Юлия!
Я оказался прав. Большинство священнослужителей можно поколебать мольбой во имя покровителя, который предоставил им средства к существованию. Возможно они боятся, что вы один из аудиторов культа, тайно их проверяющий.
Как только мне удалось остановить его, священник снизошел до того, что убрал мою кровавящую тушу с ранее девственно чистых мраморных ступеней, и загрузить меня на носилки, которые оплатит потом Петроний.
Я пропустил суматоху, которую мое появление в окровавленном виде вызвало,так как был в обмороке. Хороший трюк, если он вам удается. Помогает избежать споров.
Это был не первый раз, когда меня доставляли к Петронию как пакет перезрелых фруктов, которые слишком долго протомились на полуденной жаре. Но меня еще ни разу не превращали в желе так эффективно.
По счастью он был дома. Я сообразил, что очутился в доме
Петрония и Сильвии. Сильвия тушила мясо. Ее маленькие дочки грохотали как легион на строевой подготовке где-то прямо над нами в комнатах наверху. У одного из детей была писклявая флейта, что только добавляло мучений.
Я почувствовал, как Петроний срезает с меня тунику; я услышал его проклятия, затем услышал, как мои сандалии упали в ведро. Я почувствовал знакомый запах ароматных смесей из открывшейся домашней аптечки Петрония. Я позволил ему влить в меня немного холодной воды, чтоб снять шок. Я глотнул часть жгучей микстуры, хотя большая часть нее, казалось вытекла мне на грудь. После этого я потерял сознание, пока он обрабатывал меня.
У него хватило такта смыть грязь и потеки крови, прежде чем он позволил своей жене выйти из дома и бежать за Еленой.
LI
Я не был в состоянии разговаривать с ней.
Она тоже ничего не сказала. Только легкое пожатие ее рукой моей стало слегка иным. Мои заплывшие глаза едва открывались, но она должно быть уловила момент, когда я очнулся. Я мог видеть ее через щелку век: знакомый силуэт тела, форма прически, она так иногда носила волосы, с самшитовыми гребнями за ушами. Ее волосы были слишком мягкие и левый гребень всегда оказывался ниже правого.
Ее большой палец осторожно гладил мне тыльную сторону ладони, она, вероятно, делала это неосознанно. Скривив левую сторону рта мне удалось издать какой-то неразборчивый звук. Она наклонилась. Каким-то образом ей удалось найти на моем лице единственный квадратный дюйм, которому не повредил ее нежный поцелуй.
Она ушла. Меня охватила бессмысленная паника, пока я не услышал ее голос:
– Он проснулся. Спасибо что позаботился о нем, теперь я могу справиться сама. Не мог бы ты найти какие-нибудь носилки, чтоб доставить его домой?
Петроний загораживал большую часть дверного проема, он возражал, мол лучше меня оставить здесь. (Он полагал, что Елена слишком утонченная, чтоб обеспечить мне такой уход, в котором я нуждался.) Я закрыл глаза и подождал. Раздался уверенный голос собственницы:
– Петроний Лонг, я отлично умею делать это! Я не школьница, играющая дома с кукольными горшками и кастрюльками!
– У тебя серьезные проблемы, Фалько! – лаконично сказал Петроний. Он имел в виду все эти побои от Присцилла, а теперь еще и другой тиран забирает меня и кричит на моих друзей.
Я мог только лежать там и позволить Елене самой справиться с этим. Она, разумеется, собиралась все сделать по-своему. Могла она справиться? Петроний думал, что нет. А что думал я? Елена Юстина это хорошо знала:
– Луций Петроний, Марк хочет, чтоб я забрала его домой!
Петроний пробормотал несколько ругательств. Затем он сделал, как ему велели.
Донесли меня быстро, но носильщики отказались подниматься по лестнице. Я поднялся сам. Целых три пролета. Других вариантов не было.
Когда я полностью пришел в сознание, я прислонился к стене своей спальни. Елена посмотрела на меня, а потом продолжила готовить мне постель; Сильвия дала ей старую простынь на случай, если кровь снова пойдет, чтоб я не испачкал свои более приличные. Женщины очень практичны.
Я наблюдал за Еленой, как она работает, ее быстрые экономные движения, она старалась все приготовить как можно быстрее. Недостаточно быстро.
– Я собираюсь упасть…
– Я тебя подхвачу…
Я мог доверять обещанию Елены. Она была всего в шаге от меня. Благодарение богам за такие маленькие комнаты.
Не знаю, как это случилось, но я оказался в кровати. Я мог чувствовать запах цветочных духов, которые все женские бани, казалось, использовали в те дни. То, что вернуло меня в сознание, было ощущение, как с меня снимают плащ. Петроний завернул меня в него для путешествия домой. Под плащом я был весь замотан бинтами.
Елена отдышалась.
– Отлично! Тут понадобится несколько больше, чем чашка горячего бульона внутрь и компресс из запаренных дробленых бобов снаружи… Я уже видела твои мужские причиндалы, но могу набросить на них покрывало, если ты такой стеснительный.
– Не с тобой, - в своем собственном доме я шел на поправку так быстро, что уже мог связать несколько слов. – Ты все знаешь обо мне, я все знаю о тебе…
– Это ты так думаешь! – пробормотала она, но бред не отпускал, и я смеялся слишком много, чтоб сойти за человека в сознании.
Когда она наклонилась, чтоб поправить подушку, я обнял ее. Елена фыркнула. Она попыталась освободиться, но она слишком старалась не причинить мне вредя, когда она опустилась рядом. Она упустила свой шанс вырваться. Я больше ничего не мог сделать, но я крепко держал ее. Она сдалась. После того как она немного поерзала, я услышал, как ее сандалии упали на пол, затем она отцепила свои серьги и отложила в сторону. Я крепко держал ее в объятиях, когда уплывал в забвение. Она лежала тихо, она все еще будет тут, когда я проснусь. Если бы я знал, что это будет все, что нужно, чтоб вернуть ее в мою постель, то я бы сам давно уже выбежал наружу и нанял бы нескольких хулиганов избить себя.
LII
Она была тут. Сидящая у моей постели в чистом сером платье с недавно заколотыми волосами. Задумчиво потягивающая что-то из стакана.
Изменения в освещении подсказали мне, что наступило утро следующего дня. Каждая часть меня, которую вчера отбили, теперь потеряла гибкость. Елена не стала спрашивать, стало ли мне лучше, она и так видела, что мне стало гораздо хуже.
Она позаботилась обо мне, тем способом, который посчитала наиболее разумным. Петроний снабдил ее обезболивающей микстурой, мазями и тампонами из шерсти ягнят. Она уже разобралась с медицинскими вопросами. Любой, кому хоть когда-то поручали присмотреть за младенцем, понимал и мои остальные потребности.
Когда я лежал неподвижно, приходя в себя после подмывания и приема лекарств, она села на кровать и взяла меня за руку. Наши глаза встретились. Я чувствовал нашу близость.
– Чему ты улыбаешься?
– О, любой человек почувствовал бы особую привязанность к девушке, которая моет ему уши и опустошает его ночной горшок.
– Я вижу, это не мешает тебе говорить глупости, – сказала Елена.
В следующий раз я был разбужен попугаихой, которая опять разоралась в очередном припадке. Хорошо повопить несколько раз в день были для нее взамен физических упражнений. В глотке Хлои был, должно быть, самый крепкий набор связок в Риме.
Когда эта антиобщественная бандитка заткнулась, Елена вошла ко мне.
– Я придушу ее!..
До этого мне никогда не приходилось выслушивать ее выступление полностью. Я был в ужасе.
– …Старуха наверху будет жаловаться…
- Она уже это сделала, – сообщила мне Елена. – Я встретила ее, когда возвращала чаши, что твоя сестра взяла взаймы для рыбного ужина. Я хорошо поладила с ней, но птица помешала. Я чувствую жалость к этой несчастной старухе, у нее непрерывная вражда с домовладельцем, тот все время пытается выставить ее вон. Перемывание тебе косточек – единственная радость в ее жизни.
– Полагаю, однажды и я стану таким же…
Должно быть уже минуло несколько часов с моего предыдущего пробуждения. У Елены был теперь другой стакан с горячим медовым напитком, которым она со мной и поделилась. Пока я приходил в себя после попытки сесть, чтоб выпить, в дверь кто-то постучал.
Это был Гиацинт. Он привел с собой посудомойку, которую я помнил по кухне Гортензиев. Я посмотрел на Елену в отчаянии, я никак не мог управиться с этим сам.
Ничто не могло смутить Елену Юстину, если она считала, что ей что-то поручено. Она похлопала по моим повязкам:
– С Дидием Фалько случилась небольшая неприятность, как ты можешь видеть.
Боги знают только, на что я был похож. Посетители толпились в дверях, в подавленном настроении.
– Чтоб не получилось так, что вы прогулялись без толку, мы возьмем несколько стульев в спальню, и вы сможете поговорить со мной. Марк же будет просто лежать и слушать.
– Что с ним случилось? – прошептал Гиацинт.
Елена резко ответила:
– Споткнулся на лестнице!
Принцессу от корыта звали Антея. Она была ростом в три фута и выглядела лет на двенадцать, хотя позже Елена и я пришли к общему мнению, что ее дополнительной обязанностью, было согревать постель шеф-повару. Результатом ее жалкой жизни был плохой цвет кожи, грустное лицо, настороженный взгляд, потрескавшиеся руки и, возможно, болячки на ногах. Ее изношенная туника едва прикрывала ее покрасневшие колени.
Я лежал и задумчиво слушал, как Елена пытается вытащить информацию из этого меленького бедного существа.
– Я хочу, чтоб ты мне все рассказала о дне того званого ужина. Ты была на кухне все время? Я думаю, было много кастрюль и черпаков, которые следовало вымыть, хотя Виридовикс еще только готовил еду?
Антея кивнула, гордая тем, что ее работу признали значимой.
– Что-нибудь произошло, что могло тебе показаться странным?
На этот раз девочка покачала головой. У ее сухих, бесцветных волос, была раздражающая привычка постоянно падать на глаза.
По-видимому, Елена помнила все меню того ужина, потому что она упомянула большую часть блюд. Ей хотелось знать, кто замешивал шафрановый соус для омаров, кто рубил на куски зайцев, кто поливал соком камбалу, жарящуюся на сковородках, даже кто привязывал фрукты к золотому дереву. Выслушивание всего этого вызвало у меня такой приступ тошноты, что я с трудом выдержал.
– А дама, которую зовут Севериной, она на кухню заходила?
– Примерно половину времени он там провела.
– Беседовала с Виридовиксом?
– Да.
– Она ему чем нибудь помогала?
– Большую часть времени она сидела на краю стола. Виридовикс очень волновался, когда работал, она старалась его успокоить. Кажется, она попробовала некоторые соусы.
– В это время все были очень заняты? Значит, у тебя не было времени что-то замечать?
– Да, но я видела, как она взбивала яичные белки.
Щетка для горшков иногда шмыгала носом, это не было вызвано плачем или простудой, просто мелкое разнообразие в ее серой жизни.
– Иногда чтоб взбить яйца требуется очень много времени, не так ли? – щебетала Елена. Она была более терпелива, чем я. – Это хорошая идея, передавать чашу по-кругу. Для чего они использовали взбитые яйца?
– Для глазури.
– Глазури?
– Это она придумала.
– Северина?
– Да. Он был слишком вежлив, чтоб спорить, но Виридовикс полагал, что это не сработает.
– Почему? Глазурью хотели покрыть что-то из еды? – спросила Елена, ее темные глаза прищурились.
– Нет, только тарелку.
– Тарелку?
– Никто не ел ее. Это должно было просто украсить тарелку.
Под напором вопросов посудомойка стала выглядеть угрюмой и смущенной. Я хотел подать сигнал, но Елена продолжала допрос далее.
– Антея, ты можешь мне сказать, как долго Северина оставалась на кухне, и что случилось, после того как она ушла?
– Она была все время.
– Что, все время ужина?
– О нет, не так долго. Пока не началась вечеринка. Как только началась, – повторила она, снова смахивая волосы с глаз, я вцепился в покрывало.
– Тогда что? – дружелюбно подсказала Елена. Я думаю, она поняла что меня раздражало.
– Северина повздыхала и сказала, что плохо себя чувствует, и потому пойдет домой.
– До этого времени все что она сделала это что-то попробовала, поговорила с Виридовиксом и сделала украшения на тарелке?
– Она проверила посуду, прежде чем уйти.
– Что-то случилось?
– Ничего. Она сказала, что все выглядит прекрасно, и Виридовикс должен гордиться собой.
Если Елену и утомил этот допрос, никто не узнал бы об этом.
– Северина ушла, а Виридовикс подошел к дверям триклиния, чтоб наблюдать за резчиками. После этого кто-нибудь, кроме ваших домашних слуг, заходил в кухню?
– Нет.
– Ты кого-нибудь видела из ужинавших?
– Может быть, если они ходили мимо кухни в туалет. Но в это время я была занята.
– Никто из них не заглянул, чтоб поблагодарить вас всех за великолепно приготовленные блюда?
Я подавился смехом, а Гиацинт вслед за мной. Елена не стала обращать на нас внимание.
– Антея, в вашем доме где хранятся готовые блюда, пока их не заберут подавальщики, чтоб доставить в столовую.
– На столе возле кухонной двери.
– Внутри кухни?
– Да.
– Может кто-нибудь что-нибудь с ними сделать, оставаясь незамеченным?
– Нет. Возле стола должен стоять мальчик и отгонять мух.
– Ах! Мне кажется в вашем доме полно мух, – позволила Елена себе сарказм. У нее кончились вопросы.
– Была всего одна, – возразила Антея, почти обвиняющим тоном. – Северина и Виридовикс посмеялись над этим тортом.
Елена оставалась спокойной.
– Это была покупная выпечка от пирожника Минния?
– Один был очень большой.
– Особый! – воскликнула Елена.
– Да, но он не мог быть тем, которым отравился хозяин, – впервые Антея увлеклась своим рассказом. – Я знаю об этом торте то, что другие не знают! Северина сказала, что он может стать причиной ссоры, все будут пытаться заполучить его себе. Она сказала, что припрячет его для Гортензия Нова, чтоб он мог потом его съесть в своей комнате в одиночку…
Елена посмотрела на меня. Мы оба затаили дыхание, и даже Гиацинт напряженно слушал, догадываясь, что означает этот рассказ. Но посудомойка, выдержав паузу, обрушила на нас. – Но его никто не ел.
Она сидела, наслаждаясь разочарованием, причиной которого она была. Елена пробормотала:
– Откуда ты это знаешь?
– Я нашла его! После того как пиршество завершилось, я соскребала объедки с тарелок, прежде чем их мыть. Я видела этот торт в одном из помойных ведер. Я помню это, потому что сперва собиралась вытащить его и съесть, но он был весь облеплен влажной луковой кожурой. А я не люблю лук, – добавила Антея, как будто она съела бы тот торт, несмотря ни на что.
– Интересно, – подумала вслух Елена. – Кто мог выбросить этот замечательный торт?
– Никто не знает. Я была в ярости, я крикнула, мол какая жалкая крыса свалила сюда этот отличный торт? Я бы отстегала их ремнем, но никто не знал.
Я приподнялся:
– Антея, остальные торты были уже съедены, когда сервировочное блюдо возвратилось?
– Я скажу. Мы никогда не видели, чтоб в нашем доме на кухню вернулось что-нибудь из выпечки!
– Как они были сервированы – на виноградных листьях, как их обычно заворачивает Минний?
– Нет, просто на тарелке. Я отмывала ее, – добавила она грустно. – Там не было ни крошки! Мне почти не пришлось их мыть даже.
Я упал на подушку. Торты были ложным ключом к разгадке. Большинство из присутствовавших на вечеринке ели их, но никто, кроме Нова, не пострадал.
Елена сказала тихо:
– Фалько устал. Думаю, вам следует сейчас уйти, но вы оказали огромную помощь. Виридовикс будет отомщен, я обещаю вам.
Она проводила их, но ее мозг все еще был занят этой задачей. Я слышал, как она спросила Антею, было ли блюдо, на котором подали пирожные, тем, которые покрыли глазурью из яичных белков.
Гиацинт крикнул, что мы можем увидеться в четверг, если я смогу принять участие в похоронах, затем он увел маленькую посудомойку. (В еще одном мы сошлись с Еленой во мнениях, что если мы были правы в отношениях между Антеей и Виридовиксом, то Гиацинт, вероятно, теперь взял ее себе.)
От входной двери я услышал как слуга сказал Елене, что мол внизу на улице было двое мужчин, которые не скрываясь следили за нашим домом. Грубые парни, сказал он.
Елена вернулась в гостиную. Она думала о том, что только что сказал Гиацинт, и не хотела беспокоить меня. Я слышал, как она стала что-то взбивать в миске, чтоб отвлечься от этого.
В конце концов она снова появилась.
– На ужин омлет.
– Что это?
Она держала чашку, которую покрывал тонкий слой влажной белой пены.
– Яичный белок. Я думаю, если это оставить, это украсит блюдо. Хотя смотрится не очень. Но я думаю, это была собственная идея Северины, она, возможно, решила, что это должно напоминать слой снега.
– Особенно на серебре.
Елена удивилась.
– Тарелки были золотые!
– Не все. Антея сказала, что ей почти не пришлось мыть блюдо из под пирогов. Я видел его. Это было огромное серебряное блюдо, которое Северина подарила Нову.
– Я все же думаю, она впустую потратила яйца, – пробормотала Елена, с сомнением рассматривая свое произведение.
– Отлично. Скажи мне вместо этого, что слуга сказал о людях, присматривающих за нашим домом.
Она сосредоточилась на яичном белке. Елена не собиралась делиться своими проблемами с инвалидом.
– Я думаю, мы в безопасности, – сказал я ей, потому что догадывался, кто окажется наблюдателем.
– Марк, – возмутилась она.
– Тогда выйди, и прямо спроси у них, кто их сюда послал.
– Ты знаешь?
– Петроний. Он направил сюда очень заметных охранников.
– Если Петроний думает, что это необходимо, то это пугает меня еще сильнее!
Мы посмотрели друг на друга. Елена видимо решила, что не стоит искать повода для спора.
– Я задавала правильные вопросы?
– Ты всегда задаешь правильные вопросы!
– Торты важны, Марк, я знаю это. Ты можешь отравить конкретный торт. Но быть уверенным, что отравленный торт возьмет тот, кто нужно… Я думаю, что это должен быть очень большой торт.
– Я знаю, что ты так подумала, – улыбнулся я ей.
– Это было бы превосходно, Марк! Гортензий Нов был хозяином. Я таком вульгарном доме, я побьюсь об заклад, хозяину первому подают тарелки. Можно быть уверенным, Нов бы сцапал себе самое лучшее!
Я снова улыбнулся:
– Но Северина убрала его с блюда!
– Это сложная головоломка.
– А может и нет. Может быть Северина невиновна. Может быть она пошла в тот дом, даже если чувствовала себя неважно, потому что догадалась, что банкет может быть опасен для ее возлюбленного. Может она действительно хотела проверить, нет ли чего подозрительного в пище.
– Это она так сказала?
Действительно, это был укол с той стороны, откуда она пока еще на меня не нападала.
– Может быть, – холодно возразила Елена, – это Северина хочет, чтоб ты так думал. Разве ты поверил, что Виридовикс понял, что она проверяет людей, которые могут добраться до его блюд?
– Виридовикс не был дураком.
Елена проворчала:
– Возможно огромный торт тебе подсунули специально, и это был хитрый двойной обман, а яд, на самом деле, положили во что-то другое…
О! Он точно было в чем-то другом!
Мы оба замолкли.
– Если он был отравлен за ужином, – сказал я, – значит нет никакой связи с Присциллом. Соперник Нова по бизнесу не мог так легко прикончить его в его же собственном доме.
– Но разве Присцилл не мог подкупить кого-то из рабов в доме Гортензиев?
– Слишком рискованно. Рабы окажутся под подозрением в первую очередь. Здесь потребуется очень большая взятка, а тогда есть риск, что раб с очень большими деньгами привлечет к себе внимание.
– Нет, если этим рабом был Виридовикс, и если Виридовикс теперь мертв!
– Я не верю в то, что это был повар.
– Хорошо. Ты встречался с ним!
Она заметила, что я действительно сильно устал чтоб продолжать.
– Но мы все же продвинулись вперед? – спросила она, поправляя на мне покрывало. Я осторожно погладил ее по щеке ободранным пальцем. – О, я так полагаю!
Я игриво кинул на нее косой взгляд.
– Мне пора идти кормить попугая, а тебе пора спать!
– Попугай достаточно взрослый, чтоб накормить себя сам.
Она продолжала тихо сидеть возле меня.
– Ты выглядишь лучше. Это хороший знак, что ты можешь уже нормально разговаривать.
– Я могу разговаривать, но не могу шевелиться.
Что-то было в ее голове.
– О чем задумалась, ягодка?
– Ни о чем.
– Я знаю свою девочку!
– Марк, тебе было очень больно?
– Когда тебя бьют, ты обычно слишком занят, чтоб обратить на это внимание. А вот потом, тебе просто надо быть храбрым…
Я наблюдал за ней. Иногда упрямая манера Елены идти по жизни своим путем заставляла ее замыкаться в себе, и тогда кому-либо было трудно до нее достучаться, хотя бывало и так, что тогда она искала поддержки у меня.
– Дорогая, когда ты потеряла ребенка, тебе было больно?
– Ммм.
Несмотря на краткий ответ, она была не против поговорить. Возможно более удобный момент никогда больше не представится.
– Поэтому ты и боишься понести другого?
– Я испугалась всего, Марк. Непонимание, что происходит. Невозможность что-то сделать. Беспомощность… Некомпетентные повитухи, бестолковые лекари с жуткими инструментами… – я испугалась, что умру. Я испугалась, что после всех этих стараний ребенок умрет, и как мне перенести это?.. Я тебя так люблю! – сказала она внезапно. И это не было неуместным.
– Я был бы там, – пообещал я. Она грустно улыбнулась:
– У тебя окажется какая-нибудь срочная работа!
– Нет, – сказал я.
Елена вытерла слезы, пока я лежал, пытаясь выглядеть надежным парнем.
– Я пойду и покормлю попугая, – сказала она. Она сделала ошибку, оглянувшись на меня в дверях. Я жалобно простонал:
– Ты используешь этого попугая всего лишь как предлог!
– Посмотри на себя! – ехидно усмехнулась Елена, – Кто тут нуждается в предлоге?
Затем, прежде чем я успел дотянуться и схватить ее, ей пришлось бежать, так как скрежещущий звук оповестил нас, что проклятая попугаиха учится отгибать прутья своей клетки.
– О, прекрати быть такой вредной и скажи мне, кто это сделал? – орала Елена. Но в ответ Хлоя вопила только одно:
– Марк был непослушным мальчишкой!
Это было неправдой, к несчастью.
LIII
Елена решила, что ей стоит навестить своих родителей прежде, чем меня навестит Сенатор (с большой дубиной в руках).
Я дремал, когда мне показалось, что она вернулась. Я укрылся, и когда кто-то вошел в спальню, крикнул:
– Это ты?
– Ох, Юнона! (Неправильный голос!) Это я. Ты испугал меня!
Северина Зотика.
Я резко сел. Попугаиха сидела у нее на руке, она должно быть заходила в офис, где мы держим птицу в клетке. Я задавался вопросом, не потоптались ли маленькие ножки этой любопытной кошки и в комнате Елены. Сюда она прискакала, должно быть, вслед за своим носом, потому как Елена Елена была решительным сторонником припарок из пажитника, применяемых постоянно (в отличии от Петрония, который один раз обработав раны своими смоляными бальзамами, в дальнейшем, как правило, терял к ним интерес).
Моя превращенная в месиво физиономия заставила охотницу за золотом остановиться.
– О нет! Фалько, что с тобой случилось?
– Случился Аппий Присцилл.
Она оказалась у постели, дрожа от волнения:
– Но ты нуждаешься в присмотре…
– За мной есть кому присмотреть.
Ее глаза быстро обшарили все вокруг. Она уже отметила тот факт, что я, несмотря на полунедельную щетину, был тщательно вымыт губкой, причесан и обеспечен, как некий восточный властитель, подушечками и чашкой с инжиром. Мои ссадины и ушибы перестали становиться хуже, хотя на поправку тоже еще не пошли, бинты были сняты, чтоб раны хорошо проветривались, но я был укрыт чистой туникой – не ради скромности, а чтоб не дать мне трогать свои синяки и струпья, проверяя прогресс в лечении, каждый пять минут.
– Твоя мать? – резко спросила Северина.
– Подруга, – заявил я, по какой-то причине не желая знакомить ее.
Бледное лицо Северины, казалось, напряглось. В этот момент попугаиха что-то тихо проворковала, поэтому она погладила перья на ее серой шее.
– Ты солгал мне, Фалько, и об этой птице и о своей подруге тоже.
– Ничуть.
– Ты сказал…
– Я знаю, что я сказал Это было правдой тогда. Это моя девушка, ей Хлоя нужна в качестве компании. У них обеих сложный характер, я думал, что они приручат друг друга…
Эта веселая шутка, казалось немного разрядила обстановку.
– Мне жаль, что я не мог связаться с тобой. С тех пор, как это произошло, я не покидал дом. Чем я могу быть тебе полезен?
– До одного из моих рабов дошел слух, что Присцилл приказал поработать над тобой, и потому я помчалась сюда. Конечно, я и представить себе не могла, что все будет настолько плохо!
– Я уже иду на поправку, не стоит зря волноваться.
Плетеное кресло Елены стояло рядом с моей кроватью, так что я жестом предложил Северине сесть.
– Приятно, что меня посещают.
Атмосфера казалась напряженной, и мне хотелось разрядить обстановку.
Она нахмурилась:
– И где та, что за тобой присматривает?
– Елена?…
Настойчивость девушки стала меня раздражать, но с комфортом лежа на своей кровати, я не собирался влезать в драчку. Рыжая, казалось, из зависти желала завладеть всем, словно ребенок, который выхватывает игрушки у других младенцев, пока его не научат сдерживать себя.
– …Елена Юстина пошла объяснять своему отцу, который, как оказалось, сенатор, почему я все же должен явиться, чтоб принести извинения за похищение его высокородного дитя. Если сюда ворвется человек в красных башмаках (традиционная обувь сенаторов), вооруженный острым мечем и со свирепой физиономией, просто отойди в сторону и дай ему добраться до меня!
– Ты мерзкий лицемер – ты охотишься за ее деньгами!
– Ох, это она за моими. Я с трудом удерживаю ее подальше от своих счетов!
Люди никогда не верят правде.
Наступила тишина. Я был все еще слишком больным, чтоб беспокоиться о чувствах других людей.
– А что это, Фалько?
У меня на кровати лежала грифельная доска.
– Сегодня я страдаю от скуки, меня оставили тут и поручили написать поэму. Хотя я думаю, что смог бы написать сатиру на тему, почему я ненавижу попугаев.
– Какой грубиян! – пропела Северина попугаихе.
– Какой грубиян! – Хлоя немедленно ответила ей.
– Способная ученица! – заметил я.
Северина, не отреагировав на мой комплимент, повернулась ко мне:
– То есть это значит, что расследование прекращено?
– Ах! Расследование… – ответил я шутливым тоном, легкомысленно дразня ее. Имелось несколько вопросов, которые я мог бы ей задать: например, насчет глазури из яичных белкой, или выбрасывании кондитерских изделий в ведро. Но я решил покончить с вопросами прежде, чем позволю Северине Зотике запутать все дело простыми ответами. Я настроил свой самый отважный голос профессионала:
– Мне требуется неделя дома в постели, но мне придется довольствоваться тремя днями. Завтра утром похороны шеф-повара Гортензиев, которые я хочу посетить.
Северина выглядела обеспокоенной:
– Что случилось с Виридовиксом, Фалько? Я слышала, что он умер, очень внезапно. Это как-то связано с тем, что произошло с Новом?
Я успокаивающе улыбнулся:
– Виридовикс умер спокойно, во сне.
– Тогда почему ты собираешься посетить его похороны?
– Во-первых, он мне нравился. А кроме того, это повод подобраться поближе к тому дому.
– Ищешь улики?
– Может быть.
– Фалько, я иногда тебя не понимаю! Я – твой клиент, Фалько. Почему тебе надо быть настолько скрытным?
– В мотиве нет ничего сложного. Ладно. Думаю, было бы полезным показать семейству Гортензиев, и, возможно, дать через них знать этому ублюдку Присциллу, что, вопреки слухам, я все еще в состоянии добраться до них.
Она посмотрела на меня сверху вниз, как будто опасалась, что я не смогу с этим справиться.
– Скажи мне, ты когда нибудь встречалась с Присциллом?
Она с подозрением нахмурилась, хотя вопрос был вызван чистым любопытством.
– Когда я была замужем за аптекарем, мы жили рядом с его домом на Эсквилине. Затем, когда отношения между ним и Новом ухудшились, я сама пошла к Присциллу. Я выступила в качестве посредника и пригласила его на ужин…
– Нов был не против?
– Конечно нет! Я бы никогда не пошла ему наперекор.
Я кивнул с серьезным видом, удивленный этим возмущенным протестом. Конечно, ни одна приличная женщина не посещает мужчин. Но тогда кто приличный?
– Если это Присцилл убил моего жениха, то я устроила это!
У нее была странная черта, не замечать иронии.
– Успокойся, – буркнул я, – Война между ними вспыхнула задолго до того, как ты вмешалась. И теперь, когда я почти добрался до Присцилла, что он почувствовал себя задетым, я считаю, что Гортензий Нов был на пути в Гадес, совершенно независимо от того, что ты сделала.
– Так ты думаешь, что это был Присцилл? Он организовал нападение на тебя потому, что у тебя были какие-то доказательства?
– Присцилл, вероятно, убил бы Нома, если бы смог выйти сухим из воды. Я все еще не уверен. На данный момент я ставлю на Поллию и Атилию…
Она выглядела довольной предложенной альтернативой, как и любая другая женщина на ее месте.
Я начал волноваться, почему Елена ушла так надолго, я начинал скучать по ней, если она покидала дом. Я предложил Северине задержаться и встретиться с ней.
– Нет, я как раз направлялась в бани…
Слишком похоже на предлог, чтоб посетить меня! Она уговорила попугая перепрыгнуть на столбик на конце моей кровати.
– Итак, ты идешь на похороны повара, а я все еще не до конца понимаю зачем…
Она выдержала паузу, как будто не полностью верила мне. Я нахмурился, что, заставило ее стать менее решительной в своих требованиях.
– Ты позже сможешь зайти ко мне?
– Если даме будет угодно.
Прежде чем она вышла, она попросила меня позаботиться о себе (хотя мне казалось, что мы выяснили, что кое-кто уже этим занят), затем, в последний момент, она наклонилась и поцеловала меня в щеку.
Готов поклясться, она ожидала, что я схвачу и завалю ее на кровать. Некоторые люди не проявляют уважения к инвалидам.
– Наконец-то один! – крикнул я попугаю.
– Более бесстыдный, чем пляж в Байи!
[272] – вернул мне попугай, поддерживая разговор. Я начал свою поэму в стихах.
Через некоторое время я подумал:
Любой, кого изобьют по приказу Аппия Присцилла до состояния желе, может решить, что это одно уже служит достаточным основанием, чтоб обвинить его во всех нераскрытых убийствах в этом месяце. Я же не был настолько в этом уверен. Последовательность событий казалась нелогичной. Гортензий Нов пригласил Присцилла на ужин, обещая подписать соглашение. У Присцилла не было никакой возможности выяснить до того вечера, что Нов откажется от слияния бизнеса в итоге. Когда все выглядит столь обнадеживающе, зачем приходить во всеоружии с намерением убить его?
Слишком бросающийся в глаза торт прозвенел в моей голове в резонанс с женскими характерами. Банально и вульгарно. Мне это показалось слишком очевидным, но преступники часто пользуются смехотворно глупыми уловками. Преступники, как считается, хитры и умны. Но иногда дуракам сходит с рук идиотский замысел, потому что никто не может поверить, что можно вести себя так глупо. Но только не я. После пяти лет работы частным информатором я был готов верить чему угодно.
Я слишком долго размышлял.
– И скажи мне, кто это сделал? – прокричала попугаиха.
Я кинул в нее башмак как раз в тот момент, когда вошла Елена. Она снова выбежала, бессильно корчась от смеха.
– Как там твой отец? – крикнул я ей вслед.
– Он хочет поговорить с тобой.
– Я думал, что он мог бы уже поговорить!
Она высунула голову из-за дверной занавески и одарила меня улыбкой, которая должна была предупредить меня, что все на самом деле гораздо хуже:
– На самом деле, моя мать тоже этого хочет…
Елена Юстина посчитала Сатиру Фалько I.1 ("Позволь мне, Люций, сотню привести причин, за что сего я ненавижу попугая…") лучшим произведением, которое я когда-либо сочинял.
Просто мне повезло.
LIV
Я взял себе за правило никогда не ходить на похороны людей, которых я же сам и убил. Но казалось справедливым сделать исключение для кого-то, кого я убил случайно.
Елена все еще спать ложилась на кушетку из библиотеки в соседней комнате, неубедительно оправдываясь, что боится потревожить выздоравливающую тушку. Что-то нужно было с этим делать. Я уже предвкушал, планируя способ изменить положение вещей.
Я поднялся с постели тихо. В предыдущий день, я уже одевался и шлялся по дому, проверяя свои силы. Но теперь было небольшое отличие, я знал, что мне надо выйти наружу. Впервые с тех пор, как я пострадал, я сам себе сделала утреннее питье, налил воды дремлющему попугаю и осмотрелся вокруг, снова как хозяин квартиры (заметив, что трещина в стене постепенно расширяется). Я отнес стакан Елене. Пряча свое беспокойство, она притворилась полусонной, хотя дюйм теплой щеки и высунулся из под покрывала, чтоб его поцеловали на прощание.
– Будь осторожен…
– И ты.
На ногах, которые казались сделанными из тряпок, я спустился вниз, и там заметил, как возчик уставился на мои синяки, поэтому я проделал весь путь назад, чтоб найти шляпу. На случай, если Елена услышала как кто-то вошел и испугалась, я быстро сунул голову в ее комнату, чтоб заверить ее, что мол это был я.
Ее не было. Озадаченный, я вернулся в коридор. В квартире было тихо, даже попугай скорчился и вернулся ко сну.
Я заглянул в свою спальню. Ее стакан с горячим медовым напитком стоял у моей кровати, среди мусорной кучи из перьев, монет и расчесок. Елена лежала на моей постели. Как только я ушел, она, должно быть, вскочила и свернулась здесь, где прежде лежал я.
Ее карие глаза смотрели на меня как у какой-то непослушной собачонки, оставленной одной, которая прыгала на постель хозяина, только тот уходил из дома.
Она не шевелилась. Я помахал шляпой объясняя, зачем вернулся, потоптался в раздумье, затем пересек комнату, чтоб еще раз поцеловать ее. Я нашел ту же самую щеку – потом, когда я стал подниматься, она потянулась ко мне, руки обхватили мою шею и наши губы встретились. Мой желудок перевернулся. Затем был краткий миг, когда я спрашивал себя, что это, и ко мне пришел однозначный ответ: это было старое, верное приглашение, которое могла дать только Елена – девушка, которую я так сильно хотел, говорила, что она хочет меня…
Я заставил себя остановиться. "Работа!" Я застонал. Никто не задержит похороны повара, если я останусь поиграться.
Елена улыбнулась, все еще обхватывая мою шею, когда я попробовал осторожно освободиться, а мои руки начали путешествовать по ней более целенаправленно. Ее глаза были настолько полны любви и обещания, что я был готов забыть все.
– Работа, Марк… – отозвалась она как эхо. Я снова поцеловал ее.
– Я думаю, настало время, – пробормотал я, не отрываясь от уст Елены, – начать приходить на обед домой, достойно доброму римскому главе семейства…
Елена поцеловала меня.
– Оставайся здесь, – сказал я. – Никуда не уходи, оставайся здесь и жди меня!
LV
На этот раз, когда я спустился до первого этажа, несколько людей подрядчика выгружали свои инструменты из ручной тележки. Добрый знак. Если домовладелец наконец приступил к отделочным работам,то, возможно, у нас появятся новые квартиросъемщики. И это место поменьше будет смахивать на мавзолей. И со временем (хотя, вероятно и не сегодня!), мне удастся убедить этих парней заделать паклей и штукатуркой и мою трещину.
Я чувствовал себя отлично. Даже несмотря на то, что я собирался посетить чужие похороны, моя жизнь меня радовала.
Это были сентябрьские календы
[273]. В Риме до сих пор стояла жара до самого вечера, хотя в северных частях империи – в Великобритании, например, где я служил, а потом встретил Елену – будет влажная сырость по утрам, и приближение зимней темноты уже будет чувствоваться со второй половины дня. Даже здесь время сделало оборот вокруг оси. Я чувствовал себя подобно чужестранцу. Я чувствовал себя неуютно, словно вышедший на улицу инвалид, словно город пережил несколько столетий за то время, пока я был заперт в своей комнате.
Я вышел слишком рано. Воздух был неприятен для моей чувствительной кожи. Суета смущала меня. Шум и многоцветие будоражили мой мозг. Но первый настоящий шок, в свой рабочий день, я испытал, когда мой наемный ослик вскарабкался на склон холма Пинций. Прилавка, где Минний обычно продавал свои пирожные, не было.
Ничего не осталось. Прилавок, навес, восхитительная выпечка, все исчезло. Даже печь была разобрана. Кто-то сровнял киоск пирожника с землей.
В обширной усадьбе Гортензиев дым с переносного алтаря привел меня к месту похорон. Члены фамилии все еще выходили чинной процессией из особняка, я отошел назад, пока они собирались в месте, окруженном соснами. Виридовикс оказался бы в знаменитой компании. Холм Пинция украшал со вкусом сделанный монумент императора Нерона
[274].
На похоронах не было никаких неожиданностей. Раскрытие тайн на могилах – дешевый прием, что в ходу у эпических поэтом. Я же теперь был сатириком, а значит, знал вещи лучшие, чем ожидание сюрпризов. Мы сатирики – реалисты.
В своей широкополой греческой шляпе и темном плаще, который я ношу в таких случаях, я на цыпочках осторожно бродил среди скорбящих. Я, возможно, и не оказался совершенно незаметным, поскольку обычно на похоронах половина присутствующих проводит большую часть времени глазея на семейных знаменитостей, ища среди них давно потерянных единокровных братьев, чтоб потом поплакаться им, но я был той незнакомой фигурой, о которой можно позже и посплетничать вволю, дав свободу своей фантазии.
Крепито, Феликс и обе их супруги появились на краткий миг, так что их верный слуга был отправлен в Нижний мир без излишней суеты. Благовонные масла были приятны, но не заглушали запахи. Была подготовлена памятная доска, ее прикрепят в высокой ограде имения. Я отметил, что она была приобретена не хозяевами, а его товарищами-рабами.
Как только Гортензии кратко выразили свое уважение усопшему, и огонь был зажжен, они удалились по своим делам; вероятно, помчались на рынок рабов, покупать себе нового повара.
Я откинул шляпу с лица, и меня признал Гиацинт, стоявший рядом с дворецким. Когда огонь разгорелся, мы смогли поговорить.
– Фалько! У тебя такой вид, словно ты уже готов пойти на костер рядом с ним!
– После четырех дней, когда я ничего не мог есть, кроме виноградного желе с молоком – не чихай, а то сдуешь меня – я так надеялся восстановить силы каким-нибудь восхитительным пирожным. Что случилось с Миннием?
– Какая-то проблема с арендой его киоска. Феликс разорвал с ним договор и дал ему под зад.
– А где теперь Минний?
– Кто его знает?
Теперь, когда хозяева ушли, я смог ощутить скрытое дурное настроение рабов. Смерть повара вызвала слухи, однако Гортензии убедили себя, что этот случай уже замят.
– Это только помешало, – проворчал Гиацинт, – что они похоронили Нова по старым традициям, в результате бедному старому Виридовиксу пришлось дожидаться у бальзамировщиков больше половины недели, и теперь его проводы столь оживлены, как только это возможно. Он был рабом, но и они тоже когда-то ими были!
– Так много, – сказал я, – ради идеи фамилии!
Гиацинт представил мне дворецкого, застенчивого типа с оттопыренными ушами, который рассматривал меня с любопытством.
– Привет! Меня зовут Фалько. Мы с Виридовиксом немного выпили и славно поболтали в ту ночь, когда он позже умер, поэтому я здесь. Не против, если я поспрашиваю тебя кое о чем?
Он выглядел смущенным, но не стал возражать.
– Мы с Виридовиксом обсуждали тот званый ужин. Он рассказывал, как гладко все прошло.
Без дозволения от глав семейства, мне приходилось быть быстрым и осторожным.
– Ты знаешь, что произошло потом, когда гости и хозяева остались одни?
Дворецкий оставался рядом, чтоб слышать, когда его позовут, после того как все остальные рабы были отосланы. Он был достаточно натаскан, чтоб знать, какие вещи он должен держать в тайне, и иметь достаточно человеческих черт, чтоб хотеть поделиться своим рассказом.
– Сделка сорвалась, – сказал он.
– В чем была проблема?
Он рассмеялся:
– Проблема была в Нове!
– Что, он дал знать остальным участникам встречи, что никакого объединения не будет, вопреки тому, на что те надеялись?
– Верно. От отказался играть, и они могли положить свои костяшки обратно в мешочек с завязками…
Так вот как было дело, я цыкнул зубом.
– Когда Нов утопал прочь после этого, оставив Феликса и Крепито с Присциллом, те трое стали раскидывать мозгами вместе? И не обнялись ли они все на прощанье, когда Присцилл уходил?
– Если ты спросишь меня, – он понизил голос, – Крепито и Феликс уже давно были связаны с Присциллом.
– В тайне от Нова, – прокомментировал я. И тут я понял:
– Нет… нет, не совсем так… Конечно! Нов узнал об этом!
Это объясняло все: его партнеры по бизнесу и Присцилл полагали, что он пригласил их на ужин, чтоб урегулировать разногласия между ними, но на самом деле Нов запланировал устроить им сцену разоблачения. Когда двери были закрыты, а разговор стал тайным, он выложил им, что знает об их давних нежных отношениях, и чем намерен ответить на это: жениться на Северине Зотике, разорвать освященное веками братство, возможно, сменить жилье после свадьбы, вести дела в одиночку и вышвырнуть их из бизнеса. Это ужаснуло Феликса и Крепито, так как они не только теряли свои доли, но и теряли любой интерес, который ранее представляли для Присцилла. Он не был тем человеком, которому нужны бесполезные партнеры. Они были бы отогнаны от обоих бортов лодки!
– Феликс и Крепито, должно быть, высрали целую нильскую дельту дерьма. А как это воспринял Присцилл?
– На удивление спокойно, – сказал дворецкий.
До этого момента я держался молодцом, но тут слишком остро почувствовал, что это мой первый день на свежем воздухе. Волнение и жар от костра угрожали мне обмороком. Я прервал разговор. Я должен был сосредоточиться на борьбе с этой внезапной дурнотой.
Дворецкий в этот день сделал достаточно для правды и правосудия, я почувствовал, как он снова замыкается в себе.
Мы небольшой группой наблюдали последние всполохи благовонного дыма, когда Виридовикс по римскому обычаю отправлялся к своим собственным богам.
– Он был принцем! – пробормотал я. – Хотя и посвятивший всего себя поварскому искусству. Классический пример. Мы с ним провели его последнюю ночь способом, о котором может мечтать любой повар – за отличным вином, уворованным у хозяев… фактически, – вздохнул я, – я был бы не против узнать, какого года было то вино, чтоб купить амфору и распить в его память…
– Тебе нужен он…
Дворецкий остановил паренька, с опухшими глазами человека, вставшего гораздо раньше привычного для него времени, который вышел вперед, чтоб принести возлияния на костер.
– Гален заведует нашим винным погребом.
– Спасибо! Гален, ты можешь сказать мне какого вида фалернское предпочитают Феликс и Крепито – не "фаустину" случаем?
– Фалернское? – он остановился. –
Только не здесь! Ты должно быть имел в виду сетийское – они считают, что оно лучше – одна из их причуд.
Сетийское вино упоминалось в меню Виридовикса, определенно.
– Ты уверен, что не делалось исключения ради особого случая? Здесь было хорошее вино в ту ночь, когда ваш хозяин умер. Оно было в синем стеклянном графине с серебряным сверкающим горлышком…
Тон парня стал еще более уверенным.
– Ничего подобного я не отпускал той ночью.
– Нам был дан приказ произвести впечатление, – подтвердил дворецкий. – Только золотые кувшины украшенные драгоценными камнями.
– Твой графин не из моего погреба, – заверил меня Гален. – Я не могу припомнить, что когда-либо вообще видел такой.
– И его никогда не возвращали в твою кладовку?
– Нет. Я уверен. Я не упустил бы из вида необычного вида графин, так как хозяйки требуют подавать им днем напитки в изящной посуде.
– Это очень интересно! – сказал я удивленный. – Мне интересно, мог бы его принести кто-то в качестве подарка?
– Присцилл, – вставил еще один парень, с лицом круглым и румяным как яблоко, который жадно прислушивался к нашему разговору.
– Я отвечал за обувь, – объяснил он. В самой гуще событий, он снимал гостям обувь, когда они приезжали. – Присцилл принес блестящий стеклянный графин.
– Я улыбнулся румяному парню:
– А там был флакон для специй, из такого же стекла?
Он не колебался:
– Ох, у Присцилла это было в сумке, которая лежала рядом с его плащом. Он уже было ушел после ужина, но вдруг вспомнил про нее и помчался, чтоб поставить ее на буфет рядом с графином. Он даже принес немного мирры в небольшой сумке, которой он немного отсыпал, чтоб сделать подарок завершенным…
Какая трогательная идея. Я едва мог сдержать свое восхищение: образцовый гость!
LVI
Я огляделся вокруг ища глазами посудомойку Антею, но казалось, что только вид пылающего костра окончательно убедил ее в смерти повара, с перекошенным лицом она рыдала на руках двух плачущих близких подруг, как обычная девочка-подросток. У меня было к ней несколько вопросов, но я оставил их.
Незадолго до того, как дым рассеялся, я узнал фигуру, приближающуюся к сторожке. Это был один из рабов Северины.
– Она хочет, чтоб ты пришел к ней на обед, – проворчал в своей обычной манере, без всякого вступления, этот раб-привратник.
– Благодарю, но я не могу.
– Она будет недовольна! – сказал он.
Я устал от его хозяйки, пытающейся наложить на меня руку, когда у меня были собственные планы, но чтоб избавиться от него, я сказал, что отменю ранее назначенную встречу, если получится (даже пробовать не хочу). Затем я закинул один конец своего черного плаща через плечо и стал смотреть на огонь, как скорбящий, который погрузился в меланхолические раздумья о скоротечности жизни, неизбежности смерти, способах спасения от фурий, умиротворении судьбы (и как побыстрее вежливо смыться с этих похорон).
Когда раб ушел, я бросил свой венок и вылил свое масло в костер, сказал несколько слов, обращаясь к душе повара, затем забрал своего наемного ослика и покинул сцену.
На месте, где когда-то стоял киоск пирожника, я натянул поводья в задумчивости.
Я должен был четко определить, что я намерен теперь делать. Я работал на Северину просто с целью оставаться достаточно близко, чтоб изучить ее как подозреваемую. Должно быть настало время выбирать, на чьей стороне я на самом деле нахожусь.
Все же начинало казаться, что предположение Северины, кто убил Гортензия Нова, могло оказаться верным. Присцилл, например, мог это сделать, после того как Нов упрямо отказался от слияния империй. И было очевидно, Поллия и Атилия ответственны за другую попытку – при помощи отравленного пирога.
Я рассматривал ту цепочку событий, которую мог проследить вполне удовлетворительно: Присцилл подбросил отравленные специи, которые и убили Виридовикса. Убийство, которое убирало главного свидетеля того, что произошло в тот вечер на кухне – но это убийство было случайны. Если бы тем вечером я не отправился в столовую расследовать дело, Виридовикс никогда бы не кинулся туда. Никто не мог этого запланировать. Бедный Виридовикс пал жертвой несчастливого стечения обстоятельств.
По очевидных и очень значительным причинам я жаждал отомстить за смерть повара. По столь же значимым социальным причинам у этой мести не было шанса.
Правда у меня было достаточно доказательств, чтоб просить магистрата обвинить Аппия Присцилла. Но факт был в том, что Виридовикс был рабом. Если бы я дал показания, что Присцилл убил его, причем ненамеренно, то, если дело и дойдет до суда, то это не будет уголовным процессом по случаю убийства, а будет гражданским иском со стороны Гортензиев за утрату своего раба. Хуже того, обвинение против Аппия Присцилла, касалось бы только компенсации за утраченное имущество. Ни один суд не назначит большую цену за галльского военнопленного; всего лишь повар, и даже не из Александрии! Двести сестерциев, самое большее.
Это оставляло мне единственную надежду отомстить за Виридовикса действуя не напрямую: надо было доказать, что произошло с его мертвым хозяином, и призвать к ответу этого преступника. Все, что я знал, было тем, что не случилось. Я мог назвать подозреваемых и их мотивы, но наличие мотива для убийства, в наши лишенные предрассудков времена, было недостаточно, чтоб кого-то публично осудить. Они предпринимали попытки, но, насколько я знал, потерпели неудачу. Снова, возможно, некого обвинить.
Наконец, была Северина Зотика. Северина, которая имела отличный мотив, когда Нов согласился жениться на ней, и который исчез, как только он умер до того, как они обменялись брачными договорами
[275].
Может быть у нее был иной мотив, но я не мог понять, какой.
Почему похороны всегда вызывают зверский аппетит? Мне пришлось отбросить мысли о жизни, смерти и мести. Все, чем я мог сейчас заниматься, это безрезультатно вспоминать восхитительные пироги.
Какая глупость заставила землевладельца разрушить такое общественно благое заведение? Минний был ценным активом в отношениях с соседями, вне зависимости от размера уплачиваемой им арендной платы. Выгнав его, Гортензий Феликс, должно быть сделал свое имя нарицательным на всем Пинции, как символ бессмысленного разрушения. Ну, землевладельцы к этому привыкли. Кто знает, по каким лабиринтам бродят извращенные мысли арендодателей?
Хотя в этом случае ответ, к сожалению, был очевиден: Минний слишком много знал. А что он мог знать? Это просто: Минний знал, кто покупал торты для вечеринки.
Это было опасное знание. На мгновение я даже подумал, что пирожник может быть уже мертвым. Возможно, в одну из темных ночей после отравления Гортензия Нова зловещие фигуры быстро помчались с холма, от имения вольноотпущенников, избили несчастного короля пирожных пока он спал, и зарыли его труп на месте разрушенных печи и палатки… Нет. Я все еще был болен и бредил. Один взгляд на место киоска меня убедил, что тут никто не копал. (Я был внуком садовника, но более того, я служил в армии, а армия учит всех нас, как копать неподатливую почву.) После длинного и жаркого римского августа, было бы заметно, если бы кто-то попытался ковырять иссохший склон холма. Только солнце заставило раскрыться эти огромные трещины, где яростно суетливые муравьи сновали туда-сюда с зернами сорняков, в то время как более разумные ящерицы просто грелись. Только колеса и копыта когда-либо утрамбовывали поверхность этой дороги.
Минний мог быть мертв, но если итак, то его здесь не было. А если его здесь не было, то в отсутствии других доказательств, я так же мог надеяться, что он жив.
Итак, куда бы он отправился? Вспомнив мои предыдущие встречи с ним, я подумал, что он сам дал мне ответ: "…В те времена я торговал вразнос фисташками в Эмпории…"
Я повернул осла к подножию холма и отправился через весь Рим.
Мне понадобился час, чтоб найти его, но в итоге я справился. Так что час был потрачен не зря.
Эмпорий стоит на городском берегу Тибра
[276], под сенью Авентина. Это главный рынок в Италии для продуктов, которые ввозят морским путем, проще говоря, самый большой, самый богатый рынок в Империи – центр мировой торговли. Вы можете купить там все, что угодно, от финикийского стекла до галльской оленины, индийские рубины, британская кожа, аравийский перец, китайский шелк, папирус, соленая рыба, порфир, маслины, амбра, слитки олова и меди, или тюки шерсти медового цвета; и из самой Италии все: строительные кирпичи, черепица, керамическая столовая посуда, оливковое масло, фрукты и вино, все что угодно, но только при условии, что вы готовы покупать в оптовых количествах. Нет смысла вежливо просить человека, чтоб он выбрал для тебя самый лучший мускатный орех; это должны быть двадцать мешков, или тебе придется побыстрее убраться, пока он не подкрепит свою насмешку крепким пинком. Для таких бездельников за пределами рынка есть прилавки, если кто хочет чего-то вкусного к семейному ужину.
Я был знаком с похожим на пещеры интерьером Эмпория, где барки с Тибра толкались в очередях, прежде чем они пристанут, и разгружались у пандусов скрипучие повозки, которые грохотали по суше от Остии, с тех пор, когда ростом я был еще только по колено Македонцу
[277]. Я знал в Эмпории больше людей, чем мой шурин, Гай Бебий, хотя он и работал там (разумеется, если бы на тебя не обрушилось бедствие в виде его свадьбы с твоей сестрой, кто хотел бы знать Гая Бебия?). Я даже знал, что несмотря на то, что помещения казались были битком набиты товарами, и в Эмпории был хороший день для торговли, то когда приставали правильные суда, деньки бывали и получше. Имейте в виду, что и здесь властвуют обыкновенные законы человеческой жизни: если ты заглянул за особого рода розовым мрамором, который твой архитектор рекомендовал для ремонта в атриуме, вероятно последние пластины его уже забрал вчера какой-то пекарь для своего отвратительного мавзолея, и что когда ты спросишь, когда можно ожидать следующей поставки, то получишь ответ, мол, легат, это зависит от каменоломни, от грузоотправителя, от ветров, и честно говоря, кто его знает? В лучшем случае, ты купишь себе флакон сирийских духов, чтоб не зря потратить время на поездку, а потом бросишь его на пороге, когда приедешь домой.
Оставим это. Моя поездка была успешной.
Главное здание было наполнено толпой громко переговаривавшихся носильщиков. Проталкиваться через этот шумящий базар было не самым мудрым решением для недавнего инвалида. Но я нашел его. Он опустился от владельца киоска, но все же поднялся и от прежнего торговца вразнос, он стоял за каменным прилавком, хотя и сказал мне, что пока ему приходится готовить свои изделия в общественной пекарне.
– И почему же Феликс прогнал тебя?
– Сладкоежкой в том доме был Нов, – осторожно ответил Минний.
– О, я знаю это! Я прорабатываю версию, что именно его пристрастие к сладкому и послужило поводом к смерти Нова… – я резко остановился. Лучше всего было избежать лишней напряженности, упоминая, что возможно это Минний продал торт, который привел к отравлению, даже если яд в него положил кто-то другой.
– Как ты тут?
– О! Я здесь как дома. Мне следовало вернуться сюда уже несколько лет назад. Я убеждал себя, что не должен покидать то место, потому что там хорошо шла торговля, но ты так же быстро наберешь клиентуру в такой месте как это.
– Тебе по сердцу суета. На Пинции даже блохи – снобы.
Минний подал носильщику огромный кусок восхитительного торта.
– Ответь на три вопроса, мой друг, а потом я оставлю тебя в покое!
Он кивнул. Людям нравится знать, что их время не будут занимать надолго.
– Первый: расскажи мне о тех кондитерских изделиях, которые ты отправил на холм вечером, когда умер Гортензий Нов. Были ли какие-то особые указания, или выбор был за тобой?
Он слегка помрачнел. Я предположил, что кто-то попросил его держать рот на замке, но он все равно решил мне рассказать.
– Сперва заказ был на семь роскошных пирожных. Посыльный пришел накануне, с указанием, что пирожные должны быть разные, на мой выбор. Но во второй половине дня кое-кто спустился и сделал другие распоряжения.
– Гораздо больший, чем те, что ты уже отослал, – тихо сказал я.
– Этот должен был эффектно разместиться в центре блюда. Он действительно должен был оказать эффект! – прокомментировал я, оставив Миннию возможность погадать почему.
– Вопрос номер два, итак: кто выбрал особый торт, Минний?
Я мысленно поставил на двоих. Я проиграл бы. Минний, не моргнув глазом, ответил:
– Гортензия Атилия.
Сама кротость! Это было неожиданное удовольствие. Я задумался над этим.
– Спасибо.
– И твой третий вопрос? – проворчал он. Позади меня собралась очередь. Я улыбнулся ему:
– Третий: сколько стоят два твоих голубя из теста, начиненные изюмом, для меня и моей особенной девушки?
– Насколько особенной?
– Очень.
– Лучшие для тебя по особенной цене.
Он завернул в виноградные листья два самых больших и дал мне их бесплатно. Я положил пирожные в шляпу, которую нес в руках. Потом я повернул к дому и особенной девушке, которая ждала меня там.
Я оставил осла в наемной конюшне, так как ожидал, что проведу некоторое время в помещении, и не нужды лишать его тени, сена и компании. Кроме того, я ненавижу оплачивать время простоя.
Конюшня была всего-лишь за углом от дома, где мы жили. С этого перекрестка можно видеть весь многоквартирный дом. Я походил на парня, впервые влюбленного, который с изумлением смотрит на все вокруг. Я посмотрел наверх, что вы обычно никогда не делаете, так как мыслями уже внутри и пытаетесь найти ключ.
Солнце светило прямо мне в левый глаз. Я сощурился отводя глаза от здания. Затем что-то заставило меня снова посмотреть на него.
Что-то было странным. Я прикрылся рукой от солнца. Казалось, дом дрогнул, но это был не световой эффект. Я был в пятидесяти ярдах от него. Улица была оживленной, никто поначалу ничего не заметил.
Весь фасад моего дома рухнул, очень быстро, как лицо человека расплывается, когда на твой глаз наползает слеза. Здание колебалось, вися без опоры. Все опоры, которые удерживали строение вертикально, перестали действовать, на какое-то мгновение каждая часть держалась сама по себе. Что-то позволяло еще строению сохранять форму, а потом оно исчезло. Многоквартирный дом аккуратно сложился, валясь сам на себя.
Затем на улицу обрушился грохот.
Сразу после этого все мы утонули в большом облаке известковой пыли, которая окутала все жгучей, удушающей грязной пеленой.
LVII
Сначала невероятная тишина. Затем люди начинают кричать.
Сперва надо очистить от пыли глаза. Пытаешься отряхнуться – становится только хуже. Ты не можешь двигаться, пока не начнешь снова видеть. Ты пытаешься понять, что происходит.
Первые крики – это люди на улице, испуганные и потрясенные, но благодарные за то, что у них, по крайней мере, есть еще дыхание, чтоб кричать. Потом могут быть другие, из-под щебня, но будут ли они – сложно сказать, пока паника не уляжется, и кто-то не организует людей. Кто-то всегда находится.
Существует порядок действий, которому все следует. В Риме здания падают часто.
Весть быстро разносится по окрестностям, грохот это гарантирует. В мгновение ока люди сбегаются с лопатами и досками. Другие побегут вслед за ними с тележками, баграми, тачками со строительных площадок, самодельными носилками и, возможно, даже с лебедкой. Но недостаточно быстро. Если дом, как было известно, был жилым, те из вас, кто случился рядом, не ждут. Еще до того, как появятся люди с лопатами, вы начинаете разгребать завал голыми руками. Это мало что дает. Но как можно просто стоять?
Все, о чем я мог беспокоиться на этом свете, были два пирожным в шляпе полной пыли. Я положил шляпу на порог и прикрыл ее плащом. Поступок, в самом деле, пока я пытался прийти в себя.
Оставайся тут… Не волнуйся – оставайся тут и жди меня!
Чтоб добраться до нашего жилища, мне, казалось, потребовался год. Другие тоже шли вперед со мной. Даже если ты тут чужой, ты делаешь все, что в силах.
Я хотел кричать, я хотел реветь. Я не мог вынести, чтоб произнести ее имя. Кто-то закричал; крик, просто звук, чтоб сказать – мы тут. И вот, мы встали около горы обломков, прислушиваясь. Таков порядок: вы кричите или чем-то стучите, а потом слушаете, затем копаете. Если повезет, вы выкапываете кого-то. Но ты все равно копаешь. Ты выламываешь целые балки, как будто это поленья для печи, переворачиваешь двери, которые все еще прикреплены к своим рамам, раздвигаешь треснувшие перекладины и роешься среди тонн бесформенного камня, который совсем теперь не походит на материал, пошедший на строительство дома. Воздух вокруг в клубах пыли. Какие-то фигуры движутся. Месиво под твоим башмаком внезапно осыпается, и ты оступаешься, твое сердце бешено стучит, тебя окутывают более плотные облака пыли. Четырехдюймовый гвоздь, все еще такой же сияющий, как в день, когда он был забит в стену дома, вонзается в твое голое колено. Твои руки исцарапаны в клочья об куски кирпича и бетона. Твой пот с трудом может просочится сквозь толстую корку белесой пыли, от которой иссушается кожа. Твоя одежда задубела. Твои башмаки никогда уже не стоит снова надевать. Сквозь их ремешки твои пальцы и лодыжки сочатся кровью. Пыль забивает твои легкие.
Время от времени люди снова останавливаются и призывают к тишине, затем кто-нибудь, у кого хватает для этого мужества кричит. И ты слушаешь как тонкой струйкой сыплется мелкая крошка из известки среди сломанных кирпичей и плитки и обрывков бумаги, которые когда-то были твоим домом.
Если это было большим зданием, то ты знаешь, еще до того, как будешь вслушиваться, что есть очень маленький шанс, что хоть кто-то ответит.
Пока мы работали, я ни с кем не говорил. Даже незнакомые люди, должно быть, поняли, что это место мне не чужое. Когда принесли первые лопаты, я сразу схватил одну; на правах собственника. В какой-то момент раздался треск, и куча обломков просела, поэтому мы все отскочили назад. Я взял на себя руководство, чтоб укрепить место подпорками. Я был в армии. Меня учили, как руководить гражданскими, когда они бегают вокруг как цыплята. Даже при катастрофе ты не должен терять голову. Даже если бы я потерял ее, она ждала бы этого от меня. Девочка ожидала от меня, что я сделаю все, что смогу, чтоб спасти хоть кого-нибудь. Если она была тут, то по крайней мере, я был рядом с ней. Я оставался бы тут днем и ночью, пока не отыскал бы ее.
Чувства должны были прийти позже. Чем позже, тем лучше. Я не был уверен, что смог бы вынести то, что говорил мне мой разум, если бы стал это чувствовать.
Когда нашли тело женщины, все притихли.
Я не знаю, кто назвал мое имя. Люди расступились. Я заставил себя проковылять туда и посмотреть; все ждали и смотрели на меня. Руки коснулись моей спины.
Она была вся серая. Серое платье, серая кожа, серые матовые волосы, в них была гипсовая пыль о строительная крошка. Целое тело, словно слепленное из пыли. Так покрыта грязью, что узнать было невозможно.
Нет сережек. Не та форма мочки уха, и ничего золотого в нем – ухо даже не проколото.
Я покачал головой:
– Моя была выше.
Кроме того, как только я уверился, что могу смотреть на нее без эмоций, я мог бы сказать, что под покровом серой пыли ее волосы останутся седыми. Волосы были тонкими – только короткий хвостик, не толще моего мизинца, длиной около фута. У моей же была толстая коса, доходившая ей до пояса.
Кто то закрыл ее лицо шейным платком. Раздался голос:
– Должно быть это старуха с верхнего этажа.
Сумасшедшая старуха, что так часто проклинала меня.
Я вернулся к работе.
Это меня расстроило. Я уже начал представлять, что мне предстоит найти.
Я сделал паузу, вытирая пот со своего грязного лба. Кто-то, кто считал, что у него сейчас больше сил чем у меня, взял из моих рук лопату. Я отодвинулся, когда он набросился на завал из строительного мусора, в том месте, где я стоял. Некоторое время я стоял отдыхая, потом что-то привлекло мое внимание.
Это была ручка корзины. Я узнал черное блестящее волокно из пальмового листа, которым моя мать обвила ее, когда тростник начал расплетаться. Я вытащил ее на поверхность. Кое-что из моих вещей. Раньше она висела рядом с дверью в нашей гостиной.
Я отошел в сторону. Стоявшие вокруг тихо протягивали питье, чтоб смочить горло спасателей. Я обнаружил, что мне в руку сунули стакан. Негде было присесть. Я опустился на корточки, выпил, поставил стакан, вытряхнул грязь из корзины и заглянул внутрь. Не много. Все что у меня осталось. Гордость нашего домашнего хозяйства: десять бронзовых ложек, которые Елена когда-то дала мне, она не позволила мне спрятать их в своем матрасе, так как теперь они нужны были для ежедневного употребления; блюдо, которое раньше принадлежало моей матери, отложенное для нее; мои лучшие башмаки, спрятанные от попугая… и терка для сыра.
Я понятия не имел, почему тут оказалась терка. И никогда не смогу спросить. Так много незавершенных дел: это худшее, что приносит внезапная смерть.
Я положил все обратно в корзину, продел руку в ручки, и закинул ее за плечо. И тут мое мужество оставило меня; больше оно не имело смысла. Я закрыл голову руками и попытался отгородиться от всего.
Кто-то потряс меня за плечо. Кто-то кто знал меня, или ее, или нас обоих. Я поднял глаза, полные ярости. Затем я увидел, что он куда-то указывает.
Женщина вышла из-за угла, как я за пол-часа до этого. В руках она держала большую круглую буханку хлеба. Должно быть, она вышла что-то купить к обеду, а теперь возвращалась домой.
Дома больше не было. Она остановилась, как будто решила, что в задумчивости ошиблась улицей. И тут ее поверг в шок вид рухнувшего здания.
Она собралась бежать. Я заметил ее прежде, чем она сдвинулась с места, но ее намерение ясно читалось. Она подумала, что я мог находиться в квартире, и теперь подумала, что я лежу мертвый под обломками. Был только один способ дать ей весть.
Я свистнул. Своим особым свистом. Она остановилась.
Я вскочил на ноги. Она услышала меня. Я заметил, что она не может найти меня. Затем нашла в толпе. Больше не было никакой надобности, но я кричал. Наконец я мог произнести ее имя:
– Елена!
– Любимая – я здесь!
Хлеб рассыпался тысячей крошек, зажатый между нами. Затем она оказалась в моих объятьях. Мягкая. теплая, живая – Елена. Я обхватил ее голову ладонями, как будто держал драгоценность. "Елена, Елена, Елена…"
Ее волосы струились между моими пальцами, загрубевшими от балок, что я ворочал ища ее. Она была чистой и нетронутой, и плачущей беспомощно, потому что на краткий миг подумала, что потеряла меня.
– Елена, Елена! Когда я увидел, что дом рухнул, то подумал…
– Я знаю, что ты подумал.
– Я сказал, что ты должна ждать меня…
– О, Дидий Фалько, – всхлипнула Елена, – я никогда не обращаю внимание, на то, что ты говоришь!
LVIII
Окружающие хлопали нас по спинам, женщины целовали Елену. Я вернулся бы к раскопкам, но толпа решила иначе. Нас втиснули в таверну, где перед нами появился кувшин, в котором я нуждался, и горячие пирожки, без которых я, возможно, мог бы и обойтись. Мне принесли мою шляпу и плащ. Затем, с тем незаметным тактом, который незнакомые люди проявляют друг по отношению к другу при катастрофах, нас оставили в покое.
Мы с Еленой сидели рядом, голова к голове. Мы почти не говорили. Нечего было говорить. Это был один из тех моментов, когда эмоции были настолько общими, что ты знаешь, это, вероятно, никогда уже не повторится.
Голос, который я узнал, вывел меня из нашей поглощенности друг-другом, вряд ли что-то иное могло бы нарушить ее. Я повернулся. Зевака с сонными глазами в полосатой зеленой тунике покупал себе выпить, стоя незаметно в тени навеса и выглядывая наружу. Он изучал степень разрушений. Это был агент домовладельца – Косс.
Прежде чем он получил свой заказ, я оказался рядом. Я, должно быть, выпрыгнул, весь еще покрытый пылью, словно дух из Подземного мира. Он был так потрясен, что не успел сбежать.
– Вот тот человек, кого я хочу видеть! – я пихнул его локтем и увлек внутрь помещения. – Если ты хочешь выпить, Косс, садись и раздели это с нами…
Елена занимала ближайшую ко мне скамейку, поэтому я заставил Косса занять скамью с другого края. Стол преграждал дорогу, но я поднял Косса, и перекинул через стол, так что он плюхнулся на табурет. Затем сам перепрыгнул через стол и сел рядом. Косс беззвучно открывал рот.
– Елена, это Косс, Косс – отличный парень, который собирает арендную плату за нашу квартиру! Садись, Косс…
Он попытался было встать, но сразу сел обратно.
– Выпей, Косс…
Я схватил его за волосы, запрокинул ему голову и вылил все, что оставалось в кувшине на него.
Елена не шевелилась. Она, должно быть поняла, что означал этот жуткий глоток вина.
– Это твое вино. А теперь, – сказал я, все еще прежним приветливым тоном, – я собираюсь убить тебя, Косс!
Елена потянулась через стол.
– Марк.
Косс посмотрел на нее с тем, что должно было выглядеть (для агента) как благодарность.
– Если это тот человек, который занимался сдачей в аренду нашей квартиры, – сказала Елена Юстина своим самым изысканным тоном, – то я хотела бы быть тем, кто сам убьет его!
Косс взвизгнул. Ее холодный, аристократический тон, был более пугающим, чем вся моя жесткость. Я отпустил его. Он распрямился, потирая шею. Он огляделся, осматривая таверну в поисках помощью Все, кого он видел, отворачивались. Они знали этот сорт людей, к которому он принадлежал. Если бы я убил его, никто не пришел бы ему на помощь. Люди надеялись, что я сделаю это. Елена бы приобрела среди соседей популярность. Если бы она стала его убивать, люди, вероятно, помогли бы ей.
Я вернулся на свою сторону стола и сел рядом со своей девушкой.
– Ты выбрал неправильный день, Косс, – мрачно сказал я, – календы сентября это белый день в календаре, а как неудачный люди помечают завтрашний день. Никакого стиля, Косс! Как твоим арендаторам тут планировать заранее?
Он начал что-то бормотать. Я прервал его, повернулся к Елене и тихо спросил ее:
– Сегодня утром я заметил, что нанятые домовладельцем строители начали работы на первом этаже. Они были еще там, когда ты вышла?
– Они только что закончили, – ответила Елена, – они убирали леса, которые были у входа.
– Небольшая путаница, – пробормотал Косс, все еще не догадываясь, когда стоит бросить блефовать. – Должно быть что-то испортили…
– Меня, к примеру!
– Извини, Фалько, – неохотно ответил Косс, зная, что его череп может оказаться сокрушен моим кулаком.
– И ты меня, Косс.
– Хозяин заплатит компенсацию.
– Он сделает это, Косс! Это было бы очень разумно!
– Каким образом, – задала вопрос Елена, – он сможет компенсировать жизнь старушки с пятого этажа, которая умерла?
– Непредвиденный просчет нашего инженера-строителя, – увильнул он, пытаясь оправдаться, он, должно быть, отрепетировал эту фразу для выступления в суде.
– Скорее радикальный способ решения проблем с ее арендой! – вступил в спор я.
Косс вздохнул. Наконец до него дошло, что я знаю достаточно, и увиливать бесполезно. Он был ленив, и ненавидел осложнения. Мой напор так его расстроил, что он не мог отвечать, поэтому я подсказал:
– Домовладелец пытался выселить старуху, прекратив с ней арендный договор, тогда бы он мог снести здание и построить более престижное. Когда она отказалась съехать с квартиры, этот благотворитель избавил ее адвокатов от возможности обчистить ее карманы, так как дом был бы снесен тем или иным способом!
– Но почему бы просто не предупредить ее? – требовательно спросила Елена.
– Мы предупреждали. Ну, – признался агент, – мы должны были это сделать. Старая склочница жила там так долго, что я забыл про нее. У нас огромное число арендаторов. Я не в состоянии помнить всех. В июне она приковыляла в контору и заплатила, ворча себе под нос, как и все остальные, поэтому я поспешил как можно быстрее выставить ее, и только когда она ушла, кляня меня на все корки, я обратил внимание на ее адрес. Владелец дома никогда не давал мне четких указаний об этом здании, поэтому я просто оставил все как есть. Наступил июль, и домовладелец вдруг решил перестраивать дом, но так как старуха выплатила за аренду вперед, мы застряли бы на целый год.
– Почему же, – спросила Елена, – ты тогда заключил новый договор аренды с нами?
Он скорчил рожу, как будто ему стало стыдно. Я поверил в его раскаяние не больше, чем в раскаяние кота, сожравшего цыпленка
[278]. Елена, вероятно, выразилась бы изящнее, но чувствовала она тоже самое.
– Сделай вид, будто все отлично, – заявил я. – Когда дом рушится, легче уйти от наказания, если домовладелец сделает вид, что заселял пустующие квартиры. Таким образом это будет выглядеть не как преднамеренный снос, а как несчастный случай при ремонте. Горькая удача для арендатора (если ты случайно выжил) – тебе возвращают арендную плату за оставшийся срок, так что ты можешь выразить свою благодарность и проваливать!
– Я же сказал тебе, что аренда на короткий срок, – проворчал Косс, тоном, как будто он был убежден в своей правоте.
– Прошу прощения! Я должно быть неправильно понял мой договор. Я не сообразил, что в нем сказано "на шесть месяцев, или пока дом не рухнет".
– Мы можем вернуть тебе деньги, пропорционально сроку, – начал было Косс. Его рот никогда не закрывался, подобно дверям храма Януса
[279].
– Неверно! – воскликнула Елена. – Ты полностью вернешь Дидию Фалько все деньги, а в добавок заплатишь компенсацию за утраченные вещи и мебель!
– Да, госпожа.
Концепция, что существуют мужчины, дающие поспешные обещания, а потом передумывающие, была знакома моей любимой.
– Ты напишешь расписку для нас к своему банкиру. Здесь и сейчас! – решительно потребовала Елена.
– Да, госпожа. Если вы хотите срочно обрести новую крышу над головой, я, возможно, смогу что-нибудь найти.
Он был настоящим агентом, истинный дурак.
– Еще одно из твоих особых предложений на ограниченный срок? – ухмыльнулся я.
Елена взяла меня за руку. Мы посмотрели на него.
Елена Юстина сбегала к местному торговцу канцелярскими принадлежностями, пока я и Косс оговаривали цену за мою потерянную мебель. Я развернулся вовсю, и согласованная компенсация была гораздо больше, чем стоила моя мебель.
Вернувшись, Елена продиктовала текст платежного поручения.
– Выпиши это на даму, – приказал я. – Ее имя Елена Юстина, она заведует всеми моими счетами.
Косс выглядел удивленным. Как выглядела Елена, я не могу сказать, так как старался на нее не смотреть.
Мы достигли того момента, когда или должны были отпустить агента, или его арестовать. Это была Елена, кто сказала спокойно:
– Я хотела бы знать имя нашего небрежного домовладельца.
Косс занервничал; я подтвердил его опасение:
– Вернуть наши деньги, это только первый шаг.
– Он должен быть привлечен к суду, – сказала Елена.
Косс начал было шуметь, но я резко его одернул:
– Твой хозяин допустил небольшую ошибку. Эта дама, которая сегодня едва не погибла при этом, так называемом несчастном случае, дочь сенатора. Когда ее отец услышит, что приключилось с его сокровищем, он обязательно поднимет вопрос о халатности домовладельца в Курии – и это будет еще не конец всему!
Последняя вещь, которую желал бы Елена, это сообщить своему отцу, о том, как может быть опасной жизнь со мной. Но он обязательно узнает, и Камилл Вер был одним из немногих в Сенате, кто был бы готов заняться этой проблемой.
– Я все равно хочу узнать, – сказал я. – Просто скажи мне, Косс. Тогда я смогу лечь спать этим вечером с чистой совестью, сказав себе, что не вручал себя и свою драгоценную любовь этому ужасному Присциллу!
Он вздохнул с облегчением:
– Ох, нет, Фалько!
– И кто же тогда?
Он стал исповедоваться, захлебываясь словами:
– Я работаю на Гортензиев. Нов владел твоей арендованной квартирой.
LIX
Я вцепился своими почерневшими клешнями в его мешковатую тунику и встряхнул его так, что его зубы клацнули.
– Я тут не при чем, – взмолился Косс, – если ты подумаешь, то это же само собой разумеется!
Он ждал, что я отпущу его, но я продолжал держать.
– Нов мертв! На прошлой неделе Нов умер!
– И что в этом такого?
– По чьему приказанию снесли здание?
– Нов сказал мне, чтоб я сделал заказ еще несколько недель назад…
– А когда Нов умер, ты даже не подумал согласовать это с его преемниками?
– Я получил подтверждение.
Что-то в том, как он это сказал, выдало его обман.
– От Феликса или от Крепито?
Я перестал его трясти, но накрутил тунику на кулак. Я чувствовал, что он был слишком ленив, чтоб подняться на холм и спросить.
– Она заходила в контору, – пробормотал он. – Она часто передавала мне сообщения от Нова и раньше, поэтому я спросил ее. Она сказала, что не стоит беспокоить остальных во время траура, но сделать так, как запланировал Нов…
– Кто, Косс?
– Северина Зотика.
– У женщин нет юридических прав, – ответил я немедленно. Я сказал это без всякого выражения, хотя хотел бы их забрать обратно. – Косс, она сделала тебя соучастником убийства.
Я потерял интерес к агенту, так как полностью осознал значение того, что он сказал: Северина, распорядившись разрушить мою квартиру, пыталась заманить меня к себе этим утром, не сделав ни малейшей попытки предупредить меня, что Елена может оказаться в опасности…
Почувствовав отвращение, я оттолкнул Косса. Люди, которые толпились в таверне, помогли ему пинками. Когда он вылетел на улицу, он споткнулся. Кто-то снаружи, должно быть, его узнал. Я услышал крик, и он побежал. Когда я достиг двери, его уже было не спасти, даже если бы я захотел ему помочь.
Разозленная откапыванием тел толпа загнала агента в угол и избила его инструментами. Затем они соорудили крест из балок, что достали из руин, и подняли его на нем. Но я думаю, что он скончался еще до того, как его распяли.
Я снова сел и обнял Елену. Она обхватила меня обеими руками.
Я говорил очень тихо, обращаясь не конкретно к Елена, а ко всему миру в целом. Я обрушивал свой гнев против домовладельцев – всего этого отвратительного класса. Скупых, вульгарных, алчных; тех, кто действовал грубой силой, подобно Присциллу; и тех, кто как Нов, сваливал все на ленивых, некомпетентных агентов, и таким образом мог дистанцироваться от их грязных преступлений.
Елена позволила мне выговориться, потом мягко поцеловала мое перемазанное лицо. Боль слегка отступила.
Я откинулся назад, так чтоб видеть ее.
– Я тебя люблю.
– Я тоже.
– Может, поженимся?
– Сейчас? Без денег?
Я кивнул.
– Почему? – спросила она.
– Я счастлив, и мы оба счастливы вместе. Кому нужны церемонии, брачные договоры, дураки, кидающие орехи? Если мы живем вместе в доверии и любви… Этого для тебя достаточно?
– Да, – ответила она просто.
У моей сильной, своенравной девушки случилась необычная романтическая полоса в жизни. Кроме того, она однажды уже проходила через все положенные церемонии и знала, что они не дают никаких гарантий. – А для тебя, разве,этого недостаточно?
– Нет, – сказал я. Я хотел бы объявить о нашей свадьбе публично, как полагается.
Елена Юстина тихо рассмеялась, словно думала, что я романтик.
Мы вышли из таверны. У меня были дела. Непростые дела. Я не знал, как суметь сказать Елене, что мне придется сейчас ее оставить.
Мы медленно подошли к разрушенному зданию, которое так недолго было нашим домом. Теперь я понял, почему толпа, которая схватила Косса, повела себя настолько жестоко: тут лежали еще тела, сложенные в горестный ряд – целая семья, в том числе трое детей и младенец. Еще одни "временные" жильцы, мы даже не знали, что это несчастное семейство были нашими соседями.
Копатели все еще работали. Осталось всего несколько зрителей. Ночью придут мародеры. А завтра утром Гортензии пришлют повозки с распоряжением очистить место.
– По крайней мере мы вместе, – прошептала Елена.
– Мы будем. Елена, мне надо…
– Я знаю.
Она была замечательная. Я крепко обнял ее и сказал:
– Так ты все еще хочешь жить со мной?
– Мы подходим друг другу.
– Ох, моя дорогая, мы подходим какому -то другому месту, лучшему чем это!
Как обычно она успокоила меня.
– Мы можем найти себе жилье в другом месте, но я буду выбирать его более тщательно, чем эту квартиру! Елена, я скорее всего, не смогу найти нам новое жилье сегодня – лучше иди в дом своего отца, и мы встретимся там позже…
– Украдкой вернуться с поджатым хвостом? – фыркнула Елена. – И не подумаю!
– Я хочу, чтоб тебе было удобно…
– Я хочу быть с тобой.
– И я хочу тебя! Поверь мне, я не хочу оставлять тебя сейчас. Все что я хочу, это запереть тебя, и крепко держать, пока ты не почувствуешь себя в безопасности, а я не почувствую себя лучше…
– О, Марк, смотри! – перебила меня Елена. – Там попугай!
Попугаиха взгромоздилась на кучу обломков. Сильно потрепанная, но ничуть не напуганная. Елена позвала:
– Хлоя! Хлоя, иди сюда…
Возможно, это клетка спасла ее. Так или иначе существо объявилось живым, и теперь смотрело на окружавшие ее обломки с обычным видом наглого превосходства.
Маленькие мальчишки (чья мать их за это потом не стала бы благодарить) подбирались к птице, пытаясь ее поймать. Хлое никогда не нравились особи мужского пола. Она позволила им подойти на расстояние вытянутой руки, затем распушила перья, отпрыгнула в сторону на ярд и взлетела. Ее хвост вспыхнул алым, когда она поднималась. Я пошутил:
– Стоит предупредить местных скворцов, похоже, что на них начнется охота!
Елена привстала на цыпочки, чтоб лучше наблюдать полет попугая. Хлоя внезапно сделала круг вокруг ее головы.
– Марк, эта птица выживет, оказавшись на свободе?
– Ох, этой птице сказочно везет.
Хлоя села недалеко от нас.
– Хлоя! Хлоя! – закричала Елена.
Теперь более решительные, так как нашлись люди заинтересованные в поимке птицы, мальчишки бросились вперед. Хлоя увернулась от них и вспорхнула на балку крыши вне досягаемости.
– Спускайся сюда и скажи, кто мне это сделал? – крикнула расстроенная Елена.
– О, Церинт! Церинт! Церинт! – пронзительно завопила Хлоя, оказывая любезность.
Затем мы могли наблюдать, как попугай устремился куда-то в голубое римское небо, улетая прочь.
LX
Откладывать далее не принесло бы никакой пользы.
– Милая! То, что я делаю – глупо. Ты избит; твой дом разрушен; самая блестящая женщина, с которой ты когда либо спал, говорит тебе, что ты ей нужен. Однако тебе нужно идти устраивать облаву на преступников, когда ты только что узнал, что человек, которого злодеи убили, останься он в живых, ты бы сам его убил!
Передернувшись, я набросил на себя свой черный плащ. Это напомнило мне, что в моей шляпе все еще были два пирожных от Минния, завернутых в виноградные листья, так что не сильно пострадавшие от пыли.
– Возьми их, мы съедим их в доме твоего отца этим вечером, – сказал я, стараясь не обращать внимания на болезненную потребность Елены быть сейчас со мной рядом. – Обещаю!
Она вздохнула:
– Мой отец все равно ждет встречи с тобой, а теперь иди.
– Это должно порадовать его, если бы я вернул тебя под его крыло!
– Мы сможем поговорить об этом после, – сказала Елена тоном, мол обсуждать тут нечего. Я выколотил из шляпы пыль и нахлобучил ее себе на голову.
– Ты похож на вестника возмездия! Любой, кто увидит твой силуэт в сводчатом проходе, захочет развернуться и убежать…
– Отлично! – сказал я.
Грязь на моей коже и в волосах раздражала меня, и я быстро ополоснулся в бане, пока составлял план действий.
Был еще самый разгар дня. Мозаика уже вполне сложилась у меня в голове, так что я теперь был уверен, что если где не хватит имеющихся кусочков, там я смогу заполнить пробелы при помощи догадки и везения. Я встречался с Присциллом, с женщинами из дома Гортензиев, с Севериной Зотикой. Церинт мог быть и ложным ключом. Но если бы я смог найти, где болтался этот Церинт, я тоже должен был бы с ним увидеться.
Для начала я выбрал Аппия Присцилла, и его дом на Яникуле. Вдохновленный моими новыми побуждениями, я сделал правильный выбор.
От мысли о встрече с фригийцами у меня сводило кишки, но в организации Присцилла наступило время сиесты. По отвратительному коричневому портшезу я понял, что Присцилл дома.
Первой ошибкой, которую допустил его привратник, было позволить мне войти. Вторую ошибку он сделала, когда отправился сообщить о посетителе, не заметив, что посетитель сам идет позади него.
– Благодарю! – улыбнулся я привратнику, отодвигая его с дороги, чтоб войти. – Нет нужды представлять нас, мы с Аппием Присциллом старые приятели.
Я испытывал неприязнь к Присциллу, которая лишь расцвела сильнее от горькой зависти, как только я вошел в комнату.
Это было просторное помещение, с большими панельными дверями, распахнутыми, чтоб дать восхитительный вид через Тибр на Рим. В руках любого компетентного архитектора эффект был бы захватывающим. Присцилл, вероятно, купил дом из-за его расположения, но потом впустую растратил все его преимущества. Здесь было много естественного света – а в комнате не было ничего, кроме нескольких запертых сундуков. Присцилл пожадничал даже на самые обыкновенные предметы мебели. Он ограничился такой мрачной краской и светильниками, что ему удалось все испортить; должен существовать закон против уродования таких потенциально совершенных комнат.
Я почувствовал, как мой нос сморщился. Великолепное расположение дома сделала его многим лучше, чем контора на Эсквилине, но здесь стоял неприятный запах заброшенности.
– Игра началась, Присцилл. Тебе пора убраться из Рима!
Присцилл, тот же самый коротышка с крысиной мордочкой, в той же самой (на мой взгляд) вонючей тунике, наконец обрел дар речи и выдавил из себя ядовитое сопение:
– Не занимай мое время, Фалько!
– Или ты мое! Я привлекаю тебя, чтоб рассчитаться за смерть Нова.
– У тебя нет ничего на меня, Фалько!
– О, разве нет? А как насчет твоего подарка на вечеринке – отличного фалернского?!
– С фалернским было все в порядке, – заверил меня Присцилл, немного слишком самоуверенно.
– Я с этим соглашусь, – усмехнулся я, – я попробовал чуток.
Знаток сказал бы, что оно слишком согрелось, когда стояло в столовой – но оно так же гладко пилось, как то, что мне приходилось пробовать до этого. В целом, очень тонкое. Однако! Специи, которые к нему прилагались, были довольно странно выбраны…
Он стрельнул в меня глазами.
– Сам я, – сказал я, – никогда не кладу мирру и кассию в хорошее вино. Слишком горчат. Хотя, правда, в неудачные годы мирра может замаскировать множество огрехов…
Сказано достаточно. Я прошел в глубь комнаты.
Присцилл начал ковырять под ногтями острым кончиком стила.
– Чего ты хочешь, Фалько?
– Мести, естественно.
– Ты будешь разочарован!
– Я так не думаю.
Моя уверенность сбивала его с толка. Он был слишком удивлен, даже чтоб послать за подкреплением. Мне это нравилось. Он боялся, что у меня могло быть что-то против него, так что мне было достаточно рассказать ему все без утайки.
– Присцилл, я знаю, как был убит Гортензий Нов. Если это когда-нибудь дойдет до суда, я буду вызван в качестве свидетеля…
– Этого не будет.
Он продолжал выковыривать грязь. Часть этой грязи попала ему под ногти, видимо, еще тогда, когда у него были молочные зубы.
– Ошибка. То, что я знаю, слишком сильно обличает Крепито и Феликса, чтоб подкупить ведущего расследование претора, как бы тот не висел крепко на крючке у Крепито.
– Откуда ты знаешь, как это произошло? – презрительно усмехнулся Присцилл.
– Я узнал это, когда был нанят, чтоб отшить маленькую охотницу за золотом…
– Девка сделала это! – попробовал он, неуверенная попытка. – Она сидела в этой комнате, когда принесла приглашение, и фактически призналась, что если когда нибудь у нее будет желание избавиться от мужа, она отравит его!
– Нов никогда не был ее мужем, – ответил я логично. – Хотя весьма похвально! Наличие Северины должно было казаться идеальным прикрытием для остальной части вашей компании, кто желал Нову смерти. Не думайте, что она не догадывалась! Я думаю, ее участием стало то, что она пришла сюда и подкинула тебе эту идею. Она тебя подставила! Ты, как предполагалось, должен был сделать это после того, как они поженятся, но к несчастью для нее, ты не смог обождать.
– Какие у тебя доказательства? – мрачно сказал сквозь зубы Присцилл.
– Я зашел в их дом по делам тем вечером. Я был свидетелем, как твою специю подмешали в бокал с вином. Я видел отравленную выпивку. Отлично! – воскликнул я, как будто у меня что-то неожиданно всплыло в памяти. – Я не знаю, чего ты ожидал, но бедного старого Нова, разумеется, скрючило от удивления! В следующую минуту он растянулся на полу в нужнике!
Эта причудливая смесь из правдивых деталей и блефа начала оказывать ожидаемый эффект.
– Сколько? – устало спросил Присцилл.
– О, я пришел не за деньгами!
– Сколько? – повторил он. Очевидно ему приходилось иметь дело с жеманными вымогателями.
Я покачал головой.
– Тебе меня не купить. Дела зашли слишком далеко. С одной стороны, я довольно сильно пострадал, когда по твоему приказу меня избили недавно – так что все, что я сказал этим Гортензиям, находясь под впечатлением травм, это целиком твоя ошибка!
– Прекрати нести чушь, Фалько, – проворчал Присцилл, но я видел, что его интересовало, что же я им рассказал.
Я выпрямился.
– Вот мои соображения: Крепито и Феликс обсуждали с тобой возможность устранения Нова, если он пойдет наперекор уговору. Он так и поступил, поэтому ты оставил для него особый подарок. Когда он умер, те двое вернулись к первоначальным условиям договора.
Присцилл ничего из сказанного не подтвердил, хотя он не стал ничего и отрицать.
– Это вызвало у них шок, когда я указал им, что оставив фалернское – ты умчался даже не разделив его со всеми – ты, должно быть, надеялся прикончить не одного Нова, но все семейство Гортензиев.
Он был хорош. Он был настолько хорош, что был опасен.
– Почему, – спокойно спросил меня Аппий Присцилл, – Феликс и Крепито вообразили, что я хотел это сделать?
Я улыбнулся.
– Ты предупредил их не трогать специи?
Он ничего не ответил. Это было ошибкой, он сам падал мне в руки.
– Феликс и Крепито не самые догадливые мальчики на Фламиниевой дороге, но даже до них дошло: ты хотел очистить поле. Они избежали смерти случайно. Нов никогда не любил ждать, это было на него похоже, завладеть вином только для себя одного. Феликс, прежде чем узнал, что Нов умер, забрал графин в другую комнату – их египетский салон, – добавил я для пущей убедительности. – Он оставил сосуд со специями в столовой. Сперва Феликс и Крепито решили, что ты убил Нова каким-то блестящим и необнаруживаемым способом…
– Но ты сказал им, что было по иному! – с холодной угрозой произнес Присцилл.
– Верно, – сказал я. – И теперь Поллия и Атилия также знают, что ты пытался отравить их мужей. Они послали Феликса и Крепито обратиться за защитой к закону.
Присцилл нахмурился. Его узколобая, скрытная натура требовала бороться со мной до конца:
– Ты глупец, Фалько, что пришел сюда. Я тебя уничтожу!
– Никакого смысла. Я тут ничего уже поделать не могу. Ты будешь обвинен Гортензиями. Их слуги видели, так ты передавал графин. Они видели, как ты сбегал за сосудом со специями после ссоры с Новом. Феликс и Крепито могут даже подтвердить, что существовал предварительный сговор.
– Они достаточно глупы, чтоб это сделать! Что ты задумал? – хрипло потребовал Присцилл с презрением в голосе.
Я опустил руки.
– Я ненавижу всех вас. Я ненавижу Нова, я был его арендатором. Квартира, которую он сдал мне, была чрезмерно дорогая и плохо обслуживалась, а сегодня вообще разрушилась. При этом едва не погибла моя подруга, и едва не погиб я сам…
Присцилл имел такой злобный характер, что мог понять этот вид гнева.
– Ты вцепился в них из-за этого?
– А как иначе? – прорычал я. – Если бы я мог приплести к отравлению и их, я бы сделал это! И теперь, когда они выплескивают всю эту грязь перед своим карманным чиновником, очерняя тебя и обеляя себя, я прибежал сюда. Я хотел посмотреть тебе в лицо, когда скажу, что служители закона уже следят за твоим домом на Эсквилине, и они уже направляются сюда…
По крысиному лицу Присцилла я мог сказать, что он уже прикинул, этот дом находится за городской чертой, так что общественная стража не доберется до него сразу.
– Время убираться, если ты намерен прихватить губку и пару кошельков! – настаивал я. – Рим слишком мал, чтоб скрываться в нем сейчас, Присцилл. Твоя единственная надежда спастись состоит в том, чтоб смыться и отправиться осматривать выдающиеся достопримечательности Империи в течении нескольких лет…
– Пшел вон! – сказал он. Он был слишком озабочен насущной необходимостью спасаться, так что даже не позвал своих фригийских телохранителей, чтоб они оставили на мне свои отметины.
Я нахмурился, как будто мне не понравился приказ. Закинул шляпу за спину, оставив висеть на шее на завязке, резко запахнулся плащом и ушел.
Через несколько минут грязный коричневый портшез помчался прочь.
Лежа среди садовых кустов, я наблюдал, как некие тяжеловесные дорожные кофры последовали за ним на спинах исходящих потом фригийцев. Я слышал, как Присцилл кричал им, чтоб те поторапливались, пока его несли вниз с Яникула к Аврелиевой дороге
[280] и Свайному мосту
[281].
Отсюда до порта в Остии было более тридцати милевых столбов. Я надеялся, что он заставит этих фригийцев бежать всю дорогу.
LXI
Это было действительно легко.
Только горстка жалких умозаключений и немного лжи. Бандиты так чувствительны. Ты можешь надуть их какой-нибудь гладенькой сказочкой, если она угрожает их привычному образу жизни.
Что дальше?
Прежде чем я мог заняться его конкурентками, этими коварными бабами с Пинция, мне требовался отдых. И я нашел его – может даже больше чем рассчитывал – прогуливаясь по берегу Транстиберина
[282].
Я шел на север. Мне все равно пришлось бы идти на север. Не было ничего плохого, чтоб пройтись мимо самого дальнего отрога Яникула и посмотреть на место старого преступления.
Цирк Калигулы
[283] и Нерона – вот зловещая пара персон, подобных которым ты можешь встретить в задней части бани – лежит напротив того места, где Тибр круто поворачивает направо, чтоб охватить Марсово поле. По стечению обстоятельств на этой неделе не было скачек, но имелась небольшая выставка диких зверей, которых держали в клетках. Вокруг, как обычно, толпились возбужденные школьники, задававшиеся вопросом, могут ли они кидаться в животных всякой дрянью, была обязательная маленькая девочка, что желала погладить тигра, и неуклюжий укротитель, который время от времени выбегал, чтоб попросить людей отойти от загородок. На выставке был бегемот, неизменный слон, пара страусов и галльская рысь. Еще была пара тюков влажной и грязной соломы и тяжелый запах.
Зверинщики размещались в нескольких холщовых палатках в тени стартовых ворот. Когда я проходил мимо, чтоб попасть в Цирк, я услышал знакомый женский голос, ведущий какой-то безыскусный рассказ:
– …Я думала он пошел отлить. Во всяком случае, я забыла про него – чего беспокоиться? – но когда я пошла кормить питона, он был там. Должно быть он задрал тунику прежде чем заметил змею. Я нашла его, прижавшегося к навесу, боящегося даже крикнуть, с дрожащими коленями и болтающимися причиндалами, словно мешочек с маникюрным набором из трех предметов…
Я отдернул потрепанную занавеску и широко улыбнулся.
– Я больше никогда не смогу снова посмотреть на ковырялку для ушей! Талия! Как дела с выступлением со змеями?
– Фалько? Ты все еще мечтаешь сбежать из дома за приключениями? Откуда ты узнал, что это была я?
– О! Я думаю, я встретил некоего попугая, которого ты должна была знать когда-то…
– Эта ужасная птица! – сказала она.
Ее спутница – тощая особа, которая должно быть была той женщиной, которая кормила того человека, который водил на водопой бегемота, – одарила меня чопорной улыбкой и выскользнула из палатки.
Талия стала более серьезной.
– Ты одет как посланник с дурными вестями для кого-то.
– Для злодеев, надеюсь. Та беседа с тобой на днях, она очень мне помогла. У тебя есть минутка?
– Давай выйдем на воздух, – предложила она, возможно, опасаясь, что кто-то нас подслушает.
Она провела меня в Цирк. Мы немного постояли в стартовых воротах, где однажды пантера пообедала мужем Северины Фронтоном. Продолжая молчать, мы поднялись на несколько рядов и сели на мраморные скамейки.
– Я разрабатываю версию смерти Фронтона, талия, ты говорила, что никогда не встречалась с его женой. Значит, я полагаю, ты не знала, был ли у Северины любовник?
– Не могу сказать, но Фронтон полагал, что так и было.
– Он кого-то подозревал?
– Я ни разу не слышала его имени. Но Фронтон кажется, полагал, что это был кто-то, кого она знала давно, кто-то из тех, кто толпится за кулисами.
– Похоже на правду, – сказал я. – Она упоминала некоего раба ее прежнего хозяина, она носит кольцо, что он ей дал. И лекарь, который освидетельствовал смерть ее другого мужа говорил, что некий "друг" пришел потом, чтоб ее утешить. Но сейчас нет даже и следа от этого парня.
На самом деле, когда мы напивались вместе, она упомянула, что он в Загробном мире.
– Скажи мне,Фронтон и Северина были вместе только несколько недель. Кажется, она плохого о нем мнения. Он бил ее?
– Наверное.
– Он был грубым типом? Вся сладость была до свадьбы, а потом стало кисло?
– Ты знаешь мужиков! – она усмехнулась. Но затем она добавила. – Фронтону не нравилось, когда его выставляли дураком.
– И он считал, что это Северина поспешила выскочить за него?
– Сделала ли она это?
Мы посидели в задумчивости некоторое время.
– Мне придется идти в суд, Фалько?
– Не уверен.
– Кто позаботится о моей змее?
– Я попытаюсь тебя не вмешивать… Но я знаю девушку, которая хорошо обращается с животными, если все таки придется.
– Я все думала об этом кладовщике, – сказала Талия, объясняя, почему она так беспокоится о том, что может последовать дальше. – Я уверена, он устроился к нам на работу, в то время, когда Фронтон женился. Я не уверена, но мне кажется, это она убедила Фронтона взять его.
Я улыбнулся:
– Эту теорию я как раз и обдумывал.
– Дело в том, – медленно произнесла она, – мне кажется, теперь я смогу вспомнить имя этого кладовщика…
– Таинственный Гай? – я выпрямился. – Тот, кто освободил пантеру, тот, на кого потом обрушилась стена?
Что-то щелкнуло в моем мозгу, пока мы тут тихо сидели, детали, которые я услышал от Петрония: "…Трое детей погибли, когда обрушился пол… Гортензии в среднем раз в месяц получают судебный иск… Целая стена недавно рухнула и насмерть придавила мужчину где-то на Эсквилине…"
– Его имя случайно было не Церинт, я правильно полагаю?
– Ты поганый жук… – обвинила меня Талия смеясь. – Ты давно это знал!
Я знал кое-что еще. Я теперь понял, чтоб было настоящей причиной смерти Гортензия Нова.
LXII
День подходил к концу. Когда я добрался до особняка Гортензиев, уже стемнело, но его владельцы так любили показывать всем свое богатство, что они выставили ряды смоляных факелов и десятки мерцающих светильников. Как обычно я оказался в приемной, в которой я еще не бывал до этого, совершенно один.
Вольноотпущенники смело отложили в сторону свою скорбь по Нову и теперь развлекались с друзьями. Стоял тонкий запах ароматных гирлянд, и время от времени, когда двери приоткрывались, до меня доносился звон смеющихся голосов и дробь тамбурина. Сообщение которое я отправил, было обрамлено тайной, и внизу содержало предупреждение. От Сабины Поллии вернулся раб и попросил меня подождать. Чтоб мне было веселее скоротать время, пока компания набивала брюхо, она прислала мне несколько угощений, изящно сервированных на трех серебряных тарелках, в сопровождении графина выдержанного сетийского вина из их погреба. Я нашел, что угощения первосортные, но так как я был не в настроении угощаться этими лакомствами, то я нашел, что будет вполне вежливо выпить хотя бы их сетийское.
На винном подносе была пара кувшинчиков с холодной и горячей водой, маленькая угольная горелка для подогревания вина, чашечка с пряными травами, ситечко и изогнутый бокал для вина из зеленого сирийского стекла. Я забавлялся около получаса с этими предметами, затем развалился на кушетке, украшенной серебряными львами, и задумчиво разглядывал ярко украшенную комнату. Она была слишком вычурно украшена, чтоб быть комфортной, но я достиг того состояния, что лежать посреди этой безвкусицы, кидая на нее презрительный взгляд, соответствовало моему мрачному настроению.
Вскоре появилась Сабина Поллия. Она слегка покачивалась и предложила подать мне еще вина из ее незапятнанных рук. Я сказал ей, что у меня вполне достаточно, если не брать травы и воду. Она рассмеялась, наполнила два бокала и села рядом со мной, а затем мы отважно залпом осушили сетийское, не разбавленное.
После стольких дней на диете для болящего, вино имело вкус более насыщенный, чем я мог справиться. Но я покончил с вином, поднялся на ноги и налил себе еще немного. Я вернулся, чтобы сесть рядом с Поллией. Она закинула одну руку на спинку кушетки, и оперлась о другую, так что я мог смотреть ей прямо в ее изящное личико. От нее шел аромат каких-то пьянящих духов, сделанных и желез животных. Она слегка покраснела и наблюдала за мной опытным взглядом полузакрытых глаз.
– У тебя есть, что сказать мне, Фалько?
Я лениво улыбнулся, восхищаясь ею вблизи, пока ее рука бесцельно теребила мое ухо. Превосходное вино хорошо согревало мою гортань.
– Я могу рассказать о многих вещах, Сабина Поллия, и большинство из них не имеют отношения к причине, по которой я пришел сюда!
Я провел пальцем по идеальной линии ее щеки. Выражение ее лица говорило о ее неосведомленности этой причиной. Я тихо спросил:
– Ты и Атилия знаете,что есть свидетели того, что вы отравили торт?
Она стала более сдержанной.
– Может стоит пригласить сюда Атилию?
В ее голове не чувствовалось ни смущения, никакого иного чувства, которое я мог бы заметить.
– Как хочешь.
Она не двинулась с места, чтоб послать за своей подругой, так что я продолжал.
– Гортензию Атилию, в какой-то мере извиняет то, что она заботилась о будущем своего маленького ребенка. А как насчет тебя?
Поллия просто пожала плечами.
– У тебя нет детей?
– Нет.
Я подумал, что она сделала сознательный выбор, заботясь о сохранении своей фигуры. Затем она спросила:
– Фалько, ты пришел, чтоб угрожать нам?
– Теоретически, я нахожусь на пол-дороги к претору, чтоб сообщить ему все, что я знаю. Я понимаю, – я не дал ей прервать меня, – претор Пинция в большом долгу перед твоей семьей. Но я напомню ему, что при новом правителе Веспасиане, если он хочет добиться должности консула, в его интересах будет продемонстрировать, насколько он может быть беспристрастным. Я сожалею, беспристрастность может неприятно отразиться на личных друзьях претора!
– Почему он послушает тебя?
– У меня есть связи во Дворце, так ты знаешь.
Полия дернулась:
– Атилия захочет это услышать. Атилия в этом замешана, Фалько, это она покупала торт…
Она затихла. Я догадался, она пила всю ночь без перерыва.
Я держал их порознь достаточно долго, чтоб пошатнуть их самообладание, я кивнул. Она хлопнула в ладоши рабу, и вскоре после этого к нам поспешила присоединиться Гортензия Атилия. Поллия тихо переговорила с ней в дальнем углу комнаты, пока я развлекался, играя с сервизом на подносе.
– Итак, о чем ты пришел нам рассказать? – спросила Атилия, присаживаясь ко мне и беря беседу в свои руки.
– Ну, я думал, тебе хотелось бы узнать, что Аппий Присцилл только что покинул город.
Атилия нахмурилась, Поллия, которая выпила намного больше, нахмурилась вслед за ней.
– Это я ему посоветовал. Я сообщил ему, – сказал я, считая, что это им полезно знать, – будто Феликс и Крепито узнали, что Нов был отравлен вином из графина Присцилла, который он оставил здесь, и что будто они подумали, что он заодно хотел убить и их. Присцилл решил, что эта новость может сильно распалить их! Он думает, что они подают на него в суд.
Я откинулся на кушетке со львами и улыбнулся им:
– Могу ли я спросить вас, сударыни, что вы сделали с графином?
Поллия хихикнула:
– Мы вылили вино как жертву на костер…
Должно быть во время похорон Нова, не тогда же когда мы хоронили повара.
– …А затем, – объяснила она, проявив легкое слабоумие, – мы кинули и графин в огонь!
– Уничтожение улик? Неважно, это не имеет значения.
– Не имеет значения? – спросила Атилия. Для матери будущего сенатора, она была неприлично сообразительной.
– Фалернское было безвредным. Присцилл отравил специи, что он оставил, которые к нему надо было подмешивать. Их взял Виридовикс, бедняга. Таким образом, как вы видите, Присцилл убил только вашего повара.
– Тогда, что случилось с Новом? – потребовала Атилия.
– Гортензий Нов был отравлен чем-то из еды.
Они слушали меня очень внимательно.
– Я ожидаю, что вы заметили, – сказал я им, – что, когда к столу подали блюдо со сладким, ваш особый торт отсутствовал?
Атилия напряглась, Поллия последовала бы за ней, но была слишком пьяна. Они, должно быть настроились, чтоб совершить отравление, но потом расслабились, когда подумали, что кто-то сорвал их план. Теперь я говорил им, что они были убийцами, когда они уже не были готовы к этому.
– К сожалению, Северина Зотика выкинула торт, которая посчитала, что Нов захапает его себе, чтоб насладиться им потом в одиночку, после ужина… Я полагаю, что вы понимаете, – сказал я серьезным тоном, – что если это станет известно суду, то наказанием за убийство будет предание львам на арене?
Чувство вины закрыло глаза моих слушательниц на все нестыковки в этом рассказе. Они сели с обеих сторон от меня.
– Что ты сказал? – пробормотала Поллия. – Если это дойдет до суда?
– Что же, мне пришлось поместить свои заметки по этому делу туда, где я храню свои счета – на случай, если со мной что-то произойдет. Знаете… но сейчас, кроме Зотики, я единственный, кто все знает.
– Ты и она, вы намереваетесь что-то с этим делать? – спросила Атилия.
Я поскреб подбородок.
– Я думал по дороге сюда.
Они стали меня подбадривать продолжать.
– Рыжая вас не побеспокоит. Зотике придется смириться с ее потерей, у меня есть доказательства, касающиеся смертей ее прошлых супругов, которые она не рискнет предать огласке.
– А ты? – сладко проворковала Атилия.
– Это может дать мне хороший доход.
– От кого? – бросила Атилия, резко меняя тон.
– От любого адвоката-обвинителя, который ждет какого-нибудь пикантного случая. Некоторые из них покупают у меня информацию, чтоб сделать свою карьеру более блестящей. Ваша история гарантированно выигрышная и на ней можно сделать себе имя в суде в одночасье. Я мог бы сделать кучу денег, если бы привлек вас к суду.
Поллия сказала прямо:
– Тогда ты можешь получить эту кучу денег и не делая этого!
Она заслужила империю Нова: действительно смелая деловая женщина, полная практичных идей! Я пристально посмотрел на каждую из них по очереди. Используя дурную репутацию некоторых частных информаторов, я знал, что смогу убедить их в чем угодно. Чем чернее, тем лучше.
– Я открыт для предложений. Есть одна схема, которую я могу провернуть со своей подругой, чтоб упростить движение больших сумм наличных денег.
Неприятные предложения были тем, что было для них понятно.
– Вы с ней встречались, как это не удивительно. Я посылал ее сюда, чтоб она составила о вас независимое мнение, когда вы наняли меня – Елена Юстина.
– Дочь сенатора?
Я рассмеялся.
– Она так вам сказала? Она работает со мной! Та школа, которую она будто-бы собирается основать – отлично, мы так и будем действовать. Если вы хотите, вы можете внести пожертвование для школы Елены.
– Сколько, – резко отреагировала Атилия.
Я пальцем нарисовал в воздухе огромное число.
– Фалько, этого достаточно для греческого университета!
– Надо все сделать правильно, – заверил я ее. – Мы должны построить настоящую школу, или это прикрытие не сработает. По счастью, я знаю где есть участок земли, который вы можете нам передать – один из ваших собственных многоквартирных домов обрушился сегодня около полудня в Публичных Садках… Дом, где я жил! – проворчал я, когда Поллия попробовала возражать.
Повисла тишина. Я перешел к делам, по настоящему серьезным.
– Погибли люди. Слишком много людей. В Сенате начнут задавать вопросы. Лучше предупредите заранее Феликса и Крепито, что их сонливый агент был распят на улице, и что они столкнутся с сильным общественным интересом к своим делам. Считаетесь с фактами, сударыни, вам надо отмыться от методов, которые использовал в своем бизнесе Нов, и сделать это надо очень быстро. Я предлагаю срочную программу кое-каких работ на благо горожан: возьмите на содержание несколько общественных фонтанов. Поставьте несколько статуй. Сделайте себе лучшее имя, потому как сейчас ваша репутация хуже некуда. Например, – предложил я, – мы могли бы назвать новую школу в честь семейства Гортензиев. Это приличный и респектабельный проект, чтоб произвести впечатление на общество!
Никто не рассмеялся, хотя один из нас и попробовал было.
Ноги Поллии подкашивались. Она почувствовала себя плохо. Я поднял свой бокал, когда она выбежала из комнаты. В комнате повисла тишина, когда я осушил бокал и собрался уходить.
Атилия повернула голову, она была так близко, что ее дыхание щекотало мою щеку. Я вспотел. Я не мог ничего сделать, кроме как ждать, пока Гортензия Атилия подставляла свое лицо мне для поцелуя.
– Жаль, – сказал я резко. – Эта ночь только начинается, а мне еще много что предстоит сделать. И, кроме того, я – хороший мальчик!
LXIII
На холме Пинций аромат каменных сосен, казалось проникал до самого моего измученного мозга. Впереди в черноте лежал Рим, его топография угадывалась только по слабым огням на Семи холмах. Я мог разглядеть Капитолий и двойную вершину Авентина, в другом направлении должен был быть Целийский холм. Чтоб ускорить мои шаги, мне не помешал бы хороший пирог. Но мне пришлось обойтись без него, когда я спустился на оживленные вечерние улицы города, чтоб встретиться с моим последним испытанием на сегодня.
На пути к Северине, я завершил еще одну часть этого выдающегося дела, я зашел во двор каменотеса. Он был открыт, но его освещала всего пара тонких свечек. Каменотес приблизился, шагая сквозь жуткие ряды грубо отесанных камней. Его незабываемые уши торчали, как два полукружия по бокам его лысого черепа. Он с тревогой посмотрел на меня, когда я стоял в конце прохода из глыб вулканического туфа, все еще окутанный моим бесформенным плащом и пряча лицо во тьме под широкими полями шляпы.
– Скавр! Северина заходила по поводу своего заказа? Ты сказал мне, что она должна была посоветоваться с другими людьми.
– Ее друзья не стали. За памятник заплатила Северина.
– Она может себе позволить заплатить по такому случаю дань уважения этому мертвецу! Скавр, я никогда не забываю своих обещаний, я сказал тебе, что вернусь, когда она решит…
Скавр проворчал:
– Камень уже забрали.
– Куда?
– Могила на Аппиевой дороге.
– Не фамильная ли семьи Гортензиев?
– Там имя Моск, я уверен.
Каменотес ошибался, если подумал, что этого будет вполне достаточно, я был намерен довести дело до совершенного конца.
– Я не собираюсь блуждать среди призраков этой ночью. – улыбнулся я ему. – И даже не пытайся, Скавр. Я могу пойти в любой день, но я знаю, что это мне не потребуется… Все что мне нужно, это текст надписи. Только покажи мне свою дощечку для письма…
Он понял, что я заметил вощеные дощечки, на которых он имел обыкновение делать заметки, свисающие с его пояса. Поэтому он протянул мне пару, с последними записями, и это было там.
Не то, что я предполагал, когда спрашивал в первый раз. Но именно то, что я ожидал сейчас:
D+MC+CERINTHO
LIB+C+SEVER+
MOSC+VIXIT+
XXVI+ANN+SEV
ERINA+ZOTICA
+LIB+SEVERI+
FECIT [284]
Я прочитал это вслух, медленно расшифровывая принятые сокращения: "Посвящено Манам
[285] Гая Церинта, вольноотпущенника Гая Севера Моска, прожившего двадцать шесть лет, Северина Зотика, вольноотпущенница Севера, поставила это".
– Очень сдержанно. На твоей табличке есть свободное место. Что ты удалил в конце?
– О… она не могла решить, добавлять ли "имеющая большие заслуги перед ним". В конце концов, она по каким-то причинам отказалась от этого.
Невинная фраза, широко в ходу на надгробных плитах, что ставят жены или их неофициальные эквиваленты. Иногда, несомненно, дань содержала иронию. Но любой, кто ее прочитает, догадается о тесных отношениях.
Таким образом, я мог объяснить каменотесу причину, по которой Северина была вынуждена опустить эти слова. Как бы она не хотела сказать добрые слова о своем поклоннике вольноотпущеннике, девочка была слишком хорошим профессионалом, чтоб оставлять хоть малейшую подсказку.
LXIV
Мне казалось, что с тех пор как я в последний раз посетил дом на Счетной улице минула целая эпоха. Была ночь, но дом был залит светом; у нее было три богатых наследства, чтоб заплатить за масло в светильниках. В большинстве домов уже перестали бы работать. Но Северина делала единственное, что оставалось домоседливой девушке, у которой не было никакой возможности заполучить мужа на этой неделе – сидеть у своего ткацкого станка, планируя, как поймать другого.
Я наблюдал за ней, вспоминая как моя сестра Майя говорила, чтоб я обратил внимание, насколько она была искусна в ткачестве. Я считал, что она была искусной ткачихой. Даже если во всем остальном она и лгала, но работала она уверенно. Когда я вошел, она не перестала перекидывать челнок, хотя и выглядела рассерженной.
– Обед давно закончился, Фалько!
– И ужин тоже! Жаль.
Я подошел к дивану, так что ей пришлось отвернуться от своей работы. Я устало прикрыл лицо ладонями.
– Зотика! Сегодня одно испытание за другим, Боги, как я устал…
– Тебе что-нибудь дать? – она почувствовала себя обязанной что-нибудь предложить.
– Нет. Все что я хочу, незамысловатая компания и беседа с другом!
Я глубоко вдохнул, и с шумом выпустил воздух из легких. Когда я я поднял глаза, она совсем забросила свой моток шерсти и с тревогой смотрела на меня.
– Я только что побывал у Гортензиев. А до этого у Присцилла.
– Что случилось?
Теперь она сидела как на иголках, предвкушая знаменательное событие. Она знала, что я пришел чтоб завершить это дело. Волнение было ее образом жизни, мне пришлось бы нанести неожиданный удар, чтоб поколебать ее, или я ни за что не добьюсь успеха.
– Слабое актерство и ложь, главным образом! Так или иначе, я повернул все это дело к твоей пользе… Боюсь, эти бабы напоили меня, а не я сам… – я ухмыльнулся, затем всплеснул руками. – Я чувствую себя запачканным, Зотика! Я рассержен, что мне пришлось играть. Я особенно рассержен на не слишком тонкие намеки, что я – всего лишь еще одна привлекательная статуя, который любая вольноотпущенница, у которой больше денег, чем художественного вкуса, может себе купить!
Я с удовольствием расплылся по дивану.
– Мне нравится быть настоящей находкой. За прожитые годы я получил один или два удара, которые уже не выправишь снова, но моя личность была отполирована так, что стала бы ценным приобретением для знатока…
– В чем дело, Фалько? – Северина захихикала.
– Ни в чем. Фактически, я думаю, что все в порядке. Я думаю, что не имея на руках и клочка неопровержимых улик, я напугал всех тех, кто сам привык пугать!
– Тогда расскажи мне это!
Я стал загибать пальцы:
– Крепито и Феликс знают, что Присцилл был бы счастлив отравить их, поэтому опасная затея совместной деятельности их сорвалась. Теперь Нова не стало, их власть в империи Гортензиев несколько выскользнула у них из рук – тем более, что я им намекнул, что они могут подвергнуться разбирательству в Сенате. Они должны срочно изменить свой подход к ведению дел, и посвятить себя работам на благо горожан за свой счет… Присцилл полагает, что эти двое натравят на него правосудие. Он умчался в дальнее морское путешествие. Это должно стать хорошей новостью для его арендаторов. Если повезет, он утонет еще до того, как решит вернуться в Рим.
– Как тебе все это удалось?
– Пустяки! Убедительность и обаяние. При этом Атилия и Поллия напуганы, что если они что-то сделают не так, то я пошлю их на арену ко львам за их попытку отравить Нова. Взамен моего молчания они будут заниматься благотворительностью – в их собственном расточительном стиле, разумеется. Я убедил их направить свою энергию на учреждение школы для девочек-сирот. Ты ведь сирота, не так ли? Я мог бы похлопотать о местечке для тебя там, если хочешь…
– Сколько вина они в тебя влили?
– Недостаточно, это был очень хороший год для изготовления вина!
Северина смеялась надо мной. Я ей широко улыбался. Внезапно она поняла, что веселость была уловкой, и я был совершенно трезв после всего.
– Сегодня мой дом разрушился, – сказал я. Я позволил улыбке покинуть мои глаза. – Но ты, разумеется, все знаешь об этом.
LXV
Я наблюдал, как Северина терзалась от неопределенности.
– Какая была бы ирония, Зотика, если бы я привел тебя в суд не из-за кого-либо из твоих мужей, или даже из-за убийства Нова, но обвинил бы в смерти людей, кто умерли сегодня! Старушка, я слышал только как она стучала в стену, и семья, про которую я даже не знал, что они жили там.
Мы оба сидели не шевелясь.
– Почему ты не задаешь вопросы? – усмехнулся я.
Она выдавила из себя:
– Твоя подруга в порядке?
– А тебе то какое дело?
Ее, все еще голубые, глаза уже давно сообщали, что она чувствует приближение опасности, но ее мысли лежали столь глубоко, что о них невозможно было догадаться.
– Ты ее знала, не так ли? – спросил я. В моем голосе было достаточно стали, чтоб она подумала, будто Елена погибла. – Она ходила в те же бани, что и ты.
– Я думала, это ты ее послал…
– Да, я понимаю тебя. Но ты ошибаешься. Это была ее собственная идея. Она, должно быть, хотела узнать, с кем я имел дело. Она никогда не говорила мне, или я запретил бы ей – попробовал бы, во всяком случае. Я в нее сперва и влюбился, из-за присущего ей духу противоречий.
– Что с ней случилось? – спросила Северина.
– Дом обрушился. Все, кто оказался внутри, погибли, – я сделал паузу. – О, нет необходимости даже раздумывать, мол стоит признаваться, Зотика, или нет! Я знаю, кто виноват. Косс мне рассказал. Ты знала. В сущности, это ты отдала распоряжение. Затем твой слуга пришел ко мне, чтоб предупредить меня, это была жалкая попытка заманить сегодня меня сюда – не заботясь, что кто-то может еще оставаться там!
В лице Северины что-то слегка изменилось, но так незаметно, что я не мог это определить. Не так как я хотел. Даже если она почувствовала сожаление, я был зол на нее.
– Я не питаю надежды предъявить тебе обвинение. Косс мертв. Он позволил себя опознать, и местные жители разобрались с ним.
В любом случае, домовладельцами были Гортензии, их агент ни в коем случае не должен был слушать твоих указаний. Зачем ты это сделала? Решила избавиться от меня, потому что я стал для тебя угрозой? Что заставило тебя передумать? Надежда, что я буду, в конце концов, полезен?
Наконец она заговорила.
– Ты должен быть благодарен, что я пыталась удержать тебя подальше от дома!
– Пока ты губила Елену?
Она была догадлива, она поняла, что я бы не был в состоянии даже говорить об этом, если бы это было правдой.
– Елены не было в тот момент дома, иначе ты была бы уже мертва. У тебя была причина, чтоб так поступить сегодня. Не притворяйся, что хочешь меня. Даже если бы ты это сделала, ты действительно полагаешь, что я согласился бы стать твоим – или чьим-либо еще – если бы я потерял ее так? Но твой мотив, он несколько сложнее. Я знал, что ты ревнива – и ты ревновала к нам обоим. Тебе была ненавистна сама мысль, что кто-то другой имеет то, что потеряла ты…
Я наклонился вперед, так что наши глаза стали на одном уровне, когда она опустилась на стул.
– Расскажи мне о Гае Церинте, Зотика.
Это было впервые, когда я точно знал, что удивил ее. Но даже сейчас она отказывалась говорить на эту тему.
– Ты сам, очевидно все знаешь!
– Я знаю, что ты и он, вы оба, вышли из дома Моска. Я знаю, что Церинт убил Гриттия Фронтона. Я мог бы это доказать, был свидетель. Но Парки
[286] решили за меня, что Церинт не предстанет перед судом. Я знаю, что Церинт был раздавлен рухнувшей стеной. И я знаю, что это была стена дома, принадлежавшего Гортензию Нову.
Она закрыла глаза, другого подтверждения и не требовалось.
Я мог догадаться и об остальном:
– Церинт был рабом вместе с тобой. Что случилось – ты полюбила его? После того как вышла замуж за Севера Моска или раньше?
– Позже, – сказала она спокойно.
– Как только Моск умер, ты стала свободной женщиной с приличным наследством. Ты и Церинт могли вести приятную жизнь. Откуда столько жадности? Скопить огромное состояние было его идеей или твоей?
– Обоих.
– Очень по деловому! Как долго вы собирались продолжать?
– Фронтон должен был быть последним.
– Итак, первым был Моск – это Церинт выбрал для хозяина в амфитеатре место пожарче?
– Церинт покупал билет. Но ты не можешь винить его за солнце!
– Я могу винить его за то, что он не уберег от него пожилого человека – Моска! Затем аптекарь, Эприй. Вам и это удалось. И наконец, поставщик зверей. Там вы допустили две ошибки. Фронтон никогда не говорил вам, что у него есть племянник, который ожидал наследства, и еще он избивал тебя. Церинт, должно быть, был в состоянии смириться с тем, что ты ложишься спать с другими мужчинами, но он не мог вынести жестокого обращения с тобой. Его метод решения был столь ужасный, как только он смог придумать. Но Церинту вскоре случилось проходить под обычной непрочной постройкой Нова. В итоге ты пришла к тому, что у тебя была сомнительная репутация, мертвый любовник, деньги, к которым ты, вероятно, потеряла вкус, и тебе было нечем заняться, кроме как мстить.
Ее кожа выглядела как пожелтевший папирус, но дух ее оставался неизменным.
– Ты, Фалько, можешь сказать, что ты любишь.
– И ты ничего не предпримешь? Я так не уверен. Ты, должно быть, продолжила свой путь к Нову, пылая неподдельной страстью в своем сердце, но в ночь, когда я сообщил, что он мертв, это потрясло тебя, Зотика. Не притворяйся, что это не так! Я думаю, ты поняла истину: ненависть опустошает. Нов был мертв, но твой любовник тоже. Церинт никогда не узнает, что ты отомстила за него. На этот раз не с кем было поделиться своим триумфом. В этот раз ты была одна. Какая, как ты сказала мне, была польза от всего этого? Убийство Нова было ничем, по сравнению с составлением планов на будущее с тем, кого ты любила, не так ли, Зотика?
Северина качнула головой, не соглашаясь принять мои аргументы.
– Я знаю, Зотика! Я знаю, как ты себя чувствовала, когда потеряла его, и я знаю, что ты до сих пор это чувствуешь. Когда вы разделяете такое, другой человек навсегда становится твоей частью.
На этот раз она издала негромкий протестующий возглас. Но было слишком поздно; попытки заставить ее понять, какие я испытывал эмоции по отношению к Елене, мне надоели.
– Чего я не могу понять, так это то, как человек, который пережил тяжелую потерю, мог осознанно пытаться заставить кого-то пережить то же самое! По крайней мере, ради богов, когда погиб Церинт, тебе не пришлось стоять на улице и смотреть на обрушивающуюся стену!
Ее лицо дернулось. Я больше не желал смотреть на это.
– Я знаю, что Нова убила ты.
– Ты не знаешь как.
– У меня есть несколько зацепок.
– Недостаточно, Фалько.
– Я знаю, что ты подвигла Присцилла подумать о яде, и вероятно женщин дома Гортензиев тоже…
– Они ничуть не нуждались в намеке!
– Я знаю, что ты помешала глупому плану женщин, и, вероятно, помешала Присциллу тоже, но ты покинула дом до трапезы. Нервишки шалили, без Церинта, чтоб поддержать тебя? Но зачем, все подготовив, чтоб подозрение могло пасть на других, ты им не позволила это сделать? Почему, ты рисковала своим алиби, нанимая меня? О, ты любишь рисковать, Зотика, но ты по настоящему рисковала. Я не совершенно беспомощен. Я доказал их невиновность, даже если не могу доказать твою вину. Но почему ты не позволила им довести дело до конца, и сделать грязную работу за тебя?
Она ничего не сказал. Я понял ее ответ, она была одержима идеей мести.
– Ты так сильно ненавидела Нова, что должна была закончить все сама!
– Никаких доказательств, Фалько!
– Никаких доказательств, – согласился я. Нет смысла притворяться. – Их еще нет. Но доказательства обязательно существуют, и я найду их. Ты осудила себя тем, что пыталась сегодня сделать с Еленой. Она в безопасности, но я тебя никогда не прощу. Я могу быть столь же терпелив, как ты была с Новом, и подбираться столь же окольными путями. Ты теперь никогда не сможешь сомкнуть глаз, Зотика. Один неверный шаг, и я окажусь рядом…
Она встала. Она сопротивлялась.
– Елена никогда не останется с тобой, Фалько! Она выросла среди комфорта, и знает, что может добиться большего успеха. Кроме того, она слишком умна!
Я посмотрел на ее снисходительно.
– О, она останется.
– Придерживайся людей, подобных тебе, Фалько.
– Я и делаю это! – я резко развернулся. – Я ухожу.
– Я отблагодарю тебя и расплачусь с тобой за работу.
– Я ничего от тебя не хочу.
Северина печально рассмеялась.
– Тогда ты, Фалько, глупец! Если ты хочешь жить с дочерью сенатора, тебе нужно денег даже больше, чем добыли Церинт и я.
Ее подначка не смогла задеть меня.
– Да, мне нужны деньги. Мне нужны четыреста тысяч сестерциев, если быть точным.
– Чтоб войти в среднее сословие? Ты никогда этого не добьешься!
– Я сделаю это. И я сделаю это честным путем.
Мои достойные смеха социальные принципы, похоже разрушили ее отчаянные надежды подкупить меня в конце концов.
– Тебе следует остаться со мной, Фалько. Мы с тобой могли бы неплохо поработать в этом городе. Мы думаем похожим образом, у нас есть амбиции, мы никогда не сдаемся. Мы с тобой могли бы составить отличную компанию в любой области, какую бы мы выбрали…
– У нас нет ничего общего. Я это уже говорил тебе раньше.
Она протянула мне руку, со странной, серьезной церемонностью. Я знал, что я почти сломил ее. Я знал, что этого мне больше никогда не удастся.
Я нажал большим пальцем на медное кольцо, любовный подарок ей от Церинта.
– Итак, это все было лишь хитрой операцией отмщения, а? Все ради Венеры? Все ради любви?
Внезапно смех озарил ее лицо.
– Ты никогда не перестаешь пытаться, не так ли?
– Нет.
– Или терпеть неудачи, Фалько!
Это было ее знакомое мстительное прощание.
Когда я покидал дом, кое-кто только входил. Тип столь же пронырливый, как дядя букмекера: яркая туника, бронзовая кожа, полированные башмаки, много масла для волос – но не столь чванливый. Хотя прошло довольно времени с тех пор, как я его видел, я немедленно узнал его:
– Лузий!
Это был секретарь претора с Эсквилина.
LXVI
Как только я узнал его, мое сердце ёкнуло; я догадался, что затевается что-то новое. Мы топтались друг против друга на пороге.
– Я просто уходил, – улыбнулся я.
– Корвин слышал, что был еще один случай, по которому ее можно было бы заставить отвечать, – мы продолжали увиливать, и щурились друг на друга, словно соперники. – И насколько ты преуспел в этом деле? – спросил Лузий.
– Она снова отвертелась. Мне удалось разобраться, кто все устроил с импортером животных, но преступник мертв. Он был ее любовником, но без него недостаточно улик, чтоб привлечь ее к суду. Мне удалось добиться от нее признания, что у нее был какой-то партнер, и больше ничего.
– Никаких других доказательств? – спросил Лузий.
– Ни шиша.
У меня создалось впечатление, что он что-то скрывал. Я схватил его за локоть и вытянул под яркий свет бронзового
фонаря, что висел над крыльцом Северины. Он не сопротивлялся.
– Что ты задумал, Лузий? Ты выглядишь таким довольным собой!
Секретарь расплылся в улыбке:
– Это мое, Фалько!
Я поднял обе руки отступая.
– Если ты что-то нашел… Это выгодная покупка, Лузий.
– Я получил улику в случае с аптекарем.
Я полагал, что мы там копали до изнеможения, но без каких-либо результатов.
– Как? Неужели тот врач, который его осматривал, наконец-то напишет отчет?
– Нет. Но он говорил тебе, что никогда не посещал Эприя до того?
Я кивнул:
– Очевидно, что его позвали при удушье, так как он жил на другой стороне улицы.
– И еще потому, что он был дурак… А вот, что я выяснил, – продолжал Лузий, – Эприй посещал другого лекаря.
– По поводу того знаменитого кашля, что свел его в могилу?
– У Эприя не было никакого кашля.
– Я догадываюсь, что ты поговорил с его постоянным шарлатаном?
– Ага. И я обнаружил, что этот врач лечил его от геморроя. Медикус считал, что Эприй был очень тщеславным, и так смущен своей проблемой, что Северина, скорее всего, не знала об этом.
– Имеет ли это какое-нибудь отношение к нашему вопросу?
– Ах, конечно! – Лузий, действительно был очень доволен собой. – Я показал этому постоянному доктору остатки пилюли от кашля, от которой, якобы, задохнулся Эприй, хотя и не сказал, что это такое. Она была довольно помята и частично растворилась, но он признал в ней свою работу.
– И что?
– Когда я сказал, с какого конца его пациента это было извлечено, он очень удивился!
Я уже начинал догадываться.
– Правильно, – весело сказал Лузий. – Она, должно быть, знала, что у Эприя есть коробочка волшебных пастилок – но он солгал об их назначении. "Таблетка от кашля", которая, по словам Северины, и вызвала удушье, была, на самом деле, одной из его геморройных свечей!
Я сказал, стараясь не слишком сильно давиться от смеха:
– Это вызовет в суде сенсацию!
По его лицу пробежала легкая тень.
– Я сказал, что это мое, Фалько.
– И что?
Он ничего не ответил. Я вспомнил, что ему нравятся рыжие.
– Ты с ума сошел, Лузий!
– Я еще окончательно не решил.
– Если ты пойдешь повидаться с ней, она сделает так, что ты примешь решение… Что вы все в ней нашли?
– Помимо скромных привычек, любопытных взглядов, и того факта, что мне придется ходить по лезвию ножа каждую минуту когда я буду с ней? – спросил секретарь, с грустью, показывая отсутствие каких бы то ни было иллюзий.
– Ну, во всяком случае ты ясно представляешь, что тебя ждет – тебе гораздо легче, чем большинству людей! Она говорит, что не намерена повторно вступать в брак, значит она активно ищет нового мужа. Шагай смело, мой мальчик, но не обманывай себя, что ты один из тех, кто может ею управлять…
– Не волнуйся. То, что осталось от этой пастилки, поможет в этом.
– Где эта отвратительная улика?
– В безопасном месте.
– Где, Лузий?
– Я не идиот. Никто не сможет добраться до нее.
– Если ты как-нибудь проговоришься ей, где она, ты покойник!
Лузий похлопал меня по плечу. Он прямо излучал спокойную уверенность, что почти напугало меня.
– Я отлично защитил себя. Если я умру, прежде чем меня похоронят, мои душеприказчики найдут эту улику, вместе с заявлением врача, данным под присягой, и пояснительной запиской.
Истинный судебный секретарь!
– А теперь, я пошел, – сказал он. – Пожелай мне удачи!
– Я не верю в удачу.
– Да и я, на самом деле, – признался Лузий.
– Тогда я скажу тебе следующее: я встречался с гадалкой, которая сказала мне, что следующий муж, которого Северина зацепит, доживет до глубокой старости… если только ты веришь гадалкам, я полагаю. У тебя есть сбережения?
– Может, что и найдется, – ответил Лузий осторожно.
– Не говори ей.
Лузий рассмеялся.
– И не собирался!
Я отошел от крыльца, он потянул веревку, чтоб позвонить.
– Я все же думаю, что тебе стоит сказать мне, куда ты положил смертельную конфетку.
Он подумал, и решил, что будет неплохо, если кто-то еще будет об этом знать.
– Недавно Корвин оставил свое завещание в Доме Весталок
[287]…
Обычное дело для сенатора.
– …Он позволил мне положить и мое туда же. Если со мной что-то случится, мои душеприказчики обнаружат, что у моего завещания довольно любопытная печать…
Он был прав; он не был идиотом. Никто, даже Император, не мог добраться до завещания, не имея надлежащих санкции, как только оно было передано на хранение под ответственность Девам.
– Удовлетворен? – спросил он меня, улыбаясь. Он был великолепен. Он мне нравился. Если бы у него не был такой ужасный вкус при выборе женщины, мы бы могли стать настоящими друзьями. Я даже подумал, с легким чувством зависти, что, возможно, наконец-то Северина Зотика встретила себе равного по силам соперника.
XLVII
Сенатор сидел в саду во дворе, разговаривая со своей супругой. На самом деле они выглядели так, как будто долго обсуждали какую-то тему, пока не устали от этого занятия; вероятно, они говорили обо мне. И если у Камилла Вера в руках была виноградная гроздь, и он продолжал помаленьку отщипывать ягоды, даже когда появился я, то Юлия Юста – чьи темные волосы в сумраке сделали ее поразительно похожей на Елену – не сделала ни малейшего движения, чтоб нарушить свой покой.
– Добрый вечер, сенатор – Юлия Юста! Я надеюсь, что найду вашу дочь здесь.
– Она заходит, – проворчал ее отец. – Берет взаймы мои книги; пользуется горячей водой; совершает набег на винный погреб! Ее матери обычно удается перекинуться с ней парой фраз. А я считаю, что мне повезло, когда вижу ее пятку, уже скрывающуюся за дверным косяком.
Я начал расплываться в улыбке. Вот человек, сидящий в своем саду посреди мотыльков и цветочных ароматов, который позволил себе вслух сетовать на свое дитя.
– …Я воспитал ее. Я виню только себя – она моя…
– И ты прав! – сказала его жена.
– Так она была здесь сегодняшним вечером? – вмешался я в их разговор, улыбнувшись матери Елены.
– О да! – ее отец громко вздохнул. – Я слышал, что твой дом упал, это так?
– Это иногда случается! По счастью, мы были…
Он махнул мне, приглашая присесть на резную каменную скамью.
– Твой дом рухнул, поэтому Елене Юстине надо было спросить у меня, как восстановить документы по наследству, оставленному ей тетей Валерией. Еще Елена забегала в свою старую комнату за платьями. И Елена просила передать тебе, что вы увидитесь позже…
– С ней все в порядке? – мне удалось втиснуться в этот поток слов. Я повернулся к ее матери, ожидая, что она растолкует их смысл.
– О, она кажется была как обычно, – прокомментировала Юлия Юста.
У сенатора закончились шутки, повисла тишина.
Я собрался с духом.
– Мне следовало прийти раньше.
Родители Елены обменялись взглядами.
– Почему? – пожал плечами Камилл. – Это и так довольно ясно, что происходит…
– Я должен был объясниться.
– Это извинения?
– Я люблю ее. Я не буду за это оправдываться.
Юлия Юста, должно быть внезапно дернулась, потому что я услышал, как ее серьги тонко зазвенели и складка ее столы прошуршала по камню.
Тишина затянулась. Я встал.
– Мне лучше пойти и найти ее.
Камилл рассмеялся.
– Могу ли я предположить, что ты знаешь, где ее искать. Или нам надо организовать поисковую партию?
– Я думаю, что знаю, где она.
Усталый, я брел. Я приближался к своему прежнему логовищу на высоком гребне Авентина. Я еле передвигал ноги, размышляя о собственных красивых домах богачей, и о тех жутких дырах, где, как они ожидают, должны будут ютиться бедняки.
Я вступил в Двенадцатый округ. Привычные запахи шибанули меня в нос. Насмешливый свист раздался сзади, правда без какой либо угрозы, когда я свернул в переулок.
Фонтанный дворик.
Из всех скрипучих многоквартирных домов в самых грязных переулках города, самый унижающий достоинство жильца – Фонтанный Дворик…
Перед лавкой цирюльника Родан и Асиак подняли свои гладиаторские туши со скамьи, где они сидели болтая, но потом опустили их обратно. Они могли выбрать какой-нибудь другой день, чтоб избить меня. Из прачечной до меня донеслось веселое пение, посредством которого Ления развлекала своего противного женишка. Рим полон женщин, планирующих, как бы обчистить своих мужиков. Усмехнувшись, я задался вопросом: удалось ли ей заставить его назначить день свадьбы?
Дверь открылась. На фоне ярко освещенного проема я увидел бесформенную массу, увенчанную несколькими тощими пучками волос: Смаракт!
За мою квартиру все было оплачено до ноября, не было смысла останавливаться и оскорблять его. Это подождет. Я мог бы поупражняться в риторике в какой-нибудь другой день. Сделав вид, что я не заметил его, я одернул плащ и натянул шляпу, так что я мог пройти мимо, изображая из себя некое зловещее привидение, закутанное в темноту. Он знал, что это был я, но отступил в сторону.
Я собрался с силами, затем подготовил себя к встрече с привычными неприятностями, первой из которых был подъем на шесть лестничных пролетов.
LXVIII
Жилище напоминало помойку.
Амфора, прихваченная из обители сенатора, стояла, прислонившись к тому, что должно было сойти за стол. Пробки не было. Так вот, что тут происходило, пока я отсутствовал, занимаясь расследованием… Два голубя из теста, истекавшие соком от изюма, стояли на старом сколотом блюде, клюв к клюву, как потрепанные влюбленные. Одному из них удавалось выглядеть вполне прилично, но у другого устало обвис хвост, как у меня.
Гламурная штучка, притворявшаяся, что она нужна, чтоб принимать корреспонденцию для меня, сидела на балкончике с чашкой вина, читая одну из моих личных восковых табличек. Вероятно одной из тех, что я не разрешил ей читать. Со стихами.
Она оставила еще одну чашку на столе, на случай, если заглянет по дороге ненароком кто-то, тоже любящий приличное вино. Я налил себе выпить. Затем я прислонился к складывающейся двери и постучал перстнем. Она сделала вид, будто ничего не заметила, но ее ресницы слегка вздрогнули, и я посчитал,что мое отважное появление принято во внимание.
– Фалько здесь живет?
– Когда ему этого захочется.
– У меня есть сообщение для него.
– Можешь передать через меня.
– Ты прекрасна.
Она подняла глаза.
– Привет, Марк.
Я одарил ее своей особой усмешкой.
– Привет, ягодка! Все закончилось. Ушел, как только смог.
– Ты ее привлечешь к суду?
– Нет.
Елена отложила мои стихи. Рядом с ней на скамье возвышалась небольшая пирамидка свитков. Она была облачена в одну из моих наиболее сомнительных туник, а ее ноги были впихнуты а пару моих же старых растоптанных шлепанцев.
Я сказал:
– Поручи мне отыскать девочку, что ворует мою одежду и грабит мою библиотеку!
– Это принесли от дяди Публия, – она указала на свитки. Я знал, что у сенатора был брат, который умер в этом году, "его забрало море" (совершил непростительную ошибку в политике).
– Его семья поспешно вернулась обратно в провинцию, где он когда-то служил в молодости…
– Ты все это прочитала сегодня вечером? – спросил я, опасаясь, что это обойдется дороговато, содержать такого быстрого читателя.
– Только просмотрела.
– Высмотрела что-то полезное?
– Я читала о царе Юбе
[288]. Он женился на Клеопатре Силене
[289], дочери Марка Антония
[290]. Он оказался довольно интересным человеком – для царя. Один из тех эксцентричных самодеятельных ученых, которые пишут подробные заметки о любопытных предметах – например, трактат о молочае.
– Добрый старый Юба!
– Ты знаком с молочаем?
– Естественно, – сказал я таким тоном, как будто подумал: "Что, о Гадес, это вообще за штука – молочай?" Я усмехнулся:
– Молочай это зеленое растение, самого болезненного цвета, с копьевидными листьями и сухими цветами…
Елена Юстина подняла брови и тихо уставилась на меня, что означало: "Откуда этот идиот знает о молочае?"
Я услышал сердечный смех, смех полный восторга, который она приберегала, чтоб поддразнивать меня:
– О, да ты ведь внук садовника!
– И полон сюрпризов! – сказал я в свою защиту.
– Ты умный, – ответила Елена, с нежностью глядя на меня.
– Мне нравится всем интересоваться. Я умею читать. Я прочитал все, до чего смогли дотянуться мои руки. Если ты оставишь эти свитки дома, я стану специалистом по царю Юбе к концу недели, – я чувствовал себя не очень здоровым, возможно, из-за неудачи в расследовании. – Я не мужлан с Авентина. Куда бы я не пошел, я обращаю внимание на детали. Я внимательно слушаю новости на Форуме. Когда люди что-то говорят, я прислушиваюсь к ним…
Терпеливое молчание Елены остановило мой горький, бурный поток слов.
– Я знаю, что у тебя, дорогая, есть что-то особенное, что ты хочешь рассказать мне о молочае.
Она улыбнулась. Я люблю когда Елена улыбается.
– Это можно использовать в медицине. Царь Юба назвал один сорт Эуфорбия, в честь своего врача. Эуфорбий использовал его в качестве слабительного. Но имей в виду, – язвительно добавила моя любимая, – я бы не позволила Эуфорбию заставить меня выпить и ложку этого!
– Отчего так?
– Доза должна быть очень тщательно отмерена. У молочая есть еще и другое применение.
– Расскажи мне, – пробормотал я, выжидательно глядя в ее блестящие прекрасные глаза.
– В провинции короля Юбы лучники используют его, чтоб смазать наконечники стрел. Молочай очень ядовит.
– Яд на стрелах обычно действует, вызывая быстрый паралич… так, и где, – спросил я, чтоб доставить ей удовольствие сообщив мне то, что я и так уже знал, – эта провинция, в которой когда-то служил твой дядя, и где правил этот склонный к наукам царь?
– Мавретания, – сказала Елена.
Я закрыл глаза.
Елена встала и обняла меня. Она заговорила тихим голосом, тем рассудительным тоном, какой она использовала, когда мы распутывали какой-нибудь сложный случай.
– Конечно, это ничего не доказывает. Адвокат может даже сказать, что это никакая не улика. Но если юрист со стороны обвинения зачитает вслух перед судом отрывок из трактата царя Юбы, а ты сообщишь суду о свитке, который видел в доме Северины, то тогда, если обвинитель будет достаточно убедителен, а ты постараешься выглядеть более в здравом уме, чем обычно – может получиться тот яркий штрих, который и поможет обвинить ее.
Я открыл глаза.
– У растений бывает млечный сок; я помню по прополке. Наверно, у него горький вкус. Возможно, она смешала его с медом, и Нов с жадностью его слопал…
Елена сильнее прижалась ко мне. Я стал пунцовым, но, как говорится, половину пути прошел навстречу сам.
– Ты понял, как она применила его? – спросила она.
– Мы оба это знали уже давно…
Елена кивнула.
– Она намазала отраву на то серебряное блюдо, которое использовали на ужине для тортов. Затем она покрыла его сверху своей белой глазурью, поэтому ни один из тортов не коснулся яда. Минний прислал семь штук, поэтому, когда Северина не смогла остаться на ужин, если бы все придерживались приличий – как мне позже сказали, так и было – то ее торт должен был бы остаться последним на блюде. Во время деловой части ужина, Гортензий Нов, очевидно, положил на него глаз. Когда присутствовавшие разошлись, он улизнул и бросился обратно в столовую. Он проглотил оставшуюся выпечку. Затем…
Я остановился.
– Затем, – Елена закончила за меня, – Гортензий Нов вылизал тарелку!
Это было бы уликой? Только косвенной. Но все доказательства в той или иной степени косвенные. Оборотистый адвокат не преминул бы указать на это.
Могло ли это иметь продолжение? Охотница за золотом добыла себе состояние. Она могла бы теперь измениться, ее мог бы заставить измениться Лузий. У меня были личные мотивы, чтоб привлечь к суду Северину, но у меня были еще более веские мотивы чтоб преследовать моего бывшего домовладельца Нова. Если бы Северина не убила Нова вместо меня, я сам стал бы убийцей сегодня вечером.
– Марк, ты выдохся. Лучше бы я ничего не говорила тебе. Ты сделал достаточно, теперь выброси это из головы!
– Нет клиента, – сказал я, – нет причины что-либо делать… Нет справедливости! – воскликнул я.
Правосудие, оно только для тех, кому оно по карману. Я же был бедняком. Я сам, при поддержке славной женщины, мог заработать денег, которых едва хватило бы, чтоб только дышать, не говоря уж о том, чтоб что-то накопить.
Справедливость никогда не оплачивает счета бедняков.
Я освободился из объятий Елены и вышел на балкон, глядя на темную тень Яникула. Вот место для жизни: хорошие дома с восхитительными садами на склонах и замечательными видами. Рядом с Тибром, но все таки отделенным рекой от от сутолоки города, с его шумом, грязью, суетой. Когда-нибудь, когда у меня будут деньги, Яникул мог бы оказаться местом, где стоило бы поискать дом.
Елена подошла сзади и уткнулась носом мне в спину.
– Сегодня я видел дом, который я куплю для тебя, если когда-нибудь мы станем богаты, – сказал я.
– На что он был похож?
– Стоит того, чтоб подождать…
Мы легли спать. Кровать тут была такой же ужасной, как я ее и помнил, но я чувствовал себя гораздо лучше, потому что в моих объятиях была Елена. Все еще были сентябрьские календы, еще только этим утром я обещал своей девушке уделить ей свое внимание. Я засыпал. Она будет ждать меня. Завтра утром мы проснемся вместе, чтоб ничем не заниматься, а только наслаждаться друг другом. Теперь, когда дело было закрыто, я мог оставаться в постели хоть целую неделю.
Я лежал так, все еще продолжая думать о том, что произошло сегодня. Когда Елена решила, что я уснул, она стала гладить мои волосы. Притворяясь спящим, я начал ласкать ее. Затем мы оба решили, что не стоит ждать завтрашнего утра.
Кейт Куинн
Хозяйка Рима
ЧАСТЬ 1
ЮЛИЯ
В храме Весты
Еще вчера Тит Флавий Домициан был всего лишь моим дядей, человеком грубым и странным. Сегодня он господин и бог, верховный правитель, император Рима. Подобно моему отцу и деду, правившими Римом до него, он считается владыкой всего мира. И мне страшно.
Но он добр ко мне. Он говорит, что скоро выдаст меня замуж за моего двоюродного брата Гая. Обещает устроить роскошные бои гладиаторов по этому случаю. Я не осмелилась сказать ему, что ненавижу эти омерзительные ристалища. Он желает мне добра. Говорит, что его венценосная супруга закажет для меня свадебный наряд. Как она божественно красива — в одеянии из зеленого шелка, украшенная с головы до ног изумрудами! Ходят слухи, что он безумно ее любит. Ходят слухи и о том, что она ненавидит его, но народ обожает всякие слухи.
Я смотрю на огонь, пока не начинаю различать в нем два языка пламени.
Мне страшно. Мне всегда страшно. Тени под моей постелью, тени в темноте, бесплотные голоса.
Сегодня на арене погибали тысячи людей, но мой дядя пощадил всего лишь одного человека. Он ненавидит остальных членов своей семьи, но всегда добр ко мне.
Чего же хочет мой дядя? Да разве кто-то знает это?
Веста, богиня домашнего очага, храни меня. Твоя защита нужна мне сейчас как никогда.
ПРОЛОГ
Тея
Рим, сентябрь 81 года н. э.
Одним решительным ударом ножа я вскрыла на запястье вены и с интересом наблюдала за тем, как капает кровь. Мои запястья покрыты шрамами, однако вид собственной крови до сих пор завораживает меня. Впрочем, этому неизменно сопутствует опасность. Не стала ли я после стольких лет слишком беспечной, не сделаю ли я слишком глубокий порез? Не настанет ли при этом день, когда я увижу, как моя молодая жизнь безвозвратно стечет в голубую глиняную чашу с изображением нимф? Эта мысль скрашивала существование, в котором было так мало радости.
Нет, на этот раз этому не суждено случиться. Первая капля крови постепенно превратилась в тоненькую струйку, и я, все так же держа на коленях голубую чашу, села и прислонилась спиной к мозаичной колонне атриума. Скоро перед моим взором возникнет восхитительная дымка, и окружающий мир примет приятные размытые очертания. Эта дымка сегодня мне особенно нужна. Потому что сегодня я буду сопровождать мою хозяйку, которая отправится в Колизей, чтобы посмотреть бои гладиаторов, устроенные в честь вступления на престол нового императора. А судя по тому, что я слышала о таких боях…
— Тея!
Это голос моей хозяйки. Я негромко выругалась на смеси греческого, еврейского и вульгарной латыни. Ни одного из этих языков она не знает.
В голубой чаше скопилась лужица моей крови. Я обвязала запястье полоской ткани и зубами затянула узел, после чего вылила содержимое чаши в фонтан в центре атриума. При этом я постаралась ни единой капелькой не запачкать мою коричневую шерстяную тунику. Глаза у моей хозяйки зоркие, как у орла, и она сразу же заметила бы кровавое пятнышко, а я, разумеется, не стала бы объяснять ей, что вынуждает меня раз или два в месяц брать голубую чашу с изображениями нимф и наполнять ее собственной кровью. Однако, честно говоря, я рассказываю своей хозяйке лишь очень немногое. И хотя я попала к ней в услужение не очень давно, я точно знаю, что мне лучше держать язык за зубами.
— Тея!
Я обернулась слишком быстро. Тотчас закружилась голова, к горлу подступила тошнота, и я была вынуждена прислониться спиной к колонне. Пожалуй, сегодня я перестаралась: крови вытекло слишком много. И это, как назло, в тот день, когда мне предстоит увидеть, как на арене встретят смерть тысячи животных и людей.
— Тея, хватит бездельничать!
Моя хозяйка высунула из-за двери спальни свою хорошенькую головку. Как хорошо, что я не вижу ее раздраженного лица, а лишь размытое пятно!
— Отец ждет, а ты еще должна одеть меня!
Я послушно отправилась вслед за ней; мои ноги как будто парили над полом. Пол был вымощен безвкусной плиткой со сценами гладиаторских боев, и я шагала по вооруженным трезубцами гладиаторам. Да, вкуса этим изображениям недоставало, но они вполне соответствовали случаю — отец моей хозяйки, Квинт Поллио, был одним из нескольких главных устроителей гладиаторских игр.
— Голубое платье, Тея. С жемчужными пряжками на плечах.
— Да, моя госпожа.
Моя хозяйка. Она же Лепида Поллия. Меня купили для нее несколько месяцев назад, когда ей исполнилось четырнадцать лет. Теперь, когда она уже почти стала женщиной, ей понадобилась рабыня, которая причесывала бы ее и носила над ней опахало. В качестве подарка для нее я не стоила жемчужного ожерелья, серебряных браслетов и полудюжины шелковых платьев, которые она получила от своего любящего отца. Ей определенно было приятно иметь личную тень.
— Ты опять порезалась за обедом, Тея, — она сразу заметила повязку на моем запястье. — О боги, до чего же ты неуклюжая! Смотри, не урони шкатулку с моими драгоценностями, иначе я буду вынуждена тебя наказать. Сегодня я хочу в волосы золотые ленты в греческом стиле. Да-да, сегодня я стану гречанкой… совсем как ты, Тея.
Ей было хорошо известно, что никакая я не гречанка, несмотря на имя, которое дал мне афинский торговец, мой самый первый хозяин.
— Да, моя госпожа, — пробормотала я на чистейшем греческом.
Черные брови Лепиды недовольно сложились домиком. Я была лучше образована, чем моя хозяйка, и это бесконечно ее раздражало. Я же считала своим долгом напомнить ей об этом по меньшей мере раз в неделю.
— Не задавайся, Тея. Ты всего лишь маленькая еврейка-рабыня. Не забывай об этом.
— Да, моя госпожа. — Я покорно заплела и заколола пряди ее темных волос. Лепида, не останавливаясь, болтала дальше.
— …отец говорит, что сегодня в боях будет участвовать Беллерафон. Да, я знаю, что он великий гладиатор, но его лицо! На него жутко смотреть! Он может вырядиться, как щеголь, но никакое благоуханное притирание в мире не сможет превратить его в Аполлона. Нет, конечно, он грациозен, как пантера, даже когда втыкает меч прямо в горло противнику… Ой, ты уколола меня!
— Прости меня, моя госпожа.
— Ты сегодня определенно вся зеленая. Знаешь, нет никакой причины так болезненно переживать из-за гладиаторских поединков. И гладиаторы, и рабы, и пленники — все они все равно когда-нибудь умрут. Но, по крайней мере, при этом они хотя бы доставят нам удовольствие.
— Возможно, всему виной моя еврейская кровь, — предположила я. — Мы не видим в смерти ничего забавного.
— Может быть, и так, — согласилась Лепида и принялась разглядывать свои покрытые лаком ногти. — По меньшей мере, сегодня поединки будут увлекательными. Если бы старый император не заболел и не умер в самый разгар сезона, нам еще долгие месяцы было бы не видать никаких развлечений.
— Как неосмотрительно с его стороны, — согласилась я.
— Новый император хотя бы любит гладиаторские бои. Император Домициан. Тит Флавий Домициан… Интересно, каким он будет? Отец постоянно беспокоится, старается ему угодить, устраивает ради него лучшие поединки. Жемчужные сережки, Тея.
— Да, моя госпожа.
— И еще мускусное притирание. Вот сюда. — Лепида принялась разглядывать себя в зеркале. Она была совсем юная, — всего четырнадцать лет, как и мне, — слишком юная для роскошного шелкового платья, жемчугов и румян. Но у нее не было матери, а Квинт Поллио, такой хитрый и проницательный в общении с работорговцами и ланистами, был податливой глиной в руках единственной дочери. Кроме того, было видно, что Лепида откровенно выставляет себя напоказ. Ее красота заключалась не в голубых глазах и не в длинных черных шелковистых кудрях, которыми она так гордилась. Скорее, красота моей хозяйки заключалась в гордой, олимпийской осанке, благодаря которой Лепида Поллия намеревалась обзавестись достойным мужем, патрицием, брак с которым наконец поднимет семейство Поллиев до самых главных высот римского общества.
Обмахиваясь веером из павлиньих перьев, она поманила меня, веля подойти ближе. В зеркале позади нее я была темно-коричневой тенью: худой и тощей там, где она была пышнотелой, загорелой там, где она была белокожей, неинтересной там, где она — привлекательной. Я служила ей на редкость выигрышным фоном.
— Самым выигрышным, — заявила она, как будто прочитав мои мысли. — Но тебе действительно нужно новое платье, Тея. Ты похожа на высокое высохшее дерево. Пойдем, отец ждет меня.
Отец действительно ждал ее, и терпение его, похоже, было на исходе. Однако его нахмуренное лицо тотчас смягчилось, стоило Лепиде улыбнуться. На щеках ее показались милые ямочки, и она по-детски несколько раз покружилась на месте, чтобы отец оценил ее наряд.
— Ты сегодня очаровательна, как никогда. Обязательно улыбнись Эмилию Гракху. Он из очень знатной семьи, и ему нравятся красивые девушки.
Я могла бы сказать ему, что Эмилия Гракха интересуют вовсе не красивые девушки, но Квинт Поллио не спросил меня. Может быть, спросить все-таки следовало. Рабы слышат все, от них невозможно ничего утаить.
Чтобы занять хорошие места в Колизее, многие римляне вынуждены вставать ни свет ни заря. Места для семьи Поллиев всегда сохранялись в неприкосновенности, и поэтому мы прибыли с опозданием, поскольку шли неспеша, раскланиваясь со знатными семействами города. Лепида одарила улыбкой Эмилия Гракха — он стоял на углу улицы в компании патрициев в тогах с пурпурной каймой. Ее отец обменялся последними сплетнями с каждым патрицием, удостоившим его дежурной улыбки.
— …я слышал, что император Домициан замыслил в следующем сезоне поход в земли Германии. Желает добиться военных успехов там, где погиб его брат. В свое время император Тит на голову разбил этих варваров. Посмотрим, удастся ли это Домициану…
— Квинт Поллио! — услышала я голос какого-то патриция. — Воистину один лишь запах его благовоний…
— …но он хорошо делает свое дело. И вообще, что дурного в том, чтобы время от времени расточать улыбки, если это избавляет от необходимости тяжко трудиться?
И Квинт Поллио продолжил отвешивать поклоны и притворно улыбаться. Было видно, что он продал бы тридцать лет своей жизни за честь носить имя Юлиев, Гракхов или Сульпициев. Так же как и моя хозяйка, его дочь.
Я позволила себе позабавиться зрелищем торговых рядов, заполонивших улицы. Памятные вещицы погибших гладиаторов, кровь того или иного великого бойца, сохранившаяся в песке, деревянные медальоны, украшенные профилем знаменитого Беллерафона. Последние продавались не очень хорошо, так как даже самые одаренные художники были бессильны придать чертам Беллерафона хотя бы малую толику привлекательности, в отличие от портретов красивого фракийского бойца, искусно владевшего трезубцем, — эти пользовались у покупателей гораздо большим спросом.
— Какой он, однако красавец! — Краем глаза я заметила стайку девушек, восхищенно разглядывавших медальон. — Каждую ночь, ложась спать, я кладу его изображение под подушку,…
Я улыбнулась. Мы, еврейские девушки, тоже любим наших воинов… но мы любим их живыми, и нам нравится, если они живут долго. Мы любим тех, кто утром мечом сносит голову легионеру, а вечером возвращается домой, чтобы сесть на главное место за столом во время Шаббата. Лишь римские девушки грезят над грубыми портретами гладиаторов, с которыми они никогда не встретятся, потому что предметы из тайных вздохов погибнут прежде, чем закончится год. С другой стороны, возможно, даже лучше мечтать о том, кому суждено прожить недолго. Он никогда не состарится, никогда не утратит своей красоты, а если наскучит, то скоро навеки исчезнет из вашей жизни.
Возле Колизея толпа запрудила собой всю улицу. Мне не раз доводилось бывать в тени этого величественного сооружения, когда я, будучи у Лепиды на посылках, выполняла распоряжения своей хозяйки, однако внутри я оказалась впервые и изо всех сил пыталась не пялить глаза. Колизей так велик, в нем такое огромное количество мраморных арок, статуй, мест для зрителей! Говорят, его трибуны способны вместить пятьдесят тысяч человек! Его арена, строительство которой начал еще император Веспасиан, а завершил его сын, покойный император Тит, достойна богов. Сегодня она станет местом кровопролитных поединков в честь младшего брата Тита, Домициана, который недавно удостоился императорского венца.
Слишком много мрамора для обыкновенной бойни. Лично я предпочла бы театр, чтобы слушать в нем музыку, а не видеть, как умирают люди. Я тотчас представила себя поющей для такой огромной толпы, как та, что собралась здесь сейчас, — настоящей публики, а не для лягушек в зимнем саду, которые слушали мои рулады, пока я отскребала от грязи плитки в фонтане….
— Хорошенько работай опахалом, Тея, — раздался голос Лепиды. Моя хозяйка устроилась на бархатных подушках и, подобно императрице, величественно махала рукой толпе, которая кисло приветствовала ее отца. Во время гладиаторских боев мужчины и женщины обычно сидят раздельно, но Квинт Поллио, будучи устроителем этих зрелищ, мог сидеть, если желал, вместе с дочерью.
— Живее, Тея. О боги, как здесь душно. Почему никак не уляжется эта жуткая жара? Ведь уже давно пришла пора осени.
Я послушно принялась покачивать опахалом. Бои будут продолжаться весь день, из чего следовало, что мне еще добрых шесть часов придется сидеть, не зная ни минуты отдыха, и работать опахалом. Страшно представить, как будут завтра болеть мои бедные руки!
Протрубили фанфары. От их оглушительного рева мое сердце на миг сбилось с ритма. Новый император вошел в императорскую ложу и, подняв руку, поприветствовал толпу. Я даже привстала на цыпочках, пытаясь лучше разглядеть его; Домициан, третий император из династии Флавиев, — высокий, с румяными щеками, в яркой пурпурной тоге и золотым венком на голове.
— Отец, — прошептала Лепида, потянув родителя за рукав. — Это правда, что наш новый император — человек с тайными пороками? Вчера в банях я слышала, что…
Я могла бы сказать ей, что, по слухам, все императоры имели тайные пороки. Император Тиберий и его юные мальчики-рабы, император Калигула, спавший со своими сестрами, император Тит и его любовницы — какой смысл иметь императора, если о нем нельзя состряпать какую-нибудь пикантную сплетню?
Новая императрица, супруга Домициана, не годилась для слухов и сплетен. Высокая, статная, красивая. Когда она возникла рядом со своим венценосным мужем и взмахнула рукой, толпа взревела от восторга. Сплетники разочарованно вздыхали, — мол, новая императрица образцовая жена и никаких тайных пороков за ней не водится. И все же ее стола из зеленого шелка и изумруды вызвали всплеск женского восхищения. Готова поспорить, что зеленый станет главным цветом в этом сезоне.
— Отец, — Лепида в очередной раз дернула Квинта Поллио за рукав, — ты же знаешь, что мне всегда нравился зеленый цвет. Изумрудное ожерелье, такое как у императрицы…
За Домицианом потянулись и его многочисленные августейшие родственники. В их числе и его племянница Юлия, она же дочь покойного императора Тита, о которой говорили, будто она пожелала стать жрицей в храме Весты, но получила отказ дяди. Кроме нее мое внимание никто больше не привлек. Скажу честно, я была разочарована. Мне впервые представилась возможность лицезреть императорское семейство, и оказалось, что внешне Флавии ничем не отличаются от любой семьи избалованных роскошью и пресыщенных патрициев.
Император шагнул вперед и, вскинув руку, громогласно объявил о начале боев. Какими бы тайными пороками он ни обладал, голос у него был прекрасный — звучный, раскатистый.
Другие рабы неоднократно пытались объяснить мне суть гладиаторских боев, поражаясь моему невежеству по этой части. Утренние праздники обычно открывались поединками диких зверей. Первой сегодня была назначена схватка между слоном и носорогом. Вскоре носорог выбил рогом глаз слону. Я бы счастливо прожила жизнь, не зная, как кричит раненый слон.
— Превосходно! — вскричал Поллио и бросил на арену несколько монет. Лепида потянулась за блюдом со сваренными в меду финиками. Я сосредоточила внимание на опахале.
Следующими на арену вышли бык и медведь. За ним настала очередь льва и леопарда. Это было что-то вроде острой закуски, призванной возбудить аппетит публики. Медведь был апатичен, и трем укротителям с острыми шестами пришлось до крови исколоть ему бока, прежде чем он набросился на быка. Что касается льва и леопарда, то они налетели друга на друга сразу же, едва их освободили от цепей. Толпа восторженно взревела, вскочила с мест и, ахнув, села обратно. После этого началось новое пышное зрелище: по арене бегали прирученные гепарды в серебряной упряжи, их сменяли белые быки, на спинах которых сидели маленькие золотоволосые мальчики. Украшенные драгоценными камнями слоны делали танцевальные движения под нежную музыку нубийских рабов-флейтистов…
— Отец, можно мне получить нубийского раба? — спросила Лепида, вцепившись в руку отца. — Двух, для ровного счета. Чтобы они носили мои покупки, когда я буду ходить на рынок…
Дрессированные животные демонстрировали комические номера. Ручной тигр был выпущен на арену вслед за десятком проворных зайцев, которых полосатый хищник отловил одного за другим и целыми и невредимыми передал дрессировщику. Действительно, занятное зрелище. Лично мне оно понравилось, однако трибуны встретили его недовольным шиканьем. Завсегдатаи приходили в Колизей не ради невинных забав, а ради крови.
— Император, — монотонно заговорил Квинт Поллио, — особо почитает богиню Минерву. В своем новом дворце он приказал возвести святилище в ее честь. Возможно, нам придется совершить несколько крупных публичных жертвоприношений…
Ручной тигр и его дрессировщик покинули арену, и на их месте появился белый олень с сотней длинношеих страусов, которых один за другим принялись поражать сидевшие на верхнем ярусе лучники. Увидев в соседней ложе несколько знакомых, Лепида проворковала слова приветствия, а в это время на арене продолжала литься кровь.
Один эпизод травли животных сменялся другим. Копьеносцы против львов, против буйволов, против взбешенных быков. Ничего не понимающие буйволы громко ревели, быки, обезумев, налетали на острия копий, которые вспарывали им грудную клетку, а вот львы, рыча, гордо вышагивали и забирали с собой копьеносцев, прежде чем те успевали затравить их до смерти. Какая великолепная забава, думала я, усердно работая опахалом.
— Гладиаторы! — возбужденно воскликнула Лепида, оттолкнув блюдо с финиками, и выпрямилась. — Прекрасные образцы, отец.
— Императору — только лучшее, — самодовольно ответил Квинт Поллио, нежно коснувшись подбородка дочери. — А также для моей маленькой дочурки, которая обожает поединки! Император пожелал сегодня видеть настоящее сражение, а не обычные примитивные схватки. Нечто выдающееся, особенное, прежде чем настанет время полуденных казней…
Из ворот цепочкой вышли гладиаторы в пурпурных плащах и под радостные крики зрителей выстроились кругом на арене. Некоторые из них вышагивали гордо, другие шли, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Красивый боец-фракиец, вооруженный трезубцем, посылал толпе воздушные поцелуи. Обожавшие его женщины осыпали своего любимца розами. Пятьдесят гладиаторов, разбитых на пары для поединков, каждый их которых закончится смертью одного из них. Двадцать пять человек величаво пройдут под Вратами Жизни. Двадцать пять мертвых тел, зацепив их железными крюками, протащат через Врата Смерти.
— Здравствуй, Цезарь! — в унисон выкрикнули они, повернувшись к ложе императора. — Идущие на смерть, приветствуют тебя!
Лязг заточенного оружия. Звон металлических доспехов. Хруст подошв по песку. Сражение начнется с потешных боев на деревянных мечах. Затем император опустит руку.
Со звоном ударились клинки. Зрители на трибунах подались вперед, криками ободряя фаворитов и осыпая насмешками неуклюжих, неповоротливых бойцов. Шум, гам, взмахи рук, ставки на победителей поединка.
Не смотри, говорила я себе, водя опахалом из стороны в сторону. Не смотри.
— Тея! — наигранно ласково произнесла Лепида. — Что ты скажешь о том германце?
Я посмотрела туда, куда был направлен ее унизанный кольцами пальчик.
— Несчастный, — коротко ответила я, когда трезубец соперника пронзил германца, и тот, обливаясь кровью, рухнул на песок. Сидевший в соседней ложе сенатор раздраженно швырнул на арену пригоршню монет.
Арена представляла собой бурное море из бойцов-гладиаторов. Песок покрылся пятнами крови.
— Вон тот галл просит пощады! — воскликнул Квинт Поллио и отпил вина из чаши. — Скверное дело, он уронил щит. Jugula!
Jugula! «Убей его!». Есть и другое выражение — Mitte! — «пощади!», но его не часто услышишь в Колизее. Как мне стало известно, требуется недюжинное мужество, чтобы заставить Колизей проявить милосердие. Зрителям хочется героизма, хочется крови, хочется смерти. Смерти, но не милосердия.
Все закончилось очень быстро. Победители прошли перед ложей императора. Верховный властитель Рима бросал монеты тем, кто хорошо сражался. Тела проигравших лежали на песке, ожидая той минуты, когда служители цирка крючьями уволокут их прочь с арены. Пара раненых гладиаторов со стонами и криками корчились в предсмертной агонии, пытаясь засунуть кишки обратно в распоротые животы. Смеющиеся мальчишки-трибуны и хихикающие девушки делали ставки, пытаясь угадать, сколько времени еще протянут эти несчастные.
Я продолжала размахивать опахалом. Мои руки уже начинали болеть.
— Фрукты, господин? — К ложе устроителя игр приблизился раб с подносом, на котором горкой возвышались фиги и гроздья винограда. Лепида жестом потребовала еще вина. Я обвела взглядом трибуны: патриции о чем-то оживленно переговаривались в своих ложах. На верхних галереях плебеи энергично обмахивались веерами и звали разносчиков, торговавших хлебом и пивом. Император возлежал в своей ложе, опершись на локоть, и играл с преторианцами в кости. Утро стремительно переходило в день. Для кого-то оно, напротив, тянулось мучительно медленно.
Во время полуденного перерыва на арене занялись делами. Тела мертвых гладиаторов увезли на повозках, пятна крови присыпали свежим песком, стражники вывели шеренгу закованных в цепи людей. Рабы, преступники, пленники — все они были приговорены к смертной казни.
— Отец, можно мне еще вина? Ведь это особый случай!
Внизу, на арене, человек, стоявший во главе колонны закованных в железо пленников, удивленно моргнул, когда ему в руки сунули меч. Посмотрев непонимающим взглядом на оружие, он отшатнулся, но стражник подтолкнул пленника вперед. Тот устало повернулся и ударил мечом стоявшего позади него. Лезвие было тупым, и для того, чтобы нанести удар, требовались немалые усилия. Из-за гула голосов на трибунах я почти не слышала крика несчастного. Похоже, никто вокруг не обращал никакого внимания на то, что происходило в эти минуты на арене.
Стражники бесцеремонно разоружили первого пленника и передали меч следующему в колонне. Им оказалась женщина. Она убила мужчину, грубо вспоров ему горло. Ее разоружил и убил следующий раб, который тщетно пытался с первого раза вонзить меч ей в сердце. Потребовался десяток ударов зазубренным лезвием.
Я посмотрела на колонну закованных в цепи рабов. Примерно полтора десятка человек. Старые и молодые, мужчины и женщины, неотличимые друг от друга. Шаркающие ноги, согбенные спины. Лишь один, огромный мужчина, стоял, выпрямившись во весь рост, гордо расправив плечи, и растерянно разглядывал пространство арены. Даже с моего места мне были хорошо видны шрамы от ударов кнутом на его голой спине.
— Отец, когда же начнется поединок Беллерафона? Мне ужасно хочется увидеть, как он сразится с этим фракийцем…
Стражники вручили тупой меч человеку с исполосованной шрамами спиной. Он на мгновение поднял его закованными в цепи руками и крутанул над головой. Ему не пришлось долго махать мечом. Стоявшего перед ним пленника он убил с первого же удара. Я испуганно моргнула.
Стражник потянулся за мечом, но покрытый шрамами великан сделал шаг назад и вытянул перед собой меч. Стражник сделал нетерпеливый жест, требуя, чтобы раб вернул клинок, но тут начался настоящий ад.
— Отдай! — потребовал стражник.
Он стоял, широко расставив ноги на горячем песке и тяжело дыша.
Солнце нещадно жгло его обнаженные плечи, огрубевшей кожей босых ступней он, казалось, ощущал каждую отдельную песчинку арены. Пот разъедал запястья и щиколотки под ржавыми обручами кандалов. Его руки как будто намертво приросли к рукоятке меча.
— Отдай меч! — приказал стражник. — Ты задерживаешь зрелище!
Он посмотрел на стражника тупым непонимающим взглядом.
— Отдай… мне… меч! — медленно повторил стражник и протянул руку. Приговоренный к смерти тут же отсек ее одним ударом. Стражник вскрикнул. Над освещенной солнцем ареной брызнул фонтан крови. Второй стражник бросился на помощь товарищу.
Он вот уже десять лет не держал в руках меч. Слишком долго, чтобы помнить, как им действовать. Но он вспомнил. Распаленное гневом, воспоминание это вернулось быстро — приятная тяжесть рукоятки, ощущение стали, врезающейся в человеческую плоть, застилающая взор черная ярость незримого демона, нашептывающего на ухо: «Убей их. Убей их всех!»
Второго стражника он встретил выпадом, исполненным дикой, необузданной радости. С глухим лязгом сошлись клинки. Чувствуя, как напрягся каждый его мускул, как, подобно доброму боевому луку, выгнулось тело, он ринулся на врага. Он увидел страх в глазах противника и ощутил на другом конце клинка собственную несокрушимую силу. Эти чванливые римляне в шлемах с плюмажем из крашеного конского волоса и сияющих доспехах даже не подозревали, что раб может быть настолько силен. Двумя новыми ударами он превратил стражника в груду кровавого мяса на песке арены.
К нему тотчас подскочили новые римляне в шлемах с плюмажами. Еще один стражник, корчась от нестерпимой боли в разрубленных сухожилиях, с воплем полетел на окровавленный песок.
Раб вошел во вкус. Еще один выпад, еще один удар — на этот раз в новый бронзовый нагрудник. Клинок аккуратно вонзился прямо в пройму. Еще один щит полетел на землю, еще один пронзительный крик прорезал пространство Колизея.
«Мало, — прошептал голос демона. — Мало».
В следующий миг он почувствовал далекую боль в спине — это в нее вонзилась сталь меча. Он молниеносно развернулся и, улыбнувшись, нанес мощный ответный удар. Самая грубая кожа у раба на спине, однако они этого не знали, эти люди, чьи виноградники обрабатывали пленные воины из Галлии и чьи постели согревали угрюмые рабыни из Фракии. Они ничего не знали. Он рассек стражника мечом — капли крови противника забрызгали его всклокоченную бороду.
Мало.
Внезапно что-то больно ударило его по затылку; небо тотчас дернулось в сторону и из голубого сделалось белым. Он сделал неуклюжий шаг вперед, обернулся, поднял клинок и почувствовал, как вся рука неожиданно онемела. Это стражник с силой ударил его железным щитом по локтю. Отстраненным взглядом он увидел, как меч выскользнул из его пальцев, а сам он, получив удар рукояткой меча по голове, рухнул, упал на четвереньки. Едкий пот заливал глаза. В следующий миг его пнули в бок чьи-то обутые в железные башмаки ноги. Он глубоко вздохнул, и черный демон в его голове набросился на самого себя подобно змее, пожирающей собственный хвост. Когда в руках у него меч, все так легко и просто.
Мало. Много не бывает никогда.
Хруст костей утонул в громком реве толпы. Оглушительный, неясного происхождения рев напоминал рокот бушующих морских волн. Он впервые посмотрел вперед и увидел их: тысячи зрителей, столпившихся на трибунах. Сенаторов в тогах с пурпурной каймой. Матрон в разноцветных шелковых столах. Жрецов в белых одеждах. Как их много… Неужели мир вмещает так много людей? Он заметил на передней трибуне лицо жующего мальчишки в красивой тоге, мальчишка что-то кричал с набитым ртом и хлопал в ладоши.
Все они рукоплескали. Огромную арену сотрясали оглушительные рукоплескания.
Затухающим взором он разглядел балкон императорской ложи, а в ней светловолосую девушку с напряженным белым лицом, одну из племянниц императора… Разглядеть самого властителя Рима, румянощекого, в пурпурном плаще, его изумленный взгляд… Разглядеть, как небрежно поднялась вверх императорская рука.
Рука, вытянутая в жесте милосердия.
— Почему? — подумал он. — Почему?
В следующее мгновение мир куда-то исчез.
Лепида продолжала болтать, пока я раздевала ее, готовя ко сну, разумеется, не о гладиаторских боях. Все эти истории о крови и смерти давно уже приелись. Зато отец моей хозяйки упомянул некого сенатора, который мог бы стать ее мужем. Теперь все разговоры были только об этом.
— Сенатор Марк Норбан, именно так его зовут, он ужасно стар… — я почти ее не слушала и едва разобрала хотя бы единое слово.
Раб с покрытой шрамами спиной. Кто он? Бритт? Галл? Он сражался настолько яростно, размахивая мечом, словно Голиаф, что не обращал внимания на наносимые ему раны. Он продолжал рычать и отбиваться, даже когда его сбили с ног, и явно был безразличен к собственной жизни, успев при этом зарубить нескольких стражников.
— Тея, ты смотри, поосторожнее с этими жемчугами, они стоят трех таких бездельниц, как ты.
Я видела сотни рабов, подобных ему, прислуживала бок о бок с ними и избегала их. Они слишком много пили, бранились со своими хозяевами, за что их самих часто и нещадно пороли. Они старались по возможности ничего не делать. Их следовало обходить стороной, особенно в дальних углах дома, когда никто не мог услышать, как ты сопротивляешься и зовешь на помощь. Одним словом, это были отъявленные негодяи.
Так почему же я неожиданно расплакалась, когда этого пленника за ноги выволокли с арены? Я не плакала с тех пор, как меня продали Лепиде. Я не плакала даже тогда, когда прямо на моих глазах убивали гладиаторов и бедных затравленных животных. Почему же мне стало жалко этого верзилу?
Я ведь даже не знала, как его зовут.
— Я не нахожу, что император Домициан хорош собой как мужчина, но ведь с расстояния такое трудно разглядеть, — заметив обломанный ноготь, Лепида нахмурилась. — А как бы мне хотелось, чтобы у нас был красивый и сильный император! Надоели все эти вялые старики.
Император. Зачем Домициану нужно было даровать жизнь какому-то недобитому рабу? Толпа требовала смерти и новых зрелищ. Зачем Домициану понадобилось спасать его?
— Ступай прочь, Тея. Ты мне больше не нужна. Сегодня вечером ты невообразимо глупа.
— Как пожелаете, — ответила я на греческом, задувая светильник. — Ты злоязычная паршивая мегера.
Я направилась через весь зал к себе, то и дело прислоняясь к колоннам, чтобы не потерять равновесия, и пытаясь не думать о голубой чаше. Не стоит выпускать кровь дважды за день, как бы мне этого ни хотелось.
— Это ты, Тея! Как раз ты мне и нужна.
Подернутым дымкой взором я узрела сразу двух Квинтов Поллио, и оба поманили меня к себе в спальню на серебристое спальное ложе. Я закрыла глаза и постаралась подавить зевок, надеясь в душе, что не усну посреди его жалкого пыхтения. От рабынь не ожидают особого воодушевления, когда они удовлетворяют плотские желания хозяина, однако считается, что они должны быть жизнерадостными. Пока Квинт Поллио копошился на мне, я как бы одобрительно похлопала его по плечу. Его губы довольно растянулись, обнажая зубы, и он чем-то напомнил мне мула, занятого… впрочем, можно назвать это занятие как угодно.
— Ты славная девушка, Тея. — Он вяло похлопал меня по боку. — Беги к себе.
Я одернула тунику и выскользнула за дверь. Судя по всему, завтра он сунет мне медную монету.
Глава 1
Апрель 82 года н. э.
Когда усталые бойцы гуськом прошествовали в ворота школы гладиаторов на Марсовой улице, атмосфера была праздничной и торжественно мужественной. Накануне утром двадцать бойцов вышли из этих ворот, чтобы принять участие в главном бою сегодняшних игр, устроенных в честь богини Цереры. Лишь четырнадцать человек вернулись с арены живыми. Что в целом очень даже неплохо. И вот теперь победители, с важным видом прошествовав через узкий, освещенный факелами зал, сваливали в корзины доспехи и шлемы.
— …зацепили крюком этого грека, причем, вонзили крюк прямо в брюхо! Славная работенка…
— Видел, как этот ублюдок Лапиций получил удар в спину от того галла? Больше не будет задирать нос перед нами…
— …не повезло бедняге Тезию! Как они его поволокли по песку…
Арий швырнул свой украшенный плюмажем шлем в корзину, оставив без внимания радостную улыбку раба, поздравившего его с победой. Оружие уже, разумеется, собрали. Точнее, вырвали из рук гладиаторов, как только сражение закончилось.
— Это у тебя первый бой? — болтливый фракиец бросил свой шлем в корзину поверх шлема Ария. — У меня тоже. Неплохо, верно?
Арий наклонился, чтобы развязать шнурки наколенников.
— Сегодня ты отлично справился с этим африканцем. Мне попался один из костлявых восточных греков. Я с ним расправился в два счета. Может быть, в следующий раз мне достанется Беллерафон, и тогда мне повезет еще больше.
Арий расстегнул защитный рукав-кольчугу и стряхнул его в корзину. Остальные гладиаторы уже устремились в длинный зал, где им предлагалась еда, и, проходя мимо грубо сколоченных столов, хватали с них кувшины с вином.
— Смотрю, ты не слишком-то разговорчивый, — произнес фракиец, толкнув Ария локтем в бок. — Откуда ты родом? Меня в прошлом году привезли из Греции…
— Заткнись, — ответил Арий на латыни.
— Что ты сказал?
Оттолкнув надоедливого фракийца, он скользнул в зал. Не обращая внимания на столы, уставленные блюдами с хлебом и мясом, он, наклонившись, схватил первый попавшийся кувшин с вином и вышел в соседнее крошечное и скудно освещенное помещение.
— Не обращай на него внимания, — донеслись до него слова одного из гладиаторов, обращенные к фракийцу. — Он угрюмый ублюдок.
Комната Ария в гладиаторских казармах представляла собой крошечную каморку с голыми стенами. Охапка соломы и свечной огарок — больше в ней ничего не было. Арий опустился на пол и, опершись затылком о каменную стену, несколькими жадными глотками наполовину осушил содержимое кувшина. Скверное вино оставило во рту кислый привкус. Пусть. Римское вино быстро ударяло в голову, впрочем, именно этого ему и хотелось — поскорее опьянеть и позабыть обо всем на свете.
— Тук-тук! — раздался за дверью знакомый голос. — Надеюсь, ты еще не спишь, мой милый мальчик?
— Ступай прочь, Галлий!
— Тук-тук. Разве так следует обходиться со своим ланистой? И тем более с другом? — В каморку к Арию, благоухая маслом магнолии, которым были напомажены его завитые волосы, вошел завернутый в тогу Галлий — огромный, с гладкой розовой кожей, с золотыми перстнями на толстых пальцах. Сопровождал его маленький мальчик-раб в шелковых одеждах. Галлий был хозяином школы гладиаторов на Марсовой улице.
Арий ответил на его появление коротким как плевок ругательством. Галлий рассмеялся.
— Ну-ну, умерь свое недовольство, дружок. Я пришел, чтобы поздравить тебя. Какой превосходный дебют! Когда ты снес голову этому африканцу… Это было потрясающее зрелище, скажу я тебе! Признаюсь честно, я был слегка ошарашен. Такая ярость, такая свирепость со стороны того, кто не более чем часом ранее поклялся, что ни за что не выйдет сражаться…
Арий сделал из кувшина еще один глубокий глоток.
— Как все-таки приятно оказаться правым. Когда я в первый раз увидел тебя, то сразу понял: у этого парня есть все задатки настоящего бойца. Хотя ты слегка староват для арены. Кстати, сколько тебе? Двадцать пять, тридцать? Ты уже далеко не юноша, но в тебе определенно есть нечто такое, без чего гладиатором не стать… — произнес Галлий и взмахнул серебряным футлярчиком с ароматическим шариком.
Арий исподлобья посмотрел на своего нового хозяина.
— На следующих состязаниях ты будешь участвовать в новом поединке. Это будет нечто еще более грандиозное, если, конечно, я сумею убедить Квинта Поллио. Может быть, парный поединок. И на этот раз, — ланиста смерил его пристальным взглядом, — мне не придется беспокоиться о том, что ты в последнюю минуту откажешься выйти на арену.
Арий поставил кувшин возле стены.
— Что такое рудий? — спросил он, не сводя взгляда с кувшина, и сам удивился собственному вопросу.
— Рудий? — удивился Галлий. — Мой мальчик, где ты слышал это слово?
Арий пожал плечами. Утром, в темноте у стен Колизея, все как один возбужденные до предела, гладиаторы ожидали начала поединка, и каждый время от времени прикасался к лезвию меча, проверяя его остроту. «Вот рудий для всех нас», — пробормотал один из них — тот, что умер через пять минут, встретив смерть от трезубца соперника. Арий так и не успел спросить у него, что значит это слово.
— Рудий — это гладиаторский миф, — беспечно ответил Галлий. — Деревянный меч, который император вручает гладиатору, тем самым даруя ему свободу. Полагаю, что такое пару раз случалось со знаменитыми бойцами, но с тобой такое вряд ли произойдет. Один поединок, даже не сольный. Тебе, мой дорогой, придется пройти немалый путь, прежде чем ты сможешь назвать себя удачливым бойцом, не говоря о том, чтобы считаться знаменитостью.
Арий пожал плечами.
— Ты славный мальчик, — произнес Галлий и, буравя Ария черными, как зернышки перца, глазами, ласково погладил его по руке. Но уже в следующий миг пухлые пальцы ланисты больно ущипнули ему руку.
Не проронив ни слова, Арий потянулся за свечой и с невозмутимым видом капнул горячий воск на упитанную ладонь с аккуратно обработанными ногтями.
Галлий резко отдернул обожженную кисть.
— Нам определенно что-то нужно делать с твоими манерами, — произнес, театрально вздохнув, ланиста. — Ну тогда спокойной ночи, мой милый мальчик.
Как только дверь за Галлием захлопнулась, Арий поднял кувшин и осушил его до последней капли. Затем выпустил кувшин из рук и снова откинулся назад. Каморка прекратила вращаться. Мало вина, жаль. Арий закрыл глаза.
Нет, он не собирался сражаться до победного конца. Стоя в тускло освещенном проходе под ареной, он имел в виду именно то, что сказал Галлию. Откуда-то сверху до его слуха доносился рев толпы, крики раненых людей и рычание умирающих животных. Но меч уже был вложен в его руку, и ему вместе с другими предстояло участвовать в групповом бою, который был призван разжечь аппетиты толпы перед сольными поединками. Он видел африканца, с которым ему предстояло сразиться, и… Черный демон в его сознании развернулся из пожирающих самое себя колец и с радостным клекотом устремился на прямую и понятную тропу кровопролития.
Затем он внезапно оказался в центре арены, жмурясь от яркого солнечного света, чувствуя на лице кровь другого человека. Он стоял, а вокруг него раздавались одобрительные крики толпы, и от них было некуда деться, ибо они назойливо преследовали его, подобно рою пчел. Одна лишь мысль об этих криках вызывала холодный пот. Арена. Эта проклятая арена. Она всякий раз мешала его удаче. Даже убив стражников, он не смог навлечь смерть на себя самого.
После того кровавого побоища, семь месяцев назад, он проснулся, лежа в кровати. Нет, не в мягкой постели, ибо Галлий не расточал такие милости еле живым, израненным рабам. Выйдя на свинцовых ногах на солнечный свет, он впервые в жизни услышал голос Галлия — высокий, слегка гнусавый, полный зловония римских трущоб.
— Ты слышишь меня, мой мальчик? Кивни, если понял меня. Отлично. Как тебя зовут?
Он с трудом прохрипел свое имя.
— Это невероятно, — хихикнул Галлий. — Ты ведь бритт, верно? У вас, варваров, жуткие, непроизносимые имена. Нет, так дело не пойдет. Мы будем называть тебя Арий. Звучит почти как Арес, имя бога войны. Хорошо запоминается, с таким именем что-нибудь да получится. Я купил тебя, между прочим, заплатив приличную сумму. За тебя, буяна, и притом полумертвого. И кто ты такой? Один из десятка скованных одной цепью рабов, что гнули спины на ремонте Колизея. Тебе и по сей день тянуть бы эту лямку, если бы ты не задушил стражника его же собственным кнутом. Скажу честно, это было весьма неразумно с твоей стороны, мой мальчик. О чем только ты тогда думал? — Галлий щелкнул пальцами; этот жест был адресован мальчику рабу, державшему поднос со сладостями. — Кстати, — Галлий принялся шумно жевать, — ты можешь сказать мне, какими ветрами тебя занесло в Рим, в Колизей? Как ты оказался в одной связке с закованными в цепи рабами?
— Соляные шахты, — выдавил из себя Арий, еле шевеля распухшими губами. — В Триновантии. Потом в Галлии.
— О боги! Сколько же времени ты пробыл в этом захолустье?
Арий пожал плечами. Двенадцать лет? Он точно не помнил.
— Долгое время, это ясно. Теперь мне понятно, откуда у тебя такая сила в руках и груди. — Пухлый палец Галлия скользнул по плечам Ария. — Несколько лет подряд таскать по горам вверх и вниз глыбы соли… Да, из шахт выходят прекрасные мужчины. — Последнее движение пальцем. — Однако в шахтах не научишься владеть мечом. Признайся, где же ты обучился этому искусству?
Арий отвернулся к стене.
— Ладно, это неважно. Теперь слушай. Отныне ты будешь сражаться только для меня и только тогда и там, как я скажу. Я — ланиста. Знаешь, что это? Полагаю, что ты не особенно силен в латыни. Ланиста, мой мальчик, это наставник гладиаторов. Ты будешь гладиатором. А у гладиаторов, скажу я тебе, хорошая жизнь — женщины, деньги, слава. Ты произнесешь клятву верности мне, и, как только заживут твои раны, мы приступим к твоему обучению. Повторяй за мной: согласен быть сожженным огнем, закованным в цепи, избитым палками и готов умереть от меча. Такова клятва гладиаторов, мой мальчик.
Арий хрипло сказал Галлию, что тот может делать со своей клятвой, и снова погрузился во тьму.
Прошло несколько дней, прежде чем он смог вставать с постели, несколько недель, прежде чем срослись сломанные кости, и пять месяцев, прежде чем завершилась подготовка в школе гладиаторов. Те, кто учился в ней вместе с Арием, были либо мелкими преступниками, либо несчастными рабами, купленными с самого дна рынка, — дешевый товар, проданный со скидкой, лишь бы только поскорее сбыть с рук.
Арий равнодушно и без особых усилий втянулся в повседневную жизнь школы, пополнив собой ряды головорезов, готовых на все, лишь бы выжить. Галлий сделал ему на руке гладиаторскую татуировку-клеймо — изображение скрещенных мечей.
Рудий. Ему снова вспомнилось это слово. В его звучании ему чудилось нечто змеиное, оно не имело ничего общего с деревянным мечом. Он сам не видел, как деревянный меч, полученный от императора, делает раба свободным, однако при этом слове перед его мысленным взором возникали окутанные туманом родные горы, их поросшие лесом склоны, такие свежие, зеленые и прекрасные.
Деревянный меч. Тренируясь, он каждый день пользовался деревянными мечами. И всегда ломал их, не умея соизмерить силу удара с прочностью деревянного клинка. Предзнаменование? Ему снова вспомнились друиды в белых одеждах, их почти забытые образы, исходящий от них запах омелы и старых костей, то, как они угадывали волю богов в каждом опавшем листе. Сломанный деревянный меч они, наверняка, назвали бы плохим предзнаменованием. Но в его жизни было очень мало добрых примет.
Арий заставил себя не думать о доме. В школе гладиаторов на Марсовой улице было не так уж плохо. Никаких обещанных Галлием женщин или денег, но, по крайней мере, здесь нет безжалостного солнца и цепей, от которых ноги покрывались язвами, нет беспокойного сна на голой земле где-нибудь на каменистом горном склоне. Здесь хотя бы имелись одеяла и хлеб каждый день, вино, помогающее скоротать ночь, быстрая смерть за соседним углом. Нет ничего хуже соляных шахт.
Рукоплескания трибун — они одновременно и манили его, и пугали.
Тея
С того мгновения, как я увидела сенатора Марка Вибия Августа Норбана, мне тотчас захотелось поухаживать за ним: аккуратно подстричь, отмыть с пальцев чернильные пятна, заставить слуг отгладить как следует его тогу. Он развелся с женой более десяти лет назад, и его рабы всячески пользовались отсутствием хозяйки в доме. Я бы поспорила на пять медяков, что Марк Норбан, четырежды консул и внук бога-императора Августа, сам наливал себе вино и сам убирал собственные книги, как и любой вдовец из числа плебеев.
— Как тебя зовут, девушка? — спросил он, когда я предложила ему блюдо с марципановым печеньем.
— Тея, господин.
— Это греческое имя. — У Марка Норбана было глубоко посаженные глаза, проницательные, дружелюбные. — Впрочем, ты не гречанка. Ты слишком тянешь гласные, да и форма глаз у тебя другая. Скорее всего, ты из Антиохии. И, по всей видимости, еврейка.
Я одобрительно улыбнулась и, немного подавшись назад, внимательно посмотрела на своего собеседника. Одно плечо у него было сгорбленным, отчего все тело казалось перекошенным, но это было заметно, лишь когда он стоял во весь рост. Когда же он сидел, этот его изъян почти не бросался в глаза, и перед вами был немолодой, но еще крепкий мужчина, седовласый, с благородным патрицианским профилем.
Бедный Марк Норбан. Твоя невеста сожрет тебя заживо.
— Сенатор! — В комнату, пританцовывая, вошла Лепида, свежая и красивая, в красном шелковом платье с нитками кораллов на шее и запястьях. Ей было пятнадцать, как и мне, и сейчас она была еще красивее и держалась самоувереннее, чем обычно. — Ты пришел рано. Хочешь увидеть игры?
— Представление, безусловно, вызывает интерес. — Он встал и поцеловал ей руку. — Но лично я предпочитаю проводить время в своей библиотеке.
— Тебе следует изменить отношение, потому что я безумно люблю гладиаторские бои.
— Я вижу, что ты дочь своего отца, — любезно отозвался Марк, кивнув Квинту Поллио.
Отец Лепиды скользнул взглядом по незавитым волосам сенатора, плохо отутюженной тоге, грубо пришитому ремешку сандалий. Сам он выглядел безупречно: белоснежная тога с острыми, подобно лезвию бритвы, складками, ноздри окружающим щекочут ароматы благоуханных притираний. Любой, наверняка, принял бы его за высокородного патриция, а вот Марка Норбана — за человека какого угодно сословия, но только не за аристократа.
— Так ты на самом деле знаком с племянницей императора? — спросила Лепида своего жениха, когда мы, выйдя из дома Поллиев, оказались под жаркими лучами апрельского солнца. В ее голубых глазах читалось неподдельное восхищение. — С госпожой Юлией?
— Да, еще с тех пор как она была ребенком, — улыбнулся Марк. — Она и ее сводная сестра играли тогда вместе с моим сыном. Правда, с тех пор они больше не встречались. Павлин теперь служит в преторианской гвардии, но я по-прежнему время от времени навешаю Юлию. После смерти отца она пребывает в глубокой печали.
…Свадебное утро Юлии и ее двоюродного брата, Гая Тита Флавия, выдалось ясным и безоблачным. В тот день мы вышли из дома, чтобы стать свидетелями того, как они соединят руки у алтаря в храме, отправились пешком, поскольку паланкину было не протиснуться на запруженных толпами улицах. Меня с обеих сторон бесцеремонно толкали подмастерья, скупые домохозяйки и ушлые нищие, так и норовившие запустить руки в мой кошелек. Дородный пекарь в обсыпанном мукой переднике больно наступил мне на ногу, и я потеряла равновесие.
Марк Норбан вовремя схватил меня за руки и с удивительной ловкостью поставил на ноги прежде, чем я успела упасть.
— Осторожнее, девушка!
— Благодарю тебя, господин, — сказала я и снова заняла свое место за их спинами. Сенатор действительно был слишком добр и полон сочувствия к людям. Нет, такой муж не для Лепиды. Ей бы куда больше подошел какой-нибудь людоед.
— Смотрите! — выпустив руку Марка, Лепида локтями проложила себе дорогу к самому краю толпы. — Смотрите, вон они!
Я вытянула шею и заглянула Квинту Поллио через плечо. Храм Юноны, богини-покровительницы брака и материнства… У алтаря рядом со жрицей застыл высокий с румяными щеками юноша, должно быть жених. Он был в прекрасном настроении и обменивался шутками с окружающими.
— Он красив, — объявила Лепида. — Правда, немного толстоват, как вы полагаете?
Марка позабавили ее слова.
— Все Флавии имеют склонность к полноте, — добродушно ответил он. — Это наследственная черта.
— Неправда, он ничуть не толст. Он просто… слегка пышнотел.
В следующее мгновение нас едва не оглушил рев фанфар. Все вокруг тотчас пришло в движение. Преторианцы в блестящих нагрудниках и шлемах с красным плюмажем выстроились по обе стороны улицы, чтобы дать дорогу невесте.
— Это Юлия? — спросила Лепида, вытягивая шею.
Я с любопытством принялась разглядывать племянницу императора, ту самую, которая, как говорят, пожелала стать весталкой. Мне она показалась очень маленького роста, — стройная, детская фигурка, облаченная в белые одежды, со светлыми льняными волосами. Огненно-красное покрывало, на фоне которого лицо ее казалось мертвенно-бледным. Бледные губы растянуты в улыбке… Нет, она совсем не походила на невесту, тем более счастливую.
— Красный цвет ей совсем не к лицу, — шепнула моя хозяйка на ухо сенатору Нарбону. — Ее кожа похожа на недозрелый сыр. На моей свадьбе я буду выглядеть гораздо красивее.
В храме жених и невеста, соединив руки, произнесли ритуальные слова: Quando tu Gaius, ego Gaia. После чего обменялись кусками свадебного пирога и кольцами. Был подписан брачный контракт. Прозвучали молитвы жреца, и мраморные ступени храма окропили каплями крови белого бычка и козы, принесенных в жертву Юноне. Обычно бракосочетание императоров или их ближайших родственников проводится в узком семейном кругу, однако Домициан питал слабость к помпезным публичным церемониям. Также, как и римская публика.
— Ей следует побольше улыбаться, — покритиковала невесту Лепида. — Кому интересно смотреть на невесту, которая в день собственной свадьбы выглядит как ходячая смерть?
До начала свадебной процессии жених должен был совершить обряд символического похищения невесты, а именно вырвать ее из рук матери. Но мать Юлии давно умерла, и вместо нее эту роль исполнил дядя невесты. Юлия откинула покрывало и покорно шагнула в его объятия. Жених обеими руками попытался вырвать невесту, и мой взгляд скользнул по фигуре императора.
Это был высокий мужчина, крепкий и хорошо сложенный, примерно вдвое старше меня. На нем был пурпурный плащ, расшитый золотом, и золотой венок. Типичные для Флавиев округлые плечи к старости, наверняка, покроет слой жирка. Румяные щеки. Крупные, дружелюбные черты лица.
Мой взгляд вернулся к его племяннице, которая стояла прижавшись к мужу. Мне почему-то сталь ее жаль. Рабыня, испытывающая жалость к племяннице властителя Рима, как странно! Затем ее взгляд скользнул в другом направлении, и на мгновение мы встретились с ней глазами. Я поспешила отвернуться. Но прежде чем уставиться в землю, я успела заметить, что в день собственной свадьбы — ясный, восхитительный весенний день, когда у ее ног распростерся весь мир, — Юлия Флавия чувствовала себя растерянной, испуганной и одинокой.
— Да, это прекрасно! — хлопнул в ладоши Квинт Поллио, чем заставил меня вздрогнуть. — Но нам пора двигаться к арене. Первое представление будет удивительным, это я вам обещаю. Я нашел у одного торговца из Африки десяток полосатых лошадок, он называл их зебрами…
Откликнувшись на предложение сенатора Норбана, мы избрали кратчайший путь по Марсовой улице. Мои хозяева преодолели его в наемном паланкине. Я трусила следом за ними. Лепида прижималась к своему нареченному, цеплялась за каждое его слово, пожирала глазами из-под длинных черных ресниц. Почему-то мне она напоминала паука, раскидывающего сети, чтобы поймать в них муху.
Квинт Поллио заливался соловьем, вещая о том, какую осмотрительность он проявил, купив двадцать индийских тигров, когда носильщики были вынуждены резко остановиться.
Дорогу нам перегородила огромная повозка, окованная железом и запертая на висячий замок. Паланкин несли шесть златокудрых греков. В следующее мгновение у нас на глазах распахнулись огромные, похожие на тюремные, ворота, и из них вышла группа мужчин. Когда они взбирались на повозку, я заметила у них под пурпурными плащами блестящие нагрудники. На головах шлемы. Лица излучали угрюмую мужественность. Гладиаторы, чей путь, как и наш, лежал в Колизей.
— Бойцы Галлия, — сказал Квинт Поллио, отодвигая занавески для лучшего обзора, и нахмурился. — Третий сорт, все до единого. Впрочем, из них выйдет отличная приманка для львов. Так же как и из самого Галлия, если вы хотите знать мое мнение. А вот и он сам, в паланкине.
Из-за шелковых огненно-оранжевых занавесок высунулась голова толстого мужчины с напомаженной завитой челкой.
— Ты задерживаешь нас, мой мальчик! — визгливо крикнул он, повернувшись к воротам.
Из ворот гладиаторской школы Галлия вышел высокий, сильный мужчина с рыжеватыми волосами и в зеленой юбке — по всей видимости, галл или бритт. На лодыжках массивные железные пластины. Голову великана венчал забавного вида шлем с плюмажем из крашенного в зеленый цвет конского волоса. Боевую руку прикрывал рукав-кольчуга. Незащищенную грудь и покрытую шрамами спину крест-накрест пересекали кожаные ремни. Его лицо казалось высеченным из глыбы гранита. И все-таки я узнала его.
Это тот самый раб, который несколько месяцев назад участвовал в гладиаторских играх в честь восшествия императора на престол. Мне вспомнилось, как тогда я даже немного поплакала о нем, так же как плакала, испытывая жалость ко львам, павшим на арене под ударами огромных копий. Я думала, что его давно уже нет в живых. Даже после того как император милосердно даровал ему жизнь, его зацепили крюком и уволокли с арены так же, как и этих несчастных мертвых львов. Но он остался жив. Он вернулся, вернулся гладиатором.
— Поторопись, Арий! — нетерпеливо крикнул ланиста из своего паланкина. — Мы загораживаем дорогу.
Гладиатор схватился за борт повозки и, подтянувшись, ловко забрался в нее. Арий. Вот, оказывается, как его звать!
Впервые мне захотелось посмотреть игры.
Подземные уровни Колизея гудели как трубы акведука. Рабы устремились вперед по освещенным факелами коридорам, кто-то с точильными камнями для оружия, кто-то с заостренными кольями, чтобы колоть и приводить в безумную ярость животных, прежде чем выпустить их на арену. Кто-то с крючьями, которыми утаскивали мертвых. Были слышны вопли не то смертельно раненного льва, не то хриплые стоны умирающего человека.
— Главное сражение состоится через два часа, — вместо приветствия рявкнул, обращаясь к Галлию, распорядитель игр. — А пока убери их с дороги. Который из них бритт? Он выходит после тигров, чтобы прикончить пленников.
Галлий прошипел несколько слов, и Арий оказался в темном коридоре. Весеннее тепло было бессильно проникнуть сквозь каменные глыбы Колизея, и в коридорах всегда было сыро и холодно. С потолка и стен слетали облачка мелкой пыли — это стены вибрировали от одобрительных возгласов и рукоплесканий публики.
Механический подъемник доставил Ария на верхние уровни. Какой-то раб отвел его к воротам и торопливо сунул ему в руки меч и тяжелый щит.
— Удачи тебе, гладиатор!
Арий выждал пару мгновений, чтобы попробовать пальцем остроту лезвия. В темноте ему привиделся деревянный меч.
Рукоплескания смолкли. С арены долетели обрывки слов глашатая игр.
— А теперь… из далекой дикой Британии… привезли к вам… Варвара Ария… который сыграет роль…
Сопровождаемые лязгом механизмов, тяжелые ворота распахнулись. Коридор залило ослепительным светом.
— АХИЛЛА, ВЕЛИЧАЙШЕГО ВОИНА ВСЕГО МИРА!
Арий шагнул на солнечный свет, и на него, подобно горной лавине, обрушились восторженные крики зрителей. Пятьдесят тысяч голосов повторяли его имя. Перед его взглядом под огромным сводом поразительно голубого неба предстала размытая мозаика разноцветных пятен: пестрые шелка и белые тоги, светлые круги лиц и черные дыры раскрытых ртов. Он еще ни разу в своей жизни не видел сразу так много людей.
Не в силах оторвать взгляд от этой картины, он рывком опустил забрало. Ему нет необходимости знать, кто такой Ахилл и чью роль он будет играть. Убивать так убивать.
Демон, таившийся внутри его естества, радостно расправил змеиные кольца.
Заглушая крики публики, снова раздался голос глашатая:
— А теперь представляем вам привезенных из далекой Амазонии соперниц могучего героя Ахиллеса…
Загрохотали ворота на противоположном краю арены. Арий сбросил с плеч плащ и поднял руку с зажатым в ней мечом.
— ЦАРИЦУ АМАЗОНОК И ЕЕ ХРАБРЫХ ВОИТЕЛЬНИЦ!
Клинок Ария застыл в воздухе.
Женщины. Пятеро женщин. Золотые шлемы с пышным плюмажем, золотые браслеты на щиколотках, щиты в форме полумесяца. Обнаженные на потребу публике груди. Вскинутые над головами тонкие мечи. Плотно сжатые губы. Безумная ярость демона мгновенно испарилась. Арий был холоден и сдержан. Рука с мечом сама опустилась вниз, так что кончик клинка почти касался песка.
Издав яростный крик, похожий на орлиный клекот, предводительница амазонок набросилась на своего единственного противника.
— Проклятие, — прохрипел Арий и моментально вскинул меч.
Он убил их одну за другой. Сначала самую маленькую, которой было не больше четырнадцати. Она набросилась на него скорее от отчаяния, чем от умения. Он убил ее быстро. Затем настала очередь темноволосой амазонки с родинкой на плече. Он выбил меч из ее руки и, отведя глаза в сторону, умертвил. Казалось, будто каждый удар длился целую вечность.
Время как будто замерло на месте, а если и двигалось, то мучительно медленно. Арий увидел, как предводительница амазонок, что-то пронзительно выкрикнув, попыталась собрать свое воинство. Она знала, что делает. Сойдясь вместе, они сумеют одолеть его. Однако вместо этого воительницы впали в панику и разбежались по всей арене. К вящей радости толпы Арий догнал каждую из них и ловкими ударами меча отправил в царство мертвых.
Причем постарался сделать это как можно быстрее.
Храбрую царицу амазонок он прикончил последней. Она умело сражалась, ловко отбивая тонким щитом удары его меча. Со звоном сходились их клинки. Даже сквозь прорезь забрала в ее огромных глазах читалась дикая ярость.
Наконец он выбил у нее меч и шишкой в центре своего щита ударил ее прямо в незащищенную грудь. Выгнув дугой шею, она в агонии свалилась на песок, словно разбитая глиняная статуэтка.
Впрочем, жизнь пока не оставила ее, хотя она и захлебывалась собственной кровью, а сломанные ребра мешали ей дышать. Арий шагнул вперед, чтобы перерезать ей горло.
— Mitte! Mitte!
Крики толпы оглушили его. Он растерянно обвел взглядом трибуны. Перед ним предстало море лиц и лес протянутых рук; большие пальцы подняты вверх в знаке пощады. Зрители были настроены милосердно, и мнение их было единодушно: пощадить последнюю из амазонок.
Глаза щипало от пота. Арий отвел меч в сторону, опустился на одно колено и приподнял раненую амазонку за плечи. Из ран на теле хлестала кровь.
Она мутными глазами посмотрела на Ария и дрожащей рукой приподняла его забрало. В следующее мгновение он вздрогнул: умирающая амазонка обратилась к нему на языке, которого он не слышал уже более десятка лет. На его родном языке.
— Прошу тебя… — прохрипела она.
Арий удивленно уставился на нее. Она закашлялась, и кровь запузырилась на ее губах.
— Прошу тебя…
Он снова заглянул в ее огромные, полные отчаяния глаза.
— Пожалуйста…
Его пальцы скользнули в ее спутанные волосы. Вцепившись в них, он оттянул голову назад, обнажая длинную шею. Амазонка со вздохом закрыла глаза. В следующий миг Арий вонзил ей в горло меч, там, где под светлой кожей еще пульсировала жилка.
Наконец ее истерзанное тело застыло в неподвижности на его руках, и он осмелился поднять голову. Публика замерла в молчании, как будто не веря собственным глазам. Запятнанный кровью с головы до ног, Арий медленно встал.
В следующий миг в нем заклокотала ярость демона, и он со всей силы ударил мечом о мраморную стену. Затем еще раз и еще. Казалось, мышцы спины не выдержат напряжения и лопнут. Наконец лезвие с неприятным хрустом разломилось пополам. Арий отбросил обломки в сторону, сорвал с головы шлем и швырнул его вслед обломкам меча.
Клокотавшая в нем ярость вырвалась наружу, превратившись в крик, даже не крик проклятья, а, скорее, в протяжный звериный вой.
Публика ответила бешеными рукоплесканиями, которым, казалось, не будет конца.
Толпы неистовствовали, кричали, истошно вопили, осыпали похвалой, и этот гам обрушивался ему на голову подобно ливню. Зрители швыряли в Ария монетами, забрасывали цветами, вскакивали со своих мест и дружно выкрикивали его имя.
И лишь тогда из его глаз покатились слезы. Он стоял один на огромной арене в окружении тел мертвых женщин и тысяч лепестков роз.
Глава 2
Тея
— Согласись, что он великолепен, — лениво произнесла Лепида. — А ты как думаешь, Тея?
Я пробормотала в ответ что-то невнятное и потянулась за бутылочкой с розовым маслом. Моя хозяйка распласталась на массажном столе из зеленого мрамора в бане дома Поллиев, напоминая прекрасную черноволосую русалку, лежащую среди безвкусных мозаичных изображений рыб под позвякивание бутылочек с благоуханными притираниями и ароматическими водами.
— Честное слово, я раньше не видела никого подобного ему. Он намного интереснее Беллерафона. Беллерафон слишком галантен. Этот Арий, он настоящий варвар. — Лепида повернула руку, чтобы я смогла втереть розовое масло ей в бок. — В нем есть что-то необузданное, тебе не кажется? Я имею в виду, что цивилизованный человек, не дикарь, не стал бы убивать женщин. Но этот Арий, он зарубил их всех, и даже глазом не моргнул.
Я энергично впилась кончиками пальцев ей в спину, и та сразу же выгнулась дугой.
— Он и выглядит как настоящий варвар. С головы до ног в крови, и, похоже, сам не замечает этого. Впрочем, настоящий мужчина и не должен заботиться о том, грязные ли у него руки, как ты считаешь? Беллерафон теперь никогда не вступает с противниками в ближний бой. Боится запачкать кровью свою очаровательную бородку. Но, действительно, что это за зрелище такое получается? Разве за тем я хожу на игры, чтобы наблюдать, как на арене кто-то осторожничает? Нет, я хожу посмотреть что-то увлекательное и волнующее. Посмотреть на кого-то, кто способен привести меня в трепет.
Перед моим мысленным взором возник Арий, держащий в руках умирающую амазонку.
— …и тогда он просто вышел вперед с таким видом, будто даже не слышал восторженных криков зрителей! Он равнодушен к восторгам публики. Он делает это потому, что ему это нравится. — Лепида томно положила руки за голову. — Скажи, Тея, по-твоему, он красив?
— Не знаю, госпожа. Не желаешь, чтобы я потерла пемзой тебе пятки?
— Да, возьми пемзу и хорошенько потри их. Признайся, Тея, ты ведь тоже находишь его красивым. Даже не пытайся отрицать, я же видела твое лицо, когда он сражался. — Лепида коротко рассмеялась. — Такие грубые натуры нравятся тем, кто сам по натуре низок.
— Ммм, — пробормотала я. — А как нареченный жених моей госпожи, нравится ей?
— Марк? — презрительно фыркнула Лепида. — Тебе известно, что ему сорок шесть? Его сын лишь на два года старше меня. Не понимаю, почему мне нельзя вместо Марка выйти замуж за его сына? Какой смысл быть молодой и красивой, если тебе придется связать жизнь со скучным стариком, у которого к тому же изуродовано плечо? Он постоянно твердит мне о своих книгах, как будто мне интересно слушать рассказы о его никому не нужной, дурацкой библиотеке. — Лепида потянулась за кубком с вином. — И если отец действительно хочет удачно выдать меня замуж, то пусть лучше присмотрится к другим женихам. Можно подумать, кроме этого Марка, никого больше нет. Мне нужен кто-то, кто молод, кто способен возбуждать меня. Мне нужен настоящий мужчина.
Лепида накрутила на палец локон волос.
— Как ты думаешь, что за человек этот Арий?
Мне было неприятно слышать его имя из ее уст.
— Поздравляю тебя, Варвар!
— Отличное зрелище!
— Неплохо… эй, куда ты?
Не глядя по сторонам. Арий прошел через всю трапезную гладиаторской казармы на Марсовой улице. Небрежно бросив плащ прямо на пол, он нагнулся над длинным столом и схватил кувшин с вином.
— Эй, послушай, это для всех нас!
Он принялся пить прямо из кувшина, жадно глотая вино, хотя и не испытывал жажды. Другие гладиаторы, что ввалились сюда, расточая поздравления и завистливые восклицания, постепенно умолкли.
Арий покачнулся на пятках. С горлышка кувшина на пол упала единственная капля кислого вина, и он вытер ладонью губы. Какой-то миг он разглядывал кувшин, болтавшийся за ручку у него на пальце, а затем швырнул его о стену. Глиняные осколки разлетелись по всему полу. Гладиаторы, сыпля проклятиями, отскочили в стороны.
— Проклятый Варвар! — пробормотал какой-то галл.
Арий резко развернулся и с силой пнул его ногой. Галл сердито выругался — это под его весом с треском развалилась табуретка. В следующий миг он вскрикнул во второй раз, теперь уже от боли, когда столовый нож отсек ему часть уха. Взревев как бык, галл набросился на обидчика. Сцепившись в смертоносных объятиях, оба полетели на пол. Их тут же окружили остальные гладиаторы.
— Пригвозди его! Пригвозди!
— Поддай этому паршивцу!
— Хватит! Довольно! — рявкнул возникший в дверях Галлий.
Гладиаторы моментально отпрянули в стороны. Галл, с залитой кровью головой, высвободился и, шатаясь и сыпля проклятиями на своем родном языке, поднялся на ноги. Арий молча встал, отряхнулся и холодно посмотрел на хозяина гладиаторской школы.
— Отлично, — произнес Галлий. — Поздравляю тебя с победой, мой мальчик. Как я вижу, ты оправдываешь свое имя. На римских улицах тебя уже все называют Варваром.
Галл смерил Ария злобным взглядом.
— Он отрезал мне ухо!..
— Перестань хныкать! Ступай к лекарю! — приказал Галлий, не сводя глаз с Ария. — Держись подальше от всяких неприятностей, и в следующий раз я устрою тебе серьезный поединок. Это будет нечто грандиозное, этот поединок достойно завершит весенний сезон. Затем наступит летняя подготовка…
Арий взял со стола новый кувшин. Не сводя взгляда с Галлия, он отпил глоток вина и выплюнул его прямо ланисте
под ноги. Затем повернулся и скрылся в своей каморке. Все ждали, что сейчас громко хлопнет дверь, но этого не случилось. Дверь закрылась очень тихо.
Тея
Июнь. Может, где-нибудь это очень даже приятный месяц — голубое небо, нежное тепло, распускающиеся цветы. Только не в Риме. Здесь все не так. Здесь солнце печет немилосердно, и над раскаленными мостовыми днем подрагивает призрачное марево. Жаркий, нестерпимый, безжалостный июнь. Ночи приносили мне сны, способные напугать даже мертвецов в их гробницах.
Город захлестнула последняя волна лихорадки безумных развлечений. Богатые горожане тем временем готовились к отъезду на загородные виллы, где жара донимала бы их не так сильно, как в Риме. Все с нетерпением ожидали начала Матралийских игр, кровавых и возбуждающих, которые завершали сезон. Сенаторы и политики, колесничии и куртизанки, патриции и плебеи — все передавали из уст в уста волнующую новость: апофеозом празднеств станет поединок знаменитого Беллерафона с новичком, неким бриттом по имени Арий, получившим в народе прозвище Варвар.
— А все благодаря мне, — хвасталась Лепида. — Это я убедила отца устроить их поединок. На Ария уже делают ставки пять к одному.
— Смелые предположения, — рискнула заметить я.
— Знаю, — согласилась со мной хозяйка. — Но разве не забавно будет собственными глазами увидеть, как умрет отважный бритт? Интересно, устроит ли отец ужин для гладиаторов за день до поединка?..
Отец, разумеется, выполнил желание дочери, особенно после того как Лепида убедила его в том, что званый ужин с участием Ария и Беллерафона привлечет гостей из числа римлян самого высокого положения.
— Я тоже отправлюсь туда, — заключила Лепида, крутя на пальцах иссиня-черные кольца локонов. — Я буду находиться рядом с тобой, отец, чтобы ты мог защитить меня, если дела примут опасный оборот. Знаю, там будет полно необузданных гладиаторов, но там же будут и Эмилий Гракх, и Юлий Сульпициан, мужчины из знатных семейств. И кто знает? Быть может, один из них предложит мне стать его женой. Это избавит меня от необходимости выходить замуж за старого зануду Марка Норбана, и мы оба будем счастливы. Ну пожалуйста.
Весь дом был охвачен лихорадкой приготовлений. Повар оставался на кухне до рассвета, пытаясь придумать блюда, которые бы поразили как гостей-патрициев, так и гладиаторов, которым возможно, придется в последний раз вкушать пищу. Инкрустированные серебром обеденные ложа были изысканно задрапированы, столы уставлены вазами с цветами, редкими для нынешнего сезона. Все это было призвано продемонстрировать как высокопоставленным гостям из числа патрициев, так и самому последнему из гладиаторов богатство семейства Поллиев. Будь им интересно мое мнение, я бы сказала им, что эта пышность, эти излишества — обилие цветов, украшений, толпы рабов — свидетельствуют разве что о дурном вкусе хозяина. Впрочем, кто бы захотел меня выслушать? Когда же наступил вечер, ноги мои гудели от усталости, а лицо горело от пощечин, которыми щедро наградила меня Лепида, прежде чем удовлетворилась собственной внешностью и нарядами.
— Неплохо, — заявила она, вертя головой перед зеркалом. — Очень даже неплохо.
Платье сапфирово-голубого шелка искусно и выгодно подчеркивало округлости ее тела. Лепида томно покачивала бедрами, и от этого начинали позвякивать золотые колокольчики браслетов на ее точеных щиколотках. Шею украшало жемчужное ожерелье, а уши — жемчужные сережки. Губы ярко накрашены. Я пригладила перед моей туники из грубой коричневой шерсти.
— Сегодня вечером ты мне больше не понадобишься, Тея, — заявила моя хозяйка, поправляя на запястье изысканный золотой браслет. — Я не могу допустить, чтобы такая неряха, как ты, болталась среди всех этих блистательных гостей. Твое присутствие отобьет у них желание ужинать. Но сначала все здесь прибери!
— Слушаюсь, госпожа.
Впрочем, я оставила ее платья лежать на прежних местах. Мои мысли были заняты другим. Я думала о моей голубой чаше и о тихой комнате где-нибудь подальше от громких голосов, уже доносившихся из триклиния. Несмотря на предостережение Лепиды, я тихонько заглянула в приоткрытую дверь.
В доме собралась более представительная публика, нежели та, что обычно составляла основную массу гостей в доме Поллиев: пара сенаторов, личный казначей императора Домициана, госпожа Лоллия Корнелия, хозяйка самых блистательных званых обедов в Риме и родственница нынешней императрицы. Гости томно устроились на ложах среди цветов и шелковых подушек, лениво ковыряясь в блюдах с жареными слоновьими ушами, крыльями страусов и языками фламинго, наваленных на золотые блюда, и, не переставая, болтали на изысканном патрицианском наречии, овладеть которым в совершенстве Квинту Поллио так и не удалось.
Единственным режущим слух аккордом в этой изысканной аристократической симфонии было присутствие покрытых шрамами мускулистых гладиаторов. Грубая шерсть среди шелков, простонародная речь на фоне изысканной речи, стервятники среди павлинов. Павлинам это нравилось. Завтра эти сильные мира сего будут презрительно кривить губы при виде мужланов-гладиаторов. Сегодня же вечером они радушны, гостеприимны, снисходительно похлопывают холеными руками по покрытым шрамами плечам. Завтра эти элегантные патрицианки будут шарахаться в сторону, стараясь даже краем платья не задеть гладиаторов, встретив их на улице, однако сегодня вечером они лебезят перед ними и даже кокетливо заигрывают. Почему бы и нет? Завтра эти мужчины, скорее всего, будут мертвы.
На почетном месте, где бы их могли видеть все присутствующие, расположились Арий и Беллерафон.
— Ах да, Варвар, — произнес Беллерафон, когда их представили друг другу, и жеманным жестом протянул руку с наманикюренными ногтями. Арий пару минут разглядывал протянутую ему руку, и изнеженный гладиатор был вынужден ее опустить. — Какой неотесанный, — прошептал Беллерафон хихикнувшей матроне на соседнем ложе. — Интересно, он умеет говорить?
После этого они совершенно не обращали внимания друг на друга, хотя и находились рядом.
Гости невольно сравнивали обоих. Беллерафон улыбался и шутил. Арий угрюмо молчал: было видно, что он чувствует себя неуютно. Беллерафон лениво пробовал пищу с каждого блюда, Арий жадно съедал все, что оказывалось перед ним. Беллерафон небрежно возлежал на обтянутом шелком ложе так, будто родился на нем, Арий сидел прямо как статуя. Беллерафон — воплощение изысканных манер, и рядом — варвар Арий.
Я прикрыла лицо краем покрывала и незаметно выскользнула в коридор.
Арий устал от нескончаемых разговоров, устал от слишком мягких подушек, устал от бессмысленности происходящего, но больше всего его утомила возлежавшая рядом с ним юная особа.
— Ты такой отважный, день за днем рискуешь своей жизнью, сражаясь на арене, — проворковала она и игриво провела алым ногтем по его руке. — Скажи, тебе когда-нибудь бывает страшно? Я бы жутко боялась, окажись я на твоем месте.
Арий представил ее в пасти льва.
— Да, — согласился он.
— Ты произнес целое слово, — рассмеялась его собеседница, тряхнув головой. — Какая удача!
Арий потянулся за графином с вином.
— Не сердись на меня, — проговорила она, надув губки, и откинулась назад, чтобы он мог восхититься ее обтянутой шелком грудью. Арий окинул ее взглядом. Великолепная грудь. Роскошные волосы. Красивое личико. Глаза, как у хорька.
Неожиданно раздались звуки флейт. Музыка заглушила его голос прежде, чем он успел сказать навязчивой красотке, чтобы она оставила его в покое. Гости соскользнули с лож и направились в сад. Сенаторы подхватили под руки чужих жен и чинно направились по залитым лунным светом дорожкам к цветникам; гладиаторы без стеснения похватали рабынь и потащили их куда-то в темноту. Великий Беллерафон исчез за статуей Нептуна вместе с некой благородной матроной из рода Сульпициев.
На плечо Арию легка маленькая жаркая рука.
— Ты не против прогулки по саду? — спросила девушка с глазами хорька. — О моем отце не беспокойся. Он занят разговором с твоим ланистой, — пояснила она и провела языком по накрашенным губам.
Арий покорно позволил стащить себя с неудобного ложа и задержался лишь на короткое мгновение, чтобы схватить со стола графин с вином. Нежная рука с ярко-красными ногтями вцепилась в его локоть, довольно бесцеремонно направляя на посыпанную гравием дорожку, что вела прочь от дома. Здесь в воздухе висел густой аромат жасмина и роз.
— Откуда ты родом? — улыбнулась юная красотка. — Я просто умираю от любопытства.
— Ниоткуда.
— Любой человек откуда-то родом…
— Это случайно не твой отец? — он указал куда-то себе за спину. Девушка обернулась, Арий же высвободил руку и юркнул в кусты.
— Арий!
Он вынырнул из кустов рядом со стеной атриума и, свернув за угол, направился в глубь дома. Светильники были потушены, в комнатах темно. Оглянувшись, он увидел, что дочь хозяина дома все еще стоит на тропинке сада и, наклонив голову, высматривает его в темноте. Прежде чем она успела заметить его, Арий нырнул в ближайший дверной проем.
Купальня. Он разглядел слабое мерцание воды в бассейне. Арий прислонился к стене, ощущая спиной восхитительно прохладный мрамор, и, опустившись на пол, вытащил пробку из графина. Наконец-то он нашел место, где можно спокойно напиться. Разве стоит беспокоиться, что завтра у него с похмелья будет болеть голова? Кому какое дело? В любом случае он собрался умереть.
И Арий сделал долгий глоток.
Громкий шорох, донесшийся из дальнего угла, заставил его застыть в неподвижности. Он бесшумно поднялся на ноги и осторожно приблизился к краю бассейна.
И вновь какой-то звук. Арий метнулся в темноту и вцепился в тонкое запястье.
— Не двигайся, или я убью тебя. — Демон в его голове шевельнулся снова. — Кто ты?
— Я — Тея, — вежливо произнес женский голос. — Ты всегда начинаешь разговор с угроз?
Запястье незнакомки было тонким, с гладкой кожей. Арий выпустил ее руку и отступил назад. И только тогда понял, что оно было липким от крови.
— У тебя на руке кровь.
— Верно, — согласилась девушка. — И сильно идет. В чаше собралось ее на два пальца. На этот раз порез оказался слишком глубоким.
Арий подумал, что она, возможно, пьяна.
— Кто ты такая?
— Тея, — повторила она. — Моя рука тебе не видна, но я протянула ее для рукопожатия. То есть мою другую руку, которая не в крови.
Ее ладонь оказалась мозолистой, ладонь рабыни.
— Ты порезалась? — поинтересовался он.
— Да, я порезала себя, — согласилась девушка. — Я часто так делаю. Мои запястья похожи на твою спину.
Он вздрогнул.
— Ты ведь Арий, верно? Бритт с римским именем. Тея… это греческое имя, правда, сама я еврейка. Все, я замолкаю. Насколько я понимаю, ты хотел посидеть в одиночестве где-нибудь в темном углу и напиться.
Арий сел снова, прислонившись спиной к стене, и несколькими глотками осушил графин до дна. Его глаза уже успели привыкнуть к темноте. Он сумел различить неясный профиль, прямой нос, пряди волос, прижатое к краю чаши запястье. Девушка что-то тихо напевала себе под нос на незнакомом языке.
— She’ma Yisrael, Adonai Aloujanou, Adonai echad. — Ее голос легким эхом отлетал от мраморных стен купальни — теплый, мелодичный альт. Однако необычная музыка вскоре смолкла, растворившись в темноте, и он закрыл глаза.
— Арий.
— Что?
— Скажи, ты завтра проиграешь?
— Да.
— Жаль. Мне придется смотреть поединок. Меня таскают на все игры, — добавила она. — А я их ненавижу. Ненавижу, слышишь?
Ему показалось, будто он слышит, как кровь капает в голубую чашу.
— Да.
— И ты тоже? Я так и думала. Ты ведь не Беллерафон, который упивается рукоплесканиями трибун.
Какая кромешная тьма. Как при сотворении мира.
— Тогда кто же я такой?
— Варвар, — она почти пропела это слово. — Варвар, Варвар, Варвар. Откуда ты родом, Варвар?
— Из Бригантин. — Арий сам не ожидал, с какой легкостью слетело это слово с его языка, развязанного вином. — Это в Британии, но мы называем ее Альбионом. Это далеко на севере. Там горы возле самого моря. — Перед его внутренним взором по-прежнему стояли горы, их очертания четко вырисовывались на фоне ночной тьмы.
— У тебя есть родные?
— Два брата. Мать умерла молодой. Мой отец…
— Он был великим вождем? — предположила она.
— Кузнецом. Он верил в силу железа и бронзы, а не в сражения. Сражаться меня научили братья. Я вырос на рассказах о Верцингеториксе.
— Кто это?
— Верцингеторикс — вождь галлов. Он едва не разбил войска Юлия Цезаря. Герой моего детства.
— Как он погиб?
Арий безрадостно улыбнулся.
— На арене.
— Понятно. — Девушка немного помолчала. — Что еще?
— Римский форт… он находился неподалеку. Мы платили дань: отдавали скот, зерно, железо. Моим братьям нравилось грабить римлян. Они сделались самонадеянными, убили нескольких стражников. Римляне в отместку убили их обоих.
…Стрелы, стена из щитов, крики людей, ржание лошадей. Мэдок погиб, пронзенный десятком вражеских копий, Таркокс нашел смерть под лошадиными копытами.
— А ты?
— Мне было тринадцать. Глупый мальчишка. Вместо того чтобы побежать к отцу и предупредить воинов, я застыл возле тел мертвых братьев. А ведь я и был Непобедимым Верцингеториксом. Римляне взяли меня в плен. Отца убили. Деревню сожгли. Остальных моих соплеменников продали в рабство.
Дым, кровь, иступленные вопли женщин. Тринадцатилетний мальчишка, схвативший слишком тяжелый для него меч, чтобы броситься с ним на врагов.
Глупый мальчишка. Арий отогнал от себя кровавую картину.
— А что было потом?
Он сам не заметил, как почти позабыл о присутствии девушки по имени Тея.
— Соляные шахты. Я был рослым для своего возраста. Меня отправили таскать соляные глыбы в Триновантию. Потом попал в Галлию. Я все время восставал, за неповиновение меня постоянно продавали новым хозяевам. Таскал камни. Вот и вся доблестная история Варвара.
Голова приятно затуманилась. Ему хотелось еще вина. Девушка ничего не сказала, и Арий был ей благодарен. До него донесся слабый звук ее дыхания, и он повернул голову в ее сторону. Чаша, этот тускло мерцающий диск у нее на коленях, слегка накренилась.
— Почему ты это делаешь? — бесхитростно спросил он.
Какое-то время она молчала, но затем ответила:
— Ты когда-нибудь слышал о Масаде?
— Нет.
— Это крепость, она высечена в толще скалы. В Иудее. Это жаркая сухая страна, где земля под ногами тверда как железо. Я там родилась. Пятнадцать лет назад.
Пятнадцать лет. По голосу даже не скажешь. Она кажется старше.
— В Масаде было полно евреев-бунтовщиков. Римляне решили выкурить их оттуда, но не смогли. Тогда они возвели земляную насыпь, которая вела к вершине горы. Они нарочно заставили строить ее евреев-рабов, зная, что мы не станем сбрасывать на головы соплеменников камни и поливать их горячей смолой, чтобы помешать строительству. Спустя полгода насыпь была готова, и римляне тараном разбили городские ворота.
— Ты до сих пор это помнишь?
— Не очень хорошо. Я была слишком мала. Помню только, как выглядывала из-за каменных стен и видела, как внизу, словно муравьи, копошатся вооруженные люди… Помню, что была счастлива. Я поняла все позднее, узнала из рассказов других.
— Что же случилось?
— Это… это я помню. Отлично помню. Жаркая ночь. Такая же жаркая, как и эта. Мой отец и другие мужчины о чем-то разговаривают вполголоса. Мать выглядит подавленной. Даже моя сестра Юдифь чем-то встревожена. Ей уже исполнилось четырнадцать, и она понимала, что нас ждет. Мне же было всего шесть, я все еще играла с куклами.
В ту ночь отец вернулся домой. Он долго разговаривал с матерью. Они зашли в спальню и закрыли за собой дверь. Оттуда он вышел один и отвел в сторону Юдифь. Я зашла в спальню и увидела, что мать с перерезанным горлом лежит на полу, и с криком выбежала обратно. В следующее мгновение Юдифь прямо передо мной ударила себя ножом. Чтобы не видеть этого ужаса, отец ладонью прикрыл глаза. Затем он обернулся и посмотрел на меня. Он велел мне быть хорошей девочкой и попросил подойти к нему, чтобы он мог меня обнять. Увидев в его руке нож, я убежала прочь.
Я скрылась в соседнем доме, где жила моя подруга Хадасса. Там я увидела то же самое. Все как один заколоты. Так было в каждом доме в Масаде. Поэтому когда на следующий день римляне ворвались в крепость, она нашли там лишь мертвых евреев и шестилетнюю девочку. Она сидела в комнате, полной мертвых тел, ожидая, когда проснутся ее родители и сестра.
— Ты… осталась одна?
— В живых осталось лишь несколько человек. Я точно не помню.
У Ария перехватило горло.
— Почему? — хрипло спросил он.
— Лучше быть мертвым, чем живым. Мертвым не нужно ждать, когда римляне изрубят их мечами. Лучше оставить врагам тысячу мертвых тел, чем тысячу пленных мятежников, которых в цепях прогонят перед глазами их императора. Лучше быть мертвецом, чем рабом. Поэтому они и решили, придя домой, собственноручно лишить себя жизни.
— Но ты…
— Меня купил торговец-грек. Это он дал мне имя Тея, научил читать и писать. Он был добр ко мне. Большинство моих хозяев были добрыми людьми. Мне жилось у них неплохо, — произнесла она ровным тоном.
— А кровь? — спросил он, покосившись на ее голубую чашу.
— У моего народа есть пословица. «Око за око, зуб за зуб». И кровь за кровь. Я должна была погибнуть вместе со всеми остальными. Мне нужно было, подобно моей сестре, проявить мужество и пасть от удара ножа, но я трусливо убежала. С тех пор я плачу кровью мой долг перед погибшими. Вина у тебя не осталось?
— Нет.
— Жаль. — Тея выпрямилась, опираясь о стену, и, подобно жрице, совершающей обряд жертвоприношения, взяла чашу в руки и вышла за порог. Арий на подгибающихся ногах последовал за ней. Возле куста камелии девушка опустилась на колени и вылила содержимое чаши на землю. Арий неуклюже стоял рядом, расставив пошире ноги, чтобы сохранить равновесие.
— Ну вот! — Она поднялась с земли. Увы, лишком быстро. Тотчас дало о себе знать головокружение, и она пошатнулась. Впрочем, Арий не дал ей упасть, вовремя схватив за плечо. В полумраке он разглядел, что девушка высокого роста, — ее макушка находилась на уровне его глаз. Своей угловатой фигурой она напоминала олененка. Плечо под его пальцами было костлявое.
— Удачи тебе в завтрашнем бою! — улыбнулась она. — Я приду посмотреть.
Зрачки ее глаз были расширены, отчего сами глаза казались черными. Он видел их раньше, такие глаза. Точно такой же дерзкий, отчаянный взгляд был у той амазонки, которую он прикончил на арене Колизея. При этой мысли он ощутил покалывание в затылке.
Осторожнее!
— Спокойной ночи, — не слишком вежливо произнес он и зашагал прочь.
Тея
На следующий день, такой солнечный и ослепительно-яркий, что с трудом верилось в то, что произошло накануне вечером, Арий на моих глазах убил Беллерафона.
Отвратительное, жестокое и незабываемое зрелище. Он спокойно вышел на арену. Рядом с самонадеянным щеголем Беллерафоном, он даже как будто сделался меньше ростом. Что, однако не помешало ему с такой яростью наброситься на противника, что у меня от страха подогнулись колени. Уже первым ударом он раскроил противнику плечо. Высокомерная улыбка мгновенно слетела с лица Беллерафона. Теперь он бился с соперником уже всерьез, но, увы, этого оказалось недостаточно. Меч Ария отрубил верхнюю половину его щита, полоснул ему по ребрам, отсек половину пальцев на левой руке. Беллерафон постепенно утратил свою знаменитую грацию танцора. Было заметно, что он пытается сохранить остатки мужества, но даже этого было недостаточно. Беллерафон дрогнул, превратился в кровавое месиво, изрубленное разящей сталью, и через считаные мгновения испустил дух, пронзенный насквозь мечом Ария.
Весь Колизей с ревом вскочил со своих мест. Зрители восторженно топали ногами, так же, как и неделю назад, когда ликовали по поводу победы Беллерафона. Они вопили во все горло, срывали с пальцев золотые кольца, дождем осыпали серебряными монетами одинокую фигуру, застывшую на белом песке арены. Мужчины утирали с глаз слезы, уверенные в том, что перед ними сам бог войны, сошедший на землю, чтобы оказаться среди простых смертных. Женщины с рыданиями рвали на себе платья, обнажая грудь, и кричали, что будут любить его вечно.
Восседавший в своей ложе император одобрительно кивнул. Арий швырнул меч на песок, и трибуны вновь огласились криками любви, и обожания.
И все же он был несчастен. Несчастен, несмотря на лавину обрушившейся на него славы. Впрочем, кто в это поверит?
Глава 3
Лепида
Красота — это дар судьбы. Каждый раз, когда я смотрюсь в зеркало, я понимаю, что Фортуна благосклонна ко мне.
Я оделась с хорошо продуманной тщательностью. Сиреневый шелк выгодно оттенял мои черные волосы, кольца с аметистом на каждой руке подчеркивали изящество пальцев, ожерелье с аметистами удивительно гармонировало с длинной шеей. И всю эту красоту мне пришлось разрушить, скрыть от посторонних взглядов плащом из грубой коричневой шерсти и присутствием этой уродки Теи с ее лошадиным лицом и пустыми глазами.
— Я это не понесу, — сказала я, сморщив нос, когда она протянула мне корзинку.
— Девушки-рабыни всегда отправляются на рынок с корзиной в руках.
Я с отвращением взяла корзину и вновь посмотрелась в зеркало. По крайней мере, никто не узнает в рабыне прекрасную Лепиду Поллию, когда она тихонько прошмыгнет под своды школы гладиаторов.
— Иди позади меня, — прошипела я своей рабыне, когда та зашагала рядом со мной.
— Девушки-рабыни по пути на рынок никогда не ходят одна за другой, — бесстрастно пояснила Тея. — Они ходят только рядом, парами.
Эта неуклюжая черномазая уродина никогда не улыбалась мне, но я не могла избавиться от ощущения, что она втайне ухмыляется, насмехаясь надо мной. Я презрительно фыркнула и поспешила прочь от прекрасных мраморных вилл в направлении убогих домов на окраине Субуры, где располагались школы гладиаторов.
Даже теплый весенний день был бессилен сделать Марсову улицу краше.
Надушенный мальчишка-раб попытался заставить меня ждать в прихожей, но я жестом подозвала Тею, и та сунула ему мелкую монету, что позволило мне беспрепятственно пройти дальше. Никто не смеет задерживать Лепиду Поллию против ее желания. Меня провели в узкую комнату, где стоял стол, за которым сидел пухлый ланиста, которого я застала на середине фразы.
— …оскорбляешь тех, кто тебя обожает? Швыряешь кувшины вина в своих благородных поклонников, когда те просят у тебя на память локон волос? Или сбрасываешь пьяных молодых патрициев в Тибр, когда они желают помериться с тобой силами?
Арий сидел на скамье у стены с кувшином в руке, откинув голову назад и закрыв глаза, и отпивал маленькими глотками вино. У меня перехватило дыхание при виде его рук, грубых, загорелых, мускулистых, покрытых шрамами…
Галлий по-прежнему не замечал меня.
— Я согласен дать тебе толику свободы, мой мальчик. Возможно, даже часть заработанных тобою денег. Разрешу одному гулять по вечерам. Но только если ты будешь прилично вести себя…
Я нарочито громко прокашлялась. Галлий смерил меня неприязненным взглядом.
— Тебя прислали передать подарок, девушка? Можешь положить его вот сюда.
— Я Лепида Поллия, — заявила я, сбрасывая с головы капюшон так, чтобы стали видны кольца на моих пальцах. — Возможно, я действительно пришла с подарком. Сейчас увидим.
Я бросила взгляд на Варвара, но он в очередной раз отпил из кувшина, так и не удостоив меня вниманием. Впрочем, ничего удивительного. Разве он ожидал меня увидеть в казарме? Галлий же вскочил из-за стола, склонился над моей рукой, предложил кресло, жестом велел мальчику-рабу взять у меня плащ. Затем его взгляд скользнул мимо меня. Он явно искал глазами моего отца. Не найдя никого, он снова посмотрел на меня, на этот раз с куда большим интересом.
— Здесь ужасно душно. Мой веер, Тея. — Я потерла лоб, и Тея послушно подала веер из павлиньих перьев. Теперь Варвар смотрел на меня, смотрел пристально, не упуская ничего, даже глянул на мою рабыню, когда та отошла в угол. Я грациозно сбросила с себя плащ, чтобы он смог полюбоваться моими белыми плечами. — Не желаешь поздороваться мо мной, Варвар?
Галлий локтем подтолкнул неотесанного бритта.
— Доброе утро, — выдавил Арий, пожав плечами.
— Я вижу, у тебя были другие посетители. — Я обвела глазами комнату, разглядывая присланные поклонниками дары: серебряное блюдо, плащ милетской шерсти, искусно украшенный пояс для меча. — Мой отец прислал тебе фалернского вина. Во время пира я заметила, что оно тебе понравилось.
— Вино есть вино, — равнодушно произнес Арий, когда Галлий снова толкнул его локтем.
Я махнула рукой, демонстрируя дорогие браслеты на запястьях.
— В любом случае, я пришла попрощаться. Завтра я уезжаю в Тиволи. Мне стало известно, что ты не будешь участвовать в боях до наступления осени. Так что я смогу провести лето вдали от Рима и ужасной жары.
— Верно, — согласился Галлий и предложил мне блюдо с засахаренными грушами. — Какой смысл выпускать на арену Варвара во время летних игр? В отсутствие императора это будет жалкое зрелище. Вот в сентябре, на Римских играх…
— Верно, — согласилась я, отправив в рот один за другим три ломтика груши. — Хочешь, чтобы я устроила для тебя главный поединок на Римских играх, а, Варвар?
Галлий вновь подтолкнул его локтем. Арий немигающим взглядом посмотрел на меня, и я испытала легкое возбуждение. Его лицо как будто было высечено из гранита. Ну берегись у меня! Я когда-нибудь увижу, как оно пойдет трещинами.
— Конечно, он будет в восторге, высокородная Лепида, — ответил за него Галлий. — Это очень любезно с твоей стороны.
Я не могла спокойно смотреть на этого Варвара. Арий сложил на груди обожженные солнцем руки, и я представила себе, каково оказаться в его объятиях. Сделает ли он мне больно, если обнимет? Я почему-то была уверена, что да.
— Спасибо, — поблагодарила я Галлия. — Если он когда-нибудь захочет поблагодарить меня, то пусть пошлет записку в дом моего отца в Тиволи. Тея, мой плащ.
Тея шагнула ко мне с плащом. Неужели она тоже смотрела на эти руки, представляя себя в его объятиях? Похоже, что да. Я улыбнулась Арию и шагнула за порог. Дверь еще не успела закрыться за мной, как Галлий вновь принялся чихвостить упрямого гладиатора.
— …она вертит отцом, как хочет. Так что будь вежлив с ней в следующий раз, когда она…
Мы вышли из темной казармы на свет.
— Прекрасно, — сказала я и улыбнулась. — Жаль, конечно, что мы уезжаем в Тиволи, но, возможно, оно даже к лучшему. Галлий не позволит Варвару участвовать в летних играх, так что император и все остальные будут с нетерпением ждать его участия в боях осенью. Так же как он будет с нетерпением ждать меня.
— Да, госпожа.
— Он захочет меня, вот увидишь. — Мне снова вспомнилось бесстрастное лицо Варвара. — Он все время молчал, но ведь ему еще ни разу не приходилось разговаривать с женщиной столь знатного происхождения. До этого он знался лишь с проститутками и рабынями вроде тебя. Кстати… — Увертываясь от бесчисленных назойливых торговцев с деревянными лотками, мы дошли до конца Форума и направились к дому моего отца. — …Я не намерена брать тебя с собой в Тиволи.
— Да, госпожа?
— Я решила вместо тебя взять Ириду. Она будет меня причесывать и приносить завтрак. Ты останешься здесь и выполнишь несколько моих поручений. Скажем так, я хочу убедиться в том, что Арий меня не забудет, и ты будешь напоминать ему обо мне. — Я любезно улыбнулась. Лошадиное лицо моей рабыни оставалось бесстрастным. Настанет день, и я добьюсь, что и это лицо пойдет трещинами. — Ты же сама будешь не против увидеться с ним, верно, Тея? Думаю, не против. А сейчас ты можешь идти следом за мной.
— Я дорого стою, — вместо приветствия сообщила она. — Но для тебя сделаю это бесплатно.
Он узнал эти светлые волосы, нежное накрашенное лицо, полупрозрачное лимонно-желтое платье. Лелия, одна из самых роскошных куртизанок Рима.
— Как ты попала сюда?
— Меня провел сюда твой ланиста, — ответила она и, сев на кровать рядом с ним, одарила ослепительной улыбкой. — Я обожаю гладиаторов.
Незваная гостья провела кончиком пальца по его руке. Арий немного отодвинулся.
— Достопочтенная…
— Называй меня просто Лелией. — Она прижалась к нему и прикоснулась к его колену. — Я вижу, ты нервничаешь, Варвар. У тебя никогда не было женщины вроде меня?
Никогда не было. Никакой женщины вообще. Другим глазам — темным и спокойным — он мог бы признаться в этом. Но только не этим, голубым и горящим возбуждением.
— Так расскажи мне, — она закинула ногу на его колено и провела ступней по его ноге, — как варвары занимаются любовью?
Заниматься любовью? Да откуда это знать ему, с тринадцати лет таскавшему на римских шахтах каменные глыбы? Он видел, как это делали римляне, смеясь, сопя, совершая нелепые движения, а стоявшие рядом товарищи подбадривали их, приставив нож к горлу распростертой на земле женщины. Такое ему доводилось видеть часто. То, как это делают римляне, он знал хорошо.
Лишь однажды он попытался познать женщину. Это была проститутка, жившая на шахте, ему самому было тогда лет пятнадцать. Он сделал ей больно, ненарочно, разумеется, но она в страхе убежала от него. Больше он ни разу не пытался.
К его губам приблизился благоуханный рот Лелии. Арий моментально напрягся.
«Не смей!» — приказал он себе, но его пальцы уже впились ей в плечи.
— Ты делаешь мне больно. Останутся синяки, — сказала она с улыбкой. — Тебе нравится делать это грубо?
Он поднялся так быстро, что уронил Лелию на пол. Он схватил ее за руки и рывком заставил подняться с пола.
«Сделай ей больно, — прошипел проснувшийся в его голове демон. — Так, как всегда поступают мужчины».
Он выставил Лелию за порог прежде, чем та успела запротестовать, и пинком захлопнул за ней дверь. Оставшись одни, он опустился на кровать и, привалившись спиной к стене, провел рукой по волосам. Из-за двери до него донесся поток пронзительных проклятий. Арий закрыл глаза и, опустив голову, уткнулся лицом в ладони. Он ждал, когда в теле утихнет дрожь. Ждал, когда шепот демона призовет его к такой простой и незамысловатой вещи, как убийство.
Убивать он умел. Убивать было легко.
Тея
Моя хозяйка и ее отец отбыли на следующее утро вместе с вереницей повозок, рабов и серебряных паланкинов. Я осталась одна. Я была свободна. Свободна! Июльское солнце спалило мне кожу до золотистокоричневого оттенка, уличная пыль забивала горло и легкие, душные ночи неизменно вызывали кошмарные сны, но я была свободна. Мне не нужно было неотлучно таскаться за Лепидой с веером или носовым платком, я больше не слышала колкостей, то и дело слетавших с ее злого языка. Не было и ее отца, Квинта, с его противными, липкими руками. Не нужно было выполнять нудную, утомительную работу, потому что управляющий перестал следить затем, когда мы уходим из дома и когда возвращаемся обратно, потому что сам он отправлялся на целый день в цирк смотреть гонки колесниц. Рабы-мужчины разбрелись по тавернам, служанки улизнули к своим любовникам. Короче говоря, всем было наплевать на свои обязанности.
Я стала выходить из дома по вечерам, когда на город опускались пурпурные сумерки, и подолгу сидела на углу на раскаленных дневным зноем камнях, слушая уличных музыкантов, которым бросала несколько медяков в награду за то удовольствие, что доставляло мне их искусство. Я даже научилась тайком проникать в Театр Марцелла, чтобы послушать, как прославленная певица исполняет греческие песни. Я старалась запомнить каждый ее жест, которыми она сопровождала пение, чтобы потом повторить их в увядшем от зноя саду в доме Квинта Поллио. Мне вспоминалась улыбка матери и ее слова:
— Какой прекрасный голос будет у тебя, когда ты подрастешь!
И тогда на меня накатывало молчание, и я пряталась с любимой голубой чашей с изображениями нимф, потому что моей матери больше не было со мной и некому было петь мне колыбельные, и с годами я прониклась убеждением, что это моя собственная вина.
Я, конечно же, видела Ария Варвара. Ланиста возил его по всему городу, выставляя на показ как призового жеребца. Он таскал его в театр смотреть постановки комедий, на Марсово поле, куда обычно ходят на других посмотреть и себя показать, в Большой цирк, Циркус Максимус, где проводились гонки колесниц. Где бы Арий ни появился, люди со страхом и уважением уступали ему дорогу и возбужденно перешептывались за его спиной.
— Ему не выдержать нового поединка, — болтали в тавернах. — Победа над Беллерафоном — это чистой воды случайность.
— А как же амазонки? — задавал встречный вопрос какой-нибудь поклонник Варвара.
— Да с женщинами расправился бы любой!
— Нет, Варвар, он особенный. Вы только подождите начала Римских игр в сентябре… — и тут же следовал новый довод. И так до бесконечности.
Странно, хотя Арий не жаловал поклонников и пил в тавернах в одиночку, сотни жителей Рима были бы рады составить ему компанию.
Его лик стал появляться повсеместно. Скверно исполненные изображения украшали стены деревянных построек возле Колизея. В одном переулке мне бросились в глаза грубо начертанная мелом надпись: «Арий Варвар заставляет печально вздыхать всех девушек!» Торговцы предлагали желающим купить аляповатые портретики знаменитого гладиатора, подвешенные к цветастым ленточкам. В тавернах ему бесплатно предлагали вино, а проститутки обещали любовные ласки даром. Арию, рабу и варвару, которого, когда он испустит дух, порубят на куски мечом и скормят львам. Нет, ему не быть похороненным с почестями, не встретиться со своими богами в гробнице. Он стоял ниже самого гнусного отребья, хотя и был в глазах других важной фигурой. Когда народ слишком громко возмущался новыми налогами, бои с его участием успокаивали недовольных. Его присутствие приятно возбуждало самых взыскательных патрициев, пресыщенных скучными пирами, и отвлекало их от заговоров. Эпилептики покупали флаконы с его кровью, в надежде излечиться от припадков. Невесты дрались из-за его копья, чтобы с его помощью сделать в день свадьбы ровный пробор и тем самым обеспечить себе счастливый брак.
И все это безумие прекратится в одночасье, стоит ему проиграть следующий бой. Интересно, надолго ли его хватит?
— Дикари никогда не живут долго, — произнес назидательным тоном пожилой легионер, со стуком ставя на стол жбан с пивом. Дело было в таверне, куда я ходила петь. — Чем он отличается от тех дикарей, против которых я воевал в Британии? Он слишком много сил вкладывает в каждый удар. Дикари всегда плохо кончают, потому что не дорожат жизнью.
Совершенно верно, подумала я. Мужчины, которые хотят погибнуть, обязательно умирают, и в улыбке Фортуны, которой она одаривает гладиаторов, всегда сквозит лукавство. Но…
Я заметила шагавшего через Форум Ария. Широкие плечи, железная хватка рук, сцепленных за спиной, бесстрастный и вместе с тем свирепый взгляд, которым он буравил истекавшего потом брюзгливого Галлия, суетливо семенившего рядом с ним. Тонкий лед поверх дикарской свирепости — крепкое варево, и поклонники жадно его хлебают. Поверхность льда гладкая, на ней не единой трещины, однако город полнится невероятными историями об убитых в уличных стычках, о тавернах, которые он разгромил в приступе пьяной ярости, о соперниках, которых он лишал жизни во время учебных поединков, о толпах, что ежедневно стекаются на Марсову улицу в надежде увидеть своего любимца.
Да, пока Варвар жив, он будет оставаться предметом всеобщего обожания, и его восхождение к вершинам славы будет продолжаться.
«Что нового в Риме?» — спрашивала Лепида в письме после небрежного описания прохладных ветров и ласковых дождей, успеха у мужчин на тамошних званых ужинах, строчек о том, как она затмила своей красотой всех остальных юных женщин в Тиволи. В ответ я сочинила изобретательный отчет о кутежах Ария, поименно называя вымышленных красоток, якобы бесплатно предлагавших ему свое тело, и тонко намекала, что он не отказал ни одной из них.
«О, как ты разговорчива, — писала Лепида в ответном письме. — Тебе следует отправлять их каждую неделю. И не думай, что я не узнаю, если ты нарочно потеряешь их».
Под словом «их» подразумевалась пачка писем, написанных заранее на дорогой бумаге, надушенных, скрепленных печатью и адресованных «гладиатору Арию». Надпись была сделана рукой Лепиды, не слишком уверенно владевшей пером. Я послушно взяла одно из этих посланий и отправилась на Марсову улицу.
— Ах, да! — промурлыкал Галлий. — Служанка Лепиды. У тебя записка от твоей госпожи? Ох уж эти женщины из знатных семей и их интриги! Не бойся, я сохраню ее тайну. — С этими словами ланиста исчез, я же осталась наедине с Варваром.
Какое-то мгновение мы просто смотрели друг на друга.
— У меня к тебе письмо от моей хозяйки, — решительным тоном сообщила я.
— Я не умею читать, — скупо пожал он плечами. — Только сражаться.
— Мне велено прочитать его тебе вслух, — ответила я, сломав печать на письме. — «Мой дорогой Арий! — прочитала я, чувствуя, как краснеют мои щеки. — Какая ужасная скука тут у нас в Тиволи, где не устраивают никаких игр. Я с нетерпением ожидаю гладиаторских поединков, которые начнутся, когда я вернусь. Я уговорила отца сделать твой поединок главным. Надеюсь, ты не совсем забыл обо мне. Лепида Поллия».
Я снова сложила письмо.
— Будет ответ?
— Нет, — ответил он и, сложив на широкой груди мускулистые руки и устремив взгляд в окно, прислонился к стене.
— Ей это не понравится, — сказала я и случайно заметила, что шрам у него под ухом тянется дальше, прячась под рыжими волосами.
Арий ничего не ответил. Я поклонилась и повернулась, чтобы уйти.
— Кажется, я видел тебе на прошлой неделе в «Золотом петушке».
— Да, хозяину таверны нравится как я пою.
На следующий вечер я увидела Ария в этой самой таверне, где он пил вино. Он не обратил на меня внимания.
Прошла еще одна неделя, и я принесла новое письмо.
— Ответа не будет, — сказал он.
— Отлично.
— Сегодня жарко.
— Жарко?
— Может, и нет. В Иудее, наверно…
— Нет, нет. Жарко.
Каждую неделю я приходила с «новым» письмом Лепиды. Читала его вслух. Затем ждала все тех же привычных слов.
— Порезалась? — как-то раз спросил он, указав на мое аккуратно перевязанное тряпицей запястье.
— Да, — спокойно ответила я и повернула руку, чтобы не были видны шрамы.
Слишком поздно.
— Твои руки похожи на мою спину, — заметил он и посмотрел мне в глаза. У него самого глаза были серые, но вовсе не холодные, как утверждали некоторые.
Среди рабов и рабынь в доме Квинта Поллио была одна старая женщина, прачка, родом из Бригантин. Я попросила обучить меня песне на ее родном языке. У песни оказалась красивая мелодия и непривычные, чужие слова.
— Это песня о доме, — пояснила старая прачка, — как и все песни рабов.
На следующий вечер, точнее уже в предрассветный час, в «Золотом петушке», когда Арий мрачно пил, сидя в углу таверны, я спела бригантийскую песню о доме. Я пела ее нежно, и красивая печальная мелодия заполняла все помещение. Арий так и не поднял голову, но на следующий день, когда я пришла с очередным письмом, спросил меня:
— Откуда ты знаешь эту песню?
— От одной рабыни, — ответила я и пожала плечами.
Он ничего не сказал, но после этого я стала лучше понимать выражение его глаз, чему была несказанно рада.
Жара сводила его с ума. Скука и ничегонеделание были ужасны, но главным образом он изнывал от ленивой, одуряющей жары. Он боялся арены и просыпался с проклятиями, разбуженный грохотом рукоплесканий и ревом трибун, что не смолкали в его голове. Однако при мысли о приближающихся играх ему делалось лучше. Все что угодно, лишь бы не чувствовать, как от жары в жилах закипает кровь.
Он прошмыгнул во двор. Здесь полуденное солнце создавало над песком призрачные, струящиеся миражи. Взяв в руки учебную деревянную рапиру, он сбросил с себя тунику и начал отрабатывать выпады и удары. Утомительные механические упражнения доставляли удовлетворение если не его нраву, то телу. Перед учебным боем учитель фехтования поставил его в пару с каким-то греком. Арий не стал ждать, когда соперник отсалютует ему, и взмахнул мечом.
— Остановись! — крикнул грек и отскочил в сторону. — Это учебный бой!
«Убей его», — прошептал демон, поднимая от колец голову.
Он бросился вперед. Соперник вскинул меч. Дерево с глухим стуком ударилось о металл. Рапира Ария сломалась, разлетелась в щепки. У него осталась лишь рукоятка. Грек отскочил назад. Арий бросился на него и деревянной рукояткой нанес противнику удар в нос. Грек пошатнулся, и оба, сцепившись, полетели на землю. Шершавой от налипшего песка рукой Арий сдавил греку горло.
«Убей его! Убей его!»
— Хватит! Прекрати, мой мальчик!
Арий непонимающе моргнул.
— Побереги себя, — сказал застывший в дверном проеме Галлий. — Я хочу, чтобы в сентябре ты был готов к Римским играм.
Арий медленно палец за пальцем ослабил хватку на горле грека. Затем отодвинулся и сел на песок. Тело было липким от пота. Наконец, он медленно поднялся на ноги.
— Сволочь! — прорычал полузадушенный грек. — Ты сломал мне нос!
«Убей его! — вновь прошептал демон в голове Ария. — Тебе ведь этого хочется. Убей его!»
Но Арий развернулся и, чувствуя на себе взгляды других бойцов, ушел прочь. На улице, точнее на другой ее стороне, его встретили любопытные взгляды прохожих.
В голове мелькнула странная мысль — как давно его беззастенчиво разглядывают посторонние люди?
Было безветренно, но от жары пот уже испарился. Неожиданно его с невиданной силой захлестнула волна тоски по дому. В душе возникло острое желание вновь оказаться под прохладным дождем среди зеленых гор, окутанных туманами, которые ласкали ему кожу, как и мягкие ветры, шевелящие
кроны дубовых рощ. Как он устал от чужого неба и раскаленного сухого воздуха! Прежде чем он успеет состариться, зной иссушит его, превратит в сухое бездушное создание, хрупкую пустую оболочку.
С этими мыслями он зашагал прочь, яростно рассекая руками горячий воздух. На краю двора собралась толпа. Незнакомые люди разглядывали его сквозь прутья решетки и делали ставки на будущие бои.
Убей их!
Он уже собрался повернуть обратно к казармам, однако заметил по ту сторону решетки Тею. Она стояла на углу двора, чуть в стороне от толпы, перекинув через плечо длинную косу темных волос и прижимая к узкому бедру корзинку. Не иначе как шла на рынок, но по дороге остановилась и теперь, как обычно хмуро, но спокойно, смотрит на него. Он ответил на ее взгляд. Ее запястье снова было перебинтовано.
Он сам не знал, почему поднял меч и отсалютовал ей.
— Идущие на смерть приветствуют тебя! — услышал он голоса других гладиаторов.
Затем Арий, взмахнув мечом, описал в воздухе дугу и задержал острие в дюйме над песком. В следующее мгновение он сделал выпад в сторону воображаемого противника, отскочил, развернулся и сделал еще один ложный выпад. Это было сродни медленному и грациозному танцу с мечом под лучами жгучего солнца, что падали ему на спину и отражались от поверхности острого лезвия. Каждый мускул его сильного тела перекатывался под кожей гладко и плавно, как теплый мед. Тея не могла оторвать глаз от этого великолепного зрелища.
«Хвастун», — усмехнулся маленький черный демон.
Арий резко развернулся, занес над головой меч и метнул его прямо в песок. Клинок вонзился глубоко в землю и остался стоять, подрагивая. Арий поднял глаза и посмотрел на Тею.
Толпа разразилась рукоплесканиями, но для него их звук донесся как будто издалека. Зато Тея наконец улыбнулась ему.
— Еще одно письмо от моей хозяйки, — сказала Тея и удивленно подняла брови. — Ты не будешь против, если я прочитаю его тебе? Впрочем, ты уже и так знаешь, что она тебе пишет.
Арий пожал плечами и попытался вдеть нитку в иголку, которые позаимствовал у одного раба. Нужно было зашить порванный рукав туники.
— Тогда я не стану читать. — Тея обхватила себя руками за талию. — Ответ будет? Она все время спрашивает меня, почему ты ей ничего не отвечаешь.
— У нее глаза, как у хорька. Передай ей, что я так сказал.
Его слова заставили Тею рассмеяться.
— Она изобьет меня до полусмерти. Но я не против.
На какое-то мгновение стало тихо. Арий наконец вставил нитку в игольное ушко и принялся неумело пришивать рукав к тунике.
— Для тебя, наверняка, это сделают другие рабы, — заметила Тея.
Арий снова пожал плечами.
— Ненавижу просить Галлия о чем бы то ни было.
— Тебе надо самому научиться чинить одежду. Знаешь, ты сейчас все делаешь неправильно.
Арий неожиданно для самого себя рассмеялся.
— Никогда не учился шить.
— Я могу научить тебя.
— Хорошо. — Он впервые привел ее в свою каморку. Тея с интересом потрогала стены, прикоснулась к спинке стула, грубому одеялу на кровати.
— Что?
— Я не то ожидала увидеть. Здесь все просто. — Она обернулась и снова улыбнулась. — Где иголка?
— Вот.
— Хорошо. Садись.
— Зачем?
Она положила руки ему на плечи и, подтолкнув, заставила сесть на стул. Ее голос сделался чуточку игривым.
— Потому что я твоя наставница. Учитель должен возвышаться над учеником. Во-первых, эту тунику нужно снять. Никогда не чини одежду, не сняв ее с себя.
Арий послушно сбросил тунику. На нем оставалась лишь юбка для учебного боя, но он ощущал себя совершенно голым. Его новоявленная наставница улыбнулась уголком рта. Впрочем, руки ее были заняты делом.
— Нужно отрезать разлохматившиеся края. У тебя есть нож?
— Галлий не разрешает мне иметь острых предметов.
— На его месте я поступила точно так же. Вдень иголку и наложи края один на другой. — Она показала ему, как нужно обращаться с иглой. — Теперь возьми ее в руки и делай вот такие стежки.
Рядом с ее образцом сделанные его рукой стежки смотрелись грубыми, неаккуратными.
— Плохо. Не получается.
— Неужели Верцингеторикс разбил Юлия Цезаря в первом же сражении? Попробуй еще раз. Осторожно, а то сломаешь иголку, если будешь сжимать ее с такой силой. Это не меч, Арий.
Она произнесла его имя, и оно впервые не резануло ему слух. Наоборот, ему было приятно слышать его из ее уст. Затем она склонилась над его плечом, чтобы направить его руку. Прикосновение ее ловких, слегка загрубелых пальцев было тоже приятным. Он чувствовал на затылке ее дыхание, свободные кончики ее волос щекотали ему кожу. Несмотря на полуденный зной ее кожа оказалась гладкой и прохладной. Внезапно в его тесной каморке как будто сделалось еще жарче.
Неожиданно иголка сломалась в его сильных пальцах пополам.
Он вскочил и оттолкну ее от себя к кровати.
— Убирайся!
— Что? — Полулежа на его грубом одеяле, она удивленно подняла на него глаза. — Арий…
— Уходи! — грубо бросил он ей, прежде чем демон успел прошептать: сделай ей больно.
Ее лицо моментально померкло. Это была вторая женщина, которую он бесцеремонно выставил за дверь. Только в отличие от первой это ушла молча, без единого слова, тихо и на собственных ногах.
Со злостью захлопнув дверь, Арий бросился на койку. Он лежал, закинув руки за голову, и слушал, как затихают в коридоре ее шаги. Вот она прошла в дверь, вот за ней закрылись ворота, вот она возвращается в дом Поллиев, к своей голубой чаше…
Он вскочил и рывком распахнул дверь.
— Галлий!
— Что, мой мальчик? — спросил, тотчас возникнув в коридоре, ланиста, напомаженный, разодетый в пух и прах по случаю какого-то званого ужина. Рядом с ним, держа футлярчик с ароматическим шариком, стоял хорошенький мальчик-раб.
— Больше никогда не пускай ее сюда! Никогда.
Он захлопнул дверь, и демон радостно расхохотался.
Глава 4
Тея
— Осторожнее с этими браслетами, тупица!
Праздник Вальтурналий закончился, и моя хозяйка вернулась в Рим.
— Что за лето! — Лепида потянулась как кошка, невероятно бледная, гладкая и красивая. — В августе в Тиволи так хорошо! Ничуть не жарко. О боги, Тея, да ты стала совсем черная от солнца. Ты вся высохла и теперь похожа на седло кавалериста. Ты никогда не догадаешься, что сделал император! Марк узнал об этом раньше других. Он развелся со своей женой! Я имею в виду Домициана. Он отправил ее не то в Брундизий, не то в Тоскану. Ты можешь себе представить? У нее, оказывается, был любовник, говорят, какой-то актер по имени Парис, игравший в Театре Марцелла. Я, хоть убей, не могу представить себе императрицу с каким-то актеришкой, так что, скорее всего, это сплетни, однако кто-то сказал, будто Домициан приказал убить этого Париса. Он очень ревнивый муж.
— Разобрать твои вещи, госпожа?
— Да, разбирай. Сегодня к нам на ужин придет Марк, так что оставь желтое шелковое платье. На счет драгоценностей можешь не беспокоиться, ради Марка нет смысла наряжаться.
Лепида нетерпеливо посмотрела на свое обручальное кольцо, затем перевела взгляд на меня.
— Значит, Тея…
— Принести притирание из жасмина, госпожа?
— Не увиливай, Тея. Как ты выполняла мое летнее поручение?
— Он не получил три последних письма.
Тонкие черные брови выстроились в одну линию.
— Если ты их потеряла…
— Нет, не потеряла, — ответила я и занялась флаконами с благовонными притираниями. — Он отказался увидеться со мной.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я пошла отнести ему письмо, — бесстрастно принялась объяснять я. — Он велел мне убираться прочь.
— Но почему? Почему?
— Я не знаю.
— Ты идиотка, ты все испортила! — Лепида влепила мне звонкую пощечину. — Мне следовало знать, что ты все испортишь! Не так, так иначе. Как ты посмела!
С этими словами он принялась мерить шагами комнату.
— Да как он только посмел! Ничтожество, жалкий гладиатор! Неужто он забыл, кто я такая? Я скажу отцу, и его бросят на растерзание львам! — Она недовольно посмотрела в мою сторону. — У него кто-то есть, верно? Кто она? Говори! Какая-нибудь распутная патрицианка? Какой-нибудь мальчик-трибун?
— Нет. Он просто… просто не любит людей.
— Может, он… застенчив?
— Я не знаю…
— Кто бы мог подумать? Варвар застенчив. Пожалуй, все становится понятно. То есть я хочу сказать, у него до этого не было никого вроде меня. Может быть, что-то еще можно сделать. — Грациозно присев на кушетку, Лепида пронзила меня колючим взглядом. — Я больше не стану поручать тебе доставку писем, потому что ты обязательно все испортишь.
Я раболепно склонила в поклоне голову и вышла, мысленно вознеся слова благодарственной молитвы. Бог евреев строг, безжалостен и лукав, но иногда он смягчает нрав. Да, после возвращения Лепиды, мне уже не петь в тавернах, ну и пусть, главное, я больше не увижу Ария. А поскольку я больше его не увижу — размахивавшего двуручным мечом во дворе гладиаторской школы, глядя мне в глаза и салютуя мне, то…
Гладиаторы. Неудачный выбор… во всех отношениях. Прожив какое-то время в доме Поллиев, я знала все о вложении денег. Гладиаторы — плохое вложение. Они слишком быстро умирают.
— Тея! — Огромная влажная рука схватила меня за локоть. Подняв голову, я увидела похотливую физиономию Квинта Поллио. — Тея! Ты мне как раз и нужна.
Укутавшись в плащ из грубой шерсти, он добрался до Аврелианских ворот.
— Эй, ты, не надо красться тайком как подлый преступник! — окликнул его стражник. — Давай посмотрим твои бумаги… подожди-ка, я тебя знаю! — Арий запоздало прикрыл гладиаторскую татуировку на руке. — Я видел тебя на арене. Ты Варвар! Что ты здесь делаешь?..
Арий сначала левой, а затем правой рукой ударил стражника в живот, и тот полетел на пыльную землю.
«Жаль, что у меня с собой нет меча, — тоскливо подумал он, когда его, крепко держа за локти, волокли обратно на Марсову улицу. — Им ни за что не одолеть меня, будь у меня меч».
— Да, спасибо вам, — холодно поблагодарил Галлий, передавая стражникам деньги. Во время следующего учебного боя на нем будут цепи… Так вы говорите, что он зубами разорвал стражнику сухожилия? Думаю, это поможет смягчить его боль. — В руки тех, кто водворил Ария назад в казарму, перекочевало еще несколько монет. Четверо подручных Галлия надели ему на руки и ноги кандалы. Услышав знакомый лязг цепей, Арий понял: улыбкам и ласкам настал конец.
Как только за недовольными стражниками закрылись ворота, Галлий повернулся к нему и тяжелой рукой с унизанными перстнями пальцами дважды ударил по лицу. Удивительно, но под слоем жира и пухлой розовой плоти оказались крепкие мускулы.
— Глупый мальчишка! — прошипел ланиста и обрушил на Ария поток мерзкой брани, какую только можно услышать из уст обитателей римских трущоб.
— Сразу видно твое низкое происхождение, Галлий, — язвительно заметил Арий. Еще удар, и он больно приложился затылком о стену.
— Значит, ты сделал большую ставку на побег? — процедил ланиста. — И с чем бы ты оставил меня? С пустыми карманами, вот с чем ты оставил бы меня! Глупый мальчишка! — За этими словами последовала новая зуботычина.
Арий ощутил привкус крови во рту, но вместо ярости его почему-то охватил приступ злорадного веселья. Удары, цепи, проклятия. Он отплатит ему той же монетой.
— Ступай в преисподнюю, Галлий! — произнес он и оскалил в усмешке окровавленные зубы.
Один из подручных Галлия нанес ему новый удар.
— Портишь свое имущество? — ехидно задал вопрос Арий.
— Мне теперь не до защиты имущества, — проговорил ланиста; его подкрашенные глаза превратились в узкие щелочки. — Мое имущество уже исчезло в сточной канаве. А знаешь почему, Варвар? Потому что император объявил войну хаттам. Он отправляется в Германию, к своим легионам. Как ты думаешь, кто оплатит сентябрьские игры, когда император не сможет присутствовать на них? И будут ли вообще эти игры? А это значит, что этим летом, когда ты напивался до бесчувствия, я терял мои деньги!
— Да, плохи дела, — притворно посочувствовал Арий и тут же получил очередной удар по губам.
— И все равно ты будешь сражаться, мой мальчик. Может быть, и не в Колизее, без розовых лепестков и серебряных монет, дождем осыпающих твою голову, но поверь мне, мой мальчик, ты будешь сражаться. На всех дешевых аренах с облезлыми львами и старыми гладиаторами, на аренах посреди покрытых плесенью трибун, куда будет битком набиваться плебс, лишь бы поглазеть на твою смерть, ты будешь сражаться. Ты вернешь мне все деньги, которые я потерял из-за тебя. За пределами Колизея никому дела не будет ни до каких правил, когда ты подохнешь, потому что твои кишки вывалятся наружу, а из твоей спины будет торчать меч, я буду рядом. И тогда я улыбнусь, мой мальчик, потому что ты не стоишь и плевка.
— Да, не слишком большая потеря будет для тебя, — насмешливо отозвался Арий, — протухшей бочки жира.
Заметив, как нему приблизились подручные Галлия, он крепко зажмурил глаза.
В ту ночь он спал на животе. Спина его почти до самых костей была раскроена безжалостными ударами веревки, вымоченной в рассоле. Когда его благодушие сменилось болью, он представил себе, как ему на лоб ложится прохладная ласковая рука и нежный голос успокаивает и погружает в приятный сон.
В ту осень Колизей простоял пустым, и бойцы из крупных гладиаторских школ отдыхали и предавались радостям жизни. Но поединки перенеслись на улицы, и в гуще каждого поединка оказывался знаменитый Варвар.
Были в городе ветхие арены, где песок был грязным и поросшими сорной травой. Трибуны здесь были забиты до отказа подонками из римских трущоб, вертлявыми людьми с бегающими взглядами, людьми, которые рукоплескали лишь в тех случаях, когда проливалась кровь, и никогда не даровали жизнь храбрым, но неудачливым гладиаторам. Но когда Варвар одним ударом меча разрубил напополам гиганта-испанца, они с ревом вскочили со своих мест и устроили бурю оваций и, подобно морю, выплеснулись на арену.
Были убогие таверны, где со столов убирали посуду лишь затем, чтобы можно было вытащить из столешницы ножи, а тела убитых неудачников сбрасывали в Тибр. Когда Варвар вонзил пару ножей прямо в нос какому-то италийскому моряку, поклонники буквально залили его по уши вином и носили по всей таверне на руках.
Были в районах трущоб переулки, где народ устраивал импровизированные арены, отгораживая их воткнутыми в песок ножами, и на этих аренах уличные бойцы убивали друг друга за пригоршню медных монет. Как-то раз Варвар сошелся в поединке с тремя братьями из Субуры, мастерски владевших ножом. Когда все трое лежали бездыханными на песке, он вонзил кинжал в ногу одному из оскорбивших его зрителей.
Он сражался, когда на его искалеченную острогой руку, в которой он держал меч, набросили петлю, когда рукояткой ножа ему сломали два пальца, когда его на время лишила зрения рана на лбу, обильно залив кровью лицо. Он сражался, когда еще плохо срослись сломанные кости и порванные связки, когда на теле оставались жуткие черные синяки и ожоги от факелов. Он сражался с мечом и щитом, сражался, зажав в руке кинжал или рыбацкую сеть, сражался голыми руками. Одним теплым осенним днем он показал, на что способен даже безоружным, когда большими пальцами рук раздавил сопернику дыхательное горло.
Арий Варвар был любимцем толпы, легендой городских трущоб. Римский плебс безропотно отдавал Галлию последние деньги, до отказа заполняя шаткие трибуны, и неотступно следовал за своим героем. Римляне говорили своим детям, что он дьявол. Они пересчитывали его шрамы и вели учет его победам. Они вопили от восторга и трепетали от ужаса, но всякий раз возвращались, чтобы вновь разразиться истошными криками. Они таскали его, усталого и забрызганного кровью, в таверны, где на него проливались настоящие водопады вина и гроздьями вешались проститутки, где он угрюмо молчал, одиноко сидя в углу, и выходил из состояния сонного оцепенения лишь затем, чтобы наброситься на очередного поклонника, проявившего излишнюю назойливость.
Черный демон в голове Ария весело носился по рекам крови и издавал радостный клекот.
Глава 5
Тея
— Императрица? — услышала я сквозь обильные заросли зеленых кустарников в саду звучный голос сенатора Марка Норбана. — Нет, Лепида, мне ничего не известно о том, что ее восстанавливают в прежнем статусе.
— Но ты же знаешь об императорском семействе буквально все, — обольстительным тоном проворковала моя хозяйка. Я стояла на четвереньках и скоблила плитки фонтана и потому не могла видеть ее лица, однако живо представила себе то выражение, с которым Лепида смотрела на своего нареченного жениха… — Поэтому расскажи мне…
Прогуливаясь, они направились в другой конец сада, но мне по-прежнему было слышно каждое их слово. Марку Норбану, по всей видимости, было уже почти пятьдесят лет, но у него был красивый звучный голос, приученный долетать до самых дальних уголков Сената.
— Я советовал достичь примирения. Императрица пользуется любовью народа, и благодаря ее добродетельной репутации никто не поверит в то, что она изменила императору. За исключением разве что самого императора.
— А как же Юлия? Говорят, что у нее нелады с мужем, неужели они разведутся?
— Нет, — коротко ответил Марк. — Юлию… скажем так, отличают странности. Она хрупкая и болезненная. Ей нужен защитник, покровитель. Она какое-то время пыталась найти его во мне, после того как умер ее отец, но я слишком стар.
— Неправда, ты в самом расцвете лет! — со смехом возразила Лепида, хотя ей было прекрасно известно о том, что Марку сорок шесть лет.
— Нет, что ты, я стар! — запротестовал Марк неожиданно серьезным тоном. — Неужели тебе хочется выйти за меня замуж, Лепида?
Эти слова разожгли во мне еще большее любопытство. Я вынула руки из фонтана и, осторожно просунув нос сквозь заросли кустов, сумела разглядеть роскошные черные волосы моей хозяйки и орлиный профиль Марка на уровне ее лица. Подобно своему царственному деду Августу он был не очень высок.
— Ты же знаешь, тебе не обязательно выходить за меня замуж, — произнес он, когда Лепида собралась что-то сказать. — Я стар, уродлив, горбат и не готов менять давно сложившиеся привычки. Нет, нет, не перебивай меня. Я провел полжизни в Сенате, а другую половину — в библиотеке. Я пишу трактаты, ненавижу пиры, у меня есть сын, который на два года старше тебя. Разумеется, я не пара для такой прелестной юной девушки, как ты.
— Я давно хотела спросить, Марк… Почему ты решил жениться снова? — Тон Лепиды был приторно-застенчивым, но я прекрасно знала, что ей до смерти хочется услышать ответ. — После стольких лет развода?
— Скажу честно, предпочитаю одиночество, — ответил Марк. — Даже будь это не так, нашлось бы не слишком много женщин, готовых сочетаться браком с такой старой развалиной, как я.
Мне стало любопытно: в юности он также страдал от своего уродства? И страдает ли сейчас?
— Но с твоим высоким титулом, твоей образованностью, твоим высокородным происхождением?..
— Ах да, мое происхождение, — отозвался Марк Норбан, и в его голосе прозвучала нотка горького сарказма. — Императорская кровь, текущая в моих жилах, возможно, несколько незаконна, но я последний из оставшихся в живых внуков императора Августа. Император Тит считал, что я не представляю для него угрозы, однако его брата отличает куда более подозрительная натура. Домициану нравится ставить меня в неловкое положение. А надо сказать, что существует не слишком много способов поставить холостяка в неловкое положение, и один из них — вынудить его жениться. — Марк учтиво поклонился. — Особенно на такой прекрасной девушке, как ты, которой больше подошел бы в мужья человек гораздо моложе меня.
Я отлично поняла истинный смысл этих льстивых слов. Каким образом удержать в подчинении подозрительного соперника? Лучший способ — сознательно унизить его, а самый верный способ унизить гордого аскета-сенатора, это навязать ему в жены капризное юное создание. Найдется немало зрелых мужчин, готовых взять в жены пятнадцатилетнюю девушку, как бы ни потешался над ними весь Рим, но только не человек вроде сенатора Норбана. Раньше никому бы и в голову не пришло посмеиваться над сенатором Норбаном, но теперь, после волеизъявления самого императора, Марку Вибию Норбану не избежать насмешек.
Лепида, конечно же, не уловила истинного смысла слов сенатора.
— Значит, это император выбрал меня тебе в жены? — спросила она, и я уловила в ее голосе радость от такой любезности властителя Рима. — Что ж, если он этого хочет…
— Нет, — тон Норбана сделался серьезным. — Если ты предпочтешь другого… я пойму твое желание… и откажусь от этого брака.
— Ты откажешь императору? — удивилась Лепида. — Ради меня?
Я поспешно отвела взгляд. Бедный Марк Норбан! Даже внук проницательного и мудрого императора Августа мог пасть жертвой пары голубых женских глаз. Я поспешно занялась чисткой фонтана. Квинт Поллио через неделю устраивает новый пир для гладиаторов, так что работы по дому, несомненно, прибавится.
Лепида
— Знаешь, я приняла решение выйти замуж за Марка, — сообщила я Тее в купальне, лежа на полированной глыбе мрамора, служившей массажным столом.
— Что, госпожа? — Пальцы рабыни приятно растирали мне спину. Пусть она неумелая, лукавая, грубая и неуклюжая уродина, руки у нее способны творить настоящие чудеса.
— Я выхожу замуж за Марка. Конечно, он стар, но поэтому мне будет легче им управлять. Придет время, и он будет есть из моих рук.
— Хм, — как всегда, вежливо отозвалась Тея. Впрочем, никогда нет уверенности в том, что она не строит рожи за моей спиной.
— Хотя он стар, уродлив и горбат, он все-таки сенатор, — продолжила я. — Кроме того, он принадлежит к императорскому роду. В какой-то степени принадлежит. Да мне и не придется вечно быть его женой, он станет для меня лишь первой ступенькой к восхождению в высшее общество. Когда-нибудь я, Лепида Поллия, прекрасная жена сенатора, вращаясь в кругу знатных патрициев, губернаторов и полководцев, смогу выбрать себя достойного супруга. Разве не так? — спросила я, положив на кулак подбородок. — Я полна прекрасных замыслов. Я вижу, как передо мной открывается широкая дорога, я смогу сделать все, что захочу… Помассируй мне левое плечо, Тея.
— Слушаюсь, госпожа.
— Осторожнее, нежнее. Мне все еще больно от синяков. Позапрошлой ночью отец устраивал пир для гладиаторов, и почетным гостем снова был Варвар. Я велела рабам смешать вино в отцовском кубке так, чтобы оно было вдвое крепче обычного. Он даже не заметил, как я выскользнула в темный сад, где Варвар еле стоял на ногах и, качаясь, разглядывал луну. «Красивая луна», — сказала я и поцеловала его. Наконец я добилась его, — призналась я своей рабыне и повернулась на бок, чтобы она могла помассировать его.
— Госпожа всегда добивается всего, чего только пожелает, — заметила Тея. Я вывернула шею и сердито посмотрела на нее, но ее лицо, как всегда, оставалось непроницаемым. Она права, что тут скажешь? Я всегда получаю то, чего хочу. Я хотела Варвара. В темном саду его руки легли мне на плечи, возможно, для того, чтобы оттолкнуть меня. Но его пальцы впились в мою плоть, а зубы прокусили мою губу до крови.
— Все это было ужасно волнующе, — призналась я и приподняла руку, чтобы Тея получше помассировала мне бок. — Он настоящее животное. Он бы уволок меня в темноту и сделал бы со мной все, что захотел, если бы его ланиста не вышел из дома в сад следом за мной.
— Сандаловое масло или жасминовое, госпожа?
— Жасминовое. Интересно, как повел бы себя отец, если бы узнал… — я хихикнула, выгибая спину. — Он бы рассвирепел. Но скажи, какая разница между тем, чего хочу я, и чего хотят все эти зазнайки-патрицианки?
Конечно, если бы стало известно, что юную девушку из знатной семьи соблазнил какой-то гладиатор, разразился бы грандиозный скандал. Зато сколько разговоров было бы потом!
— И вообще, разве Марку нужно все знать? — принялась я размышлять вслух. — Почему бы мне немного не поразвлечься? Можно подумать, я не знаю, как следует повести себя в брачную ночь! Главное, изобразить страх. Можно тайком принести немного цыплячьей крови в мешочке, как делают все невесты в том случае, если муж слишком пьян и не в состоянии исполнить супружеский долг. Но в данном случае мне стоит придумать что-то еще. Что-то такое, о чем я могла бы вспоминать, пока буду скучать под старым Марком. — Я закрыла глаза, а Тея принялась втирать жасминовое масло мне за ушами. — Лучше всего думать о паре сильных мужских рук…
— Я не хочу об этом слышать, госпожа, — прервала меня — о, неслыханная дерзость! — моя рабыня.
— Не хочешь? — Мои глаза удивленно распахнулись. — Это почему, Тея? Ты же не весталка! Можно подумать, я не слышала, как ты пыхтишь под моим отцом!
— Прости, госпожа. Это нечаянно сорвалась у меня с языка, — ответила Тея и принялась перебирать бутылочки с маслами и притираниями. — Подать платье?
— Я знаю, почему ты не хочешь слышать о нем, Тея, — улыбнулась я со злорадством. Все-таки что-то случилось, и ее бесстрастная маска дала трещину. — Потому что ты ревнуешь. Да-да, ревнуешь. Признайся, ты сама влюбилась в этого храброго Варвара, разве не так? Ты случайно не пряталась вчера под кустом, чтобы увидеть, как он станет целовать меня? Признайся, тебе было больно от того, что это была я, а не ты? — Я повернулась к ней и оказалась так близко от ее лица, что ощущала на своей коже ее дыхание. — Сказать тебе, Тея, что это такое? Что такое быть крепко прижатой к земле сильными мужскими руками?..
Лицо моей рабыни сделалось деревянным, однако глаза лучились нескрываемой ненавистью.
— Бедная малышка Тея, — улыбнулась я. — В следующий раз я дам тебе медных монет, чтобы ты купила себе его портретик на ленточке, какие продают торговцы возле Колизея. Повесишь себе на шею и будешь носить, а по ночам прятать под подушку.
— Это все, госпожа? Я еще нужна тебе?
— Нет. Ступай. Ты больше мне не нужна. — По крайней мере, сейчас я обойдусь без нее. Когда я добьюсь того, что Варвар окажется в моей постели, я заставлю ее смотреть.
Галлий начал по вечерам выпускать Ария в город. Раньше он пытался сбежать, но теперь его узнают повсеместно, прежде чем он успевает сделать десяток шагов. Бесполезно. Гораздо проще напиваться, накачивать себя вином.
— Воды! — кричал он, юркнув в дверь «Золотого петушка», куда вслед за ним с шумом устремлялась толпа поклонников. — Вина! Еды! После чего бросал хозяину таверны монету.
— Нет, нет, Варвару здесь все дается бесплатно! Такой превосходный бой был сегодня! Когда ты зарубил этого грека…
— Забудь о еде, — сказал Арий и уселся за стоящий в углу стол. — Только вина.
Пить и сражаться. Кровь и вино. Пей кровь, милый мальчик, проливай вино. Это то же самое. Он посмотрел в кружку.
— Осторожнее! — прошептал рядом чей-то голос. — На прошлой неделе он сломал челюсть тому, кто осмелился подойти слишком близко…
Пить и сражаться. Бери, глотай, давись. Ничего другого ты не получишь.
Кружка с грохотом разбилась о стену. Поклонники Ария взревели от восторга и последовали его примеру. Одно мгновение, и еще с десяток кружек разлетелись осколками по всему полу. При желании он мог бы вышвырнуть их всех на темную улицу.
Неожиданно перед ним возникла коричневая туника и натруженная рука.
— Арий!
Он тотчас узнал звук ее голоса.
— Убирайся! — процедил он сквозь зубы.
— Ради бога, я полночи искала тебя. Моя хозяйка не пустит меня домой, если я тебя не найду. Хотя бы ты пожалей меня.
Он потянулся за кувшином с вином.
— Мне нужно передать тебе кое-что, — бесстрастным тоном продолжила Тея. — Моя госпожа хочет, чтобы ты встретился с ней в Лукулловых садах завтра в полночь. Она подкупила твоего ланисту. Ты понял? Ну и отлично.
Он впервые поднял на нее глаза, но она уже затерялась среди завсегдатаев таверны. На какой-то миг он увидел, как она, проложив себе локтями дорогу сквозь толпу пьянчуг, выскользнула из двери. Он приподнялся со стула.
— Посидел бы ты, Варвар, еще немного, — сказал хозяин таверны, ставя перед ним новую кружку, налитую до краев. — Похоже, что надвигается первая зимняя буря. Да и по улицам в этот час бродят лишь убийцы да воры.
В таверну ввалилась новая толпа плебса, чертыхаясь и сбрасывая на ходу плащи. Арий накинул на плечи плащ и направился к выходу. Небольшая кучка поклонников последовала было за ним, однако он остановил их, заявив во всеуслышание:
— Убью всякого, кто пойдет за мной.
Несколько человек не вняло его предупреждению, и тогда Арий столкнул двоих лбами, а третьего толкнул прямо в очаг и, пока тот с криками пытался потушить загоревшиеся волосы, вышел наружу.
Дождь еще не начался, но, похоже, вот-вот разразится ливень. Подняв голову к темному небу, он втянул носом воздух и почувствовал его приближение. Впервые за последние месяцы подул холодный ветер. Арий сбросил с головы капюшон. Первый дождь, с тех пор как… Как долго он прожил без дождя? Он так соскучился по нему.
Тею он догнал на полпути к дому. Она шла, гордо расправив плечи и размахивая руками. Сделав несколько широких шагов, он нагнал ее и зашагал рядом.
— Глупо ходить одной по ночам в этой части города, — довольно грубо бросил он ей.
— Моя хозяйка ждет меня. — Она смотрела прямо перед собой, не обращая внимания на пыль, которую сильный ветер огромными пригоршнями бросал ей в лицо. — Лепида Поллия не любит ждать.
— Сейчас пойдет дождь.
— Не важно. Я люблю дождь.
Они молча зашагали дальше.
— Ты сегодня хорошо сражался, Варвар.
Он ничего ей не ответил, лишь вытер попавшую в глаза пыль. Все так же молча они свернули за угол.
— Кого ты убиваешь? — голос Теи был едва различим на фоне шумных порывов ветра. — Ты ведь убиваешь не ради забавы. И не ради восторга толпы или денег. Кого же ты на самом деле убиваешь, когда вонзаешь меч в греков, фракийцев или галлов?
Галлия. Императора. Толпу.
— Всех.
— И меня тоже?
— Ну… только один раз.
— Только раз?
— Та амазонка, помнишь ее? Она… у нее были темные глаза, полные отчаяния… но не твои глаза… они… — Арий запнулся, подбирая нужное слово. — Впрочем, это не важно.
— Ты убил ее.
— Она попросила меня.
— А что, если я тебя попрошу? — Тея остановилась и откинула голову. — Прямо сейчас. Ты сделал бы это? Я давно пытаюсь лишить себя жизни, отнимаю ее у себя в чаше за чашей крови, но, похоже, толку от этого никакого. — Она вытянула перед собой руки, и Арий хорошо разглядел белые шрамы на запястьях. — Убей меня, пожалуйста!
— Что?
— Прямо сейчас. Я даже помогу тебе в этом. — Она быстрым движением подняла с земли камень с острыми краями и полоснула им себя по запястью. На светлой коже тотчас выступила капля крови. — Доверши, прошу тебя.
— Нет, — твердо ответил Арий, глядя ей прямо в глаза и не в силах отвести взгляд. — Нет.
Какое-то мгновение она смотрела на него такими же темными глазами, как и у той амазонки. Затем прижала окровавленную руку к груди и резко развернулась, чтобы уйти прочь. Как назло, ремешок ее сандалии лопнул, и она зацепилась за него и потеряла равновесие.
Арий бросился к ней и, прежде чем она успела упасть на мостовую, схватил обеими руками и поставил на ноги. Тея вцепилась ему в плечо, и ему на шею легла ее окровавленная рука.
Не обращая внимания на ветер, который путал ей волосы, Арий неуклюже прижал ее к себе и оторвал от земли. Внезапно он понял, что отчаянно хочет ее.
Однако он опустил ее и разжал объятия, и они заглянули в глаза друг другу. «У ее губ, — подумал он, — наверно, сладкий вкус».
В небе над их головами прогрохотал первый раскат грома, и они быстро отвели взгляды. Впервые за последние часы ей стало холодно. Она съежилась и скрестила руки на груди, и при виде крови на ее руке ему неожиданно показалась, будто он налетел на каменную стену.
— Я… мне нужно перевязать руку, — произнесла она, и он молча кивнул.
Поблизости не было никакой таверны или лавки, где можно было бы скрыться от непогоды. Неподалеку был виден лишь темный вход жилого дома, причем дверь была закрыта на засов.
Арий стукнул по ней кулаком, но ему никто не ответил. Ветер по-прежнему гнал по улице облака пыли. Вдали, за темным силуэтом Колизея, сверкнула молния.
— Твоя хозяйка. Она будет сердиться? Будет браниться? — с трудом подбирая слова, спросил он.
Тея непонимающе посмотрела на него.
— Будет. Но это пустяки, мне не привыкать.
Их руки соприкоснулись, и они тут же отпрянули друг от друга. Тея наклонилась, чтобы привязать оторвавшийся ремешок к сандалии. Туника плотно облепила ее тело. Ему были хорошо видны изгиб ее талии и округлые ягодицы… Арий поспешил отвести взгляд в сторону.
Краем глаза он увидел, как Тея, оторвав от подола туники полоску ткани, стянула ею кровоточащее запястье. Повязку она перехватила шнурком, скреплявшим ее заплетенные в косу волосы, которые теперь волной легли ей на спину. Она тряхнула головой, и густой полог темных волос закрыл ее лицо и порезанную руку. Через эту завесу ему все-таки был виден ее профиль, прямой нос и губы.
Он потянулся к ней и услышал мысленный голос, слишком тихий и робкий, чтобы принадлежать демону: только не делай ей больно.
Арий коснулся пальцами прядей ее волос. Они показались ему гладкими, как шелк, и пахли приближающимся дождем. Он взял их в пригоршню и поднес к губам.
Она повернулась к нему, ее глаза блеснули настороженным и вместе с тем отчаянным голодом, и на него нахлынула волна горьких воспоминаний. Он увидел себя посреди арены, и тело его налетало на тело соперника, и это столкновение заканчивалось выплеском горячей крови и затуханием чужой жизни. Перед его мысленным взором снова возник образ умирающей амазонки, которая тут же превратилась в Тею.
Ему стоило немалых усилий, чтобы сдержаться, ибо он был готов приказать ей, чтобы она убиралась прочь, иначе он убьет и ее… В следующее мгновение она подалась вперед, прижалась щекой к его горлу и поцеловала за ухом. Арена тотчас куда-то исчезла, а вместе с ней и кровь, и смерть. Их руки переплелись. Он с такой силой прижал ее к груди, что услышал, как хрустнули ее косточки, и поспешил напомнить себе, что с ней следует обращаться нежно и бережно. Никогда в своей жизни он еще не был ни с кем нежен. Он провел пальцем по ее губам, и они тотчас раскрылись, пуская его внутрь. Внезапно он ощутил неведомый ранее прилив радости, захлестнувшей его с головы до пят.
Прижимаясь спиной к стене, они сползли на землю. Он подложил ей под голову свой плащ и неуклюже опустился на нее. Ее пальцы тотчас скользнули ему в волосы. Он поцеловал ложбинку у нее под горлом. Его руки ласкали то податливый изгиб ее спины, то упругую грудь, и у него перехватило в горле, как будто там застрял комок. Он не сразу понял, что это счастье, потому что это ощущение было для него новым, неведомым… Ее кожа была теплой и нежной, после нее ему больше не хотелось прикасаться к рукоятке меча.
Наконец пошел дождь и превратил улицы в потоки воды.
— Эй, подонки, прочь с моего порога! — прозвучал позади них рассерженный голос. Неожиданно дверь распахнулась, и в дверном проеме мелькнул свет факела. Они торопливо набросили на себя одежду и исчезли в противоположных направлениях. В спину им неслись проклятия хозяина дома.
Тея
Арий так и не пришел на встречу с моей хозяйкой в Лукулловы сады. Облаченная в полупрозрачную ночную сорочку, Лепида какое-то время ходила взад-вперед и звала его, но я не услышала в ответ ни единого звука. Лишь полуночный шелест листвы. Какое чудное место для свидания, но, увы! Всю дорогу домой Лепида кипела от злости, не заплатила носильщикам паланкина и, злая на весь мир, вернулась в одинокую постель. Впрочем, никто ничего не заметил. Мой Арий, а не твой. Мой, пусть даже на короткий час в холодном дверном проеме чужого дома.
В доме все спали. Я бесшумно прокралась по темным коридорам, слыша, как сердце стучит в груди гулко, как барабан, и остановилась перед дверью, ведущей в бани.
Я распустила заплетенные в косу волосы, прикрыла ладонями лицо, чтобы скрыть свою радость — это было бы ни к чему, и вошла внутрь.
Мои глаза еще не привыкли к темноте, но я уже поняла, что он здесь. Слабый шорох еще не достиг моего слуха, но я уже знала, что Арий поднялся из дальнего угла, где мы с ним встретились в первый раз. Еще до того, как мои пальцы прикоснулись к нему, я знала, что его руки протянуты мне навстречу.
— Тея!
— Что?
— Ничего.
Его руки сжали мои ладони.
— Тея. Тея.
Он нагнулся и легко подхватил меня на руки. Я тряхнула головой, и они волосы волной упали ему на лицо. Получилось что-то вроде уединенной пещерки для нас двоих.
«Святилище», — подумала я. В следующее мгновение я уже больше ни о чем не думала.
Глава 6
— Отлично, — произнес Галлий и, выгнув дугой выщипанные брови, принялся нежно поглаживать руку одного из своих юных рабов. — Неужели этой зимой мы пребываем в добром настроении? Никаких разбитых стульев и кружек. Никаких отрубленных ушей у моих бойцов, да и мой винный погреб остался почти нетронутым. Если не ошибаюсь, что ты вот уже месяц не вонзал кинжал в ногу очередному обидчику.
— Хватит! — бросил ему Арий, впрочем, вполне добродушно.
Отдыхать или скучать было некогда. Больше никаких убогих арен или драк в темных переулках. Толпам был отдан Колизей. Император вернулся в Рим и пробыл в нем достаточно долго. За это время он даже успел помириться с императрицей, прежде чем в скверном расположении духа отправился обратно в Германию. Однако город заполонили охочие до веселья испанцы и все как один с нетерпением ожидали начала игр. Завернувшись в меховые плащи, они заполняли собой трибуны и были готовы дрожать на холодном ветру, глядя, как Арий сражается для их увеселения. Он бился с Серпиком, ретиарием с трезубцем в руках, на шлеме которого извивались живые змеи. Он бился с Люпусом, германцем в овечьей шкуре. Он бился с испанцем, привезенным из Лузитании, чтобы поддержать честь испанских гостей. И все они нашли свою смерть на арене Колизея под оглушительные вопли зрителей.
— Ради бога, неужели ты не можешь получить ранение? — как-то раз взмолилась Тея. — Тогда бы ты месяц-другой оставался в постели, и твои соперники больше не пытались бы отнять у тебя жизнь. Да и я тоже обрела хотя бы недолгий покой.
— Нет, такое невозможно, — заявил Арий, обнимая ее так, что у нее хрустнули ребра. — Я бы сразу затащил тебя к себе в постель.
— Ммм, — она поцеловала шрам, рассекавший его бровь, чем заставила его поморщиться от боли. — Мне нравятся твои слова.
— Тея, — он нежно приподнял ей подбородок. — Не ходи туда, где я сражаюсь.
— Это все Лепида. Она заставляет меня приходить на поединки.
— Но я не хочу, чтобы ты увидела, как… — он осекся. Впрочем, догадаться, чем закончилась бы его фраза, было несложно. Я не хочу, чтобы ты увидела, как меня убьют.
Она обняла его за шею, и он зарылся лицом ей в волосы. На прошлой неделе во время поединка с гладиатором-галлом трезубец противника пронзил ему плечо. В ответ Арий вогнал противнику меч прямо в рот.
— И все же я победил, — заявил Арий разгневанному Галлию, пока лекарь чистил и перевязывал рану.
— Верно, — хмуро подтвердил ланиста. — А поскольку ты, насколько я вижу, владеешь правой рукой так же хорошо, как и левой, то я не стану отменять твои поединки в следующем месяце. У тебя есть обязательства, мой милый мальчик, так что не думай, что сможешь пойти на попятную только потому, что кто-то уколол тебя трезубцем.
— Вот ублюдок! — злилась в ту ночь Тея. — Жаль, я не умею колдовать. Тогда бы я наслала на Галлия порчу.
Арий засмеялся, откинув назад голову.
— Не смейся, это не смешно. Знаешь, я передумала, беру обратно свои слова о том, что хочу, чтобы тебя ранили. Я буду переживать даже больше обычного, потому что через пару недель тебе вновь предстоят бои. Тебе очень больно?
— У меня хватит сил, чтобы отнести тебя до постели. — В подтверждение своих слов он подхватил ее на руки.
— Я бы и сама дошла до постели, — сказала Тея, прижавшись лицом к его плечу.
— Я же варвар, — с улыбкой отозвался Арий, целуя ее в шею. — Мы всегда таскаем наших женщин как мешки с зерном.
— Если у тебя хватает сил! — подзадорила она его, ткнув в перевязанное плечо.
— Хватит сил? — Он положил ее на постель и принялся щекотать, пока она не завизжала, давясь хохотом.
— Ну хорошо, хорошо. Беру свои слова обратно! Перестань, ты защекочешь меня до смерти!
Арий лишь зарычал от восторга и прильнул к ее губам.
Урвать короткие минуты для встреч с Теей оказалось удивительно легко. Не было такого дня, чтобы она, отправляясь на рынок выполнять поручения хозяев, не забежала на Марсову улицу, чтобы провести вместе с ним час-другой. Когда же ночи сделались темнее и длиннее, она начала тайком уходить из дома, убегая к нему через ворота сада.
— Старайся никому не попасться на глаза! — предостерегала она его, чувствуя, как ее голые руки от холода покрываются гусиной кожей. — Если Лепида увидит нас…
— В таком случае, не приходи. Зачем рисковать. — Он откинул полу плаща и крепко прижал ее к себе. В его сознании теснились образы нежности, которые ему никак не удавалось облечь в правильные слова.
— В чем дело? — спросила она, словно видела его насквозь.
— Ничего. — Он снова привлек ее к себе. Арий не знал, как сказать ей о том, что каждую ночь, когда она, запыхавшись, вбегает в дверь его комнатки и радостная падает в его объятия, у него слабеют колени. Любые слова были бессильны выразить его чувства. Ему оставались лишь объятия и ласки.
— Арий! — засмеялась Тея, когда он в очередной раз крепко прижал ее к себе. — Ты меня задушишь. Я не могу дышать.
Она была его первой женщиной, но вовсе не это заставляло все его естество таять от счастья. Дело было в самой Тее.
— Смотрю, ты расслабился, размяк, — неодобрительно
проговорил Галлий. — Да, да, я помню, что ты по-прежнему собираешь огромные толпы зрителей. Но я хорошо знаю тебя, мой мальчик. Ты начинаешь осторожничать, вот в чем дело. А осторожность в Колизее не ценится. — Галлий вздохнул. — Это все рабыня из дома Поллиев, верно я говорю? Только не делай такое удивленное лицо, мой мальчик. Можно подумать, я не знаю, что теперь она дает тебе кое-что другое помимо писем. Что же, рабыня Лепиды Поллии — это лучше, чем сама Лепида Поллия, но все же… если это из-за нее ты теряешь боевую форму, то мне придется…
Не успел ланиста и глазом моргнуть, как Арий обеими руками вцепился ему в горло.
— Еще одно слово, и я задушу тебя!
— Вот молодец! — похлопал его по плечу мгновенно побагровевший Галлий. — Вот так почаще бы на арене!
Скрепя сердце, Арий был вынужден признать, что ланиста прав: Тея отнимает у него силы. Он ни за что бы не признался в этом вслух, но он действительно потерял былую ловкость и быстроту. И все же ему до поры до времени везет. Каждый раз, когда служители Колизея крючьями утаскивали с арены через Врата Смерти труп очередного соперника, в его голове мелькала лишь одна мысль: еще несколько недель с Теей.
— Готова спорить на что угодно, ты говоришь это всем женщинам, — поддразнила она его, когда Арий признался ей в своем потаенном желании. — Еще несколько недель с Сульпицией, с Кассандрой, с Лепидой… — Ой! — вскрикнула она, когда он опрокинул ее на спину и навис над ней, как кот над мышонком.
— Никому до тебя, — прошептал он ей на ухо, — и никому после тебя.
— Никому до меня? — с неподдельным интересом спросила Тея.
Он пожал плечами. Не стоит рассказывать ей про демона, о том, как тот нашептывает ему, как следует обходиться с женщинами. Тея и демон — они из разных миров и не способны ужиться вместе. Арий провел рукой по ее лицу — он больше не боялся сделать ей больно.
Иногда она вечерами пела ему, положив его голову себе на колени и гладя по волосам. Она пела песни Греции, Иудеи и Бригантин. Ее сильный красивый альт проникал в самые глубины его существа, затрагивал каждый мускул, каждую клеточку тела. Постепенно он засыпал, убаюканный ее ласковыми прикосновениями и этим удивительным голосом.
— Ты колдунья, — как-то раз сказал он ей. — Твой голос подобен волшебным заклинаниям.
Иногда они лежали, переплетя на подушке руки, молчаливые, словно каменные круги на священных местах друидов в его далекой Бригантин.
— О чем ты думаешь? — спрашивал он ее, проводя пальцем по ее щеке, по горлу и волосам. Она всегда встряхивала головой и крепко прижималась к его телу, так что между ними не оставалось и дюйма свободного пространства, и они засыпали, переплетясь ногами и руками, как корни дерева. Когда он просыпался, ее глаза уже бывали широко открыты, а губы растянуты в улыбке, и сердце его, трепеща, переполнялось радостью.
Иногда она изучала карту шрамов на его теле: следы от ударов кнутом на спине, следы от ударов о камни на ногах, тонкие линии, оставленные на плечах лезвиями мечей и трезубцами.
— А этот? — спрашивала она, не в силах превозмочь любопытство.
— Погонщик рабов сломал мне локоть дубинкой.
— А вот этот?
— Драка на ножах в Субуре.
— А это?
— Татуировка, которую делают бойцам Галлия. Скрещенные мечи.
Тея с любопытством посмотрела на татуировку.
— Больше похоже на две скрещенные морковки. — Она осторожно потрогала клеймо и шрамы и нежно погладила их пальцем. Арий ощутил себя молодым и чистым, и если не до конца счастливым, то, во всяком случае, не озлобленным.
— Эта твоя зазноба не в моем вкусе, — заявил Арию один фракиец, увидев как-то раз Тею на улице. — Она же тощая, как палка. Иное дело ее хозяйка, эта самая Поллия, вот у кого есть на что посмотреть и за что ущипнуть.
Арий ударил фракийца головой о стену, но уже не с той силой, что прежде. Демон в его голове негромко взвизгнул, но, судя по всему, обретался где-то очень далеко.
Тея
— У тебя появился любовник, я угадала? — неожиданно спросила меня Лепида однажды вечером, когда я стояла позади нее и расчесывала ей волосы.
Мое сердце застучало сильнее прежнего, но я постаралась не показать вида и продолжала работать серебряным гребнем.
— Что ты сказала, госпожа?
— Любовник, Тея. Мужчина. Ты же понимаешь, о чем я? — В эту зиму у нее часто бывало плохое настроение. — Кто он?
— Он?
— Только не надо так тупо смотреть на меня! Ты прекрасно понимаешь, о чем я. — Я увидела в зеркале, как ее голубые глаза недовольно сощурились. — Никаких секретов между горничной и хозяйкой быть не должно. Расскажи мне!
Придется что-то придумать.
— Откуда ты знаешь? — спросила я, понизив голос.
— Это же всем видно. Ты спишь на ходу, когда я отправляю тебя выполнять поручения. Улыбаешься невпопад. Сегодня ты слишком долго отсутствовала, отправившись за покупками. Итак, кто он?
— Э-э-э… Он… — Будьте прокляты эти зоркие глаза. Я снова провела гребнем по ее роскошным черным волосам. — Он владелец таверны. В Субуре.
— Хозяин из таверны в трущобах? Какая прелесть, Тея. Что еще ты мне скажешь?
— У него черные волосы. Он родом из Брундизия. У него шрам на костяшках пальцев, после того как какой-то пьяница набросился на него с ножом.
Лепида рассмеялась.
— А жениться на тебе он не хочет? Нет, нет, дай я угадаю. Он уже женат!
Я тут же подыграла ей.
— Ее часто не бывает дома. И еще они плохо ладят.
— Конечно, как же иначе. То гладиатор, то трактирщик. Да, Тея, я всегда знала, что у тебя убогие вкусы. Кстати… — Лепида обернулась и пристально посмотрела на меня. — Приподними-ка волосы и покажи мне свою шею. О боги, да это след страстного поцелуя!
— Он очень любит меня, — пробормотала я по-гречески и с трудом удержалась от глупой счастливой улыбки.
Лепида это заметила, и выражение ее лица мгновенно переменилось.
— Тогда ступай в свои трущобы! — раздраженно бросила она и отвернулась к зеркалу.
«Ты играешь с огнем, моя милая», — подумала я, откладывая в сторону гребенку. Однако, придя ночью к Арию, я лишь рассмеялась.
— Не беспокойся, я собью ее со следа. Может, это и хорошо, что она что-то заподозрила. Теперь, каждый раз, когда я буду убегать к тебе, она станет считать, что я ухожу к своему трактирщику.
— Так что это за трактирщик? Могу я убить его? — шутливо спросил Арий, кусая меня за мочку уха.
Через две неделю он снова вышел на арену Колизея. Огромный противник-триновант, жестокая кровавая схватка. Они двадцать минут бились на мечах. Я в ужасе приросла к своему месту, но Лепида продолжала злиться и не заметила мою тревогу.
— Я не понимаю, из-за чего все устраивают такой шум, — сказала она, состроив гримасу. — Он всего лишь огромный уродливый варвар.
— Публика сходит по нему с ума, — рассеянно проговорил Квинт Поллио. — Признайся, он великолепен. Он поставил на колени этого тринованта…
Впрочем, несмотря на небрежную походку, которой Арий прошествовал через Врата Жизни, он был с ног до головы залит кровью и слегка пошатывался. Противный голос в голове прошептал: сколько тебе самому осталось жить, дружище?
Я молилась в каждом римском храме, я обращалась к прорицательницам, гадалкам и астрологам. Я потратила все медяки, заработанные пением в тавернах, на покупку оберегов и амулетов. Я стерла колени, молясь всем богам и богиням, имена которых мне были известны, и даже тем, о которых никогда раньше не слыхивала.
Ария это позабавило, или, по крайней мере, он притворился, что ему смешно.
— Ты ведь веришь только в одного бога, — заметил он однажды ночью.
— Да, но мой бог — это бог евреев, — ответила я, прижимаясь к нему под грубым одеялом. — Он всегда придет мне на помощь, потому что я принадлежу к избранному народу, а вот до тебя ему совершенно нет дела.
— А мне до него, — ответил Арий и провел рукой по моей спине. От его прикосновения по моему телу пробежала приятная дрожь. — Так что мы квиты.
— А кто твои боги? Может быть, я помолюсь им.
Он приподнялся на локте и посмотрел на меня с той редкой, мальчишеской, улыбкой. Улыбка эта полностью преображала его лицо, не оставляя ничего от обычной непроницаемой маски.
— У нас есть Эпона, богиня лошадей.
— Но чем она поможет тебе на арене Колизея?
— Тогда Артио.
— Кто она?
— Богиня леса, повелительница медведей, — хмуро добавил Арий.
— Не надо шуток.
— Есть богиня Сатайда, богиня горя и скорби.
— Это уже лучше. Я попрошу ее пощадить тебя.
Улыбка моментально слетела с его лица.
— Ты будешь горевать? — спросил он.
Я умру.
Я не сказала этого вслух. Не хотелось искушать бога, который не любит, когда ему отводят в человеческом сердце второе место. Но рука Ария, привыкшая сжимать меч, скользнула по моим волосам, как будто он кончиками пальцев пытался прочесть мои мысли. Затем он прижал меня к себе — так крепко, что я забыла обо всем на свете.
— Арий! — прошептала я, глядя в темноту.
Ответа не последовало. Кожей обнаженного плеча я почувствовала его дыхание.
Стараясь не разбудить его, я повернулась к нему и, прижавшись лицом к его широкой груди, тихонько заговорила. Заговорила на моем родном языке.
— Арий, Арий, Арий. Я люблю тебя. Я люблю тебя.
Я люблю смотреть, как ты потираешь шрам на тыльной стороне ладони, когда нервничаешь. Мне нравится, как ты превращаешь меч в часть собственного тела. Нравится, как твои глаза насквозь прожигают меня, как будто ты каждый раз видишь меня впервые. Мне нравится темная черта в твоем характере, когда ты готов убить весь мир, и твоя мягкость, когда ты сожалеешь о содеянном. Мне нравится, как ты смеешься, как будто сам удивляясь при этом, что способен смеяться. Я люблю твои поцелуи, от которых перехватывает дыхание. Мне нравится, как ты сжимаешь меня в объятиях, и я обо всем забываю. Нравится, как ты превращаешь смерть в танец. Люблю смущение, которое вижу в твоих глазах, когда ты понимаешь, что счастлив. Люблю каждый мускул, каждую косточку твоего тела, люблю перепады твоего настроения. Я люблю тебя так сильно, что в дневное время не могу выразить это словами. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю.
Я вдыхала запах его волос и кожи. Я навсегда оставила в памяти его образ. И, наконец, прошептала слова молитвы.
— Да хранит тебя Бог.
С ними на губах я уснула.
Глава 7
Тея
— Один против шестерых! — воскликнула Лепида, обмахиваясь веером. — Я не могу дождаться этого поединка. О боги, когда же покончат с этими зебрами, чтобы мы смогли увидеть самое интересное?
Когда я наливала ей вино, руки мои дрожали. Как будто издалека до меня донеслись вопли толпы, хлопки кнутов на арене, визг животных. Агоналийские игры устраивались в честь двуликого бога Януса, открывавшего каждый новый год. Внизу продолжалась травля диких животных, отряды копьеносцев безжалостно истребляли полосатых зебр. Однако зебры были лишь прелюдией к грандиозному зрелищу: Арий Варвар против шестерых испанцев.
— Один против шестерых! — готов был сорваться с моих губ крик. — Один против шестерых!
— Я знаю, что это против правил, — обратилась Лепида к своему отцу. — Но какой великолепный поединок это будет! Публика обожает такие отчаянные схватки!
— Победи их! — умоляла я Ария этой ночью, взяв в руки его лицо. — Обещай мне, что останешься жив! Обещай!
Он крепко обнял меня, со свирепой яростью взял, но ничего не пообещал. Он слишком мудр, чтобы обещать то, что невозможно пообещать.
Проведя с ним три месяца, я знала, что не стоит требовать от него слишком многого.
— Тея, налей мне вина, да побыстрее!
Чувствуя, как похолодели мои пальцы, я передала Лепиде кубок с вином. С арены утаскивали мертвых животных, совсем скоро начнется полуденная казнь рабов и преступников, предваряющая поединок Ария с испанцами. Я сунула руку под тунику и нащупала висевшую на шее ленточку с амулетами и медальонами, которую надела утром. Их было не менее десятка, и все они должны отвести смерть от Ария. Я нашла их у гадалок и астрологов в надежде купить жизнь моему возлюбленному.
До моего слуха донеслись слова распорядителя игр:
— …привезли вам… героев Лузитании… ИСПАНСКИХ ДИКАРЕЙ!
Публика разразилась громкими рукоплесканиями, приветствуя участников поединка: шестерых ловких и злобных испанцев со сверкающими на солнце мечами и пышными пурпурными плюмажами на шлемах: все шестеро дружно воздели руки в приветственном жесте. Мне было видно, как изо рта у них вырываются облачка пара.
Как много, господи, как их много.
— …а теперь… из пустошей Бригантин… непобедимый боец… АРИЙ ВАРВАР!
Дабы уровнять возможности противников, для поединка соорудили платформу, и Арий, держа в руке щит, на нее вскочил. Он был поразительно спокоен и, казалось, не обращал никакого внимания ни на безумные крики толпы, ни на холодный воздух. И все равно, рядом с ужасной ордой испанцев он показался мне таким маленьким, таким уязвимым. Мне тотчас вспомнился Непобедимый Верцингеторикс. В конце концов, он оказался не таким уж непобедимым, потому что умер на арене подобно затравленному зверю.
Трубы возвестили о начале поединка. Испанцы принялись карабкаться на платформу. Зрители на трибунах все как один подались вперед, криками побуждая соперников к бою. Мне показалось, что мое сердце провалилось в желудок, словно в бездонный колодец.
Он зарубил первых двух сразу, как только они оказались на верху своих маленьких лестниц. Однако еще двое уже карабкались на платформу с другой стороны. Мгновение, и их мечи со звоном ударились о меч Ария.
Весь Колизей с оглушительными криками вскочил со своих мест, и я вместе со всеми. Лишь ненадолго мне стало жалко испанцев — их желание остаться в живых было столь же горячо, как и желание Ария. Увы, любовь сделала меня жестокой, и я возжелала их смерти. Арий ловким ударом на уровне локтя отсек одному из них руку, сжимавшую меч. Я испытала прилив гордости за любимого: как искусно он владеет оружием!
Арий стремительно передвигался по крошечной платформе, сам раздавал удары и ловко уходил от ударов противников. Зрители вновь сели на свои места и теперь делали ставки на исход поединка. Лишь сейчас я смогла вздохнуть полной грудью.
Пытаясь уклониться от изогнутого меча противника, Арий на короткий миг потерял равновесие, пошатнулся и упал.
Он упал на спину. Мне было видно, как с его губ слетает легкий парок дыхания. Я видела, как он судорожно хватает ртом воздух, как поднимает свой меч. Испанцы тотчас бросились к нему. Почувствовав скорую победу, они вскинули над головами клинки, однако прежде чем пропасть под их массой, Арий полоснул одного из них мечом по колену.
Я услышала, как Лепида прекратила болтовню. Я услышала, как Квинт Поллио отставил в сторону кубок с вином. Я услышала вздох, вырвавшийся из груди каждого зрителя Колизея.
Я уронила графин, чувствуя, как вино выплеснулось мне на ноги, и, подавшись вперед, завопила во всю мощь легких.
— MITTE! — заорала я, и все, кто сидел в сотне шагов от меня, повернули ко мне головы. — MITTE! MITTE! MITTE! Пусть живет! Боже, позволь ему остаться в живых!
И поскольку был прекрасный день, игры на редкость хороши, а Варвар сражался просто великолепно, вскоре к моему крику присоединились и другие голоса.
— Mitte! Mitte! Mitte!
Когда же я увидела, как покрытый синяками и забрызганный кровью Арий поднимается на ноги, у меня подкосились колени, и я упала. Меня оглушил рев трибун. В следующее мгновение внутри меня что-то раскололось и стало таять, как лед на дожде.
— Тея, что с тобой?
Я непонимающе посмотрела туда, откуда доносился голос, и увидела бледный овал лица моей хозяйки. Само лицо было перекошено от злости.
— Прости меня, госпожа.
— Это немыслимо, кричать на публике. Раб может что-то говорить только тогда, к нему обратятся. — Лепида больно пнула меня в бок острым мыском сандалии. — Поднимайся!
Я ухватилась за поручень и медленно поднялась. Кровь в ушах ревела так, что я даже не сразу почувствовала, как Лепида ухватилась за ленту с амулетами у меня на шее.
— Ну-ка, что это у тебя? Амулеты? Да так много! Для чего они тебе, Тея? Живо отвечай!
Она перевернула один из медных амулетов обратной стороной, где имелась сделанная на латыни надпись.
— «Оберегает от всех видов оружия». «Дарует защиту Марса от смерти в бою». О боги, я же никогда не бью тебя больно!
— Это ради моего трактирщика, — пролепетала я, пытаясь придумать объяснение. — Он сейчас служит в легионе… я хотела уберечь его…
Лепида отпустила меня и откинулась на подушки. В этот момент Арий, хромая, опираясь на копье, шагнул в сторону. Испанцы же схватили луки. Служители принялись разравнивать граблями песок на арене. Моя хозяйка тотчас состроила недовольное лицо и принялась раздраженно постукивать ногой в золотистой сандалии по полу. Затем она объявила, что у нее разболелась голова. К тому же на трибуне слишком холодно сидеть, и потому она хочет домой. Я ее практически не слушала, потому что голова моя была занята мыслями об Арии.
Я поплелась следом за Лепидой домой. Дома я помогла ей переодеться и какое-то время обмахивала опахалом. Затем помассировала ей голову, принесла ячменной воды и мучительно ждала того мгновения, когда она отпустит меня, после чего со всех ног бросилась к Марсовой улице.
— Арий? — задыхаясь, спросила я у хорошенького мальчика-раба, открывшего дверь. — Арий!
Это было единственное слово, которое я могла вымолвить.
— Извини… он не может… подожди!
Устало опустив плечи, Арий сидел посередине лазарета, весь в пыли и пятнах крови, и прижимал к затылку скомканную окровавленную тряпицу. Тем временем лекарь обрабатывал ему раны, а Галлий склонился над табличкой для письма. С десяток гладиаторов с любопытством, а кое-кто и нескрываемым злорадством, наблюдали за тем, как лечат побежденного Варвара.
Должно быть, я издала какой-то звук, потому что Арий поднял голову и посмотрел в мою сторону. Его лицо было все в синяках и порезах, оставленных противниками-испанцами, и все мое сомнительное спокойствие оставило меня. Я бросилась к нему, прижалась лицом к его плечу, и из моих глаз брызнули слезы.
Арий оттолкнул лекаря, непристойно обругал Галлия и швырнул окровавленной тряпкой в гладиаторов. Мой любимый не смог взять меня на руки. Он попытался это сделать, но тот час простонал от боли. Поэтому он поставил меня на ноги и отвел в свою крошечную темную каморку.
Там он просто прижал меня к себе и молча покачивал, как будто убаюкивал ребенка, а я все цеплялась за него и безудержно плакала, мысленно пообещав никогда больше не показывать ему своей слабости.
— Ты цел? — спросила я, немного успокоившись.
— Несколько синяков.
— Обманщик. — Я взяла его руку и поцеловала два распухших пальца, затем осторожно провела рукой по багровым синякам на плечах и руках. От меня не укрылось, как болезненно он поморщился, когда я прикоснулась к его ребрам, наверняка сломанным.
— Что теперь сделает Галлий?
— Снова вытолкнет меня на арену. Докажет всем, что я не утратил бойцовского духа.
— Ты его утратил. И все из-за меня. Я тебя размягчила.
— Тсс. Тихо.
— Игры, — сказала я, чувствуя, как во мне снова закипает негодование. — Игры, игры и еще раз игры… бесконечные игры…
Мой голос как будто треснул.
Он поцеловал меня долгим и отчаянным поцелуем, и я в темноте потянулась к нему, чувствуя, как меня переполняет любовь, любовь к каждому мускулу его тела, любовь к его крепкой шее, плечам, рукам…
— Сегодня ты проиграл, — прошептала я. — И ты проиграешь еще раз, каким бы удачливым и сильным ни был.
— Перестань, Тея.
Из моего горла невольно вырвалось рыдание.
— Я могу потерять тебя, и ты просишь меня перестать?
— Нет. — Он крепко схватил меня за руку и прижал мою голову к своему плечу.
— Я останусь жив. И я получу рудий.
— Императоры уже давно его никому не давали…
— Мне он его даст. Я покажу ему поединок, какого он еще не видел. После этого мы уедем отсюда…
— Я рабыня, я не смогу уехать с тобой…
— Я выкуплю тебя. Мои призовые деньги… их в три раза больше, чем требуется. Затем, когда я уйду с арены….
— Ты никогда с нее не уйдешь. Ты погибнешь…
— Нет, не погибну. — Он погладил меня по голове. — Тея, обещаю тебе, я останусь жив, и мы уедем из Рима. Отправимся в Бригантию, в горы…
Как долго он говорил, рассказывая мне о доме, который мы построим, о детях, которых вырастим, о прохладном воздухе, которым будем дышать следующие пятьдесят лет? Я не знаю. Но раньше он никогда так долго не разговаривал со мной, и я впервые услышала ритм его родного языка. И мне захотелось и зеленых гор, и целого выводка крепких, рыжеволосых детей, и упоительного воздуха Бригантин, подобного которому нет в Риме. Но больше всего я хотела Ария. Постаревшего, с седыми волосами, но без свежих шрамов на теле.
— Обними меня, — попросила я. Его руки послушно обняли меня за талию, и наши тела слились воедино до самого рассвета.
— Хватит бездельничать, Тея. Нам еще предстоит сделать много дел, — заявила Лепида и, постучав по стенке паланкина, добавила, обращаясь к носильщикам. — К Форуму!
Носильщики, шесть белокурых галлов одного роста, подняли носилки на плечи и, врезаясь в утреннюю толпу, зашагали вперед. Я поплелась сзади, что-то напевая себе под нос. Зимний воздух был резким и холодным. Крики уличных торговцев легко долетали с одной улицы до другой.
Теперь, когда Лепида находилась передо мной, я позволила себе улыбнуться, от чего изо всех сил удерживалась все утро.
Он выкупит меня, и я стану свободной. Последние порезы на моих запястьях уже зажили, и на их месте остались чистые розовые шрамы. В общем, меня переполняло счастье. Я даже не сразу поняла, что пою во весь голос. Из паланкина высунулась голова Лепиды.
— Прекрати выть, Тея! — недовольным тоном приказала она и велела носильщикам остановиться. Те поставили носилки на землю. Моя хозяйка принялась всматриваться в толпу. — Где же он?
— Ты с кем-то встречаешься, госпожа? — Наверно, с каким-нибудь молодым красавчиком эдилом
[291] или щеголем трибуном? Да, такой, как она, ничего не стоит среди бела дня назначить мужчине свидание посреди Форума, и это накануне свадьбы с Марком Норбаном, до которой осталось всего несколько недель.
Она отправила меня купить ей кулек с засахаренными фруктами, и я зашагала к торговцам, расположившимся перед входом в храм Юпитера. Я подумала, что Арий в эти минуты, по всей видимости, разговаривает с ланистой, убеждая его выкупить меня у Лепиды. Галлий, разумеется, будет недовольно стонать и ворчать, но, скорее всего, захочет порадовать своего подопечного.
Я застала Лепиду за разговором с мужчиной, правда, это не был молодой красавчик эдил или щеголь трибун. А всего лишь мужчина средних лет, плешивый, в тоге из грубой ткани. Значит, разговор деловой, а не любовный. Я приняла серьезное выражение лица и с поклоном вручила хозяйке кулек с засахаренными фруктами.
К моему удивлению, плешивый собеседник Лепиды ущипнул меня за бедро.
— Эта? — спросил он Лепиду. — Не красавица.
Я уловила в его речи простонародный выговор.
— Может и так, но у нее крепкая спина. Разве для твоего дела это не важно?
Я растерянно посмотрела на Лепиду.
— Что такое, госпожа?
Лепида мне не ответила, зато принялась лакомиться засахаренными фруктами, продолжая разговаривать с плешивым.
— Кроме того, она грамотная. Греческий знает так же хорошо, как и латынь.
— Не рассчитывай на более высокую цену, госпожа. Грамота шлюхе не нужна. Сколько ей лет?
— Пятнадцать, но она опытная, уверяю тебя.
— Нет! — неожиданно вырвалось у меня. — Госпожа! Я всегда хорошо служила тебе. Что бы я ни сделала дурного, я никогда так больше не поступлю, обещаю тебе! В чем я провинилась?..
Холодный, надменный голос Лепиды оборвал меня.
— Когда она не могла найти себе клиентов, то обслуживала гладиаторов бесплатно. Теперь тебе понятно, почему я хочу избавиться от нее?
— Возможно, — согласился плешивый. — Но ты не можешь избавиться от нее, госпожа. Ее может продать только твой отец, а не ты.
— Отец никогда не вмешивается в мои дела. Кроме того, я назначаю тебе за нее очень хорошую цену. Скажем, две тысячи сестерциев?
— По рукам. — С этими словами плешивый положил кошелек в протянутую руку моей хозяйки.
Я развернулась и бросилась бежать, но наткнулась на одного из носильщиков паланкина. Он тотчас схватил меня за локти и повалил на землю.
— Нет! Нет! Нет!
— Будь с ней осторожен. Она очень хитра, — предупредила Лепида моего покупателя. — Непременно попытается сбежать.
— Я много лет имею дело со шлюхами. — Крепкая ладонь больно ударила меня по щеке. — Успокоилась? Успокаивайся живее, или я велю выпороть тебя. Поняла?
Арий, Арий, где же ты?
Неподалеку, в нескольких кварталах отсюда, в своей каморке на Марсовой улице. Мечтает о родном крае.
— Ты же не будешь использовать ее в городе? — снова донесся до меня голос Лепиды. — Не хочу, чтобы она ставила меня в неудобное положение здесь, в Риме.
Нет. Нет. Он придет. Арий придет и убьет их всех… он обещал мне…
— Я веду дела на юге. Остия. Брундизий. Портовые города. В портовых лупанариях хорошо платят за римских шлюх.
— Прекрасно. — Лепида наконец остановила на мне взгляд. — Я говорила тебе Тея, что не потерплю этого безобразия. Ты тайком убегала из дома, чтобы блудить с гладиаторами…
— Ты следила за мной, — охрипшим голосом отозвалась я.
— Еще чего. Просто как-то раз ночью, несколько дней назад, я выглянула в окно. Мне хотелось узнать, вернешься ли ты с таинственного ночного дела. И ты появилась! Такое страстное прощание… Конечно же, у меня и раньше возникали подозрения… Особенно после той очаровательной сцены на трибуне во время игр. Когда я увидела твои амулеты… Не очень умно, моя дорогая…
Галл, державший меня за локти, немного ослабил хватку, чтобы почесать затылок. Я вырвала руку и влепила моей хозяйке звонкую пощечину. В следующее мгновение плешивый схватил меня за волосы и дернул мою голову так сильно, что у меня полетели искры из глаз.
— Ты мне не сказала, что она злобная, — посетовал он.
— Это не важно. — Лепида забралась в паланкин. На ее щеке горел багровый след от моей пощечины. Достав карманное зеркальце в золотой оправе, моя, теперь уже бывшая, хозяйка, придирчиво изучила свое лицо.
— Теперь ты несешь за нее ответственность, — заявила Лепида. Шелковые занавески опустились, и она скрылась из виду.
— Вставай, девушка! — хмуро процедил плешивый. — Ты меня понимаешь?
Остия. Брундизий. Портовые города, мерзкие лупанарии, грязные немытые мужчины.
Всего шесть часов назад я еще лежала в объятиях Ария и мечтала о том, что мне больше никогда не будет больно.
Я сделала еще один отчаянный бросок в сторону Марсовой улицы. Но меня снова сбили с ног и повалили на землю. Я попыталась кричать, но лишь наглоталась пыли. Вокруг меня двигались в разные стороны ноги, обутые в сандалии: компания молодых трибунов, смеявшихся над какой-то шуткой, матроны, брезгливо обходившие меня стороной, рабы, которые торопились отвести в сторону взгляд, лишь бы не смотреть мне в глаза.
Новый хозяин критически осмотрел меня.
— На нее лучше надеть цепи, — бросил он огромному слуге, стоявшему у него за спиной.
На моих руках звонко защелкнули кандалы. Я отвернулась и, уткнувшись лицом в землю, завыла, как умирающее животное.
— Купить ее? — спросил Галлий и, оторвав стило от восковой таблички, сделал паузу. — Мой мальчик, зачем тебе ее покупать? Ты ведь и без того получаешь все, что тебе нужно, верно? Зачем покупать корову, если можно…
— За мои призовые деньги ее можно купить трижды.
— Твои призовые деньги? Мой мальчик, ты знаешь, куда идут эти деньги? А кто все это устраивает? Кто обеспечивает тебя? Кто договаривается о поединках?
— А кто готов в любое мгновение умереть на арене?
— Но ведь ты жив, верно? — Галлий пухлой ладонью потрепал его по щеке. — Впрочем, в последнее время ты вел себя довольно неплохо, мой мальчик. Пожалуй, ты заслуживаешь награды. Выиграй в следующем поединке, и тогда посмотрим, что я смогу для тебя сделать.
— Хорошо. Согласен.
В ту ночь Арий ждал у ворот сада, но Тея так и не пришла. Это не слишком встревожило его — ей не всегда удавалось ускользнуть от своей похожей на хорька хозяйки. Без Теи постель казалась ему холодной и пустой. Он тосковал по теплу ее тела, по ее рукам, волосам. Арий улыбнулся. В последнее время он научился улыбаться.
Днем он провел учебный бой с тренером, после чего сидел и наблюдал за тем, как остальные гладиаторы отрабатывают выпады и отскоки.
— Ровнее ставь стопу! — крикнул он бойцу-азиату с трезубцем. — Давай, я тебе покажу…
Он поймал себя на мысли о том, что учит других бойцов сражаться, как когда-то братья учили его самого. Настанет день, и он будет учить боевому искусству сына, которого ему подарит Тея.
— Эй, Варвар! — позвал его мальчишка-раб, принадлежавший Галлию. — К тебе пришла госпожа.
Воткнув деревянный учебный меч в песок, он выскочил в коридор, где распахнул дверь своей каморки и улыбнулся фигурке возле узкого окна. Она стояла к нему спиной, накинув на голову капюшон.
— Тея!
В следующее мгновение он застыл на месте.
— Какая жалость, — произнесла Лепида Поллия, сбрасывая капюшон и встряхивая черными волосами. — Но Тея сегодня не смогла прийти.
Арий инстинктивно попятился назад, как будто наткнулся на лежащую посреди дороги гадюку.
— Разве так встречают старых друзей? — Лепида грациозным движением сбросила плащ, оставшись в зеленом платье и с ниткой жемчуга на шее. — Когда-то мы были добрыми друзьями, Арий. Я помню один пир в доме моего отца, когда ты был очень любезен…
— Где Тея? — резко бросил он ей.
— Ее нет, и не будет. Она в другом месте, — ответила Лепида и, присев на край кровати, склонила голову набок, словно любопытная птичка. — Она ушла навсегда, Арий.
Ему показалось, будто в животе у него шевельнулся какой-то холодный клубок.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Мой отец продал ее. Работорговец купил ее и увез из Рима… кажется, это было вчера утром.
Работорговец?
— Куда он ее увез?
— Откуда мне знать? — отозвалась Лепида, разглядывая свои покрытые позолотой ногти. — Какое мне дело до рабов?
В следующий миг комната словно покачнулась, и ее как будто залило ярким, как вспышка, светом. Ощущение такое, будто тебя огрели по голове шишкой щита.
— Знаю, ты любил ее, — продолжила как ни в чем не бывало Лепида, — но она недостойна тебя. В самом деле. Эта девка была готова лечь под каждого мужчину в нашем доме.
Тея. Тея. Вот она, полузакрыв глаза, поет ему. Вот она заливается смехом. Вот целует его, вот показывает, как следует быть нежным. Тея.
— Знаешь, мне было очень неприятно, когда ты предпочел ее мне, — заявила Лепида и прикоснулась к его руке. — Но, думаю, меня можно убедить, попросить, чтобы я об этом забыла. Ты готов убедить меня, Арий?
Тея. Тея. Тея.
Он вытянул руку и сильной ладонью сжал лицо Лепиды. Ее голубые глаза сверкнули, и она игриво укусила его за большой палец.
— Ты… настоящая… стерва. — Арий схватил ее за волосы и оттолкнул к стене.
Она пошатнулась, натолкнувшись на стену, но в следующую секунду Арий схватил нож, лежавший на столике возле постели, и бросил ее на кровать.
— Где Тея? — К белоснежной шее прижалось острое лезвие. — Где она?
Лепида собралась закричать, но сильная рука гладиатора зажала ей рот. В ответ она впилась зубами в его ладонь. Уже не игриво, а злобно. Однако в его крови уже рокотал демон, и он ничего не почувствовал.
— Я зарежу тебя, — прошептал он. — Где она?
Сдавленно изрыгая проклятия в его адрес, Лепида беспомощно барахталась под его весом.
Арий полоснул ножом по ее растрепавшимся волосам и, схватив отрезанный черный локон, ткнул им Лепиде в глаза.
— Я сбрею все волосы с твоей головы, как у прокаженной. Где она? Говори!
Взгляд ее голубых глаз как будто плеснул в него ядом.
Он отрезал еще одну пригоршню локонов.
— Где она?
— В лупанарии, вот где она! — яростно прошипела Лепида, когда он убрал руку. — В лупанарии, в любом лупанарии, где дикари готовы платить за шлюх!
Еще одна пригоршня шелковистых черных волос.
— Где?
— Откуда мне знать? Думаешь, мне есть до этого дело? Где-то далеко, за многие мили отсюда, вот где она! Обслуживает мужчин где-нибудь в Остии или Брундизии. И ты никогда ее больше не увидишь!
И вновь его ослепила вспышка белого света. Лепида Поллия истошно кричала, но он, не обращая внимания на ее возмущенные вопли, методично срезал ей волосы. Ожерелье разорвалось, и жемчуг высыпался прямо в перевернутый щит. Понадобились усилия четырех или пяти подручных Галлия, чтобы оторвать руки Ария от ее горла.
— Мои искренние извинения, уважаемая Лепида! — пробормотал Галлий. — Его ждет самое суровое наказание…
Коротким взмахом руки Лепида велела ланисте замолчать. Как же она безобразна, подумал Арий, глядя на ее побагровевшее лицо и коротко остриженные волосы. Он видел, как шевелились ее губы, изрыгая проклятия, но ничего не слышал. Даже когда ее, изрыгающую проклятия и угрозы, вынесли через дверь и Галлий принялся избивать его, он не услышал ни слова.
В следующем месяце он сражался в Колизее против трех марокканцев, и это был незабываемый бой.
Он вонзил меч прямо в ухо первому, после чего шишаком своего щита пробил череп второму. Когда третий уронил меч и вскинул руку в жесте пощады, Арий голыми руками разорвал ему горло.
В ту ночь толпа на руках пронесла его по улицам, круша при этом окна и посуду, калеча прохожих, а до этого устроив пьяный кутеж. Подняв над головой огромный кувшин, он лил себе в горло вино, сломал челюсть какому-то пьянице, наступившему ему на ногу, а когда какая-то проститутка обхватила его за шею и поцеловала. Арий ответил ей поцелуем, подобно дикарю до крови впившись ей в губы. Он приплелся в гладиаторскую школу ранним зимним утром, в грязной, заляпанной кровью тунике, чувствуя, как головная боль острыми иглами пронзает ему виски.
— Вернулся, — недобрым тоном приветствовал его Галлий. — Следовало бы надавать тебе по голове, как бешеному псу.
Арий пошатнулся, не обращая внимания ни на ланисту, ни на его слова.
— Но мы можем считать себя счастливыми по двум причинам. Во-первых, Лепида Поллия, по всей видимости, решила не говорить отцу о твоем безобразном поведении. Иначе стражники Квинта Поллио уже ломились бы в нашу дверь, жаждая твоей крови. Во-вторых, губернатор Испании прислал тебе вот это в награду за великолепный бой. — Галлий показал Арию тугой кошелек. — Добивайся того, гладиатор, чтобы такие кошельки исправно поступали нам, и тогда будешь жить припеваючи. Ты слышишь меня, мой мальчик?
До слуха Арий донесся лай и злобное рычание.
— Собаки, — сказал он. — Наверно, набросились на кого-то.
— Я еще не договорил. Вернись!
Пошатываясь, Арий перешел улицу и нырнул в гущу собак, которые с рычанием разбежались по сторонам, когда он пинками расчистил себе путь. Разбежались все, кроме одной собачонки, хромоногой маленькой серой суки. Собачонка волочила одну лапу, шкура была покрыта следами зубов. Арий нагнулся, чтобы подобрать с земли камень и размозжить ей голову. Однако псина почти по-человечески посмотрела на него огромными темными глазами, в которых он прочел боль и отчаяние.
Он отбросил камень в сторону и взял собаку на руки, стараясь не прикасаться к ее больной лапе.
— Никакой заразы в моих казармах! — заявил Галлий, перегораживая ему дорогу подолом туники, но Арий шагнул мимо него. — Она, наверно, больная.
Пропустив мимо ушей слова ланисты, он вошел внутрь и захлопнул за собой дверь. В каморке он положил собаку на постель и пристально на нее посмотрел.
— До завтра ты не доживешь.
Каково же было его удивление, когда четвероногая гостья слабо укусила его за палец. Бесполезное хилое создание. Не проще ли свернуть ей шею? Но он предпочел ее накормить: принес из кухни пригоршню объедков и заставил поесть.
— Тея, — произнес он, и его голос прозвучал удивительно громко в пустой комнате. — Так что ли тебя назвать?
При звуке его голоса собака вздрогнула.
— Нет, ты слишком пуглива, чтобы называть тебя Тея. Тея была смелая, она ничего не боялась. Ничего и никого.
Не считая той ночи, когда он проиграл первый бой, когда она с безумными от ужаса глазами ворвалась в казармы и, рыдая, кинулась в его объятия, утверждая, что не переживет, если потеряет его…
— Никакого имени. Ты не достойна имени, все равно ты не доживешь до утра, псина…
Безымянная собака принялась грызть уголок подушки. Арий уткнулся лицом в матрас и заплакал.
Тея
Одним решительным ударом ножа я вскрыла запястье и наблюдала, как из моей руки капает кровь. У меня больше не было голубой чаши, лишь простая медная кастрюля, но мои запястья были покрыты свежими шрамами, и я без особых усилий проводила день за днем с привычным затуманенным взором.
— Тея! — донесся до моего слуха резкий окрик хозяина. — Тея, иди сюда!
Я перевязала руку и встала. На мне было темное платье и выкрашенный в шафрановый цвет парик, какой носят все проститутки. Я ношу эту одежду и парик вот уже два месяца. От меня пахнет, как от сотни немытых мужчин: моряков, рабов, трактирщиков. Кого только нет здесь, в Брундизии, в двухстах милях от Рима.
— Тея!
Спускаясь по шаткой лестнице, я пошатнулась, но не из-за потери крови. За последние дни я выпустила лишь несколько капель. Я хотела вскрыть запястья до самой кости, но не стала этого делать. Во мне зародилась новая жизнь. Зародилась после нескольких часов в холодной каморке гладиаторских казарм, показавшихся мне настоящим раем. Ребенок Ария. В первое мгновение осознание этого повергло меня в ужас. Но когда я занесла над запястьем нож, нож, который вызовет быстрое кровотечение и не даст ребенку появиться на свет, моя рука замерла. Дать ему жизнь? — яростно спросила я себя. Девочке, которая станет проституткой, как и ее мать? Мальчику, который умрет на арене, как его отец?
Но я не нашла к себе сил убить его. Даже если бы захотела. Ребенок Ария Варвара не должен погибнуть от того, что я, капля за каплей, выпушу из себя кровь.
ЧАСТЬ 2
ЮЛИЯ
В храме Весты
Гай мертв. Казнен по обвинению в измене. Мой муж, мой двоюродный брат. Мертв.
Мне нужно быть осторожной. Когда стражники уводили его, Гай осуждающе сверлил меня глазами. Я осталась одна.
—
Новые рубины, Юлия? — спросил меня Марк в следующий свой приход.
—
Подарок. — Ожерелье стягивает мне горло, нитка с огненно-красными камнями. — Подарок моего дяди. — Ему нравится, когда я одета в красное. — «Моя жена носит зеленое, — как-то раз признался Домициан. — Я ненавижу ее. Ты должна носить красное».
—
Он преподнес тебе камни в знак извинения, — тихо пояснил Марк. — Тем самым он дает тебе понять, что не хочет перекладывать на тебя грехи Гая.
—
Грехи? Какие грехи? — Мой голос прозвучал пронзительно громко. Слова извергались из меня, вылетали ураганом, и когда я поведала о голосах, доносящихся из тени, о глазах, наблюдающих за мной из углов, лицо Марка приняло озабоченное выражение. Он заставил меня сесть на мраморную скамью атрия и заговорил совсем о другом. Он стал великим утешением для меня. Иногда он напоминает мне отца.
—
Ты горюешь о Гае, — сказал Марк. — Никто не попрекнет тебя за твое горе.
С Гаем мне всегда было нелегко. После двух недель брака он стал спать на отдельной кровати, и мы встречались с ним только за обедом, где он странно смотрел на меня. И неожиданно до меня доходило, что я снова бормочу что-то невнятное себе под нос и грызу ногти до крови. Он злился на меня, когда я отказывалась есть, хотя стол был накрыт в его новом роскошном триклинии, стены которого украшали позолоченные изображения животных.
—
Я вижу их глаза, —
тихо произнесла я. —
Они смотрят на меня.
—
О боги, Юлия!
Но я всегда видела эти глаза. Чаще всего — глаза моего дяди. Он велит мне называть его дядей, а не господином и богом.
— Даже господин и бог должен иметь того, кто его не боится.
Но я боюсь его. Ведь он и бог, и господин, во всяком случае, моего мира.
—
Они как аспиды, — задумчиво сказала я Марку. —
Его глаза такие черные, как аспиды.
Лицо Марка снова приняло недоуменное выражение.
—
Скажи… Ты здорова, Юлия?
Веста, святая мать, богиня дома и очага. Как я завидую твоим жрицам-весталкам в белых одеждах, к которым мужчины под страхом смерти не смеют даже прикасаться. Я тоже хотела бы стать весталкой. В храме я всегда буду в безопасности, там я не буду видеть никаких глаз.
Веста, храни меня. У меня нет веры ни в кого, кроме тебя.
Глава 8
Лепида
88 год н. э.
Даже новые жемчуга не утешили меня.
— Убирайся! — вскричала я и швырнула в Ириду флакон с благовониями. — Терпеть не могу твою глупую рожу! Ступай прочь!
Рабыня с плачем выбежала из комнаты. Что за тупое никчемное создание! Каждый раз, прикасаясь к моим волосам, она превращала их в стог сена. Я бы с радостью отправила ее на невольничий рынок и нашла себе новую служанку, вот что бы я сделала. Жена сенатора достойна более расторопной и ловкой рабыни.
Но что из того, что мои волосы похожи на стог сена? Какое это имеет значение, когда здесь некому смотреть на меня?
— Лепида! — услышала я знакомый стук в дверь. — Я слышал какой-то звук. Мне показалось, будто что-то упало.
— Это всего лишь упал флакон, Марк. Ирида его уронила. — Я поспешила растянуть губы в притворной улыбке.
Вошел мой муж и ласково поцеловал меня в щеку. Уродливый и совершенно неуместный в моей прелестной, отделанной голубым спальне. От него, как
обычно, пахло чернилами.
— Опять был в библиотеке, Марк?
— Я не мог найти «Комментарии» Цицерона.
— Рабы совершенно не способны укладывать твои вещи в нужном порядке. Тебе нужно строже обращаться с ними.
— В этом нет необходимости. Покопаться на полках — для меня немалое удовольствие, своего рода забава.
Забава. Это же надо. Лепида Поллия, любимица Рима, замужем за человеком, который копается в пыльных рукописях ради забавы.
— Как это мило, — промурлыкала я.
— А ты? — Он заглянул мне в глаза. — Надеюсь, ты не слишком скучала?
— Половина моих вещей еще даже не разобрана. Что касается города… — я беззаботно махнула рукой. — Конечно, Брундизий это не то, что Рим, но, мне кажется, я найду чем здесь заняться. В театре показывают новую постановку «Федры». К тому же, я купила себе еще жемчуга. Они были настолько хороши, что я просто не смогла удержаться. — Я улыбнулась, помня об очаровательных ямочках, которые при этом появлялись на моих щеках.
— Покупай себе все, что захочешь, — улыбнулся в ответ Марк. — Вот видишь, я же говорил, что здешняя размеренная жизнь пойдет тебе на пользу.
— Пожалуй, ты прав, — ответила я, продолжая дарить его улыбкой.
— Сегодня на ужин придет Павлин. Кроме него будут еще несколько моих друзей. Это будет настоящий пир. Вот увидишь, тебе он непременно понравится.
Настоящий пир. Удручающе серьезный сын Марка Павлин и несколько старикашек будут болтать о республике. И это после того как я целых четыре года бывала на пирах, где присутствовали сенаторы, губернаторы провинций и знатные римские патриции.
— Конечно, понравится, иначе и быть не может, Марк. Я велю повару приготовить оленину с розмарином, так, как любит Павлин.
— Я попросил его прийти чуть пораньше. Сабина обожает истории, которые он рассказывает ей перед сном.
— Вы оба ее испортите, — театрально проворчала я. — У нее для этого есть няня.
— Но что тут поделаешь, если ей больше нравится истории Павлина? — муж снова поцеловал меня в щеку — о боги, этот ужасный запах чернил! — и, прихрамывая, неторопливо вышел.
Я дождалась, когда он отойдет на почтительное расстояние, и с размаху швырнула в дверь еще одну бутылочку с благовониями. Как же я ненавижу Марка! Ненавижу его, ненавижу, ненавижу!
Соперник согнулся пополам, и Павлин Норбан опустил меч.
— Ты цел, Вер? Я случайно не ранил тебя?
— Ха! — Вер выпрямился и стремительно приставил клинок к горлу Павлина. — Я так и знал, что ты попадешься на мою уловку! Сдаешься?
— Сдаюсь!
Они сунули мечи в ножны и, выйдя из душного зала, зашагали к казармам преторианской гвардии.
— Тебе следует научиться убивать, Норбан. Правнук Августа? Этого по тебе не скажешь. Ты всего лишь вареный моллюск!
Павлин стремительно взял локтем в захват его горло, и они покатились в борцовском поединке по залитому солнечным светом двору. Добродушно выругавшись, пара фехтующих преторианцев поспешно юркнула в сторону.
— Сдавайся! — потребовал Павлин, нажимая на дыхательное горло Вера.
— Сдаюсь! Сдаюсь!
Встав, они направились в бани, где сбросили пропотевшие туники и с наслаждением погрузились в горячую воду бассейна. Вер велел слуге принести графин вина.
— Идешь вечером к Марку?
— Я не смогу прийти, — ответил Павлин, вытирая пот со лба.
— Приглашен еще куда-нибудь? — усмехнулся Вер. — Ужин на двоих где-нибудь в укромном месте?
— Нет.
— Только не надо скрытничать! Ведь это та самая певичка, за которой ты увиваешься… Антония, кажется?
— Афина. Нет, с ней я сегодня не увижусь.
— Я не осуждаю тебя, она прелестна. Правда, дорого стоит. Ждет множества небольших подарков. Во сколько же обойдется тебе ужин на двоих?
— Дело в моем отце, болван. Он сейчас в городе.
— Твой отец? Неужели? А я думал, что он никогда не покидает стен Сената.
— Неужели ты ничего не слышал? Сенат, подобно школе, распущен на летние каникулы. — Павлин жестом отослал прочь банщиков, уже спешивших к нему с маслом и скребками. Он чувствовал себя неуютно, когда рабы соскребали пот с его кожи. По его мнению, воин должен сам следить за своим телом.
— Пожалуй, тогда я сам загляну к твоей певичке. Скажу ей, как ты по ней скучаешь, пока ты будешь вынужден выслушивать все эти разглагольствования о доблестях республики, к тому же излагаемые александрийским стихом. — Банщик энергично провел скребком по его спине, соскабливая пот, и Вер простонал от удовольствия. — Нет, лучше я скажу ей, что ты оказываешь знаки внимания своей очаровательной мачехе.
— Эй! Осторожнее! — предостерегающе воскликнул Павлин.
— Не гневайся, мой друг! Я просто выражаю искреннее восхищение этим прекрасным созданием, усладой мужских очей, которая приходится тебе законной мачехой…
Павлин замахнулся на него полотенцем. Последовало потешное сражение, и на пол со звоном полетел поднос с банными маслами. Павлин жестом поманил к себе банщиков, чтобы те вновь расставили баночки с притираниями ровными, как солдаты на плацу, рядами.
— Знаешь… — Вер опустился на мраморный массажный стол и жестом подозвал раба-массажиста. — Я никогда не думал, что твой отец когда-нибудь женится на юной женщине, которая в три раза моложе его. Мой отец, старый козел, женат уже на четвертой. Но твой…
Павлин принялся щеткой стирать с руки пот. Подобные мысли тоже приходили ему в голову.
— Отец, ты… и эта юная Поллия… она… она, по сути, еще ребенок, — произнес он четыре года назад. — Извини, я не думал…
— Правильное, точное, естественное наблюдение, — улыбнулся тогда отец. — Я знаю, что об этом думают люди… старый сатир и юная дева. Я не против того, чтобы у людей появится повод для смеха.
Щеки Павлина запылали от гнева. Пока он жив, он никому не позволит насмехаться над отцом.
— Кто же смеется? — резко потребовал он ответа.
— Все, — сухо ответил Марк. — Не сердись, сын.
— Но если ты говоришь…
— Говорят, будто я потерял голову из-за молоденькой женщины, которая годится мне в дочери. Люди не знают, что сам император приказал мне жениться на ней, причем вопреки моей воле. Хотя мне кажется, что мы с Лепидой неплохо поладим. — Марк улыбнулся. — Я не строю иллюзий, Павлин. Я гораздо старше ее. Но Лепида хорошо ко мне относится, и мне это по душе.
Павлину неожиданно пришла в голову досадная мысль: его собственная мать была не слишком красива и приятна в общении.
— Приятна? — как-то раз скептически фыркнула его тетка Диана. — Павлин, да она была сущей мегерой.
— Тетя Диана… — начал было он, но так и не смог ничем ей возразить. Ему было всего три года, когда мать развелась с его отцом, десять, когда она умерла, но он хорошо помнил, как она кричала на него и кидалась первым, что попалось под руку. Он вспомнил также, как однажды она швырнула в фонтан атриума все сто сорок два свитка трудов Тита Ливия под заглавием «Аb Urbe Condita».
— Это было не очень удачное издание, — спокойно отреагировал на это отец.
Пожелай Марк Норбан спокойствия в своем преклонном возрасте, он получил бы на это благословение сына, и никто не посмел бы насмехаться над ним. Во всяком случае, в присутствии Павлина Вибия Августа Норбана.
Вер продолжал говорить, и голос его глухим эхом отражался от мраморного стола.
— Я знаю, ты всегда крайне щепетилен в тех случаях, когда тебе требуется помощь отца, хотя и не вполне понимаю этого. Будь Марк моим отцом, я бы уже давно выклянчил себе должность префекта. И если ты не хочешь просить его, чтобы тебя перевели служить в Германию, потому что там сейчас война, то попроси хотя бы за меня.
— Ты все еще грезишь воинскими подвигами и надеешься снискать славу на берегах Рейна?
— Я мечтаю об этом каждую ночь. В своих мечтах я вижу себя триумфатором, вижу, как император возлагает мне на голову лавровый венок. Как жаль, что нас не было рядом с ним у Тап!
— Похоже, ему удалось разбить германцев и без нас.
— Как полководец Домициан пошел в своего брата Тита. Эх, если бы удалось уговорить Руфа Скавра поведать нам, как он сражался вместе с Титом в Иудее! Он рассказал бы немало интересного…
В детстве заветной мечтой Павлина было спасти императора. Встать на пути отравленной стрелы, оттолкнуть руку с кинжалом, разметать орду варваров. Глупые детские мечты. И все же, служить так служить!
«Быть Норбаном — значит служить». Этому всегда учил его отец. Доставить отцу радость, чтобы он мог по праву гордиться сыном, — с этим не идут ни в какое сравнение венки триумфатора.
— Хватит нежиться. Вставай! Пора предстать пред отцом и его красавицей женой, — поддразнил Павлина Вер. — А я вместо тебя передам привет Антонии.
— Афине.
— Может, я передам ей и кое-что еще…
Павлин швырнул в наглеца скребок.
— Павлин! Ты пришел!
Этот радостный крик донесся до слуха Павлина, стоило ему перешагнуть порог отцовского дома. В следующее мгновение что-то налетело на него на уровне коленей. Павлин со смехом нагнулся и подхватил на руки свою четырехлетнюю сводную сестру.
— Как ты подросла, Вибия Сабина! Да ты стала настоящей невестой!
Он шутливо растрепал каштановые волосы малышки, и та залилась веселым смехом. Сабина была маленькой, по-птичьи хрупкой, с сияющим от счастья личиком. Павлин был страшно рад, когда она появилась на свет. Ему всегда хотелось иметь сестру. И хотя ребенком Сабина была болезненным, будучи подвержена относительно легким припадкам падучей, смех этого маленького создания напоминал серебряный колокольчик или журчание струй в выложенном голубой плиткой фонтане посреди атриума. Откуда-то из внутренних покоев, прихрамывая, вышел Марк и встал, с улыбкой глядя на сына и дочь.
— Сабина, где твой поклон? — вслед за мужем в атрии появилась Лепида — в розовом шелковом одеянии, с ниткой розового жемчуга на шее. Как же она была хороша! У Павлина не укладывалось в голове, как эта красавица может быть матерью Сабины. Лепида казалась такой нежной и слабой, грациозной, как лань, не способной поднять ребенка на руки, не говоря уже о том, чтобы выносить его и произвести на свет. Живое обезьянье личико Сабины сделалось серьезным, и она забавно поклонилась сводному брату. Тот шутливо отдал ей преторианский салют и хитро подмигнул.
— Так-то лучше, — заметила Лепида. — Ступай прочь. Марк, твои гости собрались.
Сабина молниеносно скрылась. Лепида, похожая на райскую птицу, последовала в облицованный серым мрамором триклиний. Марк обернулся к сыну.
— Извини, что не написал раньше, Павлин. Неожиданный приезд. Я знаю.
— Я тоже удивился. Наверно, у тебя изменились планы?
— Да, — коротко ответил отец. — Я позднее все тебе объясню. Думаю, ты узнаешь моих гостей. Друз Эмилий Сульпиций, Аал Соссиан, этот молодой несносный Урбик из Септемвириев. Впрочем, ума ему не занимать….
Званые ужины Марк Норбан устраивал нечасто, и все они были в одинаковой степени скучны. Те же самые гости, та же незамысловатая еда, все тот же седобородый оратор, декламирующий греческие стихи (почему ораторы греки всегда имели седые бороды?), то же самое добродушное философское подшучивание друг над другом. В детстве подобные ужины навевали на Павлина отчаянную скуку. С тех пор отношение к ним у него нисколько не изменилось, но теперь он хотя бы понимал, что за столом отца собирались лучшие умы империи. Когда кто-то из гостей начинал цитировать Платона (а они делали это с завидным постоянством), Павлин от скуки не знал, чем себя занять. Впрочем, ему было по-своему приятно наблюдать за своим скромным отцом, который умел столь непринужденно держаться в обществе величайших умов Рима. Ему было приятно думать, что отец и в самом деле блистательный мыслитель, каким он казался ему в детстве.
Сегодня он выглядит даже лучше, чем раньше. Более аккуратен, полон достоинства. Это, конечно же, благодаря Лепиде. Павлин бросил взгляд на свою юную мачеху.
Откинувшись на подушки, она лакомилась виноградом из серебряной чаши — такая юная, и как ему показалось, такая по-детски ранимая. За весь вечер она едва ли произнесла хотя бы слово. Неожиданно Павлин ощутил прилив симпатии к ней. Наверняка, она чувствует себя неловко, не понимая многое из того, что обсуждается сейчас за столом. Зато теперь она жена образованного и мудрого человека. Лепида действительно очень молода, ей двадцать один год, она всего на два года моложе его. Но выглядит совсем юной, лет на шестнадцать, — как тогда, когда он впервые увидел ее под красной вуалью невесты. И Павлин улыбнулся ей через стол.
Лепида
Мне уже давно не было так скучно, даже не могу припомнить, с каких пор. Скучный Марк с его скучными гостями, скучный грек-оратор и все эти скучные рассуждения о судьбе империи. Каждый раз, когда мне казалось, что их разговоры закончились, кто-нибудь обязательно начинал цитировать Платона. Или обсуждать трактаты Марка.
— Я нахожу интересными твои рассуждения о снижении рождаемости, Норбан, — говорил сенатор Сульпиций или Грациан или кто-то другой, не менее скучный гость. После чего они еще целый час обсуждали ужасно нудный трактат Марка, который я была вынуждена прочитать в прошлом году, чтобы ему угодить. Затем гости требовали, чтобы он зачитал вслух отдельные места трактата, но, слава богам, он отказывался, хотя подобная просьба была ему явно приятна. Насколько же он наивен. Гостям было наплевать на его трактат, они лишь рассчитывали на бесплатное угощение в его доме. Все прекрасно понимали это, все — кроме моего глупого мужа.
Павлин уходил последним. Он настоял на том, чтобы Марк отвел его наверх — пожелать спокойной ночи Сабине. До чего же тошнотворно было видеть их лица, когда они с умилением смотрели на маленькую кроватку! Может, кто-нибудь объяснит мне, почему они в таком восторге от Сабины? Она нисколько не похожа на меня. Ее даже нельзя взять с собой в приличное общество, поскольку на публике с ней в любую минуту может случиться припадок, а это, скажу я вам, отвратительное зрелище — пена у рта, конвульсии. Мне следовало бы знать, что ребенок, рожденный от Марка Норбана, будет неполноценным. Сабина же была ребенком Марка, его абсолютной копией. В этом не приходилось сомневаться.
— Мне кажется, все прошло прекрасно, дорогая Лепида, — сказал Марк, когда они попрощались с Павлином.
— Да, дорогой Марк, — с улыбкой ответила я, и он поднес мою руку к своим губам. Я поцеловала его в щеку, и он взял мое лицо обеими ладонями.
— Останешься со мной сегодня вечером? — игриво спросила я. У меня была отдельная спальня — я с самого начала настояла на этом! — и Марк никогда не заходил в нее без моего приглашения, но я регулярно разрешала ему приходить ко мне. Такие маленькие представления, вернее — проявления супружеской любви, его чрезвычайно радовали, и он безоговорочно оплачивал все мои расходы.
— С радостью. После того как расскажу Сабине перед сном сказку.
Сабина, вечно эта Сабина! Он просто помешан на этой глупой девчонке. Иногда я думаю, не совершила ли я ошибку, произведя на свет это создание. Ведь не будь у нас дочери, вся его любовь доставалась бы исключительно мне.
— Какой ты прекрасный отец! — улыбаясь, проворковала я.
Я продолжала улыбаться до тех пор, пока его шаги не стихли в глубине дома. И тогда я презрительно высунула язык и состроила гримасу.
Затем я вернулась в свою спальню. Ирида вытащила заколки из моих волос, и я посмотрелась в зеркало. Розовое платье было мне к лицу. Мне вообще к лицу красные и розовые тона, чем могут похвастать далеко не все мои ровесницы. Вспомнить хотя бы, какой бледной и болезненной выглядела Юлия под красной вуалью невесты. А моя вуаль…
День моей свадьбы был похож на сказку.
Белое платье, ярко-красная вуаль. Свадебная процессия, жертвоприношения в храме — все было великолепно. Все, кроме Марка. В тот день он выглядел как никогда старым. Как ни странно, я обнаружила, что могу с легкостью не замечать его присутствия в моей жизни. Все-таки на свадьбе главное действующее лицо — невеста. В мою честь был даже устроен поединок гладиаторов.
Нет, Варвара, конечно же, среди них не было. Ланиста отправил его выступать по провинциям. Думаю, он, наверняка, опасается меня, или того, что я сделала бы с ним, осмелься он появиться в Риме. Скажу честно, в этом случае я без малейшего колебания бросила бы его на растерзание львам. Я и сейчас готова это сделать. Если бы он посмел появиться на свадьбе!..
Да, это был прекрасный день. Просто сказочный. Но ночь…
Марк по праву жениха должен был перенести меня через порог дома, но был для этого слишком стар и слаб. Вместо него невесту в дом внес Павлин. После этого все поклонились нам и оставили нас одних, меня и моего молодого, старого мужа в темноте спальни.
— Где твои волосы? — удивился Марк, когда я сняла вуаль. Он указал на мои короткие локоны, которые Ирида все утро пыталась привести в божеский вид.
— Видишь ли, недавно я случайно забрела в один темный переулок, где на меня набросилась какая-то жуткая старуха с ножницами в руках. Мои волосы, по всей видимости, превратились в парик, который в данный момент нахлобучила себе на голову какая-нибудь лысая матрона. — Такое же объяснение я дала и моему отцу, когда вернулась домой из казарм гладиаторов с остриженными вкривь и вкось волосами. Конечно, я могла бы сделать так, чтобы Ария скормили львам, но тогда мне пришлось бы рассказать отцу о том, как я оказалась в комнате Варвара. Увы, даже терпение Квинта Поллио имеет границы… Нет, я еще успею поквитаться с этим наглецом Арием. Дайте мне только время…
Когда Варвар вернулся после годичного турне по римским провинциям, отца уже повысили в звании — сделали претором, — и у меня теперь не было такой возможности. Потому что отец больше не отвечал за устройство игр. Что же, придется отложить месть до удобного случая. Я подожду.
— Тебе повезло, ты лишилась лишь волос, но осталась жива, — сочувственно заметил Марк, и я одарила его одной из своих самых обольстительных улыбок. Его взгляд стал нежнее, мягче. Он взял меня за обе руки. — Лепида, позволь мне кое-что тебе объяснить, — добавил он и сел рядом со мной. — Тебе придется принять серьезное решение. Если ты хочешь, чтобы это брак был лишь формальным, я пойму твое желание и не стану возражать.
— Не говори глупостей, Марк, — ответила я, стараясь придать голосу серьезность и игривость одновременно. — Я хочу быть твоей настоящей женой. Хочу иметь детей… — Я слегка приукрасила мое истинное желание, зато моя уловка сработала: взгляд Марка сделался еще мягче. Нагнувшись, я поцеловала его.
Все оказалось не так уж отвратительно. По-крайней мере, от ужаса никто не умер бы. Марк был точно таков, как я и ожидала. Нежный. Милый. Заботливый. По-моему, даже излишне. Мне не нравится, когда со мной обращаются как с игрушкой из хрупкого стекла. Мне нравится… капелька грубости в обращении. Конечно же, я томно вздыхала и смотрела на него восхищенными глазами, уверяла его, что он великолепен в постели. Думаю, он так и не заподозрил моего притворства, когда я закрывала глаза — якобы от страсти, а на самом деле, чтобы только не видеть его обнаженного уродливого плеча. Впрочем, оно того стоило, потому что позволяло мне делать все, что я хочу. Ходить, куда вздумается. Тратить столько денег, сколько мне только заблагорассудится.
Я вздохнула и провела по волосам серебряным гребнем. Какие славные годы это были! Марк неизменно отправлялся в Сенат, а я каждый вечер посещала званые ужины. Признаюсь, иногда я испытывала искреннюю симпатию к Марку Норбану. Я не думала, что останусь его женой на такой долгий срок, ведь уже в первый же год брака я легко могла найти себе в мужья кого-нибудь помоложе и покрасивее. Однако я быстро поняла, что мягкий и нетребовательный старый сенатор куда предпочтительнее молодого и ревнивого воина.
— Ты не будешь возражать, если я отправлюсь к кому-нибудь в гости? — неизменно спрашивала я Марка. — Ты же знаешь, дорогой, как я люблю пиры и развлечения. Я ведь не такая умная и образованная, как ты.
— Нет, ты молода, очаровательна и очень красива, — отвечал он, целуя меня в щеку. — Развлекайся, радуйся жизни.
Я всегда горячо благодарила его, прежде чем улизнуть из дома на очередной пир. О, какие это были восхитительные пиры! Вино, музыка, красивые мужчины, осыпавшие меня комплиментами, мужчины, толпившиеся возле меня, наперебой восхвалявшие мою красоту, мужчины, которые еще год назад даже не посмотрели бы в мою сторону, потому что я была незамужней девушкой, Лепидой Поллией. Теперь же у меня был послушный старый муж, позволявший мне делать все, что я хочу, и я стала самой красивой женщиной Рима.
Я научилась пользоваться косметикой так, чтобы выглядеть элегантно и модно, но ни в коем случае не провинциально. Научилась завязывать узел столы так, чтобы окружающим казалось, будто шелковое платье вот-вот соскользнет с моего плеча. Научилась покачивать томно бедрами под шелковыми одеждами. Научилась улыбаться одними лишь глазами и одним лишь легким движением ресниц обещать мужчинам некие двусмысленные удовольствия. Научилась небрежному придворному жаргону, который моментально давал понять, кто есть кто. Я узнала, что моего отца считают неотесанным, несветским человеком, из чего сделала вывод, что будет лучше, если важные для меня люди не будут видеть меня на публике в его обществе. Мне стали известны снадобья, приняв которые, никогда не забеременеешь. Узнала я и о том, что замужняя женщина может делать все, что ей вздумается, главное, чтобы муж смотрел на это сквозь пальцы. Короче говоря, я очень многому научилась.
— Неужели тебе не хочется побыть с Сабиной? — спросил Марк, склоняясь над колыбелью нашей дочери, вскоре после того как она родилась.
— Не хочу случайно придавить ее во сне, дорогой. — С этими словами я, одетая в роскошное шелковое платье, обнажавшее мои плечи — слава богам, деторождение никак не отразилось на моей фигуре! — поспешила на пир, где будут веселиться сенаторы, военачальники и трибуны. Я имела на это полное право. Ведь замужняя женщина, тем более родившая законного ребенка, может делать все, что захочет.
— Я так долго ждал тебя, — томно вздыхал Луций Марцел, или Авл Дидан, или тот чудный африканец-ретиарий, который говорил мало, но в любую минуту был готов подарить мне радость. Я была крайне расстроена, когда Арий убил его на арене во время поединка.
Марк никогда ни о чем не расспрашивал, ни в чем меня не подозревал. Это был еще один урок, который я извлекла из брака с ним. Как же все это было восхитительно — пиры, развлечения, драгоценности, мужчины. Лепида Поллия, любимица Рима. Я всегда знала, что меня ждет именно такая судьба. Всегда. Ибо чего-то меньшего я не заслуживаю.
Как вдруг все это прекратилось. Сразу. Полностью. Неожиданно для себя я оказалась далеко от Рима, в Брундизии, крошечном приморском городке с летними виллами и гаванью с лазурной водой, где можно было услышать самые экзотические наречия, от которых начинало звенеть в ушах. И Марк — обычно дружелюбный, услужливый Марк — неожиданно сделался упрямым и неуступчивым, как каменная стена. Голос Ириды вернул меня из раздумий в реальность.
— Подавать ночную рубашку, госпожа?
— Да, подавай, — отозвалась я. Вдруг мне сделалась противна моя красная стола. Красный — цвет брачной вуали, которую я надела, выходя замуж за Марка Норбана. Это по его прихоти я застряла в этой глуши.
Ирида удалилась, я же принялась придирчиво изучать свое отражение в зеркале. Нет, я по-прежнему была хороша! Мои волосы отросли и вновь достигали талии, падая вниз блестящим иссиня-черным каскадом. Разве сможет мой муж мне в чем-нибудь отказать?
— И что случилось потом? — зевая, спросила Сабина.
— Я доскажу эту историю завтра, моя дорогая. Ты уже почти спишь.
— Нет, я не… — Девочка снова зевнула, и Марк погладил ее по каштановым волосам, таким же шелковистым, как и у Лепиды. Старый сенатор улыбнулся, мысленно поблагодарив супругу за то, что она подарила ему это очаровательное создание. Его первая жена не хотела детей. Павлин появился на свет случайно, за что она постоянно упрекала Марка.
— Да, наверное, это моя вина, Туллия, — отвечал он, пытаясь обратить все в шутку, но жена в ответ швырнула в него мраморный бюст его отца.
— Я же не Туллия, — любила поддразнивать его Лепида. Вибия Сабина появилась на свет в первый же год их брака.
— Спокойной ночи, — тихо сказал он дочери и вышел из спальни.
— Марк! — позвала Лепида, услышав шаги мужа. — Входи, дорогой, в коридоре холодно.
Он вошел к ней в спальню. Лепида отвернулась от зеркала, и его встретила ее улыбка и очаровательные ямочки на щеках. А какие роскошные у нее волосы, черными локонами ниспадающие на плечи!
— Садись, Марк. Я согрела немного вина.
Он улыбнулся в ответ и покорно подался в ее объятия.
Глава 9
Ему предстояло сразиться с фракийцем-ретиарием, вооруженным трезубцем и рыболовной сетью. Это был известный на Сицилии боец, который, тем не менее страшился встречи с Варваром на арене Колизея. Арий убил его быстро и равнодушно ударом меча в горло, после чего ушел с арены через Врата Жизни. Поклонники Варвара оглашали воздух восторженными воплями, и демон отправился спать куда-то в далекий угол его сознания.
— Отлично, мой мальчик, — произнес Галлий, не отрываясь от расходной книги, когда Арий, вернувшись в казармы, явился к лекарю на обычный осмотр. — Можешь напиться, если хочешь. Попытайся вернуться до рассвета, договорились?
В таверне, как обычно, буйствовали поклонники, круша окна и посуду. Они уже научились держаться от своего кумира на почтительном расстоянии. Наступил июль, улицы были раскалены жарким летним солнцем, и все знали, что летом, в жару, с Варваром лучше не связываться, ибо он делается диким и необузданным.
К нему подошла какая-то девушка.
— Я Фульвия, — представилась она с нервным смешком. — Ты ведь Варвар, верно?
Он окинул ее придирчивым взглядом. Голубые глаза. Белокурые волосы. Подойдет.
— Я видела тебя сегодня на арене. Ты великолепный боец…
Арий указал большим пальцем на лестницу, что вела наверх. Хозяин таверны разрешал ему пользоваться комнаткой на втором этаже. Девушка хихикнула и послушно поднялась наверх, где сразу же бросилась на постель. Нетребовательная юная особа. Она не стала возражать, когда он, сделав свое дело, отвернулся к стене и замолчал. Никто из них не возражал, — десятки таких юных красоток, деливших с ним постель в последние годы. Когда он что-то говорил, на их лицах появлялось разочарование, как будто его слова снимали с него некий покров тайны. Им нужен был другой Варвар, мрачный и молчаливый. Что его тоже вполне устраивало. Он больше не хотел говорить с женщинами. Хватит с него разговоров.
До этого ему в каждой женщине виделась Тея. Она чудилась ему в каждой косе черных волос. В каждой паре узких бедер. Его надежды разбивались на мелкие осколки несколько десятков раз в день. Это было мучительно больно. Но лучше испытывать боль, чем навсегда забыть.
Теперь ее лицо ускользало из его памяти. Он стал забывать разрез ее глаз, форму носа и губ. Он иногда, закрыв глаза, тщетно пытался ее вспомнить, пока у него не начинала болеть голова. Если он забывал ее лицо, то забывал и все остальное: то, как она прикасалась к его шрамам, как вела с ним разговоры, как пыталась убедить его в том, что демоны и кровь в ночных кошмарах это лишь плод его фантазии.
Должно быть, ее уже давно нет в живых.
Арий вскоре ушел от белокурой девушки и молча зашагал по вонючим римским переулкам к Марсовой улице. Подручные ланисты пустили его в казарму без единого слова: для знаменитого гладиатора не существовало запретов по времени возвращения. Галлий даже выплачивал ему небольшие деньги. Жизнь Ария можно было даже назвать приятной, если не считать обязательных, непременных убийств.
Он вошел в комнату, и хромоногая собачонка встретила его радостным лаем. Свернувшись калачиком на подушке, она грызла кожаную перчатку.
— Ты испортила мне уже третью пару перчаток за год, — добродушно проворчал Арий.
Собачонка поджала хвост и неуклюже соскочила с подушки на край кровати. Лапу она потеряла в схватке со сворой уличных псов, однако научилась довольно ловко передвигаться на трех оставшихся. Арий со стоном опустился на кровать и потянулся так, что хрустнули кости. Собака устроилась у него в ногах.
— Смотрю, ты знаешь, как найти уютное местечко! Эх, бесполезная ты псина! — Он потрепал ее шелковистое ухо. Темный взгляд собачьих глаз напомнил ему глаза Теи.
Тея
Серое платье, серебряные браслеты, заплетенные в косы волосы — вот мои нынешние боевые доспехи.
— Тея! — В дверь моей комнатки просунулась седовласая голова Пенелопы. — Ты знаешь, что тебе предстоит петь на званом ужине сенатора Абракция?
— Да, я готова, — ответила я, надевая на руку последний браслет, и обвела глазами комнату в поисках лиры.
— Ларций дает тебе в сопровождение рослого раба. Знаешь, эти колесничии такие грубияны, от них нужно держаться подальше.
— Милый Ларций, — улыбнулась я. Мой хозяин. Как же я люблю его!
После того как Лепида Поллия избавилась от меня, как от старого платья, я провела три ужасных месяца в одном из портовых лупанариев. Три месяца я терпела мерзких, грубых и потных мужчин. Мне приходилось ждать, когда они сделают свое дело, чтобы, как только они уйдут, навсегда забыть о них. Меня спас мой растущий живот. Хозяин лупанария заставлял меня принимать снадобья, чтобы я избавилась от будущего ребенка, но я тайком выплевывала их. Когда огромный живот сделал меня непригодной для занятий проституцией, хозяин просто отвесил мне затрещину и вместо меня нашел другую женщину. Меня продали на рынке напротив брундизийского Форума. Здесь я впервые увидела моего нового хозяина, пухлого и розовощекого мужчину. Я сначала предположила, что это новый сутенер. Но…
— Мой управляющий сказал, что у тебя прекрасный голос, дитя мое. — Меня удивил приятный голос розовощекого патриция и его добрые глаза. — Он слышал, как ты пела, сидя у окна какого-то прискорбного портового заведения. Я не спросил его, что он делал в этой части города. И пусть у него довольно низменные вкусы в том, что касается развлечений, музыкальный слух у него столь же совершенен, что и мой. Скажи мне, дитя, ты можешь спеть «Глаза Цитеры»?
После часового прослушивания в просторном, залитом солнцем атриуме мой новый хозяин — скорее всего, не сутенер, который, судя по всему, остался доволен, — позвал женшину-вольноотпущенницу. Как я поняла, она заменяла ему супругу.
— Пенелопа, послушай мое новое приобретение. Как тебя зовут, дитя? Тея? Пенелопа, она превосходна! Кто бы мог подумать? Ей нужно брать уроки, причем, начинать следует прямо сейчас. Такой голос нужно развивать, холить, лелеять. Ты играешь на лире? Этому тоже следует научиться. Обязательно. Подумай об этом!
— Замолчи, Ларций! — рассмеялась Пенелопа. — Ты смущаешь бедную девочку.
Она мне все объяснила по пути в маленькую комнату, такую чистую и светлую, что я почувствовала себя прежней грязной и ничтожной потаскухой, оскверняющей своим присутствием это славное жилище.
— Дело в том, что Ларций покупает музыкантов. Это его увлечение, его страсть. Дом полон флейтистов, барабанщиков, лютнистов. Здесь даже есть хор мальчиков. Не смотри на меня так, хор мальчиков предназначен в этом доме только для пения. Ларций всегда приобретает только самое лучшее. У него особый нюх на таланты.
— Но зачем я ему понадобилась? — осторожно поинтересовалась я.
— Ради удовольствия слышать, как ты поешь. — Пенелопа потрепала меня по руке. — Тебе не нужно беспокоиться об этом, моя дорогая. Он не интересуется рабынями. У него в Риме жена, а когда он живет здесь, то у него есть я. Кстати, когда тебе рожать? Через несколько месяцев? Что ж, пока отдыхай…
Мой ребенок появился на свет раньше срока. Он кричал как демон, он измучил меня, выкрутил, как прачка влажную тунику. Мой новый хозяин с трудом дождался того дня, когда я наконец разрешилась от бремени, чтобы начать мое обучение.
— Тебе придется хорошенько выучить, дитя, «Гармонию» Аристоксена. Это так важно, научиться различать энгармонические микротона…
— Ларций, она родила ребенка всего полтора дня назад, — укоризненно напомнила ему Пенелопа. — К тому же ребенок оказался крупный, и бедняжке пришлось нелегко, — добавила она, глядя на пищащий сверток, который был моим новорожденным сыном.
— Он настоящий гигант, — согласилась я.
— Но ведь она даже не понимает разницы между самой высокой нотой parthenios aulos и самой нижней hyperteleios! — сокрушенно воскликнул Ларций.
— Я хочу начать учебу, — решительно заявила я, прежде чем Пенелопа успела выразить недовольство бессердечием моего нового хозяина. — Хочу начать прямо сейчас.
Сын Ария появился на свет, оглашая громкими криками весь дом, хватая голыми деснами собственную крошечную ладошку. Его макушку уже украшали коротенькие рыжие завитки. Я не могла равнодушно смотреть на него. Всякий раз, глядя на него, я испытывала прилив нежности, от которой у меня перехватывало горло. Гораздо проще думать о нотах parthenios aulos, чем о том, как назвать моего новорожденного сына.
Ларций же втянул меня в работу. Он нанял мне учителя вокала и учителя игры на лире, дотошно критиковал мою технику пения, учил тончайшим нюансам исполнительского мастерства.
— Никогда не старайся угодить публике, Тея. Учись управлять ею. — Откуда ему все это известно? Он был патрицием, знатоком римского права. Откуда ему знать, как следует держаться перед публикой?
— Признайся, — как-то раз сказал он, когда я попыталась спорить с ним, — в том, что касается музыки, я всегда прав.
Пенелопа купала меня в молоке, чтобы отбелить мою темную кожу, мыла мне волосы настоями шалфея и цветков бузины, чтобы придать им блеск, натирала мне руки маслом, чтобы смягчить их.
— Теперь ты певица, — однажды заявила она и взялась учить, как вести себя на пиру за обеденным столом и правилам светского разговора. — Тебе нужно подобрать сценическое имя. Что-то броское и одновременно достойное. Может быть, Каллиопа или Эрато, это имена муз эпической и любовной поэзии…
Так я превратилась из Леи из Масады, Теи, возлюбленной Ария, безымянной портовой шлюхи в нового соловья Ларция. В целом моя жизнь была хороша. Все музыканты Ларция носили на пальце небольшое медное кольцо с его именем, но в остальном мы даже не чувствовали себя рабами. Наоборот, мне было так легко и вольготно, что я даже не заметила, как пролетели последние пять лет. Пять лет уроков пения, обучения игре на лире, разговоров с гостями и споров с Ларцием о том, в какой манере исполнять ту или иную песню. Пять лет пения и музыки: ужины для узкого круга гостей, которые требовали негромких любовных баллад, шумные пиры политиков, где были нужны жизнерадостные застольные песни. Целых пять лет.
Как обычно в течение последних пяти лет, я облачилась в «доспехи» — серое платье и серебряные браслеты, взяла лиру и отправилась взглянуть на спящего сына. Ему уже исполнилось пять лет, и у него было имя, но только не имя его отца. О его отце я старалась никогда не вспоминать.
— Я слышал, что недавно ты ухаживал за одной лютнисткой. Или это все-таки была танцовщица?
Павлин задумчиво потер подбородок.
— Так ты все знаешь, отец?
— Я держу ушки на макушке, — улыбнулся Марк.
— Она очень талантлива, — решительно ответил Павлин.
— Я нисколько не сомневаюсь в ее артистических способностях, кем бы она ни была. — Отец и сын вышли в сад. Павлину пришлось умерить шаг, чтобы Марк мог идти с ним рядом. Ярко светило солнце, отражаясь нежными бликами от плиток фонтана. Мимо них прошли рабы, неся кувшины и корзины с бельем. Все как один приветливо улыбнулись хозяину.
— Не пора ли тебе жениться? — продолжил Марк. — Я бы не стал возражать, если бы у меня появилась невестка.
— Ты предлагаешь привести женщину в казармы преторианской гвардии? Боги домашнего очага ужаснулись бы такой нелепости.
— Она могла бы жить здесь, пока ты находишься на службе. В доме много свободных комнат. Их хватит и для вас двоих.
— Неужели? — с сомнением в голосе спросил Павлин.
— Лепида не ревнива, — рассмеялся Марк. — Она будет рада вашему обществу.
— Но у нее, если не ошибаюсь, есть и ее собственные друзья?
— Да, — ответил Марк и после короткой паузы добавил: — Порой это не те друзья, чье общество было бы мне приятно. Молодая женщина ее лет, ровесница, под одной крышей… Это пошло бы ей на пользу. Да и тебе тоже, мой мальчик.
— Холостяк вроде тебя, поющий хвалу браку? Забавно слышать подобные слова! — улыбнулся Павлин.
— Согласен.
Павлин с любопытством посмотрел на отца. Как, однако, он похож на своего сурового деда в грубой тоге и простых сандалиях. Марк улыбнулся.
— Хочешь винограда, Павлин? В этом году у нас прекрасный урожай. Во всяком случае, так говорит управляющий. — Марк остановился возле столбиков, оплетенных виноградной лозой. — Я стараюсь узнать больше о винограде. Подумываю даже, а не написать ли мне трактат, в котором я мог бы сравнить разложение республики с увяданием виноградников осенью. Но я толком не знаю, что происходит осенью с виноградом. Знаю лишь, что спелые гроздья появляются на моем столе независимо от времени года. Прошу тебя, угощайся.
Павлин попробовал несколько ягод. Кислые, с обилием косточек.
— Я читал твой последний трактат о падении рождаемости, познакомился с твоими выводами. Впрочем, признаюсь честно, я не совсем уяснил написанное, это выше моего понимания. — Павлин оперся о мраморный край фонтана. — Что о нем думает император?
— Император? — Марк выбрал еще одну сморщенную гроздь. — Удивлюсь, если выяснится, что он читал хотя бы один или слышал о них.
— Император Веспасиан всегда читал твои трактаты, — сказал Павлин и незаметно выбросил половину пригоршни виноградин в фонтан.
— Домициан — не слишком охоч до книг, и если даже он когда-нибудь займется чтением, то вряд станет смотреть на меня с былой благосклонностью. Он не любит рассуждений на политические темы.
— Это лишь советы как увеличить рождаемость. Что здесь политического?
— Он может усмотреть критику, намек на то, что сам он не обзавелся наследником.
Павлин задумался.
— Императрица, — немного помолчав, продолжил он, — прожила в браке с ним десять лет. И чем она может похвастаться? Что за это время у нее было несколько выкидышей? Он имел полное право на развод, но ты вынудил его восстановить ее в качестве супруги — видимо, потому, что посчитал это более разумным, чем…
— Чем что? — сухо спросил Марк. — Ты ведь не об императрице меня спрашиваешь, сын, верно?
— Видишь ли… это не мое дело, я не собираюсь отрицать, что… но даже здесь до нас доходят слухи…
— Ты имеешь в виду слухи о том, что Домициан обратил благосклонный взор на свою племянницу Юлию?
— Я ничего не думаю на этот счет, отец. Это все досужие разговоры. Мало ли кто о чем болтает. Но… ведь он казнил ее мужа, обвинив его в государственной измене… а, как известно, императоры и раньше брали в жены своих племянниц. Четвертая жена императора Клавдия…
— Которая отравила его грибами. Не слишком удачный образец для подражания.
— Юлия никого не станет травить грибами. Я хорошо помню ее с детских лет.
— Да. Император очень ее любит.
— В каком смысле?
— Не стоит верить слухам. — Марк потрогал виноградные листья. — Император казнил мужа Юлии, после чего попытался загладить свою вину перед ней. Иное дело, что его проявления доброты к ней несколько неожиданны и своеобразны.
Павлин вспомнил юную дочь императора Тита, подружку его детских игр — серьезная, с льняными волосами, она всегда с готовностью исполняла в его играх роль знаменосца.
— Не думаю, что эти слухи …
— Тогда почему ты спрашиваешь меня об этом? — спросил Марк тем же сухим тоном.
— Видишь ли, мой друг Вер служит при дворе. Он, как и я, не верит ни в какие слухи, но он сказал… — Павлин сделал короткую паузу. — Он сказал… что Юлия вся сжимается, буквально усыхает на глазах, каждый раз, когда император входит в ее комнату. Как будто она боится его.
— А вот это, пожалуй, верно, — согласился Марк. — Но она боится буквально всего. Она все еще спит с зажженным светильником у изголовья, потому что не выносит темноты. Даже когда Домициан бывает добр с ней, на ее лице все равно написан испуг. Эти слухи, возможно, потому и появляются, что она сама верит в них.
— Верит в слухи?
— Ты в последний раз видел Юлию, когда ей было десять лет. Она… она сильно изменилась после смерти отца. Она всегда была впечатлительной, однако теперь уверяет всех, будто в темноте за ней следят чьи-то глаза или же она слышит пение голосов, которых не существует. — Марк немного помолчал, а затем продолжил: — Слуги утверждают, что она морит себя голодом. Императору приходится заставлять ее принимать пищу, из-за чего с ней случаются припадки, и она пытается рвать на себе волосы. — Строгий сенаторский взгляд Марка скользнул по лицу сына. — То, что я скажу, Павлин, должно остаться между нами.
Сын понимающе кивнул.
— О чем ты хочешь сказать? О том, что Юлия…
— …безумна, — закончил за него фразу Марк. — Правда, при этом мне хочется верить, что она лишь барахтается, пытаясь постичь истину из глубины мира, слишком для нее сложного. Я сказал бы то же самое про Лепиду.
Лепиду? Павлин с благодарностью ухватился за возможность сменить тему разговора.
— Почему ты привез ее сюда, в эту глушь, отец? Я слышал, что в Риме многие в восторге от нее.
Лицо Марка исказилось недовольной гримасой.
— Этот виноград ужасно кислый, — сказал он и выбросил гроздь в фонтан. — Пойми, Павлин, твоя мачеха, возможно, хороша собой и жизнерадостна, но она еще очень юна. Свобода ударила ей в голову, и она пустилась в развлечения. Мне следовало ее остановить, но я не хотел посягать на ее молодость, просто потому что я стар, устал от жизни и предпочитаю проводить вечера в библиотеке. Она же выглядела такой счастливой, порхая с одного пиршества на другое. Мне трудно отказывать ей в радостях жизни.
Павлин представил себе, как Лепида заливается смехом
на дне ямы, кишащей ядовитыми змеями.
— Что же случилось?
— Мы были на прошлой неделе на обеде во дворце. Мне не следовало бы брать ее с собой, но она так мило меня просила, так умоляла…
— И?..
— Она попалась на глаза императору, — просто ответил Марк. Возникла короткая пауза.
Павлин невольно охнул.
— Сначала я не придал этому значения. Но в прошлом месяце Лепида получила от императора приглашение прийти на обед во дворце. Ее пригласили одну. Без меня.
— И что же ты сделал?
Марк пожал плечами.
— Сообщил во дворец, что она захворала, и мы уезжаем к морю, чтобы поправить ее здоровье. В тот же вечер мы уехали в Брундизий.
Павлин задумался.
— Как она это восприняла?
— Рассердилась и немного поплакала. — Марк опустился на край фонтана и сел рядом с сыном. — Думаю, она не вполне понимала, что стоит за этим приглашением. В некоторых отношениях она совершенно невинна. Лепида считает, что я увез ее от развлечений и веселого времяпрепровождения. Впрочем, в последние несколько недель она, похоже, немного успокоилась.
— Но, отец, надеюсь, ты не затаил обиду на императора? За то, что он пытался отнять у тебя жен?
— Домициан был бы не против забрать себе абсолютно всех жен империи. Ибо питает к женщинам слабость, и немалую. Правда, в отличие от предыдущих императоров он не слишком переживает, если женщина — или ее муж — говорят «нет». Ибо в этом мире женщин для него хватит с лихвой. Сейчас он отправился в Германию, чтобы покорить племя хаттов, и, скорее всего, на время забыл о существовании Лепиды.
— Я не понимаю его.
— А кто, скажи, способен понять императора? Император, мой сын, это человек, привыкший к абсолютной, почти божественной власти. Человек, который готов делать добро для тысяч людей, порой неспособен сделать добро для одного-единственного человека. Даже лучшие из императоров таковы. Божественный Август, наш предок. Домициан не Август. Он коварен и, как и все Флавии, переменчив в настроении. И он не бог. Я наблюдал восьмерых человек, носивших императорский пурпур, и Домициан носит его лучше остальных. В детстве я не видел в нем никаких выдающихся задатков, однако он оказался лучше иных правителей, которых я повидал на своем веку, и хорошим полководцем. — Марк посмотрел на сына. — Ты сделаешь кое-что для меня, Павлин Август?
— Все, что пожелаешь, мой господин, — учтиво отозвался его сын.
— Обещай мне присмотреть за Лепидой. Мне не хочется оставлять ее одну, но я должен через две недели вернуться в Сенат. Нужно, чтобы кто-то был с ней рядом.
— Можешь положиться на меня, — торжественно ответил Павлин и, приняв стойку гвардейца, вскинул в салюте руку с зажатой в ней гроздью. Впрочем, поняв комичность момента, тотчас поспешил переложить гроздь в другую руку и едва не потерял при этом равновесие. — Можешь рассчитывать на меня.
— Я не смею просить о большем, — улыбнулся Марк. — Что скажешь, если я вместо этого ужасного винограда предложу тебе выпить хорошего вина?
— Как пожелаешь, сенатор.
Сцепив за спиной руки, они вышли из атрия, ровное плечо сына касалось изуродованного отцовского плеча.
Лепида
Мне было суждено стать любовницей императора.
«Лепида Поллия — любовница императора». Согласитесь, это звучит куда внушительнее, чем «Лепида Поллия — супруга сенатора».
С того самого мгновения, когда я положила глаз на императора Домициана, я знала, что он будет моим. Все, что мне нужно было сделать, — это заполучить его себе.
— Моя жена, цезарь, — представил меня Марк на моем первом пиру в обществе Домициана. — Лепида Поллия.
Я низко поклонилась.
— Господин и бог, — сказала я. Он любил, когда к нему так обращались: господин и бог. Я тоже не отказалась бы, чтобы меня называли повелительницей и богиней. Да, мне это очень бы нравилось.
Я наблюдала за ним весь вечер, пока Марк бубнил что-то там о налогообложении. Внешне Домициан довольно привлекателен. Высок. Широкоплеч. Краснощек. В нем сразу бросается в глаза военная закалка, но держится он совсем не натянуто, не то что Павлин. Он был сдержан в общении с нобилями, смеялся вместе с полководцами. Что касается императрицы, то он обращал на нее внимания не больше, чем на какую-нибудь статую.
Но она мне не единственная соперница. До меня доходили слухи о Домициане и его племяннице. Если эти слухи верны, если Юлия действительно увела его от некогда обожаемой жены, — то в ней должно быть нечто действительно неповторимое, чего нет у других женщин.
Я наблюдала за ней весь вечер и не нашла ничего примечательного. Настоящая женщина-ребенок. Худенькая. Плоскогрудая. Молчаливая. Огромные глаза. Трогательная. И очень странная. Просидев на ложе, скорчившись как заяц, почти два часа, она неожиданно встала и, что-то бормоча себе поднос, направилась в дальний конец комнаты. Разговоры тотчас стихли, а императрица встала, взяла ее за руку и отвела обратно к пиршественному ложу.
— Ешь, Юлия! — властно приказал Домициан, и она набросилась на блюдо с едой как изголодавшийся пес, набивая рот так, что у нее раздулись щеки. Ни на мгновение она не сводила со своего дяди круглых бесцветных глаз, как будто боясь, что он ударит ее столовым ножом. Домициан снова повернулся к командирам легионов и до конца вечера так больше ни разу и не посмотрел в ее сторону. После этого я тоже перестала наблюдать за ней. Вскоре она совсем прекратила бывать на обедах у императора. Маленькое странное забитое существо.
Марк — не знаю, почему, — относился к ней сочувственно.
— Она всегда была такой болезненной, — сказал он однажды вечером, когда Юлия в течение всего ужина сплевывала пережеванную пищу в кубок с вином и, когда кто-нибудь пытался с ней заговорить, несла какой-то вздор. — Бедняжка Юлия.
— Бедняжка Юлия, — согласилась я. Странная и безумная. Даже если император раньше и проявлял к ней интерес, то сейчас он явно остыл. Пришла пора обзавестись новым предметом интереса. У него было много любовниц, но ни одна не задерживалась надолго.
А вот я задержусь.
— Лепида, — произнес Домициан, и его темные глаза задержались на моей пурпурной шелковой столе, чуть более светлой, чем его собственный плащ. — У тебя сегодня царственный вид.
— Благодарю тебя, господин и бог. — Вместо того чтобы смущенно отвести взгляд, я смело посмотрела ему в глаза.
— Ты поешь, Лепида? — неожиданно спросил он какое-то время спустя, глядя на меня с противоположной стороны пиршественного стола.
Головы присутствующих тотчас же повернулись в мою сторону. В зале стало тихо.
— Нет, бог и повелитель, — ответила я низким сочным голосом, который отрабатывала еще с детства.
— Жаль, — сказал император и отвернулся. Затем щелчком пальцев подозвал слугу с графином вина.
Я подалась вперед и произнесла:
— Говорят, что боги имеют совершенный музыкальный слух.
Домициан пристально посмотрел на меня. Я же небрежно перевернулась на спину, чтобы одарить своим вниманием соседа справа, молодого народного трибуна, который от волнения чуть не опрокинул свой кубок с вином.
Кроме взгляда императора я поймала на себе еще один взгляд, долгий взгляд темных глаз императрицы. Притворно веселый взгляд. Но я видела, что на самом деле она пышет ревностью.
На следующей неделе в нашем доме появился императорский вольноотпущенник в белых одеждах и с золотыми браслетами на руках. Он объявил, что меня одну, Лепиду Поллию, приглашают завтра вечером на ужин к императору. Зевнув, я поблагодарила его, как будто таких предложений получала раньше не одну сотню, и как только он с поклоном вышел за порог, подпрыгнула и принялась приплясывать от радости, кружась по всему атрию как ополоумевшая от счастья девчонка.
Однако танцевать от счастья долго не следует. Нельзя терять ни минуты. Нужно приступить к подготовке «женского арсенала». Как подкрасить глаза? А губы? Надеть ожерелья розового жемчуга, подаренные Марком в день свадьбы, или же отдать предпочтение сапфирам? Благовоние из мускуса или розового масла? Я перемерила все мои наряды и довела до слез эту бестолковую дурочку Ириду, прежде чем остановила выбор на платье кроваво-красного оттенка, золотых браслетах и диадеме из рубинов. Изысканно, чувственно, соблазнительно…
— Лепида!
— Я отдыхаю, Марк, — ответила я, в душе предаваясь мечтаниям об ожерелье из драгоценных камней, которым Домициан, возможно, украсит мою шею, пока Ирида покрывала ногти у меня на ногах ярко-красным лаком.
Мой муж распахнул дверь, и я торопливо изобразила нежную улыбку.
— Марк? Что случилось?
— Ты получила приглашение на ужин? — резко оборвал он меня. — От императора?
— Да… да. Получила. — Кто же из рабов проболтался? Я не собиралась говорить Марку о приглашении. Ему лучше оставаться в полном неведении.
— Ты собираешься идти? — Он обвел внимательным взглядом мои бутылочки с румянами и благовониями, открытый ларец с драгоценностями, наброшенные на стул платья.
— Как же я могу отказать императору, Марк? — произнесла я своим самым нежным тоном.
Он протянул руку и провел пальцем по моей щеке.
— Ирида! — обратился он к моей рабыне. — Отнеси записку управляющему и скажи, чтобы он немедленно передал ее во дворец. Госпожа Лепида заболела.
Я рывком присела на ложе.
— Что?
— Она настолько больна, что немедленно отправляется в Брундизий в надежде на то, что морской воздух поправит ее здоровье.
— Марк, ты не можешь!..
— Нет, могу! — сказал он и снова провел пальцем по моей щеке. — Могу.
После этого он долго объяснял мне, что я слишком молода и невинна и не понимаю, что кроется за подобным предложением. Что пора перестать ходить на званые ужины и следует отправиться вместе с ним в Брундизий, чтобы этим летом повидаться с Павлином. Что таким образом император скоро забудет обо мне.
— Нет! — вскричала я и набросилась с упреками на Марка, и когда это не сработало, я принялась ласкаться к нему, покрывая поцелуями его морщинистое лицо, и когда это тоже не сработало… Почему это не сработало? Почему?
— Извини, Лепида, — повторил он, когда я забралась в паланкин, который должен был отнести меня к Аппиевой дороге, а затем в сторону Брундизия.
Извини? Но он даже нисколько не огорчился.
Было еще не слишком поздно. Пока еще. Я все еще могла уговорить его не отвозить меня в Брундизий.
— Ирида! — позвала я, отворачиваясь от окна спальни, выходившего на лазурные воды гавани Брундизия. — Принеси мне светло-розовую столу и розовый жемчуг. Благовоний не надо, он их не любит. Скажи управляющему, что мне нужны свежие цветы, пусть поставит их в вазы во внешнем триклинии, лилии и розовые розы. Лютнистов пусть посадит в алькове. Ужин будет простой, никаких изысков, ты же знаешь, он любит простую пищу…
— Ловишь рыбок, Сабина? — с улыбкой спросил Марк, глядя на дочь, которая, стоя на коленях возле садового фонтана, водила пальчиками по поверхности воды.
— Глажу их, — ответила девочка. — Пытаюсь погладить, — тут же поправилась она.
— Давай я тебе помогу, — предложил девочке отец и тоже опустился на колени рядом с ней. — Я буду гнать рыбок на тебя, и тогда ты сможешь их погладить. Только будь осторожна.
Сабина провела пальчиком по спинке карпа. Тихий и задумчивый ребенок, эта Сабина. Иногда перевозбуждения вызывали у нее припадки.
Они вместе принялись гонять волнами воду в фонтане взад-вперед. Марк задумался — стал бы его дед Август вот так плескаться в фонтане вместе с собственной дочерью? Но дочь Августа плохо кончила, умерла в изгнании, в полном одиночестве. Приемные сыновья Августа умерли раньше него: зарезаны, отравлены, утоплены. Все ушли в мир иной молодыми. Марк погладил дочь по блестящим каштановым волосам и почему-то подумал о Павлине, о статной осанке сына и мужественном лице воина. Нет, лучше не быть императором.
Сабина посмотрела на отца и улыбнулась. На короткое мгновение его сердце похолодело. Когда-то точно такой же взгляд был и у Юлии, когда ей было четыре года и она носилась за Павлином как юный легионер. Такая счастливая, доверчивая, пышущая здоровьем…
— Отец, ты выпустил рыбку! — вернул его с небес на землю голос Сабины.
— Разве? — Марк удивленно посмотрел на дочь. Сабина весело шлепнула по воде ладошкой, и он вновь улыбнулся. Нет, лучше не быть императором.
Лепида
Вечер прошел превосходно. Ужин был выше всяческих похвал, цветы благоуханны, спрятанные в алькове лютнисты играли нежно и тихо. Триклиний — сплошной мрамор в серых прожилках и незатейливые подушки в республиканском стиле — был слишком аскетичен и прост, чтобы претендовать на соответствие моде, однако в некотором роде сыграл мне даже на руку, став превосходным фоном моей бледно-розовой столе и жемчугам.
— Надеюсь, ты не обещал Сабине сказку перед сном? — спросила я, небрежно играя упругим локоном, выбившимся из прически. — Я хотела сегодня пораньше лечь спать.
— Я собирался приступить к работе над новым трактатом, — мягко ответил Марк, однако его глаза блеснули интересом. — Впрочем, он может подождать.
— Отлично.
Наступила тяжелая пауза. Когда же он потянулся к моей руке, я как бы невзначай поинтересовалась:
— Марк… ты не думал о возвращении в Рим?
— Я рад, что ты упомянула об этом, — он склонился над моей рукой и поцеловал. — Я собираюсь туда вернуться.
— Правда? — Я радостно бросилась ему на шею. Драгоценности, пиры, мужчины, император… — О, Марк, я обожаю тебя!
— Лепида, послушай, — он отстранился и заглянул мне в глаза. — Дорогая, ты останешься здесь, в Брундизии. Пора немного остепениться. Сабина почти не видит тебя…
— Сабине я не нужна!
— Неправда, еще как нужна! Ради нее я решил оставить тебя в Брундизии. Целебный морской воздух будет полезен для нее. Я попросил Павлина присмотреть за вами обеими. Если тебе будет скучно, он поухаживает за тобой.
Я подалась вперед и обняла его за шею.
— Ты не можешь оставить меня, — прошептала я нему на ухо. — Я буду скучать по тебе. Разве ты не будешь скучать по мне?
Когда же он попытался что-то сказать в ответ, — главное, заставить его молчать! — я поцеловала его.
— Все еще хочешь покинуть меня? — прошептала я много позже. Теперь он не мог сказать «нет». Если это будет нужно, я готова спать с ним хоть каждую ночь. Я даже буду говорить ему, что его уродливое тело подобно телу Аполлона, лишь бы он забрал меня с собой в Рим.
— Мне трудно расстаться с тобой, — признался Марк и погладил меня по шее. — Но я лучше подвергну себя одиночеству, чем допущу, чтобы тебя унес на дно водоворот наслаждений.
— Что ты хочешь этим сказать? — Даже за пять лет брака я не смогла отучить его выражаться высокопарными фразами.
— Ничего, — ответил он и поцеловал меня в щеку. — Я уезжаю на следующей неделе.
Я рывком выпрямилась и села в постели, скомкав край простыни.
— А как же я?
— Извини, Лепида.
Это было все, что он сказал. На все мои мольбы, доводы, слезы и поцелуи он произнес лишь одно. Извини. Я все еще не могла в это поверить. Он не мог ответить мне отказом. Тот прежний Марк не мог так поступить, как и мой отец, покорный и мягкий.
Но он поступил именно так. Не послушался меня. Ушел, не удостоив даже последним взглядом.
— Он скоро придет? — спросила Сабина.
— Какая разница? — прошипела я и вернулась к себе. Вернулась в глупый дом в глупом городе, где глупый Павлин готов с полной серьезностью меня развлекать.
— У меня болит голова! — бросила я ему, и тогда моя глупая, надоедливая дочь притянула к себе их внимание тем, что расплакалась, а затем забилась в истерике. Они принялись успокаивать ее, а я поднялась к себе наверх и бросилась на постель.
Нет, еще не слишком поздно. Не может быть, чтобы было слишком поздно. Сейчас Домициана нет в Риме, он вернулся в Германию к своим легионам. Но я все равно заполучу его, на это у меня еще будет время. Кроме того, еще не поздно преподать урок моему мужу.
Глава 10
— Я увижусь с тобой после ужина в доме Лаппия?
— Боюсь, что нет, — ответил Павлин, неохотно поднимаясь с постели. О боги, он же опоздает на службу. — Нет, не получится.
— Почему же? Он же твой родственник. Разве не так? — улыбнулась Афина, опираясь на подушки. — Половина преторианцев умоляют о приглашении на этот ужин. Он устраивает лучшие в Брундизии пиры.
— Он никогда не жаловал нас с отцом, — отозвался Павлин и, надев тунику, потянулся за сандалиями. — Считает нас неотесанными болванами, у которых на уме одна лишь государственная служба.
— Возможно, именно поэтому ты мне нравишься, — ответила Афина и поцеловала его в затылок.
— Ты будешь там петь?
— Конечно. — Она потянулась за своей одеждой. — Так почему ты все-таки не придешь? Сегодня состоится последний пир в этом сезоне.
— У меня приказ отца развлекать его жену, мою мачеху. Она очень скучает после того как он вернулся в Рим.
— Твоя мачеха?
Павлин посмотрел на Афину, но та была занята тем, что собирала в хвост свои роскошные черные волосы.
— Лепида Поллия. Слышала когда-нибудь о ней?
— Как же я могла не слышать о самой яркой звезде Рима? — довольно сухо отозвалась Афина.
— Ты уверена, что…
— Увидимся на следующей неделе. Я буду петь в доме сенатора Геты. — Ее улыбка была бесстрастно ослепительной, ничего не говорящей. Павлин не впервые задумался о том, насколько хорошо мужчина может знать женщину, даже если делит с ней постель. Весь этот год общество Афины было ему приятно. Высокая смуглая молодая женщина, которую пригласили петь на пиру в казармах преторианской гвардии, произвела на него впечатление тем, как ловко она уладила ссору между двумя подвыпившими народными трибунами, легко и тактично отвергла ухаживания какого-то центуриона и постоянно шутила на греческом языке. Она из числа рабов-музыкантов, принадлежащих претору Ларцию. Приятна в общении и ласкова в постели. Он бы рискнул утверждать, что хорошо знает ее. Но теперь она почему-то поджала губы, явно недовольная чем-то, вот только он даже не предполагает, чем именно.
— Что-то не так?..
— Увидимся на следующей неделе, — сказала она вполне жизнерадостно, отпуская его. Павлин лишь пожал плечами, так и не поняв причины ее изменившегося настроения. Странные все-таки создания эти женщины.
Путь до виллы отца оказался легким. Павлин добирался туда верхом, но по дороге сделал крюк: направил скакуна через порт, подышать соленым морским воздухом, послушать веселые крики торговцев, полюбоваться яркими одеждами женщин. Когда какой-то воришка попытался срезать у него кошелек, Павлин многозначительно взялся за рукоятку меча. Неудачливый вор поспешил отпрянуть в сторону и разразился добродушными проклятиями. Приближаясь к вилле отца, Павлин улыбался, когда же ему навстречу выбежала малышка Сабина, улыбка его сделалась еще шире.
— Я все утро ждала тебя, — объявила девочка, держась за стремя. — Можно погладить твою лошадку?
— Конечно. Этого коня зовут Ганнибал. Моя безумная тетка Диана дала ему такое имя, когда я вступил в преторианскую гвардию.
— Почему она безумная? — спросила Сабина, протягивая руку к лошадиной морде.
— Потому что она настоящая красавица, почти такая же, как ты, но вместо того, чтобы выйти замуж, сбежала в деревню, чтобы разводить лучших в Риме лошадей. Хочешь прокатиться верхом?
Девочка просияла улыбкой и протянула вверх ручонки. Павлин подхватил ее и, усадив в седло перед собой, велел ухватиться за конскую гриву.
— Держись крепко! — сказал он и легонько пришпорил коня.
Ганнибал медленно затрусил вперед, и Сабина взвизгнула от удовольствия.
Они три раза проехали по улице туда и обратно, когда в воротах сада появилась Лепида.
— Вы оба ведете себя как дети! — крикнула она им, прикрывая ладонью глаза от яркого солнца. — Сабина, немедленно спускайся!
Павлин спешился, снял Сабину, поставил ее на землю и поклонился хозяйке дома.
— Приветствую тебя, Лепида! — поздоровался он с мачехой и с обостренным любопытством окинул ее глазами с головы до ног. Перед ним женщина, которую своим благосклонным вниманием удостоил сам император.
Шурша шелками, Лепида повернулась в двери.
— Входи!
Сабина, взяв Павлина за руку, повела его в дом.
— Можно, я покажу тебе мою новую куклу? Ее зовут Клеопатра. Я назвала ее так, потому что отец рассказал мне историю про царицу этого… Египта…
— Не приставай к Павлину, Сабина, — вмешалась в разговор Лепида. — Ступай к своей служанке!
— Нет-нет, она мне не докучает. Я не против… — начал было Павлин, но девочка уже убежала прочь.
— Теперь она постоянно канючит, просит подарить ей пони. Марк ее сильно разбаловал, — сообщила Лепида, томно располагаясь на ложе. — Итак, ты приехал, чтобы развлекать меня?
— Да. Отец просил меня присмотреть за вами обеими.
— И сообщить ему о том, как я веду себя? Ты славный воин. — Она вздохнула и накрутила на палец локон. — Признаюсь тебе, мне здесь скучно до слез.
— Должно быть, ты скучаешь по нему, — отозвался Павлин, тронутый грустным выражением ее лица. Как это прекрасно, когда по тебе скучают, когда ты сам вынужден уехать из дома. Как, наверно, прекрасно иметь такую любящую, верную жену.
— Мне ужасно хочется чем-то заняться, но не здесь, не в Брундизии. Все вокруг возвращаются в свои римские дома, и лишь одна я вынуждена оставаться здесь, в глуши. Изнывать от скуки в огромном доме в обществе одной лишь четырехлетней дочери.
Она неожиданно напомнила ему Сабину. Изнывающая от скуки в провинции, хорошенькая и очень юная.
— Ты придешь сегодня на ужин? — неожиданно спросил Павлин.
— На ужин? Куда? — Глаза Лепиды радостно блеснули.
— Вечером будет пир в доме моего двоюродного брата Лаппия Максима Норбана. Ты, наверно, никогда не встречалась с ним. Он не слишком жалует нас с отцом, считает Марка большим занудой. Но его недавно назначили губернатором Нижней Германии, и он по этому поводу устраивает прощальный ужин.
Лепида томно улыбнулась ему, и он понял, почему император обратил на нее внимание.
— В самом деле? — Вскочив с ложа, она неожиданно прошлась в танце по всей комнате и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку. — Какое же платье мне надеть?
— Это не имеет значения. — Павлин склонился в поцелуе над ее рукой, стараясь сделать это как можно галантнее. — Ты же здесь самая красивая женщина.
Тея
Этот ужин мало чем отличался от других ужинов. Смех. Гости в дорогих нарядах. Серебряные кубки и золотые чаши с виноградом. Ложа с наваленными на них подушками. Музыканты, пощипывающие струны своих лир.
Я ждала в вестибюле, и вскоре меня позвали к гостям. Это было в перерыве между пирожными и сырами. Я шагнула вперед, сияя своей самой радостной профессиональной улыбкой, на какую я только способна. Афина, сладкоголосый соловей Брундизия.
Приятная публика. Патриции Брундизия не всегда отличались хорошими манерами. Мне приходилось бывать на пирах, где мой голос тонул в гуле чужих пьяных голосов, на пирах, где мужчины громко свистели при виде моих обнаженных рук и не слушали музыки, а ведь я с такой тщательностью готовилась к ее исполнению! На этот раз публика подобралась благовоспитанная. Собравшиеся с интересом слушали меня, когда я, взяв несколько аккордов на лире, запела «Песню Эос».
Исполняя второй куплет, я заметила Павлина, возлежавшего на дальнем ложе. Рядом с ним я разглядела женскую фигуру в голубом. Только теперь я поняла, какую умелую исполнительницу сделал из меня Ларций. Мой голос ни разу не дрогнул, когда я узнала в спутнице моего любовника Лепиду Поллию.
Она буквально поедала меня своими томными глазами павы, так хорошо мне знакомыми. За это время она стала важной матроной, была одета в дорогие шелка, о которых не могла мечтать до замужества. На шее ожерелье с сапфирами размером с добрую виноградину. Лишь раз пальцы с покрытыми лаком ногтями вздрогнули, прикоснувшись к обтянутой бархатом подушке, а улыбка на мгновение исчезла с ее лица, чтобы уже в следующий миг снова вернуться. Я тотчас вспомнила ее улыбку, когда она задернула занавески паланкина, и багровый след моей пощечины на ее щеке.
Я закончила песню и затянула следующую.
— Превосходно! — хлопнул в ладоши Павлин, когда я поклонилась публике. Позднее все подошли поздравить меня с удачным выступлением. Я смеялась и вела беседу с гостями, как когда-то учила меня Пенелопа, Лепида же осталась на месте с кубком вина, не сводя с меня глаз. Бог мой, как мне хотелось в эти минуты одним броском пересечь зал и, словно чашу, разбить ее смазливую мордашку на мелкие осколки.
— Я думаю, ты не знакома с моей мачехой, Афина, — сказал Павлин и, взяв мою вялую руку в свою, подвел к ложу, на котором возлежала Лепида. Славный мальчик, — слишком часто патриции разговаривали стоя рядом со мной и не обращая на меня внимания, будто я была мраморной статуей, — но к чему ему сейчас проявлять такую учтивость? — Познакомься, это Лепида Поллия.
Я протянула ей кончики пальцев, и она все той белой нежной рукой пожала мою ладонь.
— Какое интересное представление, — протяжно проговорила она. — Афина… это ведь, кажется, греческое имя? Но ты, наверняка, не гречанка.
Я бойко произнесла несколько фраз на безупречном греческом языке и тотчас заметила, что она залилась краской смущения. Она так и не научилась говорить на языке эллинов. Готова поспорить на что угодно, но писать она тоже явно не научилась. Ни на каком другом языке, кроме латинского.
— Афина говорит по-гречески намного лучше меня, — признался Павлин. — Она происходит из знатной афинской семьи.
— А я было решила, что она родилась в трущобах Иерусалима, — пробормотала Лепида. — Как долго ты поешь в Брундизии… Афина?
— Около пяти лет.
— А до этого?
— Я жила то здесь, то там, — с нарочитой беспечностью ответила я и сопроводила свои слова хорошо отработанным артистически жестом. — Радовалась жизни.
— Понятно. Жаль, что в Брундизии нет арены и ты не можешь наслаждаться играми. Я слышала, будто ты любишь гладиаторов.
— Я предпочитаю крови музыку, госпожа.
— Но игры так увлекательны. — Она лениво протянула руку за гроздью винограда. — Например, на прошлой неделе гладиатор Арий Варвар потерял руку в схватке с каким-то лидийцем. Должно быть, это было превосходное зрелище. Винограда?
— Нет, благодарю, — ответила я, старясь сохранить бесстрастное выражение лица. О боги, она, конечно же, лжет, она просто не может не лгать. Я стараюсь быть в курсе всего, что происходит на арене Колизея. До меня непременно дошел бы слух о том, что Арий потерял руку. Она, вне всякого сомнения, говорит неправду. Придется расспросить возничих и носильщиков паланкинов — для верности, они всегда следят заходом игр…
Она улыбнулась кончиком рта, и я повернулась к Павлину. Тот стоял рядом и, чтобы чем-то себя занять, разглаживал складки тоги.
— Придешь завтра на ужин?
— Я думал, что мы договорились о следующей неделе, верно?
— У меня появилось свободное время.
— Боюсь, что он не сможет прийти завтра, — вмешалась в разговор Лепида, беря Павлина под руку. — Он обещал отвести меня на последнюю постановку сезона.
— Разве я обещал? — удивленно посмотрел на нее Павлин.
— Обещал, — ответила Лепида, не сводя с меня глаз.
— Понятно. Тогда на следующей неделе, Афина?
— На следующей неделе тебе, возможно, тоже не удастся… — Лепида провела пальцем по его сильному плечу.
— Тогда, может быть, в преторианских казармах в следующем месяце. — Я напоследок быстро пожала Павлину руку. — Если желаешь нанять меня для развлечений, Лепида, обращайся к претору Ларпию. Он великий покровитель музыкантов, надеюсь, ты слышала о нем? Хотя, возможно, в музыке ты не сильна. Он устраивает мои выступления. Договориться о них следует заранее. За три недели. Сегодня на меня очень большой спрос.
— Как и всегда. Среди определенного круга людей.
Я улыбнулась. Она тоже ответила мне улыбкой. Я вышла из комнаты.
— Ты уже была раньше знакома с Афиной? — услышала я вопрос Павлина, обращенный к его мачехе.
— Нет, — последовал беспечный ответ. — Вижу ее впервые в жизни.
Мне потребовалось время, чтобы отдышаться и прийти в себя. Казалось, я только что пробежала целую милю. Однако мне предстояло еще одно вечернее выступление, и мне было некогда думать о Лепиде Поллии. Хотя я и была известной певицей, я все еще оставалась рабыней и не могла отправиться домой и поплакать в подушку, даже если мне этого очень хотелось. Мне пришлось исполнять музыку и ласково улыбаться гостям, развлекать которую меня отправил Ларций… и порой выносить это бывало столь же тяжело, как пинки и пощечины моих давних дней, когда я была безгласной тенью Лепиды.
— Прекрасный вечер, Павлин, — зевнув, произнесла Лепида, когда они вылезли из паланкина. — Выпей вина перед тем, как вернуться в казармы.
— Я лишь загляну к Сабине.
— Как пожелаешь.
Сабина уже засыпала, держа в руках матерчатую лошадку, набитую соломой. Глаза девочки были закрыты, и она трогательно улыбалась. Павлин осторожно погладил ее по голове и тихонько выскользнул из комнаты.
В доме было темно и тихо. В жарком воздухе летней ночи из атрия тянуло крепким запахом жасмина. Павлин по задней лестнице спустился в зал и прошел мимо библиотеки. Минуя последнюю комнату, комнату своей мачехи, он увидел, что дверь приоткрыта. Павлин подошел ближе и остановился.
Лепида стояла возле постели, повернувшись спиной к двери. Кучка сапфиров поблескивала на прикроватном столике. Волосы ее были распущены и черной волной ниспадали на спину. Он только сейчас понял, насколько они красивы, эти иссиня-черные локоны.
Лепида грациозно потянулась, и свет единственного светильника упал на ее белые руки. Платье голубого шелка соскользнуло с одного плеча. Лепида легонько повела другим плечом, и оно, шурша, упало на пол.
Павлин закрыл дверь и зажмурился. Устыдившись, он отпрянул назад, но наткнулся на огромную вазу. Ваза пошатнулась. Торопливо подхватив ее, он поставил ее на место, зато при этом опрокинул статую купающейся Афродиты. Грохот показался ему оглушительным, и он со всех ног бросился бегом по коридору.
На следующий день он пришел, чтобы увидеть ее. Что в этом предосудительного? Разве отец не просил его присматривать за ней? Ведь он всего лишь следует отцовской воле.
— Павлин! — Лепида протянула ему белую нежную руку. — Чем обязана? — На ней было роскошное платье зеленого шелка и жемчуга. Павлин не нашелся, что ответить.
— Ты нервничаешь? — Она провела его в атрий и опустилась на заваленную подушками лежанку. — Но почему? Собрался на встречу со своей певичкой?
Он покраснел и смутился еще больше.
— Нет, нет… я… то есть…
— Знаешь, я никак не могу понять, что ты в ней такого нашел, — произнесла Лепида, жестом приглашая его садиться. — Много лет назад она была моей рабыней.
— Но ты же сказала, что не знаешь ее!
— Я солгала. — Лепида позвонила в колокольчик и велела принести вина и закусок. — С тех пор она приобрела некоторый лоск, но все равно осталась все той же дрянью, маленькой подлой потаскушкой. Выпьешь вина?
— Ммм. Да. Спасибо. — Павлин не сводил с Лепиды глаз, когда та нагнулась, чтобы наполнить его кубок. Он не подозревал, что с ее нежных губ могут слетать такие безжалостные слова.
— Да, да, — небрежным тоном продолжила Лепида, положив на подушку белую руку. — Она обслуживала всех мужчин в нашем доме, включая моего отца. Включая и твоего отца. Принеси сладости! — бросила она появившемуся в дверях слуге.
— Моего отца? — Павлин поперхнулся и отставил кубок в сторону. — Но… но он никогда… не пользовался рабынями. Во всяком случае, в этих целях. Он считает это несправедливым. — Как же он позволил втянуть себя в этот разговор? Это неподобающе!
— Насколько я понимаю, это была ее идея. Несколько улыбок, пара кокетливых взглядов. Наверное, тебя она поймала именно на такой крючок. Ты только подумай, Павлин. Ты и твой отец делили одну женщину!..
Павлин пристально посмотрел на мачеху. От нее исходил аромат благовоний. Сильный мускусный запах. Кончики пальцев Лепиды скользнули по его колену.
Павлин вскочил на ноги.
— Мне пора идти.
В его чуть охрипшем голосе слышалось возбуждение.
Лепида повернула голову и смерила его спокойным, уверенным взглядом.
— Тебе заступать в караул? — спросила она. — Какая жалость. Попрощайся с Сабиной, прежде чем уйдешь, а то она целый день будет хныкать.
С этими словами она привстала на цыпочки и коснулась губами его щеки. Поцелуй мачехи.
Павлин вздрогнул.
Лепида
Прекрасно! Он уже нервничает. Удивляется тому, что происходит. Пусть удивляется.
А ведь он красив! Высокий, стройный, загорелый. Решительный взгляд. Кудрявые черные волосы, которые буйно вьются, несмотря на все усилия пригладить их. Когда состарится, он будет похож на Марка, но пока он молод и хорош собой. Молод и силен, у него широкие плечи, а не уродливый горб, как у отца. Да, он красив. Я раньше этого не замечала, до тех пор, пока не увидела его с моей бывшей рабыней. Именно тогда у меня и возник этот превосходный замысел.
Павлин не приходил ко мне целую неделю. Это были скучные семь дней. Рабы раздражали меня своей извечной ленью. Лавки были закрыты по причине какого-то праздника. Небо затянуто облаками — первый предвестник скорой осени. Лазурные воды бухты сделались свинцово-серыми. Сабина тосковала, каждый раз, услышав ржание лошади, подбегала к окну.
— Павлин обещал поиграть со мной, — вздыхала она.
— Теперь он играет со мной, — объяснила я ей. — Взрослые мужчины вроде Павлина не играют с маленькими девочками.
— Но ведь он обещал.
— Мужчины — обманщики, Сабина. Ступай в свою комнату. — Я легонько ущипнула ее за ухо, и она с плачем убежала к себе. Какие они все-таки надоедливые, эти дети.
Дни были тоскливые, но я их пережила. Это было частью моего замысла. Я подождала четыре дня. Затем как бы случайно наткнулась на Павлина возле казарм.
Он был голым по пояс, в одной лишь набедренной повязке, потому что только что вернулся с учебного поединка. Увидев меня, он остановился, как будто наткнулся на стену.
— Что ты здесь делаешь?
— Как грубо. Но я предвидела такой вопрос. Завтра вечером я собираюсь на пир к сенатору Халькону. Последний званый ужин сезона. Мне нужен сопровождающий. Зайди за мной завтра вечером.
— Но я…
Шагнув к нему ближе, я вытерла пот с его лба и посмотрела на кончики пальцев.
— О боги, как ты вспотел!
С этими словами я пошла прочь. Павлин остался стоять, глядя мне вслед. Готова спорить, он ошарашен и растерян, и теперь ломает голову, пытаясь понять, что же случилось.
— Разодет как истинный щеголь! — Вер даже присвистнул, когда Павлин появился перед ним в белой тоге и с перстнем-печаткой на пальце. — Кто же эта счастливица? Афина?
— Лепида. — Это имя слетело с губ его товарища, прежде чем тот успел сознать свою оплошность. — То есть моя мачеха попросила меня… Этим вечером я сопровождаю ее на пир. Только и всего.
Вер и впрямь как-то странно посмотрел на него, когда он, пятясь спиной, вышел в дверь, или ему только показалось?
— Здравствуй, Павлин! — приветствовала его Лепида, шагнув навстречу Красное шелковое платье выгодно подчеркивало округлости ее тела, на шее ожерелье с массивным рубином. Глаза подведены, губы ярко подкрашены. Как же он мог видеть в этой знойной женщине юную девушку?
Пиршественный зал был наполнен гулом голосов, громкой музыкой, ярким светом и не менее яркими нарядами. Пирующих развлекали танцоры и акробаты. На блюдах изысканные кушанья: жареные фламинго, мозги страуса, запеченные в меду и маковых зернах, и прочие деликатесы. Впрочем, Павлин даже не чувствовал их вкуса. Лепида возлежала за столом рядом с ним, смеясь, заигрывая и болтая со всеми, кроме него. Однако ее пятка, прикрытая подолом платья, незаметно для других ласкала его ногу.
— Как это восхитительно, сенатор! Непременно покажите мне… — Она потянулась через спину Павлина, чтобы рассмотреть кольцо сенатора Халькона с огромным сапфиром, и как бы невзначай коснулась грудью его шеи.
— Корнелия! Скажи, как тебе удалось приструнить твои непокорные локоны?
Лепида повернулась, якобы для того, чтобы лучше рассмотреть прическу другой гостьи, и ее соски сквозь шелк снова легонько коснулись его спины.
Павлин больше ничего не помнил об этом пире. Ничего, кроме своего острого желания тысячей разных способов заняться любовью с собственной мачехой.
— Замечательный ужин, — похвалила Лепида, когда они вышли из дома вместе с другими гостями. Начинало светать, однако на ее лице не было видно и следа усталости. — Это же надо, а я-то думала, что в Брундизии царит лишь невыносимая скука! Давно я так не веселилась! — воскликнула она и коснулась его руки.
Павлин помог ей сесть в паланкин. Лепида подобрала подол платья, давая ему короткую возможность полюбоваться белой лодыжкой. Павлин был готов поклясться чем угодно, что под столой у нее ничего не было.
Лепида бросила на него быстрый взгляд из-под черных ресниц.
— Ты ведь проводишь меня домой?
— Через два часа мне заступать в караул.
— Пусть тебя заменят.
— Я не могу. Мой центурион…
— И ты оставишь меня в столь поздний час одну лишь потому, что опасаешься навлечь на себя недовольство центуриона? — Лепида невинно похлопала ресницами. — А что сказал бы на это твой отец?
Отец.
Его отец, сгорбленный тяжестью прожитых лет, спокойный и добродушный. «Лепида, возможно, покажется тебе привлекательной и жизнерадостной, Павлин, но она еще очень юна… Обещай мне присмотреть за ней».
Павлин хотел умереть на месте.
— Садись, — предложила Лепида, откидываясь на подушки и давая ему место рядом с собой. — Мне холодно.
Он послушно забрался внутрь.
Она постучала по стенке паланкина, давая знак носильщикам. Те зашагали вперед, и паланкин поплыл над землей, покачиваясь, как корабль на волнах. Лепида плотно задернула зеленые шелковые занавески. Теперь свет уличных факелов не проникал внутрь, и паланкин превратился в темную коробку. Павлин забился в дальний угол, чувствуя, как кровь рокочет в ушах словно морской прибой.
— Ты такой тихий. Павлин, — произнесла Лепида, и ее голос прозвучал в темноте как будто громче обычного. — Выпил слишком много вина?
— Нет, — наконец смог вымолвить он. — Это против правил, против правил караульной службы.
— А ты всегда следуешь правилам? — Ее рука с острыми ноготками сжала его запястье.
— Да. Следую, — ответил он. — Так безопаснее.
— Но безопасность — это так скучно. Безопасность — это так… безопасно.
Ее руки, словно змеи, обвили его шею, и в следующий миг она до крови впилась в его губы. Однако когда Павлин нагнулся к ней, она слегка отстранилась и томно провела языком по его губам. Он со стоном впился в ее губы и дрожащими пальцами стал срывать с ее груди шелк столы. Она же задрала подол его туники и обхватила ногами его бедра. Казалось, терпкий аромат мускуса проникает ему прямо в мозг. Когда он вошел в нее, на ее губах играла торжествующая улыбка.
А потом все было кончено, и он повернулся к ней спиной. Ему не хотелось жить.
— Похоже, что мы уже дома, — произнесла Лепида и, натянув на обнаженное тело столу, выбралась из паланкина. — Ты идешь, Павлин?
— Нет, — только и смог ответить он. — Нет.
— Идешь?
Он беспомощно посмотрел на нее. Щеки ее раскраснелись. Глаза сверкали, длинная молочно-белая шея в вырезе мятого платья была похожа на стебель цветка. Лепида усмехнулась, провела языком по губам, и Павлин ощутил тупую боль в плече, там, где остались следы ее зубов.
— Да, — с трудом произнес он. — Я иду.
И он поплелся за ней как послушный пес.
Глава 11
Павлин знал, что существует лодка, доставляющая души умерших в подземное царство. Черная лодка, которой управляет ухмыляющийся лодочник с лицом-черепом. Лодкой Павлина была кровать, белая и просторная, прекрасная как облако, а ее рулевым — молодая черноволосая женщина. Она везла его в преисподнюю быстрее, чем похожий на скелет лодочник.
— Знаешь, сколько у меня было мужчин? — спросила Лепида, выгибая спину под прикосновениями его рук. — Первым стал гладиатор, мне тогда только-только исполнилось пятнадцать, так что у твоего отца я не была невестой-девственницей. Я объяснила Марку, что синяки на моем теле — результат падения с лестницы в банях, и он мне поверил. Вот глупец!
— Не говори так! — запротестовал Павлин. — Он не глупец, он умный образованный человек, он достоин уважения… так что не надо… он тот, кем я хотел бы стать…
— Кем? Уродливым горбуном?
— Не оскорбляй его! — затрясся от негодования Павлин. — Не смей!..
— Любимый сын защищает отца. Отлично, любимый почтительный сын, если ты так любишь своего отца, то убирайся прочь из моей постели!
Она лежала на боку. Простыни сползли с бедер, лишь распущенные волосы наполовину прикрывают обнаженную грудь. Губы растянуты в усмешке. Павлин не посмел сдвинуться с места.
— Я так и предполагала. — Она откинулась на спину и поманила его пальцем. — Иди сюда.
Лепида
Мне было достаточно повести бровью, как Павлин уже был у моих ног. Я впивалась ногтями в его спину, наблюдая за тем, как он изгибается в сладостном экстазе. Я могла кусать и ласкать его, и будь то наслаждение или боль, он постоянно просил еще и еще. Славный безупречный Павлин. Павлин-солдат. Павлин-святой. Павлин-пасынок. Покорный как раб, полностью попавший под мои чары.
Как это прекрасно.
Было забавно наблюдать за тем, как он пляшет под мою дудку. Я заставляла его причесывать мне волосы и натирать маслом спину. Приказывала выполнять мои поручения и носить мои покупки. Вынуждала ждать в неудобных местах, подзывала к себе и снова отправляла прочь, сердилась, когда он кричал на меня, и смеялась, когда он плакал. Я назначила встречу с одним
из его друзей возле казарм преторианской гвардии и позвала туда Павлина, и он увидел, как мы занимались любовью. Я чувствовала на себе его взгляд в дверную щель, едва ли не кожей ощущала, как он ненавидит меня, наблюдая затем, как я со стонами извиваюсь под другим мужчиной, однако в ту же ночь он приполз ко мне. Кто бы мог подумать, что мужчины, мучимые чувством вины, могут быть такими смешными?
— Не ходи в караул! — приказала я ему, когда он собрался надеть нагрудник.
— Не могу.
— Я же сказала, не ходи в караул!
Он со вздохом вернулся в постель. Я же провела пальцами по его спине и рассмеялась. Из-за меня он несколько раз пропустил караулы. Он не стал рассказывать мне, как его за это наказали.
— Мы должны это прекратить, — заявил он как-то раз. — Это неправильно, это постыдно…
— Но ведь это так забавно! Если тебе нужен кто-то послушный, то отправляйся к своей тощей, как палка, черномазой певичке. Быть может, она выкроит для тебя время среди своих бесконечных выступлений.
Он смерил меня злющим, но беспомощным взглядом, но так и не убежал к своей Тее. Нет. Потому что я была лучше ее. И он это сам прекрасно понимал.
— Не здесь! — оттолкнул меня Павлин, когда я потащила его во время ужина за какую-то статую в саду.
— Почему же нет? — спросила я и провела рукой по его груди.
— Нас… нас увидят! — До нашего слуха, с очень близкого расстояния, доносился смех и голоса гостей, звяканье посуды и шорох одежды. — Если нас заметят!..
— Разве это не забавно? Неужели это не возбуждает тебя?
Он собрался что-то сказать, но я впилась ему в губы и, взяв его руку, сунула ее себе под платье. Возражений больше не последовало.
Нас никто не заметил. Хотя вполне могли заметить. Какой скандал разразился бы тогда! Жена сенатора и ее пасынок? Моего рогоносца-мужа на всем пути до Сената сопровождал бы издевательский смех римлян.
— Слышали о жене Норбана? Да, да, этот глупец оставил ее одну в Брундизии, и теперь его сын выполняет за него отцовскую работу!
О да, именно так все и говорили бы. О чем я, не стесняясь, часто напоминала Павлину.
Мой любовник отстранился от меня.
— Можно подумать, ты не знаешь, что погубишь его. — Откинувшись на локтях на подушки, я большими пальцами ног провела по пояснице Павлина. — Погубишь его карьеру. Писательскую деятельность. Положение в римском обществе. То есть буквально все. — Я щелкнула пальцами. — Марк Норбан, которому наставил рога собственный сын. Такого позора ему не пережить.
— Думаешь, я сам не знаю? — Его голос едва не сорвался на рыдание.
— Думаю, что знаешь. Восхитительно, не правда ли? Но ты же не расстанешься со мной ради собственного отца? — Я прижалась к его спине и принялась гладить ему грудь. — Что будет, если он прямо сейчас войдет сюда? Если увидит нас двоих, голых и в одной постели?
— Перестань!
— Представляю себе его лицо. — Я прижалась губами к уху Павлина. — Он, хромая, войдет в комнату, усталый после долгого пути. Все, что ему нужно — это поцеловать дорогую женушку и пригласить любимого сына на ужин. И что же он увидит? Своего обожаемого сына на красавице-жене прямо на супружеском ложе, услышит, как они стонут от наслаждения…
Павлин резко отстранился и, отбросив меня на постель, занес для удара руку.
— Собираешься ударить меня? — пробормотала я. — Что же, ударь! Думаю, мне будет даже приятно.
Павлин замешкался, не зная, что делать. Откинув голову назад, я расхохоталась. Он со сдавленным проклятием упал на меня. Я крепко обхватила его руками и укусила.
Он ненавидел ее.
Ненавидел выражение торжества в ее глазах каждый раз, когда ноги против воли вели его к ее кровати. Ненавидел розовый кошачий язычок, которым она плотоядно проводила по губам. Ненавидел злые, бессердечные слова, которые с такой невероятной легкостью слетали с ее уст.
В то же время он не мог уйти от нее.
— Что с тобой, Норбан? — однажды вечером в казармах поинтересовался Вер. — В последние дни ты сам не свой. Признайся, это твоя певичка тебя так извела?
Афина. Он уже месяц не видел ее. По сравнению со страстной, необузданной Лепидой она кажется холодной и невзрачной.
Сабина была печальна.
— Ты перестал играть со мной.
Центурион Денс был более суров.
— Прекращай это дело, Норбан! Или я отправлю тебя нести караул до самого начала сатурналий! — Денс был легендой в рядах преторианцев, немолодой, но все еще сильный воин, герой, который в ужасный Год четырех императоров сражался с толпой и спас жизнь будущей императрице. Павлин смотрел на него как на бога. Теперь же ему было совестно встречаться с ним взглядом.
Во сне он слышал лукавый шепот Лепиды. Видел ее притворно застенчивый облик в день свадьбы, видел ее бесстыдно и безнадежно соблазнительной в постели отца. Она бесцеремонно вошла в его жизнь и застряла в ней, как заноза под кожей.
— Ты ведь ненавидишь меня, верно? — неожиданно спросила она его однажды вечером, сразу после того как они закончили очередную любовную схватку в постели.
Павлин отвернулся от нее.
— Да, ненавидишь. За что же? — Она подперла рукой подбородок. — Потому что стала причиной твоего бесчестья? О боги, как это скучно! Почему в том, что мужчина теряет честь, всегда виновата женщина?
— Нет, — выдавил он. — Это моя вина.
— По крайней мере, ты хотя бы говоришь правду. — Она пальцем провела вокруг его уха. — Значит, если ты сам виноват в утрате своей чести, то за что же ты ненавидишь меня?
— Потому что тебе это безразлично, — осмелился признаться Павлин.
— Так же, как и тебе, дорогой. — Лепида ущипнула его за мочку уха. — Иначе бы ты ушел от меня прямо сейчас. Но ведь ты не можешь этого сделать, верно?
Он собрался было ответить ей, но так и не нашел нужных слов. Пауза надолго затянулась.
— Ты так не думаешь, Павлин, — заявила Лепида и сунула ему под нос свою стройную белую ногу. — Целуй!
Он покорно склонил голову и, представил себе укоризненный взгляд отцовских глаз, поцеловал подъем ее ноги. Кожа Лепиды имела привкус меда и предательства.
Письмо трепетало в его дрожащей руке, и ему казалось, что желудок вот-вот выскочит у него изо рта. Он едва успел добежать до уборной, где его несколько раз вырвало.
«Мой дорогой Павлин, — написал Марк знакомым твердым почерком. — Сенат закончил споры о необходимости дренажных канав и нового акведука, а также о снижении уровня рождаемости (по меньшей мере, вкратце), и поэтому я приезжаю домой погостить. Можешь ожидать меня…»
— Я думаю, что увижу тебя сегодня утром, — зевнув, произнесла Лепида, когда Павлин появился в атрии. Она еще не успела переодеться в дневное платье. — Получил письмо? — спросила она и потрясла свитком пергамента, зажав его кончиками пальцев.
— Он возвращается.
— Да, я уже прочитала его послание. Хочешь ячменной воды?
— Не хочу. — Павлин несколько раз прошелся по комнате туда и обратно. — Он возвращается.
— Может, хватит повторять одно и то же? — спросила Лепида, устраиваясь среди подушек.
— Лепида, нам это нужно прекратить. — Он заметил, что в вестибюле атрия уже собралась кучка рабов и, прикрыв ладонью рты, о чем-то перешептывается.
— Зачем? — Лепида протянула руку и взяла его запястье. — Разве ты не будешь скучать по мне? — Вторую руку она положила ему на колено.
— Не надо, — прошептал Павлин. — Не делай этого.
— Чего именно? — Ее пальцы скользнули выше по его бедру. — Это?
Он закрыл глаза и простонал. Было слышно, как рабы бросились врассыпную.
— Павлин! — приветственно помахал рукой из паланкина Марк. — Дай мне руку, мой мальчик! Я сидел в этом тесном ящике с самого рассвета и у меня ломит все тело.
Павлин помог отцу спуститься на землю перед входом в дом и удостоился его объятий. Ему в ноздри тотчас же ударил знакомый запах плохо постиранной одежды и чернил. Пряча глаза, Павлин уткнулся лицом в изуродованное отцовское плечо. Утро было хмурым и прохладным, но его щеки горели.
— Рад видеть тебя, мой мальчик, — с улыбкой посмотрел на сына Марк. — У тебя усталый вид. Наверно, тяжело на службе приходится?
Павлин почувствовал, что от стыда у него горят уши. На его счастье в следующий миг из паланкина вывалился целый ворох пергаментных свитков, и это помогло ему уйти от ответа.
— Смотрю, ты привез всю свою библиотеку, отец?
— Не всю. Лишь размышления Сенеки, кое-какие труды Плиния, сатиры Марциала и кое-что еще. Вот, возьми их. Нет, нет, подержи их все, а я тем времени отправлюсь поцеловать мою дочь.
Сабина, легкая как птичка, вылетела из дома навстречу отцу.
— Папа, папа! — крикнула она, бросаясь Марку в объятия.
— Скучала по мне, малышка? — спросил сенатор и звучно чмокнул ее в щеку. — Я тоже по тебе скучал и приготовил для тебя подарок.
— Пони? — радостно спросила девочка.
— Нет, он бы не поместился на носилках. Ожерелье из кораллов. Будешь в нем такая же красивая, как и твоя мама.
— О, Марк! Наконец-то ты вернулся! — с притворной радостью воскликнула Лепида, спускаясь вниз по ступенькам. На ней было зеленое шелковое платье и жемчуга, свадебный подарок мужа.
От неожиданности Павлин выронил свитки и неуклюже кинулся их подбирать. Краем глаза он увидел, как Лепида, улыбаясь, что-то нежно шепчет на ухо отцу. Как она только может? Всего час назад она страстно извивалась под ним, обхватив ногами его бедра, царапая острыми ногтями ему спину. Как она может делать такое и невинно смотреть в глаза мужу, радостно приветствуя после долгой разлуки?
— Добро пожаловать домой! — сказала Лепида и поцеловала Марка в щеку. Затем ее взгляд скользнул через плечо и остановился на Павлине.
Он не верил, что сможет когда-нибудь посмотреть отцу в глаза.
Наконец-таки все закончилось. Закончилось, и отец никогда ни о чем не узнает. Даже если Лепида попытается что-то предпринять…
В тот вечер за ужином она не сводила с него глаз, игриво водя язычком по краю наполненного вином кубка. От волнения он перевернул вазу с виноградом.
— Осторожнее! — воскликнул Марк, успев подхватить вазу прежде, чем та упала со стола. — Ты здоров, Павлин? Ты что-то неважно выглядишь.
— В казармах ему не дают ни одной свободной минуты, дорогой! — пояснила Лепида и наполнила вином кубок мужа. — Два последних месяца я почти не видела его. Сабина вся извелась от одиночества, очень тосковала по Павлину.
— Я… я направил прошение о переводе в другой легион, — пролепетал Павлин. — Император взял с собой когорту преторианцев в Дакию…
— Ты покидаешь нас? А ведь я только приехал. Разве так можно? — удивился Марк.
— Нет, никакой спешки нет. Это будет нескоро, — с улыбкой произнесла Лепида.
Павлин встал, в очередной раз чуть не опрокинув вазу с виноградом.
— Мне пора в казармы.
— Останься, — попросил Марк, тоже вставая. — Я уложу Сабину спать и займусь составлением списка новых свитков, а ты мог бы развлечь Лепиду рассказами о твоих боевых подвигах.
Павлину показалось, что его сердце упало в желудок.
— Ты весь вечер будешь составлять этот список? — уточнила Лепида, по-прежнему не сводя глаз с Павлина. — Но ведь это займет много времени, пожалуй, всю ночь.
— Пожалуй, лучше приступить к делу прямо сейчас. Если я оставлю эти свитки здесь, то рабы непременно засунут их куда-нибудь. Тогда мне их ни за что не найти.
— Мне надо идти, — повторил Павлин, чувствуя ненависть к самому себе.
— Останься! — Легкая рука Лепида легла на его сильную руку.
Уходи. Уходи, прежде чем ты пожалеешь о том, что жив, а не мертв.
И он послушно подчинился ее воле.
В намерения Марка не входило слишком долго приводить в порядок свои свитки. Ведь, в конец концов, это его первый вечер в родном доме, и он должен провести его с женой и сыном. Однако он сел, чтобы посмотреть новый список стихов Марциала. Стихи, в свою очередь, напомнили ему об одной строчке Катулла, и ему захотелось ее уточнить…
— Отец! — услышал он со стороны двери тоненький голосок. Марк улыбнулся дочери. Сабина вошла в библиотеку, одетая в белую ночную рубашку.
— Не беспокойся, Вибия Сабина. Я приду поцеловать тебя перед сном.
— Нет. Меня послала мама. Сегодня она отвела меня в сторону и сказала, что приготовила тебе после ужина сюрприз. Так что… — За голосом дочери Марк услышал голос Лепиды. — … если ты через час после ужина не вернешься из библиотеки, то я должна немедленно сходить за тобой и привести тебя в спальню.
— Тогда я бросаю Катулла и сдаюсь на милость женщин этого дома! — шутливо воскликнул Марк.
Сабина взяла его за руку и потянула за собой прочь из библиотеки вверх по лестнице к спальне матери.
— Мне нравится мамина комната. Она вся голубая и серебристая, и там стоит большая кровать с пологом, похожая на раковину. Сегодня мама разрешила мне поиграть на ее кровати с драгоценными камнями. Тогда она и сказала мне, чтобы я привела тебя.
— Неужели? — удивился Марк. Все-таки он был прав, привезя их в Брундизий — раньше он никогда не видел, чтобы Лепида играла с дочкой. Но она сама родила Сабину, будучи почти ребенком. Сейчас она стала чуть старше.
Они остановились перед дверью спальни его жены.
— Ступай к себе и ложись спать, — сказал девочке Марк. — Я приду попозже и расскажу тебе сказку.
Няня увела девочку вниз по лестнице, Марк улыбнулся им вслед.
В следующее мгновение он рывком распахнул дверь спальни. Кровать Лепиды, под роскошным легким белым пологом, действительно была похожа на раковину. Он всегда думал, что Лепида могла бы быть прекрасной наядой, и это ложе-раковина удивительным образом подходило ей.
В следующее мгновение до его слуха из-за полога кровати донеслись стоны, хриплое, учащенное дыхание, исступленные крики.
Сначала его посетила мысль о грабителях — воришкам ничего не стоило забраться в комнату через окно.
Хромая, он подошел ближе, готовый поднять весь дом, но тут же, как вкопанный, застыл на месте. Нет, это были не грабители.
Нежное белое тело. Женское. И еще одно, сильное и загорелое, мужское. Разметавшиеся по подушке иссиня черные волосы. Римский профиль повернут к потолку, губы открыты в безмолвном стоне боли и сладостного облегчения. Побелевшие от напряжения пальцы крепко сжимают прямые юные плечи. Кровать вибрирует под весом ударяющихся друг о друга тел.
Павлин.
Лепида.
Пока он наблюдал за ними, любовники перекатились, и его жена оказалась сверху, на его сыне, и впилась ногтями ему в грудь. Лепида тряхнула головой, чтобы убрать от лица растрепанные черные волосы и бросила взгляд через плечо на входную дверь.
Павлин.
Лепида.
Именно тогда Павлин открыл глаза. Темные глаза, глаза цезаря, тупые и замутненные похотью. Затем взгляд Павлина переместился к двери. Челюсть тотчас отвисла, а все лицо приняло выражение комического ужаса.
— Отец! — воскликнул он, отпрянув от Лепиды, и, скатившись с кровати на мраморный пол, с опозданием схватил простыню, чтобы прикрыть ею наготу. Лепида даже не шелохнулась. Она откинулась на спину, и на ее лице появилась довольная кошачья улыбка.
— Отец, я…
Марк тихо закрыл дверь. Не было ни ярости, ни ощущения предательства — лишь камень с хрустом крошился, превращаясь в пыль.
Глава 12
— Отец, прошу тебя!.. — Павлин вышел из спальни в зал, завязывая на ходу шнурок туники. — Позволь мне все объяснить… — Его лицо напряглось и напоминало высеченную из мрамора маску. Собрались слуги, но их силуэты казались расплывчатыми пятнами. Лишь фигура отца виделась ему с предельной четкостью и резкостью. — Если ты только позволишь мне…
— Это может подождать. — Павлин почувствовал на себе глаза отца, но не нашел в себе сил ответить на его взгляд. — Я обещал твоей сестре сказку перед сном.
— Отец, ты должен верить мне. — Его голос сорвался на крик отчаяния, но он был бессилен что-либо поделать. — У меня и в мыслях не было…
— Я верю тебе… — Марк щелкнул пальцами, и рабы разбежались. За его спиной, хорошо видная через полуоткрытую дверь, Лепида набросила на себя платье. Затем, сев перед зеркалом, принялась расчесывать волосы. Марк не обращал на нее никакого внимания.
— Я не пытаюсь… — Павлин провел рукой по мокрым от пота волосам. — Я не говорю, что не виноват, но…
— Прошу тебя.
— Пожалуйста…
— Я не хочу знать никаких подробностей.
— Но я должен…
— Нет. Не надо.
Павлин знал, что такое отцовское «нет». Он не слышал этого слова с четырнадцати лет, когда умолял Марка взять его на праздник в Байи. Ему было отказано голосом сенатора, голосом, в котором звучала сталь. Голос Павлина оборвался, как будто чья-то рука пережала ему горло.
— Твой двоюродный брат Лаппий, по всей видимости, уже достиг Колонии Агриппины
[292], в Германии, — бесстрастным тоном произнес Марк. Он стоял спокойно, в своей обычной простой тунике и сандалиях. Казалось, он нисколько не изменился за последние минуты, лишь уголки рта предательски подергивались. — Перемена места пойдет тебе на пользу. Лаппий считает меня старым дураком, но тебя любит. Он будет рад провести в твоем обществе пару месяцев.
— Я уеду завтра, — заявил Павлин, чувствуя, как им овладевает желание бежать из отцовского дома. — Как только поговорю с центурионом Денсом…
— Я все устрою.
— Тогда… тогда я уезжаю прямо сейчас.
— Пожалуй, это будет правильно.
— О боги, отец!.. — голос Павлина сорвался на шепот. Он попытался выдавить из себя слова «прости меня», но слова эти абсолютно не подходили для этой минуты. Он пристально смотрел на отца — тот стоял с посеревшим лицом, согбенный и подавленный — и едва сдержался от того, чтобы не разрыдаться.
Лепида
Прошло не меньше часа, прежде чем я услышала за дверью нерешительные шаги мужа.
— Входи, Марк! — позвала я, протягивая руку к подносу со сластями. — Чем скорее мы поговорим обо всем, тем скорее я лягу спать.
Марк, хромая, вошел внутрь. Старый, облезлый, неряшливый, как какая-нибудь выброшенная на помойку кукла Сабины, отслужившая свой срок. Он нашел в себе силы посмотреть мне в глаза, и лицо его показалось мне еще более морщинистым.
— Ты поздно пришел, — добавила я.
— Я укладывал спать мою дочь.
Я умильно улыбнулась и забросила в рот сразу три карамельки. Пусть начинает разговор первым.
— Ты любишь моего сына, Лепида?
— Что? — Такого вопроса, признаться, я от него не ожидала.
— Федра любила Ипполита, — сказал Марк и устало опустился на мое ложе, обтянутое голубым шелком. — Я сомневаюсь, что ты когда-нибудь испытывала что-то даже близко похожее на любовь, но будет лучше исключить все возможности.
— Ты так чувствителен, дорогой. Люблю ли я Павлина? Не говори глупостей. А кто такая Федра?
— Ты ее не знаешь.
— Твой Павлин был ужасно забавен, но, если тебя это утешит, скажу: с ним было не намного приятнее, чем с тобой. По крайней мере, не во всем. — Я нарочно откинула голову назад, чтобы Марку стали видны следы поцелуев, которые оставил на моей шее его сын.
Он закрыл глаза.
— Позволишь мне задать еще один глупый вопрос, Лепида? Не слишком оригинальный. Просто ответь, почему?
— Разве это не ясно? Если бы ты не возражал так упрямо против моего возвращения в Рим…
— Понятно, — ответил старый сенатор и потер переносицу. — Мне следовало бы понять это раньше. По всей видимости, ты хочешь развода?
— С какой стати?
— Иначе, зачем ты только что устроила это представление в спальне?
— Я просто хотела преподать тебе урок, Марк. Ты ведь уже один раз разводился, верно? Ты ведь заслужил его, разве не так? Это же надо, вывезти меня из Рима после того как на меня обратил благосклонное внимание сам император…
— Император! — рассмеялся Марк. — Можешь заполучить его с моего благословения, Лепида!
— Я так и сделаю. Но ведь если у меня не будет мужа, то я вряд ли смогу найти себе любовника, ты согласен с этим? Мужчины не любят одиноких любовниц.
— Найди себе другого мужа. Я верну тебе приданое, можешь выйти замуж за кого пожелаешь.
— Неужели? Кто же возьмет меня в жены, не слишком богатую женщину, которая вынуждена вернуться в дом к отцу? Лучшим, кого я смогла подцепить, был ты, и тогда я была девственна.
— Боюсь, вот это уже не мои заботы. Теперь это заботы твои, — произнес Марк и холодно посмотрел на меня. — Я не позволю тебе находиться в одном доме с моей дочерью.
— Твоей дочерью? Как ты можешь быть уверен в том, что она твоя, если я за твоей спиной развлекалась едва ли не с каждым римским патрицием?
— Сабина — моя дочь. Ты живешь в обществе, Лепида, а общество привыкло думать, что блуд начинается лишь после рождения ребенка.
Его отстраненный тон сбил меня с толку. И еще выражение его лица, оно было таким, будто он изучал чью-то судебную тяжбу, а не думал о судьбе собственной жены. Я мотнула головой.
— Тебе придется считаться со мной, Марк. Потому что я никуда отсюда не уйду.
— Думаешь, ты открыла мне глаза? Они и так раскрыты. И мне не особенно нравится то, что я вижу. Тебя это не удивляет? Поэтому я разведусь с тобой. Ты разбираешься в римском праве, Лепида? Все что мне нужно, это произнести несколько слов, и ты уйдешь из моего дома. Но тебе не нужно беспокоиться, — добавил он. — Я верну тебе приданое. Ты устроила искусное представление. Оно достойно нескольких тысяч сестерциев, хотя ты и сделала все мыслимое для того, чтобы развратить моего сына.
В глазах моего мужа читалось холодное равнодушие, голос звучал по-патрициански размеренно и высокомерно. Как он смеет смотреть на меня так, будто он император, а я — жалкое насекомое?
Я перестала улыбаться.
— Нет, Марк. Никакого развода не будет. Ты вернешься в Рим и заберешь меня с собой. Ты станешь оплачивать все мои расходы и не будешь задавать вопросов, когда я буду возвращаться на рассвете, и от меня будет пахнуть другим мужчиной, императором. Вот, что ты сделаешь. Иначе я погублю тебя.
— Попробуй, — спокойно произнес Марк. — И ты погубишь себя.
— Ты знаешь, что такое суд, мой дорогой? — Я подалась вперед и пристально посмотрела ему в глаза. — Суды состоят из мужчин, склонных к сочувствию мужчин. Я знаю мужчин, Марк. Я ведь обманывала тебя, верно? И Павлина обманула, стойкого, честного воина. Мужчины, заседающие в суде, ничем не отличаются от других. Я заставлю их поверить мне.
— Поверить во что? — сверлил меня глазами Марк. — И кому? Неверной жене? Сколько таких добрых женушек они видят каждую неделю, как ты думаешь?
— Но каждую ли неделю они видят подобное? — Я быстро выпрямилась, закрыла лицо руками и опустила плечи. — Павлин взял меня силой, я этого не хотела, никогда. Ведь он мой пасынок. Но он добился своего, и когда я после этого пошла к Марку, то он лишь рассмеялся, сказав, что это часть супружеского долга. Я знала, что это противоестественно — то, что сделал со мной Павлин, но… я была так напугана…
— Достаточно? — спросила я, подняв голову. — Что случилось, Марк? Ты смотришь на меня так, будто у меня змеи на голове вместо волос.
— Жаль, что не змеи, — с каким-то непонятным изумлением ответил он. — Я был бы более счастлив с Медузой, чем с тобой.
— Если ты разведешься со мной, я обвиню Павлина, что он изнасиловал меня. Суд поверит мне, Марк. Он поверит мне, когда я расскажу, что Павлин сделал со мной, причем сделал с твоего согласия. Мне поверят, когда я скажу, что я бросилась в объятия другого мужчины потому, что со мной скверно обошлись в моей семье. Мне поверят, когда я скажу, что Сабина не твоя дочь, а Павлина. Когда я добьюсь своего, ты окажешься гнусным старикашкой, который не мог дождаться той минуты, когда сможет наложить лапу на пятнадцатилетнюю девушку и ее приданое. Павлин станет насильником, от которого преторианцы пожелают как можно скорее избавиться, Сабину будут считать ребенком, рожденным от кровосмесительного брака. — Я торжествующе улыбнулась. — Что касается меня, то я получу развод, буду свободной и богатой, а мой отец станет твоим вечным врагом зато, что ты опозорил его дочь, и я скоро снова выйду замуж. Потому что я вытяну из тебя все твои денежки, дорогой. Я думаю, что император не станет возражать, ведь он никогда тебя не любил. Поэтому будет лучше, если ты станешь вести себя так, как я потребую.
Он не стал умолять меня не делать этого. Лишь удивленно посмотрел, как будто видел впервые.
— Чего ты хочешь?
— Чтобы ты помогал мне. Хочу твоего согласия. Твоей покорности. Твоего молчания. Только и всего. Нам даже не нужно жить вместе. Этого будет достаточно для твоего спокойствия. — Я встала, и устало зевнула. — О боги, уже поздно. Мне кажется, что уже все сказано, верно? Если мы уезжаем в Рим на этой неделе, то мне придется собирать много вещей.
Марк сидел спокойно, молча, глядя перед собой невидящим взором. Да, все будет именно так, ведь теперь я была императрица, а он насекомое. Этого было достаточно, чтобы я почувствовала себя довольной. Я наклонилась к нему и прикоснулась губами к его щеке.
— Не отчаивайся, дорогой. Если ты не будешь слишком громко выражать свое неудовольствие, то я время от времени буду заглядывать в твою спальню. Тебе ведь это понравится, верно?
С этими словами я провела пальцем по его щеке. Он схватил мою руку и больно сжал.
— Скорее я лягу в постель со змеями, — прошипел он.
Моя улыбка погасла. Марк, хромая, вышел из комнаты.
Половинка лунного диска давала достаточно света, и Марк увидел в окно, как его сын выехал верхом из ворот конюшни. Павлин держал путь на север, в Колонию Агриппины, расположенную в дальнем уголке Германии. В холодном ночном воздухе дыхание сенатора превращалось в облачко пара. Его усталые опущенные плечи четко вырисовывались на фоне окна.
Лаппий окажет ему теплый прием, подумал Марк. Он заполнит дни Павлина пирами, а ночи куртизанками. Местные матроны будут подкладывать под него своих дочек, и, возможно, он поспешно женится на одной из них в надежде побыстрее забыть случившееся. Но никогда не забудет. Он будет открывать окна, впуская в комнату холодный ночной воздух Германии, будет сидеть до рассвета, поеживаясь от холода, думая о Лепиде и желая упасть на собственный меч. Ох, Павлин!..
Вскоре залитая лунным светом дорога уже была пуста, а ночной воздух сделался еще холоднее. Марк закрыл окно.
— Тебе что-то нужно, господин? — спросил управляющий.
— Мне нужна правда, — повернулся к нему старый сенатор. — Как давно?
— Несколько месяцев, — нерешительно ответил управляющий, немного помявшись. Он работал в доме Марка Норбана вот уже двадцать лет, и старый сенатор прекрасно знал любое выражение его лица. Он жестом велел своему собеседнику продолжать. — Я должен был написать тебе об этом, господин, но Лепида угрожала нам… все рабы боятся ее. Она… она не добрая хозяйка.
Это было еще одно, чего он не знал о своей жене.
— Хорошо, что молодой хозяин отправился в Германию, господин. Он там скоро забудет обо всем.
Неужели?
— Спасибо. Я все понял.
На столе лежал набросок нового трактата, законченный за неделю до его возвращения домой. В нем содержались предложения по изменению существующих законов наследования. Марк развернул свиток и отыскал слова посвящения, которые с гордостью начертал прошлой ночью.
Моей жене.
Это был сюрприз для Лепиды, которая не лучше Павлина разбиралась в трактатах, но старательно делала вид, будто его труды многое для нее значат.
Марк потянулся за стилом. Заострив его, он откупорил склянку с чернилами, после чего двумя ровными линиями зачеркнул посвящение. Никаких соскабливаний. Ученые никогда не соскабливают слова в тексте. Ученые никогда не соскабливают слова, а сенаторы не плачут. Именно поэтому Марк отложил свиток в сторону, чтобы тот подсушился, и сложил на груди руки.
Лепида
— Лепида!
— Ты вернулась!
Я приветственно раскинула руки — главная гостья на пиршествах в доме Лоллии Корнелии.
— Мои дорогие, как мне было одиноко без вас!
Все поспешили заверить меня, что это Риму было одиноко без меня, и я вознеслась ввысь на волне лести. Это было как раз то, по чему я так соскучилась: пиры, поклонники, драгоценности, сплетни… В тот вечер у меня было назначено три встречи. Я встретилась с двумя, заставив ждать третьего. Как будет забавно вернуть ему хорошее настроение при следующей встрече!
— Император вернулся в Дакию, — сообщил мне Марк, даже не потрудившись оторваться от своих свитков. — Пожалуй, он вернется не скоро.
— Не беспокойся. Мне будет чем заняться до его возвращения. — Я вовремя увидела притаившуюся за колонной Сабину. В последнее время она избегает меня. Когда я что-то говорю, она лишь молча смотрит на меня своими огромными глазами. И как я только могла родить такое создание?
— Она совершенная идиотка, — пожав плечами, сказала я Эмилию Гракху за кубком вина. Такая же, как и ее отец. Ну и парочка. — Эмилий тотчас выдал родившиеся в его голове рифмованные строчки о моем идиоте-муже и его дочери. Я расхохоталась. К концу недели над ними смеялся уже весь Рим.
— Я достойная жертва, — заявил мне Марк. — Чего нельзя сказать о Сабине. Если я услышу еще хотя бы одну строчку о моей дочери, я подам на тебя в суд, несмотря на все твои угрозы. Тебе это понятно?
Я притворно зевнула в ответ, но после этого запретила Эмилию сочинять новые стишки про мою дочь. Лучше лишний раз не раздражать Марка, не отталкивать его.
Той осенью мы каждую неделю бывали на ужинах во дворце, однако в отсутствие Домициана обстановка там была совсем другая. Императрица — слишком безупречная хозяйка, чтобы в ее обществе было по-настоящему весело, — хотя, как я дрожала, видя ее изумруды! — Юлия же молчаливая и такая же нервная, как и Сабина. Юлия выросла и превратилась в уродину. Неужели она когда-то просила у своего дяди разрешения уйти в храм, стать весталкой? Это самое лучшее для нее место. Какой же мужчина захочет ее теперь? Но в храм Весты не принимают вдов. Даже императорского происхождения. Какая жалость.
Я была полна замыслов. Я снова вернулась в Рим, жизнь была хороша, и все складывалось так, как я хотела. Ради этого я и появилась на свет!
Тея
Павлин уехал из Брундизия в конце октября, не сказав мне ни слова, что было вовсе не в его духе, но я восприняла это спокойно. По всей видимости, у него на службе возникли какие-то неприятности. В последнее время он держался отчужденно, почти перестал встречаться со мной. Возможно, что-то происходило в его семье, а семья, в которой есть Лепида, просто обречена на несчастье. Или, может быть, Павлин устал от меня? В этом тоже нет ничего страшного. Я любила его, но за мной уже увивались несколько юных трибунов, желая добиться благосклонности. Они сильно смущали моего хозяина.
— Ты музыкант, дитя мое, — ворчал на меня претор Ларций. — Ты выдающаяся исполнительница. Ты должна иметь свою публику, а не клиентов.
— Я предпочитаю видеть в них почитателей, господин. — Поскольку я какое-то время была проституткой, причем относительно недавно, я понимала разницу между почитателями и клиентами. Кроме того, даже если я не могу сама выбирать себе слушателей, по крайней мере, я могу выбрать мужчину, которому позволю ухаживать за мной, а это уже что-то да значит. Рабам приходится довольствоваться тем скромным выбором, который им предоставляет жизнь. — А что плохого в том, если я время от времени развлекаю красивого молодого воина?
— Да, но ты развлекаешь их только тогда, когда они дарят тебе дорогие подарки.
— У меня есть сын, ради которого мне приходится копить деньги, — ответила я, пожав плечами.
— Но подобные вещи могут сослужить артисту плохую службу. — За этой фразой последовал вздох огорчения. — Пусть ты и рабыня, но это вовсе не означает, что ты никогда не выйдешь замуж.
— Я не хочу выходить замуж. Закон не признает браков между рабами. Жену и мужа могут разлучить после смерти хозяина, и тогда они больше никогда не увидят друг друга.
Глаза Ларпия как будто видели меня насквозь.
— Да ты, я смотрю, киник, дитя мое.
— Да, господин. — Я поцеловала пухлую руку Ларпия, устыдившись своей редкой вспышки гнева. Иногда у меня не было никакого желания петь для его друзей. В такие минуты мне хотелось совсем другого — почитать книгу или погулять с сыном, как будто я обычная молодая женщина. Но я не обычная женщина, я рабыня, хотя и довольно везучая, которой посчастливилось иметь доброго хозяина.
— Что же, возможно. Будет лучше, если ты не станешь выходить замуж, — ответил Ларций. — Не могу представить себе мужчину, который взял бы тебя в жены с незаконным ребенком.
«Что он сейчас делает»? — Моему сыну уже исполнилось пять лет, и он был сушим кошмаром. Сущим кошмаром и точной копией своего… впрочем, не важно, чьей копией он был.
Слишком поздно.
Думать об Арии — значит допустить ошибку, хотя сейчас это и не доставляло мне такую боль, как раньше. Раньше же думать о нем было сродни тому, как если бы меня разрывали на части раскаленными добела щипцами. Нет, теперь щипцы успели остыть. Вместо того чтобы рвать на части, они лишь… щиплют.
Это всего лишь воспоминания, с раздражением думала я, отходя от Ларция. Но воспоминания никуда не исчезли, не ослабели ни на йоту. Я все еще помню легкую щетину на его подбородке. Помню каждый шрам на его теле, и сейчас мысленно провожу по ним пальцем. Арий целует меня. Арий, окровавленный и дрожащий от возбуждения, стоит на арене. Арий, удивляющий меня своим глухим грудным смехом. Арий, сжимающий меня в объятиях.
В первые дни моего пребывания в портовом борделе я мечтала лишь об одном: как мне переправить в Рим записку моему любимому. «Я в Брундизии. Приезжай и забери меня отсюда». Но в те дни у меня не было денег даже для того, чтобы отправить письмо. Позднее, когда деньги у меня появились, я отправила безумное страстное письмо на север, но ответа не получила. Последовали долгие недели ожидания, когда от тоски разрывалось сердце и перехватывало дыхание. Никакого ответа. Впрочем, ничего удивительного. Арий не умел читать. Галлий просматривал всю почту и явно не стал бы передавать ему мое послание. Ведь оно размягчило бы сердце и ослабило боевой дух его лучшего гладиатора, и тогда бы Арий, скорее всего, погиб. По всей видимости, Галлий посмеялся над моим письмом и разорвал его в клочки.
Больше писем я не писала. Что толку? Даже если они каким-то чудом и попали бы в руки Ария, ему ни за что не найти меня. С тех пор я так ни разу и не попала в Рим, потому что Ларций ненавидит этот город и свою жену, которая беспечно тратит его деньги, живя в доме на Авентинском холме, а он свил себе гнездо в Брундизии. Поэтому я тоже оставалась в Брундизии. Пела, улыбалась, развлекала время от времени молодых красивых патрициев, пытаясь с опозданием узнать хотя бы что-нибудь о судьбе Ария. Каждый раз, когда до меня доходила весть о том, что он выиграл очередной поединок, мне становилось легче на душе.
Забудь его.
Вот о чем я молилась каждую ночь, даже теперь. О боже, позволь мне забыть. Позволь мне забыть. Это будет легче всего. Легче забыть и перестать страдать.
Но Бог, великий вселенский шутник, сказал — нет. Никогда не забывай. Помни о нем все, что ты знаешь. Храни в себе это знание, если не можешь быть вместе с ним. У тебя есть сын, который улыбается так, как он.
И Он был прав, потому что я знала: любить мужчину больше Бога — значит играть с огнем.
— Отвратительное место, верно? — спросил Галлий, задвигая занавески паланкина, который тащила упряжка волов.
Вместо ответа Арий лишь пожал плечами. Ему и раньше доводилось бывать в Германии, когда он отправился в свое первое турне по провинциям, после того как почти обрил наголо Лепиду Поллию, и Галлий счел за лучшее на время отправить его подальше из Рима. Пять лет спустя этот далекий край выглядел точно так же — холодный, суровый и неосвоенный. Исхлестанные ветрами деревянные хижины лепились к склонам гор. Возведенные же римлянами в долинах города смотрелись на их фоне инородным телом. Закованные в цепи рабы из местных племен обрабатывали поля, покрытые смешанной со снегом грязью, и недружелюбно, исподлобья смотрели на Ария, когда тот проезжал мимо.
— Угрюмый народ эти германцы, — заметил Галлий, кутаясь в меха. Он сорвал такой огромный куш на последних гастролях Ария по провинциям, что решил незамедлительно отправиться в следующие. — Самые настоящие варвары, такие же, как и ты, мой мальчик. Не пытайся убежать в очередной раз, хорошо? Иначе мне придется заковать тебя в железо.
Во время первой поездки по провинциям Арий пытался сбежать. Он успел удалиться на пять миль, но его выдало лицо и гладиаторское клеймо. После этого случая Галлий, всякий раз, когда они покидали пределы италийской земли, ни на минуту не спускал с него глаз. Больше Арий не пытался бежать. Цели для побега у него не было.
В ту зиму он провел четыре поединка на аренах Германии. Он выходил биться с бойцами в звериных шкурах и рогатых шлемах. Он убил их всех до единого. После этих боев Галлий за деньги отправлял Ария на пиры, где тот встречался с губернаторами и легатами, колесничими и сенаторами, накрашенными патрицианками, которые охотно делили с ним ложе, и нежными мальчиками-трибунами, которые добивались того же самого. Но ему нравилось тайком уходить из пиршественных залов в темные и холодные сады и любоваться ночным небосводом, усеянным бесчисленными звездами, которые здесь, на севере, казались больше и ярче, чем в дымном воздухе Рима. Германия. Слева от нее расположена Галлия, а еще левее — Британия.
Колония Агриппина. Совсем крошечный городок. Поединок с германцем, затем пир в новой резиденции губернатора Лаппия Норбана. Стены там были бревенчатыми вместо мраморных, а наполненные грубым германским ламповым маслом светильники нещадно чадили. Однако на столе были устрицы в винном соусе, жареные язычки жаворонков и пирожки с начинкой из оливок и сыра, а также хмельной мед из Британии, холодный и убийственно крепкий. Арий вспомнил, как его братья напивались холодным медом и приходили в буйство, однако все равно выпил свой кубок. Здесь, на пиру у губернатора, молодые трибуны тоже быстро напились, а кое-кто даже потерял человеческий облик. Особенно юный кузен губернатора, с мрачным изумлением отметил про себя Арий. Этот был пьянее всех остальных гостей. Преторианец, что с него взять. Эти неженки-гвардейцы, несущие службу при дворе, никогда не умели пить.
— Я видел сегодня, как ты бился на арене, — вызывающе бросил преторианец. Его лицо раскраснелось. Белый плащ заляпан винными пятнами. В глазах — нескрываемая ненависть. — Поздновато ты ушел с нее, верно я говорю?
— Я все равно победил, — ответил Арий, не отрывая глаз от своего блюда.
— Я поставил на тебя сотню денариев. И если бы ты проиграл…
— Клянусь Юпитером, Павлин! — сияя улыбкой и фальшивыми драгоценностями, губернатор Лаппий приблизился к своему юному родственнику. — Не пугай нашего гостя. Он способен голыми руками разорвать тебя на куски, и никто из нас не сумеет его остановить. — Лаппий подмигнул Арию. — Не обращай внимания на моего кузена, Варвар. Видишь ли, он переживает из-за несчастной любви.
— Она могла бы написать мне, — покачиваясь, пробормотал Павлин, когда рабы помогли ему взобраться на пиршественное ложе. — О боги, ни единого слова! Вероломная стерва!..
— Бедный Павлин, — улыбнулся губернатор. — Будет лучше, если он отправится спать прежде, чем угодит в когти Сатурнину. Этот Сатурнин… губернатор Верхней Германии. Он любит юношей, особенно таких пьяных, как сейчас Павлин. Впрочем, через год Сатурнин уедет отсюда. — Лаппий поправил парик. Гости поедали его глазами, наблюдая, как он разговаривает с великим римским гладиатором. — Ходят слухи, будто о тебе ничего не слышно в Риме, Варвар. Губернаторство Сатурнина заканчивается в конце этого года. Знаешь, Домициан не благоволит любителям мальчиков. Представь себе! Красивенький мальчик в сто раз лучше юной девушки, и в Риме ты не найдешь и горстки людей, которые были бы не согласны со мной. Хотя на этот раз наш император один из них. Стоит вспомнить императора Нерона и его мальчиков! Но теперь наступила новая эра, и типам вроде Сатурнина вскоре будет указано на дверь. — Лаппий ткнул пальцем в сторону высокого лысеющего патриция с осанкой военного, который, нахмурившись, неторопливо попивал вино. — Ему ничего другого не остается, как утопить свои печали в вине и в молодых пьяных мужчинах вроде Павлина. Когда его лишат титула губернатора и это станет главной новостью Рима, ты, Варвар, скажи во всеуслышание, что первым ты услышал ее от меня…
— Ты думаешь, что мне интересно знать, — спросил Арий, — кто правит вашими убогими провинциями?
Улыбка соскользнула с лица Лаппия, но он тотчас заставил себя улыбнуться снова.
— Прекрасно! — жизнерадостно воскликнул он. — Танцовщицы готовы. Они прелестны, не правда ли? Любая из них твоя, бери какую пожелаешь.
Арий снова принялся пить мед, равнодушно наблюдая за тем, как на мозаичном полу извиваются в танце загорелые обнаженные тела. Завтра из Колонии Агриппины он отправится в Таунус
[293]. Там его ждет схватка с гладиатором из бриттского племени думнонов, который прилюдно поклялся отправить Варвара к его богам.
Декабрь постепенно перешел в январь. Зима тянулась дальше, все в том же пьяном угаре. Но пьянство и страдания Павлина закончились в одночасье, когда в резиденцию Лаппия дошла тревожная весть: губернатор Верхней Германии Сатурнин поднял мятеж. Более того, он объявил себя императором и, встав во главе армии легионеров и местных племен, двинулся в направлении Колонии Агриппины.
Глава 13
— Значит, теперь Верхняя Германия? — пробормотал сенатор Скавр. — А что потом? Галлия? Испания?
Перешептывания в зале. Обсуждение в Сенате шло своим чередом. О мятежниках никто даже не вспомнил. От Сатурнина отмахнулись как от выскочки, узрев в нем разочарованного старого воина, позади которого шествовала горстка воинственных туземцев, раскрашенных синей краской. Тем не менее после окончания прений в зале заседаний осталось больше сенаторов, чем обычно.
Сбившись в кучки на скамьях, они нервно перебирали складки своих парадных тог, украшенных пурпурной каймой.
— Если и Египет отпадет от Рима, нам грозит блокада…
— А поскольку император сейчас в Дакии…
Вновь раздался голос Скавра, тихий и испуганный:
— Думается, нам следует вступить с Сатурнином в переговоры. Нужно умиротворить его. Кто знает, что может случиться дальше? Неужели кому-то хочется повторения Года четырех императоров? Чтобы сенаторы теряли свои места лишь потому, что заняли не ту сторону? Неужели мы…
— Год четырех императоров, — голос, который принадлежал внуку Августа, прорезал гомон голосов подобно острому мечу. Все тотчас обернулись к седовласой фигуре. Сенатор Норбан сидел поодаль от всех, гусиным пером чертя на мраморной балюстраде круги. — Я давно ждал, когда кто-нибудь его вспомнит. Минуло уже двадцать лет, а о нем по-прежнему говорят с дрожью в голосе.
— Тебе легко рассуждать, Норбан, — огрызнулся сенатор Скавр. — Тебе не пришлось спасать свою жизнь, как большинству из нас, когда головы начали падать направо и налево. Что тебе известно об этих ужасах?
— Я знаю, что пока мы здесь говорим, мой сын находится в Нижней Германии, — ответил Марк, задумчиво глядя на свое перо. — Мне также известно, что в его жилах, как и в моих, течет струя императорского пурпура. Мне также известно, что наместник Липпий назначил его неофициальным командующим легионами Нижней Германии — в знак уважения к его имени. Что в свою очередь означает, что когда Сатурнин перечислит тех, кто ему противостоит, имя моего сына будет в этом списке значиться первым.
На минуту в зале воцарилась тишина. Марк Норбан с трудом поднялся на ноги — старый и усталый человек в сенаторской тоге. Лицо изрезано глубокими морщинами, плечи сгорблены под грузом прожитых лет. Однако голос его звучал на редкость громко и звучно, и все, кто до этого испуганно сбился в кучки, обернули к нему головы.
— Год четырех императоров. Год после Нерона, год Гальбы, Отона, Вителлин и Веспасиана. Думаю, многие из нас ясно помнят события этого года. Как, например, я. Гальба конфисковал наши семейные поместья. Отон отправил моему отцу вежливое предложение совершить самоубийство. Вителлий бросил меня в темницу, где я провел три месяца, пытаясь излечить вывихнутое плечо, жадно читая любую книгу, какую только могли тайком передать мне в камеру горстка оставшихся у меня друзей. Я каждый день ожидал, что ко мне подошлют убийцу. Когда же Веспасиан, вступив на трон, решил, что я не представляю для него угрозы, я представлял собой жалкое зрелище — осиротевший, лишившийся собственности, истощенный, искалеченный, один на целом свете, ибо большая часть моих родственников предпочла расторгнуть браки, дабы на них не легла тень моего имени.
Марк устало улыбнулся.
— Так что, да, я хорошо помню этот год. Год алчных узурпаторов, которые убивали, грабили, тянули Рим в пучину произвола. И вот теперь мы смотрим на Сатурнина и думаем про себя, а не получим ли мы нового Отона или Вителлия. Мы бросаем взгляд на Египет и Испанию и задаемся вопросом, а не затаились ли там новые Отон и Вителлий, которые ждут, когда настанет удобный момент заявить о своих притязаниях. Некоторые из нас уже в скором времени начнут подумывать о том, а не пора ли им, пока не поздно, скрыться из Рима. Некоторые из нас уже в скором времени начнут задумываться о том, сможем ли мы обуздать Сатурнина. А некоторые уже сейчас наверняка склоняются к тому, чтобы подыгрывать и нашим, и вашим, чтобы, в случае победы одной из сторон, обезопасить себя. И я более чем уверен, — Марк Норбан обвел взглядом присутствующих, — что некоторые из нас уже подумывают о том, а не дать ли Сатурнину и Домициану возможность уничтожить друг друга, чтобы потом захватить трон самим.
Кое-кто смерил его злобным взглядом.
— Но не будем гадать, ибо это пустое занятие. Думается все же, что никто из нас не хочет повторения Года четырех императоров. По крайней мере, я этого точно не хочу. У меня есть сын, которого я не хотел бы потерять, у меня есть дочь. И если узилище сделало в тридцать три года мои волосы седыми, легко представить себе, что оно сделает со мной в пятьдесят три.
По залу заседаний пробежал легкий смешок.
— Даже те из вас, кто искренне считают, что из них вышел бы лучший император, нежели Домициан или даже Сатурнин, скажите, неужели вам хочется новой гражданской войны? Лично я в этом сильно сомневаюсь. Потому слишком дорогой окажется ее цена.
Неожиданно голос Марка зазвучал со всей своей силой, долетая до самых дальних углов зала.
— Но именно это вы нам и предлагаете — войну. Всякий раз, когда вы испуганно сбиваетесь в кучки и начинаете перешептываться о том, что следует пойти на уступки, всякий раз тем самым вы прокладываете дорогу войне. Я же отказываюсь в этом участвовать, потому что я… ненавижу уступки.
Казалось, что присутствующих буравит своим взглядом сам божественный Август.
— И уж тем более уступки такому ничтожеству, как Сатурнин. И до тех пор, пока ваша поддержка не будет целиком и полностью на стороне Домициана, — потому что это единственное средство поставить на место ничтожество, заполучившее под свое командование армию, — до тех пор, пока этого не произойдет, братья мои сенаторы, я лучше буду сидеть дома. Буду заниматься воспитанием дочери и думать о том, не приведут ли ваши дрязги к тому, что голова ее когда-нибудь окажется насаженной на германскую пику.
Воцарилось гробовое молчание. Сенатор Марк Вибий Август Норбан, хромая, покинул Сенат.
— Отец! — Сабина потянула Марка за руку.
— Что? — Покрывало соскользнуло ей на спину, и Марк поспешил натянуть его дочери на голову, прикрывая волосы. Даже если бы зимний ветер и не обдавал своим ледяным дыханием им лица, от храма Минервы, с его суровым мраморным залом, все равно веяло холодом. Никто не входил сюда с непокрытой головой.
— Скажи, а почему боги предпочитают белых быков?
Жрец, что вел за собой быка, смерил Сабину колючим взглядом, и Марк прижал к губам девочки палец. Правда, сам он при этом едва не расхохотался. Белые быки, белые лебеди, белые свиньи — почему боги требуют, чтобы приносимые им в жертву животные были непременно белого цвета? Сейчас, когда столько матерей молятся за жизнь своих сыновей в Германии, как тех, что оказались в стане мятежников, так и верных императору, в Риме не осталось ни одного животного белого цвета. Из зала заседаний Сената Марк направился прямиком на рынок в поисках жертвенного животного, и был вынужден заплатить неслыханную сумму за тощего бычка, мясом которого не накормить и семью из пяти человек.
— Богам нужна лишь их кровь, Сабина.
Верховный жрец подвел бычка к ступеням храма. Еще два жреца тихо читали молитвы. Бычок же вскинул нос, принюхиваясь к запаху. Ступени были красно-бурыми и липкими. Сабина явно нервничала, однако в храм она напросилась сама.
— Я тоже хочу помолиться за Павлина, — сказала она отцу.
Нож в руках жреца сначала взмыл вверх, а затем скользнул вниз. Марк позволил дочери зарыться лицом в складки его тоги. Бычок взревел, ноги его подкосились, и Марк шагнул вперед, чтобы омыть руки жертвенной кровью.
— Минерва, защити моего сына, — прошептал он. Перед его мысленным взором тотчас возник сначала четырехлетний крепыш, который с виноватым видом признался ему, что подбросил в кубок матери жука, затем юноша, с гордостью натирающий до блеска свою новенькую преторианскую бляху, затем молодой мужчина, извивающийся в хищных объятиях Лепиды.
— Минерва, богиня воинов. Я обещаю тебе тысячу быков, белых или любого цвета, какого ты пожелаешь, лишь бы мой сын вернулся домой живым.
Марк сцепил в молитвенном жесте окровавленные пальцы. Жрецы продолжали читать молитвы, бычок испустил дух.
— Кровь за кровь.
— Мы сделали все, что в наших силах, — командующий Траян пожал плечами. — Теперь остается только ждать.
Павлин покосился на своего заместителя: коренастый, крепкий, широкоплечий, лет на двенадцать-тринадцать старше его самого. Доспехи сидят на нем как вторая кожа. Под началом Траяна были самые свирепые легионы Нижней Германии, и по идее, именно он должен был возглавить наступление на мятежников Сатурнина. Однако родственник Павлина, Липпий, истерично настоял на том, чтобы Павлин, вопреки всем правилам субординации, принял на себя неофициальное командование обоими легионами, и Павлин, неожиданно протрезвевший после месяца пьянства и душевных терзаний, согласился.
Ликовать по этому поводу не имело смысла, ведь ситуация была чревата гражданской войной, однако Павлин был не в силах заставить замолчать голос, что звонко пел в его душе — «Командир легионов! Командир легионов!». Вряд ли Траян обрадовался бы, узнай он об этом.
— Ты мне нужен, — честно признался Павлин. — Я не знаю этой страны. Не знаю твоих солдат. Не знаю местности. Ты будешь моей правой рукой.
— Да, командир, — без особого воодушевления произнес Траян. — Я буду счастлив служить под твоим началом.
— Да, но могу ли я во всем на тебя положиться?
Траян окинул его оценивающим взглядом с головы до ног.
— Скажи, ты такой же, как и этот твой женоподобный родственник? — усмехнулся он, и они тотчас стали друзьями. Траян занялся укреплением города, давая Павлину советы, как лучше расположить когорты. Функции же Павлина сводились к тому, чтобы не дать Траяну придушить Липпия, который даже сейчас сидел в своем наскоро сооруженном деревянном дворце и жаловался на жизнь.
И вот теперь они, закутанные в тяжелые плащи, бок о бок сидели верхом на своих скакунах, и дыхание срывалось с их губ белыми облачками пара. Впереди них, опираясь на щиты и о чем-то переговариваясь между собой, выстроились когорты легионеров.
— Каким ветром занесло тебя в Германию? — поинтересовался Траян. — Мне казалось, у тебя есть теплое место во дворце. Признавайся, Норбан, каков твой яд — женщины, семья, долги?
Павлин задумался.
— Женщины, — признался он. — Впрочем, и семья тоже.
— Я готов хоть сегодня броситься усмирять мятежную провинцию и орду диких германцев.
— Я тоже, — сказал Павлин и перекинул гриву коня на другую сторону. Сейчас, перед битвой, Лепида казалась ему далеким-далеким наваждением. Он не мог представить ее лица, особенно сейчас, когда в воздухе смешались запахи снега, стали и грязи, а в ушах стоял гулкий звон щитов. Это были мужские запахи, и среди них женщине места не было.
Траян прищурился, глядя на небо.
— Проясняется.
— Прекрасно, — отозвался Павлин.
Солнечный день, битва, попытки спасти империю от гражданской войны… возможно даже, сегодня он умрет, и тогда отец вновь сможет им гордиться.
Неожиданно перед ним, разбрызгивая копытами во все стороны смешанную со снегом грязь, остановился взмыленный конь.
— Командир, — произнес, спешиваясь и отдавая салют, разведчик. — Только что были замечены легионы Сатурнина, одиннадцатый и четырнадцатый. Движутся с северо-запада.
— Резервные? — уточнил Траян.
— Пока не понятно.
— Отлично, — Павлин положил руку на рукоятку меча. — Задействуйте первый отряд.
Да, в такой день не жалко умереть.
— В наступление!
Стена щитов дала трещину. Солдаты Сатурнина нарушили ровные ряды, чтобы сойтись с врагом один на один. Еще немного, и снег обагрился первой кровью. Сражение кипело со всех сторон. Павлин сидел верхом, прищурившись и застыв словно статуя, и пытался одновременно следить за целым полем.
— Наступление на правом фланге? — крикнул он, когда к нему, скользя конскими копытами по грязи, подъехал Траян.
— Стоят насмерть. — Намотав поводья на кулак, с зажатым в другой руке мечом, Траян был похож на спустившегося с небес Марса, бога войны. Им с Павлином приходилось перекрикивать раненых, разъяренные боевые призывы легионеров, топот копыт и гулкое металлическое клацанье щитов. — Сатурнина нигде не видно.
— Отсиживается вон там, за чужими спинами. — Павлин указал на невысокий холм на берегу реки. Сам он едва мог спокойно усидеть в седле. Под доспехами пот катил с него градом. В душе Павлин завидовал спокойствию Траяна. Сам же он был готов в любую минуту ринуться в бой, чтобы сражаться бок о бок со своими легионерами.
Траян отпустил в адрес Сатурнина несколько смачных комментариев — и по поводу его внешности, и предков, и постельных предпочтений. Павлин мрачно улыбнулся. Рядом с ним, в ожидании поручений, томились его адъютанты. Впрочем, пока никаких новых приказов не было. Сражение шло своим чередом.
Солнце пробилось из-за туч, и теперь поливало поле битвы холодным слепящим светом. Под боевые возгласы дерущихся, стук доспехов, когда солдаты обеих сторон сходились один на один, растоптанный подошвами обутых в сандалии ног и согретый лучами солнца плотный слой снега постепенно превратился в грязное месиво. Какой-то воин — из легиона Павлина, Траяна, Сатурнина, кто знает? — поскользнулся в грязи и умер, заходясь в жутком крике, налетев на меч другого легионера.
— Как, по-твоему, мы…
Договорить ему не дал чей-то леденящий душу вопль. Оба тотчас развернулись в сторону леса.
— Дикари, — произнес Траян и присовокупил еще целую череду проклятий. — Гнить им в царстве Аида…
Пришпорив коня, Павлин, поскакал вверх по крутому берегу, топча тело легионера, павшего в первые минуты битвы от удара копьем в глаз.
— В царстве Аида, — машинально повторил он.
— И кто они? Из какого племени? — крикнул ему вдогонку Траян?
— Похоже, что хатты. Их тут около восьми сотен! — прокричал в ответ Павлин. — Труби сбор!
Трубачи выдули несколько коротких нот, и легионеры выправили ряды. Хатты выскочили из леса, подобно стае волков, с криками и улюлюканьем, которые, по всей видимости, были призваны ублажить их богов. Впереди бежал их предводитель, потрясая римским щитом, к которому была прикреплена отрезанная голова какого-то несчастного римского легионера. На бегу этот дикарь что-то злобно выкрикивал, не иначе, как вызов противнику. Его соплеменники подхватили этот жуткий вой, подобно жаждущим крови хищникам, которых выпустили на свободу из какой-то адской клетки. Издали, от легионов Сатурнина, глухо донеслись ликующие крики. Чувствуя, как в висках пульсирует кровь, Павлин с силой сжал рукоятку меча. Варвары быстро приближались к покрытому коркой льда Рейну. Павлин в нетерпении был готов броситься в самую гущу врага и вызвать на поединок их предводителя, чтобы затем прикрепить его голову к собственному щиту, и чтобы его душа отлетела, бормоча на своем варварском наречии, прямиком в их варварский ад.
— Минерва, — обратился он к богине битв и сражений. — Не оставь нас!
Пальцы его еще сильнее сжали рукоятку меча. Темная масса варваров устремилась на лед, и до слуха Павлина донеслось их кровожадное улюлюканье.
— О боги, — прошептал он. — Прошу вас, пособите нам!
Нет, не Минерва, а Фортуна, именно она, богиня удачи, прошелестела сейчас своими золотыми крыльями над его головой.
— В чем дело? — спросил Траян, вновь переводя глаза на поле сражения.
С этими словами Траян взлетел на коне на берег, и на лед замерзшей реки устремилась вторая волна варваров. Павлин был готов поклясться, что слышал, как затрещал, а затем треснул лед. В следующее мгновение несколько германцев с криками провалились в ледяную воду.
— Солнце, — прошептал Траян. — Это все солнце.
Улюлюканье прекратилось, а сами германцы отпрянули назад и перегруппировались, затем снова устремились вперед. Увы, громадная полоса льда проломилась, и первые ряды полетели в ледяные воды Рейна. Вопли тонущих заглушали собой даже шум битвы. Голова, укрепленная на щите предводителя, оторвалась и теперь, осклабясь, подпрыгивала на волнах, глядя, как сам варвар в медвежьей шкуре барахтается в воде, отчаянно цепляясь за свою жизнь. Впрочем, барахтался он недолго.
— Дайте сигнал к атаке! — обернулся Павлин к своим адъютантам. — Отбросьте Сатурнина назад к холму!
Адъютанты тотчас бросились выполнять его приказ, и вскоре трубачи уже трубили наступление. Траян испустил ликующий клич. Павлин свесился с седла и схватил с земли копье.
— Ну что, вперед? — довольно осклабился Траян.
— Вы живы! — Липпий вытер круглое лицо. Был он еще довольно молод, но на вид ему можно было дать на десяток лет больше. Вокруг него суетились женщины и рабы, с ужасом глядя на двух перепачканных в крови и грязи легионеров. — Клянусь Юпитером, я уже решил, что вы погибли, усмиряя мятежников. Что ты скажешь мне, Павлин?
— Он слегка не в себе, — шепнул Липпию Траян поверх головы своего друга. — Он теперь у нас герой.
Павлин растерянно заморгал. Он действительно был жив, во что с трудом верилось.
— Мечом проложил себе путь вверх по холму к самому Сатурнину…
Несколько юных придворных Липпия с усмешкой посмотрели на новоявленного героя и, похлопав его по плечу, осыпали поздравлениями. Павлин смотрел сквозь них невидящим взглядом. Мысли его по-прежнему были сосредоточены на Сатурнине. Мысли солдата, мечтавшего о настоящем бое, а не схватке с дикими варварами… Что греха таить, он мечтал собственноручно сразить Сатурнина, однако взлетев на скакуне на холм, увидел, что тот уже сам вспорол себе живот. Сатурнин смотрел на него налитыми кровью глазами. Жизнь постепенно покидала его. Павлин пронзил ему сердце мечом, чтобы положить конец его страданиям. Когда Траян догнал своего командира, тот сидел, прислонившись спиной к дереву, а рядом с ним лежала отсеченная голова Сатурнина.
— От четырнадцатого ничего не осталось, одиннадцатый обратился в бегство. Им крупно повезет, если дело закончится для них одной лишь децимацией.
Павлин поймал себя на мысли, что с удовольствием поменялся бы с Сатурнином местами. Ведь теперь ему вновь не избежать встречи с отцом и Лепидой, так что эта битва не изменила для него ничего. Все осталось так, как было, и лишь в гуще сражения он смог на какое-то время выбросить свои тревоги из головы.
— Мы преследовали варваров по пятам, и редко кому из них удалось выбраться из реки живым…
Полная женщина в розовом платье со стоном упала в обморок. Вокруг нее тотчас засуетились рабы, пытаясь привести ее в чувство. Павлин стоял, незряче уставившись на ее полные белые ноги, пока Траян не схватил ее за руку и не оттащил прочь. Остаток дня — вернее, остаток недели — пролетел мимо него словно вихрь. Траян бросился добивать мятежные легионы. Порубленное на куски тело Сатурнина было выставлено на всеобщее обозрение рядом с дворцом наместника и брошено гнить в назидание всем нынешним и будущим узурпаторам. Везде, где Траян и Павлин гарцевали на своих скакунах, их встречало всеобщее ликование: мирные жители им рукоплескали, легионеры одобрительно стучали щитами.
— Хватит морщиться, — усмехнулся Траян. — Мы с тобой герои.
— Может, прекратишь напоминать мне об этом? — огрызнулся Павлин.
— Смешной ты человек, Норбан. Большинство людей мечтают о славе героев.
— Это ты герой. В отличие от себя я так и представляю тебя увенчанным венком и восседающим за чиновничьим столом.
— Чтобы перекладывал бумажки? — возмущенно воскликнул Траян. — Я по натуре солдат, и этим все сказано. Давай-ка мы с тобой лучше как следует напьемся по этому поводу и поищем себе девок. Или ты предпочитаешь мальчиков?
— Нет, лучше девок, — поспешил ответить Павлин.
— Послушай мой совет, — расплылся в улыбке Траян. — Может, девки и симпатичнее, но с мальчиками меньше головной боли. Не думаю, чтобы тебе захотелось…
— Нет, это не в моем вкусе, — ответил Павлин. Он уже привык к подобного рода предложениям. Добрая половина его друзей и большинство вышестоящих офицеров предпочитали своим женам юных легионеров.
— Жаль. А как насчет того, чтобы напиться?
— Вот это другое дело.
Вскоре к нему пришло письмо от отца, отправленное срочным гонцом. Один небольшой кусок пергамента, а на нем — всего одна строчка.
«Молодец, мой мальчик. Марк»
— Возненавидь меня! — крикнул он, пробежав глазами короткое послание. — Отрекись от меня, но только не поздравляй!
Он смял письмо и швырнул его в дальний угол комнаты, правда, потом провел целый час, вновь его разглаживая. Лепида не написала ни строчки.
А спустя неделю со своими легионами в Германию вошел император.
— Значит, это ты, Норбан? — Павлин внутренне поежился под пристальным взглядом Домициана. Сам он старался смотреть куда-то мимо императорского уха. — Я знаю твоего отца. Жду тебя у себя на пиру через два часа. — Затем император повернулся к Липпию. — Приведи предателей. Мы разберемся с ними прямо сейчас.
— Всех до одного, господин и бог?
— Центурионов. Рядовые легионеры будут подвергнуты децимации, но с ней можно подождать до утра. Центурионы будут казнены сегодня, — приказал Домициан и, колыхнув пурпурной мантией, развернулся и быстро зашагал через двор. Вдогонку ему бросились двенадцать преторианцев, шестеро секретарей, несколько генералов, горстка рабов и Липпий Норбан.
— Вот как наш цезарь поступает с предателями, — одобрительно произнес Траян и даже присвистнул. — Скажу честно, мне это нравится.
— Он никогда не устраивает полевых судов, — понизив голос, добавил Павлин.
— А кому они нужны? Можно подумать, мы не знаем зачинщиков. — Траян щелчком стряхнул налипшую грязь с плеча Павлина. — Иди-ка лучше приведи себя в порядок, красавчик. Как-никак, ты приглашен на пир с самым могущественным человеком мира.
Самый могущественный человек мира едва удостоил его взглядом, когда Павлин предстал перед его очами и красиво отсалютовал.
— Норбан, — равнодушно отозвался Домициан. — Садись и ешь. Пища простая, солдатская. В походах я другой не ем.
Павлин сел, обмотал плащ вокруг ног, и наполнил себе тарелку. Минут десять он ел в молчании; в течение этого времени император поглощал пищу, в промежутках диктовал письмо паре секретарей и успел пробежать глазами стопку корреспонденции. Черствый солдатский хлеб и простая солдатская похлебка смотрелись довольно странно в золотых тарелках Липпия. Пока Домициан, — в кожаных доспехах и грубой тунике, — сидя на шелковых подушках, быстро просмотрел десяток свитков со старыми документами, Павлин исподтишка наблюдал за ним. Перед ним был тот, кого его отец считал выдающимся полководцем и талантливым администратором. Впрочем, этот же самый человек, не дрогнув, отправлял на казнь целые легионы, но был добр к своей сумасшедшей племяннице. Человек, о тайных пороках которого ходили самые невероятные слухи, человек, который с интересом посматривал на Лепиду. И вот теперь этот человек сидел перед ним в походной палатке, облаченный в солдатскую тунику, в отличие от секретарей в шелковых одеждах, что роем вились вокруг него.
Домициан на мгновение оторвал взгляд от бумаг. Павлин тотчас залился краской и принялся за еду. Увы, слишком поздно.
— Итак, Норбан, — голос Домициана заставил его поднять глаза. — Ты трибун моей преторианской гвардии.
— Да, цезарь. До этого я служил в Брундизии.
— Ммм. — Домициан подозвал секретаря и быстро продиктовал какое-то письмо. — Под командованием центуриона Денса?
— Да, цезарь.
Интересно, откуда ему это известно, удивился про себя Павлин.
— Я знаю всех командиров моих преторианцев, — пояснил Домициан, как будто прочитав его мысли. У Домициана было широкое румяное лицо добродушного лавочника, однако Павлин мог поклясться, что темные глаза буквально буравили его взглядом. — Твой отец сенатор Марк Вибий Август Норбан.
— Да, цезарь.
— И ты его единственный сын?
— У меня есть сестра, сейчас ей четыре года и она обожает абрикосы, — Павлин на миг закрыл глаза. — К чему я это сказал?
— Потому что ты нервничаешь. — Неожиданно лицо Домициана озарилось улыбкой. — Мы, цезари, странно влияем на людей. Выпей лучше вина.
Павлин с благодарностью наполнил бокал.
— Итак, Германия не основное место твоей службы, — произнес император, перебирая какие-то документы.
— Нет, цезарь. Я был в отпуске. Мой родственник Липпий, невзирая на мои возражения, назначил меня командиром легиона.
— Невзирая на возражения? — И вновь этот буравящий взгляд.
— Не думаю, что моя кандидатура была самой удачной. Я ничего не знал ни о Германии, ни о Сатурнине, ни о его легионах. Я бы ничего не добился, не будь рядом со мной легата Марка Ульпия Траяна. Я позволю себе отозваться о нем в самых похвальных словах.
— Он будет вознагражден за его труды. Но командовал легионами ты?
— Я бы не назвал это настоящим сражением. Если бы Рейн не оттаял…
— Мне не нравится слово «если». — Император расплавил в пламени свечи немного воска. — Если бы Рейн не оттаял… что из этого? Фортуна одарила тебя своей благосклонностью. Ты победил.
— Повторения подвига не будет. — Павлин сам не знал, как эта фраза сорвалась с его языка. — То есть я хочу сказать…
Домициан расхохотался.
— То есть ты отказываешься от награды, предпочитая ей наказание?
— Нет, цезарь.
— Я слышал, будто ты собственноручно убил Сатурнина. — Домициан поднял целую груду писем, а секретари с еще большим усердием налегли на перья.
— Он покончил с собой.
— Тебе ничто не мешало приписать подвиг себе. Никто не узнал бы.
Павлин пожал плечами.
— Кстати, не хочешь как-нибудь сразиться со мной? Думаю, мне будет полезно поупражняться.
— Что, цезарь?
— Да-да, я владею мечом. — Императорское перо описало в воздухе причудливую петлю, а затем опустилось на очередное письмо, чтобы вывести подпись. — Но я давно толком не упражнялся в этом искусстве, потому что все мои противники тотчас уступают мне без боя. Дурацкая привычка, которая страшно меня раздражает. Скажи, трибун Норбан, ты позволишь мне выиграть поединок?
— Нет…
— Я так и думал. — Домициан подцепил ногтем большого пальца печать на очередном письме и пробежал его глазами. — Итак, ты сделал за меня важное дело — разгромил Сатурнина и его легионы. И за это я тебе благодарен…
— Спасибо, цезарь. Я всегда готов служить тебе.
— Это был не слишком крупный мятеж, и сомневаюсь, чтобы он зашел слишком далеко. Но ты избавил меня от необходимости самому усмирять мятежную провинцию. И все же я не устрою в честь тебя триумфа. Ибо мятежи, даже подавленные, не стоят того, чтобы из их разгрома делать событие. — Домициан на минуту умолк, чтобы прочесть очередное письмо. — Таким образом, я оказался в долгу перед тем, кого я не могу по заслугам вознаградить. Согласись, это довольно забавно.
И вновь молчание. Домициан оторвался от писем и посмотрел Павлину в глаза. Тот выдержал пристальный взгляд темных глаз. Зато он не знал, куда ему деть руки.
Домициан обвел глазами слуг, стражу, секретарей.
— Оставьте нас.
Все тотчас безропотно удалились.
— В следующем году я хочу сделать твоего родственника Липпия консулом. Он круглый дурак, однако дураки, будучи консулами, как правило, довольно безвредны. — Домициан впервые за вечер опустил перо, положил на стол руки и, побарабанив пальцами, задумался. — Командир Траян получит новое назначение туда, где будут востребованы его военные таланты. Я привык вознаграждать верных мне людей. Мне они нужны рядом, особенно на тот случай, когда какой-нибудь заговорщик покусится на мою жизнь.
Павлину тотчас вспомнились разговоры в полевой кухне.
Император боится собственной тени…
— Я знаю, что про меня говорят, мол, я боюсь даже собственной тени. — Домициан вновь прочел мысли Павлина. Тот даже подпрыгнул. — Но поскольку половина императоров умерли от ножа, я не настолько глуп, чтобы не допускать такой возможности в отношении себя самого. Быть императором — опасная работа. — Домициан в задумчивости посмотрел на свои пальцы. — Я не требую жалости к себе… Но порой так устаешь от всего…
Павлин неожиданно для себя проникся сочувствием к собеседнику.
— Я не завидую тебе, цезарь, — честно признался он. — Люди могут подумать, будто я мечтаю о твоем месте лишь потому, что мой собственный прадед был императором. Но я бы ни за что не согласился бы им стать.
Домициан пристально посмотрел на него и открыл рот, чтобы что-то сказать, однако тотчас закрыл, а в глазах его вновь возникло задумчивое выражение.
— И знаешь, что, — медленно произнес он, — я тебе верю.
Они обменялись взглядами — скорее из чистого любопытства.
Домициан кивнул и потянулся за куском пергамента. Что-то быстро набросав, он поставил внизу императорскую печать и через стол подтолкнул документ к Павлину.
Тот быстро пробежал глазами написанное:
«…тем самым мы признаем трибуна Павлина Вибия Августа Норбана… в знак признания его верности и преданности… и возлагаем на него звание и обязанности…»
Павлин растерянно заморгал. Вернулся к началу документа, внимательно перечитал еще раз.
«…и возлагаем на него звание и обязанности…»
Он оторвал глаза от императорского приказа.
— Цезарь, это слишком высокая честь…
— Мне виднее.
— Но ведь, наверняка, есть другие, у кого…
— Разумеется, есть другие, у кого больше прав на этот пост. И они возненавидят тебя за то, что ты перепрыгнул через их головы, и попытаются на каждом шагу ставить тебе палки в колеса. Безусловно, стоит тебе принять этот пост, как ты наживешь себе сотню новых врагов. Скажи, ты бы хотел им стать?
— Я… конечно бы хотел, но…
— Тогда почему ты пытаешься меня отговорить?
— Я не пытаюсь тебя отговорить, цезарь. Просто мне кажется…
В темных глазах Домициана читалась усмешка.
— Скажи, тебе когда-нибудь говорили, что императору не перечат?
Павлин открыл рот и снова беззвучно закрыл, словно рыба. В ушах стоял оглушительный звон.
— Я не хотел перечить тебе, цезарь. Я просто…
— Отлично, — Домициан протянул руку. — Прими мои поздравления, префект.
Лепида
Я искренне обрадовалась, когда мятеж Сатурнина в Германии сошел на нет. Потому что император из него был бы никакой. Все знали о его любви к мальчикам, и что бы в таком случае оставалось делать мне? Так что я искренне обрадовалась вместе со всем Римом, когда до нас дошло известие, что мятежники разгромлены. Ведь в этом для меня имелась небольшая личная выгода. Домициан вскоре вернется в столицу. Ради такого события я заранее обзавелась новым огненно-алым платьем, украшенным золотой вышивкой, которое обязательно привлечет ко мне взгляд императора.
— Подумать только, твой сын герой дня! — щебетала я за ужином, обращаясь к мужу. Вообще-то мы с ним теперь почти не виделись, каждый обитал в своем крыле дома, и встречались лишь ради соблюдения приличий. Я уже начала подумывать о том, чтобы купить свой собственный дом в более приличной части города. Сколько можно обитать на Капитолийском холме.
— Да, наш Павлин герой, — пискнула Сабина.
— Неправда, моя милая, никакой он не герой. Павлин самый обыкновенный червяк, который только изображает из себя героя, — я одарила Марка улыбкой. — Яблоко от яблони недалеко падает, не так ли?
Муж посмотрел сквозь меня, как будто я была стеклянная. Кроме того, он не стал сообщать мне главную новость. Я узнала ее от Гнея Апика, моего последнего любовника.
— Префект претория? — Я подпрыгнула в постели как ужаленная. — Император назначил Павлина префектом претория?
— Удивительно, не правда ли? Этот мальчишка не намного старше тебя, — Гней ущипнул меня за грудь, — причем до этого он служил лишь трибуном. Да, высокий прыжок для такого юнца, как он!
Префект претория. Один из самых важных постов во всей империи. Глаза и уши самого императора. Верный сторожевой пес, шпион, командующий личной гвардией императора… Неожиданно Павлин сделался одной из самых влиятельных фигур в Риме.
— Марк, почему ты мне не сказал? — потребовала я ответа у мужа, когда вернулась домой.
Этот вредный старикашка даже не поднял глаз от своих бумаг.
— Думаю, ты уже сама все узнала от своих любовников, не от одного, так от другого.
Я надула губки и, громко топая, вышла вон. Как он смеет держать меня в неведении? Новость, подобная этой, способна все перевернуть. Я не собиралась держать Павлина возле себя на привязи после его возвращения в Рим. Однако теперь все сложилось иначе. Потому что теперь он правая рука императора. Он может каждую неделю доставать для меня приглашения в императорский дворец! Если, конечно, он не забыл меня. Впрочем, вряд ли. А если даже забыл, я ему быстро о себе напомню. Может, стоит написать ему письмо? Прямо сейчас?
А может, мне стоит выйти за него замуж? Интересно, возможно ли такое? Как только речь заходит о кровосмешении, в Риме вытаскивают на свет какие-то нудные, допотопные законы!
Мой дорогой Павлин…
ЧАСТЬ 3
ЮЛИЯ
В храме Весты
Почему-то на алтаре пылают два языка пламени. В глазах у меня двоится. Голод. Он подтачивает мои силы. От него в голове возникают видения. Я словно на тысячи миль улетаю прочь от тела, которое так ненавижу.
— Ты стала такая худая, Юлия, — говорит он мне иногда и хмурит брови. Что ж, даже цезарь, и тот не способен иметь все, что захочет. Я ем, когда он мне приказывает, но стоит ему уйти, как я иду в уборную, и меня там рвет. Я не ела уже неделю. Мое тело вскоре исчезнет, превратится в прах.
Моя сводная сестра Флавия пишет мне письма. Даже из такого далекого места, как Сирия, где наместником ее муж. До нее дошли слухи, и теперь она тоже переполошилась. «Дорогая, до меня доходят в высшей степени нелепые слухи, — написала она мне своим размашистым почерком. — Но люди обожают пересуды. Не иначе как наш дядя вновь поднял налоги, коль о нем говорят такие вещи. Но довольно о сплетнях. Как ты себя чувствуешь, Юстина? В последних письмах ты что-то на себя не похожа…».
Юстина. Так ласкового называл меня в детстве отец. Юстина, потому что я была серьезна, как судья. Никто больше не называет меня Юстиной, никто, кроме Флавии, которая сейчас от меня за тысячи миль, и ей лучше не переживать из-за меня.
А вот Марк переживает, что явно не дает ему покоя. У него такой несчастный вид, и, тем не менее он находит время, чтобы переживать за меня.
—
Съешь хоть что-нибудь, Юлия. Поддержи свои силы.
Он считает, что я сошла с ума.
—
О боги, дитя мое, как ты исхудала, — ужаснулась, глядя на меня, императрица на прошлой неделе. Ее отношение ко мне ничуть не переменилось, императрица — само спокойствие и учтивость. В ее глазах читается нечто вроде сострадания ко мне.
Это из-за дяди? Или она тоже считает меня сумасшедшей?
Когда он уехал в Германию, я немного ела. Но сейчас он возвращается в Рим. Я получила письмо после того, как Сатурнин был убит, и то, что в нем было написано, вмиг согнало последнюю плоть с моих костей. Правда, когда я перечитала письмо, то не нашла в нем ничего, кроме грубоватых комплиментов. Или это я все придумала? Образы в моей голове, они то возникают, то пропадают. Я закрываю глаза, и единственное, что возникает перед моим мысленным взором, — это пламя.
Веста, богиня домашнего очага, попроси Судьбу оборвать нить моей жизни. Потому что голод забирает ее слишком медленно.
Глава 14
Тея
Брундизий, 90 год н. э.
Мой хозяин дороден, лыс, улыбчив и весел. Однако с обеих сторон его рта залегли две глубокие складки, которые, стоит ему рассердиться, становятся еще глубже. И тогда он из безобидного претора превращается в разгневанного судию. Когда я сегодня предстала перед очами своего господина, возлежавшего в залитом солнцем атрие на серебряном ложе, эти две складки были в два раза глубже обычного. Похоже, меня ждет неприятный разговор, решила я.
В нескольких коротких фразах он сказал мне все, что хотел.
— Прости меня, господин, — негромко произнесла я. — Этого больше не произойдет.
— Ты уже не раз говорила это, Тея. Тем не менее все повторяется, раз за разом.
— На этот раз я буду осмотрительнее, мой господин. Обещаю тебе.
— Я потерял огромные деньги. Более того, если бы все сводилось только к деньгам…
— Я знаю.
Я еще ни разу не видела его в таком гневе и внутренне съежилась.
— Надеюсь, ты представляешь, какую ценность представляет двойная ассирийская флейта? — Ларций смерил меня грозным взглядом. — Мне привезли ее из самих Фив! А сколько сестерциев мне пришлось выложить этому прохиндею-торговцу, разрази его гром! И где теперь моя двойная ассирийская флейта? Разбита в дребезги твоим несносным мальчишкой!
— Он играл в гладиатора, — робко заступилась я за сына.
— Я не знаю, куда мне деваться от этих его игр, — сердито возразил Ларций. — И дело не только во флейте. Вчера он разбил одному из моих певцов нос!
— Он не нарочно. Просто… он был слишком увлечен игрой.
Должно быть, он меня ненавидит, подумала я, однако тотчас постаралась отогнать от себя эту мысль.
— Он ждет за дверью, чтобы извиниться, господин. Ему стыдно, что все так получилось.
В следующее мгновение в атрий вошел мой сын. Он смочил водой непослушные вихры и пригладил их на лоб, от него за милю пахло мылом, а еще он переоделся в самую целую из своих туник. Увы, вид у него был не слишком пристыженный, на что лично я очень надеялась, однако хорошо уже то, что пока с его уст не сорвалось никакой дерзости.
— Верцингеторикс. — Я подтолкнула сына вперед, чтобы тот предстал перед очами Ларция. — Надеюсь, тебе есть, что сказать моему господину.
Викс принялся водить босой ногой по мозаике пола.
— Простите меня.
— За что? — уточнил Ларций.
— Не знаю.
— За флейту?
— Я уже попросил прощения.
— А как же драка с хористом? — подсказала я.
— С этим слезливым нытиком? — Мой сын презрительно поморщил нос. — За него я прощения просить не буду.
— Верцингеторикс! — прошипела я.
— Все понятно, — произнес Ларций. — Ступай отсюда, несносный мальчишка. И только попробуй хоть что-нибудь разбить или сломать!
Второй раз просить моего сына не пришлось. Он тотчас юркнул прочь из атрия.
— Простите меня, господин, — вздохнула я. — Обещаю вам, что устрою ему хорошую трепку.
— Сомневаюсь, что от этого будет польза, однако возражать не стану. Он уменьшает размер твоего наследства.
— Моего наследства?
На мгновение хмурое лицо Ларция осветила улыбка, и он указал мне на табурет рядом с его ложем.
— Это еще одна причина, почему я вызвал тебя. Я изменил завещание, и теперь ты включена в него.
— Ты изменил завещание?
— После моей смерти тебе причитается небольшая сумма. Твои деньги — неужели ты думала, что я прикарманю все, что ты заработала? Нет, я вложил их в дело от твоего имени. Правда, я буду вынужден вычесть из этой суммы ущерб, нанесенный мне юным Виксом. После моей смерти он получит вольную вместе с тобой, — слегка неуверенным тоном добавил Ларций. — И я даже рад, что меня не будет и я не увижу весь тот хаос и разрушения, какие он учинит этому миру.
Ларций улыбнулся. Я же бросилась к нему и прижалась щекой к его пухлой руке.
— Спасибо тебе, о Ларций, спасибо! Ты самый добрый в мире хозяин!
— Да-да, иди и устрой хорошую взбучку своему сорванцу, после чего можешь снова упражняться в своих руладах. Я бы хотел, наконец, услышать от тебя более гладкое исполнение последнего куплета «Серебряного моря».
— Да-да, я непременно поупражняюсь.
С этими словами я поклонилась и едва ли не вприпрыжку покинула атрий. После его смерти я буду свободна! Нет, конечно, пусть Ларций еще проживет долгие годы, но, будь славен, о Господь, в один прекрасный день, когда Викс подрастет, мы с ним оба будем свободны! Я имею немного денег, мы сможем начать новую жизнь. Я смогу зарабатывать сама, петь то, что я хочу, и перед теми, кто мне нравится, оставаться дома, если у меня не будет настроения выступать…
В доме Ларция царила постоянная, но веселая суматоха. Здесь вечно суетились рабы, его знаменитые хористы, флейтисты и кифареды и весь этот домашний балаган удавалось поддерживать в порядке лишь благодаря стараниям Пенелопы, простушки-вольноотпущенницы, которая любила его, как жена.
Заметив мое появление, Пенелопа схватила меня за руку. По ее лицу я тотчас заподозрила неладное.
— Тея, Викса вновь застукали за игрой в кости. На этот раз во дворе, в компании нищих…
Что мне оставалось? Не обращая на жуткий вой, что вырвался из глотки моего сына, я схватила его за ухо и потащила в свою милую уютную комнатку на первом этаже.
— Я ничего такого не сделал! — вопил мой сын. — Это был старый легионер, и он сказал, что если я выиграю у него в кости, он покажет мне свой меч! Точно такой, каким сражаются гладиаторы! Можно мне…
— Нет, никаких мечей, — я отвесила ему затрещину, и он отлетел вперед по всему коридору. При этом он умудрился изобразить, будто наносит удар мечом по каждой мраморной статуе, которая оказывалась у него на пути. Я подтолкнула его вперед.
— А как ты извинялся перед Ларцием? Ты подумал о том, что в один прекрасный день его терпение может лопнуть, и тогда он продаст тебя?
— Ты хочешь сказать, что он продаст меня в гладиаторскую школу? — Викс прижал ободранный кулак к здоровому. — Тогда я научусь рубиться по-настоящему! Я их всех покромсаю на куски. Я…
— Сейчас ты идешь ко мне в комнату, а вовсе не в гладиаторскую школу, — схватив его за рыжие вихры, я поволокла дальше по коридору.
Мой сын тотчас выдал несколько новых проклятий, которые принес с пристани, и я была вынуждена отвесить ему новую оплеуху. Наконец я затащила его к себе. В этом году Викс решил, что он уже слишком взрослый, чтобы спать в одной комнате с матерью, и теперь спал вместе с хористами на чердаке. Не думаю, чтобы хористы были от этого в восторге. Мой сын был рослым для своих семи лет, и его крепкое, загорелое тело было сплошь покрыто шрамами, полученными в драке с главным местным драчуном, во время игры в Юлия Цезаря и галлов, во время трепки, которую ему задал хозяин харчевни, когда застукал его за кражей пива. Мой сын Верцингеторикс, или просто Викс. Я хотела дать ему… скажем так, другое имя, но его мне было больно произносить. Что ж, пусть будет Викс, решила я.
Я бы
навсегда его потеряла, не выкупи меня Ларций из портового лупанария. Проституткам не разрешалось оставлять при себе детей. Хозяин заведения наверняка бы велел мне бросить его где-нибудь в горах на верную смерть вместе с другими нежеланными младенцами, невзирая на мои слезы и самые униженные мольбы. Мой сын умер бы без материнской груди на продуваемом всеми ветрами склоне горы всего несколько дней от роду. При этой мысли мне до сих пор становилось не по себе.
— Ты собираешься устроить мне трепку? — спросил он, заметив задумчивость в моих глазах.
— Не сегодня. Но до конца дня будешь сидеть в моей комнате. И никакого ужина.
Викс с довольной улыбкой завалился на мою постель. Разумеется, он не знал, кто его отец — дети рабынь редко имели законных отцов. И ему было невдомек, что отец его — самый знаменитый в Риме гладиатор. Думаю, он пришел бы в восторг, скажи я ему, потому что сын мой мечтал о гладиаторской славе, и подобно тому, как мотылек летит на пламя свечи, моего сына сызмальства манило и притягивало к себе оружие. Слава богу, в Брундизии не было арены, что являлось вечным источником огорчений для моего сына. И скажи я ему, что его отец — это Арий Варвар, он точно бы при первой же возможности сбежал от меня в Рим и пробрался бы в Колизей, даже если для этого ему пришлось бы весь путь прятаться от злых собак. Но я никогда этого не сделаю, ради Ария. Пусть он думает, что между нами все кончено. Теперь нас разделяли двести миль, и я не стала ничего ему сообщать о том, что у него подрастает сын и что этот рыжий семилетний сорванец — точная его копия. Я ничего ему не стала сообщать, потому что иногда лучше ничего не знать.
Рим
— Наумахия! — Галлий быстро набросал цифры на восковой табличке. — Морское сражение для грядущих игр! Представляю себе, какие толпы оно соберет! Скажи, ты когда-нибудь видел потешный морской бой? На арену Колизея накачивают водой из Тибра и спускают на нее корабли, на которых вместо матросов — гладиаторы! Кстати, ты умеешь плавать?
Арий осушил последние капли вина в своей кружке.
— Умею.
— Отлично. А не то я насмотрелся на гладиаторов, которые не умеют. Стоит такому свалиться в воду, как он сразу же идет на дно. Мне бы не хотелось, чтобы то же самое случилось и с тобой.
Арий выругался себе под нос и встал из-за стола.
— Иди лучше займись упражнениями! — крикнул ему вслед Галлий. — Ты, приятель, уже не молод, и тебе стоит поддерживать себя в форме.
В новом дворе для упражнений, сооруженном на выигранные им деньги, Арий провел четыре тренировочных поединка. К концу четвертого ему уже не хватило дыхания. Верно, он уже далеко не молод. Сколько ему? Тридцать три? Или тридцать пять? Сколько бы ни было, но каждое утро он просыпается, чувствуя себя полумертвым от усталости, избитым и искалеченным, что порой ему не хватает сил подняться с постели. Тридцать пять лет, восемь из которых отданы арене. Что сказать, долгая карьера, примерно в три раза длиннее отпущенного обычному гладиатору срока. Его поединки планировались на месяцы вперед, его деньги — вернее, деньги Галлия — окупались в несколько раз. Куда бы он ни шел, его повсюду встречало ликование толпы, его приглашали на пиры во дворцы патрициев, его имя знали все — и те, кто сражался на арене, и те, кто с замиранием сердца следил с трибун за поединком. Говорили, что такого великого гладиатора, как он, Рим еще не знал.
«Восемь лет, — тупо подумал Арий. — Восемь лет».
— Еще разок? — с уважением в голосе спросил наставник.
— Нет.
— Спорим, тебе слабо сразиться еще раз, дикарь? — раздался откуда-то со скамеек противный голосок. — Стареешь, Варвар, стареешь.
— Я еще не настолько стар, и одним махом размажу тебя по стенке, карлик.
— Лучше быть карликом, чем дураком. — Геркулес показал неприличный жест. Голубоглазый, бородатый, острый на язык коротыш достигал Арию лишь до пояса. Обычно его комические номера предваряли поединки с участием знаменитого Варвара.
Арий схватил полотенце и вытер потное лицо. Геркулес неодобрительно наблюдал за ним.
— Да ты, я смотрю, совсем запыхался.
— Я просто пьян.
— Ты всегда пьян. Ты как сито. Если хочешь, на, выпей еще. Разбавлено, что ослиная моча, но силенок точно добавит.
И друзья выпили вина. Какое-то время оба не проронили ни слова. Арий прислонился к стене и закрыл глаза. На Геркулесе была дурацкая шляпа с полями, которую он надвинул почти на самые глаза, а ноги его болтались, не доставая земли. Все знали, что друзей Варвара и карлика было не разлить водой.
— Эй, привет! — помнится, крикнул ему Геркулес год назад своим странным, с хрипотцой, голосом. — Я тут новенький. А ты, должно быть, и есть то самое мясо.
— Кто-кто? — не понял Арий.
— То самое мясо, которым потчуют толпу. А я, скажем так, закуска к главному блюду.
С соседнего стола кто-то неодобрительно шикнул.
— Ты дважды подумай, кого ты называешь мясом, малыш.
— А кто он такой, как не кусок мяса? — спокойно парировал Геркулес.
— А ты, я смотрю, болтун.
— Я работал на арене, я колесил с разъездным цирком по провинциям и потому привык давать представления, — ответил карлик. — Номер всегда один и тот же: пусть народ зубоскалит, если ему нравится, главное, чтобы тебе самому при этом не выбили зубы. Как ты сам только что сказал, я болтун. И если бедного карлика кто-то собирается отлупить, — с этими словами Геркулес отвесил Арию церемонный поклон, — то пусть уж это сделает самый главный мастер в этом деле.
Арий поймал себя на том, что улыбается, пусть даже улыбка эта была слегка усталой. Он подтолкнул карлику свою кружку с вином.
— Не хочешь напиться?
И они оба тогда вволю напились.
Геркулес выглянул из-под полей шляпы.
— И что там слышно насчет наумахии, морского сражения? Тебя не иначе как сделают Всемогущим Нептуном, меня же заставят изображать тебя. Меня всегда заставляют изображать твою персону. Тебе, конечно, далеко до меня по части красоты, зато я умею изображать твою насупленную физиономию. К тому же, — хитро добавил Геркулес, — мой член много больше твоего.
— Ты в этом уверен, карлик?
— Боги всегда компенсируют карликам их малый рост, — важно произнес Геркулес. — Те дюймы, которых нам не хватает наверху, спрятаны у нас ниже пояса.
Арий улыбнулся.
— Если я Нептун, то кто такой ты?
— Головастик. Головастики, мой свирепый друг, обычно спасаются бегством, виляя хвостом, когда вокруг них пожирают более крупную рыбу.
— Понятно.
— Может, на этот раз настал твой черед быть съеденным, — тем временем весело продолжал карлик. — Думаю, толпа жаждет увидеть это зрелище собственными глазами. Потому что единственное, чего ты еще не сделал ей на потеху, так это не умер.
— Понятно.
К ним подошла, ковыляя на трех лапах, собака Ария и, свернувшись калачиком у его ног, принялась жевать ремешок сандалий.
— Что за бесполезная псина, — не удержался от комментария Геркулес. — Буквально вчера сжевала мою перчатку. Можно ей дать пинка?
— Неужели Геркулес опустится до пинков бедной сучке?
— Но ведь я же не Геркулес. Он был болван, с какой стороны не смотреть. Но зато, согласись, какое удачное имя для арены! Скажи, а как звали тебя до того, как ты стал Арием Варваром?
Арий улыбнулся.
— Эйриг.
— Эйриг?
— Эйриг.
— Арий звучит лучше, — произнес Геркулес. — Эйриг! О боги, ну и имечко!
— Я сам его уже почти забыл.
— И это правильно, Эйриг, — усмехнулся Геркулес, допивая остатки вина. — Брр, что за бурда! Давай-ка лучше отправимся в «Голубую наяду» и напьемся там.
— А ты снимешь себе девку, которая поверит твоим россказням про карликов и дополнительные дюймы у них ниже пояса.
— Предлагаешь померяться членами, Варвар? Давай, обнажай свой меч, а я обнажу свой.
(обратно)
(обратно)
Глава 15
Лепида
Что за тоска!
Я не хотела видеть среди участников наумахии Варвара, но эти игры были главными в этом сезоне, и мне ничего не оставалось, как отправиться на них. И я отправилась. В белом шелковом платье, в золотом ожерелье — не каком-нибудь, а из знаменитого египетского золота! — с веером из павлиньих перьев в руках, сопровождаемая четверкой марокканских рабов, которые шли за мной следом. День обещал быть солнечным и жарким. Колизей был набит до отказа. Толпы криками встречали гладиаторов, приветствовали пленных германцев, ликовали при жертвоприношении Юпитеру белых быков и черных — богам подземного царства. Император, вместе с новым префектом претория по правую руку, удостоился самых бурных рукоплесканий. В императорской ложе Павлин занял почетное место справа от императора. Я в задумчивости не сводила с него глаз. С момента нашей последней встречи прошло полтора года. За время своего отсутствия он побывал в Германии, где подавил мятеж Сатурнина и потом еще какое-то время наводил там порядок. Да, полтора года, но он меня не забыл, судя по потоку косноязычных писем, то рабски преданных, то дышащих ненавистью. Да, сегодня я наблюдаю за играми из ложи Сульпициев (трое или четверо представителей этого семейства были моими любовниками), однако во время следующего праздника я точно буду восседать рядом с Павлином в императорской ложе.
При виде императора трибуны разразились криками и рукоплесканием. Но ничто — ничто! — не могло сравниться с тем безумием, которое разразилось на трибунах, когда на арену выскочил Варвар. Он в щепки разнес корабли и пролил море крови.
— Потопи, потопи его! — истошно вопил плебс, и Арий был готов выполнить любую его прихоть. Наумахию начали четыре корабля, два «спартанских», с синими парусами, и два «афинских», с красными. И вот уже один «афинский» полыхал ярким пламенем. Варвар же забрался повыше на мачту, наблюдая за тем, как его враги суетятся с ведрами воды.
— Берегись! — выкрикнул Публий Сульпиций рядом с моим ухом — он совершенно позабыл о моем присутствии, ибо глаза его были прикованы к «афинскому» кораблю, который тем временем перевернулся вверх днищем. Однако Арий восстановил равновесие и, схватив в кулак корабельные канаты и потрясая мечом, восседал на покосившейся мачте.
— Давай, давай! Всыпь им как следует!
О боги, как он был хорош! Еще как хорош! В эти дни я чаще посещала цирк, нежели игры. Мне было неприятно видеть, как толпа чествует того, кто однажды обрил меня налысо и ушел безнаказанным.
— Не понимаю, из-за чего весь этот шум? — сказала я нарочито громко, когда Арий, соскользнув с мачты, нырнул в пучину рукотворного моря. Увы, никто меня не слушал. К тому же мне и так было понятно, из-за чего весь этот шум.
Зажав меч в зубах, словно пират, Арий вынырнул с противоположной стороны «афинского» корабля. Ухватившись за одно весло, он подтянулся на палубу, сбросил себе на руку меч и двинулся дальше. И еще до того, как другие гладиаторы подплыли к «афинянам» на своей галере, те уже испуганно носились кругами по палубе, а их алые паруса полыхали не менее алым пламенем. Началась настоящая резня, однако вскоре показался Арий. У меня перехватило дыхание. В одном плече у него застрял обломок стрелы, половина волос обгорела, однако на фоне пылающих парусов и гор трупов он был похож на сошедшего на землю Марса. Он даже не обернулся на других гладиаторов. Прыгнув на мелководье арены, он вынырнул, подняв фонтан брызг, отвязал кольчужный рукав и бросил его в воду, и как ни в чем не бывало принялся смывать с лица сажу и кровь. Не обращая внимания на крики, испуганные вопли, искры и треск горящего дерева, он перевернулся на спину, словно мальчишка в пруду, и закачался на воде, подняв глаза к голубому небу.
У меня в глазах защипало. Я поняла, что вот-вот расплачусь. Желудок скрутило тугим узлом, руки дрожали. Рукоплескания, крики, пригоршни серебряных монет и лепестков роз — это безумие продолжалась около часа, пока Варвар спокойно покачивался на волнах посреди кровавого сражения, устало закрыв глаза. О боги, ни одного мужчину в своей жизни я не хотела так, как в эти минуты Варвара! Почему же тогда он не захотел меня? Почему предпочел Тею с ее грубыми руками и загорелым лицом? Почему не меня? Нет, я когда-нибудь вырву у него ответы на эти вопросы, вместе с его кишками! Я отомщу ему за себя!
— Рудий, ему положен рудий, и он его получит, причем из рук самого императора!
Варвар открыл глаза, вытряхнул из ушей воду и, прищурившись, посмотрел на императорскую ложу. Домициан уже поднялся с места и сделал шаг вперед.
Поскрипывая подошвами сандалий, преторианцы проводили его вверх по каменным ступеням. Женщины с визгом вскакивали с мест, чтобы смочить платки в лужах, которые он оставлял за собой. Он слышал слово «рудий». Деревянный меч? Интересно, когда он в последний раз мечтал о нем?
— Поклонись, — прошипел преторианец и подтолкнул его в спину тупым концом копья. Арий поднял голову, глядя на самого могущественного в мире человека.
— Итак, — Домициан буравил его взглядом, — насколько я понимаю, передо мной знаменитый Варвар.
— Да, цезарь.
Домициан слегка насупил брови.
— Господин и бог, — прошипел из-за спины преторианец.
— Господин и бог, — повторил Арий.
— Ты доблестно сражался, Варвар. Я наблюдаю твои поединки вот уже восемь лет, а это немалый срок. Скажи, почему ты до сих пор не повесил свой меч?
— Я раб, господин и бог.
— Говорят, рабы все до одного трусы. — Домициан вытянул руку и щелкнул пальцами. Тотчас с серебряным подносом откуда-то вышел раб. На подносе лежал…
Арий затаил дыхание.
— Рудий. — Домициан постучал пальцами по простому деревянному клинку. — Может, он достанется тебе. Давай, проверим? — И он снова щелкнул пальцами.
К нему тотчас подскочил бородатый толстяк, чей лысый череп украшал венчик кудрявых волос; облачен бородач был в одежды грека-вольноотпущенника.
— Несс, — произнес император. — Ты читаешь будущее с той же легкостью, с какой мы все читаем обычные буквы. Скажи, что ждет в будущем этого человека?
Арий перевел взгляд с астролога на рудий, а затем обратно на астролога.
Несс протянул вперед руку.
— Дай мне твою ладонь.
Арий выполнил его просьбу. Несс сделал вид, будто внимательно изучает линии его руки, потрогал мозоли и шрамы и произнес какую-то тарабарщину. После чего заглянул Арию в глаза.
— Интересно!
— Что интересно? — Домициан подался вперед. — Что ты там увидел?
— Я увидел, господин и бог… скажем так, это очень странная ладонь. Я вижу на ней три смерти.
— Три? — в унисон удивились Домициан и Арий.
— Три. Странно, не правда ли? У всех нас, как правило, только одна. Этот человек один раз погибнет в огне, один раз от меча, а в третий раз умрет в глубокой старости.
— Ты не видишь никакого рудия? — спросил Домициан. Его широкое лицо напоминало каменную маску.
— Ммм, — Несс быстро посмотрел на Ария. — Сказать по правде, нет.
Арий тотчас напрягся, как будто его ударили в солнечное сплетение. Казалось, дождь из лепестков роз застыл в воздухе.
— Жаль, — отозвался Домициан и откинулся к спинке золотого кресла. — Я бы сказал, что он его уже заработал. Унеси, — велел он рабу.
Арий потухшим взглядом проводил свою теперь уже несбыточную свободу.
— От огня, меча и в глубокой старости, — задумчиво произнес Домициан. — Как любопытно, однако! По-моему, это предсказание стоит того, чтобы его проверить на практике?
На какой-то момент их взгляды встретились.
— Ты готов меня убить? — спросили глаза императора.
— Я зарежу тебя, — ответили глаза Ария.
Префект Павлин Норбан посмотрел сначала на одного, затем на другого.
— Цезарь?
Но Домициан лишь махнул рукой.
— Отведите Варвара в его казармы и пошлите к нему моего личного лекаря, чтобы он помог залечить ему раны. Мы не станем гневить богов, лишая их его первой смерти. Смерти на арене.
— Ну как, теперь тебе легче? — спросил Геркулес и пригнулся, потому что в следующий миг над его головой пролетела кружка и со звоном ударилась о стену. — Не понимаю, из-за чего ты так переживаешь? Ты хотел умереть. Ты восемь лет только тем и занимался, что искал смерть. И вот теперь, похоже, ждать тебе осталось недолго.
Геркулес вновь был вынужден втянуть голову в плечи, потому что вслед за кружкой полетела миска.
— Прекрати швыряться посудой, ты, тупоголовый великан. Или ты не видишь, что твоя бедная псина уже трясется от страха.
Арий оскалился, мощной ручищей подхватил пса и удалился в свою каморку. Он со злостью захлопнул за собой дверь, и все равно до него доносились пьяные голоса.
— Мне теперь никогда от него не избавиться, — усмехнулся Галлий. Арий едва не придушил хозяина за то, что тот посмел насмехаться над предсказанием грека. — Если бы не хорошие деньги, какие он мне приносит… Так что да благословят боги нашего императора. Мне до конца своих дней не надо будет заботиться о пропитании.
— Отойди от моей двери, Галлий, — рявкнул Арий в замочную скважину. — Не то я оторву тебе голову!
— А по мне все эти предсказания чистой воды надувательство.
И вновь последовали месяцы кровопролитных поединков. Сражения, в которых участвовал Арий, уже давно проводились по накатанному сценарию, их даты назначались загодя, и он уже давно не выходил на арену чаще четырех раз в году. Теперь все это осталось в прошлом. Ему оставалось лишь одно: сражаться так, чтобы любой ценой ублажить императора. Он сражался, привязав левую руку за спину, обутый в одни лишь сандалии, сражался на раскаленных углях, сражался, хотя арена начинала идти кругом перед глазами от пролитой крови противников и собственных ран. Голый и безоружный, он сражался против набитой лучниками колесницы, вооруженный одним лишь ножом выходил на арену против свирепого льва, сражался верхом против пары разъяренных быков.
И до сих пор был жив.
Сколько раз толпа, как по команде затаив дыхание, в ужасе застывала на месте, пока он выползал из-под поверженного льва или перевернутой колесницы? Сколько раз он встречался взглядом с императором в поединке, который неизменно заканчивался ничьей?
Арий уже потерял счет.
— Что, ищешь собственную смерть? — как-то раз спросил у него Геркулес. — Согласен, все эти нововведения меня тоже не слишком вдохновляют, но только не надо всякий раз смотреть на него свирепым взглядом. Подумай хотя бы раз обо мне! Пока ты жив, мне ничего не грозит, как и твоей псине. Умри ты, и мы с ней будем вынуждены побираться на улице, и нас будут пинать и шпынять все, кому не лень.
— Не от меня зависит, жив я или нет, — пожал плечами Арий. Впрочем, иногда его мучили сомнения, а так ли это.
— Это магия? — как будто невзначай спросил как-то раз Галлий, когда Арий, закрыв глаза, сидел спиной к стене во дворе гладиаторской казармы после кровавой схватки с критянином. — Признавайся, ты часом не принимаешь зелье, какое якобы в Британии варят друиды? Может, это оно делает тебя непобедимым? Я слышал много таких историй.
— Ничего подобного, — поспешил ответить за друга Геркулес, прежде чем Арий успел открыть рот. — Это самое обыкновенное бессмертие. Он получил его в дар.
— В дар от кого?
— От тебя. От толпы. От императора. Вы все сделали его бессмертным. Бессмертный бог среди простых смертных.
Арий закатил глаза и сделал глоток вина.
— Выдумки! — огрызнулся Галлий.
— Никакие не выдумки! Если хочешь кого-то обвинить, то обвиняй только себя! И не приходи ко мне лить слезы, когда я в один прекрасный день натравлю его на тебя, — карлик расплылся в ухмылке. — Впрочем, первым делом он придет не за тобой. Первым делом он придет за императором. «Господин и бог»! Как же! Он лишь потому бог, что сам себя им провозгласил. Посмотрим, как испугается он, как затрясется от страха, когда поймет, что все это время играл в кошки-мышки с судьбой. Да-да, наш Варвар первым делом сведет счеты с Домицианом. И лишь потом придет за тобой. Он явится за тобой в глухую полночь…
— Послушай, карлик, за такие речи я тебя высеку. — Галлий возмущенно поднялся с места и, громко топая, вышел, оставляя за собой шлейф благовоний.
— Знаешь, что меня больше всего забавляет? — Геркулес повернулся к Арию. — Иногда мне кажется, что ты и впрямь бессмертен. Представляешь?
Арий ногой начертил на песке двора круг и поморщился от боли — давало знать о себе плечо, разодранное до кости леопардом во время последнего выхода на арену.
— Божественный Арий. — Геркулес улыбнулся, глядя на безымянную собачонку. — Как тебе это нравится, а, псина?
Хромоножка заскулила и принялась жевать кожаную перчатку.
(обратно)
(обратно)
Глава 16
Тея
Брундизий, 91 г. н. э.
— Умерла? — я резко обернулась. — Юлия умерла?
— Так мне сказали. — Пенелопа сочувственно наморщила нос. — Отошла в мир иной…
— Но… как? — растерялась я. — Ведь ей всего двадцать три или двадцать четыре. Она еще совсем молода! Как это случилось? — Услышав наш разговор, к нам подошли две прачки и наша новая арфистка из Коринфа.
— Кто ее знает, — пожала плечами Пенелопа. — Говорят, будто ее свела в могилу лихорадка. Но я слышала и другое. Будто она сама наложила на себя руки. Пронзила кинжалом живот.
— То, что она вспорола себе живот, это так, но вовсе не для того, чтобы свести счеты с жизнью, — сказала одна из прачек, понизив голос. — Просто у нее были кое-какие неприятности, ну, вы понимаете, о чем я, и она пыталась от них избавиться.
Среди собравшихся вокруг пробежал шепоток. Я повернулась и отошла к центру атрия. С крыши лились потоки холодного зимнего дождя, стекая по желобам в выложенный голубой плиткой бассейн посередине внутреннего двора. Умерла. Юлия, племянница императора, умерла. Я прислонилась лбом к мраморной колонне, вдыхая запахи рыбы и смолы, которые ветер приносил с пристани. Я не была лично знакома с Юлией, но однажды мне случилось встретить ее ясным солнечным утром рядом со святилищем Юноны. Это был день ее свадьбы. Я смотрела на ее расшитые золотом одежды, на алое шелковое покрывало, на руки, унизанные серебряными браслетами, и не могла понять, почему мне ее жалко. Что еще более странно, она обернула ко мне бледное лицо, и наши взгляды встретились. Честное слово, я поняла, что она мне завидует! Мне, почерневшей от солнца рабыне, которая подносила опахала и мыла полы. Она завидовала мне. Но почему?
Впрочем, мы все прекрасно знали, почему. Или, по крайней мере, нам так казалось. Даже здесь, в Брундизии, до нас доходили слухи. Я помнила ее, бледную и осунувшуюся, под красным покрывалом, когда она шагнула в объятия своего дяди во время ритуального похищения невесты… От меня тогда не скрылось, как жених был вынужден обеими руками оттащить ее прочь.
— То есть она умерла, пытаясь избавиться от ребенка, — спокойно сказала я. — Чьего ребенка? Императора?
— Ой! — ужаснулась наша новая музыкантша и сморщила хорошенький носик. — От собственного дяди?
— Ты не должна повторять досужих сплетен, — строго произнесла Пенелопа. — Говорят, император от горя не находит себе места. Но это еще не повод для того, чтобы повторять всякие гнусности.
С этими словами Пенелопа возмущенно удалилась.
— Не находит себе места от горя, — задумчиво повторила я. — Но по кому его скорбь? По племяннице или любовнице?
— Я слышала, что она точно была его любовницей, — пожала плечами одна из прачек. — И вот теперь его гложет совесть, потому что он вынудил ее избавиться от ребенка.
— Но почему? — Я протянула руку под дождь. Проливные дожди в этом месяце окончательно испортили такой веселый праздник как Луперкалии. — Домициану нужен наследник. С какой стати ему приказывать ей вытравить плод? Да, она его племянница. Но уже были случаи, когда императоры брали в жены племянниц. При желании он мог бы заставить Сенат признать ее супругой, а ее ребенка — наследником.
— Значит, ему это было не нужно, — сделала вывод наша новая арфистка. — Императоры странные люди.
Это точно.
(обратно)
Рим
— Кисть частично утратит подвижность, — произнес лекарь, снимая повязку. — Особенно два крайних пальца. Похоже, им слишком досталось за последние годы. Скажи, сколько раз ты их ломал?
— Сказать по правде, не помню. — Арий принялся разминать руку.
— И что это было на этот раз? Рукоятка меча?
— Нет, шишка щита.
— Сочувствую, — вздохнул лекарь и нахмурился. — Советую тебе не напрягать руку еще пару недель. Иначе пальцы твои хрустнут и сломаются, словно сухие прутья.
— Не бойся, — Арий накрыл больную руку здоровой. — У меня сейчас передышка.
— И это правильно. Я слышал, будто император временно отменил все празднества и игры. Это так?
— Ммм…
— А все из-за его племянницы. Она была в Кремоне, и поскольку там стоит страшная жара, с похоронами нельзя было медлить. Говорят, император был вне себя от ярости, когда его племянница вернулась в Рим уже в погребальной урне.
Арий почему-то представил себе, как Домициан одним взмахом руки отшвыривает от себя урну с прахом, как она разбивается на мраморном полу, как рот его открывается в немом крике, как он, обезумев, опускается на колени и начинает трясущимися руками сгребать серый, маслянистый пепел. Арий поспешил прогнать от себя эту жуткую картину.
— Все? — спросил он у лекаря.
— Да-да, все. А теперь я должен тебя покинуть — дела не ждут. — Тем не менее он задержался и, покраснев, добавил: — Моя жена — твоя страстная поклонница. Ты не будешь возражать, если я…
— Поговори с ланистой.
Галлий заламывал бешеные деньги за небольшие деревянные медальоны с портретом на одной стороне и локоном волос на другой. Разумеется, волосы были не настоящие, — чаще всего прядь, срезанная с головы цирюльника, какого-нибудь раба или даже Геркулеса и перекрашенная в рыжий цвет.
— Любой, кто готов заплатить деньги за безделушку с твоим именем, приятель, достоин того, чтобы его самого хорошенько остригли, — сказал как-то раз ланиста. И в кои веки Арий с ним согласился.
— Она будет так рада! — тем временем продолжал восторгаться лекарь. — Она ужасно завидует мне всякий раз, когда меня отправляют тебя подлатать. Разговоры на эту тему длятся потом неделями. В общем, не напрягай руку. Дай ей отдохнуть. К следующим играм ты уже должен быть в форме. Будем надеяться, что император наконец выйдет из траура.
С этими словами лекарь поспешил прочь. Арий в задумчивости несколько раз сжал и разжал пальцы. Нет, они уже не такие гибкие, как прежде. Полностью выпрямить их ему уже никогда не удастся. Тем не менее они по-прежнему крепко сжимают рукоятку меча, а это самое главное. Если понадобится, за меч он сможет взяться уже завтра. Чтобы побеждать, ему не требовался отдых.
Тебе вообще ничего не нужно для победы, сукин ты сын. Эти его слова были обращены отнюдь не к лекарю. Ему в голову вновь пробрался император. Тотчас вспомнилось каменное выражение императорского лица во время его последнего выхода на арену, когда Домициан приказал стражникам привязать Арию за спину левую руку.
Вызов.
Что он тогда прочел в пристальном взгляде Домициана? Только ли вызов? Или что-то еще, похожее на страх.
— Страх? — помнится, воскликнул Геркулес, когда Арий признался ему в своих подозрениях. — С какой стати император Рима должен тебя бояться?
— Не знаю, — пожал плечами Арий. — Но мне почему-то так кажется.
— Ну хорошо. У него вон сколько подданных, с которыми он при желании может сделать все, что угодно, он же тратит свое время и силы на то, чтобы мучить тебя. Смотрю, ты с годами зазнался, Варвар.
Впрочем, карлик, похоже, прав. Вряд ли Домициан просыпается по ночам в холодном поту, потому что ему приснился гладиатор по имени Арий. Чего не сказать о нем самом. Ему постоянно снился Домициан, его непроницаемое румяное лицо, его невидимый глазу вызов.
Но не может же быть так, что всякий раз, когда он вставал с песка рядом с трупом своего последнего противника, воображение играло с ним злую шутку, и, поднимая глаза на императорскую ложу, он видел то, что в душе хотел увидеть?
— Ты еще жив? — казалось, говорил ему Домициан.
— Потому что ты желаешь моей смерти, — мысленно бросал он в ответ.
— Кто ты?
— Никто, — произнес Арий вслух, — никто, господин и бог.
И оскалился, словно хищник.
(обратно)
Тея
— Тебя в очередной раз ждет слава, дитя мое! — Ларций, сияя улыбкой, вошел в атрий, где я, под аккомпанемент лиры, упражнялась в исполнении новой песни. — Я получил приглашение из императорской канцелярии. Ты будешь услаждать слух императора на пиру в его честь, когда он на следующей неделе прибудет к нам в Брундизий. Нет, конечно, не ты одна. Там еще будут выступать жонглеры с Крита и оратор из Фив, и, разумеется, Клеопатра.
— Если там будет Клеопатра, на меня никто не обратит внимания.
Клеопатра была знаменитая танцовщица, по ней сходил с ума весь Брундизий. За свои выступления она заламывала заоблачные цены, а за более интимные услуги брала еще выше.
— Твой номер будет между рыбой и сыром, — согласился Ларций. — Однако любой, если он не глух, наверняка; поймет, что слышит дивный голос. Что бы ты хотела спеть, дитя мое? Думается, «Очи Кифары» слишком слащавы для императора. Может, лучше, «Справедливую богиню»?
— Нет, она слишком заумная, — улыбнулась я. — Он ведь воин и предпочитает что-нибудь незамысловатое.
— Тогда что-нибудь с припевом, чтобы зрители, которые, скорее всего, уже будут порядком навеселе, могли тебе подпевать. Нет, дитя мое, воинам никогда не оценить по достоинству твой талант.
Я позволила Ларцию самому подобрать мне песни, и когда назначенный вечер наступил, он заломил за каждый мой выход двойную цену. В конце концов, Пенелопа выставила его за дверь, чтобы он не мешал мне готовиться. В честь торжественного события я сняла с себя свое обычное серое платье и облачилась в черный индийский шелк с золотой каймой по подолу. Волосы я уложила в причудливую прическу, которую перевязала золотыми лентами, на руки надела золотые браслеты и для большей выразительности слегка подвела глаза. Этот наряд преобразил меня, превратил из рабыни по имени Тея в серьезную, сдержанную певицу по имени Афина. Иногда я смотрела на свое отражение в зеркале и не узнавала себя. Где та почерневшая от солнца девчонка, которая когда-то любила гладиатора? Я пыталась найти ее и не находила.
— Мам! — Это, громко хлопнув дверью, в мою комнату ворвался Викс. Горшочки с помадой и благовониями подпрыгнули на столе и еще какое-то время дрожали. Он стрелой пролетел сквозь толпу хористов, лютнистов, арфистов и прочих артистов Ларния, которые готовились к вечернему концерту. — Мам, мне можно на собачьи бои? В прошлый раз охотничий пес загрыз мастифа и выпустил ему кишки. Кровищи было, скажу я тебе…
— В таком случае, никаких собачьих боев. Даже не надейся.
— Но…
— Не спорь со мной!
Викс с надутым видом опустился рядом с моим столиком, и в следующий миг — дзынь! — флакон с розовой водой вдребезги разбился о мраморный пол.
— Это правда, что ты будешь петь перед самим императором? — спросил он.
— Правда. Когда вернусь, я расскажу тебе, как прошел пир.
Но Викс лишь пожал плечами. Его воображением владели не императоры, а гладиаторы.
— Ты вернешься поздно? — спросил он с надеждой в голосе.
— Не слишком, — ответила я и взъерошила ему волосы. — К этому времени ты уже должен быть в постели, в противном случае, тебя ждет хороший нагоняй.
— Почему у тебя всегда чешутся руки меня отлупить? — спросил у меня сын. — Никого так часто не наказывают, как ты меня.
— Просто другие дети ведут себя смирно, Верцингеторикс.
— Погоди, пока я вырасту. Тогда ты не сможешь отпускать мне оплеухи. Я стану большим и сильным гладиатором, и тебе придется считаться со мной.
С этими словами он принялся скакать по комнате, потрясая воображаемым мечом. У меня защипало в глазах. Все, что ему нужно, — это учебный деревянный меч, пыльная арена, пара серых глаз и дружеское приветствие. Я протянула руку и привлекла сына к себе. В ноздри мне тотчас ударил запах моря, что означало, что он без моего ведома бегал купаться в гавань и за это время мог подцепить добрую половину существующих в Италии болезней.
Но он увернулся из моих объятий, а заодно умудрился испортить мне прическу.
— Хватит меня целовать.
— Только в том случае, если ты будешь послушным ребенком.
— Ладно, буду.
— Свежо предание, — заметила проходившая мимо рабыня.
В наемном паланкине я добралась до местного дворца, куда накануне прибыл император. Мне ни разу не доводилось петь во дворцах, и как только я ступила на землю, как тотчас же вытаращила глаза, рассматривая его здание. Скорбь Домициана, судя по всему, плохо уживалась с роскошью. Выщербленные мозаики, пыльные статуи, половина залов погружены в темноту. Дорогу мне указывал управляющий, который сам в полумраке не раз наступал мне на ноги. Он привел меня в пустынный вестибюль, отгороженный от зала, где проходил пир, занавесом, и велел ждать. В это время в зале выступали жонглеры — подбрасывали вверх и ловили, перебрасывая из руки в руку, горящие факелы. После их номера должны были подать главное блюдо.
— Тея, — услышала я рядом с собой голос танцовщицы Клеопатры. По ее плечам рассыпались золотистые локоны. Одета она была в полупрозрачный наряд, усыпанный блестками. — Ты не могла бы одолжить мне свои серьги? У меня одна сломалась. Не могу же я предстать перед императором с голыми ушами!
— Если все остальное голое, какой толк переживать из-за ушей? — пошутила я, однако сняла с себя и с улыбкой протянула ей свои золотые капельки. Нам с ней частенько доводилось выступать вместе на пирах, и она всегда держала себя приветливо. — Главное, не забудь их на столике рядом с кроватью своего очередного мужчины.
— Если забуду, император подарит мне новые, — улыбнулась она. — Моя хозяйка подкупила секретаря, чтобы тот шепнул императору, что я, мол, копия Юлии. И тогда после пира император наверняка захочет, чтобы я разделила с ним ложе.
— Думаю, ты права, — согласилась я.
— Может, подсмотрим за ним? — предложила она и подмигнула мне.
Заглянув сквозь щелочку в занавесе в триклиний, я сначала подумала, что у меня что-то не то с глазами. Потому что за занавесом было темно. Я заморгала, и тогда увидела, что все вокруг черное. Черные мраморные стены, черные ложа с горой черных подушек, чернокожие африканские рабы в черных туниках, которые в жутковатом молчании вносили и выносили блюда.
— Весело, — заметила я. Разговоры за столом велись едва ли не шепотом, пламя в светильниках лишь слегка подрагивало, и даже яркие одежды и украшения гостей казались в этом мраке тоже почти черными.
— По крайней мере, ты одета в том же духе, — Клеопатра потеребила складку моего черного платья, затем снова вытянула шею из-за занавеса. — И это сам император? На самом первом ложе. Тот, который в доспехах?
— Нет, это префект Павлин Норбан.
Павлин выглядел здоровым и цветущим. На пальце у него было кольцо, а на шее цепь — знаки нового положения, и они, похоже, ничуть его не тяготили. Власть была ему к лицу. Я даже представить себе не могла, что новый чин так резко изменит его. В нем ничего не осталось от милого юноши, которого я когда-то знала. Я не видела его с тех пор, как он внезапно отбыл в Германию, где после блестящей победы стал правой рукой самого императора.
— А с ним рядом, выходит, это сам император? Тот, что в черной тунике? — Клеопатра поправила свои кудри. — Ничего, я помогу ему оторвать глаза от кубка.
По сигналу распорядителя она выбежала в триклиний, похожая на огненное пятно на фоне окружающей черноты, и принялась изгибаться, извиваться, кружиться. Когда наконец совершив грациозный прыжок, она в томной позе застыла на полу рядом с его ложем, глаза императора вспыхнули, но лишь на миг. Впрочем, даже этого мига было достаточно.
— Ты следующая, — крикнул мне распорядитель.
После Клеопатры вряд ли кому захочется слушать мое пение. Император даже не взглянул на меня, когда я вошла в зал со своей лирой. Правда, Павлин одарил меня улыбкой, значит, все-таки узнал, и мне тотчас вспомнилось его приятное общество. Я поклонилась ему и встала на возвышение, дожидаясь, когда рабы наконец разнесут следующее блюдо. Даже пищу сегодня подавали черного цвета — сине-черные устрицы из Британии, черный хлеб с оливками, иссиня-черные сливы в ониксовых чашах.
Мое появление было встречено рукоплесканиями, и я начала первую песню. Ларций наверняка поморщился бы, однако этот черный пир нуждался пусть даже в капельке веселья. Я пела для Павлина, он любил красивые мелодии. Увы, Павлин почти не поднимал на меня взгляд. Насупив брови, он наклонился к Домициану и о чем-то с ним перешептывался. Неужели они с ним друзья? Впрочем, бывают ли друзья у императоров? Особенно у таких, как Домициан? Даже до нас в Брундизии доходили слухи о его страхах перед возможными заговорами, о постоянных судах над изменниками. Нет, конечно, любой, кто правил Римом, имел все основания опасаться за свою жизнь. Ведь не секрет, что примерно половина императоров покинула этот мир не по своей воле.
Домициан оказался дороднее, нежели в день бракосочетания Юлии, когда я видела его впервые. Волосы на темени начинали редеть, однако щеки по-прежнему были румяны. На нем была простая черная туника без всякой вышивки, а единственным украшением — кольцо-печатка на пальце. Он даже не прикоснулся к своей черной тарелке, кубок с вином стоял на три четверти полон. Нет, он был не просто суров, он был мрачен. Впрочем, какое-то словцо Павлина на мгновение заставило его губы слегка растянуться в улыбке. И я сказала бы, что в ней было свое очарование.
Я закончила петь, и в зале раздались жиденькие хлопки. Да, не слишком веселая собралась здесь сегодня публика. Впрочем, оно понятно. Я слегка настроила струны лиры, и в этот момент один из сенаторов обратился из-за стола к императору.
— Господин и бог, из Иудеи в последнее время приходят самые разные слухи. Неужели в Иерусалиме снова мятежи?
— Даже если это и так, их легко подавить, — император равнодушно пожал плечами. — Дух выходит из евреев слишком быстро.
За свою жизнь я наслушалась слов и похуже. Однако демон овладел мной.
— В твою честь, повелитель и бог, — нежно произнесла я с учтивым поклоном и, ударив по струнам, запела старую еврейскую песню, которую выучила еще в детстве.
Краем глаза я заметила, как император дернул головой, но я продолжила петь. С какой нежностью я проговаривала каждое еврейское слово, мои аккорды, казалось, трепетали в душном черном зале, как когда-то среди камней Масады.
Стоило в воздухе растаять последней ноте, как зал наполнился рукоплесканиями. Я улыбнулась, глядя императору в глаза.
— Певица, — произнес он, и его голос заглушил аплодисменты.
Я склонила в поклоне голову.
— Да, господин и бог.
— Твое имя?
— Афина, цезарь.
Он смерил меня оценивающим взглядом — таким обычно хозяин смотрит на раба. Он смотрел долго и пристально, и гости начали перешептываться.
Неужели я подписала себе смертный приговор?
— Подойти, — сказал он и протянул руку.
Я подошла.
— Садись.
Я села. Вернее, присела на край императорского ложа. Перешептывание переросло в гул голосов.
Император откинулся на подушки и окинул меня непроницаемым взглядом. Черные глаза — такие же черные, как и стены.
— Говори.
И я заговорила.
— Ты хорошо поешь.
— Благодарю тебя, цезарь.
— Это похвала не тебе. Это похвала богам, которые даровали тебе этот голос. Афина, зачем еврейке греческое имя?
— Мой хозяин решил, что оно мне подходит. По его мнению, оно звучит серьезно и торжественно.
— Что ж, он прав.
— Спасибо, цезарь.
— Я не люблю евреев.
— Ты не одинок в этом, цезарь. Их не любит никто.
— Почему же? Мой брат их любил. У него даже была любовница-еврейка, иудейская царица Береника.
— Ах да, золотой Тит и его еврейская шлюха. Или, как это виделось евреям, царица Береника и ее иноземный любовник. Мы всегда презирали ее за это.
— Евреи презирали Тита?
— А как ты думал? Ведьмы, как ты, надеюсь, помнишь, избранный народ. Он же был всего лишь император.
— Зато какой! Не зря же его прозвали золотым.
— Ты завидовал ему?
— Ты многое себе позволяешь. Хочешь вина? — Он предложил мне свой собственный кубок.
— Спасибо, цезарь.
К полночи гости уже не стесняясь смотрели на нас во все глаза. В течение целого часа император не обратился к ним ни с единым словом, предпочитая беседовать со мной. Голос его звучал ровно, я бы даже сказала, бесстрастно. Мой Бог вел свою собственную партию. Я с трудом отдавала себе отчет в том, что говорю. В течение разговора мы не раз встречались с Домицианом глазами.
— Афина. Это греческое имя Минервы. У меня в ее честь есть домашний алтарь.
— В честь богини мудрости? Как мудро, однако! Война и император всегда рядом, а вот мудрость вещь гораздо более редкая, цезарь.
— Ты должна обращаться ко мне «господин и бог».
— Неужели так тебя называют все?
— Моя племянница Юлия никогда не называла. Но она была исключением, в отличие от тебя.
— Хорошо, если ты настаиваешь, я буду называть тебя «господин и бог». Но не кажется ли тебе, что это замедляет беседу?
— Императору некуда торопиться.
— Как скажешь, господин и бог.
— Ты насмехаешься надо мной?
— О нет, господин и бог.
— Я не позволю рабыне-еврейке насмехаться надо мной. Можешь обращаться ко мне «цезарь». Скажи, теперь ты прекратишь свои дурацкие насмешки?
— Да, цезарь.
Два часа пополуночи. Развлечь нас вышла группа усталых жонглеров. Рабы внесли наскоро приготовленное блюдо — пирожные под черной глазурью. Я заметила, как собравшись за колонной, рабы разглядывали нас во все глаза. Гости смущенно ерзали на своих ложах, никто не решался первым подать голос, чтобы прервать нашу с императором беседу. Не могу сказать, чего мне хотелось
больше, чтобы нас прервали или дали поговорить еще.
— Этот зал, почему он весь черный, цезарь?
— Чтобы моим гостям было страшно.
— Ты хочешь, чтобы твоим гостям было страшно?
— Это полезно. Я уважаю тех, кто умеет побороть в себе страх.
— Но ведь все боятся императора.
— Кроме тебя.
— То есть я прошла проверку на бесстрашие?
— На сегодня, да. Как ты считаешь, я должен тебя вознаградить?
— Моя подруга Клеопатра, наверняка, посоветовала бы мне просить у тебя украшений.
— Я не дарю женщинам украшения.
— Мне они в любом случае не нужны.
— Тогда чего бы тебе хотелось?
— Струн для моей лиры. Заморских, из кишок критских быков. Они самые лучшие.
— Я пришлю тебе их утром.
— Спасибо тебе, цезарь.
— Мне еще ни разу не доводилось дарить женщине бычьи кишки.
— Да, такое дарят не каждый день.
Четыре часа пополуночи. Пир уже давно должен был завершиться. Все зевали или дремали на своих ложах. Рабы стояли, устало прислонившись к стенам, и пытались не уснуть. Усталые музыканты извлекали звуки из своих инструментов, чаще всего те, что уже играли в самом начале пира. Еще больше народа собралось в вестибюле по ту сторону черного занавеса. Я заметила, что прибыл Ларций, а с ним встревоженная Пенелопа. Однако никто не решался покинуть дворец первым.
— Полагаю, ты слышала о смерти моей племянницы Юлии?
— Это страшная потеря для всего Рима, цезарь.
— Не надо говорить мне избитых фраз.
— Это не избитая фраза. Я однажды ее видела. Она произвела на меня впечатление доброй женщины.
— А когда ты ее видела?
— На ее свадьбе. Мне тогда было пятнадцать лет.
— Я не помню ее свадьбы.
— Ее брак оказался недолговечным.
— Она была… скажем так, с ней было забавно, когда она была в веселом настроении, что, однако, случалось нечасто. Как жаль, что ее больше нет. Мой астролог Несс говорит, что она не должна была умереть так рано. До сих пор все его предсказания сбывались.
— Говорят, будто она мечтала стать весталкой.
— Стать одной из этих вредных, высушенных старух жриц? Нет, ей не место среди них.
— Возможно.
— Она умела… поднять мне настроение. И вот теперь мне все подсовывают белокурых девиц, как будто она была моей любовницей. Идиоты, у которых один разврат на уме.
— Люди любят поговорить, цезарь. Какой толк иметь императора, если о нем нельзя распространять грязные слухи?
— Скажи, кто-нибудь из твоих бывших хозяев продавал тебя когда-нибудь за твой острый язык?
— Нет, обычно я предпочитаю держать его за зубами. Но ведь ты сам велел мне говорить.
— Верно, велел! Сам не знаю, что на меня нашло. Обычно я не люблю досужих разговоров. А любого, кто очернит память моей племянницы, я повешу.
— В таком случае тебе придется казнить сотни, если не тысячи невинных людей.
— Предателей.
— Невинных.
— Они все невинные, когда мертвые.
— То есть спорить с тобой бесполезно?
— Именно.
Рассвет. Большая часть гостей уснула на своих ложах. Остальные, с красными глазами и в мятых одеждах, от нечего делать доедали засохших устриц. Юный раб в черной тунике дремал, стоя у стены, склонив голову на графин с вином. Даже Ларций, и тот клевал носом в вестибюле.
Наконец император поднялся с ложа. Гости тотчас встрепенулись и открыли глаза. Домициан отвел от меня темные глаза, и я тотчас почувствовала, насколько устала за эту бесконечную ночь.
— Великолепный вечер, — весело произнес Домициан, обращаясь к присутствующим, и, даже не обернувшись в мою сторону, вышел из зала.
Взгляды всех до единого присутствующих обратили в мою сторону. Не иначе как гости пытались понять, что он во мне нашел. В том, что император проявил интерес к певице, не было ничего из ряда вот выходящего. Странно другое: почему он просто не велел мне прийти к нему после пира. Как это не похоже на Домициана: заставлять именитых гостей ждать, пока он завершит беседу с рабыней. Да что там! Даже просто вести с ней беседу! Ведь не для кого не секрет, что женщины ему нужны только в постели. Беседы с ними не в его духе.
Тем не менее он проговорил со мной добрую половину ночи, как будто в целом мире, кроме меня, никого не было. Внезапно я оказалась в центре всеобщего внимания. Вид у гостей был сонный, что, однако, не мешало им сгорать от любопытства.
— …моя дорогая Афина…
— …какой великолепный голос…
— …лучшая певица в нашем городе…
— Довольно! — оборвал поток комплиментов Ларций и поспешил встать со мной рядом. — Ночь была долгой. Живо домой, дитя мое.
Мне на плечо легка холеная рука с маникюром; я обернулась. Позади стоял императорский вольноотпущенник, судя по одеждам, придворный чиновник.
— Достопочтенная Афина? — спросил он меня. Голос выдавал в нем образованного человека.
В зале воцарилась звенящая тишина. Ага, значит, я уже достопочтенная.
Дворцовый чиновник нагнулся и шепнул мне на ухо. Я кивнула. Он отвесил низкий поклон. Так обычно кланялись самому императору — или тем, кто к нему близок.
(обратно)
(обратно)
Глава 17
Тея
— Уже целый месяц, и никаких признаков того, что она ему надоела! — вполголоса заметила рабыня за дверями моей спальни. Она только что вынесла от меня целый ворох платьев. В коридоре ей повстречались две прачки, и все трое тотчас принялись обмениваться сплетнями. В течение месяца в доме претора Ларция все только и делали, что перемывали мне косточки.
— Я слышала, что он взял себе наложницу из заведения Ксанты, — это в разговор вступила еще одна рабыня.
— Верно, но не прошло и часа, как отправил ее назад. Зато Афина проводит с ним все ночи напролет.
— А ведь она не такая уж и красавица! Интересно, что он в ней нашел?
Согласна. Для меня это тоже загадка.
— Почему? — спросила я как-то раз у Домициана, но он лишь пожал плечами. Он посылал за мной раз в пять в неделю, а то и больше. Я обычно оставалась у него на ночь, а утром, зевая, возвращалась пешком в дом Ларция.
— Тсс! Она услышит, — голос принадлежал прачке.
— Не бойся, не услышит. Она не сомкнула глаз всю ночь, а чем они там занимались, ведают только боги. Так что она проспит самое малое до полудня.
На самом же деле я, распустив по плечам волосы, сидела в постели в просторном греческом хитоне, который служил мне ночной сорочкой, и задумчиво жевала кончик пера, пытаясь сочинить песню. Домициану нравилась моя музыка — та, которую я сочиняла сама.
— В один прекрасный день ты сочинишь что-нибудь по-настоящему великое. — Это была его обычная похвала.
— Представляешь? Он ведет с ней беседы! Не удивлюсь, если она дает ему советы. Этакий голос за троном, и все такое прочее.
Я про себя расхохоталась. Ни о каком влиянии на Домициана не могло быть и речи. Это он дал мне понять в самый первый вечер.
— Только не вздумай вмешиваться в придворные дела, — невозмутимым тоном произнес он, когда я впервые получила приглашение к нему во дворец. — Я не спрашиваю у женщин совета и во всем придерживаюсь следующих правил: никогда не гневи богов и не делай ставки на гладиаторов.
О последнем правиле мне уже было известно.
— Как вы думаете, она ему скоро наскучит? — а это уже была рабыня.
Даже если и скоро, то безбедное будущее мне обеспечено. В Брундизии найдется не один десяток мужчин, которые наверняка пожелают услышать голос, который заворожил повелителя целого мира. Куда бы я ни пошла, на меня как из рога изобилия сыпались комплименты и поздравления. Один лишь Ларций, похоже, не разделял всеобщей радости.
— Мне больно видеть все это, дитя мое, — в его голосе слышались тревожные нотки. — Ты певица, артистка, а не гетера.
— Император это понимает. Он даже подарил мне струны для моей лиры! Мне их теперь хватит до старости.
— Держись как можно скромнее. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
Я улыбнулась. Какая-то часть этой улыбке была позаимствована у моего сына, но что поделать, я не смогла сдержаться. Ларций вздохнул.
— Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Ты пропускаешь важные приглашения. Центурион Денс и достопочтенная Корнелия Прима просили тебя спеть на свадьбе их старшей дочери. Напоминаю, что они всегда были главными почитателями твоего таланта.
— Скажи им, что я не могу.
Домициан не любил делить меня с кем-то еще. В некотором роде это было даже приятно. Император заметил меня, выделил из ряда других артистов, так что теперь мне нет необходимости выступать перед первым, кто поманит меня пальцем. Теперь я могла петь лишь для него.
Мелодия, которую я пыталась сочинить, наконец оформилась у меня в голове и плавно перетекла на мое перо. По-моему очень даже красивая мелодия. На нее хорошо ляжет один греческий стих, который я знаю наизусть. Кто знает, вдруг император на этот раз расщедрится на похвалу.
— Не скажу, что я в восторге, однако неплохо.
— Тея! — ко мне в комнату вбежала Пенелопа и, увидев меня, сердито тряхнула седыми локонами. — Тея, твой несносный мальчишка снова подрался с сыном Хлои.
К тому моменту, когда я, в одной ночной сорочке, добежала до конца коридора, дом уже наполнился возмущенными криками Викса.
— Он назвал мою мать дешевой шлюхой!
Мой сын и сын Хлои кругами ходили по атрию, замахиваясь друг на друга.
— Неправда, никакая она не дешевая! Она очень даже дорогая! Ей цены нет! Это твоя мать готова на все задаром!
И они, сцепившись, рухнули вдвоем в бассейн в центре атрия. Впрочем, вскоре Викс вскочил на ноги — отплевываясь, что-то сердито бормоча и потрясая кулаками. Я схватила его за руку и, вытащив из бассейна, заставила извиниться за свои слова, после чего потащила вслед за собой по коридору.
— Смотрю, у тебя слишком часто чешутся кулаки. Что такого сказал тебе сын Хлои?
— Он сказал, что ты Домицианова шлюха!
— Так оно и есть, да, я Домицианова шлюха, Викс, — с этими словами я затащила его к себе в комнату.
— Но он еще сказал, что никакая ты не певица. Сказал, что ты за медную монету готова на что угодно. Сказал…
— Это не оправдание. А теперь нагнись-ка.
Я достала видавшую виды розгу, и Викс испустил леденящий душу вопль.
— Викс, успокойся. Я еще даже не прикоснулась к тебе.
— Тогда давай поскорее заканчивай с этим делом, — ухмыльнулся мой несносный сын.
Я всыпала ему около дюжины раз по его мокрому мягкому месту. Он орал так, будто его резали. Не скажу, чтобы он терпел настоящие мучения. Скорее, криком он показывал свое несогласие. Впрочем, я тоже устроила ему порку скорее для острастки, а не потому, что была на него сердита. Просто мне нужно было доказать самой себе, что я строгая, но справедливая мать.
— Даже если ты Домицианова шлюха, какая мне от этого польза? — спросил Викс, выпрямляясь и потирая зад. Я отложила розгу в сторону. — Он возьмет тебя вместе с собой на игры? Я бы не отказался посмотреть на гладиаторов! Представляешь, я бы сидел в императорской ложе рядом с самим…
— Ты не пойдешь ни на какие игры.
— Пойду, вот увидишь! Потому что, когда вырасту, я тоже стану гладиатором!
— Забудь об этом. Никаким гладиатором ты не станешь!
У моего народа есть поговорка, что грехи родителей ложатся на плечи детей. Раньше мне казалось, что это все ерунда. И вот теперь, ну кто бы мог подумать!
— Что ж, неплохая песня, — произнес император. — Не такая слащавая, как обычно.
— Я так и думала, что ты это скажешь, — ответила я, откладывая лиру.
— Тебе так важно мое мнение?
Было уже поздно. Факелы горели тусклым светом, и императорскую опочивальню наполнили тени. Это была очень простая опочивальня, я бы даже сказала, скромная, — воплощение непритязательных вкусов Домициана: никаких шелковых занавесей на стенах, никаких бархатных подушек на ложе, никаких драгоценных камней в глазах небольшой мраморной статуи Минервы в углу.
Я протянула руку за моей ночной сорочкой, натянула ее на себя через голову и, лишь облачившись в нее, сбросила с себя одеяло. Домициан не любил, чтобы я долго оставалась обнаженной, даже в постели.
— Не позволю ни одной женщине расхаживать по моей спальне, словно Клеопатра, в чем мать родила, — как-то раз заявил он. — Если только я сам не потребую, чтобы ты разделась, ты должна быть одета, как и всякая уважающая себя женщина.
С этими словами он потянулся за своими свитками. Свет ламп проникал сквозь жиденькие волосы на его темени. Надо сказать, эти поредевшие волосы были самым больным местом Домициана. Это я уже давно поняла.
Император склонился над свитком, и брови его нахмурились. Впрочем, я бы не сказала, что сегодня он был по-настоящему хмур, — скорее, наоборот, пребывал не в самом худшем своем настроении.
— Планы по строительству новой гавани? — спросила я. — Или новой арки?
Куда бы Домициан ни приезжал, его приезд сопровождало бурное строительство. Строились гавани и дороги, возводились храмы, арки и акведуки — и все это во славу божественных Флавиев.
— Гавани.
— Ее строительство идет слишком медленно.
— Инженеры говорят, им нужен еще один год. А по-моему, все три.
— А я бы сказала, что все четыре. Ауспиции предсказали еще одно наводнение.
— Ты хочешь сказать, что разбираешься в гаванях лучше, чем я?
— Нет, но я прожила в Брундизии уже много лет.
— Я не прислушиваюсь к советам женщин.
Я пожала плечами и, устроившись поудобней, принялась молча ждать, однако Домициан жестом велел мне говорить дальше.
— Я не совсем уверена, о чем я должна говорить с тобой, цезарь, — сказала я довольно игриво. — Может, ты сам расскажешь мне какую-нибудь историю? Например, о своей славной победе над германцами при Тапах?
— Ненавижу рассказывать истории.
— Почему бы нет, ради разнообразия? Большинство мужчин утомляют меня, живописуя свои подвиги.
Не успела эта фраза сорваться с моего языка, как я тотчас пожалела о ней. Ибо совершила ошибку. Домициан не любил, когда ему напоминали о других мужчинах, которые были до него в моей жизни. Именно по этой причине я даже словом не обмолвилась о том, что у меня есть Викс.
Он впился в меня пристальным взглядом. У меня было такое ощущение, будто голова моя сделалась стеклянной, и сквозь это стекло ему отлично виден рыжеволосый мальчишка, которым заняты мои мысли. Где-то над головой прожужжала муха. Домициан тотчас выбросил руку с зажатым в ней пером, и в следующий миг на его кончике уже трепыхалось ее тельце. В таких случаях, он никогда не промахивался. Придворные любили пошутить об этой его охоте на мух и даже заключали пари, мол, сколько мух Домициан насадит за день на острие пера. Впрочем, за шутками этими всегда скрывался страх. Возможно, причиной было то обстоятельство, что это все-таки император. А может, и нет. Даже я сама, несмотря на всю откровенность моих речей, никогда не чувствовала себя рядом с ним до конца раскованной. И я так и не осмелилась рассказать ему о Виксе.
Я решила сменить тему разговора.
— Скажи, цезарь, ты скоро вернешься в Рим?
— Нет, лишь в Тиволи, следующим летом.
— И когда ты покинешь Брундизий?
— Зачем тебе это знать? — Он пристально посмотрел на меня, продолжая затачивать перо. — Хочешь от меня избавиться?
— Нет, я просто хотела бы избавиться от всех этих сикофантов в моей гостиной. Только сегодня утром через нее прошел настоящий их поток, и все как один хотели, чтобы я их выслушала. Сенаторы, которые желали бы видеть себя губернаторами провинций либо просили должности для своих сыновей. Поэты, которые сочиняют мне стихи, в надежде, что я их исполню. Старые солдаты, мечтающие получить место в дворцовой гвардии, и даже юноши, которые по молодости лет наивно считают, что нет подвига доблестнее, нежели украсть у императора его любовницу. Если ты думаешь, что мне нравиться вечно быть в центре всеобщего внимания, то уверяю тебя, нет ничего более тоскливого и утомительного. Я бы даже сказала, что это слегка печально. Ловить на себе эти жадные взгляды. Нет, это не по мне.
— Не переживай, — ответил Домициан, прерывая мои излияния. — Как только ты мне наскучишь, сикофантов словно ветром сдует. Полагаю, ты не слишком обрадуешься, когда для тебя настанет этот день.
— Отчего же?
— Когда-то я ценил в женщинах честность. Боюсь, настало время пересмотреть это свое мнение.
— Мне уйти, цезарь?
— Нет. — Он резко приблизил кончик пера к моему лбу, затем обвел им контуры моего носа, моих губ. — Иди ко мне.
Как любовник он был резок и чужд всякой чувствительности. До сих пор я не заметила за ним никаких извращенных потребностей. Более того, у него была единственная просьба: «Будь добра, только не изображай экстаз. Меня это отвлекает». Он был полноват, однако подвижен, грудь его поросла упругими завитками седых волос — в общем, для своих сорока лет он был еще полон сил. В постели большинство мужчин кажутся мне полными ничтожествами. О Домициане я такого сказать не могла.
Наконец он отпустил меня, и я потянулась за туникой.
— Скоро начнет светать, — сказала я. — Мне пора.
Домициан откинулся на подушку. Взгляд его оставался непроницаем.
— Верно, пора.
Я была певицей и потому привыкла читать мысли аудитории. А до этого я была шлюхой и умела читать мысли мужчин. Однако я смотрела на Домициана, и не имела ни малейшего представления о том, о чем он думает. Мне доводилось видеть, как он равнодушным росчерком пера подписывал смертные приговоры. Мне доводилось видеть, как он, запрокинув голову, усмехался какой-то неожиданной шутке. Я делила с ним ложе, я заглядывала в черные глаза, что смотрели на меня с другой подушки, и понимала, что ничего не знаю о нем.
Я завязала сандалии, взяла лиру и выскользнула в коридор. За моей спиной тени, отбрасываемые лампой, нарисовали на стене резко очерченный нос и полуопущенные веки, скрывавшие под собой пронзительные Домициановы глаза. «Постельная борьба», как он, бывая в шутливом настроении, называл то, чем мы занимались в постели, была окончена. Его внимание было полностью сосредоточено на свитках.
Было ли с ним легко? Нет. Нравился ли он мне. Наверно, тоже нет.
По крайней мере, с ним не было скучно.
Меня редко вызывали во дворец утром, однако когда после завтрака в дверь моей комнаты постучал вольноотпущенник, я не стала вступать в пререкания. К моему великому удивлению во дворце меня провели не в опочивальню, а в библиотеку, где мой высокородный любовник сидел за столом, наполовину скрытый от меня горой документов.
— Входи, — бросил он мне, скрепляя императорской печатью какой-то документ. — И закрой дверь.
Разговор, который за этим последовал, был коротким и деловым, что не мешало ему стать для меня потрясением. Когда вольноотпущенник проводил меня за дверь, на губах его играла усмешка, и я была готова поспорить, что весь Брундизий вскоре будет перешептываться о том, что император наконец-то заплатил своей шлюхе отступные. Впрочем, что еще ожидать от какой-то там певички, да к тому же еврейки? Шагая через атрий, я прикрыла лицо покрывалом, и передо мной расступалась толпа рабов и всевозможных прихлебателей, каких всегда было полно во дворце. Но тут меня поджидало второе потрясение, и я, можно сказать, столкнулась с ним нос к носу. Оно предстало передо мной в шелковых одеждах и источало крепкий запах мускуса.
— Смотри, куда идешь! — Она грубо оттолкнула меня и прошла мимо.
— Достопочтенная Лепида?
— Да, а что?
Она повернулась и впервые посмотрела мне в глаза. Я убрала с лица покрывало. Она тотчас пошла красными пятнами, я же ощутила неестественное удовлетворение от того, что на мне новое платье из шелка янтарного оттенка, украшенное по подолу каймой золотой вышивки.
— Тея? — Ее взгляд скользнул к янтарным бусам у меня на шее, к топазам в моих ушах, к небольшой золотой диадеме, которая удерживала мою прическу. — Что ты здесь делаешь?
Мне было видно, как завертелись мысли в ее голове, точь-в-точь как спицы колесниц на бегах.
— Я здесь работаю, — ответила я и махнула рукой, чтобы ей стали видны золотые перстни на моих пальцах. — А тебя какими судьбами занесло в Брундизий?
— Я приехала проведать пасынка. Он только что вернулся из Германии. Впрочем, это тебя не касается.
— Но Павлина сейчас нет во дворце! — Я тряхнула головой, и серьги в моих ушах заплясали, играя гранями топазов. Мне ничуть не было стыдно, что изнутри меня душило злорадство. — Насколько мне известно, он отбыл по делам в казармы преторианской гвардии и вернется лишь завтра.
— А откуда тебе это известно? И что вообще ты делаешь во дворце, Афина? — Лепида одарила меня колючим взглядом и гордо вздернула подбородок. Мы с ней уже начали привлекать к себе взгляды, и она поспешила понизить голос.
— Префект Норбан близкой друг самого императора, и если он услышит, как ты разговариваешь со мной…
— Ну и что? Павлин и мой близкий друг тоже. Так что, думаю, он простит меня…
Я воспользовалась своим ростом, чтобы посмотреть на нее сверху вниз. Надо сказать, что и сейчас этот трюк сработал столь же хорошо, что и в прошлом. Если даже не лучше, потому что на этот раз мое платье не уступало в роскоши ее наряду, а украшение были даже дороже, чем у нее.
— Что же касается императора, то он простит мне что угодно. Кстати, ты случайно не к нему направляешься? К сожалению, сейчас он занят, изучает планы строительства новой гавани. Быть императором — значит, почти не иметь свободного времени, — я даже притворно вздохнула в знак сочувствия. Полная матрона в сиреневом шелковом платье покосилась в нашу сторону и, прикрыв рот ладонью, что-то прошептала своему супругу. — Быть в постоянных заботах, в постоянных трудах. Впрочем, нашего императора это, похоже, не слишком тяготит. Так что, тебе лучше прийти завтра.
С этими словами я развернулась, как будто и впрямь собралась идти дальше.
В следующий миг мне в руку впились острые ногти.
— Что ты хочешь этим сказать! Можно подумать, ты знакома с императором.
— Представь себе, что знакома. Более того, он мне предан, — я улыбнулась. Каждое мое слово было подобно острой стреле и каждое било в цель. Я нарочно повысила голос, что окружающие слышали наш разговор. Кое-кто из стоявших в стороне ликторов покосился на нас. — Как, неужели ты не слышала? Афина, новая певчая пташка нашего императора. Она же его новая возлюбленная! — Я резко развернулась, колыхнув складками дорогого наряда. — Между прочим, это я.
Лепида позеленела от злости. Раньше я ничего подобного не видела, и потому наблюдала за ней с неподдельным интересом. Лицо Лепиды напоминало незрелый сыр. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, затем снова закрыла, и так еще пару раз, как будто потеряла дар речи. Впрочем, я так и не дала ей ничего сказать, ибо вытащила свою последнюю и самую острую стрелу. Теперь уже все, кто находился в атрие, не стесняясь смотрели в нашу сторону.
— Более того, когда император удалится на лето в свою виллу в Тиволи, он, между прочим, возьмет с собой и меня.
Я вновь одарила мою собеседницу улыбкой. Лепида застыла на месте, хватая, словно рыба, ртом воздух.
— Можешь зайти ко мне разок, пока я еще здесь и не уехала в Тиволи. Думаю, нам есть, что сказать друг дружке. Кстати, тебе нет нужды стесняться по поводу того, что идешь в гости к певичке и рабыне. Я уже привыкла принимать высокопоставленных посетителей. А пока желаю тебе приятно провести день, Лепида Поллия.
О, чудный миг! Нет, это действительно был чудный миг. Увы, стоило мне выйти из стен дворца на улицу, как моя радость тотчас уступила место сомнениям.
Да, император берет меня с собой в Тиволи. Куда обычно не приглашал никого.
Но почему?
— Решил одарить меня на прощанье? — спросила я как-то раз, проложив себе дорогу сквозь толпу слуг, рабов, секретарей, которыми обычно кишела его библиотека. Если его прощальный подарок окажется щедрым, возможно, я смогу выкупить у Ларция свободу.
— Я пока не прощаюсь с тобой, — ответил император равнодушным тоном, запечатывая какой-то документ и передавая его рабу. — Я намерен взять тебя с собой на лето в Тиволи. Мы уезжаем через пять дней.
Я застыла на месте, открыв от удивления рот. Подозреваю, что вид у меня в тот момент был довольно комичный. Домициан оторвал глаза от своих свитков и посмотрел на меня едва ли не с раздражением. Однако уже в следующий миг поднялся из-за стола, обошел рабочий стол и, шагнув ко мне, одарил теплой и искренней улыбкой, что бывало нечасто.
— Нет, Афина, я не шучу.
С этими словами он взял меня за руку, чем снова несказанно меня удивил. За исключением мгновений «постельной борьбы», он почти не прикасался ко мне. Домициан поднес мои пальцы к губам, как будто собирался их поцеловать, однако неожиданно наклонился и впился зубами в мякоть моей ладони.
— Много вещей с собой не бери, — сказал он и вернулся к своим документам, как будто ничего не произошло, принялся диктовать секретарям письма. Сопровождаемая ошеломленными взглядами всех, кто стал свидетелем этой сцены, я словно сомнамбула вышла из таблинума и тотчас столкнулась нос к носу с Лепидой.
Впрочем, я даже не стала останавливаться, ибо взгляд мой был устремлен не на нее, а на небольшой красноватый полумесяц на подушечке моей ладони. В солнечном свете он был уже почти неразличим.
Нет, похоже, мне действительно пора поторопиться домой. Если я через пять дней уезжаю в Тиволи, то времени на сборы у меня в обрез.
(обратно)
(обратно)
Глава 18
— Интересно, что делает такой всемогущий сановник, как префект претория Норбан, сопровождая любовницу своего начальника к ее господину? — поддразнила Афина. — Надеюсь, это не понижение в должности?
Павлин рассмеялся.
— Надеюсь, я пока единственный, кому император доверяет сопровождать его метрессу, не опасаясь, что по пути я попробую тебя соблазнить, — игриво ответил он. В сиреневом платье, с лазурными гребнями в темных волосах, Афина сидела, откинувшись на подушки за темно-фиолетовым пологом императорского паланкина, который несли шестеро нубийских рабов с каменными лицами, — живое воплощение императорской возлюбленной. Павлин ощутил легкий укол зависти, ведь он имел возможность наслаждаться ее обществом задолго до императора. Впрочем, Домициану вряд ли об этом известно. Павлин поспешил прогнать от себя эту крамольную мысль и направил своего скакуна к императору. Дорогу для них расчистили загодя, и роса уже высыхала на траве. Положив на плечи копья, вверенная ему когорта преторианцев бодро шагала позади него, шутливо поругивая весеннюю грязь под ногами. Воины были довольны не меньше, чем гарцующий на скакуне Павлин, тем, что тронулись в путь таким замечательным, ясным, солнечным утром.
— Поскольку я сейчас не во дворце, можешь называть меня просто Тея, — сказала Афина, веером отгоняя от лица пыль. — В конце концов, это мое настоящее имя.
Павлин растерянно заморгал.
— Я не знал.
— Конечно, откуда тебе это знать? Мужчины не привыкли разговаривать со своими любовницами. Лишь со своими друзьями.
— То есть император не разговаривает с тобой?
— Почему же? Разговаривает. — В голосе Афины, или Теи, прозвучали задумчивые нотки. — Но ведь он не такой, как все.
— Это верно, не такой, — согласился Павлин.
— И он высокого о тебе мнения. — Тея приподнялась и оперлась локтем на пурпурные шелковые подушки. — За эти последние несколько лет у тебя в Дакии почти не случалось никаких неприятностей.
Павлин пожал плечами, и плюмаж на шлеме колыхнулся.
— Я всего лишь сторожевой пес.
Тея улыбнулась и тряхнула головой. Лазурные серьги тотчас качнулись на фоне красивой стройной шеи.
— Как я понимаю, он постоянно прибегает к твоей помощи.
— Верно, — согласился Павлин. — Но это признак особого доверия.
— Пожалуй, ты прав. Доверить кому-то свои войны и своих женщин… У императоров не принято заводить друзей, но тебя вполне можно назвать его другом.
— Думаю, что нет, — возразил Павлин, с улыбкой глядя на пегую шею своего жеребца. — С таким человеком невозможно водить дружбу.
— Это почему же? — последовал вопрос.
— Ну хотя бы потому, что он… — Павлин попытался подобрать точное слово. — Стоит увидеть его на войне, как ты сразу все поймешь. Он не из тех полководцев, что привыкли рассуждать о доблести за чашей теплого вина, так ни разу и не рискнув броситься в самую гущу сражения. Иное дело — наш император. Неудивительно, что легионеры готовы стоять за него горой. Ведь он один из них. Такой же воин, как и они сами.
Тея наклонила голову.
— Люди говорят, что он бог.
— Может, и бог. И если есть на земле человек, о котором можно сказать, что он бог, то это он. — Павлин покосился на Афину. — А ты как считаешь?
— Ну я всего лишь простая еврейка, — весело ответила она, обмахиваясь веером. — Мы верим в единого бога. Кроме того, тебе не кажется странным, что можно ложиться с богом в постель, как Леда или Европа?
— Я… не знаю, касается ли это меня лично, — неожиданно Павлин почувствовал, что краснеет, и поспешил перевести взгляд на загривок коня.
— Павлин, — в низком, бархатистом голосе Теи звучала насмешка. — Я никогда не скажу императору, что ты когда-то пользовался моей благосклонностью, а не просто приходил послушать мою музыку.
— Это совсем не то, о чем я думал, — тем не менее он ощутил нечто вроде облегчения. Да-да, в этом не было никаких сомнений. — Но о нем ходят слухи. Не надо верить всему, что о нем говорят.
— …Понятно.
— Слухам о его племяннице, — поспешно добавил Павлин. — Грязные, омерзительные слухи. Император лишь презрительно фыркает и говорит, что сплетни живут собственной жизнью, независимо от того, скольких сплетников приходится казнить. Однако люди не должны так говорить о своем императоре лишь потому, что он был добр к ней.
— Ты когда-нибудь встречал Юлию?
— Давно, когда она была ребенком. К тому времени я получил назначение в префекты, а она по причине своего слабого здоровья жила в Кремоне. Она была безумна, насколько тебе известно. Я видел донесения предыдущего префекта, который на каждого, кто жил во дворце, вел дело. Она бродила по дворцу, бормоча под нос что-то несвязное, отказывалась от пищи, заползала в храм Весты, где пыталась спать под алтарем. Даже когда я знал Юлию ребенком, ее поведение было полно странностей. Она до смерти изводила себе страхами, которые жили в ее голове. Она была… была ненормальной, хотя я так и не посмел сказать об этом императору. Он не желал слышать ни единого дурного слова в ее адрес. А так как собственных детей у него не было, он относился к ней как к родной дочери.
— И тем не менее говорят, будто она умерла, вытравливая плод?
— Нет. — Павлин вспомнил секретное донесение, которое ему принесли, — описание, сделанное одним врачом в Кремоне, который затем бежал, опасаясь за свою жизнь. — Это было самоубийство. Она вспорола себе живот. Умерла она не сразу, но заражение крови в конце концов убило ее… после этого пошли кривотолки, будто она умерла, пытаясь избавиться от плода. Мой отец был там и пытался выяснить правду, но кто станет слушать правду, когда ложь гораздо интересней.
После этой фразы Павлина воцарилось неловкое молчание. Афина поерзала на шелковых подушках, затем слегка поправила пурпурный занавес, чтобы солнце не светило ей в лицо.
— Кстати, Павлин, несколько дней назад я видела во дворце твою мачеху.
Судя по всему, она пыталась найти менее щекотливую тему для разговора, а в результате затронула даже более щекотливую.
— Лепиду?
— Ее. Она сказала, что собирается тебя проведать.
— Но так и не проведала. — Павлин наклонился, чтобы стряхнуть с сапога налипшую грязь. — Она… сказать по правде, мы с ней не слишком ладим. Я вижу ее время от времени. Но в остальном… — он вновь не договорил.
— Лично я, — произнесла Афина, причем вполне искренне, — скорее заведу дружбу с гадюкой, чем с Лепидой Поллией.
Следующую пару миль они проделали в молчании. Лишь расписной веер Афины покачивался в такт шагов нубийских рабов.
— Афина, Тея, — не выдержал наконец Павлин. — Ты когда-нибудь… я хочу сказать, тебе когда-нибудь хотелось кого-нибудь? Сильно, так, как странник жаждет в пустыне глотка воды? Даже если ты знала все слабости этого человека, все его недостатки, но они для тебя ничего не значили.
Он прочел в ее глазах жалость и отвернулся.
— Да, — ответила она. — Был один человек, которого мне хотелось именно так.
— И сколько времени тебе понадобилось, чтобы забыть его?
Афина медленно покачала головой. Ее веер недвижимо застыл на месте.
— Я так его и не забыла.
— Не забыла?
— Нет. Возможно, выйди я за него замуж, все было бы иначе, а так… — она пожала плечами. — Тебе нужно непременно жениться, Павлин.
— Я спрашиваю не о себе. Речь идет о моем друге. Его имя Траян.
— Разумеется.
Павлин слегка пришпорил коня. Ему было проще ехать впереди носилок, нежели ощущать на себе взгляд этих пронзительных глаз.
(обратно)
Тея
Учитывая неприхотливые вкусы Домициана, я была удивлена красотой его виллы в Тиволи.
Это был настоящее произведение искусства из белого мрамора: украшенные колоннами дорожки, террасы садов, вазы с лилиями и тихие пруды, мозаики, серебряные нимфы в нишах. Роскошное и уютное гнездышко, спрятанное в горах всего в миле от прекрасного города Тиволи, где даже тот, кто всегда на виду у всех, может наконец побыть в одиночестве. Домициан прибыл сюда на день или два позже меня. В кои веки рядом с ним не было толп придворных или роя усердных секретарей. Не считая молчаливых рабов, император Рима и я были совсем одни. Как это странно и непривычно.
— Я приказал подать обед на террасе, — сказал он мне. — Через час.
Я тщательно выбрала свой наряд в комнате из розового мрамора, которая когда-то могла принадлежать Юлии: простое белое платье с серебряным поясом под грудью. Распущенные волосы ниспадали на спину. Никаких украшений, кроме бронзового перстня Ларция на одной руке и массивной жемчужины на другой. Как приятно после всех этих пышных нарядов ради разнообразия облечься в простое платье. Я отодвинула в сторону баночки с румянами и босиком вышла на террасу. Под ивовым деревом стояли два серебряных ложа, тишину и покой нарушало лишь журчание струй.
Император уже ждал меня: облокотившись на одно из лож, он быстро пробегал глазами свитки, небольшой горкой лежавшие перед ним.
— Весталка, — произнес он, увидев мой белоснежный наряд.
— Нет, просто девушка на загородной вилле.
Я прилегла с ногами на соседнее ложе и принялась за угощения, которые на блюдах бесконечной вереницей приносили молчаливые рабы. Тут были и страусиные яйца, и языки фламинго, и оленина с розмарином, и засахаренные орехи, и пирожные с кремом, и старое красное вино в инкрустированном драгоценными камнями графине — как это не похоже на обычную трапезу Домициана, состоявшую их куска мяса с хлебом и кружки пива! Не скрылись от меня и другие перемены: шелковые подушки на ложах, хотя обычно император презирал роскошь и негу, массивные серебряные блюда, хотя обычно он ел с глиняных тарелок, а вместо обычной шерстяной туники на нем было яркое одеяние из роскошного восточного шелка.
Он оторвал взгляд от свитков и посмотрел мне в глаза.
— Ну как, я тебе нравлюсь?
— Да, — улыбнулась я.
— Да, — он словно пробовал на вкус это слово. — Ты скажешь это любому мужчине. Кстати, сколько их у тебя было?
— Что?
— Сколько, — спрашиваю я.
Его взгляд привел меня в замешательство: не то чтобы совсем отсутствующий, но какой-то далекий.
— Довольно притворяться, Афина. Хорошо, попробую угадать. Сто?
— Не знаю, — сказала я и добавила спокойно: — Нет, только ты.
— Отличный ответ. Быстрый, убедительный, уклончивый. Ты могла бы заседать в Сенате, не будь ты шлюхой.
— Я…
— Сколько тебе? Двадцать четыре? Ты наверняка начала рано…
— Цезарь…
— Во сколько? В двенадцать лет? В тринадцать? Когда ты научилась столь превосходно лгать?
Я поставила кубок на стол.
— Какой у тебя отсюда открывается прекрасный вид. Можно взглянуть?
Не дожидаясь ответа, я подошла к краю террасы. По небу пролегла зловещая красная полоса — это все, что осталось от заката, а из-за крыши виллы неспешно выплывала луна. Я посмотрела вниз, мимо моих босых ног. Терраса не имела балюстрады, лишь только этот мраморный край, который обрывался примерно на десять локтей
[294] вниз, если не больше, к неспешно текущей реке.
— Опасно, не правда ли? — раздался за моей спиной голос Домициана.
— Верно, опасно. — Я обернулась и посмотрела на него. — Но у меня хорошее чувство равновесия.
Он на мгновение пристально посмотрел на меня, затем поднялся с ложа и, перейдя террасу, встал рядом со мной. Было слышно, как на нем шуршит восточный шелк.
— Какой великолепный вид, — произнес он. — Утром от реки облаком поднимается туман — словно Юпитер, пришедший к Данае. Воистину великолепный, — повторил он и потрогал мои волосы.
— Ты часто приезжал сюда с Юлией? — не удержалась я от вопроса.
— С Юлией? — он произнес это имя так, как будто слышал его в первый раз. — Нет. Она не любила эту террасу, боялась сорваться вниз. Не то что ты.
Домициан намотал мои волосы себе на руку.
— Но ведь ты не Юлия, верно? — Глядя отсутствующим взглядом куда-то на другой берег реки, он резко дернул мою голову назад. От боли у меня на глазах выступили слезы. — Юлия никогда бы не осмелилась встать у самого края.
Он высвободил руку из моих волос, и мне стало не так больно. Я стояла, застыв на краю террасы, а он тем временем провел пальцем по мой шее, я бы даже сказала, почти погладил, этот мужчина, который ни разу не прикасался ко мне игриво. Я ощущала его руку у себя на шее, ощущала его дыхание, и, тем не менее для меня явилось полной неожиданностью, когда пальцы Домициана взяли меня за горло и крепко сжали.
— Ну как, а теперь тебе страшно? — спросил он, и в глазах его читалось едва ли не детское любопытство.
Пальцами ног я ощущала холодный мрамор.
— Нет.
— Лжешь, — его пальцы еще сильнее сжали мне горло.
— Возможно.
— Ты скована ужасом.
— Нет.
— Тебе известно, как я поступаю со лжецами?
Кажется, я постепенно начинала получать представление об этом. Мы вместе качнулись на краю мраморного обрыва. Похоже, что я сейчас упаду вниз.
И я упала… опустилась на четвереньки на твердый холодный мрамор. Это Домициан оттолкнул меня от бездны. Я жадно ловила ртом воздух, дыхание рвалось из горла едва ли не хрипом. Затем посмотрела на него снизу вверх.
На какое-то мгновение он задержал на мне взгляд. Затем улыбнулся знаменитой улыбкой всех Флавиев, которая тотчас смягчила его черты.
— Ты еще это признаешь, — весело произнес он. — Ты еще признаешься, что тебе страшно. А теперь нас ждет постель.
И его сильная солдатская рука подхватила меня.
Я медленно открыла глаза. Синяки. Боль во всем теле. Мужская рука на моем голом плече.
Я отодвинулась и едва не упала с кровати. Однако этот мужчина был светловолосым греком, одетым в грубую тунику раба, и он почти дружески улыбнулся мне. Императора рядом не было.
— Кто ты? — услышала я собственный голос.
Но раб лишь улыбнулся мне в ответ и принялся приводить в порядок комнату: собирал подушки, аккуратно складывал простыни. Затем наклонился, чтобы поднять с пола платье и, посмотрев на пятна, поморщил нос.
— Можешь выбросить, — сказала я ему.
Он посмотрел на меня с таким искренним сочувствием, а потом вновь перевел взгляд на грязное платье, которое держал в руках. Я даже отвернулась от стыда. Впрочем, он уже не раз видел такое. Я не стала протестовать, когда он поднял меня с кровати. Сомневаюсь, что я была способна держаться на ногах без посторонней помощи.
Он отнес меня в небольшое банное помещение зеленого мрамора, примыкающее к моей спальне. Бассейн был уже полон горячей воды, от которой поднимался пар. Кто-то уже успел развести в жаровне огонь. Раб опустил меня в теплую воду и, словно маленького ребенка, искупал — потер меня лоскутком мягкой ткани, втер мне в волосы масло камелии. При этом он старался не давить на синяки, чтобы не сделать мне больно.
— Как твое имя? — поинтересовалась я.
Раб улыбнулся и приподнял меня из бассейна. Вытерев насухо полотенцем, он завернул меня в одежды и вынес на улицу. Я быстро покачала головой.
— Нет, я не хочу идти… — Только не на террасу. — Ты знаешь, где сейчас император?
Он издал какие-то звуки, призванные меня успокоить, и обвел рукой пустую террасу. Здесь стояло лишь одно ложе, а на столе — лишь одна чаша и один кубок. Над мраморным краем от серебристой реки, клубясь, поднимался туман — Юпитер спешил к Данае. Какая дивная красота!
Я зарылась лицом в ладони.
Я смутно отдавала себе отчет в том, что этот молчаливый грек со мной. Он усадил меня на ложе, приподнял мои влажные волосы, и я ощутила прикосновение гребня.
Я раскачивалась взад-вперед в лучах теплого майского солнца, зажмурившись и уткнувшись лицом в ладони, чтобы ничего не видеть.
— Приветствую тебя, моя дорогая.
Я так резко выпрямилась, что едва не свалилась с ложа. Но это был не Домициан, а толстый коротышка лет тридцати, круглолицый, с челкой приглаженных локонов надо лбом.
— Я Несс, — представился он, сияя улыбкой. — Астролог нашего императора. Как я полагаю, ты его новая наложница. Рад с тобой познакомиться. Кстати, императора здесь нет. Уехал по каким-то государственным делам и, если не ошибаюсь, будет отсутствовать весь день.
Я кивнула в знак приветствия. Правда, губы мои не смогли произнести ни единого слова, но, похоже, Несс этого не заметил. Потому что опустился на резной табурет напротив моего ложа и выставил вперед пухлые, обутые в сандалии ноги.
— Афина, кажется, так тебя зовут. Насколько мне известно, так звали одну богиню. Ага, вижу, ты уже познакомилась с Ганимедом. Это он причесывает тебе волосы. Согласись, ему идет это имя.
Я посмотрела на раба, и он улыбнулся мне через плечо. Ганимед — «прекрасный юноша»,
что ж, действительно, удачное имя. У него были синие глаза, светлые волосы, а сложен он был как Аполлон. Скажу честно, мы было приятно ощущать нежные прикосновения его рук.
— Спасибо, — поблагодарила я осипшим голосом.
— Он немой, — сообщил Несс. — Более того, немой от рождения. Впрочем, какая разница, поскольку у всех остальных рабов на этой вилле вырваны языки.
Я в упор посмотрела на упитанного астролога.
— Но ведь ты не нем.
— Верно, но ведь я не раб. Хотя, если посмотреть, чем я лучше их? Кому нужны астрологи в наши дни? Поэтому я привязан к императору и этому своему месту. Кстати, ты будешь есть эти булочки?
Я подтолкнула к нему тарелку с едой.
— Почему… почему астрологи в наши дни никому не нужны?
— Потому что быть астрологом противозаконно. Император своим указом изгнал всех астрологов, правда, мои услуги он счел полезными — что вполне естественно. Ибо я лучший. Поэтому он и счел возможным оставить меня при себе. Признаюсь честно, мне нравится моя работа. Изысканная пища, в избытке вина, жалованье платится регулярно.
С этими словами он намазал булочку медом.
— А теперь твоя история. Я просто сгораю от любопытства.
— Я певица. Он увидел меня, я ему понравилась, он привез меня сюда. Вот и все.
— Ты должна научиться добавлять к своей истории яркие подробности, моя дорогая. Не бойся бахвальства. Я, например, никогда не стесняюсь прихвастнуть. В тебе должно быть нечто особенное, иначе он никогда бы не остановил свой выбор на тебе. Признайся, в чем твой секрет?
— Мой секрет? — Я прижала ладонь к горлу. — Я не похожа на Юлию.
— А-а-а, понятно, — протянул Несс, и в его пронзительных глазках вспыхнули искорки сочувствия к моим синякам. — Странная девушка была эта Юлия. Такое болезненное создание, однако она терпела восемь лет его… — Несс не договорил и поспешно прокашлялся. — Я хочу сказать, на самом деле она была не такая уж и болезненная, как на первый взгляд. Честное слово, я страшно удивился, когда она умерла. Готов поклясться, ей еще было жить и жить. Я ведь читал ее гороскоп. Но она взяла свою судьбу в собственные руки. Некоторые люди способны на такое. — Несс вздохнул и впился зубами в персик.
— Ты читал ее гороскоп?
— Да. И ее ладонь. Скажу тебе чистую правду. Ладонь я предпочитаю звездам. Не нужно делать никаких расчетов.
— А линии жизни на моей ладони ты не прочтешь? Хотелось бы знать, когда я ему наскучу.
Услышав мой хриплый голос, Несс пристально посмотрел на меня и протянул мне пухлую руку. Я в ответ протянула ему свою.
— Я не стану произносить заклинаний, не стану делать движений, к которым вынужден прибегать время от времени. — Несс бегло пробежал глазами мою ладонь, как какой-нибудь писарь, читающий свиток. — Итак, твое прошлое, — я вижу жаркое место, жаркое и засушливое. И шестиконечную звезду, что указывает на племя Давидово, так что жаркое и засушливое место — это Иудея. Вижу город, в котором царит смерть, мертвые тела навалены друг на друга в три-четыре слоя. Что ж, в истории Иудеи есть немало темных страниц. Ну ладно, пропустим эту часть. Затем идут новые города и новые люди, и даже новое имя. Музыка, вот то единственное, что остается неименным. Она пролегла по твоей руке подобно золотой нити. Несколько старых неприязней. Впрочем, есть и старая любовь, причем не одна. Воин — я вижу его, он оставил на твоей ладошке глубокий след. И, подобно облаку, окружен рукоплесканиями толпы. Скажи, это что-нибудь для тебя значит?
— Нет, ничего, — хрипло ответила я. — Продолжай.
— После воина — ребенок. О, прошу тебя, не бойся. Я никому не скажу. Затем я вижу других детей, но это мы уже переместились в будущее. Да-да, причем не одного ребенка, а целый выводок.
— Чьи это дети? — спросила я.
Только не дети Домициана, только не его! Я подумала о египетском снадобье из смолы аюта и о стручках акации, которые способны предохранить от зачатия; о настойке мяты и руты, которая может оборвать беременность, если паста аюта не помогла. Все это были уловки шлюхи, которым я научилась, когда жила в портовом лупанарии, и мне не раз приходилось к ним прибегать. Домициан не станет отцом ни одному из моих детей.
— Чьи это дети — не видно. Ведь это всего лишь ладонь. А здесь, у основания этого пальца, я вижу венец. Мы оба знаем, кто это такой. Линии здесь пересекаются друг с дружкой, значит, время испытания близко.
— Сколько еще ждать? — шепотом спросила я.
— Не знаю. Какое-то время, судя по всему. Нелегкое время, и его исход неясен. Более того, — Несс загнул мне пальцы поверх ладони и подтолкнул ко мне руку, — нелегкое прошлое, моя милая, нелегкое будущее. Прости, но ничего утешительного сказать не могу.
— Какое-то время? — повторила я. — А точнее нельзя сказать? Сколько оно продлится?
Ганимед легонько похлопал меня по голове.
— Во времена, подобные нынешним, я не люблю заглядывать в будущее, — ответил Несс и подтолкнул ко мне чашу. — Угощайся. Возьми себе булочку.
(обратно)
(обратно)
Глава 19
Тея
Ганимед заставил меня отправиться за покупками. Я посетила самые дорогие из торговых мест Тиволи, и хотя лицо мое было скрыто вуалью, все прекрасно знали, кто я такая.
— Госпожа, не желаешь ли благовоний?
— Не хочешь ли купить румян из Индии?
— Шелк! Купи шелк, чтобы лицо твое сияло его светом!
Я деревянной походкой шла по рынку, указывая на товары, которые хотела бы купить. Я выбирала такие вещи, которые со временем не обесценятся — золотые статуэтки и украшения из слоновой кости, небольшие вещицы, которые в иных обстоятельствах можно легко вынести с собой из дома. Ганимед шагал у меня по пятам как верный пес. Благородные матроны, завидев меня, удивленно выгибали выщипанные брови, пара легионеров ткнули друг друга локтями в бок. И все как по команде уступали мне дорогу.
Украшения. Я вошла в первую же лавку и, указав на блюдо с кольцами, на глазах у растерянного торговца, принялась нанизывать их себе на пальцы. По два-три на один палец, — золотые, серебряные, украшенные жемчугом.
— Браслеты, госпожа?
— Да, — ответила я и принялась надевать их на руки — один, второй, третий… Вскоре они уже гремели на мне, как кандалы на каторжнике. Напоследок я застегнула на шее еще три или четыре ожерелья. — Управляющий императорским поместьем оплатит твой счет, — сказала я и с гордым видом вышла из лавки, унося с собой поистине царский выкуп. Я надеялась, что когда императору наскучит мое общество, все это золото, серебро и драгоценные камни помогут мне купить себе будущее.
Поскорее бы это произошло!
Я перешла дорогу, направляясь к ближайшей скамье — прохладному брусу мрамора рядом с храмом Юпитера. Рядом со мной, едва не сбив меня с ног, резко остановилась какая-то повозка. Впрочем, никто не выругался, никто не пригрозил мне кулаком. Я была женщиной императора. Кто посмел бы прикоснуться ко мне? Преторианец в краснозолотом плаще, что вышагивал позади меня, был приставлен ко мне отнюдь не для того, чтобы ограждать меня от возможных посягательств, а чтобы я не сбежала.
Ганимед что-то вопросительно промычал.
— Да, — сказала я, присаживаясь, — ты был прав, что вытащил меня за покупками. Это просто чудесно!
А еще чудеснее оказаться одной, потому что император вернулся в столицу и, по всей вероятности, его не будет до следующего вечера.
Я подставила лицо ветерку. Какой чудесный день! Немного ветрено, однако не холодно, хотя я на всякий случай набросила на плечи шерстяной плащ. Можно сказать, день прекрасный во всей отношениях.
Я плотнее обернулась в плащ, довольная своими покупками.
— Ганимед! Ганимед! Это ты?
Я подняла глаза. Ганимед, сияя улыбкой, отложил мои покупки в сторону, а сам торопливо поднялся, чтобы отвесить поклон невысокой женщине в желтом платье, которая спускалась с дорогих, украшенных золотом носилок.
— Да-да, я тоже рада тебя видеть! — произнесла она. — Как жаль, что ты больше не мой раб! С тех пор, как я тебя потеряла, мне никто ни разу не сделал хороший массаж! Ой, а это кто? — Незнакомка обернулась в мою сторону, буквально буравя меня темными глазами.
— Афина, госпожа, — тотчас нашлась я с ответом и поднялась со скамьи.
— А я Флавия Домицилла, — ответила женщина в желтом платье и пухлой ручкой сделала мне знак — мол, жесты уважения с моей стороны больше не требуются. — Я живу на вилле вон за тем холмом. Вернее, я живу там сейчас. Мой муж был наместником Сирии, но император недавно отозвал его, и я наконец надеюсь обзавестись настоящим домом и превратиться в римскую матрону. Император, — добавила она как бы невзначай, — приходится мне дядей. Или что-то в этом роде.
Так вот кто она такая! Флавия Домицилла! Вторая дочь императора Тита от первого брака. Племянница Домициана. Не такая интересная и не такая скандальная, как ее единокровная сестра Юлия, поскольку удачно вышла замуж и родила положенных каждой добропорядочной женщине двух сыновей. Так что не исключено, что сейчас передо мной, улыбаясь знаменитой улыбкой Флавиев, стояла мать будущего императора.
— Тебе непременно следует как-нибудь приехать ко мне на виллу, — весело произнесла розовощекая Домицилла. — Если добираться на носилках, это займет не больше пятнадцати минут. Я обожаю принимать гостей! К сожалению, боюсь, сама я не могу нагрянуть к тебе в гости, потому что мой дядя не переносит непрошенных посетителей.
Я удивленно заморгала. Патрицианка, женщина из рода Флавиев, приглашает к себе в гости, и кого? Презренную потаскушку, наложницу своего дяди! Неужели ей неизвестно, кто я такая?
— Император тебе про меня рассказывал?
— Нет, конечно. Он никому ничего не рассказывает. Зато рабы большие любители почесать языком, даже те, что немы. Я наслышана о твоем удивительном голосе. Так что ты должна непременно приехать ко мне и усладить мой слух своим пением. А еще говорят, будто ты играешь на лире? Ой, что это такое? Неужели синяк?
Я резко подняла на нее глаза, в надежде найти в них любопытство. Однако она посмотрела на синее пятно у меня на запястье без особого интереса.
— Я упала с носилок, госпожа, — ответила я и поспешила натянуть пониже рукав. Интересно, сколько ей известно о Домициане, этой патрицианке в желтом платье, от которой, подобно индийским благовониям, исходила свойственная Флавиям аура доброжелательности и участия? Какими секретами делилась с ней ее ныне покойная единокровная сестра?
Хотелось бы знать, что ты унаследовала от дяди. Только ли его глаза? Но, может, и его пристрастия?
— Попроси Ганимеда, чтобы он приготовил для тебя свой знаменитый бальзам. — Флавия сделала мне знак, приглашая следовать за собой, и я зашагала с ней рядом. Моя новая знакомая шла по улице уверенной походкой человека, который знает, что перед ним, уступая дорогу, расступится любая толпа. — Он готовит ароматную пасту, которая хорошо лечит порезы и синяки. Он вечно смешивал какие-то снадобья для моей сестры Юлии. Она тоже постоянно вываливалась из носилок.
Я вопросительно посмотрела на Флавию Домициллу. Она тоже повернулась ко мне, буравя меня пронзительным взглядом своих проницательных немигающих глаз, которые так не вязались с ее розовым пухлым личиком.
Я вновь поспешила отвесить поклон.
— Спасибо, госпожа.
— О, дорогая моя, можешь просто называть меня Флавией, — произнесла моя новая знакомая и похлопала меня по руке. — Ой, боюсь, что мне нужно поторопиться. Столько дел сегодня утром, что страшно подумать! Помнишь, что я тебе сказала? В самое ближайшее время жду тебя в гости.
Мгновение — и ее желтое платье уже скрылось из виду. Шагавший следом преторианец напомнил мне хвост кометы — с такой поспешностью он устремился вслед за ней.
К вечеру император вернулся.
— Я буду все лето то уезжать, то приезжать сюда снова. Советую тебе к этому привыкнуть.
— Хорошо, господин и бог.
— Мне казалось, мы остановились на «цезаре».
— Да, цезарь.
— Потому что евреи верят лишь в одного бога. Ведь и ты тоже? Поэтому когда ты называешь меня «господин и бог», то либо лжешь, либо считаешь, что я и есть тот самый единственный еврейский бог.
— Не хочешь ли вина?
— Нет, не хочу. Так как все-таки, Афина? Я бог или ты мне лжешь?
— Ты обвинишь меня во лжи независимо от того, что я скажу.
— Что ж, может, и так. — Домициан откинулся на подушках. — Так каков он, этот твой единственный истинный бог?
— Он суров, но справедлив.
— Он берет в жены смертных женщин, подобно Юпитеру?
— Нет, потому что он и мужчина и женщина одновременно.
— Не удивительно, что евреи такие несчастные. Скажи мне, ты боишься этого своего женоподобного бога?
— Да, боюсь.
— А меня нет?
С этими словами он взял мои волосы в руку и пригнул мою голову к краю ложа. Я успела отвернуться, поэтому острый край соприкоснулся с моей щекой, а не с глазом.
— Почему?
Мне было нечего сказать ему в ответ.
Долгие дни. Палящее солнце. Я чаще бывала одна. Домициан то уезжал в Рим по государственным делам, то возвращался. Я постоянно совершала вылазки в город за покупками и принимала бесконечные ванны. Мне не давали покоя мысли о Виксе — я не сомневалась, что он отравлял жизнь Пенелопе. Я также читала гороскопы, которые составлял для меня Несс. Звезды несли мне все те же дурные известия, что и ладонь. Вид у Несса был виноватый. Ганимед поглаживал ему руку и что-то бессловесно мычал, явно пытаясь успокоить. Интересно, они случайно не любовники? Впрочем, в Ганимеда влюбился бы любой, даже несмотря на его немоту.
Домициан, в перерывах между работой над новым сводом законов, сочинял труд по уходу за волосами. Волосы у самого были редкие, и не дай бог что-нибудь упомянуть об этом в его присутствии. Я для придания блеска посоветовала ему ополаскивать их цветочным настоем, но мне было велено замолчать… И все же, император, сочиняющий труд по уходу за волосами? Впрочем, у всех нас свои слабости. Император Тиберий играл с рабынями. Клавдий занимался изучением этрусков. Домициан писал про волосы. Другое его увлечение состояло в следующем: выстроив рабов под террасой, стрелять из лука, целясь между их растопыренными пальцами. В этом деле он хорошо набил руку, никогда не попадал мимо цели, а если и попадал — то лишь нарочно. Будучи в дурном настроении, он бывал точным, будучи в веселом — обожал стрелять мимо цели.
Я пела Ларцию песни. Он был крупный, розовощекий и довольный. Пенелопа тоже. Она сказала, чтобы я побольше спала. Ларций сказал, что у меня осипший голос. Это потому, что меня слишком часто душат, ответила я совершенно серьезно, и он меня понял. Затем он исчез, и когда я проснулась, то поняла, что это был всего лишь сон.
Тем временем прошел уже месяц. Осталось лишь несколько месяцев лета. Домициан вернется в Рим, а я вернусь в Брундизий, назад к моему сыну, к Ларцию и его ласковому голосу. Всего несколько месяцев. Но, о боже, как медленно они тянутся!
— Несс сказал мне, что ты познакомилась с моей племянницей, Домициллой.
— Верно.
— Пустая девчонка, совсем, как ее мать. Между прочим, христианка. Тебе известно, кто они такие, эти христиане? Скорее крысы, а не люди. Обожают ютиться в катакомбах, где рисуют по стенам рыб. Я уже подумываю о том, чтобы забрать у нее обоих сыновей, но пока что они производят впечатление настоящих римлян.
— И тогда они станут твоими наследниками?
— Верно. Поскольку моя жена не подарила мне собственных сыновей. Или ты решила осчастливить меня сыном? Я слышал, что у тебя есть, по крайней мере, один ребенок…
— Его воспитывают приемные родители, — быстро нашлась я с ответом. — Не люблю детей. Я его даже ни разу не видела.
Господи, пусть он в это поверит. Я представила себе Викса в руках у этого чудовища.
— Открой глаза, — приказал Домициан, — и скажи мне, что ты меня боишься.
— Нет.
— Я по запаху чую, что да.
— Нет.
Долгие ночи. Луна, истекающая расплавленным серебром. И ни разу одна. Долгие, долгие ночи, полные странных вещей. Острое перо, которым император любил налету пронзать мух и которое использовал также и в других целях. Мягкие браслеты на цепях, которыми мои руки бывали прикованы к ложу. Вечные вопросы: «Ну как, больно? Нет? А если я затяну туже?» И никакого сострадания во взгляде, деловитые движения ученого натуралиста, ставящего опыты.
Боже мой, какой наивностью было полагать, будто в лупанарии плохо. Нет, там было не плохо, а просто тоскливо. Утомительно, но не плохо. Плохо, это когда веселый голос среди ночи спрашивает: «А теперь боишься? Остается еще несколько часов, чтобы это выяснить».
Банка за банкой притирок и бальзамов Ганимеда.
— О, еще не все так страшно, Тея, — мягко говорила мне Юлия в моих снах, как всегда, подобно весталке, облаченная во все белое. — Я вытерпела восемь лет.
Прости, Юлия, я перед тобой виновата. Я считала тебя сумасшедшей. Я сама уже почти сумасшедшая. Он любил наблюдать за тобой спящей?
Миновал второй месяц, но как мучительно медленно.
— Ты какая-то бледная, Афина, — заметила Флавия Домицилла, поздоровавшись со мной. — Ты мало бываешь на солнце. Мне все равно, что там говорят эти бледные как тени красавицы, но солнце для того, чтобы им наслаждаться, чтобы купаться в его лучах, мы же бежим от него, словно орда варваров. А как поживает император?
— Очень хорошо, — ответила я.
Как правило, других вопросов Флавия Домицилла не задавала, я же не вдавалась в подробности.
— А как поживают ваши сыновья?
Лицо моей собеседницы просияло.
— Носятся повсюду, смуглые, словно финикийцы, причем заявляют, что ни за что на свете не вернутся в город и будут жить здесь всю жизнь.
— А твой супруг?
Мне довелось встречать Флавия Клемента. Это был бледный мужчина, который явно догадывался о моей профессии, однако держался со мной с той же безупречной учтивостью, что и со всеми женщинами — начиная супругой и кончая последней рабыней.
— Думается, свежий воздух идет ему на пользу. Клянусь, я тоже никогда не вернусь в город! Мне здесь так хорошо. И у меня есть любимое дело — я по кирпичику разбираю старую виллу, чтобы на ее месте построить новую. На прошлой неделе мне выложили на полу мозаику.
Я посмотрела себе под ноги и впервые обратила внимание на орнамент — круги из двух рыб с переливающейся чешуей.
— Как красиво! — воскликнула я. — Рыбы, если не ошибаюсь, это христианский символ?
— О, смотрю, мой дядя уже рассказал тебе о моем небольшом грешке. — Домицилла улыбнулась, и на ее пухлом лице появились ямочки. — Да, я христианка. Вольноотпущенник моей матери, Траке, тоже им был, а учитывая, с какой легкостью моя мать меняла мужей, то Тракс был мне почти как отец, и что-то, чему он учил меня, осталось в моей душе. Боюсь, что для императора я — источник постоянной неловкости. Ведь это ни для кого не секрет, хотя на публике я, как и положено, выполняю все обязательные обряды.
— Ты… я бы советовала тебе быть осторожнее, госпожа Флавия, — с надлежащей учтивостью произнесла я. Мне нравилась эта женщина: она держалась со мной душевно и искренне. Впрочем, пропасть между нами, патрицианкой и наложницей, все равно была огромна. — Император как-то раз обмолвился, что хотел бы забрать у тебя сыновей, если они не будут воспитываться как настоящие римляне.
— Но их именно такими и воспитывают! К тому же он никогда не отнимет их у меня. Потому что куда он их поселит? В свой дворец? Да он не любит детей и вряд ли станет терпеть их постоянное соседство. В конечном итоге он махнет рукой на мои убеждения как на обыкновенную блажь. Тем более что это так и есть. Кому есть дело до того, что я время от времени отношу своим бедным собратьям корзины с едой?
Ее спокойный тон тотчас вселил в меня подозрения. Думается, дело не ограничивалось одними только корзинами с едой. Интересно, эти толпы рабов, которых полным-полно на ее красивой вилле, они на самом деле рабы? А оборванные дети перед ее дверью, это просто нищие? В семействе Флавией имелось немало секретов как о самых добрых и сострадательных его членах, так и о самых жестоких. Но она ни разу не пыталась выведать у меня мои, и я же в свою очередь не стала расспрашивать о ее. Вот и сейчас она уже весело щебетала о чем-то еще, перескочив на другую тему, гораздо более невинную и безопасную.
— …Несс составляет для тебя гороскоп? Думается, ему можно верить, Несс лучший астролог во всей империи. Жаль, конечно, что моя вера не позволяет мне пользоваться услугами астрологов. Ну разве он не душка? Возможно, я тоже прибегну к его услугам. Он всегда был благодарен мне, с тех пор, как одолжила ему моего Ганимеда, чтобы тот сделал ему массаж. Назад я его так и не получила. Несс даже придумал какое-то невероятное предсказание, лишь бы оставить его у себя. Моя вера запрещает мне снисходительно относиться к любителям юношей, однако должна сказать, что они счастливы.
Ее разговоры всегда улучшали мне настроение. Похоже, она тоже это знала. Она всегда приглашала меня зайти к ней в гости и никогда не задавала вопросов. Интересно, этот урок она вынесла, общаясь с Юлией?
Я подумала об Арии.
Сильное тело, излучающее жар даже сквозь синюю тунику. Волосы пылают на солнце красной медью. Бугры мышц, перекатывающиеся под упругой кожей. Шрамы на тыльной стороне ладони, на лбу, на плече. Теперь на мне примерно шрамов столько же. Странные. Небольшие белесые шрамы, нанесенные небольшими острыми предметами там, где это не будет сразу бросаться в глаза. Никаких видимых шрамов, нанесенных мечом.
Суровое лицо. Сломанный нос. Серые глаза. Тонкие губы. Бровь, разрезанная напополам лезвием ножа. Терпкий мужской запах, запах нагретой на солнце кожи, железа, песка арены. Но только не крови, — почему, трудно сказать. Кровь успевали смыть.
Твердые руки, теплые ладони, которые иногда сжимали кубок с вином или меч, или горло. Или же просто нежно прикасались ко мне. Чтобы дарить наслаждение, а не боль.
Уходи Арий. Уходи, оставь меня, прошу тебя.
С того дня прошло три месяца. Прохладный осенний ветерок чувствовался здесь в Тиволи даже солнечным днем. На пороге сентябрь. А с ним и осень. Осень.
— Пора назад в Рим, — заметил как-то раз за обедом Домициан. — Жаль. Это было восхитительное лето.
— Восхитительное, — пробормотала я куда-то в кубок.
— Сарказм, Афина, не украшает тебя. — Сегодня он был в хорошем расположении духа, так что наказание было мягким. — Впрочем, сарказм или не сарказм, но ты меня удовлетворяла. Я восхитительно провел время в твоем обществе. Как же мне тебя за это вознаградить?
— Ты уже вознаградил меня более чем щедро, цезарь.
— Моим божественным присутствием?
— И теми подарками, которые ты позволил мне купить за твой счет.
— Да, в ювелирных лавках ты проявила некоторую жадность. Не иначе, как это в тебе заговорила еврейская кровь.
— Пожалуй.
О, отошли меня домой, прошу тебя, только отошли меня домой.
Домициан оттолкнул от себя тарелку и, прошуршав восточными шелками, шагнул к краю террасы. Казалось, все его тело дышало силой и здоровьем, щеки светились румянцем, на губах играла его ни с чем не сравнимая улыбка. Он на какое-то мгновение посмотрел на реку, затем резко обернулся.
— Подойди ко мне.
Я повиновалась.
Он положил мне на затылок руку, и я почувствовала, как пальцы ног впились в край террасы. Я покачнулась. Он улыбнулся.
— Ну что, мне оттащить тебя назад? — спросил он.
Я точно знала, знала без малейшей тени сомнения, что скажи я в ответ да, как уже в следующий миг полетела бы в реку.
— Нет, — ответила я, твердо глядя ему в глаза. — Я не боюсь высоты, цезарь.
На какой-то миг мне показалось, что я все равно полечу вниз, но, как и в самый первый вечер, он резко отдернул меня от края, и я упала на мраморный пол.
Затем он шагнул ко мне и опустил свою обутую в сандалию ногу мне на руку и нажал — не сильно, однако довольно плотно, чтобы я ощутила боль. Мой мизинец, тот самый, на котором было кольцо Ларция, оказался под его пяткой.
Его последний подарок, с ужасом подумала я. Никакие струны лиры станут не нужны, если только я лишусь мизинца. Он отнимет у меня мою музыку.
На какой-то миг его нога прижала мой палец, но уже в следующее мгновение он опустился на колено, опустился со странной для его мощного тела грацией, и когда он приподнял мою руку, я заметила в его собственной кинжал.
Разумеется, я отбивалась. Но он сжал мою кисть в своих каменных пальцах. Сверкнуло лезвие. Мне потребовался миг, чтобы осознать, что не последовало ни крови, ни боли.
Зато на пол, звякнув, упало, рассеченное пополам, простое кольцо с именем Ларция.
Я уставилась на эти половинки.
— Дешевка, — произнес Домициан, возвращаю кинжал в ножны. — Недостойная такой храброй женщины.
Там, где когда-то было кольцо, теперь белела полоска светлой кожи.
— Ты отпускаешь меня?
— Я подумал, что тебе лучше подойдет вот это, — с этими словами он открыл небольшой филигранный ларец, что стоял рядом с ложем, и дал мне знак, чтобы я отвернулась. Краем глаза я заметила серебряный обруч, который уже в следующий миг сомкнулся у меня на шее. Посмотрев вниз, я смогла разглядеть блестящий черный камень, лежащий в ямочке между ключиц.
— Какая красота!
Он разрешал мне покупать любые украшения, но после струн лиры ни одного подарка не выбрал для меня сам.
Он ничего не произнес в ответ, лишь поманил меня. Когда же я оторвала глаза от ожерелья, то заметила в дверях кузнеца. Черный от копоти, он был совершенно не к месту на мраморной террасе.
— Это нужно запаять на ней, — приказал император. — Ничего страшного, если вдруг обожжешь ей шею.
— Что? — Я резко обернулась к нему. — Запаять?..
— Это куда более элегантная разновидность того безвкусного кольца, — невозмутимо пояснил он. — Каменья добавил исключительно по собственной прихоти. Черный камень. Считай, что это мое око будет постоянно следить за каждым твоим шагом. Я люблю помечать свою собственность.
Я ощутила у себя на шее заскорузлые руки кузнеца — он соединил концы серебряного обруча.
— Но ведь ты сказал…
— Я приказал арестовать претора Ларция по обвинению в измене, — спокойно ответил Домициан. — После суда ему было позволено совершить самоубийство. Собственность предателя, разумеется, стала собственностью империи. Так что теперь ты принадлежишь мне.
— Ларций, — сдавленно прошептала я. — Нет, только не это.
— Представь себе. Я не ожидал, что даже спустя три месяца ты по-прежнему будешь мне так интересна. Но есть в тебе нечто такое, что мне определенно нравится, так что я бы предпочел иметь тебя не во временном, а в постоянном пользовании. Через неделю ты вернешься со мной в Рим.
Серебро на моей шее стало горячим и мягким. Концы обруча соединились и срослись намертво. Я почти не почувствовала ожога, потому что внутри меня все похолодело от ужаса. Ларций. Его больше нет.
О боже, а как же Викс!
— Надеюсь, тебе известно, что я построил новый дворец. Он уже почти готов. Я намерен использовать его для публичных мероприятий, а также как свою резиденцию. Ты поселишься в ее старых комнатах рядом с моими покоями в моем личном домашнем дворце. Кстати, я заказал для домашнего храма статую Минервы с твоим лицом. Вдруг ты и в самом деле богиня. Согласись, с моей стороны было бы просто глупо допустить, чтобы моя собственность от меня сбежала. Но я никогда не совершал глупостей.
Викс? Что с ним? Где он сейчас? Боже, что с моим сыном?
Домициан провел пальцем по моей шее. В его глазах я не заметила никаких чувств, лишь пустой равнодушный взгляд.
— Между прочим, я обожаю разные игры. Я играю в них со своими слугами, сенаторами, стражей. Как просто внушить им страх перед собой! Даже собственная жена боится меня под этой застывшей мраморной маской, которую она носит на лице. Лишь ты одна не боишься меня. Ты и еще кое-кто. Кстати, знаешь, кто это? Это даже не человек. Обыкновенный раб, такое же животное, как и ты. Гладиатор, тот самый, которого называют Варваром. Он никак не может быть богом, что бы о нем ни говорили. Просто варвар. Но и он не боится меня. И главное, он всегда остается жив — что бы ни случилось. Стоит на самом краю и смотрит, смотрит на меня. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Ты увидишь его, когда мы вернемся в Рим, и в самых первых играх сезона, в общем, ему осталось совсем немного. В Риме есть лишь один господин и бог. И одна богиня. Против этого, Афина, я возражать не стану.
Затем была новая боль, боль, которую я почти не замечала, потому что кузнец отступил назад, а серебро постепенно остыло. Остыло, превратившись в сплошное кольцо вокруг моей шеи, которое мне уже никогда, никогда не снять.
(обратно)
(обратно)
Глава 20
Тея
— Значит, это будет семейное шествие, — убитым голосом произнесла Флавия. — Что в свою очередь означает триумфы, лепестки роз, фанфары и эти отвратительные игры. Я получила личный приказ императора вернуться в город, — добавила она, заметив в моих глазах непонимание. — Причем всей семьей — я, супруг, дети. Мой дядя считает, что народу не помешает очередное грандиозное зрелище. Возможно, люди слишком громко роптали при последнем сборе налогов.
— Но ведь Павлин говорит, что народ его любит.
— Армия. Для нее Домициан действительно бог. Но римский плебс предпочитает небольшие налоги и гонки на колесницах. Так что если поднимаешь налоги, приходится разориться и на другое. Например, на грандиозные празднества, — Флавия криво улыбнулась. — Я всего лишь наивная христианка, моя дорогая, однако мне не нужно объяснять, как хорошо срабатывают такие вещи.
Я тоже уже научилась многое понимать.
— Мальчики, разумеется, будут в полном восторге, — продолжала тем временем Флавия. — Боюсь сказать, но они просто обожают Колизей. Возможно, я оставлю их с отцом, а сама, прежде чем начнет литься кровь, скажусь больной, мол, разболелась голова. Мы с Юлией всегда так поступали. Знала бы ты, как мне не хватает ее! — Флавия грустно вздохнула. Однако затем вновь подняла на меня глаза, и лицо ее озарилось улыбкой. — Тебя мне тоже будет не хватать. Афина. Как славно мы проводили с тобой время за разговорами!
— Почему ты не называешь меня просто Тея? — Моя рука машинально прикоснулась к черному камню — глазу Домициана, что теперь покоился во впадине между ключиц. — Между прочим, я тоже еду в Рим.
И я тоже увижу игры.
(обратно)
Рим
В подвале под Колизеем Арий уже слышал гул толпы.
— Какие мы сегодня храбрые, — заметил Геркулес. Хромоногая собачонка мирно посапывала, свернувшись калачиком на плаще Ария.
Арий неспешно разделся и занялся приготовлениями. Синяя юбка, наголенники, кольчужный рукав на боевую руку, украшенный гравировками, которые, по словам богатых поклонников, были ни чем иным, как варварскими символами. Во время этих ставших привычными действий в нем просыпался и расправлял крылья демон. Нет, он уже не пытался сорваться с привязи, как в старые дни, однако по-прежнему с интересом озирался по сторонам. Арий потянулся за мечом. Его верный красавец-меч, со специальной рукояткой для левой руки, был выкован специально для него. Быть лучшим имеет свои неоспоримые преимущества.
— Пора, — сказал Геркулес и тоже потянулся за мечом — миниатюрной копией того, что был в руках Ария.
Крики толпы сделались громче. Друзья шагали по тускло освещенным коридорам, и им на голову с потолка осыпалась пыль. Галлий преградил им путь рядом с клетками обреченных на смерть христиан.
— Как я рад, что поймал вас! Удачи вам сегодня, удачи! Надеюсь, вы знаете, мои дорогие друзья, что вам предстоит сегодня два боя. Довожу это до вашего сведения на всякий случай. Вдруг последуют какие-нибудь другие неожиданности, чтобы вы не слишком им удивлялись, — с этими словами Галлий похлопал Геркулеса по маленькой голове, провел ладонью по обнаженной руке Ария и, подмигнув, скрылся.
Геркулес посмотрел ему вслед.
— Мне только кажется, или у этого ублюдка действительно что-то на уме?
— Тебе только кажется. — Вновь услышав гром аплодисментов, Арий посмотрел вверх. В клетке за его спиной христиане стенали и осеняли себя крестными знамениями.
— Сегодня, — подумал он, — важный для меня день.
Хотя и сам не знал, почему.
(обратно)
Тея
Грандиозное шествие. Впрочем, каким еще ему быть? Я передвигалась в паланкине в самом его конце, но в щелочку между черными шелковыми занавесками мне хорошо было видно самое начало процессии.
Лепестки роз, развевающиеся знамена, трубачи — кстати, последних было совсем не много, поскольку мы праздновали не военный триумф, а просто праздник Вольтурналий. Впереди, шеренга за шеренгой, гордо вышагивали преторианцы в красно-золотом облачении. Павлин, только что вернувшийся из Германии, гордо восседал на вороном жеребце, сопровождаемый ликующими возгласами толпы. Флавия и ее супруг в носилках, улыбающиеся и кивающие головами, как могут улыбаться и кивать головой лишь только члены правящего семейства. Сам император Домициан на золотой колеснице, а справа и слева от него сыновья Флавии. Младший того же возраста, что и Викс. За ним двигалась я, в серебряных носилках, отгороженная от взглядов зевак шелковыми занавесками. Впрочем, ветер то и дело играл легким шелком, и любопытные могли заметить пурпурное шелковое одеяние, блеск серебра и аметистов, голую белую лодыжку на черной бархатной подушке.
Голова раскалывалась от боли.
У меня перед глазами стоял Ларций — таким, каким я видела его в последний раз. Его нежный, прощальный поцелуй, перед тем как мне отправиться в Тиволи. Мне и в голову не могло прийти, что император прихлопнет его, словно муху, чтобы полностью завладеть мною. Зачем? Ведь в этом не было ровно никакой необходимости. Что мешало ему просто выкупить меня? Но такой человек, как Домициан, предпочитал не покупать, а убивать. Я написала еще одному претору в Брундизий, который также был поклонником моего пения, умоляя его сообщить мне подробности смерти Ларция, однако получила в ответ краткое, сухое послание. Ларция обвинили в измене, над ним состоялся «суд», однако, как и сказал Домициан, ему было разрешено совершить самоубийство. Перед этим «изменник» устроил пир для тех своих друзей, что не побоялись запятнать себя дружбой с ним, но на самом деле это скорее было прощание с музыкантами. Я легко могла представить себе Ларция на почетном месте вместе с Пенелопой, как они слушают пение хора мальчиков, игру лютнистов, как певцы в последний раз демонстрируют ему свое искусство. Он, наверняка, по достоинству оценил мастерство каждого из них, как произнес прощальные теплые слова, раздал несколько монет и, возможно, сделал несколько критических замечаний. И хотя и музыканты, и певцы в этот вечер старались из всех сил, стоя за занавесом, они, скорее всего, обливались горькими слезами. Затем он удалился к себе в опочивальню, где лег в наполненную благовониями ванну, и вскрыл себе вены.
У меня не было даже малейшего сомнения в том, что Пенелопа держала его руку до самого конца, а затем взяла нож и сделала то же самое.
«А что стало с его домочадцами?» — написала я претору, болея душой за судьбу Викса.
«Предателей уничтожают, а их собственность конфискуется в пользу империи, — пришел ответ. — Во время аукциона брат претора Ларция выкупил назад большую часть поместья, кроме музыкантов. Прошу тебя, Афина, больше не писать мне».
Вот и все, что осталось от гостеприимного дома, где меня из проститутки сделали артисткой, подарили мне и моему сыну счастье. Брату Ларция музыканты были не нужны, а вот Викса он вполне мог купить вместе с остальными домашними рабами. Большие мальчики ценились высоко. В юношестве это была надежная пара рук, затем, вырастая, они становились стражниками или носильщиками паланкинов. По крайней мере, жизнь моего сына вне опасности… если только своими проделками он не начнет доставлять неприятности окружающим. В этом случае за его безопасность ручаться нельзя.
О боже, кто знает, доведется ли мне когда-нибудь снова увидеть его!
— Госпожа Афина, — вновь раздался нетерпеливый голос стражника. Носилки остановились, и шелковые занавески качнулись в сторону. Воскурения. Жрецы. Снова трубачи. Ликующие крики толпы. Я спустилась с носилок и увидела Колизей. Огромное сооружение закрывало собой солнце. Мне оно почему-то напомнило исполинскую гробницу.
При этой мысли я оступилась, и Ганимед тотчас бросился ко мне и поддержал, не давая мне упасть. Милый Ганимед. Теперь он был мой личный раб… Несс следовал за нами в толпе вольноотпущенников. Куда Ганимед, туда и он.
— Все в порядке, — прошептала я и ступила с носилок на землю. А теперь вперед и вверх по каменным ступеням, и забудь, что у тебя болит голова. За Флавией, которая, наверняка, перед главным представлением сошлется на головную боль, лишь бы уйти. Оба ее мальчика шли за ней, прыгая от восторга. За ними шел Павлин, перебросив через руку красный плащ с золотой отделкой. Позади императора с супругой, которую тот терпеть не может. Императрица — высокая и темноволосая, вся в изумрудах — смотрела на меня как на пустое место. Наша процессия проследовала через мраморный зал в императорскую ложу. Иди вперед, ни о чем не думай. Особенно о Виксе, который в эти минуты, возможно, стонет от побоев нового хозяина, так толком и не поняв, как так получилось, что его в мгновение ока продали с аукциона.
Перед моими глазами раскинулась арена, посыпанная чистым, белым песком. Впрочем, чистота эта временная, пока на него не вышли гладиаторы. Сейчас они внизу, ждут своей очереди, возносят молитвы богам. Арий тоже, скорее всего, там, но сколько бы я ни пыталась представить его в прошедшие недели, стоило мне подумать о том, что я сейчас увижу его, как он сражается на этой арене, совсем близко, что я могу до него дотронуться, как ужас стискивал мне голову давящим железным обручем боли.
Я отвернулась от посыпанного песком овала арены и поспешила занять место сзади. Ганимед встал у меня за спиной, как часовой, и положил мне на плечо руку, успокаивая. Передо мной сидел Домициан. По одну сторону от него расположились мальчики, по другую — супруга. Флавия — с краю, чтобы при случае потихоньку уйти. Павлин…
— Афина, — раздался чей-то голос. — Вот это встреча!
Позади меня сидела — ну кто бы мог подумать! — Лепида Поллия, приглашенная сюда Павлином.
За неимением лучшего Марк Норбан предпочитал гонки колесниц, поскольку кузина и добрая знакомая Диана частенько вытаскивала его вместе с собой в Большой цирк. А вот на игры он старался не ходить.
— Варварское зрелище на потребу невзыскательной толпе, — частенько говаривал он, с искренним непониманием глядя на толпу, которая раболепно подчинялась приказам, против которых всего четыре дня назад она же громко протестовала.
И все же он иногда посещал игры. Обычно при этом он брал с собой раба, который держал его свитки и перья, чтобы он мог в перерывах между поединками продолжить свои труды.
— Идите на игры, — сухо заметил как-то раз Марк. — Если хотите узнать, что такое Рим.
Отправляясь посмотреть последний поединок Варвара, он не ожидал увидеть для себя ничего нового. Все будет как обычно: торжествующий победитель, беснующаяся восторженная толпа.
— Господин, — обратился к нему на ухо секретарь, — мне только что сообщили о том, что господа Лепида получила приглашение в императорскую ложу.
— Подумаешь, — пожал плечами Норбан.
— Да, господин, но она взяла с собой сегодня утром Вибию Сабину.
— Куда? На игры?
— Да, господин. А поскольку она не могла взять с собой Сабину в императорскую ложу…
Чувствуя, как внутри него закипает гнев, Марк направился в отгороженную высокой стеной часть трибун, где сидели патрицианки. Это же просто неслыханно! Взять с собой на игры болезненную семилетнюю девочку, чтобы затем оставить одну среди незнакомых людей! Он нашел свою дочь в углу, посреди модно одетых подруг Лепиды, облаченную в лучшее платье, однако брошенную и всеми забытую. А тем временем ярко раскрашенные женщины хихикали, попивали вино и что-то кричали гладиаторам. Марк громко извинился, перекрикивая гул голосов, и увел дочь.
— Мы пойдем домой? — спросила девочка и икнула. Спереди на платье ребенка красовалось темное винное пятно — по всей видимости, кто-то опрокинул на нее кубок.
Марк задумался. Он с удовольствием бы отвел ребенка домой, но в эти минуты в каждый вход уже вливались толпы плебса, возбужденные предстоящим кровопролитием. Даже если рабы и попытаются очистить для них с Сабиной дорогу, на то, чтобы добраться до дома по запруженным улицам, у них уйдет, по меньшей мере, час. А ведь ни что не вызывало у Сабины таких сильных припадков, как толпа.
— Мы уйдем после поединка Варвара, когда толпа слегка успокоится, — сказал он. — А пока сиди тихо и отдыхай.
Увы, в его ложе это было вряд ли возможно.
— Ой, отпустите, отпустите! — раздался чей-то крик.
— Квинт? — удивился Марк и, войдя в ложу, увидел, как его секретарь пытается совладать с каким-то юным рабом.
— Простите, хозяин. Я поймал его, когда он пытался пробраться сюда, — секретарь не договорил, потому что вскрикнул от боли. Мальчишка неожиданно вывернулся из его хватки, на миг впился зубами ему в кисть, а потом метнулся к выходу. Однако Марк тотчас выбросил руку и поймал беглеца за шиворот.
— Итак, скажи нам, — произнес он невозмутимым тоном, — кто ты такой? Если не ошибаюсь, ты раб. Где же в таком случае твой хозяин?
Мальчишка вновь попытался вырваться, однако Марк это предвидел и еще крепче вцепился пальцами в грубую ткань туники. Юный раб ответил ему полным ненависти взглядом. На вид ему было лет восемь, примерно на год старше Сабины, рыжеватые волосы, загорелая кожа. Сабина смотрела на него, широко раскрыв глаза.
— Откуда ты? Немедленно отвечай, — потребовал Марк. — Или же я передам тебя магистратам. Пусть они решают твою судьбу.
— Из Брундизия, — последовал хмурый ответ.
— Издалека. И как же ты попал сюда? Тебя привез твой хозяин?
— Мой хозяин умер. До Мизерна я добрался на какой-то телеге, а затем шел
один, — с этими словами мальчишка пожал плечами. — Ведь все дороги ведут сюда.
— Это верно, — согласился Марк. — Все дороги ведут в Рим.
Стоявшая рядом Сабина хихикнула.
Вид у мальчишки был насупленный.
— Я просто хотел взглянуть на столицу.
— Понятно. А ты не мог начать с гонок колесниц?
— Это для девчонок!
Сабина удивила Марка тем, что снова хихикнула.
— Отец, — она потянула его за рукав. — Пусть он останется. Что ты скажешь?
— Ну, если ему так этого хочется.
Марк нашел для дочери низкий табурет, с которого почти не была видна арена, и кивнул мальчишке.
— Ты, главное, не вертись под ногами и сиди смирно. Если хочешь, можешь смотреть представление.
— Так мне можно? — мальчишка впервые склонил в поклоне голову и улыбнулся. — Из вашей ложи все так хорошо видно, господин. Скажите, я не пропустил бой гладиаторов? Знали бы вы, сколько времени у меня ушло, чтобы пробраться сюда!..
— Тише! — шикнул на него Марк.
— Извини, господин, — мальчишка вновь отвесил ему поклон, хотя было видно, что он ничуть не раскаивается, и поудобнее устроился рядом с перилами.
— Как тебя зовут? — поинтересовалась Сабина.
— Викс, — ответил он и посмотрел на свою маленькую соседку в нарядном шелковом платье. — Вернее, Верцингеторикс, но такое имя не сразу выговоришь.
— Это в честь галльского вождя? — Сабина вопросительно посмотрела на отца. На прошлой неделе ее наставники упоминали имя Верцингеторикса в рассказах о завоевании Галлии.
— Это мой отец, — хвастливо произнес мальчик.
— Но ведь он умер более ста лет тому назад.
— Значит, мой дед, — поправился мальчишка.
— Ты действительно один прибежал сюда из самого Брундизия?
— Да, когда-то я принадлежал одному старику, и я решил, что мне совсем не хочется попасть на невольничий рынок.
Сабина смотрела на него широко раскрыв глаза. Под ее взглядом Викс в свою очередь гордо расправил плечи.
— Из Брундизия сюда было добраться нелегко. Я увел повозку. А потом возница догнал и набросился на меня с кнутом…
Марк посмотрел на обоих ребятишек. Сабина — такая крошечная, такая тихая, в нарядном платье и жемчуге, и мальчишка — грязный, болтливый, хитрый и продажный.
О боги, подумал он, кажется, у моей дочери появился друг.
(обратно)
Тея
— Lugula! — крикнула Лепида вниз, гладиатору, который молил о пощаде. Щеки ее раскраснелись, и в какой-то миг мне в голову пришла отвратительная мысль, что я должна стоять у нее за спиной, обмахивая опахалом из павлиньих перьев. К горлу тотчас подкатил комок тошноты.
Лепида вновь села на место и принялась обмахиваться веером, а тем временем песок арены обагрился кровью.
— Ну как, Тея, тебе по-прежнему не нравятся игры?
Когда она задала этот вопрос, на арене марокканец пытался обезглавить галла.
— Нет, — ответила я. — Они лишь наводят на меня скуку.
И я закрыла глаза.
— Скуку? Но весь это же так весело!
Вокруг меня на трибунах люди вскочили на ноги. Они махали руками, истошно вопили, что-то выкрикивали. Оба сына Флавии были в полном восторге. Домициан наблюдал за происходящим слегка отстраненным взглядом венценосца. Павлин постоянно смотрел по сторонам, но только не на Лепиду. Его рука лежала на подлокотнике ее кресла, буквально в дюйме от ее руки, как будто он боялся об нее обжечься.
Павлин и Лепида? Впрочем, теперь меня уже ничем не удивить. Бедный Павлин.
Бедный галл. Его уволокли с арены за ноги.
— А что теперь? — Лепида с аппетитом положила себе в рот фаршированный рисом виноградный лист и облизала тонкие пальцы. — Не могу дождаться, что будет дальше. Павлин, ты случайно не знаешь, кто выйдет следующим?
Задав этот вопрос, она провела острым накрашенным ногтем ему по запястью, и он отдернул руку.
— Ну конечно же Варвар, — сама себе ответила Лепида и с ледяной улыбкой многозначительно посмотрела в мою сторону.
Я улыбнулась ей своей дежурной улыбкой.
— А как поживает твой муж, Лепида? Разве ты не должна сидеть рядом с ним? — этот вопрос сам сорвался у меня с языка. — Только не говори мне, что у него кончились все его деньги.
Лепида открыла было рот, но в этот момент послышалось шуршание оранжевого шелка и звякнули золотые браслеты. Это Флавия поднялась с места.
— Простите меня, — произнесла она, — мне что-то совсем дурно в этой духоте. Разреши мне покинуть тебя, дядя. А вы, мальчики, ведите себя хорошо.
С этими словами она покинула ложу.
— А ты как себя чувствуешь? — раздался рядом со мной заботливый голос Лепиды. — У тебя вид тоже не очень здоровый. Может, тебе лучше вернуться домой… Кстати, а где ты сейчас живешь, если не секрет?
— Во дворце, — ответила я и с удовольствием пронаблюдала, как эта гадюка тотчас захлопнула рот. У меня уже почти сорвалась с губ колкая фраза в ее адрес, но в последний момент я прикусила язык. Потому что шепот на трибунах перерос в оглушительный крик, и впервые за это время тревога за судьбу сына отступила на второй план, потому что на песок арены вышел его отец.
Арий.
Я даже не сразу поняла, что мои губы машинально раз за разом беззвучно произносят его имя, пока Ганимед не прикоснулся к моему плечу и вопросительно не посмотрел, желая понять, что со мной. Я поспешила успокоить его улыбкой, хотя взгляд мой по-прежнему был прикован к гладиатору на арене, который когда-то был моим возлюбленным. Он прошел так близко от императорской ложи, что я могла сосчитать шрамы на его плече.
Огромное пространство арены, как обычно, скрадывало его мощь. И, как обычно, его выход сопровождался громом аплодисментов. Правда, на этот раз я успела заметить на его смуглом бесстрастном лице новые морщины. Впрочем, гордая осанка ничуть не изменилась. Арий шагал по арене, расправив плечи и гордо вскинув подбородок. Никаких улыбок. И был по-прежнему прекрасен.
Боже, как он был прекрасен!
Императору он кланяться не стал. Лишь на миг повернул голову в сторону императорской ложи, чем тотчас напомнил мне Викса.
А затем он отвернулся и поднял меч. У меня же возникло такое ощущение, будто грудь мне сжимает тесный железный обруч.
Противником Ария был фракиец, чье лицо казалось мне смазанным пятном. Я видела лишь, с какой устрашающей ловкостью он работает короткими мечами, которые сверкали на ярком солнце, и у меня всякий раз перехватывало дыхание, когда искривленное лезвие впивалось Арию в ногу, а потом вновь выскальзывало назад, но уже обагренное кровью. А потом, в какой-то миг эти страшные кривые мечи взлетели в воздух, а Арий устремился вперед. Теперь он сражался гораздо спокойнее: движения сделались более плавными, взмахи меча — точными.
Фракиец с воплем рухнул на песок, одна стопа у него была рассечена пополам. В следующее мгновение Арий прикончил его, пронзив ему сердце. Толпа разразилась оглушительными рукоплесканиями.
— Какая тоска, — Лепида даже зевнула.
Арий сорвал с себя шлем и провел ладонью по волосам, задев при этом и мое сердце. Затем, бросив меч стоявшему на краю арены стражнику, гордо зашагал вперед. Поравнявшись с императорской ложей, скупым кивком поприветствовал императора. Домициан, который был занят тем, что играл в кости с двумя придворными, даже не посмотрел на арену. Однако Арий прошагал мимо, и на какой-то миг Домициан поднял на него глаза. Я тотчас заметила, как напряглась у императора шея, и мне вспомнились его слова:
— Даже собственная жена боится меня под этой застывшей мраморной маской, которую она носит на лице. Лишь ты одна не боишься меня. Ты и еще кое-кто. Кстати, знаешь, кто это? Это даже не человек. Обыкновенный раб, такое же животное, как и ты. Гладиатор, тот самый, которого называют Варваром.
Наконец Арий оторвал глаза и зашагал к Вратам Жизни. Я уже забыла, как покачивались его плечи. Боже, как такое можно забыть!
Шепоток на трибунах сменился смехом, когда в полу арены открылась крышка люка, и оттуда выскочила короткая, чернобородая фигура. Карлик, одетый точно так же, как и Арий. Комик. Нет, как я смеялась тогда, мне уже никогда не смеяться!..
Арий на миг остановился и нагнулся к карлику. Мне было видно, как он улыбнулся какой-то шутке, и внутри у меня разлилось приятное тепло. Наконец-то он нашел себе друга. Ведь он так нуждался в друзьях.
Похлопав карлика по плечу, он вновь зашагал к Вратам Жизни. Но не успела я расслабиться, как на арену вышли четверо стражников и схватили Ария. В полу открылся еще один люк, и оттуда показались с полдюжины бригантийцев в зеленых юбках. Все как один были вооружены мечами.
Утреннее кровопролитие шло своим чередом. Мальчишка тем временем увлеченно рассказывал Сабине о своих приключениях по пути в Рим, в которых присутствовали и летающие кони, и трехголовые псы и банда из сорока разбойников. Однако Марк заметил, что как только на арену вышел Варвар, их новый знакомый тотчас притих.
— Вот это да! — воскликнул он и даже восхищенно присвистнул, когда поединок закончился.
— Что такое? — вытянула шею Сабина. Марк поспешил вернуть ее назад, чтобы она не высовывалась из-за парапета. Слишком мала, чтобы видеть то, что творится сейчас на белом песке арены. Впрочем, девочка не стала протестовать, хотя глаза ее после россказней мальчишки сделались похожи на огромные блюдца. Она сидела завороженная, не обращая внимания на крики и лязг оружия, которые сейчас доносились с арены.
— Варвар! — в голосе Викса слышалось неподдельное восхищение. — Я же знал, что лучше его никого нет, но оказался самым-самым. Он бог!
— Да, он действительно неплох, — сам не зная почему, согласился Марк. — Я всегда выпускаю его на арену после того как Сенат вводит новый налог. Он успокаивает толпу на недели вперед.
— А кто такой Варвар? — непонимающе заморгала Сабина.
— Где ты выросла? — в свою очередь удивился Викс. — В коробке?
— Обычно мне не разрешается ходить на игры. У меня падучая, — пояснила девочка. — И мне нельзя волноваться.
— Первый раз вижу кого-то, у кого падучая, — произнес Викс и посмотрел на Сабину с еще большим интересом. — Это как у Юлия Цезаря, но с ним я ни разу не встречался. А ты знаешь, что кровь гладиатора это лучшее лекарство? Я должен поделиться с тобой своей кровью. Когда я вырасту, то непременно стану гладиатором.
Сабина вновь недоверчиво округлила глаза.
— Неправда.
— Еще какая правда! — И мальчишка замахнулся воображаемым мечом на воображаемого врага. — Я буду даже лучше, чем Варвар.
— Тебя ждут опасности.
— Опасности ждут нас всегда, что ни делай, — мудро заметил Викс. — Поэтому можно делать все, что угодно.
Философ, подумал про себя Марк. О боги, какой кошмарный мальчишка. Зато Сабина просто зачарована им.
— Эй, они открывают люк, — Викс подался вперед через парапет. — Сейчас что-то будет.
— В чем дело? — Арий попытался вырваться, но стражники крепко схватили его за руки. — Мой бой окончен.
— У нас есть приказ, — коротко ответил один из стражников. — И если тебе дорога жизнь, стой тихо и не дергайся.
Схватив его под руки, стражники развернули его лицом в другую сторону, и Арий увидел, как открылась крышка люка, и на арену вырвалось с полдюжины бригантийцев в зеленых юбках. Встав полукругом, они выхватили мечи и двинулись на растерянного Геркулеса.
— Нет! — Поняв, что происходит, Арий вновь попытался стряхнуть с себя руки стражников.
Геркулес в растерянности оглянулся по сторонам. По идее сейчас должен был последовать его номер, «Арий-Варвар убивает язычников», причем роль последних должна была исполнить стая из двадцати павлинов. Увы, ничего даже отдаленно похожего на павлинов он не увидел. Зато увидел с полдюжины вооруженных мечами головорезов.
— Только не это! — едва слышно выкрикнул он и, уронив деревянный меч, побежал.
Головорезы устремились за ним.
Бригантийцы образовали полукруг, и Арий увидел, как Геркулес пошатнулся, а затем со всех ног бросился к люку. Впрочем, уже в следующий миг на карлика обрушились удары мечей, и он полетел на песок арены.
Арий как будто издалека услышал, как с его собственных губ сорвалось проклятие, и он вновь попытался вырваться на свободу. Однако кто-то стоявший сзади больно ударил его в затылок, и он рухнул на колени.
Задыхаясь и всхлипывая, Геркулес отполз от преследователей и бросился наутек на своих коротких ногах. Подбежав к барьеру, он подпрыгнул и попытался взобраться на него, что вызвало на трибунах приступ безудержного хохота.
Преследовали стащили карлика вниз.
Арий уже сумел высвободить одну руку и врезал кулаком в лицо одному из стражников. Однако его самого тотчас настиг удар шишкой щита в плечо, и он упал на песок.
Геркулес истошно завопил.
Арий привстал с песка и обхватил стражника за колени, а затем, дотянувшись до его пояса, выхватил из ножен кинжал.
Геркулес звал его по имени.
Заметив просвет в доспехах, Арий нанес удар кинжалом. Ему в лицо тотчас ударила струя крови. Скатившись с поверженного тела, он вскочил на ноги и, сжавшись, словно пружина, распрямился и прыгнул. Увы, уже в следующий миг на него сзади навалились трое стражников, и он снова упал в песок.
На какое-то мгновение ему удалось открыть глаза, и он увидел перед собой Геркулеса. Белый овал лица, вдавленный в арену, два слепых глаза наполнены кровью, окровавленный рот застыл в леденящем душу крике.
Арий почувствовал, как открылся его собственный рот, как все его тело затрещало и захрустело, а где-то внутри родился ответный вопль. Этот бесконечный вопль поглотил его, захлестнул с головой, став тем фоном, на котором продолжали раздаваться глухие удары — это банда бригантийцев продолжала свое черное дело, до смерти избивая несчастного карлика.
Однако в следующий миг демон поднял голову и издал крик, и у него самого потемнело в глазах…
И тогда они отпустили его.
— Ну что, — невозмутимо произнес Марк. — Это что-то интересное?
Рядом с ним, открыв от изумления рот, перегнулся через парапет мальчишка.
Стражники отпустили Ария, и он рухнул на колени и уронил меч.
«Убей их!» — вопил демон в его голове, но крик его доносился откуда-то издалека.
Дыхание давалось с трудом. Арий сорвал с себя шлем и отбросил в сторону. Пальцы машинально сжались в кулак.
«Убей их», — скулил демон. Он легко мог представить себе Галлия, как тот, сияя улыбкой, сидит, развалившись в кресле.
— Это должно вернуть нам нашего старого Варвара, — сказал бы он, не скрывая своей радости. — Вот вам представление. Смотрите и наслаждайтесь.
Арий откинулся на пятки. Бригантийцы смотрели на него в упор, тяжело дыша, неуверенно сжимая в потных ладонях мечи.
Арий раскинул руки. Его ладони были в крови, там, где в них впились ногти стражников, однако он не чувствовал боли.
— Убейте меня.
Бригантийцы растерянно уставились на него.
— Убейте меня, — взревел он тогда, — убейте, вы, мерзкие ублюдки!
Его голос громовым эхом прокатился по притихшим трибунам.
Поднявшись на ноги, он выпрямился во весь рост и, разведя в стороны руки, угрожающе шагнул вперед.
— Убейте меня!
Что-то бормоча себе под нос и бросая на него злобные взгляды, бригантийцы испуганно попятились.
(обратно)
Тея
Все мы, кто сидел в императорской ложе, застыли как статуи. Я зажала ладонью рот, пытаясь подавить рвавшийся из груди крик. Рука Лепиды застыла в воздухе. Она так и не донесла до рта пригоршню сластей. Павлин сидел, открыв рот. Императрица сбросила с себя маску равнодушия, и теперь на ее лице читалось изумление. Сыновья Флавии сидели завороженные.
Неожиданно Домициан вскочил с места.
— Lugula! — крикнул он тем же громовым голосом, что и Арий, и выбросил вперед руку с опущенным вниз большим пальцем. Знак смерти.
Из моего горла вырвался крик. Это бригантийцы шагнули вперед. Однако Арий повернулся и широко развел безоружные руки.
— Кто первый? — спросил он, и от мощи его голоса у нас едва не заложило уши. — Кто первым осмелится поднять на Варвара свой меч?
Глаза бригантийцев сверкнули злобным огнем. Головорезы кровожадно облизали губы и переглянулись.
— Убейте меня, — Арий перехватил дрожащее лезвие нападавшего и прижал его к собственному горлу. — Ну давайте же!
Бригантиец выронил меч.
Тогда Арий, словно лев, повернулся к другому, и на песок арены дружно полетели пять мечей. Полдюжины юношей, в самом расцвете сил, отшатнулись и попятились назад, их лица были белее, чем сенаторская тога. Тем временем один-единственный немолодой гладиатор медленно наступал на них, буравя их взглядом.
А потом он расхохотался. Запрокинул голову назад и расхохотался, и его смех устремился куда-то ввысь, к небесам. С легкостью и грацией юных бригантийцев Арий подпрыгнул, и они, дрожа, снова отшатнулись от него, и было видно, что в их глазах застыл ужас.
Тогда Арий повернулся к ним спиной и шагнул к императорской ложе. Император стоял у самого парапета, словно каменная статуя.
— А ты, цезарь, не желаешь попробовать? — спросил Арий и раскинул в стороны руки. — Ты, кровопийца и шлюха?
— Ну дает! — воскликнул Викс. — Это он зря. Сейчас его…
— Что там? — Не в силах устоять перед любопытством, Сабина поднялась со своего табурета и теперь смотрела во все глаза. — Почему они все так громко кричат? Что проис…
— По-моему, нам пора домой, Вибия Сабина. — Марк подхватил дочь на руки и жестом велел секретарю следовать за ним. Трибуны притихли, охваченные ужасом, не зная, какая кара сейчас постигнет дерзкого гладиатора. Всемилостивая Фортуна, страшно подумать, какие только мысли могли прийти в голову плебсу?
— А как же Викс? — Сабина бросила взгляд через отцовское плечо. — Неужели мы его здесь оставим?
— С ним ничего не случится, — ответил Марк, унося ее прочь. У него не было ни малейшего желания стать свидетелем того, что император сейчас сотворит с Арием. Дочери этого тоже лучше не видеть. — Держись за меня крепче, Сабина.
— Он украл мой жемчужный гребень, — печально пожаловалась девочка. — Как ты думаешь, мы еще с ним встретимся?
(обратно)
Тея
Домициан вырвал у стражника лук и стрелу. В отчаянии я решила, что должна толкнуть его, чтобы он упал. Однако я споткнулась, и вместо этого сама полетела вперед. Император же тем временем прицелился и выпустил стрелу.
Та впилась в песок у Ария между ног.
Арий вновь расхохотался и, раскинув руки, с улыбкой шагнул вперед, предлагая себя на расправу.
Домициан взревел. Никаких слов. Только этот звериный рык. И выпустил очередную стрелу.
Стрела просвистела сквозь волосы гладиатора. Следующая — над его плечом.
Обычно Домициан умел целиться с такой точностью, что мог выпустить, одна за одной, пять стрел между растопыренных пальцев раба, стоявшего на расстоянии пятидесяти шагов. Вот и сегодня ни одна из выпущенных им стрел не задела его презренной жертвы.
Арий вновь разразился хохотом. Сама не знаю почему, но меня тоже душил неподвластный моей воле истерический смех. Затем я услышала, как по рядам пронеслись сдавленные смешки. Домициан разъяренным взглядом обвел трибуны, пытаясь заметить среди пятидесятитысячной толпы наглецов.
Арий тем временем прекратил смеяться и, глядя Домициану прямо в глаза, наклонился и сплюнул в песок.
— Стража! — крикнул император, красный от ярости. — Стража!
На арену обрушился ливень копий. Два копья впились в несчастного бригантийца, который тотчас с воем начал корчиться на песке. Арий же неспешным шагом направился к центру арены, где лежал растерзанный Геркулес. Положив окровавленное тело карлика на щит, он приподнял его и точно таким же неспешным шагом вышел вон через Врата Смерти. Ни одно из копий даже не коснулось его.
В Колизее воцарилась тишина, такая мертвая и гнетущая, будто пятьдесят тысяч человек разом окаменели. Несколько человек попытались незаметно улизнуть, один из них — толстый мужчина с зачесанной на лоб кудрявой челкой. Император тотчас бросил взгляд в его сторону и указал пальцем в того, кто предложил убить карлика. По его словам, это-де спровоцирует Варвара на более жестокий бой.
— Бросить его на арену.
В следующее мгновение трибуны взорвались криками. Римские граждане вскакивали на ноги, потрясали кулаками, требовали крови, а несколько рук подхватили Галлия и швырнули его через барьер на арену, где полдесятка рыдающих, наполовину обезумевших бригантийцев тотчас растерзали его на куски, прежде чем он успел крикнуть:
— Я заплачу!
На арене Арий ощущал, как бессмертие разливается по его жилам, однако в темном коридоре Врат Смерти это ощущение покинуло его, не оставив следа. Зато он чувствовал песок на зубах, чувствовал, как из раны на ноге сочится кровь, и даже крошечное тельце карлика показалось ему неимоверно тяжелым.
Геркулес.
В голом коридоре, по которому вытаскивали мертвецов, он аккуратно разложил карлика на щите — так, как когда-то героев Бригантии. Выпрямил руки, закрыл единственный оставшийся целым глаз, сложил крошечные пальцы вокруг рукоятки крошечного меча. Рядом с мертвым телом бросил свой собственный шлем, затем доспехи. Самое время расстаться с Арием Варваром, которому, в любом случае, не суждено долго жить. Он нашел факел, торчавший в стене в железной петле, и подержал над ним руку — до тех пор, пока гладиаторская татуировка не сделалась черной. Пламя обожгло ему кожу, но он не обратил внимания на боль.
Затем он положил пылающий факел у ног Геркулеса — следовало воздать мертвому герою последние почести. Геркулес наверняка был бы доволен. Затем Арий прошелся туда-сюда по коридору, снимая со стен факелы, которые затем уложил вокруг щита с мертвым телом.
Он повернулся и зашагал прочь в тот момент, когда на деревянном полу заплясали первые робкие языки пламени. Он шел по темному коридору вслепую, наугад, спотыкаясь, натыкаясь на стены. Переходы в чреве огромного цирка почему-то были пусты. Впрочем, ведь он впервые покинул арену через Врата Смерти. Возможно, смерть и есть пустота. Но, даже если так, сюда в любую минуту могут ворваться преторианцы императора и выпустить ему кишки. Арий, шатаясь, свернул за угол, где тотчас столкнулся с каким-то рабом, который с ведром мяса в руках спешил к клеткам со львами, затем незаметно миновал пару стражников и со всех ног бросился в другой коридор.
Неожиданно от него отскочило какое-то оранжевое пятно.
— Эй, осторожнее!
Взгляд Ария приобрел фокус. Оранжевое пятно тотчас превратилось в пухлую светловолосую женщину в шелковом шафранного оттенка одеянии, причем к каждому бедру она прижимала по грязному ребенку. Женщина смерила его колючим взглядом.
— Послушай, — сказала она, — ты нас не видел.
— Что? — не понял Арий.
Она поманила его за собой.
— Пойдем за мной.
Мимо них прошла вереница рабынь, и все они вели за руку или несли грязных, испуганных детей. Арий насчитал их больше трех десятков.
— Что за…
— Ты нас не видел, — повторила женщина и помахала рабыням, мол, идите дальше. — Я заплачу тебе, чтобы ты забыл. Заплачу точно так же, как и всем остальным. Ты нас не видел.
— Я в любом случае мертвец, — сказал Арий. Собственное тело казалось ему свинцовым. — Лучше поторопитесь. Потому что сейчас начнется пожар.
— Пожар? — Женщина втянула носом воздух, затем потрогала рукой каменную стену. — А где именно?
— Вон там. — Арий махнул рукой через плечо. — В проходе, через который выносят мертвецов.
— Что? А ты кто такой?
— Варвар, — устало ответил он.
— Арий Варвар? — переспросила женщина. — То-то я подумала, что где-то тебя видела. Этот шум, что только что доносился с арены, он, случайно, не из-за тебя?
— В некотором роде.
Женщина пристально посмотрела на него.
— Ты собрался сбежать?
— Нет, — спокойно произнес он в ответ. — Просто я мертвец.
— А по-моему, ты еще жив. — Женщина вновь втянула носом воздух. — Кажется, я чувствую запах дыма. Послушай, возьми одного ребенка.
Арий покорно выполнил ее просьбу. Так было даже проще. Он тотчас почувствовал, как детские ручонки обхватили его за шею, и он последовал за женщиной в оранжевом одеянии дальше по коридору.
— Кто ты такая? — спросил он заплетающимся от усталости языком.
— Флавия Домицилла. А эти дети-вероотступники, или, по крайней мере, их родители. Христиане и евреи, обреченные быть брошенными на растерзание львам. Я же пытаюсь этого не допустить. Ты меня слышишь? Делай, как я тебе велю, и ты выйдешь отсюда вместе со мной.
Вот это да! Племянница самого императора! Видимо, именно поэтому, рассудил Арий, в коридорах не видно никаких стражников. Племяннице императора ничего не стоило подкупить их, чтобы они держались подальше. Цирковые рабы искоса поглядывали на них, торопясь куда-то, нагруженные оружием. Кое-кто из них тащил длинные вилы, какими убирают мертвых. Флавия Домицилла спокойно и уверенно шла по коридорам, не замедляя шага.
Теперь запах дыма ощущался уже сильнее. Следующая пара рабов даже не повернули голов в их сторону, просто пробежали мимо с криками, чтобы им приготовили ведра с водой.
— Эй, открой дверь! — приказала женщина. Арий навалился плечом на дверь. Та распахнулась, и они шагнули навстречу солнечному свету.
— Посадите ребенка вон на ту повозку. Быстро. Вот и все, мой малыш, нет-нет, не надо плакать, все будет хорошо. Марцелл, трогай с места.
С этими словами она хлопнула лошадь по боку. Возница тронулся, а женщина повернулась и поманила к себе Ария.
— Вон мой паланкин. Залезай.
Арий растерянно уставился на богато одетую женщину, серебряный паланкин, бархатные подушки и шелковые занавески. Все это было скорее похоже на сон.
— Залезай, — повторила Флавия Домицилла. — Или ты хочешь, чтобы какой-нибудь преторианец проткнул тебя копьем?
— Одну секунду.
— Но у нас нет…
Арий вернулся к двери, доковылял до первого поворота в коридоре и, прижав два пальца к губам, свистнул. Спустя миг откуда-то выбежала собачонка. Из ее пасти свисала наполовину сжеванная перчатка.
— Нам пора, — крикнула ему Флавия из носилок. — Так ты идешь?
Арий сгреб в охапку пса и запрыгнул в носилки.
(обратно)
Тея
— Пожар!
— Пожар?
— Горят казармы гладиаторов.
Кто-то из стражников схватил меня за руку и поволок за собой из императорской ложи — вслед за Домицианом и императрицей. Вытянув шею, я увидела, как из Врат Смерти вырываются клубы дыма. Боже мой, Арий!..
Едва понимая, что происходит, я оказалась на площади рядом с Колизеем, рядом с гигантской статуей Нерона. Толпа напирала со всех сторон, матери, боясь потерять в толчее детей, крепко хватали их за ручонки, мужчины с криками распихивали тех, кто преграждал им путь. Преторианцы, на которых была возложена моя охрана, сыпля проклятиями, схватили щиты и, сомкнув ряды, отгородили меня от столпотворения. Я стояла, прижавшись спиной к храму Венеры. Поверх голов напирающей толпы я разглядела императора. Вне себя от ярости, он раздавал приказы преторианцам. Затем чья-то рука схватила меня за запястье и, резко дернув, втянула под арку в восточной стене храма.
— Эй! — раздался рядом со мной до боли знакомый голос.
— Викс? — он неожиданности я открыла рот. Кого я меньше всего ожидала увидеть, так это собственного сына, грязного, с ног до головы в пыли. От радости сердце было готово выскочить у меня из груди. А затем я схватила своего сына и прижала к себе, прижала всем телом. И стоило мне почувствовать его в своих объятьях, как я поняла, что уже никогда не расстанусь с ним.
— Верцингеторикс, что ты здесь делаешь? Как ты оказался здесь? — прошептала я сдавленным от волнения голосом.
— Я сбежал, — бесхитростно признался мой сын, зарывшись мне носом в плечо. Голос Викса звучал как обычно — весело и задиристо, однако его рука нащупала под плащом мою руку и крепко сжала. — Брат Ларция, он не такой уж и плохой, но его управляющий — сущий злодей. Вечно ко мне придирался. Он отправил меня работать на птичий двор. Я должен был стеречь гусей. А гусей украли. Нет, их украли всего несколько штук, но управляющий пригрозил, что продаст меня и я буду работать в соляной шахте. Вот я и сбежал. Пока никто не видел, шмыгнул в повозку, что держала путь на север.
— От Мизернума до Равенны, и оттуда до Рима? — спросила я, улыбаясь в его пыльные, всклокоченные волосы. Мне с самого начала следовало понять, что никакой новый хозяин не сможет долго удержать у себя моего сына. Я посмотрела на него, пыльного и усталого. По его плотно сжатым губам было видно, что он из последних сил пытается притвориться, будто все это время даже не скучал по мне.
Я постаралась взять себя в руки, а потом со всей силы тряхнула его.
— Эй! Ты что меня трясешь!
— Тише, у нас нет времени. В кои веки ты должен выслушать меня, Викс.
Я украдкой выглянула наружу.
— Меня уже, наверняка, ищут, Викс. Ты должен уйти. Я не могу взять тебя с собой, — я умолкла, отчаянно пытаясь придумать, как мне сохранить сына. — Флавия, вот что нам поможет!
— Кто?
— Эй, стражник! — Я схватила за руку ближайшего ко мне преторианца. Слава богу, Домициан был по-прежнему занят тем, что вместе с собственной стражей пытался совладать с обезумевшей толпой по другую сторону храма Весты. — Стражник! Этот мальчишка только что сбежал из дома госпожи Флавии Домициллы в Тиволи. Поручаю тебе доставить его владелице.
Стражник с подозрением уставился на моего оборванца-сына. Было видно, что он не в восторге от того, что его посылают за шестнадцать миль от города.
— Отвези его туда немедленно! — я постаралась вложить в свой голос все надменные нотки, какие только подобают возлюбленной императора. — Это любимый раб госпожи Флавии, и она наверняка щедро тебя вознаградит за то, что ты его ей вернул. Возьми вот это, — я положила в ладонь стражника несколько монет. — Это тебе за твои труды.
— Да, госпожа. — И он направился к своему центуриону просить об отлучке. Я же повернулась к Виксу.
— Мама, я устал, — он все еще сжимал под плащом мою руку. В течение вот уже скольких лет он упорно отказывался брать меня за руку на виду у посторонних людей, но теперь вцепился в меня и не хотел отпускать. — Я натер ноги и хочу есть.
— Тебя отвезут к госпоже Флавии Домицилле, — сказала я не терпящим возражений тоном. Увы, у меня нет времени приласкать его, прижать к материнской груди, как бы сильно мне этого ни хотелось. — Госпожа Флавия — племянница императора. Скажи ей потихоньку чтобы тебя никто слышал, что ты мой сын. Что ты сын Афины, — с этими словами я сняла с запястья браслет, который Флавия часто видела на мне и положила его ему в руку. — Передай это ей. Флавия тотчас поймет, кто ты такой, и приютит тебя, тем более что по ее поместью постоянно бегают дети.
Сказав эти слова, я поцеловала его и положила в его грязную руку несколько мелких монет. Надо сказать, вовремя, потому что, обернувшись, увидела, как преторианец возвращается к нам.
— Надеюсь, госпожа Флавия устроит тебе хороший нагоняй, за то, что ты сбежал от нее, негодный мальчишка, — сказала я так, чтобы стражник мог меня услышать, — а ты, преторианец, помни, что за этим сорванцом нужен глаз да глаз. Иначе жди новых неприятностей.
Преторианец повел моего сына за собой. Викс оглянулся на прощанье и, хитро посмотрев на меня, сделал вид, будто пытается вырваться из железной хватки преторианца. В следующий миг я почувствовала, как мне на плечо легла чья-то рука. Домициан. На какой-то миг их взгляды встретились — моего сына и императора.
— Цезарь! — вскликнула я с напускной веселостью. — Нам лучше уйти отсюда, — и я постаралась увести его от храма Венеры на безопасное расстояние. Улучив момент, я обернулась назад: слава богу, ни сына, ни преторианца я не увидела.
Что ж, можно считать, что Фортуна улыбнулась мне. Домициан был взбешен, однако наказывать меня не стал. Лишь приказал одному из своих управляющих сопроводить меня в свой личный дворец, Домус Августам, и оставить одну в моих роскошных покоях.
Пожар в гладиаторских казармах постепенно догорел. Как я потом выяснила, особого ущерба он не причинил. На пепелище нашли две вещи — нагрудные доспехи Варвара и его щит. Божественный огонь, поговаривал плебс. Некоторые утверждали, что якобы видели, как дерзкий гладиатор был низвергнут в преисподнюю. Если хотите знать мое мнение, такое могли сделать только преторианцы. Они действовали по личному приказу императора, который велел им убить Варвара, а потом сжечь его тело. В Риме может быть лишь один господин и бог.
Викс. С балкона моей новой опочивальни я окинула взором панораму Вечного города и окрестные холмы.
Арий.
Нет, лучше не думать ни о том, ни о другом.
Боже, какие неожиданности подчас готовит нам судьба! Теперь у меня была золотая чаша, в которую я могла собрать собственную кровь.
— Мы уезжаем сегодня вечером, — сказала Флавия, — в Тиволи. Там у меня вилла. Там мы тебя и спрячем. Скажи, ты хотя бы немного разбираешься в садоводстве?
— В садоводстве? — ожог на руке наконец дал знать о себе болью. Однако в данный момент он куда сильнее ощущал усталость.
— Ну да, в садоводстве. Мне нужен еще один садовник, тебе же нужно какое-то дело. И хорошее прикрытие на то время, пока люди забудут твое знаменитое лицо. Как ты смотришь на то, чтобы временно стать преданным садовником Стефаном?
— Ммм, — неторопливое покачивание паланкина убаюкивало, клонило в сон. Верная собачонка уже сжевала серебряную кисть бархатной подушки. — Сначала нужно добраться до места.
— Доберемся, отчего же нам не добраться. У городских ворот никто не станет обыскивать этот паланкин, — улыбнулась Флавия. — Не лучше ли тебе перестать бороться с самим самой и поспать?
И он закрыл глаза. Арий Варвар покидал Вечный город мертвым для всего остального мира.
(обратно)
(обратно)
(обратно)
ЧАСТЬ 4
ХРАМ ВЕСТЫ
Время от времени Марк приходит в храм Весты. Нет, не для того, чтобы поблагодарить богиню, — ни один очаг и ни один дом не несет на себе такого проклятья, как его собственные, — а для того, чтобы помолиться за Юлию.
—
Я чувствую здесь ее присутствие, — говорит он. Главная весталка — его хорошая знакомая. Под ее белыми одеяниями скрывается дерзкий, непокорный дух. Не удивительно, что вместе с Марком они не раз пытались помешать исполнению самых жестоких приказов императора.
—
Возможно, она здесь, Марк Норбан.
Марк протянул руки к вечному огню, что пылает на алтаре храма.
—
Веста, богиня домашнего очага, — произносит он, — храни душу Юлии. Она всегда была твоей верной служанкой.
(обратно)
Глава 21
Лепида
92 год н. э.
— Если тебе нужна вилла в Тиволи, в чем дело, купи ее себе, — Марк даже не оторвал глаза от свитков. — Любой дом, какой только пожелаешь, главное, чтобы я в нем не жил.
— Спасибо тебе, мой бесценный.
Марк порой бывал со мной резок, мог сколько угодно сверлить меня колючим взглядом холодных глаз, в тех редких случаях, когда мы встречались за завтраком, мог бросать мне в лицо оскорбительные слова, однако мы оба прекрасно знали, кто в доме хозяин.
Итак, вилла в Тиволи. В Риме у меня был свой собственный дом в самом дорогом квартале Палатина. Именно здесь гремели самые пышные и шумные пиры — вдали от скромного обиталища Марка рядом с Капитолийской библиотекой, где он жил вместе с Сабиной. Однако в летние месяцы шумному обществу требовалось иное пристанище. Когда-то все съезжались на лето в Байи, однако летняя вилла императора Домициана располагалась в Тиволи, и все, кто что-нибудь собой представлял, тоже устремились туда. Вот и у меня тоже появилась там собственная вилла, с огромным круглым триклинием и просторным, в ярких цветах, атрием, украшенным для большего великолепия бюстами знаменитых предков Марка. Где как не здесь принимать гостей! Этой весной, в период траура, я смогу основательно заняться его убранством. Серебряные ложа под шелковым пологом, причудливые мозаики, возможно даже поставлю несколько новомодных эротических статуй, которые так хорошо смотрятся. Думаю, месяца мне хватит, чтобы довести убранство дома до совершенства, чтобы к лету все было готово. К чему затягивать траур дольше, чем на месяц. Отец вряд ли был бы в восторге от того, если бы я сидела дома и изводила себя страданиями. Его самого унесла лихорадка, что тоже было довольно не к месту, потому что он только-только начал подниматься по ступенькам лестницы общественного положения, и мне уже не было необходимости его стесняться.
— Сабина, ты когда-нибудь перестанешь слоняться по углам, слово больной кролик? Займись чем-нибудь!
Время от времени я брала ее к себе на неделю-другую, но затем Марк, — ну кто бы мог подумать! — почему-то воспротивился этому. А ведь мне для поддержания приличий было необходимо видеться с дочерью.
— Или, если у тебя начинается припадок, спрячься куда-нибудь с глаз подальше! — сказала я ей, а сама направилась к своему роскошному паланкину с голубыми занавесками. Я торопилась в общественные бани — там меня ждала приятная нега парной, массаж, ароматные умащения — и немного последних сплетен. Кстати, поговаривают, будто императрица занялась благотворительностью — последнее прибежище отвергнутых жен. А еще ходили слухи, будто племянница императора — Флавия Домицилла — христианка.
— Да-да, моя дорогая, она из числа тех, что рисуют на стенах рыб!
Новая эротическая поэзия с Крита была под запретом по причине оскорбления общественных нравов, однако за небольшую мзду кое-какие рукописи можно было достать. Главная весталка была арестована по обвинению в несоблюдении целомудрия — какой неслыханный скандал! — и теперь ее приговорили к смерти. Она будет заживо погребена во время следующего праздника. Что касается ее любовников, то их забьют насмерть палками. Ах, да, платья теперь было модно носить укороченными, чтобы были видны лодыжки. В моду вошел серый цвет, волосы же следовало переплетать серебряной лентой и укладывать вокруг головы.
— Потому что так носит любовница императора Афина.
— Не люблю серый цвет! — резко ответила я. — Он смотрится так уныло!
Сказав эти слова, я подставила другой бок под пудру из лепестков сирени.
Афина. Тея, обыкновенная потаскушка. Именно она до сих пор стояла у меня на пути. Не успел остыть погребальный костер Юлии, как эта шлюха уже навязала себя императору. И что самое главное, спустя год по-прежнему делила с ним ложе! Придворные в шутку нарекли ее хозяйкой Рима, как они когда-то называли Юлию. Подумать только! Моя рабыня — хозяйка Рима!
Думаю, ей недолго осталось быть ею. Как только будет готова моя вилла в Тиволи, я стану куда ближе к императору. Я попрошу Павлина, чтобы он как-нибудь обмолвился обо мне, взял меня с собой на какие-нибудь торжества. Да-да, это, наверняка, должно возыметь успех. И тогда я получу то, к чему стремлюсь.
Разве я не поступала так всю свою жизнь?
— Это расследование дела весталок. Я поручаю его тебе. — Император передал Павлину пакет документов. — Если главная весталка утратила целомудрие, то, возможно, найдутся и другие такие же. Разложение всегда идет сверху.
— Я займусь этим на следующей неделе, — пообещал Павлин, отдавая салют.
Император улыбнулся.
— Послушай, когда я отучу тебя вечно отдавать мне салют?
— Никогда, мой господин. — Павлин улыбнулся и вновь отсалютовал.
Император жестом показал, что он может быть свободен, а потом подозвал к себе одного из секретарей.
— Можешь идти, Павлин. Время уже за полночь. Солдатам в отличие от императоров не полагается жечь по ночам дорогое масло.
— И то верно, — ответил Павлин, беря под мышку пакет. — Доброй тебе ночи.
— И тебе тоже.
Впрочем, спать он лег не сразу. Может, простым солдатам и ни к чему жечь по ночам дорогое масло, а вот префекту преторианской гвардии можно. Нужно было составить списки дежурств, рассортировать и подписать документы, ответить на письма, а писем, надо сказать, было ох как много!
К полночи Павлин уже тер виски, от трудов разболелась голова. Он посмотрел на кровать, и тут его взгляд упал на мятый свиток на краю рабочего стола, помеченный знакомым размашистым почерком.
Большим пальцем Павлин взломал печать.
«Префекту Павлину Августу Норбану, Всемогущей Правой Руке Императора…» — размашисто писал Траян, с характерным для него наклоном букв.
Павлин улыбнулся и откинулся в кресле. Из холодных болотистых лесов Дакии Траян получил перевод в более жаркие края, где кипели кровавые битвы и где недовольство солдат, сокращение численности армии и даже взбешенное начальство не помешали ему снискать себе репутацию выдающегося полководца.
«Можешь мне позавидовать, — писал Траян. — Вино льется рекой, бесконечные бои, хорошенькие девушки и еще более хорошенькие мальчики, от хеттов давно остались одни воспоминания, вот и ты застрял в Риме, приклеенный к своему столу. Признайся, чинуша, император благоволит тебе?»
Еще как благоволит!
Император поручает ему дела, разговаривает с ним, шутит с ним, доверяет ему — бог, господин и друг. Разум, куда более сложный, нежели его собственный. Бремя невероятной удачи.
«Через несколько месяцев я возвращаюсь в Рим и хочу взять тебя с собой в Колизей. Я уже забыл, когда в последний раз видел достойный гладиаторский бой. Думаю, нам также придется засвидетельствовать наше почтение твоей семье, но это не будет нам в тягость. Я узнал, что твой отец приходится дальним родственником моей матери. Надеюсь, твои родные все живы и пребывают в добром здравии?»
Неожиданно Павлин задумался. В добром здравии? Нет, такое про них точно не скажешь. Сабина напоминает больного щенка. Ее отец держится безупречно, как всегда мягок, как всегда учтив, никаких резких слов, никаких упреков. Он ненавидит меня! — едва не закричал он. Ненавидит всеми фибрами души! Но нет, внешне — само внимание и участие.
— Как служба, мой мальчик? Надеюсь, все в порядке?
— Да.
— Император о тебе высокого мнения.
— О да, похоже, что так.
— У тебя нездоровый вид. Темные круги под глазами.
И следы ногтей на спине, и следы зубов на плече, и боль в животе — и все подарки твоей супруги — так ненавидь меня, о боги! Так ненавидь меня!
Но нет, в глазах читаются сочувствие и забота. Лучше этого вообще не видеть. Теперь он почти не бывает дома. Лишь каждый месяц наносит короткий визит вежливости.
— Эта смазливая дурочка Поллия, — как-то раз сказала, не скрывая своего отвращения, его тетушка Диана. — Ей мало того, что она впилась в тебя своими крашеными ногтями. Так теперь пытается отлучить тебя от своих родных!
— А ты откуда знаешь? — спросил Павлин, застигнутый врасплох вопросом тетки. Диана жила вдали от города, предпочитая общество лошадей, и не слушала никаких сплетен. Но если и ей известно!
— Павлин, да это известно всем и каждому! Ты только скажи мне, и я раздавлю эту стерву под колесами моей колесницы!
Ах, да, что там дальше пишет Траян?
«Ты еще не женился? Мне казалось, что такая чувствительная душа, как ты, легко станет жертвой какой-нибудь красавицы. Неудивительно, что у правой руки императора нет отбоя от женщин».
— И куда ты собрался, Павлин? — раздался голос Лепиды и, как обычно, миновав его сознание, впился куда-то ниже живота. Тело Павлина тотчас выдало его, в то время как разум взывал о пощаде. Поскольку вся жизнь Лепиды протекала в пирах и праздниках, времени на него у нее почти не было. Имелись у нее и другие любовники. Однако каждые несколько недель она присылала ему записку с одной-единственной фразой — «сегодня вечером», и он тупо смотрел на нее весь день, и в конечном итоге ноги помимо воли несли его к ее двери.
Нет, других женщин в его жизни не было — Лепида впилась в него подобно рыболовному крючку.
— Я хотела кого-то вроде тебя, — сказала ему Тея прошлым летом. И она никогда не забывала его.
Никогда. Никогда — это почти бесконечность.
А вот время есть время, и его нужно было чем-то заполнить. Павлин закрыл окно, за которым стояла прекрасная весенняя ночь со всеми своими кошмарами, и потянулся над чистым свитком.
«Командиру Марку Ульпию Траяну, в Иудею, — вывел он первые слова. — Здесь в Риме дела обстоят хорошо…»
«…Итак, — писал Марк, — данный автор приходит к умозаключению, что единственным решением, способствующим процветанию империи, Сената и народа римского, является система усыновленных императоров.»
Он положил перо и откинулся на спинку кресла, массируя затекший большой палец. Час был поздний, и большинство домочадцев уже спали. Он же писал вот уже три часа.
— И зачем только? — спросил он себя вслух. Император запретил ему печатать философские трактаты.
— Политические умствования способствуют распространению в народе вольномыслия, — темные глаза холодно смотрели на него в упор. — Я вынужден предупредить тебя об этом, заботясь о твоем сыне, однако если ты и в следующий раз опубликуешь свои советы о том, как надлежит управлять моей империей, тебе ждет мое неодобрение.
Finis.
Марк сгреб готовые свитки и засунул их в ящик стола.
— Ты можешь запретить мне публиковать мои труды, господин и бог, но ты не можешь запретить мне писать. Даже богу такое не под силу.
— Отец?
Марк поднял глаза и увидел в дверном проеме детскую фигурку.
— Тебе давно пора спать, Вибия Сабина.
— Я не могла уснуть. Мне можно войти? — спросила разрешения девочка и бочком вошла в библиотеку.
— Конечно.
Сабина пробежала через всю комнату и вскарабкалась отцу на колени. Восемь лет. А такая махонькая. Такая крошечная. Дочь напоминала ему птичку: тонкие косточки, остренькое личико, пышные каштановые волосы, волнами ниспадающие на спину. Он убрал ей за ухо прядку волос, и пальцы его ощутили биение жилки у нее на виске.
— Очередной припадок?
Девочка пожала плечиками. Она хоть и крошечное, однако гордое создание, его дочь — даже в отношениях к нему. И ни за что не признается, что какое какой-то механизм в ее хилом тельце давал сбой, и оно начинало извиваться в корчах.
— Ты принимаешь свое лекарство.
— Оно мне не помогает, отец.
— Тогда мы обратимся к другому лекарю.
— Он просто скажет мне пить гладиаторскую кровь. Считается, что этим можно излечить падучую. Помнишь, того мальчишку-раба по имени Викс, который сказал мне…
— Мы живем в просвещенный век, моя дорогая, и я не позволю тебе пить гладиаторскую кровь. Полагаю, она не слишком приятна на вкус.
— Отец, я больше не хочу ходить к лекарям.
Марк погладил ей волосы.
— Давай поговорим об этом чуть позже.
— Я люблю тебя.
Сабина доверчиво закрыла глаза, и Марк ощутил легкий укол совести.
— Я не достоин Сабины. Я плохой отец — и тебе, и Павлину.
В дочери не было ничего от Лепиды, зато было что-то от Павлина — тот же недоверчивый, но открытый взгляд. Павлин, как и положено сыну, раз в несколько месяцев приходил их проведать, и, как и Сабина, всякий раз морщился, стоило кому-то произнести имя Лепиды. Марк как мог, старался держать дочь подальше от общества матери, чего не смог сделать по отношению к Павлину. Интересно, как поступил бы на его месте его дед-император? Что сделал бы любой уважающий себя человек ради своих детей?
Стал бы наблюдать, как они постепенно увядают, или же уничтожил одним ударом?
Марк нащупал еще один свиток, задвинутый в дальний угол ящика — длинный свиток, им же собственноручно плотно скрученный и помеченный словом «Свидетельства». На нем были записаны многочисленные свидетельские показания рабов, подтверждения неблаговидных поступков Лепиды за все эти годы. Увы, показаний рабов может оказаться недостаточно. Любой судья скажет вам, что рабов нетрудно запугать, особенно жестокому хозяину.
— Брошенные любовники, — размышлял он вслух. Среди них наверняка найдутся такие, кто затаили на нее обиду. Или те, что по уши погрязли в долгах. О, если бы он только мог купить у них их секреты! Это значительно облегчило бы ему задачу. Марк потрогал свиток.
Я внук бога Августа. И я не потерплю, чтобы у меня на шее и дальше грелась эта гадюка.
— Не торопись, — произнес внутренний голос. Голос его деда-императора. — Еще не пробил час.
(обратно)
Тиволи
— Ну что, Стефан? — накинув на плечи шаль, Флавия Домицилла прошествовала через влажный зеленый сад. В лучах заходящего солнца ее волосы отливали медным блеском.
Арий поклонился.
— Докладываю о северном винограднике, госпожа. Последними заморозками прихватило несколько лоз, и они покрылись каким-то черным налетом.
— Какая жалость, — вздохнула Флавия. — В хорошие годы эти лозы дают превосходное вино. Я попрошу Урбана выяснить, в чем дело.
— Я сам что-нибудь придумаю, — упрямо ответил Арий. Он обнаружил, что ему нравится ухаживать за садом. Правда, сад пока его не слишком любил, но ничего, он найдет к нему подход.
— А я столько мечтала о хорошем вине! — вздохнула Флавия, которая явно не разделала его уверенности, хотя и с улыбкой. — Тебя не узнать, Варвар.
Арий пригладил волосы — теперь, благодаря соку грецкого ореха, они сделались темными. Он также отрастил короткую бородку, и его гладиаторскую татуировку надежно скрывал под собой след ожога. Единственное, что еще объединяло Ария Варвара и садовника Стефана, это трехногая собачонка, которая преданно следовала за ним по пятам. Похоже, никто из рабов на вилле не узнал его. К тому же жилищем ему служила хижина посреди виноградников, что позволяло держаться на расстоянии от остальных обитателей виллы.
— Хотя тебе и доставляет удовольствие губить мои виноградники, — продолжала тем временем Флавия, — нет нужды постоянно при них находиться. Думается, тебе пора заняться чем-то другим. Ты и так провел здесь уже больше года.
Арий пожал плечами.
— Мне и здесь неплохо.
Вместо запертой камеры у него была своя хижина, вместо окровавленного песка под ногами — влажная земля, а вместо жадных аплодисментов — пение птиц. Иными словами — едва ли не райское место.
— Ты можешь вернуться домой, — сказала Флавия. — К себе, в Британию, если хочешь. Я могла бы это устроить.
— Я знаю. Спасибо. Но пока еще не время.
Он не был уверен, можно ли ему считать Британию своим домом. Когда-то он страстно мечтал вернуться к родным берегам, но тогда у него была Тея. Кто знает, вдруг теперь его дом здесь — в хижине посреди виноградника в Тиволи? А может, он слишком долго прожил рабом и теперь разучился принимать самостоятельные решения?
— Я пока еще не завершил свои дела здесь, — произнес он, наконец.
— Тогда чего ты ждешь?
— Не знаю. — Он громко втянул ноздрями воздух. Этот разговор заставил его почувствовать себя неловко. — Думаю, боги дадут мне знак.
А до тех пор его устраивают дни, проведенные среди виноградных лоз, и ночи перед пылающим очагом в обществе преданной собачонки.
— Странный ты человек, — сказала Флавия. — Если ты остаешься у нас, боюсь, мне придется самой ухаживать за моими лозами. Я живу здесь круглый год. Не люблю возвращаться на зиму в Рим. Думаю, что и Рим не слишком рад меня видеть.
— А император?
— С ним все в порядке, — спокойно ответила его новая хозяйка. — Предполагаю, не знает, чем ему себя занять. Войны в Германии окончены, он же всегда предпочитал армейскую жизнь. А так все в порядке.
— Мне пора к себе. — Арий поклонился и подозвал собачонку.
— Доброй ночи.
(обратно)
(обратно)
Глава 22
Павлин взял под мышку шлем и пробежал пальцами по слипшимся от пота волосам. Весна в этом году выдалась ранней, буйной и жаркой. И после полуденного зноя, что царил снаружи, внутри храма Весты было сумрачно, прохладно и тихо.
Навстречу ему, шелестя белыми одеждами, вышла немолодая женщина.
— Префект? Ты пришел вознести молитвы?
— Я здесь с императорским поручением, госпожа, — с этими словами Павлин передал ей свиток, скрепленный императорской печатью. — Вы обязаны содействовать и помогать мне в моем расследовании.
— Понятно. — Весталка быстро окинула глазами его доспехи, висевший на боку меч и четверых преторианцев у него за спиной. Под ее взглядом Павлин тотчас ощутил себя большим и неуклюжим. — Хорошо, я вам помогу, но только сама. Мужчинам запрещено вторгаться в священные пределы нашего храма.
— Думаю, в этом не будет необходимости, — произнес Павлин, заметив, как на другом конце длинного атрия застыла, не в силах побороть любопытство, другая весталка. — Нас может сопровождать она. — Нет ничего лучше застигнутых врасплох провожатых. — Прошу тебя, подойди к нам.
Пристально посмотрев ему в глаза, молодая весталка повиновалась.
— Какие-то неприятности?
— Нет, просто у меня есть несколько вопросов.
В последний раз эта девушка наверняка видела преторианца в тот день, когда гвардейцы явились в храм, чтобы вытащить отсюда закованную в цепи главную весталку — за нарушение священного обета той предстояло быть закопанной заживо. Павлин улыбнулся, желая ее успокоить.
— Никаких арестов. Просто несколько вопросов.
Он перевел взгляд на старшую по возрасту женщину. Та кивнула.
— Я с удовольствием отвечу на твои вопросы, префект.
— Я хотел бы осмотреть храм изнутри. — Как следует изучи это место, велел ему император. — Я никогда здесь раньше не бывал.
— А разве не ты проводил арест главной весталки?
— Нет. Им занимался непосредственно сам император.
— А сейчас? — Женщина пристально посмотрела ему в глаза. — Продолжение расследования? Вы пришли проверить, все ли мы храним обет целомудрия?
— А вы его храните?
Весталка смерила его взглядом.
— Что ты знаешь о весталках, префект?
— Достаточно.
— И что именно? — с этими словами она повернулась и повела его за собой по длинному атрию. В зеркальной поверхности бассейнов отражались беломраморные статуи. Сделав преторианцам знак оставаться на месте, Павлин догнал жрицу. Ростом она была ему по плечо, на голову наброшено белое покрывало, на пол ниспадают складки белых одежд. Шаг у нее был легкий, и она быстро и вместе с тем бесшумно шла вперед, никакого стука сандалий по мраморному полу. Она вела его прочь от залитого солнцем атрия куда-то в глубь лабиринта мраморных коридоров. — Здесь наши опочивальни.
Одну за другой она распахнула узкие двери. Комнатки были голые, с мраморными стенами, неотличимые одна от другой. В одной они застали немолодую женщину. Распрямив спину и почти не дыша, она застыла сидя на кровати и немигающим взглядом смотрела на белую стену перед собой.
— Что она делает? — спросил Павлин, и поймал себя на том, что перешел на шепот.
— Размышляет, — сказала его спутница и закрыла дверь. — Когда мы не заняты исполнением своих священных обязанностей, мы размышляем о тайнах бытия. А теперь прошу вот сюда — это наша трапезная.
Еще одна голая комната, если не считать длинного резного стола. Перед тарелкой с хлебом грубого помола и фигами сидела еще одна весталка и принимала пищу — неторопливо, без жадности. Она подняла на гостей невозмутимый взгляд, а затем отвернулась.
— Классная комната, — продолжила тем временем свою экскурсию его провожатая, и Павлин заглянул внутрь. За дверью две девочки с обритыми головами прилежно склонились над свитками. На них были белые платья и грубые сандалии — миниатюрная копия нарядов старших женщин.
— Почему их обрили? — Павлин заметил, как девочки о чем-то совещались, склонившись над восковой табличкой. Без волос, с их свежими, юными лицами они казались не девушками и не юношами, а чем-то средним, что не имело отношение к человеческому роду. Впрочем, их уже отличала плавность движений и бесстрастный взгляд, свойственные взрослым жрицам.
— Чтобы стать весталками, они расстались с волосами — точно так же, как и с другими соблазнами внешнего мира. И когда они станут жрицами, им будет позволено вновь отрастить волосы.
«Интересно, какого цвета волосы у моей спутницы?» — задался мысленным вопросом Павлин, глядя на ее невидимую под покрывалом голову.
— Они такие юные.
— Они приходят в храм в возрасте от шести до десяти лет и проводят в нем десять лет, готовясь стать жрицами, — с этими словами его спутница захлопнула дверь и направилась дальше по коридору. — Затем они десять лет должны отдать послушанию. После чего еще десять лет будут учить свою юную смену.
— А чем состоят ваши обязанности?
— Мы готовим муку для всех жертвоприношений в городе. Мы приносим воду из священного источника в роще при нашем храме. И, прежде всего, мы поддерживаем священный огонь — в некотором роде это очаг самого Рима, — с улыбкой пояснила жрица, когда они, обойдя храм, вновь вышли в атрий с двойной шеренгой мраморных статуй. — Есть и другие обязанности, но, боюсь, я не имею права тебе о них рассказывать.
— Что ж, пусть будет так, — ответил Павлин, рассматривая на ходу вереницу статуй, изображавших, как он понял, прежних весталок. Юные и старые, высокие и низкие, полные и худые, застыв в своих мраморных формах, они все почему-то показались ему одинаковыми. Все как одна взирали мраморными глазами на атрий, взирали тем же самым отрешенным взглядом, что застыл и в глазах живых, тех, что изо дня в день выполнял в этих мраморных стенах свои священные обязанности. И если бы вдруг его провожатая вскарабкалась на пьедестал и застыла там в своих белых одеждах, он бы никогда не отличил ее от давно ушедших из жизни весталок.
— Ты хотел бы заглянуть в храм? — поинтересовалась она.
— Да.
Простое круглое помещение, вот и все. Часть отгорожена занавесом — здесь хранились завещания и другие важные документы, в том числе, насколько было известно Павлину, и завещание императора. Но никаких мозаик, никаких украшений. Никаких пятен крови после жертвоприношений. Лишь только простой алтарь в центре комнаты и пылающий в бронзовой чаше огонь.
— Огонь Весты, — услышал он рядом с собой голос своей спутницы, который негромким эхом отразился от голых стен. — Вечный огонь. Если он погаснет, нас всех обвинят в неисполнении священного долга.
С этими словами она подошла к алтарю и плавными движениями воздала огню почести. Павлин не проронил ни слова, застыв, как вкопанный. Интересно, скольким мужчинам посчастливилось проникнуть в святая святых этого молчаливого женского храма?
«Мы им не нужны, — подумал он. — Они сотворили свой собственный мир, где нам нет места. Прекрасный мир».
— Ну как? Ты увидел все, что хотел увидеть? — спросила жрица, поднимая на него взгляд.
— Все.
Его преторианцы вышли на улицу, однако Павлин поймал себя на том, что не торопится уходить. И, похоже, его спутница тоже не собиралась его торопить и продолжала стоять перед ним, сцепив на талии руки. Ресницы у нее были светлыми — возможно, волосы под покрывалом тоже.
— Вы счастливы, — неожиданно произнес он. — Ведь так?
— Да, мы счастливы. А ты?
— Я? Ну конечно, счастлив.
— Разумеется. Ты намерен возвращаться сюда, префект?
Павлин задумался. Он уже давно забыл о том, что собирался делать заметки, однако увиденное ярко запечатлелось в его сознании — нет, в этих безмолвных стенах не было ни малейших следов порока, ни малейших признаков нарушения обета. Ему было дозволено войти в обитель непорочности.
— Да, — сказал он. — Я еще вернусь.
На ее лице он не заметил и следа удивления.
— Что ж, тогда до новой встречи, префект.
— Павлин Вибий Август Норбан.
— А я весталка Юстина, — прозвучало в ответ.
— Я вернусь. В следующий раз без моей стражи.
— Я всегда здесь.
Это лето Павлин провел в седле, постоянно переезжая от одной преторианской казармы к другой, чтобы проверить, как идет обучение. Либо доставлял в город императорские депеши. Либо навещал Тиволи, где проводил долгие вечера у домашнего очага на вилле Юпитера. Эти тихие вечера на вилле шли императору на пользу. По крайней мере, так казалось Павлину. Домициан выглядел гораздо более счастливым, спокойным, проводил долгие часы, нежась на роскошных ложах, и даже частенько улыбался. Не иначе как благотворное влияние Теи. В Тиволи она постоянно была рядом с ним.
— Какая прекрасная женщина, — как раз с воодушевлением заметил Павлин, когда она уже ушла спать.
— Верно, — отозвался Домициан, глядя отрешенным взглядом на пылающие светильники. — Она рабыня, я же не люблю рабов. Еврейка, я же не люблю евреев. Она полна тайн и секретов, я же не люблю секреты. И все-таки, согласись, в ней что-то есть…
Павлин улыбнулся себе под нос. Брошенная императором фраза прозвучала резко, но вместе с тем с теплотой.
— Я рад, что у него есть ты, — сказал он ей на следующее утро, после того как император исчез в таблинуме, где его ждали горы документов. — Ты благотворно на него влияешь, Тея.
— Тебе видней, — она оторвала веточку жасмина, овившего одну из колонн атрия. — Мне он оставляет только тени, всем остальным — солнечный свет. Да-да, может сиять подобно солнцу, когда захочет. Даже порой и ради меня тоже. Правда, очень редко. День-другой, а потом передо мной вновь грубый солдат, каким он был при первой нашей встрече. — Тея пожала плечами. — Это порой сбивает с толку.
— Он просто полагается на твою верность.
— Павлин, надеюсь, ты не ждешь, что я замолвлю за тебя перед ним словечко? Возможно, Домициан и полагается на мою преданность, однако к моим советам никогда не прислушивается. Он даже не внял им, когда писал свой трактат по уходу за волосами.
— А что ты ему посоветовала?
— Что императору не пристало писать трактат на такую тему.
Павлин рассмеялся.
— Что ж, возможно, он и не прислушивается к тебе, но мне понятно, почему он тебя любит.
Она отвернулась куда-то в сторону, и на какой-то момент Павлину показалось, будто краем глаза он заметил в ее глазах свирепый блеск. Правда, всего на один миг, потому что затем Тея вновь обернулась к нему и с улыбкой произнесла.
— Ну конечно. Да, он любит меня. Кто бы мог в этом усомниться? Кстати, я слышала, будто он подыскал для тебя невесту.
— Да, молодую вдову из рода Сульпициев. Ей двадцать шесть, бездетна, а в качестве приданого она принесет мне половину Тосканы и Тартацины.
— Ты говоришь о супруге или о лошади? — с усмешкой спросила Тея. — Боже, как глупы мужчины.
Павлин растерянно заморгал.
— Я сказал что-то не то? И теперь ты сердишься на меня?
— Нет-нет, такого просто не может быть! Ты один из самых влиятельных римлян, и при этом ничего не замечаешь.
— Тея, — осторожно начал Павлин. — Ты хорошо себя чувствуешь? Последнее время стоит такая жара…
— Ага, все понятно. Оказывается, я больна. От больной до безумной один шаг. Ведь именно такой ты и считал Юлию.
Окруженная облаком оранжевого шелка, Тея зашагала к вилле.
Павлин же задумался о том, сумеет ли он когда-нибудь понять женщин.
Позже, во второй половине дня Тея куда-то уехала.
— За покупками? — поинтересовался он у императора.
— Наверно, в гости к моей племяннице Флавии, — ответил Домициан, не отрывая глаз от своих свитков. — Кстати, почему бы тебе не послать за ней стражника? Потому что она будет нужна мне после обеда.
— Я сам съезжу за ней, — предложил Павлин и улыбнулся. Флавия когда-то была наперсницей Юлии в их детских забавах. Интересно, помнит ли она его? Как-то раз в Большом цирке они украли графин с вином у их матерей и в возрасте всего шести лет напились допьяна.
Путь до виллы Флавии Домициллы занял у Павлина всего четверть часа, спасибо верной гнедой кобыле. У ворот он спешился, отпустил от себя своих преторианцев, а сам повел кобылу в конюшню за домом. Он обогнул край виноградника и остановился как вкопанный.
Не замечая, что подол ее дорогих шелковых одежд волочится по грязному полу, Тея стояла в пыли конюшни и, положив руки на плечи грязному рыжеволосому мальчишке-рабу, довольно резко его отчитывала.
— Мне все равно, какие оправдания ты найдешь для себя на этот раз, но ты не имеешь права сбивать людей с ног. Ты должен благодарить судьбу за то, что живешь здесь, и пока ты обитаешь в этих стенах, ты должен беспрекословно слушаться госпожу Флавию, когда она велит тебе…
— Она мне не мать!
— Зато я мать, и я не потерплю, если ты станешь вести себя как варвар.
Они обменялись сердитыми взглядами.
— Почему бы тебе не показать мне твои новые упражнения с мечами? — спросила Тея, уже чуть мягче. — Честное слово, я не прочь взглянуть на них, и…
— Афина, — Павлин сделал шаг вперед.
Улыбка тотчас исчезла с ее лица, как будто-то кто-то ее стер, словно слово на восковой дощечке.
— Павлин? Что… что ты делаешь здесь?
— А это кто? — задал вопрос мальчишка, обратив сердитый взгляд на преторианца.
— Никто, — поспешила ответить Тея, прежде чем Павлин сообразил, что сказать в ответ. — Ступай назад в дом.
— Но, мама…
— Ты еще будешь препираться со мной!
Мальчишка бросил в сторону Павлина еще один колючий взгляд и зашагал к дому.
— Кто это, Тея? — поинтересовался Павлин, стараясь не выдать любопытства в голосе.
— Никто. И какое тебе дело, что он такой?
— О, еще какое! Ведь я преторианец, префект. И мне полагается знать, что происходит в семействе императора. Какие дела творятся у него за спиной.
Негодующий блеск в ее глазах померк, сменившись страхом.
— Викс не имеет к императору никакого отношения. Он всего лишь мальчишка-раб.
— Он твой сын.
— Он никто.
— Это твой сын. — Пауза. — Ведь он никак не может быть сыном императора.
— Боже, нет, конечно, — Тею передернуло при этой мысли. — Его отец мертв. Это важно? — она посмотрела Павлину в глаза. — Викс живет здесь, у Флавии Домициллы. И когда я бываю в Тиволи, то навещаю его. Это кому-то мешает?
— Тогда почему ты так испугалась? — Пауза. — Как понимаю, императору ничего не известно?
— Нет, ничего.
— Но почему? Ведь он, наверняка, не стал бы возражать…
— Я не знаю, стал бы или нет. Не знаю. Возможно, он просто бы пожал плечами и сказал: «Кому какое дело до того, что ты когда-то прижила ребенка?» А возможно, что нет.
Она вновь посмотрела на него.
— Домициан не любит детей. Он не любит напоминаний о том, что у меня до него были другие мужчины. И я не думаю, что он был бы раз видеть свидетельство того, что я от кого-то другого родила крепкого, здорового ребенка, а от него так и не зачала. Ты ведь знаешь его не хуже, чем я, Павлин Норбан. Что ты скажешь по этому поводу?
Улыбка слетела с лица префекта.
— В течение прошлого года я видела Викса лишь трижды. Трижды. Когда он научился пользоваться мечом, меня рядом с ним не было, и я не могла похвалить его. Когда он нечаянно во время учебного поединка сбил с ног сына Домициллы, я не смогла его за это отчитать. Когда он упал с дерева и сломал руку, я не смогла наложить ему повязку, потому что меня рядом с ним не было. Но даже всего лишь трижды в году это лучше, чем ни разу.
Павлин пристально посмотрел на нее.
— Не надо ничего говорить, — в глазах и голосе Теи читалась мольбы. — Прошу тебя, не надо.
Неожиданно он поймал себя на странной мысли. В течение всего времени, которое он провел в ее обществе в императорском дворце, он ни разу не видел Тею такой счастливой, как в те несколько минут, когда она улыбалась рыжеволосому мальчику.
— О боги! — Павлин убрал с глаз челку. — Вообще-то я должен отвезти тебя назад на императорскую виллу. Но я даю тебе час, хорошо?
Ее лицо озарилось улыбкой. В эти мгновения — в пыльном платье, с ниспадающими на спину волосами — она показалась ему еще прекрасней, нежели украшенная с головы до ног драгоценностями. Еще пару секунд она стояла, улыбаясь ему, счастливая, как ребенок, а затем повернулась и следом за сыном побежала в дом.
Павлин задался мысленным вопросом, уж не влюбился ли он? Боги, вот уж что ему меньше всего нужно.
— Павлин Вибий Август Норбан? — раздался за его спиной женский голос.
Он резко обернулся и увидел в воротах сада Флавию Домициллу.
— Если не ошибаюсь, в последний раз я видела тебя, когда тебе было десять лет. Позволь пригласить тебя в сад. Там прохладно, и ты расскажешь мне последние новости.
Вместе они направились в сторону дома. Неожиданно до Павлина дошло, что впервые за три года службы преторианским префектом и доверенным лицом императора у него появились от Домициана секреты.
(обратно)
Глава 23
Тиволи
Садовник, известный всем, кто обитал на вилле Флавии Домициллы, как Стефан, склонился над источником, чтобы умыть лицо, когда над кустами со свистом пролетел камень и больно ударил его в плечо.
Он инстинктивно, плавным движением обернулся, выхватил из-за ремня нож и приготовился нанести удар. Среди колючих кустов мелькнула туника из грубой шерсти. Стефан тотчас схватил и дернул. К его ногам упало что-то тяжелое. Он пошатнулся, выпустил тунику из рук, а когда восстановил равновесие, то обнаружил перед собой девятилетнего мальчишку.
— Я так и знал, что никакой ты не садовник, — крикнул мальчишка.
Арий облегченно выдохнул. От прохладного осеннего ветерка его руки весь день были покрыты гусиной кожей, но сейчас ему сделалось жарко. Он никогда не мерз перед поединком.
— Когда садовники пугаются, они бросают лопаты и начинают сыпать проклятиями. Они не хватаются за нож и не становятся в боевую стойку. — Мальчишка с вызовом сложил на груди руки и окинул Ария с головы до ног придирчивым взглядом. — Варвар.
Арий протянул руку, чтобы схватить наглеца. С хитрой улыбкой мальчишка тотчас отскочил назад.
— Я знаю, кто ты.
Разумеется, по просторному дому Флавии Домициллы бегали несколько десятков мальчишек-рабов, однако лицо этого показалось ему знакомым.
— Я знаю, кто ты. Я видел тебя в Колизее. Твой последний бой.
— Ты сам не знаешь, что говоришь! — Арий наклонился и поднял с земли нож. — Мое имя Стефан. И я работаю на виноградниках.
— Я видел Варвара.
— У тебя слишком богатое воображение, — сказал Арий, а про себя выругался. Он был так осторожен, старался не высовывать носа из виноградников, старался лишний раз не бывать в доме, разве что в случае крайней необходимости, чтобы отчитаться перед Флавией.
Другие рабы видели его так редко, что им вряд ли было известно, что он садовник, не говоря уже о его гладиаторском прошлом. И вот теперь этот мальчишка, который всего раз видел его в прежнем обличье, узнал его едва ли не с первого взгляда.
— У тебя трехногий пес, как и у Варвара, — стоял на своем сорванец. — А еще у тебя на руке шрам, в том месте, где у гладиаторов бывает татуировка.
— Ожоги бывают у многих. Собаки тоже.
— Эй, я знаю, какие движения у Варвара. Я видел его. Пусть я не смог признать тебя в первый раз, из-за твоей бороды, но даже в первый раз я понял, что садовники так не двигаются.
Мальчишка в буквальном смысле пожирал его глазами.
— Кыш отсюда! — произнес Арий, убирая за пояс нож, и вновь шагнул к источнику.
Мальчишка двинулся за ним по пятам.
— Научи меня.
— Чему?
— Научи! Я хочу стать гладиатором!
Арий в упор посмотрел на него.
— Скажи, какой идиот хочет быть гладиатором?
— Я хочу.
— Уходи. Ступай прочь.
— Прекрати. Ты ведь можешь меня научить. Я уже учусь у стражников, которые обучают сыновей госпожи Домициллы, но они все такие ленивые. Я вот уже целый год как не могу научиться ничему новому.
— Я сказал, кыш отсюда!
Мальчишка бросился вперед и обхватил Ария за колени. Тот тотчас упал, потеряв равновесие. Юный разбойник схватил его за запястье и попытался вывернуть ему за спину руку.
— Научи меня, — произнес он, задыхаясь от натуги.
Арий напряг плечо, и мальчишка отлетел в сторону. А в следующее мгновение его колено уже крепко придавило сорванца к земле, а цепкие пальцы сжали ему горло. От боли мальчишка сложился вдвое под его весом, однако маленькая, но мускулистая рука попробовала заехать Арию в солнечное сплетение. Арий увернулся, и еще сильнее сдавил мальчишке горло. Лицо юного раба тотчас посинело даже под слоем загара, однако молить о пощаде он не стал.
Арий разжал пальцы и отстранился. Мальчишка присел.
— Ну как, ловко я тебя разоблачил? — спросил он с легкой издевкой.
— Приходи завтра, — ответил Арий.
— А почему не сейчас? — упирался мальчонка, поднимаясь с земли. — Кстати, меня зовут Викс.
— А меня Стефан.
— Ну ладно, пусть будет Стефан.
— Что бы ты там ни думал, — предостерег его Арий, — не вздумай распространяться об этом среди других рабов, иначе тебе не поздоровится. Ты понял меня?
— Можешь убить меня, если я проболтаюсь, — пообещал мальчик. — Может, все-таки начнем прямо сейчас?
— Вынь нож, — сказал Арий, сам не понимая, зачем ему понадобилось обучать мальчишку. — Слишком медленно. Ты должен успеть выхватить из ножен кинжал и вогнать его противнику в живот прежде, чем тот успеет сделать вздох. И держи лезвие чуть под большим углом.
— Вот так? Эй, ты заметил, что мы оба левши? Вот это совпадение!
(обратно)
Рим
— Это он восседает в зале суда в своем судейством кресле, — рука Павлина быстро набросала картинку. — А это женщина-плебейка пытается доказать, что наследство должно достаться ей, а не истцу, потому что он ей никакой не сын, хотя именно это он и утверждает. И тогда император спрашивает ее: «Ты говоришь правду?» И она кивает: «Да, мой господин и бог». И тогда он говорит: «Отлично, тогда ты можешь выйти на него замуж. Прямо сейчас, на этом самом месте, и тогда наследство достанется вам обоим».
Весталка Юстина улыбнулась и в глазах ее заплясали огоньки.
— И что она сказала?
— Она упала на колени и умоляла его пожалеть ее. Из чего император сделал вывод, что истец все-таки ее сын, и присудил наследство ему.
Павлин покачал головой.
— И знаешь, что он сказал мне потом? Я имею в виду императора. Он сказал, что эту уловку он позаимствовал в юридических архивах императора Клавдия. Но думаю, даже Клавдий не смог бы применить ее с той же ловкостью, что и наш император. Видела бы ты лицо женщины, когда он предложил ей выйти замуж за собственного сына…
Юстина рассмеялась, и Павлин почувствовал себя героем. Юстина смеялась нечасто. Улыбаться — это да, улыбалась она часто, тихой, сдержанной улыбкой, но смеха от нее он почти никогда не слышал. Павлин со вздохом откинулся на спинку кресла.
— Устал? — поинтересовалась Юстина. В белых одеждах она казалась ему прохладной мраморной статуей, почти не отличимой от белых мраморных стен.
— В последнее время я вечно куда-то спешу, — ответил он ей с улыбкой. — И был бы не прочь хотя бы на денек поменяться с тобой местами, посидел бы с удовольствием в прохладной зале, наблюдая за пламенем.
— Ну только к этому наши обязанности не сводятся. Но ты прав, у нас здесь спокойно.
Она была само спокойствие. В последние два месяца у Павлина вошло в привычку заглядывать к ней в гости. Императорское расследование дела о весталках было официально закрыто, однако раз в пару недель Павлин наведывался в храм, чтобы поговорить с Юстиной. Посидеть с ней в зале приема гостей, ибо только здесь любая весталка имела право разговаривать с мужчиной, тихо и спокойно поболтать о всяких мелочах.
— Я скоро женюсь, — неожиданно сообщил он.
— Я слышала. На женщине из семейства Сульпициев, если я правильно помню?
— Да. Ее имя Кальпурния Елена Сульпиция. Как только авгуры объявят благоприятную дату, император устроит по поводу нашей помолвки пир. Кальпурния вдова, правда, вдова молодая и бездетная.
— И это все, что ты можешь сказать про свою будущую супругу? — задала вопрос Юстина.
— Я ее почти не знаю. Впрочем, она производит приятное впечатление, и вообще, я ведь должен на ком-то жениться.
— Неужели?
Павлин пожал плечами.
— Если я и дальше буду ходить в холостяках, люди начнут поговаривать, что я предпочитаю мальчиков.
— Ну среди воинов такое не редкость, — в голосе Юстины Павлину послышались насмешливые нотки, и он искоса посмотрел на свою собеседницу. Для весталки она порой отпускала весьма приземленные комментарии.
— Как, например, мой друг Траян, — задумчиво произнес Павлин. — По его словам, с ними проще иметь дело, чем с женщинами. Возможно, он прав, но такое не для меня. Я возьму в жены Кальпурнию Сульпицию, и она родит мне сыновей, — он вопросительно посмотрел на весталку. — А ты никогда не жалеешь, что ты… не можешь выйти замуж?
Юстина растерянно заморгала.
— Я? Нет, конечно… Такое мне никогда даже в голову не приходило. Мне было девять лет, когда выбор пал на меня. В ту пору, как ты понимаешь, я не думала ни о каком замужестве. А став весталкой, целиком и полностью отдалась служению и никогда не оглядывалась назад. Впрочем, известны случаи, когда весталки выходили замуж — после того как в течение тридцати лет честно исполняли свой долг.
— Правда? — теперь настала очередь Павлина удивиться.
— Такое, конечно, бывает не часто. Жениться на бывшей весталке многие считают дурным предзнаменованием. Например, наша бывшая главная весталка планировала выйти замуж, когда окончится срок ее служения. А вместо этого ее казнили.
Павлин посмотрел своей собеседнице прямо в глаза.
— Ей следовало дождаться окончания срока, а не брать этого мужчину себе в любовники.
— Он был ей никакой не любовник. Они были знакомы долгие годы, но она ни разу не нарушила священного обета.
— Император сам вел расследование. Или ты считаешь, что он мог приговорить ее к смерти, не имея на то веских оснований? Ты даже не представляешь себе, какой он дотошный юрист.
— Ты даже не представляешь себе, с какой серьезностью весталки блюдут свое целомудрие.
Павлин открыл рот, однако тотчас напомнил себе, что со жрицей спорить невозможно.
— Я бы никогда не стал ставить под сомнения слова весталки, — произнес он.
— Я бы никогда не стала ставить под сомнение суждение императора, — произнесла Юстина с улыбкой. — Давай прекратим наш спор.
(обратно)
Лепида
93 г. н. э.
Невеста Павлина не представляла для меня никакой угрозы. Кальпурния Елена Сульпиция была дебелой, как кобыла. Толстые короткие пальцы и курносый нос. К тому же старше меня на год. Сначала я сильно волновалась, опасаясь, что моего красавца-пасынка отнимет у меня какая-нибудь пятнадцатилетняя сильфида, но, как оказалось, мне нет повода переживать из-за этой вдовушки. Я видела ее несколько раз, однако ни разу толком не поговорила. И вот теперь уже пошел новый год, и наступило время Луперкалий, а Луперкалии, как известно, это праздник влюбленных, и авгуры наконец объявили благоприятную дату помолвки Павлина и этой его вдовой кобылки.
— О, мой дорогая, какое интересное платье! — воскликнула я, когда она вошла в мои покои, нарядившись по случаю придворного пира. — Смотрю, ты сегодня в голубом? Какой, однако смелый выбор, особенно при твоем цвете лица.
— Благодарю тебя, госпожа Лепида, — спокойно ответила невеста моего любовника. — Ты не могла бы посмотреть, что там с застежкой на моем браслете. Мне кажется, она расстегнулась.
Я склонила голову над застежкой. Ее сапфиры были крупнее, ярче и лучше моих — по случаю праздника я тоже облачилась в голубые тона.
— С ней все в порядке, — ответила я и пристально посмотрела ей в глаза, однако взгляд их был чист и незамутнен, как у ребенка. Никто никогда не напишет од ее глазам. Я слегка ослабила застежку на моей столе, чтобы чуть больше обнажить плечо и подчеркнуть красоту шею. — Павлин, как всегда, опаздывает. Он слишком серьезно относится к своим обязанностям.
— Да, я уже заметила.
Я уже было приготовилась предпринять новую атаку — на этот раз на ее прическу. Сказать по правде, это была даже не прическа, а копна мышиного цвета волос, которая смотрелась совершенно невыразительно, хотя и была перевита нитями драгоценных камней. Но в следующий миг я услышала за спиной знакомые шаги и оглянулась. К нам направлялся Марк.
— Достопочтенная Кальпурния, — улыбнулся он и поцеловал ей руку. — Я только что получил от Павлина записку. Его задерживают какие-то неотложные дела, и он встретит нас прямо в императорском дворце.
Кальпурния кивнула. Похоже, это известие ее ничуть не расстроило, что, в свою очередь, жутко меня разозлило. Было бы забавно понаблюдать за ней, если бы она потеряла голову из-за моего пасынка. В таком случае можно было бы время от времени намекать ей о его чувствах ко мне. Пусть помучается ревностью и подозрениями.
— Отец! — воскликнула, вбежав из атрия, Сабина. — Отец, ты забыл, что обещал позволить мне поправить на тебе тунику.
— Верно, обещал. — Марк наклонился, давая дочери возможность расправить упругие складки. — Ну как, теперь все в порядке?
— Да, лучше не бывает.
— Это твоя дочь, сенатор? — просила Кальпурния, обращаясь к Марку, но не ко мне.
— Да. Вибия Сабина, познакомься, это госпожа Кальпурния Елена Сульпиция.
Сабина улыбнулась щербатой улыбкой.
— Рада познакомиться…
— А где твой поклон, Сабина? — одернула я дочь. — Тебе уже восемь лет. Пора бы помнить о таких вещах.
— Лепида, ей уже девять, — невозмутимым тоном произнес Марк.
— Ну знаешь, если неучтивость неприятна в восемь лет, то в девять и подавно.
Девочка поклонилась Кальпурнии. От меня не скрылось, что на какой-то миг она закрыла глаза, как будто пыталась побороть головокружение.
— Если тебе кажется, что у тебя сейчас начнется припадок, то лучше иди к себе наверх, — сказала я ей. — Не хотелось бы, чтобы ты поставила нас в неловкое положение перед гостями.
— Рада была с тобой познакомиться, Вибия Сабина, — произнесла Кальпурния, когда моя дочь бочком направилась вон из комнаты. — Буду рада новой встрече с тобой.
— Поскольку мы готовы к выходу, — сказала я, накидывая на плечи ярко-голубую пеллу, — то, думаю, нам пора.
Кальпурния и Марк посмотрели на меня. Выражение лица мужа было мне хорошо знакомо — плохо скрытое презрение. На квадратном лице Кальпурнии читалось неодобрение. Что эти двое о себе возомнили? Всю дорогу до дворца я игнорировала их присутствие. Отдернув в сторону занавески паланкина, я наблюдала затем, как плебс предается празднованию Луперкалий. Как обычно, на улицах царило веселье. Самые смелые мужчины разгуливали в набедренных повязках, щелкая кнутами, а из темных углов то тут, то там выползали похотливые любовники. В прошлом году во время Луперкалий моей благосклонности домогались сразу четверо мужчин, они даже заключили со мной пари, что я не смогу одарить ею сразу всех четверых. И что бы вы думали? Я не только одарила их всех, но и еще двоих! Похоже, в этом году таких забав мне не видать. Марк уже прожужжал мне все уши своими делами в Сенате, и вот теперь на меня свалилась эта зануда Кальпурния.
Императорский дворец сверкал огнями. Домициан обычно устраивал официальные приемы в новом дворце, с его огромными парадными залами и причудливыми фонтанами, однако Павлин удостоился чести быть принятым со своей невестой в личных покоях императора. К нам тотчас подскочили рабы, чтобы взять плащи, а роскошно одетые вольноотпущенники повели нас по ярко освещенным коридорам в триклиний, превращенный по случаю помолвки в сказочный мир. Повсюду благородный лавр и орхидеи, на столе золотая посуда и хрустальные кубки. Ради Павлина император не пожалел ничего. По этому случаю он даже снял с себя свою обычную простую тунику и облачился с пурпурные одежды, вышитые золотой нитью, которые стоили никак не меньше месячных запасов пшеницы для города, привезенной из Сирии.
— Друзья мои! — воскликнул Домициан и, сияя улыбкой, шагнул нам навстречу. — Как я рад видеть вас у себя! Марк, — дружеский кивок, Лепида, — поцелуй в щеку, нареченная, — пожатие руки. — Добро пожаловать ко мне в гости!
— Рада видеть вас, — еле слышно произнесла императрица, вся в изумрудах и серебре.
— Извините, что заставил вас ждать! — Это в распахнутые двери вошел Павлин, расправляя на себе складки
тоги.
— Ничего страшного! — Император в дружеском жесте положил ему на плечо руку, и я подумала, что слухи вполне могут оказаться верны: Домициан и вправду собирается назвать Павлина в качестве своего преемника. В прошлом году — звание префекта, в этом — наследника, в следующем — вся империя. Бесспорно одно: император был ближе к моему пасынку, чем к кому-либо в Риме. Император Павлин Вибий Август Норбан… И пусть меня обвинят в кровосмешении, но если он станет императором, я заставлю его жениться на мне!
— Итак? — добродушно спросил Домициан, глядя, как рука Павлина робко легла на руку Кальпурнии. — Поцелуй невесту.
Кальпурния покраснела, однако щеку подставила. Павлин нагнулся и легонько прикоснулся к ней губами. При этом он на миг посмотрел на меня, и я округлила губы, как будто приготовилась его поцеловать. Он тоже покраснел и отвернулся.
— Павлин, — это вперед шагнул Марк. — Я рад видеть тебя, мой сын. Давно я ждал этого момента.
— Отец.
Они неуклюже шагнули навстречу друг другу и, избегая смотреть в глаза, обнялись. Впрочем, уже в следующее мгновение Павлин отпрянул назад, как будто обжегшись, а на лице его выступил румянец.
Я хихикнула.
Не успели мы устроиться на ложах с обтянутыми шелком подушками, как рабы тотчас начали ставить перед нами одно блюдо за другим, а своды зала наполнились музыкой. Стол буквально ломился от угощений. Тут были и вазы с засахаренными фруктами, и жареные павлины, украшенные их же яркими перьями, и поросята в медовом соусе, начиненные розмарином и кусками своего собственного мяса. Перед нами барабанщики исполняли свой причудливый танец, а звонкоголосые мальчики из Коринфа услаждали мой слух своим пением, ловкие акробаты возводили из собственных тел причудливые пирамиды до самого потолка из слоновой кости. Не успевали мы опустошить наши тарелки, как рабы тотчас подкладывали нам новые угощения. Домициан понуждал нас есть, есть и есть. Он размахивал жареной павлиньей шеей, с которой на его роскошные одежды капал жир, и на дорогом пурпуре уже появились первые пятна. И я поняла, что он изрядно пьян. Старое фалернское вино лилось рекой, не уступая в полноводности Тибру, и поскольку от обильной еды и выпитого вина мне становилось все жарче и жарче, вполне естественно, что я распустила волосы, а платье соскользнуло с одного плеча. Вот теперь это было похоже на Луперкалии!
Император рассказывал истории про храбрость и мужество Павлина, то и дело восклицая, что такого друга, как он, у него еще не было, и вот теперь он хотел, чтобы весь мир об этом знал. Павлин сидел с остекленевшим взглядом, потому что старался не отстать от императора по количеству выпитых кубков. Щеки Кальпурнии раскраснелись, платье помялось, а сама она в довольно неудобной позе растянулась на своем ложе. В зале было жарко, стол ломился от яств, вино лилось рекой. Однако музыканты старались вовсю, а император возвышался над нами словно некий раздувшийся бог, и нам ничего не оставалось, как набивать себе рты яствами, запивая застрявший в горле кусок вином, и время от времени выкашливать из себя приступы истерического хохота.
Марк сидел рядом со мной — спокойный и невозмутимый, и когда я сквозь пелену легкого опьянения посмотрела на него, то заметила, что его взгляд прикован не к императору, и даже не к Павлину. Его взгляд был прикован к императрице. Точно так же, как и он, — спокойно и невозмутимо — императрица сидела на краю своего ложа и смотрела на него. Было в этом пристальном, задумчивом взгляде нечто такое, что привлекло мое внимание. Однако зал уже шел кругом вокруг меня, повсюду царило безудержное веселье, и я не смогла удержаться от смеха, глядя на потное квадратное лицо Кальпурнии. Я осушила еще один кубок, пролив при этом половину его содержимого на мозаику, и, перевернувшись на спину, расхохоталась, глядя в потолок. Моя стола соскользнула с другого плеча, оголив грудь. Павлин тотчас впился в нее взглядом.
— Обручальное кольцо для невесты! — выкрикнул император. — Павлин, только не говори мне, что ты еще не преподнес его ей. Позволь мне это сделать самому, — с этими словами он схватил Кальпурнию за руку и надел ей на палец, правда, не тот, что нужно, перстень с внушительным рубином. — Теперь вы обручены. Поцелуй ее еще раз!
Павлин легонько коснулся губами ее губ.
— Нет-нет, не так. Похоже, это я тоже вынужден за тебя сделать!
Выкрикнув эти слова, Домициан жадно поцеловал Кальпурнию в губы. Ее сдавленный писк тотчас утонул в барабанной дроби.
— Цезарь, — строго произнесла императрица, впервые за весь вечер подав голос. — Ты испугал бедную девушку.
— Испугал? — Император посмотрел на супругу со злобным прищуром. — Можно подумать, ты что-то понимаешь в поцелуях! Да ты холодна как ледышка, тебя не способен растопить даже вулкан, ты холодная интриганка…
Императрица поднялась со своего ложа. За весь пир ни единый волосок не выбился из ее прически.
— Благодарю вас за прекрасный вечер, — произнесла она, обращаясь сразу ко всем и к никому. — Марк, Лепида, префект Норбан, Кальпурния. Позвольте мне пожелать вам приятного вечера.
— Это точно, — пробормотал император, когда она удалилась, — убирайся отсюда, ты, холодная сука. — Он поманил к себе юного раба, и я, насколько позволяла застилавшая мне глаза пелена, увидела, как тот высыпал в графин с вином какие-то мелко нарезанные листья.
— Что это? — поинтересовалась я заплетающимся языком и хихикнула.
— Трава, если не ошибаюсь, из Индии, — с этими словами он осушил кубок. — Делает мир ярче. Павлин, Кальпурния…
— Мне не надо, — четко возразила та.
— Пей! — Император грубо сунул ей в руку кубок, и половина вина выплеснулась ей на дорогой наряд. Однако Кальпурния повиновалась. Чувствуя на себе презрительный взгляд Марка, я, протянув через стол руку, вырвала у нее кубок и осушила его без остатка. Это было старое фалернское вино, и лишь в последних глотках ощущался горький привкус.
— Великолепно! — выкрикнул, задыхаясь, император. По его лбу градом катился пот. — У нас здесь просто великолепно. Эй, музыку мне, музыку! И пусть кто-нибудь приведет ко мне Афину!
Неожиданно меня бросило в пот. Мозаика на полу бешено пошла кругом, точно живая. Тело размякло и источало жар.
— О боги, мне дурно, — простонала Кальпурния и в изнеможении рухнула на ложе. В следующее мгновение ее вырвало прямо под розовой мраморной статуей купающейся Артемиды.
Я услышала рядом с собой шорох одежд. Это Марк поднялся со своего места.
— Думаю, цезарь, будет лучше, если я отведу Кальпурнию домой. Ей нехорошо, — с этими словами он взял ее под локоть, помогая подняться. — Павлин…
Но Павлин, тяжело дыша, растянулся на своем ложе. Зрачки его сделались такими огромными, что казалась, будто у него вообще нет глаз.
— Ты прекрасна, — пробормотал он, обращаясь ко мне. — Ты прекрасна.
— Доброй вам ночи, — сказал Марк, выводя из зала шатающуюся Кальпурнию.
Кудри Павлина двигались, извивались, подобно змеям. Сгорая от любопытства, я протянула палец и тотчас отдернула, боясь быть укушенной. Он перекатился на бок и, схватив меня за руку, впился жадными губами в мою грудь и плечи.
— Афина! — взревел император, и я, бросив взгляд из-за плеча Павлина, увидела, как в зал, в платье абрикосового цвета, вошла Тея. Сначала она показалась мне совсем крошечной, как будто на другом конце длинного тоннеля, а затем неожиданно сделалась огромной, настоящей великаншей. Камень у нее на шее тоже увеличился в размерах и превратился в разверстую черную пасть. Пока Павлин заплетающимися пальцами пытался расстегнуть пряжку на моей столе, император схватил Тею за руку с такой силой, что его пальцы оставили на ее коже белые следы.
— Пей, — прошептал он и прижал к ее рту кубок, вынуждая сделать глоток. — Пей, и тогда мы все увидим, что ты за богиня.
Когда она, давясь, выпила вино, он поцеловал ее, впиваясь в нее зубами и больно сжимая жадными руками.
Моя стола не выдержала и с треском порвалась, а в следующее мгновение Павлин, задыхаясь, словно загнанный, потный зверь, уже лежал на мне. Я впилась ему в плечи ногтями. Выступила кровь и тотчас начала переливаться в моих глазах всеми цветами радуги. Краем глаза я заметила, как император что-то делает с Теей. Она лежала полуодетая, отвернув лицо в сторону. Павлин превратился в твердый комок плоти, которым он пронзал меня: с его лба градом катился пот, глаза превратились в два черных бездонных колодца, рот приоткрылся в немом крике. Я слегка повернула голову, чтобы посмотреть на Тею, задавленную на соседнем ложе ее собственным потным зверем. Она на мгновение открыла глаза, и наши взгляды встретились.
Наши тела извивались, а мы продолжали смотреть друг на друга. Затем мир вокруг ее лица приобрел прежние очертания и краски. И я увидела всего в паре шагов от себя ее бледное, полное ненависти лицо. Губы искусаны до крови, волосы спутаны и блестят от пота и серебряных цепочек, глаза широко раскрыты, словно под воздействием зелья. Я ненавидела ее, ненавидела лютой ненавистью, ответная ненависть читалась в ее глазах. Я ненавидела ее, пронзенную твердой мужской плотью, точно так же, как и я, и будь у нас такая возможность, мы бы вцепились друг другу в глотки. Придавленные мужскими телами, мы все-таки попытались дотянуться, чтобы выцарапать друг другу глаза. Ее пальцы впились в мои, пытаясь их переломать, я же вогнала ногти как можно глубже ей в руку, и все это время мы сверлили друг друга полными ненависти взглядами. Ее глаза — это последнее, что я видела, пока цвета не померкли в моем сознании, а им на смену пришла бездонная чернота.
— Мне снова дурно, — прошептала Кальпурния, шагая, пошатываясь, рядом с Марком, который поддерживал ее за плечо.
— В таком случае, пусть лучше тебя вырвет, — сказал он своей будущей невестке.
Кальпурния пошатнулась и схватилась за дверной косяк. Марк поддержал ее, не давая ей упасть, а в следующее мгновение ее вырвало.
— Ну вот, а теперь пойдем в атрий. Свежий воздух поможет тебе проветрить голову.
— Мне нужно домой.
— Сначала посиди.
Кальпурния, шатаясь, вышла в атрий и, тяжело опустившись на первую же скамью, обхватила руками голову. Марк подозвал раба, велел принести графин, и сунул ей в руку кубок.
— Пей.
— Я больше не хочу вина. Я не могу…
— Это вода, а не вино. Пей маленькими глотками.
Кальпурния повиновалась. Еще четыре часа назад это была здоровая, цветущая молодая женщина в новом голубом платье. Сейчас же ее было не узнать. Грязное, мятое платье, все в винных пятнах, волосы растрепаны по плечам, на одном ухе не хватает серьги. Кальпурния оглядела себя и, заметив следы рвоты на подоле платья, залилась краской стыда.
— О боги! На кого я только похожа!
— Ничего страшного. Скажи лучше, как ты себя чувствуешь.
Кальпурния выпила еще воды.
— У меня такое чувство, будто сам Вулкан сделал из моей головы наковальню.
— Ничего, это пройдет. Радуйся, что тебя вырвало, и большая часть зелья вышла вместе со рвотой.
— Спасибо тебе за то, что увел меня оттуда.
— Мне показалось, что дворец произвел на тебя слишком сильное впечатление.
Кальпурнию передернуло, и Марк вспомнил ее полное ужаса лицо, когда император жадным поцелуем впился ей в губы, едва ли не кусая их зубами.
— Он всегда такой? — спросила она.
— Нет, — ответил Марк, садясь рядом с ней на мраморную скамью. — Сегодня он был… не похож на себя.
— Я больше туда не пойду, — сказала Кальпурния, пытаясь стряхнуть с платья налипшую грязь. — Ни за что.
— Сегодня ты видела императора в его худшем обличье. Завтра, когда действие индийской травы пройдет, он позабудет все, что произошло сегодня на пиру, и будет обращаться с тобой так, как он обращается со всеми женщинами, а именно, просто не будет обращать на тебя внимание.
— И все равно я не могу.
— Как жена Павлина, ты будешь вынуждена это сделать.
— В таком случае я не стану выходить за него замуж, — с этими словами Кальпурния посмотрела на Марка. На лице ее застыла страдальческая гримаса. — Нет, дело не в нем. Он производит приятное впечатление, когда он не…
«Поедает глазами собственную мачеху».
— Думается, он не слишком будет переживать из-за того, если не женится на мне, я же, я не могу вести такую жизнь. Бесконечные пиры, возлияния и эта индийская трава… Может, моя семья со времен республики и занимает положение в Риме, но я провинциалка. — Кальпурния подалась вперед. — Я выросла в Тоскане, среди виноградников, лошадей и чистых горных источников. Возможно, я должна чувствовать себя польщенной, что сам префект претория выбрал меня в жены, но мое место не во дворце. Тем более в таком дворце.
Марк испугался, что она сейчас расплачется, однако Кальпурния отвернулась и взяла себя в руки. Да, родом из провинции, однако все же патрицианка.
Марк задумался над ее словами.
— Возможно, ты мне не поверишь, если учесть то, чему сегодня ты стала свидетельницей, но и Павлину этот мир тоже чужд.
Кальпурния повернулась к нему.
— Мой сын — простой солдат, немного идеалист и законопослушный римлянин. И то, что ему доверена должность префекта претория, для него великая честь. Однако он еще молод и порывист. И если найдется кто-то, кто помог бы ему твердо встать на ноги, он был бы благодарен этому человеку.
— И ты хочешь, чтобы этим человеком стала я?
— Думаю, у тебя это бы хорошо получилось, — серьезно ответил Марк. — Ты честная и благородная женщина, Кальпурния Сульпипия. Чтобы это понять, не надо быть долго с тобой знакомым. Моему сыну нужна такая жена, как ты. И он сам это прекрасно знает.
— Может быть, и так. — Кальпурния сидела, нервно теребя шелковую складку залитого вином платья. — Но ему нужно не это. Ему нужна… — она не договорила и поспешила прикусить губу. Возможно, она не так давно знакома с Лепидой, но с другой стороны, и короткого знакомства ей оказалось достаточно.
Марк в упор посмотрел на нее.
«Да, твоему жениху нужна моя жена».
И они отвернулись друг от друга.
— Могу я попросить тебя об одном одолжении? — обратился к ней Марк официальным тоном, словно цитировал в Сенате какое-то положение законодательства. — Прежде чем разрывать помолвку, хорошенько взвесь все за и против. Это все, что я от тебя прошу.
Машинально вертя на пальце рубиновое кольцо, Кальпурния посмотрела на него, и Марк подумал, что она готова прямо сейчас стащить проклятое кольцо с пальца и бросить ему под ноги. Но вместо этого Кальпурния подала ему руку.
— Хорошо, сенатор.
— Можешь называть меня просто Марк.
Он взял ее руку в свои и улыбнулся.
— Спасибо тебе.
(обратно)
(обратно)
Глава 24
Тиволи
— Ты опоздал, — сказал Арий Виксу.
— Чистил лошадей, — сказал в свое оправдание мальчик.
— Обеги вокруг сада, чтобы согреться. После чего начинай делать упражнение номер пять.
Они устраивали поединки под весенним дождем, барахтаясь в жидкой грязи. Устраивали поединки под палящим солнцем, сражались на учебных деревянных мечах, которые сжимали в скользких от пота ладонях. Они сражались до тех пор, пока кости не начинали трещать, а мышцы молить о пощаде, пока Викс не ронял из рук меч, а Арий, шатаясь, возвращался в свою хижину, искренне недоумевая, зачем ему все это понадобилось.
Наверно потому, что тихая жизнь в винограднике постепенно ему наскучила. По-видимому, мечи, поединки, физические упражнения стали частью его натуры, вошли в его плоть и кровь, независимо от его желания.
— Когда я наконец возьму в руки настоящий меч? — жаловался Викс.
— Когда заслужишь такую честь, — довольно грубо осадил его Арий, точно так же, как когда-то братья-гладиаторы и бесконечная череда наставников осаживали его самого.
— Но я ее уже заслужил!
— Докажи!
И Викс двинулся на него, размахивая деревянным мечом. Увы, уже в следующее мгновение Арий выбил его, а самого юного бойца бросил в грязь.
— Просто ты выше меня ростом, — Викс одарил его колючим взглядом.
— Нет, если бы ты подошел ближе и пригнулся пониже, ты мог бы сбить меня с ног. Если же во время поединка ты и дальше будешь притворяться, будто ты взрослый мужчина, тебе каюк. Сражайся как десятилетний мальчишка, и в один прекрасный день ты сможешь кого-нибудь убить. Главное, не пытайся произвести на меня впечатление.
Викс выругался.
— Так что, попробуем еще раз?
Они несколько раз походили кругами, постепенно приближаясь друг к другу. Внезапно Викс сделал выпад и толкнул противника всем своим весом в бок. Варвар на мгновение покачнулся, и Викс попробовал деревянным мечом рассечь ему челюсть.
— Уже лучше. Давай еще раз.
— Хорошо, только на этот раз давай без ударов.
Викс попытался применить ту же самую уловку. На сей раз он налетел на каменное плечо противника и тотчас поспешно замахнулся деревянным мечом. Арий схватил его за руку, чем моментально лишил равновесия, а заодно с громким щелчком вывихнул ему плечевой сустав. Викс взвыл от боли.
— Ложись лицом вниз и подними руку строго вверх.
— Какую руку? Ты, сукин сын, у меня вообще больше нет руки…
— Хватит ныть! — С этими словами Арий уперся ногой ему на спину, схватил больную руку и быстрым рывком поставил сустав на место. — Давай пригнись, пусть тебя вырвет.
— Меня никогда не рвет. — Викс, шатаясь, поднялся на ноги и вновь принял боевую стойку. — Я готов сражаться еще один час.
— Тогда еще один час сражайся вот этим. — Арий кинул ему свой меч.
Викс поймал рукоятку обеими руками, однако тотчас пошатнулся.
— Ух-ты, какой тяжелый!
— Согласен, тяжелый для мальчишки, но он сделает тебя сильным. Научишься сражаться им, сможешь сражаться чем угодно.
— Понял. — Викс подставил лезвие к свету, любуясь остро заточенной сталью. — Про тебя говорили, что вместо меча у тебя в руках молния, а вместо щита — раскат грома.
— Люди просто дураки. Начни делать упражнение номер два, однако в два раза медленнее. Тем самым научишься контролировать свои движения.
— Тебя самого точно так же обучали в гладиаторской школе? — спросил Викс с негромким стоном. Каждый медленный взмах меча стоил ему неимоверных усилий.
— Нет, этому меня научили мои братья. Сейчас мы будем оттачивать координацию движений, а на следующей неделе возьмемся за тяжести и пробежки. Ты быстр и проворен, но тебе не хватает выносливости. Ага, давай еще пять раз. Только помедленнее.
— Почему тебе не нравилось быть гладиатором? — спросил Викс, медленно поднимая меч.
— Потому что это паршивая работа.
— А по мне самый раз.
— Ты еще слишком молод и насмотрелся боев.
— Вообще-то я видел только одни. Моя мать говорит, что это варварское занятие.
— Твоя мать разумная женщина. Давай еще раз. И как можно медленнее.
— У меня сейчас отвалятся руки.
— Значит, ты все делаешь правильно.
— Издеваешься.
— Думай, что хочешь, — ответил Арий с довольной улыбкой. — А теперь еще десяток раз.
(обратно)
Рим
— Мне нужна Юстина. — Павлин попытался сосредоточить взгляд на своей собеседнице. На лице весталки читалось неодобрение. — Мне нужно поговорить с Юстиной.
— Сейчас она занята исполнением своих священных обязанностей.
— Тогда приведите ее ко мне. Это приказ префекта.
Не обращая внимания на возмущенные взгляды молящихся, Павлин прислонился спиной к мраморной стене храма. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, как выглядит в данный момент — налитые кровью глаза, небритый, в мятой одежде. С того злосчастного пира по поводу его обручения прошло несколько месяцев, а им по-прежнему владело желание напиться, лишь бы, пусть даже ненадолго, забыть события той ночи.
— Префект, ты хотел меня видеть? — раздался голос Юстины. — Что-то случилось? У тебя неприятности? Я уже давно тебя не видела.
После обручения его мучил стыд, и он никак не мог заставить себя прийти в храм Весты, не мог заставить себя посмотреть Юстине в глаза. И, не выпей он сегодня утром для храбрости, в эту минуту его бы здесь не было.
— Прими мои извинения, — произнес он, с трудом открывая глаза. — Но мне, мне нужно было тебя увидеть.
— Понятно. — Юстина окинула его глазами с головы до ног, и он уже приготовился прочесть в ее взгляде отвращение. Но нет… — Должно быть, это нечто важное. Давай присядем.
— А мы не могли бы поговорить где-нибудь в другом месте, с глазу на глаз? — Павлин то и дело ловил на себе неодобрительные взгляды других весталок.
— Когда я разговариваю с мужчиной, я должна быть у всех на виду, — с этими словами она села напротив него. — Просто расскажи мне все, как есть.
Павлин сидел, опустив голову и уткнувшись лицом в ладони.
— Я… я недостойный червяк, — наконец произнес он. Главное, чистосердечно раскаяться.
— Понятно.
— Ты издеваешься надо мной?
— О, нет, как я могу!
— Я не в обиде. Потому что я грязь. Я дерьмо…
— Ну хорошо, но почему бы нам не прекратить все эти…
— И я люблю жену собственного отца.
— Оскорбления в собственный адрес, — закончила свою мысль Юстина. — Чего-чего, а это я никак не ожидала.
Это было сродни тому, как если сбросить с плеч тяжелый груз, к тому же утыканный острыми шипами. Павлин ссутулился и обхватил колени, тупо глядя на собственные руки.
— Я не знаю, можно ли это назвать любовью. По-крайней мере, эта не та любовь, какой я всегда ее себе представлял. Но мне постоянно хочется эту женщину. Она не просто прекрасна, она возбуждает и пьянит. А это уже разврат. Она сама развратна. Клянусь богами, она начала первая. Знаю. Так обычно говорят все мужчины. Мол, она первая дала мне повод, это она соблазнила меня, но в данном случае так оно и было. Чтобы досадить моему отцу.
— А твой отец знает об этом? — голос Юстины прозвучал спокойно и безмятежно.
— Знает, — честно признался Павлин, стараясь стереть из памяти ту сцену. — Он обнаружил нас. Я до сих пор не могу посмотреть ему в глаза.
— Выходит, она одержала победу? — Павлин не ответил, и Юстина задала новый вопрос. — Зачем тебе понадобилась эта исповедь? И почему именно сейчас?
— Потому что это продолжается. И будет продолжаться и дальше. Стоит ей щелкнуть пальцами, и я спешу к ней словно преданный пес. Она это знает, мой отец это знает, даже моя нареченная теперь это знает… — Павлин пригладил неопрятные волосы. После пира во дворце он видел Кальпурнию всего несколько раз — и всякий раз в ее глазах читались настороженность и недоверие. — О боги!
А потом он одним духом рассказал ей все: и про пир, и про императора, и про индийское зелье, про Лепиду.
— Я взял ее, взял прямо на пиру, на ложе посреди зала. Взял, как животное, как дикий зверь. Частично виновато зелье, я почти не отдавал отчета в своих действиях, но это меня не оправдывает. И я рад, что мой отец к тому времени уже ушел и не видел этого.
— А что сказал император? — задала вопрос Юстина таким тоном, будто они обсуждали погоду, а не оргию во дворце.
— Он… он не обратил внимания. С ним была его любовница. Мы все были пьяны, то ли от вина, то ли от зелья, которое было в него подмешано…
— Его любовница? — резко переспросила Юстина.
— Да, ее имя Афина. Или Тея. Она певица. Она… очень милая женщина, и я помню… — Павлин поспешил прикусить язык. Пусть он и пьян, однако есть вещи, которые лучше не знать даже весталке.
— Что? Что ты помнишь?
Вопрос прозвучал как приказ, и Павлин тотчас ощутил приступ головной боли.
— Вообще-то мне трудно сказать, что я помню. Было ли это на самом деле, или же мне просто померещилось. Но…
— Что такое?
— Тея и император. Он — нет, ты только не подумай, будто я специально наблюдал за ним, но он… там происходили странные вещи… впрочем, возможно, это все зелье. Кто скажет, что я там видел? Потому что я видел, как с потолка, извиваясь, свисали змеи, я видел, как оживали мозаики, я видел, как кровь Теи окрашивалась в зеленый цвет. Поэтому кто поручится, что это было на самом деле?
— А ты видел ее после пира? Это многое бы прояснило.
Павлин отвел взгляд, не решаясь посмотреть Юстине в глаза.
— Император не мог сделать ей больно. Ведь он ее любит.
— Что ж, возможно, что любит. Или ты считаешь, что любовь мужчины к женщине — это лишь вздохи и поцелуи при луне? Для некоторых мужчин любовь — это боль.
— Юстина, — осторожно подбирая слова, перебил ее Павлин. — Я пришел сюда не для того, чтобы слушать, как ты очерняешь императора.
— Тогда зачем ты пришел сюда?
— Я… сам не знаю. Наверно, для исповеди. Мне нужен кто-то, кому бы я мог излить душу, рассказать, кто я такой на самом деле. Мир смотрит на меня и видит героя. Правую руку императора. Но это все ложь. Я настолько же глуп, насколько одарен умом мой отец. Я в той же степени труслив, насколько мой друг Траян храбр. В общем я… мыльный пузырь.
— Итак, ты излил душу. И что дальше? Чего ты хочешь сейчас? Прощения?
Павлин медленно кивнул.
— Извини, Павлин. Этого никто не может тебе даровать, кроме богов.
Юстина впервые назвала его по имени.
— Может, утешения? — произнес он заплетающимся языком и с мольбой посмотрел ей в глаза.
— Что ж, утешение я тебе дать могу.
Рука Юстины была прохладной. Ее прикосновение отрезвляло и успокаивало.
(обратно)
(обратно)
Глава 25
Тея
95 год н. э.
— Еще один новый год, Афина. За это стоит выпить.
— Как скажешь, цезарь, — ответила я и пригубила вино.
Я сидела там, где он любил, чтобы я сидела — у его ног. Тогда он мог гладить мне волосы или же бить по голове — в зависимости от настроения.
— Что ж, за новый год! — весело воскликнул он и осушил кубок. — Сколько лет мы с тобой вместе?
— Почти четыре года, — ответила я, хотя, если признаться честно, с трудом могла припомнить даже последний год, потому что все они слились в одну бесконечную череду боли.
— Четыре года. Я слышу, как плебс называет тебя хозяйкой Рима… — Домициан слегка нахмурился, и его рука застыла в моих волосах. — Полагаю, в этом есть доля истины, поскольку Рим это я, а ты моя любовница. И все-таки мне это не нравится. Прошло уже четыре года, а я знаю тебя ничуть не лучше, чем в самом начале, — сказал он, и его рука вновь принялась гладить мне волосы. — Тебе известно, Афина, что предвещает новый год?
— И что же?
— Что будут раскрыты все секреты.
— У меня нет никаких секретов.
— О, думаю, их у тебя немало. Расскажи мне хотя бы один из них.
— Ну хорошо, хорошо. Один, так и быть, расскажу. Главное, не надо… хорошо? — набрав полные легкие воздуха, я продолжила: — Примерно месяц назад я отправилась на прогулку мимо храма Весты, и одна весталка посмотрела на меня.
— И?
— Она пожалела меня.
— Это секрет?
— Мне почему-то это показалось важным.
Глаза Теи сделались огромными, всезнающими.
— То, что на тебя, открыв рот, пялилась какая-то высохшая девственница? Скорее всего, ей было просто завидно. Расскажи мне лучше какой-нибудь другой секрет.
— Мне нечего тебе сказать, цезарь.
— Тогда давай я сам его тебе расскажу. Про гладиаторов, под которых ты ложилась, когда тебе было всего пятнадцать. Да-да, мне хорошо об этом известно.
— Я… я никогда…
— Ты не умеешь врать, Афина. По словам Лепиды Поллии, никогда не умела.
— Ты не должен доверять Лепиде, цезарь, — я попыталась сохранить спокойствие. — Она ненавидит меня.
— Что ж, верно. Ничего другого от нее ожидать нельзя. Но она была таким ценным источником важных сведений, что я могу быть ей только благодарен. Итак, признайся, каков же Варвар в постели?
Я открыла рот, но не смогла выдавить даже писка — ничего. Внутри меня все похолодело.
— Он не единственный твой трофей, как я понимаю, однако самый ценный. Гладиатор, которого называли богом войны, — что может быть почетнее для обыкновенной потаскушки? И сколько он тебе платил?
— Неправда, я никогда…
— Вон оно что! Так значит, это была любовь? О боги, как трогательно! Варвар и его прекрасная еврейка. Ты извивалась и хихикала, лежа под ним? Почему же тогда ты не делаешь то же самое со мной?
— Прошу, не надо об этом… Мне больно…
— Но еще больнее тебе было смотреть, как он умирал. Разве не так? Признавайся, тебе было больно? Так же больно, как сейчас?
— Я…
— Не думаю, что мне стоит по-прежнему ревновать тебя к нему. Хотя, сказать по правде, я был бы не прочь, чтобы он снова стал живым. Чтобы я мог посмотреть ему в глаза и сказать ему, что его женщина теперь моя. Что если захочу, я имею ее дважды за ночь. И она стонет подо мной как настоящая шлюха, и носит мой ошейник, и берет золото из моих рук…
Я швырнула кубок о стену; он со звоном отскочил и покатился по полу.
— Прекрати!
— О, наконец-то богиня мудрости вышла из себя! Какое милое представление! Не стесняйся, можешь пустить слезу. Мне нравится, когда женщины плачут. Сегодня ты вела себя как примерная девушка, Афина. И за примерное поведение тебе полагается вознаграждение. Например, вот такое. Что скажешь?
— Нет, цезарь, — выдавила я. Мне стоило неимоверных усилий не заплакать.
— Отказываешься от вознаграждения? В таком случае я поделюсь с тобой моими секретами. — Продолжая гладить мне голову, Домициан откинулся на подушках. — Как ты помнишь, я много рассказывал тебе о моем брате. Золотом Тите, любимце народа, о том, какой ушел из жизни так рано и неожиданно, в самом расцвете сил… Что ж, это я убил его. Подмешал ему в вино белого мышьяку. Я убил брата, а затем овладел его дочерью. Полагаю, Юлия что-то подозревала. И это свело ее с ума. А тебя это сведет с ума? Сомневаюсь. Ты слишком толстокожая, чтобы потерять рассудок, и, если не ошибаюсь, первый человек, кому я это рассказал… Теперь тебе придется хранить этот секрет до конца твоих дней. И надеюсь, тебе понятно, что я не позволю тебе никуда сбежать с этим секретом.
Что ж, скорее всего, не позволит.
— Пей до дна, Афина, пей до дна. — Домициан вновь откинулся на подушки. — Все-таки это новый год.
Вид у Юстины был слегка озадаченный.
— И почему ты считаешь, будто меня обманули?
— Ну не то, чтобы обманули, — быстро поправился Павлин. — Я вижу, что тебе здесь хорошо. Но считай, что тебе просто повезло. Ведь тебя забрали из семьи, когда тебе было всего десять лет, и ты никак не могла знать, что это такое — отказаться от замужества и детей, да и всего прочего тоже. В девять лет никто ничего не знает!
— Я знала, что это великая честь, быть избранной для служения Весте. И в некотором роде это наделяет меня даже большей властью, нежели та, которой наделен ты.
— Это как же? — Павлин уткнулся подбородком в ладонь и задумчиво посмотрел на свою собеседницу.
— Люди берут на веру все, что бы я ни сказала, без малейшей тени сомнения, а все потому, что я жрица и мое слово священно. Ты мог бы сказать о себе то же самое?
— Нет, — честно признался он. — Что бы я ни сказал, люди всегда ищут в моих словах какой-то подвох.
— Я чувствую себя в полной безопасности, куда бы я ни отправилась, потому что тот, кто отважится напасть на жрицу, рискует навлечь на себя гнев ее богини. Ты можешь сказать о себе то же самое?
— Разумеется, нет. Только в этом году на мою жизнь покушались дважды. Когда император назначил меня начальником над таким количеством людей, я нажил себе немало врагов.
— Если мне навстречу попадется преступник, которого ведут на казнь, я могу даровать ему помилование, которое не способен отменить даже император. Ты можешь сказать о себе то же самое?
— Неужели? — искренне удивился Павлин. — Ты можешь простить преступника, просто так, по собственной прихоти?
— Это не прихоть. Это голос небес, а небеса не ошибаются. Если Веста шепнет мне на ухо, что человек невиновен…
— И часто она шепчет тебе на ухо?
— Иногда. — Юстина сложила руки в молитвенном жесте, однако на губах ее по-прежнему играла улыбка.
— Похоже, я должен признать себя побежденным, — Павлин откинулся на спинку кресла, — при условии, что тебе по силам на полном скаку врезаться верхом на коне в толпу орущих, раскрашенных синей краской дикарей.
— Нет, — серьезным тоном ответила она. — В этом случае я рискую испачкать свои белоснежные одежды.
— В таком случае, согласимся, что мы квиты. — Павлин заложил руки за голову.
— Павлин.
— Что такое?
— Ты хвастун.
— Может быть, и так.
— Зачем тебе понадобилось хвастаться перед женщиной, давшей обет целомудрия?
— Потому что я хочу, чтобы ты обо мне хорошо думала.
— А я и так хорошо о тебе думаю. И тебе нет нужды похваляться передо мной.
— Хорошо. Могу я спросить у тебя одну вещь?
— Разумеется.
— Я произвел на тебя впечатление?
Юстина расхохоталась. Павлин тоже расплылся в улыбке и, взлохматив себе волосы, посмотрел в пол.
— Так да или нет?
— Огромное.
— Неужели? — Он вновь ощущал себя мальчишкой.
— Я весталка, Павлин. — И вновь смех. — И мое слово священно.
(обратно)
Тиволи
Меч вылетел из рук Ария и, описав в воздухе дугу, упал в весеннюю грязь.
Викс застыл на несколько секунд, не веря собственным глазам, после чего в ликующем жесте пронзил воздух собственным мечом.
— Да! Я разоружил самого Варвара. Да, я бог!
Он издал победный клич, чем испугал слетевшихся в виноградник ворон. Трехногая собачонка, свернувшаяся калачиком в тени на плаще своего хозяина, на миг подняла голову, а затем снова погрузилась в сон.
— Повезло, — произнес Арий довольным голосом, хотя и не спешил показывать свою радость. — Попробуй еще раз.
Расплывшись в довольной улыбке, Викс снова принял боевую позу, приготовившись нанести удар. Арий тоже занес меч, но Викс блокировал его движение, слегка пригнулся и вновь ударил. Движения его теперь были плавными, незаметно перетекая одно в другое. Он сражался не нахрапом, а с расчетом, избегая телесного контакта с Арием, который превосходил его в силе, полагаясь в первую очередь на свою проворность. Их поединок превратился в соревнование в быстроте и ловкости.
Лишь когда ленивое весеннее солнце начало клониться за виноградник, оба вонзили мечи во влажную землю, а сами рухнули на нее в изнеможении.
— Завтра будем учиться работать щитом, — произнес Арий, передавая Виксу кувшин с водой. — Предупреждаю заранее, чтобы привыкнуть к его весу, требуется время.
— А каким щитом? — уточнил Викс. Как известно, у разных классов гладиаторов свои щиты. Большой щит и длинный прямой меч у мурмиллона; небольшой круглый у фракийца, который сражается коротким искривленным мечом. А ретиарию вообще не положен никакой, потому что он выходит на арену, вооружившись трезубцем и сетью. Насколько Викс мог судить, ретиарии были презреннейшими из презренных.
— Большой. Ты будешь тяжеловесом. — Арий придирчивым взглядом окинул ученика с ног до головы. Викс рос, как на дрожжах, — он уже был ему по плечо и в свои двенадцать лет был мускулист, как хорошая лошадка. Глазом не успеешь моргнуть, как из него вырастет рослый сильный мужчина.
Викс сунул нос в кувшин с водой, а затем вытер рукой мокрый лоб — жест, которому он научился от Ария. Как и Арий, он носил волосы коротко остриженными, и теперь просил, чтобы ему давали пить неразбавленное вино — потому что так поступал Арий. Надо сказать, что все это слегка настораживало его наставника. Кем только он ни перебывал в этой жизни: и варваром, и рабом, и гладиатором, а артистом, и даже чудовищем. Но вот кем ему так и не приходилось бывать — так это чьим-то героем.
— Ты знаешь, что моя мать скоро приедет проведать меня? — спросил Викс. — Госпожа Флавия получила от нее письмо.
— И когда же она приезжает? — Арий наклонил кувшин, давая псу напиться.
— В следующем месяце. В конце мая. Ты ведь еще не знаком с моей матерью?
— Нет.
— Она ужасная женщина, — произнес Викс и насупился. — Просто жуть какая строгая. Но тебе она понравится. Эй, а мы можем, пока светло, сразиться еще раз.
— Что ж, почему бы нет?
— Тогда я снова разоружу тебя.
— Мой тебе совет, не слишком возносись, — ответил Арий и похлопал Викса по уху.
(обратно)
Рим
Подойдя к лестнице, что вела в Капитолийскую библиотеку, Марк на секунду остановился, и тут его окликнула Кальпурния Сульпиция.
— Марк, это ты?
— Кальпурния?
Марк отвернулся от наемного паланкина и улыбнулся своей будущей снохе. Закутав плечи в голубую шаль, Кальпурния шествовала впереди, а два раба трусили следом за ней с опахалом и зонтиком. Как всякая римская домохозяйка, в руке она держала корзину.
— Какая приятная встреча!
— Я тебе не помешала? — Кальпурния кивнула в сторону паланкина. Впрочем, уже в следующее мгновение унизанная кольцами с изумрудами женская река поспешно задернула серые шелковые шторки, а носильщики тотчас перешли на привычную рысь.
— Ничуть! — коротко ответил Марк и спешно переложил свитки в другую руку, едва не сбитый с ног какой-то плебейкой, которая, не обращая на него внимая, кинулась ловить своих непослушных детей. Казалось, будто в это солнечное весеннее утро все римлянки ринулись в город за покупками.
— А что тебя привело сюда, Кальпурния Сульпиция? Покупки?
— Да, я хотела купить себе новые серьги. В одной из моих старых яшмовых сережек потерялся камень.
— Тогда лучше купи топазы.
— Прости, я не поняла тебя.
— Топазы, — повторил Марк. — У тебя такие красивые карие глаза, и когда рядом с ними будут сверкать и переливаться желтые камни, они тоже будут казаться золотыми. Кстати, в последнее время ты видела Павлина?
— Нет. У него слишком много дел.
Марк окинул ее пристальным взглядом.
— Ты хочешь сказать, он не общался с тобой?
— Нет-нет, это не так, — поспешила заверить его Кальпурния, правда, неубедительно.
— А я вижу, что так. Скажи, он обращался к авгурам по поводу даты бракосочетания?
— Ну конечно! Мы собирались сыграть свадьбу еще в прошлом сентябре, но потом заболела моя мать, и мы решили немного повременить.
— И как, ей уже лучше?
— Да-да. Так что Павлин ни в чем не виноват. — Кальпурния заставила себя улыбнуться. — Просто стечение обстоятельств. Вот и все.
— Ну он мог бы проявить чуть больше усердия, — довольно сурово изрек Марк. — Вы обручены вот уже два года, и твоя семья имеет полное право начать искать тебе нового жениха.
— Вряд ли, ведь сам император желает нашего брака. И к тому же… — Кальпурния вновь улыбнулась, на этот раз теплой, искренней улыбкой. — Мой отец сказал, что своего второго мужа я могу выбрать сама. И я хотела бы выйти замуж за Павлина.
Марк в душе был зол на сына. Такая прекрасная женщина, и, главное, готова несколько лет ждать своего нареченного. Хорошенькая, воспитанная, умная, рассудительная, а его сын все тянет время, не решаясь сделать последний шаг и связать себя брачными узами.
— Я поговорю с ним.
— Нет-нет, в этом нет необходимости. Я не в обиде на него, клянусь тебе. — Рабы Кальпурнии нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Они уже поправили над ее головой зонтик, однако похоже, хозяйка даже не думала идти дальше.
— Скажи, ты в библиотеку или из нее? Я сама была там на прошлой неделе, читала твой трактат, тот, который про усыновленных императоров.
— Неужели? — улыбнулся Марк. — И что ты думаешь по этому поводу?
— Твои доводы показались мне убедительными. Единственное, с чем я не согласна, что Сенату должно принадлежать право вето. Если Сенат вправе отменить повеления императора, то кто в таком случае станет его уважать?
— А если император неправ?
Их дискуссия продолжалась еще целый час.
— Ой, кажется, мне пора домой! — наконец воскликнула Кальпурния. — Как бы мать не начала беспокоиться за меня.
— Приходи к нам на обед в следующий четверг. — Марк слегка расправил плечи и улыбнулся. — Обещаю, что постараюсь выловить по этому случаю моего неуловимого сына.
— Что ж, с радостью принимаю приглашение. И непременно последую твоему совету — куплю себе серьги с топазами.
— Тогда обещай, что на обед ты придешь в них.
— В четверг к нам придет Кальпурния? — Сабина вскочила на колени отцу прежде, чем тот успел расположиться за письменным столом. — Как хорошо! Она мне нравится. На ней всегда такие приятные платья — мягкие-мягкие, не то что у моей матери — жесткие и колючие. А еще она такая милая. У нее есть племянник, у которого падучая, и она показала мне дыхательные упражнения. Их нужно делать, как только заболит голова.
— Неужели? А я и не знал. — Марк пригладил дочери волосы.
— Я так рада, что она выйдет замуж за Павлина. Как жаль, что она не может переехать к нам.
— Это почему же?
— Мама ей не позволит. И хотя она тоже с нами не живет, она все равно будет против того, чтобы Кальпурния переехала к нам жить, — сказала Сабина, а потом со всей детской искренностью добавила: — Потому что она ненавидит Кальпурнию.
— С чего ты это взяла?
— Мама не любит других женщин, если они хорошенькие, как тетя Диана. Я точно знаю, она ненавидит Диану, потому что та такая красивая и мужчины заглядываются на нее чаще, чем на маму. Кальпурния тоже хорошенькая. И мама ни за что не позволит, чтобы она переехала жить к нам в дом.
Марк рассмеялся.
— А ты, я смотрю, глазастая!
— Но мама может насовсем уехать от нас в Тиволи, потому что там любит бывать император. И тогда Кальпурния сможет навещать нас чаще.
— Да, в наблюдательности тебе не откажешь, Вибия Сабина!
— Это потому что на меня никто не обращает внимания, — девочка улыбнулась. — Ты удивишься, если я скажу тебе, какие разговоры я слышу.
— Добрый день, достопочтенная Афина. — Павлин учтиво поклонился. — Мой император велел мне передать тебе, что дела задерживают его в городе и он приедет сюда лишь через два дня, — добавил Павлин и поспешил отвернуться, чтобы не видеть, как в этих прекрасных глазах вспыхнул огонек
облегчения.
— В таком случае, не согласишься ли ты сопровождать меня на виллу госпожи Флавии? — Тея повернулась, чтобы взять шаль. — Ганимед, готовь паланкин! Ты, Павлин, тоже поедешь с нами. Если рядом со мной будет скакать преторианец, мы доберемся до виллы всего за пятнадцать минут.
— Лучше не стоит.
— Но ведь я не видела Викса вот уже…
— Не нравится мне все эти секреты…
— Павлин, прошу тебя!
Он посмотрел на нее. Афина, возлюбленная самого императора, вся в жемчуге, яшме, дорогих шелках, подобно рабыне, носит ошейник, хотя и серебряный. Ему тотчас вспомнилась другая Афина. Та, которая, глядя в потолок незрячими от дурманного зелья глазами, лежала на пьяном пиру бесчувственной статуей под обезумевшим от похоти венценосным зверем. А потом он вспомнил ее другую — ту, которая, с трудом скрывая счастливую улыбку, строго отчитывала сына.
— Ну хорошо. Я отвезу тебе к Флавии, — согласился он.
Ее лицо тотчас озарилось радостью. Увы, ему было больно это видеть.
Всю дорогу до виллы Флавии она сидела в паланкине, распрямив спину и отбивая ногой по подушке ритм, и пожирала глазами зеленые холмы.
— Сколько нам еще? — спросила она тоном нетерпеливого ребенка.
— Почти доехали, — ответил Павлин, а сам подумал об императоре, как тот смотрел на него сегодня утром глазами, полными доверия и… любви.
— Что бы я без тебя делал, Павлин?
— Ты рожден, чтобы служить, — сказал ему как-то раз Несс, читая его гороскоп. — Правая рука императора, но сам никогда не император.
Он никогда не тешил себя надеждой, что служить императору будет легко. Но он никогда не предполагал, что это окажется так трудно.
«Юстина, — мысленно воззвал он к весталке. — Что мне делать?»
— Тея! — Флавия уже ожидала их прибытия, стоя в дверях виллы. Как обычно, рядом с ней были ее сыновья и еще целый выводок детей-рабов. — Я тебя уже заждалась. Да-да. Викс жив и здоров. Он сейчас со Стефаном. Они с ним теперь не разлей вода.
— Да-да, я уже наслышана о твоем бесценном Стефане! — Тея выскочила из паланкина прежде, чем рабы успели поставить его на землю. — Мне нужно непременно с ним познакомиться.
— Что ж, тебе не придется долго ждать. — Флавия указала в северный конец сада, где, обогнув угол, показались две фигуры — одна высокая и другая пониже. — Юпитер и Марс во плоти.
— Викс! — Тея подхватила подол зеленого платья и бегом бросилась к сыну. Заметив ее, мальчик на миг остановился, а потом, издав ликующий клич, тоже бросился ей навстречу. Добежав друг до друга, мать и сын обнялись.
— Мама! — воскликнул Викс и поспешил отстраниться. — Я хочу, чтобы ты кое с кем познакомилась. Это мой друг Стефан.
И он помахал в сторону садовника. Тот стоял в отдалении, прислонившись в каменной стене.
— Вообще-то это долгая история. Я потом тебе ее расскажу. Короче, Стефан учит меня боевым приемам, учит обращению с мечом. Мам, ты слышишь меня?
Павлин уже собрался уйти, однако что-то привлекло его внимание, и он остановился.
Казалось, Тея окаменела. Взгляд ее был устремлен куда-то вперед — неподвижный, словно у статуи.
Интересно, куда она смотрит? Павлин проследил направление ее взгляда. Садовник. Рослый и крепкий, в грязной тунике, с короткой черной бородой. Он в упор смотрел на элегантную даму в шелковых одеждах, яшме и жемчугах.
Тея покачнулась, и Павлин шагнул вперед, чтобы ее поддержать.
— Мама, что с тобой? — растерянно заморгал Викс.
Садовник шагнул вперед и, поднеся к ее лицу огромную, всю в мозолях руку, нежно провел пальцами по щеке.
Тея издала сдавленный стон.
— Мама! — испуганно воскликнул Викс.
— Тея, — прошептал садовник. — Тея.
Отпустив подол шелковой юбки, она шагнула ему навстречу. Садовник протянул к ней руки, и его грубые пальцы коснулись ее волос.
Павлин так и не понял, кто сделал первое движение. Но уже в следующее мгновение руки садовника сомкнулись вокруг ее талии, а она уткнулась лицом ему в плечо. Ее руки ворошили ему волосы, гладили ему плечи, как будто она хотела убедиться в том, что перед ней человек из плоти и крови. Они стояли посреди пыльной дороги, прижимаясь друг к другу, и что-то еле слышно бормотали.
Первой опомнилась Флавия.
— О боги! — она хлопнула в ладоши. — Все меня слушают. Вы, мальчики, ступайте в дом. Ты, Павлин, отправляйся домой. Ты, Викс, иди займись чем-нибудь. Полагаю, что твои отец и мать хотели бы немного побыть наедине.
— Отец? — одновременно воскликнули Викс и Павлин.
— По крайней мере, я так думаю. — Флавия задумчиво смотрела на Викса. — То-то мне казалось, что ты мне кого-то напоминаешь. А он, оказывается, все это время обитал на моей вилле. Какая я, однако, несообразительная!
Викс взглянул сначала на мать, затем на садовника, затем снова на мать. Куда только подевалась его бравада — он вновь превратился в обыкновенного мальчишку-раба, испуганного и растерянного.
— Всем в дом, — тихо, но строго повторила Флавия.
Викс повиновался и, словно сомнамбула, зашагал к дому. Племянница императора повернулась к Павлину.
— Мне казалось, будто тебя ждут дела.
— Разве мне не поручено следить за ней? — ответил Павлин, указывая на Тею. Та стояла, прижавшись к груди садовника, и что-то быстро шептала ему, касаясь губами его губ.
— Кто он?
— Полагаю, что он отец Викса. Согласись, что у них есть что-то общее. Просто удивительно, как мы этого раньше не замечали. А теперь, уходи. Павлин, — она подтолкнула его к воротам. — Если хочешь, можешь вернуться через несколько часов.
— Не могу. Не имею права.
— Это почему же?
— Я служу императору. Всегда. И я не позволю, чтобы эта женщина дарила благосклонность…
— Я бы не советовала тебе спешить с выводами. Не прошло и пяти минут, как они встретились, а ты уже готов обвинить ее в измене.
— А что еще я должен предположить?
Пальцы садовника ворошили Тее волосы, его лоб был прижат к ее лбу.
— Закрой рот, Павлин, — резко осадила его Флавия. — Можешь думать все, что угодно. Ты был лицемером, когда тебе было всего пять лет, а теперь ты лицемер вдвойне.
С этими словами Флавия решительным шагом направилась в дом.
Павлин растерянно посмотрел по сторонам.
— Павлин, — Тея шагнула к нему на неверных ногах. — Павлин. Дай мне всего час.
— Я не позволю тебе изменить императору!
— Во имя всего, что есть лучшего в этом мире, клянусь тебе, я никому не изменю. Просто дай мне час, чтобы я могла все объяснить. Ради бога, прошу тебя, дай мне всего час.
Светясь невинной радостью, она обращалась к нему с мольбой. Садовник стоял позади нее, сложив на груди руки, и тоже сиял улыбкой. В эти минуты он скорее походил на влюбленного юношу, нежели на изнуренного трудами сорокалетнего раба.
Что-то в его лице, — несмотря на темные волосы и темную бороду, — привлекло внимание Павлина.
Ладно. Это ведь просто раб. Самый обыкновенный раб, который когда-то в прошлом любил нынешнюю любовницу императора, когда она сама также была обыкновенной рабыней. Тея легко, словно юная девушка, побежала назад к садовнику и положила ему на плечо голову. Их руки тотчас соприкоснулись.
Через час она была готова. Ждала его в дверях виллы — босая и одна. Ни ее сына, ни его отца поблизости не было видно. С холодным спокойствием мраморной статуи она шагнула назад в паланкин. Павлин бросил поводья своего скакуна одному из преторианцев, а сам сел напротив нее.
— Итак? — задал он вопрос.
— Я сказала ему, что у меня ревнивый любовник.
— Ты сказала, кто он?
— Нет. У меня язык не повернулся назвать его имя. Вернее, не хватило смелости, — ответила Тея, вертя в руках шелковую кисть подушки. — Я сказала ему, что если он хочет узнать, кто это такой, то пусть расспросит обитателей виллы.
— И что теперь?
— Все зависит от тебя. — Тея сложила руки и отрешенным взглядом уставилась в окно.
— От меня?
— Да. Расскажешь ты императору или нет.
Рассказать императору?
— Он убьет тебя, — неожиданно сказал Павлин, и не было ни оправдания, ни объяснения этим жестоким в своей правде словам.
— Ты прав, убьет, — спокойно согласилась Тея. — А еще он убьет того, кого сейчас называют именем Стефан, и нашего сына. Он также может наказать Флавию, за то, что та попустительствовала этой встрече. Так что выбор за тобой. Тебе решать.
— Но это несправедливо.
— Ты служишь ему. — Тея оторвала взгляд от окна. — Я принадлежу ему, словно вещь, ты тоже служишь ему. Все вокруг несправедливо.
Он пристально посмотрел на нее. Еще один секрет. Еще один секрет, который он будет таить от человека, которому принес клятву верности.
Еще один секрет.
— Если я не скажу, что тогда? — спросил он.
— Я буду по-прежнему навещать Викса, — сказала она. — И время от времени встречаться с его отцом. Но ничего не произойдет. Это я тебе обещаю. Можешь положиться на мое слово.
— Твое слово?
— Мое торжественное обещание. Довольно эгоистичное, и все же. Если я возьму себе кого-то в любовники, Домициан это тотчас узнает — он почует запах другого мужчины, и тогда мне конец… и Стефану. А этого я не хочу.
Тея умолкла и глубоко вздохнула. Неожиданно шелковые одежды показались ей тяжелее цепей.
— Итак, Павлин, что ты мне скажешь?
— Поговорим об этом завтра утром, — ответил преторианец.
— Спасибо. — Тея откинулась на подушки и закрыла глаза. Из-под закрытых век выкатилась слеза и, пробежав по щеке, упала на прядь волос.
— Один вопрос, — неожиданно подал голос Павлин. — Я его где-то раньше видел или мне только кажется?
— Нет, — Тея открыла глаза. — Никогда. Тебе кажется.
Остаток пути до императорской виллы они проделали в гробовом молчании.
— Она сказала тебе, кто он, этот ее ревнивый любовник? — строго спросила Флавия у садовника.
— Нет. — Арий оторвал взгляд от удаляющихся носилок и посмотрел на свою хозяйку. — Ты с ней знакома. Все это время ты была с ней знакома.
— Да. Обидно, не правда ли? Богини судьбы наверняка от души посмеялись над нами.
— Ее любовник. Кто он? — он не стал настаивать, когда Тея отказалась назвать ему ее имя. Он был рад уже тому, что мог слышать ее голос, что мог обнимать ее, гладить ей волосы. Пока она была в его объятиях, этот ее любовник ничего для него не значил.
Но вот теперь.
— Она принадлежит ему?
— Спроси любого. — Флавия похлопала его по руке и удалилась.
Арий схватил за шиворот первого попавшегося раба.
— Дама, которая приезжала сюда в носилках, — он указал на облачка пыли, единственное свидетельство того, что Тея только что была здесь. — Кто она такая?
Раб посмотрел на него как на полоумного.
— Ты, конечно, носа не показываешь из своей хижины, но неужели ты и впрямь ничего не знаешь? Это Афина. Любовница самого императора.
Вот оно что!
Самого императора. Арий отвернулся и, нащупав, схватился за деревянную перекладину ворот, что вели в сад.
Демон, который до сих пор дремал в глубинах его сознания, встрепенулся и поднял голову.
Тея и император. О боги! Его Тея делит ложе с тем, кто потехи ради искромсал на куски его единственного друга, кто на залитой кровью арене целился в него из лука, кто отнял его законную победу в поединке.
Осторожнее, дружище, осторожнее, прозвучал в его голове голос Геркулеса.
Он сильнее сжал руку, и деревянная перекладина треснула.
— Арий?
Он резко обернулся и схватился за нож. Но нет, это всего лишь был Викс. Он стоял перед ним — растерянный, несчастный мальчонка. Он даже показался Арию ниже ростом.
— Он родился уже после того как я была продана, — пояснила Тея, пока в течение подаренного им часа рассказывала ему о событиях прожитых лет. — Я никогда ничего ему не говорила. Не хотела, чтобы он когда-нибудь тебя увидел.
Арий посмотрел на мальчика новыми глазами.
— Скажи своему сыну, чтобы он оставил в покое моих лошадей, — произнес возница пару недель назад, когда они разгружали бочки рядом с дверью кладовых помещений.
— Никакой он мне не сын, — ответил тогда Арий. — И уж тем более не этот бесенок.
Он никогда не мечтал о сыне. Да что там! Ему в голову никогда даже не приходила такая мысль — ни на мгновение.
И вот теперь он увидел то, что до него разглядел возница. Рыжеватые волосы, светлые глаза, как и он сам, левша. Стремительность, сила, ловкость.
Викс унаследовал от него буквально все. «Даже мои слабости», — подумал Арий. Как я сразу этого не заметил?
Тея дала ему имя Верцингеторикс. Мир вокруг него перевернулся. Женщина, которую он любил, жива, надежда тоже жива. А теперь у него появился и сын.
Викс сделал шаг вперед.
— Кто ты такой?
— Подойди ко мне, — глухо произнес Арий. — Слышишь?
Схватив мальчика руками за плечи, он начал свой рассказ.
(обратно)
(обратно)
Глава 26
Лепида
Двадцать восемь! Подумать только, уже двадцать восемь. Почти старуха. Почти тридцать лет.
Я швырнула в служанку пузырек с благовониями и разорвала пополам шелковое покрывало, потому что обнаружила на нем пятно жира, после чего села напротив зеркала из полированной стали. По крайней мере, мне никто не даст двадцать восемь. Мои волосы по-прежнему отливали черным деревом, кожа похожа на светлый бархат, и я могла по-прежнему обнажать грудь, потому что мне было нечего стесняться. Лепида Поллия, пусть ей уже двадцать восемь лет, могла не опасаться соперничества со стороны молоденьких придворных красавиц. Более того, она царила над ними всеми.
Я прищурилась, переставляя баночки с румянами. Беда в том, что мне жутко надоело быть царицей над всеми. Потому что я была ею все эти годы. Мне было достаточно войти в зал, как мужчины тотчас начинали волочиться за мной по пятам, а их жены — бросать на меня злобные взгляды. Мне было достаточно одарить мужчину улыбкой, как в следующее мгновение он уже был у моих ног. Когда я надевала голубое, все вокруг делали то же самое. Когда я смеялась шутке, все находили ее смешной. Я стояла на самой вершине придворного общества.
Но зачем мне все это? Если мне больше не нужно стремиться выше, зачем? Нет, я могла бы подняться еще одной ступенькой выше, если бы не…
Какая, однако несправедливость! Она вечно все рушила, вечно портила и вот теперь почти превратила императора в отшельника. До нее не в его привычках было сторониться шумного общества. Не спорю, он и раньше не был весельчаком, но, по крайней мере, он бывал гостем. Однако в течение всего этого лета он почти никуда не показывался — за исключением своей летней виллы, где обитала его любовница-еврейка. Нет, в его постели бывали и другие женщины, но ни одна из них не делила с ним ложе так же долго, как эта.
— Не иначе как она околдовала нашего императора, — намекнула я Павлину. — Иудейская магия. Я бы на твоем месте казнил ее.
— Не говори глупостей, — раздраженно бросил в ответ Павлин, и я была бессильна его переубедить. Он почему-то предпочитал занять ее сторону. А что, если между ними что-то есть? Павлин и Тея? Ну конечно же, они ведь до этого были любовниками! В ту пору, когда она была обыкновенной певичкой. Но нет, если это обстоятельство могло помочь мне избавиться от нее, оно может избавить меня и от Павлина. Мне же было приятно, что мой пасынок — лучший друг и правая рука самого императора. Да и вообще, сомнительно, чтобы между ним и Теей что-то было. Даже Павлин не настолько глуп.
И, тем не менее с ним явно было что-то не так, хотя дело совсем не в Тее. Нет-нет, он по-прежнему прибегал и бросался ко мне в постель по первому моему зову. Меня настораживали другие вещи. Можно сказать, мелочи. Последний раз, когда я в саду какого-то сенатора, который пригласил нас на пир, обхватила его за шею руками, он попытался меня оттолкнуть, и лишь потом со стоном уступил моим ласкам. При этом взгляд его был устремлен куда-то вдаль, как будто я была ему неприятна, что не могло не настораживать. Разумеется, он ненавидел меня. Но эта ненависть всегда была обратной стороной страсти. А вот отвращение на его лице — это уже нечто новое. Примерно такое же читалось на лице Марка.
Но если это не Тея, может, у него есть кто-то еще? И, конечно же, это не толстуха Кальпурния, пусть даже они с ней обручены. Никакой даты бракосочетания пока не назначено, и он не виделся с ней почти целый год. Так что мне нет нужды переживать из-за Павлина. Независимо от того, какие чувства я недавно прочла в его глазах, при желании я всегда могу заставить его вновь броситься к моим ногам. Тея — вот в чем заключалась моя проблема.
Я пристально посмотрела на себя в зеркало, после чего подозвала к себе испуганную служанку.
— У тебя, наверняка, есть знакомые среди придворных рабов, — сказала я, буравя ее глазами. — Если нет, то обзаведись. За любые сведения об Афине будешь получать щедрое вознаграждение. А теперь вон отсюда.
Посмотрим, что из этого выйдет.
— Павлин! — холодно произнесла Флавия. — Неужели тебе больше нечем заняться, как шпионить за Теей?
— Я не шпионю, — попытался оправдаться Павлин, правда, не слишком убедительно.
— Ты следишь за ней в окно вот уже целый час!
— Мой долг как префекта в том и состоит, чтобы следить за разного рода подозрительной деятельностью.
— Подозрительной деятельностью? Она лишь разговаривает с отцом своего ребенка! Кстати, впервые после того как они вновь встретили друг друга. Она не приезжала ко мне целых три недели!
— Я должен положить этому конец.
— О, прекрати! Скажи, они хотя бы раз прикоснулись друг к другу во время разговора?
— Им нет необходимости прикасаться друг к другу, — буркнул Павлин. Ради соблюдения приличий Афина и ее садовник сидели едва ли на разных концах мраморной скамьи атрия, однако между ними ощущался такой накал чувств, что их жара хватило бы на то, чтобы печь хлеб. Лицо Флавии приняло каменное выражение.
— Ты говоришь как ревнивый любовник, Павлин. Признавайся, ты случаем сам не влюблен в Тею? Думаю, до известной степени это было бы для тебя даже к лучшему, разве я не права?
Павлин залился краской.
— Я не…
— В таком случае оставь ее в покое. Она дала слово, что остается верна императору. Или ее слово ничего не стоит лишь потому, что она еврейка и рабыня?
— Я не сомневаюсь, что у нее и в мыслях нет нарушить данное слово, — холодно произнес Павлин. — Однако мой долг перед императором превыше всего, а император, наверняка, захотел бы об этом знать.
— Расскажи об этом моему дяде, и ты подпишешь ей смертный приговор.
— Никогда…
— Ты мне не веришь?
— Он человек чести…
— А вот и нет! — гневно возразила Флавия.
— Достопочтенная Флавия, думай, что говоришь!
— Я прекрасно знаю, что говорю, — голос ее зазвучал на тон выше. — Или ты считаешь, что знаешь его лучше меня?
— Я служу ему вот уже шесть лет. И в самой гуще битвы…
— Битвы! — Флавия буквально выплюнула это слово. — Кому интересны ваши битвы? Тебе известно, что я видела собственными глазами? Я видела, как он насаживал на кончик пера мух и наблюдал за их мучениями, пока они не умрут. Я видела, как он пускал стрелы в рабов, пока они не становились похожи на морских ежей! Я видела, как он осуждал на смерть достойных людей, чтобы потом смотреть, как они униженно молят о пощаде. Мой дядя жестокий человек, жестокий и бездушный. Но более всего он жесток по отношению к своим женщинам.
Павлин открыл было рот, но Флавия не дала ему возразить и, раскрасневшись, продолжила свою гневную речь.
— Тебе известно, что императрица когда-то умела улыбаться? Даже смеяться? А затем Домициан подавил ее своей жестокостью, и она превратилась в мраморную статую, увешанную изумрудами. Юлия была наперсницей твоих детских забав, но когда о ней пошли слухи, ты отвернулся от нее, сочтя за сумасшедшую. Ты не получал от нее писем, писем, которые становились все тоньше, тоньше и тоньше, зато все больше дышали безнадежностью. А когда она наконец умерла, ты просто вздохнул с облегчением. А Тея! Боже мой, ты не единственный, кто служил императору все эти годы! Она тоже служила ему, стелила ему постель и услаждала его слух. А какую цену ей пришлось за это платить! Она вынуждена прятать собственного сына и собственные шрамы, а оставшись наедине с собой, пускает в чашу собственную кровь и помышляет о смерти. Это тебе известно, префект? Разумеется, нет! А вот мне известно все, и не потому, что она мне это рассказывает. Просто я сама знаю, что искать, потому что знаю Домициана всю мою жизнь. Я знаю, что он думает, когда смотрит на людей, — а еще потому, что он положил глаз и на моих сыновей!
Неожиданно Флавия разрыдалась. Павлин же застыл рядом с ней, в растерянности открыв рот.
— Если ты хочешь знать мое мнение, если Тея хочет завести себе возлюбленного, то это ее личное дело. — От подведенных глаз Флавии по щекам стекали черные потеки, и она поспешила вытереть лицо, но лишь больше размазала краску. — Если ей хочется сидеть в саду и вести беседы с тем, кто ее любит, с тем, кто нормален! — то я готова дать им такую возможность. Если я не могла ничего сделать для Юлии, то пусть хотя бы сделаю что-то для Теи. Она это заслужила. А если ты этого не видишь, Павлин Норбан, тогда, ради всего святого, открой наконец пошире свои глаза!
С этими словами Флавия, громко рыдая, зашагала прочь. Павлин же озадаченно уставился ей вслед.
— Почему ты не вернулась раньше? Три недели…
— За мной постоянно следят, Арий. Раньше я никак не могла, чтобы не навлечь на себя подозрений.
— Двенадцать лет! Я уже привык думать, что тебя нет в живых. Первое время я видел тебя повсюду, словно призрак.
— И я тоже видела тебя. В Виксе.
— Мне следовало догадаться.
— Я сама догадалась лишь после того как меня продали.
— Ну почему я не похитил тебя, когда у меня была такая возможность! Перебросил бы через плечо, как и полагается варвару, и был таков!
— Но ты уже не варвар, — с улыбкой произнесла Тея. — А простой садовник.
— Причем, садовник скверный. Виноградники захирели с тех пор, как я стал за ними ухаживать. Но и варвар был из меня никудышный, когда у меня была ты.
— Прошу тебя, не говори таких слов! Ты слишком жесток к себе!
— А ты прекрасна. Шелковое платье, нежные руки, на них больше нет никаких мозолей.
— Мне запрещено что-либо делать.
— Лишь только обслуживать императора.
— Прошу тебя, не надо.
— Почему я не могу прикоснуться к тебе?
— Потому что он тотчас учует твой запах.
— Но ведь он не бог.
— Я ношу на шее его глаз. Пойми, Арий, он никогда не отпустит меня. Если он поставил на что-то свое клеймо, эта вещь принадлежит ему навсегда.
Молчание. Арий протянул к ней руки.
— Прошу тебя, только не это!
— Что именно?
— Не прикасайся ко мне!
— В чем дело? Почему ты дрожишь?
— Нет, прошу тебя, даже не пытайся меня поцеловать, слышишь?
— Я просто хочу убедиться, что передо мной человек из плоти и крови, а не обман зрения. Ты похожа на прекрасный сон, я же стар и уродлив.
— Неправда!
— Тея, давай сбежим. Возьмем с собой Викса и убежим из Рима.
— Арий, скажи, куда я могу убежать, где бы он потом меня не нашел?
Их руки робко соприкоснулись на мраморе скамьи, а затем их пальцы переплелись. Оба не проронили ни слова.
(обратно)
Рим
— Я даже не знаю, что думать, — Павлин уперся локтями в колени и сплел пальцы. — Однако порой… порой мне кажется, что она права.
— Флавия Домицилла? — голос Юстины легким эхом отозвался от мраморных стен.
— Да, — ответил он и вновь принялся сжимать и разжимать кисти. — Потому что многое из того, что я вижу, противоречит одно другому. Многое из того, что касается императора. Взять, к примеру, тот пир в честь моей помолвки. Императрицу. Смерть Юлии. Бесконечные суды над государственными изменниками.
— Ты веришь тому, что говорит Флавия?
— А что мне остается? — его слова были сродни каплям воды, что упав на поверхность пруда, оставляют после себя круги на воде. — Не знаю. — Павлин надрывно вздохнул. — Я бессилен что-либо сделать. И не потому, что она открыто мне все высказала. Но какие у меня доказательства? Чье слово весомее слова императора? Тея — рабыня. Юлия мертва. Флавия ненавидит его с момента смерти своей сестры. Она уже идет против него, занимаясь спасением детей.
Юстина вопросительно посмотрела на него.
— Флавия спасает детей из Колизея и тюрем, — устало произнес Павлин. — Детей евреев, христиан, прочих вероотступников. Она занимается этим вот уже много лет. Она подкупает охранников, чтобы те выпускали их из темниц, привозит их к себе на виллу под видом рабов и находит для них семьи среди друзей и арендаторов. Император не возражает. По его словам, таким образом, у нее есть занятие, и вообще, кому есть дело до того, если в пасть льва попадет одним ребенком больше, одним меньше.
— Но ведь это он сам обрекает их на такую судьбу, — негромко заметила Юстина.
Молчание.
Жрица обернулась к Павлину.
— Если ты сомневаешься в правдивости слов Флавии, и Юлии больше нет в живых, чтобы поведать нам правду, то чье слово для тебя имеет вес? Кто, на твой взгляд, способен вынести самое мудрое суждение?
— Отец, — тотчас ответил Павлин.
— Тогда почему ты не спросишь его? Дело ведь не просто в твоей мачехе. Речь идет о государстве, о людях. Почему бы тебе не спросить у него, где правда, а где ложь.
— Не могу. Я боюсь даже взглянуть ему в глаза.
— Тогда кого еще ты мог бы спросить?
— Тебя, например. — Павлин поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. — Скажи, ты веришь… слухам?
Юстина сложила руки.
— Верю.
Павлин закрыл глаза.
— В таком случае, что мне делать?
— Ты просишь меня стать твоей совестью?
— Да, именно так.
— Я не могу сделать этого ради тебя, Павлин. Никто не может.
— В таком случае дай мне совет. Помоги мне.
— Расскажи мне все, как есть. Обо всех неправедных делах, которые приписывают Домициану, и какие из них ты бы взялся исправить, будь это в твоих силах. Что именно ты мог бы изменить к лучшему?
— Мне следовало лично навестить Юлию и проверить, на самом ли деле она сошла с ума, или это только слухи, — произнес Павлин и удивился самому себе. — После наших детских забав, когда мы вместе играли в саду, это был мой долг.
— Поздно. Ты уже не в силах ей помочь. Зато еще мог бы помочь Тее. Помоги ей, ради Юлии.
— То есть ничего не рассказывать императору о ее старом возлюбленном?
— Для начала хотя бы это.
— Я наблюдал за ними, — признался Павлин. — Наблюдал целое лето. Впрочем, виделись они не часто — раза два-три, не больше. Они ни разу не прикоснулись друг к другу, так что она держит свое слово. И вместе с тем они казались единым целым, как лошадки в одной упряжке.
— Похоже, это любовь.
— Я не женюсь на Кальпурнии, — неожиданно заявил Павлин. — Мы с ней… между нами нет ничего общего.
— Тебе не кажется, что это довольно несправедливо по отношению к ней? Вы ведь обручены уже долгое время.
— Я ей не нужен. Впрочем, как и она мне. — Павлин покачал головой. — Никакой свадьбы. Пока я не найду ту, с кем я буду как две лошадки в одной упряжке.
— Такое случается нечасто.
Павлин поднял глаза на свою собеседницу. Узкое лицо в обрамлении белого покрывала, пристальный проницательный взгляд, светлые брови, наверно, такие же светлые, что и волосы, которых он никогда не видел.
— Я подожду, — произнес он.
(обратно)
Тея
Позади моей двери послышались негромкие голоса.
— О боги, что мне с ней делать? — воскликнул Несс, и на его толстощеком лице, наверняка, возникло озабоченное выражение. — Она даже носа не высунула из своей комнаты после того как вернулась из Тиволи. Я пошел проведать, как у нее дела, и застал ее… — не сумел даже спрятать подальше от нее нож! — Он понизил голос. — Ты можешь что-нибудь сделать?
Невнятный звук.
— Конечно, можешь. Потому что если и есть на свете человек, кто может ее успокоить, так это только ты.
Я приоткрыла глаза и увидела, как Ганимед поцеловал своего возлюбленного в макушку — в том самом месте, где у Несса уже начали редеть волосы, и направился ко мне в опочивальню. Это была такая красивая комната в серо-белых тонах, с просторным серебристым ложем под бархатным пологом и статуей Минервы. И когда меня навещали мои кровавые кошмары, статуи начинали извиваться.
Ганимед попытался отобрать у меня нож. Я начала отбиваться, и чаша перевернулась. Мгновение, и мозаика пола была забрызгана кровью, как из чащи, так и из моей руки, где я надрезала себе вены. Но Ганимед не обращал внимания ни на кровь, ни на мои сдавленные проклятия. Одним движением руки он сорвал с ложа прозрачный полог и обмотал его вокруг моего запястья.
— Нет, отпусти меня…
Затем он подхватил меня на руки и уложил в постель. Не успел он сделать и шага прочь, как я сорвала с руки повязку и вновь принялась расцарапывать себе вены. Тогда он вновь схватил меня за руку и, крепко сжав ее в своей, принялся вновь обматывать ее куском полога. Впрочем, белая ткань уже успела обагриться кровью.
— Отпусти меня! — я со слезами отбивалась, как могла. — Пусть она вытечет, пусть на этот раз она вытечет вся, потому что только тогда они оставят меня в покое. А они никогда не оставят меня в покое, покуда я жива! Развяжи мне руку, прошу тебя, — я с силой рванула повязку, однако Ганимед схватил меня в свои объятия и, прижав к груди, заворковал, словно голубь.
— Я больше не в силах это сносить. Я терплю вот уже четыре года. Юлия выдержала восемь. Я же знаю, вынесу ли я еще один, или того меньше… игрушки и игры, больше никаких игр, он все поймет, Арий все поймет, он не глуп, он все поймет, и тогда ему конец, ну как ты этого не понимаешь? Он придет, чтобы расквитаться с императором, и он умрет, и мне… мне этого не вынести!
Не знаю, понимал ли Ганимед мои слова, потому что они потонули в потоке рыданий. Но он, словно ребенка, качал меня, сжимая в своих сильных и теплых руках.
— А Викс! Викс все узнает. Это просто чудо, что он до сих пор ни о чем не догадывается, но в один прекрасный день он тоже все узнает и устыдится меня. И правильно сделает, потому что я смалодушничала, о боже, Арий возненавидит меня, если узнает, что я…
Слова слились в сдавленный вой, потому что мое лицо было прижато к груди Ганимеда. Он гладил мне волосы, а затем посмотрел на запястье, чтобы проверить, на месте ли повязка. Насколько я могла судить, кровь уже начала подсыхать.
— И ты знаешь, почему он возненавидит меня, — очередной всхлип. — Не потому что Домициан превратил меня потаскуху, а потому что он сделал меня слабой. Всего четыре года, и куда подевалась моя гордость? Четыре года его игр и игрушек, четыре года его вопросов, его недреманного ока на моей шее, и в кого я превратилась? Я больше не могу доверять мужчине, даже Арию, а ведь когда-то ради него я была готова пожертвовать всем на свете. Я не могу заставить себя прикоснуться к нему, а ведь когда-то я сама бросалась ему на шею, как собака на кость. Домициан победил, разве не так? Он отнял у меня моего возлюбленного, отнял, даже сам об этом не догадываясь. Этакая очередная маленькая победа. И все, на что я способна теперь, это, закрыв глаза, по-прежнему твердить, что мне не страшно. Но ведь это ложь!
Ганимед сжимал меня в своих сильных руках, покачивая, словно младенца, и что-то негромко мычал, как будто напевая.
— Дай мне умереть! О боже, дай мне умереть, прежде чем Арий узнает, в кого я превратилась. Дай мне умереть.
Меня передернуло; из горла вырвался сдавленный стон. Ганимед приподнял меня и положил на подушки, а сам лег рядом и накрыл нас обоих покрывалом. Он жестом велел моим любопытным служанкам уйти, а сам нежно заключил меня в объятия, утешая, убаюкивая. Я знала — он будет возле меня всю ночь. Я смутно надеялась, что Несс все поймет. Разумеется, он все поймет! Ведь он любил Ганимеда и, что куда важнее, доверял ему. Я же давно забыла, что такое любовь, однако помнила, пусть и слабо, что такое доверие.
(обратно)
Лепида
— Мужчина?
— Да, госпожа. Именно так она и сказала.
Моя служанка торопливо потупила глаза на мозаику пола.
— Так что именно она тебе сказала, эта твоя подруга? Расскажи мне все, как есть.
— Моя подруга — она приходит утром, чтобы снять простыни с ложа Афины после того как та проведет ночь с императором. Но сегодня она не смогла этого сделать, потому что Афина крепко спала в постели в объятиях какого-то мужчины.
— Странно, — я постучала алыми накрашенными ногтями. — И кто он?
— Всего лишь раб, госпожа. Его имя Ганимед. Он ее личный раб. Они спали обнявшись. По крайней мере, так сказала моя подруга.
— Ну что ж! — воскликнула я. Надо будет побольше разузнать про этого Ганимеда. — Ты выполнила мою просьбу. Возьми вот это и скажи своей подруге, что для нее тоже приготовлен кошелек. При условии, что я услышу от нее что-нибудь новенькое…
— Хорошо, госпожа.
Служанка поклонилась, пересчитывая монеты. Я же села за небольшой письменный стол и задумалась. Любовник-раб. Звучит довольно мелко, хорошего скандала из этого не сделаешь. Другое дело, если бы Тея взяла себе в любовники кого-то более солидного, например одного из родственников императора или даже Павлина. Переспать с рабом — не велик грех. Даже патрицианки не гнушаются время от времени искать утех в объятиях смазливых рабов. Например, ни для кого не секрет, что Лоллия Корнелия, знаменитая устроительница пиров, кстати, она же мать Флавии Домициллы, прижила двух детей от своего личного раба. При этом мужья, которых она постоянно меняла, не препятствовали ее забавам. Интересно, проявит ли император такую же снисходительность? Однажды по его распоряжению был убит всего лишь какой-то там актер, о котором прошел слух, будто он сумел положить под себя саму императрицу, это воплощение праведности.
Нет, вряд ли.
Но эта оплошность Теи может сыграть мне на руку. Главное, правильно все преподнести.
И я, довольная собой, взялась сочинять письмо.
(обратно)
(обратно)
Глава 27
— Эй! Что ты делаешь? — сын Флавии Домициллы отступил назад, глядя на красный вздувшийся след у себя на боку. — Зачем бить так сильно?
— И толпа ревет от восторга, когда первая кровь достается Победоносному Верцингеториксу! — воскликнул Викс, вновь замахиваясь деревянным мечом, и двинулся дальше по периметру тренировочного ринга. Арий наблюдал за ними со стороны, задумчиво жуя соломинку. Викс редко устраивал поединки с императорскими племянниками. «Их легко победить в два счета!» — презрительно отзывался он — однако наставник младшего из племянников слег с лихорадкой, и юноша со слезами умолял Викса дать ему урок. Зря он согласился, подумал про себя Арий. Как бы вскоре ему не пришлось об этом пожалеть. Мальчишка был ровесник Викса, однако на голову ниже ростом. А вообще, он был добрый малый. Частенько незаметно от других таскал со своей тарелки куски мяса, чтобы после обеда положить их в миску трехногой собачонки.
— Противник молит о пощаде! — воскликнул Викс, размахивая двуручным мечом. — Первые игры октября, и Победоносный Вернингеторикс готов нанести смертоносный удар.
Племянник императора увернулся из-под удара, правда, меч противника плашмя задел его по плечу, и мальчишка негромко простонал от боли.
— Викс, это не смешно.
Арий был того же мнения — его сорванец далеко зашел в своем рвении.
— Верцингеторикс наступает и…
Племянник императора, взвыв от боли, упал в песок. Из ноги текла кровь.
— Викс, прекрати! Ты победил. Или тебе этого мало?
Арий выплюнул конец соломинки.
— Колизей взрывается рукоплесканиями, а Верцингеторикс уже занес меч над своей жертвой.
Викс бросился на соперника и, прижав к его горлу деревянный меч, вдавил клинок…
— Викс! — Арий медленно поднялся с места.
— Толпа протягивает руки с опущенным вниз большим пальцем. — Викс сильнее прижал меч к пульсирующей сонной артерии.
Еще миг — и он полетел в песок. Это Арий ударом кулака сбил его с ног.
— С него хватит, — сердито бросил он сыну.
Викс заморгал, как будто стряхивая с себя наваждение. Сын Флавии стоял на коленях и жадно хватал ртом воздух. Поперек горла у него протянулся неглубокий рубец.
— Он хотел… он хотел прикончить меня.
— Иди, пусть тебя залатают.
Напоминать второй раз не пришлось. Бросив напоследок взгляд через плечо, сын Флавии поплелся к дому.
Арий набрал полные легкие воздуха и, поддев Викса ногой, перевернул его на спину.
— Эй! — Мальчишка, пошатываясь, поднялся на ноги. — Это была лишь игра. Я был в Колизее, и все вокруг кричали, как когда-то тебе, чтобы я…
Первый удар кулака выбил ему зуб.
По пути к хижине Викса дважды вырвало. Арий терпеливо дождался, пока приступ рвоты пройдет, после чего перебросил сына через плечо и потащил дальше.
— У меня идет кровь, — пожаловался мальчишка сквозь распухшие губы, когда Арий бросил его на земляной пол хижины посреди виноградника.
— Ничего, это не смертельно.
Арий быстро оглядел травмы, которые нанес собственному сыну: выбит зуб сбоку, челюсть распухла, под обоими глазами синяки, из носа течет кровь, на ребрах отпечаток сандалии. При этом зрелище внутри у него все сжалось, однако он стиснул зубы, чтобы не подать вида.
— Ты убил меня, — прохрипел Викс, — ты, сукин сын, убил меня.
— Ты это заслужил, — спокойно возразил Варвар, подкидывая щепки в огонь очага. — Ты самонадеянный ублюдок.
— Пошел ты знаешь куда.
— Сам пошел.
Арий сбросил с ног сандалии и сел, прислонившись спиной к глинобитной стене. Взяв яблоко, он кинжалом вынул из него сердцевину и принялся есть с кончика лезвия, размышляя, что ему делать дальше.
В детстве его самого пару раз отлупил собственный отец, а мать, которую он теперь лишь смутно помнил, строго, хотя и по-доброму, пожурила его. Потому что это женское дело — словами учить детей уму-разуму. И вот теперь он сидел и не знал, что ему сказать дальше. Вот если бы сейчас здесь была Тея!
— Мне полагается ужин?
— Нет.
— А как насчет повязки?
— Ты мечтаешь стать гладиатором? Так вот сиди и истекай кровью, и будем надеяться, что вскоре дело пойдет на поправку.
— Спасибо.
Арий запустил в собачонку сердцевиной яблока. Викс кое-как принял сидячее положение и устроился, прислонившись к стене, рядом с отцом.
— Я бы ему ничего не сделал.
Арий подумал, что ему на это сказать, однако предпочел промолчать.
— Я всего лишь играл!
— Больше никаких уроков, — произнес он наконец. — По крайней мере, от меня.
— Но это нечестно!
— Мне не нужен сын, которому нравится делать больно другим.
— Вообще-то первые десять лет ты меня в глаза не видел.
— А вот теперь вижу, и не хочу учить мучителя боевому искусству.
Викс обиженно надулся.
— Скажи мне одну вещь, только честно. — Арий, глядя в огонь, повертел лезвием кинжала. — Когда ты сражаешься, ты слышишь в голове некий голос? Такой черный вкрадчивый голос?
Викс испуганно поднял глаза. Арий вопросительно посмотрел на него, в надежде найти нужные слова, но не смог. Оба поспешили отвести взгляд.
Они продолжали сидеть, вытянув вперед ноги и глядя в огонь. Наконец Викс пошевелился, однако тут же вскрикнул — это резкой болью дал о себе знать выбитый сустав.
— Я ненавижу тебя.
— Взаимно.
— Теперь госпожа Флавия ни за что не возьмет меня с собой в Рим.
— Вот и мне кажется то же самое.
— Она сказала, что приглашена на придворный пир. В следующем месяце, когда император объявит ее сыновей наследниками трона. Она сказала, что возьмет меня с собой, чтобы я потом мог повидаться с матерью, — Викс пожал плечами. — Хотя невелика разница, увижу я императора или нет.
— А ты его когда-нибудь уже видел? — Арий переломил надвое каравай хлеба.
— Однажды.
— Ну и как?
— Я ненавидел его, — ответил Викс. — Поделись хлебом.
Арий решил, что на сегодня суровых слов хватит. Размышляя о том, правильно ли он поступил, Арий передал Виксу половину каравая. Да, как жаль, что в эти минуты рядом с ними нет Теи! Оба принялись жевать хлеб: Викс с трудом, Арий — молча.
— Что нового слышно от матери? — наконец он нарушил молчание.
— Особенно ничего. Время от времени она посылает госпоже Флавии привет. По ее словам, кто-то читает ее письма.
Отец и сын откинули головы к стене и закрыли глаза. Оба сидели в одинаковой позе, сомкнув мозолистые от рукоятки меча руки вокруг покрытых шрамами загорелых колен.
— Мой тебе совет — не слушай этот голос, — произнес Арий, не открывая глаз. — Я про тот, что у тебя в голове. А еще я бы не советовал тебе так широко размахивать мечом.
Может, им все же не стоит прерывать занятия?
(обратно)
Рим
— Кстати, Афина, — произнес Домициан. Я сидела у его ног, и он как обычно гладил мне волосы. — Сказать тебе, что я сегодня выяснил?
— Как я могу воспрепятствовать тебе, цезарь?
— Ах, Афина, ты неисправима. Мне казалось, ты уже усвоила свои уроки.
— Ну хорошо, я их усвоила.
— Тогда сиди тихо, как хорошая девочка, и слушай. У меня в Иудее есть свой соглядатай. Похоже, он проявляет завидное усердие, ибо сумел разузнать нечто такое, что ускользнуло от внимания других моих шпионов.
— И что это?
— Твое происхождение. Моя дорогая, с чего это ты так побледнела? Может, хочешь вина? Могу предложить тебе выдержанное, из старых запасов. Я когда-то конфисковал его у Люция Эзерния, о котором поговаривали, будто он предатель. Не знаю так это или нет, но в вине Люций знал толк.
— И что же он сказал?
— Люций Эзерний?
— Твой соглядатай!
— А, он! Так вот, я уже почти полностью раскопал твою историю и теперь знаю про тебя почти все — и про Квинта Поллия, и про афинского торговца, который обучал тебя греческому, а заодно лишил тебя девственности, про твою слабость к гладиаторам. Но что было раньше? Чистая страница. Пустое место. Пока наконец не получил любопытный отчет из Иудеи от моего соглядатая.
Крепость на горе, жаркая ночь, город, полный мертвых евреев, и лишь горстка тех, кому повезло остаться в живых. Мне продолжать?
— Нет.
— Скажи, Афина, ты знала, что кроме тебя в живых остались еще шестеро? Две старухи и четверо других детей, все из них мальчики? Я из любопытства проследил судьбы их всех. Тебе известно, где они сейчас? Те, кому тогда повезло выжить?
— И где же?
— Мертвы. Все до одного. Их лишили жизни за то, что они принесли несчастье в семьи, купившие их. Последние евреи Масады, которые несут с собой беды всему, к чему они прикоснутся. Похоже, ты последняя, кто до сих пор жив. Но ты никогда не приносила мне бед и несчастий. Что скажешь?
— Думаю, что нет.
— Между прочим, я помню Масаду. Тит плакал, он питал слабость к евреям. А вот я хохотал.
— Не сомневаюсь.
Внезапно Домициан схватил меня сзади за волосы.
— Прекрати, ты делаешь мне больно, слышишь!
— Ты говорила, будто ты богиня.
— Я и есть богиня.
— Неправда, ты лжешь! — Он стиснул мне голову руками, словно орех щипцами. — Ты появилась на свет из лона какой-то еврейки в пустыне, с криком и вся измазанная кровью, как и все смертные младенцы, и никакая ты не богиня. Из нас двоих божество это я, но не ты. В Риме лишь один бог. Я избавился от Ария Варвара, избавился от тебя.
— Но ведь ты от меня не избавился. Пока не избавился. Так что, вместо того, чтобы вести пустые разговоры, возьми и избавься.
— О, это я успею сделать, но сначала я хотел бы это услышать.
— Что именно?
— Сама знаешь что. Давай, говори.
— Что мне страшно? Это тебе страшно, цезарь. Я же всего лишь еврейка, которая появилась на это свет, надрываясь криком посреди пустыни…
— Прекрати насмехаться надо мной, слышишь!
— Я — Афина! — крикнула я и разразилась безумным хохотом, не обращая внимания на боль, которая грозила вот-вот расколоть мой череп надвое. — А до этого я была Тея, певичка, рабыня и любовница гладиаторов. А до того, я была Лия, дочь Вениамина и Рахили из Масады. Я такая же смертная, как и ты, ты обыкновенный человечек, — я нарочно выкрикнула эти слова во весь голос, чтобы их услышали рабы, которые наверняка подслушивали за дверью, чтобы их услышали приспешники императора, чтобы их услышал весь мир. — И я никого не боюсь!
Несколько секунд он смотрел на меня. А потом расхохотался.
С постели я встала лишь через восемь дней.
— Вот уж не рассчитывала увидеть тебя столь скоро, — сказала Юстина, глядя Павлину в глаза. В ее взгляде читались тепло и участие. — Но вот ты здесь, причем во всем своем великолепии.
— Через час я должен явиться во дворец к императору. — Павлин взял под мышку шлем с алым гребнем. Император устраивает официальный прием в честь своей племянницы и ее сыновей.
Они зашагали бок о бок по длинному мраморному коридору. Другие жрицы спешили мимо в развевающихся белых одеждах. Иногда им навстречу попадались римские матроны, которые пришли помолиться сюда перед Сатурналиями, праздником в честь завершения старого года, когда в каждом доме царили суета и неразбериха по случаю года наступающего. На весталку и ее гостя никто не обратил внимания. К тому же их не раз уже видели вместе — они тихо беседовали, склонив головы, в публичном зале. В любом случае, кому бы пришло в голову строить догадки по поводу отношений между жрицей Весты и правой рукой самого императора?
— Я сегодня кое-что сделал, — произнес Павлин, закладывая руки за спину — жест, который он позаимствовал у Домициана. — Лепида, она прислала мне в преторианские казармы записку. Она иногда так делает. «Сегодня вечером», вот и все, что в ней было написано. Я всегда поручаю моим центурионам заменить меня вечером. Но сегодня…
— Что сегодня?
— Я начал созывать их к себе, как вдруг… сам не знаю почему, но я перевернул записку, написал на чистой стороне «Я занят» и отослал обратно. — Павлин заглянул жрице в глаза. — Такого со мной еще не случалось.
— Но почему именно сейчас?
— Я подумал о том, что бы ты сказала мне, будь ты в ту минуту рядом. Или что бы ты подумала.
— А что, по-твоему, я подумала бы?
— Я подумал, что ты бы нашла для меня оправдание. Я же не хочу, чтобы ты нашла для меня оправдание. Я хочу, чтобы ты гордилась.
— А я и так горжусь.
— Мною?
— Тобой.
Павлин громко выдохнул.
— Могу я у тебя что-то спросить?
— Спрашивай.
— Сколько тебе лет?
Юстина растерянно заморгала.
— Двадцать девять.
— То есть тебе остается служить Весте еще десять лет, а потом ты станешь свободна?
— Да.
— Когда эти десять лет истекут, выходи за меня замуж.
Молчание.
Наконец Павлин осмелился поднять глаза. Юстина смотрела на него в упор, ошарашенная его предложением.
— Павлин.
— Что?
— Я… — Юстина отвернулась и нервно поерзала на скамье, чего раньше за ней никогда не водилось. — Считается, что женитьба на бывшей весталке приносит несчастья.
— Что ж, я готов сыграть в кости с фортуной.
— Павлин, тебе ждать еще целых десять лет. А до тех пор я обязана соблюдать обет, и я его не нарушу.
— Знаю. И я готов ждать.
— К тому времени мне уже будет тридцать девять. Я буду слишком стара, чтобы родить тебе детей.
— Мне не нужны твои дети, мне нужна ты, — он потянулся было, чтобы взять ее за руку, однако вспомнив о бесконечном потоке молящихся, довольствовался тем, что просто перешел на шепот. — Я знаю тебя целую вечность, Юстина. Я знал тебя задолго до того, как впервые тебя встретил. И потому готов ждать еще сколько угодно. Десять лет меня не страшат.
Юстина слегка отодвинулась от него. На мгновение их взгляды встретились, а затем они снова поспешили отвести глаза. Юстина нервно поправила покрывало.
— Я не могу… я не знаю, что сказать.
— Скажи, — может быть. Подумай хорошенько. У тебя ведь есть целых десять лет, чтобы принять окончательное решение.
— А как же Кальпурния?
— Она тоже не хочет за меня замуж. В течение этих лет каких только отговорок мы не придумывали, я и она, лишь бы только отсрочить дату бракосочетания. Сегодня я скажу императору, что разрываю мою помолвку с Кальпурнией. А поскольку она богатая наследница, то найти себе нового мужа ей не составит большого труда. Прошу тебя, скажи, что ты подумаешь над моим предложением, — взмолился Павлин. — Только это. Большего мне не нужно.
— Ну хорошо, — едва слышно, — я подумаю.
При этих ее словах душа Павлина возликовала.
— В таком случае, мне пора. Собственно, только за этим я сегодня и пришел сюда. О боги, чтобы собраться с духом, мне потребовался целый день. Честное слово, даже Сатурнин и германцы были не так страшны, как эта встреча с тобой! — воскликнул Павлин и рассмеялся. Ему хотелось петь и плясать от радости.
Юстина подняла на него удивленные глаза. Ее покрывало слегка колыхнулось, и он успел разглядеть рядом с ее ухом прядь светлых волос — наверно, выбилась из прически, когда Юстина поправляла покрывало. Светлые, как лен волосы, как он и предполагал. Он протянул руку и прикоснулся к ним.
— Они у тебя как лен или скифское золото, — произнес он и зашагал вон из храма.
Юстина же осталась стоять в центре огромного мраморного зала.
(обратно)
Рим
— Ну… — улыбнулся Марк. — Как я тебе на твой придирчивый взгляд?
Кальпурния поправила ему на плече складки плаща.
— По-моему, лучше не бывает.
— Ты тоже сегодня хороша. Тебе к лицу желтый цвет.
Кальпурния поспешила опустить глаза и принялась вертеть на руке золотой браслет.
— И все равно я бы предпочла остаться дома и почитать что-нибудь в библиотеке, чем идти на прием в императорский дворец.
После кошмарного пира по поводу обручения, Кальпурния заявила, что отныне во дворец — ни ногой. Марк легко мог представить себе, что она думает по этому поводу.
Он прикоснулся к ее подбородку и заставил посмотреть себе в глаза.
— Повторения того раза не будет.
— А если будет?
Марк улыбнулся.
— Что ж, в таком случае, я отведу тебя домой. Я ведь это уже делал, разве не так?
— Так.
Несколько мгновений она стояла как вкопанная, прижавшись щекой к его ладони, а затем отвернулась, чтобы взять плащ.
— Что ж, в таком случае, я готова.
— А ты храбрая!
— Кальпурния! — раздался чей-то возглас и в двери, сверкая золотом преторианской формы, вошел Павлин. Поцеловав свою нареченную в щеку, он повернулся к Марку. — Отец, как ты поживаешь?
И к великому удивлению последнего, сердечно его обнял вместо обычного холодного рукопожатия.
— Хорошо поживаю, спасибо, — Марк пристально посмотрел на сына. — Сдается мне, что и ты тоже.
— Павлин, — донесся откуда-то сверху жеманный женский голос. — Последнее время ты не балуешь нас своим вниманием.
С этими словами Лепида спустилась к ним по лестнице этакой райской птицей в расшитом золотом шелковом платье. Темные волосы были зачесаны вверх и убраны под сетку из рубинов и жемчуга.
— Достопочтенная Лепида, — Павлин отвесил поклон. — Ты хорошо сегодня выглядишь!
— Хорошо сегодня выгляжу? — ледяным тоном переспросила Лепида. — Ты обходишь нас своим вниманием целую неделю и теперь рассчитываешь на то, что… — она не договорила, потому что Павлин, пропустив мимо ушей ее колкость, взбежал, перепрыгивая ступеньки, вверх по лестнице и схватил на руки младшую сестру, которая высунула голову из-за двери своей спальни.
— Вот кого я обходил своим вниманием всю неделю! — воскликнул он и взъерошил Вибии Сабине волосы. — Признавайся, как твои дела? Надеюсь, головные боли тебя не слишком мучают?
— Мне гораздо лучше. И еще я выросла на целый дюйм.
— А я уже заметил. — Павлин опустил сестру, и она захихикала. — Хотелось бы насладиться твоим обществом, пока твои будущие женихи не лишат меня этой возможности. Давай завтра поедем кататься верхом. Что ты скажешь? У твоей безумной тетушки Дианы есть смирная кобылка, как раз для тебя.
— Боюсь, я вынуждена омрачить вашу трогательную встречу. — Павлиний веер Лепиды ходил взад-вперед, словно хвост у рассерженной кошки. — Но мы опаздываем.
— Позволь, я сначала проверю складки на тоге отца.
— Я уже проверила их за тебя, — отозвалась Кальпурния. — Неужели ты думала, что позволю ему явиться к императору в мятых одеждах.
— А теперь в кровать. — Лепида взяла дочь за плечо и развернула лицом к спальне. — Какая разница, в какой одежде твой отец явится перед императором. Пусть его предки были императорами, сам он лишь занудный старикашка.
Сабина съежилась, словно ее ударили. На лице Павлина читалось омерзение.
Марк лишь пожал плечами. Погоди, мысленно обратился он к супруге. Погоди.
— Ступай в постель, моя малышка, — ласково сказал он дочери. Девочка послушно выполнила его просьбу.
— Итак? — спросила Лепида, поправляя покрывало из золотистого шелка. — Теперь мы наконец можем выйти из дома?
Кальпурния опустила глаза.
— Лепида, — произнесла она, поправляя на руке браслет. — Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты жестокая, мстительная, себялюбивая шлюха?
Марк растерянно заморгал. У Лепиды же от удивления отвисла челюсть.
— Ты злобная. Ты безнравственная. Ты издеваешься над своими рабами, ты унижаешь собственную дочь.
— Это в тебе говорит ревность, — ледяным тоном заявила Лепида. Она уже успела овладеть собой.
— А еще ты самая безнравственная, самая неуважительная к собственному мужу, самая вероломная жена во всем Риме. — Кальпурния посмотрела на Марка. — Думаю, теперь мы можем идти.
Павлин подавил нечто похожее на кашель. Марк же довольно улыбнулся. Он поймал себя на том, что впервые за долгие годы расплылся в улыбке от уха от уха.
— Верно, — произнес он. — Мы все готовы и можем выйти из дома.
Прохладный зимний ветер успел смениться холодным дождем вперемешку со снегом. Впрочем, весь путь до дворца внутри паланкина было еще холоднее.
Павлин заметил, как какой-то преторианец заигрывает с юной рабыней, хотя ему полагалось стоять на часах.
— Идите дальше, — сказал он отцу, а сам остановился, чтобы хорошенько отчитать нарушителя дисциплины.
Выполнив свой долг, он поспешил по залам и коридорам дворца в триклиний. Как оказалось, Флавия и ее семейство уже прибыли на прием. Мальчики, слегка оробев в новой для них обстановке дворца, прошли вперед вместе с отцом, Флавия же задержалась в мраморном вестибюле, чтобы отчитать мальчишку-раба. Павлин заметил, что это был сын Теи, Викс, и потому ускорил шаг.
— …чтобы ты носа не показывал, скверный мальчишка, пока пир не закончится. Лишь тогда я шепну твоей матери, что ты здесь, и ты сможешь ее увидеть.
На Виксе была туника со значком семейства Флавиев, но никакого раболепия в его манерах не было и в помине. Открыв от удивления рот, он рассматривал роскошные мозаики и колонны нового императорского дворца.
— Ого-го, какую махину отгрохали! — с восхищением произнес он.
— Зачем ты взяла его с собой? — спросил у Флавии Павлин.
— Тея не видела его вот уже несколько месяцев, и я подумала, что ей захочется… — Флавия не договорила. Вместо этого она схватила Викса за шиворот и, прежде чем он успел юркнуть за колонну, отвесила ему шлепок. — И, похоже, я уже раскаиваюсь в этом своем решении.
— Пусть он ждет в вестибюле и не показывается никому на глаза, — посоветовал Павлин. Вслед ему раздался горестный возглас Флавии.
— О, неужели нет никого, кто мог бы удержать это чудовище на одном месте?
(обратно)
Лепида
Скучный вечер, совсем не похожий на тот чудный пир в честь обручения Павлина. Сегодня, в зале официальных приемов нового дворца, все было чинно. Приглашенные обменивались кивками и в полголоса вели разговоры на сторонние темы. Негромкие голоса заглушало журчание струй овального фонтана внушительных размеров в обрамлении арочных окон. Флавия ни на шаг не отходила от мужа, их сыновья донимали своими вопросами толстого астролога, Марк и Кальпурния обсуждали какую-то нудную политическую теорию, Павлин — Павлин делал вид, что не замечает меня. Он разговаривал с императором, и в его взгляде я прочла некую настороженность. Интересно, они поссорились? Впрочем, какая разница. Главное, что он всем своим видом игнорировал мое присутствие. И это при том, что он отклонил мое последнее предложение. Придется что-то с этим делать.
Мой взгляд упал на Тею. Она была в красном шелковом платье с пурпурным отливом. Я бы назвала этот цвет цветом запекшейся крови, расшитом по подолу черным бисером. На лоб с обруча на волосах свисает точно такая же черная подвеска. Вялая, апатичная, словно бесплотная тень. Император даже ни разу не посмотрел в ее сторону.
Впрочем, она все еще сидит с ним на одном ложе — то есть на том месте, на котором сидела бы законная супруга Домициана, присутствуй она на этом пиру.
Тарелку ей наполнял рослый грек в белой шелковой тунике. Я тотчас обратилась во внимание. Ее личный раб? Грек, не знаю, как его имя, был хорош собой — высокий, светловолосый, мускулистый. Он наклонился к ней, и локон светлых, как пшеница волос, упал ей на лоб. Тея подняла глаза и впервые за весь вечер слабо улыбнулась. Он же легонько погладил ей руку.
— Афина.
Тея вздрогнула, хотя голос императора звучал благосклонно.
— Ты должна для нас спеть.
— Конечно, если такова твоя воля, цезарь, — она поднялась и взяла лиру. Ее царственный возлюбленный пристально наблюдал за ней. Впрочем, взгляд его оставался непроницаем. Интересно, он получил мою записку или нет?
— Прекрасно! — воскликнул Марк, когда Тея кончила петь. — Я хорошо помню, Афина, как слышал твое пение в первый раз. Твой голос был усладой для моего слуха.
— Я тоже помню, — ответила Афина с учтивым поклоном. — Я тогда чистила от грязи фонтан. И ты проявил доброту ко мне и к моему скромному дару.
— Тогда тебе от меня причитается, Марк Норбан, — произнес император со своего ложа. — Если бы не ее скромный дар, я никогда бы не познакомился с Афиной.
Счастливая мысль.
— А что ты скажешь, Афина? — на сей раз голос Домициана прозвучал как щелканье кнута. Тея тотчас застыла на месте, не успев до конца поправить шлейф кроваво-красного платья. — Согласись, судьбы преподнесла тебе подарок, одарив тебя божественным голосом, хотя сама ты никакая не богиня.
— Да, цезарь.
— Я прекрасно могу себе представить, как ты чистишь фонтан и исполняешь свои трели лягушкам, — произнес Домициан, не то в шутку, не то с издевкой. — Ни шелков, ни украшений, ни мягких перин… ни любовника.
При этих его словах у меня по спине пробежала легкая дрожь возбуждения.
— Верно, — спокойно, едва ли не равнодушно, согласилась Афина. — Не будь судьба благосклонна ко мне, ничего этого у меня не было бы.
— А вот теперь есть. Любая роскошь, какая только есть в империи, в твоем распоряжении, потому твой император щедр к тебе, а тем временем за его спиной ты заводишь себе другого, чтобы щедро осыпать его моими дарами.
На моих глазах ее лицо сделалось белым, как мел.
— Разве это не так, Афина, — голос Домициана был исполнен едва ли не нежностью. — Или ты думала, что я ничего не узнаю?
В моей голове прозвучал ликующий клич.
Марк и Кальпурния озадаченно переглянулись. Павлин словно окаменел. Флавия бросила быстрый взгляд от Домициана на Тею и снова на Домициана.
— Дядя, мне кажется, что в присутствии мальчиков нам не следует…
— Это почему же? Думаю, им будет полезно взглянуть. Они вынесут для себя урок, как нужно поступать с предателями. С изменниками. С неверными женщинами.
— Цезарь, — Тея сделала шаг вперед. — Господин и бог, я клянусь тебе…
— Ага, значит, теперь я бог? Как быстро ты меняешь свое мнение. Скажи, ты сейчас станешь умолять меня, Афина?
Я распрямила спину. Интересно, что за этим последует? Было бы любопытно взглянуть на хозяйку Рима, униженно стоящую на коленях.
— Мой господин, — Павлин приподнялся со своего ложа. — Я должен был сам тебе все рассказать. Но она ничего дурного не сделала. Я наблюдал за ними. Никакой измены, никакого предательства не было.
— Тсс, Павлин, — взгляд императора был по-прежнему прикован к любовнице.
— Но, мой повелитель. Клянусь, это чистая правда! Неужели я стал бы тебе лгать?
— Нет, ты бы не стал. А вот она. Ты даже не представляешь себе, на какую ложь способны женщины. Афина, — голос Домициана был сродни ударам бича. — Скажи, с какой легкостью тебе удалось ввести в заблуждение даже такого человека, как Павлин?
— Я не…
— Замолчи! — рявкнул император, и она съежилась.
— Мой господин! — в голосе Павлина слышалось отчаяние.
— Хорошо, я буду униженно молить тебя, — прозвучал голос Теи, и она опустилась на колени, — если это то, чего ты от меня хочешь. Я готова на что угодно, лишь бы только ты пощадил его.
— Все еще полна гордыни. — Домициан поднялся со своего края ложа и подошел к ней. — Все еще полна гордыни.
— Прошу тебя, господин и бог.
— Кайся.
И Тея опустила голову к его ногам, и, обхватив его за щиколотки, прижалась лицом к ремешкам сандалий.
— Домициан. Я умоляю тебя.
Он наклонился и прикоснулся к ее волосам. Взгляд его глаз был отрешенным и задумчивым. У меня перехватило дыхание.
— Афина, — негромко произнес он. — Прекрасная Афина, — его пальцы скользнули под ее прическу. — Нет.
И он отшвырнул ее от себя.
Затем резко развернулся и крикнул стражникам.
— Убейте раба.
Два преторианца тотчас схватились на мечи.
Тея издала истошный вопль.
Павлин отпрянул назад.
Я сидела словно завороженная.
В следующее мгновение Ганимед издал хриплый вопль. Два преторианских меча по самые рукоятки вонзились ему в живот.
— Нет! — раздался еще один вопль ужаса. Это кричал коротышка-астролог.
Ганимед пошатнулся. Рот его застыл в немом крике, сквозь пальцы стекала кровь. Мечи преторианцев пронзили его еще раз, на этот в самое сердце.
Раб рухнул на пол, и его золотые волосы окрасились алой кровью. А ведь какой был красавец!
— Нет, нет, нет, — причитал астролог, обнимая мертвое тело. — Нет, Ганимед, нет!
Домициан, тяжело дыша, оторвал глаза от трупа. Его взгляд упал на меня.
— Спасибо тебе, Лепида, — произнес он учтиво. — За то, что открыла мне глаза на этого человека.
— Всегда готова служить тебе, господин и бог, — ответила я, скромно опуская ресницы.
— Так это ты? — астролог посмотрел на меня сквозь завесу слез. — Это ты сказала, что мой Ганимед… о боги… ты, сука! Ты мне заплатишь за это! — Несс захлебнулся рыданиями и рухнул на пол. Положив себе на колени светловолосую голову мертвого возлюбленного, он принялся стенать и раскачиваться.
— Можно подумать, — спокойно ответила я, — это моя вина, что он…
— Уберите это отсюда, — приказал страже Домициан. — От него уже исходит вонь.
— Цезарь, он ни разу не прикоснулся ко мне! — Тея вскочила на ноги. — Ганимед ни разу не прикоснулся ко мне. Он невиновен!
— Тогда кто же, если не он? — Император перешагнул через мертвую руку. — Назови мне его имя, Афина, и мы совершим еще одну казнь, причем, как и эта, у тебя на глазах, потому что именно этого заслуживает любая неверная женщина. Увидеть, как у нее на глазах умирает ее любовник.
— Нет у меня никакого любовника, ты, ублюдок! — крикнула Тея.
Схватив одной рукой, Домициан отшвырнул ее к стене. Я подалась вперед. Никто не обращал на меня внимания, но на этот раз это меня ничуть не задело. То, что происходило на моих глазах, было лучше любых гладиаторских игр. Даже рабы, и те застыли на месте, наблюдая за развивающейся драмой.
— Прекрати!
Марк встал с пиршественного ложа и, слегка прихрамывая, зашагал через триклиний. Взгляд его был прикован к императору. Голосом императора он приказал императору Рима.
— Прекрати!
Домициан недоуменно уставился на Марка Вибия Августа Норбана.
— Прекрати, — негромко повторил Марк. — Кому сказано.
Домициан издал нечто похожее на всхлип.
— Нет!
Голос его был похож на голос мальчишки, который хнычет по поводу трудного урока. И когда он положил Марку на плечи обе руки и оттолкнул его, это тоже был жест маленького ребенка. Марк упал, причем на больное плечо, и когда лицо его исказилось гримасой боли, Домициан расхохотался, и в следующий миг странная тишина взорвалась хаосом. Домициан отвел ногу, чтобы пнуть лежащего на полу Марка, но Кальпурния бросилась к моему мужу и прикрыла его своим телом. Император пожал плечами и отошел прочь.
— Проследите, чтобы сенатор больше не вмешивался, — бросил он преторианцам, а сам шагнул к Тее.
— Нет! — крикнул Павлин, хватая императора за руку. — Не нужно этого делать, прошу тебя, мой господин, дай я тебе все объясню!
Домициан посмотрел на него взглядом, полным безумного сострадания.
— Ты слишком хорош для таких дел, Павлин. Ты не видишь врагов, что кишат вокруг меня, шевелятся, словно змеи в траве. Твой глаз не замечает зла.
Домициан щелкнул пальцами, и два преторианца схватили моего растерянного пасынка под локти.
— Ради твоего же собственного блага, — невозмутимым тоном произнес Домициан. — А теперь смотри. Вот как император поступает со змеями.
Он отошел на два шага и ударил Тею кулаком в лицо. Она покачнулась, из разбитых губ брызнула кровь, но ему словно было этого мало, и он ударил ее еще раз, в затылок, и от этого удара она рухнула на четвереньки. Затем послышался хруст, это Домициан наступил ей на пальцы, после чего, намотав волосы на руку, словно куклу, рывком поднял ее с пола. Тея зашлась кровавым кашлем.
Домициан занес руку для нового удара, но удара не последовало. Вместо этого он пошатнулся, сбитый с ног бесшумным ядром, что вылетело откуда-то из толпы рабов, и я к своему изумлению обнаружила, что императорская тога порвана.
— Викс! — вскрикнула Тея. — Викс, нет!
Мальчишка-раб был высок, мускулист, в свете факелов волосы его отливали медью. В руке его был зажат столовый нож с ручкой из слоновой кости, как будто он был продолжением этой руки. На вид лет двенадцать. Почему-то лицо его показалось мне смутно знакомым. Я точно где-то его уже видела, вот только где?
Занеся нож для удара, он бросился к императору Рима, и мы все окаменели от ужаса.
Домициан мгновенно пригнулся и парировал удар — сказывались годы, проведенные в походах со своими легионами. Вместо горла, нож вырезал лоскут из его рукава, и император успел перехватить запястье нападавшего. Тогда мальчишка обхватил его за шею, и на какой-то миг они застыли, раскачиваясь, в немой схватке.
Но затем к ним подскочили преторианцы и повалили мальчишку на пол.
— Не убивайте его! — хрипло приказал император, и они лишь вырвали из руки мальчишки нож. Но даже обезоруженный, он пытался не дать себя в обиду. Изловчившись, боднул бронзовые преторианские доспехи, причем с такой силой, что сам едва не потерял сознание.
Тея зашлась в истошном вопле. Кальпурния сидела, обнимая поверженного Марка, которого по-прежнему крепко держали два стражника. Флавия ладонями прикрывала сыновьям глаза. Павлин пытался стряхнуть с себя руки собственных подчиненных.
— Господин и бог, ты ранен? — спросил у Домициана один из преторианцев.
Домициан посмотрел на порванную тунику.
— Лезвие запуталось в складках. — Император перевел удивленный взгляд на мальчишку. Истекая кровью, тот теперь стоял на коленях между двумя стражниками. — Похоже, рабы сошли с ума. Или мне только кажется?
— Господин и бог! — Я быстро перевела взгляд от мальчишки на Тею и обратно. — По-моему, я догадываюсь, кто это маленький цареубийца.
Домициан обернулся в мою сторону. Тея оборвала свой крик и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.
Я улыбнулась. Неудивительно, что лицо мальчишки показалось мне знакомым.
— Он ее сын.
Тея простонала.
— Мой господин, — вновь подал голос Павлин, — умоляю тебя, прекрати это и выслушай меня…
Император стоял, глядя то на одного, то на другого.
— Ее сын?
Мальчишка неожиданно прекратил всякое сопротивление, буквально окаменел, зажатый с двух сторон императорскими стражниками. Домициан даже не удостоил его взглядом. Он смотрел на Тею. А затем сделал шаг к ней, потом другой.
— Ну кто бы мог подумать! — с мягкой укоризной в голосе произнес он. — Ты говорила мне, что у тебя есть ребенок. Но ты ни разу не сказала, что ты обучила его убивать. Помнится, ты утверждала, что не видела его с тех пор, как он появился на свет.
— Нет! Я не знаю, кто он такой. Я первый раз его вижу!
— Она назвала его по имени, — сочла нужным добавить я. — Кажется, его зовут Викс.
— Лепида! — Марк был готов испепелить меня взглядом. Я показала ему язык и хихикнула.
— Итак, Афина. — Домициан провел пальцем по ее окровавленной щеке. — Что мне с ним делать? Этим твоим драчливым сыном, который только что пытался убить меня?
Тея стояла, как статуя. Окровавленные губы дрожали. На одной щеке расплывался уродливый синяк.
— Я должен его убить?
— Давай! — бросил ему мальчишка. — Только не слишком тяни.
Он дрожал, однако склонил голову, словно гладиатор, ожидающий последнего удара.
— О, как трогательно! — воскликнул Домициан, поворачивая голову в его сторону. — Юный воин, храбро ожидающий собственную казнь. Какое благородство!
— Это как сказать! — возразил мальчишка и змеиным движением выскользнул из рук стражников. Ему удалось высвободить руку, всего только руку, однако и этого было достаточно, чтобы вырвать из-за пояса одного из них нож. После чего он подскочил к императору…
И пригвоздил его ногу к полу. Домициан взвыл от боли и согнулся пополам.
В следующий миг на голову Виксу опустился чей-то щит, и он рухнул на пол. И хотя юный храбрец тоже издал крик боли, он ухватился за край щита и потянул его на себя. А уже в следующее мгновение туда, где только что была его шея, опустилось стальное лезвие. Но тут Тея бросилась к стражнику и попыталась вырвать у него нож.
— Погодите! — перекрыл шум пронзительный женский голос.
Это кричала Флавия. Вместе с сыновьями и мужем она забилась в угол, в надежде найти спасение от творящегося вокруг безумия.
Она сделала шаг вперед и, изобразив поверх ужаса улыбку, положила ладонь на руку императора.
— Дядя, только не в присутствии моих мальчиков, — произнесла она заискивающим тоном. — Позволь мне увести их домой. А также моего мужа. Здесь неподходящее для них место. А что касается мальчишки, то он никто, и уж тем более не сын Афины. Я возьму его с собой, и, обещаю тебе, он получит у меня по заслугам. Ему устроят хорошую порку. Позволь мне увести его…
С этими словами она потащила обоих своих дрожащих от страха сыновей к выходу, но затем остановилась и указала на Викса.
— Дядя, прошу тебя, он недостоин императорской мести.
Домициан выпрямился. Окровавленное лезвие в руке, кровавая лужа под сандалией.
— Мне нужен ребенок, Флавия, — произнес он невозмутимым тоном. — Мне нужен ребенок. Если не ребенок Теи, то хотя бы твой.
Он резко развернулся и указал на ее старшего сына.
— Схватить его! Вернее… — Домициан на мгновение задумался. Флавия закричала. — Схватите их всех. Я устал от этой вечно хнычущей женщины и ее отпрысков.
Стражники поволокли их вон из зала. Флавия кричала, ее супруг растерянно крутил головой во все стороны, в надежде, что кто-то придет ему на помощь, но никто не пришел. Оба сына от страха были бледны, как смерть. Мои мысли тотчас устремились вперед, словно ртуть. Если у Домициана теперь нет наследников, возможно, он захочет себе жену, которая ему их подарит.
— А теперь разберемся с тобой. — Домициан, прихрамывая окровавленной ногой, подошел к Виксу и улыбнулся. — Скажи, что мне с тобой сделать?
— Пошел ты знаешь куда. — Мальчишка оскалил зубы, словно загнанный в угол крысенок, однако я заметила, как в глазах его мелькнул страх.
— Нет, мы поступим по-другому, — произнес император и, оттянув окровавленный лоскут кожи на своей ноге, приказал преторианцам. — Вывезите эту еврейскую шлюху за город и бросьте ее там.
— Нет! — вскрикнула Тея. — Нет, оставь меня здесь, но отпусти Викса!
На лице Домициана заиграла улыбка. Окровавленный, злобный, снисходительный, он улыбался.
— Ну что, теперь тебе страшно, Афина?
Она в упор посмотрела на него.
Домициан пальцем поманил преторианцев.
— Уведите ее. Но сначала…
Он нагнулся над ней и тремя взмахами ножа перерезал серебряный ошейник на ее шее. После чего повернулся, держа в руке черный поблескивающий камень, и, крякнув от усилия, скрепил концы ошейника на шее Викса. Тея простонала.
Но уже в следующий миг стража поволокла ее вон.
— Превосходно! — Домициан расцвел улыбкой. Казалось, он не замечал своей окровавленной ноги. — А теперь отведите мальчишку в бывшие покои его матери. Обыщите там все, как следует, чтобы не было никаких острых предметов. Кстати, кто-нибудь догадается навести здесь порядок? — Он перевел взгляд на лужи пролитого вина, разбитые тарелки, кровавые следы на мозаичном полу. — Павлин, думаю, будет лучше, если ты отведешь отца домой. Он слишком стар для таких бурных сцен.
Павлин был бледен как полотно. В глазах его застыло выражение ужаса. Медленно, не сводя глаз с Домициана, Кальпурния протянула руку и потянула его за рукав. Двигаясь, словно кукла, он поднялся и поддержал Марка под плечо. И они двинулись прочь, вслед упирающемуся Виксу.
В триклинии остался один единственный человек.
Я.
Взгляд императора упал в мою сторону, и я поспешила принять на ложе соблазнительную позу. Спасибо всемилостивым богам, на мое платье не упало ни единой капли крови.
— По-моему, тебе полагается вознаграждение, — он подошел ближе, и в глазах его сверкнуло странное возбуждение. Даже то, что его пырнули ножом, ничуть не остудило в нем страсть. — За то, что сегодня произошло. Так что же это будет, Лепида?
— О, думаю, у тебя уже есть мысли по этому поводу, мой господин и бог. — Я соскользнула с ложа и, опустившись перед ним на колени, провела пальцем ему по ноге. — Ты ранен, позволь мне перевязать твои раны, господин и бог.
Я обернула его окровавленную ногу салфеткой, затем склонила голову и поцелуями убрала остатки крови с его лодыжки.
Он рывком поставил меня на ноги и впился в губы жадным поцелуем. Я прижалась к нему всем телом, чувствуя, как по моей спине пробежала приятная дрожь возбуждения.
— Да, — произнес он, словно что-то решив для себя. — Ты подойдешь. Иди ко мне.
И он взял меня здесь же, посреди залитого кровью триклиния.
(обратно)
(обратно)
Глава 28
Тея
Преторианцы бросили меня посреди грязного поля, засеянного репой, сразу за городскими стенами. То ли потому, что я была вся в крови и синяках, то ли они опасались, что я навлеку на них несчастье, а может потому, что холодный дождь остудил их похоть, но они не стали трогать бывшую любовницу императора, прежде чем оставить ее посреди грязи. Они просто столкнули меня с лошади и галопом ускакали прочь. Я осталась стоять, дрожа под проливным дождем.
Все мои кошмары оставили меня. Кроме одного.
Викс. Мой сын.
Это моя вина. Почему я не догадалась его где-то спрятать? Спрятать там, где ему бы ничего не угрожало.
Викс.
Я выпрямилась во весь рост и несколько мгновений стояла покачиваясь. Ощущение было такое, будто внутри меня разлит огонь. Суставы пальцев скрипели, как будто их изнутри посыпали песком. Из десятка ссадин сочилась кровь — смешиваясь со струями дождя, она прямо на глазах из красной становилась розовой.
Впрочем, с ложа Домициана я, случалось, вставала и в худшем виде. По крайней мере, сегодня мои ноги были в состоянии нести меня.
И я пошла. Спотыкаясь и пошатываясь по сколькому полю. Я шла до тех пор, пока дождь не прекратился и взошло бледное солнце. Я шла до тех пор, пока оно не встало точно над моей головой среди плывущих вдаль облаков, шла до тех пор, пока оно снова не начало клониться к закату. Тогда я прилегла в придорожной канаве. Когда холод сделался нестерпим, я вновь заставила себя подняться и побрела дальше. Люди, что попадались мне навстречу, отводили глаза в сторону, принимая меня за сумасшедшую.
Я сама не понимала, куда бреду, пока впереди, на фоне оранжевого неба, не замаячила знакомая крыша — вилла Флавии на окраине Тиволи.
Пошатываясь, я направилась по винограднику, и при каждом шаге виноградные листья задевали мое лицо, а острые шипы рвали на мне мое и без того рваное платье. Вскоре я увидела на пригорке хижину — круглую, точь-в-точь как в Бригантин.
Преодолев шестнадцать миль, я не нашла в себе сил, чтобы сделать последние шестнадцать шагов. Опустившись на четвереньки, я доползла до двери хижины и постучала.
— Викс, — прошептала я, обращаясь к босым ногам, которые вышли на мой стук. — Император схватил его.
Она сидела перед очагом, подобно тряпичной кукле, пока Арий смывал с ее лица корки грязи и запекшейся крови.
— Он схватил его, — раз за разом повторяла она. — Взял его себе, а меня вышвырнул.
Внутри Ария закипал гнев, но он постарался не дать ему выхода.
— А теперь покажи мне твои руки.
Три сломанных пальца. Арий наложил на них шины и перевязал — точно так же, как когда-то в гладиаторской казарме врач перевязывал его собственные, — а пока перевязывал, выслушал всю историю. Вернее, ее обрывки между приступами рыданий. Флавия. Хотя внутри него все холодело от ужаса при мысли, какая участь ждет его собственного сына, он не мог не ощутить горя по поводу смелой женщины, спасшей его из Колизея. Возможно, вскоре ее лишат жизни. И не станет той, которая, тихо напевая, сидела в залитом солнцем атрие, вышивая шаль, или смело шагала извилистыми коридорами в чреве Колизея, чтобы вырвать детей из пасти смерти. Флавия — та, что дала ему кров и подшучивала над ним за то, что он загубил ее виноградники. Преторианцы уже обыскали виллу — утром того дня, когда Тея добрела сюда, однако так и не заглянули в виноградники, и Арий не стал придавать особого значения их приходу.
— Тсс, — сказал он Тее. — А теперь поспи.
— Но Викс…
— Мы вернем его. — Арий мысленно представил себе, как Викс занес над императором руку с зажатым в ней столовым ножом. И зачем только ему понадобилось учить этого сорванца боевому искусству?
— Не могу уснуть, — сказала Тея, хотя, когда он нес ее к постели, глаза ее уже слипались. Он осторожно опустил ее на кровать, но она поморщилась от боли.
— Что такое?
— Ничего. Просто мои ребра…
Арий нащупал застежки на платье.
— Нет! — она оттолкнула его пальцы. — Нет, это просто синяки…
Он осторожно отодвинул в сторону помятый шелк и ощупал ее тело, нет ли переломов.
Но обнаружил лишь сплошной кровоподтек зеленоватого оттенка. Значит, ему уже несколько дней. Под грудью. Интересно, как можно получить синяк в таком месте и такой странной формы?
Затем его пальцы обнаружили второй. Потом третий. Тогда он стащил с нее платье.
— Арий, прошу тебя, — взмолилась Тея едва слышным шепотом. — Не надо.
В подрагивающем пламени очага синяки, шрамы, следы ожогов глазу были почти незаметны. А вот его пальцы с легкостью обнаружили их все до одного.
— Арий.
Он посмотрел на нее. Он не мог видеть, что сейчас написано на его лице, но она приподняла руку, прикрывая глаза. Следы порезов, которые он уже успел заметить на ее руках, тянулись до самого локтя.
Он протянул руку, чтобы потрогать ее лицо, но передумал. Потому что каждый мускул на ее теле тотчас сжался в тугой узел.
Он убрал руку и поправил на ней платье.
— Ты права, — сказал он. — Это просто синяки.
Она вся сжалась, словно он ее ударил. В глазах ее читалось отвращение к самой себе.
— Спи, — сказал он, поднимаясь. Затем расстелил у противоположной стены плащ и лег сам. — Кровать твоя.
Тея тотчас отвернула голову и свернулась комочком, словно ребенок, но он успел прочесть в ее глазах облегчение. Впрочем, уснула она не сразу.
Арий же всю ночь не сомкнул глаз.
Осторожнее, великан, когда-то наставлял его Геркулес. Не вороши могил, которых лучше не трогать. И где теперь сам Геркулес? Гниет в могиле. Садовник Стефан умрет вместе с Флавией.
А вот Арий Варвар еще жив.
И он осторожно выкопал демона из его могилы. Тот тотчас распростер крылья, потянулся и зевнул после долгого сна. Затем примостился рядом, и они вдвоем, Арий и его демон, не скрывая злорадного удовольствия, взялись рисовать жуткие картины того, как они поступят с императором Рима.
(обратно)
Рим
Времени, чтобы предупредить мальчишку, у Павлина почти не было, но он все же рискнул.
— Послушай, — произнес он, обращаясь к коротко остриженной макушке у своего плеча. — Я восхищался твоей матерью, и ради нее я сделаю все для того, чтобы ты остался жив. Главное, не открывай рта и не пытайся оказывать сопротивление императору. Пусть он делает все, что захочет.
— Да, — в мраморном зале было холодно, но лоб мальчишки был в каплях испарины.
— Что на тебя нашло? — не удержался от вопроса Павлин. — Почему ты набросился с ножом на самого императора?
— Не знаю, — пожал плечами мальчишка, и цепи на нем звякнули. — Может, сейчас я понимаю, что это я сделал зря. Но тогда ничего лучше мне не пришло в голову.
Стражники распахнули перед ними двери, и Павлин толкнул Викса в черный триклиний. Облаченный в черные одежды император возлежал на черных бархатных подушках на ложе из черного дерева, и глаза его были такими же темными, что и стены. Единственным светлым пятном была лишь повязка на ноге. Это был тот редкий момент, когда рядом с властителем Рима не было ни слуг, ни рабов, ни секретарей.
— Останься, — велел Домициан Павлину, хотя взгляд его был прикован к мальчишке. Павлин отошел к стене. С какой радостью он бы слился с ней!
— А ты, мальчик, сядь.
Викс сел на черную шелковую подушку у ног императорского ложа.
— Надеюсь, тебе нравится твоя новая комната.
Викс вопросительно посмотрел на него.
— У тебя есть язык? Я ведь тебе его пока не вырезал. Впрочем, я это еще успею сделать.
И вновь этот взгляд.
— Если ты отказываешься говорить со мной, подай мне вон тот графин. И не пытайся найти на этом столе оружие. Я приказал убрать все острые предметы.
Помешкав пару секунд, Викс все-таки передал императору черный графин. На фоне черного цвета вино казалось кроваво-красным.
— Вино притупляет боль в моей ноге, — изобразив удивление, император посмотрел на перевязанную ногу. — Впрочем, по словам врача, рана заживет быстро.
Викс пожал плечами.
— А мне можно вина?
Домициан с бесстрастным лицом передал ему собственный кубок. Викс демонстративно вытер рукавом ободок, сделал глубокий глоток и вернул назад.
— Итак, — император откинулся на черные полушки. — Что мне с тобой делать?
— Ты мог бы отпустить меня, — предложил Викс.
— Нет, это мне не подходит.
— Почему бы не попробовать?
— Верно.
Они пристально посмотрели друг на друга.
— У тебя здесь все черное, я гляжу. — Виск обвел взглядом триклиний и звякнул цепями на запястьях. Павлин отметил про себя, что не просто так, а чтобы скрыть, что руки у него трясутся. — Даже жуть берет.
— Я еще не решил, что мне с тобой делать, Верцингеторикс, — задумчиво произнес император. — Я мог бы бросить тебя на растерзание львам на арене. Или оскопить. Скажи, ты был бы не против петь таким же нежным голосом, что и твоя мать?
— У меня нет слуха.
— Тогда будешь гладиатором. Наверно, как и твой отец. Кстати, кто он?
— Не знаю.
Звяк-звяк.
— Лжешь, — вкрадчиво произнес Домициан. — Ну ничего, я это выясню.
— Тогда давай, выясняй. Мне самому интересно.
Звяк-звяк.
— Живо прекрати.
— Что прекратить?
Звяк-звяк.
— Это свое звяканье. Оно действует мне на нервы. У бога тонкий слух.
— У нас у всех свои недостатки.
Звяк-звяк.
— Ну хорошо.
Звяк.
Они уставились друг на друга.
Павлин открыл было рот, однако тотчас закрыл. В преторианских казармах ему не раз приходилось разнимать драчунов, однако в этот поединок лучше не ввязываться.
— Ты все равно меня убьешь, разве не так? — спросил Викс у императора.
— Это мы еще посмотрим.
— Знаю я эти посмотрим. Мне рассказывали. Боги давят смертных как муравьев.
— То есть ты считаешь меня богом?
— Кто тебя знает, цезарь, — ответил мальчишка с улыбкой. — По крайней мере, кровянка у тебя идет, как у простого смертного.
Домициан посмотрел на перевязанную ногу.
— Ты ударил меня ножом, — произнес он, якобы с удивлением. — Вот уже четырнадцать лет, как я занимаю этот трон, и на меня никто ни разу не покушался. До тебя.
— Все когда-то бывает впервые.
— Не для меня. Я господин и бог.
— Это точно.
Молчание.
— Надеюсь, ты понимаешь, что твоя мать, скорее всего, уже мертва? Я приказал моим преторианцам вышвырнуть ее за городские стены. И если ее до сих пор не ограбили и не убили, то она должна валяться без сил в какой-нибудь придорожной канаве, и мне не составит большого труда ее найти.
Викс посмотрел на императора.
— Мне ничто не мешает уже завтра отправить моих людей на ее поиски и привести ее во дворец. Скажи, ты был бы этому рад?
Викс столь резко подался вперед, что Павлин схватился за кинжал.
— Оставь ее в покое, — сказал мальчишка императору.
— Это с какой стати? — спросил тот слегка снисходительным тоном.
— Давай заключим сделку. Оставь в покое ее. Оставь меня себе.
— А ты наглец. Оставить тебя, чтобы ты при случае вогнал мне в спину нож?
— Чтобы жизнь не казалась скучной.
«Ты с ума сошел, — подумал Павлин с чем-то похожим на восхищение. — Но ты явно не так глуп, как я о тебе думал».
Домициан в задумчивости наклонил голову.
— Скажи, ты боишься меня?
Викс посмотрел на него словно на идиота.
— Одно твое слово, и тот красавчик у стены выпустит из меня потроха. Конечно же, боюсь. Уже почти обосрался от страха.
Домициан вопросительно посмотрел на него.
— Тебе же гордость не позволяет заключить сделку с рабом, — продолжил подначивать императора Викс. По его лбу градинами катился пот. — Ты, лысеющий урод…
Долгая, колючая пауза. Павлин поморщился. Нужно быть врагом самому себе, чтобы осмелиться подшучивать над поредевшей императорской шевелюрой. Последний, кто это сделал…
— Это почему же? — задумчиво отозвался Домициан. — Не думаю, что гордость мешает мне заключить сделку с рабом, Верцингеторикс.
Викс протянул ему руку. Невероятно, но император ее принял. Ладонь к ладони. Плоть к плоти. Пальцы сомкнулись. Костяшки побелели. Кто же первым поморщится от боли?
Они продолжали смотреть друг другу в глаза. Ни тот ни другой не разжал пальцев.
— Ну что ж, — добродушно произнес в конце концов Домициан, — думаю, ты меня не разочаруешь. Твоя мать всегда доставляла мне удовольствие своей храбростью, но, похоже, ты превзошел ее, Верцингеторикс. Или просто Викс?
— Только мать завет меня Викс.
— Я вполне мог бы быть твоим отцом, будь ты на пару лет младше. Интересно… впрочем, нет, вряд ли.
— Нет, бог все-таки есть, — пробормотал Викс, и Павлин наконец смог увести его.
— Ты с ума сошел, — едва слышно прошипел он. — Кто так разговаривает с императором? Это даже хуже, чем ударить его ножом.
— Мама говорила, он любит играть с людьми в игры, — простодушно ответил Викс. — Вот я и решил попробовать.
Он увернулся от Павлина и принялся поправлять тунику, и префект заметил на светлой ткани темное пятно. Оказывается, храбрец обмочился!
— Смеешься надо мной? — свирепо спросил его Викс. — Только попробуй, и я пущу тебе из носа кровянку. Красавчик преторианец, ты думаешь, что ты такой смелый? — И он попробовал толкнуть Павлина в грудь.
— Нет, — вздохнул Павлин. — Я над тобой не смеюсь.
И он повел Викса назад в его комнату.
Императорский двор гудел. Павлин слышал за спиной перешептывания.
— Вы слышали, этому мальчишке отвели комнату рядом с императорскими покоями.
— Император брал его вчера с собой на заседание Сената.
— И на открытие нового акведука — на всеобщее обозрение.
— Вы представляете, что подумали люди?
— Нет-нет, они ошибаются. Будь это Нерон или Гальба, то да, возможно, они были бы правы. Но Домициан никогда не питал слабости к мальчикам.
— С годами с людьми случаются всякие перемены. Ведь избавился же он от Афины.
— Да, Афины больше нет, зато теперь под него легла эта хитрая сучка Поллия.
— В любом случае, этот ребенок его пленник. Носит ярко-красную тунику, на тот случай, чтобы его было легко заметить, если он вдруг попробует сбежать. Ему и шагу нельзя сделать, чтобы не нарваться на преторианцев. Впрочем, возможно, их поставили в таком количестве ради безопасности самого императора.
— Ты имеешь в виду слухи, будто во время пира этот мальчишка пытался заколоть его столовым ножом? Мы же все прекрасно знаем, что ногу император повредил отнюдь не катаясь верхом, чтобы там ни говорили придворные лекари.
— Вздор! Будь это так, этот нахаленок не сносил бы головы.
— А что, если он внебрачный сын императора?
— Не похоже. Флавиев нетрудно узнать по их носу и цвету лица. А это такой рослый, мускулистый мальчишка, типичный крестьянин.
— А вдруг он сын Афины?
— Вряд ли. Тогда бы он оставил ее при себе. Скорее всего, мальчишку он прижил от какой-нибудь другой любовницы, — помяните мое слово, — может, даже рабыни.
— Так это или не так, но мальчишка новый его фаворит. Сдается мне, что скоро нам велят кланяться мальчику в красном.
Двоюродный брат императора и его старший сын были казнены на ступенях Гермонианской лестницы, известной в народе как «лестница вздохов». Два дня спустя настал черед Флавии Домициллы покинуть в сопровождении стражи свою тюремную клетку. Официальное обвинение — неуважение к богам.
Марк наблюдал за ней из толпы, смешавшись с плебсом, чувствуя, как с каждой минутой его все сильнее душит изнутри бессильный гнев. Он выступил в Сенате с предложением о помиловании, но его никто не поддержал. И ему ничего другого не оставалось, как наблюдать за тем, как Флавия Домицилла встретит свой смертный час в том же самом платье, в каком она явилась во дворец на императорский прием, во время которого Домициан должен был объявить ее сыновей своими наследниками. Одного из них уже не было в живых. Никто не ведал, что с ее младшим сыном, жив он или нет.
— Старший мальчишка уже в том возрасте, когда начинают стремиться к власти, — заявил Домициан и пожал плечами. — Что касается младшего, я еще не решил, что мне с ним делать.
Никто не осмелился задавать ему вопросы. Самые легкомысленные придворные уже делали ставки по поводу того, что сталось с младшим племянником императора — то ли его отправили в изгнание, то ли потихоньку придушили в тюремной камере. И, разумеется, сегодня император не счел нужным присутствовать при казни племянницы.
Толпа застыла в безмолвии, глядя, как Флавия Домицилла совершает последний путь в своей жизни. Никто не осмелился выкрикнуть и слова протеста, хотя в душе ей симпатизировали многие. Она честно исполнила свой супружеский долг, произведя на свет двух сыновей и наследников, она щедро подавала нищим и детям, и пусть, как поговаривали, она была христианка, она всегда уважительно относилась к богам. И вот теперь, с отсутствующим взглядом и в забрызганном кровью платье, она шла, проживая последние мгновения своей жизни. Ее сын, будь он жив, наверняка вскоре последовал бы за ней. Последняя ветвь Флавиев, которую вот-вот навсегда отсекут от некогда пышного древа.
— Стойте!
Услышав этот возглас, Марк резко обернулся. Фигура в белом, едва заметная за строем красно-золотой преторианской стражи.
— Уйди с дороги! — рыкнул на нее какой-то преторианец. — Мы сопровождаем Флавию Домициллу к месту казни.
— И в чем ее обвиняют?
Голос был женский, негромкий, неторопливый. Флавия терпеливо застыла на месте, словно жертвенное животное, которое ведут на заклание.
— Неуважение к богам. А теперь уступи нам дорогу.
— Я весталка Юстина. Именем Весты я снимаю возложенное на нее обвинение. Своей властью жрицы я снимаю возложенный на эту женщину смертный приговор.
По толпе пробежал ропот. Флавия открыла глаза.
— Только не это! — еле слышно взмолился Марк.
Преторианцы пребывали в растерянности. Наконец один из них прочистил горло.
— Мы… мы не можем…
— Вы хотите сказать, что вы готовы нарушить законы Весты? — с каждым новым словом голос жрицы звучал все громче и требовательней.
— Нет, но император…
— В данном случае император бессилен. Моя богиня простерла этой женщине руку милосердия. Казните ее, и вас настигнет ее кара.
Преторианец явно не знал, что на это ответить.
— Мы будем вынуждены отвести тебя к императору… Мы не можем просто так…
— Тогда отведите. Я уверена, что перед народом римским он не осмелится нарушить один из самых древних наших законов.
С этими словами облаченная во все белое весталка встала между двумя стражниками. На их фоне она показалась Марку совсем крошечной. Теперь Флавия смотрела на нее, и в ее затуманенный взгляд постепенно возвращался разум. Преторианцы развернулись и повели обеих женщин сквозь гул толпы к императорскому дворцу.
— Почему ты… — Марк отчетливо услышал голос Флавии.
— Веста велела мне спасти тебя, — прозвучало в ответ.
— Но ведь я не верю в нее. Я ведь рисующая рыб христианка. Я не верю в твою богиню!
— Это ничего не значит. Она хочет, чтобы ты осталась жить.
— Но…
Дальше Марк их разговора не услышал. Тем не менее от него не скрылся ужас, с каким Флавия взирала на свою спасительницу. Тот же самый ужас охватил и его самого, потому что он узнал этот голос. О, как хорошо он его знал!
— Ее смерть в обмен на твою, — вслух произнес Марк. — Ни на что другое он не согласится.
(обратно)
Тиволи
— Домициан хитер, — сказала я. — Но не хитрее Викса. Так что за нашего сына можно быть спокойными.
Сидевший у очага Арий ничего не ответил. Весь последний день он почти не разговаривал со мной.
— Нет, правда, — сказала я, как если бы он мне возразил. — С Виксом все будет в порядке. Игры — слабость Домициана, он обожает играть с людьми. Вот и Викс тоже станет с ним играть, до тех пор…
Лежавшая у меня на коленях собачонка Ария подняла голову и зарычала. Я принялась ласково ее гладить.
— Вот увидишь, с ним все будет хорошо.
Арий поднял голову.
— Тише, — сказал он и втянул в себя воздух.
Ноздри его дрогнули, и он напомнил мне волка, вынюхивающего след жертвы. После чего бесшумно выскользнул за дверь. Я застыла на месте, прижимая к себе пса.
Арий вернулся в хижину.
— Преторианцы, — спокойно произнес он. — Надень плащ.
Отдохнув за предыдущий день, я вновь обрела силы. Я наскоро положила в узелок оставшийся от обеда хлеб и перебросила через локоть наши плащи. Арий сунул руку под матрас, а когда вытащил, то сжимал в ней длинный блестящий кусок металла, который я узнала с первого взгляда.
— Я не знала, что ты хранишь свой меч, — удивилась я.
Он на мгновение приподнял его, словно оценивая вес, затем сделал несколько взмахов, и сверкание стали отразилось блеском в его глазах. В глазах Варвара.
Нет, меч никогда не покидал его. Равно как и темный, свирепый взгляд.
— Ты готова?
Подхватив под мышку собачонку, я выскользнула из хижины. Затем набралась смелости и повернула голову в сторону виллы. Даже с этого расстояния было слышно, как в доме бьют горшки. Домициановы стражники уже наведывались сюда, не иначе как в поисках ценных вещей для своего господина, а теперь вернулись, чтобы довести начатое дело до конца. Собственность всех изменников переходила к императору, их поля засыпались солью, а их имена больше никогда не произносились вслух. Хотя Домициан и ненавидел евреев, он, как ни странно, обладал поистине еврейской мстительностью.
Арий бросился вперед через виноградник, придерживая или обрубая на ходу ветки, чтобы мне было легче пройти — нет, не из учтивости или любви, а потому, что в противном случае я своей медлительностью подставила бы под удар наше бегство. После того как он увидел мои странные кровоподтеки, после того как я отпрянула от него, он держался со мной отстраненно. Молчаливый. Холодный. Он больше не пытался прикоснуться ко мне.
А после того как в его глаза вернулась эта пугающая чернота, мне этого не хотелось самой.
Над крышей виллы взметнулись, устремляясь к небу, языки алого пламени. Собачонка громко залаяла. Я крепко сжала ей пасть и поспешила вслед за Арием в направлении Рима.
Туда, где сейчас был наш сын.
(обратно)
(обратно)
Глава 29
Рим
Юстина отвернулась от окна своей тесной сырой камеры.
— Павлин, до этого ты ни разу не повысил на меня голос!
— Повысил на тебя голос? — выкрикнул Павлин. — Повысил на тебя голос. Да ведь эта история уже разошлась по всему Риму. Весталка, которая стала на пути преторианцев, чтобы даровать божественную милость женщине-христианке.
Юстина одарила его невозмутимым взглядом, и гнев Павлина тотчас пошел на убыль.
— Юстина, я даже представить не могу, что он теперь…
— Тсс. Тише. Теперь все в руках Весты. — Она улыбнулась едва заметной улыбкой и низко натянула на лицо покрывало. — А теперь отведи меня к нему.
Павлин на мгновение улыбнулся ей, пытаясь различить под полупрозрачным шелком ее глаза. Весталки, насколько ему было известно, прятали за покрывалами лица только в одном случае.
Во время жертвоприношений.
— Итак, — произнес Домициан. — Значит, это та самая весталка?
Он сидел за столом, заваленным горами петиций, карт и писем.
И как всегда теперь, у его ног расположился, сложив ноги крестом, сын Теи. Мальчишка клевал носом. Сам император тоже имел сонный вид, и после целого дня трудов изменники и предатели, похоже, его не слишком интересовали. Павлин ощутил искру надежды.
Неожиданно Юстина сдернула с головы вуаль, стащила с волос повязку и, тряхнув головой, распустила по плечам светлые локоны.
— Привет, дядя, — улыбнулась она императору.
На какой-то момент в таблинуме установилась мертвая тишина. Павлин испугался, что больше вообще не услышит ни звука.
Викс открыл глаза и в изумлении уставился на весталку. То же самое сделал и Павлин, пытаясь увидеть любимую женщину.
Вместо этого увидел незнакомку. Крупный нос, отличительную черту всех Флавиев, их знаменитые локоны, которые так хорошо смотрелись в мраморе, а теперь рассыпались поверх белоснежных одежд, темные глаза, такие же бездонные и загадочные, что и глаза Домициана.
И тогда образы давно прошедших лет всплыли на поверхности памяти — юная патрицианка, наперсница его детских игр.
— Я знал тебя задолго до того, как мы встретились, — сказал он ей как-то раз.
— Юлия? — спросил он у дочери императора Тита, внучки императора Веспасиана, племянницы и — если верить слухам — любовницы императора Домициана. Перед ним стояла именно она — представительница правящей божественной династии.
«А я еще предлагал ей выйти за меня замуж», — грустно подумал он.
— Юлия! — отозвался император. На его лице застыло странное выражение, вернее, то была смесь самых разных чувств, определить которые Павлин не смог бы даже с тысячного раза.
Но именно этого он и боялся.
— Мой господин, — быстро произнес он. — Я приношу свои извинения за то, что позволил этой самозванке войти к тебе. Я сейчас же уведу ее отсюда и поступлю с ней так, как того она заслуживает…
— Нет, — оборвал его Домициан, поедая глазами свою племянницу. — Она не самозванка. Скажи мне, Павлин, ты знал?
Во рту префекта пересохло.
— Нет, — ответила за него Юстина. — Он ничего не подозревал.
— Это многое проясняет, — отозвался император задумчивым тоном. — Например, почему ты решила даровать Флавии помилование. Кстати, теперь помилование отменяется. Ибо только весталка-девственница способна отменить вынесенный императором смертный приговор. Тебя же девственницей никак не назовешь.
Как ни странно, она улыбнулась. И из представительницы рода Флавиев вновь превратилась в Юстину.
— Да, но если ты захочешь отменить мое сделанное всенародно помилование, люди потребуют от тебя объяснений. И что же ты им скажешь?
— Император не обязан ни перед кем оправдываться.
— О, ты всю свою жизнь только тем и занимался, что пытался найти оправдание тому, каким образом ты из-за тени моего отца пробрался на трон.
Домициан нервно поерзал.
— А где ты была все это время?
Павлин открыл было рот, но тотчас закрыл. Ему не терпелось услышать ответ.
— Как где? В храме Весты, куда я всегда стремилась попасть. Увы, прежде чем я туда попала, мне пришлось умереть.
— Люди говорили, что виной всему ребенок…
— Никакого ребенка не было. Я пыталась заколоть себя кинжалом, но… — улыбка вновь осветила ее лицо. — Веста не захотела, чтобы я покинула этот мир и призвала меня к себе. И я к ней пришла. Она не стала корить меня за отсутствие девственности.
— Значит, кто-то помог тебе бежать! — со злостью в голосе бросил Домициан.
— Старшая весталка. Ее больше нет в живых. И двое других, чьи имена я тебе не назову.
И вновь воцарилось молчание. Домициан нарушил его первым.
— Я все равно могу казнить Флавию, — произнес он. — Я заменил казнь ссылкой, и завтра она отправится в Пандатерию. Ты знаешь, что это такое? Голая скала посреди морских вод, размером меньше квадратной мили. Несколько женщин из императорской династии окончили там жизнь, кстати, некоторые даже носили твое имя. Скажи, кому есть дело до того, если царственная пленница случайно сорвется со скалы и сломает себе шею?
— Люди узнают. Как правило, они верят в самое худшее, потому что, Домициан, в душе они ненавидят тебя.
Свернувшийся на полу калачиком, словно щенок, Викс громко фыркнул. Домициан косо посмотрел на него, а затем вновь перевел взгляд на восставшую из небытия племянницу.
— Они ненавидят меня. Ну и что? Можно подумать, я стану переживать по этому поводу.
— Разумеется, нет, — баском произнесла Юлия, подражая его голосу.
Не успел Павлин и глазом моргнуть, как пальцы императора уже цепко обхватили шею племянницы. Потребовалась вся сила рук самого Павлина и еще двух преторианцев, чтобы их разжать.
Викс воспользовался возникшей суматохой, чтобы вновь забиться в самый дальний угол.
— Связать ее! — рявкнул Домициан, обращаясь к страже. От возбуждения его дыхание сделалось надрывным. — Связать ее! Живо! — повторил, заметив, что стражники не торопятся выполнять его приказ. Как-никак то была представительница правящей династии — или весталка? — кто ее разберет.
Павлин поспешил отвести взгляд. Смотреть на Юстину было выше его сил — на красные следы пальцев у нее на шее, на то, как покорно подставила она для цепей руки.
— Мой господин, цезарь, прошу тебя…
Но его голос заглушил раскатистый глас Домициана.
— Стража. Придержите префекта Норбана.
Преторианцы схватили Павлина под локти. Впрочем, он сумел высвободить одну руку и потянулся к Домициану.
— Цезарь, разве я когда-нибудь просил у тебя хоть что-то?
Домициан задумался. На какое-то мгновение ярость в его взгляде сменилась любовью.
— Нет, — произнес он и положил на руку Павлина свою. — Нет, никогда. А сейчас, тсс.
С этими словами он вновь повернулся к Юлии и прикоснулся к ее волосам, там, где светлые золотистые пряди, подобно покрывалу весталки, лежали по ее плечам.
— Я до сих пор храню прядь этих волос в своих личных покоях, — задумчиво произнес он. — Рядом с урной, в которой хранится твой прах. Или, как я понимаю, это не совсем твой прах? А настоящие только волосы… Ты отдала свою жизнь за жизнь своей сводной сестры, Юлия. Неужели это того стоило?
— Такова воля моей богини.
— Разумеется.
— В таком случае я предоставлю тебе такую возможность. Стража!
Шепоток приказов. Павлин поспешил отвернуться. Он не мог найти в себе мужество посмотреть в глаза несчастной Флавии. Но нет, в комнату втолкнули не саму матрону, а ее младшего сына. Бледный, осунувшийся, закованный в цепи, он, однако, пытался держаться гордо и храбро. Последний представитель рода Флавиев. Примерно одного возраста с Виксом. Сидя в своем углу, Викс насторожился.
— Сын Флавии Домициллы, — пояснил Домициан, хотя это было и без того понятно, — поклонись своей тетушке Юлии.
Дрожа всем телом, мальчик учтиво поклонился.
— Последний представитель рода, — продолжал тем временем Домициан. — Его брат мертв, отец тоже мертв, его мать почти мертва. Что же станется с ним? Может, ты и его спасешь, заодно?
— Если смогу, — голос Юлии прозвучал ровно и бесстрастно.
— Да, но как? Вот в чем вопрос. Что ты можешь мне предложить взамен за его жизнь?
— Свою собственную.
— Но ведь ты уже отдала ее, разве не так? В обмен за жизнь его матери. Так что же ты способна дать за него?
Мальчик перевел взгляд с Юлии на императора, затем снова на Юлию, и с губ его сорвался сдавленный стон. Викс застыл в углу. Павлин боялся даже пошевелиться.
— А что бы ты хотел получить от меня, дядя? — тихо спросила Юлия. — Я серьезно тебя спрашиваю.
Домициан рассмеялся, веселым, искренним смехом, что случалось с ним крайне редко.
— Ну конечно же! А как же иначе! — воскликнул он. — Ведь ты по-другому не умеешь. Ты для того и появилась на этой земле, чтобы доставлять мне удовольствие. Да-да, чтобы доставлять мне удовольствие. И если ты доставишь его мне сейчас, и пообещаешь доставлять и дальше, до конца твоих дней, то, так и быть, отпущу этого мальчишку.
— Дядя, — с грустью в голосе произнесла Юлия. — Я сильно сомневаюсь, что в этом мире хотя бы что-то способно доставить тебе истинное удовольствие.
Услышав ее слова, Павлин растерянно заморгал. Сын Флавии открыл рот, собираясь что-то сказать.
— Ты совершенно права, Юлия, — согласился Домициан. — Ты всегда понимала меня лучше, чем кто-либо.
Павлин по-прежнему пребывал в растерянности. И хотя волосы у него давно уже стояли дыбом, он с трудом поверил, когда у него на глазах Домициан взял в руки кинжал и вспорол сыну Флавии живот.
Рот мальчика открылся в немом крике, и он упал — вернее, как-то неестественно медленно опустился на пол. Или это только показалось Павлину?
На какой-то миг мир вокруг замер. Павлин, которой выбросил вперед руку, в попытке предотвратить фатальный удар. Мальчик, который корчился на полу, схватившись за вспоротый живот, из которого на мозаику уже натекла лужа крови. Император, который рассеянно вытер о тунику окровавленные руки. Викс, который уже приготовился выпрыгнуть из своего угла. Юлия, которая словно превратилась в каменное воплощение своей богини. Но уже в следующее мгновение богиня из мраморной вновь стала женщиной из плоти и крови.
— Павлин, — спокойно произнесла она. — Унеси отсюда мальчика. Викс, ты ему поможешь.
Префекта и юного раба дважды просить не пришлось.
— Верно, — сказал Домициан, обращаясь скорее к самому себе, и выронил из рук кинжал. — Верно, Юлия.
С этими словами он набросился на племянницу и сдернул с ее плеч жреческое покрывало.
Павлин обернулся, но Юлия из-за плеча Домициана посмотрела ему в глаза, посмотрела строго и укоризненно, так, что он поспешил отвернуться и вместе с Виксом вынес стонущего сына Флавии в вестибюль императорской опочивальни.
— Она как-нибудь постоит за себя, — раздраженно бросил Викс. — Лучше помоги мне.
Он сжимал в руке какой-то белый лоскут, которым пытался остановить кровотечение из раны в животе последнего Флавия. И Павлин понял — это жреческое покрывало Юлии. Мальчишка схватил ее покрывало.
Из императорской опочивальни доносились какие-то гортанные звуки. Голоса Юлии Павлин не услышал. Он поднялся и сделал шаг в сторону дверей, однако стражники оттолкнули его.
— Тебе жить надоело, префект? — рыкнул на него один из стражников. — Пусть делает, что хочет!
Павлину ничего не оставалось, как вновь опуститься на колени перед умирающим мальчиком. В тщетной надежде он пощупал пульс. Кровь из раны текла густым, вязким потоком, скорее черная, чем алая. Руки Викса были в ней по локоть, словно в перчатках.
— Он умрет, — отрешенно произнес Павлин. — Вот увидишь, он умрет.
— Так ты поможешь мне, префект, или нет? — Викс обливался потом, сыпал проклятиями, однако рук с зажатым в них покрывалом от раны не убирал.
Из императорской опочивальни тем временем доносились какие-то животные звуки, словно за дверью спаривался с самкой дикий зверь, а не император. Голоса Юлии не было слышно. Павлин поймал себя на том, что, подобно острой щепке, загнал куда-то вглубь горла рвущиеся наружу рыдания. А затем ему в голову пришла мысль, простая и страшная одновременно: Если он взял ее, может, теперь он ее пощадит?
Сын Флавии издал стон. В отчаянной попытке спасти ему жизнь Викс всем своим весом навалился на рану, стараясь остановить кровотечение. Теперь и его туника, и ноги сделались липкими от крови. Затем дрогнуло бледное веко. Вокруг них уже начали собираться любопытные рабы, и Павлин осыпал их проклятиями. Они тотчас в страхе бросились врассыпную.
Сын Флавии вскрикнул, слабевшие руки дернулись, чтобы вновь схватиться за живот. Викс навалился сильнее.
От боли мальчик открыл оба глаза и посмотрел на Викса.
Павлин стоял на коленях посреди лужи крови, чувствуя, как по коже ползают мурашки.
— Сука! — донеслось из-за дверей императорской опочивальни. Это был голос императора, глухой и пропитанный злобой. — Ты, холодная, бесчувственная сука, убирайся отсюда.
Стражники по эту сторону дверей переглянулись.
— Вы слышали! — встрепенулся Павлин и, вскочив на ноги, едва ли не влетел в императорскую спальню. Ему хватило одного мига, чтобы охватить взглядом представшую его глазам картину. На ложе в изнеможении распластался император. Юлия спокойно поправляла на себе белые одежды.
— Уведите ее, — произнес Домициан, и по его телу пробежала судорога. — О боги, уведите ее отсюда!
Павлин дрожащими руками поднял Юлию с ложа. Впрочем, когда она выходила их спальни, ее поступь была непоколебимой поступью мраморной статуи. Павлин повел ее через лужу крови, мимо Викса, который теперь помогал сыну Флавии принять сидячее положение.
— Дальше меня поведут стражники, — спокойно произнесла Юлия. — Лучше помоги Виксу спасти моего племянника. Чтобы выйти из дворца, ему потребуется твоя помощь.
— Он не жилец. Ему вспороли живот, раскроили пополам.
— Неужели?
Поддерживая друга под плечо, Викс уже ставил мальчика на ноги. Он неуверенно поднял взгляд, и Юлия ласково ему кивнула. В тусклом свете ее глаза казались… глазами ожившей статуи.
— Передай привет от меня своей матери, Верцингеторикс, — сказала она, и в следующий миг стражники повели ее прочь. Почему-то они предпочитали держать ее за рукава, а не за обнаженные запястья, как будто боялись обжечься. Юлия шагала между ними, оставляя за собой на мозаичном полу цепочку крошечных кровавых следов.
— Нужно вывести его отсюда. — Викс уже поставил сына Флавии на ноги. Мальчик продолжал стонать, но расставаться с жизнью явно не собирался. Он все еще прижимал к животу жреческое покрывало Юлии, которое к этому моменту из белоснежного сделалось алым.
— Наверно, мне привиделось, — пробормотал Павлин. — Я не заметил, как император вспорол нему живот. Он ведь не мог…
— Ты сейчас рухнешь в обморок, — с видимым отвращением заметил Викс.
Павлин ощутил, что его душит хохот, неукротимый, истерический хохот. Ему хотелось хохотать, хохотать, пока он сам не упадет замертво. Однако к ним уже спешили стражники и любопытные придворные и не менее любопытные рабы. Трясущимися пальцами он снял свой преторианский плащ и обернул им плечи раненого мальчика. Викс натянул один конец ему на лицо.
— Помогите императору, — приказал Павлин стражникам. — Пошлите за врачом. Мальчика я беру на себя.
— Префект, куда ты его уводишь?
— Приказ императора, — невозмутимо произнес Павлин. — Тайный приказ.
Стражники, словно по команде, потупили глаза.
— Как самочувствие? — шепотом спросил Викс у юного Флавия, когда они с Павлином вывели его из вестибюля, в котором к этому времени уже собралась и продолжала расти толпа любопытных.
— Не знаю, у меня такое ощущение… — казалось, мальчик вот-вот расплачется.
Продев под плащ руку, Павлин убрал от раны окровавленное покрывало Юлии. Под ним оказался… — нет, не зияющая рана, какую ожидал увидеть Павлин, — а длинный неглубокий порез, из которого слегка сочилась сукровица.
— По-моему, этот урод промахнулся, — пожал плечами Викс. — Считай, что тебе повезло.
Повезло? Павлину не хотелось размышлять на эту тему.
У ворот дворца Викса развернули обратно, и дальше мальчика повез один Павлин.
— Что они теперь со мной сделают? — испуганно спросил юный Флавий.
«Скажу императору, что ты умер от раны, — подумал Павлин, — и что я тихонько избавился от твоего тела».
— Не двигайся, — рявкнул он на своего подопечного и пришпорил коня. Мальчишка безвольно лежал, перекинутый через конский круп.
В сгущающихся сумерках Павлин подъехал к отцовскому дому, коротко объяснил, что привело его сюда, но, как ни странно, на этот раз отец не стал требовать пространных объяснений.
— Молодец, — вот все, что он сказал. В следующий миг он уже отослал рабов, и они снесли в дом едва стоящего на ногах мальчика.
— Император, — произнес Павлин свинцовым от усталости языком. — Император не должен знать, что ты…
— Не волнуйся, он не узнает, — успокоил его Марк. — Я уже этой ночью вывезу мальчика из города.
— Та весталка, — с волнением продолжал Павлин, — она никакая не весталка, а Юлия, та самая племянница императора, которую все считали мертвой.
— Сейчас не об этом, — невозмутимо произнес Марк, как будто слова сына его ничуть не удивили. Павлин вопросительно посмотрел на отца.
— Так ты знал?
— А ты думал, ей удалось бы разыграть собственную смерть без посторонней помощи? А сейчас, приятель, возвращайся-ка во дворец, пока тебя там не хватились и не начали искать.
Впрочем, ноги сначала привели Павлина к круглому зданию храма Весты. Подняв глаза, он увидел весталок. Низко опустив на лица покрывала, они выстроились безмолвной белой стеной.
Павлин скомкал окровавленное покрывало Юлии и положил его на первую ступеньку лестницы. В следующий миг его колени подкосились, и он опустился и сел рядом. Он продолжал сидеть на ступеньке храма до тех пор, пока его не обнаружила там пара преторианцев.
Старый год умер, и по приказу императора Рим ознаменует наступление нового смертной казнью.
Странная, неспокойная толпа собралась посмотреть, как Флавия Домицилла отправится в изгнание, а весталка встретит свой смертный час. Император назначил день празднования, однако стяги уныло обвисли, цветы скорее напоминали слезы, а в звуках фанфар слышались скорбные похоронные нотки. Не к добру, поговаривали в народе, явно не к добру. Императорская племянница и жрица, причем приговор обеим вынесен в первый же день нового года. Да, видно, не жди добра в новом году, ведь что хорошего сулит год, который начался с казни?
Павлин, верхом на вороном скакуне, сопровождал пленниц к месту казни и едва держался в седле.
Завидев обеих женщин, шагавших в кольце преторианцев каждая навстречу свой судьбе, толпа встрепенулась, и по ней пробежал ропот. Обе невысокого роста, светловолосые, одна в красном шелковом, хотя и грязном, платье, вторая — в белоснежных одеждах весталки. Флавию Домициллу поджидал корабль, а потом крошечный остров посреди моря, а вот весталку Юстину ждал каменный мешок без доступа воздуха.
Ибо нарушивших священный обет весталок замуровывали заживо. Рука за руку женщины шагали по римской улице.
— Ну почему, — понесся до слуха Павлина голос Флавии, — почему отправить меня еще лет сорок жить на скале посреди моря считается милосерднее, нежели сразу лишить жизни?
— А кто сказал, что боги милосердны? — тихо ответила Юлия.
— О, я знаю, что они немилосердны. Твоя богиня и мой бог. Моих мальчиков больше нет в живых. Старшего казнили вместе с Флавием, младшего… видимо, мне никогда не узнать, где и когда его убили.
— Я бы не стала расставаться с надеждой.
— О, я прекрасно знаю Домициана. Он ненавидит детей. Они напоминают ему, что он сам тоже смертен. Он убил своих собственных в чреве их матери до того, как они успели появиться на свет. Так что он убьет и моего.
— Следи за горизонтом.
— Что-что?
— Когда приплывешь на Пандатерию. Это молчаливое место — лишь трава, что колышется на ветру, тихие песчаные отмели и крошечная каменная хижина с небольшим алтарем. Ты останешься там в полном одиночестве, и поначалу тишина будет сводить тебя с ума, но ты слушай голоса птиц и следи за горизонтом. Вот увидишь, ты не долго пробудешь одна.
Негромкий голос весталки убаюкивал.
— В один прекрасный день ты увидишь на горизонте парус. Старый выцветший красный парус, и два ряда весел. Ты испугаешься и подумаешь, что это убийцы плывут, чтобы лишить тебя жизни, и тебе захочется убежать. Но ты гордо встань во весь рост, потому что ты из рода Флавиев и свою смерть тоже должна принять гордо. Но галера не пристанет к берегу. Вместо этого с нее спустят в море небольшую рыбацкую лодку, без весел, и приливом ее прибьет к берегу, но еще до того, ты увидишь того, кто будет сидеть в ней и махать тебе руками. И тогда ты бросишься в море и вернешь себе своего сына.
— Откуда тебе это известно? — шепотом спросила Флавия. — Откуда?
— Иногда мне бывают видения. Поверь мне, Флавия Домицилла, тебе есть, ради чего жить.
Павлин обернулся.
Юлия протянула руку и положила ее на живот Флавии.
— Что?
— Нам не стоит мешкать. Не хотелось бы, чтобы потом из-за нас Павлину влетело. — Юлия за руку повела вперед сводную сестру. — Дочь. Ты пока ее не чувствуешь, но она уже живет в тебе. Она появится на свет летом, на Пандатерии, и у меня такое предчувствие, что ты назовешь ее в мою честь.
К глазам Павлина подступили слезы. Он, словно ослепнув, уставился вдаль.
— Но откуда тебе это известно?
— Скажем так, известно, и все. Причем пока только мне одной. Домициан же никогда не узнает. Как только тебя высадят на крошечном необитаемом острове, он выбросит тебя из головы. А вот императрица тебя не забудет. Она проследит за тем, чтобы тебя хорошо кормили и, предполагаю, даже, когда подойдет время родов, отправит к тебе повитуху. Может статься, в один прекрасный день она поможет тебе и твоему ребенку бежать с острова. Когда-то она была храброй женщиной — возможно, сумеет снова ею стать.
— Юлия, я…
— Пора, — произнес скакавший рядом с Павлином стражник.
— Нет! — слабо воскликнула Флавия. — Нет, я не могу…
— Тише, — успокоила ее Юлия, — желаю тебе спокойного плавания, Флавия Домицилла. И если ты не возражаешь, назови свою дочь в мою честь.
Еще мгновение, и Флавию увели.
Ни одну весталку нельзя убить внутри городских стен. Поэтому крохотная камера была приготовлена за городскими воротами, на так называемом campus sceleratus. Впрочем, в народе это место было известно как Дурное поле. По приказу императора здесь, как будто по случаю праздника, заранее возвели возвышение и трибуны, однако толпа была на редкость притихшей. Люди молча наблюдали за тем, как весталка в белоснежных одеждах на мгновение замедлила шаг перед своей погребальной камерой. Павлин заметил в толпе отца — тот стоял рядом с Кальпурнией и крепко держал ее за руку. Сидя на своем императорском возвышении, императрица более чем когда-либо была подобна каменной статуе. Император же был румян и величаво-спокоен. Викс, как обычно в красной тунике, явно пребывал не в своей тарелке.
Весталка переступила порог своей гробницы и направилась вниз по грубым ступенькам.
— Стой!
Это со своего скакуна спешился Павлин. В мгновение ока он подскочил к Юлии и схватил ее за руку.
— Юстина… Юлия…
— Юстина. Мне это имя нравится больше. Меня так всегда называл отец. По его словам, вид у меня был такой же серьезный, что и у судьи.
— Да-да, я это помню. — Он почти не видел ее, потому что слезы застилали ему глаза, и перед его взором было лишь размытое белое пятно. — Юстина. Я не хочу, чтобы ты…
— И что ты сделаешь? Шагнешь со мной через порог? Пронзишь кинжалом императора?
— Юстина…
— Тсс.
Она прижала ладонь к его рту. Павлин закрыл глаза и припал губами к ее ладони. Какое-то мгновение он ощущал ее, но уже в следующее она пропала, растворилась в воздухе, словно призрак.
Павлин же продолжал стоять, закрыв глаза. Ему было слышно, как босые ноги ступают по грубым ступеням. Он представил себе скифское золото ее волос, представил, как эти шелковистые пряди исчезают в каменном мешке. Представил, как за ней захлопывается люк. Услышал звон лопат и жуткий стук комьев земли, запечатывающей вход в гробницу.
Наконец он открыл глаза. Император сидел на своем возвышении, равнодушно наблюдая за тем, как его племянницу замуровывают заживо. Неожиданно он улыбнулся.
— Ну что, префект, поиграем вечерком в кости? — предложил он и вернулся к своим свиткам.
— Нам пора, — тихо произнес Арий, кладя Тее на плечо руку.
— С Виксом, похоже, все в порядке, — негромко произнесла Тея. — На вид вроде бы здоров. А тебе как показалось? — спросила она и, не дождавшись ответа, тихо добавила: — Он посмотрел в мою сторону.
— Я заметил.
Тея не проронила больше ни слова до тех пор, пока Арий не закрыл на засов дверь крошечной чердачной комнатушки в районе городских трущоб, которую им удалось снять на последние гроши. Здесь она рухнула на узкую вонючую кровать и лежала на ней, дрожа всем телом.
— Прежде чем ступить в гробницу, она обвела взглядом толпу и нашла глазами меня, как будто знала, что я тоже там.
— Тея… — Арий осторожно положил ей на плечо руку, и когда она не отпрянула и не съежилась, он забрался в холодную постель и лег рядом с ней, поглаживая ее волосы. Никаких слез, лишь время от времени тело ее сотрясала судорога. Арий подумал про мужчину, которого ей довелось делить с Юлией.
Осторожней. Осторожней. Он отогнал демона и зарылся лицом в волосы Теи. Он нежно прикоснулся губами к виску, желая лишь успокоить ее, однако в следующий момент губы его скользнули к мочке уха и потом ниже, к изгибу шеи.
Тея тотчас встрепенулась, и он поспешил отпрянуть, в ужасе, что напугал ее. Однако она, издав не то вздох, не то всхлип, прильнула к его груди и положила голову ему на плечо.
Несколько мгновений он лежал не шевелясь, осторожно держа ее в объятьях, как будто тело ее было сделано из стекла, однако затем осмелел. Пальцы его скользнули в ее волосы, и он запрокинул ей голову и нашел ее губы. Они оказались столь же нежны и сладки, как и в те далекие дни, когда ей было всего пятнадцать.
Он почувствовал, как тело ее вновь напряглось, однако стоило ему отстраниться от нее, как она вновь изо всех сил прижалась к нему. И тогда он поцеловал ее снова, нежно и ласково, затем коснулся губами рубцов на шее, оставленных императорским ошейником, а затем белого шрама под грудью — одному из бесчисленных следов императорских забав. После чего осторожно стащил ей через голову тунику и принялся ласкать ее обнаженное тело, ее нежное, покрытое шрамами тело, ласкать и оплакивать одновременно. Пальцами и губами он разглаживал ее рубцы, щедро даря ей свое мускулистое, крепкое, загорелое тело, как когда-то она со всей щедростью дарила ему свое.
Тея закрыла глаза, чувствуя, как в ней нарастает волна наслаждения, и он воззвал к ней, воззвал со всем красноречием своего естества, на какое был неспособен его голос, лишь бы только она поняла, лишь бы только ее упрямый разум понял, как сильно он ее любит. И, похоже, она услышала этот его немой зов, потому что губы ее ответили на его поцелуй, а руки сомкнулись вокруг шеи, и каждая косточка в его теле негромко запела, запела от радости и счастья. Они так и уснули, не расплетая объятий и так и не проронив ни слова.
…Весталки подняли окровавленное покрывало и положили его на алтарь.
(обратно)
(обратно)
(обратно)
ЧАСТЬ 5
ЮЛИЯ. В ПОСЛЕДНЕМ ХРАМЕ
Она такая небольшая, эта гробница, эта подземная камера. При желании я, даже не вставая с табурета, могу дотянуться до всех четырех стен. У меня есть свеча, но ее пламя горит неярко, потому что свече, как и человеку, для жизни нужен воздух, а воздуха с каждой минутой здесь становится все меньше и меньше.
Я сидела в мерцающей полутьме и улыбалась.
Веста, спасибо тебе. Я благодарна тебя за многое. За то, что ты позволила мне служить тебе. За мужчину, который полюбил меня. За мужество, которое ты вселила в меня ради спасения сестры. За твой дар, благодаря которому удалось спасти жизнь ее сыну.
Спасибо тебе за жизнь, которая прожита не зря.
Я наклоняюсь и задуваю свечу.
Веста, богиня домашнего очага…
Это ты?
Я не предполагала, что ты так прекрасна, Веста.
(обратно)
Глава 30
— Вкусно, — лениво произнесла я. — И что это?
— Сок одного цветка, — ответил мой возлюбленный-император. Он взял из моих ослабевших рук кубок, и в его глазах я прочла блеск возбуждения.
Ну кто бы мог подумать, что цветочный сок, подмешанный в старое фалернское вино, способен вызвать такое приятное, расслабляющее опьянение! Я устало смежила веки. Пусть император делает все, что хочет, с моим безвольным, безропотным телом. Надо сказать, вкусы у него весьма необычные, но нет ничего такого, к чему нельзя привыкнуть. Что со временем не стало бы источником приятного возбуждения.
Быть возлюбленной самого императора! Уже одно это возбуждает!
Последние три
месяца превзошли все мои мечтания. Рукоплескания. Власть. Люди, склоняющие в поклоне головы, когда я гордо прохожу мимо. Люди, униженно умоляющие меня замолвить за них перед императором словечко. Власть, тысячу раз помноженная на власть. Теперь я хозяйка Рима!
Что же касается Домициана… скажу честно, мне не совсем понятно, откуда берутся все эти черные слухи. Да, он мужчина. Вспыльчив, порывист, непредсказуем, но всего лишь мужчина. Я же умею ими помыкать с четырнадцати лет. И какая разница, император он или нет, я никогда не позволю любовнику уверовать в то, что принадлежу лишь ему. Иногда, когда ко мне в дверь стучал императорский вольноотпущенник, я говорила ему, что меня «нет дома». Иногда намекала, что у меня якобы назначено свидание с кем-то другим. Иногда в порыве обожания бросалась к ногам Домициана, иногда загадочно улыбалась. Лишь бы он не утратил своего интереса ко мне.
— Прикройся, — бросил он мне, устало отстраняясь от меня. — А то ты похожа на шлюху.
Он уже потянулся к своим свиткам и восковым табличкам. Я томно подняла руку и спрятала тело под складками шелка.
— Кстати, — произнесла я как бы невзначай, — ты действительно должен что-то сделать с этим своим астрологом. Он совершенный грубиян. Я трижды просила его составить мне гороскоп, и он трижды оставлял без внимания мою просьбу.
— Он видит будущее столь же четко и ясно, как мы все видим свое прошлое, — ответил мой возлюбленный, даже не оторвав глаз от свитков. — Такой глаз, как у него, стоит всего золота Египта!
— В таком случае у него ужасно грубый глаз. Он вечно злобно смотрит в мою сторону.
— А ты не смотри в его сторону.
— Ты сегодня не в духе, господин и бог. — Я перевернулась на живот и подложила под подбородок кулак. Волосы волнами рассыпались, закрыв мне лицо. — Значит, ты держишь подле себя этого астролога из-за его острых глаз. А по какой причине ты держишь подле себя этого гадкого мальчишку, сына Теи?
Собственно говоря, именно это мне и хотелось узнать.
— Неужели тебе приятно на каждом шагу сталкиваться с живым напоминанием о ней? — задала я новый вопрос, когда мой предыдущий не был удостоен ответом.
Домициан перевернул табличку и принялся быстро что-то на ней чертить.
— Господин и бог, ты слышишь меня? — Я пощекотала пальцами ему запястье.
Он отдернул руку.
— Отправляйся к себе. И заодно пригласи сюда моих секретарей.
Оскорбленная в лучших чувствах, я соскользнула с ложа и заплетающимися от зелья пальцами кое-как надела через голову платье. После чего, соблазнительно покачивая бедрами, вышла вон. Домициан даже не окликнул меня. Впрочем, перепады настроения с ним случаются часто, а после казни весталки стали еще чаще. Впрочем, не стоит обращать внимания. В следующий раз я сделаю все для того, чтобы он о ней забыл.
— Смотри под ноги! — раздался у моих ног чей-то голос.
Я подскочила от неожиданности. В середине коридора за дверью личных покоев императора на мозаичном полу сидел, скрестив ноги, сын Теи, и катал в одной руке пару грязных игральных костей. Он вопросительно посмотрел на меня снизу вверх.
— Сыграем? — неожиданно предложил он.
Краем глаза я заметила обычную толпу придворных и вольноотпущенников. Они тотчас навострили уши и вытянули шеи, глядя на двух любимчиков императора.
— Почему бы нет? — ответила я нарочито приветливым голосом и, взяв у него кости, бросила их как можно дальше от того места, где он сидел.
Мальчишка посмотрел на то, как они упали, и присвистнул.
— Да, не везет тебе, Лепида.
— Можно подумать, ты что-то понимаешь в везении.
— Мне оно досталось от матери, — пожал плечами сын Теи. — Все евреи появляются на свет везучими, иначе бы их уже давно не было на свете.
— А что ты скажешь про своего отца? Разве ты не унаследовал от него половину своего везения? — улыбнулась я. — Или гладиаторы уступают в везении евреям?
Мы в упор посмотрели друг на друга. А чтобы доставить зрителям большее удовольствие — ведь фавориты императора всегда находятся в окружении зрителей, я похлопала его по голове. Он тотчас, словно пес, попытался схватить меня за пальцы, но я успела отдернуть руку и сделать шаг назад. Осторожность не помешает. Особенно, с таким, как он. Ведь отец этого дикаря — Варвар.
Я бросила быстрый взгляд через плечо. Сын Теи положил два пальца в рот и издал такой пронзительный свист, который заставил повернуть головы всех, кто был рядом, — и рабов, и вольноотпущенников, и придворных.
— Мой тебе совет, Лепида: моли судьбу изменить ее решение, — крикнул он. — Если не хочешь, чтобы тебя поимели как последнюю шлюху.
До моего слуха донеслись сдавленные смешки.
— Марк? — Кальпурния с улыбкой просунула голову в дверь библиотеки. — Почему ты сидишь в темноте?
— Да вот просто сижу и наслаждаюсь весенним закатом, — улыбнулся в ответ Марк. — Не хочешь присоединиться ко мне?
— С удовольствием! — Кальпурния взяла табурет и села ближе. — Только вот закат почему-то у тебя за спиной, а ты сам сидишь, от него отвернувшись.
— Я обдумываю путешествие. — Марк скатал несколько свитков и отодвинул их подальше.
— Для себя?
— Нет, не для меня.
Для сына Флавии, который сейчас незаметно от посторонних глаз восстанавливал силы в тихом доме в Брундизии. От Брундизия до Пандатерии, куда уже перевезли его мать, короткое плавание. Императрица обещала Марку полную секретность.
— Я позабочусь о Флавии и ее сыне, — сказала она при разговоре Марку с бесстрастным лицом. — Такова последняя воля Юлии. Марк, надеюсь, ты понимаешь, без посторонней помощи ей бы никогда не разыграть свою смерть, чтобы потом найти убежище в храме весталок. Ты ведь…
— Да, я ей помог, — пожал тогда плечами Марк. — Она написала мне в Кремону, когда приступ безумия прошел. После того как она пыталась вспороть себе живот. До этого я не верил ей, но затем поверил. И помог.
В бесстрастных глазах императрицы промелькнул живой блеск.
— Марк… — она хотела что-то сказать, но не закончила фразу.
— Пусть твои секреты останутся с тобой, — вывел его из задумчивости голос Кальпурнии. Пододвинув стул как можно ближе к нему, она подставила лицо лучам заходящего солнца. — Я не стану их у тебя выпытывать.
— Верно, такое не в твоих привычках. Ты понимаешь, Кальпурния Сульпиция, что это делает тебя особенной, не похожей на других?
Кальпурния улыбнулась.
— Я отправила раба проведать Павлина в императорском дворце. Говорят, твой сын не выходит из своей спальни. Разве что на службу.
— И сколько он уже сидит взаперти?
— С момента казни весталки.
Какое-то время оба молчали.
— У Сабины к тебе просьба. — Кальпурния протянула руку, чтобы наполнить Марку кубок. — Она попросила меня тебе ее передать, поскольку считает, что я способна убедить тебя в чем угодно. Завтра она хочет пойти с тобой на гладиаторские бои.
— На гладиаторские бои? — искренне удивился Марк. — Она слишком мала для подобного рода зрелищ.
— По ее словам, она уже бывала на них раньше.
— Я не разрешал ей ничего смотреть. Ей было всего семь лет. Она сидела спиной к арене и играла со своими рабами. Вернее, сидела до того момента, когда император начал швырять на арену людей.
— Думается, это произвело на нее впечатление, раз ей хочется снова побывать в Колизее. Она утверждает, что ей будет интересно взглянуть. А еще она говорит, что там будет Павлин, хотя в последнее время они ни разу не виделись. — Кальпурния улыбнулась. — И это не шутка и не каприз. У нее был точно такой же решительный вид, как и у тебя во время последних сенатских дебатов, когда ты требовал снести трущобы в южной части города прежде, чем те обвалятся сами, а клиенты Публия пытались тебя ошикать.
— Я не подозревал, что ты ходишь слушать сенатские прения, — с улыбкой произнес Марк.
Кальпурния покраснела.
— Я обычно сижу на самой задней скамье.
— Понятно, — сенатор принялся крутить между пальцев перо. — То есть ты считаешь, что я должен взять с собой Сабину на игры?
— Ты спрашиваешь моего мнения?
— К нему порой неплохо прислушаться.
Кальпурния опустила глаза и принялась приглаживать складки платья. Однако Марк все же заметил на ее губах улыбку.
— Хорошо, возьми ее с собой, чтобы она смогла повидаться с Павлином, — возможно даже, ей удастся слегка его развеселить, а как только начнется настоящее кровопролитие, мы всегда можем увести ее домой.
— Нет, если мы ее туда возьмем, ей захочется остаться до конца. Норбаны не привыкли закрывать глаза при виде неприятных сцен. Даже маленькие девочки.
— О, как, однако все сложно! В таком случае, пожалуй, я тоже пойду с вами.
— Ты пойдешь с нами?
— Пойду, и за тобой будет долг. Потому что я ненавижу игры.
— И чем же я тебе отплачу, Кальпурния?
Его собеседница заложила за ухо прядь волос.
— Обед будет готов через четверть часа. Фазан с луком, в сладком перечном соусе.
— Должен ли я сделать вывод, что ты в очередной раз отчитала кухарку?
— Она ужасна. Думаю, я куплю тебе новую.
— Мне казалось, это тебе от меня причитается свадебный подарок.
— Я пока не замужем, Марк Норбан.
(обратно)
Тея
— Сегодня его день рождения, — я задумчиво подложила под лицо сжатые кулаки. — Июньские иды. Ему тринадцать.
— Я собирался подарить ему меч, — глухо прозвучал в ответ голос Ария, который в этот момент стягивал через голову тунику.
— Признайся честно, Варвар, ты намеревался разжечь в нем мечты о гладиаторской славе? — поддразнила я его.
Из горловины туники показалась голова Ария.
— Тея, пойми, наш сын сам хочет стать гладиатором. Он дурак.
— Да, он дурак, — согласилась я, почесывая за ушами собачонку, свернувшуюся калачиком у меня на коленях. — В этом отношении он пошел в отца.
Арий схватил меня за талию и усадил себе на колени. Я стукнулась о его грудь. От удара собачонка свалилась на пол и возмущенно залаяла. Арий же привлек мое лицо к своему и впился мне в губы поцелуем. Мое тело тотчас превратилось в сироп.
— Ну вот, — прошептал он, отрываясь от моих губ.
Я улыбнулась, и мои ресницы слегка коснулись его щеки. В такие дни, как этот, ясные и солнечные, когда наш убогий, голый чердак нагревался солнцем, а взгляд Ария заставлял все мое естество петь, мир преображался. И хотелось верить, а не просто надеяться, что все еще может обернуться к лучшему.
— У тебя отросли волосы, — я провела пальцами от шеи к затылку, и вслед им по его коже пробежала легкая дрожь. — Хочешь, я тебя подстригу?
— Нет, с длинными волосами мне даже лучше. Так я меньше похож на прежнего Варвара.
— Знаешь, в твоем маскарадном платье у тебя вообще нет с ним ничего общего.
Когда мы с ним выходили на римские улицы, Арий надевал плотный тяжелый плащ, войлочную шляпу и один глаз прикрывал повязкой.
— Стоит мне высунуть нос на улицу без этого костюма, меня тотчас кто-нибудь узнает. И тогда мне конец.
— Дорогой, — я прикоснулась пальцем к его подбородку, чтобы он посмотрел мне в глаза. — Уверяю, тебя никто не узнал, более того, никто даже не посмотрел в твою сторону. Правда, люди наверняка задались вопросом, что это за странный человек с повязкой на одном глазу, что ходит в жару в шляпе и тяжелом плаще?
— Целых восемь лет мое лицо было самым известным в Риме, — слегка высокомерно ответил Арий.
— Но ведь тебя вот уже пять лет как нет в живых. Толпа помнит тебя смутно, как легенду. Сейчас народ сходит с ума по Турию Мурмиллону, — я протянула ему руку. — Дай мне, пожалуйста, твой нож. Я не могу спать в одной постели с твоей колючей шевелюрой.
Он опустил голову мне на колени, и я с удовольствием срезала выкрашенные в черный цвет локоны. Несколько взмахов ножа, и они уже лежали на грубом шершавом полу.
— По Турию Мурмиллону, говоришь? — неожиданно спросил он.
— О, есть еще один фракиец, который тоже пользуется любовью толпы. Я видела надпись на стене бань на Гранатовой улице. Нет такой женщины, что не вздыхала бы по фракийцу Бребиксу.
— Бребикс, — пробормотал Арий. — Мое имя красовалась на тех банях долгие годы.
Я рассмеялась. Арий повернулся ко мне лицом, и его короткая борода пощекотала мне пальцы.
— В один прекрасный день мы и ее сбреем, — сказала я. — Потому что она жутко колючая и царапает мне кожу.
— Неправда, — возразил Арий. Тогда я стащила с плеча платье и показала красный след, оставленный его щетиной. — Это я? — удивился он.
— Ладно, ничего страшного, — успокоила я его и заставила выпрямиться, чтобы подровнять затылок. — Это просто сила любви, — с улыбкой добавила я по-гречески. Мой Арий. В один прекрасный день ему больше не понадобятся ни борода, ни шляпа, ни дурацкая повязка на глазу. Мы будем с ним жить высоко в горах, где никто даже слыхом ни слыхивал ни про какого Варвара, а если и слыхивал, то ему не будет до этого дела. А наш сын никогда, даже на шаг, не подойдет к арене.
Я отступила в сторону, стряхивая с плеч Ария последние волоски. Однако он вновь притянул меня к себе и усадил на колени. Я склонила ему на плечо голову и, скользнув рукой под тунику, положила руку ему на грудь, ощущая ладонью крепкие, налитые мышцы, а под ними ровное биение сердца.
— Как ты смотришь на то, чтобы нам сходить в Колизей?
— Отличная мысль — он дотронулся губами до моего лба. — Но не для того, чтобы посмотреть игры, а чтобы взглянуть на Викса.
— Правда, мы не сможем сидеть вместе. Женщинам полагаются отдельные места.
— Ничего, ты будешь сидеть рядом со мной, — хмуро ответил Арий.
В течение двух недель мы пытались следить за нашим сыном — сливались с толпой, что следовала за императором во время его ежедневных перемещений по городу. И всякий раз у императорских ног сидела фигура в красной тунике.
— Императорская зверушка, — прозвали его римляне. В народе ходили слухи о том, что это внебрачный сын Домициана. Иначе разве сидел бы этот мальчишка на расстоянии вытянутой руки от императора? Увы, мы не могли даже мечтать о том, чтобы вырвать Викса из императорского плена, а потом бежать с ним куда глаза глядят. Как не было у нас и возможности попасть во дворец. Кто мы такие? Беглый раб и беглая рабыня. Мы не могли никого подкупить.
Даже сумей мы каким-то чудом вырвать назад Викса, куда нам бежать? Да и есть ли на свете место, куда не дотянулась бы рука Домициана?
От этих мыслей ясное утро слегка омрачилось и потускнело. Арий взял меня за руку.
— Пойдем.
Впервые с момента нашего возвращения в Рим мы направлялись в Колизей.
(обратно)
Лепида
Было противно видеть, каким восторженным ревом разразилась толпа, когда сын Теи вошел в императорскую ложу и помахал руками.
— Куда лезешь, — прошипела я ему.
— Заткнись, дура, — бросил он мне и опустился на подушку у ног императора. Пылая негодованием, я заняла место по другую сторону от Домициана. Этот мальчишка не просто ублюдок и грубиян. Его красная туника никак не сочеталась с моим розовым платьем и розовыми сапфирами в тон наряду. Я поманила к себе пару рабов с опахалами из страусовых перьев. Во время летних игр в Колизее стоит жуткая духота.
Домициан, как обычно, захватил с собой горы свитков и добрую дюжину секретарей. А вот Викс буквально пожирал глазами арену.
— Вот это да! — воскликнул он, глядя на пространство песка, раскинувшееся под императорской ложей. Обычно в присутствии императора он напоминал каменную статую. Однако сегодня сидел, разинув рот, как любой мальчишка-плебей на верхних галереях. — Получается, быть тенью императора не так уж и плохо. Один вид на арену чего стоит!
— Ты думаешь, твоя мать тоже здесь? — спросил Домициан, пробежав глазами очередной свиток, чтобы затем взяться за изучение нового.
— Откуда мне знать, — пожал плечами Викс. — Цезарь, может, лучше сыграем в кости, пока идет парад? Все равно смотреть пока нечего.
Викс сумел ловко обставить в игре императорского камергера, трибуна, парочку патрициев из рода Гракхов, и даже самого императора, пока я наконец в нужный момент не стукнула его кулаком в плечо, и его рука дрогнула.
— Мошенник! — Император схватил пару костей, выпавших из рукава Викса. — Впрочем, чего еще можно было ожидать от такого ублюдка?
Придворные обменялись недоуменными взглядами.
— А как император поступает с мошенниками? — спросила я своим самым бархатным голоском.
— Мошенников обычно бросают на растерзание львам, Лепида. Даже юных мошенников. Как бы ты отнесся к такому подарку по случаю твоего дня рождения, Верцингеторикс? — спросил Домициан. Впрочем, лицо его оставалось непроницаемым. — Исполнить парный танец со львом на арене Колизея?
— Спасибо, цезарь, я лучше без него обойдусь.
Ага, нотки неуверенности в голосе.
— Мошенник, — выразительно повторил Домициан. — Мошенник.
— Давай я покажу тебе, как нужно мошенничать! — Викс натянул налицо улыбку. — Берешь в ладонь поддельную кость, вот так… — И он ловким движением рук показал, как это делается. — Ну как, теперь понятно?
Император пару секунд молча смотрел на него, а затем тоже расплылся в улыбке.
— Покажи еще раз.
— Вот так. — Викс вложил кости в императорскую ладонь. — Нет-нет, цезарь, вот так, как я показал. И поживее, иначе ничего не получится.
Они сражались в кости все утро — и пока на арене убивали диких зверей, и пока зверям на растерзание бросали христиан. Я нахмурилась.
— А теперь гладиаторы, повелитель и бог. Твое любимое зрелище.
Домициан отодвинул кости в сторону и подался вперед. На арене в первом поединке сошлись чернокожий африканец и фракиец.
— Победит африканец, — изрек Домициан.
— Господин и бог, у тебя наметанный глаз, — негромко сказала я, и все, кто сидел в соседних ложах, поспешили поддакнуть.
— А вот и нет, — заявил Викс. — Африканец слишком неуклюжий. Ему не хватает ловкости. Вон как он зацепился за собственную сеть, когда выходил на арену. Лично я поставил бы на фракийца.
— Вот как? — удивился Домициан.
— Можно подумать, ты что-то понимаешь в гладиаторских боях! — бросила я этому мерзкому наглецу. На мои слова ни тот ни другой не обратили внимания, потому что взгляды обоих уже были прикованы к арене. На какое-то время они даже перестали быть врагами. Передо мной были даже не император и его пленник, а два заядлых любителя гладиаторских поединков.
В конечном итоге этот гаденыш казался прав: фракиец одолел африканца. Затем на арену вышли два нумидийца, а после них два галла. Последовало несколько неплохих поединков. Впрочем, особого удовольствия я не получила. Обычно я люблю решительные, энергичные схватки, но поскольку сегодня император предпочел моему обществу общество какого-то наглого мальчишки-раба, то я…
— Смотрю, у тебя острый глаз, Верцингеторикс, — вывел меня из задумчивости голос Домициана. — Откуда ты взял, что этот македонец проиграет?
— У него похмелье. Ты видел, как он избегал смотреть на свет? — ответил Викс и, засунув себе в рот очередную пригоршню фиг, принялся энергично жевать. Тем временем победители устало покидали арену через Врата Жизни. Тела проигравших уносили с арены рабы. — Обрати внимание на таких бойцов, как вон тот галл, что отрубил греку руку. Лучше злых и поджарых никого нет.
— Вот оно что! — пробормотала я. Сейчас я с ним расквитаюсь. — А откуда тебе это известно?
— От отца, — выпалил он и тотчас попал в расставленные мною сети. — Он был самый лучший. Правила его не касались. Он выходил в бой даже после похмелья и все равно…
Неожиданно он умолк.
— То есть твой отец был гладиатором? — уточнил Домициан, откидываясь на подушку. — А вот это уже нечто новенькое. Предполагаю, что твоя мать поведала тебе, что это был сам благородный Варвар. О, как это трогательно! Великий гладиатор оставляет после себя внебрачного сына!
— Эй! — огрызнулся Викс. — Варвар действительно мой отец.
Придворные захихикали.
— А что, я бы даже поверил, — шепнул кто-то. — Не будь мальчишка такой жуткий лгун!
Я тоже хихикнула этой шутке.
— Кто знает, может, он и не лгун, — произнес Домициан и поставил на место кубок. — Некое внешнее сходство есть. Я встречался с Варваром пару раз, и никогда не забуду его лицо. Мне интересно другое, где ты познакомился с ним?
— После того как я сбежал из Брундизия. Он какое-то время меня обучал, — ответил мальчишка, и я почувствовала, как он нервно поерзал на мраморной ступени.
— Теперь понятно, у кого ты научился обращаться с ножами. — Император задумчиво посмотрел на шрам на ноге. — Скажи, Верцингеторикс, ты хотел бы стать гладиатором?
— …Не-а.
— Лжешь, — мягко возразил Домициан.
— Лжец и мошенник, — я поспешила вставить слово.
— С тобой не разговаривают, дура, — огрызнулся на меня сын Варвара и, расправив плечи, смело посмотрел императору в глаза. — Да, я хочу стать гладиатором. Так же, как мой отец. Вот только мой отец ненавидел игры. Ненавидел их, зато каким бойцом был при этом! Я же буду еще лучше, потому что я их люблю! Ты сам виноват, цезарь. Мой отец — твоя вина, потому что это ты выпустил его на арену. И я тоже твоя вина, потому первый, кому я пустил кровь, — был ты!
По лицу мальчишки градом катился пот, и я чувствовала, как он дрожит всем телом, потому что от его трепетания слегка подрагивал подлокотник моего кресла. Но затем на его лице появилась эта безумная ухмылка — от уха до уха, если не длиннее. Интересно, поднимет ли на него руку Домициан, чтобы собственноручно прикончить на месте? Я очень на это надеялась — удар кинжалом в живот сослужил бы этому наглецу хорошим уроком. Впрочем, если его кровь забрызгает мне мое новое розовое платье…
Домициан метнулся к нему словно молния. Он умел быть стремительным, если хотел. Одним движением он схватил мальчишку за ворот туники и, словно тряпичную куклу, швырнул на арену.
Викс упал на раскаленный песок. Мне было слышно, как воздух с шумом вырвался из его легких. Впрочем, он тут же сел, разевая рот, точно вытащенная из воды рыба. Арена загудела словно улей.
— Верните галла! — спокойно приказал император страже. — Того самого, злобного и поджарого, который отсек греку руку.
Викс поднялся на ноги и принялся безумным взглядом озираться по сторонам. Я подалась вперед. А вот это уже нечто интересное!
Император бросил к ногам мальчишки свой собственный кинжал.
— Давай, покажи, на что ты способен, юный Арий.
— Меч! — произнес тот, поднимая глаза на императорскую ложу. — Дай мне хотя бы меч.
Домициан задумался.
— Господин и бог, — вкрадчиво сказала я. — С кинжалом куда интереснее.
— Верно, — согласился Домициан и снова откинулся на подушки.
Гул толпы перерос в оглушительный рев. Глашатай на арене перевел взгляд с Викса на императора и снова на Викса, натужно соображая, как же лучше объявить поединок, который не был предусмотрен программой.
— А теперь… а теперь еще один бой ради нашего дорогого императора! — выкрикнул он наконец, и его звенящий голос достиг даже самой верхней галереи. — Галл против… мальчика!
Хрустя подошвами сандалий по песку, галл подошел и, встав рядом с Виксом, украдкой покосился на своего противника. Заметив на лице мальчишки выражение ужаса, я хихикнула.
— И где теперь твоя прыть? — крикнула я ему вниз.
— Приветствую тебя, цезарь! — галл выбросил в салюте мускулистую руку.
Император посмотрел на Викса.
— А ты что мне скажешь, гладиатор?
Викс метнулся вперед и всадил кинжал галлу в колено.
Тот вскрикнул. Викс рванул лезвие назад и бегом бросился через всю арену.
Арию показалось, что от ужаса его вот-вот вывернет наизнанку. По спине градом катился холодный пот, в ноздри бил терпкий запах арены, смесь пота, железа, гнилого мяса, застрявшего на клыках львов, запекшейся крови. Ему казалось, что стоит только стряхнуть с себя наваждение, и окажется, что это он стоит на песке арены, в ожидании, когда противник нанесет удар.
Но это был не он.
Это был Викс.
Первый взмах меча галла просвистел над головой Викса. Мальчик испуганно попятился. Однако противник вновь двинулся на него, на этот раз целясь в грудь. Выпад, и Викс отшатнулся назад. Впрочем, острие успело взрезать на нем тунику. Тея сдавленно вскрикнула, и Арий поспешил обнять ее за плечи и как можно крепче прижал ее к себе.
Вспоминай наши упражнения, Викс, — мысленно воззвал к сыну Арий, чувствуя, как ужас сжимает железной хваткой ему сердце. Впрочем, это даже не сердце, а тяжелая глыба льда, но он не позволил ей растаять. Собрав волю в кулак, он постарался направить все свои мысли на крошечный пятачок на арене — пусть это будет их очередной урок в дальнем конце виноградника. Помни, чему я тебя учил. Новичкам здесь пощады нет. Сделав ошибку, ты уже никогда ее не исправишь.
Викс рухнул на одно колено в песок, опираясь на руку с зажатым в ней кинжалом. Галл, подволакивая раненую ногу, шагнул вперед и занес меч.
Тея простонала.
Убей его! — мысленно воззвал Арий к сыну. Нет, конечно, ему меньше всего хотелось, чтобы сын его в тринадцать лет стал убийцей. Но это был Колизей, а Колизей жил по своим правилам. Убей его Викс. Найди способ и убей.
Викс бросил в глаза галлу пригоршню песка. Тот вскрикнул и слепо попятился назад. В следующий миг Викс уже был на ногах и, нырнув противнику под щит, нанес удар.
Арий застыл на месте. Колизей ждал.
А потом из-под тела галла показалась голова Викса. Публика захлопала. Викс медленно поднялся на ноги. Колизей встретил его рукоплесканиями. Когда же Викс вытащил кинжал и дрожащей рукой лезвием стер с лица кровь, Колизей наполнился оглушительным свистом и ликующими возгласами. Ликующий гул не смолкал около получаса. На голову Викса пролился дождь из лепестков роз и мелких монет. Как когда-то на Ария.
Преторианцы вынесли Викса с арены, посадив себе на плечи, обрызгали его короткие волосы вином и принялись дружески хлопать его по спине. Викс ничего этого не замечал. Его как победителя несли к императорской ложе, он же невидящим взглядом озирался по сторонам. Арию тотчас вспомнился его собственный первый бой и его первая победа посреди оглушительного рева трибун.
Ну что, приятель, все совсем не так, как ты ожидал?
— Отдаю вам Верцингеторикса! — Император взял Викса за руку и поднял ее вверх, что тотчас вызвало у трибун новый приступ ликования. Даже трубный глас Домициана с трудом заглушил собой стоявший в Колизее шум и гам: люди топали ногами и рукоплескали — от патрицианских лож до самой верхней галереи. — Верцингеторикс, сын Варвара!
В их крохотной убогой комнатушке Тея лежала в объятиях Ария, убитая горем. Он тоже, закрыв глаза, благодарно прижался к ее напряженному, словно струна, телу. Ему никак не удавалось отогнать от себя картины, жуткие картины, от которых во рту оставался привкус золы. Он словно наяву видел, как споткнулся и пошатнулся Викс. Как он поднялся на ноги. Как бросился на противника с кинжалом в руке. Как нанес свой первый смертельный удар.
А где-то на заднем фоне этого ужаса, демон, что обитал в его сознании, неспешно, кусок за куском, терзал императора.
— Нам придется его убить. — Арий вздрогнул, услышав рядом с ухом чей-то хриплый голос. Он даже не сразу понял, что это Тея.
— Кого?
«Разумеется, императора», — проворковал в знак согласия демон.
— Он сделал это нарочно, чтобы отомстить мне, — взгляд Теи был устремлен куда-то в пространство. — Он знал, что я там буду. И он будет постоянно швырять его на арену до тех пор, пока Викс не умрет. А он умрет. Может, ты и обучал его, но ведь он все еще ребенок.
— Верно.
— И даже если мы выкрадем Викса, Домициан все равно найдет нас. Куда бы мы ни убежали.
— И это верно.
— Значит, он должен умереть. Нам ничего другого не остается.
— Его убью я, — спокойно произнес Арий. — А вы с Виксом бежите из Рима.
Он, конечно, знал, чем рискует, но иного выхода у него не было.
— Нет. — По телу Теи впервые пробежала дрожь. — Нет.
— Но…
— Я сказала, нет! — она повернулась к нему и взяла его лицо в свои ладони. — Есть один человек, которого я хорошо знаю. Мы обратимся к нему. Он что-нибудь придумает.
— Тея.
Она как можно крепче прижалась к нему, и на какое-то время разговоры в комнате смолкли.
— Что ты задумал, Павлин, — поинтересовался Марк, как только за сыном закрылась дверь библиотеки. На своих первых играх Сабина проявила редкое для ребенка самообладание, ни разу не вскрикнула и даже не поморщилась, однако по дороге домой в паланкине с ней случился припадок, и теперь Кальпурния была с ней в ее комнате. Марк бы и сам остался присмотреть за дочерью, если бы в атрий неожиданно не шагнул его сын.
— Павлин, мне казалось, ты сейчас должен быть во дворце.
— Император поручил мне вернуть Викса, — ответил Павлин, переминаясь с ноги на ногу.
— Этого мальчишку? — Марк поморщился. — Теперь в Колизее сражаются дети. О боги, до чего мы дожили!
— Не волнуйся, с мальчишкой все в порядке, — поспешил успокоить его Павлин. — Трясется от ужаса, однако из последних сил пытается не разреветься. Сказал, что убьет меня, если я попробую над ним насмехаться. Скажу честно, мне впервые в жизни было по-настоящему не до смеха.
Павлин обвел глазами бассейн в полу атрия, поднял взгляд на колонны над крышей. Марк пристально посмотрел на сына.
— Не хочешь пройти ко мне в таблинум? — предложил он.
— Хочу, — с готовностью ответил Павлин. — Мне нужно с тобой поговорить. Хотелось бы получить от тебя совет.
— В чем дело?
Павлин встал по стойке смирно. Взгляд его был прикован к стене над плечом Марка.
— Господин, — произнес он тоном легионера, обращающегося к старшему с донесением. — Я пришел к заключению, что император Домициан не годен для занимаемой им должности.
Марк растерянно заморгал, а затем опустился на ближайший стул.
— Продолжай.
— Он отправил в изгнание свою племянницу Флавию Домициллу, казнил ее мужа и их детей. Причем, сделал и то и другое без весомых на то причин, — произнес Павлин, по-прежнему глядя на каменную стену перед собой. — У меня есть основания полагать, что он повинен в издевательствах над своей любовницей Афиной и своей племянницей Юлией. Что касается Юлии, то он также казнил ее, не имея на то права. Я убежден, что наш император — чудовище.
— Что ж, возможно, — негромко согласился Марк. — Тем не менее он неплохой император, или я не прав?
— Чудовище не может быть…
— Ты не прав, Павлин, чудовище может быть неплохим императором. Возможно, личные качества Домициана и оставляют желать лучшего, однако он, все всякого сомнения, хороший администратор, тонкий юрист, талантливый полководец. Под его правлением мы наслаждаемся периодом спокойствия и процветания. Да-да, спокойствия и таких нудных вещей как сбалансированная экономика и самый низкий за всю историю уровень коррупции. — Марк покатал в ладонях перо. — Вероятно, ты слишком молод, Павлин, чтобы помнить Год четырех императоров. Однако я уверен, найдется немало тех, кто во имя стабильности предпочтет иметь на императорском троне чудовище.
— Я не принадлежу к их числу. — Павлин посмотрел отцу в глаза. — И я убежден, что Домициан должен быть устранен, — произнес он со всей серьезностью.
Марк же задался мысленным вопросом, какого количества крови стоили сердцу сына эти слова, а вслух спросил:
— Почему ты решил просить моего совета?
— Потому, что ты человек принципов. Возможно, последний в нашем государстве. И если только ты скажешь мне, что Домициану на троне не место, мне твоего слова будет достаточно.
Еще одно кровопускание из сердца, вздохнул Марк. Как хорошо, что сердце у Павлина такое большое, что иногда он может его не щадить.
Марк уже было открыл рот, чтобы что-то сказать, как дверь со стуком распахнулась и в дверном проеме возникла Кальпурния.
— Марк, Павлин, — обратилась она к отцу с сыном. — Посмотрите, кто к вам пожаловал. Это Афина, а это…
— Арий, — сказал рослый мужчина. — Вы должны знать, кто я такой.
— Кто? — вежливо переспросил Марк.
— Даже если не знаете, ничего страшного, — сказала Тея и, не сводя с Павлина глаз, пересекла комнату.
Марк посмотрел на Кальпурнию.
— Если ты не возражаешь, моя дорогая…
— Все, ухожу, — она помахала на прощанье гостям. — Что бы это ни было, меня это не касается. Пойду, успокою рабов, а то они слишком расшумелись.
С этими словами она затворила за собой дверь.
— Павлин, — Тея шагнула к сыну хозяина дома. — Нам нужна твоя помощь.
Павлин в упор посмотрел на нее.
— Ты хочешь получить назад сына.
— Да, я хочу получить назад сына. А еще я хотела бы видеть императора мертвым.
— Как и мы, — произнес Марк.
(обратно)
(обратно)
Глава 31
— Развод? — Выгнув дугой нарисованные брови, Лепида уселась на край рабочего стола Марка. — Но, Марк, зачем он мне нужен?
— По слухам, император увлечен тобой. Ведь вы с ним, если не ошибаюсь, вместе уже полгода, — пожал плечами Марк. — И я подумал, что тебе захочется стать… доступной ему во всех отношениях.
— О, мужчина лишь тогда позволяет женщине быть доступной, когда сам того захочет, — возразила Лепида, однако было видно, что она польщена. — Значит, ты слышал, что он увлечен мною?
Марк изобразил улыбку.
— Подозреваю, нос у него крепче, чем у меня, если он терпит запах этих вульгарных духов.
— Не надо выпускать когти, дорогой. Я пока еще не избавилась от тебя. Однако если Домициан и впрямь захочет сделать меня своей Императрицей…
— Если.
Лепида ощетинилась.
— А почему нет? Развелся же он со своей первой женой. Что мешает ему развестись и со второй. Неужели я не заслуживаю венка?
Марк посмотрел на супругу: стройная и грациозная, в платье из шелка цвета шафрана. На шее — ожерелье из индийского золота, почти скрывающее собой эту самую шею. Черные волосы напомажены благовониями и уложены в замысловатую прическу.
— Императрица с головы до ног, — согласился он. — Будем надеяться, он доживет до того дня, когда объявит тебя своей супругой.
— Смотрю, ты наслушался сплетен.
— Пока об этом не говорят вслух, Лепида, но до меня дошел один шепоток, а я действительно держу ухо востро. В этом ты права. Так вот. Император якобы поручил придворному астрологу предсказать ему день его смерти, и тот назвал ему дату гораздо более близкую, нежели император предполагал.
— На Несса теперь нельзя полагаться, — огрызнулась Лепида. — Домициана ничто не может убить.
— Разумеется. Хотя сама мысль, наверняка, заставляет тебя нервничать.
— Не надо меня дразнить, Марк. Если я когда-нибудь стану императрицей, — за этими словами последовал шелест шелка и позвякивание золотых браслетов, — я посажу твою голову на копье.
С этими словами Лепида гордо выплыла из таблинума. Марк улыбнулся ей вслед.
Ну вот, теперь ей есть над чем задуматься. Если Лепида начнет слишком требовательно добиваться для себя императорского венка, то не пройдет и пары недель, как она будет выкинута за пределы зачарованного круга, делающего ее неуязвимой. И если он сам прав в собственных подозрениях, и Павлин постепенно стряхивает с себя ее змеиные чары, то…
— Отец! — раздался крик, и в дверь просунулась темноволосая головка Сабины.
— Ты опять подслушивала за дверью, Вибия Сабина?
— А как еще я могу что-то узнать? — Девочка скользнула в таблинум и закрыла за собой дверь. — Отец, скажи, почему ты предложил ей развод? Ты ведь не думал, что она на него согласится?
— Неужели?
— Я ведь знаю твой голос.
Марк пристально посмотрел на дочь.
— Ты права, — ответил он, помолчав немного. — Я не думал, что она на него согласится.
Сабина сделала шаг ему навстречу.
— Я знаю, что должна чтить и уважать ее, — произнесла она и вновь на мгновенье умолкла. — Но я…
— Что — но?
— Она такая красивая. Она даже по-своему забавная, в том смысле, что за ней интересно наблюдать, как, например, за ядовитой змеей. Но она ужасна! Почему ты не развелся с ней еще год назад?
— Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы, Вибия Сабина.
— А вот и имею. Что случилось? Она угрожала тебе?
«Тебе», — едва не сорвалось с его языка. Павлин был префектом претория, лучшим другом императора, и никакая клевета, слетевшая с ядовитого языка Лепиды, надолго бы к нему не пристала. Что касается Сабины, такой защиты, как у старшего брата, у девочки не было.
— То есть ты хочешь сказать, что она угрожала мне?
Вопрос дочери не стал для Марка неожиданностью. Их с дочерью мысли часто неким мистическим образом совпадали.
— Это не должно было тебя остановить, отец.
— Нет, — улыбнулся Марк. — Но я решил, что сначала хотел бы выдать тебя замуж. Потому что замужем тебе уже не была бы страшна никакая Лепида.
— А мне пока не хочется замуж. Вместо этого я бы предпочла посмотреть мир, — решительно заявила Сабина. — Разведись с ней.
Марк посмотрел на дочь и не узнал ее. Перед ним стояла взрослая девушка почти того же роста, что и он сам. Ее волосы были уложены на затылке, как и у взрослой женщины, ее глаза буравили его совсем не детским взглядом.
— О боги! — воскликнул она. — И когда только ты успела вырасти?
— Прошу тебя, подумай над моим предложением, — произнесла Сабина умоляющим тоном.
Марк улыбнулся и погладил ей волосы.
— Ну хорошо, уговорила. Я подумаю. А теперь как насчет того, чтобы меня обнять? Или ты уже слишком взрослая для таких нежностей?
Сабина прильнула темноволосой головкой к его кривому плечу.
— Неправда.
(обратно)
Тея
На какой-то момент я разинула рот, словно какая-то сельская дурочка.
— Афина… — В таблинум царственной походкой вошла сама римская императрица и, подойдя ближе, протянула мне руку, как будто мы с ней были старыми подругами. — Я рада тебя видеть, моя дорогая. А это, как я понимаю, знаменитый Арий? Я видела тебя на арене не раз, и неизменно с огромным удовольствием. Павлин, у тебя сегодня какой-то нездоровый вид. Ты, случайно, не болен? Мой супруг уже начал волноваться. Марк, мы все в сборе?
Таких длинных речей я не слышала от нее ни разу за эти годы.
— Тогда займемся тем, ради чего мы здесь, — с этими словами императрица расположилась на мягком табурете. — Официально я сейчас обедаю с моей сестрой Корнелией и ее супругом, поэтому в моем распоряжении всего несколько часов. Домициан по-прежнему зорко следит за тем, куда я ухожу и насколько покидаю дворец.
Я захлопнула рот. Выходит, она тоже заговорщица? Эта холодная мраморная статуя, увешанная изумрудами, законная супруга Домициана? Ну кто бы мог подумать!
У Павлина был такой вид, будто ему только что заехали кулаком между глаз. Арий растерянно переводил глаза с императрицы на меня и снова на нее, как будто нас сравнивал. Марк же просто поцеловал ее в щеку как старую знакомую.
— Обычные меры предосторожности? — спросила императрица.
— Обычные. Для всех я обедаю с достопочтенной Дианой и ее семейством. Мы с ней дружны вот уже много лет, поэтому вряд ли на этот счет возникнут сомнения.
— Верно. Диана при необходимости подтвердит твои слова, — императрица обвела взглядом собравшихся. — Скажи, Марк, им можно доверять?
— А тебе? — задала я встречный вопрос. — Можно ли доверять тебе, госпожа?
Марк начал свою речь, торжественно и официально, как будто выступал перед Сенатом.
— Тея, мы уже давно работаем вместе с императрицей, с момента казни Юлии.
— Тогда почему же император все еще жив? — спросил Арий. Он стоял неподвижно, скрестив на груди руки. — Если я считаю, что кто-то достоин смерти, мне незачем ждать полгода…
— Ты сначала выслушай, — перебил его Павлин.
— Ничего страшного. Пусть спрашивает, — возразил Марк, глядя на моего возлюбленного. — Нам с императрицей понадобилось какое-то время, чтобы присмотреться друг к другу. Ибо ни она, ни я не отличаемся особой доверчивостью.
— В иных обстоятельствах я предпочла бы действовать одна, — произнесла императрица невозмутимым патрицианским голосом. — Однако вскоре мне стало понятно, что только своими силами мне Домициана не свергнуть. — Императрица задумчиво посмотрела в мою сторону. — Между прочим, я давно подумывала о том, чтобы переманить тебя на мою сторону, однако я не была уверена, хватит ли тебе храбрости, после всего того, что сделал с тобой Домициан. У него есть привычка лишать своих женщин последних остатков самоуважения и воли, превращать их в безропотные, безвольные существа.
Похоже, с ней ему это не удалось.
Императрица обвела взглядом наш небольшой кружок.
— Ну как, у вас еще есть ко мне вопросы?
Павлин задумчиво пригладил волосы.
— Прежде чем мы продолжим наш разговор, — произнес он довольно мрачно, — я бы хотел вас заранее предупредить. Я не стану этого делать сам. Я сделаю все для того, чтобы проложить вам путь к вашей цели, но сам делать этого не стану, будь то яд или нож, — он отвел в сторону взгляд. — Все-таки я ему многим обязан.
— Мы ничего подобного от тебя не просим, — спокойно ответила императрица.
На лице Ария читалось презрение, и я легонько поддала ему локтем в бок. Он вообще не питал теплых чувств к Павлину, зная, что однажды я побывала у этого красавчика в постели.
— То было в другой жизни, — успокоила я его, когда он спросил меня, с кем я делила без него постель. — Я почти ничего не помню.
— Не знал, что у тебя такой дурной вкус, — буркнул тогда Арий.
— Скажи, а твоя постель всегда была пуста все эти годы? — спросила я, желая его поддеть. Вместо ответа он поспешил перевести разговор на другую тему.
И вот сейчас мы, чувствуя себя крайне неловко, сели кружком, чтобы спланировать смерть императора. Вернее, неловко себя чувствовали лишь я, Павлин и Арий. Что касается Марка и императрицы, то эти двое держались непринужденно, как будто разговор шел о чем-то приятном. И оба тотчас обратились к Арию.
— Если выбирать из нас убийцу, то выбор может пасть только на тебя, — произнес
Марк. — Ты готов взять на себя эту роль?
— Только дайте мне нож, — не дрогнувшим голосом ответил Арий. У меня же внутри все сжалось.
— Такой прирежет кого угодно! — воскликнул Павлин.
Арий расплылся в улыбке. Императрица пристально посмотрела на него. Она явно его оценивала.
— Ты был лучшим гладиатором Рима, но ты уже далеко не молод. Ты уверен, что по-прежнему лучший?
В ответ Арий одарил ее высокомерным взглядом.
— По-прежнему, — ответила за него я. — Да, он уже несколько лет не выходил на арену, но не утратил ни силы, ни ловкости. — «Может даже, приобрел еще большую», — добавила я про себя, хотя вслух говорить не стала. — Потому что сейчас ему есть, ради чего жить».
— Сделать это будет нелегко, — продолжала тем временем императрица. — Возможно, мой муж и производит впечатление человека ленивого и изнеженного роскошью, однако он по-прежнему крепок телом и силен.
— И всегда держит под подушкой кинжал, — добавила я.
Арий пригвоздил меня взглядом.
— Да, представьте себе.
— Вот как? — удивилась императрица. — Это что-то новое. В мои дни за Домицианом такого не водилось. Кстати, дорогая, не могу удержаться от вопроса, а почему ты не заколола его, пока он спал?
— Потому что собственная жизнь была мне дороже, — ответила я. — Почему ты не заколола его, пока он спал? Ведь у тебя было не меньше возможностей сделать это! — воскликнула я и обвела глазами наш тесный кружок. — Лишить жизни императора может любой. Куда труднее потом остаться жить самому, чтобы рассказать, как все было. И если Арий должен нанести Домициану смертельный удар, то у вас должен быть план, как сделать так, чтобы он сам после этого остался жить.
— Он останется жить. — Императрица достала небольшой свиток и ровным, бесстрастным тоном изложила план, который они составили вместе с Марком. — Павлин, надеюсь, ты сможешь взять стражу на себя.
— Да, но… — Павлин посмотрел на отца. — Мне это не нравится. Вы доверяете судьбу Рима этому… преступнику.
В ответ на его слова Арий лишь пожал плечами. Для меня же они стали сродни пощечине.
— Он не преступник.
— Но и образцовым гражданином его тоже назвать нельзя, — негромко заметила императрица, и в ее глазах промелькнул веселый блеск. Ну кто бы мог подумать! У этой мраморной статуи, оказывается, есть чувство юмора.
— Павлин, — обратился к сыну Марк нравоучительным тоном. — Убить человека не самое приятное в этом мире дело. И ты знал, на что идешь, когда согласился вступить в наши ряды. Так теперь ты не имеешь права морщить нос по поводу инструментов и методов. Достойного способа осуществить то, к чему мы стремимся, не существует.
— Но ведь он…
— Он обладает нужными нам талантами. Так же, как и ты. Ты готов внести свою лепту?
Молчание.
— Да, — нехотя произнес Павлин.
— Ну вот и отлично, — подвел итог Марк. — В таком случае, у нас уже есть цепочка из двух человек.
Арий и Павлин обменялись довольно кислыми взглядами. Я предпочла опустить глаза. Меня не слишком прельщала перспектива сидеть дома и тупо ждать, вернется ли мой возлюбленный ко мне живым. Я была сыта по горло такого рода ожиданиями. Так что в этот раз лично я предпочла бы стать очередным звеном в их цепочке.
В следующий момент Арий заговорил, обращаясь к Марку поверх головы Павлина.
— Кстати, я хотел бы услышать еще кое-что. Чем ты докажешь, что тебе можно доверять?
Павлин растерянно заморгал. В отличие от него и Марк, и императрица являли собой спокойствие и невозмутимость.
— Для вас, патрициев, жизнь простого человека не стоит и ломаного гроша. Вы привыкли жертвовать нами ради своих целей, — бросил им Арий. — Что вам жизнь бывшего гладиатора? Что вам жизнь бедной еврейки-рабыни? Кто поручится, что вы не бросите нас на растерзание львам, как только мы сделаем для вас это грязное дело?
— Послушай, ты… — перебил его Павлин, но Марк пригрозил сыну пальцем.
— Как мы докажем вам, что нам можно доверять? — переспросил он у Ария. — Никак. Но другого способа вернуть сына у вас нет.
И вновь молчание. Я посмотрела на императрицу. Та в свою очередь посмотрела на меня. Арий посмотрел на Марка, Марк на него, Павлин хмурым взглядом на них обоих.
Возникшую паузу нарушила императрица: шурша зеленым шелком, она потянулась за кубком.
— Выходит, мы просто все должны довериться друг другу, Афина, — сказала она. — Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Тея?
— Верно, — ответила я. — И как скоро вы сумеете провести Ария во дворец?
— О, нескоро, — прозвучало в ответ. — Нам придется дождаться сентября.
— Сентября?! — воскликнули мы с Арием в один голос. Но ведь до сентября еще ждать несколько месяцев, а уже в ближайшие несколько недель Викс снова должен был выйти на арену Колизея. Его портреты — с мечом и в шлеме — уже были развешаны по всему городу. Я своими глазами видела сделанную мелом надпись на дверях какой-то школы: «Юный Варвар Верцингеторикс, ты заставляешь быстрее биться сердца юных девушек!» — Чем раньше умрет это чудовище Домициан, тем лучше!
— Пока об этом говорят лишь шепотом, — ответила императрица, — но мой муж поручил Нессу вычислить дату его смерти. Если верить звездам и нашему астрологу, Домициан умрет восемнадцатого сентября, в пятом часу вечера. Пока этот день и час не минуют, его будет невозможно застать врасплох. Удар мы нанесем на следующий день, когда он будет праздновать ошибку звезд. Ибо в этот день он будет чувствовать себя непобедимым!
— Ты хочешь сказать, что нам ждать еще целых три месяца? — в ужасе воскликнула я. — Но моего сына к этому времени уже может не быть в живых!
— Не переживай, лично я за него спокойна, — ответила императрица. — Пусть твой сын сущее исчадие, но императора его общество забавляет. А пока мальчишка ему не наскучил, его жизнь я тебе обещаю.
— Пойми одну вещь, — произнес Арий, крепко сжав руки, отчего они казались вырезанными из куска дерева. — Хорошо, мы подождем. Но если только наш сын погибнет на арене, вслед за ним умрет и Домициан. В тот же самый день. В тот же самый час. И пусть все ваши планы идут в преисподнюю!
Императрица задумчиво посмотрела в его сторону.
— Скажи, Варвар, ты обучал своего сына боевому искусству?
— Обучал.
— В таком случае у меня есть все основания полагать, что арена ему не страшна. Он выйдет с нее победителем.
Я отвернулась. Рука Ария нащупала мою ладонь и поглотила ее.
— Думаю, на сегодня мы обговорили все, — императрица потянулась за плащом. — Думаю, мне пора назад во дворец. Стоит мне опоздать хотя бы на минуту, как Домициан отправит стражников в дом моей сестры. Нет, конечно, она пойдет ради меня на любую ложь, хотя терпеть меня не может. Чего нельзя сказать о ее муженьке. Вот кто не смог бы солгать даже ради спасения собственной шкуры.
Все остальные молча поднялись с мест. Павлин встал, вертя в руках преторианский шлем. Было видно, что ему не по себе от наших разговоров. Императрица на прощание удостоила всех кивком и села в паланкин. С непробиваемым спокойствием человека, который привык заметать следы, Марк взялся убирать кубки, подушки и поставленные кружком табуреты. Не проронив ни слова, мы с Арием выскользнули на темную улицу через черный вход.
— Поздравляю, — сказала я, когда мы наконец оказались одни. — Из гладиаторов — в наемные убийцы. Надеюсь, жизнь нашего сына того стоит.
— С ним все будет в порядке, Тея, — ответил Арий, беря меня за руку. — Вот увидишь.
(обратно)
(обратно)
Глава 32
Лепида
— Что ты хочешь сказать, он не может меня принять? — я свысока посмотрела на императорского вольноотпущенника, однако тот даже не думал потупить взор.
— В настоящий момент император занят делами, госпожа.
— Тем не менее он меня примет. — Я гордо расправила плечи под шелковыми складками платья, дабы напомнить этому чурбану, кем я являюсь для господина и бога Рима.
— Он велел передать тебе, чтобы ты ждала со всеми остальными.
Внутри меня все кипело, но мне ничего не оставалось, как ждать.
Подобно рабыне, ждать за дверью в мраморном вестибюле, вместе с остальными просителями, слугами, придворными, которые собрались здесь в надежде, что им удастся урвать крохи императорской милости. Ждать, страдая от любопытных взглядов и перешептываний всех тех, кто униженно пресмыкался передо мной, хотя в душе молился богов о моем скорейшем падении.
Наконец массивная дверь распахнулась, и из нее в вестибюль вышел — нет, отнюдь не мой царственный возлюбленный. Из императорских покоев показалась особа с золотыми волосами и самодовольной улыбкой — Аврелия Руфина, супруга сенатора и скандально известная красавица. Обмахиваясь веером, эта семнадцатилетняя красотка неспешно выплыла в вестибюль и, проходя мимо, одарила меня насмешливым взглядом.
Изобразив улыбку, я, прежде чем кто-то мог мне помешать, решительно распахнула двери императорского таблинума.
— А, Лепида Поллия, — Домициан едва удостоил меня взглядом, продолжая воодушевленно сочинять постскриптум к какому-то письму. Рядом с ним с табличкой в руках застыл секретарь, еще один принес ему свежих перьев, двое придворных уже торопились к нему с ворохом новых свитков, а чуть в сторонке, переминаясь с ноги на ногу, какой-то центурион ждал с докладом. — Я ожидал, что увижу тебя.
— Как я могла оставаться в своих покоях, зная, что ты ждешь меня, господин и бог. — Я сделала все для того, чтобы улыбка не соскользнула с моего лица. Я ничуть не сомневалась, что он испытывает меня. Ему, наверняка, хотелось проверить, как я отреагирую на его новое увлечение. — Может, тебе лучше отослать всех этих секретарей. Мне почему-то кажется, что на сегодня ты уже поработал больше чем достаточно?
— Я занят, — буркнул он, запечатывая пакет с письмами, который затем швырнул рабу.
Я провела пальцем по его руке.
— В таком случае, увидимся завтра утром на играх.
Предполагалось, что я буду сидеть в императорской ложе во время так называемых Ludi Saeculares, самых главных игр года. По такому поводу я уже обзавелась новым огненно-алым платьем, в тон ожерелью из огненных опалов, которое Домициан подарил мне в прошлом месяце.
— Думаю, что во время игр ты мне не понадобишься, — с этими словами император щелкнул пальцами. В следующий миг ко мне подскочил какой-то вольноотпущенник и, что-то нашептывая мне на ухо, вывел за дверь. Ко мне тут же подлетели несколько просителей, с поклонами и какими-то просьбами и еще пара придворных с медоточивыми языками и завистливыми взглядами. Вокруг меня столпилась горстка придворных. Однако куда больше их толпилось в стороне, вокруг этой гадкой девчонки, этой семнадцатилетней нахалки Аврелии Руфины.
— Ну что, небось не ожидала? — раздался рядом со мной голос этого мерзкого отродья, сына Теи. — Не ожидала, что так быстро надоешь императору? Говорил я тебе, что не жди ничего хорошего.
— Заткнись, — прошипела я. — Заткнись, тебе самому осталось недолго жить. Погибнешь на арене, как и твой отец. То же мне, прорицатель нашелся.
Я собрала в кулак остатки воли, чтобы удержать на месте холодную улыбку.
— Что ж, может, и погибну, — комично потирая лицо, он отбежал на пару шагов в сторону. — Но мертвых гладиаторов не забывают — они уходят, как герои. А вот как уходят старые шлюхи, вроде тебя?
— Ты еще не гладиатор, ты просто наглый крысенок! — я попыталась было поймать его, но он ловко вывернулся из моих пальцев. — В прошлый раз ты победил лишь потому, что швырнул галлу в глаза песком. Может, твой отец и был храбрецом, но ты трусливая рабская душонка!
Этот гаденыш лишь показал мне неприличный жест и убежал прочь. И откуда только такие берутся? Я убрала со лба локон, а заодно и хмурое выражение. Пусть этот мерзкий мальчишка говорит что хочет! Не может такого быть, что я потеряла своего императора! Скажем так, у него очередное мимолетное увлечение, и когда эта Руфина ему надоест, он вновь вернется ко мне. В конце концов, ведь так уже было. Хитрость в том, чтобы не показывать своих переживаний.
С такими мыслями я на следующее утро оправилась на игры. На любой взгляд, обращенный в мою сторону, я отвечала щедрой улыбкой. Мое огненно-алое платье и такие же огненные опалы оставили равнодушным лишь Марка. Я вошла в нашу семейную ложу об руку с законным супругом, чем вынудила Кальпурнию уступить мне мое законное место. Между прочим, резонный вопрос: с какой стати эта корова в коричневом шелке до сих пор у нас постоянная гостья? Ведь после казни весталки Павлин, хотя и довольно неохотно, попросил Домициана разрешить ему расторгнуть помолвку.
— Даже не думай! — отрезал тогда Домициан, и этим дело кончилось. Но неужели этой тупоголовой дуре непонятно, что здесь ей не рады? Я оттолкнула ее от Марка, а мой смех заглушил собой ее смешки над нудными шутками моего супруга. Нет, если кто-то рассчитывает увидеть на моем лице хотя бы тень тревоги, он этого не дождется!
— Не кажется ли тебе, что ты слегка переигрываешь? — шепотом спросил у меня муж.
— Ну-ка живо улыбнись и поцелуй меня в щечку, — приказала я из-за своего веера, когда мы заняли свои места. — Если ты знаешь, что тебе на пользу. Ой, взгляни, уже начался парад! — И я устремила нетерпеливый взгляд на арену, игнорируя Марка с его ехидной улыбкой, игнорируя дочь, которая демонстративно отстранилась от меня, и в особенности, игнорируя брошенные в мою сторону взгляды, когда в императорской ложе появился сам Домициан. Из-за чего мне было переживать, если я самая красивая, самая соблазнительная женщина во всем Риме? И никакая белобрысая девчонка мне не соперница, будь она хоть трижды красавица! Вот увидите, уже к концу недели Домициан вновь призовет меня на свое ложе.
Я посмотрела схватки диких зверей, которыми открылись игры, несколько комических номеров, сделала вид, будто любуюсь белыми быками, что прошествовали мимо трибун, увешанные гирляндами цветов. Я протянула руку, чтобы наполнить вином кубок, и встретилась глазами с Павлином. Надо сказать, что в эти дни вид у него был на редкость цветущий. Он даже стал чаше улыбаться. По всей видимости, начал потихоньку забывать эту свою зазнобу-весталку. Павлин и весталка! Как это, однако на него похоже!
Его приятель — не то Майян, не то Траян, вечный гость в нашей ложе после того как Марк узнал, что он приходится нам каким-то дальним родственником, — наклонился к нему и легонько поддел локтем в бок, и Павлин был вынужден отвернуться к своей так называемой нареченной.
— Скажи, Кальпурния, тебе понравился парад?
— О да, он был превосходен!
— Последнее время я тебя почти не видел. Вечные дела, как ты понимаешь. Скажи, как ты смотришь на то, чтобы на следующей неделе составить мне компанию. Я приглашен на императорский пир.
— Боюсь, когда я получила приглашение во дворец в первый раз, то попала не на пир, а на оргию, — без всяких экивоков заявила Кальпурния. — А когда попала туда во второй, то стала свидетельницей покушения на жизнь, ареста и убийства. Не думаю, чтобы мне хотелось искушать судьбу в третий раз.
Павлин не смог сдержать белозубой улыбки, которая показалась мне особенно привлекательной на его загорелом лице.
— Сказать по правде, я хорошо тебя понимаю.
— Я недавно посетила двух авгуров, Павлин, — продолжала тем временем Кальпурния. — Относительно даты нашего бракосочетания.
— Вот как? — выгнул бровь Павлин.
— Судя по их ответам, в ближайшие несколько месяцев не предвидится ни одного благоприятного дня.
— Понятно.
И они, обменявшись понимающим взглядом, вновь переключили свое внимание — он на Траяна, она — на Марка. Я одарила Павлина обезоруживающей улыбкой. Раньше этот прием действовал безотказно, Павлин тотчас превращался в податливый воск. Но на этот раз он лишь ответил мне кивком и отвернулся. Все понятно: строит из себя хладнокровного мужчину в присутствии невесты и друга. Посмотрим-посмотрим, куда денется твое хладнокровие, когда ты останешься со мной наедине. Действительно, если Домициан завел небольшое развлечение на стороне, почему я не могу позволить себе то же самое?
Тем временем кровопролитие на арене шло своим обычным ходом, после чего через Врата Жизни прошествовали гладиаторы в пурпурных плащах, и состоялась жеребьевка для предварительных боев. Моя дочь подалась вперед, пожирая глазами мускулистые фигуры в боевых доспехах. Я бросила в ее сторону раздраженный взгляд.
— С каких это пор наша пай-девочка стала поклонницей гладиаторов?
— Никакая я не поклонница, — ответила она, не отрывая глаз от арены. — Помнится, когда я ходила на игры в прошлый раз, все было просто ужасно. Но сегодня очень даже интересно.
— Признайся лучше, что ты влюбилась вон в того, что с трезубцем, — сказала я, отгоняя от кубка с вином муху.
— Неправда. Дело в другом. Считается, что гладиаторов в первую очередь должно заботить, как им умереть с честью, но на самом деле они делают все для того, чтобы остаться в живых. — Взгляд ее заскользил от арены вверх, к галереям Колизея, с которых доносились приветственные возгласы и плебеев, и патрициев. — А вот люди этого почему-то не понимают.
— А может, все дело в юном Варваре? Это он заставляет учащенно биться твое сердце? — улыбнулась я. — Ну и вкус у тебя, Сабина. Даже уродливая девчонка, у которой бывают припадки, должна мечтать о чем-то большем!
— Если хочешь, Сабина, я могу поменяться с тобой местами, — вмешался в наш разговор Марк. — Отсюда видно гораздо лучше.
И они поменялись местами, в результате чего Сабина переместилась по другую руку от Марка и оказалась рядом с Кальпурнией. Она тотчас подалась вперед, и мой муж смог вступить в очередную занудную беседу с нашей будущей снохой. Павлин же слушал разглагольствования Траяна о том, каким образом поднять боевой дух легионов. Внизу на арене, сражаясь на деревянных мечах, разминались гладиаторы, а толпа подбадривала их веселыми криками.
— Марк, — обратилась я к мужу, — налей мне еще вина.
— Разумеется, дорогая.
Он наклонился, чтобы наполнить мне кубок, я же устремила взгляд на арену. Император уже дал сигнал, и гладиаторы с ревом набросились друг на друга. Наконец-то хотя бы что-то интересное. Ничто так не проясняет голову, как вид льющейся рекой крови.
— Кстати, — раздался рядом со мной голос Марка, когда сам он протянул мне кубок. — Я с тобой развожусь.
— Что-что? — не поняла я, отрывая глаза от пары египтян, сцепившихся из-за трезубца.
Голос его звучал отчетливо и спокойно, заглушая даже крики из соседних лож.
— Я с тобой развожусь.
Кальпурния посмотрела в нашу сторону.
— ЧТО?
Сабина тоже оторвала взгляд от арены, на которой какой-то галл разрубил колено какому-то нумидийцу, и теперь тот истошно вопил от боли.
— Я бы не советовала тебе так шутить, Марк, — сказала я и гордо вскинула голову. — Можно подумать, ты не знаешь, что сделает с тобой император, стоит мне шепнуть ему на ушко.
— Мне почему-то кажется, что теперь ему шепчет на ушко кто-то другой, а не ты. — Марк мотнул головой в сторону императорской ложи. Император удалился на вторую половину дня, зато на подлокотнике императорского кресла по-прежнему располагалась женская фигура в розовом шелковом платье, которая какое-то время назад неторопливо вернулась в ложу. Женская фигура с золотистыми волосами.
— Аврелия Руфина? Подумаешь, временное увлечение! Если кто нужен Домициану, то только я!
— Боюсь, Лепида, с тобой у него все кончено. Я принял такое же решение. — Марк посмотрел на меня так, как обычно смотрел на своих противников в Сенате во время дебатов по поводу прав на воду. — И я развожусь с тобой, разумеется, на законных основаниях. Сделать это будет просто. И я даю тебе день на то, чтобы ты забрала из моего дома все, что тебе принадлежит.
Я решила не развивать тему императора дальше. В конце концов, что знает Марк о Домициане? Ничего. И этим все сказано. Однако за первой атакой последовала другая, и я поспешила выпустить когти.
— Дело даже не в императоре, Марк! Надеюсь, ты понимаешь, что я сделаю с тобой, если ты со мной разведешься! Твой дорогой Павлин…
— Кстати, — перебил меня Марк. — Я выдвину против тебя обвинения в супружеской неверности. В течение шестидесяти дней, которые требует закон, я представлю в суд все собранные мною улики и доказательства, — он с искренней улыбкой посмотрел на меня. — Да-да, Лепида, мое терпение иссякло.
Я несколько мгновений смотрела на него, не зная, что на это сказать.
В глазах Кальпурнии вспыхнул злорадный огонек. Сабина отвернулась от отца, чтобы посмотреть на меня, а затем снова отвела взгляд. На арену, увертываясь от сражающихся гладиаторов, выбежали рабы, чтобы унести тела погибших.
— Кальпурния, дорогая моя, — сказала я как можно громче. — Ты не хочешь услышать кое-что о своем дорогом Павлине? Он овладел мною в мою бытность юной женой, а его отец и твой будущий свекр посмотрел на это сквозь пальцы. Сабина его ребенок, а вовсе не Марка, и я намерена подать в суд на Павлина за изнасилование. Что ты скажешь по этому поводу?
— Скажу, что ты лжешь, — спокойно отреагировала Кальпурния.
Марк в знак благодарности положил руку на ее квадратные крестьянские пальцы.
— Отличный ход, Лепида, — произнес он. — Возможно, эта история и сработала бы восемь лет назад. Но вытаскивать ее сейчас, значит, выставить себя на посмешище. Люди начнут задаваться вопросом, что заставило тебя ждать так долго. К тому же, я бы советовал тебе принять во внимание твою репутацию, которая за эти восемь лет никак не могла остаться незапятнанной. Неужели тебе хочется, что все твои секреты, которыми до отказа набит твой сундук, вдруг стали всеобщим достоянием?
— Ты… ты не посмеешь!
— В двадцать один год, — Кальпурния, будь добра, прикрой уши моей дочери, — интрижка с моим сыном. Затем — по моим последним данным — через тебя прошли двадцать два сенатора, девять преторов, трое судей и пять губернаторов провинций.
— Неправда, я никогда…
— Но, по крайней мере, они были людьми нашего сословия, — перебил меня Марк. — А как насчет колесничих, массажистов в банях, легионеров — особенно тех двух братьев из Галлии, которые взяли тебя одновременно, один спереди, другой сзади? — Марк вопросительно выгнул брови, а за его спиной гладиатор с трезубцем получил смертельный удар мечом в живот. — Одно дело, губернаторы и члены Сената, но всякое отребье…
Губы мои сделались сухими, как пергамент.
— Откуда ты мог узнать… ты ведь ни разу не оторвал глаз от своих свитков…
— О, мне много видно поверх моих свитков! В течение многих лет я собирал улики, и теперь у меня есть документы, свидетели, рабы, которые при необходимости дадут показания — я бы даже сказал, что они сделают это с удовольствием. Мне не придется даже прибегать ни к нажиму, ни к запугиванию. А еще Лепида, ты была жестокой любовницей, и кое-кто из твоих бывших любовников готов также выступить в роли свидетелей. Например, Юний Клодий, как только я предложил оплатить его долги.
— И какой тебе прок от их показаний? — спросила я в лоб моего мужа. — Неужели ты хочешь войти в историю как сенатор, чья жена переспала со всеми мужчинами Рима?
— Ну думаю, в историю я войду совсем по другим причинам. А вот как потом будешь смотреть людям в глаза ты?
Сабина, хихикая, убрала от ушей руки Кальпурнии.
— Ты! — набросилась я на нее. — Если ты думаешь, что любой захочет взять кукушкину дочь, то жестоко ошибаешься. Как только твой отец очернит меня в глазах всего Рима, во всей империи не найдется идиота, который бы согласился…
— Согласно закону, — перебил меня Марк, словно выступал в Сенате, — в случае, если супружеская неверность однозначно доказана, муж имеет право оставить себе приданое бывшей жены. Так что каждый золотой твоего приданого достанется Сабине. По-моему, такого количества золота ей хватит, чтобы поймать в свои сети любого, кто ей приглянется. Не говоря о том, что и без этих денег она уже завидная партия для любого мужчины.
— Все равно последнее слово останется за мной, — прошипела я. — Или ты забыл, что в судах заседают мужчины? Они быстро займут мою сторону.
— Что ж, я готов рискнуть.
Они сидели передо мной этаким триумвиратом — Марк в центре, с одной стороны Сабина, с другой — Кальпурния, а за их спинами тем временем на песок натекли океаны крови. Гладиаторское представление подходило к концу. Запыхавшиеся победители поднимали руки, побежденных граблями убирали с арены, чтобы пустить на корм львам. Гладиаторы покидали арену. Покидала ее и я.
Как же так получилось, что все зашло так далеко? Кем же я теперь буду? Разведенной женой, готовой выскочить замуж за первого встречного? Я обвела глазами ложу в поисках оружия — любого оружия, и тут мое внимание привлек смех. Это смеялись Траян и Павлин, сидевшие позади меня.
— А как же твой сын, Марк? Ты подумал о том, чью сторону он займет? Спешу напомнить тебе, что он в меня влюблен. Если я захочу, он по первому моему зову будет валяться у моих ног, как пес, и если ты считаешь, что он поддержит тебя…
— В таком случае, почему бы тебе самой не спросить его мнения. Эй, Павлин! — Не успела я открыть рот, как Марк через мое плечо позвал сына, который в этот момент был занят тем, что бросал монеты торжествующему германцу в волчьей шкуре. — Павлин! Я развожусь с твоей мачехой! У тебя есть на этот счет возражения?
Павлин ответил не сразу. Сначала он пробежал глазами по моим голым рукам и соблазнительным плечам, по телу, которое он когда-то с усердием прилежного раба обслуживал.
— Никаких, — ответил он ледяным тоном, так что мне показалось, будто меня обдало порывом северного ветра.
— Павлин, — я нарочно пригнулась ниже, чтобы он смог заглянуть за вырез моего платья. — Павлин, он задумал отомстить мне, он хочет выставить меня на всеобщее посмешище. И я рассчитываю на тебя…
Но Павлин повернулся ко мне спиной. Да-да, не сказав ни слова, просто взял и повернулся спиной, и продолжил разговор со слегка озадаченным Траяном. — Да-да, ты прав насчет подготовки легионеров. Мы слишком сосредоточены на дисциплине…
Нет, это какое-то наваждение. Не может быть, что это происходит со мной.
— Лепида, — вновь услышала я голос Марка.
НЕТ. НЕТ. НЕТ.
— Лепида, я не буду лишать тебя абсолютно всего. Если только ты пообещаешь мне, что не станешь отыгрываться на Павлине и Сабине, я так и быть, оставлю тебе твое приданое.
Мое приданое? Зачем мне деньги, если у меня не будет мужа? Римская женщина, если она не замужем, ничто. Даже если Марк и не очернит меня в суде, какой патриций захочет взять меня в жены после того как Марк столь бесцеремонно разведется со мной? Тем более если Домициан действительно меня бросил?
Меня начала бить дрожь.
Марк же повернулся к Кальпурнии и принялся как ни в чем не бывало обсуждать с ней сенатские дебаты. Сабина прильнула к мраморной балюстраде, глядя, как рабы засыпают чистым песком лужи крови. Павлин увлеченно обсуждал с Траяном тонкости подготовки легионеров. В императорской ложе Аврелия Руфина соскользнула с подлокотника кресла Домициану на колени.
Разведена. Я разведена. Теперь я уже не достопочтенная римская матрона Лепида Поллия, не супруга сенатора и не возлюбленная самого императора, а просто обыкновенная Лепида Поллия.
Краем уха я услышала рев трибун и перевела взгляд вверх, на императорскую ложу. Домициан только что дал сигнал к началу нового поединка — ретиарий с трезубцем против закованного в доспехи галла с мечом.
Нет, не может быть, чтобы я ему так быстро надоела. Такого просто не может быть! Тея продержалась при нем почти пять лет! Я же царила над Римом всего каких-то жалких семь месяцев.
Ретиарий с трезубцем погиб быстро. Трибуны ревели, требуя нового поединка. На арену должны были выйти юный Варвар и знаменитый боец-сириец. На несколько мгновений мое сердце исполнилось надеждой: этот жуткий гаденыш, сын Теи, наконец-то умрет в муках, когда сириец выпустит ему кишки. Немного взбодрившись, я взялась составлять план, каким образом мне во время следующего перерыва вышвырнуть из императорской ложи эту глупенькую куколку Аврелию.
А также, каким образом Марк и Павлин мне за все заплатят.
(обратно)
Тея
Виксу дали старые доспехи его отца, слегка подогнав их под его рост. Кольчужный рукав, шлем с голубым опереньем, поножи. Слегка затемненное шлемом, его лицо казалось вырезанным из камня. В противники ему дали огромного сирийца, и мое сердце тотчас сжалось от ужаса. Мне всегда казалось, что Викс слишком высок для своего возраста, однако я заблуждалась. Рядом с сирийцем он показался мне сущим карликом, когда они, бок о бок, встали перед императором, чтобы поклониться ему.
Мне понадобился всего миг на то, чтобы понять: ужас владеет не только мною, Викс из последних сил пытается не показать свой собственный.
Сириец замахнулся мечом. Клинки противников встретились, и над ареной пронесся звон стали. Затем Викс убрал руку и сделал шаг назад. Сириец двинулся на него. Но уже в следующее мгновение мой сын выбросил руку, и сириец был вынужден парировать удар.
— Этот сириец ни разу раньше не сражался с левшой, — произнес Арий с хмурым лицом. Таким насупленным я не видела его даже во время его собственных поединков. Впрочем, голос его звучал довольно спокойно. — Викс, наверняка, попытается воспользоваться этим преимуществом.
Сойтись, пригнуться, отойти. Сойтись, пригнуться, отойти. Разумно, подумала я, пытаясь дышать полной грудью. Никогда не лезь первым на более сильного противника. Лучше выжди подходящий момент. Казалось, мой сын услышал меня: он, словно хищник, медленно ходил вокруг сирийца кругами, как будто в целом мире ему было некуда спешить. Грудь его была красной от загара, а под тяжелым шлемом глаза казались темными щелками.
Сойтись, пригнуться, отступить. Сириец, потеряв терпение, устремился вперед. Первые два удара Викс парировал, от третьего увернулся, и затем бросился наутек, только пятки сверкали по светлому песку арены. По Колизею пробежала волна смешков. Сириец остановился, принял угрожающую позу, и Викс был вынужден снова следовать изобретенной им же самим схеме: сойтись, пригнуться, отступить.
— Молодец, — пробормотал Арий. — Молодец.
Неожиданно сириец оступился на одну ногу. Он выругался, как будто вывихнул сустав, и хромая отошел прочь.
— Давай, — прошептала я, но Арий покачал головой. Слегка наклонив голову, Викс сделал шаг назад, и как только сириец прыжком подскочил к нему, легко увернулся из-под его удара. Чего-чего, а быстроты моему сыну не занимать.
Сириец вновь бросился на него. Викс отскочил, остановился, сделал ложный выпад.
— Главное, не позволяй ему загнать тебя в угол, — прошептал Арий, однако Викс сделал два поспешных шага назад и в ужасе застыл, наткнувшись спиной на мраморную стену вокруг арены.
— Викс! — выкрикнула я в ужасе, видя, как сириец занес лезвие для удара, а со мной еще несколько тысяч голосов.
Викс бросился на противника. Сириец едва успел изменить угол удара. Мгновение — и сталь, вспоров кольчужный рукав, легко вонзилась Виксу в плечо и вышла с другой стороны.
— Слишком высоко, — прошептал Арий, побелев.
Еще один удар, в легкие, чтобы доставить противнику как можно больше мучений, и схватка будет окончена. Сириец потянул меч.
И тогда Викс вцепился в него. Его рука обхватила сталь, что застряла в его плече, и удержала ее на месте. Из его пальцев на песок тотчас брызнула кровь, и я увидела, как напряглись его мышцы. Викс оскалил зубы, однако продолжал удерживать лезвие, а сам тем временем придвинул плечо ближе к рукоятке.
Нет, не слишком далеко. А так, чтобы можно было дотянуться и нанести удар. Арий кивнул в знак согласия.
В следующее мгновение меч Викса прорезал воздух, и на песок арены тугой струей брызнула кровь. Кровь сирийца.
— Чистая работа, — пробормотал Арий, как будто Викс только что закончил очередное упражнение.
Я отвернулась, и меня вырвало.
(обратно)
Лепида
— Стратегия. И где? На арене. — Траян стукнул кулаком по перилам ограждения. — Где еще увидишь такой красивый маневр, как этот? Если этот мальчишка когда-нибудь получит свободу, я возьму его в свои легионы.
— Если он выживет, — язвительно уточнила я, но меня никто не слушал.
— Я постараюсь тебя опередить и найду ему местечко среди моих преторианцев. — Павлин кинул юному Варвару монету, которую тот ловко поймал здоровой рукой. После чего вытащил застрявший в плече меч сирийца. Несколько мгновений мальчишка стоял, глядя на него, после чего сам рухнул на песок.
— О, ужас! — услышала я голос Сабины. Ее узкое личико грызуна сделалось розовым. — Бедный мальчик! — вскрикнула она и забилась в корчах.
Я поднялась с места. Не хватало мне, чтобы меня видели рядом с бьющейся в припадке девчонкой. И как только Марк и Кальпурния нагнулись над ней, я потихоньку выскользнула из ложи. На арене для лежащего без сознания Викса уже тащили носилки. Трибуны по-прежнему ревели и рукоплескали от восторга. Домициан подался вперед и тоже начал аплодировать. Сидевшая рядом с ним Аврелия Руфина зевала от скуки. Эта дурочка никогда не понимала смысла в играх. Так что император скоро предпочтет ей мое общество.
С этими мыслями я направилась к дверям императорской ложи, однако дорогу мне преградил его секретарь.
— Император заметил, что твоей дочери сделалось дурно, — произнес он. — И сказал, что твое место рядом с ребенком.
— Но за ней есть, кому присмотреть. Ее отец…
— Дети — женское дело. Домициан своей императорской волей приказал тебе отвезти ребенка домой, — заявил секретарь, едва сдерживая на накрашенных губах ехидную улыбочку. — Он также велел мне передать тебе вот это, достопочтенная Лепида, — с этими словами он сунул мне в руку нитку дешевого жемчуга. — В твоих услугах он больше не нуждается.
У меня в глазах беззвучным фейерверком взорвалась череда образов. Марк сухо объявляет мне о разводе. Тея строит мне презрительную гримасу. Придворные хихикают у меня за спиной. Не прошло и года, — тупо подумала я, и мои пальцы сжались вокруг жалкой нитки мелкого жемчуга. Тея продержалась пять…
— И кто же занял мое место? — спросила я тоном, не знающим возражений. — Неужели эта дурочка Аврелия Руфина? Чем она лучше меня? Неужели она ублажает императора с большим усердием?
— Отнюдь, достопочтенная Лепида, — секретарь даже не думал скрывать усмешки. — Просто она… новее.
Внутри у меня все сжалась, будто он пнул меня в живот. Милостивые боги! Как же так случилось, что я упустила из рук императора? Всего полторы недели назад я намекала ему, что готова расстаться с Марком. Мечтала получить императорский венок.
Секретарь сделал мне знак, мол, тебе пора.
— Стража проводит тебя до дверей, Лепида.
В самый последний момент Павлин был вынужден задержаться.
— Император вызывает тебя, — передали ему. Так что свои услуги по доставке домой Сабины предложил Траян.
— Давайте, я ее понесу, — вызвался он и, словно перышко, принял из рук Павлина детское тельце. — В ней нет никакого веса, а, кроме того, по словам моей матери, она приходится ей троюродной внучатой племянницей или что-то в этом роде. А где носилки?
Проложив путь сквозь толпу, Траян спустился по мраморной лестнице и вышел в одну из задних арок. Благодарный Марк последовал за ним вместе с Кальпурнией. Лепида, надувшись, замыкала их процессию. Из императорской ложи она вернулась бледная как мел, и Марк решил, что лучше ее не раздражать. Гадюки, даже с вырванными зубами, все равно имеют обыкновение кусаться. Правда, сдержать улыбку ему не удалось.
«Подумай лучше о серьезных вещах, — мысленно приказал он себе. — Про похороны, принятие бюджета. Про последнюю треть Илиады».
— Ты меня не проведешь, Марк Норбан, — шепнула ему на ухо Кальпурния. — Можно подумать, мне не видно, как в твоих глазах пляшут веселые огоньки.
— Неправда, — возразил он. — Повышение налогов. Плохие стихи. Снижение рождаемости…
Гордо вскинув подбородок, Лепида забралась в их семейный паланкин. Казалось, она была готова выцарапать глаза любому, кто попробует ее оттуда выкинуть. Траян пожал плечами и лишь подвинул ее обутые в золотые сандалии ноги, освобождая место Сабине.
— Ты следующая, Кальпурния. Положи голову девочки себе на колени.
Он вежливо подождал, пока Марк тоже займет свое место, затем вскочил сам и перегруженный паланкин, покачиваясь, поплыл по римским улицам. Лепида бросила в сторону Траяна колючий взгляд. Марк с трудом сдержал улыбку.
Сабина была бледна, по лбу катился пот, однако веки ее подрагивали.
— Ничего, скоро пройдет, — заметил Траян.
— Смотрю, ты знаток по части падучей, — заметил Марк, глядя, как тот приподнял девочке голову.
— О, об этой болезни мечтает любой солдат. Александр Великий страдал ею, Юлий Цезарь.
Лепида наморщила хорошенький носик.
— От этой девчонки одни конфузы. Падает на виду у моих знакомых, пуская слюни, как какая-нибудь идиотка…
— Может, ты все-таки заткнешься! — прикрикнула на нее Кальпурния, прежде чем Марк успел вставить слою.
Траян расплылся в улыбке.
— В этой болезни нет ничего позорного. Да и лечится она легко. Более того… — Он просунул голову сквозь занавески паланкина и крикнул носильщикам: — Эй, сворачивайте вправо.
— Это еще что за шум? — удивилась Кальпурния. Сабина простонала и тоже принялась вертеть головой. На улице действительно стоял страшный крик. Такой обычно можно услышать в двух случаях: во время триумфального шествия или от толпы заядлых любителей игр. В данном случае, это было и то и другое одновременно.
Дорога к императорскому дворцу была забита истошно вопящим плебсом. Словно сойдя с ума, народ кричал, протягивал руки к горстке преторианцев в самом центре толпы. Это императорские гвардейцы несли во дворец на импровизированных носилках юного Варвара.
Траян тотчас соскочил из паланкина и закованным в доспехи плечом быстро проложил себе путь.
— Командующий Траян, по государственному делу. Прошу вас уступить дорогу. Повторяю, уступите дорогу. Спасибо, уступите дорогу, минуточку, трибун, — произнес он, обращаясь к Павлину, и зашагал рядом с носилками. До Марка донесся хорошо поставленный командирский голос, перекрывавший собой даже царивший на улице гам. — Позволь мне поздравить молодого гладиатора с успешным боем.
— А ты еще кто такой?
Марк краем глаза разглядел юного Варвара — он лежал, поднятый высоко вверх на украшенных носилках, ужасно напоминающих похоронные, и из раненой руки стекала кровь. К мальчишке тянулись сотни рук, и все так и норовили утащить на сувенир или нитку из его туники, или даже сорвать с головы волос.
— Командующий Траян. Хотел сказать тебе, что ты отлично провел бой, — он похлопал мальчишку по больному плечу. — Как ты смотришь на то, чтобы получить местечко в моих легионах?
— Иди ты знаешь куда! — огрызнулся в ответ Викс, хватаясь за больное плечо.
— Отлично, отлично. Идите дальше, трибун! — Помахав перемазанной в крови рукой, Траян одним прыжком вернулся назад к поджидавшему паланкину.
— Что такое? — в ужасе воскликнул Марк, когда он снова сел на месте.
— Ничего страшного, свежая гладиаторская кровь. — Траян смазал ею Сабине губы. — Сами не заметите, как приступ пройдет. Это известно любому солдату.
— Я не допущу, чтобы моя дочь пила кровь!
— Сам знаю. Звучит варварски, — Траян смазал остатками крови виски и лоб Сабины. — Зато работает.
Лепиду передернуло.
— Если только кто-то сейчас испачкает кровью платье…
Сабина приоткрыла глаза и вздохнула.
— Как ты себя чувствуешь? — поинтересовалась Кальпурния.
— Голова болит, — ответила девочка, принимая сидячее положение. — Он умер?
— Кто умер, моя дорогая? — Марк взял дочь за руку.
— Тот мальчишка.
— Нет, он сквернословит, как настоящий солдат, — весело ответил Траян и спросил, обращаясь к Марку: — Теперь видите?
— Но ведь он выздоровеет? — не унималась Сабина.
— Успокойся, моя дорогая, он будет жив и здоров.
— Подумать только, — зевнула Лепида, слегка убрав в сторону юбки. — Сколько страстей из-за грязного уличного мальчишки.
— Знаешь, — обратился к ней Траян, — сдается мне, что в этом паланкине слишком тесно.
С этими словами он подался вперед, обхватил Лепиду за талию и одним ловким движением поставил на дорогу, после чего задернул занавеску. Вслед паланкину раздался пронзительный визг и посыпались проклятья.
— Не обращайте внимания, — крикнул Траян носильщикам. — Она вам больше не указ.
Носильщики довольно осклабились и прибавили скорости. Марку было слышно, как Лепида истошно кричит им вслед. Затем он задумчиво посмотрел на Траяна и рассмеялся.
— Молодой человек, — сказал он. — Признаюсь честно, мне нравится твоя манера поведения.
— Мне тоже, — хихикнула Сабина. Когда паланкин доплыл до их дома, она уже не просто стояла на ногах, но резво взбежала по лестнице к себе наверх.
— Не смывай кровь до конца дня, — посоветовал ей Траян. — А вы, — добавил он, обращаясь к остальным, — пока она похожа на демона, можете с ее помощью отпугивать от дома нежеланных гостей.
Кальпурния задумчиво посмотрела вслед Сабине.
— Как ты думаешь, у нее еще будут припадки?
— Разумеется, куда им деться, — ответил Марк. — Гладиаторская кровь не лекарство, а суеверие. На следующей неделе можно ждать новый припадок.
Но его так и не случилось.
— Интересно, кто станет следующим императором? — задумчиво спросила Тея, когда они убрали табуреты и винные кубки. — Когда Домициана не станет?
— Какой-нибудь седобородый сенатор, — пожал плечами Павлин. — Например, сенатор Нерва — хорошая родословная, безупречная служба, никаких пороков. Впрочем, наверняка найдется еще пара-тройка желающих предложить свои кандидатуры.
— Думается, это не те вещи, какие можно обсуждать в присутствии рабов, — встряла в разговор императрица, покосившись на Тею и Ария.
— Верно, — согласился тот. — Как
можно доверять тем, кто спит и видит, когда же Рим наконец провалится в преисподнюю.
— При условии, что мы получим Викса обратно. — Тея потерла лоб. Заметив ее жест, Арий помассировал ей затылок. Она тотчас обернулась и прижалась щекой к его ладони. Павлин посмешил отвернуться и потянулся к серебряной вазе с черным виноградом посередине стола. Доверчивым поворотом головы Тея напомнила ему Юлию.
Вскоре заговорщики начали расходиться, а Марк остался гасить лампы. Императрица потянулась за плащом. Тея и Арий, как два призрака, молча выскользнули вон рука об руку. Павлин задержался, чтобы помочь отцу навести порядок, чтобы любой, кто вошел бы в дом, даже не заподозрил, что здесь только что принимали гостей. Назначенный день приближался то ли мучительно медленно, то ли, наоборот, слишком быстро — день, когда они попытаются убрать императора Домициана. Кровавая смерть императора всплывала перед глазами Павлина столь ясной и жуткой картиной, что он ни разу не задумался, а что будет потом.
— Интересно, кто станет императором после него? — задался он вслух вопросом, убирая графин с вином. — Наверно тот, за кем пойдет большинство легионов. Хотя… отец, помнится, ты как-то сочинил трактат о том, что император должен быть бездетным, чтобы иметь возможность выбрать себе самого достойного наследника, но не по зову крови, а по талантам.
— Я сочинил немало трактатов, — уклончиво ответил Марк, однако от Павлина не скрылась, как он обменялся с императрицей быстрыми взглядами. Павлин вопросительно посмотрел на обоих, однако императрица тотчас увела разговор в другое русло.
— Я уверена, что достойный претендент заявит о себе сам, — она набросила на голову накидку. — Тем, что уберет с пути всех своих соперников. Доброй ночи, Павлин, доброй ночи, Марк, — сказала она и, одарив их своей знаменитой улыбкой каменной статуи, выскользнула за дверь.
Дверь захлопнулась, и Павлин в задумчивости пожал плечами. Как и легионы, верные ему преторианцы сыграют не меньшую роль в том, кто взойдет на трон следующим. Да и сам он как командир личной императорской гвардии окажется неоценим для любого, к кому перейдет трон… Страшная мысль…
— Сабина, это ты? — Марк расправил плечи и с улыбкой повернулся к двери. Впрочем, от Павлина не скрылось, с какой быстротой отец убрал с глаз подальше пустые кубки. — Ты почему не спишь?
— Я услышала здесь внизу голоса. — Сабина, в белой ночной рубашке, обвела голым пальцем ноги мозаичную змею на полу.
— Твой брат попробовал спорить со мной по поводу «Комментариев» Цицерона, — невозмутимо ответил Марк. — Ему бы давно пора знать, что меня переспорить трудно, но он солдат, и учение дается ему с трудом.
— Мне показалось, я слышала чужие голоса. — Сабина продолжала обводить ногой контур змеи. — А в окно увидела паланкин. Признайся отец, у тебя наверняка были какие-то интересные гости.
Павлин открыл было рот, но Сабина на удивление взрослым жестом велела ему: мол, лучше молчи.
— Не надо мне ничего говорить, — сказала она и с хитроватой улыбкой повернулась, чтобы вновь возвратиться к себе в спальню. — Я ничего не хочу знать.
(обратно)
(обратно)
Глава 33
18 сентября 96 г. н. э.
— Опять мошенничаешь! — рявкнул император с неподдельной яростью в голосе.
— Нет, цезарь, это всего лишь везение. — Викс тряхнул рукавом, показывая, что никакой второй кости у него нет.
— Неправда, мошенничество чистой воды.
— Я могу увести мальчишку, если он раздражает тебя, — быстро предложил Павлин.
— Все евреи мошенники. — Император со злостью швырнул игральную кость через всю комнату. Готовясь к этому дню, он велел облицевать стены лунным камнем, чтобы видеть любого, кто рискнул бы подкрасться к нему сзади. — Как и Афина. Даже имя у нее было вымышленное. Зря я ее не убил. Зря я не убил вас всех… — В глазах императора вспыхнул нехороший огонек, и он рассеянно почесал лоб. — Скажи, Верцингеторикс, ты и есть тот, что попытается лишить меня сегодня жизни? В пятом часу дня?
Вид у мальчишки был подавленный.
— Если верить Нессу, сегодня день моей смерти. Признавайся, мне ждать ее от твоей руки?
Павлин прокашлялся.
— Он всего лишь мальчишка, цезарь…
— Мальчишки тоже умеют убивать, — огрызнулся Домициан, подозрительно обводя глазами полузеркальные стены комнаты, и вновь почесал лоб. Павлин заметил, что император расчесал кожу до крови, и, несмотря ни на что, ощутил к нему сострадание.
— Цезарь, — негромко обратился он к своему господину.
Домициан опустил руку и посмотрел на кровь под ногтями.
— О боги! — пробормотал он. — Надеюсь, на сегодня это вся кровь. Другой не будет.
— Лично я предпочел бы больше, — пробормотал себе под нос Викс.
— Выкини его отсюда, — рявкнул Домициан.
Викс бросился к двери прежде, чем Павлин успел схватить его за руку. После недавнего поединка в Колизее его плечо почти зажило, и Викс принялся его потирать, в задумчивости глядя на влажные после дождя сады. Павлин перебросился парой слов со стражниками, после чего подошел и встал рядом. Они были единственными, кого Домициан сегодня допустил в свои покои. В день своей предполагаемой смерти император велел очистить дворец от толп придворных и просителей, оставив только преторианцев, рабов и горстку своих любимчиков. Мраморные залы, обычно наполненные перешептываниями целых толп, наряженных в тоги людей, сегодня примолкли и стояли пустыми. Их звенящую тишину нарушал лишь редкий стук подметок сандалий, когда какой-то раб спешил по своим делам, голоса стражников при смене караула и печальное журчание струй фонтана.
— Как тихо сегодня, — задумчиво произнес Викс.
— Было бы еще тише, если бы ты прекратил подначивать императора, — ответил Павлин. — Учитывая, в каком он настроении, я удивляюсь, что твоя голова все еще на плечах.
— Он всегда в дурном настроении. Другого у него не бывает. — Викс взял из вазы с цветами камешек и швырнул его в фонтан. — Вряд ли он меня убьет. Он ведь ждет не дождется той минуты, когда я снова выйду на арену.
— А ты сам? Вы с матерью всегда мечтали, чтобы ты стал гладиатором.
— Все оказалось не совсем так, как я думал, — задумчиво произнес Викс. — Люди… они такие жестокие.
Викс устало опустил голову, и Павлин усилием воли заставил себя промолчать. Ибо его так и подмывало сказать Виксу, что тому больше не придется выходить ни на какую арену, — если, конечно, Фортуна благосклонно отнесется к их плану. Молчи, приказал себе Павлин, не для того ты так долго хранил секрет, чтобы сейчас его выболтать.
— Выше голову, Викс, — раздался рядом голос Несса. Астролог прошел мимо них, шаркая старыми сандалиями, — с отрешенным лицом, усталыми глазами, вертя на шее небольшой золотой амулет, который когда-то принадлежал Ганимеду. — Звезды говорят, что к завтрашнему утру император будет мертв. И тогда все твои печали останутся позади.
— Неправда, сегодня он не умрет. — Викс со злостью швырнул еще один камень. — Он умрет стариком, на мягкой пуховой перине с чашей вина в руке. Ублюдок.
— Ты тоже умрешь стариком, — безучастным тоном произнес Несс. — На всей скорости управляя колесницей, потому что даже будучи старым полководцем, командуя преданным легионом, который даст тебе прозвище Верцингеторикс Рыжий, ты по-прежнему будешь любить лошадей и стремительные схватки. Так что смерть твоя будет быстрой, хотя и не мгновенной. Твои подчиненные соберутся вокруг, чтобы искренне тебя оплакать. По тебе будет также лить слезы одна женщина, хотя на людях она будет вынуждена скрывать свое горе. В твою честь соорудят арку, и твои солдаты поднимут в твою честь кубки с вином, причем количества выпитого ими вина хватило бы на целую реку, чтобы доставить твою душу в царство Плутона, и они будут клясться, что второго такого, как ты, никогда не было и не будет. Как тебе такая смерть, юный Верцингеторикс? Я, конечно, не рассчитываю, что ты мне поверишь, потому что ты не веришь звездам.
— Да ты просто рехнулся, — пробормотал Викс.
— А мне полагается предсказание? — крикнул вслед Нессу Павлин, однако коротышка-астролог, подобно призраку, уже успел раствориться в пустом мраморном коридоре.
(обратно)
Лепида
Я пришла в дом к Марку в последней попытке уговорить его взять меня обратно. Я не делила с ним ложе уже многие годы, но ради такого случая почему бы не попробовать лечь к нему в постель.
Увы, дома его не оказалось.
— Господин уехал в Капитолийскую библиотеку, госпожа. Он велел не пускать тебя…
— Не пускать? — язвительно повторила я и принялась чихвостить рабов. Минут через пять мой острый язык сделал свое дело: рабы вновь вытянулись передо мной по струнке. Они слишком долго повиновались мне как хозяйке дома, чтобы слишком быстро расстаться с этой привычкой. Я прошла внутрь и устало опустилась на ложе в атрие, заваленное голубыми шелковыми подушками. Убогий, старый дом. Здесь никогда в углах не прячутся парочки, здесь вы ни разу не услышите смех по поводу чересчур откровенной шутки, здесь не принято пить много вина. И я больше не была хозяйкой этого убогого старого дома. Не достопочтенная матрона Лепида Поллия, супруга сенатора. Нет, конечно, я — по мере возможностей — пыталась обратить все это в злую шутку: «О боги, знали бы вы, как мне надоел этот старый зануда Марк!» Однако люди без стеснения перешептывались за моей спиной о том, с какой быстротой Марк избавился от меня после тринадцати лет супружества и после того как от меня избавился Домициан. Марк не стал обвинять меня в супружеской неверности — я не стала распространяться про наши отношения с Павлином, и он сдержал свое слово. Однако все эти толстые римские матроны, которые привыкли завидовать моим успехам, ухватились за первую же возможность перемыть мне косточки. А пара моих бывших любовников почему-то в прошедшие несколько недель оказались ужасно заняты — не иначе как испугались, что я ищу себе нового мужа.
Лепида Поллия почему-то всех устраивала как любовница, но никого — как жена.
— Мама? — Это в атрий со свитком в руках спустилась Сабина. Заметив меня, она учтиво поклонилась. — Отца дома нет. За ним прислали из дворца, и он был вынужден уйти. Я скажу ему, что ты заходила к нам, — с этими словами она повернулась, чтобы уйти.
— Погоди, — сказала я, — мне почему-то казалось, что он ушел в библиотеку.
— Ой, — Сабина выронила из рук свиток, но тут же наклонилась, чтобы поднять его с пола. — Может, и в библиотеку. Извини, мама, меня ждет мой наставник.
— Погоди, — я спрыгнула с ложа. — Ты сказала, что его вызвали во дворец?
Сабина покосилась куда-то в сторону.
— Я подумала…
— Императорский дворец вот уже несколько недель как превращен в неприступную крепость. По личному приказу императора. Скажи, кто стал бы присылать оттуда посыльного к твоему отцу?
— Императрица, — ответила Сабина, расправляя плечи. — Она относится к нему с уважением. И не одна она, между прочим.
— Какая ты, однако грубиянка. — Моя дочь повернулась, чтобы уйти, но я, не теряя времени, схватила ее за руку. — Боюсь, нам нужно с тобой поговорить, моя милая. В конце концов, сейчас, когда я разведена, у меня наконец появилось время, чтобы пообщаться с тобой.
— Мне нечего тебе сказать, — она попыталась отстраниться от меня.
— А мне кажется, что есть.
В моей голове как будто что-то стало на месте. Внезапно я поняла, почему Домициан распорядился запечатать дворец, словно крепость. Сегодня император якобы должен умереть. В такой день, как этот, императрица будет сидеть под замком вместе со своей стражей. С какой стати ей отправлять к твоему отцу посыльного?
Они встретились в Садах Лукулла — тихо и незаметно для посторонних глаз. Просто два паланкина встретились и разошлись.
— Спасибо, что успел, — сказала императрица из-за занавесок. — Я понимаю, что времени было мало.
— Павлин? — спросил Марк.
— Нет-нет, он во дворце. Успокаивает Домициана. Он единственный, кому это удается. У нас другая трудность. Я отправила мальчишку раба за Теей и Арием, но твой дом оказался пуст!
— Да, у Сабины занятия с наставником, и я велел рабам никого не пускать. Что-то не так?
— Боюсь, нам придется поторопиться с нашим замыслом.
(обратно)
Лепида
— Дорогая моя, я не люблю, когда мне лгут, особенно, ты, — я погладила руку Сабины. — Рабы сказали, что Марк ушел в библиотеку. Ты говоришь, что он получил записку от императрицы. Так кто же из вас лжет? — Ногти мои были покрыты свежим слоем лака, и они оставили на руке дочери красные следы.
— Я ошиблась, он ушел в библиотеку.
— А я почему-то так не думаю, — произнесла я, поглаживая дочери волосы. — Ты видела, как к нему прибыл посыльный из дворца и он ушел из дома. Возможно, на встречу с императрицей. Интересно, о чем им вдруг захотелось поговорить друг с другом в такой день, как этот? — Я намотала на пальцы пряди ее волос. Стоит слегка потянуть, и она во всем признается.
— Я понятия не имею, я…
Ага, похоже, нервишки сдают. Это именно то, что мне надо. Я резко дернула дочь за волосы.
— Лжешь!
— Неправда! Я не лгу!
В дверь постучали.
— Госпожа? — робко подал голос один из рабов.
— У моей дочери очередной припадок, — сказала я. — Уйди.
Как только шаги стихли в дальнем конце дома, я резко дернула голову Сабины назад.
— Признавайся, Марк видится с императрицей?
— А что, разве им нельзя? — Сабина уже успела распустить нюни. Слезы катились ручьями по ее щекам.
— Только не говори мне, что это случайные встречи. Ни за что не поверю. Так с какой целью они встречаются? — Я дернула ее голову назад еще раз. — С ними при этом бывает кто-то еще?
— Отпусти меня!
Я ревком поставила ее на ноги.
— Дорогая, — произнесла я нарочито нежным голоском. — Неужели я сделала тебе больно? — Я даже погладила ее по щеке. После чего залепила пощечину. Эта мерзавка вскрикнула. Неожиданно меня охватила ярость — та самая ярость, которую я сдерживала в себе с того самого момента, как Марк развелся со мной.
— С кем? С кем еще они встречаются? — Сабина с криком упала на пол, пытаясь защититься от моих ударов.
— Не знаю! Я никогда никого не видела!
— Неправда, ты знаешь! Ты, грязный крысенок, как ты смеешь лгать мне, твоей матери! — Я схватила ее за волосы, развернула ей голову и ткнула лицом в угол стола. Глаза мне застилала такая страшная ярость, что я почти не видела сквозь нее собственную дочь.
— Где ты их видела? Я спрашиваю тебя!
— Здесь, — ответила Сабина и разрыдалась.
— Прочти эту записку, Марк. — Между паланкинами промелькнул кусок сложенного несколько раз пергамента. — Ее принес мне один из моих рабов примерно час назад.
Марк быстро пробежал глазами текст.
— Понятно, — произнес он ровным тоном. — То есть он сделает это в самое ближайшее время?
— Вряд ли Домициан будет тянуть со смертным приговором.
— В качестве причины ареста здесь названа измена. Ему что-то известно?
— Нет, насколько я знаю, за мной ни разу не было слежки. Впрочем, он мечтает о моей смерти вот уже десять лет, и какова бы ни была причина, больше он ждать не намерен. Так что вполне вероятно, — голос в паланкине даже не дрогнул, — меня скоро не станет. Если только сегодня вечером…
— Сегодня вечером? Нет. Сегодня он слишком осторожен. Павлину придется надавить на него, и тогда он тотчас заподозрит неладное.
— Домициан наверняка станет меня пытать, чтобы узнать имена сообщников, — бодро сказала императрица. — Как супруга Домициана, я до известной степени выработала стойкость к боли, но я сомневаюсь, что жизнь Павлина стоит того, чтобы ею рисковать. Что ты скажешь?
(обратно)
Лепида
— Это было неделю назад, после того как я легка спать. Я услышала голоса и выглянула в окно.
— И кого же ты увидела? — Руки мои чесались, и я отвесила ей еще одну пощечину.
— Императрицу и женщину с темными волосами.
— Что еще за женщина?
— Какая-то рабыня. У нее были темные волосы и низкий голос. А с ней был мужчина, на вид вроде легионер… он был весь в шрамах.
По моей спине заползали мурашки. Я взяла ухо Сабины между моих лакированных коготков и крепко сжала.
— Рабыня? С низким голосом? Высокая? Со шрамами на руках?
— Да!
— Тея! — произнесла я вслух. Ну конечно же! Вечно она возникает у меня на пути. — Солдат, ты говоришь? Не иначе как ее новый защитник и покровитель, после того как она высушила слезы по Варвару. Какой-нибудь стареющий головорез, которого она заманила в свои сети, чтобы вырвать назад это чудовище, своего сына. Если ты еще хоть что-то от меня скрываешь…
— Ничего, клянусь тебе!
Я отпустила ее ухо, и она, обливаясь смешанными с кровью слезами, рухнула на каменный пол. Впрочем, я была настроена по отношению к ней очень даже благодушно. Ну кто бы мог подумать, что эта маленькая уродливая обезьянка окажется такой наблюдательной? Вполне вероятно, что ей больше ничего не известно. Ничего страшного! Остальное я додумаю сама. Представьте себе отвергнутую жену, ревнивого старого сенатора, выброшенную на улицу любовницу, — скажите, что их объединяет? Кого все трое ненавидят?
Разумеется, кроме меня.
Я наклонилась и поцеловала Сабину в лоб, и даже кончиком пальца вытерла с ее щек слезы.
— Спасибо тебе, моя дорогая! Мне, право, немного стыдно за синяки, но уж слишком сильно ты меня рассердила. Но ничего, завтра я, чтобы загладить свою вину, так уж и быть, куплю тебе какую-нибудь милую безделушку.
А теперь мне следовало поспешить в императорский дворец. Нет, сначала я, наверно, все же загляну на свою виллу на Палатине. По такому случаю неплохо переодеться в мое новое голубое платье и украсить себя сапфирами, Впрочем, нет, не стоит понапрасну терять время. Красный шелк и жемчуг, в которых я расхаживаю с самого утра, очень даже подойдут. Мой паланкин уже ждал меня у черного входа, и два огромных раба, которых я купила себе для охраны…
— Сабина, если кто-нибудь заглянет в дом, не говори, что я была здесь…
Моя дочь поднялась на ноги и оттолкнула меня прочь. Из губы у нее сочилась кровь, и я с удивлением заметила, что она почти догнала меня ростом.
— Уйди от меня! — крикнула она и со слезами выбежала из комнаты.
О боги, что за несносное слезливое существо!
По возмущенному взгляду управляющего я тотчас поняла, что он не привык впускать в дом сенатора Норбана женщин с безумным взглядом и подозрительного вида головорезов, с головы до ног в шрамах.
— Сенатор Норбан дома? — робко спросила я.
— Никого нет. Могу я поинтересоваться…
— Нет, — ответила я и, гордо подняв подбородок, будто до сих пор была достопочтенной Афиной, прошла в дом. Управляющий был вынужден уступить мне дорогу. Подозреваю, что хмурый взгляд Ария за моей спиной сделал свое дело. — Так где же сенатор?
— Я не имею права…
— Закрой рот! — рявкнул на него Арий.
Мы все трое зашагали по узкому коридору. Управляющий, заламывая руки, Арий, положив руку на рукоятку кинжала, я же была вынуждена то и дело поворачиваться то к одному, то к другому, чтобы их успокоить. Сворачивая за угол, я столкнулась с невысокого роста фигурой в красном шелке, позади которой шагали два огромных раба. Фигурой в красном шелке, от которой исходил сильный запах мускуса.
На какой-то миг Лепида Поллия и я застыли, глядя друг на друга.
Увы, она оказалась проворней.
— Хватайте их! — приказала она своим рабам и поспешила отойти в сторону.
Зажав в руке нож, Арий сделал выпад. Однако в узком коридоре он задел плечом мое плечо. Я потеряла равновесие и упала, и прежде чем успела перевести дыхание, рабы Лепиды схватили меня за волосы и, прижав меня к стене, приставили к горлу нож.
Я замерла на месте. Лезвие упиралось мне в горло прямо под подбородком. Управляющий в ужасе окаменел, открыв в немом крике рот. Арий тоже застыл на месте, застыла в воздухе и рука с зажатым в ней лезвием, занесенная, чтобы ударить второго раба кинжалом в живот.
А вот Лепида способности двигаться не утратила.
— Брось нож, — приказала она Арию. — Или она умрет на твоих глазах.
Лезвие с лязгом упало на каменный пол.
— Все тот же Варвар, — прощебетала Лепида. В глазах ее светился хищный огонь. — А я привыкла считать тебя мертвым. Впрочем, тебя нетрудно узнать в любой толпе. Даже с этой кошмарной бородой. Двигайся, — велела она рабу у меня за спиной. — Отведи ее… думаю, библиотека Марка нас отлично устроит. Ты, Арий, иди следом. Одно неожиданное движение, и она мертва.
Огромный раб привел меня в библиотеку. Меня охватило оцепенение. Марк, Марк, неужели ты предал нас?
— Свяжите их! — приказала Лепида рабам тоном капризного ребенка. — Главное, не жалейте веревок.
Арий застыл подобно мраморной статуе посередине комнату. Взгляд его метался от Лепиды ко мне и назад к Лепиде. Рабы грубо опутали его веревками. И тогда я заметила, как в его глазах мелькнул огонь.
— Лучше привяжите-ка его к колонне, — решила Лепида. — А что касается этой особы, то ее достаточно посадить на стул и связать ей руки. Она слишком глупа, чтобы представлять для нас опасность.
Раб убрал нож от моего горла, и тогда Арий сделал рывок. Увы, ноги его запутались в веревках, и он упал, увлекая за собой около полудюжины рабов. В следующее мгновение он уже высвободил руку. Один из рабов Лепиды взвыл от боли, а из его носа фонтаном брызнула кровь. Однако второй тотчас бросился к нему с дубинкой, и я услышала хорошо знакомый мне глухой звук. Это под ударом дубинки хрустнули кости Ария.
Нет, нет, нет!
Грубо прижав его голову к холодному мрамору, рабы привязали его к колонне, и я увидела, как ему в мутные глаза откуда-то из-под волос стекает ручеек крови.
— Надеюсь, они тебе ничего не сломали, — язвительно произнесла Лепида, глядя на Ария с безопасного расстояния. — Зачем лишать работы императорских палачей.
Арий выплюнул в нее полный рот крови.
— Смотрю, твой нрав с годами не улучшился. — Лепида посмотрела сначала на него, затем на меня. — Отлично. Что касается вас… Все вон отсюда, — приказала она рабам. Если кто-то из вас подаст хотя бы звук, я выясню, кто это был и брошу на съедение акулам. А вы, — это она уже обращалась к своим личным рабам, — заприте рабов в их комнатах, после чего обыщите дом, чтобы ни одна душа не могла улизнуть отсюда и броситься на поиски Марка. Как только все проверите, ждите меня снаружи рядом с моим паланкином.
Я бросила взгляд через ее плечо и в полуоткрытую дверь заметила легкое движение. На меня смотрели голубые глаза на худеньком, в синяках, личике. Дочь Марка? Дочь Лепиды? Я ожидала, что вслед за этим последует крик, однако девочка молча обвела глазами библиотеку и исчезла столь же быстро, как и появилась.
— Итак, — сказала Лепида, упиваясь своим положением. — Я не могу слишком долго ждать, потому что у меня назначена встреча в императорском дворце. Признавайтесь, зачем вы двое пожаловали сюда? У вас была назначена встреча с моим мужем? Что это, как не заговор против императора? О, как это в духе Марка!
Дыхание давалось мне с великим трудом. Мешал застрявший в горле комок. Я не могла даже моргнуть. Нет! Нет!
— Мне, конечно, трудно представить себе подробности вашего заговора, но я уверена, что императорские палачи сумеют вытащить из Марка правду, — Лепида расплылась в змеиной улыбке. — Полагаю, император будет мне благодарен. Что же такого мне у него попросить? Думаю, мне не придется просить его о том, чтобы он отрубил головы твоему драгоценному Арию или твоему сыну. Это он сделает и сам. Зато я могла бы попросить его сохранить тебе жизнь — как ты смотришь на то, чтобы вновь пойти ко мне в услужение? Будешь чистить мне ногти, тереть мне спину, причесывать мне волосы? Помнится, ты была мастерица делать прически.
Мне было нечего ей ответить. Оставалось лишь надеяться на то, что ее дочь унаследовала отцовский характер и убежала из дома, чтобы предупредить Марка.
Лепида резко обернулась, и алый шелк языками огненного пламени колыхнулся вокруг ее тела. Неожиданно она пригнулась.
— Так в чем же твой секрет?
— Секрет?
— Ты удерживала Домициана возле себя несколько лет. Как?
Лепида хищно облизала накрашенные губы, и я поняла, что ей не терпится узнать ответ. Я же от безвыходности положения вымучила улыбку.
— Я не давала ему того, чего ему хотелось.
— А чего ему хотелось?
— Всего. Но я ему не давала, и это разжигало его интерес. Ты же, как я понимаю, дала ему все? Тебе всегда не хватало таинственности. Неудивительно, что ты так быстро ему наскучила.
Ее улыбки как не бывало.
— Тебе не только не хватает таинственности, — я решилась нанести окончательный удар. — С тобой просто скучно!
Лепида залепила мне пощечину.
— Зато ему ты дала все! — Она указала в сторону Ария. Связанный, с заплывшими глазами, он молча прильнул к колонне. — Да попроси он тебя, ты бы легла под него посередине самого Форума! Признавайся, как тебе удалось удерживать его так долго, если ты давала ему все?
— Потому что Арий в своем уме, — спокойно произнесла я. — Домициан же, на тот случай, если ты еще сама не заметила…
— Ты ничего не понимаешь в мужчинах…
— Ну разумеется, — согласилась я, ощущая странную веселость. — Именно по этой причине они предпочитают меня.
Лепида со злостью залепила мне очередную пощечину. На этот раз я была голова к удару и впилась ей в палец зубами. Чтобы его высвободить, она была вынуждена оттащить мне голову за волосы.
— У тебя есть все! — Она одарила меня полным ненависти взглядом и пригрозила мне пальцем. — У тебя был Домициан! У тебя есть он. — Она резко развернулась в сторону Ария. — Ну почему она? Заурядная еврейка-рабыня, каких тысячи! А вот такая, как я, всего одна!
В другой момент происходящее наверняка вызвало бы у меня улыбку: подумать только, прошло десять лет, а эта сучка все еще носит в душе обиду! Как, однако легко уязвить красавицу!
— Ну почему? — Лепида слегка задрала подол и лягнула Ария по больной ноге. От боли он лишь молча стиснул зубы. — Почему она? Почему не я?
Он окинул ее взглядом с головы до ног.
— Потому что ты похожа на хорька.
Лепида зашипела и занесла для удара руку. Взгляд ее пылал ненавистью. На какой-то миг рука, подрагивая, повисла в воздухе.
Неожиданно она расправила плечи. Пригладила волосы. Придала приветливое выражение лицу. Качнув жемчужными серьгами, грациозно повернула голову в мою сторону.
— Тея, я с удовольствием провела в твоем обществе вечер, но сейчас мне пора. Я могла бы взять тебя с собой, но Арий слишком непредсказуем, особенно в тесных помещениях. Так что я лучше оставлю тебя здесь. В конце концов, вы не мои рабы и я не могу освободить вас. Марка же нет дома, он сейчас где-то шепчется с императрицей. Так что я уже буду в императорском дворце, прежде чем он вернется сюда. А я полагаю, что именно на это вы и рассчитываете. Да, я оставляю вас здесь. Император меня ждет.
Она резко развернулась и жадно поцеловала Ария в губы. Впрочем, прежде чем он успел пошевелиться, она уже оставила его в покое, а сама отошла к стальному зеркалу на стене и добавила на губы помады.
— У него приятный рот, Тея, — сказала она. — Правда, в следующий раз его уже будут целовать вороны на Гермонианской лестнице. Когда голова его будет посажена на копье.
— Префект! — Один из стражников догнал его и отдал салют. Павлин не находил себе места, нервно расхаживая по атриуму. Ощущение было такое, будто солнце застыло в небе и отказывается сдвинуться с места. — К тебе посетитель!
— Сегодня никаких посетителей! Таков приказ!
— Но она очень просила, префект. Она утверждает, что она твоя сестра!
— Моя сестра? — Этого еще не хватало! — Скажите ей, что я проведаю ее завтра.
— Она говорит, это вопрос жизни или смерти, префект.
Павлин задумался. Он никак не мог припомнить случая, чтобы Сабина сама пожаловала во дворец. И как вообще она сюда попала? И с ней ли отец? Где она?
— У Тибрских ворот.
К тому времени, когда он подошел туда, она была уже не одна.
— Но я по важному делу, — услышал он голосок Сабины, которая пыталась убедить кого-то невидимого за колонной ворот. — Мне нужно передать сообщение префекту Норбану. И если меня не пропустят к нему…
— Хватит заливать. Ни за что не поверю, что это такое срочное дело! Лучше поцелуй меня! — Павлин ускорил шаг и увидел впереди грубую коричневую тунику и знакомый поворот головы, совсем рядом со своей младшей сестрой. — Я юный Варвар! Надеюсь, ты слышала обо мне? Может, даже видела на арене? Я убил двоих человек. Я второй великий гладиатор после…
Павлин отвесил Виксу подзатыльник.
— Между прочим, приятель, ты прижимаешь к стенке мою сестру.
Обычно он был исполнен большего сочувствия к сыну Теи, однако в эти мгновение, нагнувшись над Сабиной, Викс был так похож на своего головореза отца, что последние капли сострадания в его душе мгновенно испарились. Павлин замахнулся для нового подзатыльника, однако Викс ловко увернулся из-под его руки. Колизей научил мальчишку самосохранению.
— Живо марш отсюда, — приказал ему Павлин. — Поди поищи себе другую жертву.
— И с кем прикажешь сражаться?
— Тут у меня две когорты преторианцев. Стоит мне им приказать…
— Прекратите! — остудила их пыл Сабина и посмотрела на обоих сердитым взглядом. За ее спиной поблескивал Тибр, и на его фоне, закутанная в голубое покрывало, она казалась крошечной и хорошенькой, как кукла. Неожиданно Павлин обратил внимание на синяки на ее лице. На всклокоченные волосы, надрывное дыхание, как будто бы она всю дорогу бежала сюда от отцовского дома.
И похолодел от ужаса.
Сабина же схватила его пальцы в одну руку, мозолистую пятерню Викса в другую и потянула их назад, в тень ворот, подальше от любопытных ушей стражников.
— Пусть останется, — сказала она брату, когда тот подозрительно покосился на Викса. — Его это тоже касается.
— Неужели? — удивился юный герой.
— Тсс, — Сабина прижала палец к губам, а потом быстро заговорила.
Марк вернулся домой поздно — на Квиринале перевернулась телега, перегородив дорогу паланкинам и повозкам, и на целых три квартала образовалась пробка. В конце концов он был вынужден отпустить носильщиков, а оставшийся путь проделать пешком. Тревога подгоняла его вперед, заставляя превозмогать боль и хромоту, это тяжкое наследие Года четырех императоров. Нет, они все-таки безумцы, коль отважились на такой план!
— Квинт! — позвал Марк управляющего, когда наконец ступил на мозаичный пол атрия. В ответ ему раздался какой-то сдавленный голос, совсем не похожий на голос Квинта. Не может быть, чтобы это был его управляющий.
— Эй, наверху!
Чувствуя, как внутри нарастает ужас, Марк торопливо поднялся по лестнице и распахнул двери в библиотеку.
— Никаких вопросов, — устало сказала Тея. — Просто развяжи нас.
И Марк принялся распутывать узлы у нее на запястьях.
— Что случилось?
— Лепида, — ответила, потирая онемевшие запястья Тея и поднялась со стула. — Она сейчас держит путь в императорский дворец, чтобы рассказать о нас императору.
— Но откуда она узнала? — воскликнул Марк и выругался.
— Какая разница, откуда, — подал голос от колонны Арий. — Она знает. Связала нас здесь, а сама направилась во дворец.
— Мы в любом случае осуществим наш план. Сегодня вечером…
— Нет, не вечером, а прямо сейчас.
Марк посмотрел на солнце за окном — дневное светило уже начало клониться к Тибру.
— Еще как минимум два часа он ни за что не поверит, что ему ничего не грозит. А до того момента он будет начеку.
— А жаль! — отозвалась Тея, развязывая узлы на ногах Ария. — Скажи, ты в состоянии держать меч?
Арий нетерпеливо кивнул. Однако стоило ему подняться во весь рост, как затекшие ноги его подкосились, и он зашатался.
— Что случилось? — В голове Марка пронеслись все известные ему проклятия, причем сразу на шести языках.
— Это головорезы твоей жены, но ничего… — Арий проковылял через всю комнату. — Ничего, если кости не торчат наружу, значит, они целы.
Марк в ужасе посмотрел на него.
— Ты с ума сошел!
Арий принялся разминать затекшие члены.
— Даже если твои конечности целы, мы не можем впустить тебя в покои Домициана. Даже Павлин, и тот не смог бы убедить императора принять просителей, по крайней мере, до тех пор, пока не минует час его предполагаемой смерти.
Тея расплела косу, и темные волосы рассыпались ей по плечам.
— Но кое-кого он все-таки примет.
Марк посмотрел в ее сторону. То же самое сделал Арий.
— Нет, — твердо произнес он.
— Ты могла бы его на какое-то время отвлечь? — спросил Марк.
— Она никого не отвлечет, потому что она останется здесь. Я никуда ее не пущу, — хмуро возразил Арий.
— А вот это мы еще увидим. Я ухожу, — с этими словами Тея направилась к двери. Арий в два шага — куда только подевалась его хромота? — догнал ее и схватил за руку. Когда же Тея попыталась от него вырваться, он, взяв ее под локти, оторвал от пола.
— Тебе нельзя туда. Он тебя убьет.
— И тебя тоже.
— Ну за себя я спокоен. Он давно, вот уже несколько лет, не видел меня в глаза. Тебя же он раздерет на куски.
— В предыдущие годы он уже не однажды пытался это сделать. И если жизнь нашего сына в опасности, я готова пойти на риск еще раз, — голос ее был тверже булата. — Я не намерена быть всего лишь зрительницей и уповать на милость богов. На этот раз я стану полноправной участницей!
Арий резко повернулся к Марку.
— Ты ведь знаешь, каков он. И на что он способен.
— Это ее выбор, — пожал плечами Марк.
— Именно. — В глазах Теи мелькнул недобрый огонек.
— Тея! — Арий схватил ее за плечо. — Он тебя убьет. Я не вынесу…
— О, еще как вынесешь! — в ее голосе слышались ледяные нотки. — Ведь вынесла я, наблюдая за тобой на арене. Так что не мешай мне!
Они стояли друг против друга пошатываясь и глядя друг другу в глаза.
Затем Арий постепенно, палец за пальцем, разжал руку.
— Будь ты проклята, — прошептал он. — Будь ты проклята.
Но Тея лишь повернулась к нему спиной и вышла вон. Арий несколько мгновений смотрел ей вслед, а затем повернулся к Марку. Было в его взгляде нечто бесстрастное, отрешенное и вместе с тем свирепое, что Марк невольно отшатнулся назад.
— Время залечь на дно, сенатор, — произнес он. — Свое дело ты уже сделал.
Тея же спускалась по ступенькам вниз, от макушки до ног императорская любовница — волосы распущены по плечам, взгляд пустой и отсутствующий.
— Павлин, — затараторила Сабина, как только они отошли от ворот, — моя мать выяснила, что вы замыслили заговор.
Павлин растерянно заморгал.
— Я не замышлял никакого…
— Не будь так глуп! На это нет времени… — Сабина потрясла его за руку. — Она все узнала и теперь торопится сюда…
— Эй, это вы о чем? — поинтересовался Викс.
— Мой отец и Павлин замыслили вместе с твоим отцом заговор…
— Эй, мой отец давно мертв, — возразил Викс. Было видно, что он осторожничает.
— Неправда, — с жаром возразила Сабина. — Некто, кого отец называл Варваром, приходил к нам домой несколько дней назад. Тебя ведь, если не ошибаюсь, называют юный Варвар? Вот видишь, все сходится. И между ними существует заговор. А моя мать…
— А кто твоя мать? — спросил Викс, прежде чем Павлин смог направить разговор в более безопасное русло.
— Лепида Поллия.
— Эта сука? — Викс весь ощетинился и поспешил сделать шаг назад.
— Да, эта сука, — согласилась Сабина, и Павлин вновь от неожиданности заморгал.
— Я бы не советовал тебе позволять матери совать нос не в свои дела, — мудро рассудил Викс.
— Верно. Я тоже так считаю, — согласилась Сабина и, вновь повернувшись к Павлину, в двух словах пересказала ему, что, собственно, произошло — про свою мать, Ария, Тею. Стоило ей закончить рассказ, как все трое застыли, пристально глядя друг на друга. Затем какой-то преторианец что-то крикнул, обращаясь к Павлину, и тот впервые обратил внимание на толпы людей, что стекались мимо них к Форуму, на стражников, нервно переминающихся у ворот с ноги на ногу. А тем временем солнце уже клонилось к реке.
— Я обо всем позабочусь, — заверил он Сабину и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Когда все будет окончено, у него будет время отомстить Лепиде за то, что та сделала с его сестрой. — Ты храбрая, Вибия Сабина, коль решилась прийти сюда.
— Это точно, — поддакнул Викс и, взяв ее за подбородок, приподнял лицо, чтобы лучше рассмотреть синяки. — Да, смотрю, эта сука постаралась вовсю. Кстати, тебе известно, что всего один поцелуй гладиатора — и назавтра никаких синяков.
Павлин отвесил ему подзатыльник.
— Ты однажды уже меня излечил, Верцингеторикс, — произнесла Сабина, задумчиво глядя Виксу в глаза. — Кстати, мы с тобой уже встречались.
— Неужели?
— Во время игр, когда мне было семь лет. Ты тогда украл мой жемчужный гребень.
— Быть того не может! — машинально воскликнул юный воришка.
— Еще как может! Но это не важно, — улыбнулась Сабина. — Тогда у меня была эпилепсия, но кто-то раздобыл для меня немного твоей крови. Говорят, гладиаторская кровь излечивает падучую.
— И как, излечила? — довольно осклабился Викс.
— Я всю дорогу бежала сюда и постоянно опасалась, как бы со мной не случился припадок, и тогда я точно опоздала бы. Но он не случился. Более того, я прекрасно себя чувствую, — с этими словами Сабина встала на цыпочки и, обхватив загорелую шею Викса худенькой ручкой, быстро коснулась губами его губ. — Так что, думаю, стоит попробовать.
Викс тотчас обхватил ее за талию, однако Сабина поспешила отстраниться на него и вновь повернулась к Павлину, прежде чем тот успел высказать свое неудовольствие по этому поводу. — Пока не поздно заткни рот моей матери, — сказала девочка, — иначе она всех погубит.
Вместо ответа Павлин лениво отдал ей салют и, подталкивая перед собой Викса, вновь повернулся к воротам. Предупредить стражу, чтобы те не пропустили во дворец Лепиду, несложно, иное дело, что всегда найдется продажная душа, готовая за деньги пропустить во дворец кого угодно. Павлин вновь посмотрел вслед сестре — крохотная фигурка, завернутая в голубое покрывало, уже почти растворилась в толпе — и вознес благодарность сразу всем богам, которые ей благоволили.
— Она влюблена в меня по уши, — с самодовольной ухмылкой заявил Викс.
— Ей всего двенадцать лет! — прорычал Павлин и довольно грубо подтолкнул Викса перед собой. — И не смей лапать ее своими грязными ручищами!
(обратно)
(обратно)
Глава 34
— Волки собираются в стаю.
— Цезарь!
— Они почему-то думают, что я их не вижу. — Домициан, словно зверь в клетке, расхаживал из одного угла опочивальни в другой, и его отражение в опаловых стенах неотвязно следовало за ним. — Однако бог видит и слышит все.
Павлин стоял, переминаясь с ноги на ногу. Он открыл было рот, чтобы возразить, однако тотчас передумал.
— Луна обагрится, как только войдет в созвездие Водолея, — голос Домициана превратился в едва слышный шепот. — И случится то, о чем потом будет говорить весь мир.
Сердце глухо стучало в груди Павлина: час пробил, час пробил, час пробил. Верно, час пробил, и неожиданно он не смог произнести ни слова. Он слышал монотонное гудение мухи, но уже в следующий миг Домициан резко выбросил руку. Гудение тотчас стихло, хотя крошечные крылья еще несколько мгновений подрагивали в императорской ладони. Домициан криво улыбнулся.
— Мухи меня больше не интересуют, — заявил он, обращаясь к Павлину. — За людьми наблюдать гораздо увлекательнее.
— Цезарь? — подал голос Павлин.
— Да? — Домициан ленивым жестом прихлопнул муху.
— По-моему, кто-то очень хочет вас видеть, — произнес Павлин, и слова дались ему на удивление легко.
— Не раньше пятого часа. Тебе известен мой приказ.
— Она говорит, она, что вы должны ее принять.
— И кто же это?
— Афина, цезарь.
Казалось, тишина пошла кругами, как будто в нее бросили камень.
— Афина?
Неужели голос его дрогнул? Домициан застыл на месте, повернувшись лицом в угол. С императорских плеч ниспадала пурпурная мантия, свет факелов подчеркивал редеющие волосы.
— Ты раздел ее? Проверил, нет ли у нее при себе кинжала?
— Да, господин и бог, проверил.
— Она прятала лицо от стыда? — Домициан поднял руку, прежде чем Павлин мог ответить ему. — О нет, это не в ее духе. Пока стражники ощупывали ее, она просто смотрела перед собой. Как будто ей все равно. Как Юлия, когда она отказалась от пищи. Пусть боги сгноят ее.
— Сгноят… кого, цезарь?
Домициан обернулся.
— Пусть войдет.
С этими словами он уселся на ложе. Одна рука тотчас скользнула под подушку, где у него — Павлин это точно знал — хранился кинжал.
— Осторожнее, — шепнул Павлин на ухо Тее, впуская ее в императорские покои. Слово предостережения прозвучало скорее как выдох. Тея даже не моргнула глазом. Она встала в дверном проеме — волосы распущены по плечам, на лице каменная маска. Впрочем, в глазах застыла настороженность.
— Афина, — голос Домициана был исполнен едва ли не теплотой. — Ты неплохо выглядишь. Я бы даже сказал, пышешь здоровьем. Крепкая мать крепких гладиаторов. Пришла ко мне просить за своего сына?
— Да, цезарь.
— А почему именно сегодня? Или ты рассчитывала на мое снисхождение, в надежде, что я дарую его тебе прежде, чем, согласно предсказанию астролога, пробьет мой смертный час?
— Да, цезарь.
— Практичные вы люди, евреи.
— Какие есть, цезарь.
Домициан с силой стукнул себя кулаком по колену. Павлин поморщился. Он помнил, как Домициан сыпал шутками перед лицом мятежных легионов или раскрашенных синей краской хаттов, но сегодня перед ним стояли лишь рок… и Тея.
— От тебя лишнего слова не добьешься, — заметил Домициан, в упор глядя на гостью. — Нет, я серьезно. С каким
удовольствием я бы оторвал тебе голову, лишь бы только наконец узнать, что там внутри, — он поманил ее к себе. — Впрочем, я и так знаю, что я там найду.
— И что же ты найдешь, цезарь? — спросила Тея, входя в императорскую опочивальню.
— Ничего, — ответил Домициан и пробежал пальцами по кончикам ее волос. — Дым и песню.
— Цезарь, — Тея сделала шаг ему навстречу и прижалась щекой к его руке. — Я прошу тебя.
— Пощадить твоего сына? Но с какой стати?
— Потому что он еще ребенок.
— Помнится, у вас, евреев, есть поговорка, мол, грехи отца ложатся на плечи его детей.
Павлин открыл рот, но так ничего и не сказал. Ничто, ничто не могло помешать поединку, что сейчас происходил на его глазах.
Тея протянула руки.
— Я прошу твоей милости, Домициан.
Император наклонил голову.
— Скажи, тебе было больно видеть, как он сражается на арене Колизея?
— Ты сам знаешь, что больно, — ответила Тея и вновь прижалась щекой к императорской руке. — И я предлагаю себя взамен. Прошу тебя, бери меня, если хочешь, но только отпусти Викса.
— Ты самая обыкновенная еврейская певичка. С чего ты взяла, будто нужна мне?
— Потому что знаю, что нужна.
— Будь ты проклята! — Домициан вырвал руку и отвернулся. — Будь ты проклята, ты, еврейская певичка, но ты единственная, кто имеет наглость мне перечить. Единственная, кто…
Голос императора на мгновение дрогнул, и Павлин увидел, как блеснули глаза Теи. Она сделала шаг вперед и как бы невзначай провела рукой по краю императорского ложа.
— В любом случае, зачем тебе понадобился Викс? — спросила она. — Какая тебе от него польза? Ты ведь не любишь детей, а уж что касается его, так он ведь просто чудовище!
— Это верно, — согласился Домициан. — Он мой?
Тея покраснела.
— Ты сам знаешь, что нет. Он слишком взрослый, чтобы быть твоим сыном.
— Знаю. — Домициан задумчиво посмотрел на потолок. — В принципе, это даже к лучшему. У бога не может быть сыновей. Сам Юпитер убил ребенка Метилы, когда узнал, что тот затмит его своим величием. Но Викс…
— Что?
Домициан пожал плечами.
— Он развлекает меня, поднимает мне настроение.
— Когда-то я делала то же самое. — Тея сделала еще один шаг вперед. — Разве не так?
Домициан протянул руку к ее щеке. Однако на этот раз он намотал ее волосы себе на кулак и вынудил ее опуститься на колени.
— Боишься меня? — спросил он, и впервые Павлин заметил в его глазах страх. — Ты боишься меня, Афина, признавайся. Прошу тебя, произнеси это вслух…
И она произнесла:
— Да.
(обратно)
Лепида
От дома Марка до императорского дворца рукой подать, но я добиралась туда почти час. На какой-то улице перевернулась телега, и на протяжении нескольких кварталов на дороге образовался затор. Затем еще какое-то время мне пришлось уламывать стражника-преторианца, чтобы тот впустил меня во дворец. Пропуск во дворец мне купили заверения в том, будто мне известно о заговоре, плюс пригоршня сестерциев. Признаюсь честно, войдя внутрь, поначалу я была ошарашена. Дворец было не узнать: никаких посыльных, никаких придворных, никаких клевретов, суетливо спешащих туда-сюда по мраморным залам, шурша шелковыми одеждами и оставляя за собой шлейф благовоний. Сегодня же меня встретили лишь горстка испуганных рабов и толпы стражников.
— О, достопочтенная Лепида! — окликнул меня любимец Колизея Викс и бесцеремонно схватил за локоть. — А мы тебя искали. Я и префект Павлин.
— Ты знал, что я приду сюда?
— Нас предупредили. Давай, я отведу тебя к императору. Он совершенно свихнулся, и может, ты сумеешь его успокоить.
Я улыбнулась и позволила этому отродью взять меня под руку. Правда, при этом я представила себе, как голова его будет торчать на копье рядом с головой его варвара-отца. О боги, какое это будет чудное зрелище! Я так замечталась, что даже не заметила, что он свернул в другой коридор — пустой проход, каким обычно пользовались рабы, но только не император.
— Куда ты меня привел?
Этот наглец заломил мне за спину руки и ловким движением ударил под коленки. Я даже еще не успела упасть на мозаичный пол, как ощутила между лопаток его ногу.
— Что ты делаешь?
Вместо ответа он с еще большей силой заломил мне за спину руки и принялся обматывать их веревкой, которую извлек откуда-то из рукава.
Я принялась извиваться и царапаться. Он слегка отстранился от меня, правда, успев при этом больно ударить меня коленом в затылок. Нога у него была словно свинцовая. Нет, такого быть не может. Я, взрослая женщина, стала жертвой тринадцатилетнего мальчишки! Нет, это просто в уме не укладывается, никто не поверит, такое попросту невозможно.
Я набрала полные легкие воздуха, чтобы закричать, однако он сунул мне в рот тряпку.
Нет, это какое-то наваждение! Он же еще ребенок!
А в это время он уже стягивал мне веревкой лодыжки. Я попыталась брыкаться. Я пыталась сыпать беззвучными проклятиями. Он ухватил меня за ноги и поволок по коридору, словно мешок с репой. Поволок меня сквозь небольшую дверь в стене, за которой было что-то вроде чулана. Нет, не может быть, это не чулан.
И все-таки это был чулан.
И этот мерзавец как ни в чем не бывало сунул меня туда. Я согнула в коленях ноги, пытаясь его лягнуть, однако он отскочил в сторону, а потом задвинул мне вслед мои ноги.
Нет, нет и еще раз нет! Лепида Поллия, в скором времени императрица и повелительница всего Рима, брошена, словно метла, в пыльный чулан, и кем, гадким тринадцатилетним мальчишкой!
Дверь захлопнулась. Мне было слышно, как он стоит с той стороны и пытается отдышаться. Я ждала от него обидных слов. Но он, как и его отец, был не любитель бросаться словами. Он просто повернулся и зашагал прочь, бросив меня лежать в тесном и темном чулане. Затем откуда-то издалека до меня донесся его голос:
— А, это ты, Несс. У меня к тебе одна просьба…
— Тебя ждет император, — уклончиво ответил астролог. — Ступай к нему.
Викс выругался.
— Послушай, у меня к тебе просьба: найди префекта Норбана и скажи ему, что о Лепиде Поллии я уже позаботился. Хорошо?
— О чем ты? — В голосе астролога мне послышалось любопытство.
— Это тебя не касается. Просто скажи ему, что я ее убрал. И еще, только не надо заглядывать в чуланы.
До меня донеслись его удаляющиеся шаги. Я осталась одна.
(обратно)
Тея
Стражники втолкнули внутрь моего сына, и в первый момент выражение его лица привело меня в ужас. Я застыла на месте, не в силах отвести от него глаз. За это время он вытянулся, ростом почти догнал меня. Мышцы на правой руке сделались выпуклее — не иначе, как он упражнялся со щитом. О, Викс…
— Только попробуй прыгнуть ко мне, и она умрет, — заявил император.
Я была готова поклясться, что на губах Домициана в эти минуты играет усмешка. Глаза сверкают, на скулах горит румянец, рот слегка приоткрыт, чтобы знаменитая улыбка Флавиев могла очаровать богов. Руки его как бы невзначай лежали у основания моей шеи, а мои волосы, когда я падала, обмотались вокруг его ног.
— Поздоровайся с сыном, Афина, — велел император, рассеянно поглаживая мне горло.
— Приветствую тебя, Викс. — Сквозь завесу волос мне было видно его лицо: растерянность первых мгновений уступила место неподдельному ужасу.
— Поздоровайся с матерью, Верцингеторикс. Будь воспитанным мальчиком.
— Ты… — глухо произнес Викс, как будто рот у него был набит песком арены. — Ты сказал, что оставишь ее в покое.
— Верно. Она сама пришла ко мне. Как ты понимаешь, просить о твоей жизни. Что, наверняка, потребовало от нее немалого мужества, потому что… расскажи ему, Афина.
Я изобразила дрожь в голосе. Я разыграла самый лучший мой спектакль за всю жизнь, жаль только, что к нему не было музыки.
— Потому что я боюсь тебя.
Домициан уперся ногой мне в плечо и грубо толкнул. Я распласталась на полу.
— Пусть твой сын убедится в этом. Пусть все увидит собственными глазами.
— Ну хорошо! — Я поднялась на колени и больно прикусила язык, чтобы на глаза мне навернулись слезы. — Ну хорошо, да, я в ужасе от тебя. Ты это хотел услышать? Всякий раз, когда ты прикасаешься ко мне, всякий раз, когда ты смотришь в мою сторону. Я не могу думать, я не могу дышать… и я ненавижу тебя. Ненавижу, слышишь, ты, ненавижу! — я разрыдалась и принялась раскачиваться, стоя на коленях. Впрочем, глаза мои смотрели зорко из-под ладоней.
Домициан откинул голову и расхохотался, как будто удачной шутке. Я услышала, как Викс бросился к нему, но император, все еще усмехаясь, щелкнул пальцами, и два дюжих преторианца схватили моего сына под локти.
— Скажи, Верцингеторикс, ты хороший сын?
Викс сбросил с себя руки стражников — мускулы его напряглись, словно змея, сбрасывающая с себя кожу, — и замер. Потому что я из-за растопыренных пальцев бросила в его сторону взгляд — взгляд, твердый как железо. Викс, ты никогда не слушался меня, сказали мои глаза, умоляю тебя, послушайся хотя бы на этот раз.
— Ты боишься меня? — Домициан погладил меня по волосам, как если бы он гладил пса.
— Да, господин и бог, — ответила я и тотчас зарылась лицом в ладони.
— Убери от нее руки! — взревел мой сын.
Домициан нахмурился. Он отпустил мои волосы и, перейдя в другой конец комнаты, дважды с силой ударил Викса по лицу. Кулаки его были подобны молотам Вулкана.
— Успокойся, — рявкнул он. — Я еще займусь тобой позже. В чем дело?
Император резко обернулся, чтобы проследить за взглядом Викса, однако увидел лишь меня, дрожащую рядом с его ложем. Мне хватило лишь одного мгновения, пока Домициан повернулся ко мне спиной, а стражники пытались удержать Викса, чтобы сунуть руку под подушку и вытащить оттуда кинжал. И еще миг, чтобы зашвырнуть кинжал под ложе, а потом вновь начать раскачиваться и обливаться слезами. Скажите, кому страшна льющая слезы женщина?
Домициан перешел ко мне и встал рядом.
— Итак, на чем мы остановились с тобой, Афина?
Стражники были заняты тем, что пытались приструнить Викса, и я с трудом подавила в себе порыв потянуться за кинжалом. Еще рано. Поэтому я согнулась в три погибели и продолжала громко рыдать, а мой сын тем временем осел на пол с разбитым носом между двумя преторианцами. Домициан опустился на ложе и притянул меня к себе.
— Плачешь, — произнес он. — Раньше за тобой такого не водилось.
Мне не составило особого труда изобразить рыдания.
— Может, мне стоит взять тебя еще разок, — скажем так, в память о старых добрых временах. А твой сын пусть посмотрит. Но после этого, мой дорогая, не рассчитывай, что я стану наблюдать, как ты умрешь. Одной мертвой еврейкой больше, одной меньше — не велика разница.
— Господин, — раздался двойной стук в дверь и голос Павлина. Еще ни разу в жизни я не была так рада, как в этот момент. — Разрешите всего на минутку?
— Входи.
Стараясь не смотреть в мою сторону, Павлин отдал салют. Домициан оттолкнул меня и тоже отсалютовал — с улыбкой. Я задалась мысленным вопросом, не собирается ли он заодно убить и Павлина, как только пробьет час его собственной смерти? Лучший друг бога не имеет права пережить своего господина.
— Прибыл некий раб, господин, — произнес Павлин. — Он утверждает, будто ему известно о заговоре против тебя.
— О заговоре? — Домициан присел на ложе. — О боги, который час?
И тут я подала сдавленный рыданиями голос.
— Пошел седьмой, — сказала я и подняла глаза, красные — но не от слез, а от того, что я украдкой их хорошенько терла. — Ты пережил собственную смерть, о цезарь, будь ты проклят!
— Седьмой час? — Домициан перевел взгляд к окну: солнце продолжало клониться к Тибру.
— Седьмой? — в голосе Павлина слышалось недоумение. — Мне казалось, ты будешь следить за ходом часов.
— Меня… отвлекли, — ответил Домициан и расплылся в улыбке. — Наконец-то я поймал Несса на ошибке! Его самого и его звезды! — Господин и бог Рима поднялся с ложа. — Я вновь ощущаю себя молодым! Да я готов завоевать Персию! Возможно, я так и поступлю! Дай мне мой плащ, Павлин. Сегодня вечером я устрою пир.
— А как же раб? — робко напомнил Павлин. — Он говорит, что располагает ценными сведениями.
Домициан задумался, а затем пожал плечами.
— Пусть войдет.
Павлин отослал стражников. Домициан же устроился на краю ложа.
— Войди, раб. Как твое имя?
— Стефан, господин и бог, — раздался в моих ушах раскатистый голос. — Бывший садовник Флавии Домициллы.
Я сосредоточила взгляд на серебряном подлокотнике ложа и продолжала негромко плакать. Каждый нерв в моем теле был натянут, словно струна арфы.
Единственное, что мне было видно, — это повязка, на которой покоилась его якобы больная рука.
Домициан нахмурился.
— Ты располагаешь сведениями?
— Я обнаружил бумаги, и они мне не понравились.
Его жилистая рука, которую я так любила, передала императору свиток с начертанными на нем именами.
— Сенатор Нерва? — удивился Домициан, пробежав глазами свиток. — Ну кто бы мог подумать!
Он принялся разматывать пергамент, и я рискнула поднять глаза. Я увидела, как его взгляд упал на Викса. Мой сын сидел, забытый всеми, сжавшись в комок, в углу — там, где его бросили стражники. Однако подбородок его был гордо вскинут вверх, а взгляд прикован к рабу, которого якобы звали Стефан. К рабу, за спиной которого солнце стояло подозрительно высоко над Тибром, хотя, по идее, шел седьмой час и уже должны были начать сгущаться сумерки.
Домициан быстро обвел взглядом присутствующих. В следующий миг Арий вытащил из повязки кинжал.
Еще мгновение, и лезвие впилось Домициану в пах. Император пронзительно вскрикнул. Демон взвыл от удовольствия. Арий подхватил его вой.
Стряхивая с себя повязку, он ринулся вперед и нанес новый удар. Император вскинул руку, и лезвие вспороло ему мышцы вдоль всей кости. Фонтаном брызнула кровь, капли ее упали Арию на лицо. Я же вдыхала ее запах как головокружительное индийское благовоние.
В тусклом отблеске опала Арий увидел, как Тея, пошарив рукой под ворохом шелковых простыней, что валялись на полу рядом с ложем, вытащила оттуда императорский кинжал и, путаясь в шелке, бросилась в другой конец комнаты, где накрыла своим телом Викса. Первый удар, в пах, стал возмездием за нее. За те рыдания, которые он слышал, пока ждал за дверью. Возмездием за императорский смех.
Домициан с пронзительным криком попытался выцарапать ему глаза. Арий мотнул головой, и кровавые пальцы соскользнули с его щеки, зато его собственный кулак с силой врезался императору в горло. От удара Домициан отлетел на шелковые подушки, попытался отползти, словно паук, шаря рукой под подушкой в поисках кинжала, который еще ни разу не покидал своего места. Арий дождался, пока окровавленные пальцы Домициана поняли бесплодность своих поисков, а взгляд в немом укоре метнулся в сторону Теи.
И тогда он вспорол ему живот, как будто потрошил рыбу.
— Стража! — прохрипел Домициан. — Стража!
Увы, никто не откликнулся на его зов. Павлин отправил преторианцев охранять дальний конец дворца, кого-то послал выполнять бессмысленные поручения, кого-то откровенно подкупил отцовскими деньгами. Краем глаза Арий видел Павлина — тот стоял, в ужасе прижавшись к стене.
«Красавчик, — язвительно прошептал демон. — Забудь о нем».
Черная ярость нарастала в его сознании с такой быстротой, что вскоре уже застилала ему глаза. Как когда-то в Колизее, когда весь мир сжимался для него до размеров меча и песка арены, и еще противника, которого следовало во что бы то ни стало убить, вслед за чем следовали ночные кошмары, отогнать которые мог только убаюкивающий голос Теи. И тогда Арий нанес новый удар, пригвоздив Домициана к шелковым подушкам и луже крови, но и этого ему было мало!
— Павлин! — крикнул император. Рука красавчика легла на рукоятку меча, как будто бы он собрался наброситься на Ария. Арий мгновенно напрягся, приготовившись сражаться одновременно с двумя противниками, однако Павлин даже не сдвинулся с места. Он стоял, прижавшись спиной в стене, недвижимый, словно скала, и лишь глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.
— Павлин! — Домициан помутненным взором посмотрел на своего самого близкого друга, и Арий не стал ему мешать — пусть осознает всю глубину предательства. Павлин не выдержал его взгляда и отвернулся.
Император взвыл от боли и попытался подняться с ложа, однако Арий неспешно уселся на Домициана верхом и, упершись ему между лопаток коленом, вонзил в широкую спину лезвие и вспорол кожу по всей длине позвоночника. Император издал сдавленный стон.
«Он умирает, — отрешенно подумал Арий. — Я убиваю императора Рима».
— Нет! — вскрикнул Павлин и, стряхнув с себя оцепенение, отскочил от стены. Его удар настиг Ария сбоку, и тот свалился с Домициана.
Впрочем, Арий ловким движением тотчас вскочил на ноги, однако Павлин опустился на одно колено над телом императора и не подпустил Ария ближе, удерживая его на расстоянии сжимающей кинжал руки.
— Хватит, ради всех богов, хватит. Дай ему умереть по-человечески!
— В нем нет ничего человеческого!
Но Павлин его не услышал. Дрожащими руками он поднял Домициана с ложа и, стоя посреди лужи крови, расплакался.
— Цезарь, цезарь, прости меня… оставь его в покое, — со злостью бросил он Арию и замахнулся кинжалом. Лезвие просвистело в паре дюймов от бывшего гладиатора.
Домициан приподнял мускулистую руку.
— Цезарь, — Павлин низко склонился над поверженным императором, — господин…
Собрав последние силы, Домициан выхватил из его руки кинжал и вспорол ему горло.
Тея вскрикнула.
Арий бросился к Павлину, но, увы, слишком поздно.
— Юстина, — прошептал Павлин и испустил дух.
Я медленно поднялась на ноги. Оставив сына, споткнувшись о Павлина, я шагнула к Домициану — тот лежал лицом вверх на мозаичном полу и жадно хватал ртом воздух. Я легла на него сверху, придавив его своим телом, и посмотрела ему в глаза.
— Я никогда не боялась тебя, — сказала я ему. — Слышишь? Никогда!
Я продолжала смотреть ему в глаза, пока те не остекленели.
Какое-то время в комнате царило молчание. Я лежала на бездыханном теле Домициана, перемазанная с ног до головы его кровью. Викс сжался в комок в углу. Арий опустился на колени рядом с бездыханным Павлином и тупо смотрел перед собой. Никто не проронил ни слова.
Внезапно Арий швырнул кинжал. Тот отскочил от противоположной стены и с лязгом упал на пол. Викс от неожиданности вздрогнул.
— Бог, — хрипло прошептал он, — Бог.
Тогда Арий протянул ему свою усталую руку, и Викс прильнул к его плечу. Арий потянулся к шее плачущего сына и, схватив обеими руками серебряный обруч, разломил его пополам. Половинки он со злостью швырнул о стену, и те, негромко звякнув, упали на пол, и черный глаз неожиданно превратился в обыкновенный камень. Арий на мгновение зажмурился, а когда снова открыл глаза, то демона в них уже не было.
Я на четвереньках переползла через мертвого Домициана и рухнула без сил рядом со своим возлюбленным. Он прикоснулся губами к моим волосам, и я ощутила в его теле дрожь.
Мы все трое продолжали сидеть, прижимаясь друг к другу, когда окружающий мир ожил и снова пришел в движение.
(обратно)
Лепида
Я провела в кромешной тьме несколько часов. Я пыталась кричать сквозь кляп во рту, я колотила в дверь подошвами сандалий. Однако никто не пришел. В день своей предположительной смерти Домициан отослал большую часть рабов.
Однако он был еще жив. Потому что он не мог умереть. Он должен услышать мой рассказ, после чего он поцелует мне ноги и сделает меня госпожой и богиней, потому что лишь благодаря мне он останется жив.
Снаружи послышались чьи-то быстрые шаги. Я крикнула и стукнула ногой о дверь. Раздался царапающий звук, а затем мне в глаза больно ударил яркий свет — это кто-то открыл дверь. От неожиданности я заморгала, а когда глаза мои привыкли к свету, то увидела перед собой круглое лицо придворного астролога. Несс.
— Во дворце столько кладовых и чуланов, — произнес он бесстрастным тоном. — Я заглянул уже по меньшей мере в добрую сотню.
— Живо развяжи меня!
Несс вытащил у меня изо рта кляп, и я сплюнула.
— Где император? У меня есть сведения о заговоре. В нем замешана императрица и этот его драгоценный Викс.
— Ганимед, — произнес Несс.
— Что?
Несс слегка ослабил веревки у меня на запястьях. Для меня сейчас самое главное пробиться к Домициану. И тогда мои враги — и Тея, и Арий, и Викс, и Марк, и Павлин — к утру уже будут все как один закованы в цепи.
— Ганимед. Ты помнишь его?
— Кого я должна помнить?
Прежде чем я смогла сообразить, что происходит, он сомкнул пальцы у меня на шее.
— Несс, — прохрипела я, но его пальцы пережали мне горло.
— Ганимед. — Он прижал меня спиной к стене и сдавил сильнее. — Ганимед.
Я попыталась расцепить его пальцы и сломала при этом два ногтя. Он дорого мне за это заплатит…
— Ганимед, — его лицо оставалось холодным, словно мрамор. Его пальцы, подобно раскаленному железному обручу, все сильнее сдавливали мне горло. — Ганимед.
Мои ногти оставили у него на руке кровавые следы, мои руки напрасно пытались оттолкнуть его прочь, а тем временем глаза мне постепенно застилала тьма. Но будем надеяться, что сейчас сюда подоспеют стражники, они убьют Несса, отведут меня к императору… Но тут мои волосы, словно змеи, рассыпались по плечам. Неужели я предстану перед императором в таком виде?
— Ганимед… — прошипел Несс, — Ганимед.
Мое горло горело огнем, по телу пробегали жгучие искры боли. Нет, не может быть, это происходит не со мной. Ведь я Лепида Поллия, госпожа и богиня Рима. Я была прекрасна, и Фортуна благоволила мне.
— Ганимед.
Я ощущала, как моя кровь пытается пробиться по жилам, сдавленным его цепкими пальцами.
— Ганимед, — повторил Несс. По его рукам из оставленных мною царапин капает кровь. Я из последних сил пытаюсь отцепить его пальцы, и красный лак моих ногтей смешивается с кровью из его ран.
Я собираю в кулак последние силы и кричу. Но никакого крика не слышно — ничего, кроме сдавленного хрипа. В глазах у меня темнеет, а члены немеют.
— Ганимед, — шепчет Несс.
Я обессилено приваливаюсь к стене, чувствуя, как язык безвольно вываливается у меня изо рта. Перед глазами расцветают черные цветы, и сквозь них я смутно различаю искаженное лицо астролога.
— Кто, — пытаюсь сказать я, — кто?
Но в легких уже не осталось воздуха.
Кто такой Ганимед?
(обратно)
(обратно)
Глава 35
Марк шел домой, и каждый его нетвердый шаг отдавался в голове мыслью: «Мой сын мертв».
Он был не в силах вернуться домой и томиться ожиданием, пока Тея и Арий отправились в императорский дворец, и поспешил найти предлог, чтобы ждать у дворцовых ворот. Так он оказался в числе тех, кто стал первыми свидетелями пролитой крови. В числе тех, чьим глазам предстала зияющая рана в горле Павлина, его безвольно распластавшееся тело, его бессильно откинутая рука.
— Оставь его, Марк, — распорядилась императрица. — Мы похороним его как героя. Как друга Домициана, который пожертвовал собственной жизнью, спасая жизнь императора.
Павлин мертв.
Марк несколько мгновений смотрел на ворота собственного дома и не узнавал. Наконец он положил руку на задвижку и, проковыляв через сад, вошел в темный пустой вестибюль.
Павлин мертв.
Он попытался выбросить эту мысль из головы, и взгляд его упал в атрий. Там, в лунном свете, у колонны, застыла одинокая фигура.
— Кальпурния?
Она тотчас испуганно обернулась к нему. Глаза ее казались огромными колодцами на белом как мел лице.
— Марк, — прошептала Кальпурния. — О боги, Марк!
Сделав ему навстречу три шага, она бросилась ему на шею.
Он открыл рот, чтобы все ей рассказать, однако вдохнул букет ее запахов: аромат трав, мяты, свежеиспеченного хлеба, но уже в следующее мгновение боль дала о себе знать, наполняя собой все его существо, и он испугался, что умирает. Он зарылся лицом в ее плечо и лишь смутно слышал, как она отослала рабов.
— Все в порядке, с тобой все в порядке, — ее руки крепко сомкнулись у него на шее, а ее щека плотно прижалась к его щеке. — Я отказывалась верить, я ждала все это время… я не знала, что ты тоже там, и я ничего не хочу знать. Но с тобой все в порядке, ты жив, и это самое главное. О боги, Марк, только не покидай меня!
Она осыпала поцелуями его губы, его руки, его глаза.
— Только не покидай меня снова. Мне этого не вынести!
Она продолжала целовать его, и каждое прикосновение ее губ отгоняло прочь очередную частичку боли.
Марк медленно поднял руки и взял ее лицо в свои ладони.
— Ты плачешь? — Ощутив привкус соли на его щеках, Кальпурния слегка отстранилась от него. — В чем дело?
— Павлин… Павлин… — он наконец нашел в себе силы произнести страшные слова. — Он мертв. Мой сын мертв.
— Мертв? — Кальпурния вздрогнула. — Что ты хочешь сказать?
— Он убит. Император тоже, — упавшим голосом добавил Марк.
— Но Павлин! — Кальпурния в ужасе прикрыла ладонью рот. — О боги! Марк, я не знала… — Она прильнула к нему. — Прости, я не знала…
— Мне предложили… — он недоговорил и посмотрел на нареченную своего мертвого сына: Кальпурния прижалась к нему и обняла за шею. Теперь ему ничто не мешало сделать ей предложение. Когда же он успел влюбиться в нее?
Он провел пальцем по ее широкому ясному лбу.
— Как ты смотришь на то, чтобы стать императрицей?
— Что?
— Мне предложили императорский венок, Кальпурния. Императрица предложила его мне еще до того, как все случилось, но из-за Павлина я отказался. Потому что для императора на первом месте империя, а семья на втором. Своего наследника он должен усыновить, если хочет, чтобы в будущем Рим получил достойного преемника. А такая система никогда не будет работать, если у императора имеются собственные сыновья, которые могут проникнуться к приемному сыну ревностью и попытаются сами наследовать трон.
— Теперь у тебя нет сыновей, — сказала ему императрица у тела Павлина. — Усынови того, кто способен стать твоим преемником. Усынови, и пурпурная мантия твоя.
— Марк! — Кальпурния нежно поцеловала его. — Марк, что с тобой?
— Ничего, — он покачал головой. — Кальпурния, я хотел бы побыть один. Ты не…
Не говоря ни слова, она тотчас разжала объятия и отстранилась от него. Впрочем, всего на шаг, и вздумай он вновь произнести ее имя, как она тотчас снова бросилась бы ему на шею.
Марк Норбан опустился на мраморную скамью.
— У тебя всего час, — сказа ему императрица. — В течение этого часа мы должны получить нового императора. Будь это ты или кто-то другой.
Половина этого часа уже истекла. Марк задумчиво сложил руки.
Император Марк Вибий Август Норбан.
Даже нося в себе неизбывное горе, он еще проживет не один десяток лет. Этого времени хватит, чтобы навести в империи порядок и передать власть одаренному и энергичному преемнику. Этого времени хватит, чтобы смягчить жестокие законы об измене, наладить отношения с Сенатом, построить памятники и храмы, чтобы Рим стал красивейшим городом в мире. Труд — тяжкий труд, потребуются долгие годы, чтобы дурные времена наконец оказались забыты. Нет, он вполне мог бы прожить отпущенные ему годы, служа империи.
Император Марк Август. Обитать внутри высоких дворцовых стен в окружении верной стражи, обращаться к Сенату из центра зала, а не с задних рядов, благосклонно принимать ликующие крики толпы, восседать в пурпурных одеяниях во время триумфов и игр. Трудиться при свете ламп по ночам, чтобы укрепить денежную систему, расширять границы, строить акведуки. Мужчина без жены — странно, что он завел этот разговор, потому что молодая здоровая жена наверняка родит ему детей, сыновей, которые захотят унаследовать империю. Мужчина, у которого подрастает дочь, которая — ради укрепления союза — будет вынуждена выйти замуж за усыновленного преемника, человека по меньшей мере в три раза ее старше. Марк Август Цезарь, двенадцатый император Римской империи, тот, кого будут бояться при жизни, которому будут поклоняться после смерти, увековеченный в мраморе в назидание потомкам.
Тебе следует быть императором, сказала ему когда-то давно одна женщина. И вот теперь перед ним открылась такая возможность. А пока минуты убегали прочь, а он продолжал сидеть, словно мраморная статуя, которую при желании он мог бы заказать в свою честь уже завтра утром.
Он потянулся за куском пергамента. За пером и чернилами. И написал одно-единственное слово. Сонный раб, которого он поднял с постели, зашагал среди ночи в сторону императорского дворца.
Марк повернул голову, вглядываясь в ночные тени, и протянул руку в слабой, неверной, трепещущей надежде нащупать теплые пальцы Кальпурнии.
(обратно)
Тея
Вместе с императрицей в небольшой таблинум пришла тишина. Снаружи доносились крики рабов, беготня стражников. Мраморные коридоры наполнял гул голосов, однако императрица плотно закрыла за собой дверь, и тотчас стало тихо.
— Слишком шумно, — сказала она, поморщившись. — Боюсь, так будет продолжаться еще несколько дней. Как только в империи восстановится порядок, я намерена удалиться на тихую виллу в Байи, где слышится только пение птиц. — Женщина, которая только что убила собственного мужа, с деловым видом села за стол. — Возможно, там я возьмусь за воспоминания.
Я растерянно заморгала. Около десятка рабов могли подтвердить, что, когда ее мужа безжалостно кромсали кинжалом, императрица находилась в своих покоях, где ткала скатерть, однако как только кровавая бойня была окончена, она тотчас поспешила в его окровавленную опочивальню. Еще до того, как туда, вслед за ней, устремились стражники и рабы, нас троих — меня, Ария и Викса, — увели через разные двери.
— Чтобы никто не узнал, — объяснила императрица, когда Викс исчез в одном темном коридоре, а Арий в другом. Тогда она схватила меня за локоть и провела из залитой императорской кровью опочивальни в небольшой личный таблинум. У меня не было никаких гарантий, что она… ничего мне не сделает. Насколько хорошо я знала эту женщину? Насколько хорошо знал ее любой из нас?
— Я хотела бы знать, где сейчас мои сын и муж, — произнесла я, с трудом узнавая собственный голос. Казалось, он донесся откуда-то издалека. — Заперты в тихой камере, куда ты, скорее всего, бросишь и меня, где нас всех троих задушат, а наши тела потихоньку выбросят за городские стены? Скажи, это входит в твои планы? Тебе, наверняка, ведь захочется обелить себя.
— Двадцать лет назад, да, так бы оно и было. — Императрица пробежала глазами какой-то свиток и рассеянно нахмурилась. — Но с тех пор жизнь научила меня мудрости. Тея, ты и я, наверно, две женщины во всем мире, кто пережил привязанность Домициана. Я вижу в этом знак благосклонности богов, и я не намерена лишать жизни тех, кому благоволят сами боги.
— Тогда где же Арий?
— Арий? — Императрица заглянула в свиток. — Сейчас им занимается мой личный лекарь, по словам которого, твой возлюбленный вскоре встанет на ноги, причем, гораздо быстрее, чем любой другой мужчина его возраста и привычек. Хотя, разумеется, мы будем вынуждены сделать ложное заявление о его смерти, — добавила императрица. — Раб Стефан, убийца нашего возлюбленного императора, сам получил смертельное ранение, пытаясь побороть сопротивление Домициана. По крайней мере, один убийца должен быть назван публично. Не переживай, мы найдем тело преступника, которое можно будет выставить на Гермонианской лестнице.
— А Викс? — прошептала я. — Что будет с ним?
— Этот твой несносный мальчишка? Тебе известно, что он изуродовал целое крыло дворца? Искромсал мечом на мелкие крошки. Кстати, после его появления в этих стенах из кошельков пропала не одна монета. Впрочем, не переживай, как только ему наложили шину, он тотчас сбежал, только его и видели.
— Что? Куда? Почему ты позволила ему уйти?
— Разумеется, я ничего ему не позволяла. И теперь жалею о том, что на мгновение отвернулась от этого исчадия. Но ты не переживай. Этот твой гадкий мальчишка — глядя на него, я даже радуюсь, что у меня нет детей — вернется сюда, не успеешь ты и глазом моргнуть. Возможно даже, притащит сюда этого вашего трехногого пса. Кстати, Арий громко требовал, чтобы собаку нашли и вернули ему.
— Скажи, госпожа, ты знала все?
— Почти все, — невозмутимо ответила императрица. — У меня самые лучшие соглядатаи во всей империи.
С этими словами она достала вощеную табличку и принялась что-то писать. Я устало вздохнула и опустилась на табурет рядом с ее столом. Голова раскалывалась от боли. Я с ног до этой самой больной головы была забрызгана кровью Домициана. Мой сын исчез, моим возлюбленным сейчас занимается лекарь, в тысячный раз латает его раны. Или в последний? Хотелось бы надеяться, хотя сама надежда была призрачной.
— Что ты пишешь? — спросила я, глядя в окно.
— Составляю новый список, — императрица энергично подчеркнула стилом заглавие. — Список того, что предстоит сделать. Подготовить официальное заявление о смерти императора, собрать Сенат для выборов и утверждения нового, провести быструю коронацию, сделать что-нибудь для Флавии.
— Для Флавии? Так, значит, с ней все в порядке?
— О да! Я позаботилась об этом. С ней ее младший сын, тот самый, которого спасли Павлин и твой Викс, а несколько месяцев назад Флавия благополучно разрешилась от бремени девочкой. Так что у Флавии и ее детей все в порядке, однако пора увозить их с этого продуваемого всеми ветрами острова.
— В Рим ей возвращаться никак нельзя.
— Нет. Более того, будет лучше, если мы объявим о прекращении династии Флавиев. Однако поместье где-нибудь в Испании или Сирии для уважаемой вдовы и ее двоих детей… думаю, в этом нет ничего зазорного. Да, пожалуй, пусть это будет Испания. Возможно, я также отправлю туда Несса. На него невозможно смотреть — такой несчастный у него вид!
В дверь постучали.
— Войдите, — отозвалась императрица.
Молчаливый раб передал ей клочок бумаги.
— От сенатора Марка Норбана, госпожа.
Императрица быстро взглянула на одно-единственное слово.
— Я так и думала, — она отложила пергамен в сторону, взяла два запечатанных письма и вручила их рабу. — Доставь в соответствующие дома.
— Сенатор Норбан отказался от пурпурной мантии? — спросила я, как только дверь за рабом закрылась.
— Что заставляет тебя так думать?
— Я не настолько глупа…
— Скажем так, — императрица пожала плечами, — Марк не будет возведен на трон. Возможно также, он захочет отойти от сенатских дел. Но я не позволю ему этого сделать. У него впереди еще многие годы, к тому же у него есть его милая Кальпурния, которая, наверняка, вернет ему вкус к жизни.
Я задумчиво положила подбородок на ладони.
— Из него вышел бы великолепный цезарь.
Императрица подняла брови, как будто не ожидала услышать от рабыни мнение по этому поводу. Впрочем, какая я рабыня, особенно теперь, и брови императрицы вернулись на место.
— Что ж, пусть будет сенатор Нерва. Наш с Марком первоначальный выбор пал именно на него — достойное происхождение, блестящая карьера, к тому же, страшный зануда. Лично я предпочла бы Марка, но коль он не хочет, Нерва меня тоже устроит.
— Да, он не плох, — заметила я. — Я когда-то пела для него в Брундизии. Он щедро вознаградил меня тогда.
— Будем надеяться, что с налогами он будет столь же щедр. — Императрица откинулась на спинку стула. Я впервые за многие годы видела ее такой спокойной и довольной. — Итак, — сказала она.
— Итак, — повторила я.
И мы посмотрели друг на друга.
— Ну что ж, — задумчиво произнесла императрица, — у меня есть сестра и две кузины, которые не разговаривали со мной почти два десятка лет. Видишь ли, мне уже случалось вмешиваться в дела императора, и мои родственницы всякий раз выражали свое неодобрение. Сейчас самое время заняться починкой заборов. После чего я удалюсь на свою виллу в Байи, где проживу до глубокой старости, — императрица наклонила голову. — А ты, моя дорогая?
Я пожала плечами.
— Арий еще тот мечтатель. Утверждает, что хотел бы жить на высокой горе и быть садовником.
— О, какая идиллия! А он разбирается в этом деле?
— По словам Флавии, он загубил почти все ее виноградники.
— Возможно, со временем он приобретет опыт. А ты, чего хотелось бы тебе самой?
— Мне достаточно Ария, будь он гладиатор или садовник.
— А как же твой несносный сын? Будет ли ему хватать сельской жизни?
— Возможно, он получит несколько братьев и сестер, из которых вымуштрует свой собственный легион.
— Скажи, ты уже носишь под сердцем ребенка?
Я улыбнулась.
— Отлично. Тогда вырасти его здоровым. Что касается юного Верцингеторикса, — императрица на минуту задумалась. — Думаю, в один прекрасный день он будет командовать настоящим легионом, если только Несс не ошибся со своим гороскопом. У твоего сына есть определенный талант. И если, когда он вырастет, ему захочется найти ему применение, Рим примет его с распростертыми объятиями. Боюсь только, что под другим именем. Так что, возможно, юного Варвара мы видели сегодня в последний раз. Что касается Верцингеторикса, то я не вполне уверена.
Императрица вздрогнула.
Может, мне стоит встать на защиту своего сына? Или лучше не стоит? Я пожала плечами.
Императрица достала стопку запечатанных писем и принялась их перечитывать.
— Бумаги, дарующие свободу тебе, Арию и этому твоему несносному сыну. Разрешение отплыть в Гибралтар, а оттуда в Британию. Немного денег, чтобы начать новую жизнь. Годовое пособие, выплачиваемое анонимно в первый день каждого года. Сумма заранее передается на хранение губернатору Лондиния, который не станет задавать вопросы тому, кто придет за этими деньгами, — императрица через стол подтолкнула ко мне письма. — Твое вознаграждение.
Я взяла в руки собственное будущее.
— Мы его заслужили.
— Особенно ты, — императрица поднялась и начала один за другим снимать с пальцев и шеи изумруды. — О, как мне надоел зеленый цвет! — пояснила она. — Думаю, я подарю все свои изумруды сестре и кузинам. Но сначала выбери себе то, что понравится.
Мой выбор пал на широкую диадему, которая купит нам в Британии домик, а может, даже целую гору.
— До отъезда тебе понадобятся новые платья, — продолжала императрица, выходя из-за стола. — Кровь больше не в моде. Я пришлю тебе кое-что из моих собственных нарядов. Думаю, они будут тебе в пору, ведь мы с тобой примерно одного роста и сложения.
Сказать по правде, у нас с ней было немало общего. Рост, сложение, длинные темные волосы. Домициан когда-то любил ее, а потом возненавидел и положил к себе в постель Юлию, которая была совершенно на нее не похожа. После ее смерти он взял в любовницы меня, потому что с Юлией у меня не было ничего общего, что в свою очередь означало, что я больше походила на императрицу, нежели на Юлию. Но был ли кто-то, кто походил бы на Юлию?
— Почему ты помогаешь мне, домина? — спросила я. — Это все из-за Юлии?
— Это тебя не касается, — возразила императрица. — Впрочем, да. Признаюсь честно, я вздохнула с облегчением, когда Домициан положил к себе в постель другую. Мне не надо объяснять тебе, почему. Вздохнула с таким великим облегчением, что бросила Юлию на съедение волкам.
— Наверно, даже волки не столь жестоки, как Домициан.
— Верно, — невозмутимо согласилась императрица. — Но к тому времени я уже слегка лишилась рассудка. Как и ты, в какой-то момент. С Юлией произошло то же самое. Как бы то ни было, мы все трое сражались за себя, как могли.
— Кто-то больше, кто-то меньше, — сказала я.
Императрица рассмеялась. И мне показалось, будто в этой комнате также послышался смех Юлии.
— А теперь я хотела бы задать тебе один вопрос, — императрица пристально посмотрела на меня. — Ты говорила Домициану, что он обыкновенный человек, как и все?
— Да.
— Хотела бы я видеть его лицо в эту минуту, — императрица шагнула мне навстречу и на мгновение коснулась щекой моей щеки. Я улыбнулась, хотя ее прикосновение и заставило меня вздрогнуть. Меня, как и Юлию, называли хозяйкой Рима, но люди ошибались. Потому что хозяйка Рима стояла передо мной, во плоти и крови, женщина с железной волей, которая внешне чем-то напоминала меня.
— Удачи тебе, Тея, — сказала императрица.
Удачи тебе, Тея, эхом отозвался голос Юлии. А потом мы все трое расстались.
В коридоре за дверью я увидела двух мужчин в плотном кольце преторианцев. Сенатор Марк Кокций Нерва, сердитый и суетливый, в ночной рубашке, жаловался на ночной холод. Рядом тот, кого он вскоре усыновит как наследника: Марк Ульпий Траян, великий воин и хладнокровный вождь. Его имя, наверняка, предложил сенатор Норбан. Сейчас этот будущий наследник императорского трона громко зевал в мраморном коридоре, правда, в полных боевых доспехах.
— Приветствую тебя, цезарь, — произнесла я и прошла мимо, прежде чем кто-то из них успел выразить свое удивление.
Лепестки роз, фанфары, колесницы, ликующие крики толпы, Рим, веселый и счастливый, в праздничном убранстве, готовый к торжествам. Марк ощущал всеобщее волнение едва ли не кожей.
Император Нерва, в золотом ожерелье и пурпурной мантии, проплыл над толпой на позолоченных носилках, которые несли восемь нубийцев. Слишком стар и суетлив, подумал Марк, и наверняка попробует гладить легионы против шерсти, зато благочестив и с должным самоуничижением воздает почести статуям богов, а также не забыл щедро осыпать толпу монетами. Впрочем, куда больше ликующих возгласов досталось Траяну. Тот гарцевал вслед за Нервой на сером коне, увенчанный лавровым венком, который съехал ему куда-то на затылок. Марк задался мысленным вопросом, должен ли знать императорский наследник, что свой лавровый венок он заработал в тот момент, когда выкинул Лепиду Поллию из носилок, чем здорово тогда его рассмешил? Сказать ему об этом? Нет, лучше не
стоит.
Затем вперед вышли жрецы, ведя за собой двух украшенных гирляндами жертвенных быков. Вслед за ними, в белоснежных одеждах, молчаливые весталки. За весталками сенаторы в парадных тогах с пурпурной каймой. Марк занял свое место в их рядах и принялся отвешивать поклоны. Впрочем, он тут же отступил назад и встал рядом с Сабиной. Сегодня его дочь впервые облачилась в женское платье, и он с удивлением отметил про себя, какая она стала высокая и хорошенькая. Можно сказать, почти взрослая девушка. Впрочем, пусть поживет еще несколько лет в отцовском доме, прежде чем выйти замуж. И снова Марк задался про себя вопросом — должен ли он сказать дочери, что едва не стал императором. Он мог бы сделать и ее императрицей, выдав замуж за шутника Траяна. Нет, лучше не стоит.
Затем к ним присоединилась Кальпурния. В своем ярко-желтом платье она напомнила ему весенний нарцисс. Марк взял ее руку и, не обращая внимания на перешептывание толпы, прижал к своей щеке. Он пока еще не женился на Кальпурнии. По совету авгуров, было решено дождаться благоприятного дня в конце сентября. Однако Кальпурния уже переехала к нему в дом вместе со всеми своими пожитками и рабами. По этому поводу ее семья принялась стенать, а Рим перешептываться, однако Кальпурния не обращала на это внимания.
— Я обожаю тебя, Марк, — честно призналась она. — И я не намерена попусту тратить дни, живя вдали от тебя.
Марк решил, что, учитывая его далеко не юный возраст, должен быть польщен таким заявлением, хотя в целом это и попахивало скандалом. Впрочем, для него значило мнение лишь одного человека, и ее согласие он получил немедленно.
— Я же вижу, как ты счастлив, — сказала Сабина, отрывая глаза от разложенной на столе библиотеки карты. — Нет, конечно, сейчас вид у тебя довольно грустный, но вскоре все станет иначе. Кальпурния об этом позаботится. А еще она родит тебе детей, что тоже хорошо, потому что я намерена посмотреть мир. Скажу честно, мне не хочется замуж за сенатора, чтобы затем стать занудной римской матроной. Поэтому должен быть кто-то другой, кроме меня, кому ты мог бы передать наше имя.
Сабина посмотрела ему в глаза, а потом уткнулась лбом в плечо.
— Думаю, Павлин был бы только рад видеть тебя счастливым, — негромко добавила она. — И не стал бы возражать.
— А твоя мать? — Марк сумел каким-то чудом преодолеть страшный ком, застревавший у него в горле всякий раз, когда мысли его возвращались к Павлину. Он не мог говорить о Павлине, пока не мог — даже с Сабиной.
— Думаю, она вряд ли бы захотела видеть тебя счастливым, — честно призналась Сабина. — Но теперь это уже ничего не значит.
Тело Лепиды Поллии было обнаружено в императорском дворце. Кто-то неизвестный бесцеремонно спрятал его в чулане… считалось, что это еще одна жертва убийцы, лишившего жизни самого императора. Марк, будучи лучше других осведомлен о событиях того дня, не стал требовать расследования обстоятельств смерти своей бывшей жены. Потеряв сына, он вообще не переживал по этому поводу.
К императору Нерве прошествовала одинокая фигура бывшей императрицы Рима и склонила голову в глубоком поклоне. Императрица сдержала свое слово: Павлину были отданы почести, как герою, который пожертвовал собственной жизнью, пытаясь спасти императора от кинжала убийцы. В честь Павлина предполагалось возвести арку, дабы увековечить для грядущих поколений его имя. Императрица заставила Сенат принять такое решение, прежде чем объявить о своем намерении удалиться в Байи. И вот теперь на глазах у всего Рима, облаченная в белый шелк, она склонила голову в поклоне перед новым императором — живое воплощение добродетели и скромности, пример для подражания дочерям римских патрицианских семейств. Марку же почему-то вспомнилась темноволосая девушка по имени Марцелла. А надо сказать, эта Марцелла была большая любительница строить козни против тех, кого не любила. Нет, сейчас он не питал к ней враждебных чувств, но хочет ли он видеть ее в качестве примера подражания для Сабины? Пожалуй, нет.
Астролог Несс звонко зачитал предсказание. Его круглое лицо буквально светилось счастьем. Согласно звездам, Римскую империю ждали восемь лет славного правления нового императора — золотой век Рима, по словам Несса, вступал в свои права. Марк почувствовал, как Кальпурния радостно сжала ему пальцы.
Марк Норбан — а с ним и весь Рим — считал, что все они это заслужили.
— Нам пора. — Тея легонько похлопала Ария по плечу. — Лодка уже ждет. О! — вырвался у нее изумленный возглас, когда он повернулся к ней. — Это снова ты!
Арий пригладил волосы — отмытые от сока грецкого ореха, они вернули себе рыжеватый оттенок. Борода тоже исчезла.
— Ну как, нравится?
— Еще как! — Она обвила его руками за шею и прижалась щекой к чисто выбритому подбородку. Он взял ее руку и прикоснулся губами к запястью. Нос ее загорел, скрученные в косу волосы змеились по спине. Стоило ему посмотреть на нее, как мир в его глазах закачался, грозя перевернуться.
— Эй! — крикнул им Викс, который вырос словно из-под земли с трехногой собачонкой под мышкой. — Оставьте свои нежности на потом.
Арий отвесил ему шутливую затрещину, Викс, расплывшись в ухмылке от уха до уха, не оставил ее без ответа. Живя во дворце, он вытянулся еще на несколько дюймов, а благодаря поединкам на арене Колизея нарастил себе крепкие бицепсы. И все же сейчас он снова стал похож на мальчишку. Лицо утратило настороженное выражение, и он, как и в былые годы, в припрыжку шагал по улице.
Они прошмыгнули переулками. Арий держал Тею за руку, Викс бежал впереди наперегонки с трехногой собачонкой. Беспокоиться, что их остановят, не было нужды, ибо при себе у них имелись бумаги, скрепленные печатью императрицы, и ни один римский солдат не осмелился бы преградить им путь — наоборот, отсалютовал бы, уступая дорогу. В любом случае, сейчас все солдаты заняты тем, что охраняют своего нового императора. Так что кому какое дело до семьи, которая торопится к поджидающей их на Тибре лодке?
Бригантия. Арий не был в родных краях с тех пор, когда сам был в возрасте Викса. Но стоило ему втянуть носом воздух, как он был готов поклясться, что учуял запах горного тумана.
Замечтавшись, он налетел на Викса, который остановился посреди улицы.
— В чем дело? — он посмотрел в ту же сторону, что и сын.
Гладиаторы.
Из открытых ворот к поджидающей неподалеку повозке шагала вереница крепких, покрытых шрамами мужчин в пурпурных плащах. Вооруженных мужчин, чьи лица были скрыты под шлемами. И каждый бросал хмурый взгляд в сторону надушенного и напомаженного ланисты, что сидя в позолоченном паланкине, недовольно поторапливал их.
— Игры, — произнесла Тея. — В честь нового императора. Траян обожает игры…
Арий вздрогнул. Он посмотрел на сына: на лице Викса застыло выражение ужаса.
— Пойдем, — окликнул его Арий. И они молча пошли дальше. А позади них, направляясь к Колизею, по булыжной мостовой тяжело загрохотала повозка.
Арий бросил взгляд через плечо. В конце улицы маячил Колизей, круглая мраморная громада, которая по-прежнему хранила в своем чреве запах окровавленного песка и все его прежние кошмары.
Тея сжала ему руку.
— Не надо оглядываться, — сказала она. — Вспомни, что стало с женой Лота.
— Что-что?
Он растерянно посмотрел на нее.
— Это такая еврейская история. Мне нет времени тебе ее рассказывать. Но мой тебе совет — не надо оглядываться.
Арий нехотя оторвал от Колизея глаза и прислушался к себе, не раздастся ли в голове голос демона.
— Демон мертв, — сказал ему Геркулес. — Он умер вместе с Домицианом, ты, глупый великан.
Верно. Никакого демона в голове он не обнаружил. Внутри его сознания царила звенящая тишина.
— О чем ты задумался?
Арий крепко сжал Тее руку и, навсегда выбросив из головы Колизей и все, что было с ним связано, решительно устремил взгляд вперед.
(обратно)
Тея
Это была крошечная рыбацкая лодка, предназначенная для плавания по Тибру, однако именно на ней мы поплывем в море. Арий уже глубоко втягивал носом ветер и едва ли не вприпрыжку расхаживал по палубе. Глядя на него, я чувствовала, как сердце мое переполняется счастьем. Прежде чем мы покинули пределы города, он выбросил за борт матроса, а все потому, что матросу хватило наглости пнуть собачонку. Впрочем, Арий тотчас, вполне дружески, вытащил беднягу из воды. Другой матрос отвесил подзатыльник Виксу за то, что тот попытался вскарабкаться на мачту. Этого матроса Арий швырять за борт не стал. Наоборот, посоветовал почаще отвешивать подзатыльники нашему сыну, дескать, до этого сорванца уроки доходят не сразу. Мне было приятно вновь видеть Ария спокойным и веселым. Да и за Виксом в кои-то веки мне тоже не нужно было присматривать в оба глаза.
— Хорошо, что он перерос свои наивные мечты об арене, — заметил как-то раз Арий. Мы с ним стояли рядом на залитой солнцем палубе, наблюдая, как наш непоседа-сын пытался уговорить капитана, чтобы тот разрешил ему начертить на карте курс. — Может, он и идиот, но даже идиот не настолько глуп, чтобы мечтать об арене.
— Как, по-твоему, сколько лет еще он проведет с нами?
Жестом, точь-в-точь повторяющим жест отца, Викс взъерошил свои рыжие вихры. Он уже не раз заводил разговор о том, что в один прекрасный день вернется в Рим, где станет сотником, а может, даже центурионом в легионе, чтобы водить армии в бой и сражаться с драконами.
— Думаю, еще пару-тройку лет.
— И мы не сумеем его отговорить?
— Сам император был бы бессилен это сделать. — Арий пожал мне руку и задумчиво положил подбородок мне на затылок. — Разве придворный астролог не говорил, что в один прекрасный день наш сын будет командовать армией?
— Армией головорезов и разбойников. Вот кого он поведет за собой. Похоже, нашего сына так и манит кривая дорожка.
И все же это был мой сын, сын певицы и гладиатора, который в будущем будет командовать легионами. Интересно, что сказала бы по этому поводу Лепида Поллия? Наверно, лопнула бы от злости. Но Лепиды Поллии больше не было в живых. Впрочем, какое мне до нее дело. Главное, что я помогла свергнуть императора, а прочие вещи отступили на второй план — даже Лепида. Я не задумывалась о том, кто лишил ее жизни. Это мог быть кто угодно. Страшно представить, скольких врагов она нажила себе за все эти годы интриг и козней.
Несс постепенно становился похож на себя прежнего. Вчера он подошел ко мне, пожал руку и сказал, что я ношу под сердцем дочь.
— Первую из целого выводка, — уточнил он. — Рыжеволосую и непослушную. Думаю, с ней тебе будет некогда скучать. Удачи тебе, моя дорогая.
С этими словами Несс поцеловал меня в щеку.
Дочь? Я бы хотела иметь дочь, которая появится на свет в Бригантин.
— В чем дело? — Арий заметил, что я улыбаюсь.
— Потом, — ответила я. Я скажу ему, когда наше путешествие подойдет к концу. Потому что иначе он будет переживать. — Ты не мог бы дать мне на минутку нож?
— Зачем он тебе?
Я выхватила лезвие из ножен у него на поясе и быстрым движением проколола себе запястье.
— Тея, что ты делаешь!
— Ничего страшного, — я с улыбкой протянула руку через борт и стряхнула в воды Тибра каплю крови. — В последний раз.
Арий вопросительно посмотрел на меня.
— Клянусь, — я торжественно подняла руку.
Он взял мое запястье и большим пальцем пережал струйку крови. Затем зарылся другой рукой мне в волосы и поцеловал меня.
Смеясь, я подняла голову и увидела море. Мы даже не заметили, как оставили Рим далеко позади.
(обратно)
(обратно)
(обратно)
ОТ АВТОРА
Император Тит Флавий Домициан умер в пять часов пополудни 18 сентября 96 года нашей эры. Это была крайне противоречивая личность: полководец, которого боготворили его легионы, талантливый администратор, параноик, десятками отправлявший людей на казнь. Многие из черт его характера, описанные в этой книге, соответствуют действительности: его популярность среди солдат, зависть к старшему брату Титу, ненависть к евреям и любовь к гладиаторским играм, его жутковатые пиры в черном зале, трактат об уходе за волосами, привычка насаживать мух на кончик пера.
Тея целиком и полностью вымышленный персонаж, однако ее происхождение из Масады вполне правдоподобно. Целый город еврейских мятежников предпочел свести счеты с жизнью, за исключением горстки людей. Мне было интересно, что испытывали те, кто остался в живых после этого жуткого массового самоубийства, терзались ли они чувством вины. Так родилась Тея. Лепида Поллия и Марк Норбан тоже вымышленные персонажи, однако многие другие обязаны своим существованием реальным лицам. Император Домициан действительно сделал племянницу Юлию своей любовницей, которая позднее якобы умерла от неудачного аборта. То, что она продолжила существование в обличье весталки — целиком и полностью плод моего вымысла, хотя такой вариант был гораздо сложнее осуществим, чем можно подумать, читая эту книгу, потому что девочек выбирали в весталки в довольно юном возрасте и эта торжественная церемония была публичной. Однако верно то, что Домициан за годы своего правления действительно казнил нескольких весталок за нарушение обета целомудрия, причем именно так, как это описано в книге. Его вторая племянница, Флавия (в действительности кузина Юлии, а не ее сводная сестра), как христианка была отправлена в изгнание на Пандатерию. Муж ее был казнен. Судьба двоих ее сыновей неизвестна. Домициана часто сопровождал на игры мальчик в красной тунике — так на страницах этой книги появился Викс. Кроме того, на самом деле существовал префект претория Норбан, сыгравший не последнюю роль в убийстве Домициана, хотя и не совсем ясно, какую. Его судьба также неизвестна. Императрица участвовала в заговоре: она действительно обнаружила смертный приговор со своим именем, что вынудило ее ускорить осуществление заговора. После смерти мужа она прожила еще долгие годы до глубокой старости. Убийцей Домициана был раб Флавии по имени Стефан. Он сумел пронести во дворец нож в повязке. Если верить истории, сам он погиб в кровавой схватке с Домицианом. На страницах моей книги он стал гладиатором Арием и в конечном итоге сумел бежать из Рима навстречу счастливой жизни. Я также позволила себе несколько вольностей в описании игр. Гладиаторские игры в Риме были кровавым зрелищем, однако при этом соблюдались строгие правила; так что Арий не мог бы сражаться в одиночку против шестерых противников либо безоружным против диких зверей, а также против женщин.
Домициана чаще всего вспоминают как последнего представителя династии Флавиев, которому было далеко и до своего отца Веспасиана, и до брата Тита. Однако его правление плавно привело Рим к золотому веку — восьмидесяти годам процветания, которые начались с престарелого императора Нервы и великого полководца Траяна. Тея и Арий непременно будут растить детей в мирное время, так что их история заканчивается счастливо. У Сабины также впереди интересная жизнь, да и Риму еще предстоит встреча с Виксом.
Действующие лица:
Тит Флавий Домициан — римский император.
Императрица Домиция Лонгина — его жена.
Юлия Флавия — дочь брата Домициана Тита от второго брака.
Флавия Домицилла — дочь брата Домициана Тита от первого брака. Сводная сестра Юлии.
Флавий Клемент — ее супруг.
Гай Тит Флавий — двоюродный брат Домициана, муж Юлии.
Марк Вибий Август Норбан — римский сенатор, внук императора Августа.
Лепида Поллия — его вторая жена.
Вибия Сабина — их дочь.
Павлин Вибий Август Норбан — преторианец, сын Марка от первого брака.
Тея — рабыня-еврейка.
Арий — гладиатор и раб.
Верцингеторикс — мальчишка-раб.
Галлий — ланиста, хозяин Ария и гладиаторской школы.
Ларций — претор и любитель музыки из Брундизия.
Пенелопа — его вольноотпущенница.
Квинт Поллио — организатор игр, отец Лепиды Поллии.
Несс — личный астролог императора.
Ганимед — личный раб императора.
Юстина — весталка.
Лаппий Максим Норбан — наместник Нижней Германии, родственник Марка.
Сатурнин — наместник Верхней Германии.
Траян — легионер.
Стефан — садовник.
(обратно)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
(обратно)
(обратно)
Кейт Куинн
Дочери Рима
Пролог
Рука
Самая обычная детская ручка с пухлыми пальчиками, чуть липкая, но на какое-то мгновение он увидел на ней кровь.
— Интересно, — ловя ртом воздух, пробормотал Несс. Девочка выжидающе посмотрела на него, и он снова бросил взгляд на ее ладонь, надеясь, что это был обман зрения или тень. Впрочем, нет, именно так и было — не тень, а кровь. Много крови. Достаточно, чтобы залить ею весь Рим.
Ты видишь то, чего нет, сказал он себе.
К тебе приходят видения.
— Что там? — сгорая от любопытства, поинтересовалась девочка.
Несс сглотнул застрявший в горле комок и нервно усмехнулся. Разве астрологу не дано видеть то, что недоступно взорам других людей, когда он смотрит на звезды или читает линии ладони?
Но раньше видений у него не было. Ни разу — с тех пор, как он занялся предсказаниями человеческих судеб. В конце концов астрология не имеет ничего общего с истиной, она служит лишь для того, чтобы ублажать клиентов, сообщать им приятные вещи. Пообещать беременной женщине, что звезды предрекают ей здоровых сыновей. Поведать легионеру о будущем, в котором он удостоится воинской славы и наград. Какой, скажите на милость, астролог, если он, конечно, в своем уме, станет кому-нибудь говорить о том, что он узрел кровь на ладони, протянутой для чтения линий жизни?
Эх, лучше бы ты стал владельцем винной лавки! С небес светило жгучее, безжалостное солнце, но по затылку Несса струился холодный пот.
Или же адвокатом. Но нет, тебе вздумалось стать астрологом. Истолковывать положение звезд или, когда дела идут неважнецки, читать по ладоням линии жизни! Ну почему ты не открыл винную лавку? Потому что единственная кровь в винной лавке лилась лишь тогда, когда пьяницы в драке разбивали друг другу носы.
А ведь как хорошо началось это утро! Он рано пришел на Форум, занял местечко в тени, где солнце не так сильно пекло голову, не обрушивая на нее, подобно ударам Вулканова молота, безжалостные лучи, и разложил на куске потертого шелка свои звездные карты. К полудню он получил три заказа на гороскопы (оплата при получении), погадал по ладони торговцу зерном и туманно пообещал богатые прибыли после следующего урожая. Затем, прищурившись, взглянул на руку юной ветреной женщины и шепотом напророчил ей богатого мужа. Несс вытер рукавом лоб с заметными залысинами и уже подумывал о том, не купить ли ему в близлежащей таверне кувшинчик вина, когда перед ним, выжидающе на него глядя, возникли четыре юные девчушки.
— Мы хотим узнать будущее, — объявила ему самая высокая. Остальные тут же разразились смешками.
— У нас нет времени, — проворчала их няня, но Несс окинул их опытным взглядом астролога. Патрицианки, он готов съесть свою соломенную шляпу, если это не так. Шелковые платья; дорогие кожаные сандалии; на голове накидки для защиты от солнца. А патрицианки, даже такие юные, платят за подобные услуги очень даже щедро.
— Я все для вас сделаю через мгновение, — Несс придал голосу загадочную интонацию. — О, какое будущее ждет вас! Ваши звезды поют мне о славе и богатстве, красоте и любви… по два сестерция за один гороскоп, ниже цены вы не найдете нигде. Кому из вас погадать первой?
— Мне, мне! — вверх взметнулись четыре детские руки, разной степени чистоты.
— Нет, мне первой! Я самая старшая! Я Корнелия Прима и потому я первая! А это моя сестра Корнелия Секунда, она вторая. А это Корнелия Терция и Корнелия Кварта. Они мои кузины…
Конечно же это патрицианки! Только патрициям почему-то не хватает разума и изобретательности, когда приходится давать дочерям имена. Четыре девушки из одного семейства — несомненно благородные Корнелии! — и по традиции их всех назвали Корнелиями, а затем присвоили порядковые номера.
Несс в пол-уха слушал девичью болтовню, не пытаясь уяснить, кто из них кто. Возраст девочек колебался от пяти-шести до тринадцати лет. Одна — с темными волосами, заплетенными в косы и короной уложенными на голове. Другая, более рослая с уже заметно округлившейся грудью. Третья светловолосая с ободранными коленками и четвертая — маленькая пухлая хохотушка.
— Да, причем какое будущее! — Он придал голосу интонацию оракула, и первая из девочек, округлив глаза, наклонилась к нему, не обращая внимания на нетерпеливо вздыхавшую у нее за спиной няню. — Золотоволосый незнакомец полюбит тебя, и еще тебя ждет долгое путешествие по морю… а теперь ты, посмотрим твою руку. Таинственный незнакомец, который украдкой обожает тебя из тени, окажется переодетым наследником трона… а у тебя будет богатый муж, да, и у тебя будет шесть детей и все твои дни ты будешь ходить в шелках…
Когда Несс взял в руку последнюю ладошку, он уже поздравлял себя с хорошим вознаграждением. Увы, в следующее мгновение у него перехватило дыхание. На какой-то миг весь оживленный многолюдный форум — домохозяйки с корзинками, хриплоголосые торговцы, расхваливающие на все лады свой товар, бродячие собаки, шумные дети и облачка белой пыли — как будто застыли на месте.
— Что такое? — спросила девочка, озадаченно глядя на него. У Несса же было такое ощущение, будто по его спине пробежали чьи-то ледяные пальцы. Он усилием воли заставил себя не выпустить ее ладонь, прожигавшую ему руку словно горячий уголь, и с криком не броситься прочь через весь форум. Но бедно одетые молодые астрологи, лишь недавно занявшиеся предсказанием будущего, не долго занимаются своим делом, если с криками убегают от клиентов, и Несс заставил себя льстиво улыбнуться.
— Юная госпожа, тебя ждет великое будущее. Все юные девочки мечтают об императорском венце. Но ты точно станешь императрицей Рима! Ты стаешь супругой императора, и у тебя будет больше драгоценных камней, и рабынь, и дворцов, чем ты сможешь сосчитать. Разве это не прекрасно?
— Это я хочу стать императрицей! — запротестовала другая юная Корнелия.
— Нет, я!
— Лошадка! — пискнула самая маленькая, ткнув пальчиком в проехавшую мимо повозку.
Несс выпустил руку Корнелии Третьей или Второй, или как там ее зовут.
Я не солгал, подумал он, презирая самого себя за малодушие.
Я лишь не сказал… не сказал всего.
Он посмотрел на остальных девочек — тех, кому напророчил богатых мужей, таинственных любовников и много детей, — как он обещал всем юным женщинам, — и почувствовал, что весь взмок от пота.
Потому что ему больше не нужно было смотреть на их руки. Он видел будущее всех четверых.
Ты болен, сказал себе Несс.
Это все рыба, которую ты съел вчера вечером. Рыба попалась тухлая, и вот теперь у тебя начались болезненные видения.
Увы, Несс не был болен. Он отчетливо видел вдовство троих из четверки стоявших перед ним девочек. Немало горя хлебнет одна из них. Слава ждет другую. В общей сложности, на четверых у них будет одиннадцать мужей и восемь детей. И еще он видел окровавленную маленькую руку.
В следующий миг внимание девочек привлекла какая-то новая диковинка, и все четверо растворились в заполонившей форум толпе. Сопровождавшая девочек няня, презрительно фыркнув, окинула взглядом потрепанную тунику Несса, отсчитала несколько монет и, сунув их в руку астрологу, поспешила за своими подопечными. Несс торопливо собрал свои звездные карты и направился к ближайшей таверне.
У него только что было первое настоящее видение будущего, и ему требовалось выпить.
(обратно)
Часть I
ГАЛЬБА
Июнь 68 года нашей эры — январь 69 года нашей эры
Все признали его достойным империи, и он стал императором.
Глава 1
Марцелла
— Мы собираемся на свадьбу, а не на войну! — Марцелла растерянно заморгала, увидев, что сестра вошла в спальню с огромным копьем в руках. — Неужели ты собралась убить невесту?
— Не искушай меня, — вздохнула Корнелия и посмотрела на наконечник копья. — Лоллия и ее свадьбы… я отправила мою служанку за наконечником, а она конечно же принесла мне все копье целиком. Отложи свое стило и помоги мне снять его с древка.
Марцелла отодвинула в сторону письменный стол и встала. Затем они с сестрой взялись за противоположные концы копья. Корнелия потянула на себя наконечник, Марцелла — длинное древко.
— Не получается, — пожаловалась Марцелла. Наконечник упрямо отказывался сниматься. Еще одно усилие — и тот все-таки соскользнул с древка. От неожиданности обе полетели на пол. Марцелла больно ударилась локтем о плитки пола и выругалась. Корнелия собралась было гневно отчитать сестру, но вместо этого лишь рассмеялась. Ее строгое, словно у мраморной статуи, лицо на мгновение вновь превратилось в детское личико с забавными ямочками на щеках. Вслед за сестрой захихикала и Марцелла.
— И все ради того, — сокрушенно вздохнула она, — чтобы наконечником копья мертвого гладиатора разделить на пробор волосы Лоллии, чтобы ее брак был счастливым. Но разве это ей помогло первые три раза?
— Пусть поможет хотя бы на четвертый.
— Мне, например, это тоже не слишком помогло.
— Довольно! — Корнелия встала и царственным жестом протянула унизанную кольцами руку. — Ты еще не готова? Я поклялась, что приду сегодня пораньше, чтобы помочь Лоллии.
— Я увлеклась описанием смерти Нерона, — пожала плечами Марцелла. — Ты знаешь, что сейчас я занимаюсь жизнеописанием Нерона? Свиток будет коротким. Правда, не таким коротким, как история Калигулы.
— Ты и твои свитки! — недовольным тоном произнесла Корнелия, перебирая платья Марцеллы. — Вот, надень это желтое… Скажи, когда ты вселилась в другую спальню?
— Когда Туллия решила, что ей больше нравится вид, открывающийся из моих окон, а не из ее собственных. — Состроив брезгливую гримаску, Марцелла обвела взглядом узкую и тесную угловую комнату, служившую ей спальней, куда она перебралась совсем недавно. Затем, ухватив за подол, стянула через голову простое шерстяное платье и бросила его на узкую кровать. — Так что твоя новая золовка обзавелась уютной опочивальней с окнами в сад, я же получила вид на кухни и мозаичный пол с косоглазыми нимфами. Нет, убери это желтое платье, я хочу вон то, светло-голубое.
— Светло-голубое слишком простое, — неодобрительно прокомментировала Корнелия. — Неужели ты никогда не хотела, чтобы на тебя обращали внимание?
— Да кто будет смотреть на меня? — дрожа от ноябрьского холода, Марцелла надела светло-голубую столу. Морозный воздух проникал в комнату, даже сквозь закрытые ставни. — В таком случае, кто же тогда будет смотреть на невесту? Ты ведь единственная, кого они захотят видеть.
— Чушь! — возразила Корнелия, затягивая вокруг талии сестры серебряный пояс. — Завяжи чуть выше. С такой фигурой, как у тебя, следует показывать все твои прелести.
— Никому нет дела до моей груди, — улыбнулась Марцелла. — Даже если моя сестра собирается стать будущей императрицей Рима.
— Я не собираюсь!
— Зачем же ты тогда надела это? — Марцелла, которой исполнился двадцать один год, оглядела сестру: двадцатичетырехлетняя Корнелия Прима, старшая из четырех двоюродных сестер, носивших имя Корнелия, единственная не имела домашнего прозвища. Статная и строгая фигура в ярко-оранжевом шелковом платье с топазом на шее. Огненно-рыжие волосы заплетены в косы и короной уложены на голове. Овальное лицо, отмеченное классической красотой мраморной статуи, словно высеченное рукой умелого скульптора. Корнелия действительно была бесстрастна, как статуя. А все потому, что когда она улыбалась, на ее щеках появлялись ямочки, такие глубокие, что в них можно было засунуть палец, а она уже давно решила, что эти ямочки лишают ее благородства. Когда она улыбалась, то становилась похожа на юную девчонку, которая в детстве помогала младшей сестренке Марцелле таскать с кухни сладости. Когда же лицо ее было серьезным, она являла собой статую самой Юноны. — У тебя поистине царственный вид.
— Ну, до царственного вида мне далеко! И почему только я уродилась такой коротышкой? Как хотелось бы мне иметь такой рост, как у тебя! — посетовала Корнелия, придирчиво глядя на себя в зеркало. — И твою фигуру и нос… мой собственный вздернутый выглядит совсем не благородно.
— Он не императорский, ты это хочешь сказать?
— Не говори так! Вспугнешь удачу Пизона.
— Кстати, где он? — Марцелла взяла у сестры зеркало и, ловким движением скрутив волосы на затылке в узел, потянулась за шкатулкой с серебряными заколками.
— Он придет чуть позже, вместе с императором. — Голос Корнелии прозвучал довольно небрежно, однако Марцелла вопросительно выгнула бровь, и ее сестра покраснела. — Может быть, как раз сегодня и объявят…
Марцелла не стала уточнять, что
именно будет объявлено. Весь Рим знал, что императору Гальбе нужен наследник. Весь Рим знал, как высоко Гальба ценит мужа Корнелии. Кальпурния Пизона Лициниана.
Ноябрьское утро выдалось ясным и холодным. Когда Марцелла у входа в храм Юноны спустилась с носилок на землю и зашагала к толпе приглашенных на свадьбу гостей, с ее губ сорвалось облачко пара. Корнелия, держа в руках наконечник копья, ушла, чтобы помочь невесте.
Посмотрим-посмотрим, принесет ли он удачу на этот раз, не без ехидства подумала Марцелла, проскользнув в храм вместе с двоюродными сестрами, лишь бы избежать общества брата и его ненавистной новой жены. В храме, в окружении родных и друзей, уже стоял последний жених Лоллии. Марцелле он не слишком приглянулся. Шестидесятилетний, лысый, с морщинистым лицом… Однако он был чрезвычайно известной в Риме фигурой — консул и советник императора Гальбы. Впрочем, прежние мужья Лоллии тоже были известными и уважаемыми фигурами. Самая богатая наследница Рима может позволить себе выбор.
Холодный воздух огласили звуки музыки, и гости пришли в волнение. Свадебная процессия, флейтисты, рабы, разбрасывающие цветы. Гордый дед Лоллии, родившийся в рабстве, а теперь один из богатейших людей Рима, в праздничном венке, надетом на парик. На руках у него улыбающаяся кудрявая девочка, похожая на куклу, — Флавия, дочь Лоллии от первого брака. Корнелия, царственная как настоящая императрица, за руку подвела невесту к жениху… сама невеста в длинном белом одеянии, Корнелия Терция, всем известная под именем Лоллия. Не самая красивая из четырех Корнелий, отметила про себя Марцелла, однако у Лоллии был нежный подбородок, сочные, как будто припухшие губы и веселые подведенные тушью глаза. Масса вьющихся локонов, как и положено, разделенные на пробор наконечником гладиаторского копья, дабы даровать новобрачным счастье в семейной жизни, в этом месяце были выкрашены в рыжий цвет и не уступали по яркости огненно-красному покрывалу невесты. Проходя мимо Марцеллы, Лоллия заговорщически подмигнула ей подкрашенным глазом, и Марцелла с трудом удержалась от смеха.
Корнелия вложила руку Лоллии в руку сенатора Флакка Виния и, отойдя в сторону, заняла место среди гостей.
— Только не говори мне, — шепнула Марцелла, — что ты произнесла перед Лоллией нравоучительную речь о том, что та наденет красную фату девушкой, а снимет ее женщиной.
— Почему ты так говоришь? — прошептала в ответ Корнелия, когда жрец нараспев начал восхвалять благочестие брака.
— То же самое ты говорила и на моей свадьбе. Знаешь, тебе неплохо бы заготовить какую-нибудь новую речь.
— Ведь я же сопровождаю невесту. И мой долг подготовить ее к тому, что ее ждет.
— Ей девятнадцать, и это уже третье ее замужество. Поверь мне, она прекрасно знает, что ждет ее в браке.
— Тсс! Тише!
—
Quando tu Gaius, ego Gaia. Если ты Гай, то я Гайя. — Лоллия соединила руки с сенатором, и они, повторяя слова ритуальной клятвы, приблизились к алтарю.
— Во время моего собственного бракосочетания я так переволновалась, что заикалась, когда приносила клятву супружеской верности, — прошептала Корнелия, и Марцелла уловила в ее голосе счастливые нотки.
— А я на своей свадьбе надеялась, что проснусь и пойму, что это был всего лишь сон.
Сидя на позолоченных стульях, Лоллия и сенатор Виний разделили кусок свадебного пирога. Рубины Лоллии пламенели огнем — браслеты на обоих запястьях, броши на плечах, длинные до плеч серьги и ожерелье на шее.
— Лоллия, всякий раз, когда выходит замуж, получает от деда такие дорогие подарки, — задумчиво произнесла Марцелла. — Мне же отец прислал лишь поздравительное письмо. Да и то пришло из Галлии с четырехмесячным опозданием. И еще он не запомнил, за кого я вышла замуж.
— Наш отец — великий человек.
— Он даже не в состоянии отличить нас друг от друга! Он не озаботился тем, чтобы дать нам приличное приданое и за пять лет ни разу не оставил свои бесценные легионы, чтобы приехать домой и проведать нас…
— Великим людям нужно заниматься великими делами, а не беспокоиться домашними заботами, — фыркнула Корнелия, и Марцелла слегка поникла. Когда император Нерон приказал Гнею Корбулону покончить жизнь самоубийством, ее сестра оплакала отца по всем правилам. А вот Марцелла не видела никакого смысла в показном горе. В конце концов она едва знала своего отца: когда была ребенком, он был слишком занят — колесил по всей Галлии, одерживая одну победу задругой.
Подозреваю, что победы отца вызвали у Нерона зависть. Из чего следует, что слишком частые успехи вредят здоровью того, кто их достигает. Неплохо сказано. Если эту мысль облечь в более четкую форму, получится неплохой афоризм на тему человеческого честолюбия. Кстати, им можно будет завершить ее труд о жизни и правления императора Нерона…
Жрец принес в жертву белого быка, и сенатор Виний принял довольный вид. Марцелла, поморщившись, стряхнула с подола голубого платья капли бычьей крови. В следующий момент за ее спиной раздался знакомый беззаботный голос.
— Я не опоздала?
— Опоздала, — ответили Марцелла и Корнелия в один голос. Диана опоздала как всегда. Бык уже испустил дух на алтаре, Лоллия извелась, стоя на одном месте, забеспокоилась, однако жрец возился с окровавленным ножом, благословляя жертву, дарованную богине брака, так что Диана незамеченной проскользнула в храм и встала позади сестер.
— Я была на самых лучших бегах в одном из маленьких цирков! Четыре арабских жеребца и грек-возница, выступавшие за «белых», победили Беллерафона и его «зеленых»! Что ты так переживаешь, Корнелия? Лоллии все равно, опоздала я или нет. Ты можешь себе представить, что «белые» победили «зеленых»? Они поклялись, что не дадут греку повторить свой триумф в Большом цирке, но я думаю, что он может легко это сделать. Хорошие руки, прекрасное чувство времени. Он восемь месяцев ездил за «белых», так что откуда у него взяться победам. Сомневаюсь, что великий Гелиос благоволит тем, кто ездит на драных мулах, которых «белые» называют лошадьми. Марцелла, почему ты закатываешь глаза, глядя на меня?
— Я всегда закатываю глаза, глядя на тебя.
Свадебная церемония в храме закончилась. Жрец закончил читать молитву, и сенатор Виний предложил Лоллии руку. Марцелла и ее сестра последовали за остальными гостями. Те уже образовали процессию, которая медленно потянулась в направлении дома, принадлежавшего деду Лоллии. Впрочем, гости шагали довольно энергично, явно предвкушая кулинарные изыски свадебного пиршества. Новый муж Лоллии о чем-то увлеченно беседовал с каким-то претором, и Лоллия, воспользовавшись моментом, поманила пальцем двоюродных сестер, чтобы те подошли к ней.
— Составьте мне компанию! О, боги, какая же это была скучная свадьба! Интересно, дело во мне самой, или с каждым разом мои свадьбы и вправду становятся все скучнее и скучнее?
— Это брак, Лоллия, — вздохнула Корнелия, — и будь он даже третьим по счету, постарайся быть серьезной.
— А, по-моему, это не столько брак, сколько договор о сдаче невесты в наем. — Лоллия понизила голос, чтобы ее не услышал новый муж. — Сенатор Виний получает меня и мое приданое в личное пользование на срок, не превышающий срок его полезности для моего дела.
— Что ж, вполне справедливое рассуждение, — согласилась Марцелла.
— Извини за опоздание, — вступила в разговор Диана, беря Лоллию под руку. На шее у нее висело с полдесятка медальонов, которые вручаются лучшим возничим колесниц. На носу девушки отчетливо виднелись веснушки, отчего казалось, будто он присыпан золотой пыльцой. Ее красное шелковое платье было завязано так небрежно, что казалось, еще одно мгновение, и оно соскользнет с ее плеч. Присутствовавшие на свадебной церемонии мужчины, вероятно, надеялись, что оно все-таки соскользнет. — Я только что видела самые лучшие в мире бега.
— Прошу тебя, не начинай снова! — простонала Марцелла. — Своими рассказами ты нагоняешь тоску даже больше, чем весь сенат вместе взятый!
Впрочем, красота Дианы была способна искупить даже самые скучные разговоры. Корнелии Кварте, самой молодой из четырех сестер, было шестнадцать, и она несомненно была самой красивой из них: золотоволосая, с прекрасной матовой кожей и небесно-голубыми глазами, она тотчас привлекала к себе мужские взгляды. Однако Диана проявляла полное равнодушие к поклонникам, днями толпившимся у порога ее дома. Единственное, что вызывало блеск в ее глазах, были лошади и колесницы, летящие на полном скаку по беговой дорожке Большого цирка. Все остальное на свете, включая и поклонников, по ее мнению, могло отправляться в Гадес. Кстати, своим прозвищем — Диана — она была обязана поклонникам. И надо сказать, те были совершенно правы, ибо Корнелия Кварта таковой и была, — охотница-девственница, с презрением отвергающая мужчин.
— Я обожаю Диану, — любила повторять Лоллия. — Но я не понимаю ее. Будь я так же красива, как она, кем бы я точно не была, так это девственницей!
Марцелла тоже завидовала Диане, но отнюдь не по причине красоты кузины или многочисленных ее поклонников.
— Диана, твои волосы, — укоризненно проворчала Корнелия. — Они похожи на воронье гнездо. И еще, неужели ты не могла выбрать наряд другого цвета, кроме красного? Ты же знаешь, что на свадьбе в красном должна быть только невеста. Голубое платье прекрасно подчеркнуло бы цвет твоих глаз.
— Ничего голубого! — ощетинилась Диана. — Я ни за что на свете не надену на себя голубое платье, будь оно хоть трижды шелковым, особенно после того, как колесничий «синих» столкнулся с нами во время Луперкалий.
В Большом цирке существовало четыре фракции любителей скачек — «красные», «синие», «зеленые» и «белые». Сердце самой юной из четырех Корнелий было навсегда отдано «красным». Она ходила в цирк через день и по праздникам, когда там устраивались скачки, и, как какая-нибудь плебейка, не стесняясь крепкий выражений, выкрикивала проклятия в адрес соперников. По идее, этого ей никак нельзя было дозволять, но отец Дианы был еще одной «диковинной птицей» в роду Корнелиев, смотрел на причуды дочери сквозь пальцы, позволяя делать все, что той заблагорассудится.
Этой дурочке так везет в жизни, сокрушенно подумала Марцелла,
а она этого даже не понимает!
— Наслаждайся скачками, пока тебе это интересно, моя дорогая, — говорила Диане Лоллия. — Гальба не одобряет лошадиных бегов, называет их «неразумной тратой денег». Вот увидишь, праздники и гонки колесниц точно окажутся первыми в списке урезаний бюджета…
— Где ты это слышала? — навострила уши Марцелла, не обращая внимания на вырвавшийся у Дианы стон. — Обычно я узнаю новости первой.
— Несколько месяцев назад, когда Гальбу провозгласили императором, у меня был свой страж-преторианец, — объяснила Лоллия, набрасывая на голову фату. — Ну, как, я готова к пиру?
— Во всех отношениях кроме благочестия, — отозвалась Корнелия, окидывая Лоллию оценивающим взглядом, когда они вместе зашагали в направлении атрия. Марцелла рассмеялась. Рабы бросились вперед, чтобы надеть на головы Лоллии и ее лысого мужа свадебные венки. Гости дружной толпой устремились к пиршественному столу.
Корнелия
Когда свадебный пир был в самом разгаре, Корнелия не удержалась от вздоха. Дед Лоллии, до безумия обожавший свою внучку, закатил свой обычный спектакль: на серебряных пиршественных ложах были навалены обтянутые индийским шелком подушки; сидевшие в нишах музыканты пощипывали струны лютни; колонны огромного, облицованного голубым мрамором триклиния, из окон которого открывался вид на Палатинский холм, увиты редкими для этого времени года цветами. Возле каждого гостя стояло по золотоволосому рабу в серебристом одеянии. Слуги постоянно сновали туда-сюда с бесчисленными переменами экзотических блюд. Гостей потчевали редкими кулинарными изысками: выменем свиньи, фаршированным сваренными всмятку яйцами, мясом фламинго, тушенным с финиками, жареным кабаном, фаршированным жареным бараном, в свою очередь, начиненным курятиной…
К чему такая пышность? Такая расточительность? — недоумевала Корнелия, мелкими глотками потягивая вино — ароматное, старое, очень дорогое, с изысканным вкусом, как и все в этом доме. На свадьбу было потрачено столько денег, сколько вполне хватило бы на домашние расходы на целый год. Что тут говорить, дед Лоллии был вольноотпущенник, бывший раб, которому посчастливилось разбогатеть и жениться на девушке из древнего патрицианского рода. Какой бы высокий вкус он ни проявлял, рабское прошлое
все равно давало о себе знать. По сравнению с этой свадьбой, свадьба самой Корнелии была более чем скромной. Ее отец ни за что бы не пошел на такие расходы, зато ей в отличие от Лоллии удалось счастливо прожить в браке с любимым мужем целых восемь лет.
Между подачей блюд выступали те, кому надлежало развлекать гостей: танцоры в тонких полупрозрачных одеждах, чтецы-декламаторы, желавшие в своих гимнах счастья новобрачным, жонглеры с позолоченными шарами. Оратор в греческом одеянии уже приготовился произнести цветистую речь, когда нежные звуки арф потонули в реве труб. Корнелия подняла голову: в триклиний маршем входил грозный строй солдат в красно-золотых одеждах. Преторианцы, личная гвардия императора, телохранители Великого понтифика и властителя мира. По триклинию пролетел шепот:
— Император!
В триклиний вошла сгорбленная фигура в императорском пурпуре. Все присутствующие до единого, включая новобрачных, поспешили встать со своих мест.
— Так это он? — прежде чем склонить голову в поклоне вместе с остальными гостями, Марцелла успела бросить пристальный взгляд на императора Гальбу. — Отлично. Я впервые вижу его так близко.
— Тише! — цыкнула на нее Корнелия. Сама она до этого несколько раз видела императора, в конце концов он приходился дальним родственником ее мужу. Гальба — семидесяти лет от роду, с крючковатым носом и морщинистой, как у черепахи, шеей — был однако еще довольно подвижен. Назначенный сенатом после того, как Нерон свел счеты с жизнью, он пребывал в звании императора пять месяцев. Гальба неодобрительно посмотрел на цветочные гирлянды, серебряные блюда и графины с вином. Его губы тотчас неприязненно поджались. Его личные скромные запросы не были ни для кого секретом.
— Правильнее было бы назвать его скрягой, — ворчала Марцелла каждый раз, когда сенат принимал очередной указ об экономии денежных средств.
Гальба скрипучим голосом приветствовал присутствующих и жестом повелел гостям занять прежние места. Корнелия расправила плечи и отважно зашагала сквозь толпу к единственной фигуре, которая была ей дороже всего на свете.
— Пизон!
— Моя дорогая! — с улыбкой ответил ей Луций Кальпурний Пизон Лициниан, ее муж, в браке с которым она счастливо прожила целых восемь лет. Пизон взял ее в жены, когда ей исполнилось шестнадцать, и с тех пор ей не нужен был никакой другой мужчина. — Ты сегодня хороша как никогда.
— Он что-то сказал? — понизив голос, спросила Пизона Корнелия, когда Гальба пролаял какие-то приказы преторианцам и группе танцоров в полупрозрачных одеждах. — Император что-то сказал?
— Пока нет.
— Вот увидишь, это произойдет совсем скоро.
Ни Пизон, ни Корнелия не стали ничего уточнять, так как поняли друг друга с полуслова. И без того было ясно, что имелось в виду:
день, когда Гальба назовет тебя наследником.
Кого же еще может выбрать император? Семидесятилетнему Гальбе нужен наследник, причем как можно скорее, а кто лучше подходит на эту роль, чем серьезный и благородный молодой родственник? Кто как не Луций Кальпурний Пизон Лициниан с его приятной наружностью, прекрасной родословной и безупречным послужным списком деяний на благо и процветание империи? Не удивительно, что все дружно прочили его в наследники императора.
И конечно же никто другой в Риме не смог бы стать таким красивым императором, как он. Корнелия полным восхищения взглядом посмотрела на мужа. Высокий. Стройный. Решительные и строгие черты лица светлеют, когда он улыбается. Его глаза всегда открыто и смело смотрели на окружающий мир даже тогда, когда другие пытались отвести взгляд в сторону. Император Нерон однажды высказал недоверие этому открытому взгляду: пригрозил отправить ее мужа на Капри или даже на Пандетерию, откуда мало кто возвращался живым. Однако Пизон никогда не отводил глаз, и у Нерона появился новый источник страхов.
— Ты сегодня на редкость серьезна, — улыбнулся Пизон.
Корнелия протянула руку, чтобы пригладить на голове мужа непокорный локон темных волос.
— Я просто вспоминаю день нашей свадьбы.
— Неужели это было такое серьезное дело? — шутливо спросил он.
— Во всяком случае, лично для меня, да. — Корнелия кивком указала на Лоллию. Ее кузина, лежа за пиршественным столом, заливалась смехом и совершенно не обращала внимания на своего нового супруга. — Пизон, позволь мне представить тебя нашему новому преторианскому префекту. Обязательно поинтересуйся у него, как поживает его сын. Юноша недавно получил назначение в легионы, и отец очень горд за него.
Впрочем, Корнелию, которая искоса наблюдала за мужем, тоже переполняла гордость, когда они вместе прокладывали себе путь в толпе гостей. Улыбка одному, поклон другому, кубок с вином в руке, готовый для очередного тоста, похлопывание по плечу хороших знакомых и рукопожатие с новыми. Сдержанно, любезно, благородно…
царственно…
Она представила Пизона новому префекту, улыбнулась, поклонилась и, как и подобает порядочной жене, отошла, как только разговор мужчин коснулся политических тем. Император Гальба задержался на свадебном пиру всего на минуту: еще раз смерил окружающее пространство недовольным взглядом и вышел из триклиния так же неожиданно, как и появился.
— Хвала богам, — довольно громко воскликнула Лоллия, когда следом за Гальбой вышли и сопровождавшие его преторианцы. — Какое кислое лицо! Пусть Нерон и был безумен, но по крайней мере он знал толк в роскоши.
— Может, Лоллия и идиотка, но она права, — шепнула Марцелла на ухо Корнелии.
— Нет, неправа. У Гальбы за плечами достойное прошлое.
— Он занудный прижимистый старикашка, — понизив голос, заявила Марцелла, когда оратор с седой бородкой во второй раз за вечер разразился стихотворными строчками на греческом языке. — Вся эта политика экономии денег…
— Нерон опустошил казну. Мы должны радоваться, что нашелся тот, кто пытается заново ее наполнить.
— Ну, это не добавляет ему народной любви. Впрочем, лично тебе это только на пользу. Когда Гальба умрет, а в его возрасте люди недолго живут, народ будет восславлять Пизона как бога.
— Марцелла, умоляю тебя, тише!
— Но это же правда, Корнелия! А я всегда говорю правду, во всяком случае, моей сестре. — Марцелла подняла кубок. — Или лучше сказать, моей будущей императрице?
— Не говори так. —
Императрица… Корнелия решительно изгнала из головы все мысли об этом.
Ответом ей стала понимающая улыбка Марцеллы. Увы, ей ни за что не обмануть младшую сестру. Неудивительно, что люди почти всегда считали, что Марцелла старшая из них двоих: на пол-ладони выше ростом, стройная и величественная, как храмовая колонна. Или статуя, высеченная из голубого льда умелым скульптором: гордая голова, увенчанная короной каштановых волос, правильные черты, спокойный, уверенный взгляд.
Она выглядит даже более величественно, чем я. О, боги, почему вы не даровали мне такой нос, как у нее?
— Тебе следует поговорить с Цизонием Фругом, Марцелла. Он прекрасно отзывался о твоем муже. Если я не ошибаюсь, они были трибунами в Совете двенадцати. Думаю, он мог бы сделать что-нибудь для Луция, чтобы тот продвинулся на поприще служения Риму.
— Луций сам способен позаботиться о своем будущем, — пожала плечами Марцелла. — Мне доставляет куда большее удовольствие наблюдать за тем, как ты пытаешься очаровать присутствующих.
— Но Луций такой милый! И мне не понятно, почему ты всегда так холодна с ним. Я не слышала от тебя ни одного доброго слова в его адрес!
— Видишь ли, это я замужем за ним, а не ты. — Взгляд Марцеллы скользнул за плечо Корнелии. — О, великая Фортуна! Неужели эта ужасная Туллия направляется прямо к нам? Скорее спрячь меня!
— Ты всегда так! — рассердилась Корнелия. — Нисколько не изменилась с детских лет. Сама исчезаешь, а меня оставляешь расхлебывать неприятности. Туллия, как я рада видеть тебя!
Наконец солнце село, вино в кубках иссякло, и вскоре гости стали потихоньку выходить за ворота, чтобы принять участие в заключительной свадебной церемонии. Корнелия взяла мужа за руку и потащила к выходу, чтобы тоже присоединиться к ней. Процессию возглавили Лоллия и сенатор Виний. Рабы бросились вперед, чтобы во имя будущего процветания и достатка осыпать новобрачных грецкими орехами — знаком плодородия — и монетами. Когда муж перенес Лоллию через порог нового дома и опустился на колени, чтобы в первый раз зажечь огонь в очаге, Корнелия вместе с остальными разразилась рукоплесканиями. Ликующие юные девушки выстроились в очередь за свадебным факелом. Лоллия нарочно бросила его Диане. Та смерила ее недовольным взглядом.
— …должны пойти со мной, — простонала Лоллия, обращаясь к Марцелле и Диане, когда к ним подошла Корнелия. Наконец гости, в очередной раз поздравив новобрачных, потянулись длинной вереницей из дома сенатора Виния на улицу. — Уверена, там будет так же весело, как в Гадесе… Корнелия, Виний вздумал затащить меня во дворец, на обед к этому старому брюзге Гальбе. Обещай мне, что ты тоже туда придешь и будешь недовольно смотреть на то, что мы пьем слишком много вина…
— Конечно, приду, — с улыбкой пообещала Корнелия. — Мы с Пизоном уже получили приглашение. Я, пожалуй, надену синее…
— Только не синее! — выпалила Диана. — Ненавижу синий цвет. Но если мы пойдем туда все вчетвером, нам стоит надеть платья одинакового цвета.
— Почему? — Марцелла и Корнелия встретились глазами над головой Дианы и обменялись понимающими взглядами. Впрочем, сама Диана этого даже не заметила.
— Потому что мы совсем как упряжка колесницы, — объяснила Диана. — Корнелия — коренная. Она медлительная, но на поворотах несокрушима, как скала. Марцелла — пристяжная. Затем Лоллия, она быстрая, но безумная. С другой стороны — я. Самая быстрая, самая стремительная из всех.
— Почему же я медлительная? — удивилась Корнелия, и сестры рассмеялись. Виний нахмурился.
— Пойдемте, мои дорогие, — произнесла Лоллия и, перехватив взгляд мужа, простонала: — Бедная я, потому что худший день моей жизни уже настал.
— Не надо грубить, — пожурила ее Корнелия.
— Он него пахнет прокисшим молоком, — сообщила Марцелла. — Его вряд ли хватит надолго.
— Он за кого, за «красных»? — поинтересовалась Диана.
Стоя у двери дома, Лоллия, на прощание поцеловала сестер. Корнелия взяла мужа за руку и, когда обернулась, чтобы помахать на прощание сестре и кузине, увидела, что Диана в сердцах швырнула свадебный факел в канаву.
— Очень хорошая свадьба, — похвалил Пизон и поднял руку. Заметив его жест, рабы тотчас поспешили к нему, неся паланкин. — Надеюсь, что муж, пребывающий в зрелом возрасте, образумит Лоллию.
— Сомневаюсь, что он сможет долго учить ее уму-разуму.
Наконец к ним приблизился паланкин. Корнелия приняла протянутую руку мужа и, забравшись в носилки, задернула розовые шелковые занавески, чтобы внутрь не проникал желтый свет уличных факелов.
— Как только сенатор Виний попадет в опалу, дед Лоллии в ту же минуту заставит ее развестись и выдаст замуж за кого-то другого.
Пизон дал носильщикам знак трогать, и носилки, покачиваясь на плечах шестерых галлов, двинулся вперед, в ночь. Занавески трепетали на ветру, и на орлиный нос и волевой подбородок любимого мужа упала полоска света от уличных факелов. Корнелия улыбнулась. Пизон улыбнулся в ответ и пересел с одной стороны носилок на другую, чтобы взять ее за руку. Носильщики тотчас почувствовали, как сместился вес, и приподняли один угол паланкина чуть выше, чтобы было удобнее нести юную матрону и ее супруга.
— Я сегодня ходила в храм Юноны, — призналась Корнелия.
— Правда? — удивился Пизон.
Неужели он напрягся или ей только показалось?
— Да. Я пожертвовала свинью. Думаю, это лучше, чем жертвовать гуся.
— Тебе виднее, дорогая. — За восемь лет брака он ни единым словом не упрекнул ее за то, что она так и не смогла подарить ему сына или дочь.
Иногда мне хочется, чтобы он это сделал, подумала Корнелия, а вслух произнесла:
— Свадебный факел поймала Диана. Значит, она следующей выйдет замуж.
— Чтобы заставить ее надеть красную фату, придется приложить немало усилий, — улыбнулся Пизон. — Лоллия успеет обзавестись четвертым мужем, прежде чем Диану заставят выйти замуж в первый раз.
— Для Лоллии мужья подобны новым платьям. — Неожиданно носильщики остановились. Пизон слез на землю первым. Увидев мерцающий огонь факелов перед воротами их дома, Корнелия подобрала подол платья, чтобы последовать за ним. — Она каждый сезон приобретает себе новое, а старое выбрасывает.
— Она одна из новых жен. — Пизон подал Корнелии руку, помогая выйти из паланкина. — Жен старого республиканского образца уже почти не осталось, моя дорогая, — с улыбкой добавил он.
Они вместе зашагали через двор, и Корнелия крепче сжала руку мужа. В большинстве домов рабы уже давно бы дремали, прислонившись к стене, но только не рабы Корнелии. Несмотря на поздний час все как одни бодрствовали, дожидаясь возвращения хозяев. Как и положено, они тотчас приняли у них плащи и поднесли кубки с подогретым вином. Настенные светильники отбрасывали блики на длинный ряд бюстов, изображавших предков хозяев дома. Каждый такой бюст занимал отдельную нишу. Вдоль одной стены выстроились бюсты предков Пизона — его родословная уходила в глубь истории, к Великому Помпею и Марку Крассу. Изваяния предков Корнелии занимали ниши противоположной стены. Род Корнелиев вел начало от этрусков. Самым последним бюстом в ряду был бюст самого Пизона, высеченный отцом Дианы, — тот увлекался изготовлением изваяний, и мраморный портрет Пизона был его свадебным подарком.
Он сделал губы чересчур тонкими, как будто Пизон недовольно их поджал, подумала Корнелия.
— Лоллия — воплощение жены нового типа, — повторил Пизон, обнимая супругу за талию, как только рабы покинули опочивальню. — Я же счастлив тем, что у меня есть моя верная Корнелия.
Корнелия ответила ему слабой улыбкой. Да, Лоллия непостоянная жена, тщеславная, ветреная и легкомысленная. Зато боги наградили ее ребенком. У нее есть трехлетняя дочь, Флавия Домицилла, хорошенькая, как солнечный лучик. Вот и сегодня во время свадебного пира Корнелия на руках отнесла Флавию в расположенную наверху опочивальню, потому что в самый разгар веселья малышка неожиданно уснула. Отцом Флавии был первый муж Лоллии, прославленный полководец Тит Флавий. Впрочем, он был слишком занят положением дел в своих легионах, чтобы уделять время маленькой дочери. Неудивительно, что как только брак Флавия и Лоллии распался, девочка осталась с матерью.
А ведь она даже не хотела, чтобы Флавия появилась на свет.
— Я же была так осторожна! — пожаловалась Лоллия, когда выяснилось, что она беременна. — И как только такое могло случиться? Да и кто знает, от кого этот ребенок, от Тита или от кого-то еще? Будем надеяться, он будет похож на моего законного мужа.
Корнелии и тогда стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не отпустить по этому поводу колкость.
Еще одной Корнелии в их роду однажды пришлось отвечать на вопрос, почему она не носит драгоценностей. Та Корнелия прижала к себе детей и сказала, что они и есть ее драгоценности.
Я ведь тоже вполне скромна в том, что касается украшений. Корнелия сняла ожерелье и принялась раздеваться.
Так почему же у меня нет сыновей?
Марцелла
Императора Гальбу боги наградили резким, лающим голосом, который больше подходил для команд на военном плацу, чем для утонченных бесед за пиршественным столом. Принцепс говорил короткими, отрывистыми фразами, и, когда в полночь Марцелла спустилась с носилок, она уже точно знала, какими словами опишет нового императора Рима.
— Марцелла, так негоже вести себя на пирах, тем более в императорском дворце! — отчитала ее Туллия, когда они вошли в дом. — Нельзя сидеть, постоянно мечтая о чем-то своем, и не слушать гостей. Жене сенатора Лентулла пришлось трижды обратиться к тебе, прежде чем ты соизволила обратить на нее внимание…
— А ведь сенатор Лентулл — нужный для меня человек, — вмешался в разговор брат Марцеллы Гай. — Он поддержал мое предложение о строительстве акведука.
— … и, кроме того, у тебя долг перед семьей. Не забывай об этом, когда ты находишься на таких приемах, — добавила Туллия и, сбросив паллу в руки рабыне, приказала зажечь в доме светильники. Затем недовольно посмотрела на Гая, потребовавшего принести ему вина, после чего продолжила изливать поток жалоб: — На таких приемах бывает много важных людей, которые могут помочь твоему брату продвинуться по службе, и ты просто обязана этому способствовать, — Гай, умоляю тебя, не надо больше вина! — каждой такой возможности. Не говоря уже о твоем собственном муже. Пусть он сейчас находится в Иудее, но ты все равно могла бы ему посодействовать! Может, даже устроить званый ужин от его имени. Дед Лоллии постоянно устраивает за свой счет приемы от имени Пизона в знак благодарности за небольшой пересмотр сенатских законов о торговле…
— И потому вы все смотрите на него свысока, — отозвалась Марцелла. — Как это благородно с вашей стороны!
— Прекратите… — начал было Гай. Увы, закончить фразу ему не удалось. После того как он женился на Туллии, та постоянно обрывала его, не давая раскрыть рта.
— Не задирайся, Марцелла, — в голосе Туллии слышалась неприязнь. Ее сандалии звонко цокали по мозаичным плиткам пола. — Интересы семьи для меня важнее всего.
— Между прочим, ты член нашей семьи еще меньше года, — заметила Марцелла. Туллия была замужем за Гаем всего десять месяцев, но всем в доме казалось, будто прошло целых десять лет…
— Да я за десять минут делаю для рода Корнелиев больше, чем ты за всю свою жизнь! — вспылила Туллия.
— Например, доводишь до самоубийства? Что ж, ты на правильном пути. — С этими словами Марцелла ушла прочь, прежде чем гадюка-золовка успела что-то ей ответить.
Родовое гнездо Корнелиев. Сумрачный, величественный дом. Заметно подновленный за последние несколько лет благодаря деньгам деда Лоллии.
Хотя большинство членов семьи старательно этого не замечает, вернее, делает вид, что не замечает. Прекрасный дом. В каждой вазе, в каждом узоре стен таится история великих лет и судьбы многочисленных представителей древнего рода, которые безмятежно ходили по этим залам. Правда, Туллия умудрилась загубить сады, насажав на каждом шагу жесткие заросли пронзительно яркого дельфиниума. По ее же настоянию повсюду расставили безвкусные статуи нимф. Однако даже эти новомодные штучки были бессильны испортить очарования старого дома.
Но это не мой дом. Во всяком случае, больше не мой. Будь то замужем или в девичестве, Марцелла никогда не имела своего собственного дома.
— Я редко бываю в Риме больше четырех месяцев в году, — сказал, пожав плечами, ее муж, Луций Элий Ламия сразу после их свадьбы. — Зачем мне попусту тратиться на свой дом? Мы на время останемся жить в доме твоей семьи, пока я не получу в Риме достойный пост. — Однако за четыре года брака пост для Луция почему-то так и не появился, и Марцелла никогда не покидала родительский дом, в котором родилась и выросла.
Это не слишком тяготило ее в те дни, когда был еще жив ее отец. Корнелий Корбулон пребывал в далекой Галлии, вечно в разъездах, вечно озабоченный состоянием своего легиона, чтобы интересоваться жизнью дочери. Гай же был постоянно занят тем, что пытался быть достойным отца. Так что Марцелла взяла на себя обязанности хозяйки дома и быстро приучила рабов и домочадцев к своим требованиям. Однако Нерон вскоре избавился от их отца. Удача упорхнула в окно, и на какое-то время их уделом стало безденежье. Так было до тех пор, пока главой семьи не стал Гай, взяв в жены Туллию, женщину из прославленного и богатого рода, и главное, с широкими связями. А после этого…
— Марцелла должна вести себя надлежащим образом, поскольку живет под нашей крышей, — поспешила объявить новая жена Гая своим неприятным, пронзительным голосом, похожим на грохот повозки по мощенной булыжником мостовой. — Молодая жена, муж которой подолгу живет вдали от нее, — она, как бочка с медом, манит к себе мотов и распутников. А после того случая с императором Нероном несколько месяцев тому назад…
— Туллия… — Гай украдкой покосился на сестру. — Пожалуй, нам не следует…
— Гай, еще как следует! Это твой долг, охранять репутацию сестры, а долг Марцеллы — безропотно подчиняться тебе.
— Я замужняя женщина, — запротестовала Марцелла. — Мой единственный долг — подчиняться мужу.
— Которого здесь нет. Кто же еще может занять его место, как не твой брат?
Абсолютно никто. В этом и заключалась вся прелесть: пока Луций находился вдали от дома, а отец участвовал в нескончаемых военных походах, Марцелла была предоставлена самой себе. А значит, рядом с ней не было никого, кто стал бы возражать против того, что она часами просиживает за столом, читая или что-то сочиняя сама. Ей удавалось на несколько месяцев кряду забыть о том, что у нее вообще есть муж и отец… Но от Туллии никуда не деться. Вот и сейчас жена Гая впилась в нее кровожадным взглядом хищницы.
— Луций Элий Ламия вверил нам заботу о тебе. Ты в
моем доме, и когда ты ешь
мою пищу, то должна следовать
моим правилам!
— В твоем доме? — парировала Марцелла. — Вообще-то здесь хозяин Гай, а не ты.
— А если хозяин и его жена говорят с одного голоса?
— Я вообще не слышу голоса Гая после того, как он женился на тебе, Туллия. Неужели у него еще остался язык?
Выскажи ей свое недовольство Гай, то у Марцеллы нашлось бы, что ответить ему. Она быстро победила бы его своими спокойными доводами.
Неважно, глава семьи или нет, обладает законными правами или нет, ему все равно далеко до меня. Но если Гай был шелковой рукавицей, то Туллия определенно была железным кулаком, на который та была натянута, и вместе взятые они имели на своей стороне законы Рима. Деньги, долг, традиция, — этим тройным захватом они загнали Марцеллу в угол.
— Как только Луций вернется из Иудеи, я заставлю его обзавестись собственным домом, — сообщила она Корнелии на прошлой неделе. — Хотя он и не слушает меня, на этот раз я непременно добьюсь своего. Этот скупердяй обязан мне!
— Не стоит так говорить о муже.
— Это почему же? Он не заслуживает добрых слов. К сожалению, нам не всем посчастливилось полюбить тех мужчин, которых отец выбрал нам в мужья.
— Взлелеять любовь — нелегкое дело, — ответила ей сестра. — Честно тебе признаюсь, я никогда не видела, чтобы ты пыталась хотя бы что-то для этого сделать. Если бы ты старалась помочь Луцию продвинуться по службе, внимательно выслушивала его, подарила бы ему ребенка или даже двух…
— Это ты хочешь иметь детей, а не я. Я лучше заболею оспой, чем забеременею.
После этого их разговора Корнелия больше не возвращалась к этой теме, так же, как и Марцелла. Она могла позволить себе посмеиваться над ямочками на щеках сестры, над ее нудными нотациями, над высокопарным тоном, каким та говорила в минуты гнева, но никогда больше не заводила разговора о детях. Каждый раз, когда Корнелия навещала Лоллию, ее взгляды все чаще привлекала малышка Флавия.
Нет, дети — это не для меня, подумала Марцелла.
Но я пообещаю Луцию, что готова родить ребенка, если только он подарит мне собственный дом.
А пока до его возвращения в Рим у нее будет лишь ее таблинум: письменный стол — весь в царапинах, уставленный бесчисленными чернильницами, перья да полки со свитками и бюстом Клио, музы истории. Отец Дианы, этот странный патриций-скульптор, подарил его ей на девятнадцатилетие. Любимый таблинум. Возможно, он невелик и густо покрыт пылью, но все равно, он принадлежит только ей.
Марцелла решительно выбросила из головы придирки Туллии и, пододвинув стул ближе, потянулась за восковой табличкой. Мраморная Клио у нее над головой безмятежно устремила в пространство взгляд безжизненных глаз. Рука Марцеллы начертала новый заголовок:
Сервий Сульпиций Гальба, шестой император Рима. Человек благородного происхождения и долгой службы. Высокий лоб, указывающий на ум, гордая осанка, свидетельствующая о самодисциплине. Решительный взгляд — это хорошо. Рим любит решительных императоров. Плотно поджатые губы — признак скупости, это не так хорошо. Император может быть жестоким или даже безумным, но обязательно должен быть щедрым. До Марцеллы доходили слухи о том, что Гальба отказался даже платить своим преторианцам положенное вознаграждение.
— Наверно, он прав, — одобрительно высказалась Корнелия, когда услышала об этом. — Гальба стремится укрепить дисциплину в легионах. И потому более жестко требует выполнения воинского долга.
— О, это достойно восхищения! — с издевкой в голосе согласилась Марцелла. — Легионы ведь любят, когда с них дерут три шкуры.
Преторианцы, которых я видела на свадьбе, те самые, что сопровождали Гальбу, выглядели довольно угрюмо.
Марцелла задумалась над тем, стоит ли ей перечислять достижения императора Гальбы в строгом порядке. Хотя, какой смысл писать о прошлом императора? Его всего лишь несколько месяцев назад объявили живым богом, а, как известно, первое, что делают императоры после восшествия на трон, это заново переписывают свое прошлое.
Марцелла отложила стило и посмотрела на полку, на которой выстроился ряд аккуратных свитков. Возможно, женщина и не в силах влиять на ход истории, но вполне способна наблюдать за ним, осмысливать его и записывать. Марцелла уже написала историю предыдущих римских императоров — от Божественного Августа до безумца Нерона.
Какой упадок! Гальба вряд ли окажется лучше Нерона. Рукописная история Нерона была самым свежим ее сочинением. Свиток с ней лишь недавно поставлен на полку и даже не дописан до конца. Сегодня утром Марцелла, ощущая приятную бесстрастность, описала смерть Нерона. В конце концов историк не должен окрашивать личным отношением к происходящему то, что описывает.
Корнелия Секунда, известная как Марцелла, с удовольствием мысленно представила себя: глубоко безучастная и бесстрастная наблюдательница истории.
Впрочем, бесстрастно относиться к Нерону было… нелегко.
— Тот
случай во дворце, — обратилась Туллия к Марцелле вскоре после того, что произошло. — Это наверняка было ужасно, моя дорогая. Расскажи мне, прошу тебя.
— Нужно ли?
— Всем нам иногда требуется внимательное ухо.
— Разве?
— Марцелла! — оборвала ее Туллия, оставив напускную наивность. — Не задирайся!
— Почему бы нет? — улыбнулась Марцелла. — Ты ведь тоже постоянно грубишь мне.
— Я не…
— Хочешь знать все подробности об императоре Нероне, Туллия? Как у него пахло изо рта? Какой помадой он намазывал волосы?
— Просто я…
— Я уверена, что ты жаждешь услышать всевозможные сальные подробности, но я не собираюсь тебе ничего рассказывать.
Оскорбленная в лучших чувствах, Туллия удалилась, чтобы нажаловаться на нее мужу.
— Гай, ты не поверишь, но твоя сестра
так со мной разговаривала!
Действительно, какой смысл сейчас размышлять о Нероне?
Теперь у нас есть Гальба. У старика нет своих детей и, похоже, он объявит своим преемником на императорском троне мужа Корнелии Пизона. Марцелла улыбнулась, вспомнив, как ее сестра с царственным видом шагала сквозь толпу гостей на свадьбе у Лоллии. Своей гордой осанкой она затмевала даже собственного супруга. По сравнению с ней, державший ее за руку Пизон казался жалким и невзрачным.
Случись ему стать императором, мы впервые получим на троне жуткого зануду.
— Марцелла! — Капризный голос брата вернул ее из мира грез в реальный мир. — Рабы из рук вон плохо почистили мозаичную плитку. Ты их выбранила за это?
— Это больше не моя забота, Гай. — Марцелла даже не подняла глаз на брата, когда тот, пригнувшись, чтобы не задеть дверной косяк, вошел к ней в таблинум.
— Да, но Туллия прикажет их за это выпороть. Они же это сделали не нарочно. Так что поговори лучше с ними сама.
— Ну, хорошо. Хотя ты сам знаешь, что если Туллия узнает об этом, то закатит за обеденным столом сцену и обвинит меня в том, что я занимаю ее место.
Как будто мне есть дело до этих жутких ваз и чистых полов, подумала Марцелла. — Ты мог бы найти себе жену и получше, Гай.
— Ничего подобного, — отрезал Гай. — Отец сам выбрал ее для меня, еще когда был жив.
— И, разумеется, его выбор был безупречным? — не удержалась и подпустила очередную шпильку Марцелла. Корнелия и Гай несомненно были готовы помнить отца именно таким. В их глазах он был пределом совершенства.
— Наш отец был великим человеком!
— Но разве его величие принесло счастье хотя бы кому-то из нас? — съязвила Марцелла. — Лично я придерживаюсь того мнения, что достоинства великих людей всегда сильно переоценивают.
Гай неловко потоптался на месте.
— Главная обязанность римлянина не счастье, а долг. Вот именно, долг.
— Марциал выразился бы гораздо точнее. Тебе же никогда не давалось написание эпиграмм, Гай. —
По правде говоря, как и многое другое. Марцелла посмотрела на брата. Рослый, красивый, высокий лоб, прямой нос, но черты лица невыразительные, такие быстро забываются, не успев врезаться в память. Он даже не пытался сравняться с заслугами отца, и сейчас сенат, похоже, не в восторге от Гая.
— Может, ты напишешь для меня несколько эпиграмм? — попросил сестру Гай. — Я мог бы прочитать их на званых приемах и, глядишь, прослыл бы более умным.
— Только если ты будешь рассказывать мне все сплетни, которые ходят в сенате, — смягчилась Марцелла. — Ты же знаешь, как я обожаю всякие новости.
— Вот тебе очередная новость. — Гай поднял жидкие брови. Туллия требовала от него регулярно их выщипывать — иначе, по ее словам, они будут похожи на мохнатых гусениц. — Ходят упорные слухи о том, будто губернатор Вителлий собирается поднять мятеж в Нижней Германии. Поговаривают, будто он намерен провозгласить себя императором.
— Вителлий? — Марцелла недоверчиво покачала головой. — Он же обжора и пьяница. Я как-то раз видела его на пиру, устроенном одной из фракций. Так вот, спустя час он уже не держался на ногах.
— Так говорят. Но не это главное. Все знают, что Гальба сделает Пизона своим наследником, — сказал Гай, и его лицо просветлело. — Согласись, это будет большая удача для нашей семьи. Что, если…
Брат продолжал что-то говорить, но Марцелла его не слушала. Взгляд ее был устремлен на табличку, на которой она только сделала записи о Гальбе. Ничего ценного написать она еще не успела и потому поспешила стереть написанное. Лучше подождать день или месяц, когда она узнает больше о характере Гальбы. Кроме того, пребывание у власти сильно меняет людей.
Кто знает, каким еще проявит себя император Гальба?
(обратно)
Глава 2
Корнелия
— Кажется, нам уже пора? — Пизон поправил ремешок сандалий и нахмурился.
— Но мы идем в цирк не для того, чтобы смотреть скачки. — Корнелия пересмотрела десяток разных списков. Рядом с ней, в ожидании новых поручений, вертелось несколько девушек-рабынь. В атрие царило оживление; снаружи ждали носильщики паланкина, чтобы отнести их в Большой цирк, рядом — служанки с зонтиком и веером хозяйки и вольноотпущенники с письмами и плащом Пизона. — Мы идем туда, чтобы показать себя. Вернее сказать, делаем выход. Теперь ты публичная фигура, а публичные фигуры обязаны производить впечатление на граждан. Правильное впечатление. Вот, возьми это.
Пизон перебрал охапку табличек и свитков.
— Что это, домовые книги? Перечень расходов?
— Ты просто перебирай их с важным видом в перерывах между забегами колесниц, — улыбнулась Корнелия. — Серьезный и ответственный наследник трона, который даже в праздник не может оторваться от государственных дел, это внушит людям дополнительное уважение к тебе.
— Я пока еще не наследник трона, — укорил ее муж. Впрочем, от Корнелии не скрылось, что когда он прижал к груди охапку свитков, глаза его блеснули.
Ноябрь выдался ветреным и безжалостно срывал с деревьев листву. С его приходом римляне дождались-таки наступления
Ludi Plebii, народных игр. Корнелия была равнодушна к играм, зато Диана в эти дни была не способна говорить ни о чем другом.
— Разве это настоящий праздник? — пожаловалась она. — Гальба слишком прижимист. Ему, видите ли, жалко расстаться с тугим кошельком в награду победителям. Это значит, что колесничие будет вынуждены приберечь лошадок для скачек в Сатурналии.
— Даже твои любимые «красные»? — не удержалась от насмешки Корнелия.
— «Красные» не гоняются за кошельками, — высокомерно парировала Диана. — Они стремятся к славе. Ты ведь придешь в цирк или нет?
— Лучше ходить на скачки, чем смотреть на то, как гладиаторы проливают кровь на арене. — Корнелия презирала гладиаторские поединки. Ей было неприятно, что поглазеть на жестокие бои приходило так много людей, причем не только плебеев, но и представителей благородных римских семейств. И все как один громкими криками требовали крови. Гонки колесниц тоже было не узнать — они превратились в нечто нисколько не похожее на степенные заезды времен ее детства. Император Нерон безумно обожал скачки — или просто сам был безумен. И Корнелии ничего не оставалось, как сокрушаться о сумасшедших деньгах, которые император спускал на свое любимое увлечение. Впрочем, результат, вне всякого сомнения, впечатлял. Большой цирк теперь стал огромной ареной для конных состязаний. Чего здесь только не было! И разделительный барьер посередине арены, увенчанный вереницей причудливых статуй, и золотые дельфины, опускающие носы каждые семь заездов, и лавровые венки, которыми увенчивали одержавших победу колесничих. Место, где можно было и на других посмотреть, и себя показать… И кто еще достоин того, чтобы на него были обращены взгляды всего Рима, если не ее муж?
— Госпожа, — робко обратилась к Корнелии служанка. — Вино уже отправлено в твою ложу в Большом цирке.
— Надеюсь, его правильно подогрели? — В последний раз вино по недосмотру управляющего довели почти до кипения. — Дед Лоллии на этот раз прислал мне лучшее вино из своих погребов, — объяснила Корнелия Пизону. — Фалернское, аминеанское, номентанское…
— С учетом его происхождения было бы скорее предположить, что он пьет простое пиво, — состроил неприязненную гримасу Пизон. — Он вульгарен, как Гадес.
— Согласна. На первый взгляд может показаться, что ему не хватает вкуса, но его манеры вполне благопристойны. Для бывшего раба он производит неплохое впечатление и прилично ведет себя в хорошем обществе. — Корнелия всегда испытывала легкое чувство вины, когда критиковала деда Лоллии. В конце концов он всегда был щедр и присылал богатые подарки. Да и в других вещах его помощь была неоценима. Семья Пизона постоянно находилась под зорким оком подозрительного Нерона, а до него — Клавдия. Им с Пизоном ни за что не сохранить своего дома и прочей собственности, если бы не вовремя взятые взаймы деньги… И все же Корнелия знала, что ее муж не одобряет деда Лоллии. — Леда и Зоя, вы украсили ложу плющом и орхидеями, как я вам велела?
— Да, госпожа.
Корнелия встала рано, с восходом солнца, и отправилась в Большой цирк, чтобы показать рабыням, как надлежит украсить семейную ложу рода Корнелиев, которую они с Пизоном брали напрокат ради такого случая. Ложа находилась на верхних ярусах Цирка и была похожа на уютное мраморное гнездышко, с которого открывался захватывающий дух вид на всю арену. Служители готовились к предстоящим заездам, граблями разравнивая песок на беговых дорожках. Над верхними ярусами появились бледные лучи утреннего солнца, и Корнелия заставила рабынь взяться за работу. Цветы, пучки плюща, серебряные блюда и золотые кубки для вина — ее гостям будет на что посмотреть. Она покажет им беседку, — последнее дыхание лета в бледно-голубой прохладе осени. Вскоре рабыни, желая угодить хозяйке, уже сбились с ног, однако продолжали трудиться как майские пчелы. Корнелия же вернулась домой, чтобы приготовить себя и мужа к выходу в свет.
— Ты настоящий полководец, моя дорогая, — произнес Пизон, поправляя на плече тогу. Он конечно же не стал целовать ее, во всяком случае, не стал делать этого в присутствии рабов. Однако в его глазах мелькнуло одобрение. — И притом красивый полководец.
— Жаль, что я больше не могу надеть красное, — посетовала Корнелия, грустно глядя на красное платье, подол которого был богато расшит бисером. — Диана поклялась, что будет прилично себя вести лишь в том случае, если я надену платье красного цвета, в честь ее любимой фракции. Но красный не самый лучший мой цвет. Он совершенно мне не идет. Почему бы ей разнообразия ради не отдать свою благосклонность «зеленым»?
— Чепуха. Красный тебе к лицу. Сядь, отдохни, дорогая, ты и так за все утро ни разу не присела.
— Мне нужно проследить, чтобы все было готово. Ведь к нам в ложу в конце концов может заглянуть сам император.
— Сомневаюсь. Он не любитель забав и игрищ.
— Зато ему нравишься ты, — произнесла Корнелия и пригладила непокорные локоны на голове мужа. — Кто знает, вдруг он объявит об этом прямо сегодня.
— Почему именно сегодня?
— В последние дни он вызвал бурю негодования введением новых налогов, — ответила Корнелия. Весь Рим знал, что подручные Гальбы выгребли все украшения у бывших придворных Нерона и пытаются выжать из них все деньги до последнего сестерция, которые те, в свою очередь, некогда вытянули из казны. Придворные дружно роптали, видя, как их дома, их драгоценности, их рабы и поместья переходят в морщинистые руки Гальбы. А вот Корнелия этот шаг императора вполне одобряла. Ни для кого не секрет, что Нерон дочиста опустошил казну. Неужели его прихвостням и в голову не приходило, что когда-нибудь найдется тот, кто возьмется за пересчет расходов венценосного транжира?
Впрочем, находились и такие, кто, услышав имя Гальбы, вслух высказывали недовольство. Так что император наверняка захочет успокоить, ублажить народ, дать своим подданным новую пищу для разговоров…
Вроде разговоров о новом наследнике трона. Молодом, красивом, энергичном и способном.
— Ты такой красивый, Пизон. Ты не похож на других
. — Настоящий император, мысленно добавила Корнелия. — Ну что, идем?
Она вышли из атрия на залитые ярким солнечным светом ступени, ведущие к воротам. Пизон жестом подозвал носильщиков. Корнелия подняла над головой зонтик, прикрывая лицо от осеннего солнца.
До их слуха неожиданно донесся мужской голос.
— Сенатор Кальпурний Пизон Лициниан?
Корнелия растерянно повернулась и увидела, что в паре шагов от ворот застыл легионер — в полном боевом снаряжении, на голове шлем с красным плюмажем. Преторианец. Возле него — еще с полдюжины таких, как он, гвардейцев.
— Да, это я.
— Я центурион Друз Семпроний Денс из преторианской гвардии, — ответил легионер и, шагнув вперед, отсалютовал и замер в почтительном приветствии. — По приказу императора имею честь служить тебе и повсюду сопровождать тебя и охранять. Я в твоем полном распоряжении, сенатор.
Преторианская гвардия, личная гвардия, которая подчиняется одному лишь императору… или членам императорской семьи.
Я в твоем полном распоряжении.
Корнелия почувствовала, как ее лицо неудержимо расплывается в улыбке, однако постаралась, насколько это было в ее силах, не показать своей радости. Нужна холодная сдержанность, как будто для нее нет ничего удивительного в том, что императорские телохранители безмолвно повинуются ей.
— Благодарю тебя, центурион, — услышала она голос супруга. — Мы будем рады, если ты сопроводишь нас до Большого цирка.
— Слушаюсь, сенатор. — Центурион отдал салют, и преторианцы выстроились позади паланкина. Пизон кивнул центуриону, отдавая команду «вольно». Корнелия спустилась по ступенькам и шагнула вперед.
— Ты сказал, что тебя зовут Друз Семпроний Денс?
— Да, госпожа. — Центурион снял шлем и отвесил ей поклон. Без шлема Денс оказался значительно моложе, чем она поначалу предположила. У него были каштановые волосы, которые кудрявились даже несмотря на короткую стрижку. Сам он был широкоплеч, хотя и не высок ростом. Корнелия привыкла к тому, что муж почти на голову ее выше, центурион же был почти с ней вровень.
Корнелия с улыбкой предложила руку новоявленному начальнику своей личной охраны.
— Приветствую тебя на новой службе, центурион. Вверяю тебе заботу о жизни моего мужа.
— Это мой долг, госпожа, — ответил преторианец, почтительно склоняясь над ее рукой. Пальцы у него были сильные и загрубевшие. Это от того, подумала Корнелия, что ему часто приходится сжимать в них меч — меч, который теперь будет служить ей и ее Пизону.
Когда она и ее супруг, правда, порядком опоздав, вошли в ложу, Корнелии бросилось в глаза выражение на лицах гостей, их придирчивые взгляды. Они оценивали ее цветы, ее вино, ее преторианцев… ее мужа.
Поклоны сделались ниже, улыбки наполнились подобострастием, в голосах звучали нотки уважения.
Марцелла
Семейство в полном сборе представляло собой внушительную картону. В ложу к Корнелии и Пизону, которого в последнее время дарил благосклонностью сам император, пожаловали даже самые дальше родственники, которых Марцелла не видела уже много лет. Пизон был явно доволен, хотя выглядел немного смущенным. Корнелия же держалась с таким видом, будто ее особу всю жизнь охраняли преторианцы. Лишь на лице у Туллии было написано ее обычное недовольство всем и вся.
— К чему эти орхидеи? — услышала Марцелла ворчливый голос золовки. — Я могла бы подсказать ей, что плющ и розы способны лучше подчеркнуть осеннее настроение.
— Лишь в том случае, если бы она попросила у тебя совета, — повернулась к золовке Марцелла. — А зачем это Корнелии? Зачем ей советоваться с тобой? Ей и так, без посторонней помощи, удалось затмить тебя.
Туллия ничего не ответила и лишь с оскорбленным видом пригубила кубок. Марцелла отошла от нее и тотчас увидела знакомую фигуру.
— Марк! Мы так давно не виделись с тобой! Как я рада нашей встрече!
— Марцелла! — над ее рукой склонился сенатор Марк Вибий Август Норбан, бывший муж Туллии и дальний родственник Корнелиев. А также внук императора Августа, хотя и рожденный вне брака. Не удивительно, что
Марцелла видела в нем истинные императорские черты. В окаймленной пурпурной полосой сенаторской тоге Марк Норбан был воплощением истинного величия и благородства. Такой как он вполне достоин того, чтобы его высеченная из мрамора статуя украшала собой зал сената. А еще с ним было интересно беседовать. Сенатор был единственным из немногих родственников, с кем она могла общаться.
Марцелла снова улыбнулась. От нее не скрылось, что Марк одобрительно посмотрел на нее. Она же мысленно похвалила себя за то, что надела светло-розовую столу, собранную, подобно изысканным узорам храмовой колонны, десятками изощренных складок. Никаких драгоценностей… Луций еще в прошлом году забрал у нее последнюю нитку жемчуга, чтобы вручить его в качестве подношения губернатору Нижней Германии. Впрочем, Марцелла знала, что ей не нужны украшения, чтобы на нее обратили внимание. И подумаешь, что ее оливковая кожа не может и близко сравниться с румяным лицом Лоллии, а волосы, цветом напоминающие темно-бурую опавшую листву, не идут ни в какое сравнение с густыми, темными и волнистыми волосами Корнелии, не говоря уже о том, что чертам ее лица далеко до изящества красотки Дианы! Зато Марцелла по праву считала себя обладательницей самой красивой груди из всех женщин их семьи.
— Возможно, даже из всех женщин Рима, — с нескрываемой завистью вздыхала Лоллия. — Я бы многое отдала за то, лишь бы только иметь такую фигуру, как у тебя.
Как показалось Марцелле, даже такой благовоспитанный человек, каким несомненно был сенатор Марк Норбан, и тот не удержался и окинул ее оценивающим взглядом.
— Я огорчилась, услышав о твоих недавних несчастьях, сенатор. — Тот факт, что Норбан вел происхождение от Божественного Августа, не мог не беспокоить Гальбу, и потому, надев императорский пурпур, новоявленный принцепс тут же лишил Марка большей части его земель и прочего имущества. — По-моему, с тобой обошлись несправедливо.
— Я и раньше не нравился императору, — сухо ответил Марк. — Надеюсь, что мне по крайней мере сохранят жизнь.
— Но с другой стороны, тебе крупно повезло.
— В чем же? — удивленно поднял брови сенатор Норбан. Ему было всего тридцать пять или около этого, но он уже начал седеть на висках.
— В том, что ты избавился от Туллии, вот в чем, — ответила Марцелла, доверительно понизив голос. — Одно это определенно заслуживает поздравлений.
В ответ на ее слова Марк улыбнулся, разумеется, подчеркнуто вежливой улыбкой, чтобы не унижать достоинство женщины. Даже той, которая вполне заслуживала презрения. Почему хорошим мужчинам всегда достаются самые сварливые жены?
Хвала богам, что хотя бы трехлетний сын Марка и Туллии похож на отца. Маленький Павлин послушно стоял рядом с Марком и круглыми от удивления глазами наблюдал за окружающими людьми. Что касается матери, та совершенно не обращала на сына внимания. Когда Марк развернул свитки, — а, надо сказать, он всегда брал их с собой на скачки, — Марцелла нагнулась к мальчику и что-то шепнула ему на ухо. Павлин радостно кивнул и на минуту отошел куда-то. А через пять минут в ложе раздался пронзительный визг — это Туллия обнаружила в кубке с вином жука.
— Марцелла, ты не могла бы найти для меня Диану? Эта любительница скачек уже пропала где-то в конюшнях. — Корнелия закатила глаза к небу.
Странно, подумала Марцелла, глядя на сестру,
своих детей у нее вроде бы пока еще нет, но она мастерски овладела искусством раздраженных вздохов. — Кстати, Лоллия откровенно заигрывает с моим новым центурионом. Клянусь тебе, не будь у меня родной сестры, эти две красавицы непременно свели бы меня с ума!
— Тогда радуйся тому, что у тебя есть я.
Конюшни Большого цирка это совершенно особый мир, часто думала Марцелла. Шуршанье соломы, брань мальчишек-уборщиков, скрип колес, толпа конюхов, снующих туда-сюда с охапками сена или упряжи. Издалека, с трибун, доносился рев зрителей, голоса возничих, выкрикивающих слова обращенной к богам мольбы о ниспослании им удачи, конское ржание. Это действительно был другой мир, к которому Марцелла не имела никакого отношения, ибо хозяевами положения здесь были колесничии и конюхи. Когда Марцелла, обходя клочья соломы и лепешки навоза, пробиралась вперед, все как один провожали ее сомнительными взглядами. А вот Диана в отличие от нее чувствовала себя в этом мире, как рыба в воде. Конюшни с их вонью и грязью были ее стихией.
Марцелла обнаружила кузину в той части конюшен, где содержались лошади «красных». Диана стояла рядом с главой фракции, лысым коротконогим толстяком с жабьим лицом. Оба с одинаковым интересом разглядывали четверку серой масти, привязанную к столбам коновязи.
— Они уже постарели, — говорила Диана. — Нам для страховки нужна новая четверка.
— Эти еще способны на несколько побед.
Диана обошла жеребцов и провела рукой по гладкому крупу одного из них. Ни один из них не выразил неудовольствия, ни один даже не попытался ее лягнуть. По идее, она должна была казаться здесь таким же инородным телом, как и Марцелла, — хорошенькое юное создание с белокурыми волосами, в алых шелковых одеждах, однако никто из присутствующих в конюшне не обращал на нее внимания. Глава фракции «красных» давно оставил все попытки выставить ее из конюшни. Еще в те далекие дни, когда Диане было всего восемь лет, она беззаботно играла под брюхом жеребца, ранее лягнувшего в голову по меньшей мере четырех конюхов. Какой переполох тогда случился в семье!
Задумчиво жуя соломинку, Диана сделала шаг назад.
— Кто сегодня участвует в заезде?
— Один молодой грек. Он выиграл гонки в цирке Фламиния. У него хорошие руки.
— Гнедые тоже участвуют? — За каждую фракцию могла бежать не одна упряжка, а несколько.
— Да. Ими будет править Тарквин.
— Он победит, если только эти гадкие «синие» не нарушат правил.
— Диана! — решила напомнить о своем присутствии Марцелла. Если Диану не увести отсюда вовремя, она способна пробыть здесь до позднего вечера. — Корнелия послала меня за тобой. Она там с ума сходит, хочет, чтобы все было, как можно лучше.
— Уводи ее с собой, госпожа, — проворчал лысый. — Да смотри не вляпайся своими красивыми сандалиями в навоз.
Диана шагнула вперед и, схватив серого жеребца за нос, потянула его голову вниз. Волосы ее выбились из прически и золотистой волной упали ей на спину. Руки девушки, на вид такие обманчиво-тонкие и хрупкие, что казалось, им никогда не удержать огромную, сильную лошадь, на деле были крепкими и сильными. Жеребец послушно опустил широкий нос, и в лошадиные глаза заглянули девичьи — самые красивые в Риме зеленовато-голубые глаза, от взгляда которых многие мужчины начинали заикаться как робкие мальчишки.
— Стой смирно, — строго сказала коню Диана. — Свой нрав будешь показывать, когда опустится флажок.
Жеребец фыркнул ей в руку, и красные ленточки, вплетенные в его гриву, затрепетали, как и красные ленты в льняных волосах Дианы. Марцелла вновь потянула кузину за локоть, чтобы та уступила дорогу конюхам, которые бросились вперед с упряжью из красной кожи. Позади них стояла роскошная колесница — с двумя позолоченными колесами и увенчанная головой бога огня, которую вместо волос украшали шевелящиеся алые змеи. Колесничий был готов к забегу. Это был тощий темноглазый юноша, по возрасту ненамного старше самой Дианы. Когда Марцелла потащила ее к выходу из конюшни, Диана обернулась и через плечо посмотрела на него.
— У тебя сейчас глаза вылезут из орбит, — заявила Марцелла и остановилась, чтобы вытащить из волос кузины соломинки. — Неужели ты наконец влюбилась? Лоллия будет просто счастлива!
— При чем здесь это! — Диана отбросила эту мысль столь же решительно, как и оттолкнула руку Марцеллы. — Я просто хотела бы оказаться на его месте.
А кто бы сомневался? В Риме имелось немало любителей почесать досужими языками за спиной у Дианы. Однако Марцелле с трудом верилось в то, что ее младшая кузина охотится в конюшнях за колесничими. Многие молодые римлянки вполне могли без лишних раздумий лечь под знаменитого возничего, но только не Диана. В прошлом году во время луперкалий Марцелла своим собственными глазами видела, как очередной триумфатор заездов от фракции «синих» провел кончиками пальцев по шее Дианы и попросил разрешения прогуляться с ней по залитому лунным светом саду, на что Диана ответила ему выразительным взглядом и заявила: «Я бы не вышла даже из объятого пламенем дома вместе с тем, кто так скверно делает поворот, как ты». Нет, такая гордячка, как Диана, ни за что не опустится до того, чтобы кувыркаться в сене с первым встречным конюхом. Уж на что, а на это ей явно хватит благоразумия.
При условии, конечно, если у Дианы имеется разум. Марцеллу всегда терзали сильные сомнения на этот счет. Разве лошади могут думать?
Пока они шли по широкой дорожке прочь от конюшни, Диана не сводила с кузины недовольного взгляда.
— Ты не носишь красный цвет.
— Это розовый, разновидность красного.
— Но фракции «розовых» не существует!
Да, благоразумия тут явно не хватает.
Они вернулись в ложу Корнелиев, и Диана поцеловала в лоб своего рассеянного отца. Он столь же красив, что и его дочь, подумала Марцелла, и столь же безумен. Влюбленные в него римлянки придумали ему прозвище Парис: своим точеным лицом он напоминал им героя «Илиады», добившегося Елены Троянской. Впрочем, отец Дианы вовсе не мечтал о том, чтобы навлечь на соплеменников столько же бед, что и мифический Парис. Его интересовало нечто совсем другое. Римский патриций, он не мыслил своей жизни без ваяния скульптур из мрамора.
Но его родственников раздражает не это. Их раздражает то, что он действительно мастер своего дела. Даже сейчас Парис сидел, не обращая внимания на тех, кто пытался заговорить с ним, и делал наброски будущих статуй.
— У тебя хорошее лицо, — сообщил он центуриону Денсу, или как там его зовут, чем поверг преторианца в изумление. — Из тебя вышел бы неплохой Вулкан. А может даже, Нептун, будь у тебя борода. Сколько времени тебе понадобится, чтобы отрастить бороду? Повернись, пожалуйста, в профиль.
— Вообще-то я на службе, — замялся центурион.
— А разве на службе ты не имеешь права повернуться в профиль? Повернись, прощу тебя.
Диана посмотрела на центуриона и строй застывших возле стены преторианцев.
— Что они здесь делают? — спросила она, обращаясь к Марцелле. — Пришли арестовать нас?
— Нет, это новые игрушки Корнелии, — ответила Марцелла и взяла с серебряного блюда гроздь винограда. — Пизона со дня на день объявят наследником императора.
— Пизон обожает гонки, — задумчиво произнесла Диана. — Надеюсь, он не станет запрещать праздники, если станет императором. Или как?
— Он все любит и ничего не станет запрещать. Потому что запрещать — это не в его духе. На такое ему просто не хватит силы воли.
Марцелла искоса бросила взгляд на деверя: Пизон стоял с кубком в руках в обществе нескольких сенаторов. Разговаривая с ними, он чему-то кивнул с самым серьезным видом, но, с другой стороны, он всегда кивал с серьезным видом, выражая свое согласие.
Луций жуткий зануда, подумала Марцелла,
но восемь лет жизни с Пизоном! Я бы точно умерла от скуки.
— Твоим бесценным «красным» нечего опасаться, — шутливо добавила она.
— Не вижу повода для смеха. После того как Гальба стал налево и направо запрещать праздники, для колесничих как будто настала глухая зима. «Неразумная трата денег», так он заявляет. — Диана раздраженно хлопнула ладонями по мраморной балюстраде, разглядывая цирк с его причудливым разделительным барьером и позолоченными дельфинами. Правда, последние были укутаны в чехлы, поскольку им предстояли несколько месяцев безделья. Поговаривали, что Гальба якобы отменил зимние праздники. — Лошади застоятся без движения.
— Не грусти, Гальбе осталось жить недолго.
Диана повернулась к Марцелле.
— И после этого все еще думают, что это я ужасная!
— Я привыкла иметь дело с пергаментом и чернилами, а не с колесничими, — улыбнулась Марцелла, потянувшись за новой гроздью винограда. — Это более почтенное занятие.
Диана снова обратила взгляд на громаду цирка. Марцелла повернулась, чтобы взять у раба кубок с вином, и тотчас заметила, что Лоллия о чем-то шепотом препирается с новым мужем. При этом оба едва ли не прижимались носом к носу.
— … позоришь меня! Ни одна уважающая себя матрона, отправляясь в общественное место, не раскрашивает себя так блудница!
— Если мне не изменяет память, Виний, твоя последняя женушка как раз и была блудницей. Ты развелся с ней из-за того, что она переспала с половиной Галлии. Или ты думаешь, что мы здесь, в Риме, ничего об этом не слышали?
В шелковом малиновой расцветки платье с каймой по подолу, прошитой серебряной нитью, в ожерелье из платины и жемчуга Лоллия тотчас привлекала к себе внимание. Легкомысленная хохотушка, она, однако, была готова испепелить престарелого супруга полным ярости взглядом.
Впрочем, то же самое можно было сказать и о нем самом.
— Сотри тушь с глаз и румяна со щек или ступай домой!
— Сначала я поговорю об этом с моим дедом, — ответила Лоллия и потерла щеки.
— Поговори! Этот вульгарный вольноотпущенник никогда…
— Как ты назвал его? После того как он оплатил твои долги и дал тебе денег для…
Голос Корнелии перекрыл их яростный шепот.
— Флавия, осторожно!
Маленькая дочь Лоллии сползла с материнских колен и попыталась вскарабкаться на ограждение ложи, Корнелия бросилась следом за девочкой, но центурион, до этого стоявший у нее за спиной, оказался проворнее. Он бережно подхватил малышку, и привычная суровость на его лице сменилась теплой улыбкой. Преторианец вернул Флавию Лоллии, которая усадила дочь себе на колени и, в последний раз огрызнувшись новому мужу, крепко прижала девочку к себе.
— Благодарю тебя, центурион, — сказала Корнелия и легонько похлопала по руке спасителя юной Флавии, после чего повернулась к Лоллии. — Неужели ты не в состоянии присматривать за ребенком? Малышке всего три года, и она всюду лезет. Она ведь могла свалиться вниз!
— Разве такое возможно, когда нас охраняет такой любезный и внимательный центурион? — Лоллия похлопала ресницами и с невинным видом посмотрела на обладателя красивых каштановых волос. Сенатор Виний одарил супругу еще одним негодующим взглядом.
— Я вижу, ты предпочитаешь заигрывать с мужчинами, вместо того, чтобы приглядывать за ребенком. — Корнелия явно хотела сказать что-то еще, но вместо этого бросила на сестру последний, полный возмущения взгляд и поспешила присоединиться к Пизону. Лоллия пожала плечами, с ненавистью посмотрела на мужа и отошла к Марцелле. Малышка Флавия, которую она держала на руках, принялась беспокойно ерзать, крутиться во все стороны, и мать поставила ее на ноги и, чтобы чем-то занять, сунула ей в руку вместо игрушки браслет с бриллиантами. Что-то радостно залепетав, Флавия с довольным видом надела браслет на пухлую ручонку.
— Это точно твоя дочь, — сухо заметила Марцелла.
— Старикан так ее напугал, что она боится даже слово сказать. Я точно разведусь с ним. Боюсь, что ничего другого мне просто не остается.
— Тогда это будет твой самый короткий брак, — заметила Марцелла. — Три недели! Если бы мой брак был таким коротким…
В следующий миг прозвучал настоящий хор подобострастных восклицаний, и Марцелла увидела, как в императорскую ложу направляется Гальба. Вид у него был хмурый — не иначе, как в эти мгновения император мысленно подсчитывал стоимость увиденного. Затем послышались новые приветственные возгласы — это на беговой дорожке появились колесницы. По трибунам, ярус за ярусом, прокатился гром рукоплесканий. Плебеи вскочили со своих мест и принялись криками поддерживать любимые фракции. Патриции тоже хлопали в ладоши, правда, более сдержанно. Семь упряжек. Три за «зеленых», в общей сложности двенадцать лошадей, потряхивающих высокими зелеными плюмажами. Одна за «синих» с их знаменитыми гнедыми. Одна за «белых» и две за «красных».
За громкими криками восторженного плебса, по идее никто не должен был заметить, как в ложе Корнелиев появился еще один человек. Тем не менее — а от внимания Марцеллы и это не ускользнуло, — его приход заметили все до единого. Вошедший был ниже ростом, чем Пизон. Кудрявые темные волосы, белозубая улыбка. Нарядное платье щедро расшито золотой нитью. На каждой руке по кольцу, на шее — золотая цепь. Он специально задержался на входе в ложу, чтобы все могли увидеть его, и широко улыбнулся. Казалось, будто его улыбка наполнила ложу светом, как будто он нес перед собой зажженный светильник.
— Знаю, что опоздал, — беспечно заявил во всеуслышание новоприбывший, — однако надеюсь, что вы великодушно простите меня.
Марцелла отметила по себя, что все присутствующие невольно улыбнулись. Все кроме Корнелии, чей лоб собрался морщинками, это тоже не ускользнуло от взгляда Марцеллы.
— Сенатор Отон? — прошептала Лоллия. — О, боги, что он здесь делает?
— Ты его знаешь? — поинтересовалась Марцелла.
— Нам с ним случалось несколько раз вместе раскачивать одну и ту же кровать, когда он был в дружбе с Нероном. А ты разве его не знаешь, моя дорогая? С таким человеком, как он, стоит поддерживать знакомство, уж поверь мне.
Марцелла конечно же была наслышана о нем. Сенатор Марк Сальвий Отон, один из закадычных друзей императора Нерона. Во всяком случае, он считался таковым до тех пор, пока не возникла одна щекотливая ситуация. Так получилось, что Нерон влюбился в супругу Отона, увел ее у него и даже взял в жены, а затем избил до смерти.
Но встречалась ли я с ним раньше? Тем не менее узкое умное лицо сенатора показалось ей знакомым.
Знакомый или нет, но сенатор пришел в сопровождении пары преторианцев. Корнелия тоже их заметила, и ее лицо моментально стало похоже на каменную маску.
Вот как, размышляла Марцелла.
Неужели у Пизона появился соперник? Быть может, восхождение ее деверя к вершинам императорской власти не такая уж бесспорная вещь, как полагают многие?
— Дорогая Лоллия! — Отон остановился перед ними, и в глазах его промелькнуло удивление. — Давно тебя не видел. Ты снова замужем? Поздравляю, сенатор Виний, — обратился он к стоявшему в другом конце ложи престарелому сенатору. — Ты выбрал в жены самую очаровательную женщину нашего великого города. А ты, Лоллия, стала женой самого мудрого государственного мужа Рима.
Польщенный Виний расправил плечи, и как будто сделался выше ростом. Отон снова улыбнулся, и Марцелла отметила про себя, что по ложе пробежал шепот. На лице Пизона появилась растерянность.
— Ну, давайте же! — с громким криком вскочила с места Диана: это внизу, под трибуной, мимо их ложи промчались колесницы «красных».
Удивленный взгляд Отона переместился на нее.
— Среди нас, похоже, есть юная дева, которая очень любит гонки колесниц. — Окружавшая Отона компания захихикала. Как некогда и Нерона, щеголеватого сенатора сопровождала целая свита, прелестные женщины и холеные щеголеватые мужчины. Все молодые, все красивые, все смешливые. Отон чувствовал себя в ложе Корнелиев, как у себя дома.
— А, так это юная Корнелия Кварта, от любви к которой сходит с ума половина моих друзей! Я слышал, что тебя называют Дианой? Удивительно подходящее имя…
— Тише! — нетерпеливо осадила его Диана, перегнувшись через перила, и вместе с многотысячной толпой зрителей криком приветствовала участников гонок. Занавес, закрывавший ворота, упал, и двадцать восемь лошадей, яростно раздувая ноздри и раскачивая разноцветными плюмажами, бросились вперед по посыпанной песком дорожке. И только император Гальба, сгорбившись, сидел в своей ложе и просматривал свитки со счетами, всем своим видом демонстрируя полное равнодушие к происходящему. Плебс же, вскочив со своих мест, яростными криками подбадривал участников забега. Когда колесницы на сумасшедшей скорости совершали очередной крутой поворот, люди размахивали пестрыми флажками и сжимали в руках талисманы. Даже Марцелла была вынуждена признать, что зрелище впечатляло. Где еще можно увидеть двести пятьдесят тысяч человек, одновременно впадающих в истинное безумие?
Разве что на войне…
— Подхлестни их! — крикнула Диана, когда первый колесничий «красных», преодолев очередной поворот, вышел на четвертый круг. — Слышишь, подхлестни! Ну, давай!
— Прошу тебя извинить мою кузину, сенатор. — Это к ним, с безмятежной улыбкой на лице, приблизилась Корнелия, но Марцелла хорошо знала сестру и потому, когда та бросила взгляд на преторианцев Отона, прочла затаившуюся в глубине ее глаз тревогу. — Диана готова отдать жизнь за «красных», и что бы мы ни говорили, нам никак не удается утихомирить ее.
— Не надо ее утихомиривать, — ответил Отон. — Ваша Диана — большой оригинал, а я люблю оригиналов. Ведь ты тоже большой оригинал, госпожа. — С этими словами он пожал руку Корнелии, по всей видимости, гораздо сердечнее, чем следовало бы, потому что Корнелия тотчас поспешила убрать ее за спину.
— Достопочтенная Статилла, как я рада видеть тебя! — поспешила она перейти к свите Отона, состоявшей из молодых женщин, преторов и трибунов, которых почти всех знала по именам.
Пизон, до этого неловко переминавшийся с ноги на ногу где-то сзади, взял жену под руку и последовал за ней. Корнелия взялась представлять мужа гостям, что не замедлило вызвать неудовольствие у Отона. Он тотчас надулся, особенно когда увидел сопровождавших Пизона преторианцев, которые по первому же знаку Корнелии бросились к ней, как преданные рабы.
— Жаль, что Корнелия не может быть императором, — задумчиво проговорила Марцелла, ни к кому особенно не обращаясь, однако ее слова не ускользнули от слуха Отона.
— Верно, госпожа, — произнес он и, поклонившись, внимательно заглянул ей в глаза. — Корнелия Секунда, если я не ошибаюсь? Кажется, я тебя знаю.
— Нас никогда официально не представляли друг другу, сенатор, — холодно ответила Марцелла.
— Не представляли, но я помню, что император Нерон лестно отзывался о твоей красоте. Я не удивлен тому, что он был абсолютно прав в подобном суждении.
Неожиданно в ложе раздался истошный вопль Дианы — это «синие» вырвались вперед в четвертом круге.
— Я умру, если они выиграют! — прошептала она, не сводя глаз с фонтанчиков песка, взметаемых лошадиными копытами. — Я умру!.. — Возле Дианы собралась добрая половина сопровождавших Отона трибунов, которые вскоре присоединились к ее горестным выкрикам. Однако слух Марцеллы как будто поставил преграду этому шуму.
— Я не хочу обсуждать тот вечер, сенатор, — наконец произнесла она. — Что было, то было.
— Тогда скажу вот что: ты мужественная женщина и достойна моего восхищения.
Марцелла отпила из кубка, не чувствуя, однако, вкуса вина. Ей довольно часто доводилось видеть бывшего императора с расстояния: надев на крашеные волосы золотой венок, он приветственно махал рукой плебсу, читал свои стихи придворным, что-то шептал на ухо красивым женщинам, которые имели счастье не быть его страдалицами женами. Но близко? В ту теплую весеннюю ночь на званом ужине в доме Лоллии она видела румяного мужчину с приятными чертами лица и блестящими глазами, придававшими ему вид больного лихорадкой.
В этот момент, возвращая ее к действительности, ей в уши ворвался громкий стук колес — как оказалось, это одна из упряжек «зеленых» преодолела крутой поворот, и Марцелла растерянно заморгала. Даже Пизон, который нашел в глубине ложи какого-то важного собеседника, поспешил обернуться. Лошади понесли, потащив за собой свалившегося с колесницы возничего, крепко привязанного к ней вожжами. На помощь несчастному тотчас бросились обслуживавшие арену рабы. Нужно было как можно скорее убрать обломки разбитой колесницы. Колесничему наконец удалось обрезать постромки и освободиться от обезумевших лошадей. Окровавленный и оборванный, он лежал на песке. Лошади же, ощутив свободу, еще быстрее устремились вперед. Рабы поспешно подхватили возницу на руки и понесли прочь с арены.
— Отлично, — облегченно вздохнула Диана. — Если бы его переехали «красные», они увязли бы колесами в его кишках и потеряли скорость.
— Маленькая дикарка, — проговорила Марцелла, все еще чувствуя на себе взгляд Отона, и покрутила в руке ножку золотого кубка.
— Я должен перед тобой извиниться, — неожиданно произнес тот. — Жаль, что в ту ночь я так ничего и не сказал.
— По крайней мере ты удержался от смеха, — поймала себя на признании Марцелла. Большинство гостей тогда рассмеялись, точнее, захихикали, когда Нерон, посмотрев на нее, бесцеремонно заявил своим высоким, едва ли не женским голосом:
Завтра ты будешь обедать со мной одна. Марцелла, стряхнув с себя задумчивость, испуганно подняла на него глаза, и высокомерные гости Нерона нашли это чрезвычайно забавным. Очередная императорская прихоть. Прихоти Нерона были известны всем: даже когда пылал объятый огнем сенат, никто не осмелился произнести ни слова. Император-поэт привык добиваться всего, что только приходило в его безумную голову. И неважно, что это было, — кубок вина, роскошный дворец или красивая дочь полководца.
— Нет, я не смеялся тогда, — в глазах Отона блеснул насмешливый огонек. — Для этого ты вела себя слишком храбро.
— Я не думаю, сенатор, что тот случай, когда у человека нет выбора, можно назвать храбростью.
— Позволь заверить тебя, что это именно так. Храбрость — это умение достойно встречать неблагоприятные обстоятельства, независимо от того, можно их избежать или нет.
Начался последний заезд. Марцелла заставила себя переключить внимание. Диана, вскочив с места, криками подбадривала резко вырвавшихся вперед «красных». Толпа бешено ревела, и Марцелла поймала себя на том, что кричит вместе со всеми, а ее ладони от волнения покрылись потом. Впрочем, переживания эти никак не были связаны со скачками. Даже Лоллия присоединилась к многотысячному хору голосов, доносившихся с трибун, и, так же как и Диана, истошно вопила все время, пока «красные» и «синие» с переменным успехом рвались вперед, к победе. А вот Отон и его свита не проявили к происходящему на арене ни малейшего интереса и продолжали о чем-то негромко переговариваться. Последний поворот. Марцелла ахнула вместе со всеми остальными, когда колесницы на сумасшедшей скорости обогнули поворотный столб. Правда, «красные» при этом лишь чудом не задели его. Колесничий едва не потерял равновесие, однако с побелевшими от ужаса глазами яростно продолжал нахлестывать упряжку.
Марцелла неожиданно поймала себя на том, что неистово колотит кулаками по перилам ложи.
О, Фортуна, мелькнула в ее голове позабавившая ее мысль,
гонки увлекли даже меня! Виний, как обычно, выглядел угрюмо, Туллия, заметив радостное настроение окружающих, неодобрительно поджала губы. Даже скучный Пизон, и тот поддался всеобщему накалу страстей и что-то невнятно бормотал себе под нос, а Корнелия радостно вцепилась в его руку. Стоя позади них, обычно бесстрастный центурион Денс бранился как заурядный мальчишка-конюх, сжимал кулаки и криками подбадривал «красных». И что совсем удивительно, даже сенатор Марк Норбан оторвался от вечных своих свитков. Цокот лошадиных копыт был подобен сердцебиению.
Упряжки рванули к финишу, и все разговоры разом смолкли. За победу теперь отчаянно боролись лишь «красные» и «синие». Мчавшиеся бок о бок пристяжные соперников пытались ухватить друг дружку зубами. Колесничие нещадно нахлестывали своих лошадей. Все до последнего зрители вскочили на ноги и истошно вопили, требуя от колесничих победы. Лишь унылый Гальба продолжал морщинистыми руками перебирать свитки расходов и подсчитывать сестерции. Еще мгновение — и «красные» резко вырвались вперед, в прах сокрушив все надежды поклонников «синих» видеть своих любимцев победителями кульминационного забега.
Трибуны взорвались ликующими криками.
Диана, не в силах сдержать ликование, заключила в объятья первого попавшегося, кто стоял рядом с ней. Как оказалось, это была Марцелла. Та смеялась, обнимая в ответ свою безумную кузину, и от избытка чувств даже растрепала ей гриву светло-золотистых волос. Корнелия и Пизон тоже сжимали друг друга в объятиях. Лоллия, словно мяч, подбрасывала в воздух малышку Флавию, и даже Отон улыбался, не скрывая своей радости. Внизу колесничий «красных» растерянно взирал на рабов, приближавшихся к нему с пальмовой ветвью победителя.
Колесничий «синих» злобно щелкнул кнутом над головами взмыленных лошадей «красных», вынудив всех четверых встать на дыбы, чем вызывал на трибунах бурю негодования. Все, от Дианы и до последнего плебея, тотчас же разразились потоком отборных непристойностей.
— Клянусь Юпитером! — с улыбкой воскликнул Отон, услышав, как Диана поносит подлого колесничего «синих». — Я со времен службы в легионах не слышал таких изощренных ругательств.
Рукоплескания наконец смолкли, и гости в ложе начали расходиться. Лоллия пригласила всех желающих к себе в дом, где вечером будут чествовать победителя сегодняшнего заезда.
— Я не потерплю в своем доме никакого отребья вроде колесничих! — недовольно фыркнул Виний.
— Тогда, дорогой, если ты не против, я устрою пир в доме деда, — слащавым тоном проговорила Лоллия. Марцелла, прикрыв ладонью рот, рассмеялась. Хотя было видно, что спутники Отона явно рады возможности вкусить даровых угощений в доме, где чествуют знаменитого гостя; сенатор Виний, возмущенно замахал морщинистыми руками, продолжая шепотом упрекать жену в легкомыслии. Лоллия, не таясь от него, театрально закатывала глаза. Марцелла предположила, что уже через месяц Лоллия потребует у Виния развода.
— Думаю, это намек на то, что пора расходиться, — сказал Отон и склонился над рукой Марцеллы. — Я, конечно, приду на этот ужин. Разве я когда-нибудь пропускал хороший пир? А пока что я буду вынужден заняться этими тупицами, чтобы они пребывали в уверенности, что я талантлив и хорошо осведомлен.
— Ты талантлив и хорошо осведомлен, сенатор, — отозвалась Марцелла. — Я слышала, что ты хорошо справлялся с обязанностями губернатора Испании.
— В самом деле? Я и не знал, что тебе это известно, — с этими словами Отон отошел от нее, чтобы обменяться приветствиями со знакомыми патрициями.
Корнелия и Пизон получили приглашение во дворец на обед к императору. Однако остальные члены семьи отправились в дом деда Лоллии. Впереди всех шествовала Диана, обняв за плечо победителя сегодняшних скачек. В доме сразу же рекой полилось вино, раздались звуки музыки. Устроившись в углу с бокалом вина, Марцелла принялась наблюдать за происходящим.
Это то, что мне удается лучше всего. Марцелла, хранитель истории, соглядатай императоров, подумала она и вслух рассмеялась над собой. Какие, однако, напыщенные слова для заурядного историка!
Дед Лоллии буквально лучился радушием и с распростертыми объятиями встречал всех: сенаторов и колесничих, напыщенных трибунов и смешливых женщин. Бывший раб, а теперь один из самых влиятельных людей Рима искренне радовался всеобщему успеху. Еще бы! Ведь недавно он завладел акциями «красных». А также, насколько было известно Марцелле, «синих», «зеленых» и «белых», ибо благоразумно ставил сразу на
все стороны. Стоит ли удивляться тому, что он самый богатый человек в Риме! В свои первые годы вольноотпущенником, он заправлял кварталом доходных домов на Целии. Позднее — причем весьма успешно — занялся торговлей, благодаря чему сколотил внушительное состояние, женился на патрицианке и даже получил возможность общаться с императорами… Лоллия о чем-то упрашивала деда в углу. Она наверняка уже сообщила ему о том, что хотела бы избавиться от Виния. И ей, разумеется, удастся это сделать, — дед мог быть неуступчивым в торговых делах, но становился мягким и податливым, как глина, в нежных ручках единственной внучки, которую вырастил, как собственную дочь. Родители Лоллии погибли во время кораблекрушения, когда корабль, на котором они плыли, затонул. Дед, не раздумывая, взял малышку к себе. Его сокровище желает себе нового мужа? Что ж, любящий дед непременно его найдет, точно как же, как находил для нее украшения, жемчуга, кукол, наряды и прочее, когда она была маленькой.
Тогда у нее были самые лучшие игрушки, подумала Марцелла.
Пожалуй, у нее и сейчас лучшие «игрушки», какие она только пожелает.
Стоявший в центре шумной толпы, Отон предложил тост за «красных» и за возвращение хороших времен в недавно наступившем холодном декабре. Не успел он закончить речь, как к нему подошел один из сопровождавших его преторианцев и что-то прошептал на ухо. Марцелла заметила, что Отон широко улыбнулся.
— Приношу всем мои искренние извинения! — радостно объявил он. — Император Гальба вызывает меня во дворец. О, боги, в чем же я провинился?
— Почему Гальба позвал его? — запричитала на следующий день Корнелия, обращаясь к Марцелле.
— Может, потому что Отон хорош собой? — предположила Марцелла. — Говорят, Гальба любит красивых, сильных мужчин. Я всегда думала, что он благоволит Пизону именно по этой причине, но если ему больше по нраву Отон, то…
Впрочем, сестра не слушала ее и продолжала:
— …мы с Пизоном должны были стать единственными гостями! Отон будет весь ужин отпускать шуточки на счет моего мужа. И еще я так и не поняла, зачем Отону дали охрану из преторианцев…
Марцелла удивленно выгнула бровь.
— А, по-моему, ты все отлично понимаешь, Корнелия.
— Неважно, — отмахнулась та, поправляю прическу. — Это ничего не меняет. В конце концов Пизон — родственник Гальбы. Он происходит от Помпея и Красса, кроме того, он серьезный человек, а не какой-то там надушенный и напомаженный извращенец.
— Может быть. Но, угадай, у кого больше денег на подношения? Угадай, кто способен очаровать даже птиц, сидящих на деревьях? Чье имя толпа выкрикивала после скачек?
(обратно)
Глава 3
Корнелия
Корнелия никогда не любила невольничий рынок. Толкотня, шум, выкрики аукционеров, одобрительные возгласы мужчин, пришедших посмотреть на то, как раздеваются догола рабыни. Буквально все вокруг вызывало у нее отвращение — неудивительно, что при покупке рабов она предпочитала посещать закрытые торги.
— Добрый день, госпожа, и тебе, госпожа, — произнес елейным голосом аукционист, подобострастно кланяясь Лоллии и Корнелии. — Вы доставили мне великую честь своим приходом. Здесь можно увидеть только лучших рабов, они все здоровые и послушные…
— Знаешь, что удручает больше всего? — пожаловалась Лоллия. — То, что теперь для меня главное событие каждого месяца — это поход на невольничий рынок!
— Тебе следует винить в этом только себя, — заметила Корнелия, медленно проходя мимо длинного ряда рабов, стоявших на специальных возвышениях. — Поцеловать колесничего, приглашенного на пир, да будет Юнона благословенна к нам, это смело. Любой муж на месте Виния тоже высказал бы свое неудовольствие!!
— Знаешь, он возражает не против того, что я его поцеловала. Дело в другом — в том, что это было сделано у всех на виду.
Я не хочу, чтобы мою жену считали блудницей! — Лоллия с чувством изобразила интонацию мужа. —
Поскольку ты, судя по всему, не способна прилично вести себя в общественных местах, тебе следует оставаться в стенах дома. Под строгим присмотром ты можешь ходить на форум, в бани, навещать родственников — против такого рода развлечений я не возражаю!
Корнелия шла, придирчивым взглядом рассматривая вереницу рабов, и рассеянно приняла из рук аукциониста чашку с ячменной водой. Рабы и рабыни были одеты в одинаковые белые туники. Руки и ноги были намазаны маслом и ярко блестели в свете светильника. На шее у каждого висела бирка, с именем и профессией. Слуги, секретари, писцы… хороший повар, вот что ей было нужно! Ее нынешний был совершенно раздавлен предстоящей необходимостью готовить разносолы для пира на сорок гостей. Дело даже не в изысканности ее собственных вкусов или вкусов Пизона, но императорский наследник, когда принимает гостей, просто не имеет права ударить в грязь лицом.
Если, конечно, Гальба выберет его наследником. Впрочем, Корнелия тотчас же подавила эту неприятную мысль. Конечно же император выберет своим преемником Пизона, других претендентов просто не было! Кто-то может показаться большим любимцем в народе, кто-то слывет более обаятельным, кто-то может сорить деньгами, рассыпая их щедрым дождем, но в конечном итоге это ничего не значит. Мужчины с решительным характером всегда берут верх над обаятельными толстосумами.
— Я подумывала, а не купить ли мне новую служанку вместо той гарпии, которую Старикан заставляет шпионить за мной, — задумчиво произнесла Лоллия. — Нет, наверно, мне нужен кто-то еще… сильный и красивый мужчина, который помогал бы мне коротать время.
— Лоллия, прекрати, прошу тебя!
— Кто же будет ублажать меня, если меня посадили под домашний арест? Ты ведь не хочешь одолжить мне своего центуриона. Он мог бы показать мне, как обращаться с копьем, и тогда, так и быть, ты можешь беспрестанно трещать о том, как Пизон станет императором.
— Надеюсь, ты говоришь это не всерьез, потому что я искренне считаю, что…
— Только не топорщи свои перышки, — со вздохом произнесла Лоллия.
Корнелия была готова оскорбиться, однако затем, подавив в себе раздражение, остановилась перед упитанным лысым рабом далеко не юных лет. Подойдя ближе, она прочитала надпись на висевшей на груди раба табличке. Варрон. Сорок три года. Повар.
— Какой ты повар, Варрон? Для кого привык готовить? Для семьи всадника или для семейства сенатора?
— Я готовил пищу для губернаторов, преторов и императоров, госпожа. Сам император Нерон восхищался моей стряпней — вареным мясом страуса, — последовал ответ.
— Неужели? Расскажи мне, под каким соусом ты готовишь парную оленину?
— Под луковым, — быстро ответил раб. — С иерихонскими финиками, изюмом и медом.
— А какие блюда ты предложил бы императору Гальбе, окажись он за твоим столом?
— Медузу и яйца, вареные грибы с перечным соусом, приготовленным на рыбьем жире, жареного попугая…
— О боги! Ну почему здесь не выставляют на продажу мужей! — сокрушенно произнесла Лоллия и протянула кубок, чтобы ей его снова наполнили. Вином, заметила Корнелия, а отнюдь не ячменной водой. — Представляешь табличку с надписью: «Виний, римлянин, шестьдесят два года, зануда и пустозвон». Я разведусь с ним, ведь что мне еще остается? Я бы и раньше это сделала, но он пригрозил, что натравит на моего деда императора… мол, тот конфискует все его имущество, короче говоря, поступит так же, как с несчастным Марком Норбаном.
— Ему не следовало так говорить, — призналась Корнелия. — Варрон, а чем, по-твоему, лучше фаршировать кролика?
— Свининой и сосновыми орешками, госпожа…
— Старикан конечно же не утихомирится и будет по-прежнему угрожать моему деду, — зловещим тоном произнесла Лоллия и зашагала дальше вдоль длинной вереницы рабов.
Массажистка, парикмахер, носильщик…
— Он продается вместе с пятью другим рабами, госпожа, — вступил в разговор торговец. — Неплохой набор…
— Я беру этого, — решила Корнелия и улыбнулась упитанному лысому повару. — Добро пожаловать в мой дом, Варрон.
— Спасибо тебе, госпожа, — произнес тот и почтительно склонился над ее рукой.
— Хм… — Лоллия остановилась перед последним в ряду рабом. — Кто это?
Корнелия прочитала надпись на табличке.
— Тракс, галл, двадцать восемь лет, раб для личных нужд.
Это было вежливое иносказание. Одного взгляда на раба — высокого, широкоплечего, светловолосого, с налитыми, как у статуи атлета, мышцами — было достаточно, чтобы понять, каковы его главные умения.
Лоллия смерила его придирчивым взглядом с головы до ног.
— Тебя зовут Тракс?
— Да, госпожа. — У раба был низкий голос с отчетливо выраженным акцентом.
— И ты родом из Галлии? Это далеко отсюда.
— Я почти не помню Галлию, госпожа.
— Извини, ты не будешь против, если?.. — Лоллия вскинула брови и игриво улыбнулась рабу.
Тракс задрал тунику до уровня головы, выставляя напоказ крепкое обнаженное тело. Корнелия поспешила отвести возмущенный взгляд. В раздевании раба не было никакой необходимости. Даже если у него окажется какой-нибудь телесный изъян, его всегда можно вернуть продавцу. Зачем заставлять рабов раздеваться догола, только для того, чтобы поглазеть на них? Ведь даже у рабов есть гордость. Этот великан галл слегка покраснел, однако улыбнулся Лоллии — как показалось Корнелии — искренне и немного смущенно. В уголках голубых глаз лучиками собрались крошечные морщинки.
Лоллия повернулась к торговцу.
— Я беру его.
— Ты покупаешь раба не просто за его красоту, — сказала Корнелия, когда Тракс, на ходу натягивая обратно тунику, позволил отвести себя прочь. — Этот галл вскружит голову всем рабыням в твоем доме, да, пожалуй, и половине рабов-мужчин.
— Мне все равно. Главное, чтобы голова кружилась у меня самой.
— Тебе
действительно нужен личный раб?
— Мне нужно именно такое прекрасное тело. — Лоллия смерила взглядом свою новую покупку, ожидавшую ее в другом конце зала. Тракс смахнул со лба волосы, и при этом движении литые бицепсы красиво перекатились шарами под бронзовой кожей. — Это именно то, что оживит мой скучный домашний арест!
Корнелия остановилась.
— Послушай, Лоллия. Любовники из твоего окружения — это одно дело, но спать с рабом? Тем самым ты унижаешь себя. И их тоже.
— Спорим, ты ни за что не упрекнула бы меня этим, будь я мужчиной, — пожала плечами ее кузина. — Все мужья, насколько мне известно, время от времени спят с рабынями.
— Но это не оправдывает тебя.
— Любой раб с такой внешностью, как у Тракса, знает, что его покупают для любовных утех, — с жаром возразила Лоллия. — Не удивлюсь, если он возносит хвалу богам за то, что его купила я, а не какая-нибудь престарелая матрона или гадкий старикашка сенатор.
— Я рада, что ты о себе высокого мнения, — возмутилась Корнелия.
— Покупки будут доставлены к порогу твоего дома через час, — сообщил, поклонившись, коротышка работорговец. — Может быть, обе госпожи желают посмотреть остальной товар? Новая служанка, которая сделает вас еще более красивыми, или,
может быть…
— Думаю, что я уже пересмотрела всех, — ответила Корнелия и жестом подозвала управляющего, чтобы тот поторговался о цене.
— Вижу у тебя новенькую вещицу, — произнесла Лоллия, взяв кузину за руку. — Этот браслет, похоже, египетской работы.
— Так, побрякушка, брелок, — ответила Корнелия и, чтобы скрыть бронзовый амулет, торопливо закрыла запястье рукавом платья.
— Похоже, что это амулет, — заговорщически подмигнула Лоллия, когда они шагали через длинный вестибюль в направлении атрия. — Дай, угадаю, амулет для Пизона? Или твой собственный, призывающий плодородие?
Корнелия покраснела.
— Пизон не любит амулеты, говорит, что это глупые предрассудки суеверных плебеев.
Из-за этих его слов она чувствовала себя слегка виноватой за то, что пожертвовала пригоршню монет храму Исиды. Жрицы заверили ее, что если она будет носить такой амулет и зашьет его в подушку мужа, то все ее пожелания сбудутся. Корнелия поступила так, как ей было сказано, не сказав, однако, об этом Пизону. Ее супруг с неодобрением относился к чужеземным богам. Впрочем, так же, как и она сама. Но ей недавно стало известно об Исиде и ритуалах, призванных одарить женщину плодородием.
— Это не твое дело, Лоллия, — добавила она.
— Только не надо грубить мне, дорогая. Я не понимаю, почему ты так хочешь детей. Флавия, конечно, прелестна, но моя талия никогда больше не будет такой же стройной, как прежде.
— Кстати, как себе чувствует Флавия? — поспешила спросить Корнелия. Хотя в атрии было холодно и в проем крыши были видны зимние свинцовые облака, она чувствовала, что у нее горят щеки.
— Хворает, — пожала плечами Лоллия. — Да любой захворает, живя в доме старикана. Я собираюсь слечь в постель сразу, как только доставят Тракса. Скажусь больной, сошлюсь на головные боли, чтобы подольше оставаться в постели, но я буду в ней не одна…
— Флавия захворала? — оборвала ее Корнелия. — Что с ней? Ты показала ее врачу?
— У нее всего лишь кашель. Мои служанки не отходят от нее ни на минуту.
— А почему ты сама не присматриваешь за ней?
— О, боги, зачем? — искренне удивилась Лоллия. — Рабыни прекрасно знают, что им делать, они в этом разбираются намного лучше меня.
— Если бы Флавия была моей дочерью, я бы ни за что не оставила ее под присмотром рабов! Ребенка обязательно должна воспитывать мать…
Лоллия расхохоталась.
— Ни одну из нас, Корнелия, не воспитывала мать. Тебя, Марцеллу, Диану, меня. Вспомни, нас всех воспитывали рабы. Я не вижу причины, почему бы Флавии…
— Не забывай, что наши матери умерли молодыми, Лоллия. Я не понимаю, зачем Флавии…
— А я не понимаю, какое тебе до этого дело. Флавия не твоя дочь.
— Может, было бы куда лучше, будь она моей! — неожиданно разозлилась Корнелия. — Твоя дочь лежит больная, а ты покупаешь для удовлетворения собственной похоти домашнего жеребца!
— Если я одолжу его на время тебе, может, тогда ты забеременеешь и обзаведешься собственным ребенком, и перестанешь завидовать моему? — вспыхнула Лоллия. — Потому что твой муж на это явно не способен.
— Да как ты смеешь хотя бы слово произнести о моем муже?! — Корнелия подскочила к кузине едва ли не с кулаками.
— Неужели этот твой Пизон для тебя такое выгодное приобретение? — съязвила в ответ Лоллия. — Он каждый раз задирает нос при встрече с моим дедом, да и ты тоже! Только потому, что тот родился рабом и верит в то, что на жизнь можно заработать собственным трудом. Мой дед крутится день и ночь, зарабатывая эти проклятые деньги, которые затем берете у него в долг вы все. Вы все приходите к нему с протянутой рукой, так что я на месте твоего бесценного Пизона не стала бы задирать нос и воротить от него лицо!
— Это в тебе говорит зависть, — парировала Корнелия. — Ты ревнуешь, потому что мой муж скоро станет наследником Гальбы!..
— Верно, и уж тогда ты точно станешь смотреть на меня свысока, как и подобает императрице! — Лоллия вызывающе уперлась кулаками в бедра. В эти минуты она была готова испепелить Корнелию взглядом. — Не думай, что я не замечаю, как ты и Марцелла закатываете глаза, когда я начинаю говорить! Вы обе всегда меня презирали! Да и Диана тоже!
— Почему бы и нет? — отплатила кузине той же монетой Корнелия. — А с какой стати нам смотреть на тебя, как на ровню? Ты, которая разгуливает повсюду, раскрашенная, как последняя шлюха, и спит с рабами!
— А что мешает тебе самой попробовать рабов? Готова поспорить, тебе еще никогда не вдували по-настоящему!
— Мой муж обожает меня!
— Ну, это уже совсем никуда не годится! Обожание, Корнелия, не имеет никакого отношения к настоящей любви. Почему бы тебе не вернуться на невольничий рынок и не купить себе какого-нибудь верзилу грека с членом как у быка? Просто для того, чтобы понять, чего тебе не хватает в жизни?
— И ты еще удивляешься, что я смотрю на тебя свысока? Да как же мне не смотреть свысока, если ты рассуждаешь, как потаскуха из портового лупанария! Да, в тебе сразу заметна кровь рабов!
Торговец рабами, стоявший возле двери, бросил на них осторожный взгляд. Стоя в центре атрия, две патрицианки крикливо ссорились, как какие-нибудь торговки рыбой.
— Тогда, дорогая кузина, молись всем богам, чтобы тебе наконец помог твой хваленый амулет, приносящий плодородие! — прошипела Лоллия, по-кошачьи сузив глаза. — Знаешь, никакому императору не нужна бесплодная жена. Твой бесценный муженек разведется с тобой и женится на какой-нибудь безмозглой дурочке, которая нарожает ему кучу сыновей, и тогда самая образцовая женушка во всем Риме перестанет наконец смотреть на меня как на отбросы в сточной канаве!
Корнелия с размаха залепила нахалке звонкую пощечину. Лоллия ответила ей тем же.
Какое-то мгновение они стояли молча, готовые испепелить друг дружку полными ненависти взглядами.
Корнелия ушла первой, лишь бы Лоллия не успела заметить на ее щеках слезы.
Диана
Отлично, подумала Диана,
наконец-то это случилось!
Четвертая Корнелия кругами ходила по траве, улыбаясь новой, мечтательной улыбкой: она безумно, абсолютно и навсегда влюбилась.
А началось все так…
— Так кто он такой, этот бритт? — спросила она у главы фракции «красных», когда носильщики наемного паланкина ступили на узкую дорожку. — Я думала, что знаю всех коневодов в Риме.
— Когда-то в Британии он участвовал в мятеже, теперь же состарился и разводит лошадей. Лошадей он продает немного, но они хорошие. У него наверняка найдется что-нибудь подходящее для «красных». — Носилки закачались над грязной узкой тропинкой, и глава фракции недовольно посмотрел на Диану. — И зачем только я привел тебя сюда?
— Потому что мои благородные родственники помогут тебе заплатить за новую упряжку, — ответила Диана и прикоснулась к одному из висевших на шее медальонов. Две лошади погибли в первых же скачках этого года, еще до того, как начались основные бега. Упряжка «красных» запуталась в вожжах, когда ненавистный Деррик щелкнул над головами лошадей кнутом. Две из них перепугались и понесли, как безумные. Две коренных, прихрамывая, ушли прочь с арены. — А если я помогаю деньгами, то и помогаю выбирать лошадок.
Глава фракции нахмурился. Диана знала, что толстяк сильно ее недолюбливает, но ей было наплевать. Главное, что он с благодарностью принимал финансовую помощь ее семьи, что, в свою очередь, лишало его возможности выгнать ее саму из конюшен «красных». А это самое главное.
Конный завод, возле которого они наконец сошли с носилок на землю, представлял собой большой участок земли с широким пастбищем, спускавшимся вниз по отлогому склону. На вершине невысокого холма расположилась небольшая вилла с колоннами. Все лучшие места, где разводили лошадей, находились за пределами городских стен. Диана с удовольствием вдохнула полной грудью чистый, морозный воздух. Как это не похоже на задымленные и зловонные улицы Рима! Если бы не Большой цирк, она непременно уехала бы из города и жила на природе, где воздух чист и прозрачен, как горный хрусталь!
Вскоре к ним из виллы вышел дородный управляющий и, поздоровавшись, тотчас же вступил в деловой разговор с главой фракции «красных». Диана с высоты холма посмотрела вниз и увидела какого-то человека. Прислонившись к коновязи, он наблюдал за тем, как по полю бегают два жеребенка. Возле его ног сидел черный пес непонятной породы. Приподняв подол красной паллы, чтобы не испачкаться в грязи, Диана подошла и встала с ним рядом. Жеребята были слишком юными для бегов, но они ей понравились.
— У них отличные ноги, — похвалила она. — Скажи, у тебя есть лошади постарше?
Мужчина обернулся. Диана давно привыкла к тому, что мужчины удивляются, когда смотрят на нее, но этот человек посмотрел на нее равнодушно.
— Тебе нужны лошади для бегов или на племя?
— Для бегов, — ответила Диана и опустилась на корточки, чтобы почесать собаку за ухом. — Для «красных».
— В этом году ваш колесничий никуда не годится. — Голос у бритта оказался низким и очень даже приятным. — Он не умеет делать повороты.
— Возможно, — пожала плечами Диана. — Я бы сама сделала это лучше, но пока никто не предложил мне взять в руки вожжи.
Бритт криво улыбнулся. Его невозможно принять за римлянина, подумала Диана. Слишком длинные волосы, с проседью и неаккуратно подстриженные. Кроме того, вместо туники на нем были штаны. Впрочем, несмотря на седину в волосах, он был не стар. Лет тридцать пять-сорок. Широкоплечий, с ямочкой на подбородке и спокойным выражением лица. Глава фракции подошел к ним вместе с управляющим виллы и коротко представился. Бритт пожал ему руку, но отвечать поклоном на приветствие не стал.
— Меня зовут Ллин ап-Карадок, — назвался он.
— Карадок? — удивилась Диана. — Я где-то слышала это имя.
— Возможно, — ответил бритт и зашагал вниз по склону, туда, где располагались загоны для лошадей. Карадок шел быстро, и Диане пришлось прибавить шагу, чтобы поспевать за ним.
Он привел четырех серых жеребцов. Глава фракции начал торговаться о цене, но Диана беззаботно отошла в сторону. Серые бегали прекрасно, они наверняка смогут победить «синих» с их четверкой необузданных гнедых. Вот это будет зрелище!
Она подошла к большому загону, разделенному жердями на четыре части. В них находились четыре жеребца. Диана приблизилась к коновязи.
Один из жеребцов старался ухватить своего соседа зубами через барьер. Жеребец, что постарше, прядая ушами, недовольно заржал на своих разрезвившихся собратьев. Услышав его ржание, они беспокойно заметались по своим клеткам. Своей огненной мастью, яркой, как заходящее солнце, молодые скакуны несомненно превосходили Диану в обилии красного цвета.
— Подожди! — крикнула Диана главе фракции.
Когда тот в сопровождении бритта подошел к ограде, она уже скользнула под коновязью и шагнула в траву.
— Этот! — указала она на жеребца, который недовольно ржал на своих чересчур резвых товарищей. — Он ведь старше вон тех трех?
— Это производитель, — ответил бритт. — Он не дает им шалить. Будь осторожна, он не любит чужих.
Жеребец бросился на Диану, норовя ее укусить, но та увернулась от его зубов и, ловко схватив строптивца за ноздри, взглянула ему в глаза. Животное, стуча копытами, злобно смотрело на нее черными, как маслины, глазами.
— Слишком старый для бегов, — неодобрительно заметил глава фракции.
— Неправда. Он не дает им разгуляться. — Диана выпустила ноздри жеребца и вновь повернулась к рослому бритту. — Давайте посмотрим, как они бегают.
Бритт привел гнедого жеребца, и Диана помогла ему надеть упряжь. Карадок смерил ее оценивающим взглядом, но она продолжала спокойно заниматься своим делом. Через секунду он молча протянул ей уздечку. Лошади, пританцовывая, стояли на беговых дорожках. Красные гривы на крутых загривках пылали огнем.
Бритт забрался на колесницу, и Диана на какое-то короткое мгновение прониклась к нему ненавистью. Она отдала бы все на свете за то, чтобы сейчас взять в руки вожжи. Бритт свернул на каменистую дорожку; Диана решительно зашагала рядом.
— Ты знаешь толк в лошадях, госпожа, — похвалил ее Карадок.
— Твои гнедые просто превосходны, — ответила Диана, переходя на легкий бег, чтобы не отстать. — Они уже участвовали в скачках? Ты вывел их от галльских лошадей или?..
— От британских пони.
— Пони? Они ведь совсем маленькие.
— Я вывел эту породу, добившись нужного мне размера, как того и хотел. Британских пони разводят для участия в боях, так что ваши скачки им нипочем. — Бритт горделиво вскинул голову и свернул колесницу на беговую дорожку. — Эта четверка будет спокойна даже в последнем круге.
Он без труда выстроил лошадей в одну линию. Диана налегла грудью на коновязь и, покусывая губы, наблюдала за тем, как колесница рванула с места. Четыре лошади полетели вперед подобно порыву ветра.
Карадок сделал всего четыре круга, но уже на втором и Диане, и главе фракции все стало ясно.
— Поворот!..
Жеребец постарше напрягся в упряжке, словно бык, направляя за собой трех своих собратьев, и колесница описала поворот с зазором всего в дюйм.
Наконец гнедые застыли на месте, и Диана запрыгнула на коновязь. Ладони почему-то были влажными от пота. Зрение затуманилось, живот скрутило узлом. Лоллия всегда говорила ей, что она непременно почувствует нечто подобное, когда наконец влюбится. Значит, это случилось?
Когда бритт слез с колесницы, Диана улыбнулась, улыбнулась как можно шире, лишь бы только скрыть свое волнение.
— Мы берем их! — радостно сообщила она владельцу лошадей. — Если ты не продашь их «красным», я украду их, клянусь тебе!
Карадок рассмеялся. Стоя на нижней перекладине ограждения, Диана оказалась с ним лицом к лицу.
— Они будут у тебя здорово бегать, — одобрительно произнес седой, хотя и не старый бритт.
Глава фракции уже водил стилом по восковой табличке, производя подсчеты. Диана перегнулась через ограду, чтобы лучше разглядеть гнедых красавцев, которые даже не запыхались после быстрого бега. Лишь покачивали головами, как будто только что пробежали из одного конца загона в другой.
— О, мои красавцы! Вы в пух и прах разгромите «синих»! — приговаривала Диана, проводя рукой по теплой, шелковистой шее ближнего к ней жеребца. — Как их зовут?
— Я не даю лошадям кличек, — ответил бритт и провел мозолистой рукой по носу жеребца постарше. — К ним привыкаешь, и поэтому их трудно терять в бою.
— Ты много воевал?
— Не очень, — коротко и не слишком любезно ответил Карадок и направился к главе фракции «красных» договариваться о цене.
Диана распрягла гнедых и, взяв под уздцы двух пристяжных, отвела их обратно в поле.
Жеребец, которого она вела под уздцы левой рукой, неожиданно взбрыкнул, испугавшись сильного порыва ветра, и резко ее дернул. Диана сильнее потянула повод и, дождавшись, когда животное успокоилось, повела за собой дальше.
— Они обычно никого не подпускают к себе, — раздался у нее за спиной голос бритта, который вел вторую пару скакунов. — Им нравится лягать тех, кто не подозревает об их капризном нраве.
— Лошади никогда не лягают меня. — Протянув руку, чтобы стащить уздечку, Диана легким шлепком по крупу отправила пастись в поле сначала одного жеребца, а затем второго. Карадок отпустил двух своих скакунов, и вместе они с Дианой облокотились на изгородь, наблюдая за тем, как гнедые, фыркая, резвятся в траве.
— Как же ты назовешь их, госпожа?
— Очень просто, — ответила Диана, любуясь огненными гривами в лучах полуденного солнца. — Я назову их в честь Четырех Ветров.
Марцелла
— Спрячь меня, — сказала сестре вместо приветствия Марцелла. — Я сбежала от Туллии. Эта змея не дает мне покоя из-за какой-то выщербленной плитки в атрии. Мне оставалось либо убить ее, либо сбежать.
— Конечно, спрячу. Проходи, — ответила Корнелия и поцеловала младшую сестру в щеку. Она была как всегда невозмутима, но рука, пожавшая руку Марцеллы, была влажной.
— Я надеялась, что мы с тобой посплетничаем, — призналась Марцелла, снимая с головы подол паллы. — Сбросим с ног сандалии и усядемся с графином вина, как когда-то в былые дни.
До того, как между нами встали мужья и политика.
— Только не сегодня, Марцелла. — Корнелия бросила взгляд через плечо на шумный атрий, где сновали рабы и стража. — Пизон отправился во дворец. Император доверяет ему, ведь Пизон встал на его сторону, как только услышал это известие…
— Какое известие? Новости из Германии? Я слышала, будто легионы собираются разбить статуи Гальбы…
— Тише! — Корнелия взяла сестру за руку и провела в дальний конец помещения. На ходу она кивнула управляющему Гальбы, чтобы тот принес им еще вина; и даже успела одарить дружеским кивком сенатора, который взял у Отона тысячу сестерциев, чтобы выступить в сенате против Пизона… — Все значительно осложнилось, когда это известие дошло до солдат, — доверительно сообщила Корнелия, понизив голос, хотя машинально продолжала улыбаться. — Если легионы в Германии откажутся признать Гальбу императором, то взбунтуются преторианцы…
— У них для этого достаточно причин. Гальба по-прежнему отказывается платить им жалование.
— Но с какой стати ему подкупать их? Они честные римские солдаты, а не какие-нибудь наемные головорезы.
— Да, это так, но честью не заплатишь долги и не купишь вина в таверне, согласна? — Говорят, что Отон именно так и поступает в последнее время, во всяком случае, Марцелла об этом слышала.
— Недовольны лишь плохие солдаты, — возразила Корнелия и, на минуту остановившись, чтобы восхититься новой женой одного из заклятых врагов, и с улыбкой пошла дальше. — Центурион Денс уверяет, что его подчиненные сохранят нам верность. Денс, это центурион, которому приказано охранять нас. Он просто прелесть. Если бы все воины были такими как он!
— Это не тот, которого у тебя просила одолжить Лоллия?
— Я больше не общаюсь с Лоллией, — презрительно фыркнула Корнелия. — Ты не поверишь, какие гадости она мне наговорила.
— Не затягивай ссору с ней. Жизнь без Лоллии была бы просто скучна!
Затем к Корнелии приблизились несколько разряженных матрон. Она, как и положено, расцеловала их в щеку и поинтересовалась здоровьем детей. Увы, ни у одной из этих расфуфыренных зазнаек не нашлось доброго слова для Марцеллы, ведь ее муж в конце концов занимал не слишком высокое положение в римском обществе. Избавившись от матрон, сестры дошли до длинного зала, где бюсты предков Пизона тянулись напротив длинного ряда скульптурных портретов давно ушедших в мир иной Корнелиев. Корнелия подвела Марцеллу к бюсту их матери, которую они почти не помнили.
— Сегодня император объявит его своим наследником, — прошептала она, нервно впившись пальцами в руку сестры. — Ему придется усмирять легионы… они наверняка утихомирятся, если поймут, что за Гальбой стоит другой человек, молодой, сильный и щедрый…
— Значит, Пизон во дворце и пытается добиться признания себя наследником?
— Конечно нет. Он просто… просто находится там. Спокойный, надежный, готовый ко всему. Разумеется, там же находится и Отон… — начала Корнелия, но не договорила, чтобы погрызть покрытые лаком ногти.
— Перестань! — воскликнула Марцелла. — Разве у императрицы могут быть обгрызенные ногти?
— Конечно нет, — покорно согласилась Корнелия, слегка успокаиваясь. Она представила себя в темно-фиолетовой столе. Это цвет подразумевал имперский пурпур (но не слишком кричаще), на шее широкое ожерелье из аметистов и жемчуга, скрепленных серебряной нитью. — Мне нужно вернуться к гостям. Мы скоро услышим о назначении Пизона.
В дверях зала возникла фигура центуриона.
— Госпожа, рабы хотят знать, подавать ли снова вино?
— Конечно, подавать.
Корнелия вернулась к толпе гостей. Преторианец следовал за ней как тень. Марцелла подумала, что ее сестра еще никогда не выглядела так царственно, как сегодня.
И все же… Марцелла была вынуждена признать, что если бы ей выпала возможность выбирать преемника императора из Пизона и Отона, она бы отдала бы предпочтение последнему. И не в последнюю очередь потому, что тот был куда более интересным человеком. На бесчисленных пирах нескольких последних недель Отон, казалось, не обращал никакого внимания на царившую в Риме напряженность и, беспечно вытянувшись на ложе перед пиршественным столом, вел разговоры о недавней постановке «Фиест» или последних новостях из Египта, тогда как Пизон без умолку бубнил о чеканке монет.
Еще со времен Нерона Рим хочет, чтобы у него был умный и просвещенный император, а не просто достойный. Кстати, сам Нерон был отнюдь не глуп, но ему следовало сделать выбор: или поэт и музыкант, или император. А еще, к великому своему несчастью, он был обделен талантом подбирать в свое окружение умных людей. Таких, как Отон.
Впрочем, каким бы он ни был, умным или не слишком, в конечном итоге ей лучше поставить на мужа сестры.
Как только сестра станет императрицей, пусть только эта стерва Туллия попробует командовать мною…
Прошел еще один час. Марцелла отметила про себя, что лица гостей сделались более напряженными, голоса — более пронзительными. Лишь Корнелия спокойно и величественно, как богиня, двигалась в гуще толпы.
Чья-то решительная рука коснулась Марцеллы локтя.
— Я принес еще вина.
— Спасибо, — поблагодарила Марцелла и приняла кубок из рук новоявленного обожателя, полноватого темноглазого юноши с грубоватыми манерами. На вид ему было лет восемнадцать. Домициан, младший сын блистательного Веспасиана, губернатора Иудеи. Кстати, Веспасиан вполне мог бы стать императором, если бы ему посчастливилось родиться в более знатном семействе и не находись он сейчас за тысячу миль от Рима.
— Я видел тебя раньше, — сообщил сын Веспасиана, не сводя с нее пристального взгляда. Домициан, да-да, его зовут именно так. — Твой муж — Луций Элий Ламия, верно?
— Да, к сожалению, — ответила Марцелла, пытаясь увидеть в толпе обеих кузин. В последнее время Диана совершенно потеряла голову. Она настолько увлечена своей новой упряжкой «красных», что вряд ли бы заметила, если бы Гальба назначил своим наследником коня. Но только не Лоллия! Та должна прийти на придворное сборище, несмотря на свою недавнюю перепалку с Корнелией. Впрочем, в последнее время Лоллия практически не выходила из дома, ссылаясь на непрекращающиеся головные боли.
У меня тоже бесконечно болела бы голова, будь я замужем за стариком Винием.
— Твоим отцом был Гней Корбулон, — продолжил Домициан. — Я всегда восхищался им.
— Правда?
— Я собираюсь стать генералом. Мой брат тоже генерал. Его зовут Тит. Он какое-то время был женат на твоей кузине, этой богатой глупышке Лоллии. Тит очень хороший, то есть я хочу сказать, он хороший генерал, но я буду еще лучше. Так утверждает Несс.
— Кто такой Несс?
— Астролог. Очень хороший астролог.
— Никогда не слышала о нем.
— Знаешь, он никогда не ошибается! — в голосе юноши прозвучала легкая обида на ее недоверие. — Он говорит, что однажды я стану генералом и после этого…
Марцелла рукой прикрыла зевок.
— Да, да, конечно.
Для столь важного сообщения все произошло удивительно тихо и спокойно. Со стороны атрия в зал вошли два человека. Сенатор Отон с черными напомаженными волосами, сияя широкой улыбкой, от которой в зале как будто бы стало светлее. Пизон, сбросив с головы край тоги, какой-то усталый и растерянный. Отон вошел первым, громко приветствуя присутствующих, Пизон с измученным видом следовал за ним. Марцелла заметила, что как только они вошли, Корнелия застыла на месте, словно статуя, а по толпе гостей, как по воде, пробежала рябь. Марцелла уже приготовилась посочувствовать сестре, но в следующий миг поняла, что они говорят.
— Поздравляем сенатора Пизона! — улыбаясь, провозгласил Отон. — Нашего будущего императора!
Небольшое помещение наполнилось громом рукоплесканий, и лицо Пизона приняло еще более сконфуженное выражение. Корнелия каким-то образом уже оказалась рядом с мужем и даже чуть повернула его в свою сторону, так что первая улыбка Пизона предназначалась ей. Она что-то шепнула ему на ухо, и улыбка на его лице сделалась еще шире. Темные волосы преемника Гальбы блестели в свете факелов, и в эти минуты он даже казался выше ростом.
Кто бы мог подумать? — размышляла Марцелла. Гальба взвесил два варианта и в конечном итоге выбрал благородное происхождение и серьезность, предпочтя их обаянию и популярности.
Император Луций Кальпурний Пизон Лициниан.
Званый вечер продолжился и с наступлением ночи. Лоллия прибыла с большим опозданием. Выглядела она довольно неряшливо — наспех одетая, нацепив на себя слишком много изумрудов. Первое, что она сделала, это рассыпалась в извинениях перед Корнелией.
— Я тогда скверно себя вела, — донесся до слуха Марцеллы ее виноватый шепот, когда Корнелия непринужденно заключила легкомысленную кузину в объятия. Пришла и Диана и прямо с порога затараторила о своей новой упряжке для «красных». Это было настолько утомительно, что Марцелла мысленно пожелала кузине сломать ногу, лишь бы та немного угомонилась. Диана сообщила, что ей сделали предложение заключить брак еще два сенатора. Почему бы нет? Она уже давно не та юная красивая зануда, какой была раньше. Теперь она просто зануда красивая, к тому же состоящая в родстве с будущим императором.
Как и я. Странная мысль. И все-таки, Марцелла не взялась бы сказать, изменится теперь ее жизнь или нет. История всегда движется вперед — независимо от того, кто именно носит императорский пурпур, историки всегда бесстрастно наблюдают за ее ходом.
Впрочем, при желании, ей ничто не мешает воспользоваться влиянием Корнелии и добиться для Луция поста в Риме. Тогда бы она наконец обзавелась собственным домом и освободилась из-под мелочной опеки Туллии.
— Позволь мне принести тебе мои поздравления, сенатор, — произнес Отон, пожимая Пизону руку.
У него, наверно, болят щеки от нескончаемых улыбок, подумала Марцелла. — Тебе посчастливилось удостоиться благосклонности императора.
— Посчастливилось? — голос Пизона прозвучал надменно, словно он уже стал венценосной особой. Интересно, мелькнула в голове Марцеллы мысль, вспоминает ли он сейчас тот день на скачках, когда Отон без всяких усилий затмил его. — Фортуна оказывает предпочтение достойным, сенатор, а не удачливым глупцам.
По толпе пробежал смешок. Сотня гостей с готовностью показала, что считает наследника императора остроумным человеком. На какое-то мгновение улыбка Отона застыла на его лице, словно маска. Но в следующую секунду он откинул голову назад и сердечно рассмеялся.
— Хорошая шутка, сенатор. Надеюсь, она доставила тебе удовольствие. В будущем у тебя будет слишком мало времени для того, чтобы тратить его на нас, несчастных глупцов.
Впрочем, Пизон уже двинулся к другому доброжелателю. Отон остался один. Марцелла, повинуясь импульсивному желанию, быстро отошла от черноглазого сына губернатора Иудеи и шагнула к нему.
— Сенатор!
Увидев ее, Отон широко улыбнулся.
— Корнелия Секунда! Хотя я предпочел бы называть тебя Марцеллой, как и ты сама. Твоя сестра завладела именем вашего рода, а такая женщина, как ты, заслуживаешь собственного имени!
Отон продолжал говорить, легко и непринужденно, но Марцелла, повернув голову, заметила, что значительная часть гостей отхлынула к Пизону, оставив Отона практически одного.
— Я вижу, народ не стал терять понапрасну времени и ринулся восхвалять восходящую звезду, забыв про заходящую.
— Ты думаешь, что мое солнце зашло? — с той же улыбкой поинтересовался Отон.
— А разве нет? — вопросом на вопрос ответила Марцелла. — Ты проиграл. И найдется немало тех, в том числе, присутствующих здесь и самого Пизона, кто с радостью станет наблюдать за твоим падением.
— Я надеюсь услышать от тебя похвалу в свой адрес. За то, с каким спокойствием я принимаю удары судьбы. Ведь если я сам это говорю, значит, дела у меня все равно обстоят великолепно.
— Что же тебе еще остается? — дерзко произнесла Марцелла. — Биться головой о стену и причитать? Завтра тайком подкупить жреца, чтобы тот напророчил Пизону дурные предзнаменования, и тогда суеверная солдатня снова соберется вокруг тебя?
Лицо Отона вытянулось от изумления.
— Моя дорогая Марцелла, я и представить себе не мог…
— Оставим ненужную благопристойность. Просто признай, что тебе хочется свернуть Пизону шею, и ты почувствуешь себя гораздо лучше.
Отон рассмеялся.
— Да, мне действительно временами хочется свернуть этому напыщенному павлину шею. Особенно когда он отпускает бессмысленные, глупые шутки…
Марцелла на прощание улыбнулась сенатору, а сама отправилась к остальным гостям. Пожалуй, ей пора домой. Гай и Туллия пока ничего не знают, и она с удовольствием сообщит им это известие.
Кроме того, мне не терпится посмотреть на коровью морду Туллии, когда она попытается приструнить меня, а я отвечу ей, что предпочитаю следовать советам сестры. Будущей императрицы Рима.
(обратно)
Глава 4
Корнелия
— Ты не принесешь мне ячменной воды, любимая?
— С радостью, цезарь.
Пизон искренне рассмеялся.
— Не называй меня так!
— Почему же нет? — Корнелия поцеловала мужа. — Ведь ты все равно станешь императором.
Пизон снова рассмеялся и привлек ее к себе. По спине Корнелии пробежал приятный холодок.
Лучи скупого зимнего солнца, проникавшие в окна спальни, как будто немного согревали ее. Они легли спать всего несколько часов назад, когда дом покинули последние гости. Скорее даже не просто гости, а приближенные из их свиты. Да, теперь у нас есть свита!
— Ты опоздаешь, — пробормотала Корнелия между поцелуями. — Гальба хочет представить тебя войскам.
Жаль, что ей нельзя попасть в казармы преторианской гвардии, женщин туда не пускают. Пизон погладил жены по голове.
— Войска могут подождать.
— В самом деле? — произнесла Корнелия, целуя мужа в ответ.
Она надеялась, что он задержится, но Пизон с разочарованным стоном сел в кровати.
— Ты права, надо идти.
Корнелия одела мужа сама, отослав рабов прочь, после того как те принесли его лучшую тогу.
— Подними руку, нет, не эту, другую. Не шевелись, — командовала она, расправляя жесткие складки тоги.
— Я действительно сильно опаздываю, — простонал Пизон.
— Сошлись на свою похотливую жену, — отозвалась Корнелия, расправляя складку на плече мужа.
— Я намерен так и поступить, — насмешливо и одновременно строго отозвался Пизон, — и впоследствии непременно сделаю тебя Августой.
Корнелия с притворной скромностью улыбнулась, пряча свое возбуждение. Августа — в свое время этот титул император Август даровал своей супруге Ливии в знак ее добродетели и ума. Это давало ей право сидеть рядом с мужем на важных государственных приемах и политических собраниях.
— Но сенат может не одобрить этого решения. Я слишком молода, чтобы быть Августой.
— Одобрит. Это будет один из первых моих указов. — С этими словами Пизон накинул на голову край тоги. — Первое, что я сделаю, моя дорогая, это добьюсь того, чтобы Гальба выплатил преторианцам их деньги. Они давно этого ждут. Потому что если я смогу убедить его, солдаты перестанут роптать.
— Разве они станут роптать на тебя?
Он потянулся к ней и припал губами к ее губам. Их поцелуй длился до тех пор, пока снаружи не послышались чьи-то шаги. Пизон немедленно отстранился от жены. Корнелия тотчас стало жаль, что такой страстный поцелуй прервался. Впрочем, она понимала: наследник императора должен соблюдать соответствующий положению декорум, и потому с улыбкой повернулась к двери. На пороге, держа под мышкой шлем, стоял центурион Друз Денс. За его спиной Корнелия увидела еще двоих преторианцев в красных с золотом доспехах.
— Мы готовы сопровождать тебя во дворец, сенатор. Кроме нас, тебя будет охранять еще один отряд.
Корнелия неожиданно смутилась. До нее дошло, что посторонние люди видят ее в ночной рубашке и с распущенными волосами, но тем не менее не смогла удержаться от радостной улыбки.
— Я рада, что могу передать охрану следующего императора Рима в твои надежные руки, центурион.
— Я тоже этому рад, госпожа, — улыбнулся в ответ Денс.
— Останься сегодня с госпожой Корнелией, центурион, — приказал Пизон. — Я сам отведу второй отряд в казармы.
— Слушаюсь, сенатор! — отсалютовал Денс.
В присутствии посторонних Пизон не стал целовать жену перед уходом, лишь сжал ей руку своей скрытой под тогой рукой.
— Августа, — прошептал он одними губами и вышел из спальни.
Настоящий император, хотя об этом еще рано думать.
Корнелия дождалась, когда шаги мужа стихли и, не удержавшись, с радостным возгласом, словно девочка, закружилась по спальне. До нее не сразу дошло, что центурион по-прежнему стоит на пороге. Корнелия хихикнула и улыбнулась ему, не в состоянии скрыть свою радость.
— Прости меня, центурион. Скоро я стану более почтенной и сдержанной, обещаю тебе.
— Я никому не скажу, госпожа, — почтительно поклонившись, пообещал Денс. — Куда сопровождать тебя сегодня утром?
— В храм Фортуны. — Первым в списке дел Корнелии было жертвоприношение богине удачи. — Затем в храм Юноны. — Это уже более личное жертвоприношение. — После чего я отправлюсь к мужу во дворец, чтобы услышать, как авгуры объявят предсказание. Думаю, что вечером наверняка состоится пир.
На этот раз Корнелия уделила своей внешности внимания больше, чем обычно: уложила волосы в изысканную прическу, а для выхода во дворец выбрала темно-зеленую шелковую столу, которая скреплялась на плечах золотыми брошами. Затем, без всяких колебаний, достала из шкатулки ожерелье, которое Пизон подарил ей в прошлом году на Луперкалии. За ожерельем последовал квадратный изумруд на изящной золотой цепочке и сережки с изумрудами ему в тон. Обычной римской матроне не пристало увешивать себя днем украшениями, но жена наследника императора вполне может позволить себе такую вольность. Гальба будет по-прежнему ждать от них появлений в обществе, хотя, как подметил Пизон, этот скупердяй не стал вносить предложение увеличить им жалованье, чтобы они могли поддерживать жизнь на уровне, подобающем наследнику императора. Впрочем, у Гальбы немало других забот кроме Пизона. Ее муж наденет императорский венок лишь после того, как Гальба умрет, но обязанности первой женщины империи ей придется выполнять уже сейчас. У Гальбы не было ни жены, ни матери, ни сестер, так что он непременно попросит ее взять на себя обязанности хозяйки Рима.
Наконец Корнелия набросила на голову золотистую тонкую вуаль и вышла из спальни; центурион Денс низко склонил голову.
— Императрица…
— Пока еще нет, центурион, — поправила она его.
— Ты настоящая императрица, — произнес преторианец, восхищенно глядя на нее. — С головы до ног.
Вскоре ее паланкин остановился перед храмом Фортуны, и Корнелия тотчас услышала, как зашептались люди.
— Будущая императрица, — переговаривались они. — Ее мужа назвали наследником императора.
Толпа сама почтительно расступалась перед ней, и преторианцам не нужно было расчищать для нее путь. В храме Корнелия опустилась на колени, чувствуя на себе взгляды окружающих. Ноги богини удачи, высеченной из розового мрамора, стояли на колесе, которым она поворачивала людские судьбы.
Пизона и Корнелию это колесо вознесло до заоблачных высот. Корнелия закрыла глаза и мысленно вознесла богине свою сердечную благодарность. Жрецы без колебаний привели для жертвоприношения лучшего быка.
Корнелия поспешно встала, чтобы не запачкаться каплями крови.
— Будущая императрица, — снова пробежал по толпе шепот, когда она спускалась вниз по ступеням храма. — Какие чудные изумруды!
Нет, она определенно была права, надев изумруды. Плебс всегда радуется таким проявлениям роскоши.
Центурион подозвал носильщиков и помог сесть в паланкин. Корнелия с радостью приняла его сильную руку.
— Поговори со мной.
— Как скажешь, госпожа, — ответил Денс и зашагал рядом с носилками.
— Что слышно из преторианских казарм? — Корнелия знала, что лучшего источника сведений, чем центурион, трудно было придумать. У императрицы непременно должны быть такие источники. — Довольны ли преторианцы выбором наследника, который сделал Гальба?
— Вполне, — осторожно ответил Денс.
— Говори не таясь, Денс.
Центурион пожал плечами, продолжая шагать рядом с Корнелией. Красный плюмаж на шлеме раскачивался в такт его шагам, рука лежала на рукоятке меча-гладия. По обеим сторонам улицы торговцы на все голоса расхваливали свой товар. Встречные паланкины, увидев сопровождавших Корнелию преторианцев, почтительно уступали дорогу.
— Им будет все равно, даже если император выберет наследником осла, лишь бы им выплатили причитающиеся деньги.
— А Гальба этого не сделал.
— Не сделал. Вот сенатор Отон, тот раздал преторианцам кучу монет. Его многие любят. Но мои воины не такие, — поспешил добавить Денс. — Я беру только лучших. Но большинство солдат — алчные подонки, госпожа. — Центурион покраснел. — Прости меня.
— За что? Ты же говоришь правду. — Даже первая женщина Рима может время от времени быть снисходительной, это лишь укрепляет преданность и без того верных ей людей. — Что слышно о легионах в Германии? Там тоже полно алчных подонков?
— Ходят слухи, будто они объявили императором тамошнего губернатора Вителлия. Но это всего лишь слухи.
— Не могу поверить в то, что они настолько глупы, — отозвалась Корнелия. Сенатор Вителлий считался пьяницей и обжорой, которого интересовали лишь пиры и гонки колесниц. — Ему никогда не стать настоящим императором.
— Им станет сенатор Пизон. Причем прекрасным императором, госпожа. Добрым и разумным.
Корнелия не ожидала от него таких слов и веером прикрыла улыбку.
— Я уверена, он будет рад услышать твое одобрение.
— Мои слова полны уважения, госпожа. — С этими словами Денс отогнал от паланкина стайку уличных мальчишек. — Но преторианцы видят все. Я видел императора Клавдия в лучшие времена, до того, как он устал от жизни, и ему все стало безразлично. Я видел Нерона в худшие его дни. Сегодня Римом правит Гальба, завтра императором будет сенатор Пизон. Я на своем веку повидал нескольких императоров. Пизон принесет нам добро.
Не стоит недооценивать простого солдата, решила Корнелия.
— Я рада, Денс, что ты так считаешь.
Центурион улыбнулся и восхищенно посмотрел на нее добрыми карими глазами. Слезая с носилок среди толпы перед входом в святилище Юноны, Корнелия даже позволила ему взять себя за руку. Храм Юноны, величественное сооружение, располагалось на Капитолийском храме. Статуя богини — покровительницы жен и матерей возвышалась рядом со святилищем Юпитера. На ступенях, как обычно, толпились женщины: юные девушки, ждущие удачи в предстоящем браке, беременные, просившие у богини легких родов, матроны, молившиеся за взрослых сыновей и непокорных дочерей. И благосклонная богиня, тоже будучи женщиной, внимала зову каждой их них.
На этот раз Корнелия не обращала внимания на бормотание присутствующих и изумленный шепот по поводу ее изумрудов и преторианской охраны. Она просто опустилась на колени, как и все остальные женщины, и склонила голову.
О, великая Юнона, у императора должен быть сын и наследник. Подари мне сына. Ведь если колесо Фортуны вознесло их с Пизоном так высоко, то неужели судьба обделит их детьми?
За восемь лет брака ни одного ребенка. Ни одного выкидыша. Ни одной задержки месячных.
Корнелия устремила взгляд на суровое мраморное лицо богини.
О, Юнона, услышь меня!
Когда Корнелия направилась обратно к носилкам, преторианцам пришлось прокладывать для нее путь в толпе, которая, пока она была в храме, сделалась заметно многочисленнее. Всем хотелось поближе разглядеть будущую императрицу, увидеть, во что она одета, как ведет себя, какая у нее внешность. На этот раз столь пристальное внимание со стороны посторонних людей оказалось не так приятно. Когда Денс помог ей забраться в паланкин, Корнелия с облегчением вздохнула.
— Юнона ответит на твои мольбы, госпожа, — неожиданно заговорил он.
— Мольбы?
— Она дарует тебе то, о чем ты просишь ее. Она услышит тебя.
Корнелия растерянно подумала о том, догадывается ли он, о чем она молила Юнону, но Денс уже отстал от носилок.
Марцелла
— …такой большой и золотистый. Марцелла, ты даже представить себе не можешь! И такой сильный! Он может «петрушить» меня даже стоя, даже держа меня в воздухе, это просто божественно! Сначала он сильно стеснялся, но я все чаще приглашала его делать мне массаж, пока он не понял, что мне на самом деле нужно…
— …прекрасно прижился в конюшне «красных», хотя там, в кормушках, оказалось насыпано плохое зерно. Я не исключаю того, что кто-то пытался его отравить, эти паршивцы «синие» способны на все…
— Вам обеим следует поторопиться, — заявила Марцелла, не пытаясь скрыть раздражения, которое вызывали у нее обе кузины. С одной стороны Лоллия, захлебываясь от восторга, без умолку трещала о своем неутомимом «жеребце»-рабе, с другой — ее одолевала Диана, неумолчно лопотавшая о своих обожаемых «красных». Удивительно, как это она сама, стоя между ними, еще не умерла от скуки. О, любезная Фортуна, неужели им обеим нужно, чтобы все знали, о чем они думают? — Поспешите! Я хочу попасть в императорский дворец.
— … не знаю, зачем тебе понадобилось уводить нас с Марсова поля, — посетовала Диана. — Я с удовольствием наблюдала гонки колесниц, которыми управляли красавцы трибуны. Нет, конечно, ни один из них не способен как следует провести настоящую гонку…
— …а чтобы меня поняла Диана, я скажу это на единственно доступном ей языке: он настоящий
жеребец! — томно зажмурившись, произнесла Лоллия. — Может, мне и не следует говорить о таких вещах, ведь Диана еще не замужем, но все равно тебе не помешает больше знать о жизни, дорогая. Лошади ведь тоже совокупляются.
— Может, и так, — оборвала ее Марцелла, — но они по крайней мере не болтают об этом.
Стоял холодный и ветреный зимний день, солнце было скрыто
за грядой темных туч. Откуда-то издалека Марцелла услышал приглушенный раскат грома.
Нехорошее предзнаменование. Впрочем, все предзнаменования были дурными еще с первых дней минувшей недели, когда начался новый год, с того самого дня, когда Пизона представили преторианцам. Бык, принесенный в жертву жрецами, оказался больным, с бесформенной печенью, и солдаты заворчали, считая это плохим знаком. Тогда Гальба прикрикнул на них, и они успокоились.
Впрочем, успокоились ли?
Вестибюль Золотого дворца был полон людей. Кого здесь только не было: и вооруженные стражники, и увешанные драгоценностями придворные в роскошных одеждах, и рабы с раздраженными лицами. Несмотря на неприятное ощущение в животе, Марцелла, не в силах побороть любопытство, принялась вертеть головой, во все глаза разглядывая легендарное жилище Нерона. Дворец поистине был великолепен: одних только залов для пиров здесь было три сотни. А чего стоили роскошные сады для отдыха, с их фонтанами и мраморными статуями! Словом, это было место, предназначенное для интриг, красоты, любовных встреч и тайн, где его венценосный хозяин забавлялся с серебряной лютней, озирая все вокруг. Веселый и гостеприимный, хотя и не совсем умственно здоровый бог.
— Ты здесь впервые? — шепотом поинтересовалась Лоллия, когда их провели в триклиний. — С тех пор, как?..
— Да, — ответила Марцелла, устремив взгляд на умопомрачительной красоты потолок, инкрустированный слоновой костью. В потолке имелись потайные люки, устроенные так, что в нужный момент они открывались и в отверстия на гостей опускались облака благовоний и розовых лепестков. Сейчас потолок был неподвижен и неосвещен.
— По крайней мере на этот раз я не единственная гостья. — Прошлой весной она была здесь одна. В ту ночь рабы ошиблись и загрузили потолок не одним, а тремя разными видами благовоний. Тогда Марцелла не только ощущала себя блудницей, но и пропахла ею.
— Не ходи, — пытались отговорить ее тогда сестры, узнав о приглашении Нерона. — Нельзя позволить ему позорить тебя, даже если он император.
— Скажи ему, что ты больна, — предложила Лоллия.
Разве у нее оставался выбор? Отца уже не было в живых, Луций, как обычно, находился в военном походе далеко от Рима, Гай был слишком занят своими обязанностями главы семьи. Что касается Туллии, эта мегера, несмотря на все ее рассуждения о женской гордости и добродетели, собственными руками охотно затолкала бы золовку в постель к императору-безумцу, лишь бы добиться для семьи его благосклонности. И Марцелле не оставалось ничего другого, как, стиснув зубы, нарядиться в лучшее платье и отправиться на пир к Нерону.
Теперь же дворец было не узнать. Пыльный. Холодный. Темный. Мозаика и фрески не видны. Половина мебели вывезена и распродана по приказу прижимистого Гальбы. В нос бьет тяжелый дух человеческого пота, а отнюдь не аромат розовых лепестков.
Золотой дворец Нерона перестал быть золотым.
Даже мечтательное счастье Лоллии куда-то испарилось, когда она увидела натужные улыбки и тревожные взгляды окружавшей их толпы.
— Что это с ними? — прошептала она.
— Скорее всего, им уже известно то, что я видела на Марсовом поле, — ответила Марцелла. — Что повсюду собираются отряды преторианцев.
Ей тогда не понравилось, как они выглядят. Преторианцы держались плотными кучками и раздраженно жестикулировали.
— Преторианцы вечно всем недовольны. В чем же дело?
— Возможно, сегодня они недовольны больше обычного, — сказал Марцелла и вспомнила недавний слух. — Пизон в очередной раз попытался убедить Гальбу выплатить причитающееся им жалование, но снова получил отказ.
Более того, только слепой не обратил бы внимания на рабов, которых она видела на Марсовом поле. Они носили значки сенатора Отона.
От такого количества людей, набившихся в помещение, воздух сделался тяжелым, спертым. Марцелла с трудом пробилась к нише, где стоял чудом ускользнувший от внимания аукционеров Гальбы яшмовый светильник, инкрустированный серебром. Толпа образовала настоящий водоворот. Вскоре она увидела самого Гальбу, похожего на старую черепаху в тоге. По одну руку от императора находился Виний, по другую — Пизон. Последний выглядел озабоченно, хотя довольно решительно. Корнелия шла, вцепившись в его руку. В следующее мгновение толпа сомкнулась и скрыла их из вида.
Марцелла почувствовала, как ее желудок скручивается в узел, на этот раз от возбуждения.
— Разве это не увлекательно? — не удержалась она. — Быть в самой гуще происходящих событий?
Это совсем не то, что вечно торчать в четырех стенах и ждать новостей.
— Если я хочу пощекотать нервы, то иду на бега, — ответила Диана. — Смотри, вон там, мне кажется, сенатор Отон.
— Отона здесь нет, Диана.
— Нет, но он точно где-то неподалеку. Подстрекает народ к беспорядкам.
Марцелла уже давно пришла к такому заключению.
Диана никогда ничего не видит до тех пор, пока это не начнет происходить у нее перед носом. Кузины нашли какого-то раба и, чтобы скоротать томительные минуты ожидания, отправили за вином. Прошло около часа, прежде чем взволнованный курьер сообщил потрясающую новость.
Преторианцы провозгласили Отона императором и в данную минуту несут его на плечах по римским улицам.
Это известие вызвало небывалое смятение. Марцелла пыталась все охватить взглядом, все запомнить, но поняла, что это невозможно. Происходило слишком много всего, чтобы все сразу отложилось в памяти. Она услышала лающий голос Гальбы, отдающего приказы, но не смогла разобрать ни одного сказанного им слова. Она видела белое, как мел, лицо Пизона, когда тот выпрямился и приосанился, чтобы обратиться к когорте охраны, которая все еще находилась во дворце. Выходя, Пизон споткнулся на пороге, и верный центурион помог ему удержаться на ногах. Затем Марцелла увидела пару молодых придворных, игравших в углу в кости. Они потребовали принести им вина, заявив, что хотят выпить его прежде, чем во дворец на копье принесут голову Отона. Но яснее всего она разглядела то, как старая рабыня невозмутимо наполняла кубки вином.
Чему же тут удивляться? — подумала Марцелла.
Вся эта истеричная смена императоров не имеет к ней никакого отношения. Для нее главное — наполнить кубки вином. Марцелла продолжала смотреть на пожилую рабыню до тех пор, пока та не исчезла в толпе.
Неожиданно она заметила Корнелию — та направлялась в ней, прокладывая себе дорогу в людском водовороте. В голубой столе, в ожерелье из лазурита и с браслетами в тон, старшая сестра выглядела удивительно спокойно. Однако когда она на ощупь нашла руку Марцеллы и крепко ее сжала, ее собственная рука оказалась холодной и влажной.
Когда же она так поступала в последний раз? — подумала Марцелла.
Когда ей было десять лет, наверно. Тогда отец только что вернулся из Галлии, проведя там два года, и даже не попытался отличить нас одну от другой.
— Тебе не стоило приходить сюда, — сказала Корнелия. — Здесь может быть опасно. Конечно, бояться Отона нет причины, он окажется в цепях сразу, как только преторианцы образумятся. Но во дворце может произойти все что угодно, так что сейчас это не самое спокойное место в Риме. — Корнелия бросила на нее осуждающий взгляд, и Марцелла поняла: даже в эти минуты сестра забоится о приличиях. — Марцелла, ты взяла с собой раба-сопровождающего? Принимая во внимание то, что люди говорят о тебе и Нероне…
— Мне ни к чему сопровождающие, — решительно возразила Марцелла. — Кстати, тебе я тоже не советовала бы находиться здесь. — Незаметно подкрались сумерки, и в помещении замигали огоньки светильников. Марцелла выглянула в окно и увидела у ворот Золотого дворца мерцание факелов. Это любопытные граждане Рима пришли посмотреть на происходящее.
Два императора сразу, подумала она. Такое бывает нечасто. Это лучше, чем театральная постановка.
Пойдемте все, старые и молодые, займем места получше, чтобы посмотреть увлекательное зрелище!
— Они уже разослали посланников в другие казармы города, — быстро произнесла Корнелия, нервно крутя на пальце обручальное кольцо. — Пизон говорил с преторианцами. Центурион Денс сказал, что они хорошо его приняли. — В голосе Корнелии явственно прозвучала гордость за мужа. — Он напомнил им о чести гвардейцев, о надежде на то, что они не предадут своего императора ради какого-то узурпатора…
— Вообще-то Гальбу тоже можно назвать узурпатором, — пробормотала Марцелла.
Корнелия не слушала ее и взволнованно продолжила:
— …и он еще говорил о стыде, напомнил им об их долге. Наверное, этого не следовало делать, но Гальба решил, что будет лучше, если он
пристыдит гвардейцев. Денс заверил меня, что преторианцы достаточно хорошо его приняли…
— Корнелия!..
— И теперь находятся даже те, кто побуждают Гальбу усилить охрану дворца и даже вооружить рабов, чтобы дать отпор Отону, — на тот случай если дворец попытаются взять штурмом….
— Корнелия, отправляйся домой, — оборвала ее Лоллия. — Подожди вместе с нами, когда вся эта неразбериха благополучно закончится.
— Мое место рядом с мужем, — решительно ответила Корнелия и холодной, как лед, рукой сжала руку Марцеллы. — По правде говоря, вам всем следует…
— Лоллия! — Виний только сейчас заметил жену и замахал руками. — Немедленно домой, как можно было додуматься прийти сюда…
— Не шипи на меня! — воскликнула Лоллия, театрально закатив глаза. — Можно подумать, что я вышла замуж за гусака!..
— Я только что нашла паланкин, — успокоила ее Корнелия. Рабы тоже заволновались и о чем-то возбужденно шептались по углам. Никто из них не хотел ее слушать. Но она была первой женщиной Рима, и, когда хлопнула в ладоши, они послушно подбежали и столпились вокруг нее. Марцелла еще никогда не испытывала такую гордость за сестру, как сейчас.
Корнелия принялась выпроваживать их вон. Но в следующий момент внимание Марцеллы привлекла любопытная сцена: Гальба, которому принесли нагрудник кирасы и наголенники, распахнул на груди тогу и злобно рявкнул на суетившихся вокруг него придворных.
— Похоже, он хочет выйти им навстречу, — предположила Марцелла.
— Похоже, что так, — согласилась Корнелия. Она была бледна как мел, но ее голос звучал спокойно.
— Неужели мне придется уйти? — умоляющим тоном спросила Марцелла. — Сейчас, когда все только начинается? Я могла бы написать об этом для истории, но ведь если я уйду, то ничего не увижу…
— Ступай! — приказала ей Корнелия тоном старшей сестры, какой Марцелла не слышала со времен детства, и вместе с кузинами подтолкнула ее к паланкину.
Носильщики тотчас затрусили по дороге прочь от дворца, небрежно раскачивая паланкин, но никто из сестер не потребовал, чтобы их несли более плавно. Лоллия нервно грызла ногти. Марцелла, раздвинув занавески, посмотрела в окно, и Диана заглянула ей через плечо. Над городом опускались багровые сумерки. Вскоре Марцелла разглядела людей: пекари, пивовары, старые солдаты, нищие, уличные мальчишки, женщины с детьми, цепляющимися за подол. Заполонив улицы, они стояли в молчаливом ожидании. Где-то вдали слышались крики.
— Поворачивайте, — велела Марцелла носильщикам, когда крики сделались громче. — Обойдите форум стороной.
Но толпы делались все плотнее, и уже невозможно было никуда свернуть. Носилки качнулись один раз, затем другой. А в следующий миг угол паланкина резко опустился вниз, и Марцелла, вылетев наружу, больно ударилась бедром о камни мостовой. Лоллия с громким криком рухнула ей на ноги. Диана вывалилась последней, но довольно ловко поднялась первой. Марцелла посмотрела вслед убегающим носильщикам, но те уже спустя пару мгновений растворились в сумерках. Несколько уличных мальчишек, издав радостный вопль, вскочили на паланкин и принялись на нем подпрыгивать. Толпа вокруг продолжала хранить молчание. Марцелла видела недобрые глаза окружающих ее людей. Они поблескивали подобно черному янтарю, разглядывали ее, оценивали. От страха у нее неожиданно перехватило горло. На ней было простое светлое платье, Диана тоже была одета просто, как будто собралась убирать конюшни, а вот шелка и жемчуга Лоллии…
— Даже не мечтайте добраться до дома, — схватила их за плечи Диана. — Нам нужно найти укрытие.
— Верно, — упавшим голосом согласилась Марцелла. — Думаю, с нас хватит приключений.
Однако откуда-то спереди донеслись крики, и темное небо осветилось заревом факелов. Послушался недовольный ропот, похожий на далекие раскаты грома; различить слова было невозможно. Марцелла почувствовала, как масса человеческих тел подтолкнула ее вперед. Лоллия крепко вцепилась ей в локоть. В следующее мгновение Диане удалось затолкнуть их на лестницу, ведущую в храм.
— Ты что-то видишь? — спросила Лоллия. В широко открытых глазах читался ужас.
— Да, — ответила Марцелла. Она видела почти все, так как была выше остальных сестер. Ей был хорошо виден край форума: там в свете факелов покачивалась лысая голова человека, сидевшего на установленном на носилках кресле. Морщинистая, как у черепахи, шея Гальбы поворачивалась то в то в одну, то в другую сторону. Марцелла даже разглядела, как открывался его рот, когда он выкрикивал приказы. Однако истеричная толпа, ничего не слыша, увлекала его вперед. Разглядев рядом с императором Виния, Корнелия стала искать глазами Пизона и Корнелию, но так и не нашла. В поле ее зрения оставался лишь Гальба в его бесполезных доспехах.
Затем до слуха Марцеллы донесся цокот копыт. Она не смогла понять, с какой именно стороны, однако вскоре увидела конных преторианцев. Неожиданно они заполнили площадь и плотным кольцом окружили Гальбу. Над их головами взметнулись короткие мечи. Красные плюмажи на шлемах в сумеречном свете были похожи на кровь. Императорское кресло опрокинулось, и Гальба, падая, беспомощно взмахнул руками. Затем Марцелла увидела, как опускаются и вновь взлетают мечи преторианцев.
— Марцелла! — крикнула Лоллия и потянула сестру за руку. Молчание толпы оборвалось громким гулом. Одна половина людей с криками отхлынула назад, другая половина, так же крича, подалась вперед, чтобы увидеть, как императора рубят на куски. Марцелла успела заметить, как мужа Лоллии оттащили от кресла императора и ударили мечом в живот. Виний громко заверещал, умоляя о пощаде.
Лоллия сдавленно всхлипнула.
— Бежим! — крикнула им Диана и с такой силой рванула обеих сестер за руки, что Лоллия едва не упала. Марцелла едва успела ее удержать. В следующее мгновение все трое уже неслись со всех ног.
— В храм! — прохрипела, задыхаясь от быстрого бега, Марцелла. Толпа устремилась вслед за ними. Впереди замаячил круглый силуэт храма Весты. В эти минуты он казался островком безмятежности посреди бурлящего моря. Сестры буквально взлетели по его ступням и устремились внутрь святилища.
Там было невероятно тихо, лишь вечный огонь негромко потрескивал на алтаре. Вбежав под своды храма, Марцелла остановилась как вкопанная. Легкие горели от быстрого бега, дыхания не хватало. Лоллия обессилено упала у подножия колонны.
— Он жив, — тупо повторяла она. — Он жив. Жив. Жив…
Марцелла ничего не стала ей отвечать. В ее голове крутилось одно слово.
Мертв. Мертв. Император мертв.
О, благословенная Фортуна, где же Корнелия?
Диана отправилась к двери внутреннего святилища и принялась молотить в нее кулаками. Затем вернулась, изрыгая проклятия.
— Нам отсюда не выбраться, — сообщила она, убирая с лица пряди волос. — Похоже, что все весталки сбежали.
— Разумный поступок, — отозвалась Лоллия с каким-то тупым спокойствием. — Им вряд ли удалось бы сохранить девственность, ворвись сюда орава разгоряченных преторианцев.
— Так же, как и нам, — произнесла Марцелла, оглядываясь по сторонам. Всего несколько колонн, за ними не спрячешься. Да и дверей больше нет, которые можно было запереть изнутри.
— Сомневаюсь, что тебе удалось сохранить девственность, разве что твой муж плохо знал свое дело. — Лоллии кое-как удалось подняться на ноги. Она вся дрожала, грудь вздымалась и опускалась от частого, надрывного дыхания. Рыжие волосы прилипли к потным вискам.
— Лично меня не очень радует мысль о том, что меня может взять силой половина когорты преторианцев, — ответила Марцелла. — Есть у кого-нибудь из нас кинжал, на тот случай, если до этого дойдет дело?
— У меня есть, — отозвалась Диана и вытащила короткий кинжал.
— Тебе он точно пригодится, — сказала Марцелла с легким раздражением.
Крики снаружи сделались еще громче. Сестры застыли на месте. Улица перед храмом опустела. Толпы рассеялись. Часть людей устремилась в переулки, часть бросилась к форуму. Однако в следующее мгновение послышались новые крики, и темнота осветилась огнями факелов. В храм вбежало несколько преторианцев — солдаты преследовали каких-то двух людей. Было еще довольно светло, и сестры сумели разглядеть тех, за кем гнались гвардейцы. Марцелла бросилась было из-за колонны вперед, но Диана удержала ее.
— Туда нельзя!
Как оказалось, это Корнелия. От быстрого бега она задыхалась и прихрамывала, поскольку потеряла одну из сандалий. Темные волосы растрепались и волной спадали на спину. Пизон поддерживал ее. Глаза у него были совершенно безумные, нарядная тога разорвана в клочья. За ними с улюлюканьем гнались с полдесятка, если не больше, преторианцев.
Нет, нервно подумала Марцелла.
Их всего пять. Тот, что бежал впереди, был не с ними. Он подтолкнул Пизона в спину, направляя вперед и вверх по ступенькам, ведущим в храм Весты. Затем, держа в руке меч, повернулся к преследователям. Марцелла узнала его. Это был Денс, центурион, охранявший Корнелию. Он был без шлема, под глазом рана, из которой струилась кровь. Зубы оскалены в свирепой ухмылке.
Короткий меч Денса вонзился в шею одному из преследователей, и тот упал. В то же мгновение, оступившись на первой ступеньке, упала и Корнелия. К ней тут же подскочил один из преторианцев. Пизон вскрикнул и метнулся ему навстречу. Увы, в следующий миг его рукав обагрился кровью.
Денс выдернул клинок из своей жертвы и, повернувшись ко второму преследователю, полоснул его мечом сзади по коленам. Преторианец вскрикнул и упал. Пизон попятился назад, непонимающе разглядывая свою окровавленную руку. Корнелия вцепилась в него и, что-то крича, потащила за собой вверх по ступеням. Денс полуобернулся и подтолкнул их обоих вперед. В следующее мгновение на него сзади набросились преследователи.
Высокий трибун изловчился и нанес центуриону удар кинжалом в щель между доспехами, глубоко вонзая ему в бок короткое, широкое лезвие. Денс согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух, но тотчас же выпрямился и набросился на того, кто нанес ему подлый удар. Противники вцепились друг в друга. Тем временем два других преторианца кинулись вслед за Пизоном. Одному из них удалось поймать сенатора за окровавленный край тоги.
С криками преследователи потащили его вниз, словно рыбу, пойманную в сети. Последнее, что он успел сделать, это толкнуть Корнелию вперед, давая ей тем самым возможность спастись бегством. Марцелла увидела побелевшее от страха лицо Пизона, его раскрытый для крика рот — он то ли умолял своих убийц пощадить его, то ли проклинал их. Потому что даже если патрицию и надлежит умереть достойно, было не слишком много гордости в том, чтобы, пробыв всего пять дней наследником императора, быть затем прирезанным на ступеньках храма подобно бродячему псу.
Мечи несколько раз вонзились ему в грудь, затем еще и еще. На глазах у Марцеллы Пизон превратился в рубище окровавленной ткани.
Корнелия зашлась в истошном крике. Марцелла вырвалась из рук Дианы и устремилась вниз по ступенькам к сестре. Схватив Корнелию, она потащила ее в храм, однако заметила, как к ним со злобными ухмылками повернулись два оставшихся преторианца. За спиной у нее послышался громкий всхлип, и неожиданно рядом с сестрами появилась Лоллия. В ее широко открытых глазах застыл ужас. В руках у Лоллии была огромная бронзовая чаша. Собрав последние силы, Корнелия Терция вытряхнула ее содержимое на головы преторианцев. Их тотчас накрыло облаком горячей золы из священного очага Весты. Горячие угли разлетелись во все стороны. Два преследователя отступили назад, прикрывая глаза. Один с воплем упал — это Денс изловчился и вонзил ему в шею меч. Марцелла скорее почувствовала кожей, нежели услышала пронзительный крик сестры, пытавшейся вырваться от нее и броситься к мертвому Пизону. Увлекаемый телом убитого им врага, Денс тоже упал. Впрочем, он тут же попытался подняться на ноги, но не смог и по-собачьи встряхнул головой. С его волос разлетелись во все стороны капли крови. Затем он попытался встать на колени, но снова упал. Тогда он подполз к Корнелии и, сделав усилие, приподнял руку с мечом. Поднять ее выше ему не удалось. Он с трудом переполз на следующую ступеньку, и Марцелла увидела, что у него в боку по-прежнему торчит кинжал.
Диана выскочила из-за колонны с кинжалом в руке и, оскалив зубы, бросилась к Денсу. Марцелла испугалась, что ее безумная кузина задумала какой-нибудь отчаянный поступок. Куда разумнее было воспользоваться кинжалом, чтобы, прежде чем преторианцы растерзают раненого Денса, перерезать ему горло. Единственный верный солдат Рима не заслуживал того, чтобы бывшие товарищи разорвали его на части.
Марцелла, хотя старалась успокоить истошно кричавшую сестру, поймала себя на том, что пытается мысленно вычислить ход будущих событий. Лоллия не сможет заколоть себя кинжалом, но, может быть, Диане удастся лишить ее жизни прежде, чем покончить с собой? А она, Марцелла, позаботится о Корнелии.
Поэтому я буду последней, кто возьмет в руки кинжал. Говорят, что удар в сердце позволяет уйти из жизни быстро и почти безболезненно. Женщины из рода Корнелиев лучше умрут от собственной руки стоя, чем лежа на спине, обесчещенные ордой бесстыдных подонков.
— Тише, Корнелия, тише!..
Как будто издалека Марцелла услышала тяжелое дыхание Денса, услышала крики Корнелии, услышал стоны Лоллии, стоявшей у нее за спиной, но отчетливее всего — крики и звон битого стекла, доносившиеся со стороны форума, однако здесь, у входа в святилище Весты, все звуки как будто поглощались царившей в храме тишиной.
Преторианец, что стоял перед ним, пожал плечами, и Марцелла неожиданно поняла, что это последний. Три тела лежали у подножия лестницы, еще одно — возле безжизненного тела Пизона. Этот остался последним. Испачканный сажей преторианец усмехнулся и опустил меч.
— Вам повезло. У меня есть более важные дела, — произнес он, и звук его голоса заставил Корнелию пронзительно вскрикнуть. Марцелла, как завороженная, не сводила с него глаз. Преторианец тем временем присел на корточки рядом с мертвым Пизоном. Несколько ударов мечом, и голова сенатора откатилась от тела. Корнелия резко смолкла.
— Император Отон непременно захочет это увидеть, — сообщил солдат. — Может быть, я даже разбогатею.
Короткие волосы были скользкими от крови, и держать отрубленную голову было неудобно. Тогда убийца засунул пальцы в раскрытый рот Пизона и, подхватив мертвую голову за зубы, зашагал прочь. Денс заморгал, по-прежнему наполовину воздев в воздух меч. Проходя мимо неподвижных тел, грудой лежавших на ступенях храма, преторианец еще раз довольно осклабился.
— Ты храбрый подонок, Денс, — бросил он через плечо. — Но я знал, что впятером мы тебя одолеем.
Насвистывая на ходу, он легкой трусцой пустился по улице.
Наконец Марцелла почувствовала, что снова может дышать. До нее только сейчас дошло, что она все еще пытается успокоить сестру, но женщина, едва не ставшая императрицей, теперь застыла неподвижно, словно мраморная статуя, не сводя глаз с изуродованного тела мертвого мужа.
— Скажи мне, что все это сон, — прозвучал голос застывшей позади Лоллии. — Прошу тебя, скажи мне, что все это всего лишь сон.
Но уже в следующий миг Лоллия торопливо отошла в сторону, и ее вырвало прямо на каменные ступени. Диана спрятала кинжал в ножны и обняла ее за плечи.
Денс неожиданно зашелся в кашле. Гладий выпал из его руки и со звоном скатился по ступеням вниз. Тогда центурион ухватился за рукоятку кинжала, что все еще торчал из его окровавленного бока, и одним рывком выдернул его. Какое-то мгновение он смотрел на холодный клинок, а потом рухнул, тяжело дыша и устремив посеревшее лицо в багровое небо. Его перепачканная кровью рука схватила Корнелию за лодыжку.
— Они набросились на меня, — прохрипел он. — Они предали меня.
На его губах запузырилась кровь. Ногу Корнелии он так и не отпускал.
Марцелла посмотрела на храм Весты. Над ним больше не вился дымок — вечный огонь погас. Оставалось лишь надеяться, что весталок за это не накажут.
(обратно)
Глава 5
Лоллия
Из всех свадеб Лоллии этой суждено было стать самой тихой.
Она не могла не вспомнить предыдущую. Тогда Корнелия произнесла свою обычную короткую, однако занудную речь о блаженстве брака, Диана без умолку тараторила о гонках колесниц, а Марцелла шепотом рассказывала последние сплетни о новом императоре. Возможно, это был не самый счастливый ее брак, но по крайней мере свадебный пир удался и был довольно шумным и веселым.
Эта свадьба была совсем не похожа на предыдущую.
— Фу, какое бесстыдство, — презрительно фыркнула Туллия, услышав о том, что Лоллия снова выходит замуж через десять дней после того, как овдовела. — Еще не успел остыть прах сенатора Виния!
Бесстыдство. Впервые Лоллия была согласна с Туллией. Это действительно было бесстыдство, хотя что еще ей оставалось делать.
— Моя дорогая девочка, — вздыхал ее дед всего через четыре дня после того, как Отон силой меча стал императором. — Мне бы не хотелось торопить тебя, но твой брак с Винием очень тесно связал тебя с родом Гальбы. Мы должны подумать о новом браке.
— Да.
Но…
— В конце концов такой богатой наследнице, как ты, не позволят долго оставаться незамужней. Если я сейчас начну забрасывать сети, то, пожалуй, смогу выудить тебе самого лучшего мужа, который сможет защитить тебя. — С этими словами он погладил внучку по руке. — Я хочу, чтобы с моей бесценной жемчужиной ничего не случилось.
— Да.
Но…
— Ты ведь не слишком сильно убиваешься по мужу? Я знаю, ты не слишком любила сенатора Виния.
— Да.
Но…
Всякий раз, вспоминая о покойном муже, она испытывала неприятное ощущение в желудке. Да, Виний был старым занудой, и она всеми фибрами души ненавидела его… во всяком случае, он вечно ее раздражал… но все равно он не заслуживал того, чтобы его разорвали на куски разъяренные преторианцы.
Да и с моей стороны было не очень красиво называть его в разговорах с моим знакомыми Стариканом, даже если это и соответствовало истине.
Дело в том, решила Лоллия, что она привыкла к разводам, но не привыкла к вдовству. Это совершенно разные вещи. Она испытывала чувство вины. Странно, к чему бы это? Винию нужны были лишь ее деньги, и он их получил. Никто не посмеет утверждать, что она обманула его. Возможно, именно этим объясняется ее истеричный смех, когда она, наконец придя домой, объявила домочадцам и рабам, что их хозяин мертв. Никто не произнес ни слова.
— Не стойте здесь, как овцы, — заявила Лоллия, все еще забрызганная кровью, причем неизвестно чьей — Пизона или центуриона Денса. Однако рабы продолжали испуганно смотреть на нее, действительно, как стадо глупых овец, и это сравнение неожиданно ей понравилось. — Овцы, — хихикнула она и после этого уже не смогла удержаться от смеха. Слуги все также испуганно таращились на нее, а она все смеялась и смеялась, не в силах признаться вслух, что причиной ее смеха был страх. Самый обыкновенный страх.
Я вдова. Неужели именно по этой причине накануне новой свадьбы ею владеют такие странные чувства? Корнелия тоже овдовела, но по крайней мере выглядит так, как и подобает выглядеть вдове: терзаемая горем, днями напролет лежит в убранной черной тканью постели с отсутствующим выражением лица. Лоллия посмотрела на себя в зеркало и увидела невесту в красной вуали: нарядную, накрашенную, безупречно красивую.
— Ты прекрасно выглядишь, — польстила ей Марцелла, когда служанка сняла вуаль, чтобы причесать хозяйку, однако ее голосу явно не хватила искренности. Сама Марцелла выглядела как обычно: в светло-зеленой столе с голыми руками, без украшений, невозмутимая, облитая светом скупого зимнего солнца, проникавшего в окно спальни. Единственное отличие — в последнее время она была подозрительно спокойна. Лоллия не стал нажимать на нее — с Марцеллой этого лучше не делать. Она усвоила этот урок еще в тот день, когда задала слишком много вопросов о том случае с Нероном. Когда же Марцелла бывала в соответствующем настроении, от ее острого язычка не было спасения. Он резал не хуже гладиаторского меча.
— Который из них взять? — беспечно спросила Лоллия, беря в руки два карандаша для подводки глаз. Марцелла безразлично покачала головой. К Лоллии тотчас подскочила служанка и принялась подкрашивать ей веки. Как прекрасно вновь оказаться в доме деда, вздохнула про себя Лоллия. Здесь так просторно, так много роскошно убранных комнат, здесь рабы, которых она помнит еще с детства, которые и теперь относятся к ней как к малому ребенку. Но все-таки что-то здесь изменилось. Чего-то явно было не так, вот только что? Ощущение это было сродни тому, как, заметив краем глаза какую-то тень, обернуться и ничего не увидеть. Возможно, виной всему настроение римских улиц, которые заполонил плебс, то ли радуясь блистательному будущему Отона, то ли стыдясь кровавого прошлого Гальбы. Лоллия никогда раньше не видела ничего подобного.
— Дядя Парис обещает вскоре подарить тебе бюст твоего нового мужа, — сообщила Марцелла, играя бисерной каймой подушки. — Сальвия Титиана.
— Его так зовут? — вздохнула Лоллия. — Я постоянно забываю его имя.
— Что ты о нем думаешь?
— По-моему он производит неплохое впечатление. — Она дважды встречалась с ним. Сальвий был высокий элегантный мужчина лет сорока, с сединой на висках и худым, но красивым лицом, как и у всех его братьев. — Правда, у него есть неприятная привычка хрустеть суставами пальцев.
— Брат императора может иметь любые недостатки, какие только захочет, — отозвалась Марцелла. — Я вижу, у твоего деда есть друзья на самых высоких государственных постах, коль он смог подыскать тебе в мужья брата самого Отона.
Новый муж Лоллии, Луций Сальвий Отон Титиан, узнав, что Лоллия свободна, в спешном порядке развелся с прежней женой.
А также узнал, что у меня имеется неплохое приданое, подумала Лоллия.
Вилла в Байе, вилла на Капри, еще одна вилла в Брундизии, две каменоломни в Карраре, где добывают мрамор, доходные дома на Авентинском холме, паи на доки в Остии, шесть торговых кораблей, поместья в Апулии, Пренесте, Тоскане, Таррацине и Мизенуме. Виноградники в Равенне и Помпеях, оливковые рощи в Греции, паи во фракциях беговых колесниц и гладиаторской школе на Марсовой улице. Доля в египетских кораблях, перевозящих зерно, рента за земли в Галлии, Испании, Германии и Сирии… Да, похоже, брат новоиспеченного императора не просто решил обзавестись новой женой. Он даже не посмотрел в сторону Лоллии, но так поступали практически все. Потому что взгляд им застилал незримый для окружающих блеск ее золота.
— Значит, теперь ты займешь место первой женщины Рима вместо Корнелии, — произнесла Марцелла, на этот раз более задушевно.
— И что из этого? — пожала плечами Лоллия.
— Ты никогда не задумывалась о том, что это значит? Власть, Лоллия. Всеобщее преклонение. Положение в обществе.
— Это означает, что мне придется быть хозяйкой всех этих бесконечных дворцовых пиров, вместо того, чтобы самой быть на них гостьей. Это лишние хлопоты.
— И мы знаем, что ты сделаешь все для того, чтобы избегать их, — шутливо закатила глаза Марцелла. — Ты и твои званые ужины!
Я больше не хочу идти ни на какой ужин, подумала Лоллия.
Даже на собственный свадебный пир. Даже на
этот свадебный пир, который обещал стать самым зрелищным, потому что она выходит замуж за брата самого императора.
Почему же тогда мне все безразлично? — удивлялась Лоллия. И дело не в том, что она перестала ходить на званые ужины. Дело в другом. Почему это больше не приносит ей удовольствия? Наоборот, ей почему-то хочется, чтобы пиры поскорее заканчивались. Ей хочется вина. От всего сердца хочется, чтобы Корнелия произнесла занудную речь о том, что когда снимаешь красную вуаль невесты, мир предстает совсем другим. Но сегодня никакой речи не будет.
— Как там Корнелия? — поинтересовалась Лоллия, когда служанки начали причесывать ее, как и положено в таких случаях, разделив волосы на лбу на шесть локонов.
Скоро число этих локонов сравняется с числом ее мужей…
— Она переехала к нам и теперь живет вместе с Гаем, Туллией и со мной, — ответила Марцелла и подошла к окну. — Туллия считает, что вдове не пристало жить одной.
— Да кому какое дело до того, что думает Туллия?
— Так, как думает она, думает и Гай, а он имеет полное право заставить Корнелию вернуться домой. Ведь теперь, после гибели Пизона, он отвечает за нее. Кроме того, Корнелии просто негде жить. По распоряжению Отона дом Пизона и все его имущество конфисковано в пользу империи. — Марцелла пожала плечами. — Во всяком случае, у нее есть крыша над головой, и я живу рядом и могу за ней присматривать.
Впрочем, в душе Лоллия позволила себе усомниться в том, что Марцелла именно тот человек, который способен за кем-то присматривать.
— Она заговорила снова? Я имею в виду Корнелию. Я знаю, не стоит даже надеяться на то, что Туллия хотя бы на минуту закрывает рот.
— Да, пожалуй, не стоит. Корнелия сидит в своей комнате, уставившись на стену. Мы были вынуждены силой оторвать ее от тела Пизона, чтобы надлежащим образом предать его останки огню. Она все время повторяла, что не позволит сжечь его без головы. Но уже прошла целая неделя, а нам так и не удалось… — Марцелла не договорила фразу до конца.
— Я просила деда, чтобы он приказал рабам ее отыскать… Я имею в виду голову Пизона, — исправилась Лоллия. — Я пообещала заплатить за нее любую цену.
— И я тоже, — призналась Марцелла. — Как там этот центурион? Я забыла его имя.
— Друз Семпроний Денс. Врачи говорят, что он поправится. — Лоллия приказала отнести раненого центуриона в дом ее деда, и за ним день и ночь ухаживали лучшие лекари Рима. Тем самым сестры отдавали долг спасителю. И хотя центурион Денс не смог уберечь Пизона, зато спас их четверых. — Скажи, как поживает Диана? Она и до этого была почти безумна. А сейчас, наверно, и вообще стала сумасшедшей…
— Это ведомо одной лишь Фортуне, — ответила Марцелла, задумчиво проводя пальцем по маленькой статуэтке из слоновой кости, украшавшей собой изысканный столик из черного дерева. — Она по-прежнему надолго пропадает, и мы редко ее видим.
— Хорошо, что Отон хотя бы возобновил гонки колесниц. Это должно ее обрадовать, — произнесла Лоллия, держа голову ровно, чтобы служанки надели на нее свадебное покрывало. По всем правилам, чтобы брак был счастливым, волосы невесты следовало разделить на пробор кончиком копья, принадлежавшего мертвому гладиатору. Корнелия неизменно настаивала на этом ритуале. Лоллия, напротив, считала, что копье, равно как любой другой талисман, вряд ли способно помочь ей с удачным замужеством.
В зеркале за плечом Лоллии мелькнула какая-то темная фигура. Обернувшись, она увидела в дверях Корнелию — в черном траурном платье с голыми руками, волосы гладко зачесаны назад. По мнению Лоллии, кузина выглядела бы потрясающе красивой, не будь ее лицо похоже на застывшую маску.
— Поздравляю, — произнесла она. — Это просто великолепно, выйти замуж за брата императора. Кстати, это не он случайно приказал убить моего мужа?
Лоллия открыла было рот, не зная что сказать, но ее опередила Марцелла. Она подошла к облаченной в траур сестре и попыталась ее успокоить. Рабы тотчас испуганно переглянулись, однако, похоже, одного упрека для Корнелии оказалось достаточно. Она позволила Марцелле подвести ее к креслу возле окна и села, глядя вниз, на атрий. Лоллии же вспомнилось, как все они дружно хихикали в конце ее предыдущей свадьбы, когда она выходила замуж за Виния. На глаза тотчас набежали слезы, но она усилием воли заставила себя не расплакаться. Корнелия может рыдать и горевать, сколько ей вздумается, но кому-то другому все равно придется создать союз, который станет залогом безопасности их семьи.
В моих жилах течет не только патрицианская кровь, но и кровь раба. Патриции несгибаемы, зато рабы хорошо умеют сносить удары судьбы. Дед Лоллии встретил их у дверей опочивальни, высокий и взволнованный. Лоллия обняла его и прижалась головой к его груди. Ее любви к нему хватит еще на сотню мужей.
— Моя Жемчужина, — ласково назвал он внучку ее детским прозвищем. Пусть кузины не понимают ее привязанности к деду, но она ни разу не возразила ни единым словом, когда он находил для нее очередного мужа. Им не понять, что это своего рода союз, который они с дедом заключили навеки против всех бед этого мира. Бывший раб, скопивший огромное состояние, имел немало врагов. Его деньги и имущество могли быть конфискованы в любой момент, не будь у него могущественных покровителей. Брак с братом императора надежно защит и деда, и ее, и маленькую Флавию. А ради них она готова на все.
Вскоре появились новые гости с традиционными поздравлениями. Впрочем, их лиц Лоллия особенно не различала. Она набросила на плечи свадебную накидку, и Тракс заколкой скрепил ее у нее на плече. У Лоллии не нашлось сил встретиться с ним взглядом. Он был так нежен с ней с того самого дня, как погиб Виний, когда она никак не могла унять истерический смех. Тогда Тракс взял ее на руки и, как ребенка, отнес в опочивальню. Уложив ее в постель, он даже не попытался овладеть ею. Он просто прижимал ее к себе до тех пор, пока не прекратился смех, на смену которому тотчас пришли слезы. И тогда он, нежно обняв, принялся укачивать ее, что-то негромко напевая, как будто это была малышка Флавия, а не ее мать.
— Откуда ты знаешь, Тракс, как нужно успокаивать людей? — спросила его Лоллия.
— Я так же напевал моей младшей сестренке, — неожиданно признался тот, — когда та была маленькой. Ей было всего четыре года, когда она попала на невольничий рынок. Но в ее глазах не было слез, потому что я заранее успокоил ее пением.
Интересно, подумала Лоллия,
что случилось с его сестрой? И со всей его семьей? Тракс делил с ней постель, но она ничего не знала о нем, ведь он был обычным рабом. С какой стати ей что-то о нем знать?
— Не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным, — произнесла Лоллия и отодвинулась, вытирая слезы со щек. — Миру приходит конец.
— Может быть, — отозвался Тракс и осторожно смахнул слезинки с ее глаз. — Тогда вместе с ним перестану существовать и я.
— И это тебя не страшит?
— Мой Господь умер. Но все закончилось хорошо. — Тракс с улыбкой прикоснулся к деревянному крестику у него на шее. Крестик имел какое-то отношение к его богу — плотнику или, если она правильно помнит, богу плотников. Лоллия точно не знала. — У тебя тоже все будет хорошо, госпожа.
Как он может говорить такое? Откуда ему это знать?
После этого разговора ей было трудно встретиться с ним взглядом. Каким-то уму непостижимым образом, глядя на него, она ощущала неловкость.
Когда Лоллия вышла в сад, император, его брат и свадебная процессия гостей уже ожидали ее. Они стояли, прекрасные как мраморные статуи, смеясь и непринужденно перебрасываясь шутками. Лоллии они почему-то напомнили красивый греческий фриз, но при этой мысли ее смятение лишь еще больше усилилось. Впервые в истории Рима император занял трон силой меча. Как же эти люди могут смеяться, будто ничего не произошло?
Возможно, так оно и есть. Ничего не произошло. Если они смеются, то почему не может смеяться она? Высокородная Корнелия Терция, известная как скандалистка Лоллия, которую не интересовало ничто другое, кроме пиров, и которая получала от этого немалое удовольствие.
Не приподнимая вуали, Лоллия, прежде чем выйти навстречу своей четвертой брачной церемонии, осушила кубок крепкого вина. Впрочем, чем этот четвертый раз отличается от предыдущих? Ничем. Тот же свадебный пирог; те же слова брачного обета
Quando tu Gaius, ego Gaia! тот же поход к алтарю Юноны для жертвоприношения. Император Отон лишь ненадолго задержался в храме, чтобы, прежде чем уйти, благословить новобрачных. В этот день его ждали куда более важные дела. Сегодня в сенате должно состояться его утверждение императором Рима, и он не мог тратить свое бесценное время на брачные церемонии. Осушив еще один кубок вина, Лоллия заметила, что Корнелия проводила Отона полным ненависти взглядом.
Взяв за руку своего нового красавца мужа, Лоллия опустилась на колени перед статуей Юноны. Она попыталась молиться, но так и не смогла найти в себе подобающую событию искренность, какая требовалась для произнесения священных слов. Ее богиней была Венера, богиня красоты и любви, а не Юнона — богиня брака и семейного очага. Кроме того, Лоллия сомневалась, стоит ли ей доверять Юноне.
Ведь она так никогда и не откликнулась на мольбы Корнелии.
Жрец уже подвел к алтарю белого быка для принесения жертвы, когда по толпе гостей неожиданно пробежал громкий шепот. Подняв голову, Лоллия увидела знакомую фигуру, решительно прокладывающую себе дорогу в толпе. Диана — в простом одеянии из грубой шерсти, никак не соответствующем семейному торжеству, в руках — что-то завернутое в кусок мешковины. С этим свертком она направилась прямиком к Корнелии.
— Я кое-что принесла, — сообщила она кузине. — Извини, что тебе пришлось ждать.
С этими словами она протянула Корнелии мешок. Лоллия обратила внимание, что он вымазан кровью. Не похоже, чтобы он был тяжел, однако Корнелия отказалась брать его в руки и в ужасе отшатнулась.
— Мне пришлось обойти весь город, — добавила Диана. — Я побывала, наверное, во всех преторианских казармах Рима, прежде чем нашла искомое. Но я нашла ее для тебя.
— О, великая Фортуна! — Марцелла отреагировала первой, еще до того, как заволновались жрец и новый муж Лоллии, причем от изумления у Сальвия вытянулось лицо. Лоллия поспешила успокоить и того, и другого. Корнелия
же наконец отважилась заглянуть в мешок.
Смотрела она долго.
Затем перевела взгляд на Диану. Вид у той был смелый и решительный. И довольный.
В следующее мгновение Корнелия не выдержала. Ее лицо как будто рассыпалось на куски.
— Нет, — прошептала Лоллия. Толпа гостей заволновалась и по ней, словно по воде, пробежала рябь. В глазах присутствующих застыл ужас. Казалось, еще мгновение — и всех охватит панический страх, сродни тому, что владел ими во время событий недельной давности, когда по Риму прокатилась волна насилия и убийств. — Нет, — повторила она, когда ее муж также заглянул в мешок, который в следующий миг вывалился из дрожащих рук Корнелии. Сальвий с проклятием на устах отпрянул назад. Корнелия, рыдая, уткнулась в плечо Дианы.
— Нет, — повторила Лоллия, но было уже слишком поздно. Гальбу убили, и она больше никогда не сможет смеяться и посещать пиры.
Оглянувшись, Лоллия решила, что заметила это первой, даже прежде, чем Марцелла, от зоркого взгляда которой не ускользало ничего.
Она первой увидела, как Рим покачнулся, — верный знак того, что следующий год не принесет ничего хорошего. Чтобы удержаться на ногах, она вцепилась в самое себя, Корнелия Терция, известная как Лоллия, которой ничто не мешало быть хорошей матерью и доброй женой, которая могла бы обращаться с рабом в своей постели как с мужчиной, а не как с племенным жеребцом.
В следующий миг она почувствовала прикосновение чьей-то сильной и теплой руки. Тракс.
— Госпожа! — услышала она его шепот и крепко сжала его ладонь.
— Называй меня Лоллия.
Брачная церемония продолжилась, однако гости все до единого держались натянуто. Лоллия как во сне вытерпела обряд до конца.
Ее любимая дикарка кузина принесла на бракосочетание мертвую голову.
Этим все сказано.
(обратно)
(обратно)
Часть II
ОТОН
Январь — апрель 69 года нашей эры
Двумя деяниями, одним крайне отвратительным и одним героическим, он снискал себе как славу, так и бесчестье в глазах потомства.
Глава 6
Марцелла
— Зачем я снова это для тебя делаю? — прошептала Лоллия.
— Потому что Гай ни за что не оставит меня в покое, — шепотом ответила Марцелла. — Это означает, что Туллия, эта мегера, тоже не даст мне жизни.
В передней части комнаты мужчина в накрахмаленной щегольской тоге что-то декламировал по-гречески.
Послушать оратора пришло не так уж и мало желающих, отметила про себя Марцелла. Длинный зал был до отказа уставлен рядами стульев, и все до единого были заняты восторженными слушателями. Или по крайней мере восторг слушатели проявляли в самом начале. Теперь же многие позевывали и беспокойно ерзали на стульях.
— О чем он сейчас говорит? — вздохнула Лоллия. — Кстати, как его зовут?
— Квинт Нумерий, и это его последний труд. — Марцелла заглянула в записи на табличке. — «Административные вопросы Цизальпинской Галлии во время консульства Корнелия Малугиненсия».
— Восхитительно! — снова вздохнула Лоллия.
— За тобой долг, Лоллия! Я ведь слушала тебя, когда ты без умолку трещала о твоем племенном жеребце…
Взгляд Лоллии переместился на огромного светловолосого галла. Стоя рядом с ней, он нежно обмахивал ее веером.
— Не называй его так!
Квинт Нумерий завершил последнюю цитату и поклонился. Зрители из вежливости наградили его жиденькими хлопками.
— Короткий перерыв, — объявил выступающий, и тишина сменилась гулом голосов.
— Хвала богам! — простонала Лоллия и оглядела толпу гостей: сенаторы, ученые, историки. — Кроме нас с тобой, здесь нет больше никого моложе шестидесяти лет!
— Пожалуй, это не твой вечер, — согласилась Марцелла. Разумеется, как могут сравниться исторические чтения с блистательными зваными ужинами, которые император Отон каждый вечер устраивал у себя во дворце! Зала, в которой находились сейчас сестры, была ничем не украшена, разговоры звучали трезво и перемежались цитатами на греческом языке. Кроме того, здесь было больше тог и лысин, чем шелковых платьев и нарумяненных лиц. — Не зевай! Не делай этого хотя бы так открыто!
— Тебе следовало взять с собой Корнелию. Вот уж кто никогда не зевает на публике.
— Она по-прежнему не выходит из спальни. Приставила к дверям вазы, на тот случай, если кто-нибудь попытается к ней войти.
Марцелла не знала, что делать с сестрой, но, похоже, тут любые усилия бессильны до тех пор, пока Корнелия сама не откроет дверь.
— Как мне хотелось бы, чтобы она пустила меня к себе, — вздохнула Лоллия.
— Сомневаюсь, что такое возможно. Она не желает даже произносить твое имя, особенно после того, как ты вышла замуж за брата Отона.
— О, боги! Да я его почти не вижу! Он, конечно, красив, но эта его привычка постоянно хрустеть пальцами…
— Дело не в нем. Теперь ты первая женщина Рима, поскольку у Отона нет жены или сестер. По мнению Корнелии, ты заняла ее место.
— Начнем с того, что я к этому не слишком стремилась. И вообще все не так блистательно, как может показаться на первый взгляд. Сказать по правде, я вообще не нужна Отону в качестве хозяйки на званых ужинах. Он сам прекрасно умеет развлечь гостей, я лишь отплачиваю счета. Вот что такое быть первой женщиной Рима. — Лоллия покачала головой, отчасти устало, отчасти раздраженно. — Даже будь все по-другому, Марцелла, я не такая, как ты или Корнелия. Я не стремлюсь быть важной персоной. Я хочу лишь иметь много красивых платьев и проводить вечера в обществе приятных мне людей, которые смеются и шутят. Мне нужен красивый мужчина, к которому я хотела бы возвращаться домой. Разве императрица может когда-нибудь получить все это? — Лоллия снова покачала головой. — Не думаю.
Марцелла окинула свою собеседницу пристальным взглядом. В последнее время буквально все в их семье пребывают в подавленном настроении.
Со дня своей последней свадьбы ее кузина как-то подозрительно притихла.
— Послушай, Лоллия!..
— Я так и думал, что ты придешь сюда, — прервал их разговор чей-то басистый голос. Марцелла повернулась, не вставая со стула, и увидела коренастого юношу лет восемнадцати, который не сводил с нее взгляда. Его лицо показалось ей смутно знакомым.
— Я спрашивал о тебе, и мне сказали, что ты любительница истории и публичных чтений, что-то в этом роде. Вот я и пришел сюда, чтобы увидеть тебя.
Перед ней стоял младший сын губернатора Иудеи. Марцелла вспомнила, что уже встречала его в ту ночь, когда Пизона объявили наследником императора. Неуклюжий, черноглазый, восемнадцатилетний Тит Флавий Домициан.
— Как это мило с твоей стороны.
— Я тоже люблю историю, — с жаром продолжил юноша. — Я приду к тебе в гости, и мы сможем с тобой поговорить.
Сцепив за спиной руки, он не сводил с нее взгляда.
Как ребенок, поедающий взглядом игрушку, которую он хочет забрать домой.
— Да, зайди как-нибудь на днях, — пробормотала Марцелла. — Извини, но сейчас я должна поприветствовать Марка Норбана. Надеюсь, я еще увижу тебя здесь.
Встав, она обошла Домициана и быстро пересекла комнату к первому же знакомому, которого заметила.
— Госпожа Марцелла, — произнес Марк Норбан, склоняя в приветствии темноволосую голову. — Я конечно же рад тебя видеть.
— А я тебя, — улыбнулась Марцелла, протягивая руку для поцелуя. Домициан не сводил с нее недовольного взгляда. Лоллия о чем-то разговаривала со своим великаном галлом. Взяв Марка за руку, Марцелла отвела его в сторону.
— Я бы с удовольствием послушала твои работы, Марк. До меня дошли слухи о твоем новом трактате. Говорят, ты посвятил его реорганизации культов в годы правления Августа.
— К сожалению, он далек от завершения. Увы, у меня не было времени для работы над ним по причине недавних… волнений.
— Волнений? — рассмеялась Марцелла. — Как это мудро и тактично сказано. Да, верно, наблюдать из гущи толпы за тем, как Рим убивает своего императора — думаю, при этом трудно оставаться спокойным.
— Ну, сейчас все хотя бы немного улеглось, — отозвался Марк и указал на присутствующих в белых тогах, спешивших вновь занять свои места. — Город, в котором ученые могут встречаться, чтобы в спокойной обстановке обсуждать прошлое… я бы сказал, это хороший признак.
— Посиди рядом со мной вторую половину чтений, — неожиданно предложила Марцелла.
— С удовольствием, — улыбнулся Марк.
Домициан нахмурился, явно недовольный тем, что спокойная властность Марка оттеснила его на второй план. Хозяин вечера снова встал, и чтения продолжились, перемежаемые цитатами из Сенеки. Лоллия от скуки беспокойно заерзала на месте.
Диаграммы. Жесты. Новые цитаты.
— Говорят, во сне пишется гораздо лучше, — шепнула Марцелла Марку. Тот подавил смех, но ничего не сказал. Марцелла тоже улыбнулась, однако почувствовала легкое раздражение.
Во сне я тоже могла бы написать лучше, подумала она, когда оратор пробубнил новые цитаты из Сенеки. Как оригинально!
Но Квинтий Нумерий относится к числу тех, чьи работы желает слушать публика. Кроме того, он издатель. А кто придет послушать мои исторические хроники?
Ну, может быть, Марк. Она как-то раз показала ему отрывок из своего исследования об императоре Августе, его венценосном деде, и Марк похвалил ее.
— Стиль немного цветист, — рассудительно сказал он, как будто разговаривал с коллегой сенатором, — однако твой труд отличается тщательностью.
Марцелла тогда зарделась от похвалы.
Она украдкой покосилась на Марка — тот зевал, не открывая рта. Он однажды признался ей, что это бесценный талант для любого сенатора. Марк Норбан не был красив в истинном смысле этого слова, но его лицо отличали выразительные и благородные черты, отчего оно казалось высеченным из мрамора.
Интересно, восхищается ли он мной? Будь это не так, разве стал бы юный Домициан бросать на него такие колючие взгляды со своего места позади них? Марцелла была уверена, что вполне могла бы завести с сенатором роман, и Гай с Туллией так ни о чем не узнали бы — более глупые женщины, чем она, делали это сплошь и рядом. Достаточно посмотреть на Лоллию, которая склонила кудрявую голову к руке своего галла.
И все же Марцелла была не готова к любовной интрижке. Правда, в самом начале ее брака она пару раз позволила себе небольшие шалости, но тому было оправдание. Луций большую часть времени отсутствовал и даже когда возвращался домой, не проявлял к ней особого интереса в постели. Но самая красивая в Риме грудь не могла не найти поклонников, даже если среди них не было ее мужа — в одном случае это оказался широкоплечий трибун, в другом — эдил, обладавший талантом сочинять эпиграммы. Но трибун не мог предложить ей ничего, кроме своих широких плеч, а эдил, как выяснилось, платил какому-то поэту за сочинение эпиграмм. Да и ей самой представлялось непорядочным тайком уходить из дома, чтобы урывками встречаться с любовником в какой-нибудь грязной таверне. Скучающие жены, которых тешили любовники всякий раз, когда мужья уезжали из города, — разве есть что-то более банальное?
Не лучше ли посвятить себя книгам и сочинительству, решила Марцелла,
чем превращаться во всеобщее посмешище.
Только теперь и книги, и сочинительство начинают вызывать уныние.
Последнюю цитату на греческом языке внезапно прервал гул голосов, и Марцелла повернула голову в сторону дверей. В залу устремилась толпа опоздавших. Это была куда более блестящая публика, нежели та, что уже собралась на чтения. Накрашенные женщины с завитыми волосами, холеные мужчины в щегольских тогах, украшенных причудливой вышивкой, и с золотыми цепями, томная актриса из театра Марцелла, несколько прославленных колесничих и наконец тот, кто затмевал всех прочих своим величием.
— Прошу прощения за опоздание, — беззаботно извинился Отон. — Я никак не мог пропустить представление столь важного исторического труда. Цизальпинская Галлия, какая прелесть!
По залу прошелестел шепот, и рабы со всех ног бросились за новыми стульями. Марцелла проследила взглядом за Отоном, который уверенно прошел на середину залы. Со дня восшествия на трон она впервые видела его так близко. В нем все ослепляло окружающих: улыбка, черные вьющиеся волосы, богато расшитая золотом одежда из тончайшей белой ткани. Отон излучал обаяние, намеренно и продуманно пробуждая у присутствующих сравнения со своей полной противоположностью и предшественником — старым и угрюмым Гальбой. Неудивительно, что когда он проходил через толпу, его неизменно сопровождал благоговейный шепот. Римляне радостно приветствовали нового императора повсюду, где бы он ни появился.
— С каких пор Отон стал интересоваться чтениями научных трактатов? — шепотом спросила Марцелла у Марка.
— Почему ты думаешь, что он ими интересуется? — шепотом задал Марк встречный вопрос.
— Моя дорогая новоявленная сестра! — Отон поднял застывшую в почтительном поклоне Лоллию и поцеловал ее в щеку. — Мне кажется, ты всегда была членом нашей семьи. И сенатор Норбан здесь! Разве не был твой отец плодом опрометчивого поступка Августа? Мы в самое ближайшее время поговорим с тобой на эту тему. — Еще одна улыбка, такая же ослепительная, как и обычно, однако она почему-то заставила Марка Норбана поспешно раскланяться и уйти. Марцелла также успела заметить, что во взгляде юного Домициана вновь промелькнула ревность. Ее юный обожатель явно был не в восторге оттого, что Отон повернулся и поцеловал ей руку. — Ты прелестна как всегда, моя дорогая.
— Цезарь, — поклонилась Марцелла, не выпуская из рук восковую табличку.
— Делаешь записи? — удивился Отон и взял у нее табличку с пометками. — Смотрю, ты прилежная ученица!
— Люблю историю, цезарь, даже пишу исторические хроники.
— Неужели? — Отон как будто бы искренне удивился.
— Вопреки расхожему мнению, — саркастически произнесла Марцелла, — что наличие женской груди исключает наличие мозгов.
— Ну и язычок у тебя! — рассмеялся император, опускаясь на стул рядом с ней. — Но мне это нравится. Продолжай! — обратился он к смущенному Квинию Нумерию. — Я проявил ужасную неучтивость, помешав чтениям. Продолжай!
Нумерий откашлялся и прочел еще несколько строк. После того как императорская свита расселась на стульях и потребовала вина, он продолжил чтение. Император какое-то время слушал его, одобрительно кивая в паузах.
— Очень интересно, — заявил он и протянул кубок рабу, чтобы тот снова наполнил его вином.
— Не совсем, — отозвалась Марцелла. — Я могла бы написать лучше.
— О, великий Юпитер, неужели? — в улыбке Отона было нечто теплое и интимное, что обволакивало ее плотным коконом, отгораживая от остальных людей в этой комнате. — Хотелось бы лично убедиться в этом.
Таким взглядом он способен смотреть на всех без разбора, с юмором подумала Марцелла.
Как будто тот, на кого он смотрит, единственный на свете, кого он желает видеть. Наверно, для императора это столь же полезное умение, как и для сенатора умение зевать, не раскрывая рта.
— Ты полагала, что я удивлюсь, увидев тебя вне твоего обычного круга общения, который состоит всего из четырех человек, — продолжил Отон. — Я только что расстался на бегах с малышкой Дианой. Этим утром она выиграла для меня ставку на новых жеребцов, что бегают за «красных». Она оригиналка, ваша Диана.
— Она еще дитя, — ответила Марцелла. — Независимо от того, сколько поклонников вздыхают по ней.
— Не бойся, — рассмеялся Отон, и его прихвостни рассмеялись вместе с ним, хотя смысл императорской шутки явно остался им непонятен. — Я не влюбляюсь в детей, даже в самых красивых.
— Нерон непременно захотел бы затащить ее к себе в постель.
— Разумеется. К счастью, я не Нерон, верно? — произнес Отон и захлопал последней цитате на греческом языке. Нумерий робко улыбнулся. Обстановка немного оживилась: императорская свита принесла с собой вино, которое теперь потекло рекой как среди придворных повес, так и ученых мужей. Должное прекрасному вину воздал не один строгий сенатор.
— Когда же смогу увидеть четвертую из вашего квартета? — поинтересовался Отон. — Вашу бедную сестрицу. Я с готовностью принесу ей свои соболезнования по поводу того, что случилось с ее мужем. Вам следует знать, что я никогда не желал смерти Пизону Лициниану.
— Неужели? — удивилась Марцелла.
Посмотрим, действительно ли ему правится мой язычок? — Разве преторианцы выполняли не твой приказ?
Услышав ее слова, император моргнул, и лицо его на мгновение превратилось в каменную маску, как будто он не знал, что ему делать, — разгневаться или улыбнуться.
— Может, и мой. А ты, я смотрю, смелая. Но мне и вправду жаль твою сестру. Я даже собираюсь найти Корнелии достойного мужа, чтобы утешить ее горе.
Марцелла задумалась над тем, как Корнелия отнесется к подобной затее. Ясно одно, если она отвергнет предложенного Отоном избранника, Туллия точно лопнет от злости.
— Я вижу, что-то заставило тебя улыбнуться! — воскликнул Отон. — Надеюсь, это был я. Ведь я остроумен, во всяком случае, все постоянно твердят мне, что это так, с того дня, когда я стал императором. Знаешь, а ведь я тебе кое-чем обязан.
— За что, цезарь?
— За то, что ты проявила ко мне сочувствие, когда я уже утратил всякую надежду на то, что в один прекрасный день облачусь в императорскую тогу, поскольку Гальба отдал предпочтение мужу твоей сестры. — Отон сделал знак рабу снова наполнить кубок вином, и на его тонком смуглом запястье блеснул золотой браслет. По лукавому выражению на лице раба Марцелла поняла, что императорское вино, пусть не рекой, так ручейком, находило путь и в каморки прислуги. — Я думал, как же мне отплатить тебе мой долг, теперь, когда я могу без всяких препятствий это сделать.
В голове Марцеллы промелькнуло несколько цитат о том, что благодарность сильных мира сего, как и медаль, имеет свою обратную сторону.
— Не нужно отдавать мне долг, цезарь.
— Но я должен тебе за нечто большее, чем простое проявление сочувствия, моя маленькая Марцелла. Ты как-то раз пошутила о том, что можно подкупить жреца, чтобы тот возвестил о дурных предзнаменованиях. И этого будет достаточно, чтобы симпатии суеверных солдат склонились в мою пользу. Можем ли мы сказать, что ты подсказала мне идею?
Мысли Марцеллы как будто застыли у нее в голове.
Заметив выражение ее лица, Отон расплылся в улыбке.
— Ты ни в чем не виновата, — сказал он, когда аудитория взорвалась смехом в ответ на робкую шутку чтеца, которая на самом деле была отнюдь не смешной. — Эта мысль вполне могла прийти мне в голову и без твоей подсказки.
Марцелла машинально пригубила кубок, затем сделала новый жадный глоток.
— Ну, как, дорогая моя, интересно узнать, что ты тоже причастна к смене императоров?
— Да, — только и смогла выдавить Марцелла и после паузы добавила: — Это весьма интересно.
— Мне нравятся женщины, которые откровенно высказывают свою точку зрения. Значит, ты не станешь спорить, что я у тебя в долгу. Что же ты попросишь у меня?
— Пост в Риме для моего мужа Луция Элия Ламии, — выпалила Марцелла, мгновенно стряхнув с себя минутное оцепенение.
— Только и всего? — Отон состроил гримасу. — Я надеялся, что ты попросишь у меня что-нибудь более интересное. Какой пост ему нужен?
— Любой. Чтобы он ради разнообразия послужил в Риме.
— Ты так любишь его? — спросил император, скептически подняв брови. Между тем актриса из свиты Отона поднялась с места и заявила сиявшему улыбкой Квинту Нумерию, что последнюю часть его превосходного трактата она прочитает сама.
— Муж мне абсолютно безразличен, — честно призналась Марцелла. — Просто я больше не хочу жить в доме вместе с моей золовкой. Если хочешь, можешь сделать Луция Императорским разгребателем навоза в твоих конюшнях, лишь бы он поскорее обзавелся собственным домом и перевез меня туда до того, как я убью жену собственного брата. В противном случае я за себя не отвечаю.
Отон снова рассмеялся, чем привлек к себе любопытные взгляды своей свиты, подобострастно следившей за малейшей его прихотью.
— Существуют менее сложные способы избавиться от надоедливой золовки. Не говоря уже о зануде муже.
Марцелла удивленно посмотрел на Отона. Император небрежно откинулся на спинку стула, почти касаясь своей собеседницы рукой.
— Например? Какие?
— Я мог бы запросто найти тебе нового мужа.
— При условии, что у моего мужа будет собственный дом, он будет меня вполне устраивать.
Луций по крайней мере не мешал ей жить так, как ей хотелось. Уж лучше такой муж, чем тот, который заставляет жену быть хранительницей домашнего очага и неутомимой хозяйкой дома.
— Или проще убедить твоего мужа в том, что он должен делиться? — Отон протянул руку и кончиком пальца коснулся щеки Марцеллы, а затем шеи. — Нерон высоко отзывался о тебе, и чтобы ни говорили о нем, у него был безупречный вкус. Когда-то он любил мою жену, и весь Рим знал, что все это наверняка плохо кончится. Но я не могу упрекать его за то, что он считал ее красивой. Ты тоже красива, моя дорогая, Признаюсь честно, я восхищен также твоим умом, но твоя грудь способна поднять на бунт целые легионы.
Марцелла улыбнулась, однако поспешила отстраниться.
— Мне уже довелось бывать прихотью императора, цезарь. Не могу сказать, что эта роль пришлась мне по душе.
Чтения закончились, и Нумерий, красный от волнения, улыбался, стоя в окружении почитателей. Впрочем, те явно не слушали его, поскольку были уже изрядно пьяны.
— Не суди по пурпурному плащу, моя дорогая, — сказал Отон и провел двумя пальцами по запястью Марцеллы, к явной ярости юного Домициана, сидевшего сзади. Это не ускользнуло от ее внимания. — Суди по тому, кто в него одет.
— Одного раза мне было достаточно.
— Возможно, я когда-нибудь изменю твое мнение. — С этими словами император убрал руку от ее запястья и, встав, благожелательно кивнул ей. — Мне было приятно поговорить с тобой, высокородная Марцелла.
— Неужели именно за этим ты и пришел сюда, цезарь? Почему-то я сомневаюсь, что ты получил удовольствие от этих чтений.
— Я нахожу удовольствием во всем, что привлекает меня.
— Жаль, что ты нашел его именно здесь, — подхватила Марцелла беспечный тон императора. — Ты похвалил этот скучный трактат, и теперь он явно будет иметь большой успех. В Риме же и без того хватает плохой литературы.
Корнелия
— Корнелия, тебе нужно пообедать, — донесся через дверь оскорбленный голос Туллии.
— Я не голодна, — ответила Корнелия, плотнее закутываясь в шаль.
— Сегодня к нам в гости придет Лоллия с мужем…
— Я отказываюсь разговаривать с этим человеком. И никогда не стану разговаривать с Лоллией.
— Сальвий Титиан — брат императора! С твоей стороны великая глупость сторониться его теперь, когда наша семья…
Корнелия выскользнула из кокона шалей и подушек, схватила со столика медную чашу и швырнула ее в дверь. С другой стороны двери до нее донеслось недовольное фырканье Туллии.
— Как там она? — понизив голос, еле слышно поинтересовалась Марцелла.
— Она ведет себя возмутительно! — взвизгнула Туллия. — Это просто недопустимо! Я бы на ее месте, не раздумывая, согласилась с предложением императора Отона, когда тот предложил ей найти для нее нового мужа из числа придворных. Это нужно для блага нашей семьи…
— На твоем месте я бы не говорила ей об этом.
— Меня больше всего заботит благополучие нашей семьи.
— С каких пор ты стала одной из
нас, Туллия? Ты можешь сколько угодно пользоваться глупостью моего брата, когда тот проявляет безволие и идет у тебя на поводу, но это не делает тебя женщиной из рода Корнелиев. Наша семья пережила Нерона, переживет и тебя. Если бы нам предложили сделать выбор между тобой и безумным деспотом, я не уверена, что мы выбрали бы тебя!
— Гай! — позвала мужа возмущенная Туллия и поспешно удалилась, громко стуча подошвами сандалий о мраморный пол.
Корнелия перевернулась и, чтобы не слышать голосов, затихавших в дальнем конце зала, натянула на голову шаль. Последние дни она не вставала с кровати. Это был ее собственная девичья спальня в лиловых тонах, в которой она спала, когда ей было шестнадцать лет, до того, как вышла замуж за Пизона. Теперь эта комната казалась ей неподобающе легкомысленной для ее возраста.
Но Туллия по-прежнему отправляет меня сюда, как маленькую девочку, а все потому, что у меня больше нет мужа.
Не открывая глаз, Корнелия протянула руку и провела пальцами по мраморному бюсту возле ее кровати. Бюст Пизона работы дяди Париса, подаренный им на свадьбу. Единственная вещь, которую она забрала из своего дома. Даже с закрытыми глазами она знала, что сейчас ее палец скользит по носу, уху, тонким улыбающимся губам.
Впрочем, ей было трудно представить мужа улыбающимся. Сейчас она мысленно видела лишь его остекленевшие глаза, обрубленную шею, открытый рот, в который преторианец засунул палец, чтобы удобнее было нести голову.
Это был не он. Конечно, не он. Этот страшный рот никогда не смеялся, эти жуткие губы никогда не целовали ее, никогда не улыбались толпе, когда его имя было оглашено как имя наследника императора. Невозможно.
— Жаль, что я не могу быть с тобой, — прошептала Корнелия, обращаясь к мужу. Но теперь он был лишь холодным мрамором, горсткой белого пепла и в любом случае, не мог ее слышать.
— По крайней мере все было сделано, как положено, — заявила Туллия с довольным видом, когда погребальный ритуал завершился, и голова Пизона вместе с телом превратилась в пепел, который затем был пересыпан в небольшую урну. — Нам нужно поблагодарить Диану за то, что она сделала для Корнелии. Подумать только, она лично обошла все преторианские казармы! А ведь она вполне могла бы отправить с этим поручением раба.
— Ужасно, — только и смогла произнести Корнелия, прежде чем ее вырвало на мозаичный пол. Частички рвоты разлетелась во все стороны, попав на вазы и тазик для омовений, стоявший возле кровати. Она так отвратительно себя чувствовала, что решила, будто купленный в храме Изиды талисман — а он по-прежнему был крепко привязан к ее запястью — в конце концов исполнил ее заветное желание.
Неужели чудо случилось? Все правильно, Фортуна забрала у меня мужа, но дала взамен его ребенка. Теперь Корнелия была абсолютно в этом уверена и, прижав руки к животу, представила себе маленького мальчика, которого назовет именем мужа и у которого будут такие же темные волосы, как и у его отца.
Увы, уже через неделю у нее начались месячные, и Корнелия в ярости сорвала с руки амулет и вышвырнула в окно. После чего снова слегла в постель, желая или умереть, или зайтись в крике, который не остановится никогда. Но женщины из рода Корнелиев так не поступают, они даже в горе ведут себя сдержанно и достойно.
— Поговори со мной, — пыталась успокоить ее Марцелла. — Я твоя сестра, позволь мне помочь тебе.
Но Корнелия захлопнула дверь перед ее носом. Что Марцелла может знать? Она никогда не хотела иметь детей. Ведь она даже в тех редких случаях, когда они с Луцием спали вместе, принимала всевозможные снадобья, чтобы избежать беременности. Корнелия была отчасти этому даже рада, ведь в противном случае люди начали бы сплетничать, почему ее младшей сестре боги послали много детей, а ей, Корнелии, ни одного.
Стыдись, Корнелия Прима, — укорила она себя. Марцелла лишь проявляет доброту, пытается принести ей душевный покой.
Снаружи снова донеслись голоса. Корнелия услышала разговор Туллии и Гая. Ее брат явно отрабатывал в бане «важный голос», потому что тот теперь гулким эхом отдавался от стен. Ему вторило хрипловатое хихиканье Лоллии. Корнелия испытала короткую вспышку ненависти. Лоллия так же, как и она, совсем недавно овдовела, однако по ней этого даже не скажешь. Впрочем, чему тут удивляться, Лоллия всегда была безмозглой шлюшкой, которой недоступны глубокие чувства. Их она никогда не испытывала. Уже успела снова выскочить замуж и нисколько не переживает о бывшем муже.
Корнелия заставила себя подняться с постели и подойти к окну, из которого открывался вид на атрий. Вечер был по-зимнему зябким — она ощутила это голыми руками, но косые солнечные лучи все еще падали на крышу дома. Гости шумно восхищались орхидеями Туллии. Лоллию было легко различить в толпе по столе из пурпурного шелка. Имперский пурпур. Новый муж стоял возле нее, высокий, красивый, похожий на своего венценосного брата, а парадном одеянии шафранного цвета — неприлично коротком и скрепленном брошами из оникса.
Корнелии показалось, будто ее желудок скрутило в узел. Она сглотнула подступившую к горлу тошноту, чтобы ее не вырвало снова, и когда кислый привкус во рту никуда не исчез, поняла, что больше не может ни минуты оставаться в доме, в котором находятся члены семьи Отона.
Схватила паллу, она выбежала из комнаты, стараясь держаться подальше от громкого смеха гостей, доносившегося из атрия, и незаметно пробежав по коридору, выскочила из дома через предназначавшуюся для рабов калитку. Оказавшись на углу улицы, она не сразу поняла, что не позвала носильщиков паланкина.
Неужели это имеет какое-то значение? Мне все равно некуда идти. Кроме того, разве кто-нибудь узнает ее, если она пойдет пешком? Три недели назад она была будущей императрицей, с которой окружающие не сводили глаз, и толпы почтительно расступались, стоило ей где-нибудь появиться. Теперь она никто.
Мимо, с громким гоготом направляясь к ближайшей винной лавке, прошагала кучка легионеров. Стайка девчонок с лентами в волосах и дешевыми сережками в ушах пробежала по противоположной стороне улицы. Размахивая палками, играла в одну им ведомую игру компания уличных мальчишек.
Шлюхи, захотелось Корнелии крикнуть во весь глосс, обращаясь и к детям, и к легионерам.
Вы все шлюхи! Всего несколько недель назад они были подданными Гальбы. Гражданами Рима. Теперь все они шлюхи Отона. Отона, который рассыпал медоточивые соболезнования, а сам быстренько конфисковал дом, принадлежавший ей и Пизону, и поэтому ей некуда идти. Теперь она могла вернуться лишь в спальню своего детства. Лишь один человек не предал их, сохранил верность ей и Пизону, когда другие дрогнули.
— Ты еще не поблагодарила центуриона Денса? — спросила у нее Марцелла несколько дней назад. — Мы с Дианой ходили его проведать. Лоллия отвезла его в дом своего деда и пригласила лучших врачей Рима, чтобы те поставили его на ноги. Ведь он спас всем нам жизнь.
Верно. Осознав, что идет по улице с непокрытой головой, как какая-нибудь плебейка, Корнелия поспешила натянуть на голову подол паллы. Да, Марцелла права. Нужно поблагодарить центуриона Друза Семпрония Денса.
Огромный мраморный особняк деда Лоллии находился недалеко. Корнелия увидела в окнах свет, удивительно яркий на фоне сгущавшихся сумерек. Сейчас здесь наверняка ублажают Отонову свору, подумала Корнелия и вновь испытала приступ ненависти. Дед Лоллии, который еще недавно оказывал финансовую поддержку Гальбе и Пизону, разумеется, не стал терять времени даром и взялся за устройство очередного брака Лоллии. Ходили слухи, что он нажил себе новое состояние, продав друзьям Отона дома, из которых ранее аукционеры Гальбы выселили всех жителей. Но он родился рабом и потому не ведает, что такое преданность!
Мне давно пора знать, что Лоллия, в чьих жилах течет рабская кровь, не может быть приличной женщиной. И все же Корнелия была рада, что Лоллия и ее дед проявили уважение к бывшему телохранителю и взяли его к себе в дом, чем освободили ее саму от необходимости идти в казармы, чтобы высказать благодарность раненому центуриону. Кроме того, учитывая коварство преторианцев, подло предавших ее мужа, идти туда, тем более, одной, было бы просто опасно.
— Сказать хозяину о вашем приходе, госпожа Корнелия? — спросил, поклонившись, управляющий. — У него сейчас гости, но я знаю, что он будет рад тебя видеть.
— Нет, не надо его беспокоить. Я ненадолго. — С этими словами Корнелия проскользнула в предназначенную для рабов калитку. — Отведи меня к раненому центуриону.
Отведенная больному комната оказалась роскошной, как, впрочем, и все в этом огромном доме — облицованная голубым мрамором и богато обставленная. Из ее окон открывался чудесный вид на западную сторону Палатинского холма. Центурион Друз Семпроний Денс явно чувствовал себя неловко посреди этой роскоши. Впрочем, он еще более смутился, когда в его комнату вошла Корнелия.
— Госпожа… — Он попытался подняться, затем посмотрел на свою голую, затянутую повязками грудь и застыл в одной позе. Порез возле глаза зашили, и темные нитки швов выделялись на бледной коже, напоминая мохнатую гусеницу.
— Не беспокойся, — попросила его Корнелия, когда Денс потянулся за туникой. — Рабы сказали, что ты еще слаб.
— Я уже иду на поправку, госпожа, — ответил, покраснев от смущения, преторианец и откинулся на подушки.
Корнелия отвела взгляд и поискала глазами, куда бы ей присесть, но решила, что садиться не будет. В конце концов ей нет необходимости оставаться здесь больше положенного. Неожиданно она вспомнила, что ее волосы не убраны в прическу и густой волной спускаются на спину, а старое платье из бурой шерсти изрядно помято после двух ночей беспокойного сна.
— Я хочу поблагодарить тебя за все то, что ты сделал, спасая моего мужа.
Денс опустил глаза, разглядывая край дорогого синего покрывала, который теребил в больших и сильных руках.
— Я не смог уберечь его, госпожа.
— Ты сделал все, что было в твоих силах. — Корнелия хотела произнести эту фразу искренне и доброжелательно, а получилось довольно натянуто и холодно.
Денс продолжал комкать покрывало.
— Ты спас мне жизнь. — Где же те слова, которые ей так легко удавалось раньше найти для любого случая?
Наверное, улетучились вместе с моей надеждой стать императрицей. — Мой муж был бы благодарен тебе.
Денс перевел взгляд на окно, избегая смотреть ей в глаза.
— Твоей вины нет в том, что твои люди предали нас. — Корнелия нервно накрутила на палец локон волос, чувствуя, как от волнения в горле застревает комок. — Ты ведь не знал…
Они с Пизоном ехали в паланкине, следуя за Гальбой. Сказать по правде, оба были немного напуганы ропотом заполонивших улицы толп, хотя и сохраняли спокойствие. Корнелия с высоты носилок видела головы окружавших их людей, но Денс первым заметил подосланных Отоном убийц. Больно схватив Корнелию за руку, он дернул ее вниз и крикнул Пизону, чтобы тот тоже прыгал на землю. Увы, на них тотчас набросились преторианцы. Что-то яростно крича, солдаты выскочили откуда-то со стороны форума еще до того, как Гальбу сбросили с его позолоченного кресла.
Они с Пизоном наверняка сумели бы скрыться, если бы не стражники. Они как свора бешеных псов набросились на своего недавнего хозяина, крича, что Отон щедро заплатит им, если они принесут ему голову любимчика Гальбы. Ей с мужем осталось только одно — искать спасения в бегстве. Преторианцы кинулись за беглецами вдогонку и преследовали до тех пор, пока не оказались на ступеньках храма Весты, где все закончилось кровавой развязкой.
Но в этом не было вины центуриона Денса. Конечно же не было.
— Ты спас моих сестер, — сказала Корнелия, глядя мимо Денса на подушки. — Моя семья позаботится о награде для тебя.
— Мне не нужна награда, госпожа. Преторианцами становятся не ради денег.
— Но большинству твоих дружков нужны именно деньги, — резко оборвала его Корнелия. Денс снова опустил глаза, а она устремила взгляд в пол. — Прости, центурион, мне не следовало говорить таких слов. Я пойду.
И она шагнула к двери. Лишь тогда Денс впервые осмелился посмотреть на нее.
— Госпожа!..
Корнелия обернулась.
— Ты уверял нас в их верности! — вырвалось у нее помимо ее воли. — Я знала их поименно, и мой муж платил им из собственного кармана, а ты поклялся мне, что это верные нам люди!
— Я так думал… — на фоне белых повязок, которыми все еще была затянута его грудь, кожа центуриона казалась почти бронзовой, но глаза на посеревшем лице были похожи на бездонные черные колодцы. — Госпожа, они были моими друзьями…
— Тогда ты плохо выбираешь себе друзей! — Корнелия была не в силах остановить слетавшие с губ упреки. — Ты сказал мне, что будешь охранять моего мужа. «Я отдам за него жизнь», говорил ты…
— Я отвечаю за каждое свое слово…
— Тогда почему ты жив? — сорвавшись, закричала Корнелия. — Почему?
Она подскочила к его постели и замахнулась на него кулаками. Денс схватил ее за руки.
— Почему я жива? — повторила она, пыталась высвободиться. — Почему ты не дал им убить меня?
— Госпожа… — хрипло произнес раненый центурион, по-прежнему не выпуская ее рук. — Прости меня.
— Мне не нужны твои извинения, центурион! — крикнула, полыхая гневом, Корнелия. — Мне нужен мой муж!
Когда она наконец вырвалась из его рук, ей послышалось, будто Семпроний Денс шмыгнул носом. В следующее мгновение она выбежала из комнаты. Ее глаза, напротив, были сухи, как высохшая на солнце кость.
Время слез закончилось.
(обратно)
Глава 7
Марцелла
— Римской матроне надлежит заниматься ткачеством, — не раз говорила Марцелле ее сестра. — Это свидетельство усердия женщины и ее добродетели. Даже богини на небесах сидят за прялкой и веретеном.
— Верно, даже богиням на небесах приходится делать вид, будто они заняты делом, в то время как сами они замышляют что-то недоброе, — соглашалась Марцелла.
— Я не то имела в виду!
Совсем не это имел в виду и воздыхатель Марцеллы, не сводивший с нее восхищенного взгляда.
— Сейчас уже почти не увидишь римских матрон, сидящих за прялкой или ткацким станком, — заявил Домициан, младший сын губернатора Иудеи Веспасиана. Держа в руках кубок с вином, он придвинулся к ней ближе. — Я это одобряю.
— Я жить не могу без твоих похвал.
— Правда?
Увы, ирония недоступна молодым. Они все принимают за чистую монету. Перемещая челнок из стороны в сторону, Марцелла чувствовала груз своих лет, точнее, двадцати одного года. Она не часто сидела за ткацким станком, но если на нее накатывали жизненные заботы, то раздумывать над ними было лучше всего за прялкой и пряжей, мысленные распутывая узелки сложных поворотов судьбы. Сегодня таких узелков было особенно много.
Неужели Отон сказал правду? Неужели он воспользовался моей подсказкой?..
— Ты слушаешь меня? — прервал ее мысли настойчивый голос Домициана. Марцелла дернула челнок. Похоже, ей стоит забыть о роли ткацкого станка как мысленного помощника. Казалось бы, тот должен придавать ей облик занятой женщины, оберегая тем самым от излишне назойливых гостей, однако Домициан как будто не понял намека. Этим утром он вот уже битый час сидит с ней рядом.
— Ты будешь рада узнать, что у меня появился поклонник, — рассказала как-то раз Марцелла Лоллии. — Твой бывший родственник. С того самого дня, как мы с ним слушали на публичных чтениях трактат о Цизальпинской Галлии, Тит Флавий Домициан решил увести меня у Луция и жениться на мне.
— Домициан? — Это известие вывело Лоллию из обычной апатии. — Я давно не встречалась с ним. В последний раз я видела его, когда ему было четырнадцать. Противный мальчишка. Отвратительный. Вечно прятался за углом, подслушивая, что говорят другие люди.
— Да. Видишь ли, теперь он влюблен в меня. Мы познакомились с ним в тот вечер, когда Пизона объявили наследником императора. Не слишком памятная встреча, но Домициан так не считает.
— О чем это ты так долго разговаривала с императором в тот день, когда мы пришли на чтения? — потребовал ответа Домициан. — Он же совсем неинтересный мужчина. Всем известно, что он заранее пишет свои остроты. А еще у него не настоящие волосы. Он носит парик.
— Он хотел отблагодарить меня.
— За что? — подозрительно осведомился Домициан. — Что ты такое для него сделала?
— Ты еще очень молод, чтобы понимать такие вещи, — улыбнулась Марцелла.
— Я не так уж и молод, — ощетинился юноша. — Всего на год моложе тебя.
— На три. И я действительно очень занята, так что…
— Хорошо, — произнес Домициан, в очередной раз не уловив намека. — Жена должна быть занята. Праздные жены приносят зло.
— Неужели у тебя богатый опыт по части жен? — рассмеялась Марцелла.
— Дай мне возможность получить такой опыт, — парировал Домициан. — Выходи за меня замуж.
— Мой муж будет возражать, — ответила Марцелла, и ее поклонник тотчас же одарил ее недобрым взглядом.
— Он не будет твоим мужем вечно. Я поручил Нессу составить твой гороскоп.
— Ах да, твой любимый астролог! Прости, если я сомневаюсь в его способностях. — Марцелла знала по именам самых известных астрологов, но никто из них не носил имя Несс. Это явно какой-то шарлатан, который тянет у мальчишки деньги.
— Несс никогда не ошибается! — запротестовал Домициан и тут же разразился целой речью о своих намерениях быть избранным в сенат, когда ему исполнится двадцать пять, и о том, что Несс пообещал ему успех в этом деле. Марцелла снова занялась прялкой, не слушая, что он говорит. Она все еще пыталась написать хронику событий, сопутствовавших смерти Гальбы, и закончить свиток, посвященный короткому периоду его правления. Увы, ее терзали сомнения в том, что ей удастся передать атмосферу той сладострастной истерии, что охватила толпу при виде зверств, которые творились у всех на глазах. Преторианцы — те, чей долг охранять императора, — убили Гальбу. Странное ощущение, которое почти невозможно передать словами на страницах свитка. И Марцелла мучительно подбирала нужные, не слушая занудные рассуждения Домициана. Из потока мыслей в реальность ее вернул знакомый голос, донесшийся со стороны дверей.
— Моя дорогая, у тебя такой трудолюбивый вид!
— Луций! — воскликнула Марцелла, без особого воодушевления подставляя Луцию Элию Ламии щеку для поцелуя. Сбросив с плеч плащ на руки рабу, супруг стремительным шагом направился к ней.
— Я не думала, что ты так скоро вернешься из Иудеи.
— Я тоже не думал. Губернатору Веспасиану понадобилось кое-что передать в Рим и поэтому…
— Как там поживает мой отец? — перебил его Домициан.
— Превосходно, — ответил Луций. — Молодой Домициан, если я не ошибаюсь? Твой отец и брат передали для тебя письма. Я позднее зайду к тебе и принесу их.
Луций сделал рукой жест, означавший, что он больше не задерживает гостя, и Домициану ничего не оставалось, как встать.
— Я скоро снова увижу тебя, — сообщил он Марцелле и, не обращая внимания на ее мужа, направился к выходу.
— Я вижу, что у тебя завелся поклонник, — заметил Луций.
— Он жуткий зануда, — отозвалась Марцелла и, приказав принести вина и закусок, села напротив мужа и снова взяла в руки челнок. Луций начал жаловаться на плохие дороги и утомительное путешествие. Марцелла посмотрела на мужа. Внешне Луций производил благообразное впечатление: высокий мужчина тридцати четырех лет — с красивым лицом, волевым подбородком и темными волосами, увы, уже начавшими редеть на макушке, что крайне его огорчало. Они были женаты четыре года, но Марцелла сомневалась, что за это время они провели вместе более четырех месяцев.
— Я должен был возмутиться, если бы ты не отзывалась о нем так беспечно.
Например, ее сестра всегда неодобрительно относилась к подобным вещам. Впрочем, в последнее время Корнелия погружена в горестные мысли, и ей не до чужих воздыхателей.
— Что же заставило тебя так срочно вернуться в Рим, Луций? — поинтересовалась у мужа Марцелла, на минуту прекратив распутывать пряжу.
— Веспасиан решил высказать свою лояльность Отону, — ответил Луций и потянулся к блюду с устрицами под соусом из оливкового масла и трав, которое только что подал им раб.
Он всегда охотно ест с чужих столов, неприязненно подумала о муже Марцелла.
— Меня отправили в Рим, чтобы я доставил письменную клятву Веспасиана в верности. Отон будет доволен. Из Германии и без того то и дело поступают дурные известия, так что Отон наверняка будет рад услышать, что хотя бы в Иудее все спокойно. Хотя на самом деле там неспокойно.
— Что такое? Расскажи мне!
Луций пожал плечами. Обычно он не баловал Марцеллу рассказами о служебных делах, но, очевидно, лучше жена, чем полное отсутствие слушателей.
— В Нижней Германии легионы губернатора Вителлия провозгласили своего командира императором и присягнули ему на верность. И теперь Вителлий выступил с походом на Рим.
— Не может быть! — Марцелла от неожиданности даже уронила челнок и в изумлении подняла брови. В последнее время Луцию редко чем удавалось поразить ее.
— Но Отон всего месяц пробыл императором…
— Верно. У Веспасиана было время, чтобы решить, кого из претендентов на престол следует поддержать. — Луций выплюнул устрицу. — В целом он считает, что ему выгоднее стать на сторону Отона. По меньшей мере тот умнее, а Вителлий…
— Вителлий — обжора и пьяница, — закончила за него Марцелла и представила себе Вителлия, которого видела несколько раз и всякий раз пьяным. Да, губернатор Германии действительно не сдержан в употреблении вина. Ей как-то раз довелось лицезреть его пиру фракции «синих», чьим горячим поклонником он был. Помнится, тогда он потерял сознание и рухнул лицом в какое-то блюдо. И вообще проявлял ли он когда-либо интерес к чему-нибудь кроме еды, вина и гонок колесниц? Думается, было бы полезно изучить его предыдущие назначения. Наверняка это помогло бы выявить кое-что интересное.
— Должно быть, Вителлий был в стельку пьян, когда легионеры провозгласили его императором, иначе ему никогда не хватило бы духа пойти на эту авантюру.
— А теперь его всячески подталкивает к вершинам власти пара негодяев, — сказал Луций, отправляя в рот очередную устрицу. — Туллии следовало бы добавлять больше масла. Передай мне, пожалуйста, это блюдо.
— Что за негодяи? — полюбопытствовала Марцелла.
— Два командира его армии, Фабий Валенс и Цсцина Алиен. Они вертят им, как хотят, воруют все, что попадется под руку. А стоит ему хотя бы в чем-то усомниться, как они тотчас накачивают его вином.
— Фабий и Алиен, — для памяти повторила Марцелла, подкладывая мужу на блюдо новую порцию устриц, в надежде на то, что Луций продолжит с ней откровенничать.
— Удивляюсь, зачем Вителлию понадобилось двигаться со своей армией на юг? На его месте я заплатил бы кое-кому здесь, в Риме, чтобы надежный человек воткнул в спину Отону кинжал. Это было бы куда проще. Скажу честно, я сам пока в раздумьях, может, лучше поддержать Вителлия? Конечно, пока жив Отон, перебегать на другую сторону рановато, но, с другой стороны, почему бы не рискнуть? Кто знает, вдруг Фортуна будет к нему благосклонна.
— Мой дорогой, но ведь Вителлий не император, он узурпатор. — Но он по крайней мере сам провозгласил себя императором. — Марцелла снова взяла в руки челнок. — И у него есть несколько легионов, готовых поддержать его силой меча. У меня нет никаких сомнений на тот счет, что он даже ведет отсчет своему императорскому правлению — с того дня, когда проснулся с трещащей с похмелья головой, на которой каким-то чудом оказался лавровый венок. Так почему бы не написать историю его правления? Во всяком случае, пока он еще жив. — Марцелла сделала паузу и задумалась. — Ведь как все было просто, когда мы имели одного императора. Хотя, возможно, не так интересно.
— Насколько я понимаю, ты продолжаешь сочинять свои опусы, — с улыбкой произнес Луций.
— А разве мне этого нельзя? — Марцелла вновь нажала ногой на педаль ткацкого станка.
— Моя дорогая, но ведь ты никогда не издашь свои труды.
— Я могу издать их под мужским именем!
— Это идея! — расхохотался Луций. — Любой узнает в твоих сочинениях женскую точку зрения.
— Я не пишу никаких глупостей, и ты это знаешь, — возразила Марцелла и после короткой паузы холодно добавила: — Я составляю лояльную, беспристрастную хронику римских цезарей.
— Что ж, пожалуй, когда-нибудь я прочитаю твои свитки, — произнес Луций снисходительным тоном.
— Какая жалость, что ты не занимаешься политикой. У тебя великий талант раздавать обещания, не имея намерения их выполнить.
— Для вхождения в сенат нужно иметь покровителей, полезных людей. — Голос Луция заметно утратил веселые нотки. — Клиенты… деньги… жена, которая направляет карьеру мужа, используя полезные средства.
— Может, стоит начать с денег? — лукаво предложила Марцелла. — Я уверена, если его хорошо попросить, дед Лоллии даст тебе в долг приличную сумму. Или, будет правильнее сказать, даст
новую сумму?
Слова Марцеллы задели Луция за живое, и он бросил на жену недовольный взгляд. А вот это она, похоже, сделала зря. Острый язык не лучший способ добиться того, что ей нужно. Неожиданно ей вспомнилась одна банальность на тему брака, из числа некогда изреченных Корнелией, — желаемого от мужа проще добиться медом, а не уксусом.
— Ты наверняка слышал о том, какое горе недавно постигло мою сестру Корнелию? — с этими словами Марцелла подлила Луцию в кубок вина и добавила заговорщическим тоном: — Знаешь, она бы по достоинству оценила твои соболезнования.
— Конечно. Бедняга Пизон. Он был таким жутким занудой. Твоей сестре непременно нужно снова замуж. У Отона немало сторонников, которые охотно взяли бы ее в жены.
— Корнелия не желает даже слышать имя Отона. А если слышит, то всякий раз плюется, — сообщила Марцелла и поставила на место кувшин с вином. — Она скорее раздерет себе ногтями горло, чем выйдет замуж за кого-то их Отоновых прихвостней.
— О, какой драматизм! — не без иронии воскликнул Луций, крутя в холеных руках ножку винного кубка. Хотя он постоянно бывал в разъездах, каким-то уму непостижимым образом он находил время, чтобы следить за собой. Неудивительно, что он постоянно пилил Марцеллу за неизменные пятна чернил на пальцах.
— Значит, теперь ты служишь Веспасиану, — сказала Марцелла и позвала рабов убрать посуду и принести фрукты. — Он такой же, как и его зануда сын?
— Я не знаком с Домицианом, но его отец — весьма неглупый человек. Кстати, легионеры были не прочь присягнуть ему на верность и назвать своим императором.
— О, великая Фортуна, только не четыре императора! — вздохнула Марцелла. — Тут хватает бед и с тремя. Почему же он отказался?
— Веспасиан считает, что лучше быть живым губернатором в Иудее, чем мертвым императором в Риме.
— Что ж, он действительно умен. Но его сын редкостный надоеда.
— Я не могу винить его в том, что он восхищается тобой, моя дорогая. У него превосходный вкус.
Марцелла устало улыбнулась комплименту. Ей было прекрасно известно, что мужу нравятся женщины, похожие на мальчиков, причем, чем моложе и миниатюрнее, тем лучше.
Большинство римских мужей были бы рады иметь доступ к такой роскошной груди, как моя, но только не Луций. Не то, чтобы он не хотел ее в постели, но тем не менее…
— О, боги, как я устал, — зевнул он, потягиваясь. — Я с самого рассвета просидел в приемной у Отона, ожидая аудиенции.
— Но сегодня ночью конечно же ты останешься у нас, — улыбнулась Марцелла и встала из-за ткацкого станка. — Я приготовила для тебя опочивальню.
Она проводила мужа наверх и приказала рабам разобрать постель.
— Спасибо, дорогая, — поблагодарил Луций и отвернулся. Марцелла положила руку ему на плечо.
— Это все слова, которые ты приготовил для меня, Луций? — спросила она и легонько сжала его плечо. — В конце концов тебя не было так долго. Я скучала по тебе.
Луций обернулся, всем своим видом показывая, что не ожидал от нее таких слов. Марцелла жестом велела рабам уйти и закрыть дверь. Ее муж улыбнулся и, пожав плечами, приспустил бретельку ее платья.
— Кстати, — произнесла Марцелла после вежливого совокупления, во время которого она изображала большую, чем обычно, страсть. — Я недавно говорила с императором Отоном, и он сказал, что мог бы дать тебе пост в Риме. Разве это не чудесно?
— Представить себе не могу, как это могло прийти ему в голову, — ответил Луций, натягивая на себя покрывало. — У Отона и без того нет недостатка в фаворитах, которых он желал бы вознаградить в первую очередь.
— Я одна из его фавориток, Луций. Он обещал оказать мне любезность, — произнесла Марцелла, нежно прижимаясь щекой к плечу мужа. Она видела, как это делала Лоллия, когда хотела добиться чего-то от мужчины. — Ты всегда говорил, что хочешь получить пост в Риме. Мы могли бы наконец обзавестись собственным домом. Я бы уже в этом же месяце подыскала для нас уютное гнездышко.
— Мне все равно, — зевнул Луций. — У меня мало денег.
— Луций, я замужем за тобой вот уже четыре года, — заговорила Марцелла, пытаясь придать голосу нежность. — Разве не пора нам иметь собственный дом? Я больше не могу жить у родственников.
— Уверен, они готовы потерпеть твое присутствие, — Луций закинул руки за голову, чем вынудил жену убрать голову с его плеча. — Отон не даст мне поста в Риме до тех пор, пока не выяснится судьба Вителлия, так что какой смысл тратиться на дом? Да и зачем торопиться? Не думаю, что я пробуду в Риме не дольше, чем несколько недель.
— Но если бы мы обзавелись крышей над головой, у нас наконец появилось бы место, которое мы могли бы назвать своим! Пусть даже самое скромное жилье…
— Я сказал «нет», Марцелла.
— Луций, я больше не могу здесь жить! — Марцелла привстала в постели. — Ты не представляешь себе, какая ужасная женщина моя золовка! Она сует нос в мои вещи, роется в моих свитках! Она разбавляет водой мое вино! Она высаживает жуткие цветы! Она…
— Тебе нужно считаться с ней, — ответил Луций и снова зевнул. — Разбуди меня к обеду, хорошо?
— Можешь просыпаться прямо сейчас, Луций Элий Ламия. — Марцелла потрясла мужа за плечо, и он открыл глаза. — Послушай меня, я пытаюсь быть хорошей женой. Ты ведь хочешь, чтобы кто-то следил за тем, чтобы твоя тога всегда была накрахмалена, хочешь, чтобы тебе помогали подниматься по служебной лестнице? Так дай мне возможность иметь собственный дом, и я сделаю для тебя все. Я умная женщина, и это пойдет тебе на пользу. Почему же ты не хочешь воспользоваться мной?
— Потом, — устало махнул рукой Луций. — Когда все успокоится.
— Ты повторяешь эти слова вот уже четыре года. Так ты не хочешь дать мне дом? Я никак не пойму — ты настолько скуп или тебе неприятно мое общество?
— Иногда, — отозвался Луций и перевернулся на другой бок.
— В этом мнении ты можешь оказаться в меньшинстве, — произнесла Марцелла, обращаясь к спине мужа. В эти моменты ею владело отчаянное желание вцепиться обеими руками супругу в горло и его задушить. — Если у тебя, Луций, нет чувств, чтобы по достоинству оценить меня, то у многих других мужчин эти чувства есть. Включая императора Отона.
— Значит, вот как ты вырвала у него это обещание? — Луций посмотрел через плечо. — Надеюсь, в знак благодарности ты получила от него и какие-нибудь приличные драгоценности. Есть у него такая привычка. Он вечно дарит чужим женам побрякушки и тут же о них забывает. Не думай, что ты чем-то отличаешься от остальных.
— Верно, — прошипела Марцелла, выскакивая из постели. Ей казалось, будто ее кожа горит и от нее сейчас воспламенятся простыни. — Лучше бы у меня вместо мужа был слизень, Луций. Я развожусь с тобой!
— Твой брат тебе этого не позволит, — ответил Луций, не открывая глаз. — Он считает меня весьма полезным человеком. Мои связи, которыми я обзавелся в Иудее в этом году, очень даже помогают ему в сенате.
— Тогда я попрошу разрешения на развод у императора!
— Отлично. И он тут же отдаст тебя замуж за одного из своих любимчиков. Вот только бы знать за кого? — Луций снова зевнул. — Дай мне поспать, хорошо?
Казалось, волосы на ее голове превратились в клубок ядовитых змей. Марцелла по-детски сорвала с мужа покрывало и в сердцах швырнула его на пол. Луций взвизгнул, а она, пронзив его полным ненависти взглядом, не говоря ни слова, схватила со стула платье и выбежала из комнаты.
— Марцелла, — обратилась к ней вышедшая в атрий Туллия. — Рабы сказали мне, что приехал твой муж. Как радостно видеть его здесь после столь долгого отсутствия! Мы устроим званый ужин в его честь…
— Устраивай, — отозвалась Марцелла, со злостью затягивая на платье пояс. — Я приготовлю для него яд.
Туллия не слушала ее и продолжала трещать.
— …я уверена, что он немало поиздержался в дороге. Думаю, тебе следует попросить Лоллию, чтобы та уговорила своего деда одолжить ему денег…
— Стоит ли? Дед Лоллии предпочитает получать выгоду от своих заемщиков. А чем он обязан Луцию?
— Но ведь он оказал честь такому выдающемуся…
— Туллия, Луций — всего лишь обычный бездельник. Он живет за счет родственников жены, пытается переложить свои долги на других…
— Не хочу слышать твоих несправедливых слов о столь славном человеке…
— Конечно же ты прекрасно ладишь с Луцием, потому что вы с ним одинаковые дармоеды. Я считаю, что было бы лучше, если бы вы прыгнули в Тибр! Туда вам обоим дорога.
— …он более чем кроток, рассказывая о твоих недостатках! — вспыхнула Туллия. — Я ни разу не слышала от него упреков в твой адрес из-за твоих глупых сочинений. Он не произнес ни слова о том, что ты была шлюхой Нерона…
— Что же тебя так беспокоит, Туллия? — спросила Марцелла. Краем глаза она заметила, что у входа в атрий уже собрались рабы и теперь, навострив уши, таращились на хозяйку и ее родственницу, но не смогла остановиться. — Что я спала с Нероном, или что я не попросила для Гая поста губернатора?
— Ты, наглая потаскуха, да как ты смеешь?..
— Потаскуха? Разве она потаскуха? — неожиданно прервала их перебранку возникшая в дверях Корнелия. В черном траурном одеянии она была похожа на огромного баклана — лицо белое, как мел, темные волосы разметались во все стороны. — Это Марцелла потаскуха? Вы все здесь потаскухи. В тот день, когда Пизона объявили наследником императора, Гай устроил пир, и ты, Туллия, была счастлива назвать моего мужа своим родственником. Марцелла, ты стояла со мной на ступенях храма Весты, когда его убили, и вот теперь ты пьешь вино с его убийцами. Шлюхи! — вскрикнула Корнелия. — Вы все шлюхи!
— Ты повторяешься, — спокойно парировала Марцелла. Она не видела сестру несколько недель, пока та лила слезы и не выходила из своей комнаты. Теперь же Корнелия явно искала выход своему раздражению. — Ради великой Фортуны прошу тебя, Корнелия, придумай какое-нибудь новое оскорбление и не повторяйся.
— Я не потерплю, чтобы меня обзывали в моем собственном доме! — взорвалась от негодования Туллия.
— Ты хочешь сказать, что было бы правильнее назвать тебя шлюхой в чужом доме? — съязвила Марцелла. — Хорошо, устроим это в каком-то другом месте!
— Гай, как ты позволяешь этой нахалке разговаривать со мной в таком тоне! — крикнула Туллия, когда в атрии появился ее супруг. — Что ты скажешь своей драгоценной сестре?
— Успокойся! — нервно воскликнул Гай. — Я уверен, что она не хотела…
— Гай, ты никогда не можешь защитить меня!
— Как я это ненавижу! — зарыдала Корнелия и выбежала вон из атрия.
— Неужели вы не можете поладить? — устало спросил Гай.
Марцелла, перешагивая через две ступеньки за один раз, поспешила по лестнице наверх к себе габлинум. Запершись там, она попыталась сочинить едкую эпиграмму на абсолютный кошмар семейной жизни, но, увы, так и не сумела. Тогда она взялась за свою незаконченную хронику правления Гальбы и в нескольких параграфах описала его смерть. Ярость, клокотавшая в ней, легко помогла найти точные слова. Марцелла описала каждую каплю крови, каждый услышанный ею крик жертвы или вопль толпы.
Пурпурная проза, насмешливо подумала она. Где же твоя беспристрастность, которой ты бахвалилась перед Луцием? Увы, беспристрастность ей изменила. Она на нее больше не способна. Равно как на утонченность, на приличия или благонравное поведение. Куда это ее заведет?
Куда их всех заведет этот год?
Прошло несколько дней, прежде чем ярость наконец улеглась, сменившись холодным осмыслением известия о Вителлии, которое принес с собой Луций. В течение всего двух месяцев город уже повидал двух императоров, и вот теперь стало известно о третьем.
Никто точно не знает, подумала Марцелла, в какую сторону повернется жизнь. Гальба был трезвым, бережливым, уравновешенным и вполне подходил на роль правителя. Отон импульсивен, экстравагантен, обаятелен и умен.
Женщины в дни правления Гальбы ходили по улицам, накрыв головы. В дни правления Отона они стали появляться в общественных местах с непокрытой головой и голыми плечами, написала Марцелла на новой табличке, отодвигая в сторону свиток с описанием деяний Гальбы.
Сенаторы, которые при Гальбе изо всех сил напускали на себя серьезный вид и изображали осведомленность в государственных делах, теперь нанимают поэтов писать эпиграммы, чтобы Отон считал их умными и ценящими хорошую шутку. Рим теперь…
Какой он, Рим? Возбужден? Втянут в водоворот событий? Или лучше, унесен их вихрем?
Каким бы он ни был, Марцелла сомневалась, что ей удастся выразить словами то странное лихорадочное возбуждение, которое сейчас царило на городских улицах. Лихорадка охватила всех без исключения. Корнелию, которая в гневе кидалась вазами, стоило кому-то постучаться к ней в дверь. Диану, беспрестанно трещавшую о своих любимых «красных», чем вызывала у окружающих желание задушить ее. Лоллию, чей смех на пирах сделался пронзительнее прежнего, и в чьих подведенных тушью глазах теперь читалась неизбывная печаль. Надвигался неминуемый потоп — он вот-вот захлестнет их, накроет с головой и больше не выпустит на волю.
Даже меня это не миновало, подумала Марцелла.
— Неужели ты ничего не чувствуешь? — спросила она на следующий день Лоллию, когда они примеряли новые платья. — Как будто весь город находится на краю гибели?
— Да, чувствую, — призналась та. — Неужели все это чувствуют? Корнелия, наверное, нет. Она единственная счастливица.
— Я бы не назвала ее счастливицей, — последовал ответ.
Спальню заполонило буйство красок, повсюду разбросаны развернутые рулоны шелка, служанки сновали по всей комнате с булавками и мотками тесьмы. Марцелла жестом отвергла отрез шелка кораллового оттенка, который предложила ей рабыня. — Нет, это слишком броско. Давай посмотрим этот бледно-желтый.
— А вот я назвала бы Корнелию счастливой. Пусть она не стала императрицей, но у нее по крайней мере была трагическая любовь. — Лоллия покрутилась перед зеркалом, придирчиво разглядывая новую столу из бледно-розового шелка, расшитую жемчугом. — Слишком простенько…
— Что ты имеешь в виду под трагической любовью? — спросила Марцелла, поднимая руки, чтобы служанка могла приложить к ней кусок желтого шелка. — В ней нет ничего трагического, кроме конца. Они с Пизоном просто были счастливы.
— Да, я тоже так думаю. Но императору непременно нужен наследник, — ответила Лоллия и, сбросив с себя бледно-розовый шелк, голая прошла к столику. — Попомни мои слова, пару лет проходив в имперском пурпуре, Пизон развелся бы с Корнелией и женился на какой-нибудь юной особе со свежим личиком, которая нарожала бы ему кучу сыновей.
— Нет, он бы так не поступил. Он мог бы, следуя примеру Гальбы, кого-нибудь усыновить. Никто из наших императоров еще не передавал трон собственным сыновьям.
— Верно. И мы видим, к чему это нас привело. Повсюду убийства и измена. — Лоллия нахмурилась, глядя на свое нагое отражение в зеркале. Все та же гладкая розовая кожа, непокорные рыжие локоны беспорядочно разметались по плечам. Марцелла тоже посмотрела на свое отражение. Высокая фигура в желтом шелке, скорбные морщинки между бровей.
Это постарались Луций и Туллия, неприязненно подумала она.
— Уверяю тебя, — продолжила Лоллия, — Корнелия могла бы стать прекрасной императрицей, но вряд ли бы долго занимала это положение. Через год-два в сенате начались бы разговоры о том, что император, у которого есть сыновья, принес бы в жизнь империи спокойствие. Сенаторы стали бы шептаться о том, что для этого лучше иметь кровных сыновей, а не приемных, о том, на какие жертвы император должен идти во имя благоденствия Рима. Ты думаешь, Пизон отказался бы?
— Откуда нам знать, — ответила Марцелла и посмотрела на служанку, которая была занята тем, что обметывала подол ее платья. — Мне кажется, по всему подолу нужно пустить больше вышивки.
— О, Корнелия это прекрасно знает, — возразила Лоллия. — Но теперь Пизон мертв, так что она может делать вид, будто ничего такого никогда не было бы. Она будет утверждать, что Пизон стал бы императором, равным по своему величию Божественному Августу, а она — его Августой. На самом же деле он был всего лишь мягкотелым и скучным человеком. А ее отличала жажда власти, которой с лихвой хватало на них обоих, — сказала Лоллия и пожала плечами. Служанки тотчас окружили ее и принялись примерять на ней светло-зеленый шелк, расшитый золотыми цветами и виноградными гроздьями. — Подозреваю, что ей сейчас нужен хороший жеребец.
Марцелла с упреком посмотрела на кузину. Та смотрелась в зеркало, пока служанка булавками закалывала на ее плечах столу из желтого шелка.
— Ты не слишком добра к Корнелии.
— Я не люблю, когда меня называют шлюхой лишь потому, что я вышла замуж за брата Отона, — отозвалась Лоллия и, помолчав, добавила: — Из-за прихотей Нерона мы потеряли твоего отца. Ты ведь знаешь, как легко после этого лишиться всего остального. Отону ничего не стоит отобрать наше имущество и отправить нас в ссылку. Он обаятелен, но неизвестно, в каком настроении он может проснуться завтра, что на него найдет. Я почти каждую ночь стою на коленях перед мужем, его братом, уверяя в преданности нашей семьи Отону, но это не делает меня шлюхой. Это дает нам пищу, крышу над головой и возможность носить красивые платья. — Лоллия дернула за невесомые шелковые складки. — Благодаря этому мой дед жив и зарабатывает деньги, которые вы у него с радостью берете в долг. Вы же не желаете признаваться даже самим себе, откуда берутся эти деньги. Благодаря им моя дочь живет счастливо и ни в чем не нуждается.
— Послушай. Лоллия, я убеждена, что на самом деле Корнелия не считает тебя шлюхой.
— Нет, еще как считает! Впрочем, мне все равно. Кто-то ведь должен унижаться. Разве не для этого женщины выходят замуж за нужных мужчин? Кому еще в нашей семье это делать, если не мне? — Сочные губы Лоллии неприязненно поджались. — От Корнелии мало пользы, она ведет себя как плебейка, потерявшая мужа в драке в портовой таверне. Диана могла бы выбрать в мужья кого-нибудь из своих поклонников, но ее мысли целый день заняты лишь скачками и лошадями. Честно тебе признаюсь, Марцелла, от тебя тоже мало пользы. Ты днями просиживаешь за своим свитками, наблюдаешь за нами, держишься свысока, как будто паришь в небесах над окружающим миром. Я не знаю, что Нерон сделал с тобой, потому что ты ничего никому никогда не расскажешь, но ты определенно извлекла из этого выгоду. Ты под любым предлогом запираешься в своем таблинуме и что-то пишешь.
— Лоллия!
В следующее мгновение в комнату вбежала Флавия, с которой ручьями стекала вода, за ней следом — ее няня, тоже мокрая. Девочка сунула в руки матери пучок водных лилий. Увы, Лоллия не оценила этого непосредственного детского жеста и принялась браниться. Марцелла поспешила отвернуться, как будто не желала слышать брань из уст кузины.
— Лоллия, — наконец не выдержала она. — Тебе не следовало произносить таких слов.
— Они сами вырвались. Просто меня замучила сегодняшняя примерка.
Лоллия подняла дочь на руки и, крепко прижав к себе, шагнула вперед, шурша наполовину сметанными шелками. Служанки устремились за ней следом.
— Похоже, я тоже устала, — призналась Марцелла, сняв будущее платье из желтого шелка и вновь надевая старую столу. Примерка закончилась, У дверей ее уже ждал паланкин, и она медленно забралась на носилки. Домой она, однако, решила пока не ехать, а приказала отнести ее в Сады Азиатикуса. — Оставьте меня, — сказала она носильщикам, когда паланкин опустили на землю, после чего зашагала по широкой извилистой дорожке.
Какое это чудное место, Сады Азиатикуса! Огромное пространство рельефной зелени на южном склоне холма, который носит название Пинций. В летние месяцы глаз посетителей здесь радовали душистые холмики розовых кустов, шелковистая трава и дивные замшелые статуи. Несмотря на холод февраля, сад не утратил своего очарования. В фиолетовое сумеречное небо вонзались кроны тополей. Тихо журчали струи фонтанов. В водной глади прудов отражались ажурные мостики. Марцелла заметила среди деревьев свет факелов, мерцавших вдоль дорожек сада. Во всем Риме любовникам не сыскать более удобного места для тайных встреч, чем сады Азиатикуса. Лоллия не раз пользовалась для любовных утех тенистыми рощами благородного лавра и укромными уголками за шпалерами орхидей.
Впрочем, сейчас она пребывает не в том настроении, чтобы устраивать тайные свидания. Раньше за ней такого не водилось. Марцелла не могла припомнить случая, чтобы Лоллия, выйдя из себя, повысила на кого-либо голос. Даже на рабыню, укравшую ее любимые жемчуга, или на трибуна, бросившего ее ради танцовщицы-египтянки. Всего несколько недель назад на чтениях Лоллия была погружена в меланхолию, и вот теперь дала волю дурному настроению. Похоже, что охватившая город истерия не обошла стороной и эту легкомысленную хохотушку.
Я не знаю, что Нерон сделал с тобой, потому что ты ничего никому никогда не расскажешь…
Марцелла вздрогнула и, плотнее закутавшись в палу, сошла с дорожки и зашагала по траве к фигурно высаженной рощице тополей. Над ее головой ветер плавно покачивал темные ветви деревьев. Под этими тополями, спасаясь бегством от разъяренных преторианцев, нашла смерть несчастная императрица. Третья жена императора Клавдия, изменявшая своему мужу. В конце концов преследователи догнали беглянку и отрубили ее хорошенькую головку.
Интересно стала бы Лоллия смеяться, если бы узнала правду? — подумала Марцелла. А Корнелия и Диана? А Гай и Туллия? А Луций?
Нерон не прикоснулся ко мне даже пальцем.
— Это ты, моя дорогая, — рассеянно произнес он, когда управляющий привел в комнату Марцеллу. Ей было холодно и страшно, однако любопытство историка взяло верх, перевесив все прочие чувства. С вращающегося потолка над головой, кружась, сыпались благоуханные лепестки, падая розовым дождем на императора великого Рима, сидевшего в позе музыканта в греческой тунике и сандалиях. На коленях у него лежала золотая лира.
— Цезарь, — почтительно произнесла Марцелла и опустилась перед ним на колени, чувствуя, как под лиловым шелком тело ее стало липким от пота. Перед тем как идти к Нерону, она нарочно задрапировала столу так, чтобы как можно меньше была видна ее высокая грудь. Нерон в знак приветствия взмахнул по-женски холеной и нежной рукой.
— Нет, моя дорогая, этой ночью я для тебя не цезарь. Мы будем ужинать одни, как обычные влюбленные. Мне всегда хотелось стать простым музыкантом, который своей игрой зарабатывает себе кусок хлеба. Или, может быть, актером. Ты наверняка слышала, как я декламирую стихи…
Жаркая ночь. Весна скоро перейдет в лето. Рабы, все как один светловолосые и с голубыми глазами, специально отобранные за их красоту, с ловкостью и изяществом танцовщиков, вносили одно блюдо за другим. И каждое было сдобрено возбуждающей приправой, предназначенной для ночи любви. Им подавали и морских ежей в миндальном молочке, и сине-черные устрицы из Британии, и пирожки с начинкой из пыльцы съедобных цветов. Марцелла уплетала все за обе щеки.
Эти возбуждающие снадобья поспособствуют тому, чтобы мне не было противно, когда он наконец замолчит и захочет меня. Хотя Нерон был высок ростом, фигуру ему портили большой, как бочонок, живот, и тонкие ноги. Не говоря уже про покрытый пятнами подбородок. Лысеющую голову императора-актера прикрывал рыжий парик. Марцелла отметила также, что глаза Нерона ярко блестели, как будто у него была лихорадка.
Или сифилис.
— Я также хотел бы стать поэтом. Ты ведь конечно же слышала мои стихи? Моими стихами о любви Адониса и Афродиты немало восхищались в Афинах…
О боги! Лучше бы он не тянул время! Император положил на нее глаз накануне, в конце очередного званого вечера, и небрежно пригласил к себе во дворец, даже не потрудившись поговорить с ней. Да и с какой стати он стал бы это делать? Она всего лишь игрушка, которой он развлечется один раз, а затем найдет себе новую.
Чем скорее он заберется на меня, тем скорее все закончится, и я смогу вернуться домой.
Нерон отодвинул в сторону золотое блюдо и провел влажными пальцами по ее руке. Марцелла напряглась, однако заметила, что Нерон на нее даже не смотрит. Его лихорадочный взгляд был устремлен куда-то между высокой вазой с пурпурными орхидеями и мраморной статуей Леды с лебедем.
— Я сыграю для тебя, — произнес он и приказал слугам принести лютню. — Император дает представления для одной тебя.
— Для меня это великая честь, цезарь.
Нерон взял лютню в руки и принял картинную позу. Его фальшивые рыжие кудри ярко блестели в свете ламп. Он исполнил что-то непристойное про весну…
— Это мое собственное сочинение. Надеюсь, оно тебе понравилось?
— Превосходно, цезарь!
За первой песней последовала вторая, эпическая поэма о подвигах Геркулеса. Пронзительный голос Нерона неприятно резал слух.
— Несравненно, цезарь!
В промежутках между песнями император велел принести еще вина, но Марцелла отодвинула свой кубок. Ей нельзя много пить, иначе она уснет. Нерон же имел привычку отправлять на казнь тех сенаторов, которые засыпали во время его выступлений. Сам он жадно осушал кубок за кубком, как будто сильно куда-то спешил.
— Вот послушай еще одну песенку о весне. Разумеется, тоже моего собственного сочинения. Скажешь мне, что ты о ней думаешь?
Это была та же самая песня, с которой он начал.
— Бесподобно, цезарь!
Песню о весне сменили другие. Голос Нерона сделался еще пронзительнее, императорский язык заплетался все сильнее. Взгляд лихорадочно бегал по всей комнате. Император еще дважды исполнил песню о подвигах Геркулеса, правда, в ускоренном темпе.
— Мне время от времени нравится писать стихи о героических подвигах, хотя я предпочитаю описывать подвиги любовные. Кстати, ты знаешь, что сенат плетет против меня интриги? Что зреет заговор?
Марцелла успела похвалить очередную песню Нерона, и лишь затем до нее дошел смысл последней его фразы.
— Что, цезарь?
— Они думают, что я ничего не знаю. Но я все слышу. — Нерон неожиданно отбросил лютню. — Они объявили меня врагом Рима. Даже выбрали нового императора.
— Этого не может быть, цезарь.
— Как бы они ни старались, я перехитрю их. У меня повсюду есть соглядатаи, — ответил Нерон и тут же добавил: — Они об этом еще пожалеют. Я залью лестницу сената их кровью.
Он встал и прошелся по комнате из конца в конец. Приблизившись к пиршественному ложу, на котором сидела Марцелла, задумчиво провел по краю рукой. Его ногти были выкрашены розовым лаком.
— Они вообразили, будто могут выбирать императоров, — произнес он. — Я — бог. Как ты думаешь, разве можно обрести божественность простым голосованием?
— Конечно нет, цезарь, — осторожно ответила Марцелла.
— Они хотели бы провозгласить императором какого-нибудь неотесанного чурбана с крепкими кулаками вроде Гальбы или Сабиния. Хотят разбить мои статуи, а у меня много статуй. Моя мать говорила, что в мраморе у меня получается восхитительный профиль. — Нерон поморгал. — Я убил собственную мать. Ты слышала об этом? Правда, я не помню зачем.
О, всеблагая Фортуна, позволь мне уйти отсюда живой! Марцелла замерла от страха, чувствуя, что вся покрывается гусиной кожей. Нерон осушил еще один кубок вина, однако тотчас наполнил его снова.
— Они разграбят мой великолепный дворец, — жалобно произнес он, обводя глазами роскошный триклиний. — Мой любимый Золотой дворец. Я понял, что такое настоящая жизнь, только после того, как построил этот чудесный дворец. Они подчистую разграбят его, оставят лишь голые стены. Эти мерзкие склочники сенаторы, они распродадут все. Пустят с молотка и моих красавцев рабов, и моих замечательных хористов, и вот это золотое блюдо. А ведь его по моему заказу изготовили мастера Коринфа! Но я этого не увижу. Они убьют меня раньше. Заколют копьями в бане или в опочивальне. Богу не пристала такая смерть!..
Марцелла тщетно пыталась найти нужные слова. Ее дар почему-то отказывался ей повиноваться.
— Мир потеряет в тебе величайшего артиста, цезарь! — наконец выдавила она.
Лихорадочно блестевшие глаза Нерона растерянно остановились на ее лице, как будто он видел ее впервые.
Помнит ли он, зачем я пришла сюда? Да и нужен ли был ему вообще мой приход? Может быть, он для того и позвал ее во дворец, чтобы доказать сенаторам, что не боится никаких слухов?
— Да, да, великий артист, — согласился он и яростно закивал. — Я должен запомнить твои слова. В мире больше никогда не будет такого артиста, как я, верно?
— Верно, не будет, — согласилась Марцелла.
— Не будет, — эхом повторил Нерон и в следующее мгновение бросился на пиршественное ложе и уткнулся лицом в колени своей гостьи. — Не будет, — повторил он, дрожа всем телом. Даже крепкий запах мирра был бессилен перебить зловонный запах страха.
Рассказывали, что он лежал, уткнувшись лицом в колени мертвой матери, а когда ее бездыханное тело унесли, то продолжал рыдать.
— Никто не станет колоть тебя копьями до смерти, цезарь. Ты победишь их всех, — произнесла Марцелла, чувствуя, что тоже истекает потом. Ему ничего не стоит задушить ее и сбросить со ступеней Гермониевой лестницы, если по какой-то причине он вдруг разъярится на нее. В свое время Нерон, будучи в дурном настроении, точнее, в приступе бешенства, насмерть забил ногами беременную жену. Марцелла усилием воли заставила себя погладить рыжие волосы. Ощущение было такое, будто кончики пальцев касаются раскаленных углей.
— Ты всех победишь, — повторила она.
— А если нет? — спросил Нерон, вернее, почти прокричал. Он открыл глаза и вопросительно посмотрел на Марцеллу. — Если я не смогу их победить?
— Тогда ты упадешь на собственный меч, — ответила она. — Ведь так поступали древние цари. И тогда ты не увидишь, как они разграбят твой дворец и разобьют твои статуи. Ты сам лишишь себя жизни, и будешь сидеть по правую руку от Юпитера. Ты избавишь себя от всех унижений.
— Верно, — согласился Нерон, на этот раз полушепотом. — Я избавлю себя от всего. Я избавлю себя от всего…
Продолжая бормотать, он заснул. Марцелле еще долго пришлось бы просидеть вот так, с головой императора на коленях, опасаясь даже пошевелиться, если бы не рабы, которые осторожно подняли его и унесли. Пьяный Нерон даже не проснулся. Судя по всему, в отличие от нее, слуги были более привычны к подобным картинам. Марцелла же поплелась домой, ощущая на себе липкий, тошнотворный запах благовоний, дождем пролившихся на нее из отверстий в потолке императорского дворца. Она вернулась к родным, которые не стали смотреть ей в глаза. Через два дня сенат объявил Нерона врагом Рима. Императором провозгласили Гальбу. Нерон бежал и покончил с собой до того, как преторианцы успели его схватить — избавил себя от всего. Говорят, последними его словами были: «Какой артист умирает во мне!».
Он сделал это по моей подсказке, подумала Марцелла. Это было то единственное, что она не стала вставлять в жизнеописание Нерона.
В некотором роде я тоже убийца императора.
(обратно)
Глава 8
Корнелия
Кто-то из рабов уронил возле дверей ее спальни тарелку. Раздался звон осколков и плач.
— Собирай! — прошипел кто-то, явно другой раб. — Быстрее, иначе госпожа шкуру с тебя спустит!
По коридору прошлепали чьи-то шаги. Корнелия настороженно прислушалась, ловя каждый звук, доносившийся из-за двери.
Вскоре она уловила шаги обутых в сандалии ног.
— Ох уж этот дождь! — простонала Туллия где-то в глубине коридора. — И, главное, совсем не вовремя! Нашим гостям придется плыть, чтобы добраться до входной двери.
Они с Гаем устраивали званый ужин, и в доме царил обычный в таких случаях переполох. Впрочем, Корнелию это мало заботило. Она все равно не выйдет из своей комнаты.
Вообще-то она была готова пойти куда угодно, но только не на этот званый ужин.
— Морские ежи и тюрбо, не слишком ли это? Нас потом обвинят в желании пустить пыль в глаза! — вновь раздался визгливый голос Туллии. Это она обращалась к управляющему. — Может, лучше подать жареную свинину? Или, и то, и другое. Да, пусть будет и то, и другое. Гай!..
Корнелия отошла от двери к окну и, раздвинув ставни, выглянула на улицу. С небес обрушивался настоящий ливень. Прохожие шагали, утопая по щиколотку в воде. Зимние дожди начались на прошлой неделе, причем на редкость яростно. Вчера, когда уровень воды в Тибре резко поднялся, неожиданно обрушился мост Силика, самый старый в городе. Корнелия слышала, как рабы шептались об этом происшествии, видя в нем дурное предзнаменование для Отона. Интересно, отменит Туллия званый ужин или нет? Но нет. Туллия, как и следовало ожидать, ужин не отменила.
— Почему? С какой стати? Ведь никто из наших знакомых не живет на той стороне Тибра, где рухнул мост!
Полчаса назад Корнелия видела, как в пелене дождя исчезла ее сестра, — не иначе как, измученная вечными придирками, отправилась выполнять какое-то поручение Туллии, лишь бы только уйти из дома. Сердце Корнелии тревожно сжалось.
Это последний раз, когда я видела мою сестру. Большей ее никогда не увижу. Как жаль, что она даже не смогла попрощаться с Марцеллой… Впрочем, нет. Марцелла все испортила бы, это точно. Будет лучше, если она со всем покончит, пока младшей сестры с ее зоркими глазами не будет рядом. Сейчас все в доме до последнего раба заняты приготовлениями к пиру. Так что в ближайшие часы ни Туллия, ни Гай даже не постучат в ее дверь.
Время настало.
— Зоя! — позвала Корнелия свою рабыню. — Принеси мне черную столу. И заправь постель.
Пожалуй, не мешало бы немного прибраться в комнате, вытереть пыль. Корнелия провела пальцем по пыльному столику рядом с ложем и нахмурилась. Она не станет сводить счеты с жизнью в неубранной комнате.
— Гай, ты позвал на ужин управляющего Отона? — послышался голос Туллии. — Гай, я же еще неделю назад просила тебя пригласить его!
Корнелия достала из-под кровати погребальную урну из черного базальта с останками Пизона, которую она накануне тайком забрала из семейного склепа. В ее последние минуты муж должен быть рядом с ней. Возможно, его улыбающаяся тень уже ждет ее.
Уже совсем скоро, любовь моя, подумала Корнелия, наблюдая за тем, как служанка заправляет постель.
Уже совсем скоро. Что же ей еще остается? Она почти стала императрицей. Она, верная и любящая жена, превратилась в неприметную, никому не нужную вдову. Удар кинжалом в грудь положит конец этой бесконечной боли, этому бессмысленному существованию.
— Туллия, мы можем принять еще одно гостя? — донесся до нее голос ее деверя Луция откуда-то из дальнего конца зала. — Помпоний Олий — очень нужный мне человек.
— Еще одного гостя? И ты сообщаешь мне об этом в самую последнюю минуту?
Почему Марцелла не овдовела вместо меня? Корнелия была уверена, что в отличие от нее самой сестра спокойно отнеслась бы к вдовству. К тому же Луций, этот трутень, даже не потрудился высказать ей соболезнования по поводу смерти Пизона.
Ну почему Луций не погиб вместо моего мужа? Почему я вдова, а не Марцема? Корнелия потерла глаза и, заставив себя улыбнуться, обратилась к служанке.
— Принеси мне вина, Зоя, и можешь идти.
Дождавшись, когда рабыня принесет вино и выйдет из комнаты, Корнелия вытащила из-под подушек спрятанный там кинжал. Не стоит вовлекать слуг в это дело. Они сразу бросятся докладывать о ее намерениях Туллии. И даже если не побегут, в любом случае, когда ее найдут мертвой, их ждет наказание.
Корнелия коснулась пальцем остро заточенного лезвия и на минуту отложила кинжал на столик возле урны. Торопиться не стоит. Не должно быть никакой суеты, никакой спешки; все следует сделать обстоятельно и с достоинством. В конце концов существуют правила, которые нужно соблюдать, если ты готова расстаться с жизнью.
Корнелия облачилась в черную столу и гладко зачесала назад волосы. Никаких украшений, все должно быть
просто и строго. Другая Корнелия когда-то давно прославилась, сказав, что ее сыновья — ее украшения. Хотя у нее самой и нет сыновей, ее имя тоже скоро узнают и назовут верной женой, которая последовала за мужем, ибо честь и скорбь не позволили ей оставаться в живых. Она уже написала на свитке свою последнюю волю — дала указания относительно похорон и попрощалась со своими родственниками. Все правильно. Она всем уделила внимание.
Корнелия подошла к окну, чтобы закрыть ставни, и увидела Диану. Кузина шлепала по глубоким лужам, направляясь к входной двери. Светлые волосы девушки, мокрые от дождя, слиплись мелкими косичками. Эта дикарка Диана не сочла нужным поискать носильщиков и даже не озаботилась провожатым.
Как знать, вдруг мой пример супружеского долга в будущем вдохновит ее на более достойное поведение?
Налив в кубок вина, Корнелия присела на край кровати и положила кинжал себе на колени. Жаль, что у нее не получится расстаться с жизнью под звуки музыки, желательно арфы. Ей всегда нравилось нежное звучание ее певучих струн. Верно, под музыку отправиться на встречу со смертью было бы гораздо легче. Но для арфы нужен арфист. О, великая Юнона, что это за шум доносится снизу?
Неужели мне не найти покоя даже тогда, когда я собралась расстаться жизнью?
— … если они утонут, это преступление будет на твоей совести, Гай! — донесся из коридора возмущенный голос Дианы.
— Диана, моя дорогая, прошу тебя, прояви благоразумие! Я уверен, что у предводителя твоих «красных» есть немало мест, куда можно определить лошадей, если конюшни вдруг окажутся затоплены!..
— Да, на другой стороне Тибра, и добираться туда, после того как обрушился мост Силика, придется вкруговую, а это займет несколько часов! Я же прошу тебя, можно ли, пока идут проливные дожди, всего на несколько дней оставить моих гнедых здесь, у тебя. У моего отца дома просто нет места…
Корнелия закрыла глаза и отпила из кубка. Увы, ее умиротворенное настроение все равно было безнадежно испорчено. Возмущенный голос Дианы способен заглушить звучание нескольких арф.
В коридоре хлопнули мокрым плащом. Вверх по лестнице протопали чьи-то обутые в сандалии ноги.
— Клянусь Юпитером! — прозвучал за дверью голос Луция, в котором слышалось неподдельное восхищение. — Неужели это наша малышка Диана? Мы не виделись с тех пор, когда ей было всего четырнадцать. Она определенно выросла и похорошела…
— О, даже не пытайся расположить ее к себе. Ты был бы ей интересен только в том случае, будь у тебя четыре ноги, — произнес еще один голос. Марцелла. Было слышно, как сестра поднимается по лестнице.
Сердце Корнелии екнуло. Марцелла должна была появиться здесь лишь через час.
О, великая Юнона, помоги мне! Неужели все затянется?
— …в этой семье я девочка на побегушках, — услышала Корнелия недовольный голос сестры. — В такую погоду и раба из дома не выгонишь, мне же приходится выполнять всякие поручения, рискуя простыть и умереть, а тут дело о пятнадцати тысячах денариев. Кого отправим? Ну, конечно, Марцеллу, ведь ее не жалко!..
О, ну почему я не заколола себя без всяких приготовлений? — мысленно вскрикнула Корнелия.
Мертва так мертва!
В дверь неожиданно постучали.
— Корнелия! — раздался голос Марцеллы.
Корнелия бросилась через всю комнаты, чтобы спрятать урну.
— Послушай, Корнелия, я знаю, что ты не спишь. Никто не смог бы уснуть в том шуме, который сейчас стоит в доме. — С этими словами Марцелла распахнула дверь. — Один император в этом году был убит, второй взошел на трон, но ни то ни другое не способно сравниться с той истерикой, которую закатывает Туллия всякий раз, когда принимает гостей!.. — Марцелла не договорила.
Слишком поздно, мелькнула в голове Корнелии мысль. Она попыталась спрятать кинжал за спиной.
Брови сестры приподнялись домиком; глаза цепким взглядом охватили комнату: и черное платье Корнелии, и кубок с вином, и базальтовую урну, которую та не успела спрятать.
— О, боги! — наконец воскликнула Марцелла. — Я догадывалась, что ты готова на что угодно, лишь бы не появляться на званом ужине, который устраивает Туллия, но лишать себя жизни — это уже слишком.
Из зала донесся звонкий хлопок пощечины, плач рабыни, брань управляющего. Внизу Диана продолжала орать на Гая. Корнелия же, сама не зная почему, улыбнулась и убрала из-за спины руку с кинжалом и принялась вертеть его, как игрушку.
— Все дома одинаковы, когда готовятся к званому ужину, разве не так?
— Но этот дом — нечто особенное, — ответила Марцелла.
— Мы с Пизоном любили устраивать званые ужины, — вздохнула Корнелия. На нее тотчас нахлынули воспоминания, и к горлу подкатил комок. — Он всегда спрашивал меня, куда я подевала его праздничную одежду, когда в доме и без того все шло кувырком. Это страшно раздражало его… Но потом, когда все заканчивалось, мы с ним садились в триклинии. И пока рабы убирали со стола, мы пили вино и смеялись над тем, что говорили за ужином гости. — Увы, улыбка слетела с лица Корнелии, и она расплакалась. — Теперь же я не могу вспомнить, как он улыбался.
— Успокойся. — Марцелла подошла к сестре и, обернувшись, позвала служанку.
— Оставь меня, Марцелла! — произнесла Корнелия и снова прикоснулась к острому лезвию. — Я хочу уйти к своему мужу.
— Нет, этого не будет, — возразила Марцелла. — Мне право жаль, я не хотела мешать такой прекрасной сцене. Действительно, ты все замечательно обставила, как будто это историческая пьеса, а ты в ней императрица. Но я бы посоветовала тебе обратиться к здравому смыслу.
— Марцелла, я все уже твердо решила, так что не мешай мне. Постой, что ты делаешь?
— Возвращаю тебя в чувство, вот я что я делаю. Прошу тебя, верни эту штуку в семейный склеп.
Марцелла сунула урну в дрожащие руки перепуганной служанки.
— Ты не можешь остановить меня! — крикнула Корнелия.
— Могу, — ответила сестра и выхватила у Корнелии кинжал прежде, чем та успела бы вонзить его себе в сердце. — Ты сошла с ума. Что это? Еще одна погребальная урна? Ты заказала ее для себя? — Марцелла посмотрела на выгравированную надпись и прочитала вслух. —
Вместе в смерти. Корнелия, это отвратительно. Интересно, возьмет ее обратно гравер? Во всяком случае, можно попытаться вернуть.
Корнелия неожиданно ощутила себя маленькой глупой девчонкой, сидящей на кровати в черном платье. У нее было такое чувство, будто это она стала младшей сестрой, а Марцелла вдруг сделалась старше и мудрее.
— Ты ничего не понимаешь. Я хочу лишь снова быть вместе с моим мужем.
— Но Пизон хотел, чтобы ты осталась жива, — ответила Марцелла. — Вспомни, он ведь сам подтолкнул тебя вперед, чтобы ты могла спастись бегством. Почему же ты противишься его последнему желанию?
— Я не хочу жить, — призналась Корнелия. — Я хочу к нему.
— Подумай лучше о том бедном центурионе, который тебя спас. Неужели он напрасно жертвовал собой ради тебя?
— Какое мне до него дело!
Марцелла пристально посмотрела на сестру.
— Пойдем со мной!
— Я никуда не пойду! — Корнелия откинулась на кровать, но Марцелла решительно потянула ее за руку.
— Куда? Что мне там делать?
— Хороший вопрос. Предлагаю навестить Лоллию, но ведь ты с ней не разговариваешь. В любом случае, она послала мне записку о том, что ушла к деду, чтобы накормить беженцев из затопленных кварталов. Скорее всего, это означает, что сегодня ночью она окажется в одной постели со своим красавцем галлом. Ты способна себе представить, чтобы Лоллия просто так шлепала бы сандалиями по грязным лужам?
С этими словами Марцелла потянулась за плащом.
— Кстати, на какие жертвы я вынуждена идти ради вас! Я весь день пытаюсь начать жизнеописание Вителлия, нового императора северных земель. Ты что-нибудь слышала о нем? Из-за того, что мне приходится вечно быть на посылках у Туллии и отговаривать тебя от рокового поступка, я написала едва ли десяток слов. Точнее, всего шесть.
— Опять твои исторические хроники?! — вскричала Корнелия, когда сестра принялась надевать на нее плащ. — Моя жизнь кончена, а ты продолжаешь трещать о жалкой мерзкой истории?
— История — это все, что у меня есть, Корнелия. Это моя единственная отрада. Ты вот хотя бы безутешная вдова, у тебя есть твое горе. Я же всего лишь твоя никому не нужная сестра, которая вынуждена быть в семье девочкой на побегушках. В том числе и у тебя. Хотя мне это неприятно, но я не желаю уйти, а вернувшись, застать тебя мертвой. Пошли!
С этими словами Марцелла потянула Корнелию за собой, и они зашагали вниз по лестнице, где стали свидетелями разгорающейся ссоры.
Диана, вне себя от возмущения, стояла, гордо расправив плечи, перед распекавшей ее Туллией.
— Что за слова? Тебе стоит прополоскать после них рот!
Диана с вызовом вскинула подбородок.
— Отец выражается еще крепче, когда у него ломается деревянный молоток.
— Мне наплевать, как выражается твой отец, но ты обязана вести себя в моем доме так, как приличествует воспитанной и благонравной юной особе.
— Тогда я не останусь на ваш ужин! — пожала плечами Диана и направилась в атрий.
— Стыдись!
— Диана, постой! — вмешалась в разговор Марцелла. — Мы идем с тобой.
— Как ты смеешь уходить от меня, нахальная сучка?! — взвизгнула в спину Диане Туллия.
— Я не ухожу, Туллия, — бросила та через плечо. — Я убегаю. Причем как можно быстрее.
— Ты не против, если мы убежим вместе с тобой? — спросила у нее Марцелла, увлекая за собой Корнелию. В открытую крышу атрия падал дождь. — Корнелии нужен укромный уголок, где ей никто бы не мешал. Она собралась наложить на себя руки.
— Я сделаю то же самое, если останусь в этом доме еще хотя бы минуту.
— Куда ты? — бросила им вслед Туллия. — Мой ужин!
— Мне ничего не нужно, — возразила Корнелия и неожиданно расплакалась, чувствуя, как горячие слезы на ее лице смешиваются с холодными каплями дождя. — Ну, зачем ты вернулась домой так рано?
Зачем?
— …наконец что-то сделала, — продолжала Марцелла, не обращая внимания на слова сестры. — Меньше десятка слов. Всего
шесть.
— Что за суета? — поинтересовался проходивший мимо них Луций, лениво глядя на струи нескончаемого дождя. — Марцелла, может, ты напомнишь рабам о моих тогах? Мне не нравится, как они их накрахмалили.
Марцелла посмотрела мужу прямо в глаза.
— Луций, — ровным тоном произнесла она, не обращая внимания ни на кого: ни на слезы Корнелии, ни на нетерпеливо топавшую ногой Диану, ни на пылавшую гневом на другом конце атрия Туллию. — Ты недавно недвусмысленно дал мне понять, что никогда не сделаешь меня хозяйкой своего дома. Так что считай, что я здесь всего лишь гостья, так же, как и ты. Если тебе не нравится, как выглядит твоя одежда, будь добр, скажи об этом рабам сам.
Сказав это, она вытащила Корнелию под дождь.
Лоллия
— О, боги, только не эти одеяла! Они же все дырявые! — воскликнула Лоллия, сморщив нос. — У нас осталось еще что-нибудь в кладовой?
— Все раздали еще вчера, госпожа.
— Тогда берите попоны. Если они чистые и теплые, люди им будут рады, даже несмотря на запах лошадиного пота, — сказала Лоллия и повернулась к повару и рабам. Те послушно ходили за ней по пятам, как выводок утят за уткой, а возле ее ног крутилась беззаботная кудрявая Флавия. Взрослые, напротив, были мрачны.
— Госпожа, — обратился к Лоллии повар, когда хозяйка решила озаботиться вопросами кухни. Обычно он занимался сладкой выпечкой. — Это ниже моих способностей. Я пек печенье и булочки для императоров и царей, теперь же меня заставляют печь простые лепешки для плебеев.
— От печенья и пирожков мало пользы в дни наводнения, — ответила Лоллия и выглянула в щель между ставнями во двор. Как обычно, перед домом выстроилась длинная очередь; головы людей опущены под тугими струями дождя. — О, небо, неужели этому никогда не будет конца?!
— Но, госпожа!..
— Оппий, я знаю, ты в жизни не видел ничего более ужасного, чем ячменная мука, но это неотложная необходимость. Ты оказываешь огромную услугу нашим жильцам, и я не оставлю тебя за это без награды. — С этими словами Лоллия похлопала пекаря по испачканному мукой плечу. — Лепешки, прошу тебя, напеки их как можно больше.
Она на минуту отвернулась от Оппия и, подхватив Флавию на руки, посадила дочь на ближайший стол со стоящей на нем большой миской муки, а сама вернулась к прежнему разговору. С одной стороны от нее переминались с ногу на ногу повар и управляющий, с другой застыл верный Тракс.
— Будет лучше, если мы откроем ворота. Сегодня очередь, кажется, даже длиннее, чем вчера.
Похоже, что этому ужасу не будет конца! Дожди в этом году пошли гораздо позже обычного, и Тибр стремительно вышел из берегов. Мост Силика обрушился. Целые кварталы жилых домов в бедной части города обрушились в воду грудами камня. Затопило несколько городских зернохранилищ, и хранившееся в них зерно было безнадежно испорчено. Лавки закрылись, и их хозяева спешно перебрались в места повыше, куда еще не добралась вода. Роскошный дом, который Лоллия занимала вместе со своим новым мужем Сальвием, еще не затопило, но потоп уже подобрался к самому порогу. Это обстоятельство вынудило ее взять с собой дочь и перебраться в огромный дом деда, прилепившийся к высокому склону Палатинского холма. Кстати, его владельцу наводнение также принесло немало бед. Два принадлежащих деду доходных дома было разрушено, четыре лавки пришлось закрыть.
— Не толкайтесь! Проявляйте терпение, вам всем помогут, так что соблюдайте очередь!
Во двор дома хлынула толпа. Всего десять дней назад здесь цвели зимние лилии и ярко зеленел ранний весенний мох, сегодня же по нему текли бурные грязевые потоки. Рабы послушно выполняли распоряжения Лоллии, зорко следя за тем, чтобы очередь, получая одеяла, лепешки и миски с ячменной похлебкой, вела себя спокойно.
— Госпожа, — пожаловался управляющий, — некоторые из этих людей — плебеи из других кварталов города. Мы же не обязаны кормить жильцов чужих домов! Нам бы своих накормить!
— Накорми их всех, Элий. Мы можем себе это позволить.
Рабы, плебеи, жильцы доходных домов — все они тянули к ней замерзшие, дрожащие руки, и Лоллия раздавала им деньги, сопровождая раздачу ободряющими словами. Она знала, что делать, что бы ни говорили кузины, всегда считавшие ее белоручкой.
Они способны лишь чесать языками. Да, я обожаю удовольствия, но только в хорошие времена. Когда же наступают времена плохие, я без всяких разговоров закатываю рукава и занимаюсь нужным делом. Дед всегда учил ее поступать так. Когда-то он сам был рабом, а рабы никогда не забывают своего горького прошлого.
— Тут хватит для всех, — успокоила Лоллия очередного просителя. — Да, ты можешь взять еще одно одеяло. Послушай, женщина, тебе в твоем положении нельзя находиться под дождем. Когда тебе рожать? Ступай на кухню и согрейся у огня, прежде чем отправиться домой. Все верно, мой дед отложил для вас плату за жилье до тех пор, пока не прекратится наводнение. Можешь открывать свою пекарню, когда пожелаешь, мы подождем с оплатой долга. А вам советую поговорить с управляющим о починке крыши. Как только вода схлынет, ее непременно починят…
— Госпожа, — нежно прикоснулся к ее руке Тракс. — Тебе нельзя здесь оставаться. Ты простудишься и заболеешь.
— Не смеши меня, — ответила Лоллия, передавая одеяло женщине с двумя детьми, цеплявшимися за ее подол. — Это моя работа.
— Этим мог бы заняться сам управляющий.
— Но он прикарманит деньги, а зерно продаст.
— Не бойся, я присмотрю за ним, — произнес Тракс. Он уже застукал одного их конюхов. Тот устроил в конюшне настоящий склад одеял, чтобы затем продавать их несчастным бездомным. Схватив негодяя за шиворот, Тракс тогда приподнял ее и несколько раз стукнул о стреху крыши, после чего выбросил в канаву с нечистотами.
Я поступаю, как человек действия!
Тракс весь день не отходил от Лоллии: подносил мешки с монетами, когда она раздавала беднякам деньги, ругался с мясником, который чересчур громко жаловался на разрушенную крышу своей лавки. Когда же Флавия убежала от няньки, он тотчас заметил это и догнал девочку во дворе. Именно Тракс увидел ее первым и, поймав, посадил себе на плечи прежде, чем маленькая проказница успела перепачкаться в грязи. Впрочем, ради удовольствия Флавии он даже немного пробежался с ней под дождем, и малышка радостно ловила ладонями холодные капли. Вернувшись под крышу дома, он заботливо вернул девочку рабыне. Разве это не чудо, подумала Лоллия, его волосы остаются ярко-золотыми и на солнце, и под дождем. И как же он красив, когда кожа его блестит крупными каплями влаги!
— Лепешки кончились, госпожа, — объявил управляющий.
— Тогда закрывай ворота до завтра.
Служанки раздали последние одеяла. Лоллия распределила между страждущими последние медяки и велела дать продрогшим за день людям еще по миске горячей похлебки. Тракс вместе с конюхами вывели остальных жильцов за ворота. Кто-то попытался протестовать, но Лоллия заранее велела слугам вооружиться массивными дубинками, так что никаких беспорядков не последовало. Не один дом в затопленном городе был захвачен толпами отчаявшегося плебса, — чему удивляться, ведь тысячи людей остались без крыши над головой! И таких домов наверняка будет больше, но ничего подобного не случится с домом, который принадлежит ей, Лоллии.
— Вот ты где, моя дорогая, — раздался рядом с ней знакомый голос. Это дед вошел из атрия, стряхивая дождевые капли с плаща. — Все в порядке?
— Все в порядке.
— Ах ты моя Жемчужина, — потрепал ее по щеке старик. — Я договорился о доставке еще одной повозки с зерном. Ее привезут завтра. Ты займешься ею?
— Ты еще спрашиваешь! — ответила Лоллия и чихнула. — Есть в городе еще обрушенные дома?
— Нет, но купленный мною дом на склоне Пинция срочно нуждается в ремонте — ужасно протекает крыша. Работники под моим присмотром займутся им завтра. — Старик погладил внучку по мокрым волосам и нахмурился. — Тебе надо немедленно обсушиться и согреться. Я не хочу, чтобы ты заболела. Тракс, будь добр, отнеси ее в постель.
— Слушаюсь, господин. — Трак накинул на плечи Лоллии последнее оставшееся одеяло. Та снова поцеловала деда в щеку и зашагала по лестнице наверх в свою роскошную, обставленную в розовых тонах спальню, в которой она спала всякий раз, когда бывала у деда в гостях — иными словами, в промежутках между замужествами. Половина светильников в зале не была зажжена, и в полумраке пустые взоры статуй были устремлены куда-то в пространство. Казалось, будто проливные дожди повергли в уныние и их тоже. В спальне сильно пахло плесенью, розовые шторы как будто выцвели. Ставни на окнах были плотно закрыты.
— Готова спорить, что все мои платья заплесневели, — предположила Лоллия и снова чихнула.
— Я же говорил тебе, госпожа, чтобы ты не выходила на дождь, — укорил ее Тракс, растирая ей тело грубошерстным одеялом. — Подними руки.
Лоллия даже замурлыкала от удовольствия, когда Тракс как ребенка раздел ее и натер подогретым маслом, после чего, укутав в платье из плотной ткани, принялся гребнем расчесывать ей волосы. Лоллия при этом чихала, не переставая.
— Мне нельзя здесь оставаться, — сказал Тракс и, вытерев ей нос, положил в постель. — Я тоже могу заболеть.
Тем не менее он никуда не ушел, а лег рядом с ней и обнял, прижимая ее к своему большому и сильному телу. Вскоре по телу Лоллии разлилось приятное тепло.
— Ты — бог, — прошептала она, прижимаясь лицом к его груди.
— Спасибо, госпожа.
— Я просила тебя не называть меня госпожой хотя бы тогда, когда ты рядом со мной. Это просто нелепо.
— Да, госпожа, — улыбнулся Тракс. Не отрывая лица от его груди, Лоллия тоже улыбнулась. Как все-таки приятно расслабиться! Такой умиротворенности она еще ни разу не чувствовала с того самого дня, как Отон облачился в пурпурную тогу императора. Дело было не в ее новом муже — внешне Сальвий был хорош собой и вполне покладист, но он не внес в ее жизнь ничего нового. Утром они в согласном молчании жевали за завтраком фиги; вечером, взяв мужа под руку, Лоллия покорно отправлялась вместе с ним на званые ужины в императорский дворец, однако между завтраками и ужинами не происходило ничего примечательного. Ей было известно, что у Сальвия есть любовница, темпераментная молодая актриса, для которой он снимал просторные комнаты на Гранатовой улице. Эта особа занимала слишком много его времени и мыслей, чтобы он мог уделить больше внимание законной супруге. После свадьбы новый муж делил с Лоллией брачное ложе лишь два или три раза. Нет, беспокоил Лоллию не Сальвий. Ее тревожили дурные
предзнаменования. Обычно она старалась спокойно воспринимать приметы, однако события последних недель вселяли в нее тревогу. Отон вел разговор о предстоящем походе на север, чтобы сразиться с Вителлием. Тибр вышел из берегов. Небеса как будто обезумели.
— Мне кажется, Рим, как женщина, не хочет потерять своего императора, — сказала Лоллия, задумчиво водя пальцем по груди Тракса.
— Ты делаешь Рим мудрой женщиной, — заметил тот.
— Может, и так. Император — ее муж и она хочет, чтобы он остался дома.
— Пожалуй да, она была бы не против, — улыбнулся Тракс. — Ты права, госпожа.
— Верно, — ответила Лоллия и потянулась, чтобы поцеловать его. Каждый раз при виде Тракса Сальвий бросал на него косые взгляды, но в целом вслух не проявлял недовольства. До тех пор пока Лоллия применяет свои египетские штучки, предохраняющие от беременности, и ее живот не начинает подозрительно расти с каждым месяцем, Сальвий мог быть спокоен.
В конце концов если у меня есть любовник в доме, мне нет нужды позорить его, бегая по городу в поисках мужских ласк.
— И все-таки ты не станешь отрицать, что это дурные предзнаменования. Это чувствуют все. Город сейчас живет в постоянном напряжении. Не говоря уже о сырости. А еще как назло все эти голодные, бездомные, раздавленные развалинами домов.
— Тише! — произнес Тракс, прижимаясь лицом к ее животу.
Лоллия хихикнула и запустила пальцы в его волосы. Тракс принялся ласкать ей грудь.
Какое мне дело до того, что в Риме полно дурных предзнаменований? — подумала она. —
Я здесь. Я в безопасности.
(обратно)
Глава 9
Марцелла
— Моя славная Корнелия! — приветствовал их император Отон и крепко пожал обеим руки. — Мои славные девушки, как я рад видеть вас! — Подняв кубок с вином, он провозгласил тост. — За войну!
— Не понимаю, зачем нужно пить за войну, — заметила Марцелла. — Ведь это всего лишь необходимое зло.
— Главное слово из произнесенных тобою — «необходимое», — улыбнулся Отон. — Для меня стало неотложной необходимостью отправиться на север, чтобы раз и навсегда разделяться с этим обжорой Вителлием. Поднимите за это кубки вместе со мной. За войну!
— За войну! — эхом отозвались собравшиеся. Внимательная Марцелла решила, что не готовность армии Отона выступить в поход стала поводом для празднеств, а тот факт, что над Римом снова светило солнце. Уровень воды в Тибре наконец начал спадать. Жизнь в городе оживилась. Открылись лавки. Именно по этой причине Отон приказал устроить бои между гладиаторами из Галлии и Британии и травлю диких зверей на арене цирка, а затем пир в Золотом дворце. Императором руководило стремление отблагодарить небеса за благосклонность и выпить за неизбежное падение Вителлия.
Если бы этого пьяницу и обжору, сеющего смуту на севере, можно было убить празднествами здесь, в Риме, он уже давно был бы мертв.
— Нам всем непременно нужно быть во дворце, — нервно заявил Гай. Поглядывая на Корнелию, когда стало известно о грядущих праздниках. — Нам всем, и на это раз ты не посмеешь ослушаться воли императора…
— Я приду, — неожиданно произнесла Корнелия. Как успела заметить Марцелла, неудавшаяся попытка покончить с собой каким-то образом повлияла на сестру. Корнелия тихо проплакала весь день, позируя дяде Парису, который делал ее портрет.
— Ты можешь сделать из меня музу трагедии, — вздохнула она.
— Нет, нет, — покачал головой скульптор. — Музе трагедии следует быть нежной, с затуманенным слезами взором, а не хлюпающей носом и с опухшими глазами. Улыбнись мне, могу я тебя об этом попросить? У тебя превосходные ямочки на щеках. Они в одно мгновение позволят сделать из тебя музу комедии.
— Я рада, что хотя бы кто-то находит это смешным, — раздраженно бросила Корнелия, когда Марцелла рассмеялась. Что ж, очередное свидетельство тому, что ей уже гораздо лучше. Корнелия по-прежнему ела очень мало, но по крайней мере теперь она хотя бы время от времени сидела за прялкой или устраивалась где-нибудь в атрии с кубком подогретого вина и сухими глазами.
— Хорошо, я пойду на игры Отона, — заявила она, чем заставила Гая расплыться в довольной улыбке. — Но я все равно оденусь в черное. Я согласна есть угощения этого убийцы-узурпатора, но траур не сниму ни за что.
Лоллия включилась в разговор раньше, чем кто-то успел оскорбиться.
— Прекрасная мысль, — беспечно прощебетала она. — Мы заявим о себе своим видом. Мы нарядимся в черное, белое и серое. Убьем их всех наповал!
В тот день Лоллия превзошла самое себя. Император Отон поднял кубок в приветственном жесте, отдавая дань живописной картине, когда все четверо вошли в его ложу над гладиаторской ареной. Корнелия — в узком платье из черного шелка, руки от запястий и почти до самых плеч унизаны браслетами эбенового дерева с золотой инкрустацией. Сама Лоллия в диадеме из черного жемчуга, выигрышно оттенявшей платье из серебристой ткани, складки которой ловили каждый солнечный луч. Диана — в просторном воздушном белом платье, трепетавшем при каждом дуновении ветра; волосы короной уложены на макушке и скреплены золотыми заколками.
— Не понимаю, что заставляет тебя одеваться так просто, — укорила Лоллия Марцеллу, глядя на ее жемчужно-серую столу, расшитую по подолу серебряной нитью. — Неужели у тебя не нашлось ожерелья или сережек?
— Думаешь, после Луция с его нескончаемыми дорожными расходами у меня могли остаться какие-то драгоценности?
— Пустяки, я могу дать тебе что-нибудь из моих украшений. Вот, смотри, это лунный камень.
— Я не хочу одалживать у тебя браслеты, Лоллия. — Действительно, это напоминало их детство, когда Лоллия беспрестанно хвасталась перед кузинами новыми платьями, жемчужными ожерельями, щенками и пони. И хотя натура Лоллии отличалась щедростью, все равно она оставалась той, у кого было
все.
— Мой любимый квартет Корнелий, — расплылся в улыбке Отон, ставя в сторону пустой кубок, после того как они подняли тост за войну. — Малышка Диана, обещаю тебе на этой неделе скачки. А еще я устрою пир для твоих «красных», и это при том, что император не имеет права отдавать предпочтение ни одной из фракций.
— Это почему же? — возразила Диана. — Известно, что император Калигула был большим поклонником «зеленых».
— А ты вспомни, малышка, чем закончил император Калигула, — ответил Отон, приподнимая ей подбородок, что отнюдь не доставило ей удовольствия. Затем его взгляд упал на Корнелию. — О, Корнелия Прима! Рад видеть тебя, дорогая.
При разговоре с вдовой своего бывшего соперника, к тому же облаченной в траур, глаза императора как-то странно блеснули, и по спине Марцеллы пробежал неприятный холодок. Страх.
— Тебе давно пора появиться в свете!
По всей видимости, взгляд Отона напугал и Корнелию. Было видно, что ей стоило немалых усилий ответить ему даже коротким кивком.
Сестры пропустили начало церемонии — молитвы жрецов, выход стражников в красно-золотых доспехах, жертвоприношение белого быка, которого провели вокруг арены под смех танцующих на его спине мальчишек. Затем по арене, выкрикивая приветствия императору, прошли гладиаторы — все как один с серьезными, строгими лицами. Половина из них сегодня умрет, если, разумеется, зрители не проявят милосердия. Не прерывая разговора с десятком собеседников, Отон ответил им небрежным взмахом руки.
Диану тотчас окружила кучка поклонников; Корнелия же уселась подальше от перил ложи и обиженно поджала губы. Марцелла знала, что сестра не одобряет игр, но их не любил никто из них четверых. Диана терпеть не могла, когда убивают животных. Лоллия, в чьих жилах текла кровь раба, всегда сочувствовала пленникам, вынужденным убивать друг друга на арене на потеху публике. Корнелия считала цирковые забавы дурным вкусом. Марцелла не видела в подобных зрелищах никакого смысла.
Как это низко и неблагородно со стороны властителей, вынуждать и без того несчастных людей убивать друг друга на потеху грубой кровожадной толпе. Настоящая власть — это нечто много большее, грандиозное и великодушное. Тем не менее плебеи тысячами заполняли цирк и кричали гладиаторам, как будто те были боги, хотя потом умирали, как собаки.
Марцелла села рядом с Дианой, так как здесь плотная стена поклонников любительницы скачек закрывала собой арену. Лоллия развлекалась по-своему, потягивала вино и улыбалась шуткам императора. В последнее время она выглядела печальной и, как только разговор заходил о судьбе Рима, то и дело упоминала дурные предзнаменования.
— Рим подобен женщине, — однажды заявила она. — Так сказал Тракс, и я думаю, что он прав. Империя — женщина, император — ее муж. Женщина не хочет, чтобы муж от нее ушел.
А, может, Рим хочет нового мужа, подумала Марцелла, глядя на Луция, который смеясь о чем-то разговаривал с полководцами Отона.
Лично я точно не отказалась бы от нового. Этим утром она вновь завела разговор с Луцием, и как обычно из этого ничего не вышло.
— Значит, ты не хочешь обзаводиться собственным домом, но мне все равно нужны свои деньги.
— Зачем? — удивленно уставился на нее муж. — Тебя кормит твой брат. Что тебе еще нужно?
— Что еще? Ты считаешь, что я могу постоянно приходить к Туллии с протянутой рукой, выклянчивая у нее денег на посещение бань, театра или на покупку новых свитков и чернил?
— Обращайся в таких случаях к Лоллии, и она купит тебе все, что угодно, — отмахнулся от нее Луций.
— Может, мне найти себе любовника, чтобы он оплачивал мои счета? — разозлилась Марцелла.
— Как тебе будет угодно. Уверен, что ты сможешь кого-нибудь заинтересовать на неделю-другую, — зевнул Луций и собрался уйти. Марцелла бросилась вслед за ним.
— Как ты смеешь вот так бросить меня?! — крикнула она ему в спину, но Луций уже скрылся в другой комнате. Марцелла увидела свое изображение в зеркале: и без того розовые щеки раскраснелись от гнева, глаза сверкали, высоко вздымалась роскошная грудь.
Может, я и не красавица, но есть немало мужчин, которые считают меня красивой, подумала она, отступая от двери, которая захлопнулась у нее перед носом.
Я заслуживаю много лучшего, чем он!
— Госпожа Марцелла, — раздался у нее за спиной чей-то голос. Марцелла обернулась и увидела сенатора Марка Норбана. Тот стоял в толпе шумных гостей, явно ощущая себя не в своей тарелке. Марцелла радостно и искренне улыбнулась ему.
— Присоединяйся к компании тех, кто терпеть не может игры, — предложила она. Сенатор Марк Норбан происходил из рода, давшего Риму Божественного Августа. Несмотря на юный для такого звания возраст, он уже успел трижды побывать консулом, а ведь ему всего тридцать три! Да, он определенно достойнее и умнее жалкого Луция. Может, ее муж и на короткой ноге с политиками, зато в обществе ученых мужей он смотрится самым настоящим ничтожеством.
— Как поживает твой сын, Марк?
— Он здоров по крайней мере сейчас, в данный момент.
— Сейчас? Но он же не болен?
— Надеюсь, что нет. Можно позвать к больному лекаря, но нет такого снадобья, которое вылечило бы Норбана от недостатков его характера, — понизив голос, ответил Марк. — Моему отцу посоветовали свести счеты с жизнью.
— Что? — на мгновение отвлеклась от собственных горьких мыслей Марцелла. — Кто посоветовал?
— А как ты думаешь?
Взгляд Марцеллы скользнул по Отону, который громко смеялся чему-то, откинув назад голову.
— Зачем?
Марк пожал плечами.
— Разве это не разумно, отрезать лишний побег от родового древа наследников бога, прежде чем у них созреют крамольные мысли.
— Неужели твой отец?..
— Да именно. Норбаны всегда точны. Вплоть до самого конца.
— Прости. — Никто в Риме не считал, что Отон лучше Гальбы. Марцелла оставила эту мысль в тайниках памяти, чтобы вернуться к ней позднее для более обстоятельных размышлений. В следующее мгновение трубачи возвестили о начале травли диких зверей, и на трибуны в изобилии полетели лепестки роз. — Тебе не следовало приходить сюда сегодня, Марк. Особенно при таких обстоятельствах…
— Но мое присутствие здесь
обязательно. Как же мне еще проявить свою лояльность? У меня есть сын, я не должен о нем забывать. — В глазах Марка на мгновение промелькнула печаль. Ему всего тридцать три, но выглядит он гораздо старше своих лет. — Показать на публике свое горе — значит обесчестить себя.
Марцелла почувствовала, что восхищается Марком еще сильнее.
Пожалуй, любовная связь отвлечет его от тяжелых мыслей. И она прикоснулась к его руке.
— Позволь мне проведать тебя дома, Марк, — сказала она и легонько сжала перепачканные чернилами пальцы. — Может быть, завтра вечером?
— Боюсь, что сейчас я не гожусь для общения, — ответил сенатор и, убрав руку, поклонился. — Прости меня, Марцелла. Поскольку я уже приветствовал императора и засвидетельствовал ему свое почтение, полагаю, мне можно удалиться. Сегодня у меня нет настроения присутствовать на играх.
С этими словами он вышел из императорской ложи, Марцелла проводила его взглядом. Что ж, его можно понять. В конце концов сейчас он подавлен. Хочется надеяться, что позднее он будет рад, если найдется плечо, на которое можно будет опереться.
Вскоре вновь прозвучали фанфары.
Как долго это еще будет продолжаться? Марцелле загораживал вид какой-то высокий мужчина, который стоял рядом с Дианой. Да, у этой дикарки нет отбоя от поклонников. Они готовы ползать у ее ног, стоит лишь поманить их пальцем.
— … не знаю, что объездчик лошадей делает в императорской ложе, — честно призналась Диана.
— Почему бы ему не быть здесь?
Низкий голос мужчины показался Марцелле знакомым, и она присмотрелась внимательнее. Высокий, лет тридцати пяти-сорока. Широкоплечий, длинные темно-серые волосы. И, самое главное, одет в штаны.
— Твой новый поклонник, Диана? — полюбопытствовала Марцелла.
— Что? Ах, нет, — сделала небрежный жест ее кузина в сторону мужчины в штанах. — Это Ллин. Ллин ап Карадок.
— Ты не шутишь? — рассмеялась Марцелла.
— Что? — не поняла Диана. — Он разводит лошадей.
Мужчина с седыми прядями пригубил кубок. Обычное пиво вместо вина, отметила про себя Марцелла. Не ускользнул от нее и шрам на шее, который мог быть оставлен наконечником стрелы, и массивный бронзовый ошейник.
— Ллин ап Карадок… ты хочешь сказать, Каратак?
Каратак?
— Так звали моего отца, — пожал плечами мужчина. Внизу на арену выпустили дрессированного леопарда. Травля начиналась.
— Я помню, что когда-то мне случалось видеть в городе твоего отца, — сообщила Марцелла. Это было время, когда каждая римская матрона считала честью пригласить за пиршественный стол величайшего врага империи, человека, который объединил племена Британии и почти десятилетие вел с Римом войны, но в конечном итоге был взят в плен. Его торжественно провели по улицам Рима в цепях. За воинскую доблесть Каратак получил от императора прощение и удостоился разрешения жить в роскоши в Риме вместе со своими уцелевшими родственниками. За это у него потребовали дать клятву, что он больше никогда не станет предпринимать попыток к бегству. — Жаль, что мне не представилась возможность лично пообщаться с ним.
— Он умер в прошлом году, госпожа.
— Я где-то об этом слышала. Прими мои соболезнования, Ллин, тебя ведь так зовут?
— Да, именно так.
Он пристально посмотрел на нее. Взгляд у него был такой же пронзительный, что и у отца, который Марцелла хорошо помнила. И такие же спокойные и величавые, словно высеченные из камня, черты и плавные, бесшумные движения.
На лице Дианы по-прежнему читалось недоумение. Марцелла наклонилась к ней и что-то шепотом поведала ей на ухо. Диана выслушала и, склонив голову набок, и спросила:
— Ты тоже был мятежником?
— Большинство людей называют это так. Во всяком случае, убивать римлян я начал еще в твоем возрасте.
Диана улыбнулась. На арену выпустили зайцев, и они тотчас разбежались во все стороны. Леопард ловил их одного за другим и приносил живыми и невредимыми дрессировщику.
— Знаешь, когда мы познакомились, мне твое имя почему-то показалось знакомым. В детстве няня пугала меня Каратаком, говорила, что он съест меня живьем, если я буду баловаться.
— Верно, он на многих наводил страх.
Марцелла ощутила дрожь в кончиках пальцев. В вышедшем из-под ее пера жизнеописании императора Клавдия имелось несколько строк, посвященных мятежам в Британии, но все эти факты она отыскала в других книгах. Вот если бы ей удалось получить сведения от непосредственного участника тех событий!.. Сын великого Каратака наверняка был свидетелем мятежей, сотрясавших в те годы землю Британии. Возможно, он даже сам принимал участие в сражениях с римлянами.
— Как интересно встретить живую легенду, — улыбнулась Марцелла. — Меня зовут…
— Легенда — это мой отец, — возразил Ллин. — Я лишь развожу лошадей.
— Да-да, он разводит очень хороших лошадей, — встряла в их разговор Диана.
Ллин рассмеялся. Претор, стоявший рядом с Дианой, крепко схватил ее за руку.
— Пойдем, сделаем для меня ставку, достопочтенная Диана. В следующем заезде ты принесешь мне удачу.
Да-да, ступайте, подумала Марцелла, когда прирученный леопард поймал очередного зайца.
Посмотрим, удастся ли мне разговорить этого угрюмого бритта. Новый источник важных сведений — это куда увлекательнее, нежели новая любовная интрижка. Однако Диана высвободила руку и, обернувшись, посмотрела на Ллина.
— У меня такой вопрос, — произнесла Марцелла. — Почему ты по-прежнему здесь? Лично мне вряд ли было приятно общаться с римскими императорами. Став старше, я попыталась бы отплатить им за все.
— Я не имею ничего против римских императоров в Риме, госпожа, — ответил бритт. — Я не люблю римских императоров на земле Альбиона.
— Альбион, что это?
Ллин пожал плечами.
— Так мы называем мою родную Британию. А здесь я потому, что меня считают диковинкой. Нет, конечно, я не столь ценная диковинка, нежели мой отец, когда требуется потрясти воображение гостей. Зато я единственный, кто остался в живых из нашей семьи, а император Отон обожает всякие диковинки.
— Вот и обо мне император говорит то же самое, — сочла нужным вставить слово в их разговор Диана. Теперь на арену выпустили стайку газелей, которые в ужасе принялись бегать по кругу. Один за другим с громким рыком на арену из люка выскочили четыре льва.
— Сколько лет ты живешь в Риме? — поинтересовалась Марцелла, не зная, как именно обращаться к бывшему мятежнику без родового имени или звания. Поэтому она ограничилась дружелюбной улыбкой.
— Восемнадцать, — ответил ее собеседник и повернулся к Диане. — Как поживают твои Четыре Ветра, госпожа? Те самые гнедые лошадки, которых я продал фракции «красных»?
— Недавно они победили. Ты слышал об этом?
— Нет. Я не хожу на скачки.
Газели в панике метались по арене, одна за другой становясь жертвами львов.
— Состязания были просто дух захватывающими! Этим подлые «синие» заработали немало денег, но мои гнедые лошадки обогнали и «зеленых», и «белых». «Белые» начали догонять нас, но…
— Ему это не интересно, Диана, — перебила кузину Марцелла. Увы, было слишком поздно. Блюдо с фруктами Диана уже превратила в уменьшенную копию цирковой арены, спелые клубничины превратились в «красных», нарезанный кубиками сыр в «белых», а гроздь винограда — в «зеленых». Бритт не слишком внимательно слушал ее болтовню, однако Марцелла заметила в его темных глазах насмешливый огонек. Да, Диана нередко кажется по-детски забавной. И все же будет лучше, если я спасу его.
— Значит, это ты продал тех гнедых «красным»? — улыбнулась Марцелла. — Боюсь, ты еще пожалеешь об этом, теперь у нее не будет других тем для разговора.
— …и в последнем забеге обогнали… — продолжала Диана.
— Я не имею ничего против разговоров о лошадях, — ответил Ллин. — Что еще может предложить женщине старый дикарь вроде меня?
— Знаешь, я историк-любитель, — поспешила взять быка за рога Марцелла. — Меня всегда интересовала историческая истина. Признаюсь тебе, я бы хотела услышать от тебя о мятеже, поднятом твоим отцом. Я смогла бы написать о нем правду, если бы узнала от тебя подробности тех событий.
— … и теперь «красные» — фавориты ксриалийских скачек. Мы непременно победим «синих». — С этими словами Диана отправила в рот кубик сыра, исполнявший роль «белых», и улыбнулась Ллину.
Последняя газель попала в пасть львице, которая тотчас принялась раздирать бедняжку на куски острыми зубами. Львы величаво расхаживали по песку и злобно рычали.
Открылся еще один люк, и на арену выбралась команда бестиариев, вооруженных рыболовными сетями, трезубцами и короткими луками. Они осторожно двинулись к черногривому льву.
— Надеюсь, мы когда-нибудь поговорим об этом, — гнула свою линию Марцелла. — Мне будет интересно каждое твое слово.
Бритт медленно опустил веки и на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, то вместо Марцеллы посмотрел на Диану.
— Почему ты так любишь скачки, госпожа?
Диана подбросила в воздух виноградину и, запрокинув голову, ловко поймала ее ртом.
Внизу, на арене, черногривый лев с грозным рыком набросился на бестиария с луком. Удар лапой, и человек с распоротым животом издал истошный вопль.
— Мне нравится скорость, — призналась Диана. — И еще я люблю опасность. — Лошади со скоростью ветра мчатся вперед, а возницы готовы рисковать жизнью ради того, чтобы победить в гонке. Разве тебе это не нравится?
— Нет, я видел в жизни настоящую опасность.
Марцелла сделала вдох и собралась уточнить, какую именно, но Диана заговорила раньше нее.
— А я нет. И мне никто не разрешает узнать, что это такое. Вот почему мне так нравятся скачки. Я готова отдать жизнь за победу, если бы только умела править колесницей.
— Управлять колесницей не так уж и трудно, как вы, римляне, думаете. Нужна сноровка в обращении с упряжью, хорошее чувство равновесия. Повороты всегда коварны, и поэтому без практики не обойтись.
— Правда? — Диана поджалась ближе к бритту. Марцелла же испытала знакомый укол зависти.
Ну почему самые интересные мужчины предпочитают разговаривать с Дианой, самой скучной девушкой Рима?
— Ты прожил в Риме уже много лет, — сказала Марцелла, обращаясь к Ллину. Восемнадцать лет плена… Должно быть, он гораздо старше, чем она предполагала. — Что ты помнишь о… как ты сказал? Альбионе?
— Я не настолько стар, госпожа, чтобы память моя замутилась, — холодно ответил бритт.
— Я ни словом не обмолвилась о том, что ты можешь и что
не можешь помнить, — парировала Марцелла. — Я просто поинтересовалась…
— Я вспоминаю родину каждый день.
Две последние львицы прижались друг к дружке, злобно рыча, но бестиарии работали ловко и слаженно и вскоре добили обеих. После чего перепрыгнули через тела поверженных зверей и, приветствуя зрителей, вскинули вверх руки. Император Отон перегнулся через ограждение ложи и швырнул на арену пригоршню серебряных монет.
— Ненавижу травлю зверей, — призналась Диана и состроила брезгливую гримасу.
— Они храбро сражались, — заметил Ллин, когда бестиарии, победоносно пританцовывая, прошли под сводами Врат Жизни, а служители торопливо уволокли с арены мертвых животных, подцепив их туши крюками.
— Может ли дикий зверь быть храбрым? — задала вопрос Марцелла.
— Конечно, может, — не раздумывая, выпалила Диана.
— Но откуда льву знать, что такое храбрость?
— А откуда это известно человеку? — вопросом на вопрос ответил бритт.
— А можно ли считать храбрость человеческой доблестью?
— Да! — в один голос ответили Диана и Ллин.
— Ну, конечно, Диана, откуда мне это знать! — не удержалась от колкости в адрес кузины Марцелла. — Ведь это ты, а не я, провела полжизни в общении с животными.
— Как скажешь, — отозвалась Диана и сделала глоток вина. Врата Жизни снова распахнулись, и из них вышли гладиаторы в красных плащах. — Не люблю смотреть, как умирают животные.
Ллин наблюдал за гладиаторами. Те уже сбросили с плеч плащи и приготовились к поединку.
— А я не люблю смотреть, как умирают люди, госпожа.
— О, боги, прошу тебя, называй меня Дианой. Меня все так зовут.
— Бритт! — Зычный голос Отона перекрыл жизнерадостный гомон зрителей в ложе. — Подойди ко мне. Прояви свою дикарскую зоркость, выбери гладиатора, на которого мне следует поставить. Я проиграл две ставки Сальвию и намерен на этот раз отыграться.
— Конечно, цезарь, — ответил Ллин. Поднявшись с места, он вежливо поклонился и встал у ограждения рядом с Отоном. Марцелла заметила, что бритт выше императора и шире в плечах, однако Отон явно затмевал его своей царственной осанкой. Пару секунд понаблюдав за ходом поединка, Ллин указал на бородатого гладиатора-бритта.
— Вот этот!
— Да ведь он в два раза ниже и мельче остальных! Почему ты его выбрал?
— Я всегда ставлю на бриттов, цезарь.
— Ты очень чувствителен, — улыбнулась Марцелла. Отон ее не услышал.
— Сто денариев, Сальвий! — с этим словами он бросил пригоршню монет.
Гладиаторы сошлись в поединке. Марцелла недовольно сморщила нос и поспешила отвернуться, прежде чем разлетелись первые брызги крови. В отличие от нее сын легендарного Катарака внимательно наблюдал за ходом схватки, не сводя с соперников глаз. Диана, держа в руке кубок с вином, шагнула к нему и встала рядом.
— Я думала, тебе не нравится наблюдать за тем, как убивают людей.
— Не нравится, — ответил Ллин, следя за тем, как его соотечественник набросился на грека с трезубцем. — Но сам я умею убивать.
Грек нанес бритту резкий удар, и тот, смертельно раненный, упал на песок. Лезвие меча пронзило ему легкие. Разгневанный император повернулся к Ллину.
— Не слишком удачный выбор.
— Я не говорил, что это удачный выбор, цезарь, — ответил ему сын Каратака. — Я лишь сказал, что всегда ставлю на бриттов.
В глазах Отона промелькнул злобный огонек, однако император поспешил скрыть его за ширмой обаяния. Вместо того чтобы дать выход гневу, Отон и предпочел рассмеяться и даже бросил в Ллина монетой.
— Хорошо сказано!
Бритт ловко поймал монету и бросил ее на арену. Одержавший победу в поединке гладиатор бросился искать ее среди песка. Ллин приветственно помахал ему рукой.
Диана рассеянно передала бритту свой кубок с вином. Тот так же рассеянно отпил из него и вернул обратно. Поклонники Дианы дружно одарили его полными ненависти взглядами. Марцелла почувствовала, что ее губы недовольно поджались.
Я пытаюсь завязать умный разговор с мужчиной ради получения нужных сведений, а Диана по-прежнему перетягивает все внимание на себя. Похлопай она ресницами Марку Норбану, он, — готова спорить на что угодно, — не ушел бы так скоро.
Император объявил конец праздника и, похожий на золотого бога в окружении простых смертных, направился в сопровождении свиты к дворцу. К Диане подошел претор с потными от волнения руками.
— Дорогая, госпожа, надеюсь, ты благосклонно отнесешься к моему ухаживанию? Когда я смогу поговорить с твоим отцом?
Марцелла с удовольствием наблюдала за тем, как Диана была вынуждена искать спасения от претора, который настойчиво продолжал предлагать ей руку и сердце. Она демонстративно попыталась завладеть вниманием Ллина, тем более что тот был свободен. Увы, Ллин уже подхватил плащ и, воспользовавшись первой же подвернувшейся возможностью, растворился в толпе гостей.
Лоллия, сверкая платьем из серебристой ткани, проложила себе дорогу в плотной людской массе и, подойдя к Марцелле, схватила ее за руку.
— Знаешь, дорогая, у меня важные новости, — с улыбкой сообщила она, очевидно, забыв об их последней размолвке. — Поехали со мной, и я замучаю тебя подробностями.
— Что за новость? — задала вопрос Марцелла, садясь в паланкин кузины, куда более массивный и богато украшенный, нежели прежний, который имелся у нее, когда Лоллия еще не была замужем за братом императора.
— Это касается твоего мужа, — пояснила Лоллия, когда носилки поднялись и носильщики затрусили по улице. Вскоре их паланкин присоединился к процессии, что медленно ползла к императорскому дворцу. Марцелле почему-то вспомнилось, как они с Лоллией в последний раз сидели вместе в паланкине. Тогда разъяренная толпа вынудила носильщиков бросить носилки, и им обеим пришлось спасаться бегством. — Я слышала, что Луций в дружеских отношениях с офицерами Отона. Император предложил ему пост здесь, в Риме, но он предпочел отправиться на войну, которая уже не за горами.
— И кем ему предложено стать? — презрительно фыркнула Марцелла. — Платным приживалой?
— Наблюдателем за ходом боевых действий, — неуверенно ответила Лоллия. — Посыльным. Что там еще делают наблюдатели на поле боя?
— Насколько я знаю Луция, он лишний раз рук не замарает.
— Во всяком случае, он больше не будет раздражать тебя, верно? По-моему, ты должна быть этому рада.
— Пожалуй, — согласилась Марцелла. — Наблюдатель на поле боя. Это более чем в духе Луция. Ему интересно наблюдать лишь за тем, что способно подтолкнуть его вверх по карьерной лестнице.
— Слава богам, что война — удел мужчин, — произнесла Лоллия, когда носилки наконец опустились у мраморных ступеней, ведущих в сады императорского дворца. Лампы светили ярко, напоминая золотые шары, а навстречу гостям уже устремились рабы с серебряными кувшинами, наполненными розовой водой для омовения ног. — Грязь, легионеры, страх…
— И возможность стать свидетелем и участником истории, — задумчиво проговорила Марцелла. — Собственными глазами видеть столкновение законного императора и императора-узурпатора, видеть действия армии, решающей судьбу Рима. Да это же просто замечательно!
— Замечательно? — Лоллия недоуменно посмотрела на кузину. — Там будут гибнуть люди, тысячи людей с каждой стороны. Это ужасно.
— По крайней мере все будет по-настоящему, — с неожиданным для самой себя раздражением сказала Марцелла и одарила колючим взглядом драгоценности Лоллии, ее припудренную кожу, кубок с вином в руке. — Некоторые из нас предпочитают видеть настоящую жизнь вместо разгульных пиров и нескончаемых потоков вина.
— Между прочим, я единственная, кто не постеснялся замарать рук, помогая плебсу во время наводнения, — язвительно отозвалась Лоллия.
— Да, говорят, тебе нравилось это занятие. Ибо оно давало тебе возможность отдохнуть от мужа. Ведь не для кого не секрет, что ты предпочитаешь его обществу общество своего галла. Воистину, это достойно восхищения, Лоллия!
— Он не домашний зверек! — обиженно заявила Лоллия и, высвободив руку, зашагала вперед, к просторному триклинию. У Марцеллы не возникло ни малейшего желания ее догнать. В последние дни один вид двоюродных сестер вызывал у нее раздражение. Впрочем, как и вид родной сестры, лицо которой мелькнуло в толпе. Неужели эта безутешная вдовушка Корнелия навсегда разучилась улыбаться?
Подавив в себе непривычную желчность, Марцелла взяла у ближнего раба кубок с вином. В конце концов сегодня прекрасная ночь. Император Отон как всегда собрал вокруг себя массу диковинных личностей. Тут были и сенаторы, и преторы, и консулы, их жены, актрисы, астрологи, возничие колесниц, куртизанки и даже несколько победителей сегодняшних гладиаторских поединков. Для обычного ужина гостей набралось слишком много. Их толпы заполнили сад, где воздух согревали угли позолоченных жаровен. Среди гостей сновали полуголые рабы в серебристых туниках, разносившие чаши с вином и блюда с изысканными угощениями.
— Эти императорские ужины ничем не отличаются один от другого, — неожиданно раздался рядом с Марцеллой голос Дианы. — Ты когда-нибудь это замечала?
— Зато как здесь красиво!
— Верно, но всегда одинаково, — ответила Диана и провела рукой по конской морде мраморной статуи, стоявшей среди зарослей жасмина. — Изысканные кушанья, дорогое вино, красивые люди, умные разговоры.
— Все могло быть гораздо хуже.
— Но в чем смысл всего этого? — Диана повернулась к статуе и, запрыгнув, боком уселась на конский круп. Ее легкое белое платье трепетало на вечернем ветерке, то и дело взлетая выше коленей, Диана же сидела и болтала ногами, не обращая внимания на посторонние взгляды.
— Диана, живо слезай на землю! — строго произнесла Марцелла. — Тебе обязательно нужно выставлять себя на всеобщее обозрение?
— А ты не смотри на меня, — парировала ее кузина и нагнулась, чтобы взять у раба чашу с вином. — Я просто делаю то, что хочу.
— Как это мило с твоей стороны.
— Диана! — прошипела выросшая словно из-под Туллия. — Слезай! Ты понимаешь, что на тебя все смотрят?
— Пусть смотрят, — усмехнулась Диана.
— Показывать на людях голые ноги… ты ведешь себя как бесстыдная рабыня!
Диана подалась вперед, и, сорвав с ног сандалии с золочеными ремешками, повесила их на уши мраморному коню.
— Шла бы ты! — посоветовала она Туллии. — А не то я сейчас сниму с себя все остальное.
— Послушай, госпожа! — К Туллии, пошатываясь, приблизился какой-то полупьяный трибун и обнял ее за плечи. — Не уходи, прошу тебя, останься!
— Гай!!! — взвизгнула Туллия и, оттолкнув незваного ухажера, бросилась на поиски мужа.
Диана откинулась на мраморную шею коня и обратила лицо к звездному небу.
— Загадываешь желания? — не удержалась от вопроса Марцелла. На фоне белого мрамора статуи кузина была божественно красива.
Она так хороша, что может вытворять все, что угодно.
— Хочу, чтобы многое изменилось.
— Многое и без того меняется. В то мгновение, когда умерли Пизон и Гальба, в Риме начало стремительно меняться буквально все. Неужели ты не чувствуешь этих перемен?
— Что-то, возможно, изменилось для Корнелии, — пожала плечами Диана, не сводя глаз со звездного неба. — Для Лоллии. Но не для меня.
— Тогда измени свою жизнь сама, — предложила Марцелла. — Ведь хотя бы это в твоих силах.
Увы, для нее самой тоже ничего не изменилось. Независимо от того, пыталась она изменить свою жизнь или нет.
— Вот ты где! — ей на локоть легла потная рука Домициана, ее вездесущего воздыхателя. — Я искал тебя!
Он тотчас что-то забубнил об играх, говоря, как провел бы их, если бы был императором. Марцелла залпом выпила вино и, делая вид, что его слушает, продолжила наблюдать за толпой гостей. Центром всеобщего внимания, разумеется, был Отон. Рядом с ним Марцелла заметила Лоллию с мужем. Диана по-прежнему восседала на мраморном коне и возле нее собралась кучка верных трибунов. Поклонники не сводили масленых глаз с ее голых ног, которыми она время от времени отталкивала руки наиболее обнаглевших из них. Молодой, но, увы, уже изрядно полысевший пухлый астролог, на которого с гордостью указал Домициан, изучал ладонь какой-то матроны. Впрочем, в следующий момент к ним, чтобы поговорить с сестрой, подошла Корнелия и вспугнула Домициана. Тот поспешил отойти в сторону.
— Я слышала, что Луций в звании военного наблюдателя отправляется вместе с армией на север. Это так?
— Да, это так, — ответила Марцелла и пожала плечами. — Только не злись на меня за то, что Луций теперь служит Отону. Ты же знаешь, он готов пресмыкаться перед кем угодно, лишь бы добиться повышения по службе.
Корнелия небрежно махнула рукой.
— Но ведь это опасно! Неужели ты не тревожишься за нею?
— А что плохого может произойти? Я овдовею? Кто знает, вдруг в таком случае, счастье наконец улыбнется мне?
— Марцелла! Как ты можешь так говорить? — с укоризной в голосе воскликнула Корнелия и на короткое мгновение стала прежней, — женой будущего императора.
— Все это не так опасно, как кажется, — поправилась Марцелла. — Армии Отона не придется идти в слишком дальний поход, поскольку Вителлий продвинулся на юг гораздо дальше, чем предполагалось. Две армии сойдутся где-нибудь севернее Рима, состоится сражение, только и всего. Отон поведет за собой восемь тысяч человек, так что победа наверняка достанется ему.
— Так много?
— Может, даже девять тысяч.
— Я слышала, что…
— Это Несс! — Домициан подвел к ним того самого полноватого астролога в расшитых астрологическими символами одеждах. Его появление заставило обеих сестер нахмурить брови. — Я представил его управляющему императора, когда тот искал астрологов, чтобы предсказывать будущее его гостям. Несс, моя Марцелла не верит мне, когда я говорю, что ты никогда не ошибаешься. Погадай ей!..
У молодого лысоватого астролога были бегающие глазки и улыбка профессионального угодника. Увы, дежурная улыбка эта мгновенно погасла, стоило ему склониться над раскрытыми ладонями Корнелии и Марцеллы.
— Мои добрые матроны! Похоже, я уже гадал вам несколько лет назад. Повторное прочтение линий ваших жизней будет излишним.
С этими словами он поспешно отпустил руки обеих сестер. Брови Марцеллы поплыли вверх.
— Надеюсь, вы извините меня…
Астролог еще раз скользнул по Марцелле и Корнелии полным ужаса взглядом и проворно скрылся в толпе.
— Ты видел? — с улыбкой спросила Домициана Марцелла. — Шарлатаны, встретившись со мной, сразу понимают мою циничную сущность.
— Он не шарлатан! Он сказал, что я стану великим полководцем, правителем Рима и…
— Мне гадали, наверное, десяток раз, — с горечью призналась Корнелия, — и ни один не предсказал смерть моего мужа. Марцелла, ты обязана убедить Луция не идти на войну. Это нешуточное дело — остаться вдовой.
— Корнелия…
Но Корнелия уже отошла от нее, не дав договорить. Впрочем, грубость ее простительна. Безутешная вдова, которая не находит себе места от горя. Это оправдывает все, что угодно.
— Будь ты вдовой, ты могла бы выйти за меня замуж. — Пальцы Домициана крепко сжали ей руку. — Тогда ты принадлежала бы мне одному.
— Сомневаюсь, что в твоей колыбели нашлось бы место и для меня, — усмехнулась Марцелла.
— Я не ребенок! — вспыхнул Домициан. — Не смей так говорить! Никогда!
Тем временем слуги приносили все новые и новые кубки с вином. Среди деревьев зажглись новые светильники, похожие на золотые шары. Диана по-прежнему восседала на мраморной лошади. Возвышаясь над остальными гостями, она напоминала богиню на залитой лунным светом небесной колеснице. Гай попытался уговорить ее слезть на землю, но к этому моменту в атрии, под дробь десятка барабанов, началось выступление акробатов, и Диана поднесла к уху ладонь, сделав вид, что якобы не может разобрать его слов. Гай был вынужден со вздохом удалиться.
— Ты всегда как будто следишь за всеми, — пожаловался Домициан.
— Именно этим я и занимаюсь — с интересом наблюдаю за другими людьми.
К ним, крутя на запястье инкрустированный золотом эбеновый браслет, вновь подошла Корнелия, строгая и величественная в черном траурном платье. В следующий миг какой-то преторианец распрямил плечи и тоже направился в их сторону. Это был центурион Друз Денс. По всей видимости, он уже оправился от ран, хотя вид у него был еще не вполне бодрый. Он что-то сказал Корнелии, вернее, попытался сказать, прежде чем она прошла мимо.
Значит, Отон вернул бравого центуриона в гвардию, подумала Марцелла.
Приятно узнавать, что верность иногда достойно вознаграждается.
— Центурион! — позвала она Денса и добавила с нескрываемой сердечностью в голосе. — Я рада, что ты оправился от ран.
При этих ее словах Друз Денс слегка сконфузился.
— Извини, госпожа, но разве мы с тобой знакомы?
— Ты спас мне жизнь.
Друз явно не узнал ее. Марцелла приходила проведать его, когда он лежал в доме деда Лоллии. Правда, тогда он был полусонным после макового отвара и вряд ли запомнил ее.
— Я — Корнелия Секунда, — представилась она, перехватив недовольный взгляд Домициана. Этот юнец явно был взбешен тем, что она разговаривает с красивым взрослым мужчиной. — Я сестра Корнелии, жены Пизона. Нас было четверо, и ты спас нас на ступенях храма Весты. Там была моя двоюродная сестра Лоллия. И Диана, вон та, что сидит на статуе.
Теперь центурион вспомнил.
— Конечно, я помню госпожу Диану, особенно, ее волосы.
Он обернулся на Диану — золотые гребни выскользнули из светлых, шелковистых волос, и те золотистой гривой упали на шею мраморной лошади.
— Только тогда ее волосы были в крови, — добавил Друз Денс.
Конечно, он помнит Диану. Впрочем, Марцелла подавила в себе раздражение. Было видно, что раны все еще дают о себе знать: движения Денса были осторожны и скованны.
— Ты уже снова на службе?
На центурионе, как у всех преторианцев, были красно-золотистые доспехи, которые плохо сочетались с игривой атмосферой вечера.
— Нет, я здесь гость.
— С каких это пор гости приходят с оружием? — нахально влез в разговор Домициан.
— Если на мне доспехи, то все знают, как относиться ко мне. — Друз Денс кивком указал на пеструю толпу приглашенных. — Если же я надену тунику и умащу себя благовониями, то стану всеобщим посмешищем. Доспехи надежнее.
Значит, центурион Друз Денс еще одна диковина Отона.
Бывший мятежник, а теперь конезаводчик, чудаковатая любительница скачек, единственный верный солдат Рима, подумала Марцелла.
Все они забавные диковины на императорских пирах.
— Ты тоже идешь вместе с войском на усмирение Вителлия?
— Да. После чего… — Денс не договорил и пожал плечами. — После чего я, пожалуй, уйду из гвардии.
— Почему? Ты славный солдат. Тебе нечего стыдиться.
— Я подвел того, кому присягал, госпожа. Твоя сестра, Корнелия, не преминула напомнить мне об этом.
— Империи нужны такие люди, как ты.
— Что хорошего из этого выйдет? Все до единого мои товарищи из числа преторианцев оказались изменниками. Всех до единого прельстили деньги Отона. Я не виню его в том, что он купил их всех, но ведь преторианцы не должны продаваться тому, кто предложит больше денег. Теперь они приглашают меня сыграть с ними в кости, сходить в бани или в лупанарий, выпить вина. Как будто ничего не случилось. — С этими словами Денс осушил свой кубок, причем, как заметила Марцелла, отнюдь не первый за этот вечер. Неожиданно центурион устремил на нее невидящий взгляд, и глаза его наполнились слезами.
— О боги, какая мерзость!
— Верно, — согласилась Марцелла.
— Ступай прочь! — грубо произнес Домициан. — Она не будет говорить с пьяным.
Денс, пошатываясь, удалился.
— Тебе обязательно нужно было встревать в нашу беседу? — вспыхнула Марцелла.
— Зачем тебе понадобилось говорить с ним? Он всего лишь жалкий плебей!
— Вряд ли. Плебея не сделали бы центурионом преторианской гвардии, ты сам это знаешь. Кроме того, он спас мне жизнь.
— Я бы сам спас тебя, будь я там, — пробормотал Домициан.
Снова вино. Снова музыка. Малоприятный разговор с Луцием.
— Это такая честь — твой новый пост военного наблюдателя. —
Дорогая, не надо уксуса, напомнила она себе.
Мед, только мед и побольше. — Я почти завидую тебе. Ты сможешь повидать дальние страны.
Луций отделался каким-то междометием, поскольку не сводил глаз с юной танцовщицы-гречанки.
— Выслушай меня прежде, чем скажешь «нет». — Марцелла заставила себя добавить в голос толику игривости. — Почему бы мне не отправиться вместе с тобой и нашей армией на север? Да-да, я помню, на прошлой неделе между нами возникла размолвка, но, поверь, я могу быть полезной. Тебе будет уютно и тепло, я буду всячески помогать тебе…
— Не говори глупости! — рассмеялся Луций.
— Но ведь если…
Не удостоив Марцеллу даже взглядом, Луций направился к танцовщице.
Слишком много меда, слишком приторно, подумала она, чувствуя, как в ней закипает злость.
Тяжело дыша, Домициан схватил ее за руку.
— Ты постоянно пытаешься ускользнуть от меня, — упрекнул он ее.
И это главные события вечера, подумала Марцелла.
Муж, который даже не сморит в мою сторону, и навязчивый поклонник восемнадцати лет, до смерти утомивший непомерным вниманием.
Она не удержалась и поискала глазами Лоллию. Та стояла в окружении знакомых и чему-то смеялась. Неподалеку застыла в скорбном молчании прямая, как столб, Корнелия. Диана по-прежнему восседала на мраморном коне, беспечно болтая ногами.
Им дозволено делать все, что угодно. Все, что угодно. А мне — нет.
— Я сама не знаю, кто я такая, — произнесла она вслух. Не супруга важного человека, как Лоллия. Не избалованная родителями дочка, как Диана. И даже не безутешная вдовушка, как Корнелия. А всего лишь нелюбимая жена, живущая из милости брата в его доме. Конечно, все могло бы сложиться иначе, будь она красива, как Диана, богата, как Лоллия, или убита горем, как родная сестра. Красота, богатство и горе — они способны искупить многое.
А вот попробуй я спать с собственными рабами, швыряться вазами или забираться на статуи в присутствии гостей, как меня тотчас же съели бы заживо. Им же все сходит с рук.
— Какое у тебя недоброе лицо, я бы даже сказал, свирепое, — произнес Отон, впрочем, довольно шутливо, когда Марцелла поклонилась ему. — Ты не пришла ко мне похлопотать за мужа. Я сам предложил ему пост в городе…
— И он отказался, — закончила она фразу и, выпрямившись, посмотрела императору прямо в глаза. — Скажи, цезарь, я все еще могу обратиться к тебе с просьбой?
(обратно)
Глава 10
Корнелия
Корнелия наслушалась немало нытья и жалоб от римских жен не самого высокого ранга о том, какие трудности приходится преодолевать, чтобы встретиться с любовником. Некоторые женщины нанимали паланкины, чтобы по темным переулкам незамеченной добираться до уединенного места долгожданного свидания, другие переодевались в платье рабынь, чтобы незаметно выскользнуть из дома, а кому-то приходилось каждый год раскошеливаться на определенную сумму в обмен на молчание собственных служанок.
Как же просто все оказалось на самом деле!
— Я собираюсь в бани, — однажды возвестила Корнелия. Ближайшие бани находились сравнительно недалеко, что в хорошую погоду позволяло преодолеть этот путь пешком. Поэтому никому даже в голову не пришло задавать лишних вопросов, когда она, вместо того, чтобы ехать в паланкине, взяла себе в сопровождение лишь одну рабыню. Приказав своей прислужнице ждать снаружи, Корнелия вошла в термы. В аподитерии около полудюжины женщин раздевались и обменивались последними сплетнями. Корнелия решительно прошла через все помещение и двинулась прямиком к заднему выходу. Пройдя быстрым шагом четыре улицы, она остановилась возле аккуратного дома, постучалась в боковую дверь, и ее тут же пропустили внутрь.
— Моя прекрасная госпожа! — воскликнул мужчина, облаченный в сенаторскую тогу с широкой пурпурной полосой, и поднялся с места, чтобы пожать ей руку. Это был младший брат Вителлия, недавно провозглашенного его легионами императором и ныне двигавшегося походным маршем из Германии на юг, в направлении Рима. — Я так рад видеть тебя снова. Позволь мне представить…
В круглом помещении библиотеки собралось около полудюжины мужчин, но никто из них не встал и не предложил гостье вина. Не снимая с плеч паллы, Корнелия села. Это было отнюдь не официальное собрание, да и на свидание с любовником эта встреча тоже не была похожа.
Это была подготовка к войне.
— Отон назначил Мария Цельсия одним из своих генералов, — хмуро сообщила Корнелия. — Он также отправил послание своим легионам на Истре, но они не успеют вовремя прийти ему на помощь. (Истр — в Древнем Риме — название р. Дунай. —
Прим. переводчика)
Она передала присутствующим все, что ей удалось собрать по крупицам из непринужденных бесед с Марцеллой. Ее сестра оказалась просто кладезем полезных сведений — у нее был редкий талант собирать воедино разные сплетни, чтобы в итоге получить полную картину событий. Естественно, Марцелла делала это, чтобы потом записать историю на своих свитках, но она всегда была готова поделиться со старшей сестрой любыми сведениями, начиная от численности войск Отона и закаливая нелицеприятными чертами характера его генералов.
— Отон собирается снарядить флот, — добавил один из присутствующих сенаторов. — Но пока точно не известно, откуда именно. Если бы нам удалось узнать подробности… — Корнелия запоминала каждое слово и медленно кивала. В последнее время ее тело словно окаменело, будто мраморная статуя, ожившая лишь наполовину. Как в легенде о Галатее — статуе, оживленной любовью скульптора. Интересно, кто-нибудь спрашивал Галатею, хочет ли она ожить и перейти из привычного мира неподвижного камня в пребывающий в постоянном движении мир людей?
Будь камнем, будь мрамором! — убеждала себя Корнелия, ибо ей казалось, что так жить гораздо проще.
— Мой брат уже пересек Альпы двумя колоннами, — сообщил брат Вителлия. — И стремительным маршем движется на юг.
— Отон также не станет медлить, — опустила его с небес на землю Корнелия. — Он собирается перехватить Вителлия к северу от Плаценции.
— Ты в этом уверена?
— Мне сказала об этом кузина, Корнелия Терция. Она замужем за братом Отона.
— Спасибо за ценные сведения, госпожа Корнелия. Если тебе удастся раздобыть еще что-нибудь для нас полезное, мы будем благодарны.
Корнелия утвердительно кивнула. Она слышала много чего важного и полезного и всегда старалась держать ухо востро. Больше никакой скорби, никаких попыток присоединиться к Пизону в мире мертвых. В тот вечер, когда на пиру после скачек Марцелла непринужденно болтала о планах Отона двинуться с армией на север, Корнелия нашла лучший способ помочь покойному мужу. Она внимательно выслушала ее. Теперь главное для нее — сведения. Сведения о планах Отона, о приказах, отдаваемых им своим генералам, о сроках начала военной кампании, о количестве продовольствия и состоянии дорог…
Корнелия давно знала брата Вителлия. Он был знакомым Пизона и нередким гостем за ее пиршественным столом.
— Ты поддерживаешь связь со своим братом? — прямо спросила она, решительным шагом входя в его дом.
В глазах ее собеседника промелькнула тревога.
— Конечно же нет, госпожа Корнелия! Я верный подданный императора Отона.
— Если ты готов его предать, то у меня есть для тебя полезные сведения.
— Ну, раз так… — Само собой, он поддерживал связь с Вителлием, равно как и десяток других римских патрициев, полагавших, что при императоре Вителлин им заживется гораздо лучше, чем при Отоне.
Нашлись и такие, как Корнелия, желавшие смерти Отона любой ценой.
Еще несколько минут ушло на разные формальности, и собрание подошло к концу. Они никогда не задерживались и никогда не встречались в одном и том же доме дважды. Брат Вителлия на прощание пожал руку каждому из своих гостей-заговорщиков.
— Высокородная Корнелия, позволь поблагодарить тебя за твой бесценный вклад в общее дело. Предоставляемые тобой сведения об армии Отона непременно помогут склонить чашу весов в нашу пользу. — Казалось, от избытка чувств он вот-вот оторвет ей руку. — Мой брат позаботиться о том, чтобы твой муж был отомщен, тебя же ждет достойная награда. Став императором, он устроит твой брак с одним из своих верных соратников…
— У меня нет желания снова вступать в брак. Единственное, чего я хочу, — это смерть Отона.
Корнелия снова вернулась в термы, быстро разделась и нырнула в кальдарий. Воздух там был горячим и влажным. Десяток женщин лежали на мраморных плитах, обнаженными телами впитывая тепло, и предавались разговорам о непослушных детях, нечистых на руку рабах и неверных любовниках. Корнелия дождалась, когда лицо ее распарится и покраснеет, после чего погрузилась в бассейн с прохладной водой, чтобы намочить волосы. Домой она вернулась к началу ужина — с влажными волосами и раскрасневшимся от пара лицом. Даже зоркая Туллия ничего не заподозрила.
Я могла бы переспать с половиной Рима, а они даже не узнали бы об этом, подумала она, медленно входя в зал.
Весь вечер она держала ухо востро. Когда Марцелла сказала, что завтра собирается на Марсово поле, Корнелия предложила составить ей компанию. В конце концов запершись в своей комнате, никаких сведений не добудешь.
— Я рад, что ты стала снова выбираться из дома, — Гай ласково погладил ее по руке. Только Марцелла, казалось, была несколько удивлена внезапным изменением в настроении сестры.
— Нужно, чтобы у тебя было достойное сопровождение, Марцелла, — попробовала обосновать свое желание Корнелия. — Твой муж снова в городе, поэтому тебе стоит соблюдать приличия и не ходить одной, как какой-нибудь бродяжке.
— Спасибо, что заботишься о ее репутации, — похвалила ее Туллия. — Может, тебе даже удастся отговорить свою сестру от этой сумасбродной затеи ехать с армией на север!
Эта новость была для всех, как снег на голову. Каким-то непостижимым образом Марцелла уговорила императора разрешить ей сопровождать легионы, которым предстояло отправиться наперерез Вителлию.
— Луций просто в ярости, — с явным удовольствием прощебетала Марцелла на ухо Корнелии. — Но что он может сделать? Я сказала Отону, что напишу для потомков великолепную историю его славной победы. Это его воодушевило, и он, несмотря на недовольство Луция, приказал моему супругу позволить мне ехать с ним.
Разумеется, все семейство было потрясено, но никто ничего не мог поделать. Корнелия была уверена, что ее младшая сестра заранее все спланировала на несколько шагов вперед.
— Даже не пытайся меня отговорить, — на корню пресекла любые попытки Марцелла.
— Мне бы это даже в голову не пришло, — улыбнулась Корнелия. Сестры шли по Марсову полю, взявшись за руки, как это часто делали в детстве. Когда стало известно, что ей можно отправиться на север вместе с армией, Марцелла хотела знать все, что предстоит в походе войскам. Она досконально изучила планы Отона, тем самым став ценным источником сведений для Корнелии. Конечно, больше всего могла бы рассказать Лоллия, потому что была замужем за братом императора, но у кузины голова была, как решето. Единственные новости, которые задерживались в ее ветреной головке, были о том, кто из сенаторов устраивает следующий пир и у кого из преторов жена втайне от мужа обзавелась любовником. Такие скучные вещи как перемещения войск и подробности снабжения армии текли мимо Лоллии, словно вода. Марцелла же запоминала все.
Она с радостью пересказывала Корнелии то, что ей удалось узнать о сложностях, с которыми приходится сталкиваться Отону, когда тот готовил армию к походу. Сообщила о трудностях в снабжении продовольствием, о желании его соратников взять с собой едва ли не всю челядь, включая цирюльников и слуг, чтобы те подавали им еду на серебряных приборах, которые, естественно, тоже непременно надо тащить за собой в поход. Корнелия задавала наводящие вопросы и тщательно запоминала ответы. Марсово поле, словно водоворот, окружало их толчеей и суматохой. Мимо гордо вышагивали напыщенные, словно петухи, преторианцы, на низках колесницах туда-сюда сновали молодые трибуны, хихикающие в сторонке девушки строили солдатам глазки. День выдался пасмурным, налетавшие со стороны реки порывы ветра поднимали в воздух полы плащей и заставляли народ зябко поеживаться. Но ничто не могло разрушить царившее вокруг ощущение бесшабашного веселья.
— Госпожа Корнелия! — раздался за их спинами резкий оклик, и она обернулась на зов. Из роскошного позолоченного паланкина с расшитыми серебром занавесками бирюзового цвета выглянул мужчина и помахал ей рукой. Прокул, недавно назначенный префект преторианской гвардии и один из новоиспеченных генералов Отона.
На этот раз ей удалось изобразить нечто более или менее похожее на искреннюю улыбку.
— Префект! — Корнелия протянула ему руку. — Позволь поздравить тебя с повышением в чине!
— Прокул, госпожа Корнелия. Просто Прокул. Благодарю тебя. Не желаешь ли вина?
Корнелия приняла кубок. Марцелла остановилась и, приподняв бровь, окинула сестру удивленным взглядом, но в этот момент в поле зрения возник кто-то из ее знакомых, и Корнелия, кивнув, отпустила ее дальше. Префект Прокул небрежно плеснул вина себе в кубок и забрызгал стоявшего рядом раба.
— Давненько тебя не было на Марсовом поле, госпожа Корнелия.
— Армия скоро отправится в поход. Поэтому все стремятся сюда, — она сделала глоток. — Скажи, когда вы выступаете?
— Через два-три дня. Не позже, — префект так жадно прильнул к запрокинутому кубку, что вино стекало по его подбородку. — Мы дважды готовы были выступать. Лишь одной Фортуне известно, сумеем ли мы вовремя собраться. Часть легионов уже движется на север, но они идут черепашьим шагом. Не вижу нужды гнаться за ними, если они все равно опоздают.
— Опоздают? — Корнелия окинула его обворожительной улыбкой. — И насколько же?
— Этого опоздания будет достаточно. Присядь рядом со мной! — Прокул приглашающим жестом похлопал по сиденью. Корнелия пристроилась рядом. Казалось, движения ее замедлились, словно она двигалась в толще воды, которая давила на нее со всех сторон и притупляла чувства.
— Но ведь доблестная преторианская гвардия с легкостью расправится с Вителлием и без помощи других легионов? — разыграла достойную Лоллии непосредственность Корнелия.
— Конечно же справимся! — Похоже, Прокула возмутило, что она позволила себе усомниться в доблести вверенных ему войск. — Этот пьянчуга и обжора по четыре раза в день закатывает пиры. Удивительно, как он еще не лопнул от обжорства. — Мои солдаты всыплют ему по первое число при первой же встрече.
Твои солдаты убили моего мужа, подумала Корнелия. Но Прокул был слишком пьян, чтобы помнить такие подробности.
— Ты знаешь, я всегда восхищался тобой, — в его глазах вспыхнул похотливый огонь. — Ты же не отпустишь солдата на войну без утешения?
Корнелия изобразила очередную натянутую улыбку и скрепя сердца позволила ненавистному преторианцу ему еще глубже втянуть себя в паланкин.
— А что император намерен делать с флотом? — промурлыкала она. — Разве морские силы не сыграют роль в грядущем сражении?
— Еще как сыграют! — Прокул задернул шторы паланкина и еще крепче сжал ее запястье. — Император хочет высадиться в Нарбонской Галлии.
— В Нарбонской Галлии? — Корнелия с трудом сдерживала себя, чтобы не вырваться, пока Прокул покрывал поцелуями ее руку, медленно прокладывая языком путь к шее. Проникая внутрь сквозь шелк занавесок, зимний свет приобретал мутно-голубой и серебристый оттенок, отчего Корнелии еще сильнее казалось, будто она находится под водой. — Даже так! И когда же?
— Одному Юпитеру известно! Подаришь мне поцелуй?
Корнелия вовремя увернулась, и вместо рта его влажные губы впились в ее шею.
— Почему именно Нарбонская Галлия? — спросила она и, пересилив себя, погладила его по спине.
— Чтобы поднять переполох в Галлии. Это замедлит продвижение армии Вителлия на юг. Опустись немного ниже.
Превозмогая отвращение, Корнелия замерла и позволила ему впиться языком в свою шею. Его прерывистое дыхание тотчас обдало ее винными парами. Когда же руки Прокула коснулись ее груди, Корнелия с легким смешком откатилась в сторону.
— Только не здесь. Меня будет искать сестра.
— Ты же будешь сегодня в театре? Мы можем встретиться после представления в Садах Азиатикуса. — Прокул откинулся на сиденье и, схватив руку Корнелии, провел ее ладонью вверх по своему бедру под туникой. — Ты же не пошлешь мужчину на верную смерть без должного прощания?
— Посмотрим, — с трудом сдерживая позыв тошноты, Корнелия одарила его многообещающей улыбкой и отдернула свою руку прежде, чем та коснется… чего-либо еще.
Статуя. Будь мраморной статуей, повторяла она про себя.
— Вдова в моем положении… Ты же понимаешь…
— Конечно, конечно. Центурион! — Прокул вытянул руку из паланкина и щелкнул пальцами. — Проводи даму до дома.
Аквамариновые шторы распахнулись, и Корнелия встретилась взглядом с карими глазами центуриона Друза Денса. Но лишь на мгновенье. Она тотчас поспешила отвести взор.
— Приветствую тебя, префект! — сухо поздоровался Денс. Прокул лениво махнул рукой в ответном приветствии и пьяным голосом потребовал еще вина. Друз Денс подал руку и помог Корнелии выбраться из паланкина. Ее все еще немного подташнивало.
— Марцелла! — позвала она, но та была поглощена наблюдением за парадными репетициями преторианцев, наверняка мысленно делая заметки для очередного тома своей дурацкой исторической хроники. — Марцелла, я хочу вернуться домой.
— Ступай, — рассеянно ответила сестра, приглаживая растрепавшиеся на ветру волосы. — Я вернусь чуть позже.
Корнелия холодно улыбнулась Денсу. По крайней мере настолько холодно, насколько смогла:
— Тебе не обязательно провожать меня, центурион.
— Я получил приказ префекта, госпожа. Улицы сейчас наводнены солдатней. Идти одной было бы небезопасно. — Он попытался подозвать паланкин, но на Марсовом поле от них уже и без того было не протолкнуться. — Быстрее будет пойти пешком.
— Как скажешь.
— Тебе лучше… — Денс жестом указал на ее плечо. Корнелия наклонила голову и заметила, что брошь на ее черном платье перекосилась, а на плече красовалась красная отметана от похожих на пиявки губ Прокула. Она поспешно поправила паллу, пряча позорное клеймо, оставленное пьяным префектом. Но на всем ее теле осталось неприятное ощущение от его мерзких лап.
Это все не зря, словно в оправдание напоминала она себе.
Любые сведения, которые помогут свалить Отона, не имеют цены.
Денс шел впереди нее, прокладывая в человеческом водовороте военного лагеря дорогу к тихим улицам. Утром опять прошел дождь, и теперь под ногами стояли грязные лужи. Корнелия надеялась, что ее проводник будет идти сзади, но центурион шел рядом. Налетающие порывы ветра трепали его красный плащ.
— Похоже, что снова начнется дождь, — предположил Денс, взглянув на небо, когда они проходили мимо форума. На западе клубились черные, как уголь, грозовые тучи. — Судя по всему, наводнение схлынет еще не скоро.
— Центурион! — внезапно воскликнула Корнелия. — Я должна перед тобой извиниться.
Денс нахмурился, и его лицо застыло, словно маска.
— Твои отношения с префектом Прокулом меня не касаются, госпожа.
— Конечно же нет! — она резко остановилась перед базиликой Эмилии. — Как ты смеешь? Я вовсе не это имела в виду!
— Госпожа, я…
Мимо них стремительно пронеслась повозка; погонщик явно спешил и вовсю проклинал своих мулов. Из-под колес взметнулась волна грязной воды, и они оба поспешили отпрянуть назад. Денс изверг короткий поток отборной солдатской брани, однако вовремя спохватился.
— Прости меня, госпожа.
— Ничего страшного, — сказала Корнелия, стирая с рукава брызги грязной воды.
Они миновали базилику Эмилии и продолжили путь через форум. Пара проституток в рыжих париках призывно захохотали и помахали Денсу, но тот смерил их суровым взглядом, и они отстали.
— Я должна извиниться перед тобой за то, как я вела себя, когда навещала тебя во время твоей болезни. — Корнелия старалась не смотреть на своего спутника и шла, упорно глядя перед собой. — Мне не следовало кричать на тебя. Я не должна была так высокомерно вести себя с тобой на пиру у Отона после скачек, когда ты пытался заговорить со мной. Я признаю, что проявила неподобающее поведение.
— Я не смог защитить твоего мужа.
— В этом нет твоей вины, — стоило Корнелии вспомнить, как она кричала на больного Денса, как щеки ее запылали от стыда. Тогда она истерично визжала и вела себя, как какая-нибудь жена рыбака. Он видел, как ее лапал пьяный префект. Но это было еще хуже. В случае с Прокулом у нее было оправдание, хоть Денс о нем и не знал. Но тому, что женщина из рода Корнелиев повела себя как плебейка, — этому не было никакого оправдания.
— Тебе не за что извиняться, госпожа.
— Тогда мы больше не будем об этом вспоминать.
Они продолжили дорогу в молчании. Вскоре на их пути возникла широкая канава, и Денс подал ей руку.
Перешагнув препятствие, Корнелия сразу же отпустила его руку. Один только вид его преторианского шлема и красного плаща будил в ее душе ярость. Она до сих пор не могла спокойно смотреть на преторианцев; всякий раз при их виде на нее накатывала волна тошноты.
Это не его вина, напомнила она себе. Но эти слова ничего не меняли. Она должна была перед ним извиниться, но простить его она не могла.
— Ты уже оправился от ран? — она постаралась, чтобы ее голос звучал ровно.
— Да, госпожа.
— Я рада, что император вознаградил тебя за твою преданность. — Они подошли к очередной канаве, но на этот раз Корнелия отстранилась от протянутой руки.
— Как бы мне хотелось, чтобы он этого не делал…
— Что ты имеешь в виду, центурион?
— Преторианская гвардия уже не та, — нахмурился Денс. — Ты знаешь, что теперь составляет мои главные обязанности, госпожа? Приводить префекту Прокулу женщин.
Корнелия вспыхнула. Они шли по спуску Палатинского холма. До дома было почти рукой подать.
— Он дурной человек, — решительно произнес Денс. — Надеюсь, тебе это известно.
Корнелия прибавила шагу. Ей хотелось завершить этот разговор и как можно скорее оказаться дома.
— Я была бы тебе благодарна, если бы ты не…
— Я скажу тебе прямо, — Денс резко остановился напротив нее. — Не знаю, чего ты добиваешься. Быть может, хочешь защитить свою семью, или ищешь себе нового мужа, или тебе просто одиноко. Это не мое дело.
— Ты прав. Это не твое дело, — разгневанно начала Корнелия, но Денс привык, чтобы его слушали, и его голос перекрыл ее попытки возразить.
— Префект Прокул меняет женщин каждую ночь. Он с равным удовольствием спит как с патрицианками, так и с плебейками…
Корнелия сжала зубы, сдерживая рвотный позыв, поднявшийся при первом же воспоминании о пухлых вонючих губах префекта, скользящих по ее шее.
— Чего бы он им ни наобещал накануне, наутро он не помнит даже их имен, — упрямо продолжал Денс. — Он никогда не желает одну и ту же женщину дважды, как бы она его ни умоляла. Он только смеется ей в лицо и называет настырной сукой, — прости за грубость — а потом просит привести ему новую.
Терпи, Корнелия боролась с новой волной тошноты. Будь
статуей!
— Поэтому чего бы ты ни искала для себя — безопасности, общения или положения в обществе, — ты достойна найти лучшего мужчину. То же самое я бы сказал собственной сестре, а я достаточно хорошо знал сенатора Пизона и уверен, что он одобрил бы мой совет…
Прозвучавшее имя мужа обожгло ее словно пощечина, следы губ другого мужчины на шее еще больше запылали от жгучего стыда. Не в силах больше сдерживать тошноту, Корнелия вовремя отвернулась к ближайшей канаве. Рвотные спазмы накатывали один за другим, скручивая ее желудок изнутри. Она вздрогнула, почувствовав, как на плечо ей легла рука Денса.
— Госпожа…
— Нет! Хватит говорить мне, что ты сожалеешь! — Корнелия отшатнулась от центуриона и вытерла рот. От отвращения к самой себе ее била дрожь, она чувствовала себя грязным, ничтожным и совершенно никчемным созданием. Мраморная оболочка разлетелась на куски, обнажив живую, пронзенную болью душу.
Не осуждай меня, мысленно обращалась она к Пизону.
Не суди меня — я делаю это ради тебя. Впрочем, она не собиралась оправдываться в своих действиях перед каждым знакомым покойного мужа.
Ты говоришь не за Пизона, Денс, а за себя, подумала она.
— Отсюда я уже могу сама дойти до дома. — Корнелия выпрямилась и, подняв голову, встретилась глазами со своим провожатым. — Всего тебе доброго, центурион!
Она повернулась и двинулась вверх по мощеному склону, мимо поместья с вульгарными колоннами из голубого мрамора, по направлению к изысканно украшенному дому Корнелиев, откуда она вышла невестой, а вернулась вдовой.
Я делаю это ради тебя, Пизон, мысленно повторила она. После нескольких глубоких вздохов ее тело сковала прежняя тяжесть. Галатея наоборот. Дрожащая плоть, жаждущая стать камнем.
Корнелия дошла до ворот и, пока рабы открывали дверь, обернулась и взглянула на Денса. Тот стоял внизу холма и смотрел ей вслед, чтобы убедиться, что она в целости и сохранности добралась до дома. Увы, его забота ничего для нее не значила.
Поймав взгляд слуги, она взглянула на свое испачканное платье.
— Неудачно перешла улицу, — поспешила сказать она в свое оправдание. — Скажи госпоже Туллии, что я немедленно отправляюсь в термы.
Ей надо срочно передать брату Вителлия полученные от префекта сведения.
Диана
— Ты опоздала, — в обычной сухой манере поприветствовал Диану Ллин ап Карадок.
— Ты же сказал прийти в полдень, — парировала она.
— Вчера в полдень.
— Вчера шел дождь. Лило как из ведра.
— Колесницы ездят и в дождь.
— Хорошо. Извини.
Она проделывала этот путь каждый день, в любую погоду, и постепенно научилась любить дождь, периодически обрушивавшийся на Рим стеной воды. Погода постепенно налаживалась, и сквозь тучи порой прорывались робкие лучи солнца. Отец заперся в своей мастерской, наедине с инструментами и кусками мрамора. Остальные домочадцы были слишком заняты, чтобы следить за ее передвижениями. Император отправился в поход со своей армией, Марцелла последовала за ним. Туллия днями напролет брюзжала о грязи на полу, которую приносят с улицы гости в дождливую погоду. Корнелия уединилась в своей комнате и писала письма. Диана была свободна, как ветер.
Она подкупила одного из рабов, чтобы тот каждый день сопровождал ее до расположенной на окраине города конюшни. Взобравшись бегом вверх по холму, она приходила на место взмокшая и запыхавшаяся, но неизменно довольная. Диана убрала прилипшие ко лбу мокрые пряди и, улыбаясь от уха до уха, широким шагом вошла в конюшню. Ллин поджидал ее вместе с упряжкой лошадей.
Он уже научил ее управлять четверкой спокойных меринов.
— Они слишком медленные, — попробовала было возразить Диана, когда впервые увидела их.
— Сначала научись управлять такими, а потом подберем тебе лошадок побыстрее, — примирительно сказал Ллин и бросил ей потрепанный кожаный шлем. — Если ты окажешься способной… — и вспомнив о приличиях, неохотно добавил: — Госпожа. — Корнелия была бы возмущена такой дерзостью, но Диане было наплевать на условности. Титулы и звания не имели значения в общении с Ллином. Его сдержанные манеры не позволяли усомниться в его порядочности.
— Я хочу научиться управлять колесницей, — однажды напрямик заявила она, выскользнув из императорской ложи во время скачек. — Ты научишь меня?
— Зачем тебе это? — удивленно спросил Ллин, глядя на нее сверху вниз. — Ты же не можешь участвовать в скачках.
— Нет, — поправила его Диана. — Я
не буду участвовать в скачках, потому что женщинам это запрещено. Но это не значит, что я
не смогу. Я справлюсь, я верю в это. Даже если остальные не верят. — Она скрестила на груди руки и упрямо уставилась на него. — Я даже готова с тобой спать, лишь бы ты научил меня.
— Это вовсе необязательно, — спокойно сказал Ллин. — Приходи завтра.
Диана не знала, почему он согласился, впрочем, ей было все равно. Наконец она научится управлять лошадьми, как настоящий возничий.
Ллин учил ее держать равновесие на низкой колеснице, правильно обвязывать тяжелые поводья вокруг талии и балансировать собственным весом против тяги лошадей. Она же, в свою очередь, была удивлена, сколько сил и ловкости требовалось, чтобы управлять всей четверкой на крутом повороте и при этом держаться как можно ближе к середине ипподрома. При первой же попытке описать полный круг Диана вылетела из колесницы и шлепнулась прямо в грязную лужу, но при этом не пала духом.
— Попробуй еще раз, — отдал команду Ллин. Заложив руки за спину, он равнодушно месил ногами грязь, расхаживая туда-сюда вдоль беговой дорожки. Капли дождя стекали с кончиков его волос и падали на плечи, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. Верный черный пес следовал за ним по пятам. Даже стоя под дождем на грязном дворе конюшни, Ллин выглядел точно так же, как и в залитой лучами солнца императорской ложе: держался все так же спокойно, сдержанно и слегка отчужденно. Диана часто задумывалась, меняет ли вообще его лицо когда-нибудь выражение.
— Скачки чреваты ушибами, — предупредил он Диану, когда она первый раз не вписалась в поворот. Ллин помог ей забинтовать ободранные до крови руки. — Что я скажу твоей семье, если ты сломаешь себе шею?
— Тогда подкинь мое тело в конюшни «синих», — беспечно пошутила Диана, изучая ссадину на коленке. — Если повезет, на них повесят мое убийство.
После многочисленных падений и ушибов ее локти и колени покрылись запекшейся коркой ссадин. На бедрах красовались синяки, набитые о края колесниц, талию также опоясывал ряд синяков, оставленных узлами поводьев. В конце дня Диана вылезала из колесницы еле живая, с трудом чувствуя свое тело. Когда она снимала с лошадей тяжелую упряжь, руки ее дрожали.
— Ну что ж, мои прекрасные скакуны, я делаю успехи! — воскликнула она, придя навестить своих гнедых любимцев в конюшнях «красных». Уже привыкшие к ней четыре жеребца радостно уткнулись носами в ее руки. — Как бы мне хотелось поучаствовать с вами в настоящих скачках!
Она так часто мечтала об этом дне, представляя себя облаченной в красную тунику, расшитую золотыми языками пламени! Она бы гордо стояла в своей колеснице, увенчанной изображением головы бога огня, направляя четверку гнедых вперед к победе, потом получила бы пальмовую ветвь победителя, держала бы в руках то, что не весит почти ничего, но значит все.
Конечно, в глубине души Диана прекрасно понимала, что никогда не сможет управлять четверкой гнедых и никогда в жизни не получит пальмовую ветвь. Юноши из патрицианских семей иногда принимали участие в скачках, если родители не успевали запихать их в легионы, сенат или на другие почетные должности. Но женщинам путь на арену ипподрома был строго заказан независимо от их происхождения.
Но Диана радовалась тому, что просто имела возможность управлять колесницей, пусть даже не на арене.
— Мне кажется, я вполне смогу справиться с куда более быстрой четверкой, — упрашивала она Ллина.
— Ты слишком миниатюрна, чтобы удержать быстрых, как ветер, животных.
— Но я стала сильнее! Смотри! — она взяла его руку в свои ладони и, что было сил, сжала. Ее пальцы стальной хваткой вцепились в его.
— Я подумаю, — туманно пообещал Ллин, и его губы тронула легкая улыбка, зародившая в Диане надежду. Она едва не пританцовывала от радости, когда вела лошадей обратно в конюшню. Она завела каждого мерина в свое стойло, а потом заглянула в соседнее.
— Помона легла.
— Помона? — удивленно переспросил Ллин, вешая упряжь на крючки в противоположном крыле конюшни.
— То, что ты не даешь лошадям имен, вовсе не значит, что мне этого нельзя. Гнедая кобыла с белой мордой уже готова ожеребиться?
Ллин тотчас же пересек конюшню, зашел в стойло и, наклонившись над лежавшим животным, погладил ее большой живот. Кобыла в знак благодарности уткнулась носом в его плечо.
— Похоже на то.
Сквозь открытую дверь Диана посмотрела на сгущающиеся сумерки. Обычно сразу после пробных забегов она шла домой, но сегодня вместо того, чтобы покинуть конюшню, девушка подошла к стойлу и прислонилась к дверному косяку.
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Придерживай ее голову, — отдал распоряжение Ллин. — Она пытается встать.
Диана зашла в стойло и опустилась коленями на солому, чтобы придержать голову Помоны.
— Тихо, все будет хорошо, — успокаивала она кобылу, пока Ллин, скинув тунику, осматривал животное.
— Кажется, жеребенок неправильно перевернулся, — озабоченно заметил он. — У этой лошади роды всегда проходят сложно. Подержи ее, а я попробую перевернуть малыша так, как надо.
— Да, командир! — отсалютовала Диана, и Ллин улыбнулся ей в ответ. Девушка поудобнее устроилась рядом с лежащей на боку кобылой и, чтобы успокоить, принялась гладить ее по шее.
— Так, по-моему, лучше, — наконец вынес вердикт Ллин. — Теперь пусть тужится.
Он сполоснул руки в бочке с водой и снова надел тунику. И пока он натягивал ее через голову, Диана с любопытством рассматривала его покрытый шрамами торс. На левой руке белел давно заживший след от удара меча, правое плечо тоже было отмечено шрамом от рубящего оружия, след от удара копьем под ребра казался на фоне его загорелой кожи белым пятном. Диана заставила себя вспомнить, что Ллин провел юность, сражаясь бок о бок со своим отцом против римлян.
И всё-таки хорошо, что его захватили в плен. Иначе у меня никогда не было бы своей четверки лошадей и я бы не имела возможности учиться управлять колесницей, с улыбкой подумала она.
Хотя, наверно, не стоит ему этого говорить.
Им оставалось только ждать, пока Помона справится сама, и вокруг повисла тишина. Диана задумчиво жевала соломинку, а Ллин молча облокотился о стену, скрестив руки на груди.
— Тебе не стоит оставаться здесь допоздна, — сказал он наконец и бросил взгляд на темнеющее в дверном проеме небо. — Если твои родные об этом узнают, им вряд ли это понравится. О моем отце ходили слухи, будто он с заходом солнца съедал на ужин девственниц. Его дурная слава вполне могла перейти мне по наследству.
— Я не боюсь, — бесстрашно улыбнулась Диана. — Как думаешь, ей еще долго придется тужиться, прежде чем жеребенок выйдет наружу?
— Роды продлятся еще около часа, — Ллин ласково потрепал кобылу за ушами, и животное благодарно уткнулась носом ему в ногу. — Ты, может, и не боишься, но лично я не хотел бы, чтобы в мой дом ворвался взбешенный отец, решивший, что я лишил невинности его дочь, а потом скормил ее друиду.
— Моего отца можно взбесить, только сломав его инструменты, — фыркнула Диана. — Да и лишать меня уже нечего.
— Должно быть, эта честь досталась какому-нибудь возничему, — усмехнулся Ллин и покачал головой. — Вот такие вы, римлянки! В городе не осталось ни одного настоящего воина, и вы с радостью бросаетесь под его первое попавшееся подобие.
— Плохо же ты меня знаешь, о великий предводитель мятежников! — рассмеялась Диана. — Это был вовсе не возничий, а всего лишь какой-то потный преторианец из прихвостней Отона. От него за милю разило пивом, да и хватило его всего на пару минут.
— Вот как, — не нашелся, что сказать Ллин. — Думаю, твоя семья потрудилась скормить его львам на арене амфитеатра.
— Моя семья ничего об этом не знает. Это их вовсе не касается.
После победы Отона Диана отправилась на поиски головы Пизона, которую унес с собой от ступенек храма преторианец. Девушка хотела выкупить ее, но тому солдату не нужны были деньги.
— В некотором смысле, это был вопрос чести, — уточнила она, видя озадаченное лицо Ллина. — Я сама приняла это решение, и потому не хотела, чтобы кто-то из родственников об этом узнал.
Семейство наверняка закатило бы громкий скандал, хотя это того вовсе не стоило. Пизон наконец смог упокоиться с миром, и это помогло, пусть и не намного, развеять печаль Корнелии. Так что цена, по мнению Дианы, была не столь велика.
— А это правда, что друиды едят людей?
— Конечно. Говорят, они особенно любят приправлять человеческое мясо омелой, — пошутил Ллин. — Смотри, он вылезает!
Жеребенок наконец показался на свет. Ноги малыша были непропорционально длинными, грива мокрыми прядями прилипла к шее.
— Какой же он красивый! — воскликнула Диана, глядя, как Ллин протирает его охапкой сена. — Тоже гнедой, как и его мать. Уверена, скоро он займет достойное место в команде «красных»!
— Дай ему сначала обсохнуть.
Жеребенок, прижимаясь к матери, с любопытством осматривался вокруг.
— Мне кажется, это даже лучше, чем скачки, — улыбнулась Диана.
— Такие мгновения — самые ценные для меня, — согласился Ллин, удовлетворенно глядя на картину воцарившейся идиллии. Малыш пытался подняться, но тонкие ножки подкашивались под ним. Помона подталкивала отпрыска носом в бок, пытаясь помочь ему. Через полчаса жеребенок уже уверенно стоял на ногах. Он быстро обсох, и Диана принялась расчесывать ему гриву.
— Конечно, гнедой, — удовлетворенно сказала она.
Ллин поднялся на ноги:
— Думаю, пора дать им обоим отдохнуть.
Диана и Ллин покинули стойло и вышли из конюшни. Черный пес выбежал вслед за ними. Вечер вступил в свои права, и город окутали сумерки. Теплый ветер шевелил листву деревьев. Тучи рассеялись, и можно было увидеть рассыпанные по вечернему небу звезды. Ллин задрал голову и посмотрел вверх. Окинув взглядом своего спутника, Диана задумалась. Интересно, такие же звезды видел он, когда в детстве смотрел на небо?
Она робко дотронулась до его руки:
— До встречи завтра?
— Да, до завтра.
Отец даже не заметил, что она опоздала к ужину. Он никогда не замечал. Диане казалось, что он какой-то неправильный отец. Впрочем, и себя она тоже считала не самой правильной дочерью. Если задуматься, их связывали лишь кровные узы и взаимная симпатия. Никому из них никогда даже в голову не приходило вмешиваться в жизнь другого, тем более, становиться ее частью. Как ни странно, это устраивало и отца, и дочь.
— Говорят, была битва, — между делом бросил отец, приглаживая седые волосы и стряхивая с них пыль мастерской. — Где-то около Бедриакума, насколько я слышал.
— Вот как, — рассеянно ответила Диана, задумавшись о том, где же находится этот самый Бедриакум, и побежала наверх, к себе в комнату, считать новые синяки. Заглянув в зеркало, она увидела в нем отнюдь не утонченную Корнелию Кварту из рода Корнелиев, по которой вздыхало пол-Рима. Из зеркальной рамы на нее смотрела совсем другая девушка — в шерстяной тунике с дыркой возле коленки. Небрежно завязанные в хвост волосы спутанными прядями лежат на плечах. Нос весь в веснушках, руки в синяках. Эта девушка желала отнюдь не замужества, а уважения к себе со стороны покоренного вождя мятежников, ставшего конезаводчиком. Иными словами, из зеркала на Диану смотрела не гордая патрицианка, а колесничий.
(обратно)
Глава 11
Марцелла
Сорок тысяч человек погибло.
Сколько бы раз Марцелла ни начинала отчет о битве при Бедриакуме, он всякий раз начинался с этих слов.
Сорок тысяч человек погибло. Позже ей стало известно, что эта цифра была сильно преувеличена — в лучшем случае потери составили десять тысяч человек, но никоим образом не сорок. Все равно никто этого точно знал. Но именно эта цифра почему-то укоренилась в ее памяти, когда запыхавшийся гонец доставил эту новость императору Отону.
Сорок тысяч человек погибло.
Вокруг Марцеллы царила суматоха, со всех сторон раздавался гомон и взрывы смеха. Она же, из последних сил стараясь сосредоточиться, перечитывала свои заметки.
Вителлий двигался позади главных сил своей армии. Ранним утром его военачальники атаковали Плаценцию, где расположился полководец армии Отона с тремя когортами преторианской гвардии. Преторианцы сражались, как сумасшедшие, и атака была отражена.
Как сумасшедшие — слишком громкое сравнение для автора, претендующего на объективность и сдержанность исторического повествования. Но Марцелла своими глазами видела троих преторианцев, которые словно боги войны, возвращались в расположенный в нескольких милях от поля боя Бедриакум с докладами императору. Всех без исключения воинов, докладывавших обстановку Отону, опьяняла радость триумфа. Одним из этих троих был центурион Друз Денс.
— Сторонники Вителлия обратились в бегство, цезарь, — бодро сообщил он. — Они бегут, как побитые псы, трусливо поджимая хвост.
— Ха! — Отон радостно стукнул кулаком по подлокотнику трона. Он никогда не отправлялся в военный поход налегке. Даже в простом армейском шатре он неизменно восседал на позолоченном кресле из императорского дворца, держа в руке серебряный кубок, полный его любимого вина. Рядом с Отоном всегда находился цирюльник, чтобы брить его два раза в день, и придворные музыканты, готовые по первому взмаху руки развлекать императора. Сейчас они молча столпились за спиной Отона, нервно теребя струны лир, как и вся многочисленная свита, с нетерпением ожидая продолжения рассказа преторианцев. Марцелла стояла поодаль вместе с другими женщинами, уговорившими своих мужей или любовников сопровождать их в походе.
— Нам стало известно, что Фабий Валент опоздает на несколько дней, цезарь, — добавил Денс. Кровь сочилась из раны на его предплечье, тонким ручейком стекая по пальцам, но он, казалось, вовсе не замечал этого. — У Валента давние счеты с Цециной Алиеном. Вряд ли они поладят, когда им придется соединиться.
— За раздоры в стане врага! — Отон поднял кубок, и шатер наполнился одобрительными возгласами.
В целях безопасности вместе с резервными силами император Отон отошел к Брикселуму, оставив несколько наблюдателей, в чьи обязанности входило передавать известия с поля сражения.
Одним из таких наблюдателей был Луций Элий Ламия. С того момента, как они покинули Рим, он не удостоил Марцеллу ни единым словом.
— Женщине не пристало смотреть на сражения, — раздраженно воскликнул он, когда Марцелла объявила о своем желании остаться с ним и следить за ходом боя.
— Извини, — язвительно ответила она, — что ввела тебя в заблуждение, будто спрашиваю твоего разрешения.
Луций неприязненным взглядом окинул жену. В его глазах читалось неприкрытое презрение.
— Не делай из меня дурака!
Марцелла ехидно улыбнулась.
— Мне даже стараться не надо. Ты прекрасно справляешься с этой задачей сам.
— Ты упрямая стерва! Я разведусь с тобой, если ты не…
— Вперед! — Марцелла повернулась к мужу спиной. — Разводись, а я тем временем буду следить за сражением.
Перепалка супругов достигла ушей императора Отона и, похоже, весьма его позабавила.
— Какая доблесть! — рассмеялся он. — Как хорошо, что ты родилась благородной римлянкой, моя дорогая Марцелла. Родись ты в племени пиктов, ты непременно нанесла бы на тело синюю боевую раскраску и кинулась в бой с топором в руке.
— Что ты, цезарь, — учтиво поклонилась Марцелла. — Я всего лишь скромный наблюдатель. Не более того.
— Что ж, тогда напиши красочную историю моей славной победы и не забудь подарить мне ее, — Отон добродушно потрепал ее по руке. — Мне будет интересно почитать, что ты там напишешь.
И хотя Марцелла не сомневалась, что он забудет о ее историческом труде, как только отвернется, его жест был таким искренним, аулыбка такой теплой, что она зарделась от удовольствия.
Вместе с преторианцами Отон отправился в Брикселум, в окружении толпы молодых придворных, пытавшихся во всем подражать своему императору. До Марцеллы дошли слухи, что в то время как его армия готовилась к сражению, в тот вечер император устроил театральное представление. Весь город был изумлен его выдержкой, Марцелла же отнеслась к этой новости без удивления. Она легко представила Отона восседающим в ложе импровизированного амфитеатра, болтающего с разодетыми прихвостнями, щедро бросая в толпу монеты рукой, унизанной дорогими кольцами.
Полководцы армии Отона вывели на поле боя два легиона, оставив один в резерве. Центральные позиции занимали отряды преторианской гвардии.
Названия легионов она впишет потом, когда будет ясна полная картина происходящего. Пока что перед ее глазами стояла огромная толпа одетых в доспехи воинов и настоящий лес поднятых вверх копий. Издалека все легионеры были на одно лицо, но когда одна когорта прошла строем довольно близко от холма, где расположился Луций и прочие наблюдатели, вооруженные муравьи вновь приняли человеческий облик. Кого только не было в императорских войсках: светлокожие галлы, чья обгоревшая кожа с непривычки шелушилась на солнце, смуглые испанцы, меднокожие египтяне, иссиня-черные нубийцы. Самые разные, совершенно непохожие друг на друга воины со всех концов империи сливались в единую безымянную и грозную силу.
Когда первое смятение битвы улеглось, стоявшие по центру когорты преторианской гвардии начали теснить легионы Вителлия. Метательное оружие не использовалось, только щит против щита.
Марцелла понимала, что всякое сражение в конечном итоге сводилось к хаотичной возне, однако все-таки лелеяла надежду, что с высоты холма во всем этом действе будет виден хоть какой-то порядок. Луций и прочие наблюдатели, включая ловящую на себе гневные взгляды мужа и удивление окружающих Марцеллу, стояли на холме, расположенном на безопасном расстоянии от развернувшейся внизу битвы. В самом начале сражения Марцелла еще могла различить две шеренги воинов, медленно двигающиеся навстречу друг другу. Но через несколько минут пыль, поднятая в теплый весенний воздух тысячами ног, окутала поле боя плотной завесой. Сцена сражения превратилась в огромное облако, из которого доносились крики и лязг оружия. Марцелла никогда прежде не бывала в непосредственной близости от военных действий и была поражена оглушающим шумом сражения. Среди общего гула можно было различить стук щитов, лязг мечей и злобные крики. Раненые, скорчившись от боли, падали на землю и в этот момент из безымянных солдат мельтешащего муравьиного войска вновь превращались в людей. Когда строй распадался, в открывшийся прорыв заступала когорта из резерва, и всё начиналось по новой.
На левом фланге легион Отона прорвал линию войск Вителлия и захватил их штандарт. Вителлианцы перегруппировались и возобновили атаку, окружая легионеров и отрезая их от остальной армии. Полководцы Отона дали сигнал к отступлению, в то время как войско Вителлия продолжало получать подкрепления. Только преторианская гвардия не покинула поле боя.
В записках Марцеллы все выглядело понятно и логично. На самом же деле, стоя на вершине холма, она не имела ни малейшего представления о том, какие маневры разворачиваются у нее перед глазами в данный момент. Вечером того же дня она столкнулась с одним из немногочисленных легионеров, которым удалось выбраться живьем из мясорубки правого фланга.
— Это была кровавая бойня, — сказал он, пустым взглядом уставившись куда-то вдаль, совершенно безразличный к тому, кем была его собеседница. — У каждого второго из нас были друзья в стане врага. Когда мы видели перед собой тех, с кем несколько месяцев назад вместе пили вино в таверне «Синяя русалка», мы опускали мечи. Но приказ есть приказ, и мы горько усмехались и продолжали бой, пока один из нас не падал замертво на землю. Самая настоящая кровавая западня, скажу я тебе, госпожа.
Когда преторианцы лишились защиты на флангах, они наконец дрогнули и начали отступление.
А что еще им оставалось делать? Все поле боя стало ареной массового отступления, воины ломали строй, разворачивались и бежали, поскальзываясь в лужах крови и спотыкаясь о тела погибших.
— Пойдем, — пробормотал Луций, грубо схватив Марцеллу за руку. — Нам надо убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. Это поражение. На сегодня с тебя хватит зрелищ, кровожадная стерва.
Они забрались в стоявшую поодаль колесницу. Испуганный возница хлестнул лошадей, и они помчались к дороге, ведущей обратно в Брикселум. По дороге им то и дело попадались бегущие с поля боя легионеры, покрытые потом, пылью и кровью. Некоторые устало протягивали руки, прося взять их с собой. Один из знаменосцев перегородил дорогу, все еще сжимая в руке потрепанный штандарт и потрясая кулаком. Правда, на этой руке отсутствовала кисть, отсеченная ударом меча какого-то вителлианца. Марцелла не успела толком разглядеть легионера, потому что в следующий миг тот оказался под копытами лошадей.
Сторонники Вителлия не видели для себя смысла давать пощаду тем, кто был не в состоянии заплатить за себя выкуп, поэтому несколько тысяч тех, кому повезло остаться в живых, позднее были убиты. Остатки войска Отона бежали к Брикселуму, чтобы соединиться с резервными войсками, все еще не теряя надежды на новое сражение. Остальные, включая брата императора, сдались на милость Вителлия следующим утром.
Муж Лоллии деловито расхаживал по шатру императора. По его мнению, тому следовало начать новую атаку, не дожидаясь возвращения основных сил. Его оставили в живых. Пока что. В этот момент Марцелла поняла, что Лоллия скоро найдет себе нового мужа, независимо от того, убьют Сальвия или нет. И тогда это будет уже пятый ее брак, а ведь Лоллии всего девятнадцать.
Расположившийся в Брикселуме резерв все еще представлял собой серьезную силу. Он еще больше пополнился вернувшимися с поля боя остатками легионов. Некоторые советники Отона предлагали начать новую атаку против войска Вителлия.
Луций и Марцелла на бешеной скорости проделали путь с места сражения до Брикселума, быстро оставив позади еле плетущихся раненых легионеров. С ними ехал еще один из наблюдателей, низенький человек, который то и дело нервно теребил края своей тоги.
— Этого не должно было произойти, — сокрушался он всю дорогу, и под конец пути Марцелла была готова придушить его собственными руками. Они вылезли из колесницы, протолкнулись сквозь суматоху снующих туда-сюда слуг, крикливых охранников и вошли в шатер Отона. Одного взгляда на его лицо Марцелле хватило, чтобы понять, что они не первые гонцы с вестью о поражении. Тем не менее Луций учтиво поклонился и сообщил о последнем сражении.
— Благодарю тебя, Луций Элий Ламия, — с достоинством произнес Отон и, подозвав слугу, велел принести вина.
Рука императора на удивление твердо держала кубок, на его лице даже играла легкая улыбка, однако взгляд темных глаз был обращен куда-то вдаль, словно у мраморной статуи. Потом последовали долгие часы ожидания. Марцелла знала, что ей здесь не место, но никто и слова не сказал ей в упрек. Наконец она увидела как, прижимая чистую тряпицу к ране на шее, в шатер вошел Друз Денс. Последний гонец упал на колени и оповестил присутствующих, что поле боя покрыто телами сорока тысяч убитых. В шатре тотчас поднялся гул, и вокруг позолоченного трона императора воцарилась суета.
Император Отон терпеливо выслушал все советы прежде, чем принять решение. Затем…
На этом месте отчет Марцеллы обрывался.
— Не надо предаваться отчаянию, друзья мои, — Отон успокаивающим жестом поднял руки. — Я принял решение.
На него настороженно устремили взгляд десятки пар глаз: придворных, полководцев, преторианцев, гонцов, рабов.
— Цезарь, — произнес кто-то, но был прерван повелевающим жестом Отона.
— Подвергать дальнейшей опасности жизнь людей вашего духа и отваги было бы слишком неразумно. Такую цену за свою жизнь я заплатить не готов, — начал он. — Вителлий развязал гражданскую войну, заставив нас бороться за трон. Я положу ей конец тем, что сложу оружие после первого же сражения. И пусть меня осудит потомство: другие императоры пусть и правили дольше, но еще ни один так смело не расставался с властью.
Голос Отона могучей волной прокатился по помещению, как будто речь императора прозвучала в мраморных стенах сената, а не в простом походном шатре. Он окинул глазами присутствующих и улыбнулся. Чисто выбритый, аккуратно причесанный, невозмутимо спокойный. Всё в нем было настолько идеально, что Марцелла невольно задумалась:
интересно, как долго он репетировал эту речь?
— Цезарь, — повторил кто-то дрожащим голосом. — Мы все еще можем сразиться с Вителлием.
Но Отон поднял руку в возражающем жесте.
— Не ждите от меня, что я позволю цвету римской молодежи, составляющей доблестные легионы, проливать кровь во второй раз. Я навсегда запомню вас готовыми сложить за меня свои головы, но вы должны жить. — Император хлопнул в ладоши. — Не будем же напрасно тянуть время! Я не имею права подвергать вас опасности, а вы — оспаривать мое решение. До последнего оттягивать собственную смерть может только трус. Копить обиду на богов и людей может только тот, кто во что бы то ни стало хочет жить. От меня вы не услышите жалоб.
Присутствовавшие мужчины упали на колени. Марцелла последовала их примеру. Она видела, как некоторые из них плачут, но ее собственные глаза были сухи, как песок в пустыне. Однако все ее существо до кончиков пальцев было охвачено изумлением. Император был не менее искусен в лицедействе, чем любой актер, и сейчас она наблюдала, как он разыгрывает главный спектакль всей своей жизни.
Представление тем временем продолжалось. Отон прошел среди своих подданных, поднимая каждого с колен, для каждого находя несколько слов. Рыдающему претору Пету он сказал, чтобы тот поумерил свой пыл в игре в кости, центуриона Друза Денса поблагодарил за храбрость, проявленную им при попытке удержать центр шеренги, пошутил над сенатором Урбином, которому больше не придется беспокоиться о долгах. Один из военачальников попытался убедить императора, что Вителлия еще можно разбить, но Отон успокаивающе улыбнулся в ответ и посоветовал тому присягнуть Вителлию.
— Теперь он твой император. Моли всеблагую Фортуну, чтобы он оказался незлопамятным.
Тот же совет император дал и Марцелле с мужем, предложив им тайно вернуться в Рим и присягнуть Вителлию в нужный момент.
— Моя дорогая девочка, похоже, мне уже не суждено прочитать твой исторический трактат, — грустно сказал Отон Марцелле, поднимая ее с колен. — Сделай мне одолжение, и напиши свою историю так, как тому полагалось быть. Напиши для меня отчет о том, как мы доблестно сокрушили этого обжору и пьяницу, опиши наше триумфальное возвращение в Рим. — Он наклонился, чтобы поцеловать ее в уголок губ, и прошептал на ухо: — И еще, напиши, что мне хотя бы раз удалось затащить тебя в кусты!
Марцелла не знала, смеяться ей или плакать, поэтому просто кивнула. На мгновение в глазах Отона промелькнула искорка страха, но его руки, сжимавшие ее, не дрогнули.
Он описал круг вдоль стен шатра и остановился у занавески, загораживающей вход в его спальню. Рядом с проходом, еле сдерживая слезы, стоял слуга с серебряным подносом, на котором лежали два кинжала.
— А, вот этот подойдет, мне кажется, — произнес император, внимательно выбирая. — Лучше заточен. Доброй ночи всем вам!
Марцелла не видела, как он умер. Она точно знала, что эту ночь Отон пережил. Несколько человек из числа его самых близких друзей всю ночь просидели у входа в его походную спальню, ожидая, что он их позовет. Но он не позвал. Только когда наступило серое туманное утро, оттуда донесся крик. Стражники бросились в опочивальню, но Отон был мертв. Кинжал точно пронзил его сердце. Он умер один. Марцелле казалось, что именно так он и хотел, зная, какая неразбериха начнется потом. Преторианцы предали его тело огню, чтобы Вителлий не смог надругаться над трупом врага. Некоторые из близких друзей Отона решили последовать примеру своего господина и тоже покончили с собой, чтобы не присягать новому императору. Солдаты недовольно ворчали, а остальные придворные в панике бросились обратно в Рим. От коронации до похорон жизнь императора была нескончаемым спектаклем. Но даже император имеет право проститься с жизнью без свидетелей.
Марцелла не могла припомнить подробностей обратной дороги в Рим. Луций остался в военном лагере, чтобы как можно скорее присягнуть на верность Вителлию, поэтому нашел первую попавшуюся повозку и заплатил за место для жены. Бесконечные изгибы дорог, молчаливые попутчики. Перед глазами Марцеллы, когда она пыталась вспомнить путь домой, вставали лишь смутные, туманные образы. Прошла неделя — а может две? — и она вернулась в Рим. Оглядываясь вокруг в поисках паланкина, она не сразу заметила раба своей семьи. В итоге в родной дом Марцелла попала, как и подобает знатной патрицианке.
— Слава Юноне, с тобой все в порядке! — воскликнула Корнелия, обнимая сестру, как только та показалась на пороге. Почти все семейство присутствовало при ее возвращении, но сестры и кузины сразу бросились к ней, и Марцелла с благодарностью упала в их объятия, едва ли не стыдясь того, что когда-то они ее раздражали.
— Мы поставили рабов высматривать тебя у всех городских ворот, как только до нас дошли новости…
— Ты цела! — радости Лоллии не было предела. — Я стерла себе колени в каждом храме города…
— Теперь уже не я, а ты самая сумасшедшая из всех нас, — Диана в порыве чувств бросилась ей на шею. От Марцеллы не скрылось, что на руках кузины прибавилось синяков. — Просто делай, как я, и улыбайся, когда они начтут читать тебе нотации. Их это просто бесит!
— Как хорошо, что ты снова дома, — улыбнулся Гай.
— Неужели ты готов ей попустительствовать? — фыркнула Туллия. — Надеюсь, ты осознаешь неосмотрительность своего приключения, Марцелла. Тебя ведь могли убить.
— Сожалеешь, что этого не произошло? — парировала Марцелла. — Тогда бы ты перекрасила мою комнату в омерзительный розовый цвет, которым ты уже изгадила весь дом.
— Она очень устала, дорогая, — прошептал Гай на ухо жене. — Возможно, она немного не в себе.
В честь возвращения Марцеллы было устроено семейное торжество. Корнелия усадила ее рядом с собой и уберегала от назойливого внимания домочадцев, пока та ела. Марцелла с благодарностью сжала руку сестры, на что Корнелия так же ответила рукопожатием.
— Выходит, Сальвий жив? — поинтересовалась Лоллия. — Я рада. На самом деле он довольно безобиден, хоть и горазд размахивать кулаками. Значит, еще один развод не за горами, — она вздохнула. — Дед уже ищет мне мужа из рода Вителлиев.
— Тебе известно, что Вителлий страстный поклонник «синих»? — Диана сморщила носик. — По крайней мере это значит, что будет еще больше скачек…
— Извини, — Марцелла поставила кубок на стол. — Мне надо выйти, я хочу прогуляться. Прикроешь меня?
— Конечно, — с готовностью согласилась Корнелия и отослала Туллию под предлогом, что ей не понравились устрицы. Лоллия отвлекла Гая, слегка приспустив платье с плеч. Диана незаметно передала Марцелле свой плащ.
Руки Марцеллы дрожали, когда она забиралась в паланкин. Дул приятный теплый ветерок, но она задернула занавески. Лучи заходящего солнца, просачиваясь сквозь тонкую ткань, играли розовым цветом. Марцелла поудобнее устроилась на подушках и закрыла глаза руками.
— В сады, — приказала она носильщикам. — Отнесите меня в ближайшие сады.
Прошли долгие минуты, прежде чем Марцелла успокоилась, и дрожь оставила ее. Когда она наконец опустила руки, на ее лице играла улыбка.
Носильщики остановились, и она вылезла из паланкина. Безымянная зеленая заплатка на самом верху Квиринала не слишком подходила под определение сада. Зеленая полянка с несколькими деревьями и парой каменных скамеек, где юноши плебеи гуляли со своими возлюбленными, хотя и не могла претендовать на звание сада, зато с нее открывался прекрасный вид на весь Рим. Сейчас, когда Марцелла стояла здесь в одиночестве, великий город принадлежал целиком ей одной. С одной стороны оранжево-розовый диск солнца садился за горизонт, его последние лучи прорывались сквозь толщу фиолетовых облаков. Другая стороны неба была темно-синего бархатистого оттенка. Внизу, раскинувшись, словно, сплетенная из светлячков сеть, пылали огни освещающих улицы факелов. Рим. За последний год он видел четырех императоров: Нерона, Гальбу, Отона, и вот теперь Вителлия. Четыре императора…
Троих из них помогла свергнуть я, подумала Марцелла.
По крайней мере отчасти.
Нерон был сплошным недоразумением. «В твоем лице, цезарь, мир лишится великого актера», — однажды сказала ему Марцелла во время пира, пытаясь сделать ему приятное. Но вместо того, чтобы приободриться, он уткнулся ей в колени и начал рыдать, спрашивая, как ему скрыться от превратностей этого мира. Она ответила, что он скорее падет от собственного меча, чем сенату удастся казнить его. Больше всего на свете в тот момент ей хотелось встать и уйти домой… Однако Нерон неделю спустя действительно умер, пронзив себя острием собственного меча. И даже процитировал ее слова о смерти великого актера. Сам он никогда не мог написать для себя достойную речь.
Гальба… В некотором смысле его смерть также была случайностью. Почти. Наследником был провозглашен Пизон. Марцелла пошутила над Отоном, сказав, что если жрецы нагадают плохие предзнаменования, то он еще может тешить себя надеждой, что его провозгласят императором. Тот же мертвой хваткой вцепился в эту идею, подкупил жреца, чтобы тот истолковал знаки как неблагоприятные, и с выгодой для себя воспользовался недовольством солдат. На самом деле ее шутка была таковой лишь отчасти — уже тогда Марцелла не исключала возможности, что Отон поймет намек. Чего она не подозревала, так это того, что он зайдет так далеко. Она вовсе не желала смерти Пизону, да и сама не хотела бы умереть на ступенях храма Весты вместе со своими сестрами и кузинами, как то едва не случилось. Тогда события действительно едва не приняли самый скверный оборот.
Отон. Это была скорее попытка. Бедную Корнелию обуревал гнев по поводу смерти Пизона, и она пылала ненавистью ко всему, что так или иначе связано с убийцей ее мужа. Марцелла не удержалась и интереса ради поведала сестре несколько подробностей. Любопытно было посмотреть, что та предпримет. Надо сказать, что Корнелия оказалась куда более предприимчивой, чем ожидала Марцелла, — она примкнула к соратникам Вителлия и, ускользая из дома под видом посещения бань, начала передавать им любые сведения, какие, по ее мнению, могли помочь заговорщикам свергнуть ненавистного ей Отона. Марцелла и сама была готова встретиться с заговорщиками, однако Корнелия горела таким рвением, что ей ничего другого не оставалось, как просто «подкармливать» сестру нужными той сведениями. Передвижения легионов, тыловое снабжение, мелочное соперничество среди полководцев Отона — все это она как бы невзначай вкладывала в уши сестре или оставляла ей на видном месте записки. Корнелия передавала эти сведения соратникам Вителлия, и те не преминули ими воспользоваться, чтобы одержать победу над Отоном при Бедриакуме.
Было ли поражение Отона полностью моей заслугой, размышляла Марцелла.
Скорее всего, нет. Но ей было приятно думать, что свой вклад в победу Вителлия она тоже внесла. Жаль, правда, что Отон покончил с собой. Несмотря ни на что, он все-таки ей очень нравился.
А сейчас на императорском троне сидит Вителлий.
Из того, что Марцелле было о нем известно, он был толст, прожорлив
и большой любитель скачек. Не слишком умен — скорее марионетка в руках честолюбцев. Что же с ним можно сделать?
Она села на поросшую мхом скамью, откуда открывался прекрасный вид на город. Рим. Она писала его летопись. Исписала уже несколько свитков. Но насколько они хороши, эти ее истории? Никто никогда не опубликует того, что вышло из-под пера женщины, никто никогда этого не прочтет. И тем не менее она продолжала писать, ведь что еще ей оставалось? Как известно, женщины не творят историю. Самое большее, что они могут, — это быть очевидцами событий. И все-таки она, высокородная Корнелия Секунда, известная также как Марцелла, с высоты холма взирала на Рим, а у ее ног лежали три мертвых императора. Никто даже не догадывался, что они там лежат, — ни муж, который презирал ее, ни сестра, которая всем своим видом выражала свое неодобрение, ни обе дурочки-кузины. На уме у одной были исключительно любовники, у другой — лошади. Никто ничего не знал. Никто ни о чем не догадывался. Марцелла рассмеялась вслух, представив себе выражение лица Туллии, если бы та узнала, что ее золовка низложила троих императоров.
Впрочем, кто знает, кто знает…
— Марцелла, — раздался за ее спиной резкий голос. — Я приходил к тебе домой, но рабы сказали, что ты пошла прогуляться, и мне ничего не оставалось, как отправиться вслед за твоим паланкином.
— Домициан! — обернулась к нему Марцелла, с улыбкой глядя на коренастого юношу, поднимавшегося верх по склону холма. — Вот уж никак не ожидала тебя здесь увидеть!
— Каждый день, когда тебя не было в городе, я возносил молитвы богам, чтобы они берегли твою жизнь, однако успокоился лишь тогда, когда до меня дошли добрые известия.
— Но не ты ли утверждал, будто твой Несс еще никогда не ошибается?
Домициан. Младший сын Веспасиана, блестящего и проницательного полководца, наместника Иудеи. У него единственного имелась армия, способная противостоять легионам Вителлия. Веспасиан приносил присягу верности Гальбе, затем Отону. Интересно, присягнет ли он на верность Вителлию? После смерти Нерона верные ему легионы хотели провозгласить его самого императором. По крайней мере до нее доходили такие слухи.
— Слава богам, что ты жива и здорова! — воскликнул Домициан, бесцеремонно заключая ее в объятья.
— Да-да, жива и здорова, — смеясь, подтвердила Марцелла и попыталась оттолкнуть его руки, которые уже пробрались под складки ее платья. Увы, у нее ничего не получилось. Домициан оказался на редкость силен. Не говоря ни слова, он стащил ее со скамьи на траву и проник в нее еще до того, как его губы жадно приникли к ее губам. Неожиданно на Марцеллу горячей волной накатилось желание. Обвив Домициана ногами, она рвала на нем тунику, а когда он попробовал поцеловать ее, впилась зубами ему в щеку. Затем перевернула его на спину и оседлала, словно хищница, едва ли не до крови царапая длинными ногтями ему грудь. Крик из его горла рвался к вечернему небу, а на губах Марцеллы играла — нет, не улыбка блаженства, на них застыл оскал похотливой самки.
— Ты моя, — приговаривал Домициан, крепко прижимая ее к себе, — ты моя.
Нет, это ты мой, мысленно поправила его Марцелла. Наконец она скатилась с него и поправила порванное платье.
Домициан. Сын Веспасиана. Чем ты можешь быть мне полезен?
Разумеется, ей следует проявлять осторожность. Действовать осмотрительно, не привлекая к себе внимания. Действительно, почему бы не попробовать? Потому что всякий раз, когда она пыталась играть в открытую, — будь то с мужем, с братом, с кем угодно! — на нее не обращали внимания. Да что там! От нее отмахивались, как от назойливой мухи, откровенно презирали. Разве она когда-нибудь добивалась своих целей честными способами? Ни разу. Только действуя исподтишка.
Солнце уже село, и на небе начали зажигаться звезды. На фоне черного бархата ночного неба они казались россыпью жемчужин над сияющим огнями городом. Рим. Город, в котором всего за один год сменились три императора. А ведь еще только весна!
Три императора. А почему не четыре? — задалась мысленным вопросом Марцелла. Нет, творить историю гораздо интереснее, чем просто записывать ее на свитке.
(обратно)
(обратно)
Часть III
ВИТЕЛЛИЙ
Апрель — декабрь 69 года нашей эры
Проживи он чуть дольше, его аппетиту было бы мало целой империи.
Глава 12
Корнелия
Корнелия улыбалась, а вот виновница торжества, Лоллия, была вне себя от ярости.
— Все, с меня довольно, — повторяла она, видя в зеркале, как рабыня поправляет складки на алом покрывале. — Это последний раз. Больше никаких свадеб. А Вителлий пусть покрепче держится за свой трон. Три мужа в течение одного года — это уж слишком!
Рабыня суетилась вокруг нее, но Лоллия продолжала хмурить брови и что-то возмущенно бормотать себе под нос. Корнелия откинулась на ложе, с улыбкой разглядывая голубой мраморный потолок и позвякивая браслетами на левом запястье. По случаю торжества она облачилась в ярко-желтую столу, руки вплоть до локтей унизала браслетами, а темные волосы убрала в прическу, которую держал сдвинутый на лоб золотой обруч. Как только до нее дошла весть, что Отон мертв, она тотчас же сбросила траур.
Она сидела в четырех стенах и даже успела соткать несколько кусков полотна, после чего, правда, распустила их на нитки собственными же руками, когда в атрии раздался крик, а за ним еще чьи-то голоса. Выронив из рук челнок, она испуганно бросилась на этот шум. В атрии она застала раба — он что-то невнятно рассказывал про сражение Отона и Вителлин при Бедриакуме. У ног его валялась корзина, а по полу раскатились фрукты, видимо, он выронил ее, когда со всех ног бросился в дом, чтобы поскорее поведать новость.
— О боги, — пробормотал Гай. — Сначала успокойся. Так что ты?..
— Живо говори! — приказала рабу Туллия, и тот мгновенно вытянулся перед ней по стойке смирно. Правда, говорить связными предложениями он так и не смог, чем немало рассмешил Корнелию. От хохота слезы брызнули из ее глаз, а сама она согнулась пополам. Чтобы как-то сдержать себя, она попробовала зажать рот ладонью, но смех все равно рвался наружу. Когда же рабы отвели ее в ее спальню, она тотчас сорвала с себя траурный наряд и, обнаженная, со смехом закружилась по комнате. По ее щекам струились слезы, и она вновь ощущала себя живым человеком, а не каменной статуей. Отон мертв, возможно, потому, что она передала кому нужно важные сведения, и вот теперь в Риме будет новый император. Пизон отмщен.
По этому случаю Корнелия произнесла про себя тост и одним глотком осушила кубок вина, после чего попросила еще. Лоллия изумленно выгнула бровь.
— Почему-то когда утром вино пью я, ты называешь это неприличным.
— Сегодня праздник, Лоллия.
— Что ж, тогда я не стану тебя за это корить. Более того, я должна быть благодарна тебе за то, что ты снова заговорила со мной.
— Просто я поняла, что ты здесь не при чем, — великодушно произнесла Корнелия. — Я имею в виду, что ты в свое время заняла сторону Отона. В конце концов тебя ведь вынудили выйти замуж за его брата.
— Верно, вынудили, — кротко согласилась Лоллия. — Так что можешь не ждать от меня никаких извинений. Потому что я не сделала ничего дурного.
На какой-то миг она посмотрели друг на дружку в зеркале. Лоллия заколола убранные в высокую прическу локоны золотой заколкой. Корнелия сделала еще один глоток вина.
— Скажи, а император будет на твоей свадьбе? — спросила она у кузины примирительным тоном.
— Пусть только попробует не прийти, — нахмурилась Лоллия, — после того, как мой дед истратил на пир двести тысяч сестерциев. Ведь, как известно, Вителлий — страшный обжора. Бедные повара уже сбились с ног.
Корнелия представила себе простое, крестьянское лицо нового императора. После победы при Бедриакуме Вителлий неспешным триумфальным маршем прошел по всей Италии. Он заходил во все города на своем пути, где его встречали как победителя и потчевали щедрыми угощениями на пирах. Когда он наконец дошел до Рима, весна сменилась жарким летом. В город Вителлий вошел пешком, следом за ним, четким боевым строем, — его доблестные легионы и наемники-германцы в волчьих шкурах. Корнелия пожирала глазами нового императора, когда тот шел вверх по Капитолийскому холму, чтобы принести в храме Юпитера жертвоприношение в честь победы. Шел он, слегка прихрамывая, рослый, широкоплечий, румяный с внушительным животом и довольной улыбкой на простоватом лице. В нем не было ничего от вероломного, лицемерного, надушенного Отона.
— …не знаешь, пожалует ли к нам сегодня Диана? — недовольно осведомилась Лоллия. — Последнее время она стала совсем странная. Постоянно куда-то исчезает, а потом возвращается вся в синяках. Может, оно даже лучше, что ее сегодня нет. Император Вителлий — страстный поклонник «синих», и я бы не хотела, чтобы они с ней спорили с пеной у рта, какая партия лучше, — Лоллия слегка наклонила голову, рассматривая свое отражение в зеркале. — Может, хотя бы Марцелла придет?
— Не знаю. Она до сих пор ни с кем не разговаривает после того, что случилось при Брикселлуме.
— А что лично с ней случилось при Брикселлуме? — съязвила Лоллия. — Лично мне, когда она вернулась, не показалось, что она чем-то напугана. Да и сейчас тоже не кажется. О, пожалейте меня! Я была вынуждена наблюдать за сражением! Точно так же, как тогда с Нероном; кстати, что с ним тогда произошло? Удобный предлог не делать того, чего ей не хочется делать.
— О, Лоллия! — Корнелия поерзала на ложе. — На твоем месте я бы не стала говорить подобные вещи!
— А разве я говорю неправду?
— Не в этом дело, — ответила Корнелия, а сама вспомнила и недавний пир у Гая, и последние гонки колесниц в Большом цирке, и пир в честь обручения Лоллии. Марцеллы не было ни в одном из этих мест.
— Не могу, это выше моих сил, — сказала тогда Марцелла, устало моргая. Все тотчас принялись уговаривать ее, советуя прилечь и отдохнуть. Правда, когда Корнелия поднялась к ней в ее крошечный кабинет, было видно, что отдых не входил в ее планы. Нет, Марцелла сидела за столом и, с блеском в глазах, водила пером по пергаменту.
— Ты не хочешь рассказать мне, что произошло у Брикселлума? — полюбопытствовала Корнелия. — Я ведь не Туллия и постараюсь тебя понять.
— Что я должна тебе рассказать? — ответила Марцелла, пожимая плечами. — Погиб еще один император. Думаю, в этот год на нас свалилось слишком много событий.
— А я бы не отказалась посмотреть, как погиб Отон, — возразила Корнелия, ощущая не свойственное ей злорадство. — Жаль, что меня не было рядом с тобой при Брикселлуме. С каким удовольствием я бы плюнула его трупу в лицо!
— Сомневаюсь, что ты бы это сделала, — задумчиво ответила Марцелла. — Он умер как герой.
— Мой муж тоже умер как герой! — перед мысленным взором Корнелии до сих пор стояло лицо ее мертвого мужа. Смерть превратила красивые, благородные черты в ужасную, отталкивающую маску.
Задумчивости Марцеллы как не бывало.
— А разве кто-то с этим спорит?
Корнелия посмотрела на сестру. Лицо Марцеллы ничего не выражало.
— Мне лучше уйти?
— Да, я чувствую себя совершенно разбитой, — тотчас ответила Марцелла. — После Брикселлума…
— После Брикселлума ты старательно избегаешь меня! — вспылила Корнелия и, хлопнув дверью, вышла вон.
Лоллия по-прежнему недовольно рассматривала себя в зеркале.
— Рубины, — сказала она, обращаясь к служанке. — Думаю, нелишне будет напомнить этому Фабию, что я богатая невеста. В конце концов именно по этой причине он на мне и женится, — Лоллия протянула руки, и рабыня застегнула на ее запястьях украшенные рубинами браслеты. Затем Лоллия подставила уши, чтобы та вдела в них тяжелые, по самые плечи серьги.
— И как тебе твой новый муж? Он тебя устраивает? — поинтересовалась Корнелия у кузины — не потому, что это действительно было ей интересно, а чтобы выбросить из головы навязчивые мысли о Марцелле. В течение нескольких месяцев она не находила себе места от горя, затем от желания отомстить. Все это время ей было не до светских бесед, и уж тем более бесед с Лоллией. Но теперь все обиды остались позади.
— Полководец Фабий Валент, — улыбнулась Корнелия. — Твой дед не терял времени, пытаясь поймать его в свои сети.
— Он даже пальцем не пошевелил. Просто Фабий посвятил несколько дней знакомству с самыми богатыми невестами Рима. И в конце концов ноги привели его к моей двери.
— Но ведь он незнатного происхождения! — Корнелия презрительно, хотя и довольно беззлобно сморщила носик. Что, возможно, Фабий Валент обыкновенный проходимец и авантюрист, но он правая рука Вителлия. Это он выиграл битву при Бедриакуме, это он нанес поражение Отону.
— Вителлий о нем самого высокого мнения, — добавила Лоллия, надевая на палец массивный перстень с жемчугом и рубинами. — Первое время нам придется пожить в императорском дворце. Впрочем, Фабий сказал мне, что уже к концу недели у него будет собственный дворец. Если не ошибаюсь, он положил глаз на особняк сенатора Квинтиллия на Цслии. Говорят, в саду у сенатора даже устроены водопады, — Лоллия вздохнула. — А еще он выгнал какого-то претора с его виллы в Байях. И конфисковал дом бедного Сальвия в Брундизии.
— Бедный Сальвий! — после смерти Отона Корнелия прониклась сочувствием к его брату. После поражения Отона его было не узнать. Куда только подевалось его былое высокомерие! Сальвий вернулся в Рим, поджав хвост, словно побитый пес. И хотя Вителлий не стал его трогать и оставил в живых, все избегали его, никто не желал с ним знаться. Дед Лоллии как человек мудрый тотчас же устроил для своего бесценного сокровища развод. Более того, добился возвращения приданого вплоть до последнего гроша, а всего спустя пару дней с предложением руки на пороге его дома появился Фабий Валент.
— Ну вот, так гораздо лучше, — Лоллия без особой радости посмотрела на себя в зеркале. Рабыни — те, кому было поручено следить за ее красотой, — суетились вокруг своей госпожи, спеша поправить складки свадебного наряда, припудрить лицо, воткнуть в прическу еще одну золотую шпильку. Собственно говоря, их была целая армия — тех, кто отвечал за ее кожу, волосы, ногти, наряды, и тех, кто помогал им в этом деле, и все они в эти минуты светились гордостью за творение своих рук. — Ну, разве я не хороша? — вздохнула Лоллия, хотя и без особого воодушевления, и раздала рабыням пригоршню монет. — Даю вам всем сегодня свободный день. Думаю, для вас он будет куда более приятным, чем для меня.
Корнелия отставила кубок и вместе с Лоллией вышла из комнаты. На трех предыдущих свадьбах Лоллии она была подружкой невесты. Сегодня эта честь досталась Туллии. Та уже ждала Лоллию с остальными членами семьи — нетерпеливо поправляла складки красного платья, то и дело одергивая своего четырехлетнего сынишку Павлина.
— Ну-ну, — произнесла она, оглядывая Лоллию придирчивым взглядом с головы до ног. — Новый муж на летний сезон. Будем надеяться, что этот продержится дольше остальных.
— А мне никак не верится, что ты так долго удерживала при себе Гая, — с нежнейшей улыбкой подпустила шпильку Лоллия. — Марк Норбан обладал терпением олимпийского бога, коли так долго терпел твой скрипучий голос. Как будто кто-то водит ногтем по стеклу.
Туллия тряхнула своими фальшивыми локонами и сделала вид, что не замечает, как малыш Павлин пытается вскарабкаться на каменный край бассейна.
— Значит, Гая я устраиваю.
— О боги, да ты вот уже несколько месяцев не даешь ему и слова сказать. Откуда тебе знать, что он думает на самом деле!
— Как я рада вновь видеть Павлина! — поспешила встрять в их перепалку Корнелия, оттаскивая сына Туллии от фонтана. — А что, Марк тоже пришел?
— Нет. Разве ты не слышала? — Туллия зевнула. — Вителлий бросил его за решетку, если не за одно, то за что-то другое. Мне ничего не оставалось, как взять Павлина себе. Хотя, может, я в конце концов отправлю его на какое-то время из города. Скажу честно, не хочу, чтобы меня что-то связывало с именем Норбан.
Бедный Марк, подумала про себя Корнелия. На душе тотчас сделалось неспокойно. Быть брошенным в тюрьму лишь за то, что в твоих жилах течет кровь императора Августа! Хотелось бы надеяться, что Вителлий вскоре выпустит его на свободу. Потому что сейчас другие времена. Отон мертв, и теперь в Риме воцарятся мир и спокойствие.
Как хорошо, что Павлин пробудет в их доме какое-то время! Корнелия обожала очаровательного маленького непоседу, которому ни минуты не сиделось на месте.
— Ловить лягушек ты можешь потом, — строго сказала она мальчику, в очередной раз оттаскивая его от фонтана. — О, боги, тебя давно пора подстричь! Завтра я сделаю это своими руками. Обещаю, что потом буду играть с тобой целый день.
— О боги! — вздохнула Лоллия и отправила мальчишку-раба в триклиний за дедом, где тот наблюдал за тем, как идут приготовления к свадебному пиршеству. — Пора начинать. А где Фабий?
Туллия, не скрывая зависти, рассматривала рубины Лоллии. На ней самой были кораллы в тон платью.
— Возможно, он устал от тебя еще быстрее, чем все твои предыдущие мужья.
— Туллия, дорогая моя, ему нужна не я, а мои деньги. Скажи, ты видела, чтобы кто-то уставал от денег? Ты точно нет, — Лоллия одарила ее приторной улыбкой. — Думаю, Фабию потребуется время, чтобы пустить на ветер мои деньги. Это ты торопишься выжать из Гая последние гроши. Не удивлюсь, что ты успела разорить Марка прежде, чем он развелся с тобой.
— Лоллия, — одернула ее Корнелия. Диана и Марцелла не упускали случая, чтобы подпустить Туллии шпильку, а вот Лоллия с ее добрым характером умела ладить со всеми. Тогда зачем ей понадобилось сегодня портить отношения с Туллией?
Неужели я теперь единственная из нас четырех Корнелий, кто еще пытался как-то соблюдать приличия?
— У меня, — огрызнулась Туллия, не обращая на Корнелию внимания, — кроме денег есть другие достоинства. И мне есть, что предложить мужу.
— Это какие же достоинства? — со злорадной улыбкой уточнила Лоллия. — Самое сухое место между ног во всем Риме?
В этот момент, поправляя парик, из триклиния показался ее дед и обвел их всех суровым взглядом. Туллия презрительно фыркнула, однако прикусила язык. Лоллия подошла к деду, чтобы поцеловать Флавию. Та, сияя довольной улыбкой, сидела у прадеда на руках. Кудрявую головку девочки украшал праздничный венок.
Юнона всемилостивая, подумала Корнелия,
Флавия единственная, кто сегодня улыбается. Свадебная процессия с хмурыми лицами направилась к выходу.
— Хочешь идти рядом со мной, Павлин? — предложила мальчику Корнелия, потому что родная мать не обращала на него внимания.
— Хочу, — бесхитростно ответил он и протянул ей руку. — Моя мама ненавидит свадьбы.
— Неужели?
— Наверно, она ненавидит свадьбы тети Лоллии, — ответил Павлин и на минуту задумался. — Или просто тетю Лоллию.
Если ты Гай, то я Гайя. Очередная брачная церемония. Корнелия усадила Павлина себе на бедро, глядя, как рубины Лоллии, подобно десятку дьявольских темно-красных глаз, зловеще горят в лучах солнца; как жрец не скрывает своего раздражения по поводу того, что жених опаздывает. Фабий Валент объявился в самую последнюю минуту, когда терпение всех было на исходе. Перепрыгивая через ступеньки, он взбежал к алтарю, а вслед за ним его офицеры и наемники-германцы. О боги, какое странное зрелище они являли! Неотесанные провинциалы, обросшие длинными волосами, руки в шрамах, речь грубая, резкая, совсем не похожая на певучую патрицианскую латынь. Как не похожи они на свиту Гальбы, состоявшую из степенных, облаченных в тоги сенаторов, или щеголеватых придворных Отона. Да они вообще не римляне! И все же пусть они грубы и неотесанны, пусть им не хватает внешнего лоска, однако Фабий Валент и его воины возвели на трон нового римского императора. Еще вчера он был никто, подумала Корнелия, слушая, как очередной жених Лоллии, подмигнув своим приятелям, произносит слова брачного обета. А сегодня все спешат отвесить ему поклон и подобострастно заглядывают в глаза. В какие странные времена мы, однако, живем!
По крайней мере Фабий Валент был хорош собой — чего-чего, а этого у него не отнять. Хотя бы в этом Лоллии повезло. Высокий, темноволосый, крепкого телосложения. В свои сорок шесть лет он легко мог дать фору юноше в два раза его младше. Даже на собственное бракосочетание Фабий, как истинный воин, явился в доспехах. Скользнув довольным взглядом по рубинам Лоллии, он без суеты выполнил все, чего от него требовал ритуал. Жертвенный бычок запаниковал на ступеньках храма, и потребовалось три взмаха ножа, прежде чем удалось вскрыть артерию на его шее. Нехорошее предзнаменование, но, с другой стороны, бывало ли на свадьбах Лоллии хотя бы одно хорошее?
Корнелия почувствовала, как к ней подошла и встала рядом сестра, молчаливая, равнодушная, в бледно-зеленом вышитом платье и зеленых яшмовых бусах.
— С тобой все в порядке? — шепотом спросила ее Корнелия.
— Да-да, — ответила Марцелла. Лицо ее ничего не выражало. Впрочем, так бывало всякий раз, когда кто-то интересовался ее личными делами. Правда, когда ее спрашивал кто-то другой, она потом за его спиной корчила презрительную гримасу, которая предназначалась исключительно Корнелии, мол, как они мне все надоели! Впрочем, сегодня Корнелия не заметила в глазах сестры этого заговорщицкого блеска.
С каких это пор я стала для нее одной из них? Очередной родственницей, которую приходится терпеть, и не более того?
— Гай! — прошипела Туллия за их спинами. — Почему бы тебе не купить мне сапфиры? Я уже давно прошу тебя это сделать. Все увешаны драгоценностями с ног до головы, и только я среди них как бедная родственница.
Когда церемония была в самом разгаре, откуда-то появилась Диана, и горло Корнелии на мгновение железной хваткой сжал ужас. На последнее бракосочетание Лоллии Диана тоже пришла с опозданием, да еще принесла с собой мешок, в котором лежало нечто ужасное, изуродованное жуткой гримасой смерти.
— Тетя Корнелия, мне больно. Зачем ты так сильно сжала мне руку! — подал жалобный голосок малыш Павлин, и Корнелия поспешила разжать пальцы. К ее величайшему облегчению, на сей раз Диана явилась на свадьбу с пустыми руками.
— Надеюсь, твоя кузина не притащила нам в подарок отрезанную ногу, — съязвила, заметив ее, Туллия.
Услышав ее слова, Диана резко обернулась и буквально испепелила ее полным ненависти взглядом.
— Могу, если тебе этого так хочется.
Тем временем Лоллия и Фабий Валент взялись за руки. Церемонию завершило подписание брачного контракта. Ряды Корнелиев приветствовали новобрачных жидкими рукоплесканиями, германцы Фабия — ревом нескольких десятков глоток.
— А теперь приглашаем всех на пир! — донесся до Корнелии голос деда Лоллии. От волнения он крутил перстни на пальцах. — О боги! Мои повара!..
Впрочем, когда свадебная процессия вернулась к нему в дом, ему не было поводов волноваться. Просторный триклиний был в образцовом порядке: пиршественные ложа стояли ровными рядами, надушенные благовониями, с горой шелковых подушек. Вышколенные рабы раздавали улыбки, статуи украсились гирляндами цветов, а в фонтане вместо воды золотистыми струями било вино. Даже небо над головой было безупречно-голубым, в тон голубым мраморным колоннам, что выстроились по периметру триклиния. На мозаичном полу были рассыпаны синие васильки.
Можно подумать, что дед Лоллии заключил сделку с самим Аполлоном, чтобы тот обеспечил такой ясный, солнечный день, улыбнулась про себя Корнелия, обмахиваясь рукой.
Впрочем, я бы не удивилась.
Павлину было жарко, и он, припав головкой к ее плечу, то и дело хныкал.
— Туллия, Павлин устал. Его нужно уложить спать.
— Позови его няню.
— Нет, я сама его уложу.
Впрочем, няня уже спускалась к ним навстречу и, бесцеремонно вырвав мальчика из рук Корнелии, которая порывалась сделать это сама, унесла его прочь. По всей видимости, по ее мнению, — как, впрочем, и, по мнению Туллии, патрицианкам нельзя доверять детей. Павлин сонно улыбнулся, а сердце Корнелии сжалось от боли.
Когда-то я мечтала, что у меня самой будут дети. Мечтала и возносила молитвы богам, и плакала, но так никого и не родила. А вот у этой стервы Туллии такой замечательный сын. Ну почему?
Впрочем, сейчас ей меньше всего хотелось предаваться пустым мечтаниям. Она уже смирилась с тем, что детей у нее никогда не будет, что она никогда больше не выйдет замуж. Ее жизнь принадлежала Пизону, и по крайней мере она за него отомстила. Что ж, с нее и этого достаточно. Когда Павлин подрастет, когда подрастут ее еще не появившиеся на свет племянники и племянницы, они все станут перешептываться, глядя на свою тетю Корнелию, которая спустя годы будет облачена в траур. «А ведь она могла стать императрицей», скажут они, потрясенные до глубины души ее преданностью покойному супругу. Но ее муж погиб, и она посвятила всю свою жизнь памяти о нем. Ей пятьдесят лет, а она по-прежнему носит на пальце обручальное кольцо…
Схватив у рабов кубки, германцы Фабия с ликующими воплями ринулись к фонтану. Фабий, разговаривая поверх ее головы со своими офицерами, подвел Лоллию к почетному пиршественному ложу. От Корнелии не скрылось, каким злобным взглядом одарила ее сестра управляющего, когда тот отвел ей одно пиршественное ложе с Туллией.
— Прекрасно! Почему бы тебе сразу не бросить меня в яму со змеями!
Что касается самой Корнелии, то ей повезло больше, она оказалась на одном ложе с Дианой и, когда та сбросила с плеч шаль, на мгновение застыла от удивления.
— Что такое ты делала? — Обе руки ее юной кузины были сплошь в синяках. — Или твой отец наконец не выдержал и, взяв в руки ремень, устроил тебе показательную порку?
— Нет, — пожала плечами Диана. — Просто я вывалилась из колесницы.
— И все твои синяки от этого?
— Ну, она еще немного проехала по мне.
В пиршественный зал тем времени вносили закуски — зеленые и темные оливки, воробьев, запеченных в курином желтке, жареные колбаски, сливы, зерна граната, рагу из устриц и мидий. Перед тем, как взяться за угощения, Лоллия ополоснула пальцы в розовой воде, а вот Фабий не стал мыть рук, а сразу взялся за серебряное блюдо с жареными колбасками. Остальные офицеры, громко переговариваясь через весь стол, последовали его примеру. Разумеется, каких манер еще можно ожидать от тех, кто провел всю жизнь среди варваров!
В зал, дабы усладить слух гостей, вошло трио флейтистов, однако нежные звуки их флейт вскоре потонули в реве фанфар.
— Император!
И зал вошла еще одна процессия солдат, на сей раз преторианцев в красно-золотой форме, еще с десяток германцев в жутких варварских штанах, несколько безвкусно накрашенных женщин и наконец сам император, говорливый и смеющийся. На его тунике Корнелия разглядела винные пятна. Дед Лоллии, отвешивая низкие поклоны, тотчас бросился им навстречу. Рабы тотчас вынесли еще одно почетное ложе. Вителлий с радостным воплем тотчас же рухнул на него всем своим весом и поманил к себе Фабия.
— И пусть твоя невеста тоже идет ко мне. Смотрю, ты выбрал себе смазливую мордашку, — с этими словами Вителлий легонько похлопал Лоллию по щеке. Гости тотчас подобострастно заулыбались, надеясь в душе, что никто не вспомнит, что точно с таким же подобострастием они еще недавно низко кланялись и улыбались Отону.
Еще два месяца, и Отона позабудут, подумала Корнелия, наблюдая за тем, как Гай и Туллия лебезят перед Вителлием. Когда в Рим пришло известие о том, что Отон погиб, в городе пару часов царила паника. Плебс, ощутив свободу, наводнил собой улицы. Беснующиеся толпы низвергали с пьедесталов его статуи, крошили вдребезги его выставленные на форумах бюсты. Скорее откуда-то появились статуи Вителлия, и народ принялся украшать их гирляндами цветов. Из каких-то неведомых хранилищ были извлечены даже статуи Гальбы, которые тоже вскоре украсились гирляндами, поскольку Вителлий заявил, что следовало отомстить за его смерть. Все друзья и знакомые, которые в правление Отона делали вид, будто не замечают Корнелию, все те, кто сторонился ее, словно зачумленной, теперь прибежали к ее двери, чтобы пожать ей руки и засвидетельствовать соболезнования по поводу смерти Пизона.
— Такой прекрасный человек, достопочтенная Корнелия. Какой прекрасный император из него вышел бы. Я давно уже собирался проведать вас, но, как всегда бывает…
Через неделю, голубчик, ты побоишься даже пикнуть о том, что недавно поддерживал Отона, размышляла Корнелия. А еще через месяц его имя аккуратно вычеркнут из всех публичных анналов и выбросят из каждой головы.
Тем временем начали подавать вторую смену блюд — фазана, запеченного прямо в перьях, жареную свинью, рядом с которой на блюде лежали жареные молочные поросята, угря с гарниром из тушеных овощей.
— Мне голову! — потребовал император. И ему ее тотчас принесли на отдельном серебряном блюде.
Затем развлекать гостей вышла группа африканских танцоров, чернокожих и кудрявых. Их эбеновые тела блестели от масла, тугие кудри были присыпаны сусальным золотом. Танцоры начали извиваться в такт ритму барабанов, однако вскоре барабаны были уже не слышны, заглушенные ревом луженых глоток германцев.
— Достопочтенная Корнелия, — это к ней подошел управляющий императорским дворцом. Хитрый грек с равным усердием служил всем трем императорам, презрительно подумала про себя Корнелия, и, возможно, будет еще служить следующему. — Тебя уже представили Фабию Валету? Он выразил огромное желание познакомиться с тобой.
Что делать? Корнелии ничего не оставалось, как подняться со своего ложа. Управляющий подвел ее к новому мужу Лоллии, и Корнелия была вынуждена отвесить ему низкий поклон.
— Полководец, я поздравляю тебя с твоей великой победой при Бедриакуме.
И кому есть дело до того, что его белая туника вся в жирных пятнах, а речь груба и режет слух? Главное, он сокрушил Отона и короновал Вителлия. Фортуна не слишком щепетильна в выборе инструментов мести. Впрочем, и я тоже.
— Значит ты — та самая достопочтенная Корнелия, — вытерев руку о подол туники, Фабий жестом предложил ей выпрямиться. Лоллия переместилась на соседнее ложе, чтобы поболтать с подругой, и Валент предложил Корнелии присоединиться к нему. — Говорят, своей победой я обязан и тебе тоже. Ты якобы держала нас в курсе относительно передвижений Отона.
— Да, полководец, — улыбнулась Корнелия. — Я сделала все, что могла, ради императора.
— Нашего императора.
— Для меня Вителлий всегда был единственным.
Фабий улыбнулся и окинул ее пристальным взглядом.
— Ты была замужем за Лицинианом Пизоном?
— Верно.
— В таком случае, ты должна была стать императрицей. Жаль, что твой муж погиб. И мы непременно должны что-то ради него сделать.
— Мне не нужно никаких наград, — ответила Корнелия, но Фабий уже отвернулся и через весь зал крикнул, обращаясь к императору.
В животе у Корнелии шевельнулось неприятное предчувствие. Если ей до конца ее дней судьбой предназначено оставаться незамужней героиней трагедии, то лучше бы она сегодня облачилась в траур…
Тем временем, сгибаясь под тяжестью новых блюд, в зал вошли рабы. На сей раз гостям были поданы действительно экзотические яства — шеи фламинго, мозги павлина, печень щуки, язычки жаворонков, свиное вымя, слоновий хобот и уши, поджаренные на открытом огне с петрушкой. Когда Корнелия вернулась на свое ложе, перед ней стояло блюдо с красной кефалью, причем рыба была еще живая, била хвостом и в предсмертных муках разевала рот посреди соуса из молок миноги. По мнению некоторых гурманов, медленная смерть рыбы значительно улучшала ее вкусовые качества.
— Что касается меня, — задумчиво заметила на соседнем ложе Марцелла, — то я предпочитаю, чтобы к моменту, когда она попадет ко мне на стол, моя пища уже была мертва.
Туллия что-то восторженно восклицала, устраиваясь поудобнее, чтобы приняться за угощение, но Корнелия, брезгливо сморщив нос, жестом велела рабам убрать свою тарелку. Похоже, что дед Лоллии немного перестарался в своем рвении попотчевать гостей разными изысками и произвести впечатление на императора.
Раньше за ним такого не водилось, прошептал голосок в голове Корнелии.
В честь Гальбы он устраивал более чем скромные ужины. Отону были положены изысканные пиршества, и вот теперь в честь Вителлия устроен настоящий праздник обжорства. Именно то, чего хотелось и тому, и другому.
В зал вошел поэт-грек, чтобы прочесть гостям новую поэму, посвященную императору. Увы, в триклинии стоял такой гам, что никто не разобрал в ней ни слова — а все из-за пьяных германцев. Им надоело валяться на ложах, и они, пошатываясь, направились в сад, где, горланя пьяными голосами песни, принялись хватать танцовщиц. Два офицера Фабия повздорили из-за графина с вином. Спорщики вцепились друг в дружку, и дед Лоллии был вынужден их разнимать, не сам, разумеется, а при помощи двух крепких рабов. Впрочем, ссоры между пьяными гостями вспыхивали каждую минуту. Корнелия посмотрела на пустой винный кубок, однако вместо вина попросила себе подлить ячменной воды.
— Я иду домой, — заявила Диана. — Надоело смотреть на это сборище. К тому же здесь скучно.
С этими словами она соскользнула с ложа, ловко увернулась от рук рослого блондина из Колонии Агриппины, который пытался ущипнуть ее за грудь, и исчезла в вестибюле.
Лежа на своем ложе, император бросил под стол обглоданные косточки жареного павлина и вытер толстые жирные пальцы о шелковые подушки.
— Где тут у вас блевальня? — громко крикнул он, обращаясь к деду Лоллии. Тот на мгновение застыл на месте и лишь затем заставил себя улыбнуться.
— Пусть мой управляющий проведет тебя в бани, цезарь.
Дед Лоллии с трудом скрывал свое омерзение, и Корнелия разделяла его чувство. В доме Корнелиев отродясь не бывало помещений такого рода. Лишь самые испорченные богатством богачи были готовы изрыгнуть только что съеденные деликатесы, чтобы затем набить себе живот новыми. Тем не менее император Вителлий, жуя на ходу жареную шею фламинго, пошатываясь, вышел вон из триклиния.
— По-моему, Диана права, — негромко заметила Марцелла. — Какая, однако, интересная глава будет добавлена в мои воспоминания о Вителлии.
— Марцелла, только не бросай меня здесь одну! — с мольбой в голосе воскликнула Корнелия.
Но сестра уже соскочила с ложа, проскользнула мимо германца, размахивавшего над головой алебастровой вазой и исчезла, даже не обернувшись на нее. Обида пронзила Корнелию, однако она, не подавая вида, осталась рядом с Гаем и Туллией, как и они, улыбаясь направо и налево притворной деревянной улыбкой.
Вскоре в триклиний, обняв за талию Фабия Валента, за стол вернулся император. Рабы тем временем разносили новую смену блюд, так называемый второй стол: гусиные яйца, пирожные с изюмом и орехами, улиток в сладком соусе, блюда, на которых горой высились фрукты. Корнелия отказалась от всех угощений. Она так наелась, что едва могла пошевелиться, а вот Вителлий с удвоенным апатитом принялся набивать себе брюхо десертами — миндальным фрикасе и розовыми лепестками в медовом желе.
Растянувшись на своем ложе, Фабий Валент вылил на Лоллию содержимое своего кубка, которая сердито тряхнула головой.
— Думаю, нам лучше удалиться, — сказала она своему новому супругу.
— Да-да, я не прочь взглянуть, какая ты под своими рубинами, — с этими словами Фабий схватил ее за руку и, стащив с пиршественного ложа, поволок вслед за собой на второй этаж в опочивальню. Его офицеры разразились им вслед одобрительным свистом и скабрезными шуточками. Вышколенные рабы застыли в коридоре, держа наготове незажженные факелы, в ожидании момента, когда свадебная процессия двинется к дому жениха. У их ног стояли корзины с грецкими орехами — их полагалось бросать на счастье под ноги невесте. Когда же муж подхватит ее на руки, чтобы перенести через порог своего дома, флейтисты должны были исполнить нежную мелодию. Увы, обведя взглядом триклиний, Корнелия сделала вывод, что никакой процессии не предвидится. Дед Лоллии поспешил отвернуться, сделав вид, что подливает себе вина, и до Корнелии донеслись его полные бессильной ярости слова:
— Вульгарный плебей, — бормотал он себе под нос, — он облил мое сокровище вином, как будто перед ним дешевая шлюха, хотя сам не достоин вытирать подметки ее сандалий.
И, громко топая, он направился прочь, и его тройной подбородок гневно сотрясался в такт его шагам. Корнелия обвела взглядом облицованный голубым мрамором триклиний. Цветы, угощения музыканты, — все это было призвано служить достойной оправой его сокровищу.
А вот мой отец никогда меня так не называл, с грустью подумала Корнелия.
И вообще он когда-нибудь обращался в ней иначе, нежели «эй, девочка!». Разумеется, отцу патрицианского семейства положено соблюдать некую дистанцию от своих домочадцев, и все же…
— Хочу глотнуть воздуха, — сказала она Гаю и, встав с ложа, направилась в атрий. Небо сделалось темным. Даже не верится, что свадебный пир продолжается уже пять часов. В атрии было полно германцев Вителлия. Двое, голые по пояс, сошлись в схватке, а вокруг, подбадривая соперников пьяными криками, стояли их приятели. Борцы так увлеклись, что не заметили, как задели каменную нимфу, державшую в руках вазу с летними орхидеями. Нимфа покачнулась, ваза вывалилась у нее из рук и с грохотом разлетелась на мраморном полу на мелкие осколки, а на цветы, давя их и круша, тут же наступили подошвы грубых солдатских сандалий. Еще один солдат, ритмично работая чреслами, расположился под кустом сирени, а под ним страстно извивалась какая-то танцовщица. Рослый блондин, который пытался схватить Диану, с ножом в руке выковыривал глаза из слоновой кости у статуи из черного дерева, одной из тех, что выстроились в ряд вдоль стен атрия. И повсюду следы рвоты. Кого-то вырвало прямо в фонтан, в котором по-прежнему били струи фалернского вина.
Дед Лоллии пытался им угодить, неожиданно подумала Корнелия,
и в благодарность за это они уродуют его дом.
Впрочем, урон был не слишком велик. В конце концов праздник есть праздник. Следовало предполагать, что солдаты начнут буянить. Ведь они только что низложили Отона и теперь могли позволить себе немного буйства. Нет-нет, все не так страшно.
В следующее мгновение кого-то вырвало прямо ей под ноги. Дед Лоллии проводил Корнелию вздохом.
— Похоже, мне все-таки следует устроить в доме блевальню.
— Что ж, давно бы так, — со вздохом облегчения сказала Корнелия вслух. Императорская ложа на Лукарийских гонках гудела множеством голосов. Здесь хохотали, заключали пари, отпускали грубые шутки, на которые, судя по веселому смеху, никто не обижался. В этот день она вообще не собиралась идти смотреть гонки колесниц. Лукарии приходились на самый разгар лета, и во время них обычно царила жуткая жара. В это время года она предпочитала уединиться в прохладном атрии с книгой и кубком ячменной воды, вместо того, чтобы обливаться потом на трибуне Большого цирка. Однако сегодня утром преторианец, что-то невнятно пробормотав, доставил ей свиток. Когда же Туллия его вскрыла, внутри оказалась императорская печать.
— Фабий Валент приглашает нас сегодня в императорскую ложу, — не скрывая радости, сообщила она. — Особенно тебя, Корнелия. Наконец-то нам есть польза от того, что ты имеешь отношение к Пизону и Гальбе. Ведь при Отоне это грозило нам лишь неприятностями. А вот Вителлий, похоже, готов воздать почести любому, кто хотя бы отдаленно связан с…
— Возможно, император задумал выдать тебя замуж за одного из своих приближенных, — вмешался в их разговор Гай, беря из рук жены свиток. — Лоллия не единственная, что умеет удачно выходить замуж.
— В кои веки ты прав, Гай, — ответила Туллия, сурово глядя на Корнелию. — Надеюсь, ты проявишь благоразумие.
— Пусть лучше Марцелла удачно выйдет замуж, — Корнелия сложила руки на груди, лишь бы не сжать пальцы в кулаки. — После Брикселлума они с Луцием не разговаривают друг с другом. Думаю, он был бы только рад с ней развестись. Или Диана, ей ведь уже семнадцать. Вот кому давно пора замуж.
— Разумеется, я не собираюсь тебя принуждать, — Гай похлопал сестру по руке. Его подбородок покрывала легкая щетина, в подражание Вителлию. Новый император в отличие от Отона не слишком утруждал себя бритьем. — Хотя, с другой стороны, я был бы рад видеть тебя счастливой.
— Гай, не говори глупостей! — перебила мужа Туллия. — О каком счастье может идти речь в наши дни! Сейчас самое главное связи! Ты, Корнелия, имеешь отношение к Гальбе. И твой долг как члена нашей семьи сделать так, чтобы это обстоятельство пошло нам на пользу.
Разве я уже не исполнила свой долг? Корнелия направилась к себе в комнату и переоделась в самый мрачный, самый траурный наряд. Чтобы подчеркнуть его мрачность, она даже не стала надевать серег.
— Даже не надейся найти себе достойного мужа, если будешь одеваться как наемная плакальщица! — съязвила Туллия. — Ведь у тебя ни фигуры, как у Марцеллы, ни смазливого личика, как у Лоллии. Зато ты можешь взять другим! Гай, скажи ей, потому что так дальше нельзя!
— Так вообще нельзя, — заметила Марцелла. Оторвав глаза от письменного стола, на котором высились горы свитков, она окинула сестру пристальным взглядом, всю, с головы до ног. — Хотя совсем по другой причине, чем думает Туллия.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Если ты хочешь, чтобы на тебя меньше обращали внимание, не надевай черное. Потому что черный цвет тебе идет.
Корнелия посмотрела на свое отражение в зеркале. На фоне черного платья ее волосы тоже казались почти черными. Блестящий черный шелк платья и блестящие темные волосы создавали вокруг ее бледного лица нечто вроде дорогой рамки.
— А ты пойдешь с нами на гонки, Марцелла?
— У меня болит голова.
— Последнее время она болит у тебя слишком часто, — заметила Корнелия. — По крайней мере всякий раз, когда в Большом цирке проводятся гонки колесниц или должно состояться нечто такое, что навевает на тебя скуку. А вот придворные пиры или заседания сената никогда не вызывают у тебя головной боли.
Марцелла улыбнулась и повернула другим боком чернильницу.
— Передай мне любую стоящую сплетню, какую услышишь на гонках. Договорились? Например, до меня дошли слухи, что губернатор Веспасиан что-то затевает в Иудее.
— О, великая Юнона! Неужели еще один император? — Корнелия растерянно заморгала. — И от кого ты это слышала?
— От мальчишки Домициана. По идее, ему нельзя переписываться с отцом, однако тот ему пишет.
— По идее, он не должен распространять подобные слухи, — с этими словами Корнелия взялась грызть и без того обкусанный под самую мякоть ноготь. — Он по-прежнему в тебя влюблен?
— До безумия! Домициан заявил мне, что не пройдет и года, как он станет сыном императора, как только его отец облачится в пурпурную тогу. — Марцелла едва заметно улыбнулась, вся в чернилах, без украшений, и перебросила через плечо косу. — Может, мне стоит передать Домициана тебе? Уже если Гай вознамерился спихнуть тебя замуж, то почему бы вторично не за наследника трона?
— Я рассчитывала на большее сочувствие с твоей стороны, — огрызнулась Корнелия. — Твой собственный супруг теперь в фаворе у Вителлия. Более того, он уезжает на Крит, и тебе больше не придется иметь с ним дело! И никто не собирается спихнуть меня замуж!
— Нет, — Марцелла лениво потянулась за столом, словно кошка. — Я об этом позабочусь.
— Последнее время ты какая-то самодовольная. Ты замечала это за собой? — спросила Корнелия и направилась к двери.
В спину ей раздался смех сестры.
Когда Корнелия прибыла в Большой цирк, императорская ложа являла собой море синего цвета. Синие полотнища, синие цветы под ногами, синие сливы и черно-синие устрицы на блюдах из ляпис-лазури, женщины в синих платьях, синие плащи на мужчинах. Фабий Валент был в небесно-голубой тунике. Сапфиры Лоллии затмевали собой скромные камни, которыми украсила себя сегодня серая как мышка супруга Вителлия. Его собственное внушительных размером брюхо было обтянуто синей туникой, а на шее болталось с полдюжины медальонов — символы его легендарной преданности партии «синих». Деррик, знаменитый колесничий «синих», в шлеме с синим плюмажем, сидел на почетном месте рядом с императором. В черном наряде Корнелия ощущала себя вороной среди стаи павлинов и, чтобы не привлекать к себе косых взглядов, предпочла скромно устроиться сзади. Однако Вителлий обернулся, чтобы подозвать раба-виночерпия и, заметив Корнелию, поманил ее к себе. Что делать? Корнелия подошла и отвесила поклон.
— Достопочтенная Корнелия Прима! — Румяное лицо императора при ближайшем рассмотрении оказалось в голубоватых прожилках, особенно на крыльях носа. Годы чревоугодия оставили после себя толстые валики жира вокруг шеи. Впрочем, сегодня от него почти не пахло вином, а рука, державшая кубок, даже не тряслась. — Я твой должник, моя дорогая.
— Я лишь выполняла свой долг, цезарь, — ответила Корнелия, скромно потупив взор.
— Я имею в виду другое. Не те сведения, которые ты передала, а то, что ты потеряла мужа, — негромко добавил Вителлий. — И я хотел бы сказать, отчасти это и моя вина.
Корнелия испуганно подняла глаза. Отон принес ей велеречивые, неискренние извинения. Члены семьи выразили холодное соболезнование. Сестра и кузины молча обняли. Но никто не сказал, что это их вина. В горле у нее застрял комок. Улыбка Вителлия светилась добротой.
— Обещаю тебе, я постараюсь ее исправить, — добавил он и своей массивной рукой пожал ей пальцы. Фабий Валент ухмыльнулся из-за его плеча. Корнелия вновь отвесила поклон и поспешно удалилась. Ей меньше всего хотелось, чтобы император, чтобы ее утешить, взялся искать для нее нового мужа.
Корнелия без труда отыскала Диану. Та сидела на своем обычном месте сзади. Причем, сидела явно чем-то недовольная и делала вид, что не замечает обращенных в ее сторону взглядов офицеров и придворных. Кстати, сегодня в их взглядах читалось отнюдь не восхищение ее красотой, нет-нет, скорее неодобрение и неприязнь. Посреди моря синего цвета Диана выделялась ярко-красным пятном: красные медальоны на шее в честь каждого из ее любимых жеребцов, красное платье, красные ленты в золотистых волосах.
— Я не собираюсь изменять самой себе лишь потому, что император предпочитает «синих», — с вызовом заявила она, когда Корнелия сделала круглые глаза. — Кстати, ты тоже почему-то не облачилась в безвкусные синие тряпки.
— Нет, — согласилась Корнелия, опускаясь на сиденье рядом с ней. — О боги, что у тебя с руками?
Ладони Дианы были грубыми и мозолистыми, как будто их натерли пемзой.
— Тсс, начинается парад.
Лошади начали свое церемониальное шествие по песку беговой дорожки. Пять четверок гордо вышагивали под голубым куполом неба. Первыми шли «синие». Деррик пригрозил толпе кнутом — коронный жест, который неизменно вызывал у зрителей бурю восторга. Женщины истошно кричали и осыпали колесничего цветами. Вителлий издал ликующий вопль и с силой ударил мясистым кулаком по подлокотнику кресла. Диана что-то прошипела сквозь зубы. Ее рукоплесканий удостоилась лишь четверка гнедых, которых она назвала в честь четырех ветров. Корнелия была вынуждена признать, что лошади были и впрямь хороши. Красно-рыжие под стать своей упряжи, они буквально рвались вперед, не в силах идти размеренным шагом. Стоило им занять свое место в процессии, как Диана издала радостный вопль. Впрочем, ее голос тут же потонул в рокочущем басе Фабия Валента, который заключал пари с императором.
— Здравствуйте, мои хорошие! — это рядом с ними, обмахиваясь веером из павлиньих перьев, опустилась на сиденье Лоллия. — О боги! Ну и жара!
— Как вы поживаете с мужем? — поинтересовалась Корнелия, поскольку Диана пребывала в слишком восторженном состоянии, чтобы соблюдать этикет беседы.
— Он… бодр. Не знает усталости. Слава богам, он проводит полночи, разделяя азартные и любовные похождения с Вителлием. Иначе он не давал бы мне спать. — Лоллия посмотрела вниз, где колесничий «синих» Деррик наводил красоту рядом со своей украшенной позолотой синей колесницей. — Он прекрасно выглядит. — Она нагнулась и прошептала на ухо Корнелии. — Надеюсь, Диана никогда не узнает, что у меня однажды была интрижка с Дерриком. Она не простит мне этого.
— Ты спала с
колесничим?
— Было дело. Но вот что я скажу тебе: быстрый финиш хорош на гонках, но не в постели.
Корнелия вовремя сдержалась, чтобы не захихикать.
Запряженные в синюю колесницу гнедые рванули вперед прежде, чем упал платок, и их пришлось снова возвращать на старт. Толпа негодовала из-за ложного старта, и, чтобы отвлечь ее внимание, Вителлий бросил корзину с пронумерованными деревянными шариками в гущу толпившихся внизу людей. Каждого поймавшего ждало императорское вознаграждение: бык, экипаж лошадей или даже загородная вилла.
Наш новый император поистине щедр. Возмущенный рев сразу же сменился восторженными восклицаниями, когда плебс накинулся на шары и вокруг брошенных деревяшек разгорелись самые настоящие бои. Фабий схватил Лоллию за руку и притянул к себе. Лошади наконец встали в линию на старте, и он снова подал императору синий платок. Диана нагнулась вперед и, раскрыв рот, впилась глазами в арену. Вителлий бросил платок, и колесницы рванули с места.
В это мгновение толпа зрителей поднялась и взорвалась криками ободрения. Болельщики шумели и делали ставки. Вителлий перегнулся через перила и что-то крикнул «синим». Диана закусила губу. После первого крутого поворота вперед вырвались «красные», и ее возглас одобрения был единственным, который раздался в императорской ложе. Фабий окинул ее гневным взглядом.
— Я буду болеть за кого хочу, — невозмутимо парировала Диана. — О боги! Как жаль, что с нами нет центуриона Денса.
Корнелия застыла в недоумении. Она давно не слышала этого имени, с тех пор, как он проводил ее от Марсова поля до дома и наговорил грубостей.
— Зачем
он нужен здесь?
— Потому что он поддерживает «красных». Мы вместе с ним за них болели на первых скачках этого года. Любой воин, способный выстоять один против пяти, как он возле храма Весты, найдет в себе достаточно мужества, чтобы открыто поддерживать свою команду, невзирая на предпочтения императора.
Диана выругалась и подпрыгнула как ужаленная: как оказалась, это «зеленые» обогнули поворотный столб. Корнелия подозвала к себе преторианца, который застыл в карауле в глубине императорской ложи. Это был какой-то новый стражник, и она не узнала его. Впрочем, ничего удивительного, Вителлий внедрил в преторианскую гвардию немало своих ставленников.
— Ты не мог бы сказать мне, что случилось с преторианцем Друзом Семпронием Денсом?
Она сама не могла бы объяснить, почему задала этот вопрос. Скорее всего, центурион погиб в сражении при Бедриакуме, потому что в противном случае она наверняка бы заметила его среди сопровождавших Вителлия преторианцев.
— Имеется приказ на его арест, госпожа, — ответил стражник. — Денс обвиняется в государственной измене.
— Измене?
— Да. Он остался жив после Бедриакума, однако позднее командир Валент хорошенько почистил преторианские ряды и отправил в отставку всех, кто в свое время изменил присяге на верность императору Гальбе.
— Но если он большую их часть отправил в отставку, то почему Денсу предъявлено обвинение в измене?
— Командир Валент был уверен, что именно он предал Гальбу и наследника трона. Возможно даже, убил последнего. Кто теперь скажет? Командир Валент решил, что это послужит хорошим уроком для остальных, тем более что Отон превозносил Денса как настоящего героя.
— Но это же полный абсурд!
— Это что еще за абсурд? — раздался за спиной Корнелии голос, и она резко обернулась. Позади нее, с синим стеклянным кубком в руках, стоял Фабий Валент.
— То, что центурион Друз Семпроний Денс обвинен в измене, — бросила ему Корнелия. — По крайней мере он совершенно непричастен к убийству моего мужа. Потому что я там была, и я знаю, что там произошло.
— Тем не менее центурион Денс не смог защитить твоего супруга, а значит, он не выполнил свой долг, — ответил новый муж Лоллии, пожимая плечами.
— Но это не его вина. — Пусть Денс временами бывал грубоват, но вот предателям его назвать никак нельзя. — И его уже казнили?
— Нет. Его даже не арестовали. Ему каким-то образом стало известно про ордер, и он успел скрыться. Впрочем, какая разница. Больше ему никогда не служить в гвардии.
— Но ведь… — Корнелия не договорила.
— Считай, что твой муж отмщен, — сказал Фабий и улыбнулся.
— Мне не нужна месть. По крайней мере больше не нужна. Ведь Отона больше нет в живых.
— Мне решать, что тебе нужно.
Корнелия перевела взгляд на беговую дорожку.
— Какой круг они бегут? — спросила она, обращаясь к Диане.
— Пятый. — Диана сидела на самом краешке сиденья и что-то неслышно повторяла себе под нос. «Синие» и «красные» уже не раз менялись местами во главе забега.
Фабий легонько взял Корнелию за руку и негромко заговорил:
— Тебе нужен муж. А один из моих друзей ищет себе жену. Его имя Цецина Алиен.
По трибунам пробежал вой ужаса. Это «белые» попытались проскользнуть мимо «синих» с внутренней стороны беговой дорожки. Колесничий «синих» тотчас попытался прижать «белых» к барьеру. Еще миг, и колесница «белых» была разбита вдребезги. Одно колесо соскочило с оси и как безумное покатилось по песку. Лошади, почувствовав свободу, с оглушительным ржанием понеслись наперерез «красным». Их колесничий был вынужден резко осадить их, и они встали на дыбы. Ее четверка. Диана разразилась отборными проклятиями.
— Диана! — укоризненно сказала Корнелия и покачала головой. Наконец-то у нее нашелся повод не обращать внимания на вкрадчивый голос Валента у нее над ухом, а заодно прочесть младшей кузине лекцию о недопустимости грязных слов. Впрочем, лекция оказалась коротка, намного короче, нежели ей полагалось быть, потому что мысли Корнелии были заняты иным.
При виде неразберихи на арене Вителлий расхохотался и, довольный, постучал кулаком по парапету, увидев, что «синие» возглавили гонку, оставив соперников далеко позади. Тем временем «красные» выпутались из обрывков упряжи «белых» и вновь на всем скаку устремились вперед.
— Им никогда не догнать «синих», — простонала Диана, с несчастным видом откидываясь на спинку кресла.
Впрочем, ее Четыре Ветра не желали сдаваться. Вытянув вперед шеи и почти прильнув к земле, они летели вперед, как на крыльях, и лишь гривы развевались на скаку. Постепенно расстояние между ними и упряжкой «синих» начало сокращаться. Теперь от лидеров гонки их отделяла половина отрезка. Они давно обошли «зеленых», как будто те и не скакали вовсе, а стояли на месте. Их взмыленные от пота бока казались скорее черными, чем огненно-рыжими.
— Ты знакома с Цециной Алиеном? — спросил Фабий, наклонившись к Корнелии так низко, что его губы почти касались ее уха. — Немного необуздан, однако в мужчине это скорее достоинство. Молодая вдова вроде тебя уже наверняка извелась без мужа. Думаю, Цецина для тебя самое то.
Корнелия облизала губы. Взгляд ее был устремлен на беговую дорожку. Она увидела, как колесничий «синих» оглянулся и для острастки щелкнул кнутом над спинами своих скакунов. Обе упряжки вышли на финишную прямую.
— Ну, давайте! — крикнула им Диана. Увы, финишная линия оказалась слишком близко, и ее любимцы преодолели ее вторыми, вровень с осью колесницы «синих». Диана тотчас поникла. В ее зеленоватых глазах блестели слезы. — Мои бедные ветерки, до победы вам оставалось совсем чуть-чуть.
— Не думаю, что тебе стоит показывать, что ты расстроена, — попеняла ей Корнелия, чувствуя у себя на локте руку Фабия, и пустилась в нравоучения по поводу того, как должно себя держать патрицианке. Диана ее не слушала. Подавленная и несчастная, она сгорбилась на сиденье, уныло глядя, как колесничий «синих» под восторженные крики жешцин совершает круг почета. Император с довольным видом хлопал своих приспешников по спинам. Впрочем, Корнелия также осталась безучастна ко всеобщему восторгу. В данный момент ей не давала покоя лежавшая на ее руке властная рука Фабия.
Юнона всемилостивая! Он собрался решать мое будущее! И главное, я не могу сделать вид, что не замечаю его!
С ног до головы в пыли, колесничий «синих» Деррик подкатил к императорской ложе и одарил императора сияющей улыбкой. В свою очередь Вителлий вручил ему пальмовую ветвь победителя.
— Сегодня вечером ты гость на моем пиру, — разрумянившись от восторга, крикнул император своему любимцу и обнял колесничего за плечо. — И мы непременно поднимем тост за твою победу над «красными». Трусливые клячи!
Красный шелк колыхнулся языками пламени. Корнелия попыталась было схватить Диану за руку, но не успела. Вителлий же растерянно уставился на худенькую девичью фигурку в алом одеянии, которая неожиданно выросла перед ним.
— Не смей! — крикнула Диана, тыча пальцем в императора Рима. — Не смей оскорблять моих «красных»! Они достойно пробежали гонку, куда лучше твоих «синих».
Деррик расхохотался из-под толстой дружеской императорской руки на плече.
— Достопочтенная Диана — страстная поклонница «красных», — пояснил он. — И не умеет с достоинством принимать поражение. Однако…
— Заткнись! — бросила ему Диана, и по рядам мгновенно пробежал шепоток. Вителлий насупил брови. Корнелия застыла как вкопанная. Гай растерянно открыл рот и позабыл закрыть его снова. Лоллия покачала головой — мол, думай, что говоришь. Однако Диана вновь посмотрела в глаза императору и продолжила свою гневную речь.
— «Красным» сегодня не повезло, цезарь. По вине «белых» они едва не сошли с дистанции. Другие на их месте наверняка вышли бы из забега, но только не мои «красные». Они не сдались, не отказались от участия в гонке. Нет, они вновь устремились вперед и почти победили твоих «синих», потому что твой возлюбленный Деррик настолько был уверен в победе, мысленно пересчитывая пальмовые ветви, что сбросил скорость. А ты помолчи, — добавила она, обращаясь к Деррику, который открыл рот, чтобы что-то сказать в свою защиту. — Честные возницы так не поступают. Это даже хуже, чем проигрыш. Так что не смей называть мою четверку трусами, — с этими словами Диана гневно ткнула пальчиком в массивную грудь императора Рима. — Потому что моим «красным» ничего не стоит победить твоих «синих»!
На несколько мгновений воцарилось гробовое молчание. Диана застыла перед императором, и лишь ветер шелестел алым шелком ее платья. Волосы ниспадали ей на спину золотым каскадом, подбородок гордо вскинут вверх. Румяное лицо императора казалось каменной маской, лишь нехороший блеск в глазах выдавал его истинные чувства. Корнелия видела перед собой того, кого три верных ему легиона провозгласили в Германии своим императором.
Впрочем, взгляд Дианы пылал не меньшей яростью. Глаза Деррика тоже светились ненавистью. Казалось, он был готов придушить ее на месте. Корнелия затаила дыхание, готовая, в случае чего, разрядить обстановку какой-нибудь светской фразой.
В следующее мгновение Вителлий запрокинул голову и расхохотался.
— Ты права, — согласился он. — Твои «красные» отлично выдержали гонку. Я был неправ, когда назвал их трусами. — С этими словами он обнял Диану за плечи и повернулся к своему управляющему. — Отведи этой юной строптивице почетное место на сегодняшнем пиру. Мы с ней поговорим о лошадях. Я постараюсь втолковать этой красавице, почему мои «синие» лучше ее «красных».
— Неправда, — возразила Диана из-под его руки. Она по-прежнему была вне себя от ярости. Вителлий снисходительно улыбнулся ей и приказал подать вина. Вокруг послышались смешки. Корнелия тоже рассмеялась, хотя от напряжения колени ее сделались ватными.
Диана, ты неразумная девчонка! Впрочем, похоже, что Диане ее дерзкая выходка сошла с рук. Только Диане. И никому другому.
— Сегодня вечером на пиру отведи достопочтенной Корнелии место рядом с Алиеном, — донеслись до нее слова Фабия. Тот разговаривал с дворцовым управляющим. — Или рядом со Свонием. Насколько мне известно, он большой любитель сочных молодых вдовушек.
Без пяти минут императрица, подумала про себя Корнелия, и улыбки на ее лице как не бывало.
Еще совсем недавно без пяти минут императрица. И вот теперь сочная молодая вдовушка.
Ей стоило немалых усилий сдержать дрожь в руках и не дать предательским слезам брызнуть из глаз.
Будь холодна как мрамор, ежеминутно твердила она себе в те первые, жуткие недели после смерти Пизона.
Или даже, как лед. Посмотрим, много ли соков тебе удастся выжать из колонны черного льда, Фабий Валент.
(обратно)
Глава 13
Корнелия
— Павлин! — Не успела Корнелия перешагнуть порог спальни Лоллии, как тотчас резко развернулась и оттолкнула сына Туллии назад от дверей. — Иди лучше поиграй в атрии.
— Что с тобой? — Послышался шорох шелковых одежд, а в голосе Лоллии прозвучала усмешка. — Через несколько лет от него можно ожидать и не такого.
— Павлин, — строго произнесла Корнелия, заметив на лице мальчонки любопытство, — найди Флавию и поиграй с ней.
— Только не играй так с моей дочерью, — хихикнула Лоллия. — По крайней мере пока.
Павлин бросился прочь. Корнелия сделала вид, будто рассматривает мозаику пола.
— Я могу обернуться?
— Да-да. Хотя, честно говоря, Корнелия, ты лицемерка. Уверяю тебя, ты не превратишься в камень, если вдруг увидишь мужской член.
— Извини, — сказала Корнелия, — что я вошла без стука. — Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не покраснеть. — Павлин скучал без отца, а Туллия на него не обращает никакого внимания. Вот я и захватила его с собой, чтобы он поиграл с Флавией, но…
— О боги, ты стала просто пунцовая! — завернутая в оранжевый шелк, Лоллия уже приняла сидячее положение, а золотоволосый раб, стоя рядом с ее ложем, усердно обмахивал свою хозяйку опахалом из страусовых перьев. Туника на нем была надета наизнанку. Когда Корнелия заглянула в опочивальню в первый раз, его крупное, мускулистое тело накрывало Лоллию, одна лодыжка которой выглядывала из-за его бедра, а вторая — обнимала его за шею.
— Неужели ты никогда не делала ничего такого с Пизоном? — продолжала как ни в чем ни бывало Лоллия. — Нет, конечно, для этого нужно обладать более гибким телом, зато какое блаженство!
— Я не намерена обсуждать с тобой такие вещи, — Корнелия брезгливо сморщила нос и кивком указала на раба. — Ты можешь идти.
Раб вопросительно посмотрел на свою хозяйку.
— Да, ступай! — улыбнулась Лоллия и вздохнула. Золотоволосый раб отвесил поклон и выскользнул вон.
— Бедняжка. Он все утро ходит сам не свой. Видишь ли, Фабий тоже нас с ним застукал.
— Как? Твой муж?
— Да. Он зашел ко мне рано утром, когда мы вдвоем делали мостик. Кстати, ты никогда не пробовала? Встаешь на четыре конечности, а потом…
— И как поступил Фабий? — поспешила задать вопрос Корнелия, чувствуя, что вновь заливается краской. О боги, у Лоллии стыда не больше, чем у кошки во время течки.
— О, он окинул нас грозным взглядом и, громко топая, вышел вон, — с невинным видом ответила Лоллия и потуже затянула на талии шелковый пояс. — Впрочем, я сама ждала, когда же он меня наконец застукает. Ведь пора бы знать.
— Знать что?
— Просто Фабий плебей, и голова его забита дурацкими представлениями о том, как должна вести себя жена. Ни с того ни с сего меня вдруг должны интересовать его любимые блюда или насколько горяча вода в его ванне, и при этом я еще должна вести себя как весталка. Хотя на самом деле, ему нужна шлюха.
— Не думаю, что есть нечто плебейское в том, чтобы ожидать от жены хорошее поведение, — возразила Корнелия.
— Еще какое плебейское, дорогая моя! Неужели ты думаешь, что Виний и Сальвий или кто-то другой из моих бывших мужей имели бы что-то против Тракса? Нет, конечно! А вот Фабий должен вынести для себя урок, чтобы он наконец, понял, что такое жена-патрицианка!
При этих словах взгляд Лоллии на мгновение сделался холодным как лед, что немало удивило Корнелию. Да, Лоллия особа ветреная, но вот жестокости в ней она не замечала.
— В конце концов кто оплачивает все счета? Уже хотя бы это одно дает мне право на толику свободы.
— Кстати, так где все-таки Фабий? — поинтересовалась Корнелия, хотя в душе была даже рада, что не встретилась с мужем Лоллии нос к носу.
— Как обычно, запугивает сенат. Они там несут всякий вздор, он же считает своим долгом напомнить им, что именно его меч возвел Вителлия на трон. В наши дни это называется политикой.
Лоллия поднялась с ложа и вместе с Корнелией вышла из опочивальни в украшенный колоннами атрий.
— Значит, это твой новый дом, — произнесла Корнелия, обводя взглядом бассейны и фонтаны, кусты жасмина и водяные лилии, колонны и статуи. — Он такой… просторный.
— Ты хотела сказать, уродливый, — поправила Лоллия, и ее передернуло, словно от отвращения. — Фабий конфисковал его у какого-то сторонника Отона вместе с рабами, статуями и домовым божком. Мы переехали сюда на прошлой неделе. Я пока даже толком не знаю, где расположены какие комнаты. Он же хочет, чтобы я устроила пир по случаю помолвки.
— А кто собрался сочетаться браком?
Лоллия опустилась на серебряное ложе рядом с поросшей мхом урной и приказала принести фрукты и прохладительные напитки.
— Ты, кто же еще.
— Что? — еще не успев опуститься на стул, Корнелия застыла как вкопанная.
— Фабий сказал… — Лоллия не договорила.
— Что он сказал? — неожиданно, несмотря на ясный солнечный день, по спине Корнелии пробежал неприятный холодок. — Он намекал мне на что-то на гонках, но…
— О, дорогая моя, — перебила ее Лоллия. — Фабий не намекал. Он так решил. Он привык отдавать приказы. — Лоллия жестом велела унести графин с ячменной водой, прежде чем рабыня успела поставить его перед ней. — Нет, принеси лучше вина, Хлоя. Думаю, оно нам не помешает.
Как только вино было подано, Лоллия налила кубок и, даже не удосужившись разбавить вино водой, передала его в руки Корнели.
— Пей. Скажем так, Фабий присмотрел тебя для одного своего друга. Правда, я не уверена, для кого именно. Сейчас он занят тем, что раздает всем им награды. Деньги, поместья, жен…
— Но ведь он не имеет надо мной никакой власти!
— Времена меняются, Корнелия! Это больше не прежний Рим по крайней мере не тот, каким мы его знали. Сейчас Римом правят те, кто приводит на трон императоров. Фабий только смеется всякий раз, когда на пирах его дружки распускают руки и начинают меня щупать. Он забирает себе все милые безделушки, какие только попадаются ему на глаза в доме деда. Он обожает, когда я разгуливаю по опочивальне в чем мать родила, увешенная одними лишь драгоценностями, — Лоллия помассировала голову, и непокорные рыжеватые локоны выбились из прически. — Я от него страшно устаю.
— Я не позволю, чтобы он отдал меня какому-то вояке, словно военный трофей!
— Ага, теперь тебе понятно, что чувствую я? — усмехнулась Лоллия. — Ничего, привыкнешь.
— Но как? — прошептала Корнелия.
Лоллия пожала плечами.
— Почаще меняй мужей.
Какое-то время обе молчали. Корнелия вспомнила довольное лицо Фабия и его не менее довольную улыбку.
— Молодая вдова вроде тебя наверняка спит и видит, чтобы снова выйти замуж.
При этой мысли Корнелию передернуло. Лоллия же отвернулась и резким голосом заговорила о чем-то другом.
Диана! Ну, конечно же. Сегодня все разговоры вертелись вокруг Дианы.
Корнелия усилием воли заставила себя прислушаться к тому, что говорила Лоллия.
— Слышала последнюю эпиграмму на нее, которую написал поэт Марциал?
Дева-охотница пыталась бежать, но угодила владыке в кровать.
— Диана наверняка… — Корнелия невольно состроила гримаску, представив себе красную физиономию императора и его рыхлое от переедания тело. — Только не за Вителлия.
— О, это крайне сомнительно. Ты ведь знаешь Диану. Если бы она хотела, то сказала бы императору «нет». К тому же какая из нее по большому счету любовница, — сказала Лоллия и обмакнула пальцы в воду фонтана рядом с ее ложем. — Если бы какой-то мужчина затащил ее в постель, она бы просто лежала под ним и смотрела на него своими глазищами, ожидая пока тот не кончит. После чего спросила бы его, каковы, по его мнению, шансы на победу «красных» во время Сатурналий. Она умеет льстить.
Корнелия тотчас вспомнила устроенный императором после гонок пир. Там она наблюдала за своей младшей кузиной — та, скрестив ноги, сидела на ложе рядом с императором и, размахивая гусиной ножкой, до самого рассвета рассуждала с ним о колесничих, лошадях и бегах. Похоже, что новая возлюбленная его забавляла, как, впрочем, и его прихлебателей. Вскоре за Дианой, куда бы она ни пошла, следовал хвост придворных, в надежде на то, что потом она замолвит перед ними словечко перед императором.
— Если только это имеет какое-то отношение к лошадям, — смело отвечала Диана на все просьбы. — Отстаньте от меня.
— Раньше я переживала из-за репутации Дианы, — задумчиво произнесла Корнелия. — Но сейчас мне кажется, что она слишком странная, чтобы намеренно предаваться разврату. Это было бы слишком пошло. Разумеется, Туллия без устали продолжает твердить, что, мол, Диана — императорская шлюха…
— Сама она шлюха, — фыркнула Лоллия и, наполнив кубок, сделала внушительный глоток. — Нет, конечно, своего обета она никогда не нарушит. Однако если ей это выгодно, то она подтолкнет в объятия императора любую из нас. Не потому ли она перемывает Диане косточки, чтобы сделать Гая губернатором Африки?
— Германии, — со вздохом поправила ее Корнелия.
— Вот видишь, — презрительно произнесла Лоллия и пожала плечами. — И пусть порой я не прочь покувыркаться в постели со своим рабом, все-таки я не такая, как Туллия. По крайней мере я не лицемерка.
К ее великому удивлению, Корнелия рассмеялась.
— Это точно.
В следующее мгновение в атрий вбежали юная Флавия и Павлин. Лоллия тотчас усадила обоих к себе на колени и принялась раздавать звучные поцелуи. Флавия хихикала, Павлин громко выражал возмущение. Корнелия задумчиво наблюдала за этой сценой.
— Флавия, нам нужно срочно развеселить твою тетю Корнелию, — Лоллия серьезно посмотрела на дочь. — Что ты скажешь? Как ты смотришь на то, чтобы нам всем принарядиться и выйти в город? Можно было бы сходить в театр или на Марсово поле.
— В цирк! — радостно завопил Павлин.
— К дяде Парису, — предложила Флавия.
— Ну, дядя Парис — это неинтересно.
— Нет, к дяде Парису, — стояла на своем Флавия. — Он пообещал, что сделает для меня статуэтку собачки.
— Что ж, в таком случае пойдем к дяде Парису.
— А почему решает она? — обиделся Павлин.
— Потому что она девочка, а девочки привыкли, чтобы все было так, как хочется им. Твоя будущая жена поблагодарит меня, Павлин, если я еще с детства вложу в твою голову эту истину. Решено, мы едем к дяде Парису.
С этими словами Лоллия на глазах у растерянной Корнелии удалилась, чтобы самой переодеть Флавию, вместо того, чтобы знать няню. Крепко взяв во вторую руку ручонку Павлина, она повела их обоих с собой. — Да, а еще мы проведаем тетю Марцеллу, — пообещала дочери Лоллия, когда спустя десять минут они вернулись в атрий, обе в розовых нарядах. — Все будет как в старые добрые времена.
— Я бы не советовала нам заглядывать к Марцелле, — высказала свое мнение Корнелия. — Она наверняка сидит и что-то там строчит на свитках в своем таблинуме и вряд ли выкроит для нас свободную минутку.
— Что же она там строчит?
— Не знаю. Она больше ничего мне не рассказывает.
Наверно, пытается найти слова, чтобы описать новый Рим. Всякий раз выходя из дома, Корнелия с трудом узнавала город. Летом Рим обычно превращался в сонное место. Рабы неспешно шагали куда-то по своим поручениям, волы и мулы дремали под огромной раскаленной медной монетой солнечного диска, плебеи истекали потом в своих душных домах. Все, кто мог себе это позволить, устремлялись вон из города, на свои летние виллы — в Байи, Брундизий, Тиволи — где потом часами предавались безделью, сидя на прохладных террасах, лакомились виноградом и наслаждались нежными дуновениями морского ветерка. В город его жители возвращались лишь во время вольтурналий, а то и позже. И вот теперь…
Корнелия забралась в паланкин и усадила себе на колени Павлина. Рабы тотчас взяли с места привычной рысью. За розовыми шелковыми занавесками мелькали городские улицы. Дядя Парис жил в небольшом доме на дальнем конце Палатинского холма. Рим был полон людей, что вселяло какую-то неясную тревогу. Никто из патрициев не спешил уехать в свою летнюю резиденцию. Сначала всех как гром среди ясного неба поразило известие о поражении Отона. И люди не торопились уезжать, опасаясь, что кто-то воспримет их отъезд как бегство. Затем в город вошел Вителлий и, несмотря на летнюю жару, остался в Риме, чтобы поскорее ощутить себя в нем хозяином. Вместе с новым императором остались и патриции. И вот теперь летние игры, которые раньше собирали лишь горстку зрителей на самых передних местах, теперь собирали толпы. О свободных местах не было даже речи. Цирк был забит до отказа. А в императорском дворце каждую ночь шумели пиры. Как далеко было до этих пиршеств скудным угощениям Гальбы, где подавали кислое вино и весь вечер велись занудные разговоры о ценах и урожае. Не шли они ни в какое сравнение и с теми утонченными трапезами, что устраивал Отон, на которых красивые люди ночь напролет блистали умом. Это были пиры, на которых простые солдаты пили бок о бок с сенаторами, причем, что касалось выпитого вина, то сенаторы пытались не отстать от солдат. На этих пирах император хвастался тем, что ему не стыдно хлестать лошадей «синих». На этих пирах простой легионер вроде мужа Лоллии был героем дня, ибо это он силой своего оружия привел на трон императора. Это было на редкость жаркое, душное лето, и весь мир перевернулся вверх дном. Это был, как выразилась Лоллия, новый Рим… и Корнелия была отнюдь не в восторге от него.
— Юнона милостивая! — Корнелия неодобрительно огляделась по сторонам, когда они вошли в дом дяди Париса. Повсюду валялись куски мрамора, разбросаны зубила, по углам устроились рабы и вместо того, чтобы заниматься делом, чесали языками. Ни стыда ни совести.
— Дядя Парис! — с укоризной в голосе поздоровалась Корнелия, когда Лоллия распахнула двери мастерской. — Неужели Диана не следит за порядком в этом доме?
— Она занята, — рассеянно откликнулся дядя Парис, полируя наждаком кусок мрамора. Светлые волосы упали ему на глаза, но он, поглощенный работой, не обращал на них внимания. Со всех сторон его окружали лица — мраморные, каменные, глиняные. Здесь были все — и рабы, и сенаторы, и близкие родственники. — Какой-то варвар из Британии учит ее управлять колесницей. Я как-то раз видел его. Прекрасное лицо. Думаю, мне стоит высечь его в мраморе.
Лоллия хихикнула, а Корнеля вздохнула.
— Дядя Парис, не позволяйте ей этого делать.
Старый скульптор заморгал.
— Кто способен ее остановить?
— Да, она легко может совершить опрометчивый поступок. Не думаю, что все сводится лишь к управлению колесницей.
— Вот и мне тоже так кажется! — усмехнулась Лоллия. — Надеюсь, ей некогда скучать.
— Малыши, — произнес дядюшка Парис и посмотрел на Флавию и Павлина. Оба стояли, открыв рот и вытаращив глаза. — Вы чьи? Впрочем, какая разница, главное, чтобы вы здесь ничего не хватали без моего разрешения. Скажите, уже не одному ли из вас я обещал мраморную собачку? Одну минутку…
Корнелия обвела глазами полки, заставленные резными фигурками, старыми и новыми. Это были грубые эскизы нимф и укутанных в покрывала дев. Впрочем, заметила она и одутловатую физиономию Вителлия с двойным подбородком, которая чем-то напомнила ей галла Лоллии, правда, в лавровом венке на манер Аполлона.
— Дядя Парис, я вот это кто такие? Те, что у тебя на столе?
— Четыре сестры Корнелии.
С этими словами отец Дианы подошел к верстаку, усеянному осколками мрамора и каменной пылью. Сейчас на нем в ряд выстроились четыре бюста.
— Я решил изобразить вас в виде богинь. Признаюсь честно, для этого мне пришлось поломать голову.
— Разумеется, Диана — это Диана-Охотница, — Лоллия улыбнулась, глядя на скульптурный портрет младшей кузины. Отец изобразил ее в виде богини-девственницы, богини луны и охоты. Ее тонкие черты лица теперь были запечатлены в мраморе. Глаза — чуть сонные, а в слегка растрепанных волосах гордо сидит лунный серпик. — А кто я такая?
— Церера. Богиня земли и урожая.
Мраморные губы Лоллии улыбались еле заметной улыбкой, а в мраморные локоны были вплетены мраморные колоски.
— Не Венера? — удивилась Корнелия. — Мне кажется наша Лоллия — воплощение богини любви.
— О нет! — возразил дядя Парис. — Богини любви — создания завистливые, даже в мелочах. Наша Лоллия теплая, как весенняя почва. И, как и у Цереры, у нее есть дочь, в которой она души не чает.
— Мама, а почему ты покраснела? — спросила Флавия.
— Неправда, — ответила Лоллия и прижала к себе дочь. — В любом случае, Венеры бы из меня не получилась, с таким толстым подбородком. А Корнелия? Подозреваю, что она — Юнона!
Корнелия посмотрела на себя в мраморе и нахмурилась. Голову ее не венчала корона, лицо обрамляло лишь простое покрывало невесты.
— Веста, — ответил дядя Парис. — Богиня домашнего очага. Потому что теперь императрицей тебе уже не быть.
— Дядя, ну зачем же ты так? — устыдила скульптора Лоллия.
— Нет, он прав, — чувствуя на себя пристальный взгляд дяди, Корнелия заставила себя улыбнуться. — И мы все считаем мою сестру глазами нашей семьи.
— А это Марцелла? — Лоллия вопросительно посмотрела на последний бюст. Мраморные глаза были пусты и жестоки одновременно, а вместо волос на голове извивались змеи.
— Да, это Марцелла, — задумчиво произнесла Корнелия. — Но только она…
— Эрида, — ответил дядя Парис.
Богиня разлада и хаоса, которая, где бы она ни появлялась, сеет после себя смуту. Озадаченная, Корнелия наклонила голову, однако дядя Парис уже отошел от верстака.
— О боги, — прошептала Лоллия. — Временами он совсем безумен.
Корнелия принялась заворачивать бюст Лоллии-Цереры, после чего велела рабу положить его на носилки. Ей не хотелось думать о себе как о Весте, богине домашнего очага. Какой дом? Какой очаг? Ведь у меня нет мужа.
Лоллия
Держа на бедре сонную Флавию, Лоллия переступила порог дома, который можно было по праву назвать тюрьмой. До ее слуха тотчас донесся грубый и резкий грохот. Похоже, сегодня ее ждет не самый лучший вечер. Тем более что утром Фабий застукал ее в постели с Траксом и теперь метал громы и молнии.
— Давай, становись на ножки, Флавия. Мы сейчас пойдем с тобой и ляжем в постельку, потому что ты вон какая сонная.
И вновь грохот. Лоллия огляделась по сторонам. Нет, ничего не упало, ничего не разбилось. Все статуи как стояли, так и стоят на своих местах. Она подозвала раба и велела ему внести бюсты в дом и поставить их в первые две ниши в прихожей. Кто знает, может, дом этот тогда по-настоящему станет ее домом?
И вновь откуда-то донесся странный щелкающий звук, а после него сдавленные всхлипы.
— Что происходит? — спросила Лоллия. Молодая рабыня лишь пожала плечами и уставилась в пол. — Живо отвечай!
— Это хозяин, — еле слышно пробормотала рабыня.
Внутри Лоллии все похолодело.
— Фабий? Где он? Что он делает?
— Он в атрии, прошу вас… госпожа. Мы не смогли…
И вновь треск. На этот раз до слуха Лоллии донесся вопль. Подхватив подол платья, она бросилась бегом. Флавия увязалась за ней по пятам.
Нет, не может быть. Увы, ее худшие опасения оправдались.
Это был Тракс.
Он стоял обнаженный, лицом к колонне в атрии, руки вздернуты вверх и связаны за колонной. В какой-то момент Лоллия подумала, что на нем красный плащ. Но нет, это был не плащ. Его спина была крест-накрест исполосована кнутом, и из вздувшихся шрамов сочилась кровь, стекая на пол по его ногам. Лоллия в ужасе застыла на месте. Фабий занес руку для очередного удара.
Тракс вновь простонал сквозь крепко сжатые зубы, и в следующий момент Лоллия вновь ожила. Со всех ног она бросилась через атрий и вцепилась в занесенную для удара руку.
— Нет, ты не смеешь так с ним поступать! Слышишь!
Фабий грубо оттолкнул ее от себя. Лоллия налетела на резную каменную скамью и упала на колени. Лицо Фабия исказилось гримасой. Впрочем, нет, он улыбался, хотя улыбка эта скорее напоминала звериный оскал. У Лоллии все похолодело внутри.
— Никто не имеет права обладать моей женой, кроме меня самого, — произнес Фабий, и в очередной раз полоснул кнутом по окровавленной спине раба.
Тракс вскрикнул. Лоллия с трудом поднялась на ноги и вновь попыталась вырвать из рук Фабия кнут. Увы! Фабий снова замахнулся. Удар пришелся ей по горлу, и она повалилась на пол. Казалось, ей вот-вот вырвет. Но уже в следующее мгновение Фабий схватил ее за волосы, рывком заставил подняться на ноги и посмотрел в глаза. Его собственные были налиты кровью.
— Если я хотя бы раз поймаю тебя в постели с другим мужчиной, — процедил он сквозь зубы, — клянусь, я и тебя так же исполосую кнутом. Ты поняла?
— Да, — прошептала Лоллия. Ей было слышно надрывное дыхание Тракса, скорее похожее на рыдание. — Я поняла тебя.
— Отлично. — Не выпуская из рук ее волос, Фабий еще раз пристально посмотрел ей в глаза, а в следующий миг пошатнулся. Как оказалось, это малышка Флавия налетела на него с кулачками и теперь колотила, где только могла достать. Одним движением руки он отшвырнул ее от себя. Девчушка отлетела в сторону и ударилась о букет каменных лилий.
— Флавия! — крикнула Лоллия дочери, но рука, на которую все еще были накручены ее волосы, не позволила ей броситься к девочке. Зажав во второй руке кнут, Фабий не спешил ее отпускать. Однако в конце концов отпустил и оттолкнул от себя. Лоллия снова рухнула на колени на каменные плиты пола и ползком приблизилась к дочери. Та лежала на холодном мраморе и тихо плакала.
Фабий отшвырнул кнут, и тот с негромким стуком упал на пол. Краем глаза Лоллия видела, как он осмотрел Тракса, вернее, то кровавое месиво у колонны, которое он собой представлял.
— Убери эту мразь, — приказал он ей. В следующее мгновение Лоллия услышала звук удаляющихся шагов. Громко стуча подошвами по мрамору, Фабий ушел прочь.
Как только он удалился на приличное расстояние, Лоллия, прижимая к себе дочь, решилась подняться на ноги.
— Пойдем, моя дорогая, я уложу тебя спать.
Но Флавия еще крепче вцепилась в нее, не желая отпускать. Лоллия была вынуждена одной рукой развязать веревки, которым был опутан Тракс. Ей было слышно, как у нее за спиной перешептываются рабы, однако никто не подошел и не предложил ей помощь. Впрочем, ничего удивительного. Фабий Валент — хозяин в доме, и его слово закон. Узлы упорно отказывались повиноваться ее дрожащим пальцам. Наконец Тракс оторвал лоб от колонны и с благодарностью посмотрел на нее. Этот взгляд пронзил ее подобно кинжалу.
Боги, зачем я только заманила его к себе в постель… какая глупость с моей стороны полагать, что Фабий его не тронет…
— В один прекрасный день ты поймешь, какая ты шлюха, — вспомнились ей слова Корнелии, которые та бросила ей во время одной из ссор.
И вот теперь она поняла.
Наконец ее дрожащим пальцам поддался последний узел, и Тракс без сил упал на пол. Дело было даже не в его спине, а в его ребрах. Оба глаза заплыли жуткими кровоподтеками, нос явно сломан. От его былой божественной красоты ничего не осталось, но Лоллии было некогда переживать по этому поводу.
— Тракс, Тракс, прошу тебя, вставай. Скажи, ты можешь сделать хотя бы несколько шагов? Ну, совсем немножко?
Он оперся о ее руку и, шатаясь, поднялся на ноги.
— Госпожа, — прошептал он и окровавленной рукой нежно погладил ей горло, — то место, которое украшал оставленный кулаком Фабия синяк. — Прости меня, госпожа.
— Тсс! Тихо! Пойдем со мной, — все еще держа Флавию на бедре, Лоллия повела Тракса за руку мимо колонн атрия, спиной ощущая на себе взгляды других рабов. Впрочем, никаких перешептываний она не услышала — свирепый нрав Фабия давно заткнул им всем рты. За Траксом по прекрасному мозаичному полу тянулись кровавые следы. Казалось, что бюсты прежних обитателей
этого дома возмущенно взирают на него из своих ниш.
Даже если я проживу здесь сто лет, этот дом никогда не будет моим.
Оказавшись на улице, Лоллия легко нашла паланкин и уложила на него Тракса лицом вниз. Спина его по-прежнему кровоточила. Лоллия прикрыла его легким летним плащом и осторожно промокнула кровь, чтобы та впиталась в ткань. Одного плаща оказалась недостаточно, но ничего другого в данный момент под рукой не было. Флавия негромко всхлипнула, цепляясь за мать, однако Лоллия довольно бесцеремонно оторвала ее от себя и усадила в углу паланкина.
— Не плачь, моя хорошая, — сказала она сквозь слезы. — И не толкай Тракса. Ему больно.
— Куда идти, госпожа? — поинтересовался один из носильщиков.
— В дом моего деда, — с трудом произнесла Лоллия. — Скажите ему, что одному рабу нужна врачебная помощь. Причем, лучшая, какая только есть в этом городе. Передайте ему также, что я следом пришлю няню девочки и ее вещи.
— И надолго они?
— Навсегда, — Лоллия отвернулась, вытирая слезы. — Я не хочу, чтобы они оставались в этом проклятом доме.
В тот вечер по случаю пира в императорском дворце на ней были изумруды. Ожерелье прикрывала синяк у нее на шее. Опершись на руку мужа, она с гордо поднятой головой прошествовала в просторный триклиний, одаривая гостей ослепительной улыбкой. Император приветствовал их на входе, вместо жезла держа в руке розовую шею фламинго. Лоллия возлежала на пиршественном ложе рядом с Фабием, смеялась его шуткам, лакомилась грудкой павлина и кубок за кубком пила вино. Иными словами, честно выполняла свой долг.
(обратно)
Глава 14
Корнелия
— Скажи ему, что меня нет дома, — умоляла Корнелия. — Ну, или что я больна.
— Чушь! — отмахнулась от ее слезной просьбы Туллия. — Думаю, тебе стоит переодеться. Как насчет голубой столы? Впрочем, нет, времени на переодевания нет. В принципе тебе неплохо и в черном. Главное, надень хотя бы серьги.
— Я не стану спускаться к нему.
— Не говори глупостей. Наоборот, ты должна быть благодарна богам, что они предоставили тебе такую возможность. Для нашей семьи это великая честь, — с этими словами Туллия открылась шкатулку с украшениями и, немного порывшись в ней, извлекала пару сережек из черного дерева с золотой инкрустацией и вставила их в уши Корнелии.
А ведь мне их подарил Пизон, с грустью подумала та, и у нее тотчас защемило сердце.
И вот теперь меня, словно товар, хотят выставить на показ для нового мужа.
— Гай ждет, чтобы дать официальное согласие, тебе осталось лишь сделать знак рабу, — велела ей Туллия. — Думаю, по случаю вашей помолвки будет дан пир в императорском дворце.
Корнелия едва не сделалось дурно.
— Я не могу…
— Разумеется, можешь, — Туллия схватила ее за руку и накрашенные красным лаком ноготки больно впились ей в кожу. — Это твой долг. Ты ведь не станешь портить мне настроение? Как-никак, ты живешь в моем доме, ешь за моим столом…
— Но ведь это ты настояла, чтобы я вернулась сюда!
— Вот увидишь, ты еще скажешь мне спасибо за то, что я выдала тебя замуж! — Туллия крепко взяла ее за руку и потащила за собой из опочивальни вниз по лестнице, у основания которой, переминаясь с ноги на ногу, стоял Гай. Туллия бесцеремонно потащила его сестру мимо него.
— Гай! — взмолилась Корнелия, оборачиваясь к брату, и вновь попыталась вырваться из железной хватки Туллии. Они никогда не были с ним особо близки, но в конце концов он ведь ее брат. — Я ведь твоя сестра, прошу тебя…
Но Гай лишь улыбнулся в ответ виноватой улыбкой. Туллия еще крепче вцепилась в ее запястье и поволокла за собой дальше.
— Ущипни себя за щеки, чтобы покраснели, — велела она Корнелии, — на тебя страшно смотреть — бледная, как ходячий труп. А потом ступай в сад, тебя там уже ждут у фонтана.
— Туллия, я не…
Увы, она не договорила. Унизанная кольцами рука золовки больно ударила ее сначала по одной щеке, а затем по другой. От боли и неожиданности на глаза Корнелии навернулись слезы.
— По крайней мере теперь ты не такая бледная, — презрительно произнесла Туллия и грубо вытолкнула ее в сад. — А теперь улыбайся!
На звук ее шагов обернулись два офицера в латах и наколенниках.
— Достопочтенная Корнелия! — Фабий Валент улыбнулся ей, и оба мужчины поклонились. Из-за слез лица второго она почти не разглядела. Услышав у себя за спиной стук сандалий Туллии по мраморному полу, Корнелия усилием воли заставила себя улыбнуться. Перед ней, за спиной ее потенциального жениха, переливаясь в лучах солнца, весело взлетали к небу журчащие струи фонтана, и казалось, будто от воина исходит сияние, а вокруг его головы светится нимб. Мох под ногами был зеленым и мягким, каждый кустик торопился одеться цветами, в воздухе висел густой запах жасмина.
Полный цветов сад. Чудный летний день. У фонтана ждет жених, отрешенно подумала Корнелия.
Сколько стихов начинались описанием этой сцены.
Не чувствуя ног, она сделала еще пару шагов в сад.
Фабий поспешил взять ее под локоть. От его прикосновения у нее тотчас по коже проползли мурашки. Однако сегодня он источал улыбки, и ей ничего не оставалось, как терпеть.
— Надеюсь, ты знаешь Цецину Алиена?
Второй мужчина — ее будущий муж — отвесил поклон, и Корнелия сквозь завесу слез рассмотрела худощавое, но в целом красивое лицо. Алиен, второй из доверенных лиц Вителлия. Римлянин по рождению, он так долго прожил в Германии, что теперь, как какой-нибудь германец-дикарь, носил длинные волосы и штаны, а на пирах пил германский мед, причем обычно напивался до потери сознания. Буквально поедая ее глазами, Алиен расплылся в улыбке. Что до самой Корнелии, то в ней презрение боролось с тошнотой.
— Разумеется, император устроит в честь твоей помолвки пир во дворце, Алиен. Ты же знаешь, как высоко он ценит тебя.
Алиен слегка отклонил голову назад и, развернув Корнелию в полоборота, придирчиво посмотрел на нее сзади. От такого унижения в ней тотчас вскипел гнев — и на брата, и на его жену.
Я была женой Кальпурния Пизона Лициниана, наследника императорского трона, потомка Красса и Помпея Великого. И вот теперь меня продают этому ничтожному человеку.
— Алиен, я не стану возражать, если сразу после бракосочетания ты увезешь ее в Байи. Но если тебе захочется испробовать ее в постели здесь, в Риме, что ж, я готов для тебя это устроить.
Пизон пришел просить ее руки зимой. Сначала он, как и полагалось, обратился к ее отцу, после чего им было позволено вдвоем прогуляться по замерзшему саду. Они беседовали, и в морозном воздухе дыхание обоих повисало белым облачком. Впрочем, тогда она была так взволнована, что даже не замечала холода.
— …и еще ты получишь в подарок дом на Авентинс, тот, что с синими мраморными колоннами. Оттуда открывается прекрасный вид на Тибр.
— Я знаю этот дом, — выдавила Корнелия. — Мне казалось, он принадлежит сенатору Пету.
Фабий осклабился.
— Теперь он принадлежит твоему новому мужу.
Корнелия же если и хотела что-то получить назад, так это свой собственный дом, где пришли счастливые восемь лет ее первого брака. Она с грустью вспомнила мозаики с изображением бутонов и переплетающихся ветвей, фрески, листья аканта и виноградные гроздья, статуи, которые она лично выбрала для каждой ниши. Дом этот давно был конфискован и, по всей видимости, теперь принадлежал очередному придворному проходимцу.
— …разумеется, придется постоянно принимать гостей. Всякий раз, когда император будет заглядывать к вам на обед, он ожидает пир, самое малое из шестидесяти блюд. Но, думаю, ты справишься. Мне кажется, что ты в сто раз лучше той шлюхи, на которой угораздило жениться мне.
— Я не позволю, чтобы мою кузину называли…
— А теперь мне следует уладить дела с твоим братом, — перебил ее Фабий, отходя от фонтана. — Обговорить приданое и все такое прочее. А вы двое можете тем временем познакомиться ближе.
— Мое приданое слишком скромное, — выдавила Корнелия глядя куда-то вдаль мимо лохматого Алиена. — Ты мог бы найти для себя жену и побогаче.
— Мне нужна ты, — это первое, что он сказал. Голос у него был гортанный, как у варвара-германца.
— Я бесплодна, — призналась Корнелия, в надежде, что это его остановит. — Со своим первым мужем я прожила в браке восемь лет и даже ни разу не забеременела. Мне казалось, тебе нужна жена, которая родит тебе сыновей.
— Если я захочу сыновей, я найду себе другую жену, — пошутил Алиен, — а тебя оставлю в качестве наложницы.
Фабий издал смешок, и Корнелия обернулась в его сторону.
Похоже, этот разговор доставляет ему даже большее удовольствие, чем Алиену, подумала она.
Интересно, с каких это пор Фабий Валент рассматривает, словно призовых лошадей, девушек-патрицианок, гордых, недоступных девушек, которые предназначены совсем не для него?
И вот теперь он может иметь нас всех, либо чтобы пользоваться самому, либо чтобы раздавать направо и налево своим дружкам и прихвостням. Теперь мы все его собственность, даже если он сам нам ненавистен. Ему это даже нравится.
— Сегодня днем у меня дела с новыми префектами, — произнес тем временем Фабий, — однако жду вас обоих сегодня ко мне на ужин. Приходите ближе к вечеру, нет, лучше, когда совсем стемнеет.
Это твой долг, напомнила себе Корнелия.
Твой долг.
Она кивнула, и Алиен крепко сжал ей пальцы.
— Твоя невеста очень даже хорошенькая, — пальцы Фабия скользнули по ее руке. — Может, нам с ней стоит поужинать сегодня наедине. Так и быть, я попробую ее для тебя.
Его рука скользнула дальше, к ее груди, и он нащупал сосок. Корнелия больно прикусила губу.
Твой долг, твой долг, мысленно повторяла она.
Продолжая гладить ей грудь, Фабий осклабился еще шире и посмотрел на Алиена, который тоже довольно улыбался. Корнелия уловила запах его напомаженных волос.
— Я постараюсь, чтобы к свадьбе она была мокрой от желания.
Корнелия откинула его руку, а самому влепила звонкую пощечину, какую она отвесила бы разве только рабу.
— Отправляйся в царство Аида, гнусный плебей! — Она вырвала руку из рук Алиена. — И можешь забирать с собой своего германца!
С этими словами она развернулась и зашагала прочь, мимо фонтана с журчащими струями, мимо раба, который уже стоял с графином вина, мима Гая, который ждал в атрии, чтобы дать свое формальное согласие на брак.
— Корнелия! — растерянно окликнул он ее, но она прошла мимо и, поднявшись по лестнице к себе в опочивальню, захлопнула за собой дверь. Внутри было тихо. Ей срочно нужно побыть одной, в тишине, чтобы успокоить кровь, которая громко стучала в висках. Возможно, это последняя ее возможность, поскольку неизвестно, что ждет ее впереди. Она села на кровать и принялась ждать, что за этим последует. Впрочем, ждать ей пришлось недолго.
— Почему? Ну, почему? — это к ней в комнату, возмущенно топая, ворвалась Туллия. — Как ты посмела? Как только у тебя язык повернулся послать правую руку императора в царство Аида? Ты, самовлюбленная, неблагодарная…
— В будущем, Туллия, — спокойно ответила Корнелия, — я бы попросила тебя не подслушивать моих личных бесед с женихами.
— Гай! Скажи ей!
— Не волнуйся, ничего страшного не произошло, — Гай пытался успокоить жену. — Такой мужчина, как Фабий Валент, вряд ли испугается драчливой женщины. Он еще вернется, и если Корнелия принесет ему свои извинения…
— Никаких извинений, — возразила Корнелия. — Никакого замужества. Никаких уговоров. Я не выйду замуж за любого из его головорезов, даже если он снова придет сюда. Я сама ему так и скажу.
— Но ведь это твой долг! — от гнева лицо Гая сделалось почти таким же багровым, как лицо его супруги. — Знаешь, что он сказал мне, когда уходил отсюда? «Держи своих женщин в узде, сенатор».
— Неужели ты считаешь, что такой, как он, не станет мстить?! — выкрикнула Туллия. — Ему ничего не стоит выдумать против нас любые обвинения, ему ничего не стоит ограбить нас, отобрать нашу собственность.
— Пока Диана пользуется благосклонностью императора, я сильно в этом сомневаюсь, — возразила Корнелия. Однако Гай перебил ее.
— Ты хочешь погубить всех нас? Вспомни лучше, в какие времена мы живем!
Мне решать, за кого тебе выходить замуж, слышишь?
— Слышу, и если ты найдешь мне достойного мужа, я подумаю над твоим предложением, — бросила в ответ Корнелия. — Ты же пытаешься положить меня в постель к дикому германцу, лишь бы только выслужиться перед императором. Нет, нет, не смотри на нее! — остановила брата Корнелия, видя, как Гай покосился на Туллию. — Я прекрасно знаю, что это ее затея. Но в этом доме хозяин ты, а не она. Так что будь мужчиной!
— Это ты во всем виноват, Гай! — набросилась на мужа Туллия. — Если бы ты не потакал ее капризам, ее и всех своих кузин…
— Что за крик? — спросила с порога Марцелла с пером в руке.
— Твоя драгоценная сестра только что отказалась выйти замуж за друга Фабия Валента! — истерично выкрикнула Туллия. — Отказала жениху!
Марцелла пристально посмотрела на сестру.
— Не слишком мудрый шаг, — сказала она, немного помолчав. — Хотя, с другой стороны, я тоже никогда бы не вышла замуж ни за одного из его лизоблюдов.
С этими словами она сочувственно сморщила нос и, положив за ухо перо, удалилась. Корнелия бросила в спину сестре полный ярости взгляд. Среди царящего в доме хаоса, среди крика и обвинений как пригодилась бы ей поддержка Марцеллы! Ее теплая рука, ее твердый голос. Ведь раньше она никогда не оставила бы ее один на один с фурией Туллией. Против нее они как сестры стояли бы плечом к плечу. А теперь на это не приходится даже рассчитывать. Теперь единственное, что есть для Марцеллы на всем белом свете, это ее сочинения, ее трактаты.
Увы, в следующее мгновение Туллия бросилась к ней и принялась бить ее по голове. Корнелия покачнулась.
— Самовлюбленная шлюха! Тебе нужно замуж! Нужно, чтобы кто-то из друзей Фабия оберегал нашу семью. Или ты забыла, что мы все ходим по лезвию ножа, потому что императоры сменяются каждый месяц! Кто ты такая? Что ты о себе возомнила!
— Я не ты, — бросила ей Корнелия, прикрываясь от ударов. — Я не шлюха.
Неожиданно Туллия разрыдалась. Лицо ее сделалось багровым, как зерна граната, и Гай поспешил ее увести. В опочивальню Корнелии, сочувственно вздыхая, заглянули рабы. Корнелия зажала ладонями уши и тоже вышла вон. Не обращая внимания на изумленные взгляды рабов, она направилась вниз по лестнице, мимо маленького Павлина, чей отец сейчас находился в тюрьме, и потому мальчик как потерянный бродил по всему огромному дому.
— Тетя Корнелия! — позвал он ее, не вынимая изо рта большого пальца. В иной момент она взяла бы его на руки, приласкала, а может даже, провела бы с ним целый день в играх, но сегодня лишь легонько поцеловала его в лоб и вышла вон через парадную дверь. Она шагала мимо бань, в которых не раз встречалась со сторонниками Вителлия, передавая сведения, которые помогли привести его на трон, а Фабию Валенту дать в руки власть.
— Какая же я была наивная!
У ворот бань ее окликнула какая-то знакомая, матрона в голубой столе. Корнелия тотчас повернулась и поспешила в другую сторону, зашагав по улице с неказистыми домишками.
Наверно, меня сошлют, подумала она, холодно и спокойно. Туллия права, такой человек, как Фабий Валент, если она и дальше будет ему отказывать, наверняка попытается отомстить. Даже несмотря на то, что их семья пользуется благосклонностью императора. Ссылка куда-нибудь на крошечный остров посреди бескрайнего моря. По крайней мере там будет тихо. Как ей недоставало тишины! Откуда-то спереди до нее донесся шум форума, и она свернула в ближайший переулок.
«Если они будут и дальше заставлять меня выйти замуж за этого головореза, я в день свадьбы наложу на себя руки. Диана вынесет ему мою голову на блюде и он пусть целует ее, если захочет. Но ничего другого он от меня не получит».
Корнелия остановилась и оглянулась по сторонам. Как долго она шла? Она сама не заметила, как оказалась в совершенно незнакомой части города. Более того, в части города, которую она не желала знать. С обеих сторон покосившиеся многоквартирные дома, из сточных канав тянуло вонью. Мимо нее, оскалившись, прошел бродячий пес, затем вдогонку друг дружке пронеслась ватага голых детей. В дверях одного дома две женщины в поношенных платьях, глядя на нее, принялись о чем-то переговариваться, прикрыв ладонью рот. Только сейчас Корнелия обратила внимание на свое дорогое платье и изящные сандалии, вспомнила про золотые серьги.
Возможно, меня ограбят и убьют еще до того, как Фабий отдаст приказ о моей казни.
С этой мыслью она повернула назад, пытаясь вспомнить, какими закоулками пришла в эти трущобы с Палатинского холма. Однако куда бы она ни шла, вдоль кривых переулков стояли все те же дешевые дома, а в нос бил все тот же омерзительный запах. Мимо нее, с громкими криками, пошатываясь и источая запах вина, прошли вымазанные в навозе погонщики мулов. Корнелия гордо вскинула подбородок. Ей стоило немалых усилий, чтобы не броситься от них бегом. Что ж, придется спрашивать у людей дорогу. Вот там, у дверей дома на табурете, прислонившись к стене, сидит какой-то мужчина и сморит на дорогу. По крайней мере он, кажется, трезв.
— Извините, — обратилась к нему Корнелия, подходя ближе. Мужчина удивленно посмотрел на нее. — Центурион?
— Нет, больше не центурион, — ответит Друз Семпроний Денс. — Меня вышвырнули из преторианской гвардии, госпожа. Или ты об этом не слышала?
— Слышала. Это так несправедливо.
Денс пожал плечами. В нем ничего не осталось от гордого воина в латах и с алым плюмажем на шлеме. Перед Корнелией в дверях дешевого доходного дома сидел крупный мужчина в тунике из грубой шерсти. Сидел и смотрел на нее без особого сочувствия.
— Я заблудилась, — призналась Корнелия и тотчас поняла, что сказала это зря.
— Похоже на то, — не слишком приветливо отозвался Денс. Куда только подевалась его былая любезность. — Патрицианки не часто расхаживают по нашим трущобам.
— Ты не мог бы вывести меня отсюда?
— Дай мне свои серьги, тогда выведу.
Корнелия машинально потрогала золотые подвески рядом с шеей.
— Мои серьги?
— Мне больше не платят жалованья, госпожа. Так что деньги мне не помешают.
Корнелия сняла подаренные Пизоном серьги и положила их в мозолистую руку бывшего центуриона Денса. Тот проворно поднялся со своего табурета и жестом поманил ее за собой в дом.
— Только скажу хозяйке, что отлучусь.
— Хозяйке?..
— Подожди меня внутри. Если останешься стоять на улице, тебя того гляди ограбят.
Корнелия испуганно вошла вслед за ним в дом. Внутри было темно, ниши завешаны рваными лоскутами ткани. На первой двери имелся крючок для плащей. Однако стоило ей подойти ближе, как она поняла, что это небольшая, грубо сработанная фигурка Приапа, с сальной ухмылкой и гигантским фаллосом. Затем она посмотрела на выцветшие фрески на стенах и ощутила, что заливается краской стыда.
— Комната в самом конце коридора, госпожа, — бросил ей Денс, — если не хочешь, чтобы тебя приняли за новую девушку.
С этими словами он исчез за занавеской. Корнелия поспешила дальше по коридору. Из-за занавесок до нее доносились стоны, громкое сопение и ритмичное поскрипывание кроватей. Мимо нее, поправляя на поясе ремень, прошел какой-то мужчина. Наконец Корнелия добралась до дальней комнаты и закрыла за собой дверь.
Ты не юная девушка, напомнила она себе.
Ты прекрасно знаешь, что такое лупанарий.
И все равно Корнелия чувствовала, что щеки ее горят. Немного успокоившись, она огляделась по сторонам.
Комнатка оказалась крошечной, на удивление чистой и душной. В ней стояла узкая продавленная кровать, табурет и светильник. В стенной нише — две грубо сработанных статуэтки. Корнелия взяла их в руки. Марс и Минерва. Боги войны и военной стратегии. Солдатские боги.
Затем дверь открылась, и внутрь шагнул Денс. Не выпуская из рук статуэток, Корнелия обернулась.
— Так ты здесь живешь?
— Ты не ожидала, госпожа? — Денс порылся под матрацем.
— Как сказать…
— Моя работа состоит в том, чтобы вышвыривать на улицу клиентов, если те грубо обходятся с девушками. За мои услуги хозяйка разрешает мне жить в этой каморке.
С этими словами Денс вытащил из-под матраца гладий меч.
— Ты сохранил свой меч?
— Я его честно заработал. Я двенадцать лет отдал преторианской гвардии.
Денс прищурился, придирчиво посмотрел на лезвие, вновь сунул руку под матрац и извлек из-под него точильный камень.
Корнелия жестом обвела комнату.
— Смотрю, ты не большой любитель украшений, — сказала она, стараясь придать голосу слегка легкомысленный тон.
— Держу в комнате лишь койку да богов, потому что все другое украдут, — ответил Денс и принялся затачивать лезвие. — Не успеешь и глазом моргнуть, как шлюхи уведут все, что не прибито.
Корнелия опустилась на грубо сколоченный табурет.
— Может, тебе не стоит меня провожать. Моя семья знает, как ты выглядишь, и рабы… Вдруг тебя кто-то выдаст.
— Например, ты, госпожа. Что помешает тебе это сделать?
— Я тебя не выдам. А даже если бы и выдала, меня вряд ли кто станет слушать. В данный момент я не в почете у императора. Или у кое-кого из его окружения.
— Выходит, ты тоже предательница? — Денс повернулся к ней спиной и поискал плащ.
— Возможно. Генерал Валент хочет, чтобы я вышла замуж за одного из его офицеров.
— Это не предательство.
— О, еще какое! Ведь я послала его в царство Аида. — Корнелия улыбнулась. Почему-то ей стало очень легко на сердце. — Может, даже, когда я вернусь домой, меня арестуют.
— Еще никого не сажали под арест за то, что девушка отвергла чьи-то ухаживания.
— Сейчас все возможно, — возразила Корнелия, пожимая плечами. — В наши дни могут арестовать любого, если этот человек не угодил Вителлию. Так что, может, тебе не стоит идти рядом со мной.
— В любом случае, серьги я тебе не отдам, так что уж лучше я тебя провожу. — Денс перекинул через руку грубый коричневый плащ. — Пойдем.
Не поднимаясь с табурета, Корнелия окинула его пристальным взглядом.
— Моя сестра была в Бедриакуме. По ее словам, ты проявил там чудеса храбрости.
— Какая разница. Пойдем.
— Они не имели права обвинять тебя в предательстве, — сказала Корнелия, вставая. — Я точно знаю, ты не предавал Гальбу и Пизона.
— Как это великодушно с твоей стороны, госпожа. — Казалось, карие глаза Денса буравят ее насквозь. — Я должен быть тебе за это благодарен?
— Я просто пытаюсь…
— Ты рада, что меня выставили из гвардии, разве не так? Ты считаешь, что я это заслужил. Я не спас сенатора Пизона. Поэтому не имею права и дальше носить плащ преторианца.
— Неправда, — Корнелия испуганно сделала шаг назад.
— Ты надеешься, что я сейчас согнусь в поклоне и стану благодарить тебя за то, что в твоих глазах я якобы не предатель. Надеешься, что я рассыплюсь в извинениях за то, что не сумел спасти от смерти твоего мужа? — Денс в гневе швырнул на пол плащ. — Даже не рассчитывай! Я сделал все, чтобы защитить его. Увы, я оказался бессилен его спасти, но я сделал все, что мог! Мне надоело объяснять и извиняться. Я сыт этим по горло!
Денс отвернулся. Корнелии было слышно его надрывное дыхание. Его рука нервно сжимала и разжимала рукоятку меча. И тогда она заговорила, обращаясь к его мускулистой спине.
— Я никогда не считала, что ты заслужил такое к себе отношение. Из всех преторианцев ты был самым лучшим. Лучше, чем те префекты, которые отдавали тебе приказы.
— Тех самых, кому ты позволяла целовать себя за опущенным пологом? — Денс резко развернулся. — Для меня это не похвала.
— Мне были нужны сведения, — подавленным голосом возразила Корнелия. — Префекты снабжали меня ими, и я затем передавала их Вителлию. Мне нужно было лишь одно — смерть Отона.
— Что ж, твой план удался. И что? Ты довольна его результатами? — Денс в сердцах швырнул меч в ножнах через всю комнату. Тот с лязгом упал на пол в небольшой нише. Фигурки Марса и Минервы со звоном упали на пол и покатились. — А все вы и ваши интриги, патрицианские сучки, человеческая жизнь для вас…
— Я не хотела…
— Разумеется, ты не хотела! — Денс тяжело опустился на продавленную кровать и зажал огромные ладони между коленями. Руки его дрожали. — Убирайся отсюда. Ищи дорогу домой сама!
Корнелия в два шага преодолела комнату. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но не смогла подыскать ни единого слова. Все слова были словно стерты его гневом. Она в растерянности стояла перед ним и не знала, что делать. Денс сидел, низко опустив голову. Ей была видна лишь его макушка и вздымающиеся плечи.
— Ступай домой, — повторил он хрипло. — Возьми в мужья одного из головорезов Вителлия, и пока он будет тебя пялить, лежи и думай о том, что исполняешь свой долг. Вы патрицианки тем и славитесь, что умеете выполнять свой долг.
— Не всегда, — возразила Корнелия и, протянув руку, погладила его по щеке. Денс тотчас отстранился от нее, но она шагнула ближе. Теперь его голова была прижата к ее талии. Он тотчас обнял ее и с силой прижал к себе. Корнелия пробежала пальцами по его волосам. Плечи его по-прежнему продолжали вздыматься. Из-за тонкой двери доносились стоны женщины и громкое сопение мужчины.
Лупанарий среди трущоб, удушливый летний полдень, обвиненный в предательстве центурион, отстраненно подумала она.
Так не начинается ни одно стихотворение. Корнелия поцеловала его первой. Взяла в ладони его лицо и поцеловала. Денс вопросительно посмотрел на нее. Она же вместо ответа лишь молча покачала головой и вновь припала губами к его губам. Царапая щетиной ей кожу, он поднялся и запустил пальцы в ее локоны. Затем стащил с ее плеч столу и зарылся лицом между ее грудей. Она, в свою очередь, опустилась на постель и помогла ему стащить через голову тунику.
Как это необычно, вновь отстраненно подумала она, притягивая его к себе и потерлась щекой о его крепкое плечо. Единственное другое мужское тело, какое она когда-либо знала, это тело Пизона. Денс был шире в плечах, смуглее, крепче телом. Оно резко отличалось от поджарого, рослого тела Пизона. Корнелия закрыла глаза, как будто это могло спасти ее от странности происходящего, но Денс взял ее лицо в ладони.
— Нет, — сказал он. — Нет, — повторил он, целуя ее открытые глаза, после чего медленно вошел в нее. Она вскрикнула и прижалась к нему. Пизон тотчас исчез из ее сознания.
Они лежали на узкой кровати, сцепив пальцы на грязной подушке. В каморке было душно. Денс медленно провел рукой по изгибу ее блестящего от пота бедра.
— Корнелия, — прошептал он.
— Что?
— Ничего. — Лицо его было серьезным, гнев больше не искажал его. Взгляд его карих глаз был прикован к их сцепленным на подушке рукам. — Сколько недель я провел, сопровождая тебя во время несения стражи, мечтая назвать тебя по имени, Корнелия.
— Друз, — робко назвала она его по имени. Они полдня, несмотря на удушливую жару, занимались любовью, и вдруг теперь она испытала нечто вроде застенчивости.
(обратно)
Глава 15
Марцелла
— Что она сказала?
Марцелла попыталась передать ровную интонацию Дианы.
— Найди себе шлюху. Я никогда не выйду замуж за сторонника «синих».
Корнелия поморщилась.
— Это в ее духе. И кто это был из офицеров Вителлия?
— Тот же самый головорез-германец, который сватался к тебе, — улыбнулась Марцелла. — Теперь его отвергли уже дважды! Думаю, нет нужды рассказывать тебе, какая сцена за этим последовала! Туллия заявила, что…
Она приподняла веер, чтобы никто не услышал ее слов. Театр Марцелла был полон — сюда сегодня вместо скачек наведался сам Вителлий и сейчас сидел в императорской ложе. А поскольку было много народа, то в зале царила ужасная духота. На сцене актеры, обливаясь потом под слоем грима и под масками, старательно декламировали строки какой-то бездарной драмы. Зрители в зале вяло следили за ходом действия, устало обмахиваясь веерами, патриции — страусовыми, плебеи — бумажными. Никто, начиная с самого императора, не проявлял особого интереса к тому, что происходило на сцене.
— По крайней мере теперь мы точно знаем, что Вителлий хочет Диану не для себя, — продолжала шептать Марцелла из-за веера. — Иначе бы его офицеры никогда бы не осмелились даже приблизиться к ней. Думаю, именно это и бесит Туллию. Она давно уже лелеет сладкую мечту, что Вителлий разведется со своей бессловесной женушкой и сделает императрицей нашу Диану.
Марцелла покосилась на императора. Дородный и румяный, он сидел в соседней с ними ложе в окружении своих офицеров и едва ли не рычал от хохота. Обычно в театре мужчины и женщины сидели раздельно. Однако, как и обычно в эти дни, Диана на табурете сидела в императорской ложе у ног Вителлия. Сейчас он наклонил свое рыхлое от обжорства и неумеренных возлияний лицо к ее светловолосой головке.
— Я могла бы сказать Туллии, что Диана в качестве супруги его не интересует. Да, в подпитии он иногда хлопает ее по попке, но с каких пор такого человек, как Вителлий, интересовало что-то кроме бесконечных пиров, возлияний и побед «синих» на гонках колесниц? — Марцелла многозначительно закатила глаза. — И это наш император.
Корнелия рассеянно кивнула, и Марцелла подавила вздох. Сегодня она вытащила сестру в театр, в надежде хотя бы немного поднять ей настроение. Гай и Туллия по-прежнему отказывались с ней разговаривать. Увы, Корнелия лишь беспокойно ерзала на своем сиденье, а ее пальцы отбивали нервную дробь на рукоятке веера из слоновой кости. Что было совершенно на нее не похоже, однако в такую жару никто не обратил на это внимание. Лето постепенно катилось к сентябрю, знойное, удушливое, а дуновения ветра вместо прохлады приносили с собой лишь песок. Все дружно проклинали жару, по возможности старались проводить время, плескаясь в бассейнах публичных бань, жалуясь на то, что не могут окунуться в прохладные воды где-нибудь у себя на вилле в Тоскане или Тиволи.
Все, кроме меня, подумала Марцелла. Несмотря на зной, она была холодна как лед, и ни за какое золото Египта не покинула бы этот бурлящий, живущий интригами город.
Она вновь задумчиво посмотрела на Вителлия. Ей прекрасно был слышен его зычный бас, который были бессильны заглушить даже декламации актеров на сцене. Даже если бы он говорил шепотом, Марцелла была уверена, что все равно услышала бы его. Мои уши способны услышать в Риме любой шепоток. Она частенько ловила себя на такой мысли.
— Эти твои гнедые жеребцы, те, что названы в честь ветров, — говорил Вителлий, обращаясь к светлой головке у его ног. — Ты наверняка побоишься выставить их против моих «синих».
— Цезарь, — смело возразила острая на язык Диана, — по сравнению с моими, твои жеребцы — жалкие мулы.
При этих словах все, кто был в ложе, обменялись многозначительными взглядами. Марцелла прекрасно знала: многие отказывались верить собственным ушам, слыша, какие вольности позволяет себе Диана в беседах с императором. Впрочем, Вителлий провел не один год в таких диких местах, как Германия и Африка, и потому привык к грубой речи. Более того, грубости ему даже нравились, как нравилась ему и Диана. В ответ на ее слова он лишь расхохотался, и приближенные поспешили подхватить его хохот.
— А ведь, по идее, он должен быть встревожен, — рассуждала вслух Марцелла, глядя на хохочущего императора. — Особенно, если учесть, какие вести приходят из Иудеи.
Корнелия растерянно заморгала. Слова сестры вывели ее из задумчивости.
— Ах, ты вот о чем!
— Неужели тебе неинтересно, что Веспасиана провозгласили императором?
Марцелла искренне отказывалась понять сестру. Боги свидетели, в какое удивительное время им выпало жить! Корнелия же, вместо того, чтобы следить за развитием событий, предпочитала проводить время в публичных банях.
— Надеюсь, ты понимаешь, что это означает войну?
Корнелия заложила за ухо прядь волос.
— У нас круглый год война.
— А у Веспасиана его иудейские легионы! Десятый, Четвертый, Двенадцатый и Пятнадцатый! — Марцелла с азартом перечисляла их номера. — Вот увидишь, он маршем войдет в Рим, и Вителлию, чтобы дать ему отпор, придется собирать армию. Мне не дает покоя вопрос… — Марцелла не договорила и задумалась.
— Я когда-нибудь рассказывал тебе, откуда у меня эта легкая хромота? — вверху, в императорской ложе, Вителлий оторвал от резного кресла свои пышные телеса.
— Кажется, после сражения в Африке, — заметив, как он покачнулся, Диана поспешила взять его за руку. — О боги, ты пьян! Обопрись на меня, цезарь.
— Я всем говорю, что это было сражение. Но хочешь знать правду? Меня просто лягнула лошадь! — Вителлий распылался в глуповатой улыбке. — Только смотри, никому не говори.
— А вот это видишь, цезарь? — Диана приподняла шелковый подол и показала ему лодыжку. Правда, Марцелле это не было видно. — Я сказала своим родным, что оступилась, когда слезала с носилок, но на самом деле… — Диана поднялась на цыпочки и прошептала что-то императору в ухо.
— Правда? — Смешок. — Ну, ты даешь!
— Только никому не говори, цезарь.
— Только если ты тоже не скажешь, — Вителлий поворошил ей волосы. — Мы с тобой славная парочка обманщиков.
Его улыбка светилась добродушием. Это признала, хотя и нехотя, даже Марцелла. Несмотря на его дурные привычки, Вителлий умел расположить в себе. Он смеялся, когда ему было смешно, с аппетитом ел, когда бывал голоден, пил, когда испытывал жажду, и ни на кого не сердился. Что было приятным разнообразием после этих интриганов-политиков, которые только тем и занимались, что вынашивали новые заговоры. С другой стороны — довольно ли такой прямой простоты для того, чтобы удержать на своей стороне военачальников? Потому что верность им неизвестна. Если на сторону Веспасиана перейдут новые легионы, эти крысы наверняка задумаются, не пора ли им бежать с тонущего корабля.
Стоило императору покинуть свою ложу, чтобы выйти облегчиться, как действие приостановилось. В зале моментально возник шумок, публика в полголоса обменивалась сплетнями.
— Где же Лоллия? — поинтересовалась Диана у Фабия, вновь опускаясь на свой табурет. — Она обожает театр.
— Эта сучка говорит, что от жары у нее болит голова, — пожаловался супруг ее кузины.
— Зря ты обращаешься с ней так дурно, — спокойно ответила ему Диана. — Она гораздо лучше, чем ты заслуживаешь. А вот честолюбивые жабы вроде тебя, как правило, неисправимо глупы.
Фабий посмотрел на Диану полным ненависти взглядом.
— Ты не всегда будешь игрушкой императора, красавица.
— Бедная Лоллия, — вздохнула Корнелия, подслушав их разговор. — Она проплакала целую неделю. Ну, ты знаешь, Фабий высек ее раба. И я не поручусь, что не поднял руку и на нее. Я заметила на ее теле синяки, которые она пытается прикрыть слоем пудры и браслетами. И еще она избегает появляться в доме деда. Думаю, она просто боится, что тот заметит кровоподтеки. Ей не хочется его лишний раз расстраивать. А он непременно расстроился бы, потому что ничего не сможет поделать с Фабием.
Марцелла задумчиво посмотрела на Фабия. В следующее мгновение, поправляя складки тоги, в ложу вернулся Вителлий. Вскоре ему, если он хочет сохранить императорский венок, придется собирать армию. А этого ему никак не сделать без Фабия. Какую же армию он соберет? Восточные легионы получили закалку в боях. Германских варваров и придворной гвардии ему явно будет недостаточно.
Император откинулся в кресле и раздраженно взмахнул рукой. Потные актеры тут же вернули на место маски.
— К черту пьесу! — раздраженно воскликнул Вителлий, обращаясь к Диане, и плеснул себе в кубок вина. Актеры на сцене без какого-либо воодушевления принялись декламировать свои строки. Трубный глас императора заглушал их слова. — Нет, гонки совсем другое дело. Их я могу смотреть хоть каждый день. И смотри, не надо дуться, когда мои «синие» победят во время Виталий. Проигравший должен уметь улыбаться.
— Значит ли это, что ты улыбался весь прошлый год? — с улыбкой подпустила шпильку Диана. — Когда твои «синие» приходили последними из всех?
— А ты, красавица, остра на язычок! Видно, твой отец в детстве не порол тебя как следует!
Марцелла слушала их разговор в пол-уха. Куда больше ее занимали размышления по поводу верности императорских полководцев.
— Если полководцы Вителлия не отличаются верностью, интересно, а как же полководцы Веспасиана? Домициан наверняка это знает. Разумеется, он будет скучен и попытается затащить меня в постель, но если я не смогу выудить хотя бы из восемнадцатилетнего юноши…
Рядом с ней послышался шорох платья. Это со своего места резко встала Корнелия.
— Все. Я иду домой.
— С тобой все в порядке? — Марцелла стряхнула задумчивость и подняла глаза на сестру.
— Голова болит. Ненавижу жару. — Корнелия убрала с шеи влажную от пота прядь. Вид у нее был даже еще больше отстраненный, чем обычно. — Не обижайся на меня, — сказала она и направилась прочь.
Марцелла на мгновение задумалась. Может, ей лучше уйти вместе с сестрой? Предложить ей посетить бани, где они смогут окунуться в прохладную воду бассейна и потом от души посплетничать, как в старые добрые дни. Впрочем, развлекать унылую сестру не слишком веселое занятие. Иное дело вещи, которые происходят вокруг.
Ладно, проведу с ней больше времени чуть попозже, пообещала себе самой Марцелла,
когда все немного успокоится. Вот только успокоится ли? Эта мысль не давала ей покоя.
Она послушала еще пару невыразительных декламаций, которые заглушали трубный глас императора и резкий голос Дианы. Эти двое продолжали спорить о лошадях. Внезапно кто-то опустился на сиденье с ней рядом.
— Тебе здесь нельзя сидеть, — сказала Марцелла и томно обмахнула себя веером.
— Императору наплевать на правила, — рука Домициана легла ей на колено, влажная и теплая. — Тогда с какой стати их должен соблюдать я?
Марцелла улыбнулась и слегка отодвинулась в сторону.
— Только веди себя прилично.
— Это почему же? — хитро спросил Домициан. — Можно подумать, ты сама отличаешься приличным поведением.
— Это была ошибка. Я сильно расстроилась по поводу того, что видела в Бедриакуме.
После того безумного совокупления в саду на Палатинском холме, Марцелла вела себя осторожно и старалась держать Домициана на расстоянии. Он куда лучше работал на нее, когда был томим желанием. А он действительно был томим желанием, и потому пребывал в дурном настроении. С обиженным видом он уселся рядом с ней и принялся сообщать последние известия, полученные от отца из Иудеи. Впрочем, Марцелла слушала его в пол-уха. Взгляд ее был устремлен на одно недовольное лицо, которое она заметила на нижних рядах, лицо, которое уже замечала и раньше.
— Извини, — пробормотала она Домициану, и, поднявшись с кресла, накинула на голову зеленое покрывало. — Я скоро вернусь.
— Цецина Алиен! — воскликнула она, опускаясь на сиденье рядом с тем, кого отвергли обе ее сестры, родная и двоюродная. — Вот уж не думала, что ты такой страстный почитатель театра.
— Даже у солдата найдется время для искусства, госпожа, — в его низком голосе Марцелла уловила недовольные нотки. Вряд ли он был в восторге от того, что видит перед собой еще одну Корнелию, особенно после неудачи, постигшей его с предыдущими двумя. Тем не менее прежде чем вновь сосредоточить внимание на сцене, он учтиво кивнул Марцелле. Несколько его офицеров, не зная, чем занять себя, от скуки играли в кости.
— Разве Фабий сейчас не в сенате? — с невинным видом поинтересовалась Марцелла. — Мне казалось, что ты его неразлучная тень.
Алиен нахмурился. Разумеется, он тоже был влиятельной фигурой, однако не столь высокого ранга, каким был в глазах императора Фабий. Кроме того, он явно переживал по поводу своего позора. Еще бы! Его отвергли, одна за другой, сразу две патрицианки!
— Какой у тебя, однако, хороший вкус! — произнесла Марцелла, обмахиваясь веером. — Театр предназначен для утонченных людей. Таким неотесанным служакам, как Фабий, трудно понять его прелесть. Впрочем, Вителлий тоже из их числа.
— Ммм, — невнятно промычал Алиен, делая вид, что увлечен действием на сцене.
— Мне кажется, что Вителлий не разбирается не только в театре, — продолжала с невинным видом Марцелла. — По-моему, он также не разбирается в людях, и потому не ценит таких, как ты.
Алиен покосился на нее из-под густых бровей.
— Я хочу кое-что сказать тебе, полководец, — Марцелла заговорщицки понизила голос. — Нам всем известно, что восточные легионы несколько недель назад провозгласили Веспасиана императором. Возможно, тебе пока не известно, что пять дней назад легионы в Мезии тоже перешли на его сторону.
— Что? — неожиданно Алиен сделался весь внимание и, прищурившись, смерил ее пристальным взглядом. — Пять дней назад. Откуда тебе это известно?
— От младшего сына Веспасиана. Домициана. Он до беспамятства в меня влюблен, — Марцелла улыбнулась и продолжила томно обмахиваться веером. — Так что, как видишь, я прекрасно знаю, что говорю. У Веспасиана в Иудее четыре легиона, но сюда они прибудут еще не скоро. Тем не менее лига мезийских легионов убедила своих солдат тотчас выступить маршем на Рим. Да и идти им гораздо ближе.
— Я тебе не верю.
— Ничего удивительного, — Марцелла пожала плечами. — Я всего лишь женщина, которая распространяет слухи, пока на сцене идет спектакль. Но через несколько дней ты получишь подтверждение этим слухам, и вот тогда тебе стоит проведать меня.
С этими словами Марцелла встала.
— А зачем мне это делать? — с вызовом в голосе спросил Алиен.
— Зачем? — Марцелла бросила взгляд через плечо. — Затем, что в отличие от Вителлия Веспасиан умеет ценить достойных людей. Мне кажется, тебе есть смысл над этим задуматься.
И Марцелла с гордым видом направилась назад, на свое место. Не успела она войти в ложу, как ее с недовольным видом схватил за руку Домициан.
— Что задержало тебя там так долго?
— Ничего особенно, — Марцелла обняла его и, никого не стесняясь, принялась поглаживать ему шею. В свою очередь, Домициан наклонился и припал губами к ложбинке между ее грудей. Марцелла через его плечо посмотрела на
Алиена, который, прищурив глаза, наблюдал за ней, и выгнула одну бровь — мол, теперь ты сам видишь, жалкий честолюбец. У меня есть свои источники.
— Домициан, — проворковала она и слегка оттолкнула его от себя. — Думаю, в ближайшие дни тебе захочется нашептать пару слов на ухо Цецине Алиену.
— Алиену? — Домициан оторвал губы от ее груди. — А почему ты вдруг заговорила о нем? Или ты переспала с этим головорезом в штанах?..
— У тебя нет соперников, глупый ты мальчишка, — она легонько щелкнула его по носу. — Просто у меня наметанный глаз, и я с первого взгляда вижу возможности, которые нельзя упускать. Алиен — влиятельная фигура, а недавно он пережил двойное унижение. Ему, одна за другой, отказали сразу две женщины. К тому же Фабий Валент оттеснил его на второй план. А император почти не обращает на него внимания. Так что мне кажется… он ищет себе лучшее применение.
— И что из этого? — недовольно уточнил Домициан.
— То, что его можно использовать в своих интересах. Почему бы тебе и твоему дяде не пригласить его на пир? Посади его рядом со мной, и я шепну ему на ухо пару слов про твоего отца. О том, какие щедрые награды ждут тех, кто его поддержит. После чего ты можешь добавить еще парочку убедительных подробностей.
В темных глазах Домициана вспыхнул азарт.
— Можешь также привести этого своего любимчика-астролога, — задумчиво рассуждала Марцелла. — Думается, лишние деньги ему не помешают. Он мог бы произнести несколько внушающих доверия фраз о том, какая судьба ждут тех, кто верно служит твоему отцу.
— Ты богиня, — восхищенно прошептал Домициан.
— Наверно, ты прав, — с улыбкой согласилась Марцелла.
Корнелия
Корнелия вспоминала первые дни того странного года, когда она встречалась с братом Вителлия, чтобы передать сведения об Отоне. С какой легкостью ей удавалось выскользнуть из дома Гая на улицу, чтобы отправиться на очередное тайное сборище.
Я могла бы переспать с половиной Рима, и моя семья ничего бы не узнала, частенько думала она в те дни и презрительно выслушивала жалобы патрицианских матрон, стенавших по поводу того, как трудно им встречаться со своими любовниками.
И вот теперь их жалобы стали ей понятны.
— Мои родные думают, что я вместе с сестрой в театре, — запыхавшись, пояснила Корнеля, когда вошла в шаткую дверь лупанария, чтобы упасть в объятия Друза.
— Отлично, — он прижал ее к стене своей каморки и, отбросив от лица покрывало, принялся жадно целовать в шею. — Сколько у нас времени?
— Примерно час, — прошептала Корнелия в промежутке между поцелуями. — Или два.
Увы, даже двух часов оказалось недостаточно. Домой Корнелия возвращалась едва ли не бегом. От волнения и спешки сердце громко стучало в груди. Она проскользнула в калитку для рабов, в надежде, что никто не заметит, как долго она отсутствовала. Два три часа в каморке у Друза ей всегда было мало.
— Я бы советовал тебе быть осторожнее, — предостерег ее Друз. — В противном случае ты рискуешь потерять не только меня.
— Но ведь ты рискуешь жизнью, — ответила она, поворачивая к нему голову на подушке.
— Я ее уже потерял, — пожал плечами Друз. — Они просто еще не взыскали с меня плату, — он взял в ладони ее лицо, и от его прикосновения Корнелия вздрогнула. — Так что будь осторожна. По крайней мере…
— Что?
Друз покраснел, однако взгляд его карих глаз остался тверд.
— Надеюсь, ты предохраняешься от беременности? — его мозолистые пальцы погладили ей живот. — Хозяйка заведения говорит, патрицианки знают, как это делается…
— В этом нет необходимости, — покачала головой Корнелия. — Я бесплодна.
Как бы ни было больно в этом признаваться, тем не менее признание далось ей без особого труда.
— Как ты понимаешь, это облегчает нам с тобой жизнь. В противном случае я была бы вынуждена просить мою кузину Лоллию, чтобы она достала для меня египетские снадобья, которые она принимает сама. Беда в том, что Лоллия совершенно не умеет держать язык за зубами.
— Да и в остальных вещах тебе также следует быть осторожнее, — произнес Друз и поцеловал Корнелию в кончик носа.
— Я патрицианка, и этим все сказано. Я умею быть осторожной.
Впрочем, иногда это получалось у нее плохо. На следующей неделе в течение четырех дней Туллия, сказавшись больной, взвалила на нее всю заботу о доме… Корнелия следила за приготовлением пищи, надзирала за работой слуг, присматривала за Павлином. Так что ни о какой тайной вылазке в дешевый лупанарий на грязной римской улочке не было даже речи. Корнелия бегом прибежала туда на следующее утро, когда Туллия наконец объявила, что снова здорова. Стоило Корнелии увидеть улыбку на лице Друза, как она тотчас схватила его за руку и поволокла по узкому вонючему коридору в его каморку. Здесь, когда за ними еще не успела закрыться шаткая дверь, она сразу сбросила с себя платье.
— Боги, как я соскучилась по тебе! — простонала она, касаясь губами его губ. Они даже не дошли до кровати. Четыре дня показались ей вечностью. Три дня — не намного короче. Корнелия приходила сюда через день, сгорая от желания.
— Мои родные думают, что я в банях. Они считают, что я на гонках колесниц. Они уверены, что я просто пораньше легка спать.
В ход шел любой предлог.
— Тебе пора домой, — Друз погладил изгиб ее спины. — Редко кто проводит в бане по пять часов.
Ровно столько они провели с ней в постели.
— Ммм, не хочу, — пробормотала Корнелия, прильнув к его мускулистому плечу, нежась в приятной истоме еще полчаса, не в силах заставить себя встать с кровати. — О боги, кажется, уже начинает смеркаться! — воскликнула она, глядя на косые солнечные лучи, что проникали в каморку сквозь узкое окно. — Где мое платье?
— Кстати, о патрицианках говорят, будто они наряжаются часами, — пошутил Друз, глядя, как его возлюбленная мечется по крошечной каморке. В ответ Корнелия состроила ему гримасу, уложила волосы в узел на затылке и, подскакивая на одной ноге, принялась зашнуровывать сандалии.
— До завтра, — выдохнула она, хватая одной рукой плащ, а другую протягивая для прощального пожатия. — Я приду к тебе завтра. Я отпросилась с семейного пира.
— До завтра, — он сжал ее пальцы, теплые и крепкие. Корнелия с нежностью посмотрела на него. Друз продолжал сидеть на кровати. Его каштановые волосы были взъерошены, взгляд устремлен на нее. Бросив на пол плащ, она вновь забралась к нему на колени и вновь предалась любви, молча и страстно. И лишь утолив этот едва ли не животный голод, бегом бросилась назад, на Палатин, на бегу поправляя на себе платья и с трудом представляя себе, как смотрится со стороны. Щеки пылали, глаза блестели безумным блеском, волосы растрепались. Где это видано, чтобы гордые патрицианки растрепанными бегали по улице? Нет, эта неряха никак не Корнелия Прима. Потому что Корнелия Прима — образец безупречности, которая никогда не позволит себе ни одного опрометчивого шага, который бы повредил ее репутации. Корнелия Прима никогда не опустится до того, чтобы взять в любовники простого солдата. Так что это не она, а какая-то другая женщина.
Они заметят, в ужасе подумала она. Не один, так другой, но кто-то непременно заметит.
К ее великому удивлению, никто ничего не заметил. Гай отсутствовал дома весь день. Был занят тем, что пытался добиться благосклонности Вителлия или по крайней мере не выпасть из безумной череды придворных приемов и пиров. Голова Марцеллы была занята предполагаемым походом Веспасиана на Рим. Обычно, если кто-то и был способен догадаться, что в воздухе витает любовь, так это Лоллия. Корнелия ожидала, что кузина сейчас подмигнет ей и заговорщицким шепотом спросит: «Кто он?». Увы, даже Лоллия, похоже, была погружена в свои собственные невеселые мысли. Остальные члены семейства во главе с Туллией находились под таким впечатлением от нового положения Дианы, что все их головы были заняты только этим и ничем другим.
— О, если бы только Диана смогла бы добиться для Гая поста наместника! — мечтала вслух Туллия. — Например, Нижней Германии. Я слышала, как император говорил, что неплохо бы назначить туда нового наместника.
— Я сильно сомневаюсь, что мне хотелось бы править Нижней Германией, — устало возразил ей Гай. — Там сыро и холодно.
— Не смеши меня, Гай! Конечно же тебе этого хочется. Или, на худой конец, наместником Паннонии.
— Они только и говорят, что о Диане. Меня никто даже не замечает, — пожаловалась Друзу Корнелия. — Зато ей они не дают житья день и ночь, требуют от нее новых постов для членов семьи и благосклонности Вителлия. Более того, они хотели бы, чтобы она вышла замуж за кого-нибудь из его приближенных. Но Диана одного за другим отвергает женихов. Семья не знает, как совладать с ней.
— Отвергает?
— Она отказала главному командиру Фабия, Алиену. Это была некрасивая сцена. Не прошло и недели, как один из его офицеров поймал ее после скачек и пытался утащить силой. И что же? Она сломала о его голову кнут, заявив, что если он хотя бы раз попытается к ней прикоснуться, то она заколет его кинжалом. Мол, она за себя не ручается.
Друз смерил ее удивленным взглядом.
— А откуда эта малышка знает, как наносить удар кинжалом?
— Мы все знаем, — с гордостью ответила Корнелия. — Между грудей и прямо в сердце. Быстро и надежно. Все патрицианки знают, как красиво уйти из жизни.
— Да вы варвары, — пошутил Друз и положил ей на грудь огромную ладонь, словно предохраняя от смертельного удара.
— Диана точно варварка, — согласилась Корнелия. — Спасибо богам, что Вителлия это так забавляет. Он даже не находит в этом ничего оскорбительного. По его словам, есть кобылки, на которых никогда не надеть седло.
— А ты сама? — усмехнулся Друз.
— Я женщина из рода Корнелиев, — гордо ответила она. — И на меня уж точно никому не надеть седло.
— А боготворить тебя можно? — Друз с улыбкой перевернул ее на спину.
— У тебя несколько странные представления о том, что такое боготворить…
Корнелия подкупила привратника. Подкупила управляющего. Подкупила служанку. И те, пряча понимающие улыбки, притворялись, будто не замечают, как она возвращается домой поздно, с растрепанными волосами, зевая, и еле волоча ноги от усталости. Однако никто так толком ничего и не заподозрил.
— Смотрю, у тебя в последнее время хорошее настроение, — как бы невзначай заметила однажды вечером Марцелла.
— Ты о чем? — насторожилась Корнелия, хотя и попыталась не выдать тревоги в голосе.
— Когда у тебя дурное настроение, ты вечно грызешь ногти. А теперь взгляни на них, они впервые за месяц целые и аккуратные. Из чего я делаю вывод, что настроение у тебя прекрасное.
— Ты всегда выглядишь одинаково, независимо от настроения, — произнесла Корнелия и задумалась, словно сделала для себя открытие. — Скажи, как это у тебя получается? Все вокруг меняется едва ли не на глазах, и лишь ты неизменно остаешься сама собой.
Марцелла пожала плечами. Корнелия на мгновение задержала дыхание, опасаясь, что сестра станет и дальше развивать эту тему. У Марцеллы острый глаз, от такой, как она, ничего не утаишь. Однако младшая сестра предпочла удалиться. Не в ее привычках делать намеки там, где можно говорить прямо. Что-то здесь не так. Однако Корнелия не стала задаваться лишними вопросами. Лично ей куда выгодней, чтобы зоркий глаз Марцеллы был сосредоточен на ком-то другом. Дурочка, сказала она себе, когда оказалась наконец в темной и прохладной опочивальне. Ты прекрасно знаешь, что будет, если хотя бы кто-то догадается. Иметь связь с мужчиной свого положения — это одно. Гай лишь одарил бы возмущенным взглядом, Туллия подпустила бы какую-нибудь колкость про веселую вдовушку. А вот Лоллия наверняка хитро подмигнула бы и пожелала удачи. Да и большинство ее знакомых поступили бы точно так же, если бы она перестала скрывать от окружающих свою любовную связь. Но простой солдат, вышибала в дешевом римском лупанарии! Человек, который был обвинен в измене и приговорен к смерти за то, что не сумел защитить ее собственного мужа.
Если будет скандал, мне придется уехать из Рима. Эта мысль преследовала ее каждую ночь: перешептывания, ухмылки, позор. Для моей семьи это будет великое унижение. Гай отречется от меня как от сестры. Что касается Друза, то его поймают, арестуют и казнят — под предлогом того, что выполняют однажды вынесенный, но не исполненный приговор.
И он умрет из-за меня.
Корнелия думала об этом каждую ночь. Она представляла себе, что будет, когда ее связь с Друзом станет всем известна, рисовала картину унижений и смерти в мельчайших подробностях, пока бессонница наконец не отступала и она погружалась в тяжелый сон. «Утром я одумаюсь, пойму, какие глупости творю». Однако наступало утро, раб приносил на завтрак блюдо с фруктами и вареные яйца, и Корнелия, еще толком не успев встать с постели, уже мечтала о том, как бы ей поскорее выскользнуть из дома и побежать на свидание к Друзу.
— Смотрю, госпожа, теперь ты приходишь каждый день, — произнесла хозяйка заведения и изумленно выгнула накрашенные брови, когда Корнелия вошла в прихожую. — Это надо же! Твой солдат видно большой мастер ублажать женщин. От тебя шуму даже больше, чем от моих девушек.
Корнелия сделала гордый вид и одарила хозяйку высокомерным взглядом, однако на ту это не произвело ровно никакого впечатления.
— Не надо строить из себя невесть что, моя милая. Ты приходишь сюда за тем же, что и все. — Хозяйка жестом указала на мужчин, которые то выскальзывали из-за занавесок, то исчезали в нишах, чтобы жадно наброситься на очередную жрицу любви. — Единственная разница в том, что твой солдат так увлечен тобой, что даже не поднимает вопрос об оплате своих услуг.
— А вот это идея! — воскликнул Друз, когда возмущенная Корнелия пересказала ему этот разговор. — Может, мне и впрямь стоит взимать с тебя плату? Сколько ты мне готова предложить?
— Может, это мне стоит ее с тебя брать. — Корнелия выскользнула из его объятий, однако Друз вновь повалил ее на постель. Она попыталась сопротивляться, но он навалился на нее всем своим весом. — По крайней мере ты мог бы платить за носилки, которые мне приходится нанимать, чтобы попасть сюда, — заявила Корнелия.
— А разве я не оплачиваю тебе натурой? — он развел ей руки и припал губами к ямочке между ключицами.
— Только не целуй меня в шею, — со смехом запротестовала Корнелия. — Ты оставляешь следы. Лоллия наверняка скоро их заметит.
— Лоллия — это та, что обожает лошадей?
— Нет, лошадей обожает Диана. Эта не заметит никаких следов ни на чьей шее, если только она не лошадиная. А вот у Лоллии глаз зоркий.
— Что ж, в таком случае шею на время оставим в покое, — прошептал Друз, уткнувшись носом ей в живот. — А как жаль! Такая красивая шея!
Теперь он все знал о ее семье. Истекая потом, они лежали в душной каморке на узкой, продавленной кровати и вели беседы.
— А твоя семья? Что ты расскажешь о ней? — поинтересовалась Корнелия и слегка приподнялась на локте.
— Я вырос в Тоскане. — Друз лежал на спине, заложив руки за голову. — У моего отца была винная лавка. Три года назад он сумел купить себе пропуск в сословие всадников, — поспешил добавить он, словно в свое оправдание.
— В сословие всадников? — улыбнулась Корнелия. — Это хорошо.
— То есть это лучше, чем спать с обыкновенным плебеем, — Друз, шутя, ущипнул ее за бедро.
— Будь ты плебеем, все наши с тобой встречи были бы не просто неразумными, но и преступными. — И Корнелия взялась перечислять законы, запрещающие тесное общение между патрициями и плебеями. Однако Друз прервал ее, впившись ей в губы поцелуем.
— Зазнайка. Но я прощаю тебя, хотя бы ради ямочек на твоих щеках, — и он прикоснулся губами сначала к одной, затем к другой. — Ты же знаешь, как часто я старался вызвать у тебя улыбку, когда ходил за тобой, будучи в карауле. И все из-за этих ямочек. Они такие глубокие, что в них легко поместится мой палец.
— Так как там твоя семья? — напомнила ему Корнелия.
— Ах да, моя семья. Теперь у моей матери есть дом с атрием, чем она страшно гордится. А моя младшая сестра найдет себе достойного мужа, чем мы все будем очень гордиться. Мой старший брат легионер. Сейчас он служит где-то в Дакии. Он наверняка мог бы подняться по службе, но ему это не интересно. Он просто любит военную жизнь.
— То есть ты гордость и радость своей семьи? — Корнелия погладила его волосы. — Центурион преторианской гвардии в тридцать четыре года! Им есть, чем гордиться.
— Было чем, — улыбки Друза как не бывало. — Я не общался с ними весь этот год. Не хочу, чтобы они пострадали из-за меня.
Корнелия молча поцеловала его. Быть вышибалой в лупанарии, и это после того, как он охранял во дворце самого императора! Она не сомневалась, что Друз до сих пор глубоко переживает свой позор.
— Значит, твоя сестра скоро выйдет замуж? — уточнила она, меняя тему разговора. — У нее уже есть возлюбленный или мужа ей ищут родители?
— Нет, у нее самой уже есть жених на примете, — улыбнулся Друз. — Сын судьи. Конечно, отец предпочел бы, чтобы она вышла замуж за эдила, но сестра, наверняка, настоит на своем.
— Думаю, было бы лучше, если мужа ей подыскал отец, — заявила Корнелия. — Юные девушки даже платье толком выбрать не могут, не говоря уже о муже. Кстати, это касается не только девушек. Ты когда-нибудь видел, что кто-то сам делал разумный выбор? Нынешний выбор Лоллии — это раб из Галлии. А Диана скорее выйдет замуж за жеребца, чем за мужчину.
— Мой выбор — это ты. — Друз убрал от шеи Корнели ее влажные от пота волосы и намотал себе на руку. — Моя семья пришла бы в ужас. Где это видано мечтать о патрицианке, женщине из рода Корнелиев? Так что ты права. Люди, если решают сами, обычно делают неправильный выбор.
— Верно, — согласилась Корнелия и поудобнее устроилась с ним рядом. — За меня решал отец, и я осталась довольна его выбором.
— Сенатором Пизоном?
Корнелия кивнула. Пока что никто из них не решался произнести вслух это имя. И вот теперь Друз сделал это первым. Его рука замерла.
— Ты… ты часто о нем думаешь?
— Здесь — нет, — Корнелия провела пальцем по его груди. — Здесь только мы с тобой.
— Да, потому что в этой каморке больше никто не поместится. Даже блоха.
— Ну, для блох место всегда найдется! Моя горничная вечно находит их в складках моих платьев и жалуется. Еще одна причина для подкупа, лишь бы она держала язык за зубами!
Друз рассмеялся и притянул Корнелию ближе. Однако по дороге домой, пока носильщики паланкина трусили по пыльным римским улицам, Корнелия вновь задумалась о Пизоне. Она даже не заметила, как мысли о нем просочились в ее сознание.
И вот уже восемь месяцев, как его нет в живых. Если бы заговор Отона провалился, к этому времени Гальба умер бы естественной смертью, и Пизон стал бы императором. Император Кальпурний Пизон. Корнелия представила, как он обращается к сенату. Как приветствует толпу. Чего бы он никогда не делал — это заниматься любовью с женой среди бела дня. Во-первых, это неприлично, а во-вторых, времени на это у него тоже не было бы. Случись ему увидеть супругу с растрепанными волосами, он наверняка бы нахмурился. Но, с другой стороны, где это видано, чтобы супруга цезаря ходила непричесанной? Ведь она была бы императрицей Рима. Она бы гордо передвигалась по римским улицам в дорогом паланкине, увешанная с головы до ног драгоценностями, а не бегала бы тайком по грязным переулкам, а гордый центурион за ее спиной был бы просто центурионом, и никем больше.
Прости меня, мысленно взмолилась Корнелия, обращаясь к покойному мужу. Прости. Впрочем, она сама толком не знала, за что просит прощение. Пизона нет в живых вот уже восемь месяцев. Можно сказать, целую вечность. Но она до сих пор представляла себе его благородное лицо, его крепкое, поджарое тело под аккуратными складками тоги, его красивые, ухоженные руки, его сдержанную улыбку. Он ужаснулся бы, если бы увидел меня сейчас. Его благовоспитанная, целомудренная жена, которая стыдливо торопилась натянуть на себя простыню после выполнения супружеского долга. Такая спокойная, такая безупречно-аккуратная. И вот теперь она, словно помешанная, готова в любое время дня и ночи броситься в объятья бывшего телохранителя, чтобы потом в луже пота лежать обнаженной на грязных простынях, на узкой, продавленной кровати в тесной каморке, пропитанной запахом плесени.
Нет, Пизон наверняка бы пришел в ужас, вновь подумала Корнелия.
Он сказал бы, что я веду себя как Лоллия, как ветреная женщина.
С другой стороны, Пизон, останься он жив, наверняка бы пришел в ужас от всего того, что произошло в течение этого года. Императоры сменялись один за другим, патрицианские семьи в Риме шарахались от одной партии к другой, не зная, у кого им искать благоволения, уважаемые государственные мужи с незапятнанной родословной вроде сенатора Марка Норбана гнили за решеткой, в то время как гнусные плебеи вроде Фабия Валента чувствовали себя хозяевами положения. Вот что наверняка привело бы его в ужас. Но если весь мир сошел с ума, может, он простил бы собственную жену? Даже если бы Пизон ужаснулся, он все-таки был бы рад, зная, что счастлива?
Между тем незаметно подкрался сентябрь. Марцелла сообщила, что мезийские легионы присягнули на верность Веспасиану, и Вителлию ничего другого не остается, как вступить с ним в войну. Тем не менее в императорском дворце каждую ночь шумели пиры, и пьяный Вителлий уверял, что разгромит противника в два счета. Однако в Риме было неспокойно. Еще бы, ни для кого не секрет что Фабий Валент уже собирает армию. Тревога владела всеми кроме Корнелии и, как поняла она как-то раз знойным днем, еще одного человека.
— Я видела тебя вчера, — сказала она Диане как-то вечером, когда они приготовились отправиться на императорский пир и теперь ждали остальных. Марцелла появилась как обычно без каких-либо украшений. В свою очередь, Лоллия заявила, что патрицианке это не пристало, и потащила ее назад в комнату, чтобы украсить серьгами и брошками. Затем Корнелия и Диана остались одни.
— Я знаю твой секрет.
— Неужели? — Диана покрутила один из медальонов у себя на шее.
— Твой отец сказал, что ты каждый день уходишь из дома на свидание к своему колесничему-британцу. А вчера на Марсовом поле я видела тебя вместе с ним.
Сама Корнелия тогда спешила к Друзу и выбрала самый короткий путь. День был знойный, и Марсово поле в этот час было почти пустым, если не считать колесницы, упряжки усталых лошадей и двух человеческих фигур с ними рядом. В одной из них Корнелия узнала кузину, другая, выше ростом, принадлежала мужчине.
— Обычно я езжу к нему на виллу, — призналась Диана, ничуть не смутившись. — Но в такую жару Марсово поле пустует, вот мы и решили с ним поупражняться там.
— Только поупражняться? — недоверчиво переспросила Корнелия. Она видела их издалека, однако от нее не скрылось, как непринужденно держались эти двое. Ее кузина и этот ее наставник, кем бы он ни был. Диана игриво вылила ему на спину полмеха воды. Он же с улыбкой подхватил ее под мышки и поставил на колесницу. — Мне показалось, что вы… очень близки.
Диана улыбнулась.
— Я никому не скажу, — вздохнула Корнелия. — То есть по идее я должна, но я не скажу.
— Отлично. Потому что я не собираюсь останавливаться.
Корнелия посмотрела на младшую кузину. Такая маленькая и такая смелая! И не страшно же ей убегать из дома на свидания к своему колесничему!
Я должна осуждать ее за это, но я не могу. Юнона свидетельница, не могу!
— Корнелия! — темный силуэт Друза присел на кровати и машинально потянулся за мечом. — Раньше ты никогда не приходила ночью! Как долго ты у меня останешься?
— Все хорошо, — шепнула Корнелия, голышом ложась рядом с ним в кровать. Собственная дерзость пьянила, била в голову, словно вино. — Не волнуйся. Я буду приходить к тебе каждую ночь.
С этими словами она обняла его шею и поцеловала. С обеих сторон из-за тонких перегородок до них доносились сопение, всхлипы и стоны, но Корнелия поняла, что счастлива.
Оставалось надеяться, что Пизон понял ее счастье.
(обратно)
Глава 16
Корнелия
— Флавия! — Лоллия подхватила дочь на руки и закружилась вместе с ней. Корнелия наблюдала за ними с улыбкой. — Или это не моя Флавия? — пошутила Лоллия. — Мы оставили в доме прадедушки маленькую хохотушку, а теперь передо мной взрослая красавица. Где же моя Флавия?
С этими словами Лоллия принялась оглядываться по сторонам, делая вид, будто кого-то ищет, и Флавия захихикала.
— Уже целых четыре года! — с нежностью в голосе произнесла Лоллия. — Какая ты уже большая девочка! Тебе понравился твой праздник?
— Прадедушка подарил мне лошадку! А еще жемчужное ожерелье, а еще веер и маленькие фигурки животных из яшмы…
— Праздник был прекрасный, — подтвердила Корнелия. — Все повеселились от души.
Разумеется, Флавия была царицей прадеда, окруженная кучей подарков. Он катал ее на плечах, после чего девочка, посидев на коленях у всех, запрягла Диану лентой и, как беговую лошадку, заставила бегать вокруг сада. Лоллия не смогла прийти к дочери. Фабий потребовал ее присутствия на императорском пиру.
— Она была слишком занята, чтобы скучать по тебе, — успокоила ее Корнелия.
— И все равно мне стыдно за себя, — сказала Лоллия. Флавия схватила мать и тетю за руки и потащила по атрию. — Мое место рядом с ней.
— Что-то я не припомню, чтобы ты переживала по поводу того, что пропустила три ее предыдущих дня рождения! В первый год ты проводила время в Байи на своей новой вилле, затем на лодке с каким-то поэтом отправилась на Крит, а после этого…
— Как давно это было! — вздохнула Лоллия.
— А ты не хочешь снова забрать Флавию к себе? — осторожно поинтересовалась Корннелия. — Ты могла бы держать ее подальше от Фабия.
— Нет, даже не осмелюсь. В эти дни из-за Веспасиана он сделался страшно подозрительным. А Флавия — внучка Веспасиана. Впрочем, он никогда даже не смотрел в ее сторону, — задумчиво добавила Лоллия. — Да и я сама видела Веспасиана лишь пару раз в жизни. Помню, как он поздравил меня и Тита в день нашей свадьбы. Уверяю тебя, такого сильного провинциального акцента я еще ни разу не слышала! А так, приятный человек. Он прекрасно ладил с моим дедом. Оба — прозорливые торговцы.
— Ты считаешь, что Фабий увидит в твоей дочери угрозу? — удивилась Корнелия. — В такой малышке?
— Откуда мне знать, что он подумает, — в голосе Лоллии слышались напряженные нотки. — Я просто не хочу видеть его рядом с ней. Вот и все.
— Ой, посмотрите на рыбок! — крикнула Флавия и потащила взрослых в маленький садик с фонтаном, откуда можно было попасть в ее маленькую розовую спальню. — Прадедушка надел на них золотые колечки!
Флавия усадила мать и тетю на край фонтана и принялась рассказывать им про рыбу-царя и рыбу-царицу, и их маленьких дочек-царевен, что резвились в фонтане. Светлые кудри разметались по ее плечам, на шее матовым блеском поблескивало жемчужное ожерелье — подарок от любимого прадеда.
— Ну и ну! — удивилась Корнелия. — Я и не знала, что у рыб такая интересная жизнь!
— Еще какая! — с жаром подтвердила Флавия. — А если ты опустишь в фонтан ноги, они тотчас начнут кусать тебя за пальцы!
— О, такую возможность никак нельзя упускать! — Лоллия развязала серебряные сандалии и поставила ноги в фонтан, рядом с пухлыми ножками Флавии. — Давай, Корнелия! Не стесняйся, присоединяйся к нам!
Впрочем, Корнелия уже сама развязывала шнурки сандалий.
Поблескивая на солнце перламутровой чешуей, рыбы лениво плавали вокруг ее ног. На их плавниках действительно были надеты золотые кольца.
— Неужели дед надел на них эти кольца исключительно ради Флавии?
— Да. Судя по всему, он также заказал короны для рыбы-царя и рыбы-царицы. Не слишком тяжелые, правда, чтобы не мешали им плавать.
— Он слишком ее балует.
— Кто-то же должен это делать! — Лоллия наклонила голову назад и посмотрела на ажурную листву сада.
Когда-то я хотела, чтобы она серьезно относилась к своим обязанностям, подумала Корнелия, глядя на кузину, которая своим легкомыслием раздражала ее больше всех остальных. И вот теперь эта новая, печальная Лоллия ей тоже совсем не нравилась. Эти красивые пухлые губы были созданы для улыбки, теперь же их уголки скорбно опущены.
— У тебя усталый вид, — наконец сказала она.
— У тебя тоже. Ты хорошо спишь?
— Конечно! — поспешила ответить Корнелия. — В эти дни я почти нигде не бываю. Разве что утром в сенате…
— Слушала, как Фабий проталкивает там последние указания Вителлия? О боги, какое увлекательное занятие!
— А во второй половине дня бываешь на Марсовом поле?
— Да. Послушать, как Фабий жалуется на то, что никак не может собрать полноценную армию. По крайней мере мой запас ругательств растет с каждым днем.
— А по вечерам объедаешься на пирах?
— О, это скорее соревнование, кого больше вырвет, чем кто больше съест. Каждый такой пир обходится в миллионы сестерциев, и все ради того, чтобы потом все эти изысканные блюда гости в отхожих местах извергали на мраморный пол из своих желудков. Никогда не видела худшей расточительности.
— Вот уж никогда не замечала в тебе склонности к бережливости, — улыбнулась Корнелия.
— Я сама ее за собой не замечала. Все мои платья провоняли блевотиной, а голова болит так, будто по ней, как по наковальне, своим молотом бьет сам Вулкан. И каждый вечер Фабий заставляет меня надевать все мои драгоценности и расхаживать по спальне голой, и в придачу говорить ему, что он величайший за всю историю творец императоров… — Лоллия не договорила и пожала плечами. — Вот такие дела.
Корнелия попробовала свернуть их разговор на более невинную тему.
— А где сегодня твой дед?
— Заключает сделки с поставщиками зерна. Префект Египта перешел на сторону Веспасиана, так что, возможно, в скором времени даст о себе знать недостаток зерна. Но по крайней мере наши арендаторы будут сыты.
— Я бы не советовала тебе говорить такие вещи, — Корнелия покосилась на Флавию. Девочка в этот момент была занята тем, что пыталась поймать рыбку и что-то негромко нашептывала себе под нос. — Фабий может…
— Посадить меня под арест? Он это делает со всяким, кто говорит, будто Веспасиан движется на Рим. Хотя всем прекрасно известно, что так оно и есть. Веспасиан действительно идет походом на Рим.
— Император говорит, что поводов для беспокойства нет, — Корнелия пошлепала ногами по воде бассейна. — Когда я в последний раз была в театре, мне даже не было слышно, что говорят актеры, потому что он во весь голос уверял присутствующих, что все спокойно.
— Вителлий скачет верхом на тигре и боится посмотреть вниз, — фыркнула Лоллия. — Диана говорит, что именно поэтому он и напивается каждый вечер. Пьяным ему легче притворятся, что все в порядке. А Диана, если дело не касается лошадей, говорит разумные вещи.
Блестя перламутровой чешуей, одна рыба принялась легонько пощипывать пальцы Корнелии.
— Вителлий в скором времени будет вынужден отправить на север армию, — произнося эти слова, она подумала о том, что на этот раз Друзу не грозят военные походы. — Ты не знаешь, кого он пошлет командовать ею? Фабия или кого-то еще?
— Если боги будут милостивы, — Лоллия посмотрела на поросшую мхом нимфу в середине фонтана, из сложенных ладоней которой вверх била струя воды. Флавия устроилась у ног нимфы и что-то напевала себе под нос. Увы, Лоллия даже не улыбнулась. — Если боги будут милостивы, назад он не вернется.
— Но даже если и вернется, долго не продержится, — сказала Корнелия и удивилась собственной смелости. Еще год назад она ни за что бы не осмелилась сделать подобное заявление даже своей кузине. Но, с другой стороны, год назад все было по-другому. — Люди вроде Фабия Валента быстро впадают в немилость. И тогда твой дед подыщет тебе мужа получше.
— Ну, я готова побыть какое-то время разведенной женой. Скажу честно, я уже устала от свадеб.
Рядом с ними раздался восторженный вопль. Как оказалось, Флавия поскользнулась и шлепнулась в бассейн. Когда же она поднялась из воды, платье на ней промокло насквозь.
— Я вся мокрая! — радостно заявила девочка.
— Я вижу, — ответила Лоллия и, встав в воду, направилась к дочери, однако в следующий момент за спиной у нее раздался голос.
— Живо вылезай из фонтана, высокородная Флавия. Сейчас мы тебя высушим.
В садик с полотенцем в руках вошел золотоволосый галл в набедренной повязке по колено. Флавия выбралась из фонтана и подняла руки, давая себя вытереть. Раб повернулся к девочке, и Корнелия увидела на его спине еще не зажившие багровые следы кнута.
— Я так рада, что он не умер от побоев, — сказала она Лоллии, которая, слегка сконфуженно, вслед за дочерью вылезла из фонтана.
— Верно. Я попросила деда, чтобы он нашел для него лучшего лекаря в Риме, — ответила Лоллия, завязывая сандалии. — Теперь он приставлен к Флавии в качестве личного раба. Она обожает его.
— Да я уж вижу!
Тракс завернул Флавию в полотенце и легким щелчком убрал с кончика ее носа каплю воды.
— Жаль, что остались следы. Со шрамами на теле он теперь будет стоить гораздо дешевле.
— А, по-моему, они его ничуть не портят, — возразила Лоллия. — Многие мужчины носят на себе шрамы.
— Но ведь он раб, — упрямо повторила Корнелия. Однако ей бросилось в глаза, как Флавия льнет к Траксу, когда он подхватил ее на руки, с какой нежностью он убрал от лица девочки влажные пряди.
— Пойдем в дом, малышка, — произнес он с сочным галльским акцентом. — Ты как хорошая девочка примешь ванну, и я расскажу тебе сказку.
— Про рыбок и про хлебы! — отозвалась Флавия, играя деревянным крестиком у него на шее. — Я поискала, не будет ли хлебов рядом с рыбками в фонтане, но ничего не нашла.
— Нужно очень-очень поверить, если ты хочешь найти хлеб, — Тракс бросил быстрый взгляд в сторону Лоллии, поклонился и понес Флавию в дом.
— Он что, учит ребенка какой-то странной религии? — встревожилась Корнелия. — Рыбки, хлебы…
— Это просто сказки, — отмахнулась Лоллия. — Про какого-то плотника из Иудеи. Или про бога плотников. Я точно не помню. По крайней мере это хорошие сказки. Про то, как плотник лечит прокаженных или ходит по воде. Согласись, это лучше историй про привидения, которые нам рассказывала наша няня, вернее, которыми она нас пугала.
В голосе Лоллии слышались резкие нотки. Однако прежде чем Корнелия успела вставить хотя бы слово, она торопливо заговорила дальше.
— Кстати, ты слышала новый эдикт Вителлия? В нем ни слова о том, как нам выбраться из финансовой ямы, в которую мы угодили. Зато император счел нужным запретить патрицианским юношам самим управлять колесницами в Большом цирке. Это просто курам на смех! Однако…
Неожиданно Лоллия разрыдалась. Корнелия обняла ее за плечи и прижала ее голову к своему плечу.
Еще несколько месяцев назад мы с ней вечно ругались. Я обвиняла ее в том, что она плохая, беззаботная мать, и вот теперь она рыдает на моем плече, словно маленькая девочка.
Лоллия плакала долго. В горле Корнелии тоже застрял комок.
— О боги! — наконец Лоллия выпрямилась и вытерла мокрые от слез щеки. — Терпеть не могу лить слезы. Потому что какая от них польза? К тому же я не из тех женщин, которым слезы к лицу. Некоторым они придают очарование. Я же превращаюсь в страшилище с опухшими глазами. Так что какой от них толк?
— Верно, никакого, — согласилась Корнелия.
Лоллия сделала долгий, надрывный вздох и бросила взгляд на дверь, в которой скрылся золотоволосый раб по имени Тракс. Корнелия рассматривала собственные ноги, которые по-прежнему были опущены в фонтан и казались позеленевшими и сморщенными. По идее, она должна была прийти в ужас. Впрочем, смотря из-за чего. То, что Лоллия спала с рабом, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Иное дело, что она явно была в него влюблена. И тем не менее если Корнелия и была этим потрясена, то это потрясение по пути сюда растеряло остроту и силу, как будто докатилось до нее под водой, в которую сейчас были опущены ее ноги.
— У меня у самой связь с одним солдатом, — неожиданно для себя самой призналась она.
Глаза Лоллии вылезли на лоб.
— Корнелия!
— Только никому не говори. Ни единого слова.
— За кого ты меня принимаешь? — похоже, к Лоллии вернулось ее прежнее «я». — А кто он?
— Никто.
— Не хочешь говорить?
Корнелия отрицательно покачала головой.
— Не хочу подвергать его опасности. И не спрашивай, почему.
— Как тебе будет угодно, — Лоллия вновь потерла глаза. — По крайней мере я надеюсь, ты им довольна.
Корнелия невольно улыбнулась.
— Похоже, что да. Что ж, я за тебя рада, дорогая. Мне казалось, что я уже не доживу до такого дня. Ну, кто бы мог подумать!
— Мы все в этом году потеряли голову, — Корнелия задумчиво провела пальцем по воде. — Сначала ты, потом я, и вот теперь, если верить дяде Парису, Диана тайком бегает на свидания к какому-то колесничему.
— Просто мы для мужчин легкие трофеи, все мы, — Лоллия пожала плечами. — Так почему бы нам самим не заняться тем же самым?
— Твоя логика хромает, — вздохнула Корнелия. — Но я слишком устала, чтобы точно сказать, почему.
— Еще бы тебе не быть усталой, моя дорога! Последнее время ты совсем не спишь, и на то есть причина. Кстати, об этом твоем солдате. Он бы не мог на пару деньков уехать?
— Что?
— Если он уедет, у тебя появится предлог самой на пару дней улизнуть из города. Отдохните вдвоем, как следует, насладитесь друг другом. — Лоллия встала и отряхнула руки. — Диане не составляет большого труда видеться со своим возлюбленным, кем бы он там ни был. Дядя Парис ничего не заметит, даже если она приведет его в себе в опочивальню вместе с лошадьми и колесницей. А вот тебе явно приходится несладко. Всякий раз, уходя из дома или возвращаясь, ты рискуешь нарваться на Туллию. А у нее зоркий глаз! Так что, если можешь, устрой себе небольшой праздник.
— И как я это сделаю?
— Я что-нибудь придумаю. Хотя, как я вижу, ты научилась тихо делать свои дела. — С этими словами Лоллия заставила кузину подняться. — Да-да, небольшой праздник. Чтобы было о чем вспомнить, когда весь мир провалится в тартарары.
— А он туда провалится?
— О, моя дорогая, с ним это постоянно происходит, — в глазах Лоллии Корнелия разглядела печаль, как будто за веселым блеском лились невидимые миру слезу.
И в порыве сочувствия она обняла сестру.
— Скажи мне, Лоллия, почему мы не такие благоразумные, как Марцелла?
— Не знаю, но я рада, — неожиданно Лоллия отстранилась от сестры с лукавой усмешкой. — Потому что теперь, моя дорогая праведница, у меня есть, чем ответить тебе, когда ты попробуешь учить меня жить. Кстати, ты заметила, что до сих пор стоишь в моем фонтане?
Марцелла
— Прекрати, ты ведь знаешь, что я не могу…
— Это ты прекрати, я всего лишь…
— Я не могу… — Марцелла оттолкнула руку Домициана прежде, чем та скользнула вверх по ее бедру. — Ну почему ты осложняешь мне жизнь?
— Я? Тебе? — он зарылся лицом ей в шею. — Не смеши меня!
— Я супруга Люция Акция Ламии…
— Если ли! — ощетинился Домициан. — Он сейчас на Крите. Тебе ничего не стоит с ним развестись!
— Моя семья не разрешает мне это сделать. И пока я не заручусь согласием родных, я замужняя римская матрона. Я не куртизанка, которую можно поиметь прямо в носилках.
Марцелла отстранилась от него и, одернув подол платья, принялась поправлять прическу. Впрочем, Домициан успел на мгновение заметить белую кожу бедра и со стоном повалился спиной на подушки. Паланкин слегка качнулся — это носильщики свернули за угол.
— В один прекрасный день, — произнес он, глядя на нее непроницаемым взглядом, — ты будешь моей. И только моей.
— Возможно, — улыбнулась Марцелла. — А до тех пор? Вообще-то, мне казалось, что мы с тобой собрались поговорить об армии.
Мезийские легионы уже входили в Италию, и даже Виталлий не мог делать вид, будто ничего не происходит. Ему наконец удалось наспех собрать и бросить на север армию.
— Легионы Вителлия сейчас в Хостилии, — произнес Домициан. — Там они окопались и теперь ведут переговоры. Переговоры! Готов поспорить, что на самом деле они готовы перейти на сторону Веспасиана.
— И перейдут, вот увидишь, что перейдут. Разве твой драгоценный Несс не говорил тебе, что все будет хорошо?
— Я поверю в это только тогда, когда увижу собственными глазами, — Домициан сложил руки на крепкой груди и принялся барабанить пальцами по подушкам. — А как насчет Фабия Валента? Он до сих пор верен Вителлию.
— Он до сих пор в постели. Выздоравливает после отравления.
После того как отведал на пиру блюдо из красной кефали. Убить его оно не убило, зато на несколько дней уложило в постель. Так что теперь легионами Вителлия на севере командовал кто-то другой.
— Отравление? Ничего удивительного, — вздохнула Лоллия, когда ее спросили о состоянии здоровья супруга. — Любой может отравиться, пытаясь на пиру угнаться за Вителлием. — К сожалению, ему не настолько плохо, чтобы он не требовал моего постоянного присутствия в его постели. Да, что-то мне не везет в последние дни.
Потому что везение в эти дни целиком на моей стороне, подумала Марцелла. Пока Фабий приходит в себя после съеденной рыбы, армию Вителлия на север ведет… Цецина Алиен.
Да, замысел сработал на славу, подумала Марцелла. Жаль только, что она не может присоединиться к Алиену и его армии. Всего несколько месяцев назад ей посчастливилось оказаться в Бедриакуме и собственными глазами увидеть гибель Отона. Увы, на этот раз такой возможности у нее не было. Впрочем, и в Риме происходят увлекательные события.
— Что-то я не заметил, чтобы ты была уверена в Алиене, — произнес Домициан после короткой паузы. Марцелла уловила в его голосе обвиняющие нотки. — Он ведь ни разу не сказал, что перейдет на сторону моего отца.
— Может, и не сказал, — ответила Марцелла. — Но ведь армия остановилась и не движется с места. Разве не так?
— Но если он готов перейти на сторону Веспасиана, зачем ему понадобились переговоры?
— Потому что, до того, как перейти, он должен убедиться в прочности своего положения, — Марцелла провела пальцем по запястью Домициана. — Доверься
мне. Вот увидишь, он перейдет. Разве мы не должны быть благодарны Фортуне, что именно он, а не Фабий, командует армией. Если твой отец когда-нибудь облачится в пурпурную тогу, он сможет благодарить за это несвежую рыбу, поданную на пиру.
— Или тебя, — Домициан смерил ее оценивающим взглядом. — Скажи, ты причастна к этому отравлению?
— Ну, ты скажешь! — обиженно надула губки Марцелла. — Я всего лишь собираю и передаю слухи. Неужели ты думаешь, что я способна кого-то отравить?
— Такой умной женщины, как ты, я еще никогда не встречал, — ответил Домициан. — Обычно я не люблю умных женщин.
Он взял ее лодыжку, после чего его рука скользнула выше. Марцелла оттолкнула его, однако не слишком сильно.
— Тебе пора. Мои носильщики уже обошли форум пять раз… скоро кто-нибудь обратит на это внимание.
Домициан нехотя выбрался из носилок. Марцелла выглянула наружу и быстро поцеловала его в губы. Он тотчас жадно ответил на ее поцелуй.
— Только не пытайся просунуть мне в рот язык, — предупредила его Марцелла. — Когда будут новости, я вновь дам о себе знать.
С этими словами она юркнула назад в носилки и с беззвучным смехом задернула шелковые занавески. Ну, кто бы мог подумать, что восемнадцатилетний юнец, с его щенячьей любовью, окажется столь полезен? Теперь, когда обе армии приближались друг к другу, Домициан был как на иголках. Он то мечтательно представлял себе, как его отец станет римским императором, а он сам — наследником трона, то с ужасом рисовал себе кровавые сцены поражения отцовской армии. Что касается самой Марцеллы, то ею владело удивительное спокойствие. Хотя бы потому, что она ничем не была обязана ни той, ни другой стороне.
Посмотрим, что будет дальше.
Впрочем, если бы нужно было делать ставки, она бы поставила свою монетку на то, что Алиен перейдет на сторону Веспасиана. До того, как ему отправиться с армией на север, Марцелла встречалась с ним пять или шесть раз. Поначалу он держался настороженно. Однако она познакомила его с Домицианом, поделилась с ним кое-какими слухами о передвижении мезийских легионов, слухами, которые в конце концов оказались верными. Постепенно Алиен начал прислушиваться к ней, когда она говорила ему о том, как нуждается Веспасиан в умных людях и какие награды их ждут, когда он станет императором.
— Решай сам, — прошептала она, когда Вителлий поставил Алиена командовать своей армией, поскольку Фабий был прикован к постели. — Ты можешь возвести на трон Веспасиана. Этого он никогда не забудет. Это не Вителлий, который уже успел забыть о твоем существовании.
— Он не забыл меня. Он доверил мне армию.
— Потому что его правая рука расхворалась. Неужели тебе не хочется стать чьей-то правой рукой?
Когда Алиен покинул Рим во главе армии, он даже словом не выдал своих намерений. Однако Марцелла в нем не сомневалась.
Он перейдет на сторону Веспасиана. Сначала будет колебаться, но потом все-таки перейдет и перетянет вслед за собой армию.
Марцелла посмотрела на свои руки. Те дрожали у нее на коленях — не от страха, от возбуждения. Она никак не ожидала, что ужас неизбежной войны и волнение будут пытаться побороть друг друга в ее душе. Что ладони ее станут потными. Что ей будет стоить немалых усилий не выдать дрожь в голосе. А еще она никак не ожидала того, какая гигантская волна удовлетворения накроет ее, когда увидела в глазах Алиена хищный блеск.
Нет, конечно, все могло обернуться с точностью до наоборот. Войны — вещь непредсказуемая. Но если Алиен предаст, если он сможет переманить вслед за собой на сторону Веспасиана целую армию, если Веспасиан в конце концов облачится в пурпурную тогу… то на трон нового императора возведет отнюдь не Алиен. Императорским венцом Веспасиан будет обязан ей, Корнелии Секунде, известной, как Марцелла.
Она до сих пор время от времени перечитывала свои исторические хроники. Однако записанные на свитках, они казались какими-то безжизненными. И зачем ей только понадобилось часами корпеть над этими никому не нужными воспоминаниями? «Зато теперь я тружусь не над свитком, а над чем-то более важным!».
Марцелла пригладила волосы, поправила платье и отдернула занавески паланкина. Может, стоит пройтись по форуму и до полуденного зноя сделать кое-какие покупки?
Она вышла из носилок и тотчас увидела среди толп домохозяек и лавочников знакомую белокурую головку.
— Диана! — она помахала кузине, за которой едва поспевали два раба.
Та помахала ей в ответ. Марцелла ответила ей улыбкой. Диана больше не вызывала в ней ни раздражения, ни зависти.
Иметь свободу, какой нет ни у кого, и тратить ее на каких-то лошадей и колесничий, — подумала Марцелла.
Нет, я буду возводить на трон императоров.
— Пришла за покупками? — спросила она у кузины, когда ты подошла ближе. — Мне казалось, ты понятия не имеешь, как это делается.
— Отцу нужен черный каррарский мрамор, — ответила Диана, пожимая плечами. — Я обещала ему, что сделаю заказ. Кстати, а что это за юноша вылез из твоего паланкина?
— Какой юноша? — уклончиво переспросила Марцелла.
— Ну, только кто, такой темноволосый. Похож на сына Веспасиана.
— А, ты вот о ком! — Марцелла изобразила легкомысленный смешок. — Он вот уже целый год в меня влюблен. Или ты не знала? Требует, чтобы я развелась с Луцием и убежала с ним на поиски вечного блаженства.
— Ммм, какая прелесть, — Диана остановилась, чтобы потрогать пальцем небольшую каменную статуэтку лошади. Марцелла облегченно выдохнула. Умом Диана не блещет, зато в наблюдательности ей не откажешь. О чем следует постоянно помнить.
— Ой, посмотри сюда! — она потащила кузину к палатке, в которой продавались бронзовые чащи и фигурки. — Насколько я понимаю, после покупок ты сразу отправишься в цирк? — поинтересовалась она как бы невзначай, щупая отполированное до блеска блюдо.
— А какой нынче толк ходить на бега? — неожиданно вспылила Диана.
— Неужели ты до сих пор сердита на «синих» за то, что они забрали себе все призы на Вулканалиях? — Марцелла вздохнула. В этом году Вулканалии были отпразднованы с размахом. В костер, чтобы умилостивить Вулкана, бога огня и кузнечного ремесла, были брошены рыбы из Тибра. В конечном итоге праздник вылился в массовое запекание рыбы, и Вителлий не имел ничего против. Народ веселился от души — все кроме Дианы, на глазах у которой «синие», несмотря на изнуряющий зной, побеждали гонка за гонкой. — Ты ведь знаешь, что всех призов никому не выиграть.
— Никому, кроме «синих», — Диана с недовольным видом посмотрела на свое отражение в бронзовой сковородке. Лицо ее было искажено гневом и неровной поверхностью металла. — Или тебе неизвестно, что Фабий Валент специально подстраивает победы «синих», лишь бы только угодить Вителлию?
— И что? — пожала плечами Марцелла. — Главное, чтобы зрителям было интересно. А кто победил и как, это никому не нужные мелочи.
— Верно. Такое случается, и ничего страшного в этом нет, — огрызнулась Диана. — Но ведь не все же гонки подряд! Все до одной!
— Тогда пожалуйся императору.
— Он лишь смеется и говорит, что я ничего не ем, и потому «синие» постоянно выигрывают. — Диана сложила на груди руки. — Дело даже не в том, что другие партии постоянно проигрывают забеги. На прошлой неделе погиб колесничий «белых». Он посмел обогнать «синих», и по приказу Фабия преторианцы избили его до смерти. Чтобы преподать урок всем остальным.
— Это долго не продлится, — успокоила ее Марцелла.
— А что тем временем может случиться с моими гнедыми? — бросила ей Диана. — Откуда им знать, кто такой император или что они бегут за другую партию? Им просто хочется победы. Ты знаешь, что бывает с лошадьми, когда их учат проигрывать? У них не выдерживает сердце, — Диана в гневе вскинула голову. — Говорю тебе честно, я не собираюсь с этим мириться.
— И что же ты намерена предпринять? — усмехнулась Марцелла. Увы, вместо ответа она увидела, как, подобно конскому хвосту, мелькнула светлая прядь, а сама Диана с решительным видом направилась к следующему торговцу. Однако Марцелла догнала кузину и порывисто взяла ее под руку.
— Вот увидишь, скоро все изменится. — Если Веспасиан низложит Вителлия, то кому какое дело будет до конных забегов? — Я тебе обещаю.
— Хотелось бы надеяться, — довольно резко ответила Диана, и рука об руку они зашагали назад, в дом дяди Париса, где взгляду Марцеллы предстала новая коллекция резных фигур.
— Дядя Парис, скажи, почему мой скульптурный портрет непременно должен иметь на голове вместо прически змей?
Пожилой ваятель окинул ее с головы до ног задумчивым взглядом зеленовато-голубых глаз, точно таких же, что и у его дочерей.
— Это я хотел бы услышать от тебя самой.
— Откуда мне знать, какие мысли обитают в твоей голове, — со смехом ответила Марцелла.
— Интересно, есть ли на свете человек, который бы знал, какие обитают в твоей!
Марцелла вновь расхохоталась и поспешила домой. Ей еще предстояло написать несколько писем и подтолкнуть пару нерешительных мужчин из ближайшего окружения Вителлия к тому, чтобы они задумались о том, кому стоит хранить верность…
(обратно)
Глава 17
Диана
— Выведи сегодня «красных» из гонок, — Диана перешла в другой конец небольшой комнатки.
— Я пытался, — ответил глава фракции и отложил в сторону стило. — В такой большой день, как сегодня, нам всем было приказано участвовать в гонках.
— В таком случае, пусть тихо трусят в самом конце! Преврати этот забег в подготовительный.
— Нет, сегодня от нас требуется настоящее зрелище. До самого конца, когда все натянут поводья и «синие» вырвутся вперед.
В его голосе слышалось отвращение.
Диана погрызла ноготь большого пальца.
— Я не могу позволить, чтобы они загубили очередной забег.
— Придется. Нам всем придется, — глава фракции с трудом поднял с места свое грузное тело. — Мир изменился. Он уже не тот, что прежде. Мы делаем то, что нам велят.
— Неужели не найдется ни одного колесничего, который хотел бы рискнуть, чтобы одержать победу? — с жаром спросила Диана.
— После того что случилось с тем юношей, который управлял колесницей «белых»? Сейчас не найти даже того, кто согласился бы догнать остальных после трех кругов.
— Быть того не может, — Диана закрыла глаза. — Быть того просто не может.
— Еще как может. Кстати, меня ждут дела, почтенная матрона.
— Как долго, по-твоему, мы сможем собирать желающих на это представление марионеток, если никто ничего не желает делать? Нам надо…
— Нам? Возможно, вы любимая кукла императора, но к нам вы не имеете никакого отношения.
Обычно глава фракции «красных» относился к Диане довольно приветливо. Сейчас же лицо его было каменным.
— Уходи отсюда, — он резко повернул голову и подбородком указал на дверь. — Тебе здесь не место.
Лишившись дара речи, Диана вышла во внутренний двор, по которому сновали конюхи и их помощники. На дворе стояла осень, в воздухе чувствовался холодок, а прохладный ветер приносил на своих крыльях самые разные слухи. На севере произошла битва. Чем она закончилась, победой или поражением, никто не знал. Даже Марцелла, которой обычно было известно буквально все. Впрочем, Вителлий решил, что это победа. Что его армия сокрушила мезийские легионы, и вот теперь Большой цирк украшен и приготовлен к торжествам. На каждом шесте на ветру хлопали яркие флаги, разделительный барьер был украшен цветами, все места, вплоть до самых верхних, заняты патрициями в шелковых одеждах и плебеями, которые по такому случаю вырядились в лучшую одежду. В первой половине дня будут небольшие забеги, но победитель заключительного состязания примет пальмовую ветвь из рук самого императора, а заодно унесет с собой самую большую сумму за всю историю Большого цирка.
В такой день, как этот, ей полагалось испытывать приятное волнение, предвкушение предстоящих гонок. В такой день, как этот, конюхи должны были похваляться и делать ставки, а мальчишки-помощники бегать вокруг, охваченные волнением, что им пришлось получить несколько оплеух от взрослых, напомнивших им об их обязанностях. Возницы также должны были соревноваться в похвальбе или же, в ожидании своей очереди, возносить молитвы богам.
Однако мысли Дианы были заняты гонками по случаю Вулканалий. Тогда у нее на глазах ее гнедые, ее четыре крылатых ветра, резво вырвались вперед, но на последнем круге замедлили бег, уступая первенство «синим». Тогда она не стала даже заглядывать в императорскую ложу, а сразу же, в слезах и полыхая праведным гневом, бросилась домой. Обида была столь велика, что в тот день она даже не получила удовольствия от занятий с Ллином.
— Зачем овладевать искусством резкого поворота, — крикнула она ему, когда он попенял ей, что она неправильно держит поводья, — если сегодня любой колесничий в Риме знает, как проиграть забег?!
Ллин спокойно воспринял ее гневный выпад.
— Ты или будешь учиться делать резкие повороты, или можешь отправляться домой, — ответил он.
— Тебе легко говорить, — продолжала кипятиться Диана. — Тебе ведь все равно, подстроена гонка или нет!
— Верно, — согласился Ллин. — Мне безразлично, кто победитель или даже кто император. Но когда я кого-то чему-то учу, я жду, что мой ученик будет меня слушаться.
Диана знала, что еще пожалеет об этом, но она забрела на конный двор к «синим». Там царило бахвальство. Конюхи, передававшие туда-сюда упряжь, уже были наполовину пьяны, а знаменитые чистокровные гнедые возбужденно мотали головами. Деррик не находил себе от нетерпения места, готовый к забегу. Он был в кожаном нагруднике и синем плаще, заколотом на плече золотой фибулой в виде конской головы.
— Да, да, — рассеянно говорил он, почти не слушая, что говорит ему глава фракции. — Я не стану их загонять. Не вижу поводов для беспокойства.
Он нечаянно выронил шлем с синим плюмажем и, когда наклонился, чтобы поднять его, заметил Диану. В этой конюшне почти повсюду был синий цвет, и она, в своем красном шелковом платье, сразу же бросалась в глаза.
— Достопочтенная Диана! — воскликнул Деррик. — Ты пришла пожелать мне удачи?
— Тебе не нужны мои пожелания, — холодно ответила Диана. — Особенно, в такой гонке, как эта.
— Какая ты сегодня злая! Лучше улыбнись.
— Тебе за себя не стыдно? — Диана одарила своего собеседника возмущенным взглядом. — Такой колесничий, как ты, и принимаешь участие в нечестной гонке!
Улыбки Деррика как не бывало.
— Согласен, мне самому это не совсем нравится. Но победа есть победа. А награда — награда. Некоторые из нас идут на это ради денег, потому что одними пирами сыт не будешь.
Задержись она хотя бы на мгновение, то несомненно накинулась бы на него с кулаками. Однако Диана, пылая возмущением, предпочла удалиться. Ее буквально трясло от обиды и злости. Благоразумие подсказало ей, что лучше немного остыть, а не идти прямиком в императорскую ложу, потому что там, она наверняка выплеснет свою ярость на Фабия Валента. Он уже оправился после отравления и теперь выполнял поручения Вителлия в Риме, хотя то и дело заводил разговор о том, что едва ли не назавтра отправляется на север, чтобы принять на себя командование армией, тем более что город полнился слухами о сражении. Диана надеялась, что он скоро уедет из города. Еще больше надеялась она, что в Рим он больше никогда не вернется. Однако сегодня он пришел на гонки колесниц. Более того, притащил с собой Лоллию. Впрочем, сегодня здесь наверняка собралось все их семейство: Марцелла, Гай, Туллия, даже Корнелия, которая не показывалась на людях вот уже несколько недель. Диана не горела желанием встречаться с ними. Вместо этого она уныло побрела в конюшни «красных», чтобы проверить, хорошо ли конюхи надели упряжь на ее гнедых.
Их выводили одного за другим, ее Четырех Ветров. Зефир, названный в честь западного ветра, от волнения не мог устоять на месте. Самый быстрый из четверки, он бежал по внешнему кругу, рядом с ним — Эвр. Названный в честь восточного ветра, этот конь был почти столь же быстр. Следующим за Эвром шел Нот, южный ветер, сильный и постоянный. И наконец упрямый Борей — ее любимец. Диана обняла его за мощную шею и что-то ласково прошептала ему в ухо. Борей был самым старым из ее четверки. Необузданного, крепкого на поворотах, надежного как скала, его ставили на внутренний круг. Диану он кусал не так часто, как других, что в ее глазах было проявлением любви с его стороны.
Пока конюхи возились с упряжью, четыре гнедых жеребца, прядая ушами, смотрели по сторонам и нетерпеливо рыли землю копытами. Стоило кому-то из конюхов подойти близко к Борею, как конь тотчас оскаливал зубы. Как и любая другая опытная четверка, кони чувствовали, что сегодня состоится забег. Они знали, для чего на них надевают упряжь, знали, что означает этот шум и суета, эти громкие возгласы. Когда их впрягали в колесницу, они шумно раздували ноздри. Диана не могла смотреть на них без слез. Они еще не поняли, что от них не требуется скорости, не знали, что ради того, чтобы ублажить императора, им велено проиграть забег.
Глава фракции с хмурым видом стоял в стороне с одним из колесничих. Это был поджарый грек по имени Сикул.
— Держи их впереди до самого конца, — давал он ему последние наставления. — Ослабляй поводья постепенно. Будь осторожен, не забывай про удила Борея.
— Я помню.
— И, будь проклят этот день! — в сердцах воскликнул глава фракции. — Главное, доведи их до самого конца. А я тем временем пойду напьюсь.
— Эй, приятель! — Сикул схватил за шкирку конюха и сунул ему в руку кошель. — Отнеси это устроителю пари, что сидит под статуей Нерона, и поставь все монеты до одной на «синих». Ты меня понял?
— На «синих»?
— А что в этом такого? Я делаю на них хорошие деньги, причем для этого мне даже не надо управлять колесницей, в которую их впрягли.
Конюх с омерзением посмотрел на грека, а двое его товарищей обменялись за спиной Сикула выразительными взглядами.
— Эй, поживее, кому сказано, — прикрикнул на конюха грек. И тогда Диана не выдержала и взорвалась.
— Достопочтенная Диана, — заметив ее, колесничий отвесил поклон. Когда же она, встав на цыпочки, шепнула ему в ухо, лицо его вытянулось от удивления.
— Сикул, — шепнула она, — если ты, болван, выиграешь гонку, я, так и быть, пересплю с тобой.
Грек растерянно отстранился от нее.
— Но ведь мне приказано… Фабий Валент сказал, что…
— Фабий Валент в самое ближайшее время уедет из Рима, а император сегодня настолько пьян и счастлив, что никто не посмеет тебе мстить. Выиграй этот забег, — повторила она, — и ты можешь поиметь меня всеми известными тебе способами. Сбоку, сзади, как угодно…
Сикул задумчиво прикусил губу и воровато оглянулся по сторонам.
— Не знаю, достопочтенная Диана, ничего не могу обещать.
Когда-то он похотливо смотрел на нее, Диана это точно знала.
Впрочем, не один он. Так вело себя большинство колесничих.
— Тебе нужен аванс? Пойдем со мной, — с этими словами она взяла его за руку и потащила за собой в небольшой сарай, где обычно стояли колесницы. Сейчас здесь было пусто, потому что все колесницы уже выкатили. Они еще не успели шагнуть в его прохладу, как Диана уже притянула голову Сикула к себе.
— Ты только закрой дверь, — выдохнула она, когда его руки скользнули в складки ее платья.
Сикул повернулся, чтобы задвинуть засов. Диана же подобрала тяжелый клин, — ими обычно подпирали колеса колесниц, чтобы те не откатывались, — и со всей силы стукнула им грека по голове. Сикул, словно жертвенный бык на алтаре, как подкошенный рухнул на землю. Диана огрела его клином еще раз — на всякий случай, чтобы он какое-то время провалялся в беспамятстве, после чего взялась за работу. Времени у нее было в обрез.
Сняв с него кожаные наголенники, она, предварительно подтянув наверх красное шелковое платье, надела их себе на ноги. Еще немного возни с обмякшим телом, и кожаный нагрудник был снят. Он, конечно, оказался слишком для нее велик, но это даже к лучшему, никто не заметит под ним женственных выпуклостей. Перчатки у нее были собственные. Она натянула их на руки и наклонилась, чтобы поднять с пола шлем с красным плюмажем. Надев его, спрятала под него волосы. Жаль только, что шлем оставлял лицо открытым, но, как говорится, за неимением лучшего… Как и большинство колесничих, Сикул был невысок и худощав, так что разница в росте не слишком бросалась в глаза по крайней мере с первого взгляда. Нет, конечно, если как следует присмотреться, нетрудно заметить, что здесь что-то не так. Впрочем, она не собирается никого подпускать к себе слишком близко. Пусть только попробуют!
— Куда подевался этот проклятый Сикул? — раздался снаружи голос какого-то конюха. — Все уже выезжают на арену!
Диана застыла как вкопанная. Конюхи искали Сикула. Придется подождать.
— О боги, «зеленые» и «белые» уже выкатились… посмотри, может, он где-то в конюшне?
Как только конюхи ушли, Диана выбежала из сарая, предварительно вернув на место засов, на тот случай, если Сикул придет в себя, и со всех ног бросилась туда, где нетерпеливо рыла копытами землю ее четверка. Ее четыре быстрокрылых ветра — огненно-рыжие, ясноглазые, готовые устремиться вперед, увлекая за собой легкую колесницу, увенчанную ее пылающим огненным богом.
— Извини, — бросила она конюху, что держал под уздцы ее лошадей, как можно басистее и вскочила на колесницу.
— Опаздываешь, — недовольно буркнул конюх, передавая ей поводья, чтобы она обмотала их вокруг запястий. — Будешь последним, но… — конюх не договорил. Диана принялась в спешке развязывать узлы. О боги, нужно как можно скорее выехать на арену, прежде чем конюх заподозрит неладное и поднимет шум.
— Сикул, ты поганец, — произнес он в конце концов и вручил Диане украшенный красными бусами хлыст. — Да сопутствует тебе удача.
Диана уже устремила свою четверку вперед, на огромное поле Большого цирка.
— Не зевай, — прошипел ей один колесничий, когда Диана натянула поводья, выравнивая свою четверку. Да, нелегко сохранять ровный строй, пока колесницы проделывали по беговой дорожке подготовительный круг, предшествующий самим гонкам. На повороте тем, что шли по внутреннему кругу, следовало слегка замедлить шаг. Тем, кто по внешнему, — перейти на рысь, с тем, чтобы все шестнадцать лошадиных голов шагали строго в одну линию. Поворот шагом — такой маневр был для Дианы в новинку. Руки внутри перчаток уже сделались мокрыми от пота. Талией она ощущала натяжение узловатых поводьев. Во рту пересохло, а из глубин сознания доносились вопли ужаса родных и ее собственный голос, который нашептывал ей, что она погубит своих любимых гнедых и потом всю жизнь будет мучиться раскаянием. Однако громче всех звучал голос Ллина — как всегда, мягкий и укоризненный.
Ты совершила глупость, упрекнул он ее, когда все четыре четверки обошли круг.
Если бы я повел свою первую армию против Рима, когда я был таким же зеленым полководцем, как и ты — возницей, то погиб бы в первой же битве, и ты никогда даже не узнала бы моего имени.
— Нет, — усмехнулась Диана сквозь стиснутые зубы.
Проиграешь гонку, проиграешь.
— Но по крайней мере проиграю честно, — произнесла она вслух. Ее гнедые заслуживали, конечно, лучшего колесничего, хотя, с другой стороны, и этот по-своему неплох, потому что будет бороться до конца. Она аккуратно прошла последний поворот, и все четыре четверки выстроились на стартовой прямой. Где-то высоко, у нее над головой, в императорской ложе сидел, наблюдая за происходящим, Вителлий. Он уже наливал себе вино из второго графина и наверняка задавался вопросом, куда подевалась его малышка.
Не пытайся понукать лошадей. Они знают свое дело. Доверься им.
— Хорошо. — Она уже ощущала натяжение поводьев — верный знак того, что гнедые насторожены. Они явно почувствовали незнакомую руку, и потому не знали, как себя вести. Однако им явно не стоится на месте, и, как только будет дан сигнал, они тотчас устремятся вперед.
Все четыре четверки выстроились на финишной прямой. С трибун поклонницы неистово выкрикивали имя своего любимца Деррика. В императорской ложе со своего места поднялась облаченная в пурпур фигура.
Удачи тебе, пожелал ей внутренний голос, голос Ллина, и это были все его слова. А потом исчез, и она осталась одна. Диана достала из-под нагрудника медальон с эмблемой «красных», и поцеловала его на счастье.
Сверху, порхая в потоках летнего ветерка, начал опускаться лоскуток ткани… и все шестнадцать скакунов рванули вперед.
«Красные» сорвались с места последними, с секундным опозданием, еще до того как колеса колесницы пришли в движение. Впрочем, Диана не слишком переживала по этому поводу. Она не горела желанием оказаться пойманной в ловушку внутренней дорожки рядом с поворотным столбом, ибо это грозило ей неминуемым столкновением. В ее распоряжении была лишь сила ее Четырех Ветров. Только на нее она и могла полагаться.
Колесница под ее ногами ходит ходуном, струи воздуха больно бьют в лицо в прорези шлема, застилая зрение, поводья натянуты и грозят в любую минуту перерезать запястья, и, о боги, откуда ей было знать, что ее Четыре Ветра столь резво устремятся вперед? Диана напрягла руки, прижалась животом к передку колесницы, принимая устойчивое положение, а чтобы ветер не хлестал по глазам, уперлась подбородком в грудь. За последние несколько месяцев упражнений под придирчивым оком Ллина, эти мелочи уже вошли в ее плоть и кровь. А еще она понимает, что под шлемом рот ее растянут в дьявольской усмешке. «Полегче, мои хорошие, полегче», — уговаривает она своих жеребцов. Но те несутся вперед, будто поставили себе цель вырваться на свободу. «Помедленнее, мои дорогие, помедленнее».
Ее четверка вдет последней. Впереди поворот, однако Диана не спешит вырываться вперед. Поворот, ее первый поворот на арене Большого цирка, о боги, если она позволит нервам взять власть над собой. Если она ослабит поводья, то разобьет колесницу и загубит всех своих четверых скакунов. От напряжения Диана прикусила губу. Сердце стучит в груди, словно молот Вулкана. Она постепенно натягивает поводья тех двоих, что идут по внутреннему кругу. Борей опускает голову, словно бык, и колесница описывает аккуратный поворот. Секунда — и они вновь вырываются на прямой отрезок дорожки. И вновь поворот, и вновь ее четверка описывает его плавно и чисто, как и первый. Над ее головой мелькает золотая вспышка. Диана на мгновение поднимает глаза. Это скульптурный дельфин наклонил над ней резной нос.
А это, оказывается, не так уж и трудно.
Где-то позади себя, приглушенный ревом ветра в ушах, она слышит гул — это кричит толпа на трибунах. Впереди бегут «зеленые», «синие» висят у них на хвосте, чуть позади от них — «белые». Наблюдай она за ними со своего обычного места, то кричала бы тоже, умоляя колесничего прибавить скорости, но ей нужно преодолеть еще один отрезок пути, чтобы лучше научиться чувствовать настроение своих гнедых. После нескольких месяцев наблюдений за ними с трибуны, она знает их как свои пять пальцев. Ей прекрасно известно, какую скорость может развить Зефир, как слаженно Эвр и Нот умеют бежать бок о бок, так, что со стороны может показаться, будто это один скакун с восемью ногами; как на повороте Борей едва ли не льнет к земле. Но ей ни разу не доводилось управлять ими самой, и у нее ровно шесть отрезков, чтобы изучить их до конца. Впрочем, нет, четыре, два отрезка она уже преодолела, причем сама даже не заметила, как. Возможно, даже семь отрезков пролетят так быстро, что она не успеет и глазом моргнуть. Ведь половина гонки уже позади.
Пора прибавить скорости.
Она слегка ослабляет поводья, и ее четверка тотчас устремляется вперед. О боги, какие же они сильные! Куда сильнее тех мирных меринов, которыми ей до этого доводилось управлять под мудрым руководством Ллина. Поводья уже больно врезались ей в талию. Диана стоит, прижавшись животом к передку колесницы, однако слегка отстраняется, чтобы их ослабить. Совсем чуть-чуть, но ее четверка это уже почувствовала и прибавила скорости. Диана обходит «белых», на что уходит целый отрезок, однако когда следующий золотой дельфин опускает нос, ее четверка уже идет третьей.
«Синие» тем временем вырвались вперед и на целый нос обогнали зеленых, которые еще пару отрезков будут делать вид, будто сражаются за победу. Диана занимает место вслед за ними, и ее четверка явно ненавидит за это своего колесничего. Кони как безумные рвутся вперед. От напряжения и усилий на ладонях под перчатками уже вздулись волдыри, но время еще не подошло.
— Еще рано! — кричит она скакунам, и ее крик тотчас уносит ветер. Ее руки готовы выть от боли. Ей вспоминаются слова, однажды — с видимым презрением — брошенные в ее адрес Марцеллой: мол, она слишком мала ростом, чтобы совладать с четверкой лошадей.
Пятый отрезок. «Зеленые» отстают. Диане видно, что их колесничий натягивает поводья, сдерживая бег лошадей. Какое-то время две четверки несутся бок о бок, затем «красные» делают рывок вперед, оставляя «зеленых» позади. Теперь перед ней лишь «синие». Деррик погоняет своих гнедых кнутом. Поравнявшись с императорской ложей, он на мгновение замедляет бег и победно потрясает кнутом, и в этот миг Диана резко ослабляет поводья.
Почувствовав свободу, ее четверка с такой силой делает очередной рывок, что на мгновение у нее темнеет в глазах и, покачнувшись, ударяется животом о передок колесницы. От удара кнут вылетает у нее из рук и остается далеко позади. Диана из последних сил впивается пальцами в поводья. Ее гнедые тем временем быстро догоняют «синих» и, вырвавшись на среднюю дорожку, устремляются вперед. Три длинных прыжка, и три коричневых носа уже поравнялись рядом с колесами «синих». Деррик оборачивается и, завидев ее, щелкает кнутом над головами своей четверки.
Я могу победить, эта мысль пронзает ее сознание, и Диана, превозмогая боль в натруженных ладонях, еще крепче сжимает поводья. Ну, конечно же! Разве она не мечтала о победе с той самой минуты, когда вступила на колесницу. Да, но одно дело — мечтать, и другое быть уверенной в том, что это возможно. Колесничие-новички никогда не выигрывают первых забегов, однако Деррик считает, что «красные» ему не угроза. Он почти не погоняет свою четверку. «Зеленые» и «белые» давно остались позади и даже не делают попыток его догнать.
Я могу победить! Диана еще немного ослабляет поводья, и ее гнедые тотчас откликаются на это как механизм о шестнадцати ногах. Мгновение — и они уже несутся наравне с «синими». Восемь лошадей бегут в одну линию, и тогда Диана, оставив всякую осторожность, предоставляет своей четверке свободу действий. Они тотчас вырываются вперед, и прежде чем Деррик успевает щелкнуть над спинами «синих» кнутом, как впереди их ждет очередной поворот. Увы, «синие» бегут слишком близко к поворотному столбу и потому, чтобы избежать столкновения, вынуждены замедлить ход. Диана же, чья четверка несется по средней дорожке, проходит поворот на головокружительной скорости. Единственный, кто чувствует на себе натяжение поводьев, это Борей. Он по-бычьи низко опускает мощную шею, едва ли не припадая к земле, и их четверка плавно описывает поворот, чтобы устремиться на новый отрезок. Нет, конечно, скорость на повороте она теряет, однако «красные», когда они проносятся мимо императорской ложи, по-прежнему бегут впереди «синих», которые мрачно мчатся по внутреннему кругу.
Последний отрезок.
Деррик догоняет ее и что-то кричит, однако Диана даже не смотрит в ее сторону. Ей видны лишь четыре лошадиных головы и «красные» полоски поводьев, что сжаты в ее покрытых волдырями ладонях. Причем, похоже, что волдыри уже начали лопаться под перчатками. На талии у нее словно надет огненный обруч. Впечатление такое, будто четверка задалась целью перерезать ее пополам, и руки ее горят огнем, когда она пытается их сдержать. И тем не менее из горла ее рвется смех, и она, отпустив поводья, позволяет своим гнедым уйти вперед.
«Синие» пару мгновений бегут рядом, однако Диане виден открытый в изумлении рот Деррика. Он кажется ей разверстой черной дырой.
Интересно, он меня узнал? Может, и узнал. Однако как только впереди возникает очередной поворот, Борей заранее опускает голову, увлекая за собой остальных. Еще мгновение — и они вновь на прямой, однако на этот раз на внутренней дорожке, потому что «синих» больше не видно, впереди теперь только «красные». Это они несутся вперед по финишной прямой и теперь их уже никому не догнать. Диана понимает, что должна осадить их, чтобы они сбавили скорость, но ее Четыре Ветра, закусив удила, продолжают лететь вперед, и ей уже ни за что их не остановить, даже если бы она очень захотела. Впрочем, она даже не пытается. Пусть несутся дальше и никогда не останавливаются, оставляя проигравших «синих» далеко позади себя. Ее четверка аккуратно вписывается в последний поворот, так, как учил ее Ллин: она наклоняется вперед и резко натягивает поводья. Усталый Борей тотчас сбрасывает скорость, а вот внешний в четверке, Зефир, даже не думает этого делать и несется дальше, увлекая за собой остальных, и все четверо устремляются вперед, четыре ветра, летящих навстречу вечности.
Последний дельфин клюет носом. «Синие» проносятся мимо пять секунд спустя, «зеленые» и «белые» пробегают последними. К этому моменту «красные» на пути к победе, они успевают пронестись половину финишной дистанции. Прежде чем Диана заставляет их перейти на шаг, они прекращают ее ладони в кровавое месиво. Они то и дело норовят перейти на рысь, вскидывают головы, прядают ушами. До Дианы впервые доносится оглушительный рев трибун, а на голову начинает падать дождь цветочных лепестков. Розовых лепестков. Диана в растерянности протянула руку и поймала их целую пригоршню. Тем временем пятьдесят тысяч ртов восторженно выкрикивают: «Красные!». «Красные!». «Красные!». Народ срывается с мест и выбегает на поле. Толпа устремляется вслед за ней, хватая в качестве сувениров пригоршни песка, пытаясь вырвать на память волоски из хвоста Зефира или отколупнуть кусочек красной краски с колеса колесницы. К подолу ее туники тянутся десятки рук, в ушах звенит от оглушительных криков. «Красные»! «Красные»! «Красные»!». Постепенно до нее доходит смысл этих слов, и все становится на свои места. Она выиграла гонки в Большом цирке!
Диана остановила свою четверку у финишной линии, где ее уже поджидала ликующая толпа болельщиков в «красных» туниках. Народ тотчас бросился ей навстречу, чтобы взять четверку под уздцы, и Диана выпустила поводья. И только тогда поняла, что руки ее дрожат. Ее четверка на такой бешеной скорости летела к победе, что узлы на поводьях, обмотанных вокруг талии, затянулись так туго, что их было невозможно развязать, и, чтобы освободиться от них, Диана была вынуждена их разрезать. На дрожащих ногах, она спустилась с колесницы. Не успела она ощутить под ногами твердую землю, как мир накренился. Не поддержи ее подоспевшие к финишу конюхи, и Диана точно бы упала.
— Госпожа! Госпожа! — похоже, им всем было прекрасно известно, что перед ними не Сикул.
Диана стащила с окровавленных рук перчатки. Ей тотчас бросились в глаза огромные волдыри. Причем некоторые из них успели лопнуть. Теперь у нее дрожали не только руки, ее трясло всю. Тем не менее она нашла в себе силы обойти колесницу и приблизиться к своей четверке, которую уже почти распрягли. Ее скакуны тоже дрожали всем телом. Стройные колени вибрировали, носы опущены вниз. Наверно, ни одной лошади не повторить того, что сделали они. Победа обессилила, истощила их, выпила из них все, и силу и скорость, до последней капели. А все из-за нее. Это она, не зная пощады, гнала их вперед. Теперь они еще несколько недель не смогут принимать участие в гонках — если не месяцев. Впрочем, ничего страшного. Если в течение нескольких месяцев от них никто не станет требовать, чтобы они уступили пальму первенства «синим», оно даже к лучшему. Сегодня победа досталась им, а это самое главное. Ее четверка вышла из гонки победительницей, и Диана прекрасно это знала. Ее любимые Четыре Ветра.
Внутри шлема невозможно было дышать, и Диана его сняла, не заботясь о том, что по трибунам, на которых сидели болельщики других фракций, тотчас пробежал ропот. Ничего, пусть видят ее лицо и влажные от пота волосы. Она прижалась щекой к носу Зефира и поблагодарила за то, что он вел их всех за собой на последнем, победном отрезке. Она нашептывала ему на ухо ласковые слова, уверяя, что такой конь, как он, легко обгонит крылатых коней, что тащат за собой по небу солнечный диск. Затем Диана перешла к Эвру и смахнула с его глаз гриву. Для него у нее тоже нашлись ласковые слова, мол, он еще никогда не бежал столь уверенно. И наконец обхватила за мускулистую шею Борея и разрыдалась прямо на его взмыленном от быстрого бега плече.
— Благодари Фортуну, моя девочка, — услышала она рядом с собой чей-то сердитый голос, а когда подняла глаза, то увидела перед собой главу фракции. — Я уже на втором круге понял, что это ты. И только попробуй еще раз сделать то, что ты сделала сегодня. Я за себя не ручаюсь.
— Второго раза не будет, — Диана вытерла глаза и одарила его счастливой улыбкой.
— А теперь ты пойдешь и скажешь императору, что я не имею к этому обману никакого отношения.
— Хорошо, скажу.
Чьи-то руки оторвали ее от земли и понесли вверх по ступеням к императорской ложе. Диана на прощанье провела пальцами по носу Борея, и отдалась во власть толпы. Краем глаза она заметила Деррика. Тот стоял рядом со своей четверкой. Было видно, что он взбешен.
Ей едва хватило сил, чтобы подняться по ступенькам в ложу императора. Если бы не окровавленные ладони, она бы точно опустилась на четвереньки и вползла бы туда, как побитый пес. Диана успела бросить лишь один взгляд на императора в пурпурной тоге, лениво развалившегося в кресле с кубком вина в руке, когда лицо ей закрыл шелковый подол, а в нос ударил крепкий запах духов.
— Диана, ты идиотка.
— Юнона всемилостивая, что на тебя нашло…
— Мы поняли, что это ты, только когда гонки закончились. Знай мы это раньше, мы бы умерли от разрыва сердца…
Это были ее кузины. Лоллия схватила ее за руки. Марцелла взбила ей волосы. Корнелия обняла сзади. Диана пару мгновений стояла перед ним, а потом расхохоталась. Неожиданно они тоже рассмеялись вместе с ней, и до нее дошло, что вместе они не смеялись уже целую вечность. Они стояли, покачиваясь и заливаясь смехом, словно четыре гиены, и окружающие бросали на них неодобрительные взгляды. Наконец Диана вырвалась из их цепких рук.
— Цезарь, — произнесла она, обращаясь к Вителлию, однако стоило ей отвесить ему поклон, как ее охватил новый приступ хохота. — Это целиком и полностью моя затея, так что прошу тебя не возлагать вины на всю фракцию.
Вителлий в упор смотрел на нее. И если бы взглядом можно было убить, ей по идее полагалось свалиться замертво, прямо здесь, в императорской ложе. Впрочем, нет, патрицианку нельзя убить, тем более, в темном переулке. Патрицианка — это вам не бедный колесничий «белых», который дерзнул победить «синих».
— Красавица, — пророкотал императорский бас. — Или ты забыла, что я издал эдикт, запрещающий патрициям управлять колесницами?
— Я знаю, цезарь, — с достоинством ответила Диана, убирая с шеи влажные от пота волосы. — Но в твоем эдикте ни слова ни сказано о патрицианках.
— Клянусь Юпитером, это мой недосмотр! — Вителлий нехотя расплылся в улыбке и вручил Диане пальмовую ветвь победителя. — Обещай мне, что отныне ты не станешь мешать настоящим колесничим делать свое дело. И тогда я тебя прощу.
— Обещаю, — расцвела улыбкой Диана. В следующее мгновение ноги под ней подкосились, и она рухнула бы на землю, не подхвати ее сзади под локти ее кузины.
— О боги, что у тебя с руками? — ужаснулась Корнелия. — На них живого места нет.
— Да, видела бы ты выражение лица Туллии, — добавила Марцелла. — Может, император тебя и простил. Но она — уж точно ни за что.
Впрочем, Диана их не слышала, тупо глядя на пальмовую ветвь в окровавленных руках. Обыкновенная пальмовая ветвь, слегка кудрявая по краям. К завтрашнему дню она увянет, станет сухой и ломкой. Ее трофей победительницы в первой и последней гонке.
— Ну-ну, красавица, — пророкотал Вителлий, отрывая от кресла дородные телеса. — Я бы не прочь наведаться в конюшни. Сколько можно дышать духами, пора подышать и ароматным сеном. Кстати, как зовут этих твоих четверых скакунов?
— Я назвала их в честь четырех ветров, Цезарь.
Тело ее болело, как после дыбы, однако Диана, не выпуская из рук пальмовую ветвь, последовала за императором. Деррик увязался за ней следом. Впрочем, опьяненная победой, Диана не стала возражать. Наоборот, она жестом пригласила всех в конюшни «красных», где конюхи устроили импровизированный праздник в честь ее победы. Когда император и его свита переступили порог конюшни, они в спешном порядке спрятали кувшины с вином, однако ничто не могло стереть с их лиц ликующие улыбки.
— Что ж, они и впрямь хороши, — произнес Вителлий, останавливаясь перед ее четверкой, с которой снимали последнюю упряжь. В гривах лошадей запутались розовые лепестки, однако счастливые конюхи не собирались их вычесывать. — От какого производителя?
— Из конюшен Ллина Карадока, — Диана наизусть отчеканила родословную каждого жеребца, после чего поднесла ведро с водой Эвру. Лошади уже успели остыть после гонки, и им можно было дать напиться. Эвр опустошил свое ведро в несколько жадных глотков. Диана со смехом налила еще одно и придвинула его к Ноту, который тотчас принялся утолять жажду.
— Они мне нравятся, — Вителлий провел рукой по холке Зефира. Все четверо ответили императору взаимностью, даже своенравный Борей, и тот нежно уткнулся носом в грубую императорскую ладонь. За спиной Вителлия его офицеры спорили и заключали пари. А вот сенаторы стояли тихо, старательно делая вид, что не имеют ничего против навоза, налипшего им на сандалии. — Хотел бы я посмотреть на них, когда ими будет управлять профессиональный возница. Нет, конечно, ты сегодня тоже показала себя молодцом, но, надеюсь, понимаешь, что сегодня тебе просто улыбнулась Фортуна.
— Понимаю, — с улыбкой ответила Диана.
— Отлично, — Вителлий повернулся к главе фракции «красных», который, сияя от радости, стоял с кубком вина в руке рядом
с колесницей. — Распорядись, чтобы всех четверых перевели в конюшню «синих».
— Что? — не веря собственным ушам, обернулась Диана, которая, напоив Борея, взяла ведро из одной натруженной руки в другую.
— Жду не дождусь увидеть, какие чудеса они сотворят, когда ими будет управлять Деррик, — игриво заявил император и поддел подбородок Дианы, — поддел так резко, что у той едва не хрустнула шея. — Отличная гонка, моя девочка. Ну, кто бы мог подумать, что тебе хватит дерзости!
Вителлий усмехнулся, — как показалось Диане, не слишком доброй усмешкой, — и зашагал прочь. Его свита увязалась за ним следом. В конюшне же установилась гробовая тишина. Конюхи застыли на месте, не донеся до губ кувшины с вином. Глядя на главу фракции можно было подумать, что он обратился в камень. Деррик, с противной улыбочкой прислонился к стене, сложив на груди руки. Лишь ничего не подозревающая четверка продолжала шумно утолять жажду.
— Стефан, — наконец подал голос глава фракции, подзывая к себе одной из конюхов. — Отведи лошадей в конюшню «синих».
— Нет! — Диана загородила спиной Борея. — Ты этого не сделаешь, я никому не позволю это сделать. Эти лошади наши!
— Такова воля императора. Он может делать все, что захочет, — глава фракции с перекошенным от гнева лицом двинулся на Диану. — Если же ты попробуешь мне помешать…
Впрочем, он не договорил. Известие уже достигло «синих», потому что в конюшню, сияя самодовольной улыбкой, вошел глава их фракции.
— Ну-ну, — прогудел он и потрепал по холке Борея.
Диана была готова убить главу «синих» на месте. Она уже было приготовилась наброситься на него, однако кто-то, — она так и не поняла, кто именно, — крепко схватил ее за локоть, удерживая на месте.
К «синим», к «синим», звенело у нее в голове.
Деррик посмотрел на пальмовую ветвь в ее руку и расхохотался.
К «синим».
На глазах у убитой горем Дианы на ее любимцев, одного за другим, надели «синие» шоры и вывели из конюшни.
Диана не помнила, как добралась до домика Ллина. То ли в наемном паланкине, то ли на телеге, то ли добежала бегом. Все что ей запомнилось, это, как дрожа всем телом и спотыкаясь на каждом шагу, она брела вверх по склону. Натруженные ладони болели, натертая поводьями талия горела огнем, ноги почти не слушались, отчего каждый шаг давался ей с великим трудом. Однако все, что она ощущала, это ледяной ужас, сковавший ее изнутри.
Когда она добралась до жилища Ллина, тот как раз выходил из конюшен, держа в руке порванную уздечку. Заметив Диану, он замер на месте.
— Госпожа? Что случилось?
Дрожа всем телом, Диана тоже остановилась. До нее только сейчас дошло, в руке она по-прежнему сжимает пальмовую ветвь победительницы.
— Госпожа? — Ллин сделал шаг ей навстречу, и тогда она бросилась к нему и прижалась лицом в его широкой груди.
— Мои лошади, — прошептала она, уткнувшись носом в его грубую тунику, и в следующий миг сковавший ее изнутри лед дал трещину. — У меня отняли моих лошадей.
— У меня отняли все, — ответил Ллин.
Он застыл неподвижно, словно каменный столб, и Диана горько разрыдалась на его груди.
(обратно)
Глава 18
Корнелия
— Это правда, что на последнем круге кони оторвались от земли и последний отрезок летели по воздуху?
— Нет, конечно, — улыбнулась Корнелия. — Вернее, не совсем так. Но мне понятно, откуда этот слух. Когда они пересекли финишную черту, то вырвались вперед остальных на четверть финального отрезка. Если не ошибаюсь, это новый рекорд для Большого цирка.
— Хотел бы я взглянуть на них своими глазами, — было видно, что Друз завидует ей, однако в следующее мгновение он посмотрел на голову Корнелии у себя на плече и улыбнулся. — А правда, что когда твоя кузина сошла с колесницы, она вся сверкала серебром?
— Сверкала серебром? Скажи, как это возможно…
— Потому что она получила благословение от самой Дианы-охотницы, — серьезным тоном пояснил Друз. — Об этом говорит весь форум.
— Юнона всемилостивая! Моя кузина ничем не сверкала. Скажу больше, на ее лице был такой густой слой пыли, что ее скорее можно было принять за нубийского раба. Ее волосы слиплись от пота, а сама она едва держалась на ногах. Правда, при этом она улыбалась как одержимая. — Корнелия задумчиво перевела взгляд на потолок. — Мне почему-то кажется, что семье придется расстаться с мечтой выдать ее замуж. Когда мужчины смотрят на Диану, они видят лишь ее внешнюю красоту. В то время как настоящая Диана — это грязный и потный возница, который, сияя безумной улыбкой, спускается с колесницы.
— А правда, что она плюнула в лицо самому императору, после того как он приказал перевести ее лошадей к «синим»? Об этом тоже твердят на форуме.
— Нет, конечно, — вздохнула Корнелия. Она была свидетельницей тому, как последние несколько недель кузина умоляла императора вернуть ее скакунов в конюшню «красных». На гонках, на пирах, молила, не заботясь о том, что выставляет себя на посмешище в глазах недоброжелателей, однако Вителлий отказывался ее слушать. «Нечестных побед не бывает. Все победы честные, моя красавица, — отвечал он. — Ты победила в гонках? Победила. Так пусть твоя четверка ради разнообразия принесет славу “синим”. Впрочем, после того, что ты с ними сделала, они не смогут участвовать в забегах еще несколько недель».
— Честные победы? — возмущенно воскликнула Диана. — Где ты видел честные победы на гонках в наши дни?
— После тебя мои «синие» одержали победу двенадцать раз подряд, — улыбнулся Вителлий. Впрочем, улыбка получилась какая-то вымученная. Более того, Корнелии показалась, будто в глазах императора мелькнул страх. Ей тотчас вспомнились слова Марцеллы о том, что генералы Вителлия его предадут. Обычно Вителлий смеялся над этими слухами, однако в тот день Корнелия заметила в его взгляде нечто похожее на неуверенность.
Покуда Вителлий сыт и пьян, а «синие» побеждают в гонках, в империи царит благоденствие, которое Веспасиан не осмелится нарушить. О боги, что за наивная фантазия! Даже проигрыш в гонках способен перевернуть все вверх дном. Корнелии почему стало жаль императора, почти так же жаль, как и свою младшую кузину. В эти дни Диану трудно было узнать, подавленная и несчастная, она даже выглядела старше своих лет.
— Корнелия, ты все знаешь про богов, — обратилась к ней со слезной просьбой Диана. — Какой из них меня выслушает, если я попрошу его вернуть мне моих гнедых? Я уже посетила с полдесятка предсказателей, но они все говорят то, что ты хочешь от них услышать. Даже астролог Домициана, и тот сказал, мол, не волнуйся дорогая, ты снова будешь править своей четверкой, и тебя ждет куда более богатый приз.
— Забудь про астролога, — сказала ей тогда Корнелия. — Лучше молись Диане-охотнице. У нее тоже есть лошади, белые как лунный свет, которые тянут по небу ее колесницу. И она их тоже любит, как и ты своих четверых. Кроме того, ты ведь тезка богини. И она наверняка тебя выслушает.
— Ты так думаешь? — мозолистой рукой Диана смахнула с глаз предательские слезы.
— Я это знаю.
— …в отместку? — раздался рядом с ней голос Друза, возвращая ее из задумчивости. Корнелия растерянно заморгала.
— Что ты сказал?
— Я сказал, что к твоей юной кузине неплохо бы приставить телохранителей. Независимо от того, пользуется она благосклонностью императора или нет, когда она победила в гонках, немало темных личностей потеряли свои денежки. И я боюсь, что среди них найдется тот, кто задумает ей отомстить.
— Но ведь она героиня дня! — при мысли о сестре Корнелия невольно улыбнулась и прильнула щекой к груди Друза. — Молодые трибуны, что носятся сейчас по Марсову полю, ее боготворят. От женихов просто нет отбоя. Туллия не знает, что и думать. Она уже приготовилась закатить скандал, поскольку уже представила себе, как будет во весь голос кричать, что Диана запятнала позором всю нашу семью, как на пороге дома, с букетами в руках, возникла целая делегация женихов. Лучшие холостяки Рима. Стоило ей их увидеть, как у нее тотчас обвисли паруса. Она даже слегла, потому что это было выше ее сил.
— А ты? — усмехнулся Друз.
— Я тоже на денек слегла. Потому что у меня тоже не было сил, — с улыбкой ответила Корнелия, целуя Друза. — Или ты не заметил?
На дворе уже стоял октябрь. Дни по-прежнему были теплыми, а вот ночи уже дышали прохладой. Обычно октябрь был для римлян временем праздников. Последние патриции возвращались в город со своих загородных дач, в предвкушении очередного сезона пиров и гладиаторских игр. Однако в этом году город был подозрительно тих. Фабий Валент наконец отбыл на север, чтобы принять командование армией. До его прибытия Алиен, как мог, противостоял мезийским легионам. Лоллия осталась дома одна, чему была несказанно рада. Заявив, что неважно себя чувствует, император удалился на небольшую виллу в окрестностях Рима. Хотя кто знает, может, он просто бежал от слухов, коими полнился город, что пресловутая битва на севере закончилась отнюдь не блистательной победой, а позорным поражением.
— Когда же мы наконец получим оттуда известия! — жаловалась Марцелла, которой не терпелось узнать, что же все-таки произошло. А вот Корнелии было все равно.
Влюбленные — страшные себялюбцы, размышляла она. Весь Рим сгорает от нетерпения, желаяузнать, когда сюда нагрянут мезийские легионы, чтобы перерезать нас прямо в наших постелях, я же думаю лишь о том, как бы мне поскорее увидеться с Друзом. Она вот уже несколько недель подряд никем не замеченная по вечерам выскальзывала из дома. Ни одна душа еще не догадалась о том, что происходит. Ни одна душа ничего не заподозрила — ни Туллия, ни зоркая Марцелла, которая, что на нее совсем не похоже, в упор не замечала того, что Корнелия засыпает за обеденным столом.
— По крайней мере у нас вновь мирные, семейные ужины, — заметила однажды вечером Туллия. — Я уже устала от этих жутких придворных пиров с сотней перемен блюд.
— Туллия, ты помнишь, когда тебя в последний раз приглашали на придворный пир? — с невинным видом поинтересовалась Корнелия. — Месяц назад? Вителлий терпеть не может зануд.
Туллия презрительно фыркнула.
— Я проживу и без его приглашений. Если я больше никогда в жизни не увижу на своей тарелке печень щуки, ухо слона или мозги павлина, то ничего не…
— Верно, — поспешила поддакнуть Корнелия, делая глоток вина, и заставила себя поднять сонные веки. Накануне к себе в постель она вернулась лишь на рассвете. Рядом с ней Марцелла нервно отщипывала виноград.
— Прекрасная рыба, — предложил Гай. — Отменный вкус, моя дорогая.
— Да-да, из нашего пруда в Таррацине, — чтобы лучше распробовать, Туллия ела рыбу маленькими кусочками. — Я распорядилась ее засолить и прислать сюда. Жаль, что в этом году мы так и не съездили в Таррацину. Павлин, не ковыряйся в тарелке! Лишь одной Фортуне известно, в каком состоянии сейчас дом. Управляющий сообщил мне, что в бане сломался гипокауст. Насколько я понимаю, отремонтируют его не раньше весны. Строителям доверия нет, их нельзя оставлять без присмотра. С другой стороны, я не могу уехать отсюда, чтобы следить за тем, как там идут дела…
— А может, туда стоит поехать мне? — Корнелия оторвала взгляд от тарелки и с невинным видом посмотрела на Туллию. — Здесь меня ничего не держит. Так что могла бы на время уехать в Таррацину, чтобы проследить за строителями.
— Уехать одна?
— Но ведь там есть управляющий, он наверняка возьмет на себя заботу обо мне, — Корнелия пожала плечами, однако ладони предательски вспотели. — К тому же там мне вряд ли придется принимать гостей. Я лишь прослежу за тем, чтобы строители восстановили баню и через неделю-другую вернусь. Я бы не советовала оставлять баню на зиму без ремонта — трубы могут замерзнуть, и тогда ремонт обойдется гораздо дороже.
Туллия подозрительно посмотрела на нее. Корнелия поспешила опустить глаза. Пальцы нервно теребили кисточку на подушке.
— Туллия, пусть она едет, если хочет, — подала голос Марцелла. — Ты ведь постоянно жалуешься, что мы двое вечно вертимся у тебя под ногами.
— Разумеется, я никуда не поеду, если Туллия считает это неприличным, — поспешила добавить Корнелия. — Вдова в моем положении… В конце концов ты могла бы попросить Лоллию съездить туда. У ее деда в Таррацине есть дом, и она могла бы поручить управляющему проследить за тем, как работают строители. Думаю, она с радостью оказала бы тебе такую услугу.
— Только не Лоллия! Вот уж кого я ни о чем не стану просить, так это ее! — ощетинилась Туллия. — Ты можешь уехать туда хоть завтра. Павлин, если ты не прекратишь выстраивать на своей тарелке легионы…
В ту ночь Корнелия прилетела в душную каморку Друза словно на крыльях и с порога осыпала его поцелуями.
— Ты не мог бы уехать на несколько дней?
— Что? — он со смехом подхватил ее на руки.
— Мы уезжаем в деревню!
Найди предлог уехать из города, посоветовала ей Лоллия, и вдоволь насладитесь друг другом. И вот теперь впервые в жизни она прислушалась к совету кузины.
Те несколько дней, что предшествовали отъезду, ей владело удивительное спокойствие. Корнелия с головой ушла в подготовку к путешествию — деловито собирала вещи, занималась их погрузкой на повозку. Однако стоило ей захлопнуть сундук, как Марцелла смерила ее подозрительным взглядом.
— Корнелия, — задумчиво поинтересовалась она. — У тебя есть какой-то секрет?
— Нет, конечно, — поспешно ответила Корнелия. Иногда она задавалась вопросом, почему поделилась своей тайной с Лоллией, а не с Марцеллой. В конце концов Марцелла ее родная сестра и, что важно, умеет держать рот на замке. Впрочем, Марцелла и так все знала. И тем не менее тогда она предпочла излить душу Лоллии и делать это снова не собиралась. Марцелла не единственная, кто мог бы начать ставить ей палки в колеса. — Я не верю ни в какие секреты и у меня их нет. А у тебя?
— Сколько угодно! — Марцелла вытянула над головой бледную руку. — Именно поэтому я тотчас узнаю и чужие.
— Не смеши меня, — отмахнулась от нее Корнелия и вскарабкалась на повозку, которая должна была доставить ее в Таррацину. Друз обещал приехать на следующий день вместе с погонщиком мулов. Таррацина, прекрасная Таррацина, где на вершине утеса ее ждала беломраморная вилла.
— Госпожа, — поклонился управляющий, когда она прибыла туда. — Как и велела высокородная Туллия, я приготовил дом к твоему приезду. Рабы готовы…
— О, прошу, никаких рабов. Я позабочусь обо всем сама.
— Но, госпожа…
— Спасибо, ты свободен.
Корнелия сбросила с ног сандалии и отправилась бросить по пустынной вилле. Подарок от деда Лоллии Гаю, когда тот стал сенатором, прекрасная, как и все его дома, вилла была и впрямь хороша. Каждую нишу украшало произведение искусства — из мрамора, слоновой кости, серебра. Каждый изразец, каждая колонна, каждый предмет мебели — все это было выбрано для того, чтобы радовать глаз, а отнюдь не служить.
И почему я раньше считала, будто у деда Лоллии дурной вкус? Будь он хоть трижды рабом, в его пальцах гораздо больше чувства прекрасного, нежели у Туллии во всем ее патрицианском теле.
Когда на следующий день к ней приехал Друз, он был сражен наповал.
— Ты уверена, что это то самое место?
Изумленным взглядом он обвел просторный атрий с рядами мраморных колонн, однако Корнелия схватила его за руку и потащила дальше, внутрь дома.
— Честное слово, запятнавший себя позором бывший легионер не имеет права входить в такой дом. Запятнавший себя позором и грязью бывший легионер, — выразительно добавил он, глядя на свой пропыленный плащ.
— Если ты сейчас не отнесешь меня в постель, я позову рабов и велю выбросить тебя на улицу, — пригрозила ему Корнелия и потянула в опочивальню. — Причем прямо сейчас.
— А нам никто не помешает? — Друг сбросил с себя пыльный плащ и еще раз обвел глазами пустую виллу.
— Здесь нет никого, кроме нас двоих.
Корнелия отдернула от окон тонкие белые занавески и довольная покружилась на месте.
— Свою служанку я оставила дома, отослала прочь рабов и избавилась от управляющего. Так что целых десять дней этот дом в нашем полном распоряжении.
День заднем в белой постели, что благоухала сиренью, в комнате, из окон которой в обрамлении белых занавесок открывается вид на бескрайнюю синь моря. Казалось, они парили в облаках посреди небесной лазури. День за днем вкусный домашний завтрак на круглой мраморной террасе. По крайней мере в мечтах Корнелии, пока та пыталась замесить хлеб, но тесто почему-то упрямо отказывалось подниматься.
— Ничего не понимаю, — сокрушенно пожаловалась она, глядя на липкий кусок теста на мраморном столе кухни. — Дома я каждый день слежу за тем, как служанки пекут хлеб! Весь Рим знает, какой у меня вкусный хлеб!
— Эх! — Друз задумчиво потер подбородок. — Ты сама его печешь или просто смотришь за тем, как его пекут другие?
— Ну, всю работу, конечно, делают рабы — месят тесто, раскатывают его. Но ведь я знаю, как это делается! — Корнелия задумчиво ощупала липкий комок перед ней. — Интересно, насколько оно должно быть твердым?
В общем, тесто у нее так и не поднялось, а рыба, которую она купила им на обед, плохо чистилась.
— Я же умею готовить, — произнесла она с решительным видом. Друз только улыбнулся, глядя на бесформенную массу, которая еще утром была лососем. — Весь Рим знает, что я умею вкусно накормить гостей! Мой муж всегда хвалил мои соусы!
— Моя дорогая! — Друз поцеловал ее в лоб. — Я уверен, что во всем остальном ты само совершенство. Но возле очага от тебя никакого толка.
После этого он каждое утро, надев тунику и сандалии, отправлялся к уличным торговцам за хлебом и колбасой, свежими фруктами и рыбой. Каждый день они ели, сидя на белой мраморной террасе, наблюдая, как внизу под ними, блестя на солнце влажными веслами, заходят в гавань корабли.
— Что это? — спросил Друз, заметив в руках у Корнелии длинный свиток.
— Список дел, которые поручила мне Туллия, — ответила та. — Сначала речь шла лишь о ремонте бани. Но потом она решила поручить мне еще кое-какие мелкие дела, — с этими словами Корнелия извлекла второй свиток.
— Если хочешь, я мог бы тебе помочь…
— Нет, не надо, — с этими словами она выбросила оба свитка в море. Баню так и не починили. Каждое утро они с Друзом купались в нежных морских волнах — у подножья скалы имелась узкая полоска пляжа, где они были надежно скрыты от посторонних глаз. Чуть позже, глядя на себя в зеркало, Корнелия пришла в ужас.
— О боги, если раньше у меня был просто курносый нос, то теперь он еще и в веснушках!
Друз взял на себя сад на вершине утеса и так вошел во вкус садоводства, что принялся за его перепланировку.
— Почему у тебя здесь одни лишь цветы? — высказал он свое несогласие. — Почему бы не посадить что-нибудь полезное, например, виноград или несколько ореховых деревьев?
— Цветы тоже небесполезные, — парировала Корнелия. — Ими можно любоваться. — Облаченная в тунику Друза, Корнелия с распущенными волосами сидела, скрестив ноги, на мраморной скамье и ела грушу. — Разве красота бесполезна?
— Думаю, зря на такой высоте высадили лилии, — высказал свое мнение Друз. — Почва для них здесь слишком песчаная.
— Ты кто? Мой садовник? — пошутила над ним Корнелия.
— У моего деда был виноградник. Сказать по правде, я бы не отказался иметь свой, — Друз огляделся по сторонам, как будто видел перед собой ровные ряды виноградных лоз. — Я бы производил собственное вино, ухаживал за лозами, смотрел, как женщины забираются с ногами в бочки, чтобы давить виноград.
— Да, а по винограднику с гиканьем носятся дети, — добавила Корнелия. Их несложно было себе представить, этих чумазых ребятишек, девчонок и сорванцов, которые швыряются друг в дружку виноградинами… Почему-то при этой мысли ей стало грустно, и она отложила грушу в сторону.
— Корнелия! — Друз взял ее за руку и верхом уселся на мраморную скамью. — Что с тобой?
— Нет-нет, все в порядке, — поспешила она заверить его, отводя взгляд. — Просто мне раньше казалось, что у меня когда-нибудь появятся дети, и они будут с гиканьем бегать по всему дому. Но, с другой стороны, я была уверена, что стану императрицей, и чем это все обернулось?
По лицу Друза было видно, что он хочет что-то сказать, однако он лишь наклонился к ней и нежно обнял. Корнелия с грустью посмотрела из-за его плеча на лазурное море, что плескалось внизу под утесом, и поморгала, чтобы стряхнуть с ресниц слезы.
Десять дней растянулись в две недели, в течение которых она посылала Туллии послания, полные жалоб на ленивых строителей и некачественные изразцы. Две недели солнца, моря и любви. А тем временем октябрь подошел к концу, а с ним и их с Друзом идиллия.
Первым известие услышал Друз от торговца фруктами, когда, как обычно по утру, отправился покупать еду к завтраку. Цецина Алиен оказался предателем и перешел на сторону Веспасиана. После десятичасового сражения от его собственных легионов почти ничего не осталось. Кремона подверглась грабежам и разрушению, и теперь легионы Веспасиана победным маршем движутся на Рим.
— Интересно, какие войска Вителлий сможет выставить для обороны города? — задалась вопросом Корнелия, поеживаясь от прохладного ветерка на террасе. — Моей сестре наверняка это известно.
Друз взял ее руку в свою.
— Нам больше нельзя здесь оставаться. Место отдаленное, никем не охраняемое. Если армия придет в Таррацину…
— Верно, — Корнелия заставила себя улыбнуться. — В любом случае моя семья ждет меня назад. С другой стороны, возможно, они тоже не слишком долго задержатся в городе.
— Что было бы мудро с их стороны, — Друз попытался придать голосу веселость. — Уезжайте из Рима всей семьей, причем куда-нибудь подальше. Кстати, куда бы вы поехали?
— Наверно, в Брундизий. Там у нас небольшая вилла. И это далеко от всяких сражений.
— Брундизий, — задумчиво повторил Друз. — Это действительно далеко.
Несколько сот миль к югу.
Они стояли на полукруглой мраморной террасе. Тени постепенно удлинялись, море внизу из лазурного становилось темно-синим, небо над головой приобретало фиолетовый оттенок. На подносе остывал ужин. Корнелии вспомнилась вторая часть слов, сказанных Лоллией, когда та призывала ее уехать на время из города, и у нее защемило сердце.
Зато потом тебе будет, что вспомнить, когда весь мир полетит в тартарары.
А что, он полетит в тартарары? — удивилась тогда Корнелия. Дорогая моя, он только это и делает.
Лоллия знала, что говорила. Ведь у нее уже бывали любовники. Она умела красиво расстаться с бывшим возлюбленным, знала, как оборвать связь с юмором, состраданием, без унизительных сцен и слез. Корнелии же оставалось лишь одно — еще крепче прижиматься ночью к Друзу, как будто это могло спасти ее от неминуемого расставания.
— Еще не время, — твердила она себе на следующее утро, садясь в паланкин, чтобы отправиться в Рим. Друз должен был проделать обратный путь один. — Еще не время.
(обратно)
(обратно)
Часть IV
ВЕСПАСИАН
Декабрь 69 года нашей эры — июнь 79 года нашей эры
Он был первым императором, чей характер с восшествием на трон изменился к лучшему.
Глава 19
Марцелла
— Корнелия! — позвала сестру Марцелла, как только вошла в атрий и сбросила с плеч белоснежный плащ. — Гай, Туллия, вы не поверите, что я слышала на форуме. Корнелия!
Из триклиния донесся истошный крик.
— О, Фортуна, — вздохнула Марцелла. Принеся такое известие, она ожидала, что перед ней тотчас вырастет множество желающих выслушать ее. Но нет. В атрии она увидела лишь рабов. Те, округлив от удивления глаза, подслушивали под дверью триклиния. Марцелла сочла своим долгом их разогнать.
— Гай! Корнелия! У меня такая новость! — воскликнула Марцелла, входя в триклиний, но ее никто не услышал. Корнелия словно каменная статуя сидела на табурете. Гай, устроившись на пиршественном ложе, грыз ногти. Туллия с перекошенным от злости лицом расхаживала по залу и истошно кричала.
— …видела, видела, как ты по ночам уходила из дома. И другие тебя видели, ты, мерзкая потаскуха!
— Тише, тише, — успокаивал ее Гай.
— Туллия! — поздоровалась Марцелла с золовкой. — У меня есть новость, но она, наверно, может подождать. Кстати, что тут у вас происходит?
Туллия резко обернулась. В эти минуты она являла собой страшное зрелище — лицо раскраснелось, прическа растрепалась.
— Ты об этом знала?
— О чем?
— Про свою сестру, — истерично выкрикнула Туллия. — То, что она ложилась под простого солдата!
Марцелла посмотрела на сестру. Та, сидела, уставившись в пространство перед собой. Скорее всего, взгляд ее был прикован к фризу на противоположной стене. Лицо ее было таким же белым, как и фриз. Когда она наконец заговорила, то каждое слово, похоже, давалось ей с огромным трудом.
— Марцелла ничего не знала, Туллия. Никто ничего не знал.
— Да как ты смеешь так со мной разговаривать! — набросилась на нее Туллия.
— Дорогая, успокойся, — робко подал голос Гай.
Марцелла удивленно подняла брови и опустилась на ближайшее ложе.
— В чем дело?
— Я вчера расспросила служанку Корнелии. — Туллия, словно тигрица в клетке, металась взад-вперед по мраморной мозаике пола, шурша алым шелковым платьем. — Хотела узнать, с какой это стати Корнелия в последнее время притихла, как мышь. Я даже подумала, уж не заболела ли она. И что я получаю в ответ на мою заботу? Служанка темнит, отказывается прямо отвечать на вопросы, однако после хорошей головомойки признается, что Корнелия вот уже несколько месяцев не ночует дома! Потому что проводит ночи с каким-то
легионером!
Марцелла посмотрела на сестру. Щеки Корнелии пылали гневом. Казалось, она вот-вот взорвется. Однако Корнелия молчала. Марцелле тотчас вспомнилась странная сонливость сестры в последние месяцы, ее долгие отлучки из дома, ее бесконечные походы в бани.
— Корнелия, — сказала она, не скрывая восхищения в голосе. — Вот уж не думала, что ты найдешь в себе подобное мужество!
При этих словах Корнелия слабо улыбнулась сестре, однако Туллия вновь подняла крик, и улыбка тотчас погасла.
— Вдова твоего положения! Та, что еще недавно была замужем за наследником императора! Где это видано, чтобы уважающая себя женщина заводила себе любовника из трущоб. Немедленно отвечай, кто он такой?
— Какая разница, — устало проговорила Корнелия. — Все кончено.
— Полагаю, он был не единственным, или я все-таки ошибаюсь? Для тебя ведь главное, чтобы тебя, как кошку, драл грубый мужлан, а кто он такой, дело десятое. Оно тебя мало заботит. Верно я говорю? Я всегда подозревала, что это твое напускное благочестие не более чем лицемерная маска. На самом деле ты — обыкновенная потаскуха…
— Ну-ну, тише! — попытался успокоить супругу Гай.
— И как давно ты позоришь нашу семью? Как давно ты водишь меня за нос как последнюю дурочку?
Корнелия бросила на золовку полный презрения взгляд.
— Туллия, — подала она наконец голос, — тебя обмануть — пара пустяков. В следующий раз, когда какая-нибудь женщина скажет тебе, что она провела в банях пять часов, будь уверена, она отнюдь не провела их, нежась в горячей воде.
Туллия открыла было рот, чтобы вновь обрушить на голову Корнели поток брани, однако Гай поспешил положить ей на плечо руку.
— Дорогая, позволь я все объясню. Корнелия…
— Я знаю, что ты сейчас скажешь, — в голосе Корнелии слышалась усталость. — Да, я пыталась делать это тихо и незаметно. Никто ничего не знает, кроме нас…
— И двух десятков рабов, — язвительно добавила Марцелла, — которые подслушивают под каждой дверью.
— Этот солдат, — Гай был вынужден превозмочь себя, чтобы произнести это страшное слово. — Нам ждать от него неприятностей?
Корнелия отвернулась.
— Нет.
— Грязная шлюха! — злобно прошипела Туллия.
— Корнелия, послушай, — Гай попытался изобразить укоризну. — Признаюсь честно, я никогда не ожидал от тебя ничего подобного. Скажи, неужели тебе не дорога честь семьи, наше славное имя, наша репутация, наше положение в обществе? Не говоря уже о твоем собственном?
— Думаю, это может подождать, — Марцелла поднялась с ложа. — Сколь бы интересной ни была история Корнелии и ее любовника, а она действительно мне интересна, сегодня я узнала нечто гораздо более достойное нашего внимания. Фабий Валент был взят в плен и казнен в Урвинуме. Вверенные ему войска сдались.
В комнате тотчас воцарилось молчание. Гай растерянно обернулся по сторонам, как будто искал поддержки, Туллия умолкла, так и не высказав до конца все, что думала по поводу шлюхи-невестки. Корнелия продолжала сидеть, тупо глядя в пол.
— Император и его советники уже знают об этом, и, похоже, известие это дошло и до сената, — продолжала Марцелла.
Первой нарушила молчание Корнелия.
— Откуда тебе это известно? — спросила она, поднимая взгляд на сестру.
— От Домициана, — пожала плечами та.
— Император… — голос Гая обернулся писком, и он поспешил прочистить горло. — Император пошлет навстречу мятежникам новую армию.
— У Вителлия нет новой армии. А мезийские легионы тем временем приближаются к Риму. Они уже стали лагерем в пятидесяти милях к северу от города.
И вновь ледяное молчание. На протяжении всего ноября Марцелла была уверена, что кто-нибудь придет и спасет Рим — Фабий Валент или верные легионы на юге страны. Или вмешаются сами боги. Кто угодно или что угодно.
— О нет! — Туллия вновь заметалась по мозаичному полу. — О нет, о нет! Нам нельзя оставаться здесь, Гай! Нам нельзя здесь оставаться! Варвары уже стучат в наши ворота, легионеры из Дакии и Германии…
— Может, нам стоит уехать в Таррацину, — подала голос Корнелия. Румянец постепенно возвращался на ее лицо. — Я провела там две недели со своим солдатом из трущоб. Признаюсь честно, я так и не починила гипокауст, но погода была такая чудесная, что в нем не было необходимости…
Но Туллия ее уже не слышала. Выбежав в атрий, она принялась звать управляющего, звать маленького Павлина, звать слуг, которые поспешили сделать вид, будто заняты делом, а отнюдь не подслушивали за дверью, а когда поняли, что у их хозяйки истерика, моментально засуетились. Гай бросился наверх, к себе в таблинум, Корнелия и Марцелла остались в атрии одни. Взгляд Корнелии был устремлен в пол, как будто в пестрой мозаике ей уже виделись мезийские легионы, которые уже были на подходе к Риму.
— Итак, — Марцелла вопросительно посмотрела на сестру. — И кто же он, этот твой любовник?
— Это так важно? — пожала плечами Корнелия. Ее темные волосы отливали блеском. — Все кончено. Я не хочу, чтобы из-за меня у него были неприятности с Туллией и Гаем.
— Лоллия и ее раб, — задумчиво произнесла Марцелла. — Ты и солдат. Диана и колесничий. Все Корнелии в этом году оскандалились.
— Все, кроме тебя, — Корнелия кисло улыбнулась.
— Марцелла, Корнелия! — окликнул их Гай. В следующий миг он уже сбежал вниз со свитками под мышкой. — Вы должны срочно собирать вещи. Мы едем в Брундизий. Думается, сейчас это самое безопасное место.
— Я никуда не еду, — заявила Корнелия.
— Почему? — Гай был готов испепелить ее взглядом. — Не хочешь бросать своего плебея-любовника?
— Нет, — Корнелия холодно посмотрела на брата. — Просто у меня как у патрицианки еще осталось чувство долга.
Гай покраснел.
— Марцелла, поговори с ней.
— Я тоже никуда не поеду, — ответила та. — Мне интересно знать, что будет.
Услышав такой ответ, Гай покраснел еще больше и принялся растерянно топтаться на месте. Он открыл было рот, чтобы что-то возразить, однако в это время в прихожей что-то разбилось, раздался плач служанки и возмущенный крик Туллии.
— Гай! — крикнула она, и он поспешил на ее зов.
Корнелия взяла плащ. Движения ее были медленными, словно под водой.
— Я лучше пойду к Лоллии. Думаю, ей следует знать, что в скором времени она вновь станет вдовой.
— Не думаю, что она станет переживать по этому поводу, — Марцелла пожала плечами и тоже взяла плащ.
Корнелия обернулась через плечо.
— Ты куда?
— Иду сообщить свою весть всему миру.
Лоллия
— Уехать из дома?
Дед Лоллии обвел взглядом атрий. Это был предмет его особой гордости. Хотя на дворе был конец ноября, здесь по-прежнему цвели крокусы. Вдоль стен выстроились стройные коринфские колонны, увенчанные причудливыми капителями. В нишах притаились статуи из черного дерева — каждая в человеческий рост, с глазами из слоновой кости. За атрием начинались жилые комнаты, просторные и со вкусом обставленные. На полу мозаика, которая одна стоит целого состояния, каждая ваза, каждая статуя тщательно выбраны из того обилия им подобных, какое только может предложить мир. Этот дом он обустраивал всю свою жизнь, медленно, постепенно. Лоллия точно знала — именно о таком доме он мечтал еще тогда, когда мальчишкой-рабом убирал в домах своих хозяев.
— Легионы не войдут в Рим, — пообещала она деду. — Солдаты Веспасиана встанут лагерем у городских ворот. Сенат дрогнет, затем мы капитулируем, и одна Фортуна знает, что будет с Вителлием. Но нашему дому ничего не грозит.
— Тогда зачем уезжать отсюда? — дед потрогал небольшую статуэтку нимфы из розового мрамора.
— Потому что я не хочу, чтобы моя дочь оставалась здесь, — хмуро призналась Лоллия.
— А дом в Остии? — вздохнул дед, который уже слегка устал от этого разговора. — Это ведь тоже довольно далеко отсюда, разве нет, моя красавица? Мы через пару деньков можем уехать туда.
— Нет, ты уедешь уже завтра. И возьмешь с собой Флавию. Я же поеду с Корнелией и Марцеллой в Брундизий.
— Разве они не едут вместе с Туллией и Гаем? — дед Лоллии поморщился. — У этой женщины голос, как скрип телеги по мостовой.
— Думаю, несколько дней я его вынесу.
Это была чистой воды ложь. В намерения Лоллии не входило ехать с Гаем и Туллией в Брундизий. Насколько ей было известно, Корнелия и Марцелла тоже не собирались туда. Они остаются в Риме. Лоллии не давал покоя вопрос, почему. Корнелию могло подвигнуть на это чувство долга, Марцелла способна ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство.
А я? Почему у нее тоже нет никакого желания паковать свои драгоценности, чтобы вместе с дочерью и дедом отправиться в Остию? Несколько недель на залитой солнцем террасе с видом на море, отдыхая, играя с Флавией, а тем временем, смотришь, в Риме жизнь снова войдет в обычное русло. Уже половина патрицианских семейств под шумок собрали вещи и уехали из города.
А я?
Чего жду я?
Ответа на этот вопрос у нее не было. Обычно она гордилась своей практичностью, как и дед, своим здравым смыслом. Но отец ее был патрицием, и иногда это патрицианское чувство долга брало верх.
Лоллия что-то проворковала и отправила деда собирать вещи, прежде чем тот передумает ехать. После чего удалилась в небольшую кладовую, чтобы спрятать там как можно больше его «прекрасных» вещей. Африканскую коллекцию изделий из слоновой кости, лакированные чаши из Индии, фигурки из зеленой яшмы, редкие книги в инкрустированных футлярах. Она уже почти битком набила один из потайных шкафов, когда услышала позади себя на лестнице шаги.
— Госпожа!
— О, приветствую тебя, Тракс.
Лоллия взяла в руки малахитовую доску для шашек, привезенную с Крита, и аккуратно поставила ее в небольшую потайную нишу. Ей было слышно, как Тракс шагнул с последней ступеньки с прохладный полумрак кладовой.
— Госпожа, управляющий сказал, что ты не едешь в Остию. Это так?
— Нет, не еду, — Лоллия посмотрела на мраморную нимфу, та оказалась чересчур высока и не помещалась в нишу. — Тракс, разве ты сейчас не должен помогать Флавии собирать ее вещи? Проследи, чтобы она не забыла взять свой яшмовый зверинец и жемчужные бусы. Это ее любимые вещи.
Но Тракс пропустил ее слова мимо ушей и подошел ближе. Лоллия еще ни разу не видела его таким взволнованным — руки его были сжаты в кулаки, но даже это не могло скрыть их дрожь.
— Госпожа, в городе оставаться небезопасно…
— А я не остаюсь. Я вместе с Корнелией и Марцеллой еду в Брундизий.
Тракс покачал головой.
— Ложь. Я ведь знаю тебя, госпожа.
— Похоже, что да, — кисло согласилась Лоллия. — Но не надо переживать из-за меня. Никто не посмеет предать разграблению Рим.
— Тогда почему ты отправляешь из города дочь?
— На всякий случай. Так мне спокойнее.
Второй шкаф был уже набит до отказа, и Лоллия захлопнула его. Если солдатня и вломится к ним в дом по крайней мере хотя бы часть дедовых вещей удастся спасти.
— Тебе понадобится охрана, — стоял на своем Тракс.
— Не переживай, если понадобится, я ее найму.
Было видно, что Тракс не решается что-то сказать.
— Госпожа, позволь мне остаться с тобой.
— Нет, ты поедешь с Флавией, — сказала она и увидела, что лицо Тракса темнее тучи. — Тракс, я прошу тебя.
Раб отвернулся. Лоллия невольно залюбовалась его золотистыми волосами, широкими плечами, четко очерченным галльским профилем и голубыми глазами. Ей хотелось запомнить его именно таким. С тех пор, как она перевезла его в дом своего деда, — измученного, с исполосованной кнутом спиной, — они не только не прикоснулись друг к другу, но даже не обменялись ни единым словом.
— Позволь, Тракс, задать тебе один вопрос, — Лоллия опустила глаза на чашу из слоновой кости, которую вертела в руках. — До того, как Фабий должен был отбыть на север, он заболел…
— Да, госпожа, — в голосе Тракса слышалась настороженность.
— Все говорили, якобы он отравился рыбой. На пиру у моего деда, который тот устроил в своем доме в честь Вителлия. Вроде бы ничего удивительно. Любой из гостей мог запросто получить отравление, если вынужден поглотить обед из пятидесяти блюд, а очистив желудок от первых пятидесяти, набить в него пятьдесят новых. Но только не Фабий — у него желудок крепкий, как у быка. До этого он не раз ел красную кефаль, и с ним ничего не случалось.
Тракс не осмеливался посмотреть ей в глаза.
— Ты пытался его отравить, я правильно понимаю?
Молчание.
— Я никому не скажу, — Лоллия вздохнула. — Я просто хочу знать.
— Вороний глаз, черные ягоды, — негромко произнес Тракс. — Но он их выблевал, когда очищал желудок между блюдами. Поэтому яда оказалось недостаточно, — Тракс вздохнул. — Может, так оно даже к лучшему. Мой Господь не одобряет убийств.
— Я думаю, твой господь простил тебя, Тракс. — Тем не менее Лоллия невольно вздрогнула, вспомнив, какие наказания полагаются рабу, посягнувшему на жизнь своего хозяина. Публичная казнь на форуме, вспарывание живота на арене — позорная, мучительная смерть. Тракс поставил под удар не только себя одного, а всех рабов в их доме, которых бы казнили вместе с ним за преступление, которого они не совершали. Да что там! В опасности оказалась даже жизнь ее деда. Парис жил в страхе несколько недель, опасаясь, что его обвинят в том, будто он пытался лишить жизни правую руку самого императора.
— Но почему, Тракс? Зачем тебе понадобился этот риск? Неужели только за то, что он тебя высек?
Тракс растерянно заморгал.
— Потому что он ударил тебя.
Его пальцы, легкие как мотыльки, прикоснулись к ее горлу — там, еще недавно красовался уродливый синяк, оставленный рукой Фабия, когда она пыталась встать на его защиту.
— Но ведь я того не стою! — воскликнула Лоллия. — Я всего лишь глупая бабенка, которая вечно меняет мужей, пьет слишком много вина и сорит деньгами.
— Ты была добра ко мне, — произнес Тракс.
— Я? Но ведь тебя высекли из-за меня. Это моя вина. Мне следовало знать, что Фабий не оставит это без последствий. Что он будет мстить.
— Ты была добра ко мне, — упрямо повторил Тракс… Сейчас, когда он подбирал слова, его галльский акцент стал еще заметнее. — Всегда. Ты спросила мое имя. Расспрашивала о моей семье. О моей сестре. Благодарила, когда я тебе что-то приносил.
— Неужели это так важно?
— Хозяева… у меня их было трое, с тех пор как мне исполнилось десять лет. Все трое купили меня из-за моей внешности, но… — Тракс пожал плечами. — Они пользовались мной, как вещью. Ты же была добра. Ты вообще добрая.
Лоллия не осмеливалась посмотреть ему в глазах — так много света было в них.
— При Фабии я бы не осмелилась остановить свой выбор на тебе, — нехотя призналась Лоллия. — А сейчас могу. Тракс, сейчас ты возьмешь Флавию и уедешь с ней отсюда в безопасное место.
— Госпожа…
— Мне больше некому доверить мою дочь, Тракс. Только тебе, — Лоллия подняла глаза. — Прошу тебя, позаботься о ней.
— Как будто она моя собственная, — просто сказал он. — Иногда я притворяюсь, будто она моя.
Лоллия протянула руку и прикоснулась ладонью к его лицу.
— Когда все закончится, я найду твою сестру и куплю ее. Обещаю тебе, Тракс. Я куплю ее и привезу сюда, и освобожу вас обоих.
Тракс повернул лицо и поцеловал ее ладонь. Лоллия на несколько мгновений задумалась — представила себе Фабия, кнут в его руке, забрызганные кровью цветы в атрии. Однако Фабий был мертв, а она снова вдова — второй раз в течение всего одного года. Так что теперь никто не назовет это супружеской изменой. Она положила руки Траксу на плечи и встала на цыпочки, чтобы его поцеловать. Затем легонько толкнула его, чтобы он сел на бочку с селедкой, а сама забралась к нему на колени. Ему были известны сотни способов, как сделать ей приятно. Но на этот раз она сама хотела доставить ему удовольствие, и оттолкнула его руки. Движения ее были медленными, ей было некуда торопиться. Он же крепко обхватил ее и, уткнувшись ей в волосы, что-то произнес на родном языке. Она поняла лишь последнее слово.
Лоллия судорожно прошептали его губы где-то рядом с ее горлом. И она обняла erо и еще несколько мгновений не отпускала от себя.
Он впервые назвал меня по имени.
— Нам пора, — негромко сказала она.
Тракс разжал объятья, и в какой-то момент ей показалось, будто он сейчас перебросит ее через плечо и — даже если она станет отбиваться и кричать — унесет прочь из Рима, лишь бы только не оставлять ее здесь одну. Но нет, он привык
подчиняться. И вместо того, чтобы схватить ее, помог ей поставить в очередной потайной шкаф золотой винный сервиз ее деда. Лоллия стряхнула с его золотых волос паутину. Он, в свою очередь, снял с шеи небольшой деревянный крестик и надел на нее. Затем взял ее руку, несколько мгновений молча сжимал в своей, после чего отпустил и зашагал вверх по ступенькам.
Лоллия провожала деда в Остию следующим утром. Вместе с Парисом туда же отбывали Тракс с Флавией, ящик с деньгами и всего его рабы. В последний момент Флавия закапризничала, требуя, чтобы мать ехала вместе с ней. Тогда Тракс сурово посмотрел на нее, и девочка утихла. Когда Тракс нес ее к повозке, она обернулась и через его плечо помахала Лоллии рукой. Лоллия со счастливой улыбкой помахала ей в ответ. Она стояла и махала им вслед до тех пор, пока повозка не превратилась в черную точку. Лишь тогда она вернулась в дом, в опустевший атрий, и, прижимая к груди подаренный Траксом деревянный крестик, дала волю слезам. Она рыдала, а статуи черного дерева молча взирали на нее глазами из слоновой кости.
О боги, я плачу, подумала она. Скандальная Лоллия. Нет, пожалуй, умудренная жизнью. Она превзошла самое себя. Что скажут другие Корнелии, если узнают, что она сделала самое худшее из того, что могла сделать, — хуже, чем изменять мужу с любовниками, хуже чем к двадцати годам пять раз побывать замужем, причем трижды в течение одного года.
Нет, она пала гораздо ниже. Она влюбилась в раба.
Марцелла
— Думаю, я видела достаточно, — сказала Диана.
— Достаточно? — переспросила Марцелла. Сердце ее колотилось в груди подобно молоту Вулкана. С ним покончено. С Вителлием покончено. Больше не на что надеяться, неоткуда ждать пощады. И она видела это своими глазами. — Ты хочешь уйти?
— А разве ты не хочешь? — Диана бросила взгляд вдоль длинного коридора императорского дворца. Сегодня он был пуст, хотя улицы полнились ревом человеческих голосов.
— Я думала, тебе будет интересно взглянуть, — сказала Марцелла. — Ты ведь была зла на Вителлия с того самого дня, когда выиграла гонки.
— Я не люблю смотреть, как конь ковыляет с переломанной ногой, — резко ответила Диана. — На первый взгляд он вроде еще жив, хотя на самом деле — уже мертв, только не подозревает об этом.
— О, я думаю, Вителлий все прекрасно понимает. И ему недолго осталось ждать, когда отыщется смельчак, который ударит его по голове, чтобы его прикончить и тем самым положить конец его мучениям.
— Не думаю, что мне хотелось бы это видеть, — Диана как всегда была хороша — в синем плаще, заколотом на плече серебряной кельтской пряжкой. И все же под глазами у нее залегли темные круги. — Давай уйдем, пока по улицам еще можно пройти.
Марцелла нехотя последовала за кузиной. Видеть, как вокруг тебя творится история, это, конечно, увлекательное зрелище, однако перспектива быть растерзанной или затоптанной толпой ее не прельщала. Это было бы слишком.
К тому времени, когда они проложили себе пусть сквозь людское море, в морозном, фиолетовом небе уже поднималась луна. На каждом форуме, на каждом углу шумели ликующие толпы. Марцелла про себя поблагодарила Вителлия за то, что тот приставил к ним охрану, чтобы они могли безопасно добраться до дома.
Что угодно для своей любимицы, даже сейчас.
— Погоди! — Диана, вытянув шею, на мгновение застыла на месте, а затем шагнула вперед из-за спин пары преторианцев. — Что ты здесь делаешь? — спросила она у какого-то мужчины.
Человек остановился и посмотрел на нее. Седые волосы, бронзовая шейная гривна-торк, штаны. Перед ней был сын мятежника — Ллин ап Карадок. Марцелла тотчас вспомнила, как разозлилась как-то раз на весенних играх, когда он пропустил мимо ушей ее вопрос о мятеже, который его отец поднял в Британии.
Почему меня тогда это так заинтересовало, задумалась Марцелла.
Провалившийся мятеж, тем более двадцать лет назад, наверняка не столь увлекательное событие, чем мятеж, что назревает прямо перед моим носом.
— Я бы не советовал тебе расхаживать по улицам, — Ллин счел своим долгом предупредить Диану. — До меня дошли слухи, что на Капитолии уже пролилась кровь.
— Верно, — подтвердила Диана и устало потерла затылок. — Вителлий пытался отречься, но не знал, как это делается. Ведь еще ни один император не отрекался от трона. Поэтому он предложил толпе свой кинжал и произнес речь. К сожалению, он был пьян, и все прошло не так, как ему хотелось.
Марцелла вспомнила, как император Вителлий собрался публично объявить об отречении. Вспомнила его улыбку и застывший в глазах ужас, когда толпа ревела, выкрикивая его имя.
— Итак, — заявил Вителлий, вернувшись во дворец, и развел в стороны мозолистые руки наездника. — Полагаю, что я по-прежнему император, потому что по-прежнему нужен народу.
На его одутловатом, красном лице читалась странная смесь ужаса и высокомерия.
Ллин сверлил Диану взглядом холодных, как сталь, глаз.
— Он мертв?
— Нет, — ответила Диана. — Однако его солдаты словно с цепи сорвались. Они отправились на поиски сына Веспасиана, однако нигде не смогли найти. Зато они нашли его ни в чем не повинного брата, и разорвали его на части.
Интересно, задалась мысленным вопросом Марцелла, переживет ли Домициан эти дни или нет? Согласно слухам, мезийские легионы, которые поддерживали его отца, стояли в десяти милях от города. И все же Домициану никогда не дождаться их прибытия, если он не отыщет безопасное место, где можно было бы спрятаться. Разумеется, я не намерена прятать его у себя под кроватью, если он вдруг приползет под мою дверь.
Диана пристальным взглядом окинула Ллина с ног до головы. От ее внимания не ускользнул длинный меч, что болтался возле одетой в штанину ноги.
— Я уверена, что тебе не полагается носить при себе такие вещи, — сказала она.
— Неужели? — Ллин пожал плечами.
— Это не римский меч. У него слишком длинное лезвие. Вполне возможно, что этот меч служил тебе еще в Британии. Хотя, по идее, как только вас с отцом схватили, вас тут же должны были разоружить.
— Мой тебе совет, госпожа, ступай лучше домой, — посоветовал ей Ллин, вновь пожимая плечами.
— И ты тоже.
— У меня здесь дело.
— Дело? Это что же за дело такое?
— Вителлий.
Диана улыбнулась холодной как лед улыбкой.
— Только не притворяйся, что он и есть тот император, который бросил тебя за решетку.
Ллин поставил ногу на придорожный камень. Вечерний ветер трепал его седеющие волосы.
— Я никогда не притворяюсь.
Они с Дианой буквально буравили друг друга глазами. Марцелла с интересом наблюдала за ними.
— Вителлий уже мертвец, даже если пока он все еще жив, — наконец произнесла Диана. — Какое тебе до него дело?
Ллин улыбнулся ей. Последние лучи солнца играли на бронзовом обруче у него на шее и браслетах, которые он получил давным-давно в качестве наград за сражения, выигранные у другого римского императора.
— Я тоже уже мертвец, госпожа.
— Зато до сих пор жива твоя способность затмевать собой других мужчин, — заметила Диана. — Жаль, что я познакомилась с тобой здесь, а не в Британии.
Ллин расхохотался над ее словами.
— Не думаю, чтобы из тебя получился воин.
— Зато ты сделал из меня колесничего. И на этом спасибо.
— Диана, надеюсь, ты уже наговорилась? — спросила Марцелла, удивленно выгнув брови. — Смотри, уже совсем темно. А ведь, кажется, именно ты не советовала мне ходить одной по темным улицам.
Диана повернулась, сделала знак преторианцам и зашагала прочь от Ллина. При этом ее синий плащ взметнулся вверх, и Ллин поймал ее обнаженную руку.
— Если со мной что-то случится, — сказал он ей. — Можешь взять себе моих лошадей.
— Тебе это непременно нужно? — Диана одарила его полным негодования взглядом. — Теперь мне решать, чего мне хочется больше всего — твоей безопасности или твоих лошадей. А лошади у тебя, должна сказать, отменные.
Ллин вновь улыбнулся и отпустил ее руку. В следующий миг он бесшумно растворился в толпе.
— Что это было? — поинтересовалась Марцелла, когда они поспешили дальше. — Только не говори мне, что он твой любовник. Потому что это настоящий дикарь.
— О боги, только не это, — с отвращением вздохнула Диана. — Давай лучше поспешим домой, пока в город не вошел враг.
(обратно)
Глава 20
Корнелия
Корнелия обожала Сатурналии. Это были ее любимые праздники.
Прежде всего, в доме шла уборка — чтобы к новому году он сиял чистотой. За ней следовал традиционный пир, во время которого рабы раз в году возлежали на пиршественных ложах, а их хозяева подавали им угощения. Пизон не слишком любил эту часть. По его мнению, в ней было нечто унизительное. А вот Корнелия не имела ничего против того, чтобы обойти ложи с графином вина, наливая его в кубки рабам, которые отвечали ей робкой улыбкой. Что дурного в том, что раз в год мы меняемся с ними местами, размышляла она.
Это учит нас скромности. За пиром следовало всеобщее веселье. Диана прожужжала всем уши по поводу гонок. Гай, как всегда неуклюже, возглавлял праздничные забавы, Лоллия, слегка перепив, то и дело выкрикивала: «Да здравствуют Сатурналии!». Марцелла как обычно со сдержанной улыбкой наблюдала за всеми остальными и их выходками. Сатурналии, праздник окончания года.
Впрочем, в этом году Корнелию терзали сомнения в том, что веселье состоится. Никаких подарков. Никаких забав и дурачеств. В этом году повсюду будет царить смерть.
— Госпожа! — схватила ее за руку служанка. В глазах девушки читался испуг. — Я слышала, что на Мильвиевом мосту вспыхнула потасовка.
— Ничуть в этом не сомневаюсь, Зоя, — Корнелия сделала пометку на восковой табличке и постаралась подавить тошноту, которая преследовала ее все утро. — Ты уже закончила пересчитывать постельное белье?
— Нет, но…
— Непременно пересчитай.
Никаких пиров, никаких игрищ, однако дом по случаю праздников все равно следует привести в порядок. К своей великой радости Корнелия обнаружила, что Туллия была не такой уж и хорошей хозяйкой, хотя и ходила по дому со связкой ключей и лично составляла список блюд.
Ее больше волновало, чтобы рабы не крали еду и не занимались любовью в пустых спальнях, нежели скопившаяся в углах пыль.
Корнелия подтолкнула дрожащую рабыню к шкафам, в которых хранились скатерти и постельное белье.
— Займись делом, Зоя. Сейчас не то время, чтобы маяться бездельем.
А сама направилась в кухню.
— Вы уже испекли недельный запас хлеба? — поинтересовалась она у рабов.
— Нет, но, госпожа, привратник говорит, будто он видел, как армия входила в город.
— Это не повод, чтобы ничего не делать. Хлеб должен быть испечен. — Ее взгляд упал на группку мальчишек-рабов, которые пытались что-то рассмотреть на улице сквозь отверстия в ставнях. — Этих тоже следует занять делом. Пусть начистят до блеска всю посуду.
— Слушаюсь, хозяйка.
Было видно, что рабы напуганы и не горят желанием работать, однако Корнелия всем до единого раздала поручения. Пусть занимаются делом, тогда у них будет меньше поводов для паники. И сама она тоже займется делом, тогда поводов для паники не будет и у нее самой. Куда приятнее придирчивым взглядом изучить мозаичный пол в атрии и решить, стоит ли заменить плитку или не стоит, чем постоянно думать о том, что император Вителлий утром послал во вражеский лагерь своих доверенных лиц с условиями мира. Куда приятнее пересчитывать скатерти и салфетки, делая заметки, что необходимо соткать в следующем году, чем постоянно думать о слухах, которыми полнился город — мол, враг стоит уже у городских ворот. Мезийские легионы отвергли условия мира и вот-вот войдут в город. Если уже не вошли.
— Они идут тремя колоннами, — запыхавшись, сообщила Марцелла несколько часов назад. — Главные силы наступают по Фламиниевой дороге через Мильвиев мост. Вторая колонна движется к Аврелианским воротам, а третья — по Саларийской дороге.
— Ты куда собралась? — поинтересовалась Корнелия у сестры. Щеки Марцеллы пылали румянцем, глаза блестели азартом. — Неужели ты осмелишься выйти из дома, когда вокруг царит безумие?
— Я хочу увидеть, что происходит.
— Марцелла! — но та уже вырвала руку и бросилась вон из дома. Со стороны могло показаться, будто она торопится на свидание с возлюбленным.
Точь-в-точь, как я сама, когда торопилась на свидание с Денсом, подумала Корнелия, глядя вслед сестре. Она молча вознесла молитву Юноне — или Минерве? — наверно, любому божество, которое согласилось бы ее выслушать, после чего принялась за уборку, успокаивая себя тем, что только войска Вителлия будут разбиты, кровопролитие прекратится. Не станут же легионы Веспасиана грабить столицу империи?
— Госпожа, — подал голос помощник управляющего. — Легионеры ломятся в город через Сады Азиатикуса. Нам нужно бежать…
— Мы даже не сдвинемся с места, — Корнелия даже не заметила, когда переняла у Друза его солдатские замашки. — Делай, что тебе велено. Здесь нам ничего не грозит.
Друз. Там, в трущобах он в безопасности. Самые ожесточенные схватки будут кипеть вокруг форума, полусожженного Капитолия, вокруг Марсова поля и городских ворот. В тот день, когда Гай с Туллией уехали из Рима, она отослала ему записку. Им все известно, писала она, после чего добавила:
прошу тебя, береги себя. На записку не отвечай и не пытайся меня найти.
— Где Зоя? — Корнелия посмотрела по сторонам в поисках горничной.
Помощник управляющего поспешил отвести взгляд.
— Не знаю, госпожа.
— Тогда найди кого-нибудь, кто бы убрал со стен паутину.
Ближе к полудню до Корнелии уже доносился отдаленный грохот и гул голосов. Она позвала носильщиков, чтобы отнести записку Лоллии. Та наверняка предпочтет пересидеть эту неразбериху здесь, нежели оставаться одной в огромном дедовском доме. Увы, носильщики все разом куда-то подевались, и записка так и осталась неотправленной. После полудня из дома исчезли все рабы мужского пола. А во второй половине дня у Корнелии не осталось нужного числа рабынь, чтобы перевернуть, как то обычно делалось раз в году, массивную перину.
— Ну что ж, — отрешенно произнесла она, тяжело опускаясь на кровать. — Нет, значит, нет.
— Хозяйка, — прошептала молоденькая рабыня. — Сражение уже кипит на форуме Юлия, рядом с Большим цирком. У храма Минервы.
— Вот как? — Корнелия с трудом подавила очередной приступ тошноты. — В таком случае, если хотите, можете бежать отсюда.
Повторять не потребовалось — рабов как ветром сдуло. Корнелия откинулась на перину и свернулась клубочком. Диана уехала из города вместе с отцом, но, может, Лоллия придет к ней сама, без приглашения. Ей наверняка страшно оставаться одной в огромной доме. А, может, вернется Марцелла. О, боги, ну почему она ушла, бросив ее здесь одну? Почему? В этот момент Корнелии больше всего на свете хотелось почувствовать руку сестры, услышать ее спокойный голос, чтобы она объяснила, почему ей не стоит переживать и почему вскоре все образуется.
Может, действительно, вскоре все образуется.
Внезапно внизу раздался стук — кто-то барабанил в дверь. Корнелия тотчас испуганно села в постели. Затем до нее донеслись тяжелые шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Не может быть, чтобы уличные бои уже докатились до Палатина, нет, не может быть! Она испуганно огляделась по сторонам, в тщетной надежде отыскать глазами вещь потяжелее, однако кто-то позвал ее: «Корнелия!». Услышав знакомый голос, она тотчас вскочила с постели и уже в следующее мгновение, еще до того, как он сам переступил порог ее спальни, бросилась в объятья к Друзу.
— О боги! — прошептал он, прижимая ее к себе. — Я думал, ты уехала из города. Кстати, а почему ты не уехала?
— А ты почему? — ответила вопросом на вопрос Корнелия, почти касаясь губами его грубой туники. — Я ведь велела тебе не приходить сюда.
— И ты надеялась, что я тебя послушаю.
— А если бы тебя кто-нибудь узнал? Приказа на твой арест никто не отменял.
— Сейчас у всех куда более важные заботы, нежели ловить мелких изменников, — Друз отстранился от нее и заглянул ей в глаза. — У тебя есть охрана? Или хотя бы вооруженные дубинками рабы?
— Бежали. Все до одного.
— Зря ты не последовала их примеру. На Марсовом поле рекой льется кровь. А у городских ворот идет настоящая резня. Все сейчас словно в норы стараются забиться назад в трущобы. Сражение вряд ли дойдет туда.
— Не могу, — покачала головой Корнелия. — Мой брат бежал из Рима, но моя сестра и кузины все остались в городе. И если им понадобится где-то искать убежища, они могут прийти ко мне.
— В таком случае придвиньте к двери какую-нибудь мебель помассивнее, завесьте окна, подоприте ворота чем-то тяжелым, бочками или ящиками.
Корнелия посмотрела ему в глаза.
— Друз…
— Что? — он убрал с глаз потные пряди. Одет он был в грубую тунику без рукавов, на поясе, как и в старые времена, висел короткий меч.
Корнелия улыбнулась.
— Ничего.
Что ж, пусть займется делом. Например, укрепит чем-нибудь входную дверь.
Он опустился рядом с ней на кровать и, взяв ее руки в свои, сплелся с ней пальцами.
— Твоя записка. Ты писала мне, что твоему брату все известно. Он по этой причине отказался взять тебя с собой? Честное слово, ему еще влетит за то, что он бросил сестру одну в пустом доме.
— Нет, он здесь не при чем, я сама отказалась уехать вместе с ним. Но ему действительно известно. Но не про тебя, а про то, что я… — Корнелия пожала плечами, — запятнала себя позором. Так он выразился.
— Прости меня, — начал было Друз, однако Корнелия прижала палец к его губам.
— Тсс. Я рада, что ты вернулся.
— Я не оставлю тебя до тех пор, пока не буду уверен, что тебе ничего не грозит, — он заключил ее в объятья, крепко прижимая к своей широкой, теплой груди.
Друз, неслышно шептали ее дрожащие губы,
когда я два месяца назад вернулась из Таррацины, у меня должны были начаться месячные, но они так и не начались. Друз, я никогда не пользовалась египетскими снадобьями Лоллии, потому что была уверена, что бесплодна. Друз, я была замужем восемь лет и так ни разу не забеременела. И вот теперь… я кажется, ношу под сердцем ребенка.
Она почувствовала рядом с собой холодок его меча, и так и не решилась произнести эти слова вслух. Поздно что-то говорить, поздно куда-то бежать. Вообще поздно что-либо делать в этот безумный день Сатурналий. Ей оставалось лишь ждать.
Диана
Накинув на голову покрывало, Диана перешла на бег. Она видела, как Ллин, подобно волку на охоте, устремился вперед. Ей явно было за ним не угнаться, однако она бежала довольно быстро. Несколько месяцев упражнений в управлении колесницей пошли ей явно на пользу. Она сейчас быстренько пробежится по улицам, после чего вернется к Лоллии. Та наверняка сидит в одиночестве в просторном атрии и, чтобы сохранить спокойствие, пытается занять себя вышивкой. Все утро они провели в молчаливом ожидании, моля богов, чтобы городские ворота выдержали натиск врага. Увы, к полудню Мильвиевы ворота были сломаны, а вслед за ними и все остальные. Легионеры Веспасиана ворвались в город.
Услышав шум, Лоллия испуганно оторвала глаза от вышивания. Лицо ее было бледным, как полотно. Казалось, еще миг, и она, как испуганная лошадь, сорвется с места.
— Давай наймем охрану, — предложила Диана. — И перейдем к Корнелии и Марцелле. Все-таки их дом чуть дальше, чем наш.
Увы, все стражники, которых Лоллия наняла для охраны дома, давно бежали.
То и дело озираясь по сторонам, Диана пыталась держаться переулков. В дверных проемах с каменными лицами стояли женщины, настороженно глядя на нее, а из-за их спин испуганно выглядывали дети. Как ни странно, таверна была открыта, и из нее окон доносилась пьяная брань. Затем ей попались лавки торговцев, некоторые из них тоже были открыты. На глазах у Дианы какая-то домохозяйка спокойно перебирала в корзине яблоки. Выбрав несколько без темных пятен, она протянула торговцу пару медных монет. Когда Диана резко остановилась рядом с женщиной, цеплявшийся за ее юбку маленький ребенок посмотрел на нее без всякого страха.
Они смогут пройти вдвоем, без всякой охраны, она и Лоллия. Главное, держаться подальше от форума. Да, нужно проследить, чтобы Лоллия не надела на себя драгоценностей.
Диана бросила взгляд на уходившую вниз по склону улицу в направлении сломанных ворот. Издали до нее доносился рев голосов. Его легко можно было бы принять за раскат грома, не знай она, что это звуки кровопролития.
Отсюда было недалеко до конюшни «красных». Диана колебалась лишь одно мгновение.
Я только посмотрю, как там лошади, и вернусь назад. Сейчас для нее это было самое главное. Глава их фракции бежал из города неделю назад, взяв с собой всех колесничих. Насчет «синих» Диана не была уверена. Неужели они настолько глупы, что решили, будто Вителлий в состоянии их защитить?
Стараясь идти переулками, она двинулась в обход форума. В иное время она ни за что не решилась нырнуть в этот лабиринт закоулков одна, но сегодня узенькие улочки были пусты, и лишь в щели ставней и дверей на нее смотрели чьи-то глаза. Мимо нее с набитыми мешками на плечах воровато прошмыгнули двое мужчин. Да еще безумный нищий притулился, что-то невнятно мыча, в дверном проеме. А кроме этого — мертвая тишина.
Диана вновь перешла на бег. Мои Четыре Ветра! Она только убедится, что с ними все в порядке, и сразу домой. Лоллия наверняка уже заждалась ее. К утру исход сражения будет ясен — так или иначе. Одни лишь боги ведают, где сейчас Вителлий. До нее дошли слухи, будто бы он укрылся в семейном особняке на Авентине и заперся изнутри. Но кто поручится, что это действительно так?
Упершись руками в колени и жадно хватая ртом воздух, она остановилась перед входом в конюшни «синих».
— Басс! — позвала она главу фракции «синих», однако ответом ей было лишь эхо. На соломе валялся обрывок «синих» поводьев, а рядом с поилкой лежало на боку одинокое ведро. Затем она увидела двух стражников — судя по форме, преторианцев, и затем, в самом конце прохода, еще несколько человеческих силуэтов. Увы, никто не обратил на нее внимания, никто не остановил. Это были случайно забредшие сюда люди, искавшие под крышей конюшни спасения от обезумевшей солдатни. Судя по всему, глава фракции «синих» тоже бежал, к тому же прихватив с собой лошадей. У Дианы отлегло от сердца. Значит, ее резвые Четыре Ветра в безопасности. Она подошла к первому стойлу, куда совсем недавно торжественно привели ее гнедых, и заглянула за перегородку. И тотчас окаменела от ужаса.
Там стоял ее быстроногий Зефир и глядел на нее спокойными, влажными глазами. Через другую перегородку высунул морду Нот. Еще пара шагов — и она увидела Эвра и Борея. Это двое тоже были здесь, а за ними целая череда гнедых чистокровок. Колесничие «синих» в панике бежали из города, бросив лошадей на произвол судьбы.
— Мерзавцы! — процедила сквозь стиснутые зубы Диана и резко развернувшись, бросилась к сараю, где хранилась упряжь. Еще несколько часов, и здесь не останется ни одной лошади. Их всех разберут себе опьяненные победой легионеры. Им не нужно объяснять, каких денег стоит хорошая беговая лошадь. Четверки разлучат и разведут по новым хозяевам, уже к утру продадут и перепродадут не один десяток раз, и им больше никогда не принять участие в забегах. Нет, она не допустит, чтобы эта печальная участь постигла ее любимцев!
— Эй, помоги мне! — крикнула она одному рабу, заметив, как он крадется к другому концу коридора. Но он лишь тупо посмотрел в ее сторону.
Диана нырнула в сарай за упряжью и вышла оттуда с парой уздечек на каждом плече. Первым делом она направилась к Борею.
— Пойдем со мной, только прошу тебя, не нужно кусаться, — принялась она успокаивать его, но уже в следующее мгновение замерла на месте и выронила из рук уздечку.
— Привет, красавица, — негромко произнес Вителлий. Он сидел в дальнем углу стойла, сложив руки на массивном животе. Его пурпурная тога была вся в навозе, и Вителлий, без всякой брезгливости, снимал с себя налипшие куски. У его ног валялся пустой мех из-под вина. В другом углу, переминаясь с ноги на ногу, застыл преторианец. Подозрительно посмотрев на Диану, он нервно потрогал свой меч. Однако Вителлий мотнул двойным подбородком, мол, все в порядке. Преторианец посторонился, и Диана вывела Борея из стойла.
— О боги, цезарь, — обратилась она к Вителлию, — что ты здесь делаешь?
— Я направлялся в свой семейный особняк на Авентинском холме, но… — Вителлий пожал плечами. — На улицах кипит сражение. Кстати, тебе об этом известно?
Диана подошла к нему на шаг ближе.
— Но почему ты не во дворце?
— Ах, ты вот о чем, — Вителлий поерзал в углу, и его тучные телеса заколыхались. — Мне там никогда не нравилось. Тем более что все, кто там был, уже приготовились бежать. Ты думала, мне ничего неизвестно? Алиен меня предал, а теперь то же самое собралась сделать моя личная гвардия. А ведь Алиен мне нравился…
Вителлий что-то добавил себе под нос, затем протянул руку и погладил Борея по крепкой ноге. Борей тотчас затоптался на месте, но лягаться не стал.
— Вот лошади нас не предают, — задумчиво произнес император.
— Зато люди их бросили, — Диана подняла уздечку, которую выронила от удивления при виде Вителлия. — Глава фракции, он их бросил, а сам сбежал.
— Да, я положил им в ясли сена, когда пришел сюда. Они были голодными.
Диана повертела в руках уздечку. Вителлий подобрал мех с вином и, выдавив себе в рот последние капли, снова отбросил его в сторону. Глаза его были налиты кровью и бегали по сторонам, однако пышные телеса оставались неподвижны.
— Мне нужно бежать, цезарь, — сказала Диана. — Ты можешь спрятаться, может даже, тебе удастся выскользнуть из города. Или же отречься от трона в пользу Веспасиана.
— Я пытался, но из этого ничего не вышло, — Вителлий подобрал соломинку и принялся нервно вертеть ее в руках. — В любом случае, бегство — дело недостойное императора.
— А прятаться в конюшне — достойное? — Диана невольно почувствовала отвращение. Гальба был стар, однако умер, отдавая приказы своей гвардии. Отон, как только понял, что проиграл, собственноручно, и главное, с достоинством, лишил себя жизни. — Император встречает врага лицом к лицу!
Вителлий устало посмотрел ей в глаза.
— Какой из меня император!
Ответа на его слова у нее не нашлось.
— Я когда-нибудь рассказывал тебе, что когда-то чистил лошадей в этой конюшне? — Вителлий тяжело оторвал свою тушу от соломы и протянул руки. Борей тотчас подошел к нему и принялся тереться носом о его грубые ладони в надежде на угощение. — О боги! — воскликнул Вителлий и покачал головой. — Как я люблю лошадей! Особенно, моих «синих»!
Диана отвернулась.
— Забирай их, — сказал Вителлий и на прощанье похлопал Борея по загривку. — Зря я тогда отнял их у тебя. На тех гонках, когда ты управляла колесницей, на последнем отрезке казалось, будто они оторвались от земли и летят. Какое чудное было зрелище! Такое стоит видеть. Для меня они этого не сделают. А может, и вообще ни для кого.
— Цезарь…
— Забирай их, — Вителлий грубо оттолкнул ее и, собрав складки пурпурной тоги, направился вон из конюшен. — Там меня уже ждет толпа, и когда она начнет терзать меня на части, я хочу быть пьяным.
— Но, цезарь! — Диана бросилась за ним вдогонку, тщетно пытаясь найти слова, способные его приободрить, однако в следующее мгновение в конюшню ворвался какой-то высокий человек.
— Эй, убирайся отсюда! — крикнул ему один из немногих, оставшихся верными до конца преторианцев и для пущей убедительности вытащил меч. Увы, из ножен бритта моментально был извлечен длинный меч, а в следующую секунду, он вонзил его преторианцу в шею. Преторианец на мгновение широко раскрыв глаза, будто пытаясь понять, что случилось, а потом, словно тряпичная кукла, осел на пол конюшни. Вителлий, испуганно раскрыв рот, застыл на месте. Ллин Карадок, не говоря ни слова, стряхнул с кончика меча мертвое тело.
— Отойди от императора! — крикнул второй стражник и с угрожающим видом двинулся на Ллина, однако британец был изворотлив, как змея. На мгновение отступив назад, он уже в следующий миг рассек преторианцу лицо. Брызнула кровь, заливая стражнику глаза. Увидев это зрелище, третий, он же последний преторианец, который до этого испуганно жался в темном углу, и еще несколько придворных, с ужасом выскочили из своих углов и со всех ног бросились прочь.
— Ллин! — крикнула Диана. — Неужели ты?..
Ллин тем временем прикончил второго стражника и двинулся дальше. Взгляд его был прикован к Вителлию. Глаза его горели яростью, несоизмеримой с жалким, толстым, трясущимся от страха Вителлием и его былыми грешками. Этой ярости хватило бы на весь Рим. При виде британца Вителлий понял, что любые слова о пощаде бессильны.
— Давай, делай свое дело, — произнес он, — только поживее.
— Цезарь! — взмолилась Диана.
— Оставь меня! — взревел Вителлий, и в этот миг к нему вернулось императорское величие.
Не выпуская из рук уздечки, Диана бросилась на колени. Грубой рукой Вителлий погладил ей волосы. Когда же она подняла глаза, то Ллин за шею уже тащил его по проходу.
— Поскорей уходи отсюда, — крикнул он ей, не оглядываясь. Вскоре обе мужских фигуры — высокая и толстая — скрылись из вида, исчезнув в последнем пустом стойле. Диана еще пару секунд смотрела им вслед. Крики беснующейся толпы раздавались уже совсем рядом, и это привело ее в чувство.
Она встала на ноги и, подойдя к Борею, надела на него уздечку, после чего то же самое проделала с остальными тремя скакунами. Когда все было готово, повела их, чтобы запрячь в колесницу. Сверкающая позолотой и синей краской беговая колесница ей явно не подходила. На ее счастье, в дальнем конце сарая стояла скромная тренировочная колесница. В нее она и впрягла своих быстроногих скакунов. Еще ни разу Диана не делала этого с такой быстротой. На прощанье она еще пару раз бросила взгляд в сторону последнего стойла, но оттуда так никто и не вышел. Натруженной рукой Диана убрала от глаз прядь волос.
Ее Четыре Ветра были готовы — рыли копытами землю, раздували ноздри. Такое с ними случалось всегда, когда они предчувствовали, что вот-вот вырвутся на свободу. Увы, сегодня это будет совсем другой забег, мои дорогие, мысленно обратилась к ним Диана, беря в руки хлыст и поднимаясь на колесницу. Сегодня не будет дождя из лепестков роз, не будет никаких пальмовых ветвей, Лишь реки крови. Щелкнув кнутом, она, вместо того, чтобы вывести их на арену, направила через широкие ворота на улицу. Увы, похоже, она опоздала. Там ее встретили огни факелов. Плотной, сверкающей доспехами массой, солдаты двигались в сторону императорского дворца. От этой реки человеческих тел ответвлялась другая, которая текла в сторону богатых домов на Палатинском холме. Все, что Диана могла, это пустить свою четверку в галоп. Ничего другого ей не оставалось — только бегство.
— Что ты делаешь! — в ужасе крикнула Лоллия.
— Залезай! — Диана свернула с подъездной дорожки и, прямо по клумбам зимних лилий, погнала четверку в дверям дома. Колесные оси скрипнули, задев о косяк, однако колесница въехала внутрь. — Оставаться здесь дальше опасно! Сражение идет уже совсем рядом. Я едва успела обогнать толпы.
Второй раз уговаривать Лоллию ей не пришлось. Схватив под мышку узелок, та торопливо запрыгнула на колесницу.
— Ты с ума сошла. Ты ходила за своими гнедыми!
— И правильно сделала! Потому что они нам еще пригодятся. Только благодаря им мы сможем вовремя добраться до Корнелии и Марцеллы. — Диана ослабила поводья и цокнула языком. Круша колесами и копытами бесценную мозаику пола, лошади тотчас взяли с места.
— Как ты намерена разворачиваться? Здесь слишком мало места…
— Ничего, что-нибудь придумаем, — Диана наклонилась вперед, сжимая поводья. От напряжения на руках выступили жилы. Тем не менее ей удалось развернуть колесницу и вывести лошадей на улицу через входные двери. — Держись крепче.
Увидев свет факелов у подножья холма, Лоллия расплакалась. Неожиданно вокруг них возникло море человеческих тел. В воздухе стоял рев голосов, повсюду полыхали факелы.
— Эй, мои хорошие, притормозите!
Однако стоило колеснице выехать за ворота, как толпа бросилась в разные стороны, и Диана по опустевшей улице погнала четверку вперед.
— О боги, они явились сюда, чтобы грабить! — В ужасе воскликнула Лоллия, оглядываясь назад. В воротах дома ее деда уже полыхали факелы. — Почему их командир не остановит их? Ведь это Рим, а не какая-то варварская крепость! Неужели они посмеют учинить здесь разгром?
— Возможно, их командир не в состоянии их остановить. А может, им все равно, Рим это или нет.
Диана пустила четверку рысью. Стук шестнадцати лошадиных копыт о мостовую гулким эхом разлетался по пустынной улице. Правда, сестрам она не казалась пустынной. День клонился к вечеру, тени удлинялись, и Диана знала, кто притаился в них. Лоллия испуганно уцепилась за борт колесницы, клацая зубами на каждом ухабе. Впрочем, она не жаловалась.
— Ты великолепна! — похвалила она сестру, дрожа всем телом. — Ты безумна и великолепна одновременно! И главное, ты моя спасительница!
Впрочем, Диана ее почти не слушала. Все ее внимание в эти мгновения было сосредоточено на поводьях. Лошади были напуганы — да что там! Близки к панике, и когда они проехали мимо Римского форума, Диана поняла, почему.
— О боги! — простонала Диана. Мостовая, словно толстым ковром, была покрыта массой изуродованных, изрубленных едва ли не на куски мертвых тел, между которыми темнели лужи крови. На ступенях храмов было заметно движение — темные тени то исчезали внутри, то выбегали наружу. На ступенях храма Юпитера, спотыкаясь и пошатываясь под тяжестью массивной серебряной урны, показался легионер в шлеме с пышным плюмажем. Позади него обыкновенный лавочник, взяв пример с солдатни, катил тачку с верхом нагруженную награбленным добром. Бездомная собака лакала смешанную с кровью воду в придорожной канаве. Почуяв кровь, лошади нервно затрясли головами. Диана направила колесницу за угол, в темный переулок, и залитый кровью форум остался позади.
— Быстрее! — взмолилась Лоллия и потянула сестру за руку. — Ты можешь ехать быстрее?
Из таверны с пьяными криками выскочили два солдата. Диана щелкнула над их головами кнутом, и они отскочили в сторону. Еще один переулок, затем еще и еще.
— Почему мы так долго едем? — простонала Лоллия.
— Потому что прямой дорогой ехать небезопасно. Я видела, как солдаты выходили из дворца.
— Из дворца? Но император…
— Вителлий мертв, — хмуро ответила Диана.
Мимо них пролетали дома, прилепившиеся к Палатинскому холму. Диана увидела, как из дверей одного дома, с ворохом платьев в руках выбежала женщина-патрицианка, а следом за ней, с ларцом, спасая драгоценности, раб. Где-то кричал какой-то мужчина. Лоллия едва не вывалилась из колесницы на резком повороте. Еще один квартал, и они подкатили к семейному особняку. Зефир, выбивая копытами искры, взвился на дыбы. Нот нервно мотал головой, словно хотел освободиться от поводьев.
— Слезай! — крикнула Лоллии Диана. — Ступай в дом и приведи Корнелию и Марцеллу. Я не могу оставить лошадей!
— Корнелию и Марцеллу, но ведь мы…
— Мы не можем здесь оставаться. Это опасно.
За их спинами уже слышался гул голосов. Лоллия спрыгнула с колесницы, споткнулась о розовую мраморную ступеньку и забарабанила в дверь.
— Корнелия! Корнелия!
Дверь распахнулась, и ее взору предстал легионер с мечом наготове. Лицо его было искажено яростью. Лоллия испуганно закричала. Однако в следующий миг рядом с солдатом, возникла ее кузина. Волосы ее не были убраны в прическу и растрепались по плечам.
— Нет, Лоллия, нет, — Корнелия оттолкнула легионера. — Он со мной.
— Корнелия, прыгай к нам, — Лоллия потащила ее вслед за собой к колеснице. Диана едва удерживала обезумевших лошадей на месте. — Нам нужно бежать. Где Марцелла?
— Марцеллы дома нет.
— Нет? О боги, Марцелла…
— У нас нет времени, — рявкнул солдат и засунул короткий меч обратно в ножны. Взгляд его упал на взмыленную четверку. — Ты сможешь их удержать? — спросил он Диану.
Та кивнула.
— Смогу.
Как долго она сможет удерживать их — это уже другой вопрос. Ее натруженные ладони были покрыты коркой мозолей. А вот перчаток сегодня на ней не было, и на руках уже появились первые волдыри.
— Поезжай к Аврелианским воротам! — велел ей солдат. — По идее там сейчас никого не должно быть. Если солдаты двинулись во дворец за императором, то основное кровопролитие произойдет именно там. — Схватив Корнелию за руку, он подтащил ее к колеснице. — Залезай, красавица.
— Без тебя я никуда не поеду. Ты тоже должен ехать со мной, — Корнелия вцепилась в него, но солдат оторвал ее от себя.
— Я там не помещусь. — Колесница была рассчитана лишь на одного возницу. Даже три женщины с трудом помещались в ней, не говоря уже о крупном мужчине. — Залезай.
— Нет, — расплакалась Корнелия. Увы, рев голосов звучал уже совсем рядом, и с соседней улицы доносился треск — там явно пытались взять штурмом ворота.
— Давай живее! — поторопила ее Диана. Ей стоило немалых трудов удерживать четверку на месте, а ее ладони горели огнем. Кони рыли землю копытами, мотали головами, испуганно ржали.
— Корнелия! — крикнула Лоллия, которая уже карабкалась назад в колесницу. — Залезай!
Корнелия отрицательно покачала головой, не желая расставаться со своим солдатом. Он взял в ладони ее лицо и слегка ее встряхнул.
— Не волнуйся, я уйду через заднюю калитку, а потом смешаюсь с толпой. Солдаты подумают, что я один из них. Тебе же это сделать не удастся. Залезай, кому говорят!
С этими словами он подсадил ее на колесницу, и не успела она поставить ноги на платформу, как гнедые взяли с места в карьер и как безумные понеслись по улице. Корнелия на мгновение оглянулась. По ее бледному как мел лицу катились слезы. Диана заметила, что солдат с мечом в руке бежит по улице.
— Марцелла! — крикнула тем временем Лоллия. — Где Марцелла?
Но Корнелия лишь отрицательно покачала головой — мол, ничего не знаю. Марцелла исчезла.
Гнедые сбежали с Палатинского холма и на полном скаку понеслись в сторону Марсова поля и Аврелианских ворот. Казалось, они летят на крыльях. Дома и улицы, по которым катила колесница, слились в одно смазанное пятно. Рев голосов раздавался все громче, а в следующий миг взору беглянок предстало жуткое зрелище.
— О боги! — ужаснула Лоллия и схватилась за деревянный крестик, прощальный подарок ее раба.
— Юнона всемилостивая! — ахнула Корнелия и, приготовившись к собственной смерти, принялась перечислять имена предков.
Марсова поля больше не было. Обычно патриции прогуливались там, желая, как говорится, и на других посмотреть и себя показать. Юные щеголи хвастались здесь своими лошадями. Плебеи приходили сюда в надежде увидеть знаменитостей, и вот теперь ничего этого здесь больше не было. Марсово поле исчезло, затопленное морем крови, заваленное грудами мертвых тел. Солдаты Веспасиана пытались ворваться в город через Аврелианские ворота, однако последние из оставшихся верными Вителлию солдат отбивали атаку за атакой. Диана легко распознала следы этих атак. Между телами убитых и раненых в поисках наживы уже суетились мародеры, а вокруг площади стояли зеваки и, словно на конных бегах, делали ставки. Храм был охвачен пламенем. В вечернее небо, извиваясь, как будто в корчах, рвались красные языки огня и столбы дыма, а на земле, в отблесках этого дьявольского огня, посреди безумной пляски теней корчились люди. Легионеры Веспасиана не скрывали своего ликования: с радостными воплями они тащили мешки с награбленным, размахивали мехами с вином, потрясали окровавленными мечами. На глазах у Дианы какой-то человек, подбежав к солдатам и указав на какую-то дверь, крикнул:
— Вителлиан! Вителлиан!
Легионеры тотчас бросились туда и попытались ногами выбить дверь. Еще мгновение — и изнутри донесся истошный женский крик. Плебей положил в карман пару медяков и бросился к другой группе солдат, чтобы указать им на очередной дом, где наверняка можно поживиться.
— Придется ехать прямо по полю, — сказала Диана. — Другого пути нет. — Она щелкнула кнутом, и четверка устремилась прямо в гущу окружавшего их безумия.
Какой-то пьяный легионер посмотрел в их сторону, однако, когда он протянул к ним руку, они уже неслись дальше. Затем рядом с ними вскрикнул какой-то раненый, чья нога попала под их колесо. Два плебея тотчас испуганно бросились наутек. Легионер в шлеме с плюмажем поднял копье, приказывая им остановиться, но колесница в мгновение ока пронеслась мима. Напуганные кровью, ее Четыре Ветра неслись, как безумные, плотно прижав к голове уши, а кровь, что текла в их собственных жилах, подгоняла их, заставляя бежать все быстрее и быстрее. Когда Диана попыталась придержать их, они рывком едва не сбросили ее через перила платформы. Впереди, с мерзкими ухмылками на лицах и мечами наголо, маячила группа легионеров, однако Диана ударила одного из них кнутом. Легионер с криком отшатнулся назад. На его лице остался кровавый след. Но уже в следующее мгновение и он, и его приятели остались позади. Следующей вехой на пути беглянок стал фонтан, рядом с которым около десятка раненых со стонами корчились в муках, пытаясь зачерпнуть воды. Еще один миг — и четверка уже неслась дальше. Где-то впереди уже виднелся силуэт Аврелианских ворот, за которыми начиналась дорога, а где-то дальше простирался мир, который еще не сошел с ума.
— Марцелла! — выкрикнула Корнелия. — Марцелла! — схватив кузину за руку, она указала куда-то пальцем. Диана подняла взгляд, в надежде увидеть кузину.
Она мертва, мертва, пронеслось в ее голове. Но нет, Марцелла была жива, и одни только боги ведают, каким чудом Корнелия сумела заметить ее посреди царившего вокруг безумия. Их кузина стояла, одетая в голубое платье, рядом с алтарем Марса. Волосы ее растрепались, а вот лицо оставалось спокойно — этакая равнодушная ледяная колонна, наблюдающая за тем, как вокруг рекой льется кровь. Вокруг нее сгрудились несколько плебеев. Они криками подбадривали сражающихся, делали ставки, бросали монеты. И лишь Марцелла оставалась неподвижна
как статуя.
— Марцелла! — добавила свой голос к голосу кузины Лоллия, и Марцелла их услышала и повернула голову в их сторону. На мгновение взору Дианы предстало ее невозмутимое лицо, ее проницательный взгляд, и уже в следующее мгновение Марцелла бежала к их колеснице.
— Диана, придержи лошадей! Останови их, если можешь!
— Не могу, — ответила сквозь стиснутые зубы Диана. Из лопнувших волдырей на ладонях уже сочилась кровь. Тем не менее она из последних сил натянула поводья. Взмыленная четверка, дружно взбрыкнув и издав крик боли и ужаса, под стать раненым у фонтана, на мгновение замерла на месте. Колесница дала опасный крен, грозя перевернуться, и все трое стоявших на ней женщин испуганно вцепились в перила. Впрочем, уже в следующее мгновение колесница вновь встала на оба колеса и лошади рывком устремились вперед. Увы, на этот раз они вырвали поводья из окровавленных ладоней Дианы. Теперь она была бессильна их не то что остановить, но даже хоть как-то умерить их прыть. Марцелла почти добежала до колесницы, и Корнелия с Лоллией протянули ей руки и помогли запрыгнуть на платформу. Тем временем четверка перешла на безумный галоп. Какой-то легионер попытался схватить Борея под уздцы, однако тотчас с криком боли отшатнулся прочь — это Борей на всем скаку его укусил — впрочем, нет! Не просто укусил, а оторвал ему ухо и половину щеки. Диана на ощупь пыталась вновь взять в окровавленные руки поводья. Казалось, что каждый ее палец перерезан острой пилой. При этой попытке она выронила кнут. Зато теперь с ними была Марцелла — зажатая между Лоллией и Корнелией, она стояла, вцепившись в перила платформы, на которой едва хватало места всем четверым, и Марцелла в любой момент могла свалиться на землю. Впрочем, глаза ее блестели азартом.
— Куда мы едем? — спросила она, пытаясь перекричать шум. Увы, Диана пыталась совладать с лошадьми и потому ничего не ответила.
Аврелианские ворота были открыты, правда, в них застыли с полдюжины стражников. Заслышав стук копыт, они перегодили дорогу и даже выставили вперед копья, пытаясь остановить колесницу, однако Четыре Ветра как на крыльях пронеслись прямо по ним. Диана ощутила, как колеса подмяли под себя человеческие тела. Колесницу тряхнуло, и Корнелия едва не свалилась с платформы. На ее счастье Лоллия успела обхватить ее за талию, не дав упасть. Четыре Корнелии стояли, вцепившись в друг дружку на крохотной платформе беговой колесницы, а взмыленные кони тем временем несли их дальше. Первой вверх посмотрела Диана. Подняв глаза к небу, она поняла, что давно наступила ночь, а когда оглянулась, то увидела, что город остался далеко позади.
(обратно)
Глава 21
— Где мы? Что это за место? — сонно спросила на рассвете Марцелла, глядя на пыльные потолочные балки у себя над головой.
— Его хозяин Ллин ап Карадок, — ответила Диана, зевая и потягиваясь. Затем обвела взглядом охапки сена, крюки, на которые вешают упряжь, стойла в несколько рядов. — Обычно здесь у него есть управляющий и несколько рабов, но, похоже, они все сбежали… Но я не думаю, что Ллин станет возражать, что мы воспользуется его конюшней.
— А нельзя ли нам воспользоваться кроватью в его доме? — Марцелла поежилась от утреннего холода и, чтобы погреться, принялась энергично растирать руки.
— О нет, бритты серьезно относятся к приему гостей. К ним в дом просто так не войдешь.
— Какие странные вещи, однако тебе известны, Диана.
И все же, подумала Марцелла, сеновал лучше, чем чистое поле. Даже если ради него им пришлось трястись в колеснице почти полночи. Дом Ллина располагался не слишком далеко от городских стен, объяснила Диана в какой-то момент, когда дорога начала казаться им едва ли не бесконечной. Просто до него довольно далеко от Аврелианских ворот, из которых они выехали, спасаясь из города. Уже давно перевалило за полночь, когда Диана остановила четверку во дворе незнакомого сельского дома. Марцелла была только счастлива наконец вслед за Корнелией и Лоллией сойти с ненадежной колесницы. Шатаясь от пережитого напряжения и усталости, она добрела до амбара и, не проронив ни единого слова, свалилась на охапки сена.
Лоллия все еще спала, свернувшись клубочком в ворохе сене. В эти минуты на вид ей было не больше лет, чем Флавии. А вот Корнелия уже просыпалась. Марцелла снова зевнула. Диана положила руки на поясницу и потянулась. В следующее мгновение ее лицо исказила гримаса боли.
— О боги, еще ни разу в жизни мне не было так больно! — простонала она. — Даже после гонки в Большом цирке.
В призрачном утреннем свете она подняла руку, и Марцелла увидела ее ладони. Из лопнувших волдырей сочилась кровь и коричневой коркой запекалась на запястьях.
— Смотрю, лошади живого места не оставили на твоих руках.
— Я на них не в обиде, — Диана ласкового потянула старого жеребца за печально опущенное ухо. — Они летели, как боги.
У четверки гнедых вид был такой же измученный, как и у Дианы. По-прежнему запряженные в колесницу, они стояли, понурив головы. Они полночи летели бешеным галопом, а когда устали, то перешли на рысь. Когда же Диана подъехала к сараю, она решила не распрягать их.
— Что если сюда кто-то нагрянет? Вдруг мы будем вынуждены уносить отсюда ноги?
Последнее, что увидела Марцелла, прежде чем провалиться в сон, это Диану. Кузина лежала, свернувшись клубочком у ног жеребца, нежно поглаживая опущенный к ее плечу лошадиный нос. Впрочем, взгляд ее был устремлен на дорогу — ведь кто знает, откуда и когда можно ждать новую опасность.
— Думаю, сейчас с них можно снять упряжь, — Марцелла вновь потерла озябшие руки. — Вряд ли в такую рань сюда нагрянут мародеры. Сейчас они наверняка отсыпаются после вчерашней пьянки и стерегут награбленное. Тебе помочь? — Марцелла указала на лошадей.
— Принеси им попить. Во дворе есть колодец.
Марцелла в два приема притащила четыре ведра воды. Диана тем временем начала снимать с лошадей упряжь. Наконец с головы первого жеребца соскользнула уздечка, и конь, ощутив свободу, тряхнул головой. Диана прошептала ему на ухо какие-то глупые нежности.
— Диана, ты действительно была великолепна, — Марцелла поднесла к лошадиной морде ведро с водой. — Лоллия говорит, что ты спасла ее и Корнелию. И я ничуть в этом не сомневаюсь.
— Вообще-то самая большая опасность грозила тебе, — Диана отстегнула с груди старого жеребца бляху и обернулась к Марцелле. — Кстати, а что ты забыла на Марсовом поле?
— Хотела посмотреть, что там произойдет, — ответила та, пожимая плечами.
— Но ведь это могло стоить тебе жизни.
— Вряд ли, — улыбнулась Марцелла. — Ты же меня спасла.
— Спасла, — согласилась Диана и погладила шелковистый нос второго жеребца, который жадно опустил голову к воде. — Мы все могли погибнуть, если бы Вителлий не разрешил мне забрать мою четверку.
— Вителлий?
— Он прятался в конюшне «синих», — пояснила Диана и отнесла в сторону ворох упряжи. — Я разговаривала с ним. Он…
— Что? — навострила уши Марцелла. — Немедленно рассказывай, как это было!
Диана посмотрела на кузину.
— Ничего. Он просто отдал мне лошадей. Думаю, его уже нет в живых.
— Ну почему ты такая скрытная? Из тебя даже слова не вытянешь! — сокрушенно воскликнула Марцелла.
— Потому что мне нечего тебе рассказать, — Диана накинула на шею двум жеребцам веревки и повела за собой в стойло. Гнедые послушно следовали за ней. Марцелла театрально закатила глаза. К тому времени, когда Диана распрягла и поставила всех четверых в стойло, угостила сеном и сказала каждому пару ласковых слов, Лоллия и Корнелия уже проснулись, и в их присутствии Марцелла не стала донимать кузину дальнейшими расспросами.
В кои веки ей известно что-то интересное, размышляла, сгорая от нетерпения, Марцелла,
а она предпочитает держать язык за зубами!
— О боги, когда ты только нашла время, чтобы собрать вещи? — удивилась Корнелия, глядя, как Лоллия роется в своем узелке. Впрочем, уже в следующий момент та с торжествующим видом извлекла из него хлеб и сыр.
— Просто я подумала, что если мне и суждено умереть, то только не от голода, — с этими словами Лоллия принялась нарезать на четверых хлеб и сыр. — То есть я, как истинная патрицианка, была готова принять смерть, но потом решила, что если вместо этого мне придется бежать, то нужно предусмотреть полезные мелочи — захватить с собой съестного, немного денег и пару-тройку теплых накидок.
С этими словами она, словно фокусник, извлекла из узелка деньги, плащи и еще кое-что из еды.
Корнелия рассмеялась, однако смех ее тотчас оборвался, стоило ей бросить взгляд в двери сарая, открытые в сторону городу.
— Беспокоишься за своего солдата? — спросила Диана, которая в эти минуты занималась поисками чистой тряпицы, чтобы перевязать руки.
— Солдата? — навострила уши Лоллия, что-то искавшая на самом дне узелка.
— А ты не в курсе, что у нашей Корнелии есть любовник? — Марцелла расстелила на сене плащ, чтобы сгрести с него крошки хлеба. — Узнав об этом, Туллия орала так, что ее крик был слышен, наверно, даже в Галлии.
— Разумеется, мне это было известно, еще до тебя! Значит, это его видели у нее дома. Кто же еще это мог быть! Скажи, Корнелия, он пришел защитить тебя? О боги, как это трогательно! Кто он такой? Дорогая, ты непременно должна мне все рассказать.
— Это центурион Друз Семпроний Денс, — ответила Корнелия, отломив себе крошечный кусочек сыра. Даже если наша Корнелия голодна, как волк, с улыбкой подумала Марцелла, она никогда не станет жадно набрасываться на пищу. — Бывший преторианец.
— Так вот откуда ты его знаешь! — сделала вывод Лоллия. — Он твой бывший телохранитель! Скажу честно, мне всегда казалось, что он к тебе неравнодушен.
— И давно между вами связь? — поинтересовалась Марцелла. — Ты мне нечего о нем не рассказывала.
— Месяца четыре, — спокойно ответила Корнелия. — И это все, что я вам про него скажу.
— Как ты считаешь, мы сможем сегодня вернуться в город? — Марцелла переломила пополам кусок хлеба, задумчиво глядя на дорогу. — Подумать только, что там сегодня творится!
— Если тебя мучает любопытство, можешь вернуться туда одна, — ответила Диана, заматывая тряпицей руку. — Мы останемся здесь еще на несколько дней, пока там не станет спокойнее.
— Кто ты такая, чтобы мне указывать? — неожиданно ощетинилась Марцелла.
Диана ответила ей спокойным взглядом.
— Я единственная, кто умеет управлять колесницей, вот кто я такая. Или ты собралась добраться до Рима пешком? Лошади тоже останутся здесь. Так что если мы и вернемся в город, то только вчетвером, когда это будет безопасно.
Марцелла была готова испепелить ее взглядом. Корнелия тоже была не в восторге — она все еще переживала за своего солдата. А вот Лоллия с довольным вздохом томно откинулась на сено.
— Лично я не прочь еще несколько ночей поспать в ароматном сене! Боги, какое это блаженство, даже если оно слегка колючее. Более того, я бы даже не отказалась, если бы мной сейчас овладел какой-нибудь солдат, при условии, что он не стал бы меня будить. Когда Фабий исполнял супружеский долг, я даже не просыпалась. А это говорит о многом. О боги, как я надеюсь, что его больше нет в живых. Передайте мне еще кусочек сыра!
Весь следующий день все четверо отсыпались. Лоллия познакомилась с безымянной черной собачонкой, что наведывалась к ним в сарай, а также с четверкой гнедых, что спасли им жизнь. Даже Борей и тот не устоял перед ее нежным воркованьем и позволил ей заплести себе гриву косичками.
— У меня такое впечатление, — заметила Марцелла, — что перед чарами Лоллии не способен устоять ни один самец.
Сама она проводила большую часть времени, вглядываясь в дорогу, ведущую в направлении города, и пыталась мысленно представить себе, что там сейчас происходит.
Веспасиан уже император? Вителлий его пленник? Или он уже мертв?
Хозяин виллы вернулся лишь ближе к вечеру, когда уже начало темнеть. Марцелла заметила его первой, так как стояла в дверях сарая — одинокую фигуру, шагавшую вверх по холму в их направлении. Она тотчас вся напряглась, однако быстро поняла, что с ним никого нет. В руке он держал меч, однако шагал не спеша, не похоже, чтобы он собирался убивать или грабить.
— Диана! — крикнула кузине Марцелла. — Это случайно не наш хозяин?
Диана тотчас соскочила с забора, на котором сидела, наблюдая за тем, как четверка гнедых щиплет в открытом загоне травку. Ее светлые волосы ярко блестели в лучах заходящего солнца. Бросив быстрый взгляд вниз по склону холма, она развернулась и со всех ног бросилась навстречу приближающейся фигуре. Она встретила Ллина уже почти у самых ворот, и Марцелла, даже не напрягая слуха, услышала их разговор.
— Я боялась, что ты уже не вернешься.
— Как видишь, я вернулся, — он окинул ее пристальным взглядом. В какой-то момент Марцелле показалось, что он сейчас, словно лошади, начнет ощупывать Диане ноги. — Смотрю, ты не пострадала.
— Я и три моих кузины, — Диана помахала рукой в сторону сарая, и Марцелла помахала ей в ответ и шагнула внутрь, всем своим видом показывая, что не намерена их подслушивать. — Мы переночевали в твоем сарае. На тот момент это было самое безопасное место. Мы не стали входить в дом. Единственное, что я у тебя позаимствовала, так это старую тунику, — добавила она, щупая грубую ткань. Туника доходила ей до икр. Диана перевязала ее в талии обрывком поводьев. — Мое платье было все в крови, а она висела на гвозде в сарае. И я подумала, что ничего страшного, если я ею воспользуюсь. Тем самым я не нарушу законов гостеприимства.
— Верно, — согласился Ллин и добавил: — А теперь я приглашаю вас четверых ко мне в дом. Хотя, если вы хотите, вы можете вернуться в город.
— Почему? — удивилась Диана и наклонила голову. Непослушный локон изогнулся у нее на лбу подобно крошечному полумесяцу. Диана-охотница во всей своей красе, подумала про себя Марцелла. — Там уже спокойно?
— Да. Легионеры утихомирились. — К ним, виляя хвостом, подошла черная собачонка, и Ллин нежно почесал ее за ухом. — В самое ближайшее время состоится внеочередное заседание сената, которое наверняка объявит Веспасиана новым императором. В императорском дворце уже чествуют его сына Домициана.
Значит, Домициан жив, подумала Марцелла с легким удивлением. А сенат готов возложить на Веспасиана императорский венец. Марцелла навострила уши, мысленно умоляя бритта, чтобы тот говорил дальше.
— Очередной император, — Диана положила замотанные тряпками руки на поясницу и потянулась. — Впрочем, император всегда найдется, независимо от того, сколько раз ты не брал бы дела в свои руки. Надеюсь, ты это сам понимаешь.
Ллин улыбнулся и закинул меч на плечо — и в этот момент Марцелла заметила, что лезвие темное.
— Оно того не стоило, — добавила Диана. — Надеюсь, ты сам это понял.
— А если не понял?
— Тогда почему же?
Ллин ответил не сразу. Он молча стоял перед ней, трогая пальцами рукоятку меча.
— Я прожил в Риме восемнадцать лет, — произнес он наконец. — И каждое утро я просыпался с мыслью о том, что я снова дома, на родном Альбионе. Иногда я слышал голоса моих друзей. Они стучали мне в дверь, приглашали с собой на охоту. Иногда это был мой отец, он задумал нападение на римский форт и хотел, чтобы я со своими лазутчиками утроил отвлекающий маневр. На несколько мгновений для меня это было так, будто происходило на самом деле. А вот это — Ллин жестом обвел холм, лошадей, видневшийся вдали город, — наваждением. Даже ты была наваждением.
— И?
— Император Клавдий взял с нас клятву, что мы никогда не покинем Рим. Уже за одно это я был готов его убить. Мой отец сдержал данное Клавдию слово. Но мой отец давно мертв. Он умер в неволе. Будь Клавдий жив, я бы выполнил то, что хотел, я убил бы его, но… — Ллин пожал плечами. — После него был бы другой император. Вот и все.
— Ты это лучше спрячь, — Диана указала на его меч.
Ллин с минуту колебался, а затем присел и спрятал оружие под грудой упряжи в углу сарая. Марцелла же задумалась о том, услышит ли она когда-нибудь продолжение этой истории.
— Неужели все позади?
Марцелла слышала этот вопрос повсюду. Постепенно жизнь в городе возвращалась в прежнее русло — мертвые тела убрали, кровь смыли, те, кто бежал из города, возвращались в свои дома.
— Неужели все позади?
Позади было не только кровопролитие. Позади было правление Вителлия. Нежели все это позади?
И все же в городе стояла редкая тишина. Плебеи спешили вернуться к себе домой, в сточных канавах засыхала кровь, рабы, что в панике бежали, бросив своих хозяев, возвращались назад, как псы, трусливо поджав хвост. Семейный особняк Корнелиев являл собой жуткое зрелище. Мебель поломана или украдена, половина статуй разбиты, двери сорваны с петель. Дому деда Лоллии повезло чуть больше — винный погреб был пуст, однако пока солдатня растаскивала вина, она почти позабыла про сам дом, и тот почти не пострадал, если не считать нескольких разбитых статуй, кое-каких украденных мелочей и испорченной мозаики в вестибюле.
— Мозаика, — с нежностью в голосе произнесла Лоллия, — пострадала от нашей Дианы-охотницы. Я бы советовала вам всем остаться со мной, пока не восстановится полный порядок.
— Только не я, — Корнелия все еще была бледна после приступа тошноты, которая никак не хотела ее отпускать. Тем не менее она накинула на голову покрывало и с решительным видом направилась к двери. — Я должна найти Друза.
— Что с ней? — удивилась Марцелла и растерянно заморгала, заметив, что обе кузины с недоумением смотрят в ее сторону.
— А ты еще не поняла? — Лоллия выгнула бровь. — Это же видно с первого взгляда.
— Что видно?
— То, что она беременна, — сказала Диана и пожала плечами. — С кобылами бывает то же самое. Они становятся жутко нервными.
— Но почему вы мне ничего не сказали?! — укоризненно воскликнула Марцелла.
— А ты нам когда-нибудь что-нибудь говоришь? — парировала Лоллия. — С какой стати мы должны тебе что-то говорить?
— Но ведь она моя сестра!
Когда Корнелия вернулась на следующий день с затуманенным от счастья взором, Марцелла тотчас взяла ее в оборот.
— Ты могла бы мне все рассказать сама, — упрекнула она сестру.
— Но почему? — растерялась Корнелия. Впрочем, Марцелла тотчас забыла про свои обиды, как только сестра доложила ей последние новости. Вителлий мертв, в этом не было никаких сомнений. — Никто толком не знает, что произошло, — с этими словами Корнелия поморщилась. — Он пытался спрятаться в конюшнях, и толпа растерзала его на куски. Или же, по другой версии, его привели на ступени дворца и там отрубили голову. Как бы там ни было на самом деле, его тело бросили на Гермониеву лестницу, и Друз его видел.
От Марцеллы не скрылось, что Диана поморщилась и наклонила голову. Позднее она вышла, накинув на голову черное покрывало, а когда вернулась, на ней не было лица.
— Где ты пропадала?
— Я купила «синим» медальон, — ответила Диана. — И я похоронила его у основания Гермониевой лестницы. Думаю, Вителлий был бы этому рад, — Диана расправила складки платья. — Он оценил бы мой жест, ведь я в первый и последний раз в моей жизни купила медальон «синих». Возможно, в следующей жизни мы с ним оба примем участие в гонке колесниц.
— Так что же сказал перед смертью Вителлий? — не унималась Марцелла.
Диана смерила ее презрительным взглядом.
— Мне наверняка скажет это кто-нибудь другой.
— Да, но только не я. От меня ты ничего не узнаешь, — бросила ей Диана и, сорвав с головы черное покрывало, ушла прочь.
Вителлия больше нет. Марцелла задумалась. Из трех императоров, сменившихся в течение этого года, он продержался дольше всех. И вот теперь у них четвертый. Сенат уже наверняка провозгласил императором Веспасиана, за которым стоят все римские провинции. Его славный сын Тит уже шагал походным маршем, чтобы взять под свое командование восточные легионы. А сам Веспасиан прибудет в Рим уже через несколько недель. А пока в императорском дворце Домициан принимает почести в качестве императорского сына. Марцелла увидела его через два дня после возвращения в город. В сопровождении шести преторианцев он с видом победителя вошел в атрий Лоллии.
— Я слышал, что ты вернулась, — Домициан и его гвардейцы прошли по разбитой мозаике. Взгляд его был устремлен куда-то мимо рабов, которыми теперь руководила Марцелла. — Я поручил своей страже проверить, что с тобой.
— Как видишь, со мной все в порядке, — Марцелла жестом отослала рабов и заставила себя улыбнуться. — Впрочем, как и с тобой.
Она уже знала, что Домициан жив и здоров. Заварушку он пересидел, спрятавшись среди молящихся в храме Исиды. Храбростью это не назовешь, а вот благоразумием, пожалуй.
— Теперь я сын императора, ты уже слышала? — спросил он высокомерным тоном. Впрочем, вопрос был явно излишним, потому что край его тоги украшала пурпурная кайма. — Что я тебе говорил?
— Да, но только не единственный, — шутливо ответила Марцелла. — Кстати, когда вернется брат со своей армией? Полагаю, твой отец объявит его наследником.
— Даже не рассчитывай на это, — ответил Домициан и, заключив Марцеллу в объятия, принялся целовать ее. Несколько минут она терпела его поцелуи, а сама тем временем мысленно задавалась вопросом, сколько еще продлится это его увлечение? Ведь теперь Домициан член императорской семьи и при желании может получить себе в постель любую женщину.
Даже если у меня самая красивая грудь во всем Риме, зато теперь он может выбрать себе любую. Впрочем, она сама по-своему пользовалась Домицианом. И все же Марцелла была уверена, что не слишком расстроится, когда его взгляд упадет на другую женщину. Возможно, она тоже найдет себе другого мужчину, которого поведет за собой в каком-нибудь новом, более увлекательном направлении. Того, кто старше Домициана и мудрее. С кем ей самой будет интереснее.
Старший сын Веспасиана Тит прибыл в Рим спустя неделю вместе с первыми восточными легионами для наведения порядка. Город предстояло подготовить к триумфальному въезду нового императора, который должен был состояться через несколько недель. Тит. Марцелла мысленно набросала его портрет. Кажется, он на десяток лет старше Домициана. Темные глаза. Румяные щеки, лицом вылитый брат. Но есть и разница — если Домициан был вечно чем-то недоволен, то Тит всегда улыбался.
— Тит был самым милым из моих мужей, — призналась Лоллия, с нескрываемой симпатией глядя на коренастую фигуру Тита, когда тот вошел в зал заседаний сената. Доспехи сидели на нем как вторая кожа. — Правда, я почти его не видела. Но он неизменно был добр ко мне. А как хорошо он смотрится — из него выйдет идеальный наследник трона. Не то, что Домициан, прыщавый, вечно чем-то недовольный мерзавец. — При мысли о нем Лоллию передернуло. — Когда этот гаденыш был моложе, он вечно тайком пробирался в баню, чтобы посмотреть, как я купаюсь. Скажи, Марцелла, он по-прежнему в тебя влюблен?
— Да, но если и влюблен, то наверняка скоро разлюбит.
Тит официально объявил о возобновлении торговых операций. Услышав об этом, дед Лоллии моментально вернулся из Остии и взялся за ремонт дома. Еще не переступив порога, он распорядился обновить мозаику, заказал новые винные бочки, а через два дня закатил в честь нового императора и его семьи пышный пир. В качестве почетной гостьи на пиру присутствовала малышка Флавия.
— Теперь она у нас важная персона, — со счастливой улыбкой на лице заявил дед Лоллии на следующий день, глядя, как его обожаемая правнучка катается на Диане по атрию.
— Внучка императора! И вся в отца — те же самые темные глаза и кудри, что у Тита.
— Да, к великому удивлению многих, — негромко пошутила Лоллия, обращаясь к Марцелле. — В том числе и для меня самой. Ведь Тит не слишком часто наведывался ко мне в постель, он вечно пропадал где-то в далеких краях, все время сражался на границах империи. Так что мне с Флавией крупно повезло. Лично я была уверена, что ее отец — один из юных Сульпициев, с которым у меня пару лет была связь. Но у того были рыжие волосы…
— Она — связующее звено между нами и императором, а это самое главное, — увлеченно изрек дед Лоллии. — Особенно если учесть, что мое сокровище имело несчастье выйти замуж за это чудовище, Фабия Валента. А ведь это могло бы бросить тень подозрений на всю нашу семью.
— Даже когда Лоллия овдовела? — уточнила Марцелла, глядя, как малышка Флавия, словно лошадку, гоняет Диану по саду, взяв в руки вместо кнута длинный стебель лилии. Она первой услышала известие о том, что Фабий Валент схвачен и предан казни, и принесла потом эту весть кузине. — Теперь, Лоллия, ты у нас снова вдова. Потому что Фабия уже точно нет в живых.
— Прекрасно, — ответила Лоллия, не скрывая своей радости по этому поводу. — Надеюсь, палач был пьян и, прежде чем окончательно отрубить ему голову, раз десять взмахнул топором. И еще я надеюсь, что все это время Фабий кричал от боли.
— Полегче, Флавия, — пробормотала Диана сквозь ленту, которую держала во рту — это была ее уздечка. — Полегче. Никогда не натягивай удила слишком сильно. Лошадки этого не любят, ведь им тоже бывает больно.
— Быстрее, моя кобылка! — велела ей Флавия и дернула за поводья.
— Да, этот неотесанный грубиян Фабий был явной ошибкой, — продолжал тем временем дед Лоллии. Диана перешла на галоп и взялась бегать вокруг вазы с белыми лилиями. — Ничего, моя дорогая девочка, мы найдем тебе нового мужа, получше Фабия. Я уже начал наводить справки — и никто из тех, кого я присмотрел для тебя, никогда не осмелится поднять на тебя руку. Так что тебе есть, из кого выбрать, и уже в следующем году мы сыграем новую свадьбу.
— А мне почему-то никто не предлагал никаких женихов, — пожаловалась Марцелла. — Никто ни разу не спросил моего мнения. Мне просто было сказано: «Вот твой будущий муж. Чтобы ты через неделю была готова. Надеюсь, свадебный наряд у тебя найдется».
Но Лоллия их не слушала. Зато стоило в атрий войти Траксу, как ее лицо тут же озарилось мечтательной улыбкой. Золотоволосый раб снял Флавию со спины Дианы и негромко попенял ей.
— Спасибо, — поблагодарила его Диана, поднимаясь на ноги и убирая от глаз волосы, словно то была лошадиная челка. — Благодаря Флавии я прониклась состраданием к своей четверке.
Диана теперь жила у отца, который вернулся в город, таща с собой недавно начатый бюст нового императора. А вот Гай и Туллия не торопились возвращаться в Рим. Корнелия воспользовалась их отсутствием и сделала все для того, чтобы к их приезду дом блестел чистотой. Впрочем, благодарности за это она так и не дождалась. Потому что не успела Туллия вернуться в Рим, как тотчас набросились на Корнелию, упрекая золовку в распущенности, как будто спешила высказать ей все то, что не успела излить на нее до отъезда.
— Я думаю, Туллия, с этим можно подождать, — Корнелия сурово посмотрела на Гая. — Брат, мне нужно с тобой поговорить.
И они удалились, плотно закрыв за собой двери.
— Я непременно должна осмотреть дом! — Туллия с решительным видом зашагала по вестибюлю. — Мне заранее страшно подумать, в каком он состоянии. Ведь чего еще можно ожидать от этой потаскушки Корнелии, которая не в состоянии сдерживать собственную похоть! Я с ужасом думаю, во что она превратила мои гостевые комнаты.
— Вообще-то везде царит идеальная чистота, — сочла своим долгом заступиться за сестру Марцелла. Туллия тем временем решительно зашагала вверх по лестнице. — Хотя я не сомневаюсь, что ты всегда найдешь, к чему придраться.
— Погоди, я все расскажу Гаю! — крикнула сверху Туллия. — Не успела я вернуться домой, как ты уже затеваешь ссору.
— Только с тобой, Туллия, только с тобой.
В тот же самый день к ним пожаловал гость — сенатор Марк Норбан. Его выпустили из тюрьмы, и он пришел забрать Павлина.
— Марк! — весело воскликнула Марцелла. — Как я рада увидеть тебя снова.
— А как я рад увидеть что-то помимо тюремных стен! — сенатор обвел взглядом освещенный тусклым зимним светом атрий и фонтан в его центре, покрытый тонкой корочкой льда. От Марцеллы не скрылось, что легкая проседь, что поблескивала в его волосах в начале года, сменилась стального оттенка сединой, а в уголках рта залегли суровые складки. — Тебе больно? — спросила она, заметив, что он хромая направился к мраморной скамье.
— Во время ареста мне сломали плечо, — кратко ответил он, выпуская пухлую ручку Павлина и слегка оттолкнув мальчика от себя, чтобы тот шел играть. — Стражники не слишком со мной церемонились. А потом мне никто его толком не вправил, вот я и стал таким кривобоким.
— Извини, Марк, я не знала.
— О, все было бы гораздо хуже, если бы не тот лекарь, которого твоя кузина Лоллия тайком прислала ко мне в камеру, — Марк невесело улыбнулся и осторожно повращал поврежденным плечом.
— Лоллия тайком присылала к тебе врача? — удивилась Марцелла.
— А также корзины с едой и кувшины хорошего вина. Мне страшно подумать, сколько денег она потратила на одни только взятки тюремщикам. Твоя сестра также навещала меня, чтобы рассказать, как поживает мой маленький Павлин, — Марк вновь улыбнулся, но на этот раз куда более теплой улыбкой. — А твоя безумная кузина Диана приходила меня проведать каждую неделю, более того, проносила в складках платья книги, которые я просил. Она перетаскала мне почти всю мою библиотеку.
Как же я не догадалась проведать его в тюрьме, с досадой подумала Марцелла. С другой стороны, разве было у нее на это время? Ведь она была страшно занята, помогала свержению императора. Зато сейчас, когда Марка выпустили на свободу, она наверняка сможет что-нибудь для него сделать.
Как идет ему тога, какой благородный у него вид. И кривое плечо почти незаметно. Глаза… глаза все те же, умные и проницательные. Сенатор Марк Норбан, трижды консул и потомок императора Августа… умный, уважаемый в сенате. Причем, уважаемый настолько, что три императора подряд боялись его влияния. Безусловно он обозлен на них за те страдания, которые выпали по их прихоти на его долю.
Интересно, Марк, насколько ты честолюбив? Мечтаешь ли ты о чем-то большем, нежели тога сенатора?
— Похоже, что жизнь вернулась в нормальное русло, — весело произнесла Марцелла. — Но кто скажет, так ли это на самом деле.
Марк наблюдал за сыном, который плескался руками в фонтане.
— Хотелось бы надеяться.
— Четыре императора! О Фортуна! Интересно, каким будет Веспасиан? — Марцелла решила, что чуточка лести не помешает. — Ни один из них тебе не годится даже в подметки.
— Неужели? — удивился Марк Норбан, не отрывая глаз от Павлина.
— Да, и мне не одной кажется, что из тебя получился бы прекрасный император. Неудивительно, что и Гальба, и Отон, и Вителлий именно этого и опасались. Право, жаль, что…
— Прекрати, — оборвал ее Марк.
— Что прекратить? — улыбнулась Марцелла.
— Не знаю, но все равно прекрати, — Марк посмотрел на нее холодным, оценивающим взглядом. — Скажу честно, Марцелла, ты никогда мне не нравилась, и я не знаю почему. Ведь ты умная женщина, а умные женщины мне всегда нравились. Но мне почему-то кажется, что ты интриганка.
Марцелла открыла было рот, чтобы возразить, и не смогла. Такого с ней еще не бывало.
— Желаю тебе хорошего дня, — Марк встал со скамьи. Маленький Павлин подбежал к отцу. — Навещать меня не надо.
(обратно)
Глава 22
Корнелия
— Туллия, — улыбнулась Корнелия. — Мне почему-то кажется, что ты не рада меня видеть.
— А что ты здесь забыла? — прошипела завернутая в белое полотенце Туллия. Лицо ее раскраснелось — то ли от злости, то ли от горячего пара кальдария.
— Поскольку бани снова открылись, мы пришли на массаж, — легкомысленно ответила Лоллия. — А хорошо пропотеть — полезно для кожи. Особенно после этой чехарды на императорском троне. У меня от нее испортился цвет лица.
— Только посмей сесть рядом со мной! После того позора, который навлекла на нас Корнелия!..
— Не беспокойся, Туллия, — Корнелия взяла кузину под руку. — Я сама ни за что рядом с тобой не сяду.
С этими словами кузины направились в другой конец кальдария, мимо центрального фонтана, мимо суетливых банщиц, мимо завернутых в полотенца раскрасневшихся женщин, к двум массивным каменным массажным столам. Марцелла ушла поплавать в соседний с кальдарием бассейн. Диана же выразила желание немного поупражняться и голышом убежала в зал для физических упражнений, который обычно отдавался в распоряжение мужчин. А вот Корнелией владело редкое умиротворение, и ей было достаточно массажа.
— Вон она, — сказала Лоллия, окутанная облачком горячего пара, блаженно растягиваясь на каменном столе, и состроила презрительную гримасу Туллии. Та торопливо шла через весь кальдарий, чтобы составить компанию трем пышнотелым матронам. Подойдя к ним, она что-то, прикрыв рукой рот, зашептала им на ухо. Матроны в немом изумлении вытаращили глаза. — Главная сплетница Рима.
— Пусть себе болтает. Лично меня это не трогает, — Корнелия растянулась на массажном столе лицом вверх. Рука ее невольно скользнула к завернутой в полотенце талии. — Я беременна. Мне двадцать пять и я наконец беременна.
— Ты уверена? — спросил ее Друз, когда она сообщила ему это известие в первую их совместную ночь после ее возвращения в Рим. Когда она вошла в узкие двери лупанария, он от радости стиснул ее в таких крепких объятьях, что она едва не задохнулась. Впрочем, радость вскоре уступила место чувству вины.
— О боги! — воскликнул он в ужасе. — Прости меня. Я должен был быть осторожным, я должен был…
— Тсс! — Корнелия поднесла палец к его губам. — Я знаю, что мне делать.
— Ты хочешь сказать, — спросил он, глядя на ее живот, — что избавишься от плода?
— Ни в коем случае! — Она ни за что не избавится от ребенка, которого уже рисовала в своих мечтах. Это будет крепенький мальчик, сильный и храбрый, а если девочка — то у нее будут каштановые волосы и ямочки на щечках, как и у матери. — Этого я никогда не сделаю.
— Но ведь твоя семья… Они наверняка…
— Это я как-нибудь улажу. Мне придется выйти замуж, — Корнелия поспешила отвести глаза, не в силах видеть выражение его лица.
— Да, — отрывисто произнес Друз. — Думаю, что придется.
Его лицо мысленно стояло перед ней, когда она отвела брата в кабинет.
— Гай, — сказала она без каких-либо предисловий, опасаясь, что иначе ей не хватит храбрости. — Ты должен в ближайшие несколько недель приготовить свадебный пир. Я выхожу замуж за центуриона Друза Семпрония Денса, и чем раньше состоится наша свадьба, тем лучше, поскольку я уже ношу под сердцем его ребенка.
Рот Гая, который после слова «свадьба» превратился в тонкую линию плотно сжатых губ, вновь открылся.
— Пусть это не слишком выгодный брак, но и не постыдный, — продолжала Корнелия как можно спокойнее, хотя сердце бешено колотилось в груди, и этот стук кузнечным молотом отдавался в ушах. — Семья Друза принадлежит к всадническому сословию. Его родные живут в Тоскане. Нет-нет, Гай, не надо меня перебивать. Сначала выслушай. Друз пользовался уважением, когда служил в преторианской гвардии, и обвинение в измене, возложенное на него Вителлием, теперь с него снято. Гай, я просила тебя не перебивать меня. Друз придет к тебе сегодня днем, чтобы обсудить подробности.
Не успела Корнелия сделать несколько шагов через таблинум, как Гай прошептал:
— О боги, что я скажу Туллии?
— Гай, — обернулась к брату Корнелия и укоризненно посмотрела на него. — В конце концов кто здесь глава семьи, Туллия или ты? Вот и поступай соответствующим образом!
И все решилось. Через неделю в семействе Корнелиев состоится очередная свадьба, правда, замуж на этот раз выходит отнюдь не Лоллия. Корнелия с радостью думала об этом, нежась на массажном столе.
— О чем там шепчет эта сплетница Туллия? — Оттуда-то из облака пара, вытирая на ходу влажные волосы, вынырнула обнаженная Диана. — Честное слово, глядя на нее, можно подумать, будто она пытается наложить на нас четверых порчу.
— Это она перемывает косточки Корнелии, якобы опозорившей нашу семью — легкомысленно отмахнулась Лоллия.
— Никого я не опозорила. Это будет вполне достойная свадьба. И Друз вполне достойный жених.
Диана фыркнула и протянула банщице руки, чтобы та соскребла с них пот.
— Через шесть месяцев ты разродишься его жеребенком.
— Вообще-то мы решили поселиться не в Риме, — ответила Корнелия, кладя подбородок на кулак, пока банщица разминала ей спину. — Там никто не узнает, как долго мы с ним женаты.
— Да, но если Друза восстановят в преторианской гвардии, ему придется остаться во дворце, — рассуждала Диана. Скребок банщицы задел синяк на ее плече, и она поморщилась. — Ничего страшного, — добавила она, обращаясь к банщице, — не обращай внимания.
— Госпожа, — озабоченно обратилась к ней та, с любопытством рассматривая ее синяки, царапины, ссадины и мозоли, — чем это ты занималась?
— Ты все равно не поверишь, — хихикнула Лоллия, открывая флакон с розовым маслом и выливая на себя пригоршню его содержимого. — Эй, Корнелия, я тебе тоже немного оставила.
— Нет-нет, спасибо, — поспешно ответила та, — от благовоний меня начинает мутить.
— В таком случае у тебя будет мальчик, — со знанием дела заявила Лоллия. — Потому что никакая девочка не отвернулась бы от розового масла, даже в утробе матери. Насколько я понимаю, Друз мечтает о сыне?
— По его словам, он будет рад и сыну, и дочери, — Корнелия повернула голову в другую сторону и улыбнулась. Какая разница, кого она носит в утробе, мальчика или девочку, главное, что в ее чреве зародилась новая жизнь, и она не остановится, пока не обзаведется целым выводком ребятишек!
— Я хочу племянницу! — заявила Диана и вновь болезненно поморщилась. Скребок банщицы то и дело задевал ее ссадины и синяки. — Я бы научила ее управлять колесницей, и мы бы устраивали с ней соревнования.
— Я не позволю превратить мою дочь в колесничего! — возмущенно воскликнула Корнелия. Последняя история про Диану успела облететь весь Рим: мол, когда глава фракции «синих», сгорая от негодования, вскарабкался на холм, чтобы потребовать назад знаменитую четверку, рослый бритт, не проронив ни слова, вручил ей нож, — по другой версии, меч, — и Диана, угрожая главе фракции холодным оружием, прогнала его прочь. Помогла ей в этом какая-то черная собачонка, которая так и норовила укусить беглеца за пятки.
— А теперь, Диана, мы хотели бы узнать правду, — Лоллия втерла розовое масло в свои круглые коленки. — Ты действительно влюблена по уши в своего варвара?
— Мне сначала так тоже казалось, — призналась Диана, — но теперь я так не думаю.
— Хватит стесняться, милочка. Признавайся. Мы тут все четверо успели оскандалиться. Я сплю с личным рабом моей собственной дочери. Корнелия выходит замуж за плебея.
— Он не плебей!
— Так что тебе ничего не остается, как влюбиться в дикаря.
— Сомневаюсь, что я умею влюбляться, — Диана тряхнула головой, убирая от лица влажные волосы. — Разве только в четвероногих наших братьев по животному миру. Борей — вот кто любовь всей моей жизни.
Все весело захихикали. Затем Корнелия соскользнула с массажного стола и целомудренно завернулась в полотенце. Лоллия расплатилась с банщицей. После чего все четверо направились сквозь завесу пара в тепидарий. Когда они проходили мимо Туллии и ее кумушек, Корнелия услышала за своей спиной перешептывания.
— Это правда, что она подцепила его в трущобах?
— О, это еще не все! Сейчас я расскажу вам такое!..
— Извините, — вмешалась Диана, решительно направляясь к Туллии. — Еще одно слово в адрес моей кузины, — пригрозила она, — и тебе придется вылавливать свой парик из фонтана.
— Поспешное замужество еще не делает из нее уважаемой матроны. Что же касается тебя…
Диана лишь пожала плечами. В следующий миг она схватила пригоршню кудряшек и резко за них дернула. Туллия взвизгнула и попыталась удержать парик на месте. Увы, было слишком поздно! Диана умелой рукой дискобола отшвырнула парик, и тот, подняв фонтан брызг, упал в воду. Взорам окружающих предстал коричневый пушок на голове Туллии. Все разговоры в кальдарии моментально стихли.
Туллия вскочила на ноги, однако Диана одним движением вернула ее на место.
— В следующий раз в фонтан полетишь ты, — пригрозила она. — Причем вперед головой.
Первой рассмеялась Корнелия. А вскоре вместе с ней смеялся уже весь кальдарий. Вместе с Лоллией кузины нырнули в помещение тепидария. Диана отряхнула руки и поспешила за ними следом. Когда дверь за ними захлопнулась, с той стороны донесся истошный вопль Туллии.
— Да, вот это был смех! — воскликнула Лоллия, когда им навстречу, неся благовония, пудру и вино, вышли банщицы. — Да-да, мне маску, а Корнелии покрасьте ногти в ярко-красный цвет, в тон ее покрывалу невесты. И еще постарайтесь убрать мозоли с ладоней Дианы. Нет, нет, пемзой мы ничего не добьетесь. Вот если попробовать долотом…
В дверях, завернутая в полотенце, показалась Марцелла, розовая после заплыва в прохладной воде бассейна.
— Я не рассчитывала, что задержусь, но вода там такая чудесная! — тряхнув мокрыми волосами, она с минуту постояла поодаль и лишь потом подсела к ним на мраморную скамью. Банщицы тотчас засуетились вокруг них. Лоллия с торжествующим видом ткнула в Марцеллу пальцем.
— И кто это оставил столько следов на твоей шее? Только не говори мне, что этот молокосос Домициан наконец сломил твою оборону!
— Домициан? — Корнелия поморщила нос, а сама устроилась поудобнее, подставляя рабыне ступни, чтобы та обработала ей ногти и покрыла их лаком. Она не могла сказать почему, но ей больше был по сердцу рослый бритт Дианы, нежели двуличный, неискренний и испорченный Домициан. — Ума не приложу, что ты в нем нашла.
— Мечтаешь стать императрицей? — напрямик спросила Диана. — Но ведь он не наследник.
— Я никогда не мечтала стать императрицей, — Марцелла приняла из рук банщицы кубок с вином. — Что в этом хорошего? Только дети и придворные пиры, примерки новых платьев и целый легион рабов, за которыми нужен глаз да глаз. Да, на виду у всех, но никакой власти. Потому что настоящая власть никогда не бывает на виду.
— Но почему
Домициан? — теперь носы сморщили уже все трое.
— Потому что это единственный способ от него избавиться, — последовал ответ. К Марцелле подошла рабыня с гребнями и благовониями, и она откинула назад голову, чтобы та расчесала ей волосы. — Удовлетворить его несколько раз, чтобы он мной пресытился. К тому же от него тоже есть польза.
— Источник сведений для твоей новой исторической хроники? — поинтересовалась Диана. Тем временем две банщицы в четыре руки повели борьбу с ее мозолями.
— О, я давно уже не пишу никаких исторических хроник! — Гребень мерно расчесывал ей волосы, и Марцелла зажмурилась от удовольствия. — Все равно их никто никогда не прочтет. И вообще куда интереснее наблюдать за живыми событиями.
— Неужели? — задумалась Диана.
— Лоллия, ты похожа на привидение, — рассмеялась Корнелия, глядя на кузину. Рабыня покрывала ей лицо и шею отбеливающей хлебной маской.
— Я и тебе советую сделать то же самое, моя дорогая. Чтобы на свадьбе ты сияла красотой. А еще я одолжу тебе мои рубины…
— Никаких рубинов! — Корнелия подставила рабыне другую ногу. — Семья Друза и без того уже боится встречи со мной. Диана, расскажи ей…
Диана молча оттолкнула от себя рабынь и, шлепая о мрамор босыми подошвами, вышла вон.
Лоллия хихикнула и пустилась в рассказ о том, как дед пытается найти ей нового мужа.
— По-моему, он надеялся, что Тит снова на мне женится, но Тит не из тех, кто спешит связать себя семейными узами.
Корнелия слушала ее в пол-уха, погруженная в собственные мысли. Сегодня Друз будет во дворце, томясь ожиданием среди толпы просителей, он подал прошение о восстановлении его в рядах преторианской гвардии и теперь ждал ответа.
— Не знаю, хотел бы я нести службу во дворце, — признался он. — А вот подготовкой молодых солдат занялся бы с удовольствием. Надеюсь, мне удалось бы вбить в них верность долгу, чтобы они не купились на взятки и посулы, как те, кто служили перед ними.
Друз уже несколько раз справлялся о судьбе своего прошения, но ответа так и не получил. Хотя любой уважающий себя командир был бы только рад получить в свои ряды такого честного и стойкого солдата, как ее будущий муж.
Муж! Юнона всемилостивая! Как мне нравится это слово!
— Хочу посмотреть, что происходит, — вмешался в их разговор голос Дианы, и Корнелия подняла глаза на младшую кузину. Та застыла обнаженная в дверях тепидария, держа в руках несколько кусков пергамента, и буквально буравила Марцеллу взглядом. — Ты постоянно твердишь эту фразу.
— Но я действительно хочу посмотреть, что происходит, — Марцелла открыла глаза и заморгала — рослая сестра Корнелии, завернутая в белоснежное полотенце, влажные волосы гладко зачесаны назад. — Какой интересный выдался год!
— Я бы так не сказала, — Диана сделала еще один шаг навстречу. Длинные волосы разметались по ее голой спине. — Ты говоришь, что больше не пишешь историй. Но ведь ты вечно что-то пишешь — закрывшись у себя в таблинуме, на салфетках во время пиров, на гонках на клочках пергамента. Что ты пишешь, Марцелла?
— Всего лишь свои заметки, — ответила та. — Так, ничего особенного. — Она взяла из рук банщицы гребень и сказала рабыням: — Оставьте нас.
Те послушно удалились.
— В чем дело? — растерянно спросила Корнелия. В глазах Лоллии также застыл немой вопрос.
— А когда, Марцелла, ты ничего не пишешь, то распространяешь по городу слухи, — продолжала Диана, как будто не услышала вопроса кузины. — Я видела, как ты встречалась с Домицианом на форуме, и эти встречи совсем не были похожи на свидание влюбленных. Я видела, как в театре ты подсела к Алиену, причем ни ты, ни он ни разу не посмотрели, что происходило на сцене. Я видела тебя на пирах у Отона, когда ты что-то нашептывала на ухо брату Вителлия. А еще раньше, на пирах у Гальбы. Тогда ты что-то шептала на ухо Отону. Вечно ты кому-то что-то шепчешь на ухо.
Корнелия посмотрела на сестру. Та застыла словно статуя с гребнем в руке. На губах ее играла еле заметная улыбка.
— Заметки, — Диана швырнула в воздух пригоршню кусков пергамента, и те, порхая в воздухе, словно мотыльки, упали на пол тепидария. Несколько матрон, сидевших в дальнем углу, вопросительно посмотрели в их сторону. Впрочем, вряд ли они что-то слышали. — Кстати, кто-нибудь из вас заметил, что по пути в баню она, сидя в паланкине, снова что-то писала? Нет, на этих клочках нет ничего важного, наша Марцелла умна и осторожна. В основном она записывает имена. Здесь целый список сенаторов, которые перешли от Вителлия на сторону Веспасиана. А вот список других сенаторов, которые перешли от Отона на сторону Вителлия. А еще — тех, кто перешел от Гальбы на сторону Отона. А вот здесь мы видим имя Домициана и вопросительные знаки. Так каковы же твои намерения, Марцелла?
— Диана, — взмолилась Корнелия. — Зачем тебе…
— Нет, ты действительно больше не пишешь никаких историй. — Взгляд голубых глаз ни разу не дрогнул. — Бесполезное занятие, как ты только что сама сказала. Потому что ты
сама пишешь историю.
— О боги, — вздохнула Марцелла. — Я лишь время от времени шепчу кому-то на ушко. Что в этом дурного?
— Неужели?
— Скажите мне кто-нибудь, о чем этот разговор? — подала голос Лоллия из-за своей хлебной маски, которая к этому времени уже высохла и начала шелушиться.
— Я скажу тебе, — Диана в два шага пересекла тепидарий. Диана-охотница, в шутку называли они ее. И вот теперь это действительно была охотница, выслеживающая добычу. — Марцелле надоело сочинять вымышленные истории, и она взялась творить историю настоящую. Она шепнула что-то на ухо Отону, и тот поднял восстание. Затем Вителлий, будучи в Германии, провозгласил себя императором. И тогда Марцелла задалась вопросом, что будет, если она передаст ему сведения о войске Отона.
— Марцелла этого не делала, — поспешила встать на защиту сестры Корнелия. — Это сделала я. После смерти Пизона я была сама не своя от горя и была готова на все, лишь бы сбросить Отона!
— Откуда же ты получила эти свои драгоценные сведения? Да ты даже не знала бы, с чего начать. А вот историк в отличие от тебя отлично знает, какие сведения ценны, а какие нет. И она нашептала их тебе на ухо, все, что нужно было знать командирам Вителлия, чтобы разгромить Отона. И ты потом передала их дальше, что ей и нужно было от тебя, — Диана вновь посмотрела на Марцеллу. Та сидела, как статуя, водя пальцем по зубцам гребня. — Отон потерпел поражение, возможно, из-за нее. Более того, она отправилась туда, чтобы собственными глазами посмотреть на ход сражения. Чтобы лично увидеть, как Отон умрет.
— Ты считаешь меня прорицательницей? — спросила у нее Марцелла. — Откуда мне было знать, что он решится на самоубийство? Я отправилась туда лишь потому, что…
— Потому, что тебе хотелось посмотреть, что произойдет, — закончила ее фразу Корнелия.
— И ты вернулась, — продолжала Диана. — И Веспасиан объявил себя императором. И тогда ты решила, что самое время шепнуть на ухо словечко Алиену в надежде на то, что тот предаст Вителлия. И он его предал. В результате Вителлий лишился армии, а Рим стал жертвой беснующихся солдат. И вот теперь у нас новый император, и мы наконец получили долгожданный мир. И что же делаешь ты? Ты кладешь Домициана к себе в постель и начинаешь нашептывать ему на ухо. Вот только что? Что из него получится лучший император, чем его отец? — Диана обвела всех троих взглядом — Корнелию, которая застыла, как статуя, завернутая в полотенце, Лоллию, с жутковатой белой маской на лице. Марцеллу… — И нередко бывает, что то, что может произойти, действительно происходит. В течение всего одного года Римом правили четыре императора! И наша Марцелла приложила руку к падению троих из них.
— Четверых, если считать низложенного в прошлом году, — уточнила Марцелла. На ее щеках играл румянец. Что это было? Неужели, гордость? — Или вы забыли про Нерона? Впрочем, тогда это была не более чем ни к чему не обязывающая подсказка. Я и представить себе не могла, что он воспользуется моим советом и наложит на себя руки. — Марцелла обвела их взглядом. — Эй, почему вы на меня так смотрите?
Они действительно смотрели на нее так, как будто вместо волос на голове у нее шевелились змеи.
— Вы все преувеличиваете, — Марцелла отложила гребень. — Если я и вмешивалась, то совсем чуть-чуть. Не больше, чем целая сотня сенаторов, которые только тем и занимались, что строили интриги, чтобы добиться собственной выгоды. Так почему же вы обвиняете во всех трех государственных переворотах только меня?
— Ты вмешивалась не ради собственной выгоды, — стояла на своем Диана. — Ни ради собственной безопасности. Это я еще бы смогла понять. Ты вмешивалась забавы ради.
— И это стоило моему мужу жизни, — добавила Корнелия сквозь стиснутые зубы.
— Откуда мне было знать, чем все это кончится? И не только мне, — Марцелла посмотрела на троих сестер. — Или вы считаете, что я нарочно хотела сделать кому-то из вас больно?
— Не хотела, но могла, — Лоллия схватила полотенце и завернулась в него, как будто неожиданно продрогла. — Вернее, почти что сделала. Пизона нет в живых, все мы едва не лишились жизни сначала у храма Весты, затем во время беспорядков на прошлой неделе. Ты же стояла на Марсовом поле и наблюдала…
Не просто наблюдала. Щеки Марцеллы горели румянцем, глаза сияли, Корнелия это хорошо запомнила. Тогда она решила, что это от испуга или от волнения, и вот теперь ей в голову закралось подозрение, что это было приятное возбуждение. Марцелла находилась в своей родной стихии.
— Дело даже не в том, что ты делала, — изрекла Диана, — а том, что тебе
нравилось это делать. В тебе нет ни капли раскаяния. Ни капли вины.
— А с какой стати им быть? — Марцелла вновь взяла в руки гребень и провела им по влажным волосам. — Ведь все кончилось как нельзя лучше.
Корнелия положила руки на колени и, растопырив пальцы, посмотрела на свои накрашенные ногти, искусанные по самую мякоть. Затем произнесла, произнесла тихо и вежливо, однако, не поднимая глаз — не хватило храбрости посмотреть сестре в глаза:
— Я не хочу видеть тебя на моей свадьбе.
— Корнелия! — воскликнула Марцелла, явно задетая за живое таким заявлением. — Ты не посмеешь! После того что случилось с Пизоном, я была искренне рада, что ты нашла счастье с этим центурионом. И не делай вид, будто ты мне не веришь.
— Да, я счастлива. И Друза, возможно, снова возьмут в преторианцы, чтобы он охранял нового императора. Но если ты станешь науськивать Домициана против его отца, это может стоить Друзу жизни, — сказала, подняв глаза, Корнелия. — Именно поэтому я не хочу видеть тебя на моей свадьбе, не хочу слышать твоих лицемерных пожеланий счастья.
По-прежнему улыбаясь своей знаменитой полуулыбкой, Марцелла обвела взглядом лица всех троих. Марцелла-историк. Марцелла-острый глаз. Моя младшая сестра.
— О боги, — вздохнула она. Затем положила гребень, сбросила с себя полотенце и направилась в кальдарий. В следующее мгновение пар опутал ее высокую стройную фигуру, и она исчезла из вида.
Марцелла
— Ты снова о чем-то задумалась, — заметил Домициан.
— У меня такая привычка, мой господин, — улыбнулась Марцелла. Домициан обожал, когда его называли господином, ведь теперь он был сыном правящего императора. Впрочем, сегодня он лишь пристально посмотрел на нее.
— Не люблю женщин, которые слишком много думают.
— В таком случае, почему я тебе нравлюсь?
— Не знаю, — Домициан схватил обнаженную ногу Марцеллы и прижался губами к ее лодыжке. — Ты прекрасна.
Отбросив в сторону простыню, он осыпал поцелуями ее ногу, Марцелла лежала, лениво откинувшись на шелковые подушки. У изголовья постели, с отсутствующим взглядом стоял раб и обмахивал их опахалом. Второй застыл у двери, на всякий случай держа в руках поднос с вином и сластями.
Сыну императора только самое лучшее, подумала Марцелла.
Ему и его любовнице.
Впрочем, это не входило в ее планы. Более того, она была убеждена, что Домициан бросит ее. Слишком много женщин добивались его благосклонности. Но он даже не смотрел в их сторону —
пока не смотрел. И когда Марк Норбан был с ней груб, нет, не просто груб, а когда он унизил ее, Домициан вновь стал казаться ей вполне пригодной партией. Лучше иметь любовника, которым я могу вертеть, как захочу, чем того, у кого имеется собственное мнение. К тому же он сын императора.
Сын, но, увы, не единственный. Марцелла в очередной раз задумалась об этом, когда Домициан откинул ее на подушки и вновь принялся осыпать поцелуями.
— Ты уже виделся с братом? — прошептала она, выгибаясь дугой под его ласками.
— Да, когда он вернулся.
— Народ его любит, — бесхитростно заметила Марцелла, когда Домициан намотал на руку ее волосы. — Слышал бы ты, какого ликования он удостоился вчера на форуме. Когда твой отец публично объявит его наследником?
Домициан моментально ощетинился.
— Возможно, Тита и объявят наследником, однако Несс говорит, что у него никогда не будет сыновей. Так что императорский венец после него унаследую я. И меня будут величать господином и богом. А тебя — госпожой и богиней.
— О, великая Фортуна, какие пышные слова! — Марцелла посмотрела на сереющее небо в окне. — Неужели уже светает?
Домициан на целую неделю увез ее с собой в Арицию, на одну из новых императорских вилл. Надо сказать, что момент он выбрал на редкость удачный. Марцелла отдавала себе отчет в том, что сестра и кузины на нее злы. Так что пусть немного остынут в ее отсутствие. Позднее она еще успеет проведать сестру и попытается вновь наладить с ней отношения. Сейчас все мысли Корнелии заняты предстоящей свадьбой, и она вряд ли станет вспоминать обиды. Тем более что за всю свою жизнь они с ней никогда серьезно не ссорились. Разве что в детстве из-за кукол. Что касается Лоллии, то та слишком легкомысленна, чтобы долго на кого-то злиться. Диана же после последней победы «красных» вряд ли помнит что-либо еще. Не сейчас, так чуть позже, они все ее простят. А пока Марцелла сказала Гаю, что уезжает погостить у подруги. Гай, конечно, пытался возражать, но она, оставив без внимания его протесты, отправилась с Домицианом в Арицию.
Еще никто не был так страстно в нее влюблен. Что ж, приятное разнообразие. В отдельные дни Домициан не выпускал ее из постели весь день. Но даже в те минуты, когда они не предавались любви, его рука властно лежала на ее плече или шее. Он дарил ей драгоценности, а затем грозился, что отнимет их у нее. Он передразнивал ее сочинения, а затем молил у нее за это прощения. Домициан приходил в ярость, стоило ей выйти одной хотя бы на час на прогулку, и начинал обвинять ее в том, что она якобы встречается с любовником. Тогда он вновь затаскивал ее в постель и клялся, что готов услаждать ее вечно. Марцелла была от всего этого в восторге. И время от времени заводила разговоры о Тите.
Мол, он любимец толпы, такой милый, такой решительный.
Не то, что этот молчун Марк Норбан. Я могла бы сделать его императором, а теперь ему в лучшем случае светит скромная карьера в сенате. Тит, если верить имеющимся у нее сведениям, имел все для того, чтобы стать блестящим императором — был решителен и честолюбив. И как было бы хорошо, если бы младший брат стал для нее мостиком к старшему.
— Куда ты? — требовательно спросил Домициан, когда она выскользнула из постели.
— Мне пора домой. Ты же знаешь, у моей сестры в скором времени свадьба, — Марцелла протянула руки. Оба раба тотчас послушно сделали шаг навстречу и принялись надевать на нее платье.
— Ты останешься со мной! — возразил Домициан и присел на кровати.
— Не могу. Мои родные будут меня искать.
— Тебе больше не придется волноваться из-за твоих родных. — Домициан откинул в сторону простыню. — Собирай вещи, мы уезжаем.
— Но куда, господин? — удивилась Марцелла.
— Тебя это не касается. Пока. — Домициан уже натягивал через голову тунику.
— Пока?
— Я скажу тебе, когда сочту нужным.
— Получается, что до того мне ничего не полагается знать?
— Именно так, — ответил Домициан и вышел из комнаты.
Пока Марцелла собирала вещи, чтобы тоже выйти к нему, он нетерпеливо ждал на улице паланкин. Второпях Марцелла вышла к нему с распущенными волосами. Обычно Домициану это нравилось, но сегодня, пока она садилась в палантин, он даже не посмотрел в ее сторону. Наверно, испытывает меня? Впрочем, она была уверена, что в такую жару Домициан вряд ли станет долго играть с ней в молчанку. Да и вообще зачем ему это нужно? О боги, каким железным терпением нужно обладать, когда имеешь дело с ревнивым мальчишкой!
Тем не менее Домициан хранил молчание всю дорогу, пока они ехали из Ариции, и Марцелла была готова к тому, что он без лишних церемоний высадит ее у дверей дома. Однако, поравнявшись с семейным особняком Корнелиев, носильщики даже не замедлили шага и по-прежнему двигались мелкой рысью. Марцелла удивленно выгнула бровь.
— И куда мы?..
— Тсс! — перебил ее Домициан. Вскоре носилки уже приблизились к императорскому дворцу.
— Ты мог бы сказать, что везешь меня во дворец, — упрекнула его Марцелла. — В последний раз, чтобы потом отправить меня домой.
— Ты и так дома.
— Что ты хочешь этим сказать?
Домициан сомкнул пальцы вокруг ее запястья и рывком вытащил ее из носилок. Не успела Марцелла перевести дыхание, как он уже торопился вверх по лестнице, мимо изумленных рабов, затем вдоль длинной колоннады, затем вдоль еще одной. Вскоре залы официальных приемов остались позади, и они оказались в личных покоях императора. Домициан распахнул перед ней несколько дверей, и Марцелла оказалась в небольшой, облицованной зеленым мрамором комнате, посреди которой в полу был устроен бассейн, и из-под высокой арки открывался вид на другие комнаты.
— Теперь ты живешь здесь, — произнес Домициан. — Ну, как, нравится?
— Но как я могу здесь жить? — растерянно спросила Марцелла.
— Очень просто, — ответил Домициан. От быстрой ходьбы на его верхней губе поблескивали капельки пота. — Сегодня твой муж официально поставлен в известность, что ты ему больше не супруга.
— Что? — И Марцелла расхохоталась.
— Не смей надо мной смеяться! — оскорбился Домициан. — Отныне ты моя жена. Завтра утром, еще до приезда моего отца, состоится наше бракосочетание.
— Но ведь он наверняка был бы против! — Не пройдет и недели, и она вновь станет разведенной женщиной, как только отец Домициана или даже его брат, узнают про этот скоропалительный брак. Хотя кто знает, может, они не станут возражать, в надежде на то, что как только страсть юноши пойдет на убыль, он сам разведется с ней.
Затем Домициан, громко разговаривая, потащил Марцеллу по другим комнатам ее нового обиталища. Ванная, опочивальня с необъятных размеров кроватью, просторный таблинум с арочными окнами и целой стеной полок, уставленных свитками. Марцелла провела пальцами по гладкой поверхности письменного стола, на котором уже лежали чистые свитки пергамента, восковые таблички и перья.
Может, не так уж и плохо побыть пусть даже всего несколько недель или месяцев супругой императорского сына. Будучи супругой Люция, она постоянно ощущала ущербность своего положения — вроде уже не юная девушка, но и замужней матроной в полном смысле этого слова ее тоже нельзя было назвать. Когда же Домициан пресытится мной, я просто больше не выйду замуж.
Корнелия Секунда, известная как Марцелла, супруга сына императора. Ну, кто бы мог подумать!
— Видишь? — прошептал позади нее Домициан, касаясь губами ее шеи, и вновь потянул ее в постель. — Я же говорил тебе, что ты будешь моя.
— Какой ты, однако, своевольный, — пробормотала Марцелла между поцелуями. — Твой брат рассвирепеет, когда узнает.
— Подумаешь! Какая мне разница. — Руки Домициана нетерпеливо потянулись к подолу ее платья.
— Но ведь он наследник трона и может делать все, что ему вздумается.
В первый момент она даже не поняла, что ей больно. Лишь оторопела от неожиданности, когда Домициан с размаха ударил ее по лицу.
— Не подначивай меня, — спокойно добавил он.
На какой-то миг ей показалось, будто она вновь вернулась в залитый солнцем атрий и Марк Норбан смотрит на нее, не скрывая неприязни. Или в банях, когда на лице Дианы читалось откровенное презрение.
— Я не подначиваю, — вот и все, что смогла она сказать.
— О, еще как! — Домициан уже вошел в нее, давил всем своим весом ей на грудь. Однако на какой-то момент он замер, чтобы посмотреть в ее наполнившиеся слезами глазами. — Ты всех подначиваешь, Марцелла. И умеешь это делать с умом. Я не люблю умных женщин, но на тебя я управу найду. Так что даже не пытайся играть со мной в свои игры. Больше ни единого намека на Тита. Он тебя не касается, равно как и мой отец. Теперь твоя главная забота — это я!
— Разумеется, — Марцелла нежно обняла его за шею, однако Домициан резко убрал от себя ее руки.
— Ты будешь вести хозяйство в моем доме, — сказал он, и его тяжелая рука опустилась ей на горло. — Ты будешь согревать мне постель, — пальцы больно впились в ее плоть. — Ты родишь мне детей. — Хватка сделалась еще жестче. — Вот твои обязанности супруги, Марцелла. Твой долг истинной римской матроны. И ничего более.
Она попыталась что-то сказать, но его рука сдавила ей горло, подобно удавке. В глазах у нее плясали черные точки. Сверля ее пронзительным взглядом черных глаз, Домициан тем временем вновь пришел в движение внутри нее. И пока, в полном молчании, не кончил, его рука тяжелым камнем лежала на ее горле.
— Прекрасно, — весело произнес он, вставая с постели. Марцелла тоже приподнялась, жадно хватая ртом воздух. — Сейчас я отправлю своего управляющего, чтобы он поставил в известность твою семью и забрал твои вещи. Это крыло императорского дворца в нашем полном распоряжении. Сегодня за ужином я представлю тебя брату.
Марцелла закашлялась, и Домициан с легким удивлением посмотрел в ее сторону.
— Тит не станет возражать против этого брака, если это тебя беспокоит. У него самого нет ни малейшего желания жениться во второй раз, как и у нашего отца. Так что их вполне устроит, если супругой обзаведусь я. Как дочь полководца Гнея Корбулона, ты отлично подходишь на роль жены императорского сына. Может даже, самого императора.
Марцелла надрывно втянула в себя воздух. Дыхание по-прежнему давалось ей с трудом. Руки ее тряслись, а внизу живота появился неприятный холодок. Она до сих пор ощущала его руку на своем горле, видела перед собой эти странные, неподвижные черные глаза. Боги, как не были они похожи на глаза веселого, румяного юноши, который сейчас весело разглагольствовал перед ней, поправляя на себе одежду. Это были глаза совершенно другого существа.
— Как ты понимаешь, я в один прекрасный день стану императором. Несс тоже так говорит. По его словам, я буду господин и бог Рима, а ты — его госпожа и богиня. Если я не ошибаюсь, ты бы была не против? — он убрал локон от ее лба. Марцелла слегка отстранилась, но Домициан как будто этого не заметил. — Разумеется, даже госпожа и богиня в первую очередь жена. Ты будешь заниматься домой и семьей, и не станешь совать нос в государственные дела. Я никогда не следую женским советам.
Домициан хлопнул в ладоши, и в комнату вошли несколько юных рабынь. Все до одной низко поклонились Марцелле.
О, Фортуна, неужели они еще раньше, чем я, знали, что Домициан намерился сделать меня своей женой?
— Это твои новые горничные, — тем временем продолжал Домициан. — Переоденься к ужину, но только не надевай зеленое. Терпеть не могу этот цвет. Ах да, — добавил он, как будто что-то вспомнил. — И никакой писанины. Впрочем, на это у тебя не останется времени. Кроме того, это занятие не пристало невестке императора. Этот стол предназначен лишь для того, чтобы писать за ним письма. Естественно, перед тем, как их отправить, я буду их просматривать.
Дыхание Марцеллы вырывалось из груди короткими всхлипами. Нет, нет, нет, мысленно повторяла она, как молитву, однако стоило ей открыть рот, как все слова, и даже дыхание застряли у нее в горле.
В комнату, ведя за руку маленькую девочку, вошла еще одна рабыня. Ребенок был на год или два младше Флавии, однако куда серьезнее. Девочка пристально посмотрела на Марцеллу сквозь завесу длинных, прямых белокурых волос.
— Это вторая дочь моего брата, Юлия Флавия, — как ни в чем не бывало продолжал Домициан. — Он давно развелся с ее матерью, точно так же, как и с твоей взбалмошной кузиной Лоллией. Я поручаю тебе заботу и присмотр за этим ребенком. Думаю, это тебя вполне устроит, пока у нас с тобой не будет собственных детей. Я достаточно тебя пропахал, так что за этим дело не станет. Думаю, что ты уже беременна.
— Нет, — пробормотала Марцелла, однако Домициан ее не слушал.
— Меня ждет брат. Распорядись, чтобы к завтрашнему дню был готов брачный наряд. Увидимся за ужином, — и он, как ни в чем не бывало, легонько поцеловал ее в щеку. — И еще одна вещь. Мне страшно не нравится имя Марцелла. Придется придумать для тебе новое.
С этими словами он ушел. Марцелла осталась стоять, глядя ему вслед. Ею владел такой ужас, что ноги, казалось, приросли к мраморному полу.
— Госпожа, — обратилась к ней рабыня и подтолкнула вперед племянницу Домициана. Однако Марцелла оттолкнула девочку от себя. Ее душили рыдания.
Нет, нет, мне ничего этого не нужно. Я не хочу никаких детей, никаких пиров, никаких примерок, никаких дворцовых обязанностей. Это не для меня. Не для историка Марцеллы, не для той, что низложила четверых императоров.
Увы, рядом с ее дверью уже встал караул преторианцев — охранять ее и шпионить за ней, а по ту сторону дверей, среди мраморных колонн, уже толпились любопытные придворные. Со всех сторон ее окружала толпа, и она поняла, что ей больше никогда не знать одиночества.
Если Домициан добьется своего, то я стану императрицей, с ужасом подумала Марцелла.
И тогда не в моей власти будет его свергнуть.
Да, не в ее власти. Потому что еще раньше Домициан пресытится ею и потребует развода. И тогда ее жизнь вернется в прежнее русло.
О, Фортуна, пусть это произойдет как можно скорее. Клянусь тебе, я больше никогда не стану менять императоров!
— Госпожа, — прервал поток ее мыслей чей-то негромкий голос. — Рад приветствовать тебя во дворце. Мы уже встречались, причем не раз. Меня зовут Несс.
— Несс? — машинально переспросила Марцелла.
— Мой господин Домициан назначил меня придворным астрологом.
Марцелле отвесил поклон невысокий, пухлый мужчина, уже слегка лысеющий, несмотря на довольно молодой возраст. Одет он был в мантию, вышитую астрологическими знаками.
— Он велел мне, чтобы я представился. Однако, как я вижу, у тебя и без того хватает дел, поэтому не стану тебе докучать.
— Погоди, я тебя знаю. Ты тот самый астролог, на которого Домициан постоянно ссылается — он свято верит в твои предсказания.
Марцелла изловчилась и схватила Несса за рукав.
— Признавайся, ведь это ты сказал ему, что я буду его женой? Быстро отвечай! Если да, то измени свое предсказание! Скажи ему, что хорошей жены из меня не получится, сообщи ему, что у меня никогда не будет детей…
— Верно, хорошей жены из тебя не получится, — согласился Несс. — И у тебя никогда не будет детей, но я здесь не при чем. Кроме того, в том настроении, в каком он пребывает, Домициан не станет никого слушать. Так что ни о чем не проси. А пока до свидания.
Несс попытался освободить рукав, но пальцы Марцеллы мертвой хваткой вцепились в ткань. Рабы растерянно уставились на них, однако Марцелле было все равно.
— Что ты хочешь этим сказать?
— О боги, зря я не открыл винную лавку! — пробормотал Несс. Он расправил плечи, встав перед ней в полный рост, однако по-прежнему не решался смотреть ей в глаза. — Извини, госпожа, но я ничем не могу тебе помочь.
— В таком случае хотя бы прочитай мои звезды. Или мою руку, если это требует меньше времени.
Ты ведь не веришь в астрологию, раздался в ее голове насмешливый голос,
а также в шарлатанов, которые гадают по ладони. Тем не менее она торопливо протянула руку.
— Прочти, что говорят линии на моей ладони, и скажи Домициану, что звезды утверждают, что он разведется со мной уже через месяц.
— О, только не это! — Несс убрал руки за спину. — Я уже как-то раз читал твою ладонь, так что с меня достаточно. После этого я пил целую неделю и даже подумывал о том, чтобы сменить профессию. Нет-нет, уволь меня, госпожа. Свое будущее ты в состоянии увидеть сама.
— Ты никогда не читал мою руку. Более того, я не люблю астрологов…
— Когда тебе было десять лет, ты решила, что будет весело послушать, что я тебе скажу.
Марцелла в упор посмотрела на него. В детстве она и ее кузины, весело хихикая, не раз, забавы ради, просили гадалок на форуме предсказать им судьбу. Неужели это был Несс?
— Зачем ты сказал Домициану, будто мне судьбой предначертано стать его императрицей? Зачем?
— Потому что так оно и есть, — устало ответил Несс и зашагал в сторону атрия.
— Но это же курам на смех! — воскликнула Марцелла и бросилась вслед за ним. Рабы расступились в стороны и без стеснения шушукались между собой. Малышка Юлия поспешила вслед за Марцеллой на коротеньких ножках. — Ты говоришь Домициану то, что он хочет от тебя услышать. Ты готов на что угодно, лишь бы только он тебя не прогнал. Ты настоящий мошенник!
— Да, и меня это устраивает, — обернулся к ней Несс посреди облицованного зеленым мрамором атрия. — Да, я говорю людям то, что они хотят услышать. Согласен, это не слишком благородное занятие, но по крайней мере оно меня неплохо кормит и дает крышу над головой. Тогда я посмотрел на твою детскую руку, и теперь, спустя годы, все сбывается! Абсолютно все! Ты хотя бы представляешь себе, какие неудобства это создает?
— В таком случае прочти мои лини судьбы снова! — крикнула в отчаянии Марцелла. — Пусть сбудется что-нибудь еще!
— Извини, госпожа, но так не бывает. Ты станешь женой Домициана, а впоследствии императрицей, и ни ты, и ни я не в состоянии этого изменить.
Марцелла раскрыла рот. Губы ее пересохли, стали похожими на старый пергамент. Мысли кружились с бешеной скоростью, ускользая в бессмысленную пустоту. Малышка Юлия догнала ее и пухлыми детским пальчиками вцепилась ей в подол. Несс посмотрел на девчушку и сделал печальное лицо.
— Лучше присмотри вот за ней, — устало произнес он. — Потому что если этого никто не сделает, то ее жизнь будет столь же несчастна, что и твоя собственная.
— Ты лжешь! — прошептала Марцелла.
— Что ж, пусть будет так, если ты в этом уверена, госпожа, — с этими словами Несс повернулся и зашагал прочь, мимо просителей, которые уже толпились под дверью жены императорского сына.
Марцелла тяжело опустилась прямо на мраморный пол.
— Он лжет! — повторяла она. — Он лжет!
Малышка Юлия забралась к ней на колени и уткнулась носиком ей в плечо. Марцелла сделала вид, будто не заметила. В эти мгновения она отчаянно пыталась поверить в собственную ложь.
(обратно)
Глава 24
Корнелия
Первый день нового года принадлежит Янусу, богу дверей, богу начал, и как обычно в этот день Корнелия и ее кузины обменивались монетками, на которых был изображен его двойной профиль. Одно лицо смотрело вперед, другое было повернуто назад, и в первый день этого года в этом двуличии бога имелся особый смысл. Взгляд Корнелии вместе с остальным Римом был устремлен вперед, на императора Веспасиана, когда тот с триумфом входил в город. И вместе с тем, она то и дело невольно оглядывалась назад, вспоминая императора, растерзанного толпой на форуме, затем еще одного, тот с войском пошел на север, где потерпел сокрушительное поражение, а затем третий. Этот встретил свою позорную смерть один, и не где-нибудь, а в конюшне.
Сегодня, в первый день нового года, Веспасиан вошел в Рим. Позднее Корнелия узнала, каким ликованием его приветствовала толпа. Но ее самой там не было. Потому что предстояло произнести другие, куда более важные слова.
—
Если ты Гай, то я — Гайя. — Рука Друза крепко сжала ее руку, когда она произносила священные слова брачного обета. И даже сквозь завесу полупрозрачного покрывала ей были видны слезы в его глазах. Такое скромное бракосочетание, вокруг алтаря собрались лишь родные и самые близкие друзья. Лоллия от любопытства вытягивала шею и поднималась на цыпочки. Диана как всегда опоздала. Родители Друза и его сестра стояли чуть в сторонке, гордые и одновременно слегка сконфуженные. Марцеллы не было, даже супруга императорского сынка понимает, что неразумно появляться там, где ей не рады. За что Корнелия была ей благодарна.
Жрец привел для брачного жертвоприношения белую козочку, а Друз вновь сжал Корнелии руку. Та подняла глаза на мраморную статую Юноны, которая, казалось, смотрела на нее взглядом мраморных глаз.
Неужели она улыбается мне? Впрочем, почему бы нет?
Коза вырвалась из рук жреца и с блеяньем побежала по улице. Жрец громко выругался. Корнелия невольно захихикала. Друза душил смех, и он не мог вымолвить даже слова.
— Не надо ее ловить! — крикнула Лоллия. — Какая-нибудь женщина в бедном квартале будет рада бесплатно обзавестись козой. Она будет доить ее каждый вечер. Это куда лучшее предзнаменование, чем наши забрызганные кровью ноги.
Корнелия была с ней полностью согласна.
Затем молодожены и гости направились в сторону дома деда Лоллии, который предложил, чтобы свадебный пир состоялся у него. Друз привлек Корнелию к себе и, убрав от ее лица фату, поцеловал.
— Ты теперь моя, — прошептал он, и его рука скользнула к ее уже заметно округлившемуся животу.
— Твоя, — прошептала она в ответ. В красно-золотом одеянии центуриона преторианской гвардии он выглядел весьма внушительно, и все благодаря императору Веспасиану. «Была ли я так счастлива, когда выходила замуж в первый раз?» Корнелия не знала. Возможно, этот вопрос не требовал ответа. Может, довольно того, что на роду у нее написано выйти замуж дважды, причем оба раза за достойных мужчин.
— Юнона всемилостивая! — воскликнула Корнелия, когда они сквозь двойные двери вошли в атрий. Колонны были увиты гирляндами мирта и жасмина, из фонтана било фалернское вино. Откуда-то доносились нежные звуки лир, ноздри щекотали ароматы изысканных блюд. — Лоллия, ты явно перестаралась!
— Неправда. Пусть это бракосочетание слегка поспешное, однако никто потом не скажет, что все было сделано наспех. К тому же это не я, а мой дед. Это все сделано его стараниями, — Лоллия обвела довольным взглядом атрий. — Ты даже не представляешь, как это приятно заниматься свадебными приготовлениями, если это не твоя, а чья-то еще свадьба!
— Тебе, моя дорогая, только самое лучшее, — дед Лоллии нежно ущипнул Корнелию за щеку. — Мое сокровище рассказала мне, что ты утешала ее, когда она вышла замуж за это злобное чудовище Валета.
Корнелия посмотрела на пухлое лицо Париса, — казалось, оно лучилось радостью — и бросилась ему на шею.
Ну почему я когда-то стеснялась того, что он мой родственник? Она вспомнила собственного отца, который даже не присутствовал на ее первой свадьбе и с трудом отличал ее от сестры.
Дед Лоллии сделал для меня больше, чем мой собственный отец.
— А теперь я хотел бы поговорить с тобой, — обратился Парис к Друзу, отводя его в другой конец атрия. — Нашего бравого солдата вышли встречать слишком много гостей. Посмотрим, что можно сделать, чтобы из тебя вышел настоящий командир в Таррацине.
Тем временем, охая и ахая от восторга при виде свадебного убранства, в дом прибывали гости. Корнелия обняла Лоллию рукой за талию.
— Полагаю, в самое ближайшее время мы устроим еще один праздник, в честь твоего замужества.
— Да, за родственника Веспасиана, — легкомысленно ответила Лоллия. На ней было ярко-желтое платье с вышитым поясом — гораздо более скромный наряд, чем она обычно носила. В волосах вместо рубинов алые маки. Кстати, отметила про себя Корнелия, сами волосы выкрашены в более сдержанный оттенок рыжего. — Если не ошибаюсь, его имя Гней Флавий. Или Публий? Ничего, вскоре мы это выясним.
— Госпожа, — рядом с Лоллией возник рослый золотоволосый галл. — Управляющий спрашивает, начинать ли музыкантам играть.
— Ну, конечно, Тракс! И, пожалуйста, пусть вино льется рекой, — Лоллия, сияя счастьем, вновь повернулась к Корнелии. — Я отныне должна добавлять «пожалуйста», потому что Тракс теперь вольноотпущенник. Его освободили на прошлой неделе. И если я не буду говорить с ним учтиво, он может меня бросить.
— Сомневаюсь, — с улыбкой ответила Корнелия. Раб, вернее, вольноотпущенник, стоял и не спешил никуда уходить. Лоллия взяла его под руку, и его пальцы безмолвно сжали ее пальцы. — Кстати, я вижу у тебя новое кольцо.
— Ах, да! — Лоллия с восхищением посмотрела на простое железное колечко на безымянном пальце левой руки. — Правда, симпатичное? Тракс подарил его мне, когда я его освободила.
— А что будет, когда твой новый муж наденет тебе на этот же самый палец другое кольцо? — задумчиво спросила Корнелия.
— О, его можно будет надеть сверху! Потому что это не снимается.
К ним подошла Диана в золотистом шелковом платье. Ее наряд отличался оригинальностью: почти под самое горло впереди, сзади он оставлял спину открытой почти до самое поясницы. Под руку она держала мужчину — седого и слегка кособокого. Корнелия сразу его узнала — это был сенатор Марк Норбан.
— Марк! — воскликнула она, когда он склонился над ее рукой. Несколько месяцев за тюремной решеткой оставили на нем жестокий отпечаток. Корнелия тотчас решила, что непременно должна найти для него новую жену. Поскольку она сама вновь была замужем, ей хотелось осчастливить весь мир. — Вскоре мы будем веселиться на вашей свадьбе, — сказала она ему.
— Вряд ли. Мне никогда не везло с женами. Этот Несс, о котором все говорят с тех пор, как Домициан назначил его придворным астрологом, сказал, что мне не стоит жениться снова. Обычно я не верю в предсказания астрологов, однако… — Марк посмотрел в сторону Туллии. Та, стояла рядом с Гаем, царапая плечо мужа острым ногтем. — Думаю, мне не стоит искушать судьбу.
— Чепуха, Марк! — с легкой укоризной воскликнула Корнелия, а сама подумала,
может, он прислушается к Друзу?
Втроем они пошли дальше. Диана весело щебетала о чем-то своем, Марк исподволь наблюдал за ней с легкой улыбкой, как будто она была неким любопытным природным явлением, вроде двухголового теленка.
Лоллия хлопнула в ладоши, и барабанщики тотчас ударили в барабаны, давая гостям знак, что те могут занимать свои места. Свадебный пир начался. Судя по тому, что говорили о ней позднее, это была самая лучшая свадьба за весь год! Даже рабы, и те выглядели счастливыми, смеялись и разговаривали между собой, поднося к столу вино, серебряные чаши с фруктами, жареного поросенка, сдобренного жареными листьями шалфея и чесноком. Друз и Корнелия заняли почетное пиршественное ложе. Друз тотчас принялся ухаживать за своей беременной невестой — наполнил вином кубок и по ее просьбе развел его водой. Корнелия рассмеялась и кинула в него виноградиной. Лоллия держала на коленях малышку Флавию и щекотала ее павлиньим пером. Тракс, сияя улыбкой, как верный страж, занял место за их спинами. Дед Лоллии щегольски надел на парик лавровый венок и уже вел разговоры с каким-то гостем в парадной тоге, не иначе как заключал очередную сделку. Родители Друза скромно расположились на ложе рядом с сыном. Впрочем, Корнелия тотчас стащила их оттуда и повела по залу, чтобы представить присутствующим, пока они наконец не стряхнули с себя робость.
— На всех твоих кузинах такие красивые платья, — застенчиво заметила сестра Друза, и Корнелия тотчас взяла эти ее слова на заметку. В самое ближайшее время она непременно должна обновить гардероб девушки.
Диана стояла, прислонившись к колонне, и подбрасывала виноградины, которые затем, словно заправский циркач, ловила ртом. Корнелия не удержалась и в шутку обняла ее из-за спины. Виноградина пролетела мимо рта.
— Ты опоздала на мою свадьбу, — попеняла она кузине. — Как прошли гонки?
— «Красные» пришли первыми. Семь раз из восьми. — Диана обняла ее в ответ, осторожно, словно боялась задеть живот.
— Даже если я беременна, не бойся, я не стеклянная и не разобьюсь.
— Я знаю, как надо обращаться с беременными кобылами, — ответила Диана. — А вот беременная кузина — такого опыта у меня еще нет. Сомневаюсь, что тебя можно накормить горячим овсом или обернуть тебе копыта куском шерстяной ткани.
Корнелия рассмеялась.
— Пока меня не разнесло до размеров дома, мы с тобой непременно должны вместе сходить на бега. Ты, я и Друз. Думаю, до отъезда в Таррацину мы выкроим время.
Друз получил туда назначение командиром учебного лагеря, а Гай, — ну кто бы мог ожидать от него такой щедрости! — не взирая на яростные протесты Туллии, преподнес им в качестве свадебного подарка виллу. Ту самую виллу, где в течение двух коротких недель они были так счастливы и мечтали о том, как по винограднику в один прекрасный день будут бегать их ребятишки.
— Между прочим, мы с Друзом подумали, а не купить ли нам лошадей, — радостно щебетала счастливая Корнелия. — И еще виноградник. Друз хотел бы делать самое лучшее вино в округе. — Она заметила, что Диана с трудом подавила зевок, однако не могла удержаться и выложила свои намерения относительно того, какой будет комната ее будущего ребенка, которого, если это будет девочка, в честь отца назовут Друзиллой, а если мальчик, то Друзом.
— О боги! — к ним присоединилась Лоллия в своем солнечном платье. Правда, выражение ее лица было совсем не солнечным. — Вы только подумайте, кто приехал сюда, чтобы испортить нам праздник.
— Она не посмеет, — с угрозой в голосе произнесла Диана.
— Теперь она супруга императорского сына, моя дорогая. И может делать все, что ей вздумается.
Грянул гром рукоплесканий, и они посмотрели в другой конец зала. Корнелия не видела Марцеллу с того дня, когда та молча поднялась и ушла в клубящийся паром кальдарий. Лишь слышала ее имя, когда по городу на крыльях ветра разнеслась неожиданная новость — Домициан взял Марцеллу в жены. Корнелия не сразу узнала сестру — усыпанная драгоценностями, та стояла в дверях зала, держа под руку Домициана. Дед Лоллии вышел к ним, чтобы поприветствовать
высокопоставленную чету. Гости также поспешили отвесить поклоны. Когда же Домициан повел молодую жену через весь зал, приглушенный гул голосов перерос в оглушительный рев.
— И все-таки так нечестно! — сокрушенно воскликнула Корнелия. — Веспасиан неженат, Тит тоже. И вот теперь Марцелла исполняет роль императрицы. После того что она натворила, она стала первой женщиной Рима.
— А может, в один прекрасный день и настоящей императрицей, — добавила Диана. — При условии, что Домициан сам когда-нибудь облечется в пурпурную тогу.
— Этому не бывать! — фыркнула Лоллия. — Какой урок преподал нам этот год? Что никто, кто стоит в очереди к трону, до него не доходит. Марцелла лишь тогда станет императрицей, когда уберет со своего пути и Веспасиана, и Тита.
— О, в таких делах она мастерица! — заметила Диана. — Вспомните ее успехи за последний год.
Все трое переглянулись, а затем посмотрели на Марцеллу. К той уже выстроилась очередь гостей, желающих поцеловать ее унизанную кольцами руку.
— На ней пурпур, — вздохнула Лоллия. — Когда-то мы по праздникам все надевали один цвет.
Четыре Корнелии всегда одевались в тон друг дружке. Вот и сегодня Лоллия и Диана отдали предпочтение оттенкам желтого, в тон свадебному шафранному наряду Корнелии. Но только не Марцелла. Корнелии вспомнился день гонок, чуть больше года назад, когда они все четверо, в надежде на счастливое будущее, оделись в красное. Сама она нарядилась дорого и вместе с тем элегантно, чтобы быть похожей на императрицу. Лоллия, как обычно, допустила в своем наряде немного вульгарности. Марцелла была сама строгость, никаких излишеств, никаких украшений. И вот сегодня именно Лоллия нежна и женственна. У Корнелии было такое ощущение, будто ее собственные волосы змеями извиваются вокруг шеи. Марцелла же стояла на другом конце зала, неподвижно, как статуя, облаченная в плотный шелк. Жесткие локоны убраны наверх, на шее столько ожерелий, что она не в состоянии повернуть голову. Марцелла посмотрела через весь зал на Корнелию. Та ответила ей взглядом, однако в следующий миг рука Домициана цепко взяла супругу за локоть. Корнелия заметила, как сестра тотчас потупила взор и покорно пошла за ним следом.
— Что нам с ней делать? — задумчиво спросила Лоллия.
— Я никогда не обмолвлюсь с ней даже словом, — негромко сказала Корнелия. Тем не менее она не удержалась и бросила взгляд через триклиний, туда, где после обмена любезностями с гостями Домициан и Марцелла расположились на почетном ложе. Корнелия сопровождала сестру не на одном десятке пиров: Марцелла обычно возлежала на ложе, опершись на локоть и зажав в другой руке полный кубок, к которому даже не притрагивалась губами, наблюдала за гостями и едва заметно улыбалась каким-то собственным мыслям. Сегодня она лежала рядом с Домицианом и, опустив ресницы, жадными глотками пила из кубка вино. Лежала не пошелохнувшись, не проронив ни слова.
— Я не совсем уверена, — произнесла спустя какое-то время Диана, — что нам нужно что-то делать.
— Что ты хочешь сказать? — удивилась Корнелия.
— О, у меня только что была интереснейшая беседа с Марцеллой! — влезла в их разговор Туллия. Складки ее роскошно вышитого платья разлетались во все стороны. — Как прекрасно снова ее увидеть! Вообще-то ей давно пора пригласить нас к себе в гости во дворец, но, с другой стороны, ей нужно было время, чтобы освоиться со своими новыми обязанностями. Кстати, они с Домицианом могли бы и не делать из своего бракосочетания такого громкого события, но уж такова нынешняя молодежь! — Туллия трещала, обращаясь главным образом к Диане, поскольку до сих пор неодобрительно относилась к браку Корнелии. С Лоллией же она вообще никогда даже не заговаривала. — Подумать только! Нашу Марцеллу взял в жены сын самого императора!
— Я ненавижу Марцеллу, — отозвалась Диана.
— …и теперь она взяла на себя заботу о дочери Тита, Юлии! Какая это для нее замечательная школа, пока у нее нет собственных детей! Она даже попросила моего совета, какие блюда приготовить для придворного пира, который состоится на следующей неделе. И еще новость! Она оставила свою писанину! Я всегда знала, что ей требуется твердый и решительный муж, который бы умел поставить ее на место, если он хочет иметь образцовую супругу…
— Корнелия, позволь поздравить тебя с бракосочетанием, — раздался позади Туллии негромкий голос. — Я так за тебя рада. Лоллия, Диана, как давно я вас не видела!
Марцелла — словно выточенная из мрамора статуя, с ног до головы в драгоценностях — совсем не похожая на себя прежнюю. Приглядевшись, Корнелия заметила, что браслеты на ее руках надеты неспроста — под ними виднелись багровые кровоподтеки.
— Я принесла тебе свадебный подарок, — продолжала тем временем Марцелла и протянула ей перевязанный лентой свиток. — Я попросила Несса составить для тебя гороскоп. По его словам ты родишь девочку. После нее у тебя будет еще пара девочек и пара мальчиков. Разумеется, Несс всегда говорит то, что от него хотят услышать. Но я думаю, его предсказание будет тебе приятно.
Но Корнелия не протянула за свитком руки, и Марцелла в конце концов была вынуждена вручить его стоявшему рядом рабу.
— Почему бы вам не проведать меня во дворце? — продолжала она, словно не замечая, что Корнелия стоит перед ней, не проронив ни слова в ответ. — Домициан не позво… считает, что в моем положении неприлично самой ходить в гости за пределами дворца.
— Боюсь, что я слишком занята, — холодно ответила Корнелия.
— И я тоже, — добавила Лоллия.
— Корнелия, — Марцелла протянула руку. — Почему бы тебе не принять мое приглашение? Мы посидим с тобой и от души посплетничаем, как в старые добрые времена. Вспомни, как мы с тобой в детстве потихоньку брали в постель пирожные и часами болтали, мечтая о том, как мы выйдем замуж, когда вырастем?
Но Корнелия видела перед собой Пизона, лежащего в луже крови на ступенях храма Весты. Она видела Друза с ножом в боку. Даже стоя на коленях, он пытался ее защитить. В следующий миг она почувствовала на своей руке унизанные кольцами пальцы Марцеллы.
— Прошу тебя, — прошептала та. — Я хочу назад свою сестру.
Корнелия вырвала руку.
— Какую сестру?
Марцелла в упор посмотрела на нее.
— Я непременно наведаюсь к тебе в гости! — воскликнула Туллия, словно не замечая этой сцены. — Скажи мне, малышка Юлия больше не кашляет? Я знаю одно хорошее средство от кашля, специально для детей…
Домициан уже тащил жену за руку. Марцелла бросила на прощание последний умоляющий взгляд, однако Корнелия поспешила отвернуться.
— Не думаю, что у нас есть необходимость придумывать для Марцеллы наказание, — заметила Диана. — Она уже наказана.
— Наказана? — сердито воскликнула Корнелия. — Да она почти императрица!
— Да, но зато не хозяйка самой себе, — взгляд Дианы скользнул по Домициану. Корнелия также посмотрела в его сторону. Домициан, коренастый юноша, с видом хозяина положения развалился на ложе с кубком вина в руке и вел дружескую беседу с Друзом. Все знали, что Домициан любит солдат и даже мечтал превзойти в качестве полководца своего прославленного брата. Впрочем, несмотря на улыбку и приветливый тон, взгляд его черных глаз оставался совершенно непроницаемым. — Он напоминает мне колесничих, которые рвутся к славе из самых грязных трущоб, — заметила Диана. — И даже когда они ее достигают, когда в руках у них пальмовая ветвь, а у ног сотни побед, их глазах горят все тем же неутолимым голодом. И ничто в этом мире не способно его утолить.
— О, это твои фантазии! — фыркнула Лоллия. — Он еще совсем юноша.
Марцелла вернулась к мужу — молчаливая и с ног до головы увешанная драгоценностями, — и рука Домициана тотчас легла ей на локоть. Не договорив фразы, он повернулся к ней, чтобы поцеловать ее. Впрочем, нет, со стороны могло показаться, что он готов ее сожрать.
— Марцелле не позавидуешь, — заметила Диана. — Теперь ее жизнь — лишь пиры и рабы, да еще чужие дети. А еще она совсем одна. Я бы себе не хотела такой жизни.
— Отлично, — произнесла Корнелия и вернулась к мужу. Домициан соскользнул с соседнего ложа и, увлекая за собой Марцеллу, направился к деду Лоллии, явно желая о чем-то его расспросить. Корнелия воспользовалась моментом, чтобы уютно расположиться рядом с Друзом, и потерлась щекой о его плечо.
Он нежно посмотрел на нее.
— Что такое?
— Ничего. Просто я люблю тебя.
— Наверно, все дело в сестре? — спросил Друз. Он уже успел ее выучить.
Корнелия ответила не сразу.
— Только не подумай, будто я ей завидую из-за того, что она отхватила себе такого мужа. Ничуть, я всегда бы предпочла тебя, а не Домициана.
— Спасибо, — довольно кисло отозвался Друз.
— Но ведь императрицей должна была стать я! — не сдержалась Корнелия. — А вовсе не моя младшая сестра!
— Зато ты императрица моего сердца, — попытался утешить ее Друз.
— Это не одно и то же!
Друз расхохотался и, притянув к себе, поцеловал в висок. Корнелия заставила себя улыбнуться и приняла из его рук кубок с разведенным водой вином.
Домициан провел на пиру еще час, затем неожиданно — точно так же, как и вошел сюда, — поднялся с места.
— Но ведь мы только что пришли, — попыталась протестовать Марцелла.
— Верно. А сейчас уходим. Кстати, забыл сказать вам одну вещь, — добавил он, обращаясь к присутствующим. — Я дал жене новое имя. Мне не нравится имя Марцелла, и отныне жену зовут Домиция. В мою честь.
— Домиция! — раздались со всех сторон подобострастные возгласы, за которыми последовали рукоплескания. Корнелия заметила, как сестра в ужасе обвела взглядом зал, и прониклась к ней жалостью. Увы, прежней Марцеллы больше не было. Она вернулась в императорский дворец, к той жизни, которую заслужила. И Корнелия не желала иметь с ней ничего общего. Эта Марцелла не имела никакого отношения к той маленькой девочке, которая, спрятавшись с сестрой под одеялом, тайком лакомилась пирожными и, хихикая, мечтала с ней о будущем. Оно даже к лучшему, что теперь у нее другое имя. Марцелла — ее Марцелла — мертва.
Солнце начало клониться к закату, и гости, сытые и довольные, нежились на своих ложах. Лоллия отвела Флавию наверх, чтобы уложить девочку спать, после чего сама куда-то исчезла. Дед Лоллии был слегка пьян и готов расцеловать весь мир. Лавровый венок съехал набекрень и теперь сидел на одном ухе. Перед тем как подавать десерт, в зал впорхнула группа танцоров, чтобы немного развлечь разморенных солнцем и сытным обедом гостей. Корнелия закрыла глаза и прильнула к плечу Друза — полусонная и довольная жизнью. Неожиданно внутри нее как будто затрепетал крыльями мотылек — неужели это уже дает о себе знать ребенок? Увы, следующее мгновение тишину и всеобщее умиротворение нарушил душераздирающий крик.
Музыка тотчас смокла. Корнелия открыла глаза и огляделась по сторонам. Туллия стояла, схватившись за дверь, которая вела в кухню. Обычно этой дверью пользовались только рабы, однако сейчас они все были заняты приготовлением сладких блюд. Все кроме галла-вольноотпущенника, рослого, с золотистыми волосами, который теперь был всем хорошо знаком, ибо успел примелькаться в доме. Сейчас он был занят тем, что, прижав Лоллию к стене, осыпал ее страстными поцелуями. Рука Лоллии запуталась в его волосах, а на безымянном пальце тускло поблескивало простое железное кольцо.
— Туллия, — процедила сквозь зубы Лоллия из-за широкого плеча Тракса, который тотчас замер как вкопанный. — Воспитанные люди обычно стучат.
Она притянула к себе лицо вольноотпущенника, чтобы еще раз его поцеловать, и половина гостей весело рассмеялась. Корнелии тоже стало смешно, но она стыдливо прикрыла ладонью рот. Друз также едва сдерживал улыбку.
Туллия с грохотом захлопнула дверь.
— Дорогая, — робко обратился к ней Гай, но Туллия взмахнула рукой, приказывая всем успокоиться. Увы, сделать это было невозможно, потому что весь триклиний перешептывался и хихикал. Корнелию тоже душил хохот, но она, как и положено благовоспитанной матроне, пыталась изобразить ужас.
Фу, какая бесстыжая эта Лоллия. Я возмущена. Я возмущена, внушала она самой себе. Затем она нарочито покашляла.
— Довольно, — заявила Туллия, уже без визга и шепотом. — Я сделала все, что могла. Я пыталась принести в эту семью моральные принципы. Увы, я так и не смогла! Не смогла! Сама Юнона была бы бессильна это сделать! Вы все выродки! — взгляд Туллии упал на деда Лоллии со съехавшим набекрень лавровым венком. — И плебеи! — она посмотрела на Диану. — И шлюхи!
— С каких это пор я стала шлюхой? — удивилась та.
— Тише, тише, — пытался успокоить Туллия Гай, но вместо этого стал очередной жертвой ее гнева.
— А ты! Все, с меня довольно. Не хочу тебя больше знать, тебя и всю твою опустившуюся семейку! — с этими словами она сорвала с пальца обручальное кольцо и, тяжело дыша, швырнула его Гаю под ноги. — Слышишь? Довольно!
Гай открыл рот и снова закрыл его. Лицо его залилось краской. Корнелия, не говоря ни слова, протянула ему кубок вина, который он осушил одним глотком.
— Что молчишь? — взвизгнула Туллия.
— Убирайся вон! — с яростью прошептал Гай и указал ей на дверь.
Кто-то хихикнул. Туллия обернулась, Лицо ее было багровым. В следующее мгновение весь триклиний разразился хохотом.
— О-о-о! — вновь взвыла Туллия и, развернувшись, опрометью бросилась вон. Оставалось только надеяться, что навсегда. Дед Лоллии смеялся. Диана хлопала в ладоши. Корнелия опустила голову на плечо мужу и тоже хохотала, пока из глаз не брызнули слезы.
— Эй, братец, — обратился к Гаю Друз, — выпей-ка еще.
— С удовольствием, — ответил тот и схватил целый графин.
Диана
К тому времени, когда Диана смогла уйти, уже почти стемнело. Пир, похоже, растянется до самой ночи, а Лоллия и ее вольноотпущенник успели куда-то улизнуть. Корнелия лежала, положив голову на колени Друзу. Муж поглаживал ее живот, пытаясь нащупать ребенка, который, если верить словам Корнелии, уже начал шевелиться в ее чреве. Когда Домициан со своей свитой покинул пир, астролог Несс каким-то чудом умудрился остаться и теперь направо и налево раздавал предсказания.
— Нет-нет, — усмехнулся он над розовой ладонью деда Лоллии, — не советую тебе вкладывать деньги в египетскую пшеницу, в следующем году Египет ждет страшное наводнение. А вот каррарский мрамор — совсем другое дело.
Остальные гости, которые еще держались на ногах, следовали примеру Гая, который, с тех пор как стал главой древнего и уважаемого рода Корнелиев, напился меньше других.
— Диана, — обратился он к племяннице, заметив, что та собралась уходить, и взмахнул кубком. — Ты такая хорошенькая, да-да, я всегда так считал. Это надо же управлять колесницей, как заправский возничий, и быть такой хорошенькой! Еще вина! Может, выпьешь еще кубок? — с этими словами он похлопал подушки рядом с собой. — Знаешь, а не взять ли мне тебя в жены? Надеюсь, ты не стала бы устраивать мне сцены и не набрасывалась бы на меня с кулаками? Что скажешь?
— Нет, — с улыбкой ответила Диана. — Хотя мне кажется, тебе и без меня везло с женами.
— Я позабочусь о нем, — расплылся в улыбке Друз, забирая из рук Гая кубок с вином. — А ты, если хочешь, можешь потихоньку улизнуть отсюда.
Когда Диана вышла их дома и забралась в паланкин, на улицах царило праздничное настроение. Из дверей буквально каждой таверны, пошатываясь, выходили на улицу пьяные. Повсюду, зажав в руках яркие ленты, бегали дети и бросали друг в друга монетки с изображением Януса. Ушедший год уже получил название — Год четырех императоров. Впрочем, кто поручится, что год новый не станет годом шести императоров или хотя бы трех. Или всего одного.
Император Веспасиан в эти часы наверняка возвращался к себе во дворец, где должен был состояться праздничный пир, такой же усталый и довольный, как и любой победитель после забега колесниц в Большом цирке. Новому императору Диана желала только хорошего. Он вошел в город вслед за своими вымуштрованными легионами в боевых доспехах, сидевших на нем как вторая кожа. Вернее, въехал, собственноручно управляя колесницей, что Диана тотчас оценила по достоинству. Его румяное лицо уже было ей хорошо знакомо — она каждый день видела его в мраморе на рабочем столе отца, когда тот работал над императорским бюстом резцом, старательно добиваясь абсолютного сходства.
— Все еще трудишься? — спросила она отца после парада. Бюсты Гальбы, Отона и Вителлия он изготовил гораздо быстрее.
— Да, с этим не хотелось бы торопиться, — ответил Парис, работая резцом по мрамору. — Если понадобится, я готов работать над ним годы. Потому что этот император будет править долго.
— Почему ты так считаешь? — Диана уселась на край верстака и принялась болтать ногами.
— А ты посмотри на его лицо. В нем чувствуется юмор, а императору без юмора никак нельзя. — Парис задумался. — И еще без преданных легионов.
— Ну, если ты так говоришь.
На мгновение ей стало жаль толстого, пьяного, общительного Вителлия, который до безумия любил своих «синих»… впрочем, сегодня он бы наверняка расстроился, увидев, как ее четверка выиграла семь забегов из восьми, а его любимые «синие» все восемь раз пришли последними. А все потому, что чистокровные лошади погибли во время беспорядков и теперь «синим» приходилось довольствоваться жалкими старыми клячами. Всякий раз думая об этом, Диана не могла сдержать усмешки.
Спустя час паланкин покачнулся и замер на месте. Диана ступила на мостовую. Ее медальоны тотчас вспыхнули, поймав последние лучи заходящего солнца. После ее победы в Большом цирке фракция «красных» выпустила медальон в ее честь — ее лицо в профиль и дата одержанной победы. Но этот медальон она никогда не надела бы. Этот медальон гордо красовался над ее кроватью, рядом с пальмовой ветвью победительницы.
— Наверно, тебе просто неинтересно наблюдать гонки колесниц, — дразнили ее кузины. — После того, как ты сама выиграла гонку.
Впрочем, откуда им было знать?
— О нет! — спокойно ответила Диана. Да, однажды она привела свою четверку к победе, и с нее было достаточно этого раза. Теперь никто не смеялся над ней, когда она, в шелковом платье, шла по грязному полу конюшни, никто не кидал в ее сторону презрительных взглядов, когда ее гнедые нежно тыкались бархатными носами ей в ладони, как будто говоря,
помнишь, как мы вместе летели к победе? На стене спальни висела засохшая пальмовая ветвь. Она была колесничим. И хотя ее гнедые пробегут еще не одну сотню забегов, ни с каким другим возницей они не сделают того, что сделали ради нее. Так лошади бегут всего раз в жизни, самое большое — два. Диана улыбнулась, вспомнив, как они, управляемые ее рукой, летели по улицам Рима по время декабрьских беспорядков. Возможно, она действительно провела их через два забега. И Несс в конечном итоге прав.
Да, но что теперь?
Подоткнув за пояс подол платья, она проделала путь вверх по склону холма к дому Ллина и машинально прошла к конюшне. Обычно к этому часу он готовил лошадей к ночному отдыху, но сегодня она почему-то не застала его в конюшне.
— Ллин! — окликнула она его и, заслонив глаза от косых солнечных лучей, вышла во двор. Затем бросила взгляд в сторону ограды, на которой он любил сидеть, задумчиво глядя на запад, в сторону родной Британии. Но сегодня его не было и там.
Тогда Диана направилась к дому и, заглянув внутрь, позвала снова. Ответа не последовало. Она на минуту заколебалась, имеет ли она право нарушать кельтские законы гостеприимства, однако в конечном итоге решилась войти. Дом оказался довольно просторным, с колоннами, не блещущий порядком, однако по-своему уютный. У входа на Диану вопросительно подняла голову черная собачонка, однако тотчас снова уткнулась носом в лапы.
— Ллин!
На нее уставились два раба, но, не проронив ни слова, вернулись к своей работе. Диана прошла мимо них дальше и вскоре оказалась в атрии в самом центре виллы. Никаких цветов, лишь трава, а там, где в обычных домах располагается бассейн, стоял камень — темный, грубо отесанный, сверху плоский, словно алтарь. Он был явно привезен издалека. Не иначе, как из Британии, подумала Диана. Почему-то она была в этом уверена.
Что-то лежало на его поверхности, и Диана подняла вещицу. Это оказалось одно из резных бронзовых колец, украшенных изображением листьев и смеющихся лиц.
— Слишком они веселые для такого человека, как ты, — сказала как-то раз Ллину Диана, рассматривая рисунок. Тогда они с ним были на сеновале, и на их обнаженных телах высыхал пот. Они лежали, в совершенно одинаковых позах, подложив под головы сцепленные на затылке руки. — Лично я ожидала бы увидеть мечи и черепа.
— Это кольцо моего отца, — ответил тогда Ллин. — Он был предводителем всех кланов. Его назначили сами друиды. Он был владыкой войны. Владыкой смерти. И это кольцо тоже дал ему друид, — Ллин потрогал смеющиеся, отполированные временем лица, — чтобы он не забывал о том, что он также и лорд жизни. А в прошлом году, перед тем как умереть, он вручил его мне.
— А как он умер?
— Моей матери не было в живых. Моих сестер тоже. И он ножом пронзил себе сердце. Я его держал.
Кольцо в ее руке все еще хранило его тепло. Под кольцом на камне лежала восковая табличка — подписанная, заверенная юристом, официальный документ. «Если со мной что-то случится, — сказал ей как-то раз Ллин. — Мои лошади — твои».
Однако он слишком долго жил в Риме и понимал всю важность юридических тонкостей, поэтому не поленился сделать ее официальной наследницей. Лошади, конюшня, дом, рабы — все это теперь принадлежало ей.
— Тебе когда-нибудь хочется убежать из Рима? Вернуться домой в Британию? — спросила как-то раз его Диана. Они рядом лежали в сене, и Диана задумчиво водила пальцем по шраму на его широкой груди.
— Да, — она виском почувствовала, как он пошевелил плечом. — Но я дал клятву. Император Клавдий вырвал ее у меня. Заставил произнести эти слова.
— А разве клятвы нельзя нарушать? Тем более, эту. По-моему, это куда лучше, чем спустя какое-то время собственноручно вонзить себе в сердце нож.
Ллин намотал на пальцы концы ее волос — пальцы у него были длинные и загрубевшие.
— Верность данному слову — единственное, что отличает людей от зверей.
Вертя в руках бронзовое кольцо, Диана села на камень в атрии. Кольцо было тяжелым, и от него исходил запах Ллина.
— От тебя пахнет бронзой, — сказала она ему, когда она впервые оказались на сеновале. — И еще сеном.
— А от тебя конюшней, — ответил он, поглаживая широкой ладонью ей спину. Вид у него был слегка озадаченный, как будто он отказывался поверить, что перед ним не наваждение, а человек из плоти и крови. Сказал и печально улыбнулся, как будто сам не понимал, как оказался на сеновале с девушкой, которая, по всей видимости, ему привиделась.
Впрочем, это произошло легко и просто. Они подсаживали друг друга на колесницу, они поднимали друг другу с земли, если колесница переворачивалась, они перевязывали друг другу ссадины и массировали ушибы. Они вместе пили вино и перелопачивали навоз, спорили по поводу коневодства. В какой момент к этой дружеской близости добавилась близость любовная, такая же теплая и естественная, как и все остальное.
В атрий, шлепая лапами по каменному полу, вошла черная собачонка, и Диана почесала ей за ушами.
— Да, ну и год! — произнесла она вслух. — Даже не верится, что такие бывают!
Примерно то же самое она сказала Ллину на прошлой неделе, лежа в душистом сене. Колючая трава щекотала ей голые ноги, а щели в крыше тонкими золотыми стрелами пронзали солнечные лучи.
— Ужасный год, — произнес Ллин. Вид у него был мрачный, и Диана, чтобы хоть как-то развеять его уныние, поднялась на локте и легонько коснулась губами губ бритта.
— Первый раз вижу такого хмурого человека, — сказала она. — Ну-ка улыбнись! К тому же нам еще предстоит накормить лошадей!
Тогда он рассмеялся — впервые с момента их знакомства. Они вытащили из сена туники и помогли друг другу одеться. Ллин положил ей на талию руки и, приподняв, как обычно, помог слезть с сеновала. Они вместе направились кормить лошадей, на ходу споря о том, в каком возрасте жеребенка нужно приучать к колеснице — трехлетием или четырехлетием.
Как он смеялся тогда! У нее до сих пор стоял в ушах его смех. И вот теперь самого Ллина не было.
Диана посмотрела на открытую крышу атрия. Небо над головой приобрело пурпурный оттенок, но на западе — там, где была Британия, — еще виднелась оранжевая полоска заката. Диана представила себе, как Ллин, широкими шагами, идет ей навстречу, и при каждом шаге длинный меч ударяется о его бедро. Интересно, задумалась Диана, сильно ли изменилась Британия за эти годы? Узнает ли он родную страну. И зачем он решил вернуться туда? Чтобы продолжить начатую отцом борьбу или просто, чтобы умереть на родине? Диана улыбнулась этой мысли и вновь взяла в руки восковую табличку. У Корнелии теперь снова есть муж и дом. Лоллия обрела любовь и покой. Марцелла — власть, хотя та и оказалась обоюдоострым мечом. А у нее самой?
— Я буду разводить лучших в Риме лошадей, — сказала она вслух, и ей тотчас стало легко на душе. Конечно, она предпочла бы, чтобы рядом с ней был Ллин, но, похоже, что теперь она будет одна. И это тоже не так уж плохо.
Она поднялась и надела на руку бронзовое кольцо. Теперь у нее выше локтя переплетались листья и улыбались лица. Черная собачонка вышла из вестибюля и, когда Диана направилась к конюшням, увязалась за ней следом.
(обратно)
(обратно)
Эпилог
81 год нашей эры
Корнелия
Впервые за много лет они вновь оделись в тон. Все четыре Корнелии. Но одинаково оделся весь город, потому что император Тит был мертв, и весь Рим облачился в черное.
— О боги! — прошептала Корнелия во время пышных публичных похорон. — Я возлагала на Тита такие надежды!
Такой веселый и деятельный, такой умный и храбрый, и вот он мертв, повластвовав всего два года.
Рядом с Корнелией, плохо понимая, что происходит, стояла ее старшая дочь. Она прильнула к матери, словно ища у той поддержки, и Корнелия на миг прижалась щекой к гладким каштановым волосам. Друз держал мальчишек — на каждой руке по сыну. Те радостно махали ручонками преторианцам, как если бы это был парад.
— Мы все возлагали на Тита большие надежды, — вздохнула Лоллия, пересаживая ребенка на другое бедро и вытягивая шею, чтобы лучше видеть процессию. Рядом с ней застыла Флавия. Уже не малышка, а пятнадцатилетняя девушка. Как быстро летит время! Теперь она обручена с двоюродным братом нового императора — иными словами, важная персона в их семействе. Впрочем, она отнюдь не собиралась этим кичиться и даже посадила старшего из своих золотоволосых сводных братьев себе на плечо. Тракс, как обычно, стоял сзади. Мужья Лоллии, как и в старые времена, приходили и уходили. Когда ее дед умер, она была замужем за седьмым по счету. Разведясь с ним, она заявила, что с нее пока хватит. А вот Тракс оставался при ней всегда, словно тень. Впрочем, ее родных это уже давно перестало волновать.
— И вот теперь, — мрачно подвела итог Лоллия, — у нас будет Домициан.
По толпе прокатилась волна ликующих возгласов. Это верхом на сером коне, в генеральских доспехах, слегка сдвинув на затылок лавровый венок, приближался Домициан. Теперь это был дородный мужчина, куда более внушительный и пышнотелый, чем тот девятнадцатилетний юноша, который женился на Марцелле. А вот черные глаза были все те же — холодные и непроницаемые, даже когда он улыбался и махал рукой своим подданным. Все эти годы Рим полнился все новыми и новыми слухами о его жестоких привычках.
— Неужели никому не хватит смелости сказать это вслух? — Диана посмотрела на своих кузин. Выглядела она еще необычнее, чем раньше. От постоянного пребывания на солнце кожа приобрела сочный золотистый оттенок, а вот волосы, наоборот, выгорели и сделались белыми, как лен. Время от времени на порог ее дома приходили видные мужчины, надеявшиеся, что она согласится выйти за них замуж. Впрочем, Корнелия уже давно прекратила любые попытки подыскать ей достойного жениха. — Мы ведь все думаем одно и то же, разве не так? Марцелла добилась своего. Теперь она императрица.
— Боже, будь к нам милостив, — Лоллия потрогала небольшой золотой крестик у себя на шее, такой же, только деревянный, что и на шее Тракса. — А вот и она!
Корнелия посмотрела мимо Домициана на женщину в золотом паланкине, и в горле у нее застрял комок. Улыбаясь холодной, отрешенной улыбкой, Марцелла приветственно махала толпе. Моя младшая сестренка. Впрочем, в этой холодной, мраморной статуе не осталось ничего от озорной маленькой девочки, наперсницы ее далеких детских шалостей. За двенадцать лет Корнелия не обменялась с ней ни единым словом, за исключением разве что дежурных фраз. Она взяла руку Друза в свою, и тот ответил ей теплым рукопожатием. Вскоре и Домициан, и золотые носилки с новой императрицей исчезли из вида, и только гул ликующих голосов катился им вслед, подобно раскатам грома. Домициан. Одиннадцатый император Рима.
Вслед за ним широкой рекой текла его свита. Корнелия глазами выхватила из толпы придворного астролога в украшенном звездами одеянии. Это он в свое время составил для нее гороскоп, в котором предсказывал рождение трех девочек и двух мальчиков, что означало, что впереди у нее еще две дочери. Если, конечно, верить гороскопам. Диана радостно помахала Марке Норбану, который в этом году снова стал консулом. Еще никто не хромал с таким достоинством, как он.
— Интересно… — произнес Друз, но тотчас умолк. Корнелия не стала спрашивать его, что, собственно, ему интересно. Не стали этого делать и ее кузины. Впрочем, сейчас они ей были почти как родные сестры — в отличие от настоящей родной сестры. Потому что все подумали то же самое. Когда-то давно, когда мир, казалось, рушился вокруг них, все четверо стояли рядом на ступенях храма Весты, и это наложило на всех четверых неизгладимый отпечаток. Спустя десять мирных лет правления Веспасиана, и еще два мирных года правления Тита, всем не давал покоя вопрос, сколько продлится этот мир, когда к власти придет новый император.
Долго ли?
Диана пожала мускулистыми плечами.
— Приходите сегодня на гонки, — предложила она. — «Красные» победят, как всегда.
В отличие от императоров.
(обратно)
Послесловие
На самом деле император Веспасиан вошел в Рим гораздо позже, лишь почти через год после государственного переворота. Но я не устояла перед искушением, и дала читателям возможность взглянуть в лицо тому, кто положил конец безумию Года четырех императоров. Веспасиан был проницателен, умен, имел легкий характер, и его правление ознаменовало собой период столь нужного Риму мира. Ему наследовал его прославленный сын Тит, а за Титом второй сын, Домициан, который пользовался гораздо меньшей любовью народа. Впрочем, это уже сюжет другой моей книги — «Хозяйка Рима».
Большинство событий этой книги — смерть Гальбы, убийство Пизона в храме Весты, речь Отона и его самоубийство в битве при Бедриакуме, склонность Вителлия к обжорству и его любовь к «синим». Беспорядки в Риме, женитьба Домициана на замужней женщине — соответствуют исторической истине. Реальны и многие персонажи. Домиция, дочь знаменитого полководца Гнея Корбулона, которая в этой книге выведена под именем Марцелла, после скандальной связи с Домицианом в течение последующих двадцати лет влачила незавидное существование в качестве его супруги. С годами он проникся к ней ненавистью и даже взял в любовницы собственную юную племянницу Юлию, однако так и не дал жене развода, чтобы продемонстрировать свою власть над ней. Ее сестра Корнелия, старшая дочь Гнея Корбулона (которая также носила имя Домиция, и я переименовала ей во избежание путаницы) — лишь тень на исторической сцене, чья жизнь лишена каких-либо ярких событий. Ее брак с Пизоном Лицинианом — целиком и полностью плод моего воображения, хотя сам Пизон — реальный исторический персонаж. Известно, что он пал от рук преторианцев, которые затем отнесли его голову новому императору, а позднее продали ее семье убитого. Центурион преторианской гвардии Денс также имеет реального исторического прототипа, хотя, согласно источникам, он погиб в ночь убийства Гальбы, тщетно пытаясь спасти жизнь Пизона. Мне показалось несправедливым, чтобы такой смелый и порядочный человек столь рано ушел из жизни, и я дала ему шанс прожить на страницах моей книги еще много счастливых лет.
Лоллия целиком и полностью вымышленный персонаж в отличие от ее мужей. Сенатор Виний, правая рука Гальбы; жестокий Фабий Валент, возведший на трон Вителлия, — все это реальные лица, и их судьбы в книге соответствует их реальным историческим судьбам. Реальным историческим персонажем был и соперник Валента Цецина Алиен. Когда Валент слег от какой-то болезни, он действительно был назначен командовать войском Вителлия, но вскоре перешел на сторону Веспасиана. Последний щедро его вознаградил, однако Алиен кончил свою жизнь спустя всего несколько лет — был казнен по обвинению в очередном предательстве.
Диана тоже вымышленная фигура, а вот Ллин Карадок, возможно, существовал. Его отец, Карадок, или Каратак, был знаменитым британским воином, и исторические документы содержат сведения о поднятом им восстании против Рима. В конечном итоге он был схвачен вместе со всей семьей (в некоторых документах упоминаются лишь дочери, в других — также сын по имени Лин, или Лльен, или Ллин). Позднее их всех привезли в Рим и помиловали, после чего они исчезают с арены истории. Мне же не давал покоя вопрос, а что стало потом с Каратаком и его семьей? Его сын наверняка вырос и превратился в сильного и отважного воина, вынужденного жить среди ненавистных ему врагов. Настоящий Каратак так и не вырвался на свободу — в противном случае об этом имелись бы документальные сведения. Но на страницах моей книги «Дочери Рима» мне хотелось подарить такой шанс хотя бы его сыну — чтобы Ллин в конечном итоге вернулся на родину. Гонки колесниц в Большом цирке, которые составляли для Дианы и Ллина смысл их существования, описаны со скрупулезной исторической точностью. Колесничие-победители пользовались в Древнем Риме славой. Нередки случаи, когда в гонках в качестве возниц принимали участие и молодые патриции, а вот патрицианки, насколько мне известно, — никогда. Соперничество между четырьмя фракциями было жестоким и граничило со взаимной ненавистью.
Год четырех императоров принес римлянам немало бедствий. Государственные перевороты случались и раньше, но всякий раз соблюдался хотя бы намек на законность. В 69 году императорский трон впервые с поразительной легкостью и быстротой переходил из рук одного узурпатора к другому, что не могло не внушать отвращения нации, которая в течение нескольких столетий существовала как республика. Период относительной стабильности, который пришелся на правление Веспасиана и его наследников, был недолгим. Рим и императорский трон никогда больше не будут надежно защищены от узурпаторов. Наступила новая эра.
Кейт Куинн
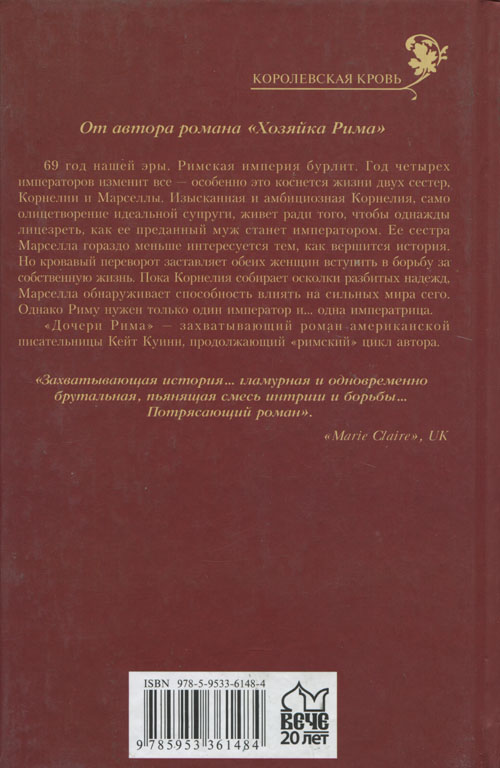 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Кейт Куинн
Императрица семи холмов
© Kate Quinn, 2012
© Бушуев А.В., Бушуева Т.С., перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство „Вече“», 2015
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016
(обратно)
Об авторе
Интерес к далекому прошлому пробудился у будущей американской писательницы Кейт Куинн (р. 1981 г.) еще в раннем возрасте, когда ее мать, ученый-историк, вместо сказок рассказывала дочери на ночь о приключениях Юлия Цезаря и Александра Македонского. Кейт получила образование в Бостонском университете, где обучалась классическому вокалу. Свой первый роман, «Хозяйка Рима», она начала писать еще будучи студенткой. Его публикация состоялась в 2010 году.
За дебютной книгой, в которой описывается судьба рабыни Теи и гладиатора Ария, бритта по происхождению, в эпоху правления императора Домициана, последовали еще три романа о Вечном городе в годы, наполненные бурными событиями римской истории.
В «Дочерях Рима» действие разворачивается в 69 году нашей эры, в так называемый год четырех императоров, когда на троне быстро сменили друг друга Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан.
Роман «Императрица семи холмов» повествует об эпохе правления Траяна. В феврале 2015 года вышла небольшая повесть – «Три судьбы», предваряющая «римскую» эпопею, а в марте того же года поклонники творчества писательницы получили четвертый роман саги – «Матрона Вечного города». В нем рассказывается об эпохе правления Адриана. На его страницах читатель снова встретит Сабину и Викса.
В промежутке между книгами из истории Римской империи Кейт Куинн написала два романа об Италии эпохи Борджиа («Змей и жемчужина», «Лев и роза»), объединенные общей героиней, Джулией Фарнезе, любовницей папы Александра VI.
Вместе с пятью другими авторами Куинн приняла участие в создании романа о гибели Помпей, «День пламени» (писательнице принадлежит 4-я часть – «Сенатор»).
Книги Кейт Куинн переведены на несколько иностранных языков, их отличает увлекательный, изобретательный сюжет, достоверность исторических событий, точность деталей и реалий описываемой эпохи, убедительно выписанные характеры персонажей. Талантливому и многообещающему автору неизменно удается создавать произведения, интересные как для женской, так и для мужской читательской аудитории, которых она привлекает романтическими отношениями героев, закрученной интригой, головокружительными приключениями и добротно проработанным историческим фоном.
Александр Бушуев
(обратно)
Посвящается Стивену, который во многом – веснушки, неугомонность, вспыльчивость, храп по ночам, «леворукость», нелюбовь к лошадям, ловкое обращение с мечом, нетерпеливость при общении с начальством, – очень похож на Викса
(обратно)
Часть I. Рим
Глава 1
Викс
Когда мне было тринадцать, астролог предсказал, что когда-нибудь я буду командовать легионом и мои солдаты будут называть меня Верцингеториксом Красным. Астрологи, как известно, великие мошенники, но этот маленький тщедушный человечек оказался прав во всем. Я получил и прозвище, и легион, хотя на это ушло гораздо больше времени, чем следовало.
Но почему он ничего не рассказал мне о самом главном? Отчего не сказал, что императоров можно любить, а вот императриц – только бояться? Почему умолчал, что мне будет приказано убить своего лучшего друга и приказ этот прозвучит из уст того, кто был мне ненавистен? И почему, о, боги, даже словом астролог не заикнулся про девчонку в голубой вуали, которую я встретил в тот самый день, когда услышал эти предсказания?
Про эту сучку. Впрочем, как я мог это знать? Тогда мы оба были детьми: я – тощий мальчишка-раб, она – красивая юная патрицианка в голубой вуали и в синяках (почему, это уже другая история). Она первая, кого я поцеловал, и у нее были нежные, сочные губы. Позднее, когда я, будучи взрослым, снова встретил ее, воспоминание о них было столь сильно, что я, признаюсь, утратил бдительность. Если этот астролог был настолько хорош, почему он не предупредил, что я должен остерегаться ее?
«Опасайся девчонки в голубом!» Ну что стоило ему сказать эти слова? Мне же, скажу я вам, спустя годы пришлось заплатить за это ох какую высокую цену!
Но я забегаю вперед. Мое имя – Верцингеторикс. Викс для друзей, Красный для моих солдат и «вонючий плебей» для моих врагов. Я служил четырем императорам – одного лишил жизни, второго любил, с третьим подружился и, наверно, зря не убил четвертого. Я – Верцингеторикс, и мне есть, что вам рассказать.
Весна 102 года н. э.
Не стану утомлять вас долгим предисловием. Начало моей жизни вряд ли можно назвать блистательным. Моя мать была рабыней, отец – гладиатором, и ниже этого пасть невозможно. Если вы любитель гладиаторских боев в Колизее, то вы точно слышали о моем отце, но раскрывать его имя я не стану. Пусть все думают, что он мертв, его самого это устраивает. В конце концов он поселился на вершине горы на самом севере Британии, где истязает клочок земли, который называет садом, и совершенно счастлив. Моя мать тоже счастлива. Она поет за работой и производит на свет детей, чтобы заполнить дом, подаренный императрицей в знак благодарности за кое-какую услугу (какую именно, я не скажу). Прожив на родине отца почти пять лет, – тем более что мне стукнуло восемнадцать, – я, скажу честно, порядком заскучал.
Нет, в Британии было куда лучше, чем в Риме. Но я привык к приключениям, а в доме на горе, полном детишек, какие могут быть приключения? Кроме того, по соседству с нами жила девушка, которая положила на меня глаз, и пару раз мы с ней неплохо позабавились за сараем, но я не собирался жениться на ней. Мне же было страшно подумать, что меня ждет, если я буду вынужден подчиниться воле отца, если тот решит, что я должен на ней жениться. В свои восемнадцать я был рослым парнем, однако отец был крупнее, сильнее и выше. И хотя я неплохо владел оружием, выстоять в поединке с ним шансов у меня не было. Поэтому я решил покинуть отчий дом и направить свои стопы в Рим, центр мироздания. Отец отнесся к этому решению скептически, однако дал мне амулет, призванный оберегать мою жизнь, а заодно и кошелек с деньгами, предназначенными для моего пропитания. Мать плакала, но, скорее всего, потому, что вновь была беременна.
Нет смысла описывать мое путешествие. Оно было долгим и не слишком приятным. Содержимое кошелька я проиграл подлому армяшке-матросу, который жульнически обставил меня в кости. И не раз во время сильной качки я был вынужден распрощаться с ужином. Ненавижу корабли. До сих пор ненавижу. И все же я добрался до Рима.
Моим родителям ненавистно само слово Рим. Что неудивительно, если знать, что выпало на их долю в этом городе. Но стоило мне сойти на берег с борта нашей вонючей посудины и глубоко вдохнуть
здешний воздух, как я понял, что оказался дома.
Кто только не описывал этот город! И все терпели неудачу. Ибо Рим невозможно сравнить ни с чем. Забросив котомку на плечо, я описал круг и огляделся по сторонам. Я вырос в Брундизии, и в дни моего детства мать еще была рабыней. В Рим я попал позже и не по своей воле. Тогда у меня не было времени хорошенько изучить город, и я плохо знал его улицы. Теперь же ничто не мешало мне упиваться этим людским муравейником – его вонью, шумом, сутолокой. Кто только не искал здесь удачи! Проститутки в темных платьях. Моряки с медной серьгой в ухе. Торговцы, сующие свои нехитрые товары вам прямо под нос. Уличные мальчишки, что пытаются забраться грязными пальцами вам в кошелек.
Это была жизнь, грубая и шумная, подобная свежей крови, струящейся из раны. Сходни пружинисто покачивались под моими ногами. Слегка пошатываясь, я направился к причалу, на всякий случай положив руку на заткнутый за пояс нож. В Риме найдется немало любителей воткнуть вам в спину кинжал и лишь потом выяснить, имеется ли у вас при себе что-то ценное.
– Мой город, – произнес я вслух и удостоился любопытного взгляда какой-то матроны с корзинкой в руках. Я послал ей воздушный поцелуй, и она испуганно поспешила дальше. Я проводил ее взглядом, не в силах оторвать глаз от ее обтянутых красным платьем бедер, крутых, как бока бочонка. Я целый месяц провел на этом вшивом корабле, понятное дело, без женщины, и был готов лечь на любую.
Я изголодался по женщине даже больше, чем по еде. Увы, в моем кошельке не было денег даже на самую дешевую портовую шлюху. Так что хочешь не хочешь, а придется отложить это дело на потом.
– Где тут у вас Капитолийский холм? – спросил я на скверной латыни у проходящего мимо моряка и тут же получил совет ступать дальше. А вот торговец кухонной утварью оказался куда любезнее. Я снова закинул котомку на плечо и, насвистывая, отправился в указанном направлении. Как оказалось, город я помнил очень даже неплохо. Странно. Я покинул Рим в тринадцать лет, но впечатление было такое, будто я расстался с ним только вчера. Стоило мне миновать Форум, где густо пахло мясом и свежим хлебом, как толчея на улицах значительно поредела. Я ослабил пальцы, сжимавшие рукоятку ножа, и позволил ногам самим искать себе путь.
Вскоре я остановился, глядя на роскошный мраморный дворец, занимавший половину Палатинского холма. Пять лет назад в его стенах обитал безумец, чьи глаза были так же черны, как и его душа. Погруженный в воспоминания, я бы стоял и дальше, но сердитый преторианец в красном плаще приказал мне убираться восвояси.
– Эй, у вас что, все дворцовые стражники теперь такие же красавчики, как и ты? – парировал я. – Или меня просто долго не было в Риме?
– Живо проваливай отсюда! – рявкнул страж и подтолкнул меня в спину тупым концом копья. Ох уж эти преторианцы – никакого чувства юмора. Затем я какое-то время стоял, таращась на громадину Колизея. Нет конечно, его огромную чашу я видел не в первый раз, но за эти годы успел позабыть его жутковатое каменное величие. Ни одно другое здание не давит на вас так, как Колизей, с его арками, пьедесталами, статуями, что смотрят на вас из ниш своими незрячими мраморными глазами. А желтый песок арены внутри, казалось, навечно впитал в себя все кошмары моего отца, да и часть моих тоже. Я никогда ему об этом не говорил, но он и так знал. Это знает любой, кто когда-либо выходил на арену Колизея.
С тех пор прошло много лет, и я сам уже не тот мальчишка, что потрясал здесь когда-то мечом. С тех пор я участвовал в стольких поединках, что потерял им счет, но ни один их них не возвращается ко мне в снах в отличие от тех, что состоялись на арене Колизея. Здесь, на этом песке, еще будучи ребенком, я пролил первую кровь. Я убил огромного мускулистого галла, который явно не спешил убивать меня. Наверно, именно этим объяснялась его странная медлительность, и потому победа досталась мне. Да, не лучший способ показать, что ты мужчина.
Машинально трогая висевший на шее амулет, подарок отца, я еще какое-то время таращился на каменную громаду, и мне не давал покоя вопрос, кому первому пришла в голову мысль строить эти огромные дворцы массовых убийств. Поразмышляв немного, я пожал плечами и побрел в направлении Капитолийского холма. Здесь было не так людно, мостовая чистая и гладкая, женщины в основном одеты в шелк, а не в шерсть. На рабах, что сновали туда-сюда, выполняя поручения хозяев, значки с именами самых именитых семейств.
Я прошел мимо знаменитой Капитолийской библиотеки – в этот момент из нее, серьезно насупив брови, выходили с полдюжины сенаторов в тогах, и я замедлил шаг. Мать сказала, что нужный мне дом находится где-то рядом.
– Ты что-то ищешь? – обратился ко мне раб в опрятной тунике, подозрительно оглядывая меня с головы до ног. – Может, я могу тебе помочь?
– Мне нужен дом сенатора Норбана.
– Здесь не подают милостыню.
– А кто сказал, что я ее прошу? Я лишь хочу знать, чей это дом, сенатора Норбана или нет.
– Да, но…
– Отлично. Потому что у меня к нему дело.
Раб был рослый, но не выше меня. Оттолкнув его плечом, я шагнул в узкий коридор, украшенный дюжиной мраморных бюстов, которые взирали на меня со своих постаментов с явным неодобрением.
– Хватит кудахтать, – бросил я рабу, который увязался за мною вслед. – Сенатор знает, кто я такой.
Мы с ним попрепирались еще минут десять, после чего я был впущен в небольшой атрий, где мне было велено ждать.
– Даже не думай, что сразу попадешь к нему, – презрительно бросил мне раб. – Сенатор занят.
С этими словами он напоследок еще разок окинул меня подозрительным взглядом, как будто сомневался в том, оставлять ли меня одного наедине с ценной обстановкой дома, и лишь затем вышел. Я же закинул голову назад и принялся рассматривать дом. Сквозь отрытую крышу атрия внутренний двор заливал солнечный свет, на полу мозаика с изображением виноградных лоз, а в самом центре фонтан, чаша которого выложена голубым мрамором. Из угла на меня через плечо кокетливо посматривала каменная нимфа. Я же давно не был с женщиной, так что даже вид ее мраморных грудей показался мне соблазнительным.
Положив котомку на мраморную скамью, я опустился на одно колено и ополоснул в фонтане лицо. А когда поднял глаза, обнаружил перед собой маленькую девочку с деревянной лошадкой в руках. Положив в рот большой палец, малышка задумчиво смотрела на меня.
– Привет, мелюзга, – поздоровался я. На вид ей было года четыре, от силы пять, – столько же, сколько и моей младшей сестренке. – Ты кто такая?
Не вынимая пальца изо рта, девочка пристально посмотрела на меня из-под светлой челки.
– Ты тоже из дома Норбанов?
Девчушка вынула изо рта палец и несколько мгновений рассматривала меня, после чего палец вернулся в рот.
– Я хотел бы поговорить с твоим отцом.
Ответом мне стало причмокивание.
– Где тут у вас уборная? Мне бы справить нужду.
– Это дальше по коридору, – раздался у меня за спиной голос. Я обернулся. Позади меня стояла девушка в голубом платье: худенькая, с каштановыми волосами, примерно того же возраста, что и я.
– Я к сенатору Норбану, – пояснил я.
– Ничего, успеешь.
С этими словами, девушка подхватила на руки малышку, заставила ее вынуть изо рта палец, и даже не обернувшись на меня, как будто знала, что я последую за ней, зашагала вдоль по коридору. Я увязался вслед за ней в уборную.
– Если тебе нужно будет помыться, здесь есть вода, – сказала она. Римляне, скажу я вам, страшные чистюли и моются чаще, чем кто-либо у нас в Британии. Я налил себе тазик и смыл с лица и шеи накопившуюся во время путешествия грязь.
– Ну как, лучше? – спросила меня девушка-патрицианка, когда я вышел из уборной.
– Гораздо лучше, госпожа, – ответил я, отвешивая неуклюжий поклон. Что поделать, я порядком отвык от церемоний. С одной стороны, в Британии не так уж много бань, с другой стороны – не слишком много поводов кому-то кланяться. – Спасибо.
Она пристально посмотрела на меня, и внезапно лицо ее озарилось улыбкой. Зубы у нее были мелкие и слегка неровные, но это не портило ее лица.
– А-а-а, – протянула она.
– Что, а-а-а?
В следующий миг из дома к нам, шурша шелковым платьем, вышла коренастая светловолосая женщина с годовалым ребенком на руках.
– Сабина, ты не видела?… – обратилась она к девушке. – Ах, вот она.
С этими словами она усадила светловолосую малышку себе на другое бедро.
– Фаустина, тебе полагается быть с няней! А это еще кто? – удивилась она, заметив мое присутствие, и взяла детей поудобней.
– Это Верцингеторикс, – спокойно ответила девушка в голубом платье. – Он ждет, когда отец его примет.
Верцингеторикс? Я встрепенулся, как ужаленный.
– Только не докучай ему слишком долго, – сказала светловолосая женщина. – Мой муж много работает. Фаустина, Лин, пора принимать ванну.
Напоминая желтое шелковое облако, она удалилась, унося детей, которые с любопытством продолжали таращиться на меня.
– Откуда тебе известно мое имя? – спросил я у девушки в голубом платье, когда та вернулась в атрий. Она бросила быстрый взгляд через плечо.
– Так ты меня не помнишь?
– Хм…
– Ладно, не переживай. Лучше скажи мне, зачем тебе понадобился мой отец.
– Я только что вернулся в Рим из Британии. Перед отъездом мать сказала мне, что твой отец может мне помочь. Так все-таки, откуда тебе известно…
– Ты правильно сделал, что пришел к нему. Отец всегда готов помочь людям.
С этими словами она подозвала управляющего и вполголоса переговорила с ним.
– Я сделала тебя первым в очереди.
И правда, вскоре я уже входил в кабинет к сенатору.
Сенатор Норбан из тех людей, с кем невольно начинаешь соблюдать свои самые лучшие манеры. То же самое умел делать с людьми и мой отец, хотя и по иной причине: все знали, что грубить ему себе дороже, любая неучтивость может для грубияна плохо кончиться. Нет, конечно, сенатор Норбан не мог похвастать пудовыми кулаками: лет под семьдесят, седой, слегка скособоченный, пальцы в чернилах, он не производил впечатления физической силы. И все же с самой первой минуты я сидел перед ним ровно, словно статуя, и тщательно подбирал слова.
– Верцингеторикс, – задумчиво произнес он. – Мне частенько не давал покоя вопрос, как там поживаете ты и твоя семья.
– Хорошо поживаем, сенатор.
– Рад слышать. Ты в Рим надолго?
– Надолго. Это ведь центр всего на свете.
– Что ж, так оно и есть, – сенатор задумчиво покатал между пальцами стило. В его кабинете царил веселый беспорядок – куда ни посмотришь, повсюду валяются таблички, перья, свитки, пергаменты. Такого количество свитков, как в его кабинете, я не видал за всю свою жизнь.
– И чем ты намерен заняться здесь, в Риме?
– Думал податься в легионы.
Когда-то моей заветной мечтой было стать гладиатором, но стоило мне вкусить гладиаторской жизни, как мечта пропала сама собой. Но если не гладиатором, то кем еще мог стать молодой человек, ловко владеющий мечом? Только податься в легионы. К тому же даже бывший раб мог дослужиться в римской армии до командира.
– А известно ли тебе, какие обязательства берут на себя те, кто идут служить в легионы? – спросил сенатор, откладывая стило в сторону. – Сколько тебе лет?
– Двадцать.
Сенатор недоверчиво посмотрел на меня.
– Девятнадцать, – уточнил я.
И вновь он смерил меня пристальным взглядом.
– Будет девятнадцать через пару месяцев.
– Значит, пока восемнадцать. Как я понимаю, ты рассчитываешь сделать себе там карьеру?
– Не ходить же мне всю жизнь в рядовых! – фыркнул я.
– В любом случае двенадцать лет отходить придется. Потому что центурионом раньше тридцати не становятся.
– До тридцати?
– Но даже возраст еще не гарантия. Не имея покровителя, центурионом не стать. Я же не знаю, проживу ли я еще двенадцать лет, – сенатор пригладил седые волосы.
– Ну. – Я поерзал на стуле, усаживаясь поудобнее. – Может, я и не останусь в армии до тридцати. Есть и другая работа.
Сенатор посмотрел на меня, как на малого ребенка.
– Срок службы легионера – двадцать пять лет, Верцингеторикс. Если пойдешь служить в восемнадцать, освободишься лишь в сорок три. А до этого даже не мечтай ни о какой другой работе.
– Двадцать пять лет?
– А что, разве ты перед тем как решил пойти служить в легионы, не выяснил таких вещей, как срок службы?
Вместо ответа я лишь пожал плечами.
– Ох уж эта молодежь, – вздохнул сенатор Норбан. – А свое армейское жалованье ты тоже не знаешь? Триста денариев в год – на тот случай, если это тебе не известно. За вычетом стоимости оружия, доспехов и пайка, разумеется.
– Клянусь Хароном, – пробормотал я, – да вы тут, в Риме, жмоты.
– Кроме того, смею предположить, что тебе не известны законы, касающиеся вступления в брак. Легионерам запрещено жениться. Исключение делается лишь для центурионов. Но и они не могут брать с собой жен в поход. Кроме того, ты можешь провести весь срок службы вдали от Рима, в каком-нибудь дальнем гарнизоне.
– Обойдемся и без жены, – ответил я, слегка хорохорясь. Но если сказать по правде, после его слов мой пыл постепенно пошел на убыль.
– Подумай, как следует, – произнес сенатор Норбан. – Пойми, дело не в том, что я хочу разочаровать тебя, отбить у тебя желание служить в армии. Просто ты должен знать, во что ввязываешься. Ведь есть и другие возможности.
О которых, кстати, я уже начал подумывать.
– Это какие же?
– Как ты отнесешься к тому, чтобы стать стражником? Хороший стражник всегда на вес золота. И если мне память не изменяет, ты еще в детстве умел ловко обращаться с оружием.
– Не знаю, надо подумать.
Но славы, работая стражником, себе точно не сыщешь.
– Тебе есть, где жить, Верцингеторикс?
– Я только сошел с корабля.
– У одного моего клиента в Субуре есть небольшая гостиница. Думаю, он тебя пустит пожить неделю-другую, пока ты не подыщешь себе работу. Я напишу ему письмо.
Взяв в руки стило, сенатор Норбан принялся сочинять записку. Я же с тоской представил себе свое будущее. Двадцать пять лет. Неужели есть желающие впрягаться в это ярмо?
– Ну вот. – Сенатор запечатал письмо. – Прежде чем уйти, загляни в кухню. Пусть тебя там накормят. А как только что-нибудь надумаешь, приходи снова. Я перед твоими родителями в долгу, и любая помощь тебе с моей стороны бессильна возместить этот долг сполна.
– Спасибо, сенатор.
– Кстати, о твоих родителях. – Его взгляд неожиданно сделался непроницаемым. – Надеюсь, тебе хватило ума не упоминать в разговорах их имен? Равно как и императора Домициана? Все они мертвы, по крайней мере официально, и будет лучше, если так будет и дальше.
– Да, господин.
Проклятье! Скажу честно, я рассчитывал немного воспользоваться именем моего отца. Ведь наверняка еще есть любители гладиаторских боев, которые помнят Ария Варвара. Кто знает, вдруг они помогли бы мне подыскать работенку. Но сенатор буравил меня суровым взглядом, и я был вынужден сделать невинное лицо.
– В таком случае желаю тебе удачи. – Сенатор Норбан протянул мне свиток. Я с поклоном взял его и вышел вон, не зная, что делать дальше. Если не в легионы, куда мне теперь податься? Единственный мой талант – это держать в руке меч. Других у меня просто нет.
Сабина
– Ну как, получил то, что хотел? – спросила Сабина, оторвав глаза от свитка, когда высокий юноша вернулся в атрий. Было видно, что он чем-то расстроен.
– Не похоже, – ответил он, приглаживая непокорную шевелюру, после чего подошел к бассейну и задумчиво поводил ногой по мраморному краю. – Я рассчитывал, что твой отец поможет мне получить место в армии, но теперь я не уверен, что мне самому этого хочется.
– Почему?
– Не вижу причин, почему я должен продавать ради этого душу.
– О, Рим твою душу просто так не оставит в любом случае. Или ты этого не знал? – Сабина ногтем пометила место в свитке, где кончила читать. – Впрочем, многие наверняка сочти бы это взаимовыгодной сделкой.
– Только не я.
– В таком случае попробуй податься в гладиаторы, – предложила Сабина.
Юноша нервно дернулся и пристально посмотрел на нее.
– Так ты меня действительно не помнишь?
А вот она узнала его с первого взгляда, даже спустя пять лет. Он почти не изменился: те же самые рыжеватые волосы, загорелые руки, большие ступни, широкие плечи, движения разболтанные, как будто все члены его скреплены наспех. В общем, точно такой, каким она его помнила, лишь слегка возмужал.
Он, в свою очередь, с опаской смотрел на нее.
– А я должен тебя помнить?
– Может, и нет, – ответила она, хотя в целом день был запоминающийся.
– Кто ты? – спросил он ее.
Она поднялась, отложила в сторону свиток и, шагнув к нему, встала рядом. Затем, обхватила его одной рукой за шею и, встав на цыпочки, заглянула в глаза.
– Теперь помнишь? – с улыбкой спросила она, откинув назад голову.
В его глазах мелькнул огонек узнавания.
– Сабина, – неуверенно произнес он. – Верно я говорю?
– Верно.
– Не узнал тебя без синяков, а в остальном ты почти не изменилась. – Он окинул ее глазами с головы до ног. – Ты первая, кого я поцеловал.
– Ты, Юный Варвар? Я польщена.
Почувствовав, как его руки потянулась к ее талии, она сделала шаг назад.
– Все римские девушки были без ума от Юного Варвара. В тот год ты совершал свои подвиги на арене Колизея. Твое взятое в сердечко имя украшало собой двери всех римских школ. Когда я говорила своим подругам, что знакома с тобой, они мне не верили.
– А ты сказала им, что я тебя целовал? – Он с хитрой улыбкой сделал шаг ей навстречу.
– Вообще-то это я поцеловала тебя. – Сабина вновь взяла в руки свиток и опустилась на мраморную скамью. – И что теперь? Если не легионы, тогда что?
– В любом случае не арена. Туда я ни ногой. – С этими словами юноша прислонился к колонне и, гордо вскинув подбородок, с вызовом сложил на груди руки. – А ты наверняка уже замужем? – спросил он.
– Только не это.
В прошлом году ей исполнилось семнадцать. На день рождения отец подарил ей жемчужное ожерелье и пообещал, что она вольна в выборе супруга. Это обещание было дня нее куда более дорогим подарком, нежели жемчуг.
– Я подумал, что это твой малыш.
– Нет, только не Лин. Он и Фаустина – дети Кальпурнии. Это моя мачеха.
Сабина вновь взяла в руки свиток. Ей не терпелось насладиться последними строчками, в которых Улисс разделался с женихами, досаждавшими его верной жене. Она с упоением читала строки Гомера, одновременно досадуя на слепого грека за то, что он почти ничего не написал о том, как провела Пенелопа без мужа все эти годы.
Увы, большие, обутые в сандалии ноги даже не сдвинулись с места, продолжая стоять перед ней каменными колоннами. Сабина вновь подняла глаза на рослого, рыжеволосого юношу и подумала, что в тихом, увитом виноградными лозами атрии он смотрится не совсем к месту. Между тем уголки его рта растянулись веселой улыбкой, и Сабина рассмеялась в ответ.
– Да сопутствует тебе Фортуна, Верцингеторикс, – сказала она.
– Да я уж как-нибудь сам о себе позабочусь, – гордо бросил он.
– Вот как? Что ж, значит, тебе можно только позавидовать.
Держа свиток в руках, она отошла прочь, нашла место, на котором остановилась, и на ходу вновь погрузилась в чтение. Викс проводил ее взглядом. Сабина почувствовала это, даже не поворачивая головы.
Викс
Гостиница, в которую меня направил сенатор Норбан, оказалась неплоха. Конечно, ее владелец был далеко не в восторге от того, что должен бесплатно поселить меня на целую неделю. Однако, увидев на записке сенаторскую печать, был вынужден уступить.
– Может, ты взамен хотя бы чем-то поможешь? – буркнул он. – Для такого сильного парня, как ты, работенка всегда найдется. Например, ты мог бы в поздний час сопровождать моих клиентов домой. Они были бы только рады, зная, что их провожает кто-то сильный и с кинжалом.
– А платят за это прилично?
– Еще как! А еще лучше, если они отказываются от телохранителя, и тогда их можно ограбить в темном переулке.
– Половина меня устроит, – произнес я, выразительно выгнув бровь.
– Десятая часть.
– Десятая часть в первую неделю. Треть, как только я начну оплачивать комнату.
– Договорились.
Комната кишела блохами, Но по крайней мере в ней стояла кровать, которая не ходила ходуном туда-сюда, как подвесной мост. Я с размаху плюхнулся на нее, а в следующий момент заметил, как по скрипучей внешней лестнице спускается горничная. Прыщавая, зато грудь – как две дыни. Проходя мимо с корзиной белья, она с интересом покосилась в мою сторону.
Может, день, в конце концов все-таки удался?
Сабину я успел выбросить из головы. Да и какой мне толк о ней думать? Самовлюбленная патрицианка, которую я вряд ли увижу снова после того, как она демонстративно ушла в дом с книгой в руках. Такие девушки, как она, – не для меня. В любом случае грудь у нее крошечная. Даже не яблоки, а фиги. Я же предпочитал яблоки, а еще лучше дыни. Я окинул взглядом сырой коридор, в котором скрылась служанка.
Эх, знай я в тот день, какие неприятности мне светят из-за этой цацы-патрицианки с ее малюсенькой грудью, клянусь, я бы придушил ее своими собственными руками прямо тогда, в атрии. Она же, как ни в чем не бывало, ушла в дом.
(обратно)
Глава 2
Плотина
– Виналии, – с отвращением в голосе произнесла Плотина. – Омерзительный праздник.
– Но ведь от него никакого вреда, – возразил ее венценосный супруг, стаскивая через голову тунику. – Подумаешь, люди празднуют окончание сбора винограда.
– Весь Рим напивается в стельку! Приличные женщины не осмеливаются в этом день даже нос высунуть из дома!
Плотина гневно посмотрела в полированное стальное зеркало, вспомнив, как двадцать лет назад, когда она была еще незамужней девушкой, ее во время виналий ущипнул за бедро какой-то лавочник. Подумать только! Ущипнул, и кого? Ее, Помпею Плотину, которая вполне могла стать весталкой, пади на нее выбор жриц. Правда, она уже тогда твердо знала, что создана для куда более великих свершений.
– Ты хотя бы посетишь конные бега после церемонии? – попытался уговорить ее муж. – Народу не терпится тебя увидеть.
– Хорошо, я высижу первый забег, – согласилось Плотина. – Но о большем даже не проси. Мне зеленое платье, – бросила она рабыне, которая тотчас подбежала к ней, неся в руках темно-зеленый шелк.
Шелк. Как это, однако, вульгарно в своей роскоши. С другой стороны, в чем еще должна предстать перед плебсом императрица? Плотина подняла руки – нет, не голые, а целомудренно прикрытые длинными рукавами туники. Вообще-то римлянки имели грубую привычку ходить с голыми руками, как какие-то куртизанки, даже те из них, что были из приличных семей. Но только не Плотина.
– Проклятье, ну сколько можно суетиться вокруг меня! – набросился на рабов Траян, которые наряжали его царственное тело в тогу с широкой пурпурной каймой. – Все складки на месте, где им полагается.
– Не будь ребенком, – укоризненно бросила мужу Плотина, даже не повернув головы. Император Рима, можно сказать, живое божество, стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, как какой-нибудь пятнадцатилетний мальчишка. Впрочем, в чем-то он им до сих пор остается, вздохнула Плотина, наклоняя голову, чтобы рабыня могла смочить у нее за ушами лавандовой водой. Потому что духами пользуются только шлюхи.
Интересно, эта девушка пользуется духами, задалась мысленным вопросом Плотина. Если да, нужно еще хорошенько подумать.
– Ты готова? – вывел ее из задумчивости голос мужа. – Если моя супруга кончила прихорашиваться, пора отправляться к жрецам.
– Можешь не тратить на меня свои шутки, – холодно произнесла Плотина, придирчиво глядя на себя в зеркало. Темные волосы зачесаны вверх и собраны в узел, и, разумеется, как и пристало замужней женщине, целомудренно прикрыты вуалью. Бледное овальное лицо – никаких румян, никаких подведенных глаз, серьезное выражение лица. Глубоко посаженные глаза, прямой нос, четкая линия рта. Что это? Уж не первая ли нить благородной седины на виске. Плотина всмотрелась в зеркало и осталась довольна. Нет, конечно, она далеко уже не юная девушка. Но она никогда не любила юность, а юность не любила ее. Девушка – это ничто. Взрослая замужняя женщина – это власть. Девушка наивна, взрослая женщина – умудрена опытом. В юности Плотина была длинноногой и нескладной, и вот теперь, когда ей исполнилось тридцать пять, ее стали сравнивать с богиней.
– Я готова, – ответила Плотина и, поднявшись, взяла мужа за руку. Траян был высок ростом, но и она была ему под стать. По крайней мере ей не нужно было запрокидывать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Как, впрочем, и всем другим рослым мужчинам Рима, и это ей нравилось. Ведь известно, что небесные богини все как одна высокого роста. Плотина же привыкла брать пример лишь с самых высоких и самых достойных образцов.
Нет конечно, она ни за что не станет подражать любой богине. Только Юноне, небесной царице, ибо только она безукоризненна во всем. Ведь не секрет, что другим небожительницам по части целомудрия до нее далеко.
Вскоре императорская чета уже вступала под своды храма. Плотина неодобрительно покосилась на статую Венеры – кудрявое, легкомысленное создание. Какова богиня, такова и статуя! На месте Юноны я никогда бы не подпустила сюда эту шлюху даже близко. В конце концов даже боги должны содержать свою небесную обитель в чистоте и благопристойности. Ведь содержит в чистоте и благопристойности свой дом она, Плотина.
Жрец тем временем воздел руку с кувшином, наполненным молодым вином, и принялся нараспев читать молитву, прося богиню ниспослать богатый урожай и благодаря за урожаи предыдущих лет. Судя по тому, как раскраснелось его лицо, он успел приложиться к кувшину с молодым вином, причем не один раз. «Надо будет заменить его на другого жреца», – сделала мысленную пометку Плотина.
Впрочем, его молитвы никто не слушал. Мужчины стояли, переминаясь с ноги на ногу, в ожидании момента, когда смогут воздать должное молодому вину, девушки хихикали и перешептывались с императорской стражей.
– Покажи им всем пример, – шепнула Плотина мужу, склоняя в благоговейном поклоне голову, тем более что жрец читал завершающую молитву, обращенную к Венере и Юпитеру. Присутствующие тотчас поспешили последовать ее примеру. Включая каштановую девичью головку, которую Плотина приметила еще при входе в храм.
Та самая девушка.
О боги, как же мучителен выбор! Неужели это та, что достойна ее воспитанника? Нет конечно, кровь у нее слегка подпорченная. Ни для кого не секрет, что ее мать не блистала добродетелью. Но будем надеяться, что отец, сенатор Норбан, передал ей свою добропорядочность. Лицо чистое и скромное, с правильными чертами. Блистательная красота ни к чему – она скорее помеха и источник соблазнов. Ведь не секрет, что рука об руку с красотой идут такие пороки, как тщеславие и склонность к неверности. А ведь та, на кого падет выбор Плотины, должна быть исполнена чувства собственного достоинства. Именно по причине отсутствия этого самого достоинства две предыдущие кандидатуры пришлось отклонить.
Жрец продолжал монотонно читать молитву. Плотина же незаметно наблюдала за девушкой. Та стояла тихо, не переминалась с ноги на ногу, не вертела головой по сторонам, как обычно поступают ее сверстницы, придирчиво разглядывая платья своих подруг. Молчалива. Это хорошо. Потупив взор, уважительно стоит позади отца. Прекрасно.
Плотина не сомневалась, что вылепит ее по своему образу и подобию, направит, обучит, выпестует. Вот только платье – шелковое платье винного цвета. Нет, молодой девушке не пристало ходить в шелках. Впрочем, не секрет, что отец ее балует. С другой стороны, платье вполне пристойное – с длинными рукавами.
Девушка посмотрела на свою светловолосую младшую сестренку, которой никак не стоялось на месте с ней рядом, и поднесла палец к губам – мол, тс, не шуми. Ага, имеет подход к детям. Тоже хорошо. Потому что та, кого выберет Плотина, родит много детей. Нет, воспитывать их будет она, императрица Рима. Это она возьмет на себя их образование и, что самое главное, привьет им приличия. Что касается воспитания самой девушки – здесь, похоже, есть проблема. Говорят, что сенатор Норбан не только избаловал старшую дочь, но воспитал ее довольно странным образом. И о чем он только думает? Какая практическая польза девушке от Гомера и Эсхила? И какое счастье, что третья жена сенатора взяла на себя обязанность привить падчерице любовь к домашним делам. Ну, будем надеяться, что отцовские уроки не пошли ей во вред. Тем более что как только пойдут дети, ей будет не до книг. Второй вопрос – приданое. Надо сказать, что здесь Плотина была не столь требовательна, нежели некоторые. Для нее куда важнее другие вещи. К тому же приданое за девушкой дают вполне приличное, а уж применение ему всегда отыщется. Связи – вот что во сто крат ценнее любого приданого. И пусть сенатор Норбан заметно сдал в последние годы, его голос в сенате по-прежнему имеет вес.
Его поддержка может оказаться решающей.
Тем временем жрец закончил молитву Венере и поднял над головой чашу. На пол храма рубиновой струей пролилось вино. Девушка не спускала с церемонии глаз, все так же стоя, как статуя, и лишь слегка наклонив голову, увенчанную по случаю праздника венком из маков.
Во рту у Плотины все пересохло, сердце предательски колотилось к груди. Неужели это она? Та, единственно достойная?
Нет, достойной не может быть никто. Это попросту исключено.
А вот та, что будет всю жизнь к этому стремиться, что ж, такое вполне возможно. Как, например, вот эта. Вибия Сабина. Старшая дочь сенатора Марка Норбана.
Да, пожалуй, она подойдет. Вполне подходящая кандидатура.
– Ну, наконец-то это все, – вывел ее из задумчивости голос мужа, и, взявшись под руку, императорская чета вышла из храма Венеры. Завидев императора, толпа тотчас взорвалась ликующими возгласами. Волна человеческих тел подалась вперед. Люди тянули руки, в надежде прикоснуться к императорской тоге. Этот натиск пытались сдержать преторианцы в красно-золотистой форме, с трудом прокладывая узкую тропу к поджидавшим царственную чету золотым носилкам. Император сначала помог супруге сесть, а сам на мгновение остановился и поднял в приветственном жесте руку. Ликующие крики зазвучали с удвоенной силой: мужчины, женщины, дети – все радостно вопили, срывая голоса.
– А теперь на бега, – произнес Марк Ульпий Траян, великий понтифик и тринадцатый император Римской империи. Носилки взмыли вверх и поплыли прочь, качаясь на плечах шести рослых греков, в направлении Большого Цирка. – О боги, как же я ненавижу этих жрецов с их молитвами!
– Верно, дорогой, – рассеянно согласилась Помпея Плотина, Императрица семи холмов. Мужа она не слушала. Бега ее вообще не интересовали, равно как и вульгарный праздник в честь нового урожая винограда, во время которого мужчины и их подружки-потаскушки напивались до бесчувствия прямо на улицах Рима. Сейчас ей не было дела ни до чего. Ее мысли занимало одно – вернее, одна. Та девушка. Та единственно достойная девушка, на которую пал ее выбор. Плотина негромко усмехнулась. Только сейчас до нее дошло, что в последнее время она не думала ни о чем другом. И вот теперь, можно сказать, бремя решения свалилось с плеч. «Ладно, скажу ему завтра, – подумала Плотина, довольная собой. – Что я наконец нашла ту, которую искала».
Викс
Я не слишком жалую патрициев, и скажу честно, что они не слишком любят меня. Выскочка-головорез, обычно бормочут они, увидев меня рядом с собой, причем бормочут довольно громко, чтобы я мог их услышать. Но я не обращаю на них внимания. Потому что пользы от них никакой. Хотя есть и исключения. Причем эти исключения легко проглядеть.
Например, сенатор Марк Норбан. Очень хорошее исключение, я бы даже сказал, замечательное. Что касается плохих исключений, то мне следовало с самого начала внимательнее к нему присмотреться.
Ублюдок.
День начался, но его начало не предвещало ничего хорошего. Я уже ходил с разбитой губой, хотя, казалось бы, добыча мне попалась легкая: богатенький юный патриций, сбежавший от отца и наставников поохотиться на шлюх в Субуре, хотя, скажу вам честно, это не то место, где на них следует охотиться. Нет, шлюху он все-таки поймал, и в придачу к шлюхе подцепил дурную болезнь, которая даст о себе знать этак через пару недель, после чего, по дороге домой, зашел в нашу гостиницу и накачался дешевым вином. Наконец на нетвердых ногах наш любитель приключений вышел на улицу. Хозяин заведения незаметно мне кивнул, и я тоже выскользнул за дверь. Когда я в узком переулке вытащил кинжал и потребовал у него кошелек, юнец все еще был в стельку пьян. Наверно, это и придало ему храбрости. Вместо того чтобы послушно вручить мне кошелек, он разбил мне губу. Не думайте, мой кошелек от меня никуда не ушел, а вот юный патриций поковылял домой с разбитым носом.
– Считай это боевым крещением. Теперь ты настоящий мужчина! – крикнул я ему вслед. – В любом случае, это лучше, чем та зараза, которой наградила тебя та шлюха.
Кошелек оказался туго набит золотыми монетами, и я взял себе несколько, что лежали сверху, еще до того, как вручил его хозяину гостиницы, чтобы тот отсчитал мне положенный мне процент.
– Вытри губу и смотри в оба, – приказал он мне. – В праздники легкая добыча сама идет в руки.
– Тогда сам ее и лови, – бросил я ему. – А я пойду праздновать, как и все люди. Да здравствует Венера, да здравствует новый урожай винограда.
– Послушай, парень…
Я сделал неприличный жест и вышел вон. Мне под ноги тотчас бросился какой-то грязный уличный мальчишка. Я поддал ему в бок, чтобы он не путался у меня под ногами, и его мамаша, увидев это, принялась орать на меня. Ей я тоже показал неприличный жест и в дурном настроении растворился в толпе. Скажу честно – не о такой жизни я мечтал, когда вернулся в Рим. Нет, с одной стороны, я устроился очень даже неплохо: дармовая койка в гостинице, жратва, в которой не ползало никаких насекомых, денежки на баню или на театр – было бы желание. Отнимать кошельки у патрициев и богатых торговцев – это для меня как раз свистнуть. Вскоре я даже завел небольшое собственное дело – стал подворовывать у уличных торговцев в Субуре и за небольшой навар перепродавать украденное торговцам на Эсквилине. Так что, с одной стороны, жаловаться на жизнь не приходилось. И все же, и все же.
По случаю праздника всех желающих в Колизей пускали бесплатно, поглазеть на гладиаторские бои. Я не сомневался, что сегодня тысяча львов найдут на арене свой конец, пронзенные острыми копьями, а пять тысяч экзотических птиц – не менее острыми стрелами. Несколько сот преступников будут казнены стражей, а половину несчастных, приговоренных к участию в гладиаторских схватках, сегодня уволокут с арены железными крючьями через Врата Смерти.
Нет, туда я не ходок. Я обошел Колизей и направился в сторону Большого Цирка. Не то чтобы на скачках дело обходится без крови, там всякое бывает, если вдруг перевернется колесница. Но все равно это лучше, чем смотреть гладиаторские бои. Кроме того, в отличие от Колизея на скачках женщины не сидели отдельно, в специальных женских ложах, так что, если постараться, домой можно уйти с какой-нибудь хорошенькой римлянкой.
Смешно вспомнить, как я тогда старался уйти со скачек с какой-нибудь хорошенькой римлянкой. Но мне было всего восемнадцать.
Когда я пришел туда, трибуны уже были набиты битком под самые небеса. Народ размахивал цветными флажками, подбадривая свои любимые команды – Красных, Синих, Зеленых, Белых. И хотя лично я не болел ни за одну из них, но, будучи облачен в красную тунику, я машинально направил стопы в ту часть трибун, где сидели болельщики Красных.
– Это кто тебя так разукрасил, уж не болельщик ли Синих? – поинтересовался у меня какой-то тип с выбитыми зубами, тыча пальцем в мою разбитую губу.
– Кто же еще, – согласился я. Мой вам совет: никогда не спорьте с фанатиками.
– Погоди, Синие сегодня утрут вам нос! – выкрикнула с верхней трибуны какая-то женщина с раскрашенным синей краской лицом.
– Это еще кто кому утрет! – крикнул в ответ беззубый тип, после чего последовала короткая, но энергичная потасовка. Я под шумок встал с места, чтобы поискать себе другое, более тихое и удобное в той части трибун, где под навесом расположились ложи патрициев и всадников. Вдруг повезет прошмыгнуть…
– Верцингеторикс! – окликнул меня кто-то.
Я обернулся – на меня смотрела девушка в красном платье с венком из алых маков на каштановых волосах.
– Сабина! – удивился я, однако вовремя отвесил поклон. – Как тебя сюда занесло? Патриции сидят вон там!
– Знаю. У моей тети Дианы есть ложа. Но я сбежала от жениха.
– У меня есть место, – предложил я.
– Как здорово! – обрадовалась Сабина, беря меня под руку. Она была невысока ростом, едва доставала мне до плеча, однако люди расступались перед ней. Еще бы, ведь перед ними была патрицианка!
– Так ты болеешь за Красных? – спросил я у нее, заметив в ее руках небольшой красный флажок.
– В нашей семье все болеют за Красных. К тому же тетя Диана порвала бы с нами всякие отношения, вздумай мы болеть за кого-то еще.
Сабина села на мое место и посмотрела на меня.
– А ты где будешь сидеть?
– Не волнуйся. Эй, свалил бы ты, приятель, – сказал я мужчине, сидевшему по другую сторону от нее, и для пущей выразительности свирепо посмотрел на него. И он свалил. Я же разжился местом, а вдобавок удостоился улыбки сенаторской дочки. Так, может, день и не так уж плох?
– А почему ты сбежала от жениха? – поинтересовался я.
– Он вбил себе в голову, будто он самый главный в своре, и пытается отвадить соперников.
– У тебя свора женихов?
– Представь себе, – спокойно ответила девушка. – Может, я и не такая красавица, как моя мать, зато у меня есть ее деньги.
– Ну, это кто тебе сказал, что ты не красавица, – возразил я, но она не купилась на мой комплимент.
– Смотри, император! – воскликнула она, указывая на центральную ложу, куда только что влился поток патрициев. Мне не надо было долго гадать, который из них император – короткая солдатская стрижка, пурпурный плащ, ослепительная улыбка. Все это говорила само за себя. Император Марк Ульпий Траян поднял вверх кулак, и толпы на трибунах разразились восторженными криками и рукоплесканиями.
Патриции, томно полулежавшие в ложах, привыкшие держаться особняком всадники (они как будто стеснялись своего сословия), плебеи, битком набившие трибуны, – все они вскочили на ноги и принялись громко кричать и размахивать руками. Возницы и конюхи, что уже выбежали на арену, на мгновение застыли на месте. Казалось, что даже кони, которые ждали, когда их выпустят на беговую дорожку, и те приветственно затрясли головами.
Я только тогда понял, что кричу и хлопаю в ладоши вместе со всеми, когда у меня заныли ладони. В отличие от Сабины, которая осталась равнодушна к этому проявлению всеобщего обожания и продолжала сидеть на своем месте.
– Так всегда бывает, – пояснила она, когда я опустился на скамью с ней рядом. – Всякий раз, когда Траян выходит к народу. Он ходит по городу без охраны, потому что знает, что его никто не посмеет тронуть даже пальцем.
Я посмотрел на императора. Он тем временем опустился в свое золотое кресло, пробежал рукой по коротко стриженным волосам и расхохотался. Как это было непохоже на того, другого императора, которого я в последний раз видел сидящим в этой ложе!
– А этот ваш Траян мне даже нравится. Надеюсь, он не закатывает роскошных пиров и не требует, чтобы его величали Господином и Богом.
– Тс, сейчас начнется забег!
В следующий миг по трибунам прокатился рев: это на арену выкатилась первая колесница, запряженная четверкой вороных коней, украшенных зелеными плюмажами. За ней – еще две, тоже Зеленых, за ними – команда Синих. Их появление Сабина встретила негромким свистом, скорее похожим на шипение. Я рассмеялся.
– Эти Синие – мерзавцы еще те, – пояснила Сабина. – По крайней мере так мне вбивали в голову с самого детства.
Я вновь рассмеялся. Она же растерянно посмотрела на меня. Красные вышли на арену последними. Управлял ими высокий галл. Стоя на колеснице, он размахивал хлыстом, украшенным красными бусами, подгоняя своих резвых гнедых вперед. Сабина в ответ помахала красным флажком. Я заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Зрители на соседних местах поморщились, как будто мой свист больно резанул им по ушам.
– Как здорово у тебя получается! – воскликнула Сабина. – Я тоже так хочу. Научишь?
Я показал Сабине, как складывать за зубами язык. Она наблюдала за мной с неподдельным интересом, после чего засунула в рот два пальца и свистнула. Нет, свист получился лишь с третьей попытки, но она все равно осталась довольна собой.
– Как здорово. Спасибо, Верцингеторикс.
– Но это всего лишь свист.
– А для меня это что-то новое. Я всегда стараюсь научиться у людей чем-то новому.
– Даже у плохих людей? – уточнил я.
– Даже негодяи знают что-то такое, что может тебе пригодиться. Вспомни мою мать.
– И чему ты у нее научилась? – поинтересовался я, отгоняя от себя образ ее матери: зеленый шелк и надушенные кудри. Я вспомнил, как она слащавым, а на самом деле змеиным шепотом говорит, что я маленький грязный ублюдок, которому на роду написано умереть на арене. Да, я отлично помнил мать Сабины. А вот что помнит о ней она сама?
– Моя мать красиво одевалась, – как будто угадав его мысли, произнесла Сабина. – В остальном она была испорченная, бездушная интриганка.
– Лучше не скажешь, – согласился я. – Кстати, если ты хочешь научиться чему-то новому, могу предложить свои услуги. Я умею массу других вещей кроме свиста.
Сабина улыбнулась, однако вновь повернулись к арене, а в следующий миг засунула пальцы в рот. Арену огласил пронзительный свист.
– Красные! – выкрикнула она. Тем временем в императорской ложе Траян уронил платок, и восемь колесниц устремились вперед.
Рядом с поворотным столбом как обычно возникла давка. Колесница Белых перевернулась и первой сошла с дистанции. Трибуны разразились криками. Мне было видно только облако пыли, посреди которого мелькали
лошадиные ноги, но и оно в следующий миг уже полетело дальше, к другому концу арены. Впереди мчался синий плюмаж. За ним зеленый, позади него – красный. Вскоре они исчезли за поворотом, и теперь криками разразились противоположные трибуны. Я же опустился на скамью.
– Значит, у тебя есть женихи, – произнес я как бы невзначай. – И кто же среди них главарь стаи?
– Не один, а двое. – Она оторвала взгляд от арены и повернулась ко мне. – Отец сказал, что разрешает мне выбрать себе мужа по своему усмотрению. Разумеется, в разумных рамках.
– И что это за рамки?
– Ну, во-первых, император должен дать согласие на этот брак, – ответила Сабина. – Ведь ни он, ни отец не позволят мне выйти замуж за вольноотпущенника из мясной лавки, равно как за кутилу и мота, который по уши в долгах. Кроме того, отец вряд ли будет рад, если мой выбор падет на любителя путешествий.
– А что не так в путешествиях?
Тем временем мимо нас вновь прогрохотали колесницы. Под крики, свист и рукоплескания трибун Красные упорно рвались вперед, пытаясь выиграть время у Синих на очередном повороте.
– Если я выйду замуж за губернатора или наместника какой-нибудь из провинций, мне придется уехать из дома. Отец же хочет, чтобы я оставалась с ним рядом. Боюсь, я буду вынуждена его разочаровать.
– Это почему же? Ты уже присмотрела себе генерала?
– Нет, – Сабина вновь перевела взгляд на арену. – Но я хочу повидать мир.
– Ну, ты даешь.
– Представь себе. Большой мир.
– Я видел Британию, – сообщил я. – Лондиний – это настоящая задница. А вот Бригантия – это на севере – очень даже ничего.
– А можно поподробнее?
– Там горы, – произнес я. – Горы и море. И еще там холодно, и вершины гор окутаны туманом, отчего кажется, будто идешь сквозь молоко.
Я рассказал ей про Бригантию. Сабина, хотя и следила за скачками, слушала с интересом, я бы даже сказал, впитывала каждое мое слово.
Лошади тем временем, гремя копытами, пробежали еще два круга.
– Я бы хотела увидеть Бригантию, – задумчиво произнесла она, когда я закончил свой рассказ. – Но не только ее. Я хотела бы увидеть весь остальной мир.
– И откуда бы ты начала?
– Может, с Иудеи, а может, с Галлии. Или с Египта – у египетских богов головы животных. Мне всегда хотелось узнать, прочему. А может, с Греции. Меня давно мучает вопрос, что лучше – Спарта или Афины. Хотелось бы взглянуть на них собственными глазами.
– У спартанцев лучше армия, – с видом знатока изрек я, вспомнив истории, которые рассказывала мне мать. – По крайней мере была лучше.
– То армия. А что еще у них есть? – задумчиво спросила Сабина. Тем временем, вздымая копытами облака пыли, лошади пронеслись мимо нас в очередной раз. Трибуны вновь взорвались истошными криками. – Интересно было бы выяснить.
– А ты знаешь, как они заключали брак? – спросил я. В свое время мать рассказала мне одну любопытную историю. Спартанцы всех девушек на ночь отводили в горы, как бы давая им фору, после чего отправляли им вдогонку юношей. Все как один были голые, и кто кого поймал, те и становились мужем и женой.
– Какой жуткий обычай. Какое счастье, что у нас в Риме такого нет. Лично я не смогла бы убежать, потому что бегаю плохо.
– Зато я хорошо! При желании догнал бы тебя за одну секунду.
– А зачем тебе это? По-моему, тебе как легионеру куда больше подошла бы стойкая спартанская девушка.
– Но ведь я не легионер и не собираюсь им стать.
– Неужели?
– Оттрубить двадцать пять лет в походах и гарнизонах. Нет, это не для меня. Дураков нет.
– Как сказать, – ответила Сабина, вновь переключая внимание на арену. Лошади бежали пятый круг, и крики зрителей на трибунах слились в один оглушающий рев. И самое главное, Красные опережали Синих. – Они впереди! – радостно крикнула Сабина и помахала флажком.
– Эй! – я обернулся на детину, сидевшего позади Сабины. Этот нахал подался вперед, на чем свет стоит понося Синих, отчего его колени теперь упирались ей в спину. – Живо убери от нее свои вонючие ноги.
– А, может, ей приятно, откуда ты знаешь? – бросил он в ответ, похотливо оглядывая Сабину с ног до головы.
– Убери ноги, кому сказано, – рявкнул я на него и дернул за край туники. Скажу честно, руки у меня чесались.
– Ты собираешься ввязаться в драку? – с нескрываемым интересом просила Сабина.
– Ну, не то чтобы в драку, – ответил я, впечатывая кулак наглецу в нос. – Но проучить стоит.
Сыпля проклятиями, мой противник с позором удалился. Я погрозил кулаком ему вслед.
– Только попробуй вернуться со своими дружками!
– А что, пусть возвращается, – возразила Сабина. – Я еще ни разу не видела настоящей драки.
– Но ведь ты видела меня на арене. Мой второй бой. Тогда мне было всего тринадцать и мне в плечо впилось копье. Кстати, могу показать шрам.
– Да, я помню, – ответила Сабина. – Ты дрался как настоящий герой, это так. Но ведь дрался не из-за меня. Из-за меня еще никто не дрался. Но теперь мне понятно, почему девушкам так нравится, когда кто-то дерется из-за них.
– Ты какая-то странная, скажу я тебе, – заметил я.
– Ты так считаешь? А, по-моему, я самая обыкновенная.
– В любом случае места стало больше, – ответил я, как бы невзначай кладя ей на плечо руку. Сабина лукаво посмотрела на меня, но ничего не сказала.
Красные тем временем рвались к финишу. Копыта лошадей взбивали пыль, над их головами развевались красные плюмажи. Наша часть трибун взорвалась ликующим ревом. Впрочем, сегодня нас ждало еще три заезда. В одном из них победа также досталась Красным, в двух других – Зеленым. Под конец мне это стало слегка надоедать.
– Не хочешь перекусить? – предложил я. – Сколько можно смотреть, как лошади носятся по арене кругами.
– Верно. После второго заезда это уже все одно и то же, – согласилась Сабина. – И куда ты предлагаешь пойти?
Мне в голову тотчас пришла целая дюжина самых разных, но очень удобных мест, правда, все они не имели к еде никакого отношения. К тому же я был с сенаторской дочкой!
– Можно купить еды у уличных торговцев, – предложил я, плечом прокладывая нам дорогу. Сабина семенила за мной следом.
– Может, купим колбасок? – указала она на тележку.
– Лучше не стоит. Там скорее собачатина, а не свинина.
– Кстати, интересно, почему свинину есть можно, а собак нельзя? – размышляла вслух Сабина. – Ведь едим же мы гусей, свиней, а ведь они такие же домашние животные, как и собаки. Или взять, к примеру, угрей или миног. Какие же они противные на вид! И ничего, мы их едим и еще никого даже не стошнило. А вот собак – нельзя. Странно.
– Хочешь попробовать?
– Честно говоря, нет. Но все равно хотелось бы знать, откуда взялся этот запрет?
– Смотрю, ты любишь задавать вопросы.
– А ты?
– Лично меня в данный момент куда больше интересует, где бы поесть. И еще – чем я буду заниматься, скажем, через год.
– А я знаю, что будет со мной через год, – задумчиво ответила Сабина, беря меня под руку. – Наверно, поэтому я и могу задавать вопросы о чем-то другом.
– И что же будет с тобой через год? – спросил я у нее.
– Буду замужем. Что еще?
Я купил ей жареного хлеба и пару тонких полосок жареного мяса, которое, я был уверен, раньше не бегало с лаем по улице. Жуя наш нехитрый обед, мы посмотрели пятый забег, и когда победа досталась Синим, я обучил сенаторскую дочку нескольким смачным ругательствам.
– Умри медленно, ты, Синий недоносок! – с восторгом кричала с трибуны Сабина. когда возница Синих с гордым видом прокатил мимо нас под рукоплескания своих болельщиков, после чего присовокупила еще парочку забористых словечек. Как вдруг…
– Вибия Сабина, ты потерялась? – раздался за нашими спинами спокойный, хорошо поставленный голос, какой мог принадлежать только патрицию.
– Да нет, – ответила она и, не убирая руки с его локтя, обернулась к владельцу баритона. – Это ты, трибун?
Я с первого взгляда понял, что передо мной птица высокого полета. Только богатые имели привычку расхаживать в белоснежных тогах, не путаясь в складках и не наступая при этом на подол, как то обычно бывает с нашим братом-плебеем.
Трибун был высок, на вид лет двадцати шести. Нет, ростом он был пониже меня, зато шире в плечах. Правильные черты, темные, коротко стриженные кудрявые волосы, спокойный взгляд глубоко посаженных глаз. Руки сильные, ладони большие, пальцы унизаны кольцами. А еще он был бородат, что совсем не типично для римлян. Придерживая одной рукой на груди складки тоги, он посмотрел на Сабину с явным неодобрением.
– Тебе здесь не место.
– Это почему же?
– У твоего отца есть ложа. Там тебя никто не тронет.
– Меня и здесь никто не тронет с моим телохранителем.
Трибун покосился на меня. Всего один мимолетный взгляд, но я был готов поклясться, что через год он подробно опишет мою внешность – начиная с торчащих вихров и до обутых в потертые сандалии ног. Не забудет он и амулет у меня на груди, который – судя по тому, как скривились его губы, – он явно счел варварским суеверием.
– Верцингеторикс, – сказала Сабина, – познакомься. Публий Элий Адриан, народный трибун.
– А что это за должность? – удивился я, не удостоив его даже кивком головы. – Он кто, армейский офицер?
– Нет, армейские трибуны – это совсем другое. Адриан что-то вроде мирового судьи. Это первая ступенька, которую нужно занять прежде, чем стать претором.
– Есть и другие обязанности, – добавил Адриан, глядя на меня с холодным прищуром. – А это кто такой? – поинтересовался он у Сабины, имея в виду меня.
– Клиент моего отца, – не моргнув глазом, ответила она.
– Понятно. – В его голосе прозвучала легкая ирония. – У сенатора Норбана вечно какие-то странные клиенты.
– Верно, – согласилась Сабина. – И они мне нравятся. От них всегда узнаешь что-то новое.
– У тебя странные вкусы, Вибия Сабина. – В голосе Адриана мне послышалось осуждение.
– Неужели? – вставил слово я. – А, по-моему, это так мило с ее стороны.
Трибун на мгновение задержал взгляд на моей руке, на которой все еще лежали пальчики Сабины, затем равнодушно отвернулся.
– Если ты, Вибия Сабина, не позволишь мне сию же минуту проводить тебя в отцовскую ложу, я уйду. Я терпеть не могу бега. Мне больно видеть, как погибают несчастные лошади, слышать их предсмертное ржание.
Отвесив Сабине поклон, трибун удалился. В отличие от меня ему не пришлось прокладывать себе дорогу – толпа сама расступалась перед ним.
– Надутый патрицианский ублюдок, – бросил я ему в спину.
Вот так состоялось мое знакомство с Публием Элием Адрианом. Эх, зря я тогда не прихлопнул его. Честное слово, так было бы лучше и для Сабины, и для меня.
Сабина
«Как хорошо, – подумала Сабина, шагая сквозь толпу вслед за Виксом, – когда рядом есть кто-то большой и сильный, кто при случае защитит тебя». Викс шел впереди, прокладывая им путь сквозь давку напиравших со всех сторон болельщиков Красных. Сами Красные только что выиграли последний забег и таким образом стали победителями дня.
– Моя тетя Диана ни за что меня не простит, что я ее не поздравила, – крикнула Виксу Сабина, пытаясь перекричать ликующий гул голосов, которыми трибуны приветствовали своих любимцев. Колесница тем временем описала круг почета, и болельщики уже рвались на арену, чтобы воздать почести победителям.
– Клянусь Хароном! – воскликнул Викс, работая локтями. Еще миг – и его взору предстали беговые жеребцы Красных: все в пене, огромные и сильные, они были копытами и грызли удила. – Ни за что в жизни не сяду верхом на лошадь. Вот это чудовища. Честное слово, не понимаю, как кто-то может…
– Сабина! – раздался рядом чей-то голос. Откуда-то из-за их спин вынырнула тетя Диана и радостно обняла Сабину за талию. Руки у тетушки были коричневые, загорелые, что никак не вязалось с представлениями большинства римлянок о красоте. Впрочем, ее красное платье и светлые волосы тоже пропахли отнюдь не духами, а сеном. – Ты видела? Наши Красные выиграли пять забегов из девяти! Я пригласила возниц к себе на виллу, чтобы отпраздновать это событие. Надеюсь, ты составишь нам компанию…
– Нет, тетя, я иду домой, – ответила Сабина.
– О боги, где это видано! Я в твоем возрасте в два счета могла на спор перепить любого возницу. Впрочем, как хочешь, а я пойду, проведаю моих любимцев.
С этими словами тетя Диана растворилась в ликующей толпе.
– Это твоя тетка? – спросил Викс, с восхищением глядя ей вслед.
– Не совсем. Скорее дальняя родственница со стороны отца, но я привыкла называть ее тетей. – С этими словами Сабина вытащила из волос поникший мак и принялась вертеть его в руках. – Не стесняйся, можешь глазеть на нее, сколько тебе вздумается. Ты не один такой.
– Похоже, в молодости она была очень даже ничего.
– Ты прав. Стоило ей войти в комнату, как головы всех мужчин словно по команде поворачивались в ее сторону. Что жутко раздражало мою мать: ей, видишь ли, хотелось, чтобы головы поворачивались исключительно в сторону ее персоны.
Сабина вновь взяла Викса под руку, и они, увлекаемые толпой, двинулись к выходу из Большого Цирка, наступая на остатки пищи, лужи пролитого вина, увядшие цветы и брошенные флажки. Болельщики Красных от гордости надували щеки, болельщики Синих – хмуро смотрели на них исподлобья; дети закатывали рев, парочки спешили уединиться где-нибудь в укромном уголке. Небо над головой уже темнело. Еще немного – и на Рим опустится ночь. Сабина запрокинула голову, глядя на гигантский овал Колизея. Взгляд Викса тоже был прикован к каменной громаде. И впервые за весь день лицо его, такое живое и подвижное, было похоже на каменную маску.
– Ты думаешь про Колизей? – спросила Сабина.
– Нет, – коротко ответил Викс, со злостью отталкивая от себя какого-то пьянчугу. Но тот лишь расплылся в улыбке и, выкрикнув: «Да здравствуют виналии!», шатаясь, растворился в сумерках. – Но иногда он мне снится во сне, – добавил Викс.
– А вот мне ничего не снится, – грустно отозвалась Сабина. – С тех пор как я излечилась от эпилепсии, я больше не вижу снов.
Припадки начались у нее в раннем детстве, но ее излечила – как то часто бывало в таких случаях – гладиаторская кровь. И гладиатором этим был тринадцатилетний Викс, раненный на арене во время своего первого боя. Сабина видела, как это произошло: меч противника впился ему в плечо, что само по себе не так уж страшно. Но Викс нарочно подался вперед, давая лезвию войти глубже, чтобы сам он смог дотянуться до противника, превосходившего его ростом и силой, чтобы нанести ему смертельный дар. «Наверно, поэтому я и поцеловала его, когда мы с ним встретились лицом к лицу. Эх, ну и вид у него был!»
– Ты скучаешь по своей эпилепсии? – удивился Викс. Небо тем временем из розового сделалось пурпурным.
– По припадкам – нет. А вот по снам – да. В снах с нами разговаривают боги. Неужели это значит, что они больше ни разу не заговорят со мной?
– Вот уже не знаю, хочу ли я, чтобы со мной заговорил бог.
– Это почему же? По-моему, было бы даже очень интересно.
– А вдруг он будет со звериной головой? Не испугаешься?
– Я не пугливая, – ответила Сабина.
– А вот в это я очень даже верю, – ответил Викс, помогая ей обойти пьяного толстяка, уснувшего посреди улицы.
Похоже, добрая половина жителей Рима так увлеклись молодым вином, что теперь, хлебнув лишнего, храпели прямо на улицах, у стен домов. Тем временем Сабина с Виксом миновали целый лабиринт узеньких улиц. Они шагали бок о бок, и сандалии Сабины негромко стучали по брусчатке мостовой. Сабина открыла было рот, чтобы поинтересоваться у него, куда он ее ведет – домой или куда-то еще, как из сгущающихся сумерек выпрыгнула чья-то тень и стукнула Викса по голове.
– Ну, как тебе? – рявкнул грубый мужской голос, и Сабина узнала в нем болельщика Синих, которому Викс разбил на трибуне нос. «Похоже, он нашел своих дружков», – подумала Сабина, а в следующий момент на нее кто-то налетел, и она, не устояв на ногах, растянулась на мостовой, больно ударившись бедром. Она тотчас же заставила себя приподняться на руках, и ее глазам предстала такая картина: Викс, как мог, отбивался от двоих нападавших. Увы, силы были неравны: хотя он и нанес одному из них удар, обидчикам удалось заломить ему за спину левую руку. Тот, чей нос испытал на себе кулак Викса, со стоном отпрянул, однако уже в следующий миг повернулся к Виксу и нанес ему ответный удар. Викс вскрикнул, и этот крик больно резанул Сабину по ушам. Но что еще хуже, откуда-то из темных закоулков показались новые фигуры в синих туниках и схватили Викса за вторую руку. Викс весь напрягся, сыпля проклятиями. Его главный обидчик – Синяя Туника, как окрестила его Сабина – уже замахнулся для удара, когда ему на затылок опустился увесистый камень.
– А как тебе вот это? – воскликнула Сабина, увидев, что он рухнул как подкошенный, и наклонилась, чтобы снова взять в руки грязный камень, который ей удалось вырвать из мостовой.
– Стукни его еще раз! – крикнул ей Викс, а сам боднул головой одного из нападавших.
– Ты уж извини, – сказала Сабина, опустившись на колени рядом с поверженной Синей Туникой. Ей хотелось проверить, не убила ли она его часом, после чего огрела по голове камнем еще разок. Тем самым был положен конец его слабым попыткам подняться с земли.
Сабина приподнялась: вдруг Виксу требуется ее помощь. Но, похоже, инициатива перешла в его руки. Врезав одному из налетчиков локтем в горло, он вогнул ему колено в живот и, когда тот согнулся пополам, повернулся к остальным, чтобы разделаться с ними. Оскалив зубы, будто хищный волк, он налетел на них, раздавая удары, а в следующий миг они, спотыкаясь, устремились прочь.
– Да, не везет тебе с друзьями, – пошутила Сабина.
– Что поделать, – ответил Викс, сплевывая кровь с разбитой губы. Сабина посмотрела на него: высокий, сильный, еще не остывший от ярости. – Спасибо, что помогла.
– Пожалуйста. – Она поднялась на ноги и, довольная собой, отшвырнула прочь камень. – Моя первая драка, а я уже своими силами уложила одного. Какой замечательный день!
– Это точно! – поддакнул Викс, затем в два шага пересек булыжную мостовую и, прижав Сабину спиной к стене какого-то дешевого доходного дома, принялся осыпать поцелуями.
«Так меня еще не целовали», – подумала Сабина. Нет, опыт по части поцелуев у нее был. Например, с тем же Виксом, но тогда они с ним оба были детьми. Или кое с кем из женихов. Сабина нарочно провоцировала их, желая изведать, что чувствуешь, когда в тебя впиваются чужие губы. Впрочем, женихи не шли дальше легких прикосновений, испуганно косясь при этом на дверь – вдруг сюда войдет отец – и тогда прощай все надежды! Впрочем, нет, одно исключение имелось. Один жених, явно искушенный в этом деле, засунул ей в рот свой язык так глубоко, как будто пытался проверить, что она ела на обед.
– Ты слишком маленькая, – недовольно произнес Викс и для удобства оторвал ее от земли. Сабина усмехнулась, запрокинула голову, подставляя для поцелуя губы, и обвила его шею руками. Викс едва не раздавил ее в лепешку, прижав ее к стене. Но, о боги, какая теплая была эта грудь, такая теплая, как будто кровь, что текла в его жилах, была горячее, чем у остальных людей. Сабина чувствовала, как бьется его сердце, ощущала солоноватый привкус его разбитой губы. Она потрогала его шею и легонько начертила пальцем букву «О». Викс простонал, и его губы сместились ниже, к ее плечам и шее.
Его рука скользнула ей в волосы и сорвала увядший венок.
– Эй, что вы делаете, развратники! – вернул их с небес на грешную землю чей-то недовольный голос. – Не могли найти себе другое место! Живо убирайтесь прочь от моих дверей!
Дверь приоткрылась, и изнутри на потемневшую улицу упал луч света. А в следующий миг Сабину кто-то больно ударил по голове. Викс выругался, и они оба посмотрели в лицо новому обидчику. Вернее, обидчице, ибо это оказалась широколицая тетка. Казалось, она вот-вот лопнет от злости и праведного гнева.
– Головорезы и потаскухи, житья от вас нет. Не даете приличным людям спать: то кулаки у вас чешутся, то причинное место!
– Мы еще даже не приступили к тому, что ты думаешь! – крикнул ей Викс, но Сабина схватила его за руку и, давясь от смеха, потащила прочь. Грозная тетка продолжала сыпать им в спину проклятиями, понося, на чем свет стоит.
– Вот умора! – воскликнула Сабина и прикрыла ладонью рот. Но смех продолжал душить ее, он просачивался сквозь пальцы, сыпался звоном монеток на мостовую, улетал к небесам. Голова шла кругом. Казалось, она сама вот-вот воспарит над миром. – Еще кое-что новенькое!
– Целоваться у чужих дверей?
– Нет, узнать, что я потаскуха. Так меня еще не называли.
– Ну, нашла над чем смеяться! – Викс вновь привлек ее к себе. В темноте его глаза показались ей бездонными черными колодцами. Но Сабина остановила его, положив ему на грудь руку.
– Боюсь, что отец меня скоро хватится. Уже темно, и он наверняка забеспокоится, что меня еще нет дома. Не хотелось бы его волновать. Тем более что наш дом близко отсюда.
Викс насупился, однако руки разжал.
– Я же сказал, что научу тебе вещам поинтереснее свиста.
– Спасибо. Научил.
Путь до ее дома они проделали в напряженном молчании. А когда подошли к воротам, Сабину уже поджидали слуги. Заметив их, Викс насупился еще больше.
– Проклятье, – недовольно буркнул он.
Сабина рассмеялась.
– Рассчитывал на прощальный поцелуй?
– Или что-то другое, – буркнул в ответ Викс.
Между прочим, всю дорогу до дома Сабине не давал покоя тот же самый вопрос. А почему бы нет? Но слуги уже высыпали ей навстречу.
– Госпожа, ты должна была вернуться домой еще засветло! – укоризненно воскликнул кто-то.
Сабина посмотрела на них и, с достоинством натянув на голову паллу, прошествовала в дом. Ей оставалось лишь уповать на то, что Викс не оставил отметин на ее шее, которые ей будет трудно объяснить. Она услышала, как за ее спиной Викс повернулся и зашагал прочь.
Движимая каким-то шестым чувством, она отослала слуг прочь, а сама окликнула его удаляющийся силуэт.
– Викс!
– Что такое?
Он резко обернулся, и в свете факелов она увидела, что он зол.
– Сейчас ты целуешься лучше, чем в тринадцать лет! – весело крикнула ему Сабина и исчезла в доме.
(обратно)
Глава 3
Плотина
Императрица Плотина гордилась тем, что почти не смеялась. Жизнь – серьезная вещь, а положение супруги цезаря требовало от нее чувства собственного достоинства. И все же, увидев лицо Адриана, она невольно рассмеялась.
– Дорогой Публий, не надо хмурить брови. Это же не смертный приговор, а всего лишь женитьба.
– Что тоже приговор, только иного рода. Это Вибия Сабина? – уточнил он, немного помолчав.
– Да, мой выбор пал на нее. Или ты не рад?
Адриан раздраженно пожал плечами и принялся мерить шагами комнату. Плотина подняла глаза от восковой таблички, любуясь своим воспитанником: высокий, широкоплечий, в белоснежной тоге, в темных волосах играют солнечные лучи. Именно таким должен быть тот, кому в будущем суждено…
И пусть боги не сочли нужным подарить ей своих детей, они подарили ей Публия Элия Адриана. Муж сделал его своим воспитанником, когда мальчику было десять лет, и стоило Плотине впервые увидеть его, как ее зоркий глаз тотчас же разглядел в нем большое будущее. Траяну было не до него, и воспитание мальчика легло на ее плечи. И пусть он ей не родной сын, он все равно ее. Ее Публий.
– Мы же договорились, что тебе пора жениться, – сказала она, глядя, как он меряет шагами ее кабинет. – Между прочим, здесь, в этой комнате.
Какое чудное солнечное утро. Адриан всегда приходил проведать ее в первой половине дня. Вот и сегодня тоже. Плотина тотчас же отослала рабов, чтобы с глазу на глаз сообщить ему, что она наконец подобрала ему достойную невесту.
– Тебе пора обзавестись семьей, – продолжала она. – Ты ведь просил меня подыскать тебе достойную пару.
– Только не Вибия Сабина. Мне она не нравится.
– Это почему же? – удивилась Плотина. – Она тихая, воспитанная, с хорошими манерами. К тому же за ней дают неплохое приданое, а у ее семьи хорошие связи.
– Ее мать была самой главной римской шлюхой после Мессалины!
– Зато ее отец – один из самых уважаемых мужей в сенате. К его голосу прислушиваются. И его поддержка была бы для тебя не лишней, – Плотина улыбнулась. – Признаюсь честно, Публий, в один прекрасный день я бы хотела увидеть тебя консулом. Причем еще до того, как тебе стукнет тридцать. И я сделаю для этого все, что только в моих силах.
– Только не с такой женой! Может, она на вид и тихоня, зато любит водить дружбу со всяким отребьем. Я видел ее на бегах. Она сидела на трибуне рядом с плебейским сбродом.
– Ничего, как только она станет твоей женой, ей придется водить дружбу с теми, кого выберешь ты, – возразила Плотина. – Не поверю, что ты не сможешь совладать с какой-то глупой девчонкой.
– Она еще слишком юна, – пожаловался Адриан. – Я же не любитель маленьких девочек.
– Сабина? Маленькая девочка? – удивилась Плотина. Ведь, сказать по правде, она предпочла бы для себя сноху помладше, этакую спелую ягодку лет четырнадцати. Такая, наверняка, знала бы свое место и делала все, что ей велено. – Отец должен был выдать ее замуж года три-четыре назад, вместо того чтобы она забивала себе голову стихами Гомера. Но в этом случае сейчас она была бы замужем за кем-то другим. Если боги этого не допустили, значит, тому имеется причина.
Плотина давно убедилась в том, что боги всегда принимают во внимание ее намерения. А если они чего-то не делали, она делала это сама.
– И все же она мне не нравится, – продолжал упираться Адриан. – Послушать ее – вроде говорит правильные вещи, но ощущение такое, что внутри она смеется надо мной.
– Вздор! Ну кто бы посмел над тобой смеяться? – Плотина вновь посмотрела на восковую табличку. – Доверь ее мне, и я сделаю из нее образцовую супругу. Будь добр, подай мне стило.
– Императрица Рима вновь сама проверяет домашние счета? – с улыбкой спросил Адриан и покачал головой. – Тебе ведь достаточно поманить пальцем, и к тебе тотчас сбежится целая армия экономов и управляющих.
– Мой последний управляющий оказался не чист на руку. Мне ничего другого не оставалось, как в назидание остальным отрубить ему руки. – Плотина стилом разгладила воск и начертила новый заголовок. – Кроме того, я привыкла вести все домашние счета сама. И я не вижу причин отказываться от старых привычек лишь потому, что живу во дворце. Вспомни, Публий, когда я впервые переступила его порог.
– Как же, помню. Ты тогда сказала, что ты обыкновенная женщина и останешься ею, – улыбнулся в ответ Адриан. – Ты говорила это мне добрую сотню раз.
– Думаю, я сделала гораздо больше, чем просто вкладывать тебе это в уши.
– Разумеется, – согласился Адриан и нагнулся, чтобы поцеловать ее волосы. – Ты ничуть не изменилась.
– А вот ты изменился, – заметила Плотина. – Причем не во всем к лучшему. Лично мне не нравится твоя борода.
– А мне не нравится твой выбор невесты, – в пику ей сказал Адриан, опускаясь в кресло напротив Плотины. Его лицо вновь приняло недовольное выражение. – Ну почему именно Вибия Сабина?
– Тебе нужна достойная жена, соответствующего воспитания и связей. Такая, что способна, когда ты пойдешь вверх, с достоинством принимать в доме и твоих друзей, и твоих врагов.
– Раньше это делала ты, – заметил Адриан.
– И буду дальше делать, – сказала Плотина и взялась за колонку цифр. – Но жена подарит тебе сыновей. У мужчины должны быть сыновья.
– Но Траян…
– Сабина ему тоже нравится, – перебила его Плотина. – И если ты на ней женишься, то вырастешь в его глазах.
– Странно, почему я до сих пор не вырос? – буркнул себе под нос Адриан.
Плотина поморщилась. Это был больной вопрос.
«Ты должен оказывать дорогому Публию больше внимая, – не раз упрекнула она своего венценосного мужа. – Ведь он твой воспитанник. И должен быть для тебя почти сыном».
«Но он не сын, – таков был обычный ответ. – Свой долг по отношению к нему я уже выполнил. Вспомни, каким я его взял – капризный, неласковый мальчишка. Впрочем, таким он и остался. Так что с меня достаточно».
«Нет, – подумала Плотина, – недостаточно». Впрочем, ей хватило ума не продолжать этот разговор. С таким упрямцем, как Траян, лучше не спорить.
– Женись на Сабине, – сказала она Адриану, – и у тебя улучшатся отношения с моим мужем. Она ведь приходится ему двоюродной внучатой племянницей со стороны отца. Неужели тебе не надоело ходить в воспитанниках? Женившись на ней, ты станешь членом семьи. Станешь чаще видеть императора. Он, со своей стороны, сможет оценить тебя по достоинству. Вот увидишь.
– Чтобы император меня полюбил, одной женитьбы будет явно недостаточно!
«Конечно, если бы ты держался подальше от той юной танцовщицы, на которую положил глаз Траян, вместо того чтобы ее лапать. Ведь какой был скандал!»
Впрочем, вслух Плотина этого не сказала.
Траян был взбешен, что кто-то посмел покуситься на его любимицу. В конце концов, дабы в семье вновь воцарился мир, Плотина была вынуждена сплавить эту маленькую круглощекую потаскушку в один из борделей Остии.
Нет, конечно, молодости свойственно безрассудство, но немножко осмотрительности не помещает! Эту мысль она тоже оставила при себе. Молодые люди по наивности считают, что есть вещи, о которых их матери не догадываются. Плотина не видела смысла бороться с этим заблуждением. Пусть юность и дальше пребывает в нем. Она же, со своей стороны, станет делать вид, будто ничего не замечет. Ведь найдется ли женщина более мудрая, нежели Помпея Плотина, которая не только мать ее дорогому Публию, но мать всему Риму.
– Этот брак направит тебя по верному пути, – сказала она вслух. – Траян симпатизирует Сабине. А когда ты на ней женишься, его симпатии распространятся и на тебя. Кстати, почему бы тебе сегодня не нанести визит в дом Норбанов?
– Да, я мог бы поговорить с ее отцом, – нехотя уступил Адриан. – Намекнуть ему о моих намерениях.
– Боюсь, мой дорогой, не лишне будет поговорить и с самой Сабиной. Потому что отец оставил право выбора ей, – пояснила Плотина и сокрушенно вздохнула: – И куда только катится этот мир. Норбан слишком ее балует!
– Обещаю, что буду строг с его внуками, – пошутил Адриан и, поднявшись с кресла, поцеловал ее руку. – Ты победила. Пусть это будет дочь сенатора Норбана.
– Может, тебе стоит сбрить бороду? – закинула удочку Плотина. – Вряд ли девушке понравятся заросли на твоем подбородке.
Сабина
– Она восхитительна, – произнесла Сабина, разглядывая мраморную статую. – Дядя Парис, ты просто волшебник!
Дядя Парис никак не отреагировал на ее комплимент. Более того, он даже не поднял глаз от новой глыбы мрамора, что теперь заняла место на его рабочем столе. Впрочем, Сабина не обиделась. Все знали, что дядя Парис – молчун, и она принялась бродить по мастерской: высокие окна, сквозь которые на пол падали длинные золотистые полосы света, куски мрамора, и повсюду пыль. А еще – полки. Бесконечные ряды полок, забитых мраморными головами и бюстами. Вот, например, бюст Траяна, а вот незаконченный набросок нимфы, вернее, тонкие, изящные руки и плечи, вырастающие из мраморной глыбы. А вот гранитный Геркулес в львиной шкуре и с дубиной в руках… И пусть дядя Парис уже стар и глаза его подернуты поволокой, но его руки не утратили сноровки и все так же твердо держат резец и зубило. Наверно, в молодости его считали позором семьи. Подумать только: юноша-патриций возится в грязи и пыли, как какой-то там ремесленник. О боги, какой позор! Но с годами к этому привыкли. Родственники оставили дядю Париса в покое, что ему было только на руку, и он продолжал творить свои шедевры.
– Как жаль, что я лишена талантов! – сокрушенно вздохнула Сабина, глядя в глаза бюсту императора Домициана. Тот, в свою очередь, буравил ее недоверчивым взглядом.
Эх, будь у нее хоть какой-нибудь дар! Даже такой, что повергает других членов семьи в краску: ваять, как дядя Парис, или иметь подход к лошадям, как тетя Диана. Что угодно, что бы наполнило ее жизнь смыслом. Ты знаешь, что предначертали тебе боги. Тебе лишь осталось убрать все преграды со своего пути и получить положенное.
Несколько недель назад, на скачках, она едва не влепила Виксу пощечину. Даже слепой, и тот увидит, для чего он создан. Не пристало ему безрассудно тратить свои лучшие годы, бродя по темным переулкам, затевать драки и целовать не тех девушек.
– Вибия Сабина, – раздался у нее за спиной чей-то густой голос.
– Публий Элий Адриан, – передразнила она его церемонные нотки, оборачиваясь к нему. – Погоди, не двигайся.
– Зачем? – нахмурился он, растерянно теребя складки тоги.
– Руку вперед. Теперь немного вверх. Вот так. Отлично. А теперь замри. Дядя Парис, иди сюда! – позвала она скульптора. – Сделай набросок для своей новой статуи. «Образец Римского Сенатора».
Адриан опустил руку.
– Смотрю, ты любишь шутки, Вибия Сабина.
– А разве ты – нет?
Адриан оставил без внимания ее вопрос и посмотрел на дядю Париса, который в этот момент был занят тем, что придирчиво рассматривал кусок мрамора.
– Это твой дядя?
– Вообще-то нет, скорее дальний родственник, – пояснила Сабина. – У отца пол-Рима родни, а у Кальпурнии – вся вторая половина. Так что у меня в городе одни родственники.
В том числе сам император. Именно по этой причине Публий Элий Адриан и стоял сейчас перед ней с серьезным лицом, не зная, с какой стороны завести разговор с взбалмошной девчонкой, которая просто обожала шутки. Сабина не знала даже, как это воспринимать – смеяться или плакать от досады. Таких напыщенных женихов в ее жизни еще никогда не было. И таких тугодумов.
– Ты получила подарок, который я прислал тебе вчера? – наконец спросил он, когда молчание стало затягиваться.
– Оленя, которого ты убил на охоте? Да, моя мачеха велела передать тебе ее благодарность. Оленины нам хватит на всю неделю.
– Я пришлю еще, – добавил Адриан. – Я каждую неделю езжу на охоту, но столько мяса мне не надо.
– В таком случае, зачем каждую неделю ездить на охоту? – Сабина посмотрела на его холеные руки, на его белоснежную, собранную безупречными складками тогу. – К тому же охота – грязное занятие.
– Ничуть! – с жаром возразил ее будущий муж.
После чего вновь воцарилось молчание.
– Как понимаю, ты заказала какую-то статую, – со скукой в голосе произнес Адриан и жестом обвел мастерскую. – Отцовский бюст?
– В некотором роде, да, – ответила Сабина, указывая на небольшую фигуру из розового мрамора: человек упал на одно колено, мускулистые руки и одно плечо напряжены, придавленные тяжелым шаром.
– Атлант, согнувшийся под тяжестью небесного свода, – сказал Адриан, разглядывая благородные черты мраморного лица: прямой нос, широкий лоб, рот, плотно сжатые губы. – Это лицо твоего отца?
– Угадал, – ответила Сабина. – Вообще-то скульптуру заказала Кальпурния. Как своего рода предостережение, чтобы он не работал слишком много.
– Она мудрая жена, – отозвался Адриан. – Жемчужина среди римских матрон.
– После того, чего отец натерпелся с моей матерью, он по праву заслужил эту жемчужину.
Адриан растерянно заморгал. Сабина сделала вид, что ничего не заметила.
– Ты пришел заказать бюст? – спросила она.
– Да. Хочу сделать подарок императору. Его портрет в образе Энея.
– Лучше Александра. Траян наверняка мечтает покорить весь мир.
– Пусть будет Александр. И весь мир у его ног, – согласился Адриан и вновь повернулся к статуе Атланта. От Сабины не скрылся огонек в его глазах. – Должно быть, твой дядя знаком с философскими взглядами школы Поликлета. Действие и бездействие, слитые воедино. Кстати, ты когда-нибудь видела работы Поликлета, например, его «Дорифора»? Я видел наброски, – начал было Адриан, но внезапно умолк. – Извини меня, Вибия Сабина, тебе это наверняка неинтересно…
– Откуда тебе знать, что мне интересно, а что нет? – возразила Сабина. – Ты уже несколько недель осыпаешь меня цветами, но ни разу по-настоящему не поговорил со мной.
– На ведь девушки не изучают теоретические принципы скульптуры! Или…
– Знаешь, с тобой гораздо интереснее, когда ты не берешься поучать меня, – заявила Сабина. – Советую тебе не возноситься и не изображать из себя небожителя. Лучше говори как простой человек. Так чем же интересен этот «Дорифор»?
Адриан пристально посмотрел на нее. На какой-то миг Сабина подумала, что он вновь начнет изрекать скучные истины. Но нет, он протянул руку и едва ли не с нежностью потрогал мраморного Атланта:
– Видишь, как он перенес тяжесть на одну ногу? Как будто он на полпути между движением и отдыхом. Греческий скульптор Поликлет считал, что это идеальный способ показать красивое, сильное мужское тело. Его «Дорифор» – самый знаменитый тому пример. Но у него есть и женские скульптуры. Например, статуя Геры в Аргосе и бронзовая амазонка в Эфесе.
– Признайся, может, ты тоже скульптор? – спросила Сабина, глядя на его большие кисти. Нет, руки Адриана холеные, мягкие, без единого шрамика, ногти аккуратные, не то, что у дяди Париса с его мозолистыми ладонями.
– Нет, просто любитель искусства, – ответил Адриан с напускной скромностью, показавшейся Сабине подозрительной. – Я лишь делаю наброски и архитектурные чертежи. Те же самые принципы можно увидеть и в греческой архитектуре. Взять, к примеру, кариатид, что поддерживают крышу Эрехтейона! Они ведь не просто служат колоннами. Если присмотреться, одна нога у них согнута в колене, как будто они вот-вот сойдут со своих пьедесталов.
Теперь Адриан говорил с жаром, размахивая руками.
– В один прекрасный день я построю собственную виллу, – заявил он Сабине. – Это будет идеальное сочетание греческой и римской архитектурных традиций! Изящество и красота Греции – коринфские колонны, разве нам есть что им противопоставить? Но венчать их будет внушительный римский купол. Предварительные чертежи уже готовы, но хотелось бы познакомиться с греческими образцами ближе. Я даже планирую съездить в Грецию, чтобы собственными глазами взглянуть на Акрополь, на храмы. Ведь греки построили самые лучшие храмы в мире!
– Слушая тебя, можно подумать, что греки были лучшими во всем, – пошутила Сабина, однако Адриан так увлекся, что не заметил шутливых ноток в ее голосе.
– Не во всем, – решительно возразил Адриан. – У нас, например, лучшее государственное устройство, лучшие инженеры, почти идеальная система организации общества. Но что касается культуры, искусства – то да. Пальма первенства здесь, бесспорно, принадлежит Греции. Архитектура, философия, театр. Что мы можем противопоставить тем же Софоклу или Эврипиду? Только не наши унылые пантомимы! Что же касается литературы…
– Цицерона, – возразила Сабина. – Вергилия, Марциала.
– Их заслуги преувеличены, – фыркнул Адриан.
– Только не Вергилия, – не желала сдаваться Сабина. – Предвижу войны, смерть и реки крови, бурлящий кровавой пеной Тибр.
– Ходульно и напыщенно, – с раздражением заявил Адриан. – Если хочешь узнать о подвигах Энея, советую тебе почитать «Анналы» Энния. Добротная римская проза.
– Нет, лучше я останусь поклонницей Вергилия. А что ты скажешь про Катона.
– Что ж, Катон неплох. Кстати, у него есть книжица об ораторском искусстве, в основу которой легли положения греческой риторики.
– Я ее читала.
– Ты? Удивительно? А «Начала»?
Конец их увлеченной дискуссии положил голос дяди Париса.
– Кыш отсюда, вы двое! – бросил им, даже не отрывая глаз от резца. – Хватит отвлекать меня от дела!
Только тогда до Сабины дошло, что они с Адрианом разговаривали громко, с жаром, в полный голос, причем проговорили уже целый час. Она торопливо завернула в ткань фигурку Атланта.
– Все, мы уходим, дядя Парис.
– Я хотел заказать бюст Траяна, – вспомнил Адриан. – В образе Александра.
– Фу, какая скукотища, – бросил дядя Парис и захлопнул за ними дверь.
– Не обращай на него внимания, – сказала Сабина, когда они вышли на улицу. Носильщики ее паланкина времени зря не теряли: в ее отсутствие они без стеснения заигрывали с хорошенькими молодыми рабынями, торопившимися на рынок. – Дядя Парис творит для души, а не ради денег. Придумай что-нибудь интересное, и тогда он выполнит твой заказ.
– Истинный скульптор, – произнес Адриан, приглаживая короткую бородку. – Как я завидую таким людям. Талант – это тяжкая ноша, но если он достался тому, кто его достоин, он наполняет жизнь такого счастливца светом. Талант – это судьба.
– Я всегда так думала, – сказала Сабина. – Но ты это выразил лучше меня. А каков твой талант?
– Я пишу стихи, – признался Адриан. – Элегии в подражание греческой манере. А еще я неплохо рисую, а также играю на флейте и лире. Но в сонм великих мне никогда не попасть.
– В таком случае ты должен понять, в чем состоит твоя судьба, – с пылом произнесла Сабина. – Обычно люди это знают.
– Я уже знаю, в чем она, – спокойно ответил Адриан. Сабина с интересом посмотрела на него. Но нет, он лишь поднял руку, подзывая свои носилки. – Боюсь, Вибия Сабина, я вынужден тебя оставить. Я бы с удовольствием проводил тебя домой, но сегодня я обедаю с сестрой и ее мужем Сервианом.
– Луцием Юлием Урсом Сервианом? – уточнила Сабина. – Я его знаю.
– Говорят, это самый достойный муж во всем Риме, – ответил Адриан.
– Мне он тоже не нравится.
Адриан рассмеялся и поднес к губам ее руку.
– Какая ты, однако, забавная, – сказал он. Сабина же отметила про себя, что скука в его глазах исчезла, уступив место задорному огню.
Викс
Скажу честно, я порядком перетрусил, когда мне было велено прийти в дом сенатора Норбана.
– Проклятье, – воскликнул я, получив учтивое приглашение, которое мне протянул не столь учтивый раб. Но я все равно пошел. Когда какой-нибудь римский сенатор щелкает пальцами, безработные бывшие рабы вроде меня подскакивают как лягушки, устремляясь к нему.
– Смотрю, ты неплохо устроился, – сказал Марк Норбан, разглядывая серебряную цепь у меня на шее. Он принял меня, сидя за столом в своем кабинете. Кстати, здесь ничего не изменилось – все тот же заваленный свитками и табличками стол, все тот же
веселый беспорядок, все те же длинные полки с книгами и документами. – Нашел себе работу?
– Так, по мелочам, – уклончиво ответил я.
– Знаю-знаю, что за мелочи можно найти в той части города, – заметил сенатор. – Явно не те, о которых мечтали бы твои родители.
От его слов у меня зачесалось между лопаток, и я с трудом удержался, чтобы не подергать плечами. Так делают лишь те, за кем есть вина.
– Сабина сказала мне, что несколько недель назад ты угодил в Большом Цирке в небольшую переделку.
Проклятье, мне следовало предвидеть, что эта девчонка обязательно проболтается.
– Так, мелочовка, – солгал я. – Ничего страшного.
– По ее словам ты дал отпор двоим пьяным громилам.
– Она преувеличивает.
– Неужели?
Он задумчиво посмотрел на меня, буравя глазами. У меня возникло чувство, будто он видит меня насквозь, читает у меня в голове все мои мысли. Нет, так умеет смотреть не он один, но награду я дал бы только ему. Он знал все – и про пьяных головорезов, и про то, что я целовал его дочь, знал даже то, что я был не прочь сделать с его дочерью, будь у меня побольше времени и подходящее для этого место. Разрази тебя Юпитер, Верцингеторикс, тупая твоя башка, мысленно одернул я себя, нашел, где думать о таких вещах! Я поспешил отвести взгляд, впившись глазами в мраморный бюст, что виднелся за спиной сенатора, не то какого-то императора, не то философа. Мне очень хотелось надеяться, что физиономия моя не залилась при этом стыдливым румянцем. Потому что опять-таки краснеют лишь те, за кем есть вина.
– Как ты смотришь на то, если я предложу тебе место стражника в моем доме.
Его предложение застало меня врасплох. Я растерянно заморгал.
– В доме у меня тихо, но иногда возникает необходимость выставить у ворот охрану. Тебе выделят комнату в этом доме. Кормиться будешь здесь же, плюс три новые туники в год. Ну и, разумеется, жалованье.
Он назвал сумму – очень даже приличную.
У меня отлегло от души. Сомневаюсь, что он предложил бы мне эту работу, знай он, что я…
– Но почему я, сенатор? В городе наверняка найдется немало старых солдат, кто делал бы это лучше моего. Ведь у меня никакого опыта.
– Помнится, один двенадцатилетний мальчишка, защищая свою мать, заколол императора, – спокойно произнес сенатор Норбан. – Разве это не опыт?
– Так это ведь было давно.
– Шесть лет назад. Можно сказать, почти целая вечность, – согласился сенатор Норбан и побарабанил по столу пальцами в чернильных пятнах. – Вложи хотя бы часть того рвения и смелости в охрану моего дома, и я буду доволен. Скажу честно, у меня пара-тройка врагов, которые не прочь испортить мне жизнь. Нет, конечно, покуситься на мою жизнь они не посмеют, а вот сделать так, чтобы я в день какого-то важного голосования не дошел до сената – это запросто. Кроме того, у моей дочери есть привычка бродить по самым разным неподходящим местам. Сильная рука у нее за спиной не будет лишней.
– Это она тебя надоумила? – не удержался я от вопроса. – Чтобы ты предложил мне место стражника?
– Нет, Сабина вместе с мачехой и своей сводной сестрой и братьями сейчас на вилле в Байях.
Я ощутил укол разочарования. В тот вечер, когда я поцеловал ее, Сабина, как говорится, дала мне от ворот поворот, как и полагается приличной девушке, но, с другой стороны, разве не ее розовый пальчик чертил у меня на затылке круги? Стоило мне вспомнить эти прикосновения, как волоски на моих руках встали дыбом, и не только они. Живо прекрати, болван, сказал я себе, если не хочешь выдать себя с головой перед ее отцом. И я поспешил укрыться за спинкой стоявшего рядом стула.
– Это была ее идея, вытащить Кальпурнию с детьми на море, – продолжал тем временем сенатор, не замечая моей неловкости. – Тем более что у моей супруги в скором времени будет еще один ребенок, – признался сенатор, и его строгие черты смягчила счастливая улыбка. Он встрепенулся, как будто стряхивая с себя приятные воспоминания, и вновь посмотрел на меня. – Так что идея взять тебя в наш дом принадлежит мне. Мне подумалось, что если ты и дальше будешь расквашивать в переулках чужие носы, то ни к чему хорошему это не приведет. Не думаю, что твои родители были бы в восторге. Я же перед ними в неотплатном долгу.
– Эй, – обиделся я. – Я не грабитель и не бандит.
– А вымогать у пьяных юношей деньги – это как называется?
– Способ заработать на жизнь.
– Правда, не слишком достойный.
– А быть стражником – разве намного лучше?
– Считай, что это первая ступенька. В этом доме ты встретишь немало интересных людей. Тех, кто когда-нибудь тебе в чем-то поможет. Добросовестного стражника может заметить какой-нибудь легат, который позднее захочет сделать его центурионом.
– Разумеется, взамен за некую услугу, – усмехнулся я. – Покорнейше благодарю.
На губах сенатора промелькнула улыбка.
– Согласен, такая опасность существует. Но выгода перевешивает риски. Император Траян имеет привычку присматриваться к молодым, подающим надежды воинам, и его офицеры начали брать с него пример.
Император Траян. В винных лавках поговаривали, будто он вскоре отправится на север, чтобы раз и навсегда покончить с дакийским царем Децебалом, который вечно мутил воду на наших границах. Про Децебала говорили, будто он ходит в львиной шкуре. Что касается Траяна, то я был не прочь увидеть его поближе, нежели в ложе Большого Цирка. Может, мне и впрямь стоит принять это предложение? Как-никак мне обещана жратва, крыша над головой, непыльная работенка, и все это за хорошие деньги. А потом, глядишь, из этого выгорит что-то еще. Мне вновь вспомнились шелковистые каштановые волосы, как они струятся сквозь мои пальцы, но я постарался выбросить соблазнительный образ из головы.
– Ну, хорошо, – сказал я. – Согласен.
– Отлично, – произнес сенатор, наливая в кубок вина из стоявшего рядом с его локтем графина и протягивая его мне. – Добро пожаловать в дом Норбанов, Верцингеторикс!
– Спасибо, доминус, – ответил я, вовремя вспомнив, что теперь я должен именовать именно так, доминус, хозяин дома. Ведь отныне я тоже в некотором смысле член его большого семейства. Нет, если говорить начистоту, я не горел желанием называть кого-либо хозяином, даже если хозяин этот платил мне приличные деньги.
Весна тем временем сменилась жарким влажным летом, я же устроился на новом месте, как угорь на илистом дне. И не пожалел о принятом решении.
Работенка была легкой. Кроме меня в доме были еще два стражника, оба убеленные сединами ветераны. Обычно они, пока я сопровождал хозяина в сенат, проводили время в саду за игрой в кости. Кстати, старый сенатор оказался славным хозяином: пусть он зорко, словно орел, вчитывался в свои свитки, зато в остальном был рассеян, забывчив и не вникал в домашние дела. В отсутствие жены и детей он не имел ничего против того, чтобы еду ему подавали в его кабинет, где он ел прямо за письменным столом, роняя крошки на свои таблички и свитки. Иногда он, взяв у кухарки хлеба и сыра, отправлялся в Капитолийскую библиотеку, где проводил целый день в исследованиях. А самое главное, в его доме не били рабов. Никто не пытался убежать отсюда под покровом ночи, никто не получал розог за разбитую тарелку. Мне сразу же был выдан толстый плащ, неплохо хранивший мою спину сухой от летних ливней. Я регулярно получал положенный мне выходной, который проводил на скачках, или на гладиаторских боях, или в сидя в таверне, в общем, где душа пожелает. Самая тяжелая работа, которую мне приходилось выполнять, это тащить для хозяина в сенат гору свитков.
Тогда почему у меня такое кислое настроение?
– Ты какой-то неулыбчивый, Викс, – сказала мне Гайя, юная веснушчатая гречанка-рабыня, которая выросла в доме Норбанов. Вскоре я считал веснушки не только на ее носу. Гайя была хохотушка, с ней было легко и весело. Ее было приятно прижимать к себе ночью в постели, однако стоило ей выскользнуть из моей комнаты, как я продолжал лежать, тупо уставившись в потолок. Иногда в свой выходной день я напивался так, что на следующий день голова раскалывалась от боли. Наверно, на лице моем были написаны такие страдания, что их замечал даже рассеянный сенатор. В такие дня я не слышал от него привычного «доброго утра», когда мы с ним шли в сенат.
Сабина с мачехой оставались в Байях, и это тоже не прибавляло мне хорошего настроения. Сенатор регулярно писал им письма, Может, в одном из них он упомянул, что в доме появился новый стражник? Может, прочитав такое известие, Сабина вернется домой чуть раньше? Но она не вернулась. Да и зачем ей было возвращаться? В конце концов подумаешь, что такого в том, что мы с ней после скачек целовались в переулке. Наверно, так поступила бы любая патрицианка, которую взялся проводить до дома молодой, симпатичный плебей. Для них это небольшое пикантное приключение, которое будет приятно вспомнить, когда они выйдут замуж. Потому что потом они станут толстыми и страшными, как и их матери.
Надо сказать, что по сенаторской дочке скучал не я один. Не проходило и дня, чтобы на пороге дома не появлялся очередной воздыхатель в тоге. Будь он стар или молод, стоило мне сказать, что Сабины дома нет и в ближайшее время ее не стоит ждать, как этот несчастный сокрушенно вздыхал и понуро плелся прочь.
– Что в ней такого, что все по ней будто с ума посходили? – поинтересовался я у юного патриция в новенькой тоге, который вырос на пороге дома с букетом лилий в руках. – Можно подумать, в Риме нет других сенаторских дочек. Причем и покрасивее, и побогаче ее.
– Зато у них нет ее связей, – бесхитростно ответил юный патриций. Он действительно был слишком юн и потому не привык задирать нос, разговаривая с плебеем. – Она внучатая племянница самого императора. Или кем там она ему приходится. Но самое главное, она единственная близкая его родственница, которая до сих пор не замужем. Мой дед говорит, что если я на ней женюсь, как моя карьера пойдет вверх семимильными шагами.
С этими словами он положил свой цветочный веник из лилий на ближайший стол. Я внимательно пригляделся к нему: тощий как жердь, а вот лицо приятное и совсем неглупое. Когда я открыл ему дверь, он представился, назвав какое-то длиннющее патрицианское имя, которое тотчас же вылетело у меня из головы. Но самое первое я запомнил: Тит.
– Ты еще слишком молод. Зачем тебе жена? – не удержался я от вопроса.
– Это не моя идея. Просто мой дед слишком стар и боится, что не доживет до моей женитьбы, – ответил Тит или как его там. – Он сказал, что у меня есть шанс. Дело в том, что мой дед и ее отец старые друзья, и он уже несколько раз намекал, что неплохо бы укрепить дружеские узы семейными.
– Бесполезно. Даже не надейся, – сказал я. – Мужа себе она выберет сама.
– В таком случае надеяться мне не на что. – Он кивком указал на свою тощую фигуру. – Кому я такой худой нужен?
– Я бы не стал зарекаться. Приходи, когда она вернется в Рим.
– Обязательно приду. Даже если у меня никаких шансов, попрактиковаться в искусстве ухаживания не помешает. Как сказал Публий Сир, «еще ни один трус не достигал вершин».
С этими словами он взял со стола принесенный им букет и сунул его мне.
– Отдай это своей девушке.
– В следующий раз приходи с фиалками, – ответил я. – Госпожа не любит лилий.
Скажу честно, мне он понравился, это Тит-как-его-там. Знай я тогда, сколько еще встреч с ним подарит мне судьбы, сколько раз мы будем спасать друг друга от беды, я бы удостоил его большего внимания. Все остальные ухажеры Сабины высокомерно смотрели на меня сверху вниз. Помню, как к ней пожаловал этот червяк, трибун Адриан, какое недовольное лицо он сделал, когда я сказал ему, что предмета его вздохов в доме нет и вернется этот предмет нескоро.
– И когда именно вернется госпожа Сабина? – снизошел он до вопроса.
– Понятия не имею, – ответил я, засунув за поясной ремень большие пальцы. – Лично мне она этого не сообщила.
– Понятно. – В глазах Адриана вспыхнул холодный блеск. Он явно узнал меня. – Ты тот самый тип, кто был с ней на скачках. Ты был груб со мной.
– Уж какой есть, – ответил я с вызывающей улыбкой.
Адриан высокомерно смерил меня глазами с головы до ног.
– Тебя не помешало бы выпороть, – сказал он. – Когда-нибудь я сделаю это сам.
– Это как же? – поинтересовался я.
– Не волнуйся, повод найдется, – ответил он и, колыхнув полами пурпурной тоги, зашагал прочь. Я показал ему в спину неприличный жест.
Через неделю меня ждала стычка иного рода. На следующее утром после моего дня рождения, – мне стукнуло девятнадцать лет, – я по своей глупости решил отпраздновать это событие тем, что отправился в Колизей посмотреть гладиаторские бои. Не скажу, что меня так уж тянуло туда – я точно знал, что ничего хорошего там не увижу. Но два других стражника посмеивались надо мной за то, что я пропустил игры в честь богини Весты, и я пошел. Я смотрел, как гладиаторы с копьями умирают от когтей леопардов, как леопарды умирают от гладиаторских копий, и к середине дня, когда на арену пролились уже целые реки крови, я успел напиться пьян.
– Да разве это игры? Не то что раньше, – громко отрыгнув, заявил я, глядя, как на арену вывели закованных в цепи беглых рабов, которым должны были отрубить головы. – Никаких тебе строгих правил, главное, чтобы кровь лилась рекой.
– Откуда ты знаешь? – спросил у меня мой товарищ-стражник.
– Потому что я там бился сам, вот откуда, – ответил я, указывая кружкой на окровавленный песок. Там один из рабов пытался сопротивляться, отказываясь становиться на колени. – Я Юный Варвар! – похвастался я, проливая пиво.
– Кто?
– Юный Варвар, – повторил я, возмущенный его неведением. – Самый юный гладиатор Колизея. Я бы сказал, слишком юный для этой арены.
Нет, на ней умирали дети и помладше меня, вероотступники или беглые рабы, но у них в отличие от меня не было в руках меча, чтобы себя защитить. Вот и сейчас на арене к родителям испуганно жались дети, с ужасом ожидая своей очереди. Я не выдержал и отвел глаза.
– Можно подумать, ты помнишь, кто такой Юный Варвар, – продолжали насмехаться надо мной мои спутники. – Да ты у нас мастер сочинять истории. Да ты сам посмотри, какой из тебя гладиатор!
Я врезал ему кружкой. Он врезал мне в ответ. Дело закончилось всеобщей потасовкой в нашей части трибун, что было мне только на руку, и я под шумок – вернее, шум и гам – незаметно ускользнул. И хотя по этой причине я пропустил главные бои, я не слишком жалел об этом. Я, шатаясь, побрел прочь – под глазом фонарь, одно ухо разбито всмятку. Меня вырвало прямо в канаву, раз, другой, а тем временем за моей спиной Колизей взревел тысячами глоток, и я знал, что это на арене в смертном поединке сошлись гладиаторы.
«Несчастные болваны», – подумал я. А в следующий миг ноги мои подкосились, и я сел прямо на мостовую, понуро свесив между колен голову.
– Эй, нечего здесь сидеть! – крикнула мне какая-то женщина, поправляя на руке корзину.
– Я Юный Варвар! – огрызнулся я. – Не подходи ко мне близко!
– Да и так вижу, что ты варвар, – презрительно бросила она и пошла прочь.
В углублении в мостовой, где отсутствовал камень, собралась вода, и я сидел, шлепая по этой лужице ногой. Вскоре со стороны Колизея снова донесся восторженный рев, и я подумал, а не податься ли мне опять в гладиаторы. По крайней мере мне не придется отдать арене четверть века. Жизнь большинства гладиаторов коротка: год-другой, и все. Зато какая простая она, эта жизнь. Никаких тебе трудностей. Главное, усвоить правило: сражайся или умри.
Но назовешь ли простой мою теперешнюю жизнь? Впереди меня ждали годы, и я понятия не имел, что мне делать в будущем. Я потрогал амулет, висевший у меня на шее на кожаном шнурке. Простенький бронзовый амулет с изображением римского бога Марса – такого барахла всего за одну медную монетку можно купить у уличного торговца целый десяток. Его на прощание подарил мне отец, в тот день, когда я вновь отправился в Рим.
– Пусть тебя хранит настоящий римский бог, – сказал он мне. – Коль ты вновь собрался в этот отстойник.
– А тебя он хранил? – спросил я. – Когда ты дрался на арене Колизея?
– Иногда хранил, – ответил отец, пожимая плечами, и повесил мне на шею амулет, с которого хмуро смотрел бог в солдатском шлеме. Нет, у Марса явно не все в порядке по части чувства юмора.
Я потрогал пальцем его насупленное лицо и посмотрел на небо.
– Что скажешь? Куда мне податься? В гладиаторы? В солдаты? Или куда-то еще?
На шею мне упала капля дождя, а в следующий миг небеса разверзлись настоящим ливнем. Я же продолжал сидеть на мостовой и пытался понять, уж не знак ли это. А если знак, то какой.
– Опять подрался? – спросил у меня управляющий, когда я наконец вернулся домой. С меня ручьями стекала вода. – Стражник с фонарем под глазом не добавляет хозяину репутации. Впрочем, неважно. Иди, собирай свои вещи.
– Собирай свои вещи? – растерянно повторил я. Я был все еще зол, мокр и порядком пьян.
– Да, сенатор Норбан едет в Байи, проведать супругу. Отправляемся завтра утром. Ты будешь нужен во время путешествия.
– Какой чудный синяк! – заметил сенатор Норбан на следующее утро. – А теперь возьми эти свитки и погрузи их на носилки. Хм, Плиний. Пожалуй, я возьму его с собой. Так, кое-что из Марциала, кое-что из Катона. Ага, Катулл, его нужно взять обязательно, как же я буду без Катулла…
В общем, на следующий день я уже трясся в запряженном парой волов паланкине. Байи. Раньше я здесь никогда не был. Симпатичный городок. Белый мрамор. Лазурное море. Просторные виллы. Завернутые в полотенца женщины, спешащие в знаменитые серные бани. Такого количества патрициев я не видел за всю мою жизнь. Даже уличные проститутки в их рыжих париках, и те поглядывали на меня свысока.
– Марк! – радостно воскликнула Кальпурния, торопясь от ворот виллы навстречу мужу. Было видно, что она даже принарядилась по этому случаю: в желтом шелковом платье, в янтарном ожерелье в тон, в ушах золотые серьги. В эти минуты в ней нельзя была узнать веселую хозяйку, которая не видела ничего зазорного в том, чтобы печь хлеб вместе с рабынями и делиться с ними последними сплетнями. Кстати, от этих самых рабынь я узнал, что в свое время Кальпурния была одной из самых богатых невест Рима.
– Выйдя за господина замуж, она принесла ему половину Тосканы и Таррацины.
Сегодня я в первый раз мог в это поверить.
– Хороша, богата и любит тебя, – шепнул я сенатору Марку Норбану, когда он, прихрамывая, зашагал навстречу жене. – И как тебе только удалось заполучить такой бесценный подарок? Ведь любой взял бы ее в жены только ради ее хлеба.
В ответ он посмотрел на меня хорошо знакомым мне взглядом – не то с упреком, не то с улыбкой, однако вслух ничего не сказал, простив мне мою дерзость. Потому что если бы не я, сумел бы он шесть лет назад низложить императора. Нет, мы не строили никаких заговоров, все получилось само собой, но теперь это связывало нас прочнее любых уз. Сенатор прощал мне вольности, какие не простил бы никому. К тому же раздражения его как не бывало, стоило ему заключить Кальпурнию в объятия. Скажу больше, он чем-то напомнил мне моего отца. У того тоже имелась привычка брать в ладони лицо моей матери, прежде чем ее поцеловать.
Если вы думаете, что в этой жизни везет только красавицам, то вы ошибаетесь. Скорее таким, как Кальпурния или моя мать. Стоит такой вас полюбить, как вам уже не захочется смотреть на других женщин. Так что будьте осторожны.
– Марк, ты стал слишком часто щуриться, – укоризненно заметила Кальпурния. – Ты опять читаешь при тусклых лампах? Викс, отнеси эти свитки назад в носилки. Я не допущу, чтобы мой муж портил себе глаза здесь, на вилле. Здесь полагается отдыхать. Кстати, а что это с твоим глазом? Ну и фонарь!
– Знаю, – буркнул я.
– Спрячь свитки в моем кабинете, – заговорщицким шепотом произнес сенатор Норбан, как только жена отвернулась, и я послушно потащил кипу свитков в направлении дома. А в следующий момент из ворот с радостным визгом навстречу отцу выбежала малышка Фаустина.
Вилла оказалась просторной – с мраморными бассейнами, портиками, изящными колоннами, мозаичными полами, изображавшими выпрыгивающих из воды рыб и виноградные лозы. Когда я вошел в кабинет, оказалось, что тот уже занят.
– Здравствуй, Викс! – слегка растерянно воскликнула Сабина, отрывая глаза от книги. – Отец уже здесь? Не иначе как вы ехали хорошими дорогами. Надеюсь, все уже прокомментировали твой фонарь?
– Да, – буркнул я. – Все уже прокомментировали мой фонарь.
– Да, его нельзя не заметить, – сказала Сабина, поднимаясь с кушетки. Она была босиком, с голыми руками, каштановые волосы волной ниспадали ей на спину. – Но я не стану спрашивать, откуда он у тебя.
– А зря, – сказал я, с трудом сдерживая улыбку. – Потому что это потрясающая история. С грабителями, разбойниками, драконами.
– Драконами? Как интересно! – воскликнула Сабина, скручивая свиток. – Но мне нужно к отцу. Приятно было узнать, Викс, что теперь ты часть нашего семейства.
С этими словами она вышла за дверь, а в следующее мгновение в кабинет уже вплывала Кальпурния.
– Отдай мне свитки, Викс. Можно подумать, я не знаю, что мой муж велел тебе их от меня спрятать.
Я, отсалютовав, вручил ей целую кипу свитков, а сам отправился на поиски управляющего. Настроение мое заметно улучшилось.
– Где я буду спать?
– Вместе с одним из стражников. Кстати, ты знаешь, что у тебя под глазом фонарь?
– Знаю.
(обратно)
Глава 4
Сабина
Сабина обожала проводить время на террасе. В теплые вечера управляющий выносил туда ложа, и тогда они ужинали на свежем воздухе. Как приятно было нежиться в лучах заходящего солнца! Тени становились все длиннее, с моря веял нежный ветерок, а само море раскинулось внизу, сверкая лазурной гладью. Иногда, посмотрев поверх чаш с виноградом, Сабина представляла себе, будто взгляд ее проникает за горизонт, к гигантским скалам, что ограничивали море с запада. Об этих скалах она узнала от Адриана, который родился в Испании. Рассказывая ей про них, он возбужденно размахивал руками; глаза горели воодушевлением. Геркулесовы столпы, о которые, пенясь, разбиваются волны, широкий океан и еще более широкий мир, что раскинулся по ту сторону.
– Как замечательно, что мы собрались здесь всей семьей, – ворковала Кальпурния. Одной рукой она держала малыша Лина, а второй пыталась разделить пополам плод граната. Будучи беременна Лином, она пристрастилась к устрицам. Новый же ребенок, которого она носила под сердцем, похоже, обожал гранаты.
– Марк, пообещай мне, что ты вернешься в Рим не ранее, чем через месяц. Тебе просто необходим отдых.
Устремив взгляд к горизонту, Сабина рассеянно жевала кусок жареного гуся. Интересно, что лежит там, за Геркулесовыми столпами? К северу – Британия, это она знала. А вот к западу? Что там, если все время плыть на запад? Адриан этого не знал. Впрочем, и не хотел знать.
– Глушь, – помнится, ответил он, отмахнувшись от ее вопросов. – Зачем тебе, Вибия Сабина, забивать голову ненужными вещами? Ведь даже нескольких жизней не хватит, чтобы узнать весь наш цивилизованный мир.
– Но я не могу оставаться здесь все лето, – возразил Марк Норбан. – Я работаю над новым трактатом.
Сабина посмотрела на отца. «Как часто, – подумала она, – сенаторы, сбросив привычную тогу, смотрелись жалкими и неловкими, как та черепаха, которую лишили ее защитного панциря». Но только не Марк Норбан. Даже в эти минуты, лежа в простой тунике на обеденном ложе рядом с малышкой Фаустиной, свернувшейся калачиком у него под боком, ее отец выглядел… как император.
– Трактат может подождать, – упиралась Кальпурния. – Предлагаю всей семьей посетить серные источники, это поможет изгнать из твоих легких грязный городской воздух, – добавила она, отправляя в рот пригоршню гранатовых зерен. Марк Норбан не нашел, чем на это возразить.
– Ты ведь знаешь правила, отец, – улыбнулась Сабина. – Месяц за каждое съеденное тобой гранатовое зерно. Как у Плутона и Прозерпины.
– Всего один месяц! – воскликнула Кальпурния, вырывая розовыми от сока пальчиками очередную пригоршню гранатовых зерен.
– Два, три, четыре!
– А я-то думал, что поступаю правильно, давая моей дочери классическое образование! – сокрушенно покачал головой Марк.
– Отец, тебе действительно следует побыть здесь, тем более, что в твое отсутствие Кальпурния чувствует себя неважно, но когда ты рядом, ей тотчас становится лучше.
Марк нахмурил лоб и заботливо взял руку жены, Кальпурния в ответ сжала липкие от гранатового сока пальцы и с заговорщицким видом посмотрела на Сабину. Та поспешила спрятать улыбку за кубком с разбавленным водой вином. Здоровье у Кальпурнии было железное, однако между ней и Сабиной давно существовал молчаливый уговор: когда дело касалось заботы о главе их семейства, которого обе они обожали, любые средства были хороши, от небольшой невинной лжи до самой что ни на есть вопиющей.
– Уговорили, пусть это будет все лето, – уступил женщинам Марк. – Нас здесь пятеро. Кстати, самое время начать обучать Фаустину. Дам ей немного греческого, немного риторики.
– Марк, дорогой, ей нет еще и пяти лет! Ты что, собрался готовить ее для карьеры в сенате?
– Добавить греческих глаголов к вечерней сказке, и они запомнятся сами, – ответил старый сенатор и потрепал золотистую головку младшей дочери.
– Я люблю сказки, – с набитым ртом вставила свое веское слово Фаустина. – А папины сказки самые лучшие! Особенно мне нравится про царя, которого убили прямо в ванне. И еще одна, про одного принца, который убил собственную мать.
– Ты пересказываешь ребенку греческие трагедии, Марк? – Кальпурния выразительно посмотрела на мужа, и Сабина невольно хихикнула. – Причем на ночь?
– Слегка подправленные, – сказал в свое оправдание сенатор. – Самые кровавее сцены я опускаю.
– Неправда! – рассмеялась Сабина. – По крайней мере ты ничего не опускал, когда рассказывал их мне!
– А он рассказывал тебе про то, как одного царя растерзали женщины-волчицы? – подала голос Фаустина. Глаза ее задорно блестели. – Или про то, как одного царя заживо сварили в котле? Но если царей убивают, почему кому-то хочется быть царем?
– Какое мудрое дитя, – довольно произнес Марк. – Может, этим летом, Фаустина, мы почитаем с тобой что-нибудь полегче?
– Например, про то, как афинские женщины отказались спать со своими мужьями? – предложила Сабина.
– А что, отличная идея, – отозвалась Кальпурния, потирая округлившийся живот.
– Мы вместе подыщем какую-нибудь комедию, – торопливо добавил Марк. – Я буду читать за мужских персонажей, Сабина – за женских.
– Вообще-то, – сказала Сабина, – я надеялась, что возьму с собой няню, и мы с ней вернемся на лето в Рим.
– В Рим? – удивилась Кальпурния, отодвигая вазу с фруктами, к которой, грозя ее опрокинуть, уже протянулась ручонка Лина. – Но что делать в Риме летом? Там жарко, как в печке, а вонь хуже, чем из клоаки.
– Знаю, – пожала плечами Сабина. – Но если я вернусь в город, то смогу укрыться там от настырных женихов. Сейчас они на лето съезжаются в Байи и будут вечно вертеться у меня под ногами. Отец, остались еще финики?
– Выбери, который тебе приглянулся, остальных пусть разберут другие, – заметил Марк.
– Я предпочитаю всю чашу, – Сабина вытащила пригоршню фиников.
– Я имел в виду твоих женихов, и ты знаешь это не хуже меня.
– Так на кого же падет твой выбор? – спросила Кальпурния, беря в руки небольшой серебряный нож, чтобы разрезать очередной гранат.
– Даже не знаю, – не моргнув, призналась Сабина.
– Протяни еще чуть-чуть – и будет поздно. Ведь тебе уже восемнадцать. В твоем возрасте многие имеют детей.
– Пытаетесь от меня избавиться?
– Чушь, – недовольно поморщился Марк Норбан. – Я никогда не был сторонником ранних браков. Восемнадцать лет – это еще юность.
– Не переживайте. Скоро я свой выбор сделаю, – пообещала Сабина. – Дайте только пару месяцев на раздумья. А вообще в последнее время настойчивость проявляет трибун Адриан.
– Мне казалось, Адриан тебе симпатичен. Когда он приходит к нам в дом, ты с ним часами ведешь разговоры.
– Это он часами ведет со мной разговоры.
Марк улыбнулся и покачал головой.
– Наверно, ему нравится слушать свой голос.
– Пусть слушает, не имею ничего против, – отозвалась Сабина. – Если разговорить его про путешествия, от него можно услышать немало интересного. Адриан объездил всю Испанию и всю Галлию. Отец, а ты не мог бы дать согласие стать наместником какой-нибудь провинции – если от сената поступит такое предложение? Тогда бы я уехала вместе с тобой. Как тебе Испания или Галлия? А может, даже Египет?
– Я плохо знаю Адриана, – с сомнением в голосе произнесла Кальпурния. – Согласна, он очень обаятельный…
– Разумеется, с тобой он обаятельный, – сказала Сабина. – В его глазах ты образцовая римлянка, ходячее воплощение всех добродетелей.
– И как мило с его стороны сказать это вслух. Скажу честно, мне нравятся мужчины, умеющие делать комплименты.
– Это ты мне в укор? – поинтересовался у жены Марк.
– Адриан не просто обаятелен, он благороден, умен, серьезен. Вот увидите, его ждет блестящая карьера. Но, – Кальпурния многозначительно приподняла розовый от сока палец – точно так же, как это делал ее муж, когда обращался к сенату, – кроме Адриана будет еще и свекровь.
– Его мать давно умерла, – возразила Сабина.
– А вот императрица еще в добром здравии, – довольно холодно произнесла Кальпурния. – Более того, это она приложила руку к его воспитанию, а вовсе не его мать. Поверь мне, вряд ли ты будешь рада получить в лице императрицы Плотины свекровь.
– Так вот почему ты вышла за меня замуж! – улыбнулся Марк. – Не потому что я осыпал тебя комплиментами, а потому, что на тот момент моя мать уже была в могиле?
– У вас обоих только шутки на уме. – Кальпурния схватила ручонку Лина и помахала ею, призывая к тишине. – Последнее, что нужно любой жене, это чтобы свекровь совала свой нос во все ее домашние дела, поучая, как вести дом, как воспитывать детей, какие платья надевать… – Кальпурнию даже передернуло. – А у Плотины, скажу я тебе, нос длинный.
– Итак, свекровь, которая вечно лезет в чужие дела, – согласилась Сабина. – Какие еще возражения насчет Адриана?
– Я бы не сказала, что репутация у него безупречная. Известно, что на Авентине у него шикарный дом, в котором он поселил одну певицу, и… только это не при детях. – Кальпурния выразительно выгнула брови. – Не говоря уже о том, что он на восемь лет тебя старше.
– Кто бы говорил! – расхохоталась Сабина. – Сколько лет было отцу, когда ты вышла за него замуж? Шестьдесят три?
– Но это совсем другое дело! Твой отец был взрослый, ответственный человек, готовый взять на себя обязанности семьянина, чего не скажешь о том, кому двадцать шесть. Кроме того, я до безумия любила его. Ты же Адриана не любишь. Ты вообще никого не любишь.
– Я слишком стар для таких разговоров, – запротестовал Марк, и их спор, как и надеялась Сабина, сменила веселая, пересыпанная шутками, застольная семейная беседа. А на следующий день она уже паковала свои книги и платья в паланкин, чтобы вернуться назад в Рим.
– О боги, – прошептала она отцу, когда к носилкам, вооруженный копьем, подошел коренастый немолодой стражник, чтобы охранять ее по дороге в Рим. – Может, мне лучше взять с собой Викса? Этим летом я хотела бы побродить в окрестностях Рима, а что касается Цельса, я боюсь, как бы он не надорвал себе спину, если вдруг попробует поднять что-то потяжелее кубка с вином… Да-да, так будет гораздо лучше, спасибо…
Сабина еще не решила, что ей делать с Виксом, но то, что с ним будет гораздо веселее, в этом она не сомневалась.
– Какое блаженство, – произнесла Сабина, входя вечером в дом на Капитолийском холме и отряхивая пыль с дорожного платья. – Никаких гостей, никаких родственников. Наконец-то я могу побыть одна.
Как ни любила она отца, Кальпурнию и своих сводных сестру и брата, последнее время ей хотелось одного: тишины и одиночества. Чтобы никто не мешал, никто не давил, чтобы пространство и время принадлежали только ей, чтобы можно было спокойно все взвесить и принять решение. А решение, похоже, ей придется принять не одно.
– Подай фрукты на террасу, – сказала она управляющему. – После этого можешь быть свободен. Хочешь, иди на скачки или гладиаторские бои, хочешь, – в таверну. В общем, делай, что пожелаешь.
Тит
Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин набрал полную грудь воздуха и посмотрел отцу в глаза.
– Что скажешь?
Отец как всегда сочувственно промолчал.
– Ты знаешь, раньше я этого не делал, – продолжал Тит. – То есть раньше я не ухаживал за девушками. Я лишь раз нанес ей визит, но ее не было дома. И вот теперь она вернулась, и у меня кончились отговорки, и я не знаю, как заставить себя повторить попытку. Ты не мог бы дать мне пару дельных советов?
Похоже, у отца было что ему сказать, тем не менее он молчал. В том-то вся и загвоздка: если ваш отец умер, вам ничего другого не остается, как обращаться за советом к мраморному бюсту, установленному на постаменте в атрии. Тит расправил худые плечи.
– Ладно, пожелай мне удачи.
С этими словами он осмотрел тогу на предмет чернильных пятен, поправил на плече складки, попытался пригладить на затылке упрямый вихор. Вот досада, как бы коротко он ни просил цирюльника постричь ему волосы, эта прядь все равно торчала хохолком независимо от их длины. Последний раз, когда он решил нанести визит дочери сенатора Марка Норбана, он пытался пригладить свой хохолок гусиным жиром, отчего дед сказал ему, что в таком виде он похож на дешевого актеришку из Вифинии.
– Тебе нет необходимости прихорашиваться, мой мальчик! Твое имя говорит само за себя. Мы с ее отцом как два брата. Я уже говорил с ним на эту тему, так что тебе осталось лишь немного очаровать эту девушку.
Тит вздохнул. Его школьные приятели жаловались на самодуров-отцов, на холодных и равнодушных дядьев, на суровых дедов. В отличие от них дед Тита был просто чудо, а не дед. Как и отец, который тоже когда-то был чудо, а не отец, если бы не умер. Что, кстати, ничуть не облегчало ему жизнь. Было бесполезно говорить деду, что та, что приходится родственницей самому императору, та, за кем ухаживает половина Рима, вряд ли снизойдет до шестнадцатилетнего юнца, которому даже нечем похвастаться. Разве что букетом фиалок и длинным, мудреным именем, произнося которое можно сломать язык. Да она рассмеется ему в лицо прямо с порога!
– Тебе сегодня повезло, – сказал ему широкоплечий молодой стражник. – Она в библиотеке. Я тебя проведу.
– Спасибо за совет про фиалки, – сказал Тит, стараясь не отставать от длинноногого стражника. Ну почему у него самого такая мелкая, семенящая походка?
– Ей нравятся простые цветы, а не всякие там дорогие садовые, – ответил стражник. – Я сказал этому ублюдку, трибуну Адриану, будто она без ума от лилий, причем предпочитает исключительно дорогие и огромные. Теперь он каждую неделю осыпает ее этими вениками. Она не знает, куда их девать, и скармливает лошадям. – Стражник усмехнулся. – Говорит, ее воротит от их запаха.
– Трибуну Адриану?
Дед почему-то считал, что Титу не составит большого труда обойти своих соперников, в том числе, и этого Адриана с его проникновенным голосом, гордой осанкой и блестящей карьерой. «Мне не на что рассчитывать», – подумал Тит.
– Удачи тебе. – Стражник похлопал его по плечу.
– Спасибо, – отозвался Тит и, пока мужество окончательно не изменило ему, шагнул в библиотеку.
Первое, что бросилось ему в глаза, что Вибия Сабина была отнюдь не из породы тех девушек, за которыми ухаживает пол-Рима. Нет, они уже встречались раньше, их даже когда-то представили друг другу. Но тогда она была в нарядном платье и тихо стояла рядом с отцом: сенаторская дочка, как любая другая. Сейчас же она лежала на животе на полу библиотеки и грызла яблоко. Каштановые волосы пышной гривой рассыпались по плечам. Вокруг нее на полу были расстелены карты, и, похоже, она что-то чертила на них стилом. Увидев Тита, она подняла на него глаза, и он впервые заметил, какие они у нее небесно-голубые.
– О боги! – негромко воскликнула она. – Еще один.
– Ты о чем?
– Насколько я понимаю, ты очередной жених. Извини, я не хотела быть с тобой грубой. Но я сегодня действительно не в том настроении, чтобы принимать предложения от женихов.
– А я сегодня не в том настроении, чтобы такое предложение делать, – честно признался Тит, чем удивил самого себя. – Почему бы тебе сразу не отказать мне, чтобы я мог уйти?
В уголке ее рта появилась красивая ямочка.
– Наверно, сначала я должна знать, кому я отказываю.
– Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин, – представился Тит и отвесил учтивый поклон.
– Вибия Сабина. – Она протянула ему руку, и Тит помог ей подняться с пола. – Извини, что здесь такой беспорядок. Я обдумываю путешествие по империи и все никак не могу решить, какой маршрут выбрать – с запада на восток или с востока на запад.
– «Они меняют небо, но не душу, те, кто пересекают море», – машинально продекламировал Тит.
– Что ты сказал?
– Извини, дурная привычка. Это просто цитата из Горация.
– Ну, так откуда ты бы начал свое путешествие? – допытывалась Сабина. – На западе, с Британии, или на востоке, с Сирии?
– Боюсь, что ничем не могу тебе помочь. Мне не хочется ни в одну из этих стран.
– В таком случае мне придется тебе отказать. Мне нужен муж, который будет разъезжать по империи. – С этими словами Сабина отложила в сторону наполовину съеденное яблоко и предложила Титу сесть. – Тебя, наверно, ко мне подослал твой отец?
– Дед, – ответил Тит и примостился на краю кушетки, Сабина свернулась клубочком в кресле напротив. Тит заметил, что на одной ее лодыжке была серебряная цепочка, а ноги босые. – Мой отец умер.
– Знаешь, кажется, я припоминаю. Да-да, я о нем слышала.
– О нем все слышали, – ответил Тит. – Он был великий человек.
– Нелегко быть достойным его памяти? – улыбнулась Сабина. – Моему брату точно придется нелегко, когда он подрастет. Нам, девушкам, проще. От нас не ждут, что мы пойдем по отцовским стопам. Достаточно того, чтобы мы обожали своих отцов. – Сабина хлопнула в ладоши. – А теперь я хотела бы услышать твое предложение.
– Мне показалось, ты намерена мне отказать.
– Это верно, ты уж меня извини. Но в последнее время у меня появился небольшой опыт в том, что касается брачных предложений, что так уж и быть, я тебе помогу. Чтобы в следующий раз тебе не пришлось так нервничать.
Как только Тит сообразил, куда клонится этот странный разговор, напряжение постепенно оставило его.
– Итак, с чего мне начать?
– Как правило, предложение самой девушке не делают, – сказала Сабина. – Я исключительный случай, потому что мой отец разрешает мне самой разбираться с моими женихами. В будущем же тебе придется иметь дело с отцом девушки. Так что давай притворимся, будто я старик, который подозрительно смотрит на тебя из-за письменного стола. – Сабина выпрямилась и театрально насупила брови. – Итак, перечисли мне все свои достоинства.
– А что, это так обязательно? – Тит задумчиво уперся худыми локтями в колени. – Будь это моя дочь и будь у меня желание выставить жениха за дверь, я бы попросил его перечислить его недостатки.
– Присуждаю очки за оригинальность. – Сабина убрала за ухо непокорную прядь. – Итак, с чего ты начнешь свой перечень?
– С того, что мне всего шестнадцать лет, – признался Тит. – Я только что закончил учиться, так что, как ты понимаешь, никаких заслуг у меня нет. Как, впрочем, и денег, не считая тех, что мне выделяет дед. Поэтому отдельный дом я тебе предложить не могу.
– Продолжай.
– Еще я страшный зануда, – продолжил Тит. – Мне не хватает остроумия. Да и просто ума. Про внешность я умолчу. А поскольку собственных слов и мыслей у меня нет, то я обычно цитирую других. Например, Горация или Катона. Причем Катона я могу цитировать часами.
– Пока что получается отлично, – кивнула Сабина. – Продолжай.
– Думаю, меня ждет самая обычная карьера – трибун, квестор, претор и так далее. Но поскольку я страшный зануда, то крайне маловероятно, что я покрою свое имя славой.
– Это тебя беспокоит? – улыбки на лице Сабины как не бывало. Она стала сама серьезность.
– Не то чтобы очень, – честно признался Тит. – Империя существует благодаря таким, как я. Мне поручают дело, и я делаю его на совесть. Но высоко я не вознесусь – просто буду служить Риму, и это все. Могу точно сказать: той, кто выйдет за меня замуж, императрицей никогда не стать. – Тит развел руками. – Вот, пожалуй, и все. Даже не знаю, что еще можно сказать, про такого, как я.
Сабина задумчиво наклонила голову.
– Все, я сдаюсь, – сказала она, помолчав. – Тебе не нужно никаких уроков. Ты умеешь делать предложения. Главное, найди себе подходящую девушку, и она сама упадет в твои объятия.
Тит улыбнулся и потупил глаза, машинально пригладив непослушный вихор.
– Ты уверена, что не хочешь за меня замуж? – спросил он, наконец решившись посмотреть на нее. – Пусть я не горю желанием посетить Сирию, но мне почему-то кажется, что мы с тобой нашли бы общий язык.
– Я польщена. – Сабина поднялась с кресла. – Но должна тебя разочаровать: стоит тебе узнать меня ближе, и ты поймешь, что я не слишком хорошая жена. Я терпеть не могу пиры. Зато люблю приключения. А еще я привыкла поступать по-своему. Коль уж ты перечислил мне свои недостатки, то должен знать и мои.
– Мне нравятся твои недостатки. – Держа в руке букет фиалок, Тит поднялся с места. – Наверно, нам никогда не нравятся люди с недостатками, которые похожи на наши собственные. Зато мы мечтаем о тех, кто нам не подходит.
– Наверно, ты прав, – согласилась Сабина, задумчиво на него глядя. – Причем о тех, кто нам совсем не подходит.
– То есть у тебя уже кто-то есть? – грустно спросил Тит.
– Спасибо за цветы, – ушла от ответа Сабина и зарылась носом в букет. – Обожаю фиалки.
– Мне так и сказал твой стражник.
– Викс? – усмехнулась Сабина. – Как мило с его стороны. Пожалуй, я найду способ его отблагодарить.
Викс
– Викс?
Голос настиг меня, когда я, спотыкаясь,
брел по саду. Я тотчас застыл на месте. Уже опустилась ночь, луны на небе не было, и я толком не понял, кто меня позвал. Рука мгновенно скользнула к рукоятке меча, который я по привычке носил на поясе, даже когда просто отправлялся в таверну выпить.
– Кто здесь?
– Это я. – Над темным пространством лужайки возникла чья-то рука.
– Госпожа Сабина? – спросил я и сделал шаг ей навстречу.
– Только не вздумай заколоть меня своим мечом.
Еще одно движение, и я наконец разглядел, что она лежит, растянувшись на траве, и машет мне рукой.
Мои пальцы разжались, и я отпустил рукоятку.
– Что ты здесь делаешь?
– Это первая ночь без дождя за всю неделю.
Это верно. Последнюю неделю стояла страшная жара, и лил нескончаемый дождь. После того как я вернулся в Рим, влажный воздух укутал город, подобно сырому шерстяному плащу. Практически каждую ночь с небес, громко стуча по крышам, на Рим обрушивался горячий ливень. Увы, он не приносил никакой прохлады. Неудивительно, что патриции предпочитали отсиживаться на виллах. Скажу честно, я с некоторой тоской вспоминал Байи, прохладный морской ветерок и даже заносчивых местных шлюх, возомнивших о себе невесть что.
Я сделал еще один шаг.
– Но что ты здесь делаешь, госпожа?
Все последнюю неделю Сабина просидела в отцовском кабинете, обложенная книгами и картами, а ее няня тем временем суетилась, принося ей то веер, то освежающий напиток. Что касается немногих оставшихся женихов, даже они отбыли в места попрохладнее, где их наверняка ждали девушки посговорчивее.
Вскоре мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, что сенаторская дочка лежит на спине прямо на траве, скрестив ноги и подложив под голову руки.
– Я любуюсь на звезды. – Она приподняла голову. – Это что у тебя там, вино?
– В общем-то, да, – нехотя признался я. Я купил в таверне кувшин в надежде, что веснушчатая Гайя согласится со мной выпить и, может, даже вновь пустит меня к себе под одеяло. – У меня сегодня выходной. Я пьяным на дежурство не выхожу…
– Я не управляющий, Викс. И не собираюсь тебя отчитывать. Особенно, если ты угостишь и меня.
– Оно неразбавленное.
– Неужели? Отец не разрешает мне пригубить даже разбавленного вина. О неразбавленном я даже не говорю.
– И правильно делает. Оно крепкое.
Сабина села в траве.
– В таком случае дай мне попробовать.
Я тоже опустился на траву и протянул ей кувшин. Вокруг нас затаились тени – в кустах душистого жасмина, в ночных цветах, названия которых я не знал и которые казались серебристыми, в густой траве и среди высоких колонн, их обрамлявших. И ни одного факела. Похоже, в доме все уже давно спали.
– Пить не из чего, – предупредил я.
Сабина сделала глоток прямо из кувшина и передернулась.
– Бр-р. Теперь понятно, почему приличные люди разводят эту гадость.
– В таком случае, давай мне кувшин. Варвары вроде меня обожают неразбавленное вино.
Сделав еще один глоток, Сабина вернула мне кувшин. Я запрокинул голову и влил себе в горло изрядную дозу. Вокруг царила ночь – ни луны, ни облаков, только звезды, тысячи звезд. Интересно, задумался я, в римских легионах столько же солдат, сколько звезд на небе?
– Верцингеторикс, – вывел меня из задумчивости голос Сабины. – Если я задам тебе один вопрос, ты на него ответишь?
Я выпрямился. Скажу честно, она застала меня врасплох.
– Конечно, госпожа.
– Отлично. Скажи мне, что случилось в тот день, когда я поцеловала тебя шесть лет назад.
– Это так важно? – Я сорвал стебелек травы у моих ног, затем другой. – Мы ведь были детьми. Сколько тебе было тогда, двенадцать?
– Викс, наша встреча была случайной. Я поцеловала тебя и отправилась домой. И пока я ждала дома, мой брат умер, моя мать умерла, умер император Рима. Когда отец вернулся домой, на нем не было лица. Он лишь сказал мне, что теперь у нас новый император.
– А почему ты считаешь, что мне об этом что-то известно?
– Потому что весь Рим знал: Юный Варвар – любимчик императора, его игрушка. Но как только не стало Домициана, исчез и Юный Варвар.
Я попытался встать с прохладной травы, но ее маленькая рука поймала мое запястье и вновь потянула вниз.
– Если тебе это так интересно, спроси у отца.
– Он говорит, что императора убил какой-то мстительный раб. По его словам, мой брат умер как герой, а мать погибла, потому что возник хаос.
– Твой отец – порядочный человек. Он не станет лгать.
– Верно, но у него есть привычка время от времени опускать правду. Это лучший способ солгать, не солгав.
В траве мне был виден лишь ее темный силуэт – смутные очертания лица, заплетенных в косы волос, обнаженных рук.
– Ну, пожалуйста, Викс.
Я сделал глоток из кувшина, затем еще один.
– Я запер твою мать в чулане, – медленно произнес я, после чего поведал ей все про тот день, когда умер император: он пал от рук моих родителей, причем все произошло на моих глазах. Нет, конечно, в моем рассказе имелись дыры, некоторые я латал, вспоминая, что рассказывала мне мать, некоторые же обходил стороной, ибо в них таились такие жуткие вещи, которые я предпочел бы забыть. Пока я говорил, Сабина не проронила ни слова, молча слушая меня в темноте. Но ее первый вопрос потряс меня.
– Твоим родителям удалось бежать?
Я не знал, что ей ответить. Мне вспомнился дом на вершине укутанной туманом горы, где моя мать растила своих детей, а отец терзал клочок земли, который называл садом. Оба мертвы для Рима и счастливы вдалеке. Я молчал, но улыбка Сабины настигла меня даже в темноте.
– Вот и хорошо.
С этими словами она взяла у меня из рук кувшин и сделала еще один глоток.
– О боги, что за гадость. А мой брат? Он действительно умер как герой?
– Да.
Ее старший брат мне нравился – высокий, темноволосый преторианец, который всегда стремился с честью выполнять свой долг. Не могу сказать, что это у него всегда получалось, но по крайней мере он старался.
– Он и был герой.
– Мне его не хватает, – призналась Сабина. Она сидела, подтянув колени к подбородку и обняв их руками. – Хорошо, когда у девушки есть брат.
– У тебя есть Лин.
– Да, но он мой младший брат, и сколько бы ему ни было, я как старшая сестра буду о нем заботиться. А вот старший брат – девушке без него никак, ведь кто еще защитит ее?
– Он пригрозил, что отрубит мне голову, если я еще раз посмею поцеловать тебя, – признался я. – Сказал, чтобы я не лапал тебя своими грязными руками.
– Вот видишь.
– А за мать прости. – Я тоже отхлебнул из кувшина. – За чулан и все остальное.
– Не переживай, – ответила Сабина. – Мать она была никакая. Сказать по правде, в ней вообще не было ничего человеческого.
– Наверно, ты права.
Ее мать и впрямь была сука еще та, и я был рад, что Сабина на нее не похожа, будь ее мамаша хоть трижды красавица. Я просто не смог бы поцеловать девушку, похожую на ту гадюку.
– Но я не знаю, кто убил ее в том чулане, – добавил я. – Только не я.
– У нее было немало врагов. Не исключаю, что в том хаосе кто-то воспользовался подвернувшейся возможностью. – Сабина вновь взяла у меня из рук кувшин. – Боюсь, что твое отвратительное вино начинает мне нравиться.
– Бывает.
Сделав глоток, Сабина вернула мне кувшин и откинулась на траву.
– Спасибо тебе, Викс, что рассказал мне.
– Я рад, – ответил я и оперся на локоть и тоже поднял взгляд на усыпанное звездами небо. – Любуешься звездами?
– Да. После них весь наш мир кажется таким крошечным.
– Астролог как-то раз прочел мои звезды, кстати, в тот самый день, когда был убит Домициан. Он сказал, что в один прекрасный день я буду командовать легионом и меня будут звать Верцингеторикс Рыжий.
– И ты ему поверил?
– Не знаю. Он был такой смешной – маленького роста, с брюшком, очень веселый. Совсем не похож на астролога. Но его слова имели привычку сбываться.
Сабина по-прежнему смотрела на небо.
– Не думаю, что я смогла бы прочитать звезды. И вообще зачем богам нужно раскрывать для нас наши судьбы? По-моему, они предпочли бы держать нас в неведении.
– А я в свои звезды верю. Я заставлю их говорить то, что мне нужно.
Сабина задумчиво посмотрела на меня.
– Не сомневаюсь.
Я приподнял голову.
– Кстати, сегодня звезды очень даже хорошие.
– Викс.
– Что?
– Так ты поцелуешь меня? Или мы будем до бесконечности говорить о звездах?
Я задумался, как мне лучше ответить на этот вопрос – да или нет. Ни тот ни другой ответ меня не устраивал. Я просто наклонился и поцеловал ее, вдыхая запах сухой травы и лета. Мои губы ощутили вкус вина на ее губах. Моя ладонь, словно чаша, накрыла ее грудь, ее прохладные пальцы принялись рисовать неспешные круги на моем затылке, но самое главное, рядом не было никакой возмущенной тетки, которая огрела бы меня по голове, никого, кто помешал бы мне стащить платье с плеча Сабины.
Я припал губами к ее шее и начал расплетать ей косу. Мне хотелось, чтобы волосы ее рассыпались по траве, но в следующий момент мне в грудь уперлась ее рука и оттолкнула меня.
– На сегодня хватит.
– Я правильно понял? – с этими словами я откинулся на спину. Не скажу, что я был разочарован. Скорее ждал, что так оно и будет. Прошлый раз она дала себя поцеловать, сегодня – поцеловать и подержать за грудь. Значит ли это, что следующий раз?… – Эй, ты куда? Мы еще можем поговорить о звездах. Да и это ужасное вино еще не закончилось.
– Замолчи, Викс. Или ты хочешь разбудить весь дом?
Сабина поднялась с травы, стряхнула с платья налипшие травинки и протянула мне руку.
Я пристально посмотрел на нее.
– Что ты задумала? – Я попробовал высвободить руку, но она не желала ее выпускать.
– Пойдем со мной.
– Куда мы? – спросил я, когда она потащила меня через атрий, а затем по какому-то темному коридору.
– К тебе. Если будет кровь, никто не станет задавать лишних вопросов. Где твоя дверь?
– Кровь? – растерянно переспросил я, как какой-нибудь попугай. Скажу честно, ее слова обычно доходили до меня с опозданием. Мы на цыпочках прошли мимо темных кухонь к моей каморке.
– Насколько мне известно, в таких случаях бывает кровь, – шепотом пояснила Сабина. – А у меня это будет первый раз. Если кровь найдут на твоей простыне, никто не станет задавать никаких вопросов, потому что у тебя после твоих драк то нос разбит, то ссадины и царапины. Но если на моей! Эти досужие рабыни вечно суют нос не в свои дела.
Голова моя пошла кругом, и не от выпитого вина.
– То есть ты нарочно все это подстроила?
– А ты как считаешь? Я уже давно все продумала. Это твоя дверь? – Она указала на узкую дверь, ведущую в мою каморку.
– Да.
Уходя, я оставил ставни открытыми, и теперь на стене плясали отблески факела, догоравшего на задних воротах. Я впустил Сабину внутрь и привлек к себе. Она положила мне на плечи руки, и я попятился к кровати, пока не уперся в нее коленями, и сел. В свете факела мне было видно, как лицо Сабины озарилось улыбкой – неторопливой довольной улыбкой, от которой в уголках ее голубых глаз собрались тоненькие лучики. Скажу честно, мне было страшно. В голову лезли малоприятные мысли: про то, что этак недолго потерять непыльную работенку, которую я получил в ее доме, про сенатора Норбана, про то, какое наказание меня ждет, если я хотя бы пальцем прикоснусь к его дочери. Но после этой ее улыбки их словно ветром сдуло. Я притянул Сабину себе на колени и принялся вновь осыпать поцелуям. Ее губы раскрылись навстречу моим, словно нежные лепестки.
– Но почему именно я? – прошептал я. То, что она предлагала мне, было гораздо больше, нежели я мог рассчитывать, гораздо больше, чем я заслужил, ведь приличные девушки так не поступают. – Почему?
– Викс, давай поговорим об этом позже, – прошептала она, касаясь губами моего уха. – Признаюсь честно, мне страшновато, так что, пожалуйста, не тяни.
И я не стал тянуть. Да и какие вопросы, когда тебе всего девятнадцать, тебя обнимает за шею хорошенькая девушка, которая готова ради тебя сбросить свои юбки. Так что я, махнув рукой на эти вопросы, опрокинул ее на узкую кровать.
Будь ласков – такой однажды был дан мне совет. И знаете, кто мне его дал? Моя мать, когда пару лет назад застукала меня в довольно пикантной позе вместе с юной соседкой. Помнится, мой отец тогда жутко рассвирепел и сказал, что надерет мне задницу, если вдруг выяснится, что я обрюхатил девчонку. А вот мать, вместо того, чтобы устроить мне головомойку, дала несколько ценных советов, и один из них был: «Будь ласков, особенно если у девушки это первый раз».
Не могу сказать, чтобы совет этот мне пригодился, потому что та, что открыла для меня радости плоти, была веселой, дебелой девахой, на три года меня старше, которая уже несколько лет таскала парней в свой любимый стог. А те, что были у меня после нее, оказались из той же породы. И все-таки в эту ночь, в свете мерцающего за окном факела, я вспомнил старый материнский совет и постарался ему следовать. Не знаю, насколько хорошо у меня это получилось, потому что в какой-то миг Сабина негромко ойкнула и прикусила губу.
Я тотчас же замер.
– Тебе больно?
– Немножко, – призналась она. Было странно слышать ее голос с собственной подушки. – Но ты не останавливайся.
С этими словами она обхватила меня за шею, привлекая к себе. Я же вновь припал к ее губам в поцелуе, помня наставления матери о том, что должен быть ласков и нежен, что не следует торопиться. Впрочем, еще миг – и я забыл все, в том числе ее имя и, может, даже свое собственное.
Затем мы с ней какое-то время лежали молча в темноте. Скажу честно, я чувствовал себя немного неловко, в отличие от Сабины.
– О боги, – вздохнула она, сплетая пальцы с моими. – Кажется, теперь мне понятно, что это такое.
– Извини, если я сделал тебе больно. Я не хотел…
– Нет, просто слегка больновато. Но крови, похоже, нет, – по ее голосу я понял, что она этому рада. – А так все более-менее ясно. Так что в следующий раз все будет гораздо лучше.
– В следующий раз? – Я даже оторвал голову от подушки.
– Почему бы нет? – Она положила голову мне на плечо. – Если ты, конечно, не против.
– Я-то не против, – усмехнулся я в темноте. – Хотя другие девушки обычно так не говорят. Но ты не такая, как все, госпожа.
– Можешь называть меня Сабиной.
– Сабина, – произнес я. Внезапно мне стало не по себе, и это при том, что она лежала рядом, прижавшись ко мне в темноте. – Ты не ответила на мой вопрос.
– Какой вопрос?
– Почему именно я? Кто я такой? Девушки вроде тебя не отдаются первому встречному стражнику.
Сабина негромко усмехнулась. Я уже слышал от нее этот смешок, и он мне ужасно нравился.
– Ты будешь удивлен.
– Вряд ли. Обычно патрицианки хранят свою девственность для мужа, по крайней мере должны хранить. Так в чем твоя причина?
– Ни в чем. Вернее, в тебе. – Она потянулась ко мне, чтобы снова поцеловать. – Просто с тобой приятно, Викс.
Ее волосы упали мне на лицо. Мои руки скользнули вокруг ее талии, и я забыл свой вопрос.
Болван. Вибия Сабина ничего не делала без причины.
(обратно)
Глава 5
Сабина
Как жаль, вздохнула Сабина, что Викс не умеет лгать.
Нет, конечно, врун он был еще тот, только какой от этого толк, если лицо его тотчас заливалось краской, становясь того же цвета, что и волосы, после чего он засовывал большие пальцы за поясной ремень и начинал заикаться. Она была готова стонать, когда он в последний раз разговаривал с ее отцом.
– Какой прекрасный день, – рассеянно произнес Марк, когда Викс, поправляя на бегу перевязь с мечом, подскочил к носилкам. – Совсем не жарко.
– Верно, доминус.
Удостоившись от отца прощального поцелуя, Сабина крутилась поблизости и потому прекрасно видела, как из-за ворота к ушам Викса начала приливать красная краска.
– Я слышал, здесь у вас было дождливо? Как жаль, однако, что моя дочь такая упрямая и не захотела остаться с нами на вилле. Согласись, что на взморье гораздо приятнее.
– Мы не сидели без дела, – сказала Сабина. Викс укоризненно посмотрел на нее поверх головы сенатора, в ответ на что она едва не расхохоталась.
– Ну что ж, похвально. А теперь, молодой человек, я хотел бы опереться на чью-то сильную руку, – отозвался Марк Норбан.
Вместе они помогли ее отцу сесть в носилки. Сабине оставалось лишь надеяться, что мысли отца вновь заняты сенатскими делами и он вряд ли заметил предательски-пунцовые щеки Викса.
– Ты с ума сошла, – прошипел Викс, когда сенаторский паланкин удалился на приличное расстояние. – Теперь нам все это так просто с рук не сойдет! Ведь все твои вернулись в Рим!
– Ничего страшного, – пожала плечами Сабина и невинно помахала ресницами. – Я приду к тебе сегодня ночью.
– Но ведь дом теперь полон слуг! И эта старая перечница, твоя нянька, и твоя мачеха – они подмечают все. И сам сенатор, который все знает! – Викс машинально взъерошил рыжие волосы. – Кто-то наверняка увидит. Ты представляешь себе, что потом будет?
– Ничего не будет, – спокойно возразила Сабина. – Разумеется, отец страшно расстроится, но этим все и кончится. Он не станет меня пороть и не выгонит на улицу.
– А меня? Меня уж точно отправят на галеры за то, что я лишил девственности патрицианку.
– Никуда тебя не отправят. Потому что нас не поймают.
Да, из Викса лжец никакой – в отличие от нее. Кстати, ничего удивительного. Ведь она росла, наблюдая за тем, как отец – если требовалось протащить нужный ему закон или эдикт – обрабатывал других сенаторов, причем делал это так ловко, тонко и умело, что те даже не замечали, что он играет ими, как пальцы струнами лиры. Разве не видела она, какие усилия предшествовали этой игре, с каким тщанием готовил отец спектакли, которые затем разыгрывал в сенате? По сравнению со всем этим тайная любовная интрижка – это детские шалости.
– Согласна, шалости не совсем детские, – сказала она тем же вечером, когда Викс впустил ее к себе. Она тотчас бросилась на залитую лунным светом кровать и легла, подложив под голову руки и в упор на него глядя. – Но если быть осмотрительными, то ничего страшного. Например, я могу в течение нескольких недель изображать бессонницу, чтобы слуги привыкли к тому, что жара не дает мне уснуть и я ночью брожу по дому или уединяюсь с книгой в отцовском кабинете.
– Может, ты бродишь по дому в поисках кого-то еще? – огрызнулся Викс, с вызовом сложив на груди руки. – Например, того тощего мальчишку? Тит, кажется, его так зовут. Хотя ума не приложу, зачем тебе…
– Не глупи! Я действительно читаю по ночам в отцовском кабинете. Главное, несколько раз быть пойманной за этим невинным занятием, – как ни в чем не бывало пояснила Сабина, – после чего можно делать все, что угодно. Я также взяла за привычку наведываться по ночам в кухню, как будто я, проведя полночи за чтением, страшно проголодалась. А как ты сам знаешь, от кухонь до твоей каморки рукой подать.
Викс поймал себе на том, что расплывается в ухмылке, однако продолжал изображать обиженного.
– И что из этого?
– То, что в доме не найдется ни одного раба, который бы удивился, увидев, как я ночью выхожу из своей спальни и крадучись иду по той части дома, где обитает прислуга, в сторону кухонь.
– Все равно опасно, – упирался Викс. – Попадись тебе навстречу тот, кто…
– Я принесла жертву Фортуне, чтобы она ниспослала нам удачу, – успокоила его Сабина. – И на всякий случай продала свое любимое жемчужное ожерелье, на тот случай, если придется подкупить любопытного раба.
– То есть ты все продумала заранее? – Викс расплылся в улыбке от уха до уха, отстегнул меч и зашвырнул его в угол.
– Теперь тебе понятно, зачем мне понадобилось уезжать в Байи? – Сабина присела на кровати и принялась вынимать из волос шпильки. – Ты даже не представляешь, каких трудов мне это стоило! Начать с того, что я целых несколько дней тонко намекала отцу, что неплохо бы пристроить тебя к нам в дом в качестве телохранителя…
– Я так и думал, что это твоя идея.
– Моя, чья же еще! Но нужно было сделать так, чтобы отец подумал, будто она принадлежит ему. Ну и поскольку он человек проницательный, мне потребовалось время, чтобы вложить ее ему в голову. – С этими словами Сабина распустила по плечам волосы. – Затем мне пришлось выяснить, каким образом женщины предохраняются…
– Что-о-о? – Викс едва не подавился, услышав ее слова.
– Как женщины предохраняются от беременности, Викс, потому что от этого родятся дети. По крайней мере мне так сказали. Ты даже не представляешь, сколько времени у меня ушло, чтобы все как следует разузнать. Кальпурния хочет иметь дюжину детей, поэтому она такими вещами не пользуется. Нет у нее и бесстыдных подруг, которые бы просветили ее на этот счет. Моя мать наверняка знала, как это делается. Так или иначе я была вынуждена обратиться за советом к опытным шлюхам. Они порекомендовали мне египетский пессарий. По их словам, он надежно защищает в любых случаях.
Викс нырнул в постель и навалился на Сабину всем телом. Та, в свою очередь, сделала вид, будто пытается его сбросить, однако он легко сломил ее притворное сопротивление. Затем припал к губами к ямочке между ключицами, – это было его излюбленное место, – после чего губы переместились выше, к ушной мочке.
– Признайся, что ты интриганка.
– Не спорю, – согласилась Сабина, отвечая на его поцелуй, после чего взялась рассказывать Виксу свои секреты. Она действительно была горда собой за то, что сумела разыграть столь изощренный спектакль, и была бы только рада удостоиться аплодисментов. Ее поход в бордель за советом, как предохраниться от нежелательной беременности, был сродни подвигу какого-нибудь Геракла, однако сами шлюхи, по ее словам, оказались очень даже приветливыми, как только поняли, что совета она просит у них как самая простая женщина, а не какая-то там извращенка. Да-да, представь себе, они были очень даже милы и в придачу к баночке чудодейственного египетского снадобья надавали кучу самых разных советов по поводу того, как надо соблазнять мужчину, и даже при помощи флейты показали ей, как это выглядит, – за что им большое спасибо, что бы она без них делала. Когда же она завела разговор про то, как готовила почву для своего будущего спектакля, Виксу стало слегка не по себе.
– Ты хоть понимаешь, в какие неприятности ты могла вляпаться? – спросил он, слегка отодвигаясь вбок. – И давно ты вынашивала свои замыслы?
«С того самого дня, как ты поцеловал меня после скачек», – мысленно ответила Сабина. Хотя. Сказать по правде, окончательное решение было ею принято в тот день, когда ей сделал предложение Тит.
Тит. Милый, застенчивый юноша с удивительно твердым взглядом. Помнится, он тогда сказал ей, что мы всегда ищем тех, чьи недостатки нам не подходят. Эта мысль глубоко запала ей в душу. А еще он жаловался на то, что у него нет собственных мыслей и он вынужден вечно цитировать чужие.
Впрочем, эту мысль Сабина оставила себе, а сама ответила на первый вопрос Тита.
– Один мудрый человек когда-то сказал мне следующее. – С этими словами она взяла в свою руку Викса. – Мол, что бы человек ни делал, его всегда будут преследовать неприятности. От них не убежишь, поэтому можно делать все, что вздумается.
– И кто этот мудрец? – Викс пристально посмотрел на нее сверху вниз.
– Это точно был не Платон.
– Похоже на мои собственные мысли.
– Так это ты и есть, Верцингеторикс! Много лет назад, при нашей первой встрече. – Сабина обняла его за шею. – Как видишь, я не забыла.
Викс расхохотался и с такой силой прижал ее к себе, что у Сабины перехватило дыхание.
– По крайней мере ты способна распознать мудрость, – ослабил он хватку.
– Задуй лампу, – велела Сабина, отдышавшись. – И дай мне кое-что испробовать. Правда, заранее предупреждаю, до этого я видела только флейту.
Викс
Сабина. Вибия Сабина.
Красивое имя. И все равно оно давалось мне с трудом, независимо от того, сколько раз она проскальзывала в мою дверь, сколько раз я сжимал в объятиях ее теплое, обнаженное тело.
Сабина. Даже в темноте ночи оно отказывалось слетать с моего языка.
А ведь, клянусь Хароном, ночи у нас с ней были, и какие!
В жизни нет ничего лучше молодости и любви. Нет, в мире наверняка имелись девушки посимпатичнее Сабины, например, я предпочитал пышногрудых, которые почти не задают вопросов. Но до нее никакая другая девушка не затаскивала меня в постель сама, чтобы получить от меня то, что хочется ей. Раньше условия диктовал я. Сабина же, казалось, никак не могла насытиться мной. Мной. Верцингеториксом. Сыном рабыни и гладиатора, а вскоре уже не мог насытиться ею и я. А еще были долгие влажные дни, когда я заступал на караул. Я стоял у ворот, переминаясь с ноги на ногу, я ерзал на стуле, давясь за обедом горячей похлебкой, беспокойно ворочался в постели, пока не всходила луна. И тогда дверь в мою каморку приоткрывалась, и внутрь проскальзывала ее тень. Она еще не успевала закрыть за собой на засов дверь, как во мне уже вскипала кровь, и я одним прыжком настигал ее и прижимал к стене. Насытившись друг другом, мы ложились с ней в кровать и говорили часами. И это тоже было для меня чем-то новым. Обычно я с девушками не разговаривал. Особенно под одеялом. Из-под одеяла обычно доносилось лишь девчачье хихиканье, после чего я торопился поскорее смыться, чтобы меня не застукал отец или брат моей очередной подружки. Да и о чем вообще с ними можно было говорить?
– Ты, конечно, милый, Викс, – сказала мне моя самая первая девушка в Бригантии. – Но ты туповат. С тобой скучно.
И знаете что? Я не стал с ней спорить. А вот Сабина могла говорить со мной часами.
– Брундизий, – мечтательно шептала она, подперев кулачком подбородок. – Ты ведь там вырос, верно? Расскажи мне о нем.
– Тебе когда-нибудь хочется спать? – спросил я зевая.
– Когда я узнаю что-то новое – нет. Твое детство не сравнить с моим. Расскажи мне что-то такое, что случилось с тобой, когда ты был ребенком. Что-нибудь смешное.
Я задумался.
– Когда мне было семь лет и я жил в Брундизии, меня на улице поймал за шиворот один лысый человек в тоге и предложил мне устриц. Я знал, что ему нужно от меня на самом деле, но и бесплатное угощение я пропустить никак не мог.
– И что произошло?
– Я пошел к нему домой, наелся до отвала устриц, после чего он начал тыкать мне в бедро своим членом. И тогда я взял два его пальца – вот так – и рывком развел их в стороны. И пока он от боли орал как резаный, и скакал по комнате, я выскочил в окно.
– И это ты называешь смешной историей?
– А разве нет? Видела бы ты, как он с воем катался по полу. Так ему и надо. Заодно я стибрил у него дорогую вазу.
– Ну ты даешь! – восхитилась Сабина. – Расскажи еще что-нибудь.
– Я крал все, что не было прибито гвоздями, причем крал у всех – остатки пива в кружках, сласти из кухни моего хозяина, монеты у нищих. Когда же мне исполнилось восемь, а мою мать продали в Рим, я убежал от хозяина, чтобы найти ее. Я в одиночку проделал путь от Брундизия до Рима. Просил, чтобы меня подвезли торговцы, крал у уличных разносчиков еду.
– Брундизий, – задумчиво повторила Сабина. – Я бы не отказалась там побывать. А потом можно было бы отплыть в Грецию. Адриан всегда говорит о Греции.
– Адриан? – Я перевернулся на бок и притянул ее к себе. – Какая разница, что говорит этот подлиза.
– С чего ты взял, что он подлиза? – улыбнулась Сабина.
– По крайней мере твои пятки он лижет очень даже старательно, – недовольно буркнул я. – И зачем тебе только часами ходить с ним на прогулки?
– Затем, что если я начну отваживать женихов, люди скажут, что это неспроста, и захотят узнать, почему. Чтобы ложь была убедительной, Викс, – изрекла Сабина, – нужно, чтобы люди искали ответы на свои вопросы в другом месте.
– И все равно, не пойму, зачем тебе часами ходить с ним под ручку? Или сидеть, склонившись над книгой, голова к голове? – не унимался я.
– Ревнуешь? – поддразнила она.
– Нет!
Ну разве совсем чуть-чуть.
Сабине, похоже, все ее женихи были на одно лицо – кроме двоих: тощего застенчивого мальчишки-патриция по имени Тит, разговаривая с которым она кокетливо морщила носик. Вторым был трибун Адриан. Костлявый сопляк с фиалками меня не волновал – ему было всего шестнадцать, и его смелости едва хватало на то, чтобы во время своих визитов трясущимися руками сунуть Сабине букетик фиалок и, заикаясь пролепетать робкий комплимент. В отличие от Тита, Адриан наносил визиты дважды в неделю, и тогда они с ней часами гуляли по саду и, голова к голове, вели бесконечные беседы. То есть Адриан наклонял к ней свою мощную голову, подбородок же Сабины был гордо задран вверх под тем же углом, как то бывало, когда она ночью смотрела на меня с подушки.
– Не вижу причин для ревности, – сказала Сабина и потерлась носом о мой нос. – Ты думаешь, Адриан вливает мне в уши мед своих комплиментов? В последний раз мы с ним говорили об архитектуре, а до этого обсуждали греческих философов. А еще раньше – Элевсинские Мистерии.
– Именно. – То есть те самые вещи, в которых я не разбирался.
– Но в основном его разговоры вертятся вокруг Греции, – продолжала Сабина, как будто не заметила издевки в моем голосе. – Он постоянно рассказывает про Афины. По его мнению, центр цивилизованного мира – это Афины, а вовсе не Рим. Он может разглагольствовать про них часами. Неудивительно, что за его спиной его называют Греком.
– Я называю его тупым недоноском и могу сказать ему это прямо в лицо.
Сабина рассмеялась в темноте.
– А мне бы хотелось побывать в Афинах. И в Брундизии. И в сотне других мест.
– Тебе мало Рима?
– А почему ты сам вернулся в Рим, Викс? – Сабина оторвала голову от подушки. В темноте ночи ее голубые глаза казались мне черными омутами. – Ведь твоим родителям он был ненавистен.
– А мне – нет.
– Рим сделал тебя рабом. Рим заставил тебя выйти на арену и с мечом в руках сражаться за свою жизнь. Рим едва не убил тебя.
– Это не Рим виноват, а его чокнутый император. Но его больше нет, и не вижу причин, почему мне нельзя суда вернуться. Отец, конечно, был против, но я…
– А-а-а.
– Что, а-а-а? – нахмурился я.
– Твой отец ненавидел Рим, и поэтому ты его любишь.
Я пожал плечами:
– Дом на вершине горы в Бригантии стал слишком тесен для нас с ним. Отец, он ведь такой рослый и сильный.
– Я помню, хотя близко видела его всего раз – он был весь в крови, глаза полны ненависти. Мне он напомнил огромного раненого пса, свирепого, закованного в цепи, которому хотелось одного – умереть. Впрочем, ты был точно такой. Вы вообще с ним похожи.
– Сам знаю.
Мой младший брат пошел в мать – темноволосый и темноглазый. Зато я был ходячей копией отца, и скажу честно, мне надоело это слышать. У нас с ним были одинаковые рыжие волосы и серые глаза, я был всего на палец ниже его ростом и, как и он, широк в плечах. А еще я был левшой, как и он, и умел так же ловко обращаться с оружием. Ну, так что из этого?
– Но ведь я не он.
– Конечно, не он, – согласилась Сабина. – В один прекрасный день ты его перерастешь.
– Ты хочешь сказать, что я стану выше его ростом? Лично я…
– Я не про рост. То есть не в прямом смысле слова. Вся Британия будет для тебя слишком мала, не говоря уже про отдельную гору. Даже Рим, и тот будет для тебя мал.
– Спасибо. Я подумаю, – пообещал я и, зевая, прижал ее к себе, и вскоре меня сморил сон.
– Спи, Викс, – шепнула мне на ухо Сабина, или же мне это почудилось. – Спи, и пусть тебе приснятся твои звезды, те, что поведут тебя к славе. Что бы ты ни говорил, готова поспорить, что ты еще больший мечтатель, чем я.
Раз в неделю семья сенатора Марка Норбана обедала во дворце вместе с императором и императрицей. Но я никогда не сопровождал их туда. Во дворце наверняка еще могли оставаться рабы и стражники, которые помнили меня в те дни, когда я был игрушкой Домициана. Но по мере того как приближались Сатурналии, стало ясно, что встречи с Траяном мне никак не избежать: император со всей своей свитой должен был пожаловать на пир в дом Норбанов.
– Не понимаю, из-за чего вся эта суета, – искренне недоумевал старый сенатор, отрывая глаза от своих свитков, пока его супруга занималась приготовлениями. – Он всего лишь старый солдат, и ему нужно, чтобы перед ним все танцевали. Достаточно положить ему на тарелку хороший кусок мяса и налить кружку пива – и увидите, что он будет доволен.
– Зато императрица Плотина подметит любую мелочь, – простонала Кальпурния. – Я не желаю, чтобы она в моем доме брезгливо морщила нос.
Кальпурния была на сносях и ходила по дому вперевалку, умудряясь при этом делать заказы, проверять счета, составлять меню и отчитывать нерадивых рабов. Даже Сабине, и той не удалось избежать участия в приготовлениях: завязав волосы в узел, с ног до головы в муке, она вела на кухне сражение с тестом.
– Покажи мне, как это делается, – сказала она, обращаясь к кухарке, чьи умелые руки ловко мяли и колотили тесто. – Как интересно!
Я отвернулся, чтобы она не видела моей улыбки, потому что точно такие слова, произнесенные точно таким же тоном услышал от нее на прошлой неделе и я, когда кое-что показал ей под одеялом (что именно – не скажу).
– О боги, как же холодно, – сказала она, ныряя ко мне под бок под одеяло. – Согрей меня.
– Как прикажет моя хозяйка. – Я привлек ее к себе. – Кстати, а почему так поздно?
– Помогала Кальпурнии составлять список блюд для пира.
– Как же я буду рад, когда этот проклятый пир закончится.
– Тебе не хочется увидеть императора?
– Я их уже насмотрелся. Думаю, с меня хватит.
– Лжешь.
Она умела поймать меня на вранье. Я действительно сгорал от любопытства.
Солдат до мозга костей, но сенат буквально трясся над ним, а ведь сенат над солдатами не трясется. Любимец народа. Быстрый ум. Зоркий глаз. Кем же еще он был?
Сабина ткнула пальчиком мне в грудь.
– А ты не мог бы согреть меня чем-то другим?
– А я чем, по-твоему, занят? – Я пробежал пальцами по ее спине все ниже и ниже. Наш разговор, как обычно, завершился тем, что мы с ней несколько раз занялись любовью. Чему удивляться, в девятнадцать лет можно свернуть горы. То же самое мы повторили и следующей ночью.
– Сабина, в последнее время у тебя какой-то усталый вид, – воскликнула на следующее утро Кальпурния. – Круги под глазами. Скажи, я не слишком нагружаю тебя приготовлениями к этому злосчастному пиру?
– Я просто недосыпаю, – спокойно солгала Сабина, но мне показалось, будто в глазах ее мачехи промелькнуло недоверие. Впрочем, вряд ли она могла заметить в поведении падчерицы что-нибудь подозрительное. Никаких пылких взглядов в мою сторону, никаких попыток прикоснуться к моей руке, когда она проходила мимо. Если она и проявляла ко мне интерес, то не больше, чем к другим рабам и вольноотпущенникам. Это было точно такое же дружеское участие, как тогда в атрии, когда я в первый раз переступил порог ее дома, или на скачках. В этом отношении почти ничего не изменилось – за исключением наших с ней ночей.
Более того, к этому времени в меня по уши влюбились две рабыни, а это, скажу я вам, лишняя головная боль. Потому что стоит девчонке в тебя влюбиться, как она начинает допытываться, любишь ты ее или нет. Обычно такие вещи кончались слезами – для нее, и пощечиной для меня. Что касается Сабины – никаких вопросов с ее стороны, никаких упреков, и это меня устраивало. И хотя я никак не мог насытиться ее телом, это вовсе не значит, что я был по уши в нее влюблен. Сказать по правде, я сам толком не знал, что я чувствую по отношению к ней. Но это явно была не любовь.
В общем, ее притворство было мне только на руку.
Еще как на руку!
(обратно)
Глава 6
Плотина
Порой Плотина впадала в отчаяние, самое настоящее отчаяние. Вот уже пять лет, как ее супруг носит императорский венец, но когда же он, наконец, научится держать себя по-императорски?
– Рада вас видеть, – проворковала Плотина сенатору Норбану и его супруге, входя в атрий, но зычный, солдатский голос Траяна заглушил ее воркование.
– Ты хромой книгочей, разрази тебя Юпитер, счастливых тебе Сатурналий! – с этими словами Траян заключил старого сенатора в медвежьи объятия.
Плотина закатила глаза к небесам. Тем временем ее венценосный супруг продолжал сыпать смачными солдатскими шутками.
– Клянусь Хароном, Кальпурния, да ты вот-вот ожеребишься! – воскликнул Траян, ставя на ноги Марка Норбана и целуя его жену в щеку. – Если это мальчик, назови его в честь меня и когда-нибудь тебя за это отблагодарю. Нет, лучше назови его Павлин, в честь его старшего брата, потому что более честного человека я не встречал за всю мою жизнь…
Плотина сделала знак рукой, приглашая свиту переступить порог дома. А свита, надо сказать, в этот вечер сопровождала Траяна немалая: сенаторы и их супруги с высокими причудливыми прическами, их хихикающие дочки, слегка развязные сыновья, хорошенькие мальчики-рабы, сверкающие золотыми доспехами преторианцы в красных плащах, и вечно сопровождавшие Траяна легаты и армейские офицеры, которым, как казалось Плотине, жутко недоставало хороших манер.
– Как можно повсюду таскать за собой эту солдатню? – постоянно жаловалась Плотина.
– А почему нет? – удивлялся ее венценосный супруг. – С ними не заскучаешь.
И конечно же многие из сопровождавших его были хороши собой. Нет, конечно, личная жизнь ее мужа – это личная жизнь ее мужа, она не намерена совать в нее нос. Но почему бы ему не класть к себе в постель симпатичных мальчиков-рабов, как то делают большинство мужчин? Юнона свидетельница, она уже устала постоянно видеть с ним рядом этих мужланов в латах, слушать на пирах их грязные солдатские шуточки.
– Императрица Плотина! – воскликнула Кальпурния. – Ты сегодня затмила саму Юнону. Какие прекрасные изумруды!
– Я равнодушна к камням, – ответила Плотина, нагибаясь, чтобы прикоснуться щекой к щеке сенаторской супруги, облаченной по случаю праздника в голубой шелк. – Я стала носить их лишь после того, как мой супруг облачился в пурпурную тогу. Никогда не понимала, как добропорядочная матрона может увешивать себя яркими побрякушками.
– А мне нравятся украшения, особенно, когда я на последних месяцах. – Сверкая сапфирами в ушах и на шее, Кальпурния потерла свой круглый живот. – Мои платья на меня не налезают в отличие от ожерелий.
Она снова беременна – этот Марк, хоть и стар, времени зря не теряет. Казалось бы, такой серьезный, такой рассудительный, можно сказать, опора всего сената, но ни для кого не секрет, что жена вьет из него веревки, и это в его-то возрасте! Нет, конечно, Кальпурния мила, хотя и довольно легкомысленна. Не говоря уже о ее привычке выставлять напоказ свой бюст.
– Дорогая Кальпурния, надеюсь, ты простишь моему супругу, что он явился к тебе на пир одетый, как крестьянин? Я просто не смогла надеть на него подобающую случаю пиршественную тунику.
– Я и так полдня вынужден ходить в этой проклятой тоге, – шутливо пожаловался Траян. – И я подумал, что Марк не обидится на меня, если старый солдат хотя бы раз махнет рукой на обычаи и придет в том, в чем ему удобно.
– Мужчины, – многозначительно изрекла Плотина и посмотрела на Кальпурнию. Атрий тем временем заполнился гостями. Вокруг царила обычная в таких случаях толкотня, стоял неумолчный гул голосов. То там, то здесь в толпе раздавался серебристый женский смех или низкий и раскатистый мужской. Им вторил, журча струями, фонтан в центре атрия и звуки скрытой в нише лютни.
Траян хохотал громче всех, сыпал шутками, хлопал увесистой солдатской пятерней гостей по спине, как будто хотел сделать из их спин лепешку.
– Он ведет себя, как ребенок, – вздохнула Плотина, обращаясь к Кальпурнии. – Мужчины, они почти все такие, только в разной степени. Скажи, не могли бы мы с тобой улучить минутку вдвоем? У меня к тебе важный разговор.
– Конечно, императрица. Не желаешь вина?
– Ячменной воды. Я даже не прикасаюсь к вину, – ответила Плотина, а про себя добавила: «Пора бы это знать».
И женщины направились вдоль колоннады в дальний конец атрия. По пути Кальпурния несколько раз замедлила шаг: отдать распоряжение рабу, шепнуть что-то на ухо управляющему, поприветствовать какого-то гостя, попросить кого-то из домочадцев «спасти Марка от зануды Сервиана». Плотина шагала вслед за ней, царственными кивками отвечая на поклоны. При ее приближении гости спешили склониться в подобострастном поклоне, отчего казалось, будто в атрии колышется море голов.
– Речь пойдет о твоей падчерице.
– Я так и знала, что ты заметишь, что Сабину нигде не видно, – сказала Кальпурния. – Наверно, все еще прихорашивается. Девушки, они все такие.
«А вот и неправда», – подумала Плотина. Лично у нее не было привычки вертеться перед зеркалом, ни сейчас, ни в юности. Но развивать эту тему она не стала. Разговор предстоял серьезный, и хорошо бы за этот вечер все окончательно уладить.
– Я хотела бы поговорить о замужестве Вибии Сабины. Мне кажется, она засиделась в отцовском доме.
– Боюсь, она еще не приняла окончательного решения. Марк же не желает навязывать ей свою волю. В разумных рамках, разумеется.
– Сенатор Макс Норбан слишком многое ей позволяет. Не пристало неопытной девушке самой принимать решения. Тем более когда речь идет о браке.
– У Сабины хорошая голова на плечах, – улыбнулась Кальпурния. – Она гораздо разумнее, чем я была в ее годы.
В висках Плотины – там, где волосы были зачесаны вверх и шпильками собраны в тугие узлы – гулко застучала кровь: приближалась головная боль. Когда у Плотины болела голова, казалось, будто острые шпильки вот-вот пробуравят ей череп.
– Я буду откровенна с тобой, Кальпурния. Дорогой Публий от нее без ума.
– Неужели? – уклончиво ответила Кальпурния. – Я не знала.
– Представь себе. – Плотина заставила себя сделать глоток ячменной воды. – И я бы не хотела, чтобы его чувства не были оценены по достоинству. Потому что лучшего мужа для твоей падчерицы невозможно себе представить.
Впрочем, это можно было сказать о любой римской девушке.
– Безусловно, императрица, он в высшей степени достойный молодой человек, – согласилась Кальпурния.
«Он само совершенство, – едва не бросила ей Плотина, – а твоя падчерица должна стоять на коленях,
умоляя богов ниспослать ей такого мужа». Вслух же она сказала иное:
– Ты могла бы замолвить за него слово. Думаю, это подтолкнуло бы ее к принятию решения.
– Ну, Сабина девушка решительная. – Кальпурния остановилась, чтобы отдать распоряжения двум молоденьким рабыням. Те отвесили поклон и бросились разносить чистые чаши и подносы с фруктами.
– В таком случае, путь с ней поговорит твой муж, – Плотина доверительно взяла Кальпурнию под руку. – Думаю, это будет несложно. Ведь ни для кого в Риме не секрет, что при желании ты можешь вить из него веревки.
– Боюсь, я плохо понимаю, о чем ты, – спокойно отозвалась Кальпурния.
– Все очень просто. От тебя требуется лишь одно – повлиять на мужа. Убедить Марка, что его дочери требуется крепкая отцовская рука.
– Честное слово, императрица, я даже не представляю, как можно заставить Марка что-либо сделать. Скажу честно, я бы не хотела даже пробовать.
Нет, конечно, закатывать глаза – это дурные манеры, но Плотина едва сдержалась. Неужели эта курица не знает, как следует играть в такие игры? Пусть мужчины громко хохочут на пирах, произносят напыщенные речи, пребывают в заблуждении, что законы пишут они и только они. Женщины тем временем скромно стоят в сторонке, позволяя мужьям купаться в лучах славы и всячески выказывая им уважение, как то подобает женам. Но был у женщин долг иного рода: сделать так, чтобы от всей этой мужской показухи была какая-то польза, чтобы принимаемые мужчинами решения были во благо их женам. Неужели нужно объяснять такие вещи?
Наверно, кое-кому нужно.
– Мне, право, жаль, императрица, что Сабина так долго тянет с принятием решения, – произнесла Кальпурния как можно учтивее. – Но ее отец не склонен подталкивать ее, не стану этого делать и я. Прими мои глубочайшие извинения, но, кажется, меня зовет кухарка, которой требуется мой совет. Надеюсь, она не спалила до углей улиток.
С этими словами Кальпурния направилась сквозь толпу гостей. Плотина же осталась стоять рядом с увитой плющом статуей Пана, сжимая в руке кубок с ячменной водой. Нет, зря она завела этот разговор с женой Марка Норбана. Судя по всему, эта женщина – недалекая умом наседка. Плотина помассировала висок. Головная боль подкрадывалась все ближе. Что-то подсказывало Плотине, что ее ждет мучительный приступ, какой неизменно случался с ней, когда кто-то смел ей дерзить. Знай эти люди, как ей больно, они никогда бы не посмели ей перечить.
– Сабина! – радостно воскликнул Траян, когда в атрий шагнула завернутая в серебристую ткань фигура. – Моя маленькая Сабина, ты опаздываешь!
– Надеюсь, ты простишь меня, Цезарь. – Девушка отвесила поклон, а затем встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его щеки.
– Конечно, прощу, но я по тебе соскучился. – Траян обнял ее, затем отстранил от себя, чтобы окинуть взглядом с головы до ног. – Да ты настоящая красавица, Вибия Сабина. Теперь мне понятно, почему половина моих офицеров мечтают на тебе жениться!
– Пусть даже не мечтают, – едва слышно процедила сквозь зубы Плотина. – Она для моего Публия, или это непонятно? Для моего Публия.
Рядом с плечом Плотины раздался его голос, такой бархатистый, такой проникновенный, такой властный, он был ей как бальзам на душу.
– Я никак не могу решить для себя, кто сегодня прекрасней – моя императрица или моя будущая жена.
– Льстец, – ответила Сабина, подставляя для поцелуя щеку. Ох уж эта борода! Он так от нее и не избавился. Впрочем, он все равно хорош: в пиршественной тунике, спокойный, такой величественный, с серебряным кубком в руках, с перстнем-печаткой на пальце. Адриан кивнул какому-то знакомому, проходившему мимо, однако остался стоять рядом с Плотиной.
– Я должен поблагодарить тебя. Ты была права насчет Вибии Сабины. Теперь и я сам вижу, что она станет для меня идеальной женой. – В темной бороде мелькнула улыбка. – И как только я мог усомниться в верности твоих суждений!
– Порой я сомневаюсь в них сама. – В этом она не призналась бы никому – только дорогому Публию. Матери Рима не к лицу сомнения. – Насколько я понимаю, она все еще тянет с ответом – честное слово, я уже слегка устала ждать.
– Не переживай. Оно даже к лучшему. У меня есть время ее лучше узнать. – С этими словами Адриан посмотрел через весь зал на Сабину, стоящую между двух молодых трибунов. На лице ее читалась скука. – И с каждым днем она нравится мне все больше и больше.
– А вот мне нет.
Эта гордячка не услышит от нее ни одного доброго слова, пока не станет женой дорого Публия. Вот тогда она станет ей дочерью. А пока она лишняя головная боль.
– Ты только посмотри на ее платье.
Вообще-то придраться к наряду Сабины было трудно: узкое серебристо-серое платье с высоким горлом. И все же в нем она смотрелась…
– Она в нем блистательна, ты хочешь сказать, – подсказал Адриан, покачивая вино в серебряном кубке. – По сравнению с ней остальные девушки на этом пиру могут претендовать лишь на звание хорошеньких. А через несколько лет это будут копии своих матерей – толстые и густо накрашенные гусыни. Но только не моя Сабина.
– Как хорошо, что тебе она нравится, – одобрительно отозвалась Плотина.
– Я помню, как когда-то имел встречу с ее матерью, – продолжал Адриан. – Чудовище, а не женщина, но чего в ней нельзя было отрицать – так это ее вкус. Она умела войти в любую комнату и сразить всех наповал. Вибия Сабина не похожа на мать, но вот ее вкус она унаследовала. Но что еще лучше, у нее есть ум. И если дать ей несколько лет, – Адриан приподнял кубок, как будто произносил тост за будущую супругу, – то она станет настоящей жемчужиной!
– Хм. – Плотина закрыла глаза. Боль в висках была невыносимой, но в таком шуме голова заболит у кого угодно. Гости тем временем гуськом заходили в триклиний, где их ждал пиршественный стол.
– Дай мне взять тебя под руку, – обратилась императрица к Адриану, и тот поспешил выполнить ее просьбу. – Я должна выполнить свой долг, даже если не смогу положить в рот и крошки. О боги, как же болит голова!
Тит
Тит наблюдал, как гости, работая локтями, прокладывают себе путь к пиршественным ложам. Все как один стремились занять место поближе к императору, который возлежал на почетном, увитом плющом ложе в окружении гор подушек. Никто почему-то не выказал желания составить компанию императрице. Зато целая компания молодых людей наперегонки бросилась к ложу Вибии Сабины. И хотя место справа от нее застолбил за собой трибун Адриан, Тит, наступив на ногу одному молодому эдилу, сумел-таки улечься на ложе справа от нее.
– Здравствуй! – поприветствовал ее он. – Ты сегодня такая красивая.
Девушка, которую он видел во время своих редких визитов в дом Норбанов, обычно лежала на полу библиотеки – в простой тунике, с наспех заплетенной косой. Сегодня же перед ним была блистательная красавица, этакая сияющая нимфа, расположившая на шелковых подушках. В узком серебристом платье, из-под которого выглядывали стройные ножки. Волосы гладко зачесаны назад и собраны в высокую прическу. Никаких украшений в отличие от других девушек в этом зале, которые как будто соревновались между собой в количестве побрякушек. Из ушной мочки Сабины на египетский манер свисала одна-единственная изящная серебряная серьга, длинная, почти до плеча, которая переливалась гранатами.
– Как я рад, что ты была совсем не такой, когда я пришел к тебе с предложением, – чистосердечно признался Тит. – Иначе я бы не смог выдавить из себя ни слова.
Сабина рассмеялась, а вот трибун Адриан на ложе слева от нее недовольно насупил брови. Тем временем в зал, неся серебряные блюда с яствами, прошествовала первая вереница рабов. По триклинию, щекоча пирующим ноздри, тотчас разнеслись ароматы жареной свинины и копченых устриц.
– Кто ты, юноша? – спросил Адриан.
– Тит Аврелий Бойоний…
– Слышал о тебе. И о твоем отце. Но разве ты еще не посещаешь школу? – С этими словами трибун Адриан демонстративно повернулся в Сабине. – Я надеялся продолжить нашу дискуссию об архитектуре, в частности о взглядах Аполлодора. Признаюсь честно, Вибия Сабина, я не поклонник его куполов…
Тит так и не сумел больше вставить не слова. Адриан полностью завладел вниманием своей собеседницы. Титу оставалось лишь завидовать. Ему уже двадцать шесть, мне же всего шестнадцать. Он обаятелен и уверен в себе, я робок и застенчив. Тит был не прочь поменяться с ним местами: как Адриан, томно возлежать на ложе рядом с Сабиной, вести с ней беседы, в которых тонко смешаны серьезные темы и юмор, предлагать ей угощения так, как будто тем самым соблазняет ее, точно знать, когда можно легонько и ненавязчиво дотронуться до ее запястья, как будто проверяя на прочность некую интимную связь.
Иными словами, стать трибуном Адрианом, а не Титом, которому еще полагается ходить в школу.
С досадой пожав плечами, Тит принялся налегать на угощения. До того момента, когда он перестанет быть на пирах младшим, ему оставалось лишь молча кивать, пока другие произносят речи. Он поглощал копченые устрицы и сдобренные соусом улитки, а сам прислушивался к разговорам, что плавно перетекали от ложа к ложу. «Это все благодаря Траяну», – подумал Тит. Удивительная вещь: император даже не пытался завладеть вниманием пирующих. Наоборот, ему нравилось, когда его сотрапезники высказывают свое мнение, и внимательно слушал их речи. Один раз он даже посмотрел на Тита и, видя, что тот молчит, попытался его подбодрить:
– Эй, приятель, ты сегодня какой-то молчаливый. Я был знаком с твоим отцом. Лет сто назад мы с ним вместе оба служили трибунами. Скажи, юный Тит, а ты не хотел бы попробовать свои силы в армии?
Тит не мог представить ничего ужаснее. Грязь? Марши? Сражения? Нет, спасибо. Пусть лучше меня растерзают волки. Увы, он никак не мог сказать этого императору. Тит посмотрел на Траяна: загорелый, полный бьющей ключом энергии, в простой солдатской тунике, с короткой армейской стрижкой, заливается смехом по поводу какой-то шутки, отчего в уголках его глаз собираются веселые морщинки-лучики. Его император.
В свои сорок пять Траян выглядел лет на десять младше. В нем вообще было нечто от юноши. Казалось, он по первому сигналу вскочит с ложа и храбро ринется в бой, как будто только и ждал этого момента.
– Цезарь, – бодро ответил Тит. Траян же расхохотался и задал какой-то вопрос сенатору Норбану. Тит уже давно сделал для себя вывод, что изобразить участие в любом разговоре с сильными мира сего несложно: нужно лишь то и дело называть собеседника по имени (к месту и не месту) и напускать на себя выражение почтительного уважения. Но, слава богам, на протяжении всего пира никто больше к нему не обращался. Тит поглощал свои устрицы, отпивал из кубка вино, довольный тем, что на него никто не обращает внимания. Так было до того момента, когда рабы унесли блюда с остатками орехов и фруктов. Вот тогда-то и вспыхнула драка.
Тит встал с ложа и вышел в атрий полюбоваться луной, когда до него донеслись крики, а затем какой-то шум и грохот. Заинтригованный, Тит тотчас поспешил в сад, освещенный факелами на высоких колоннах. А в следующий момент, выхватывая на бегу меч, мимо него пронесся один из стражников сенатора Норбана. Тит схватил его за руку.
– Это гости, – сказал он, глядя, как на тропинке сцепились в драке две темные фигуры, – а не воры.
Это из-за Сабины подрались два молодых армейских трибуна. Было похоже, что оба мечтали получить в знак ее расположения серебряную серьгу, в результате чего опрокинули вазу с орхидеями, и Траян был вынужден, словно щенков, взять обоих буянов за шкирку и отволочь их в сад.
– Решите это спор, как подобает солдатам! – крикнул он им. – Разбирайтесь друг с другом, а не с хозяйскими вазами. Дорогая Сабина, позволь принести тебе мои глубочайшие извинения по поводу этих неотесанных мужланов.
Но Кальпурния, вместо того, чтобы рассердиться по поводу разбитой вазы, только заливалась смехом. Часть гостей уже покинула трикликлий – подышать свежим воздухом, а заодно посмотреть схватку двух задиристых петушков, которые уже обнажили мечи и дали клятву драться до первой крови.
– Смотрите, пусть это будет лишь царапина, – пригрозил им Траян, а сам уселся на мраморные ступеньки и задумчиво подпер кулаком подбородок. – Вы оба еще понадобитесь мне, когда я на следующий год вернусь в Дакию. Так что даже не думайте доводить дело до смертоубийства.
«В Дакию? – удивился Тит. – О, Юпитер, надеюсь, дед не вздумает отправить меня на войну!» Он легко представил себе, как дед говорит ему: «Служба в армии идет на пользу молодому человеку, она закаляет и дух и тело».
И главное, ничего не скажешь против. Даже если лично вы не горите желанием закалять свои тело и дух.
Теперь в сад вышло большинство гостей. Тит заметил сенатора Норбана, а рядом с ним – Сабину. Старый сенатор лукаво улыбался, а Сабина лишь закатывала глаза. Предмет спора – серьга – поблескивала в свете факелов. С оглушающими криками трибуны налетели друг на друга. Но даже Тит, далекий от подобных вещей, понял: для настоящего поединка они слишком пьяны. В результате все свелось к неуклюжему потрясанию мечами и криворуким ударам. Впрочем, в конце концов одному из соперников – не столько благодаря умению, сколько везению – удалось выбить из рук второго меч. Тот, звякнув, упал на землю.
– Я победил! – гордо заявил везунчик и трясущейся рукой воздел к ночному небу свой меч. – Высокородная Сабина, я требую свою награду – твою серьгу как знак твоей – ик! – любви.
– Награду? За пьяную драку? – искренне удивилась она. – Я раздаю награды лишь за настоящие победы. У меня здесь тысяча стражников, и каждый из них в считанные секунды может искромсать тебя на мелкие клочки.
– Неправда! – оскорбился трибун. – Да я в миг – ик! – разделаюсь с любым стражником.
– Давай проверим? – сказала Сабина и окинула взглядом толпу. Титу показалось, будто он заметил в ее глазах довольный огонек. – Эй, Викс, ты не против показать патрицию, что такое настоящая схватка?
Раздвигая плечом пьяную толпу, ей навстречу вышел молодой стражник, которого Тит уже видел раньше, тот самый, который посоветовал ему приходить к ней с фиалками, а не с букетами лилий. Стражник сбросил плащ, потянулся, разминая руки, и взялся за рукоятку меча. Толпа разразилась пьяными криками и свистом.
– Я готов.
Трибун издал боевой вопль и театрально воздел меч. Его приятели разразились рукоплесканиями. Тит нагнулся, чтобы поднять с земли плащ стражника, но не успел он даже выпрямиться, как трибун уже был обезоружен.
Тит растерянно заморгал, не веря собственным глазам.
– Так нечестно! – возмутился трибун.
Стражник – кажется, Сабина назвала его Викс – расплылся в холодной, как сталь, ухмылке и поманил его пальцем.
– Давай еще разок.
– Дракам не место на пиру, – раздался возмущенный голос императрицы Плотины, но на нее никто не обратил внимания. На этот раз Тит следил за поединком – если, конечно, это был поединок.
Выпад, еще один, и меч трибуна снова со звоном упал на землю.
– Кто следующий? – спросил стражник по имени Викс, обводя взглядом толпу, и развел руки. – Я как раз разогрелся.
Он был высок, силен и уверен в себе, свет фонарей рельефно очерчивал его мускулистые руки. Он стоял, тяжело дыша, готовый снова ринуться в бой.
– Воспеваю оружие и воина, – процитировал Тит себе под нос строчку Вергилия и посмотрел на свое тощее тело. Его собственные подвиги уж точно останутся невоспетыми.
Тем временем навстречу Виксу вышли еще три трибуна. Первый сумел сделать пару выпадов мечом – или как там называется этот прием? Тит плохо помнил, хотя какое-то время посещал уроки фехтования. Но и он через пару секунд уже было обезоружен. Второй был пьян и едва держался на ногах, разумеется. Он оказался с пустыми руками, потому что даже не заметил, как Викс одним ловким движением выбил у него меч. Третий оказался куда более достойным противником, нежели первые два. Гости хлопали в ладоши и подбадривали противников, пока те то налетали друг на друга, то отскакивали в стороны на узкой садовой тропинке. Титу показалось, что он заметил пару моментов, когда Викс мог завершить поединок, однако рыжеволосый стражник даже не думал отпускать своего соперника. Двигаясь с грацией дикого животного, он искусно работал мечом, отчего казалось, будто тот – естественное продолжение его руки. При этом он улыбался от уха до уха. Наконец, как следует измотав противника, он ловким ударом выбил из его рук меч.
Среди трибунов и их друзей прокатился недовольный ропот. Где это видано, чтобы трибуна посрамил какой-то там стражник! А вот Тит разразился искренними рукоплесканиями, к которым присоединились и другие гости, которым было все равно, кто их развлекает. Викс отвесил церемонный поклон, и Тит заметил, как он подмигнул Сабине.
Тит же грустно задумался, сколько лет свой жизни он был готов отдать за то, чтобы вот так легко и непринужденно красоваться, словно петух, перед девушкой. Десять – пожалуй, многовато, а вот пять…
– Я ведь говорила тебе, Цезарь, – голос Сабины вывел его из задумчивости. – Согласись, что он хорош.
– Еще как, – согласился Траян. Он пристально, хотя и дружелюбно, рассматривал Викса.
– Бьюсь об заклад, тебя когда-то готовили в гладиаторы.
– Откуда ты это знаешь, Цезарь?
– Этого не заметит только слепой. Ты работаешь мечом, как будто косишь траву – вжик, вжик, вжик! Будь у тебя армейская подготовка, ты бы прятал руку за щитом, а мечом наносил бы короткие удары. Вот так, – пояснил Траян. – Потому что, сражаясь в строю, мечом не намашешься. Там в ход идет острие. От него в гуще боя больше толку.
– Согласен, Цезарь, в строю так оно сподручнее, – сказал Викс, упираясь острием меча в землю, – но если строй нарушен?
– Мой строй не рушится никогда! – надменно заявил император, впрочем, скорее по привычке, нежели оскорбившись.
Императрица Плотина закатила глаза к небесам. А вот Тит невольно улыбнулся. Улыбнулся и Викс и, все еще сжимая в руке меч, развел руками.
– Это потому, Цезарь, что я еще не пытался его нарушить.
– Не хочешь попробовать? Твоя техника против моей? – лукаво выгнув бровь, Траян в упор посмотрел на Викса.
«Он не посмеет, – испуганно подумал Тит. – Он не посмеет принять вызов. Ведь это же император Рима!»
Однако Викс кивнул в знак согласия. Император же, словно мальчишка, со смехом вскочил с мраморной ступеньки.
– Эй, дайте мне меч!
По толпе гостей пробежал шепоток.
– Цезарь, тебе не пристало, – начала было Плотина, но Траян оборвал жену. – Клянусь Хароном, Плотина, я уже забыл, когда последний раз держал в руках меч. Эй, кстати, а щита ни у кого не найдется? Нет? Ну да ладно, обойдемся без щита. Мне хватит и меча.
Титу первые удары показались какими-то ленивыми – противники присматривались друг к другу. С лица Викса исчезла улыбка, ее сменило напряженное внимание. Траян проявлял бо́льшую осторожность, нежели его противник: он стоял, широко расставив ноги и втянув голову в плечи, явно не желая подставлять себя под удар – именно так Тита в свое время учили поступать его наставники. Именно так привыкли действовать легионеры. Именно так они выигрывали все свои битвы против диких варварских полчищ. Поэтому только слепой не заметил бы, что Викс движется совершенно иначе, занимая больше пространства, как будто нарочно искушая противника, подставлял себя под его меч. Короткий меч Траяна совершал молниеносные выпады, подобно языку змеи, целясь Виксу то в шею, то в колено, то в локоть. Но тот ловко парировал все удары, и, в свою очередь, наносил свои, вынуждая Траяна отступать все дальше. Воодушевленный успехом, он, размахивая мечом, ринулся на противника, однако тотчас отлетел назад, наткнувшись на твердое, словно камень, плечо императора. Затем противники вновь разошлись, и поединок возобновился.
«О боги, – с ужасом подумал Тит, – он и впрямь вздумал сражаться с императором по-настоящему! Как солдат с солдатом!»
Впрочем, похоже, что император сам горел азартом.
– Хватит прыгать взад и вперед, – произнес Траян, когда они с Виксом описали круг. – Рассчитываешь, что заставляя меня бегать за тобой, ты чего-то добьешься?
– А разве нет, Цезарь? – бросил ему Викс, делая очередной выпад.
Траян ловко парировал его удар.
– Может, будь у тебя арена, ты мог бы скакать по ней зайцем, но на поле боя такая тактика не пройдет. – С этими словами он замахнулся, целясь Виксу в колено, но тот успел отскочить. – Там особенно мечом не помашешь. Там тесно, как в попке мальчика.
Викс не стал отвечать на его остроту, продолжая сыпать ударами. При этом – отметил про себя Тит – Викс избегал ударов в лицо. Даже такому задире, как он, хватало ума проявлять осторожность, сражаясь с самим императором. Ведь страшно подумать, что будет, лиши он Траяна по неосторожности зрения. Зато противники щедро осыпали ударами плечи и ребра друг друга – это все, что мог сделать Траян, чтобы постоять за себя. В следующий миг Викс сделал стремительный выпад, целясь ему в плечо. Траян по привычке мгновенно поднял щит, преграждая лезвию путь. Увы, никакого щита у него не было. Вместо него лезвие вошло в руку, и у Тита от ужаса перехватило дыхание. Из раны брызнула кровь. Толпа гостей испуганно ахнула. Траян посмотрел на руку: ручеек крови стекал вниз и капал на землю между пальцами. Викс с посеревшим лицом отпрянул назад, а рядом с Траяном плотным кольцом тотчас выросли преторианцы. А в следующий миг…
Траян откинул голову назад и захохотал.
– Ты победил, приятель!
– Неправда, Цезарь, – ответил Викс. – Будь у тебя щит…
– Но его не было, а я про это забыл. Так что победа твоя. Поздравляю, – с этими словами Траян махнул рукой, давая гвардейцам понять, что те не нужны, а сам похлопал Викса по плечу. – Знаешь, может, в твоем махании мечом и впрямь что-то есть. Как твое имя?
– Верцингеторикс, Цезарь.
Тем временем вокруг императора столпились желающие оказать ему первую помощь, но он прогнал их от себя.
– Подумаешь, царапина. Я наношу себе гораздо более глубокие, когда бреюсь. – Он вновь, причем с симпатией, посмотрел на молодого стражника, как будто они были друзья по гимнасию. – На следующий год, Верцингеторикс, я поведу свои легионы на север. Есть там один дакийский царь, которого следовало бы проучить. Мне нужны хорошие воины – и сейчас, и всегда. И мне кажется, ты был бы в их числе. Хочешь помочь выиграть войну?
– Это мы посмотрим, Цезарь, – ответил Викс, и Тит решил, что услышал нотки неуверенности в его голосе. «Эх, лежи на моем плече эта рука, – подумал Тит, смотри на меня эти глаза, наверно, даже я пошел бы служить в легионы. А ведь еще час назад я бы предпочел быть растерзанным волками, чем стать солдатом».
– Это я посмотрю, Верцингеторикс, – передразнил Викса Траян. – Я сделаю из тебя римского легионера. И запомни, острие всегда побеждает, – с этими словами он снова хлопнул Викса по плечу и обвел взглядом толпу. – Эй, есть желающие преподать урок юному воину? Легат? Юный Тит? Или ты, трибун Адриан?
– Только не он. – Голос Викса был исполнен презрения. – Скажи, когда в последний раз ты видел его грязным?
Траян рассмеялся. Рассмеялись и гости, неискренне и подобострастно.
– Да, тут наш герой прав, Адриан, – сказал Траян, возвращая меч в ножны. – Побудь ради разнообразия мужчиной. Возьми в руки меч.
– Спасибо, Цезарь, – ответил Адриан, даже не улыбнувшись. – Своим пером я способен нанести врагу куда больший урон.
– Мой меч, твое перо, – предложил Викс, вновь вытаскивая меч. – Давай поглядим, чья возьмет.
И снова смешки. Адриан открыл было рот, но вместо него – к превеликому собственному удивлению – заговорил Тит.
– Скажи, а ты не мог научить меня хотя бы нескольким приемам, – обратился он к Виксу. – Потому что, признаюсь честно, воин из меня неважный.
– Вот это молодец! – довольно воскликнул Траян и, обняв одной рукой плечо сенатора Норбана, а второй – плечо Сабины, зашагал обратно в триклиний. Адриан попытался идти с ним рядом, но его оттеснили. Видя это, Тит невольно усмехнулся.
Сад постепенно опустел. Гости, жалуясь на ночную прохладу, – волнение, которое до этого согревало их, улеглось, – тоже потянулись в дом, где их ждали кубки с подогретым вином. Викс подобрал с земли плащ, перекинул его через руку и сунул в ножны меч. К нему подошел Тит.
– На самом деле, тебе не нужно меня ничему учить, – сказал он, кивком указывая на меч. – Я безнадежен. Я просто пытался отвлечь Адриана. Он был готов вырвать тебе сердце и зажарить его, за то, что ты выставил его на всеобщее посмешище.
– Знаешь, мне как-то все равно, кем я его выставил.
– И как только тебе хватило дерзости ранить императора, – раздался рядом с ними грудной женский голос. Тит обернулся и тотчас поспешил отвеcить учтивый поклон: перед ним стояла императрица Плотина. Он впервые видел ее так близко – высокая и статная, она казалась обсыпанной изумрудами колонной. Стоя вровень с Титом, она действительно была высокого роста. Впрочем, взгляд ее глубоко посаженных глаз был устремлен мимо, на Викса, чему Тит был несказанно рад. В эти мгновения он предпочел бы сделаться невидимым. – Впрочем, как тебе вообще хватило дерзости затевать этот поединок. Может, мой супруг и счел его забавой. Но вот я – нет.
С этими словами она гордо развернулась, словно статуя, которую на колесах выкатывают из храма, и с царственным видом удалилась.
– Императрицы… – произнес Викс, с отвращением в голосе. – Вот уж кто все как одна мстительные стервы. Император, если что, может вас простить, императрица – никогда.
– И со сколькими императрицами ты знаком? – пошутил Тит.
– Ты удивишься, – ответил стражник, который только что ранил в руку императора Рима, и, насвистывая, зашагал прочь.
Викс
– Я видела, как ты дрался на мечах с императором, – сказала мне Гайя, когда я заглянул в кухню. – Вот только как ты мог… ведь это же император. Какой, однако, красавец мужчина!.
Я мысленно с ней согласился. Потому что Траян и впрямь был прекрасен. Этот низкий, раскатистый голос, эта сила, что чувствовалась в каждом ударе! Кстати, я заметил, что мышцы на его левой руке гораздо сильнее, чем на правой, – сказывались долгие годы солдатской жизни, когда он носил в левой тяжелый щит. Рука с императорским перстнем-печаткой лежала на моем плече, как будто я был его другом. И где вы видели, чтобы император отмахнулся от раны, как от какой-нибудь шутки?
Клянусь Хароном, как приятно было вновь почувствовать в ладони рукоять меча! Ощущать, как работают мышцы, то расслабляясь, но напрягаясь снова, как они постепенно разогреваются, как движения приобретают плавность. А свист меча, рассекающего воздух, легкий звон соприкасающихся лезвий – раз, второй, третий. Как мне этого всего не хватало, как я соскучился по хорошему поединку! А как быть с достойным противником? Кто он? Ведь не эти сопляки-патриции, ни даже сам император. Не спорю, мечом он владеет ловко, но даже император Рима не прошел той суровой школы, какую прошел я, когда мне было всего восемь и меня обучал величайший из всех гладиаторов.
В общем, в моей груди шевельнулась тоска по старым временам. А может, они никуда не уходила, просто Сабина на какое-то время приглушила ее. Да и как не поддаться соблазнам плоти, когда тебе всего девятнадцать! Но тоска – она никуда не прошла. Я посмотрел на двух других стражников. Примостившись в дальнем конце кухни, они весело переругивались, играя в кости. Неужели и я стану таким же лет этак через тридцать – толстым охальником, лапающим молоденьких рабынь, которому только и остается, как докучать всем своим рассказом о том, как однажды я скрестил мечи с самим императором.
– Налей мне вина, – сказал я Гайе.
– А как насчет чего-то другого? – лукаво спросила она. – Последнее время я редко видела тебя среди нас, рабов. Да и у моей двери ты тоже перестал бывать.
Не удостоив ее ответом, я взял блюдо с медовыми пирожными и графин вина и, громко топая, удалился к себе в комнату. Из атрия по-прежнему доносились голоса гостей, их слегка протяжные патрицианские интонации, но у меня не было ни малейшего желания наблюдать за праздником.
Мои уши явственно различали бархатистый баритон трибуна Адриана. Этот самодовольный тип явно демонстрировал свою ученость, то ли перед Сабиной, то ли перед кем-то из гостей. Кстати, я слышал, как Адриан пытался разузнать у других стражников, – он даже сунул им за это по монетке, – не отдает ли Сабина предпочтение другому воздыхателю. Или, может, он не нравится ее отцу? Иначе почему она так долго тянет с ответом?
– Ее отец считает тебя напыщенным занудой, – сказал я, хотя меня он не спрашивал. – Мой тебе совет, трибун, откажись от Вибии Сабины. Она никогда не выберет тебя.
Я рассчитывал, что он вспыхнет и сожмет кулаки, но он лишь смерил меня надменным взглядом.
– Что бы ты знал о ней, стражник.
У меня едва не сорвалось с языка, что кое-что о Сабине я знаю очень даже хорошо. Как она изгибается, когда я целую ей шею, как закрывает глаза, как стонет от удовольствия, когда я целовал ей кое-какое место. Но я промолчал, ограничившись нахальной улыбкой. Держа в руке золотой кубок, он еще раз посмотрел на меня, как на полное ничтожество, и пошел прочь.
– Он был готов свернуть тебе шею, – сказал тогда мне этот тощий доходяга Тит. – Ты выставил его посмешищем.
Ну и что. Так этому напыщенному павлину и надо.
Я лежал на спине в своей кровати, жевал пирожные, сыпля медовыми крошками на одеяло, и наблюдал за тем, как в узкой прорези окна восходит луна. Вскоре один за другим мимо моего окна проплыли паланкины, развозя гостей по домам. Другие стражники тем временем отправились в сад гасить светильники. А еще мне было слышно, как, прибираясь в кухне, жалуется на мозоли усталая кухарка, а госпожа Кальпурния шутливо возмущается в атрии.
– Ты не поверишь, что сказала мне императрица! – воскликнула она. В ответ донесся негромкий смех сенатора Норбана, и они вместе зашагали по лестнице на второй этаж. Постепенно в доме все стихло. «Сегодня она не придет», – подумал я. Но я ошибся. Примерно через час, держа в руке пару серебристых сандалий, в мою дверь проскользнула тень.
– Я натерла ноги, – пояснила Сабина. – Как я ненавижу эти сандалии!
– Тогда почему ты их носишь?
– Но ведь они красивые!
Я присел на кровати.
– Ты это нарочно подстроила?
– Что?
– Сама знаешь, что. Поединок.
– Может, и подстроила.
– Но зачем?
– Я подумала, что императору ты понравишься.
Мне тотчас вспомнилась императрица и ее холодные намеки.
– Зато я не понравился его жене.
– Плотине? – усмехнулась Сабина. – Думаю, что нет. Ей вообще никто не нравится. Особенно, если человеку весело.
– И как только императора угораздило жениться на ней? – вырвалось у меня. – Это все равно, что делить постель со статуей.
– При чем здесь это? – удивилась Сабина. – Она ведет дом и порой дает Траяну дельные советы. Он управляет империей и спит с симпатичными молодыми солдатами. Они прекрасно ладят, – Сабина покачала серебристыми сандалиями. – Пойми, Викс, такие браки, как у Кальпурнии с моим отцом, можно пересчитать по пальцам. Зато таких, как у Траяна с Плотиной, – большинство.
– Траян любит солдат? – Я выгнул брови. – Именно поэтому ты и решила, что я ему понравлюсь? Но ведь я не…
– Ты болван! Я подумала, что ты понравишься ему совсем по другой причине. Ведь если не считать солдат в постели, ты такой же, как он.
– Значит, я болван? – Я выпростал руку и, поймав Сабину за талию, резко привлек к себе. Она еще не переодела узкого серебристого платья, в котором была на пиру, а рядом с ее шеей по-прежнему переливалась гранатами длинная египетская серьга.
– Да, ты болван, который провел прекрасный поединок против императора, и тебе за это положен приз. – С этими словами она потянула серьгу и положила ее мне в ладонь. – Трибуны устроили драку из-за нее. Правда, зачем, не пойму. Но ты их победил, и она твоя.
– А ты?
– А что я? Я и так твоя, – усмехнулась она. – Я люблю тебя, Викс. Ты даже не знаешь, как сильно я тебя люблю.
Скажу честно, от этих ее слов мне сделалось не по себе. Я даже задумался о том, как бы мне выпутаться из всей этой истории. Потому что раньше таких слов я от нее не слышал. Нет, она вела со мной разговоры, но только не про любовь. Я задумался. Мне тотчас вспомнились мои собственные родители, то, как они постоянно разговаривали друг с другом – как будто между ними существовала некая неразрывная связь, которая сохранится даже после смерти. Кстати, отец Сабины и Кальпурния тоже постоянно разговаривали между собой. Значит ли это, что и мы?… Что наши с ней разговоры в постели значат нечто большее, чем просто смешки и шутки? Или они нечто такое, что затягивает человека в такую бездонную пучину, из которой ему потом уже не выбраться?
Я не знал, что на это ответить. Потому что не знал, что думал, что чувствовал, чего желал. Я вообще мало что знал, и вновь задумался о том, как мне выпутаться из всего этого. Но в следующий миг Сабина усмехнулась и вскарабкалась на меня, чтобы поцеловать. Я запустил пальцы в ее гладко зачесанные назад волосы и вытащил шпильки. Волосы каштановой волной рассыпались по ее плечам, а я вновь забыл обо всем на свете.
(обратно)
Глава 7
Сабина
– В этом году урожай невелик. Скоро и таких не будет.
Взяв из рук торговки фруктами плод граната, Сабина положила взамен в морщинистую ладонь монетку.
– Спасибо, Ксанта, что припасла для меня хотя бы один.
– А как же иначе, милая, – улыбнулась старая женщина и отвесила поклон. Поднеся гранат к носу, Сабина двинулась дальше. Немного вялый, но аромата не утратил.
– Ты знаешь торговку по имени, – заметил Адриан, идя с ней рядом. Не замедляя шага, он протянул ей небольшой серебряный нож, чтобы она могла вскрыть кожуру.
– Ксанту? Ну конечно. Я всегда покупаю у нее фрукты. Знать, как кого зовут, по-моему, это очень даже неплохо.
– Даже простолюдинов?
– Особенно простолюдинов, – Сабина отковыряла первое зернышко и отправила его в рот. – Мой отец знает всех своих клиентов по имени, и они готовы ради него на все. А посмотри на Траяна! Он знает по имени всех своих преторианцев и даже их семьи. Да что там, он помнит даже, какие клички центурионы дают своим лошадям.
– Пожалуй, – задумчиво согласился Адриан. – И это ему помогает.
Утро было холодным и неприветливым. Казалось, небо нахмурилось серыми тучами. Над Римским форумом ветер трепал матерчатые навесы: торговцы, сыпля себе под нос проклятиями, то вели сражение с хлопающей, словно крылья, тканью, то догоняли, пытаясь поймать, сорванный ветром навес. Завернутая в розовую шерстяную паллу, Сабина неторопливо шла между прилавков. Адриан шагал с ней рядом – высокий и спокойный, в белоснежной тоге, старательно обходя подернутые рябью лужи. Позади них хмуро тащился стражник из дома Норбанов.
Разумеется, не Викс. Когда Адриан пришел к ней и предложил прогуляться по городу, Сабина нарочно выбрала одного из стражников постарше. Ей не хотелось, чтобы чуткие уши Викса ловили каждое слово в их разговоре, не хотелось ощущать на себе его колючий взгляд, всякий раз, когда Адриан брал ее под руку.
– Погоди, я куплю вот это. – Сабина остановилась рядом с кожаным мячом на прилавке какой-то торговки. Взяв мяч в руки, она подбросила его вверх и поймала. – Я его беру. Он мягкий. С ним будет играть малыш Кальпурнии, когда родится.
– Отличный выбор, госпожа, – похвалила ее лавочница. – Может, также возьмешь вот это кольцо. Пригодится, когда у малыша начнут резаться зубы.
– Спасибо. Помнится, Лин нам всем не давал спать.
С этими словами Сабина отправила в рот очередную пригоршню гранатных зерен, после чего поинтересовалась у торговки ее собственными детишками. Ей пришлось выслушать длинную историю о том, как любимая дочь торговки пошла на месяц раньше, чем все ожидали, в обмен на которую она предложила свой рецепт борьбы с воспаленными деснами:
– Моему младшему брату помогало лишь гвоздичное масло.
После чего в руки торговки перекочевало еще несколько монеток.
– У тебя это здорово получается, – заметил Адриан, когда они двинулись дальше, оставив торговку отпускать им поклоны.
– Это не сложно. Главное, проявлять к людям интерес.
– Лично мне люди не интересны, – признался Адриан. – Исключение оставляю лишь для умных.
– Знаю. Я тоже тебя не интересовала, пока ты не обнаружил, что у меня есть мозги, – с этими словами Сабина вручила покупки стражнику. – Но ведь можно изобразить интерес. И люди будут за это благодарны.
– Увы, я лишен твоих талантов, Вибия Сабина, – улыбнулась Адриан. – Мне всегда нелегко дается найти общий язык с кем бы то ни было.
– Для начала выучи имена, – посоветовала Сабина. – Улыбайся при встрече. Поговори с ними. Надеюсь, ты помнишь поправку, которую внес в Закон Корнелиев мой отец? Про продажных чиновников? А известно ли тебе, что надоумил его один наш вольноотпущенник, который разбирался во взятках как никто на свете. Рабы, вольноотпущенники, плебеи, честное слово, ты их недооцениваешь. А зря. У них можно многому поучиться.
– Пожалуй, – согласился Адриан. Его короткая борода была чуть светлее его темных волос, но если присмотреться, в ней можно было заметить золотистые волоски. – Или же я женюсь на тебе, и тогда ты станешь вместо меня очаровывать плебеев, рабов и вольноотпущенников.
– И как высоко ты оцениваешь это мое достоинство?
– Выше, чем твое приданое. Сестерции есть у кого угодно. Обаяние встречается гораздо реже.
Сабина отправила в рот очередное зернышко и запрокинула голову, чтобы полюбоваться полосатым африканским мрамором храма богини Согласия. Мимо нее, зябко кутаясь в паллу, торопливо прошла какая-то женщина с корзиной в руках, а за ней – двое детей.
– Вчера императрица Плотина пригласила меня во дворец. Помочь ей за ткацким станком.
– Она от тебя в восторге.
– А, по-моему, я ее разочаровала. Ткачиха из меня оказалась никудышная, челнок ходил вкривь и вкось, нити ложились неровно, а мое платье она сочла непристойным, потому что оно было без рукавов. Зато тебя она превозносила до небес. Любой наш с ней разговор рано и поздно сводился к тебе. Скажи, а правда, что, когда ты был ребенком, ты поделил ее сад на провинции и поочередно правил каждой из них. По ее словам, в одиннадцать лет ты уже имел правильно составлять документы. А еще она поведала мне о том, как в возрасте четырнадцати лет ты убил на охоте волчицу, а потом укрывался ее шкурой, пока та не облезла.
Адриан смущенно кашлянул.
– Ты знаешь, – поспешил добавить он, – что императрица скоро удостоится титула Августы? Это такая высокая честь. Траян пытался наградить ее им раньше, но она отказывалась. По ее словам, она ни за что не примет от сената звания Матери Рима, пока не заслужит эту честь своими делами.
– А, по-моему, она его заслужила давно. – Сабина подбросила в воздух гранатное зерно и поймала его ртом. – Она образцовая императрица. Выйди я замуж за Траяна, я никогда бы не стала, такой, как она.
– Ты? – удивился Адриан. – А что, такое могло случиться?
– Не совсем. Но когда умер Домициан, моему отцу предлагали занять его место.
– Что? – Адриан испуганно огляделся по сторонам. – Откуда ты это взяла?
– Почти все свое детство я провела, подслушивая под дверьми, – пояснила Сабина, запустив пальцы за новой порцией похожих на драгоценные камешки зерен. – Никто мне ничего не говорил, вот я и подслушивала. Что еще мне оставалось? Ты не поверишь, какие вещи я узнала… Ну а стань мой отец императором, он бы усыновил Траяна как своего наследника, а чтобы скрепить их союз, выдал бы меня за Траяна замуж. Таким образом, Траян мог бы стать моим мужем. А так он просто мой дальний родственник. Но мой отец отказался от императорской тоги, так что теперь Матерью Рима Траян назовет Плотину, а знаки внимания мне оказываешь ты.
– О боги, – пробормотал себе в бороду Адриан. – Надеюсь, ты не рассказываешь эту историю первому встречному.
– Нет конечно. Поверь, держать рот на замке я умею. К тому же, я даже рада, что не стала императрицей. Раньше я об этом мечтала – как и все девушки. Я и сейчас думаю, что в некотором смысле это очень даже интересно. Но, с другой стороны, стать императрицей – это значит, быть ею всю свою жизнь. А мне бы не хотелось до конца моих дней сидеть во дворце, пусть даже с диадемой на голове. Впрочем, по-моему, супруг из Траяна был бы неплохой. Я его просто обожаю.
– Этих простодушных солдат легко любить, – буркнул Адриан.
– Я бы не назвала его простодушным! – с жаром воскликнула Сабина. – Траян умеет одной рукой держать в узде сенат, а другой – легионы. Согласна, на первый взгляд он кажется простодушным солдатом, но разве простодушный солдат смог бы мастерски уравновешивать интересы?
– А, по-моему, ему в первую очередь следовало бы навести порядок в управлении, и лишь затем думать о расширении границ, – менторским тоном произнес Адриан, каким он обычно рассказывал Сабине про греческих философов, независимо от того, была она знакома с их трудами или нет. – Ему следует уделять больше внимания строительству – возводить храмы, акведуки, новый Форум. Я говорил ему об этом не менее сотни раз, но он пропускает мимо ушей мои советы. Они ему безразличны. Впрочем, как и я сам. Да ты сама это видела, на пиру в вашем доме. Когда твой стражник выставил меня посмешищем.
На мгновение лицо Адриана превратилось в каменную маску.
– Я бы не сказала, что Траян тебя не любит, – сказала Сабина, лишь бы отвести разговор подальше от Викса. – Просто он человек горячий, порывистый. А ты сдержанный, хладнокровный. А горячее и холодное не смешиваются.
«Как, например, Викс и Адриан, – мысленно добавила Сабина. – А вот я, хотя хладнокровия мне не занимать, отлично лажу с Виксом. Но об этом лучше не думать, по крайней мере не сейчас».
– В любом случае, – продолжила она вслух, – даже если Траян и не слишком благоволит тебе, зато Плотина тебя обожает. А к ней он прислушивается. Вот увидишь, твои строительные планы от тебя не уйдут.
– Украшать город, чтобы затем его покинуть! – воскликнул Адриан. Эти слова вырвались так, как будто внутри него прорвало плотину. – Провести полжизни в сенатских дебатах, произносить речи, надзирать за чиновниками,
проверять счета, и это при том, что в мире так много интересного! Сколько удивительных вещей можно посмотреть: разливы Нила, дельфийскую пифию, укутанные туманом горы Бригантии, о которых ты мне рассказывала! – Теперь Адриан говорил с жаром, размахивая руками, как то обычно бывало, стоило ему оседлать своего любимого конька. – А храм Артемиды в Эфесе! А непроходимые леса Дакии!
– И ты надеешься все это увидеть? – спросила Сабина. – У Плотины большие планы в том, что касается твоего будущего.
– Верно, – согласился Адриан, придирчиво рассматривая ноготь большого пальца. Какое-то время они молча шагали рядом. – Императрица действительно лелеет относительно меня большие планы, – осторожно добавил он, придерживая от ветра белоснежные складки тоги. – И я стараюсь не вступать с ней в споры. В конце концов это ведь она вырастила меня, и я ей многим обязан.
– Многим, – согласилась Сабина. – Но не всем.
Они вновь умолкли. Мимо них, слегка пошатываясь под тяжестью корзины, которую она тащила на плече, прошла чернокожая рабыня-нумибийка. Выйдя на нетвердых ногах из винной лавки, к ней подскочил какой-то моряк, но она оттолкнула его плечом. Рядом, разложив под дождливым небом свои таблицы, стоял астролог, с умоляющим видом призывая прохожих узнать, какое будущее пророчат им звезды. Сабина замедлила шаг.
– Может, нам стоит прочесть твои звезды? Чтобы тебе не мучиться вопросами по поводу твоего будущего. Если, конечно, ты веришь предсказаниям астрологов.
– Верю.
– И после этого ты называешь себя рассудительным.
– Когда я впервые надел тогу взрослого мужа, бывший астролог Домициана, Несс его имя, составил мой гороскоп, – задумчиво произнес Адриан. – Его предсказание было таким странным, что я даже не знал, как к нему отнестись. После этого я при первой же возможности, на всякий случай прошу астрологов прочесть мои звезды, и все они как один говорят одно и то же.
– Неужели? – удивилась Сабина. – Так вот что ты имел в виду в студии дяди Париса, когда сказал мне, что тебе уже известно твое предначертание. И что же это такое?
– Что ни один смертный не увидит такой широкий мир, какой увижу я. Так что, думаю, Плотина будет сильно разочарована. Предсказанная мне судьба плохо вписывается в ее планы, – ответил Адриан и посмотрел на Сабину. На этот раз в его взгляде не было ни высокомерия, ни снисхождения, лишь серьезная задумчивость, в глубине которой пылал огонь. – Ты могла бы вместе со мной объездить мир.
Сабина несколько мгновений смотрела ему в глаза, затем перевела взгляд на гранат. Зря она не посчитала съеденные зерна. От сока ее пальцы были розовыми, как у богини зари.
– Скажи, сколько, по-твоему, зерен в гранате?
– Примерно шестьсот, – не раздумывая, ответил Адриан. Такие вещи он знал наизусть.
– Я съела примерно две трети, – сказала Сабина. – И если взять за основу миф – одно зернышко за каждый месяц ее замужества за Плутоном – это дает нам тридцать пять лет вместе. Как ты думаешь, нам их хватит на то, чтобы объездить и посмотреть целый мир?
Викс
Я не нашел Сабину ни в ее комнате, ни в библиотеке, ни в атрии. В конце концов, я обнаружил ее в самом дальнем уголке сада. Она сидела на скамейке перед выключенном на зиму фонтаном, накинув на плечи голубую паллу, и держала на коленях наполовину скрученный свиток. К этому моменту я уже порядком рассвирепел, поэтому подойдя ближе рявкнул:
– Значит, Адриан?
– Приветствую тебя, Викс, – ответила Сабина и, пометив в свитке пальцем место, где читала, подняла на меня глаза. – Ты мог бы прийти и раньше. Здесь ужасно холодно. Но я решила найти для тебя местечко, где ты можешь рявкать, сколько тебе угодно.
Я не позволил ей увильнуть от ответа.
– Так ты выходишь замуж на Адриана?
Эту новость я узнал от одной рабыни, когда я вернулся из Капитолийской библиотеки, куда меня отправил с поручением хозяин.
– Адриан, это холодная, самодовольная рыба.
– Неправда, он не холодная рыба, – задумчиво ответила Сабина. – Разве что придется привыкнуть к бороде.
– Но почему? – взорвался я.
– Я привыкла целоваться с тобой. Но у тебя нет бороды, так что в первое время будет довольно странно…
Я выхватил у нее из рук свиток и бросил его в фонтан. Но поскольку тот замерз, то свиток лишь упал на лед и развернулся. А жаль, я бы предпочел, чтобы он намок.
– Извини, Викс, – виноватым голосом сказала Сабина. – Я дразню тебя, хотя, наверно, зря. Да, я выхожу замуж за сенатора Адриана. Скажи, почему я не должна этого делать?
– Почему не должна? – переспросил я, не зная, что сказать.
– Но ведь должна же я за кого-то выйти замуж.
Она стояла передо мной под холодным зимним солнцем – такая крошечная, с распущенными волосами. Почти такая, какой я ее видел впервые.
– Что ты предлагаешь мне взамен? Навсегда остаться в стенах этого дома? Читать, играть с Лином и Фаустиной? Или стать весталкой? Увы. Поздно, и для первого, и для второго, и третьего. Настало время, и я должна выйти замуж. Думаю, Адриан не хуже других. А может, даже лучше.
Я поймал себя на том, что как загнанный зверь мечусь туда-сюда у фонтана, не в силах устоять на одном месте.
– Но почему?
– Потому, что он хочет посмотреть мир. Он сказал, что после свадьбы мы с ним уедем посмотреть Афины, Фивы… Возможно, Египет. Куда угодно. – Она обвела глазами сад, как будто уже видела пирамиды, греческие храмы, изящные корабли, что отвезут ее к ним. – Это куда лучше, чем выйти за какого-нибудь зануду-претора, которому не нужно ничего, кроме детей и званых обедов. Рим мы оставим политикам, а сами уедем с ним посмотреть мир.
– А если эта стерва императрица настоит на своем? – бросил я ей. – Вот увидишь, она постарается прибрать тебя к ногтю. Будет десять раз на дню проверять, чем ты занята, хороша ли ты для ее дорогого Публия. Если тебе хочется посмотреть мир, мой тебе совет – выйди замуж за кого угодно, а не за этого маменькиного сынка, который перед тем, как куда-то уехать, будет испрашивать у нее разрешения.
– С Плотиной я как-нибудь разберусь, – возразила Сабина. – Что касается ума, ей далеко до жены Домициана.
– А как же я? – вырвалось у меня. – Кто для тебя я? Игрушка, и все?
– Нет, не только игрушка. – Сабина плотнее закуталась в голубую паллу. – А ты на что рассчитывал, Викс? Чего ожидал? Ты что, рассчитывал на мне жениться? Или ты забыл, что такие браки запрещены законом? И даже будь они не запрещены, скажи я, что хочу за тебя замуж, как ты тотчас бы начал воровато оглядываться по сторонам, как бывает всякий раз, когда тебя загнали в угол, а под утро, захватив под мышку плащ, вообще дал бы стрекача. Разве не по этой причине ты покинул Британию? Что какая-то девушка хотела за тебя замуж?
Я пропустил ее вопрос мимо ушей в надежде найти почву потверже.
– Ты пользовалась мной.
– Для собственного удовольствия, точно так же, как ты – мной, – невозмутимо ответила она. Ее голос был само спокойствие. – Ты жалеешь об этом?
– А сейчас ты получишь удовольствие в последний раз, – с этими словами я резко дернул ее к себе. Одна рука тотчас зарылась в ее волосах, другая – грубо легла ей на грудь. – Ты думаешь, что Адриан даст тебе что-то подобное? Может, тебя это удивит, но если он когда-либо и проявит к тебе интерес, то только сзади.
Я бросил ей это в лицо, как плевок, этот мой вывод, который я сделал в тот самый первый день, когда увидел Адриана.
– Можно подумать, я не вижу, как этот ублюдок таращится на рабов, когда приходит к тебе в гости. Причем смотрит он не на девушек. Я сам удостоился от него пары взглядов, когда был без туники. Твой Адриан предпочитает юношей.
– Я знаю, – фыркнула Сабина.
Мои руки тотчас отпустили ее. Я чувствовал тебя круглым дураком.
– Разумеется, я знала это, Викс. Кальпурния в самом начале сказала мне, что Адриан содержит любовника. Двадцатилетнего танцора, если быть точной. И он гораздо красивее меня. – Сабина вновь опустилась на мраморную скамью. – Иначе почему они с отцом поначалу отнеслись к его ухаживаниям с подозрением? Им хотелось, чтобы я нашла себе мужа, который бы любил меня, который дал бы мне детей. Но дети мне не нужны, как не нужна и любовь мужа. Днем Адриан будет брать меня в путешествия, а ночью оставлять меня в покое. Мы будем с ним друзьями, и это меня устраивает.
Мне показалось, будто в меня швырнули булыжником. Я размышлял над этим вопросом с той самой ночи, когда сенаторская дочка затащила меня к себе в постель.
– Так вот почему тебе понадобился я? Адриан тебе нужен как муж, а я как жеребец?
– Адриан как муж, – поправила меня Сабина, – ты – как тот, кого я люблю.
– Думаешь, я тебе поверю? Даже не рассчитывай, – засунув руки за пояс, как будто опасался придушить ее, я вновь заметался из стороны в сторону.
– Я знала, что толку от Адриана в постели не будет, – спокойно ответила Сабина. – И я подумала, что ты обучишь меня постельным утехам. Сразу догадалась, что у тебя в этом отношении богатый опыт. А еще у меня было предчувствие, что тебя полюблю, что даже к лучшему.
– Странная, однако, любовь, – огрызнулся я, все так же меряя шагами сад.
– Это почему же? – Сабина сделала невинные глаза. – Мне, Викс, как и любой девушке, хочется любви. Чего я не хочу – так это, чтобы эта любовь принуждала меня к чему-то. Адриан как муж явно не станет этого делать. Да и ты тоже, как любовник. Тем более что ты собрался пойти в легионы.
Почему-то эти ее слова разъярили меня еще больше.
– Я не собираюсь ни в какие легионы! – гаркнул я.
– Неправда. Это написано на твоем лице. Из таких, как ты, и состоит армия. – Сабина поднялась со скамьи и обняла меня за шею. – Возможно, ты завоюешь для Рима несколько новых провинций. Весь город будет выкрикивать твое имя, осыпать тебя лепестками роз.
Я схватил ее за запястье, не давая подойти ближе:
– Прекрати!
– У меня даже в мыслях нет соревноваться с тобой, Викс. Ни малейшего желания.
– Прекрати!
– И я не пойму, чем ты так расстроен, – удивилась Сабина. – По идее, расстраиваться должна я. Я только что сказала, что люблю тебя, ты же ни слова ласкового не сказал мне в ответ.
– После того как ты использовала меня? – огрызнулся я.
– Кто кого использовал, Викс? Я каждую ночь приходила к тебе, ложилась в твою постель, любила тебя, ничего не прося взамен. Мне казалось, тебя это более чем устраивало.
Я вновь сделал вид, что не услышал ее.
– Если ты думаешь, что позволю тебе хотя бы одной ногой шагнуть в мою комнату…
– Хорошо, если ты не хочешь, я не приду, – вздохнула Сабина. – Правда, хотелось бы надеяться, что ты передумаешь. До моей свадьбы остается месяц. И я бы хотела провести его с удовольствием.
Я отшатнулся и ткнул в нее пальцем:
– Сабина, – я впервые назвал ее по имени, и мне не пришлось делать над собой никаких усилий, – да я теперь никаким рожном
[295] тебя не коснусь.
– Интересно, – отозвалась она. – Откуда пошло это выражение. Почему именно рожном? Каким рожном? Почему не жезлом или копьем? Надо будет посмотреть в книгах.
С этими словами она достала из замерзшего фонтана свиток и зашагала прочь. Я посмотрел ей вслед. Я стоял, сжимая и разжимая кулаки, как неожиданно мне вспомнилось что-то такое, что Адриан сказал императрице.
Пусть Сабина ни в чем не была похожа на свою гадюку-мать, зато она умеет точно так же, как и та, гордо покинуть комнату. Или в данном случае сад. Впрочем, с тем же успехом эта маленькая стерва могла покинуть и мою жизнь. Они с Адрианом были достойны друг друга.
Когда же тем вечером она вновь постучала в мою дверь, не говоря ни слова, я – хотя и поклялся, что никогда этого не сделаю, пусть она ползает передо мной на коленях, – открыл засов, и она скользнула в мои объятья, как будто бы ничего не случилось.
– Прости, если я сделала тебе больно, Викс, – раздался в тишине ее шепот. – Ты ведь знаешь, до тебя я никого не любила и потому поступила неправильно. Если хочешь, я уйду.
– Нет, – прохрипел я не своим голосом.
Той ночью я использовал ее как только хотел: туго наматывал на руку ее волосы, впивался ей в губы поцелуем, пока те не распухли, нарочно оставил у нее на шее несколько меток.
– Давай, объясни своему жениху, откуда они у тебя, – прошептал я свирепым шепотом, но она лишь сильнее сжала объятья.
– А теперь можешь идти, – сказал я, насытившись ею. – Ты получила то, зачем пришла.
А в следующий миг в темноте раздалась ее усмешка – та самая, которая мне так нравилась.
– И все же я люблю тебя, Викс, – сказала она, собирая одежду. – Честное слово, люблю.
Плотина
– Вот видишь, все получилось просто замечательно, – довольно произнесла Плотина. – Как я и говорила. У дорогого Публия теперь есть невеста, и он преодолел первую ступеньку на пути к успеху. Мы ведь обе знаем, куда он его приведет?
Массивная статуя ответила ей благосклонным взглядом безжизненных мраморных глаз.
В Риме было немало статуй небесной царицы, но Плотина предпочитала именно эту, стоявшую на Капитолийском холме в храме ее супруга Юпитера. Эта Юнона не была покровительницей женщин и брака, взирающей на молящихся как добропорядочная жена, когда те просили у нее мужей и детей. Эта богиня восседала на массивном троне рядом с Юпитером, строгая и прекрасная в своей диадеме и плаще из козьей шкуры – Юнона, императрица небожителей, точно так же, как Плотина была императрицей смертных.
Плотина пришла в храм сразу после того, как узнала новость. Жрец тотчас же выставил вон других посетителей храма, чтобы она могла побеседовать с богиней с глазу на глаз. Но молиться она не стала, лишь опустилась на холодную мраморную скамью, стоявшую на возвышении, и, устало прислонившись к боку огромного мраморного трона, на котором восседала богиня, подняла на нее глаза и сообщила долгожданное известие. Они прекрасно поняли друг друга, Юнона и Плотина.
– Малышка Сабина будет мне как дочь, – сказала императрица своей небесной сестре. – Как только до меня дошло это известие, я послала ей жемчужное ожерелье, в знак того, что теперь она вошла в нашу семью. Я возьму ее под свое крыло, ради моего дорогого Публия. Она научится смешивать для него вино, узнает его любимые блюда, как нужно держать в узде рабов, чтобы те не позволяли себе вольности, и будет вести дом. Пока что она не слишком прислушивается к моим советам.
Мысли Плотины на какой-то миг вернулись к тому моменту, когда Адриан привел во дворец свою избранницу.
– Моя дорогая девочка! – воскликнула тогда Плотина, целуя Сабину в обе щеки. – Ты даже не представляешь, как я счастлива. Ты станешь для меня дочерью, которой у меня никогда не было. Разумеется, брачную церемонию я беру на себя, а после свадьбы вы поселитесь во дворце, пока не будет готова подобающая вам вилла. Скажу честно, дом дорогого Публия совершенно не готов к тому, чтобы принять молодую жену.
– Думаю, новая вилла нам не понадобится, – ответила Сабина и посмотрела на Адриана, нежно положившего ей на плечо руку. – Потому что мы отправляемся в Грецию. А после нее, кто знает?
– Он говорит, что после свадьбы увезет ее в Грецию, – доверительно сообщила богине Плотина. – Якобы для того, чтобы поработать там год магистратом. Но ведь это же полный абсурд! Он нужен здесь, в Риме, если он хочет, чтобы его карьера, которую я ему прочу, неуклонно шла вверх. Как бы хотела – как только подойдет возраст – видеть его консулом. Но, скажи, как такое может случиться, если он будет прохлаждаться в Афинах?
Юнона с сочувствием посмотрела на нее.
– У тебя ведь есть сыновья, – сказала Плотина. – И тебе ли не знать, как нелегко порой матерям с молодыми людьми. Дорогой Публий вбил себе в голову, будто ему хочется посмотреть мир. Скажи, какая польза от этого его карьере? Мечтать о том, чтобы уехать из Рима, можно и позже, когда он станет консулом. Всегда найдется свободная провинция, которой требуется наместник, например, Египет. Думаю, Траян не станет возражать. Ведь теперь Публий полноправный член нашей семьи.
Плотина нахмурилась. Единственным темным пятном на ее счастье был ее собственный муж. Похоже, что известие о предстоящем браке не слишком обрадовало Траяна.
– Малышка Сабина достойна большего, – буркнул он.
– Ты говоришь большего? – возмутилась было Плотина, но Траян довольно грубо оборвал ее: – Сколько можно, Плотина! Я устал слушать твое нытье. Согласен, Адриан – способный молодой человек, так что воспрепятствовать этому браку я не стану. Но это отнюдь не значит, что я проникся к нему какой-то особой любовью. И не жди, что я отнесусь к нему как к сыну, лишь потому, что он сумел-таки найти лазейку, чтобы стать членом нашей семьи.
С этими словами Траян – явно в дурном настроении – удалился. Плотина не стала вступать с ним в пререкания. Пусть злится, если ему так нравится.
– Мужья, они все такие, – вздохнула она, обращаясь к Юноне. – Им лишь бы найти повод.
Юнона ее поняла.
– По крайней мере мой супруг никогда не подвергал меня таким унижениям, как тебя – твой. – Плотина оперлась локтем о пьедестал и откинула голову, глядя на массивную статую Юпитера в центре храма. – Смертные женщины и незаконные дети – честное слово, с этим я не стала бы мириться даже на минуту. Но Траян предпочитает сильных, молодых солдат, и меня они не беспокоят.
Нет, она не всегда была такой нетерпимой. Первые дни ее замужества принесли с собой в основном разочарование. Нет, ей было прекрасно известно, что, будучи холостяками, мужчины порой имеют странные предпочтения, что, однако, не мешало им выполнять свой долг по отношению к женам. Порой они вообще отказывались от своих старых привычек. И Плотина набралась терпения и ждала. Впрочем, терпение постепенно начало иссякать, но она все равно ждала. Ждала до того самого момента, когда Траян сказал ей те слова, сказал мягко и сочувственно, за своим обычным утренним блюдом с грушами. Как будто эта мягкость была способна уменьшить ее унижение.
– Если ты считаешь, что я когда-нибудь заведу себе любовника, – холодно ответила ему Плотина, – значит, ты просто не знаешь меня. И мне обидно, что ты предлагаешь мне такие вещи. Слышишь, обидно!
– Клянусь Хароном, Плотина!
– Впрочем, если об этом зашел разговор, так даже лучше.
– Я просто желаю тебе счастья, вот и все, – попытался взбодрить ее Траян. – Посмотри вокруг, почти все так делают, и они счастливы!
Больше он о таких вещах не заговаривал. Более того, чтобы загладить свою вину перед ней, став императором, тотчас же предложил сделать ее Августой. На что Плотина ответила ледяным отказом.
– Если ты считаешь, что я из тех жен, для кого брачный обет ничего не значит, – заявила она ему своим самым холодным тоном, – то я не достойна титула Августы.
Траян не стал продолжать этот разговор, хотя потом каждый год возвращался к нему. В этом году Плотина решила, что, пожалуй, примет его предложение. Почему бы нет? Ведь кто она, как не Мать Рима. Так почему бы не сделать этот титул официальным?
– Дорогой Публий гордится мной, – сказала она Юноне. – Все мои достижения – это его достижения, и наоборот. Жаль, правда, что в некоторых вещах он пошел по стопам Траяна, хотя, кто знает. Я дала ему ясно понять, что он просто обязан выполнить свой долг по отношению к Сабине. Но первой женщиной в его сердце все равно буду я, как и полагается матери.
Юнона согласилась с ней.
– Думаю, Сабина сама это поймет и не станет спорить. Тем более что дети сделают свое дело – по крайней мере три сына. Дорогому Публию нужны наследники. Ведь в один прекрасный день он станет императором Рима.
Юнона одобрила.
Плотина встала и отряхнула юбки.
– Боюсь, моя дорогая, что мне пора. – С этими словами она нежно похлопала каменную сандалию богини, которая находилась на уровне ее глаз. – Мне еще нужно заняться свадьбой, а потом я сделаю все для того, чтобы эта поездка в Грецию не состоялась. Право, что за взбалмошная затея!
Плотина набросила на голову вуаль и, скромно приподняв подол платья, спустилась вниз по ступенькам храма Юпитера. Когда ее мальчик, ее дорогой Публий, облачится в императорскую тогу, можно будет придать лицу статуи его черты. А Юноне – ее собственные. Сабина? Ее лицо подойдет какой-нибудь второстепенной богине, например, Весте.
Плотина знала каждый шаг, какой предстоит сделать ее дорогому Публию. Легат, во время предстоящей войны Траяна в Дакии. Затем наместник какой-нибудь провинции (Галлии?). Затем консул, затем префект Египта и в конце концов… император. Император Публий Элий Адриан. На этот счет сомнений у нее не было. Как и у Юноны.
Тем более что Юнона – это в некотором смысле она сама.
Викс
– Нам будет тебя не хватить, Викс, – Кальпурния отложила в сторону распашонку, которую она вышивала для будущего младенца. – Скажи, может, ты все-таки передумаешь?
– Нет. Я благодарен вам за все. Кстати, передай сенатору мое большое спасибо. – Я потоптался на месте. – И вообще не мое это – быть стражником.
– Сообщи нам, как у тебя дела. – Кальпурния протянула мне кошелек. – А это тебе за твою службу в нашем доме. Может, все-таки подождешь часик? Муж только что ушел с Сабиной в Капитолийскую библиотеку.
– Нет, мне пора. – Я нарочно выбрал такой момент, когда Сабины с отцом не было дома. – И еще раз огромное всем вам спасибо.
День был сырой и холодный, но я решительно шагнул за ворота дома Норбанов. Вот и все. Прощай, моя работа. Прощай, все мои надежды, связанные с этим городом. Сегодня, когда отшумели Агоналии, он показался мне серым и унылым, лишь в канавах валялись брошенные флажки, или нога задевала на мостовой увядший и смятый венок. Редкие прохожие брели понуро, с кислыми лицами. Я мог поспорить, что вчерашнее веселье наутро обернулось для многих похмельем и головной болью. Домохозяйки тоже были не рады, ведь сколько и грязи и мусора предстоит сегодня убрать!
В общем, веселого всем нового года.
Прошлый новый год я встречал в доме моего отца в Бригантии. Шумный, веселый праздник. Хотя мать моя иудейка, однако, прожив большую часть жизни в Риме, она уже давно не соблюдала обряды предков. Что до отца, то любая вера в какие бы то ни было небесные силы покинула его еще в те дни, когда он сражался на арене Колизея. Но праздник есть праздник, и в нашем доме било ключом веселье, с пивом, жареным мясом, играми и забавами. Мы с отцом даже устроили во дворе шутливый поединок на деревянных мечах. Мать и сестры стояли рядом, подбадривая нас, а мой младший брат решил по такому случае в первый раз пойти своими крепкими ножками. Затем к нам пришли соседи, и мы долго сидели с ними за праздничным столом. Этот новый год был для меня не столь веселым. Я плотнее завернулся в плащ и побрел в сторону Субуры, в надежде выпросить у моего прежнего хозяина комнату. Полкошелька монет, полученных от Кальпурнии, сделали свое дело, и я решил, что есть смысл как можно быстрее избавиться и от второй половины.
В ту ночь я напился. Переспал с какой-то девицей, затем со второй, представляя себе, как страдает Сабина. Так ей и надо, изменнице.
– За сучек-патрицианок! – крикнул я, поднимая кубок, и за мной вместе выпило полтаверны. Оставшиеся деньги я спустил быстро, и как раз рылся на дне сумки, надеясь наскрести на выпивку еще пару монет, как моя рука нащупала какую-то вещицу. Ею оказалась длинная, украшенная гранатами серебряная серьга, которую вручила мне Сабина. Я несколько мгновений смотрел на нее, глядя, как играют и переливаются драгоценные камни, готовый бросить ее на стол в качестве оплаты. Но нет, она стоила гораздо больше, чем выпитое мною вино, я же был не настолько богат, чтобы позволить себе столь широкий жест. Так что если и расставаться с серьгой, то лишь получив взамен ее полную стоимость.
– Нет, сначала я развлекусь как следует, и лишь потом, – с этими словами я убрал назад подарок Сабины.
Когда я, шатаясь, вышел из таверны, уже было далеко за полночь. Кроме того, прожив почти год в доме сенатора Норбана, я, похоже, забыл главное правило Субуры: никогда не ходи один.
– Это тебе от трибуна Адриана, – рявкнул за моей спиной грубый голос, вслед за чем мне в затылок врезался увесистый кулак. Я рухнул на колени.
Я попытался дать сдачи, но нападавших было как минимум пятеро, я же был так пьян, что едва стоял на ногах. Трое держали меня, пока другие двое избивали кулаками. К тому моменту, когда эти негодяи, наконец, выдохлись, у меня был сломан нос и несколько ребер. Лицо превратилось в один сплошной синяк, так что даже родная мать вряд ли бы узнала меня. Тогда они бросили меня, и еще несколько минут били меня ногами. Когда же я попробовал свернуться клубком, защищая грудь и живот, чья-то рука схватила меня за волосы и дернула мою голову назад.
– В следующий раз дважды подумай, прежде чем выставлять человека на посмешище перед самим императором, – произнес он явно заученные наизусть строки. – Особенно, если человек этот – трибун Адриан.
– Скажи своему трибуну, что его невеста потаскуха, – пробормотал я. – Что я почти год имел ее по три раза за ночь.
Увы, мой рот был полон крови, а эти головорезы уже шагали прочь. Я какое-то время лежал на мостовой, сплевывая кровь. Спустя какое-то время ко мне подбежали уличные мальчишки и сняли с меня сандалии и плащ. Да, не слишком вдохновляющее начало.
Тит
Тит заморгал и посмотрел вниз.
– Приветствуя тебя, – сказал он. – Что ты здесь делаешь?
– Подними меня, – сказала маленькая девочка тоном, не допускающим возражений, и вновь потянула его за рукав. – Я тоже хочу посмотреть.
Тит наклонился и поднял с пола маленькую, золотоволосую девчушку в вышитом голубеньком платье.
– Что ты здесь делаешь? Мне казалось, ты должна быть дома.
– А вот и нет, я должна быть здесь. Меня зовут Антония, и мою маму пригласили на свадьбу…
– Неправда, маленькая лгунья. Ты Фаустина, младшая сестра Сабины, и я точно слышал, как после свадебного пира мать сказала тебе, что ты еще слишком мала, чтобы шагать вместе со всеми во время брачной процессии.
Пойманная на вранье, Фаустина насупилась.
– Но я хочу посмотреть!
– Ну, идем, – ответил Тит, усаживая пятилетнюю Фаустину себе на правую руку, и вновь поспешил присоединиться к процессии, которая уже выстроилась возле дома Норбанов. Сам сенатор сиял от гордости, шагая рядом с паланкином супруги, которую он нежно держал за руку. К сожалению, накануне у Кальпурнии распухли ноги, и она заявила, что не в состоянии сделать даже шага, не говоря уже о том, чтобы пройти милю до дома их новоиспеченного зятя. Рабы с улыбками на лицах освещали факелами дорогу, и по змеившейся вдоль улицы процессии играли пестрые тени. Любые слова тонули в общем гуле голосов. Трибун Адриан стоял с торжествующим видом и, слегка откинув назад массивную голову, разговаривал с императрицей Плотиной. По другую сторону от него стояла крошечная фигурка в шафрановом одеянии: его невеста. Она улыбалась гостям из-под алой вуали, и в свете факелов казалось, будто та пылает пламенем.
– Мне нравится ее алая вуаль, – с серьезным видом заметила Фаустина, сидя на руках у Тита. – Сабине идет красный цвет.
– Ты права, – согласился с ней Тит.
Под музыку и пожелания счастья, процессия двигалась вдоль улицы. Рабы распевали свадебные куплеты, порой откровенно похабные. Всякий раз, услышав очередную непристойность, императрица Плотина возмущенно хмурила брови. Адриан шагал рядом, бросая в толпу орехи – символ достатка и процветания. Сабину сопровождали три мальчика-раба – двое шли по бокам от нее, третий – впереди, освещая им путь факелом. Завидев свадебную процессию, прохожие останавливались, махали руками, выкрикивали добрые пожелания. Тит тащился в самом хвосте, с Фаустиной на руках. Девчушка вытягивала шею и смотрела во все глаза.
– А вот и дом! – радостно воскликнула она. – Сейчас он перенесет ее через порог. Так мне сказала мама. А еще она сказала, что когда они с папой поженились, она не хотела, чтобы он переносил ее через порог, потому что у него больное плечо, но он сказал, что как-нибудь справится. У него до этого было две жены, но он даже не пытался их взять на руки, и видишь, чем все кончилось! А вот маму он через порог перенес…
Тит понаблюдал, как жрецы, бормоча молитвы, освятили порог нового дома Сабины. После чего Адриан вручил кому-то корзину с орехами и шагнул к невесте. Сабина улыбнулась ему и протянула навстречу руки. Он поднял ее, словно перышко, и даже слегка подбросил вверх. Толпа тотчас разразилась ликующими криками. Адриан перенес молодую жену через порог, а вслед за ним в дом устремились гости.
– Думаю, мы больше ничего не увидим, – сказал Тит малышке Фаустине. – Если мы войдем, нас тотчас же обнаружит твоя мать. Так что советую тебе вернуться домой и лечь в кровать, пока нас с тобой никто не заметил.
Фаустина нехотя кивнула в знак согласия. Тит пересадил ее на другую руку и, подозвав одного из факелоносцев, зашагал назад, к дому Норбанов. Уже стемнело, лишь на западе, там, где только что село солнце, через все небо пролегла пурпурная полоса.
– Ты какой-то грустный, – неожиданно сказала Фаустина, когда они завернули за угол и дом Адриана скрылся из вида.
– Я? Неужели? – Тит попытался изобразить улыбку.
– Да, ты, – серьезно ответила Фаустина. Ей очень шло, когда она хмурилась, эта светловолосая малышка с курносым носиком. В ней не было ничего от Сабины.
– Наверно, ты права, Фаустина.
– А почему?
– Потому, что я люблю твою старшую сестру.
«Вот я и сказал это вслух», – печально подумал Тит. Ему было трудно в этом признаться даже себе.
– Скажу больше, я люблю ее до безумия, и вот теперь она вышла замуж за другого.
Фаустина вновь насупилась.
– Она могла бы выйти замуж за тебя.
– Я был бы только рад. Но она не захотела. И, наверно, она права. Мы плохо подходим друг к другу. Адриан, он видный, красивый. И он откроет ей целый мир. Скажи, я могу кому-нибудь дать целый мир? Я, никчемный зануда? Все, что мог бы ей дать, – это скучную, однообразную жизнь здесь, в Риме.
– Давай, я выйду за тебя, – предложила Фаустина.
Тит взъершил ей волосы.
– Ты выйдешь замуж за принца, Фаустина, или даже за императора. За того, кто гораздо лучше меня.
Вскоре она уже дремала у него на плече. Тит на цыпочках внес ее в сгущающуюся темноту дома Норбанов.
– Положите ее в постель, – сказал он рабыне с факелом. – И, самое главное, помните, она никуда не выходила из дома.
– Не беспокойся, никто ничего не узнает. – Рабыня нежно погладила головку девочки. – Нехорошо выдавать малышку.
– Она больше не малышка, – криво усмехнулся Тит. – Теперь она единственная дочь в доме.
– Твоя правда. А ведь помню, когда госпожа Сабина еще была такой.
С этими словами рабыня унесла Фаустину в дом. Она лишь на мгновение разбудила девочку, и та из-за ее плеча сонно помахала Титу на прощание ручкой. Тит помахал ей в ответ, развернулся и, с трудом сдерживая слезы, побрел прочь. Перед глазами его стояла одна и та же картина: Сабина на полу библиотеки, лежит, задумчиво подперев кулачком подбородок. Затем поднимает на него глаза и говорит:
– Только не это. Еще один.
– Ты не любишь его, – сказал он ей сквозь тени. – А он не любит тебя.
Но так ли это важно? Большинство браков заключаются отнюдь не по любви. Куда важнее такие вещи, как деньги, связи, возможность сделать карьеру. Или в случае Адриана и Сабины – жажда приключений.
«У тебя все не так, как у всех, Сабина, – подумал Тит, – потому что ты сама не такая».
Впрочем, то же самое относится к Адриану. В отличие от Тита, глядя на Нил, Адриан не подумал бы о крокодилах. Он подумал бы о приключениях. Адриан, не моргнув глазом, зашагал бы по диким горным пустошам Бригантии или крутыми горными тропами Дельф, чтобы своими глазами увидеть пифию. Во время свадебного пира он заявил об этом своем желании во всеуслышание. Тогда Сабина достала монетку и предложила заключить пари, кто первым достигнет вершины – он или она. Адриан улыбнулся ей, однако пари принял. Сабина же наклонилась к нему и поцеловала в щеку. За этот поцелуй Тит был готов отдать двадцать лет жизни.
А вот он его получил, хотя вовсе ее не любит.
Ну да ладно, лишь такие зануды и неудачники, как он сам, могли пребывать в уверенности, будто жену нужно любить. Тит перевел взгляд на ночное небо. Было уже темно, и сквозь укутавшую город дымку проглядывали звезды. Тит порылся в памяти, в надежде обнаружить цитату, что-нибудь из Вергилия, Катона или Гомера, элегантную цепочку слов, соединенных воедино гением, который мог в мгновение ока выдать нечто прекрасное и возвышенное. Увы, на сей раз память его подвела – в кои веки в его голове не нашлось ни единой цитаты. Зато там было полно Сабины: вот она с хрустом грызет яблоко, вот водит стилом по карте, вот она возлежит на пиршественном ложе, и рядом с ее шеей переливается украшенная гранатами серебряная серьга. Образы сменяли друг друга один прекрасней другого, и никакие слова, даже сказанные величайшими из поэтов, были бессильны передать его чувства.
– Неужели мне теперь страдать до конца моих дней? – вот и все, что он мог спросить у богов.
Викс
– Ты уже на две недели просрочил плату, – бросил мне хозяин гостиницы, недобро на меня глядя. – Живо гони монету.
– Попозже, – ответил я.
Прошел целый месяц нового года. Синяки на моем лице побледнели, а вот нос и ребра по-прежнему давали о себе знать. Что ж, нанятые Адрианом головорезы честно отработали свои деньги. Проклиная их на чем свет стоит и морщась от боли, я тем не менее вновь начал упражняться с мечом в тесном дворике гостиницы. Я как раз потрясал моим гладием, когда с покупками вернулись две прыщавые рабыни.
– Как хорошо, что нам вчера вечером не нужно было идти на рынок, – сказала одна из них. – Потому что из-за свадебной процессии было не протолкнуться, а она растянулась на целую милю.
– Сенаторская дочка? Ты видела ее платье?
Интересно, что это за свадьба? Неужели Сабины и Адриана? Я нарочно убедил себя, что не хочу знать точную дату. Но с того момента прошло несколько недель. Так что они наверняка уже муж и жена. И конечно же делят ложе. Интересно, подумалось мне, и как он ей, этот ее муж? В эту ночь я снова напился, хотя и не так сильно, как в первый раз. Я просто сидел, потягивая вино, глядя, как по улице расхаживают раскрашенные шлюхи, как в темных закоулках притаились грабители, как мимо на нетвердых ногах, шатаясь, бредут пьяницы. Затем я поднялся, послал подальше выставленный хозяином счет и направил свои стопы в легионы.
(обратно)
(обратно)
Часть II. Дакия
Глава 8
Осень 108 года н. э.
Сабина
Упершись кулачками в бока, Фаустина критическим взглядом обвела новый атрий.
– Мне не нравится.
Сабина рассмеялась младшей сестренке.
– Это почему же, хотела бы я знать?
Фаустина подошла к белоснежным мраморным стенам, по верху которых тянулся фриз из лавровых листьев и богинь с суровыми лицами.
– Как-то все неинтересно.
– Только не говори этого Адриану, он не переживет. Ведь он сам придумал эскиз фриза. Насколько я могу судить, ему хотелось «классики».
– А получилась скука, – изрекла Фаустина со всей серьезностью, на какую только способна одиннадцатилетняя девочка. В эти минуты она напоминала Кальпурнию. – Здесь все скучно и чопорно. В таком доме даже нельзя испачкаться.
Сабина взъерошила сестре волосы.
– А тебе непременно нужно испачкаться?
– Нет! Зато я хочу перемерить все твои платья! Они такие красивые!
Рука за руку сестры прошли через атрий к лестнице, украшенной мозаикой из голубых и зеленых завитков – тоже плод творческой фантазии Адриана. Этот дом не был тем архитектурным чудом, которое он набросал для себя, с бесконечными улучшениями и новыми идеями.
«С этим придется подождать», – задумчиво произнес он, обращаясь к Сабине. Пальцы его тем временем чертили на полях официальных документов купола и колонны. Тем не менее он тщательно следил за тем, как идут работы в его новом доме на Палатинском холме, который в конце концов его уговорила приобрести императрица Плотина. Здесь не было ничего, чего не подметил бы его зоркий глаз: и четкие, строгие ряды колонн в триклинии, и такие же стройные ряды слуг, застывших в молчаливом почтении, пока Сабина вела наверх младшую сестру.
– А почему они молчат? – шепнула Фаустина.
– Потому что император Адриан любит, чтобы в доме было тихо.
– А я люблю, когда рабы разговаривают! А здесь у вас все равно, что жить среди статуй.
Сабина вновь рассмеялась. После Лина Кальпурния произвела на свет еще трех непоседливых мальчишек, здоровых и красивых, однако светловолосая Фаустина с гордо вскинутым подбородком до сих пор оставалась любимицей Сабины.
– Хватит ко всему придираться. У меня для тебя есть новое зеленое платье. Если хочешь, можешь примерить.
– В зеленом я похожа на спаржу, – изрекла Фаустина. – У тебя случайно не найдется голубого?
– Думаю, моя госпожа, я смогу вам предложить богатый выбор платьев.
У себя в спальне Сабина села, скрестив ноги, на длинную кушетку и принялась наблюдать за тем, как младшая сестренка перебирает ворох платьев.
– Я жду не дождусь, когда смогу надеть настоящую столу, – задумчиво произнесла Фаустина из-под складок голубого шелка. – И когда только я выйду замуж?
– Дождись, когда тебе исполнится шестнадцать, – сказала Сабина, беря в руки два пояса. – Тебе какой, перламутровый или серебряный?
– Перламутровый, – ответила Фаустина. Впрочем, тему она менять явно не собиралась. – Антония Луцилла сказала, что выйдет замуж в четырнадцать…
– Даже не мечтай. Отец никогда не даст на это согласия, – возразила Сабина, подтыкая подол платья под пояс. – По крайней мере он разрешит тебе самой выбрать мужа.
– Я уже выбрала, – ответила Фаустина. – А серьги?
– Шкатулка стоит на столе. И кто же он?
– Гай Рупилий! Его отец привел его к нам на званый обед. Он такой симпатичный, и ему уже четырнадцать!
– Смотрю, ты унаследовала от матери вкус к мужчинам старше тебя.
– По крайней мере Гай не заставит меня жить среди статуй, – с этими словами Фаустина выбрала пару жемчужных сережек и, довольная, осмотрелась по сторонам. – Хотя здесь у тебя небольшой беспорядок.
– Мне так нравится, – призналась Сабина. Уют спальне придавали разбросанные то здесь, то там свитки книг и подушки на полу, на которые можно было улечься, чтобы эти свитки читать. Одну стену украшала огромная карта империи и бюст Траяна, на который Сабина обычно бросала свои шали.
Адриан обожал порядок во всем, но в апартаменты жены предпочитал не заглядывать. Его собственная опочивальня располагалась в другом крыле дома и визиты с одной половины дома на другую были… нечастыми.
– Надеюсь, Фаустина, Гай Рупилий подарит тебе счастье, – сказала сестре Сабина.
– Моя няня говорит, что смысл замужества не в этом, то есть не в счастье.
– Нет, однако, как хорошо, когда оно все же есть! Например, Адриан подарил мне его.
– Но он же страшный зануда! Вечно твердит про какие-то кари… эри… кари… Ну, в общем, ты сама знаешь.
– О кариатидах Эрехтейона.
– О них самых! Это какие-то жуки?
– Нет, это вид колонн.
– В любом случае, он на протяжении всего званого обеда только и говорил о них.
– Согласна, за ним такое водится, – уступила Сабина.
– Мама говорит, что такого зануду, как он, еще нужно поискать.
– И это верно.
Фаустина окинула себя довольным взглядом: жемчужные серьги, голубое платье, присборенное в талии перламутровым пояском.
– Подол слишком длинный, – сокрушенно вздохнула она и цокнула языком. – Ну почему я никак не расту?
– Вырастешь, не волнуйся. Будешь даже выше, чем я. А теперь примерь-ка вот это красное платье. Можешь даже надеть на руку мой золотой браслет. Вот увидишь, какая ты будешь в нем красавица…
– Госпожа? – в дверях в поклоне застыла рабыня. – К вам пришли. Трибун Тит Аврелий.
– Трибун? – Сабина сбросила с кушетки ноги. – О нет, Фаустина. Примерь вон то, из индийского шелка, оно невесомое, словно перышко. А я пока…
Тит отвесил Сабине поклон, но та уже спешила вниз по лестнице назад в атрий.
– Вибия Сабина, – проговорил Тит.
Бывший жених Сабины проделал немалый путь – от застенчивого шестнадцатилетнего юноши до высокого двадцатидвухлетнего молодого мужчины. Впрочем, в чем-то он остался прежним: те же длинные тонкие ноги, та же добрая улыбка.
– Приветствую тебя, о, моя прекрасная нимфа с глазами цвета небесной лазури!
– Но мои глаза не имеют ничего общего с цветом небесной лазури, – возразила Сабина. – Или ты снова начитался гимнов Гомера?
– Боюсь, что да. Когда мне не хватает слов, я начинаю говорить стихами. – Гость вновь отвесил изысканный поклон. – Со мной так бывает всякий раз, стоит мне увидеть тебя.
– Боюсь, что сегодня слов нет у меня, – ответила Сабина, рассматривая его наряд воина: новую нагрудную пластину, красную тунику, поножи, плащ и шлем. Последний Тит держал под мышкой, и вперед торчал пышный, как петушиный хвост, гребень с плюмажем. – Вижу, твоя семья все-таки уговорила тебя.
– Боюсь, что да. – Тит отдал салют. – Перед тобой трибун славных римских легионов.
Сабина вздохнула.
– Я говорила твоему деду, что тебя скорее растерзают волки, нежели ты согласишься вступить в армию. На последнем обеде у отца…
– Видишь ли, другие члены семьи рассказали ему о том, сколь полезна армия для молодых людей. Между прочим, большинство из них сами не служили в легионах. Война сладка для тех, кто сам не воевал, как когда-то выразился Пиндар. – Тит хмуро оглядел свой наряд.
– Мой отец в твоем возрасте был трибуном, – утешила его Сабина. – Правда, он сказал, что уцелел лишь потому, что держал рот на замке, а сапоги сухими. И где же стоит твой легион?
– В Германии. Десятый «Фиделис», расквартирован в каком-то ужасном приграничном городишке, чье название, к сожалению, я никак не могу запомнить.
– В Германии, – повторила Сабина с легкой завистью. – И тебе туда не хочется? А вот я не отказалась бы посмотреть Германию.
– Зато ты видела Грецию.
– Ну, совсем чуть-чуть.
Сабине иногда снилась Греция: ее скалистые берега, лазурное море, ослепительно-яркое солнце. Они с Адрианом провели год
в Афинах, где он занимал должность магистрата, и там было все, как он обещал. Сам город, словно белый драгоценный камень, цеплялся за высокий сухой утес. Загорелая и счастливая, Сабина бродила между прекрасных храмов. Адриан же охотился на знаменитых греческих вепрей с огромными клыками или же принимал участие в горячих философских дебатах с бородатыми мужами, на которых он сам походил в большей степени, нежели на своих собратьев, римских политиков.
– Ты настоящий грек, – подшучивала над мужем Сабина, и он лишь усмехался в ответ. Они намеревались съездить посмотреть Спарту, Коринф, Фессалию. Увы, вскоре пришло письмо от Плотины, в котором та сообщила об очередном Римском кризисе, который требовал немедленного участия ее дорого Публия, и это все решило.
Сабина поспешила отогнать грустные воспоминания и жестом пригласила Тита к кушетке.
– Присаживайся. Расскажи мне обо всем. Коль ты уезжаешь, давай на прощание хотя бы поговорим. Скажи, долго ты пробудешь в Германии?
– Год, – ответил Тит и заставил себя опуститься на кушетку. Его жесткая форма скрипнула.
– Год? – Сабина сделала удивленное лицо. – А с кем же теперь я буду ходить в театр? Ведь Адриан вечно занят!
– Думаю, ты скоро найдешь себе нового сопровождающего.
– Да, но кто теперь скажет мне про то, что у меня глаза цвета небесной лазури, хотя на самом деле они просто голубые? Ты должен непременно писать мне из Германии. Мне интересно узнать, вправду ли местные племена зажаривают наших легионеров на вертеле, как то они делали во времени императора Августа.
– Наверно, я все-таки надену голубое, – донесся из спальни голос Фаустины. – Красный цвет совершенно мне не идет.
Сабина заставила себя не рассмеяться и, сделав серьезное лицо, пронаблюдала, как перед ними, приподняв подол красной столы, чтобы тот не путался под ногами, гордо прошествовала Фаустина. Золотые браслеты болтались на ее запястьях, словно наручники. А еще она явно заглянула в одну из баночек с румянами.
– Знаешь, ты права. Красный и впрямь не твой цвет, – серьезно прокомментировал Тит.
– Да, у меня в красном совершенно больной вид, – согласилась Фаустина и лукаво сморщила курносый носик. – Приветствую тебя, Тит!
– Фаустина собралась замуж за Гая Рупилия, – пояснила Сабина. – Я подумала, что пусть она примерит кое-что из моих платьев. Ведь ей наверняка вскоре понадобятся наряды замужней матроны.
– Он не возьмет меня в жены, если в красном я буду некрасивой, – ответила Фаустина, поправляя подол. – А все невесты выходят замуж в красном.
– Попробуй чуть более розовый оттенок, – посоветовал Тит, положив костлявые локти на такие же костлявые колени. – Вот увидишь. В розовом ты заткнешь за пояс всех невест вместе взятых.
– Даже Сабину?
– Ну, про Сабину мне ничего не известно, – ответил Тит, вставая. Его новые сапоги громко скрипнули. Подойдя к Фаустине, он взял ее за руку, и, придирчиво рассматривая, покрутил волчком. Тит был любимцем всей их семьи, а не только одной Сабины. Стоило той отправиться проведать родных, как она неизменно заставала в доме Тита: он без зазрения совести просил Кальпурнию угостить его свежевыпеченным хлебом, спорил с ее отцом о каких-нибудь книгах, затевал шумные игры с мальчишками в саду.
– Зря ты не вышла за него замуж, – как-то раз укорила падчерицу Кальпурния.
– Спасибо, но с меня хватит того мужа, который у меня уже есть, – ответила Сабина.
Тит тем временем, оторвав ноги Фаустины от пола, крутил ее волчком.
– Ты права. Твоя старшая сестра настоящая красавица, Анния Галерия Фаустина, – произнес он нравоучительным тоном. – Тебя, когда ты вырастешь, вряд ли кто-то назовет хорошенькой, как Сабину.
Фаустина замерла в его руках.
– Что ты сказал?
– Потому что ты будешь настоящей, ослепительной, потрясающей красавицей!
С этими словами Тит поставил ее на ноги и, поклонившись, поцеловал пухлую детскую ручку.
– У Елены Троянской было сорок женихов. Но ты оставишь ее далеко позади. Гаю Рупилию придется отбивать атаки желающих получить твою руку. Поверь, они будут выстраиваться в очередь у дверей твоего дома.
Фаустина, довольная, вприпрыжку подскочила к фонтану в центре атрия и наклонилась, чтобы посмотреть на собственное отражение.
– Знаешь, – произнесла она, выпрямившись, – по-моему, ты прав.
– Она будет скучать по тебе, когда ты уедешь в Германию, – сказала Сабина. Младшая сестра тем временем вновь унеслась наверх, этакий светловолосый смерч, который оставил после себя на лестнице золотые сандалии, перламутровый пояс и жемчужную сережку. – Впрочем, нам всем будет тебя недоставать. Мой отец высокого о тебе мнения.
– О боги! Но почему? Что во мне такого особенного? – Тит вновь взял под мышку свой шлем. – Мне пора.
– Ты не хочешь остаться чуть дольше? Я бы рассказала тебе массу страшных историй о том, как мой отец служил трибуном. Например, как однажды ночью центурионы намочили его единственную тогу и выставили ее на мороз, где она замерзла и стояла как кол.
– Звучит соблазнительно, – ответил Тит. – Но, увы, я должен еще добрести до форума и договориться о моем отъезде.
– Или же о том, как на него напал ястреб и выдергал из его шлема все до единого перья, – продолжала Сабина, как будто не слышала его слов. – Это такая веселая история!
– Боюсь, что твои истории отобьют у меня последнюю охоту.
– Тогда, я расскажу тебе что-нибудь из историй моего старшего брата Павлина. Он тоже когда-то служил трибуном. Например, однажды он перепутал карты и целых шестнадцать миль вел когорту не в том направлении.
– Все! Я ухожу!
– Главное, не вешай нос! – весело произнесла Сабина и, привстав на цыпочки, поцеловала его в щеку. – Вот увидишь, все будет хорошо. Я в этом уверена.
Тит
Увы.
– Не хочешь дать мне совет? – спросил Тит отца.
Тот в ответ посмотрел на него. Как показалось Титу, даже с сочувствием. Увы, мраморный бюст остался мраморным бюстом. Небольшим, размером с ладонь. Дед положил его ему в походный мешок в тот день, когда Тит отправился в расположение Десятого легиона.
– Пусть он, мой мальчик, хранит тебя на верном пути. Главное, помни, что это твой отец, и слушайся легата.
– Что-то еще? – спросил Тит с надеждой в голосе.
– Постарайся не подцепить от германских шлюх дурную болезнь.
Тит опустил подбородок на сложенные руки. У трибунов имелись свои квартиры – либо голые, либо шикарные, в зависимости от того, кто располагал какими средствами. Впрочем, Тит был не против делить свое жилище с кем-то другим. По крайней мере ему было с кем поговорить кроме мраморного бюста.
– Слушайся легата, – повторил он, обращаясь к отцу. – Не слишком дельный совет, скажу я тебе. Легат даже не знает, как меня зовут. С тех пор, как я приехал сюда, я не сделал ничего толкового. Лишь слежу за тем, как писари заполняют бумаги или счищаю грязь с сапог.
Вся беда в том, заключил для себя Тит, что должность трибуна совершенно ненужная. В отличие, например, от легионеров – этих шумных, задиристых грубиянов, с их самомнением, шрамами, колючей щетиной на щеках. От них, несмотря на весь их грубый норов, есть хотя бы польза. Такое впечатление, что они умеют все – от бесконечных строевых упражнений до дальних марш-бросков и возведения новых пристроек к их грубо сколоченному форту.
Или взять тех же писарей и квартирмейстеров. Им, казалось, не составляло никакого труда обустроить и поддерживать в надлежащем порядке – здесь, среди непролазных германских лесов – лагерь, способный вместить в себя целых три легиона. Весьма полезный народ, без них никуда. А еще были центурионы, в большинстве своем бывшие легионеры, дослужившиеся до своего нынешнего положения, еще более грубые, чем те, кем они командовали. И, наконец, префект лагеря, огромный, как гора, который, казалось, знал по имени каждого из пяти тысяч солдат, и легат, который только и делал, что хмурил брови, орал на всех и раздавал приказания. А как же трибуны? Какая от них польза?
– Мы ничто, – сказал Тит отцу. – Мы – горстка бездельников, которые находятся здесь лишь потому, что семьи купили нам должности. По идее, мы вторые после легата. Тогда почему через нас перепрыгивают все, от префекта до центурионов? Какая от нас польза? Для чего мы нужны? Для того чтобы маяться бездельем, играть в кости, жаловаться на дождь? Ждать, когда нас отправят домой с записью в послужном списке, чтобы нас могли выбрать в квесторы?
Тем временем дождь продолжал лить уже который час подряд. В лагере было невозможно найти ни одного сухого места. Вернее сказать, лагерь являл собой настоящее море грязи – как и плохо мощенные улочки в городке, что вырос между лагерем и рекой.
– Могунтиакум
[296]. – Тит по слогам выговорил варварское слово. – По крайней мере я больше не запинаюсь. Но ведь я упражнялся целый месяц. Впрочем, почти все здесь называют его просто Мог. А как еще называть эту дыру? Он здесь лишь для того, чтобы легионерам было где развлечься – в таверне или с местными шлюхами. Чем еще их удержать, чтобы они не взбунтовались, пока тянутся холодные месяцы?
Да, других мест, где можно было бы весело или с пользой провести время, здесь не было. Ни цирка, ни библиотек, лишь таверны с их бесконечной игрой в кости, и несколько мокрых, полузаброшенных алтарей.
– Не думаю, что дедушке есть нужда беспокоиться из-за шлюх, – произнес Тит, обращаясь к отцу. – Они все как одна такие злющие. Я бы не осмелился подойти с предложением ни к одной из них.
Кроме шлюх имелись еще жены легионеров. Хотя солдатам согласно армейским правилам возбранялось жениться, жены и любовницы исхитрялись проникнуть за стены лагеря: это были вздорные и склочные создания в грубых сандалиях, которым ничего не стоило переломить Тита, как соломинку.
В лагере ему предстояло провести целый год. Пока что истек всего один месяц. Год – в мрачном, сыром месте, которое, казалось, кашляло желчью, – без книг, без красивых женщин. Даже поговорить не с кем. Хорошего собеседника здесь не найти даже за пятьсот миль.
– Та же самая ночь ожидает нас всех, – процитировал он, но даже строки Горация оказались бессильны принести утешение.
Внезапно раздался негромкий стук в дверь, и чей-то голос позвал:
– Трибун!
А в следующий миг, с восковой табличкой в руках, порог переступил один из помощников легата.
– Так это ты у нас ходячий сборник цитат? – спросил он.
«Наверно, отец мог бы мною гордиться, – подумал Тит. – Всего месяц жизни в военном лагере, а я уже снискал себе славу. Теперь я известен как ходячий сборник цитат».
– Да, это я, – со вздохом ответил Тит.
– Легат требует подробный отчет по дакийским гарнизонам, – пояснил помощник легата. – Трибун, центурион, опцион и два охранника. Тебе придется поехать.
– Мне? Составлять отчет про дакийские гарнизоны? Через всю Паннонию?
– А иначе в Дакию не попасть. Других дорог нет, – не без раздражения ответил адъютант. – Предполагалось, что туда отправится трибун Цельс, но сегодня утром он заболел.
Скорее этот Цельс не горит желанием провести две недели в странствиях по раскисшим дорогам, где в любую минуту дакийские лучники могут выпустить в тебя стрелу.
– Но я никогда еще не выезжал далеко за пределы лагеря, – осторожно возразил Тит. – Я прибыл сюда лишь месяц назад. Да что там, я не бывал дальше Мога!
– Легат сказал, что это пойдет тебе только на пользу. Так что закрой рот. На сборы даю час.
– И я должен возглавить остальных?
– Делай то, что тебе скажет центурион, – ухмыльнулся адъютант. – Если хочешь вернуться живым.
– Это то, что мне особенно нравится в нашем Десятом легионе, – улыбнулся Тит. – Здесь все как один блещут остроумием и готовы поддержать товарища в трудную минуту. Для новичка вроде меня это огромное утешение.
Но адъютант его уже не слушал, потому что спешил прочь, перебирая на ходу очередную стопку восковых табличек.
– Приятного тебе дождя, трибун!
– Дакия – гиблое место, – услышал Тит как-то раз от одного пожилого легионера вскоре по прибытии в лагерь. – И что еще хуже, лучше не становится. Этот их местный вождь, он ходит в львиной шкуре, а росту в нем восемь футов.
– Десять, – поправил его товарищ. – Если считать рога.
– Ты знаешь, что он делает с римлянами, которые попадаются ему в руки? Я слышал, что наши последние лазутчики вернулись назад без голов.
За спиной Тита кто-то присвистнул.
– Но если они лишись голов, то как они добрались назад? Или я что-то не так понял?
– Я лишь хотел сказать…
Тит обернулся на легионеров. Их было шестеро, все как на подбор рослые и крепкие, неотличимые друг от друга в своих латах и плащах. На головах шлемы, лица от холода замотаны платками. Поди различи их. Двойная стража, а все потому, что в Германии последнее время неспокойно, да и даки вечно мутят воду. Несколько лет назад Траян заставил даков покориться, однако Тит знал, что этот видимый мир обманчив и вряд ли продлится долго. Уже ходили слухи о том, что в Дакии пропадают разведчики, что на обозы нападают, а в вестовых с деревьев летят стрелы. Впрочем, шестеро легионеров, приставленные к нему в охранники, и их центурион не выказывали страха или беспокойства, по крайней мере внешне. Они смеялись, обменивались шутками, сквернословили и пели скабрезные куплеты. Сказать по правде, Тит им завидовал.
По крайней мере им было с кем переброситься словом. Когда их передовой дозор останавливался на ночь на постоялом дворе, легионеры клали грязные ноги на стол и, пустив по кругу мехи с вином, обменивались грязными шутками и историями. Тит задумчиво наблюдал за ними, сидя за отдельным столом, разумеется, один, потому что офицеры и солдаты никогда не смешивались ни в форте, ни даже в дороге. Он даже не мог вытащить из складок плаща отцовский бюст, чтобы поговорить хотя бы с ним. Солдаты уже успели проникнуться к нему презрением. Они с кривой ухмылкой посматривали на новый плюмаж на его шлеме, на его по-женски изнеженные руки, на его никчемность. Не хватало окончательно стать в их глазах посмешищем, разговаривая с мраморным бюстом.
Вскоре довольно твердые дороги и уютные постоялые дворы Германии сменились раскисшими тропами и поросшими лесом холмами вдоль границы с Дакией. Центурион каждый вечер ставил палатку. Кроме того, он теперь выставлял на ночь стражу.
– Нас никто не застанет спящими, – коротко пояснил он. Из чего Тит сделал вывод, что не только он один слышал об отрубленных головах.
– Я тоже мог бы подежурить, – предложил Тит.
Солдаты непонимающе уставились на него?
– А тебе это зачем?
Веской причины у Тита не нашлось. «О боги, как же я хочу домой!»
Они провели в дороге несколько недель, а дождь все продолжал лить не переставая. Небо слегка прояснилось лишь в тот момент, когда они пересекли границу Дакии.
– Завтра мы поднимем первый гарнизон, – объявил центурион. – А сегодня давайте выспимся.
Ночью Титу не спалось. Он вышел из палатки прогуляться и побрел прочь от угасающего костра. Он шел, и под его ногами чавкала грязь. Проходя мимо стоявшего на часах легионера, он помахал ему рукой. В свою очередь, легионер отдал салют, и Тит побрел дальше вдоль грязной тропы, которая здесь считалась дорогой.
«А есть ли в Дакии звезды? Вот если бы тучи расступились хотя бы на миг!»
Враг подкрался сзади, внезапно и неслышно.
В следующий миг Тит увидел звезды – но не на небе, а те, что посыпались у него из глаз, когда его сзади огрели по голове чем-то тяжелым. По всей видимости, дубинкой. От удара он рухнул лицом в грязь. Он еще не до конца понял, что падает, как чей-то сапог со всей силы ударил его по ребрам. От боли он вскрикнул, однако грязь поглотила его крик. Затем рядом кто-то что-то прошипел на непонятном языке, а в следующий миг ему в живот уперлось древко копья. Он пытался дышать, но рот его был забит грязью, пытался свернуться в комок, но чье-то колено вжало его в землю. Затем он почувствовал в волосах чьи-то пальцы. Кто-то грубо поднял ему голову, и его шеи коснулся холодный металл.
Но уже в следующее мгновение раздался пронзительный крик, а вслед за ним лязг оружия. Колено, что только что упиралось ему в спину, мигом исчезло. Затем раздался новый крик, а за ним быстрые слова на неизвестном ему языке. Над грязной дорогой маячили два силуэта, вернее, две бесплотные тени, едва различимые на фоне ночного мрака. Затем послышалось негромкое ругательство, и обе тени рухнули в грязь. При этом одна тень схватила другую за волосы и стукнула головой о землю. Тит замер на месте ни жив ни мертв. Первая тень тем временем поднялась с земли, и тогда он увидел очертания римского шлема. Второй силуэт вскочил на ноги, и тогда часовой вогнал свой гладий клинок в бок нападавшему, прямо под занесенную с мечом руку. В следующий миг, заглушив собой безумный вопль боли, раздался раскат грома, и небеса вновь разразились дождем. Часовой занес меч, но две темные тени уже почти исчезли, таща за собой своего раненого товарища. Рассмотреть, как следует, мешали дождевые капли. Тит усиленно заморгал. Но, увы, нападающие уже успели раствориться во мраке ночи.
– Проклятье, – пробормотал часовой и повернулся к Титу: – Ты жив, трибун?
– Не пойму, – ответил Тит и нащупал шишку за ухом. Стоило ему прикоснуться к ней, как его пронзила острая боль. – Думаю, с таким ранением я не жилец.
– Попробуй подняться на ноги, – посоветовал легионер.
Тит попытался приподняться, однако тотчас же снова рухнул в грязь.
– О боги, нет, боюсь, что у меня не получится.
– Не получится, значит, останешься валяться на дороге как приманка для других дикарей.
Легионер протянул руку, нащупал локоть Тита и потянул его вверх.
– Вставай, трибун.
Казалось, будто в черепе у Тита ухают кузнечные молоты. Тем не менее на ноги он поднялся.
«Лишь бы не вырвало, – подумал он, шатаясь из стороны в сторону. – Ты уже и без того опозорился: трибун, который рухнул лицом в грязь, кто позволил дикарям напасть на тебя, трибун, которого спас часовой, потому что он умнее тебя, и вместо того, чтобы пялиться на звезды, ловко работает мечом. Но теперь смотри, не вздумай блевать».
С этими мыслями он сглотнул подкатившийся к горлу комок. Молот в голове заухал с новой силой.
– Что ты здесь забыл? Зачем тебе понадобилось ночью бродить у самой границы?
Тит поморщился: «Ну почему он так громко кричит? Как будто нельзя говорить тише!»
– Просто дождь утих, и мне захотелось взглянуть на звезды.
– Смотрю, ты забыл, что теперь ты в Германии, – ответил легионер, и Титу показалось, что он услышал в его голосе не презрение, а лишь легкую насмешку. – Здесь нет никаких звезд. Лишь дождь. Почему ты не взял с собой охрану? Или ты забыл, что мне самому не сносить головы, если в мою смену с твоей головы упадет хотя бы волос?
– Прости, – искренне произнес Тит и лишь потом вспомнил, что офицеру не пристало извиняться перед нижестоящими. – Это были разбойники?
– Может, да, а может, и нет, – ответил легионер, поднимая с земли шлем, оброненный одним из нападавших. Отпустив проклятье в адрес кромешной тьмы, он ощупал его пальцами.
– В этих лесах полно всякого отребья – разбойники, дезертиры и прочая шваль. Правда, они обычно не имеют при себе круглых щитов.
– Круглые щиты носят дакийские мятежники, – ответил Тит. – Я, правда, сам их живьем ни разу не видел, но если верить донесениям…
– Пойдем-ка лучше назад вместе со мной, трибун.
Легионер выпрямился, и его фигура почти слилась с темнотой ночи, которую пронзали струи дождя.
– Вот когда мы доберемся до первого нашего гарнизона, тогда можешь сколько угодно любоваться на звезды.
– Согласен, – сказал Тит и поплелся за своим спасителем. Дорога была пустынной и тихой. Похоже, в такой ливень никто не услышал сигнала тревоги, никто не вскочил, чтобы взяться за оружие и прийти им на помощь.
– Легионер, ты спас мне жизнь, – произнес Тит после недолгого молчания. – Как твое имя?
– Верцингеторикс из Десятого легиона. Но все называют меня просто Викс.
Тит на мгновение замер на месте.
– Я тебя знаю?
– Теперь знаешь. Правда, долго же у тебя на это ушло. – В голосе легионера Титу послышалась нескрываемая насмешка. – Пять лет назад я охранял дом сенатора Норбана. Ты тогда был совсем мальчишкой, но уже вовсю приударял за хозяйской дочерью. Помнится, являлся к ней в дом с букетиком фиалок.
Тит поднапряг память.
– Так это ты? Тот самый, кто на пиру сражался в потешном поединке с императором Траяном!
– Вы, патриции, не утруждаете себя запоминанием лиц плебеев.
С этими словами Викс указал на рытвину посреди дороги – как раз вовремя, потому что Тит едва в нее не угодил.
– Но я хотя бы помню имя, – возразил он. – Впрочем, такое имя, как у тебя, просто так не забудешь.
– А что не так с моим именем?
– Ну, это даже не имя вовсе, – ответил Тит. В латинском языке, на котором он говорил, наречие «vix» означало «едва», «чуть-чуть». – Знаешь, я встречал не слишком много людей, которых бы звали Чуть-Чуть.
Удары молота в его голове сделались тише, а вот шишка за ухом уже была размером с хорошую сливу.
– Верцингеторикс – это галльское имя, – огрызнулся Викс. – А не латинское. И означает «великий вождь-воитель». Думаю, ты слышал, что в Галлии когда-то жил знаменитый вождь по имени Верцингеторикс.
– Которому нанес поражение Юлий Цезарь, после чего сей славный воин провел долгие годы в тюрьме, пока его наконец не задушили, – счел нужным продемонстрировать свою осведомленность Тит. – Не слишком удачное имя, скажу я тебе.
– Все равно оно не значит «чуть-чуть», – ощетинился легионер. – Меня еще никто не называл «чуть-чуть», ну разве если им хотелось, чтобы я преподал им хороший урок.
– Это просто короткая форма, – согласился Тит и, чтобы загладить резкость, добавил: – Во всяком случае, это лучше, чем Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин.
В темноте Викс расплылся в ухмылке, однако Тит успел заметить, как блеснули его зубы.
– И как тебя угораздило, трибун, заполучить такое имечко?
– Тит – это в честь отца, – пояснил Тит, и тотчас поймал себя на том, что такой разговор с простым солдатом не пристал трибуну. Между легионерами и офицерами должна соблюдаться дистанция. Однако дождливой ночью в Германии, когда по затылку стекает кровь, а сапоги обоих одинаково вязнут в грязи, строгий армейский этикет утратил всякий смысл. – Аврелий потому, что это наше родовое имя, Аврелии. Фульв потому, что это было второе имя моего отца. Из-за этого нас частенько путали. Бойоний – это в честь богатого дядюшки, который, как надеялась мой мать, в благодарность мог оставить мне немного денег. Антонин – это тоже родовое имя. Аррий – считается, что это имя досталось мне по материнской линии. Хотя лично я склонен думать, что просто мой отец был большим любителем гладиаторских игр. Не знаю, доводилось ли тебе слышать о нем, но когда-то был в Риме известный гладиатор, Арий Варвар.
Викс издал короткий смешок.
– В чем дело? – Тит вопросительно посмотрел на своего спутника. Они уже миновали поворот дороги и приближались к лагерю.
– Ничего, трибун, – так же с усмешкой произнес Викс. – Может, как-нибудь я тебе расскажу. А пока мне нужно доложить о своем возвращении центуриону. А ты давай, ступай в палатку. Ведь мы, между прочим, если ты еще не заметил, вымокли до нитки.
(обратно)
Глава 9
Викс
Следующее утро выдалось ясным и словно омытым ночным дождем. С первыми лучами солнца мы сели на своих лошадей. Трибун Шести Имен ехал впереди, вместе с центурионом и опционом. Он внушительно смотрелся в красном плаще и шлеме с пышным плюмажем. Я решил, что наш удивительно откровенный разговор накануне ночью с наступлением утра был забыт, а ему на смену пришел заведенный порядок вещей. Однако не успели мы проехать и полмили, как он обернулся в седле и подозвал меня, чтобы я ехал справа от него. Для своего роста он был очень худ, а его доспехи скрипели, ибо были новыми. А вот лицо его выражало добросердечие.
– Наш вчерашний разговор вызвал у меня интерес, – произнес он слегка напыщенно. – Как сказал Сенека, «когда мы среди людей, давайте будем людьми», а хорошая беседа – это в высшей степени человечное искусство. Тем более, в такой варварской стране, как эта.
Я постарался подавить улыбку. «Ага, – подумал я, – а тебе, оказывается, одиноко». Трибуны обычно держались вместе, потому что в них, по правде сказать, особой необходимости не было. А наш Трибун Шести Имен уже несколько недель находился в пути, и ему было не с кем переброситься даже словом. Неудивительно, что он сделал вид, будто не заметил неодобрительный взгляд, которым одарил его центурион. Вместо этого, он попробовал выудить у меня подробности моей истории.
Мы ехали с ним рядом, полной грудью вдыхая свежий, омытый дождем воздух – как два товарища-легионера в военном походе. Лошадиные копыта ритмично стучали по дороге. Повсюду стоял густой запах влажной земли и осенних листьев, которые еще не успели слететь с деревьев.
– То есть ты приехал из самой Британии, чтобы вступить в этот легион? – удивился он, выслушав мою, не совсем полную историю. Признаюсь честно, самые интересные ее части я предпочел опустить. Например, умолчал о том, как участвовал в убийстве императоров, о своих поединках на арене цирка. Так что история вышла короткой.
– Не сочти меня грубым, но во имя богов, почему?
– Я сам не раз задавал себе тот же вопрос.
Особенно в первый год, когда меня без конца ощупывали, взвешивали, измеряли вечно недовольные вербовщики, или когда я был вынужден участвовать в бесконечных упражнениях с мечом, хотя овладел им еще лет в восемь, или когда, стиснув зубы, слушал, как орет на меня центурион: «Ты, вонючий гладиатор!» И знаете, что я вам скажу, им всем было далеко до императора Траяна по части доброты. Почему я вступил в этот легион? Мне было двадцать. Сейчас двадцать пять. И я до сих пор не знаю. Зато за эти годы я возмужал. Мою спину украшают шрамы, следы розог, которые я получил пару раз. Теперь я не прочь удостоиться новых, но только уж на груди, и пусть это будут следы боевых ранений. У меня были друзья, которых правильнее было бы назвать братьями, и гарнизон, который я мог назвать своим домом. Вот так я стал римским солдатом. Теперь я Верцингеторикс, солдат Десятого легиона, но даже теперь я стискиваю зубы, стоит мне подумать о том, как права была Сабина, что это изначально было мое место.
– Этому есть причина, – ответил я в конце концов, и это все, что я мог сказать.
– Да, это надо же! На такую прорву лет застрять в Германии! – посочувствовал трибун. – Лично я надеялся попасть в Африку. Там жарко, и, самое главное, спокойно.
– Или в Египет, – поддакнул я. – Я слышал, что там круглый год солнце. А еще там текут великие реки, высятся огромные храмы, а местные женщины красят глаза.
Впрочем, они вряд ли так же хороши, как та девчонка, что ждала меня в Моге – вот она точно была красавицей. Да и вообще какой толк травить себе душу, мечтая об Африке или Египте и о других жарких странах, если твой гарнизон стоит на севере и, похоже, тебе торчать в нем еще лет двадцать?
Кстати, здесь, в Германии, тоже бывает жарко, пусть не в смысле погоды, а жарких схваток. Любой, у кого есть глаза, прекрасно это знает. Я не собирался всю свою жизнь провести в легионерах, но в Римской армии дослужиться до высокого ранга можно лишь в двух случаях: если у вас есть влиятельные родственники, или если вы покрыли себя славой в бою. По части родственников у меня слабовато, а вот по части славы…
Мой норовистый конь неожиданно отскочил в сторону, не желая переходить лужу, и я, замечтавшись, едва не вылетел из седла. Меня спасло лишь то, что я в последний миг, осыпав его проклятиями, уцепился за луку.
– Ну разве не мерзавец, – посочувствовал мне ехавший рядом патриций. – Попробуй просунуть мыски сапог под подпругу. Так надежнее.
– Я не пользуюсь любовью у лошадей, – пошутил я, выпрямляясь в седле. – И вообще что в них хорошего? Подойти спереди – того гляди укусит, сзади – вляпаешься в навоз. И в любом случае так и норовит лягнуть.
– Да, наездник из тебя никакой, – усмехнулся опцион. – Нашего Викса сбросил бы даже Троянский конь.
Я смерил его сердитым взглядом. В нашем легионе опционов не жаловали. А ведь опцион имелся у каждого центуриона, ведь какой центурион без заместителя. И все как один были страшными придирами и любили задирать нос. Я же постоянно думал о том, как мне дослужиться до центуриона, миновав при этом должность его заместителя. Впрочем, даже спустя пять лет моей службы в Десятом мне не светило даже стать опционом.
– Куда нам до тебя, опцион. Каждому свое.
Трибун улыбнулся. Мне был виден его профиль – типичный профиль патриция в шлеме, вернее, такой, какой любой патриций не прочь иметь, ибо это верный признак породы: как минимум три поколения благородных предков. Впрочем, такой редко увидишь даже у патрициев. Трибун приподнял орлиный нос и жадно втянул ноздрями свежий воздух.
– Если с Дакией будет война, нам всем придется вновь маршировать этой дорогой.
– Надеюсь, – задумчиво ответил я.
Трибун поморщился:
– Мне никогда не стать солдатом.
– Тогда почему ты в армии? – спросил я, осмелев. Центурион тотчас осадил меня взглядом, но я сделал вид, что не заметил. – Разве не для того, чтобы сделать здесь карьеру?
Скажу честно, я ему завидовал. Быть в двадцать два года трибуном! Для этого нужно было иметь связи, и какие! С такими можно за несколько лет дослужиться до легата, главное, зарекомендовать себя. Эх, я бы все на свете отдал, чтобы поменяться с ним местами.
– Сыро, – произнес трибун. – Холодно. Опасно. Так что нет, спасибо. Мое заветное желание – вернуться домой и стать обыкновенным занудой-чиновником. Из числа тех, что редко поднимаются из-за своего стола – разве лишь за тем, чтобы успеть домой к хорошему ужину.
– Да, за столом уж точно не холодно и не сыро, – не удержался от комментария центурион. – Чего никак не скажешь про легионы, верно?
– А что тебя привело в армию, центурион? Ведь, судя по голосу, ты из греков.
Пока эти двое обменивались колкостями и любезностями, я первым заметил дым. По идее, его должен был заметить центурион – он всегда гордился своим зорким, орлиным взглядом. Однако он так увлекся беседой с юным трибуном, что не заметил, как из-за поворота дороги показались черные клубы дыма.
– Стойте! – крикнул я. Мой выкрик тотчас оборвал их беседу.
– Мне казалось, ты только что сказал, что там впереди гарнизон, – возразил трибун, однако центурион уже отдавал приказы. Я пришпорил моего коня и галопом понесся по дороге. Черный дым. Зловещий знак, скажу я вам. Я ожидал, что это горит склад с зерном, в худшем случае – что это на стены лагеря пытаются вскарабкаться местные мятежники.
Увы, полыхал весь лагерь.
Выругавшись себе под нос, я натянул поводья. Мои товарищи были рядом. Мы все как по команде вытащили из ножен мечи. В следующий миг к нам подоспели наши командиры. Увы, наш боевой дух был уже ни к чему. На дороге валялись мертвые стражники, причем, судя по их виду, пролежали они довольно долго. Более того, с них уже успели снять одежду, забрали оружие. Мокрая от дождя, крыша принципии тлела, однако то здесь, то там, от нее поднимался дым. Хотя до лагеря было около мили, я отчетливо слышал крики, вопли, вой, то, как с грохотом падают и разбиваются статуи.
– Круглый щит! – воскликнул я. – Ну почему я не догадался! Ведь я должен был догадаться…
Таща мешки с награбленным, из ворот лагеря выскочили лохматые мужчины с круглыми щитами.
– Что происходит? – растерянно спросил трибун, однако не сдвинулся с того места, где ему велел остановиться центурион. – Кто это?
– Даки! – крикнул я в ответ. Скорее всего, они напали на наш форт под покровом темноты и дождя. А те трое, что ночью напали на трибуна, были передовым дозором.
– И что нам теперь делать? – растерялся трибун.
– Если хочешь, помолись богам.
Зажав рукоять меча, один из легионеров от досады сыпал проклятиями, однако клинка так и не обнажил. Как, впрочем, и все остальные. К настоящему моменту склад с зерном наверняка ограблен начисто, архив сожжен, казармы пусты, а те, кто в них находился, – мертвы. Статую императора Траяна наверняка сбросили с постамента и разнесли на мелкие куски. И все это было сделано прошлой ночью, пока лил дождь. Сегодня утром, когда небо прояснилось, бандиты предали огню остатки лагеря.
Увы, мы опоздали.
– Возвращаемся в Могунтиакум, – приказал центурион. – Немедленно.
Увы, прежде чем мы успели развернуть наших лошадей, раздался пронзительный крик. Это был небольшой отряд верховых разведчиков – может, даже тех самых, что накануне ночью напали на трибуна. Даже издали я увидел нацеленное в мою сторону копье, услышал протяжный крик. Их лошади пришли в движение. Всего их было десять.
Я живо повернул коня назад, к повороту дороги.
– Назад! – крикнул центурион. – Всем отойти назад.
Впрочем, в его приказе не было нужды. Мы все как один обратились в бегство.
Поначалу наш патриций отстал, но затем и он пришпорил коня. Я поддал своему скакуну пятками в бока. Но проклятый конь, вместо того чтобы пуститься галопом, заржал и, дернувшись вбок, врезался в соседнюю лошадь. Сидевший на ней легионер тотчас перелетел через голову своей кобылы. Когда же я, крепко схватившись за конскую гриву, выпрямился в седле, моих ушей достиг боевой клич. Первый из даков уже был совсем близко.
– Давай ко мне! – крикнул я солдату, который из-за меня выпал из седла, и сам бросился к нему. Тем временем его кобыла с испуганным ржанием в панике умчалась прочь. Увы, он с криком отшатнулся от меня и, размахивая руками, бросился по дороге.
Я направил моего коня к первому даку – тот уже настигал моего бежавшего по дороге товарища. В следующее мгновение дак повернулся ко мне. На скаку я успел рассмотреть сальную бороду, медвежьи ручищи, кольчугу и щербатый оскал. Я едва смог дотронуться до небольшой выпуклости под кирасой, где хранился подаренный отцом амулет, потому что в следующую секунду дак налетел на меня. Его копье пронзило мне плечо, вернее, пронзило бы, не споткнись его конь. Это меня спасло: ловко ухватившись за древко, я его переломил, и у нападавшего в руках остался лишь деревянный конец. Я не преминул воспользоваться моментом и тяжелой рукояткой меча выбил ему почти все зубы. Дак болезненно вскрикнул, а я поспешил прочь. Остальные противники бросились за нами вдогонку. Солдат, которого я ненароком выбил из седла, по-прежнему улепетывал со всех ног. Впереди всех скакал центурион – конь под ним был быстрый, и он летел галопом. Похоже, ему было все равно, сколько нас останется лежать на грязной, размытой дождем дороге. Его заботило одно – поскорее досказать до Мога с печальным известием. Остальные участники нашего отряда пытались от него не отставать. Ни один из них даже не обернулся. Впрочем нет, Трибун Шести Имен повернул коня и протянул руку, предлагая пешему легионеру запрыгнуть на круп его коня. Увы, испуганный солдат с такой силой дернул его за руку, что трибун сам свалился в грязь.
И вновь за моей спиной раздался боевой клич, и я заметил, что на меня смотрят наконечники еще двух копий.
– Проклятие! – выругался я и вновь пришпорил коня. К этому моменту легионер успел вскарабкаться на лошадь трибуна и уже летел вдогонку остальным по дороге. Растерянный трибун на коленях стоял посреди грязи. Еще момент – и я пронесусь мимо.
«Брось его здесь, – промелькнула в моей голове мысль. – Как ты думаешь, далеко ты уедешь, если посадишь его позади себя?»
И все же я на скаку опустил руку. Он каким-то чудом ухватился за нее и в следующий миг уже сидел позади меня.
– Спасибо! – прошептал он.
– Высвободи правую руку, – приказал я ему, и на этом наш разговор закончился. Даки нагоняли нас, и, когда мой конь выбился из сил, мы были вынуждены остановиться и принять бой. Я убил одного врага, размахнувшись свободной рукой, выбил из седла другого, чем отбил у оставшихся желание преследовать меня дальше. Отпустив в наш адрес пару презрительных воплей, даки предпочли отойти к сожженному лагерю. Я же вновь пришпорил моего взмыленного коня и гнал его до тех пор, пока мы не догнали наш отряд.
– Извини, – пробормотал легионер, что сидел теперь верхом на лошади трибуна. Я не сдержался и ударил его шишкой щита, во второй раз сбросив с седла в грязь.
– Мы бросим тебя здесь одного! – прорычал я. – Точно так же, как ты бросил трибуна.
– Оставь его! – рявкнул центурион. – Когда мы вернемся в Мог, его ждет хорошая порка, это я обещаю. А пока давайте снова в путь. Секст, верни трибуну его лошадь. Сам можешь сесть вторым к любому, кто согласится принять труса.
– Ничего, он может ехать вместе со мной, – возразил трибун. С этими словами он соскользнул с крупа моего коня и протянул руку лежащему в грязи легионеру, который был готов вот-вот расплакаться. – Не переживай, я заступлюсь за тебя перед легатом. Тебя не высекут.
– А по-моему, это пошло бы ему только на пользу, – проворчал я, вставляя меч в ножны. – Ты слишком с ним нянчишься, трибун.
– Возможно. – Трибун обвел взглядом центуриона, его заместителя и остальных солдат. – Но сейчас нам некогда это обсуждать. Потому что, сказать по правде, я предпочел бы уехать отсюда как можно дальше и, главное, как можно быстрее. Так что давайте-ка поспешим назад, в наш Десятый легион, и доложим начальству, что даки бунтуют.
Плотина
Императрица Рима пребывала в дурном расположении духа. Прошел целый час, а два ткацких станка, стоявших бок о бок, так и не слились в едином ритме. Ее собственный челнок гладко сновал туда-сюда – вжик-вжик, вжик-вжик. Второй челнок то и дело замирал во время движения. Вжик-пауза-вжик. Вжик-пауза-вжик.
– Ритм, Сабина, – строго сказала императрица уже в четвертый раз. – Постарайся войти в ритм. Ты же постоянно отвлекаешься.
– А? Ты что-то сказала? – С этими словами жена Публия с зевком продела челнок между нитями основы. – Может, нам лучше пойти на прогулку? Такой прекрасный день! Стоит ли проводить его сидя в четырех стенах, согнувшись за станком? – Сабина с тоской бросила взгляд на окно, которое императрица распорядилась прикрыть ставнями, как только невестка вошла в дом.
– Чтобы навредить самой себе? – возразила Плотина. – Стоит выйти на улицу, как кожа тотчас покроется загаром. И что тогда скажут люди?
– Вот уж не думала, что кому-то интересно, какая у меня кожа!
Плотина покосилась на молодую женщину, которая должна была стать для нее почти как родная дочь, но почему-то не стала. Нет, не похоже, что она насмехается над ней. Да и как можно насмехаться над императрицей Рима? Такая дерзость исключается.
И все же Вибия Сабина не оправдала ее надежд. Не о такой жене для своего дорогого Публия она как мать мечтала. Например, посмотреть на сноху сейчас: босиком, без украшений, волосы распущены по спине, как у простой девчонки, руки, вместо того, чтобы ритмично следовать за челноком, как будто играют в какие-то свои игры. Стоит ли удивляться, что полотно выходило из ее станка неравномерно плотным. А после того, как Плотина помогла ей начать новую работу – плащ для дорогого Публия, предупредив сноху, что если та хочет, чтобы вещь была готова вовремя, нужно работать ежедневно, эта лентяйка умудрилась не прикасаться к работе до самого сегодняшнего утра! Вот они, современные женщины! Впрочем, в девушке императрицу раздражало не только отсутствие усидчивости и усердия…
– Мне наконец-то удалось заполучить экземпляр книги этого греческого поэта, о котором все только и говорят, – радостно произнесла Сабина. – Думаю, Адриан будет доволен. Хотя подозреваю, что поэт ужасен. Сегодня за обедом мы наверняка разорвем его книгу на отдельные листки, зато у Адриана появится повод в очередной раз пожаловаться на то, куда катится наше общество и как измельчали вкусы римлян!
Плотина нахмурила брови. Опять эта поэзия! Что поделать, если ее сын всегда питал слабость к стихам. Нет, конечно, и от поэтов есть польза, по крайней мере для бездельников, однако будущему императору Рима не к лицу тратить драгоценное время на такую безделицу, как стихи.
– На твоем месте, моя дорогая, вместо греческих поэтов я бы привила ему вкус к риторике. Твоего мужа и так уже за глаза в сенате называют греком. Не к чему давать его недругам новые поводы.
– А как вообще можно насильно привить Адриану вкус к чему бы то ни было? – спросила Сабина.
– Умная жена всегда может повлиять на мужа.
– Боюсь, мне для этого не хватит ума.
Это, разумеется, была ложь, и Плотина это отлично знала. На последнем придворном банкете Сабина примерно целый час с серьезном видом рассуждала о положении Рима, что было бы только на пользу дорогому Публию, если он хочет примерить императорскую тогу. Увы, красноречие снохи предназначалось какому-то престарелому другу ее отца. Ничтожеству! А ведь на банкете присутствовали и губернаторы, и сенаторы! То есть самые что ни на есть полезные люди, которых она, Плотина, пригласила на банкет не просто так, а с далеко идущими целями.
– С ним было интересно, – пожала тогда плечами Сабина. – В отличие от остальных.
Юнона, дай мне терпения! Эта девчонка способна кого угодно вывести из себя. Ну да ладно. Плотина не затем без приглашения явилась в дом к снохе, чтобы раздражаться по поводу ее ткачества и странных суждений в отношении гостей на пиру. Она принесла с собой весть, и какую!
– Когда наш дорогой Публий вернется сегодня утром? У меня для него сюрприз, который, как я полагаю, доставит ему куда большее удовольствие, нежели все эти греческие вирши вместе взятые.
– Я не слежу за тем, когда он уходит и когда возвращается. Не хочешь вина?
– Я не пью вина, и тебе давно пора это запомнить. А вот от ячменной воды не откажусь. И дай же мне взглянуть на руки вон той рабыни, ну да, так я и думала. – Плотина нахмурила брови. – Иди, почисти ногти, прежде чем принесешь нам кубки. Вибия Сабина, я не знаю, где ты берешь своих горничных! О боги, какое тупое, неуклюжее создание!
– Эта попала сюда из дома терпимости на Авентине, – пояснила Сабина, когда девушка вышла из комнаты. – Я предложила ей сменить род занятий. Пока у меня нет к ней особых нареканий, ну разве что иногда она путает кубки.
– Ты это серьезно? – растерянно заморгала Плотина.
– Но разве не вы говорили мне, что долг каждой римской матроны помогать несчастным?
– Несчастным – да, но не грязным шлюхам!
– Ну, теперь она не грязная и не шлюха. Она учится ткачеству. Я намереваюсь дать ей вольную и пристроить на работу в лавку. Думаю, это случится довольно скоро, потому что по части мастерства она давно обогнала меня. Кстати, что это за приятная весть, о которой ты только что говорила?
Плотина открыла было рот, чтобы возобновить лекцию, но желание поделиться приятным известием взяло верх. Она и так уже проносила эту новость в себе почти целый день.
– Дорогой Публий назначен легатом своего легиона!
Сабина тотчас выпрямилась.
– Легатом?
– Да, своего легиона! – с нескрываемой радостью повторила Плотина. Боги свидетели, каких трудов ей это стоило, сколько раз она массировала себе виски, которые казалось, вот-вот лопнут от жуткой боли, сколько было желающих воспрепятствовать ее планам, но в конце концов она своего добилась! Она добилась того, что ее сын поднялся еще на одну ступеньку по лестнице, ведущей к императорскому трону.
– Это которого? – уточнила Сабина, в очередной раз дернув челноком.
– Назначение еще не утверждено.
Челнок Плотины продолжал ритмично двигаться взад и вперед, как будто им управляла не ее рука, а некая невидимая сила.
– Мой муж отнюдь не горел желанием дать ему это назначение. Знала бы ты, каких трудов мне стоило его уломать. Потому что когда дорогой Публий в последний раз бывал в легионах…
Плотина не договорила. Воспоминания об этом времени были не самые приятные. Тогда ее сын, двадцатитрехлетний трибун, приписанный к Двенадцатому легиону, наделал столько долгов, что навлек на себя гнев Траяна.
– Мой дорогой мальчик порой не знает меры, – закончила свою мысль Плотина.
– Попробую угадать, – предложила с улыбкой Сабина. – В том, что касается охотничьих псов и симпатичных молодых людей.
– Такие мысли недостойны жены, – парировала Плотина, и ее челнок на этот раз слегка дернулся.
– Я слишком хорошо знаю собственного мужа, – ответила Сабина и, убрав руки от станка, потянулась, словно сонная кошка. – Чем еще заниматься вдали от дома, кроме как охотиться и предаваться любви? Он же большой любитель и того, и другого.
– Мне кажется, дорогой Публий уже угомонился, – изрекла Плотина и обиженно поджала губы. – Более того, ты проследуешь вместе с ним к месту его назначения.
– Не имею ничего против, – спокойно отозвалась Сабина.
В кои веки эта девчонка не стала вступать в пререкания! Прекрасно.
– Ты своими глазами увидишь, насколько жизнь в провинции отлична от жизни в Риме, – добавила Плотина, слегка смягчившись. – Она гораздо более суровая, без привычных вещей, без привычного круга общения. И что самое главное, там практически не найти хорошего хлеба, даже к столу легата. Но что поделать, приходится терпеть даже это.
– Там нет хорошего хлеба? Как же я там выживу?
– Даже в самых суровых условиях непозволительно опускаться ниже какого-то уровня. И долг жены легата следить за тем, чтобы этого не произошло. Не менее трех блюд на обед, пусть самых простых, и в любую погоду, будь то жара или холод, следует носить приличную столу одежду. – Сказав это, Плотина похлопала складки серого шелка. – И никакого заигрывания с местными обычаями. Я слышала, что в Британии жены офицеров опускаются до того, что возвращаются в Рим раскрашенные в синюю краску и увешанные варварскими украшениями!
– Вдруг Адриана тоже занесет в Британию? Думается, синяя раскраска была бы мне к лицу.
– Шути-шути. – Плотина многозначительно подняла брови. – Нет, конечно, общения с женами низших офицеров не избежать, но надо постараться свести его к минимуму. Уж если и водить дружбу, то с женами магистратов и губернаторов. И не забывай, что в их глазах ты должна быть образцом для подражания.
– А если легион Адриана отправят в Египет. Что тогда? – задумчиво произнесла Сабина. – Я бы не отказалась проплыть по Нилу в ладье, словно Клеопатра.
– Дорогая, вот увидишь, тебе будет не до лодочных прогулок. Потому что от тебя будет зависеть дальнейшая карьера дорогого Публия. На твои плечи ляжет многое: и завести дружбу с губернаторами, и вести переписку с нужными людьми здесь, в Риме, и давать званые обеды.
Впрочем, нужно воздать Сабине должное, давать званые обеды она мастерица. Правда, приглашает на них слишком много «интересных» гостей, как она их называет. Но что еще хуже, все ее званые обеды под конец незаметно превращаются в веселые попойки, с шутками и хохотом – вместо того чтобы служить местом для серьезных бесед. Плотину передернуло при мысли об одном обеде, который закончился купанием в фонтане! Если бы дело ограничилось только этим! По кругу пошел кувшин с вином, как будто то развлекались не представители лучших семейств, а плебеи.
– Самое главное, – подвела итог Плотина, вспомнив, что дает снохе наставления. – Ты не должна допустить, чтобы отношения дорогого Публия с важными фигурами в городе прервались лишь потому, что он будет находиться за многие мили от дома. Мужчины ужасно забывчивы, когда дело касается написания писем. Так что я буду полагаться на твои регулярные отчеты…
– Неужели? – Сабина подняла глаза на свекровь. – То есть ты останешься здесь?
– Разумеется, где же еще мне быть? Мой муж нуждается во мне. Хотя я не исключаю, что разок-другой навещу вас. – Плотина многозначительно прочистила горло. – Например, мне бы очень хотелось, чтобы к моему приезду ты бы забеременела. И конечно же я бы непременно приехала к твоим родам.
– А вот и твоя ячменная вода, – ушла от ответа Сабина.
– Только не пытайся сменить тему разговора. – Императрица даже отложила в сторону челнок и в упор посмотрела на сноху. – Я надеялась, Вибия Сабина, что к настоящему времени ты уже осчастливишь дорого Публия наследником. Разумеется, ребенок трех-четырех лет не смог бы сопровождать вас в провинцию. Но я бы с удовольствием взяла на себя роль его воспитательницы в ваше отсутствие.
– Я ценю твою заботу.
– Рожать в провинции небезопасно. Во-первых, трудно найти хорошего лекаря. Я уже умолчу про кормилицу! Впрочем, при желании все решаемо. Покой и отдых в постели, отказ от развлечений, диета – овес и рыба во избежание стимуляции крови…
– Кальпурния говорит, что во время беременности глупо делать из себя затворницу. Она сама носится по дому как огромный мяч, пока не подойдет момент произвести на свет младенца.
– У твоей мачехи весьма современные взгляды, но я никак не могу порекомендовать их тебе.
– Моя мачеха родила пятерых здоровых детей, – напомнила Сабина, изобразив невинное лицо. – А ты?
Плотина смерила ее колючим взглядом.
– Детей боги дают далеко не всем.
– Вот и у меня такое чувство, что и мне не дадут, – негромко произнесла Сабина. – Если только дорогой Публий не изменит самым решительным образом свои вкусы.
– Дорогой Публий исполнит свой долг так же, как и ты, – сердито бросила Плотина. – Мужчине нужен наследник.
– Траяну он почему-то не нужен.
– Уверяю тебя, в свое время он переживал по этому поводу.
Что ж, даже если это и правда, то не вся. Много лет назад Плотина была уверена, что как только Траян станет императором, он станет настаивать на наследнике. Когда он, наконец облачился в пурпурную тогу, ей был всего тридцать один год. Она еще могла родить ему ребенка. Тем более что императоры нуждаются в наследниках! Каково же было ее удивление, когда в ответ на ее слова он заявил следующее:
– Когда придет время, я выберу себе преемника. Так будет лучше. Кто знает, какого сына пошлет нам судьба? Я не хочу возлагать надежды на узы крови. Будучи свободен в своем выборе, я могу выбрать наиболее достойного кандидата.
Тогда Плотина не стала продолжать этот разговор, но это не значит, что она забыла о нем. В конце концов, Траян многого не знал, будь он хоть трижды римским император.
– Дорогой Публий стал для моего мужа желанным сыном, – заявила она Сабине. Это тоже была полуправда, но кому об этом известно? – Но я бы не хотела, чтобы он пошел по стопам отца. Ему понадобится наследник, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Ты должна…
Ей не дал договорить знакомый низкий голос, прозвучавший в дверном проеме.
– Какой у вас обеих домашний вид! Юнона и ее сноха Венера за ткацким станком.
– Льстец! – со смехом ответила Сабина Адриану. – Кстати, впервые слышу, чтобы меня кто-то сравнил с Венерой!
«От тебя одна головная боль, как и у Юноны от Венеры», – подумала Плотина, но вслух ничего не сказала. Вместо этого она посмотрела на дорогого Публия, – какой же он красавец в свежей, накрахмаленной тоге! – и приподняла лицо, подставляя для поцелуя щеку.
– Мой дорогой. Я надеялась застать тебя!
– Только ничего не говори. Меня назначили легатом?
– Смотрю, ты хорошо информирован, – вздохнула Плотина. – Наверно, мне следовало ожидать, что ты обольстишь какого-нибудь вольноотпущенника, чтобы выудить у него эту новость.
– Итак? И в какой же легион тебя отправят? – поинтересовалась Сабина, отдавая мужу шуточный военный салют. Адриан тем временем наклонился, чтобы потрепать по загривку трех охотничьих псов, что вбежали вслед за ним в дом из сада и теперь увивались у его ног. – Где он стоит? В Египте? Сирии? Британии?
Адриан почесал за ухом у своего четвероногого любимца и посмотрел на Плотину.
– А что тебе успела поведать наша дорогая императрица?
– Наша дорогая императрица знает все, – слегка игриво ответила Сабина. – И как воспитывать детей, как улучшить общественные нравы, как поддерживать в провинции культурный уровень – и все это одновременно. Но что касается твоего вопроса, то на нем ее всеведение, к сожалению, закончилось.
В ответ на такое заявление Плотина нахмурила брови, как и сам Адриан. Впрочем, делать жене замечание он не стал. Это было не в его духе. Разговаривая с мужем, Сабина неизменно прибегала к игривому тону, но, похоже, сам он ничего против этого не имел. Более того, ему это явно нравилось!
– Итак? – Сабина встала из-за станка и с улыбкой подошла к мужу, словно ребенок, который рассчитывает получить подарок. – И куда же мы отправляемся, легат?
Адриан выпрямился и легонько прикоснулся губами к щеке жены – как показалось Плотине, поцелуй был полон нежности. Ты не обязан с ней нежничать, едва не одернула она пасынка. Она здесь для того, чтобы выполнить свой долг. Увы, дорогой Публий нежничал с женой, а та не выполняла своего долга. Иными словами, все было с точностью до наоборот, нежели Плотина надеялась.
– По-моему за это стоит выпить! – Адриан протянул руку, и вышколенный раб тотчас вставил в нее кубок с вином. – За наш отъезд в…
– И куда же? – Сабина была готова прыгать от нетерпения. Плотина вопросительно выгнула бровь.
– В Германию, – ответил Адриан, сжалившись над обеими женщинами. – Точнее, в Могунтиакум.
Тит
Дорога до Могунтиакума показалась Титу гораздо короче их путешествия на восток. Он не стал мешать центуриону задавать шаг и послушно ставил свое имя там, где тот ему указывал, когда требовалось сменить на станции лошадей.
– Каждый день на новой лошади, – пожаловался Викс. – И хотя бы раз попалась добрая. Так нет же. Такое впечатление, будто они все до одной ненавидят меня.
Тит уже привык наклоняться, чтобы за шиворот вернуть Викса в седло, всякий раз, когда тот начинал соскальзывать с конского загривка. Несмотря на изматывающую скорость их передвижения, обратный путь не был Титу в тягость. Может, вся разница в том, что теперь ему было с кем разделить свой обед на станциях.
– Помнится, не то Цицерон, не то Ювенал как-то раз изрек что-то вроде того, что-де усталость и грязь стирают сословные границы, – сказал он Виксу. Сам он сидел, в изнеможении откинувшись на спинку стула. Сапоги обоих сушились бок о бок у огня. – Правда, я так устал, что не смогу точно привести ни единой цитаты.
– Вот и хорошо, – ответил Викс, закрыв глаза. – Передай хлеб.
Тит уставился в огонь, что пылал в очаге неуютной, крошечной комнаты постоялого двора. От сапог поднимался пар.
– Наверно, ты сочтешь меня трусом, если я скажу тебе, как я тогда испугался, – неожиданно для самого себя произнес он. – Когда увидел, как на меня надвигаются эти даки.
Тогда его ноги как будто сделались каменными, а он сам как будто прирос к земле. Он мог лишь одно – оцепенев от ужаса, наблюдать, как они с каждым мигом делаются все ближе и ближе – и так до тех пор, пока рука Викса не нашла его руку. Легионер резким рывком втащил его на лошадь, отчего весь следующий день он боялся даже пошевелить рукой. Любое движение отзывалось болью, как будто рука была вывихнута в плече.
– Впрочем, испугался, это еще мягко сказано, – признался он.
– Да я сам обмочился от страха, когда первый раз вышел на арену и увидел, как на меня движется противник с мечом в руке. – Викс оторвал зубами изрядный кусок хлеба и машинально потрогал амулет на шее. – Страшно бывает всем. Так что ты не один такой.
– И что же ты сделал?
– Затолкал страх подальше и убил его. Это единственное, что можно сделать, если не хочешь умереть сам.
– Если бы не ты, я бы точно умер, – произнес Тит. Ему до сих пор было неловко. Он хотел от души поблагодарить своего спасителя, но никак не мог произнести слово «спасибо». Не потому, что стыдился, а потому, что даже оно было неспособно выразить его благодарность.
– Да ладно, – отозвался Викс, не открывая от него глаз. – И никому не говори, что я тебе только что сказал – как я обмочился в первый раз на арене. Скажи хоть слово – убью.
– Понял, – произнес Тит и тоже оторвал себе кусок хлеба. – А что это амулет у тебя на шее, который ты постоянно трогаешь?
– Да так, ничего особенного.
– Я ведь видел, как ты, прежде чем набросится на даков, потрогал его, – заметил Тит. – Это оберег?
– Мне его дал отец, – признался Викс. – Марс, сказал он, бог воинов, и он защитит меня в бою. Но дело даже не в этом. Каждый раз, когда я трогаю амулет, я вижу перед собой лицо отца. Он тоже был гладиатор. Целых восемь лет сражался на арене Колизея. Лично я предпочел бы отцовскую удачу, чем защиту какого-то там римского бога с копьем. – С этими словами Викс засунул амулет назад, под тунику. – Но до сих пор он меня хранил.
– То есть вы с отцом оба гладиаторы? – удивился Тит.
– Один император ненавидел нас обоих, и его, и меня.
Проведя целый день в седле, они под вечер добрались до Мога – более того, успели в последний миг проскочить в ворота лагеря, прежде чем те закрылись на ночь. Центурион тотчас поспешил с донесением к легату.
– Пойдем, трибун. Он наверняка захочет услышать наш отчет.
– А что должен доложить я? – удивился Тит. – Что я такого сделал? Разве что вывалился из седла.
– Пойдем!
К тому времени, когда легат выслушал их историю, уже было темно. Тит устало добрел до принципии в надежде, что еще успеет поужинать. По всему залу туда-сюда сновали вестовые, рабы, которых то и дело отправляли за чем-то в архив, легионеры читали развешанные по стенам объявления.
Намечается постройка новых казарм, прочел Тит. В лагерь ожидалось прибытие отряда из Фракии. Рядом красовалось строгое предупреждение о том, что местных женщин можно посещать только во время увольнительной и только за стенами форта. И ни намека на то, что они видели в Дакии. Ни намека на то, что в скором времени их ждет война. Тит почувствовал, как у него свело живот, как будто внутри набирал силу и разгорался пожар. «И почему я только жаловался на однообразие и скуку? – подумал он. – Уж лучше страдать от скуки, чем проливать кровь на поле боя».
– Ну и как? – это к нему обратился Викс. Легионер стоял, прислонившись к стене, рядом с бюстом императора. Такой бюст взирал на солдат в каждом форте, где размещалась римская армия. Но даже высеченное в камне, лицо Траяна, казалось, излучало доброту и участие. – Что нового? Что сказал легат?
– Лично мне – ничего. – С этими словами Тит снял шлем и пригладил волосы. – Я лишь молча стоял, пока он вытаскивал из центуриона подробности. Затем он выставил меня вон, сказав, чтобы я шел ужинать, а сам принялся диктовать депеши.
– Я так и знал. – Викс стукнул кулаком о кулак. – Войны не миновать. Траян не потерпит, чтобы кто-то нападал на его гарнизоны. Этот дакийский царь еще пожалеет, что появился на свет.
– Ну, не в такой степени, как я, когда пропустил ужин, – грустно пошутил Тит и поморщился. – Впрочем, здесь особенно не о чем жалеть, если вспомнить, какой гадостью нас потчуют.
– Жженым ячменем и вареной свининой, – согласился Викс. – Это тебе не жареные фламинго, которых тебе подавали в Риме, что скажешь, трибун?
– Ты дважды спас мне жизнь, Чуть-Чуть, – ответил Тит и еле заметно поежился. Он был уверен, что дикие даки с криками еще не раз налетят на него в его снах. – Думаю, теперь ты можешь называть меня просто Тит.
– Центурион, если услышит, спустит за это с меня три шкуры.
– Тогда, когда его не будет поблизости. Договорились? Как заметил Овидий, «хорошо живет тот, кто живет незаметно».
– Наверно, твой Овидий был знаком не с одним центурионом, – Викс не без смущения пожал протянутую руку. – Значит, Тит.
– Спокойной тебе ночи, Викс, – сказал Тит, с трудом подавив зевок. – Пойду, посмотрю, может, мне еще хватит пригоревшего ячменя и вареной свинины. Потому что я готов съесть сырым дохлого коня.
– Трибун Тит, – произнес Викс, поколебавшись с минуту. – Я знаю в городе одну девушку, она отлично готовит – не то что эти наши горе-повара. Если ты не против.
– Веди, – просто ответил Тит.
Жаркое из ягненка мучительно щекотало ноздри, однако Тит прилагал все усилия к тому, чтобы не пялиться на девушку, которая слегка испуганно посматривала на него, пока ставила на стол миски с дымящимся угощением. Овальное лицо, полные губы, кожа чистая и белая как свежие сливки. Медового оттенка волосы заплетены в толстую косу, которая свисает ниже колен. Нет, девушке Викса полагалось гордо ступать в шелках, увешанной драгоценными камнями и золотом, а не ходить, перепачканной в муке по крошечной комнатушке над пекарней. Наконец Тит заставил себя оторвать глаза и попробовал мясное рагу.
– О боги! – воскликнул он, проглатывая первую ложку. – Выходи за меня замуж, красавица!
– Я же сказал тебе, что моя Деметра отменная стряпуха, – произнес Викс, обнимая девушку за талию. Она улыбнулась, однако нервно покосилась на Тита. Когда же он представился, она побледнела как мел.
– Трибун? – пискнула она. – Что такого натворил Викс? Честное слово, он навещает меня не часто, только в увольнительную. И я никогда не прихожу к нему в форт! Я знаю все правила.
Титу стоило немалых трудов убедить ее, что он здесь не за тем, чтобы увести ее Викса на порку. Но все равно она смотрела на Тита так, как будто в ее кухню залетел дракон – и это несмотря на вздохи и причмокивания, которые он издавал по поводу ее кушанья.
– Тебе везет, – тихо сказал он, обращаясь к Виксу, пока девушка отошла к плите. – Уверяю тебя, у такой не постеснялся бы просить благоволения даже император – и не только из-за ее стряпни. Было бы достаточно одной красоты. Признавайся, как ты заполучил себе такую стряпуху?
– Как-то раз в прошлом году к ней на базаре приставали несколько воздыхателей. Так вот, я их прогнал, – довольно произнес Викс. – Девушки обычно благосклонны к своим спасителям.
Тит тотчас взял себе эту мысль на заметку. С другой стороны, будет ли у него когда-нибудь шанс спасти девушку? Да и от кого? От неправильно процитированной строчки?
Тит даже не заметил, как скребет ложкой по дну миски. Деметра тотчас поспешила подложить ему добавку. Он учтиво ее поблагодарил и обвел взглядом крошечную комнату, которая служила одновременно и кухней и спальней. Зато в ней было чисто и уютно. Не то что в провонявших мужским потом казармах. Постель была накрыта пестрым лоскутным покрывалом, сшитым из ярких, цветных полосок ткани. На шатком столике в старом кувшине стоял букет поздних астр. В воздухе витал, поднимаясь откуда-то снизу, аромат свежеиспеченного хлеба.
Тем временем Викс тоже уплетал вторую миску рагу.
– Что ты так пристально разглядываешь? – спросил он, перехватив взгляд Тита.
– Все, – ответил тот, обводя глазами комнату. – Домашний уют. Я никогда не думал, что буду по нему скучать, пока не попал в казарму.
– Тебе нужно найти девушку, – посоветовал Викс, – чтобы было к кому ходить в увольнительную. А если подмазать кого надо, то можно запросто оставаться на ночь.
– У меня уже есть девушка, – ответил Тит и на миг представил себе веселую комнату, вроде этой: книжные полки вдоль одной стены, свежий хлеб на столе, свежие цветы в вазе, и Сабину. Как она, свернувшись калачиком, лежит на постели с книгой в руках и грызет яблоко. Как на ее щеках появляются ямочки, когда она улыбается ему. – Но она в Риме, – добавил он. Сабина никогда не была его девушкой в полном смысле этого слова.
Нет, он больше не влюблен в нее. Теперь он знал ее гораздо лучше, чем когда шестнадцатилетним юнцом, увидев ее впервые, потерял от любви голову. Тогда в его глазах она была голубоглазой богиней, которой хватило душевной доброты не рассмеяться над ним, когда он предложил ей выйти за него замуж. Со временем она стала ему другом: у нее можно было брать книги, с ней можно было, когда ее муж бывал занят, прогуляться солнечным утром по Марсову полю. А какая гордость переполняла его, когда Сабина шла рядом, взяв его под руку на каком-нибудь торжестве. Почему-то другие девушки, которых дед – не одну, так другую – советовал ему взять в жены, казались ему бледными, неинтересными, какими-то неживыми. Не то, что Сабина!
Нет, он не был влюблен в нее. Но, с другой стороны, пока ему не встретится та, что сможет пленить его сердце, сидеть на месте тоже ни к чему.
– Значит, у тебя в Риме есть девушка, – подвел итог Викс. – А какая разница. Можно завести другую, здесь. Ведь они все равно не встретятся.
– Не хочу даже возражать на твой довод, – произнес Тит, а в следующий миг почувствовал, как к его боку прижалось что-то теплое. Он опустил глаза и увидел кареглазого мальчугана с курчавыми волосами. Когда Тит только вошел в комнату, мальчик взял деревянную лошадку и бочком отошел в дальний угол, откуда робко наблюдал за незнакомцем.
– Мы провели в пути несколько недель! – сердито воскликнул Тит. – Мы добрались до границ империи и вернулись обратно. Мы спасали друг другу жизни – и ты ни разу даже словом не обмолвился, что у тебя есть сын! А ведь ему уже года два, я прав?
– Он не мой, – ответил Викс, вытирая куском хлеба соус на дне миски. – Его отцом был один писарь, которого легат привез из Вифинии несколько лет назад. В свою очередь, этот писарь привез с собой Деметру и мальчика. Правда, сам писарь умер в первую же зиму, и они остались здесь одни. Германские зимы не для южан. – С этими словами Викс толкнул Тита в руку и выбил миску с рагу. – Посмотрю я на тебя, что ты будешь делать, когда впервые обморозишь пальцы. Смотри, не разревись.
– Как-нибудь постараюсь, – Тит взъерошил мальчику волосы. Те были такого же медового оттенка, как и у матери. – Ты молодец, что присматриваешь за ним, раз он растет без отца.
– Ну, с ним легко. Он тихий.
– Нельзя приставать к старшим! – Деметра наклонилась и, что-то строго сказав по-гречески, оттащила сына в сторонку.
– Так что же еще сказал легат, когда выслушал ваше донесение? – поинтересовался Викс, а сам потянулся за стоявшим на столе кувшином. – Они точно отправят на войну наш Десятый. Ведь мы – самый лучший легион за пределами Галлии, да и до границы от нас ближе всего.
На сапогах Викса еще не успела просохнуть грязь после их вылазки в Дакию, однако он, похоже, был готов сию же минуту накинуть на плечи плащ и приготовиться к марш-броску.
– Сколько нам еще ждать, как ты думаешь? Недели две-три?
– Я бы сказал, три месяца, – ответил Тит, делая глоток из кружки. Нет, в ней было не вино, а местный напиток, мед. Впрочем, будь там хоть уксус, он бы все равно поморщился, но выпил. Он давно уже не чувствовал себя так хорошо, с момента своего приезда в Германию.
– Три месяца! – изумился Викс.
– Это самое малое. Я частенько бывал в сенате – во время публичных слушаний сидел на задней скамье, слушал дебаты, особенно, если выступал мой дед. И я наслушался самых разных мнений по поводу расположения наших легионов. – Тит задумчиво отковырял от туники налипшую на нее грязь. – Чтобы всех мобилизовать, требуются месяцы: нужно наладить снабжение, прислать пополнение, перебросить дополнительные легионы. На это уйдет самое малое три месяца, если не все четыре.
– На войну? – раздался у них за спиной испуганный голос Деметры. – Ты хочешь сказать, что Десятый снимется с места и пойдет сражаться на восток?
– Пока еще ничего не известно, – успокоил ее Тит.
– Эх, уж если воевать, то воевать! – фыркнул Викс. – А то я уже пять лет как служу, а еще ни разу не бывал в настоящем сражении. Помнится, когда я только-только прошел подготовку, Траян всыпал этим дакам, но разве это было сражение? Да они бросились наутек, только пятки сверкали. И как же я дослужусь до центуриона, если эти паршивцы вдруг пойдут на мирные переговоры?
– С какой стати ты так рвешься в центурионы? – искренне удивился Тит. – Ведь у них работенка – не позавидуешь. Тебе это надо?
– Надо. Еще как надо! – без малейшего колебания возразил Викс. – Работа, звание, сражения, знаки за участие в кампаниях, горы награбленного золота и триумф в Риме.
– Ну, ты меня убедил, – с улыбкой произнес Тит. – Мои цели гораздо скромнее: лично я предпочел бы просто отслужить свой срок в звании трибуна и остаться живым. После чего получить должность в каком-нибудь архиве или же время от времени инспектировать акведуки.
А еще иметь тихий дом посреди сада, крепеньких детишек, вроде сына Деметры, и жены, которая не Сабина. Ибо Сабина никак не вписывается в эту скучную домашнюю идиллию. Даже в своем изысканно обставленном доме в Риме она никогда не производила на него впечатления серьезной римской матроны. Скорее – веселой и слегка взбалмошной гостьи, которая в любой момент может выпорхнуть за дверь и исчезнуть где-то на краю земли. Впрочем, к чему эти пустые воспоминания!
– По-моему ты вполне можешь дослужиться до центуриона, – произнес Тит. – Что-то плохо верится, что на этот раз стычка с даками закончится мирным договором. Да, военная кампания начнется не сразу, придется несколько месяцев ждать, но…
Неожиданно Деметра расплакалась и, подхватив сына на руки, выбежала из комнаты. Громко хлопнула дверь.
– Я что-то сказал не так? – спросил Тит, как ужаленный вскакивая с места.
– Понятия не имею. Она плачет всякий раз, стоит только кому-то завести разговор о войне. Она плачет, когда я ухожу. Она плачет, когда у нее не поднимается тесто, – равнодушно произнес Викс, отправляя в рот последний кусок хлеба. – Она только и делает, что льет слезы.
– Может, ты ее вернешь?
– А зачем? Пусть наплачется вволю, если ей так нравится. Тем более что ночую я обычно в другом месте. За большим театром живет одна рыжеволосая красотка…
(обратно)
Глава 10
Сабина
Для жен офицеров, которым предстояла поездка на север, выделили две шикарные повозки – крытые, мягкие с горой подушек. В общем, такие, в которых можно было бы путешествовать с комфортом.
В течение четырех дней Сабина ехала в первой повозке одна. Почему-то все остальные жены – под тем или иным предлогом – предпочли ехать во второй.
– Скажи мне, что ты такого им сделала? – спросил Адриан, заглядывая внутрь.
– Держала окна открытыми, чтобы смотреть, где мы едем, – ответила Сабина, глядя на него из уютного гнездышка, которое она соорудила из подушек: колени накрыты меховой полостью, в руках свиток, у ног, свернувшим колечком, расположилась серая собака. – Как я поняла, дышать свежим воздухом – это тягчайшее преступление. Зря я не рассказала им пару-тройку историй о том, как жуткие германские варвары сжигают женщин в плетеных клетках.
– В этом была необходимость?
– За четыре дня они мне все уши прожужжали своими жалобами по поводу непослушных детей и вороватых рабов! Так что какие там германцы. Я бы собственноручно посадила этих клуш в клетку и сожгла!
Адриан едва заметно улыбнулся, стянул перчатки и бросил их собаке. Та тотчас же принялась их жевать. На нем уже был плащ и кираса легата, и надо сказать, что смотрелся он настоящим красавцем.
– Как поживает моя старушка? – спросил Адриан, теребя собачьи уши, и добавил, обращаясь к жене: – Тебе не кажется, что ей холодно?
– Не волнуйся, я уж как-нибудь позабочусь о твоей самой любимой женщине.
Адриан никогда не проявлял особой заботы в том, что касалось слуг. Иное дело – собаки. С собой в Германию он захватил всю свою свору, рассчитывая охотиться в окрестностях Могунтиакума, и теперь собаки радостно неслись вслед за его конем. Все, кроме старой серой суки, которая, по его мнению, была слишком стара, чтобы проделать путь до Германии вместе с остальными псами, и в результате с комфортом путешествовала в повозке Сабины. «Большинство на его месте просто размозжили бы ей голову, как только она перестала приносить дичь, но только не Адриан», – подумала Сабина.
Адриан продолжал нежно теребить собачьи уши, и вскоре его любимица уже умильно виляла хвостом. Еще бы! Ведь каждый вечер хозяин приносил ей отборные косточки, оставшиеся после офицерского ужина.
– Обещаю тебе, что позабочусь о ней, – заверила мужа Сабина.
– Хочешь завтракать? Скоро нам предстоит переправа, а пока мы сделали остановку.
Сабина выглянула из повозки и тотчас окунулась в приятную суматоху путешествия: погонщики волов на чем свет стоит ругали рогатых упрямцев, молодые трибуны пытались перещеголять друг друга, устраивая конские забеги, рабы сновали туда-сюда, неся то еду, то плащи, то еще что-то для своих хозяев. Небо было серым, дорога раскисшей от дождя, однако весь этот шумный лагерь, державший путь на север, был полон весельем.
– Мне хлеба, меда и винограда, – сказала Сабина вошедшей рабыне, которая тотчас взялась расставлять кубки и блюда. – Как обычно.
Завтрак Адриана был таким же: свежеиспеченный хлеб с румяной корочкой, гроздь винограда (именно гроздь, а не ягоды в тарелке) и наперсток меда. Впрочем, его завтрак всегда был одинаков: и в их доме на Палатинском холме, и в дороге, на полпути между Римом и Могунтиакумом. Да где угодно. В один прекрасный день, когда ее муж спустится в Гадес, с улыбкой подумала Сабина, он потребует у паромщика Харона то же самое: хлеб, мед и виноград.
Половину их багажа во время этого долгого и утомительного путешествия на север составляли книги Адриана, без которых он не мог обойтись, рабы, обеспечивавшие его комфорт, собаки, лошади и греческие статуи.
– А потом еще говорят, что это женщины берут с собой кучу ненужных вещей! – подразнила мужа Сабина. – Например, я вышла из дома всего с одним сундуком и несколькими книжками.
– Мне хочется посмотреть мир, – сухо ответил Адриан, – но только со своей библиотекой.
«По крайней мере мы действительно смотрим на мир», – мысленно согласилась Сабина. С каждым новым, скрипучим, натужным оборотом колес они удалялись все дальше и дальше от Рима, от долга, от занудных наставлений Плотины. Сабина могла часами сидеть, высунувшись в окно. И пусть при этом она могла продрогнуть до костей, но закрывать ставни отказывалась. Она пожирала взглядом зеленые поля, аккуратные виноградники, которые вскоре сменились неприступными скалами, высокими соснами, резкими тенями. Адриан сказал, что они въехали в Грецию, проделав примерно половину пути до Могунтиакума, где расположен их легион. Германия. Что ждет их там?
Адриан сел на скамью напротив жены. Сабина протянула ему кубок.
– Что это? – спросил Адриан, опасливо поморщившись.
– Это местный мед. Мне нравится.
Адриан поднес кубок к губам.
– Нет, я, пожалуй, предпочту римское вино.
Сабина же сделала еще глоток и развернула свиток.
– Луций Нистерик, если верить тому, что здесь написано, тоже не жаловал мед.
– А кто такой Луций Нистерик? – спросил Адриан, пробегая глазами депеши, что уже летели им вслед из Рима. Не прошло и двух дней, как их, с мешками корреспонденции, уже начали догонять вестовые на взмыленных лошадях.
– Луций Нистерик был легатом, служившим в этих краях при Августе. Я раздобыла список его дневников. Решила, что мне будет полезно их прочитать, чтобы лучше понять, куда мы едем.
– И что интересного ты в них вычитала? – рассеянно поинтересовался Адриан, почесывая собаке живот. Та блаженно развалилась на спине.
– Местные жители неулыбчивы, – прочла Сабина нарочитым басом, – зато они свирепые воины.
– Ну, то, что они неулыбчивы, я заметил, как только мы пересекли горы. – Рука Адриана, гладившая собачий живот, на миг замерла. Тогда собака потерлась об нее носом, и рука возобновила движение. – Будем надеяться, что их свирепость с тех пор поубавилась. Оставь мне почитать эту книгу, хорошо?
– Разумеется. – Сабина с ногами забралась на скамью и поплотнее завернулась в меховую полость. – Скажи, в этой горе корреспонденции мне случайно нет писем?
– От императрицы…
С этим словами он протянул ей свиток с печатью Плотины. Сабина взяла его у него из рук и, не читая, вышвырнула, в окно.
– А что-то другое?
Адриан неодобрительно нахмурил лоб, но замечаний делать не стал.
– Письмо от твоей младшей сестры, судя по корявому почерку. Читай, не буду тебе мешать. Рано утром собаки загнали в лесу оленя с восхитительными рогами, а поскольку нам стоять здесь еще минимум час…
– Ладно, ступай на охоту, – сказала мужу Сабина и помахала рукой. Адриан легонько поцеловал ее в щеку. Его собственная щека была колючей от щетины.
– Смотрю, ты снова отращиваешь бороду?
Сенаторы в Риме посмеивались над ним, и в конечном итоге свою первую бороду Адриан сбрил. Правда, потом еще целую неделю ходил сердитый.
– Думаю, в провинции она никому не помешает, – произнес он, потрогав щетину.
– По-моему, борода тебе к лицу. С ней ты похож на философа.
А еще борода скрывала отметины от подростковых прыщей. Наверно, это и было главной причиной того, почему он отрастил бороду.
«Ты даже более тщеславен, чем я, дорогой муж», – подумала Сабина.
Адриан улыбнулся, потрогал ее волосы и посмотрел на собаку:
– А ты что скажешь, моя старушка? Как ты смотришь на то, чтобы еще разок пробежаться за оленем?
Собака тотчас же поднялась с места и потрусила вслед за ним. Сабина помахала им вслед, затем допила свой мед и отдала кубок рабу, который переминался с ноги на ногу за дверью. Это был симпатичный юноша лет двадцати – темноволосый, длинноногий, мускулистый, родом из Антиохии. В дорогу Адриан обычно брал с собой больше собак, чем рабов. А тех которых брал, все как один были красивыми юношами.
– Госпожа, скажи, ты не хотела бы присоединиться к остальным госпожам, пока повозки будут переправлять через реку?
– Только не это! – ужаснулась Сабина и вновь погрузилась в чтение. Давно отошедший в мир теней легат Луций Нистерик прекратил свои жалобы по поводу неотесанности местного населения и теперь предавался воспоминаниям о днях, когда он служил в Греции. Может, и я вскоре снова окажусь в Афинах. Адриан тоже был бы этому только рад – он уже начал жаловаться на местный воздух, сырой и холодный, дышать которым вряд ли на пользу легким. Как это далеко от ослепительного греческого солнца, лазурного моря, зелени кипарисов. Впрочем, кто знает, вдруг она полюбит местные туманы, густые леса, короткие дни с их темными тенями. «Открыть для себя что-то новое, сделать что-то полезное», – подумала Сабина. С этими мыслями она швырнула прочь свиток с его чересчур резкими суждениями о местном меде и местных женщинах. «Какое мне дело, что там пишет Луций Нистерик».
Викс
Могунтиакум стало не узнать. Теперь, когда в нем были размещены три легиона, это было совершенно другое место. Еще совсем недавно он слыл сонным городком – днем рынок наполняли местные женщины и дети. Вечером, когда у солдат кончалась служба, оживали таверны и дома терпимости. Кроме выпивки и продажных девок, здесь еще имелся мост через Рейн, хотя что там делать, на другом берегу, – этого я не знал. Ах да, был еще алтарь, посвященный какому-то давно умершему римскому правителю, к которому стекались паломники со всей Германии, и театр, по словам Деметры, – причем сказано это было с гордостью в голосе, – самый большой по эту сторону Альп. Я сказал ей, что трижды видел огромные театры в Риме, но она мне не поверила. Я даже не уверен, что она верила в существование Рима. Для Деметры Рим был чем-то вроде Элизия. Если он и существовал, то где-то далеко, сияющий и прекрасный, и не имел к ней никакого отношения.
И вот теперь Мог было не узнать. С приходом новых легионов жизнь била в нем ключом. Царь Дакии собрал под свои знамена тысячи мятежников. В ответ на это император перебросил в Германию новые легионы.
– Три месяца, – сказал когда-то Тит. И оказался прав. Прошла зима, наступила весна, а мы по-прежнему не сдвинулись с места. Впрочем, новые легионы прибывали к нам почти каждый день. Первым пришел Второй «Адъютрихс». Так сказать, помощник. Его солдаты расхаживали с важным видом, похваляясь, что разделаются с дакийским царем и без нас – мол, вы сидите здесь в своем уютном форте, а мы им покажем. Затем прибыл Четвертый «Флавия Феликс». Его солдаты тоже расхаживали с важным видом, говоря, что без них никому не одержать победы. А на прошлой неделе в ворота форта прошествовал Шестой «Феррата». Его солдаты тоже начали важничать, похваляясь своими подвигами на Рейне. В городе тотчас возникла катастрофическая нехватка женщин, и симпатичные девушки, вроде Деметры, выходя из дома, опасливо озирались по сторонам.
– Сколько еще легионов нам нужно? – как-то раз вечером бросил я моим товарищам по казарме, когда мы отправились к шлюхам. Кстати, я вытащил вместе с собой Тита, на которого и я, и мои товарищи по оружию до сих пор посматривали с улыбкой и с… опаской. В конце концов, он трибун, офицер, даже в увольнительной. А это были мои товарищи, с которыми я спал, ел, участвовал в учениях и боевых походах. Обычно в одном контубернии жили по восемь легионеров. Но одного мы потеряли в Дакии, в том самом году, когда я пришел служить в Десятый. Его проткнуло вражеское копье, а еще двое умерли от лагерной лихорадки прошлой осенью. Так нас осталось пятеро – Симон, Прыщ, Филипп, Юлий и я – можно сказать, пятеро братьев.
– Мы с Титом проводили троих мерзавцев к Харону, – пожаловался я. – Не понимаю, почему Десятый не может справиться с остальными, независимо от их численности.
– Маленькая поправка, – подал голос Тит, поднимая голову от кружки с пивом. – К Харону их отправил ты. Я лишь стоял рядом и молился.
– Как видишь, сработало, – улыбнулся я. – Мы с тобой оба живы. Кстати, ты почему еще не отхватил себе красотку? Спрашивается, зачем мы сюда пришли?
– Я не привык ходить по шлюхам, – признался Тит.
В этой тесной, душной и темной комнате рядом с моими товарищами он смотрелся инородным телом. Положив одну ногу на колено, он потягивал пиво, как будто это было вино, а в это время справа от него восседал здоровяк Филипп, с двумя полуголыми шлюхами, слева – Прыщ, который уже успел запустить лапу под подол сидевшей у него на коленях девицы. Напротив, по другую сторону стола, Юлий рассказывал давно набившую оскомину байку о том, что он-де прямой потомок самого Юлия Цезаря.
– К тому же, – продолжал Тит, – сейчас в форте стоят еще три легиона, так что женщин все равно на всех не хватит. – С этими словами он кивнул в сторону полуголых девиц, и они в ответ расплылись в счастливых улыбках. – Думаю, бедные женщины перетрудились и без меня.
– И это верно, – отозвалась рыжеволосая красотка, сидевшая у меня на коленях, с которой я проводил ночи, если не шел к Деметре. – Солдаты Шестого – страшные наглецы. И вдобавок скупердяи, каких свет не видывал.
– А эти их знамена с львиной головой! – проворчал Симон, раскалывая кружкой орех. – Эй, милашка, не принесешь ли ты мне еще меда? Потом можешь сесть ко мне на колени, и мы выпьем его вместе.
– Только не пытайся задобрить меня словами, – отозвалась девица. – Никакая я тебе не милашка, и ты знаешь, сколько я стою. Так что гони монету, прежде чем я сяду тебе на колени или куда-то еще.
– Теперь я склонен неплохо думать о Шестом, – с этими словами я обнял за шею мою рыжую и приготовился озвучить важную новость, которая вертелась у меня на языке весь вечер. – Наш центурион со свойственной ему бесконечной мудростью сказал… – я выдержал паузу, давая возможность моим товарищам сплюнуть и выругаться, – что после того, как к нам влились наши братья из Шестого, наш лагерь переполнен…
– Как будто мы этого сами не знаем!
– Собственно говоря, это я указал ему на это, – произнес Тит. – Хотя меня он тоже слушать не стал.
– И те солдаты, у которых есть договоренности в городе, могут там ночевать, при условии, что они в состоянии оплатить такую роскошь. – Сообщив эту новость, я с довольным видом откинулся на спинку стула. – Так что вы, если вам нравится, можете и дальше делить казармы с легионерами Шестого и их львиными головами. Я же буду нежиться в постели Деметры.
– Эй! – тотчас возмутилась моя рыжая и больно ткнула меня в плечо.
– Не переживай, моя дорогая. У меня и на тебя найдется время, – сказал я и притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Симон бросил в меня ореховой скорлупой. Юлий, который обожал хвастать, будто ведет свой род от легендарного Юлия Цезаря, на том лишь основании, что у него точно такая же лысина и нос крючком, сделал мне неприличный жест, даже не отрывая губ от пышных грудей своей девицы.
– Эй, вы все будете чавкать помои, которыми вас будут потчевать полковые повара, – не без злорадства бросил я им в ответ, – а я буду каждое утро просыпаться в теплой постели Деметры и…
– Эй, где мое копье? – спросил Филипп своих полуголых девиц. Те захихикали. Филипп был худощавый грек, невысокого роста, но очень юркий. И если в руках у него не было игральных костей, значит, он держал в них копье.
Когда же руки его были заняты копьем, вам оставалось только молиться, – какому богу, без разницы, – лишь бы его острие не было направлено в вашу сторону.
– Сказать тебе, где твое копье, легионер? – хихикая, спросила одна из девиц. – Оно стоит у тебя, вытянувшись по стойке смирно, как и полагается настоящему солдату.
– Разумеется, я буду только рад, если вы заглянете ко мне. Я с удовольствием угощу вас свежим хлебом и жареной свининой, – произнес я. – Мне казалось, я вас сразу пригласил.
– Так бы сразу и сказал! – Прыщ оставил в покое нож, которым уже было собрался провести мне по волосам. – Так и скажи этой своей зазнобе, что Прыщ явится к ней завтра, как только освободится.
– Прыщ, ну и имечко у тебя, – заметил Тит. – И где ты его только приобрел?
– И не спрашивай, – усмехнулся я, а Прыщ нахмурился. В свои семнадцать лет он был среди нас самым младшим: светловолосый галл, мощный как каменная глыба. Когда он впервые появился в нашем контубернии, на заднице у него красовался прыщ размером с яблоко. А, как известно, в армии стоит прозвищу прилипнуть, как вам носить его до конца своих дней. Тем более такое. Моя рыжая сердито посмотрела на меня.
– Так вот почему ты все время торчишь у этой гречанки. Из-за жратвы?
– Ну-ну, ты только не сердись.
– Тогда зачем тебе вторая грелка, Верцингеторикс? – обидевшись на меня, рыжая соскользнула с моих колен. – А не найти ли мне ради разнообразия кого-нибудь поблагороднее, – с этими словами она схватила Тита за руку и рывком заставила его встать. – Эй, трибун, не хочешь убедиться, что рыжие волосы у меня не только на голове?
– Я никогда не стал бы подвергать сомнениям твои слова, – вежливо ответил Тит. Но рыжая уже тащила его за собой.
– Эй, ты на чужое добро рот не слишком-то разевай! – крикнул я ему вслед, но он лишь испуганно посмотрел на меня и покорно последовал за рыжей наверх.
– Так тебе и надо, – бросил мне Симон. В нашем контубернии он был самый старший: темноволосый здоровяк лет сорока, чья служба в легионе близилась к концу. Именно он приветствовал меня, когда я только прибыл в Десятый неопытным солдатиком только что из учебного лагеря.
– Верцингеторикс, – прогремел он тогда, окинув придирчивым взглядом мою новую форму и чистые сандалии. – Откуда будешь? Из Галлии?
– Из Британии, – ответил я.
Симон фыркнул и указал на самую нижнюю койку в контубернии.
– Новобранцы с каждым днем все моложе и моложе, – сердито пробормотал он по-еврейски.
– А ветераны все старше и старше, – бросил я в ответ на его же языке.
Брови Симона тотчас поползли вверх.
– Так ты кто, еврей или британец?
– Ни тот и ни другой, – ответил я уже на латыни, потому что еврейским не пользовался давно. – Но моя мать была еврейка.
– Значит, и ты еврей, – твердо произнес Симон.
– Это почему же?
– Ты еврей, потому что твоя мать еврейка. Таков наш закон.
– А почему мать? – удивился я. – Разве это считается не по отцу?
– Через Иудею прошагало столько солдат вроде нас с тобой, что сказать, кто твои предки по отцовской линии, невозможно. – Симон поморщился.
Я его люблю. Такого, как он, хорошо иметь рядом с собой в бою.
Вскоре сверху, весь всклокоченный и взъерошенный, спустился Тит.
– Как? Уже все? – изобразил удивление я. – Да, быстрая работа. Признавайся, это ведь твой первый раз. Верно я говорю?
– Нет, я спустился лишь на минутку, чтобы сказать тебе, чтобы ты шел домой без меня, – пояснил он. – Она готова подарить мне целую ночь за ее счет.
– А вот мне почему-то такого никто ни разу не предлагал, – пожаловался Прыщ. – Признавайся, в чем твой секрет?
– Я просто сказал, что у нее винного цвета губы. Это из Одиссеи, ну или почти.
– Поэзия, – задумчиво протянул Филипп. – И как это мне ни разу в голову не пришло? Скажи, у тебя в заначке не найдется еще пару-тройку цитат?
– Если хочешь, я завтра составлю для тебя целый лист, – пообещал Тит, вернее, бросил через плечо, потому что уже поднимался наверх. После этого его все полюбили, пусть он и трибун.
Долгая, утомительная зима. Впрочем, скоротать ее помогла Деметра: ее гибкое, теплое тело в постели рядом со мной и ее вкусные, сытные ужины в моем желудке. Остальные мои четыре товарища наведывались ко мне всякий раз, когда у них возникал свободный от караула вечер. Они уже привыкли к тому, что Тит – часть нашей дружной компании, и не морщились и не шикали на него, когда он принимался цитировать Цицерона. А вот Деметра Тита до сих пор побаивалась, как и Симона.
– Ты уверен, что он не дьявол? – шепотом спросила она, видя, как он по-еврейски шепчет над тарелкой молитву. – Говорят, будто евреи убивают своих младенцев, – с этими словами она испуганно покосилась на сына, который увлеченно возился со своей деревянной лошадкой.
– Если и убивают, то только своих, – успокоил ее я.
– Но, Вер…
– Прекрати!
Деметра прикусила губу. Впрочем, и я тоже. В конце концов, ей сейчас приходилось несладко, когда город был наводнен солдатней. Такой красавице, как она, опасно было даже высунуть нос из дому. Стоило ей выйти на рынок, как на нее со всех сторон налетали целые полчища похотливых легионеров. Сначала она пыталась не подавать виду, что рада, когда я со всем своим нехитрым скарбом переехал к ней на постой. Зато она плакала от радости, когда я впервые, как говорится, дал от ворот поворот компании нахалов, которые пытались ломиться к ней в дверь. В ту ночь она была так счастлива, что позволила мне любить ее даже поверх одеял, чтобы я мог сполна насладиться ее красотой. В свете очага я уложил ее поверх себя, и ее волосы упали мне в руки подобно медовым волнам. Она обняла меня за шею, но я видел, что она все равно стесняется, и тогда я со смехом вытащил из-под себя одеяло и укрыл нас обоих.
– Так и быть, пусть будет по-твоему, недотрога.
– Разве я недотрога? Неправда. Просто у нас не принято заниматься любовью, не накрывшись одеялом.
– Я же варвар! Или ты забыла? – Для пущей убедительности я зарычал и укусил ее в плечо. – У нас все по-другому.
– Знаю. – Она со смехом поцеловала меня. Как легко было заниматься с ней любовью – она лежала подо мной, источая аромат свежеиспеченного хлеба, а когда все закончилось, прильнула к моему плечу и что-то еще долго щебетала, рассказывая мне последние сплетни и слухи, которые слышала в пекарне. Например, про то, будто у дакийского царя есть львиная грива и три рога или что в театре скоро будет новая постановка. Нет, она не ждала от меня, что я стану ее внимательно слушать, да я и не слушал, потому что дремал, убаюканный ее голосом и шелком ее волос. Дремал, мечтая о славе.
В тот год весна пришла рано. Все вокруг тотчас раскисло, что, однако, не мешало слухам достигать наших ушей. А слышали мы, будто даки все чаще и чаще мутят воду на границе империи, и я надеялся, что вскоре мы все выступим в поход. Но, увы, наш легат заболел, что ему самому было только на руку. Наконец-то у него появился уважительный предлог вернуться из германского болота в свой уютный дом на берегах Тибра, где царили благодать и покой и ничто не угрожало его безопасности. Ну разве не забавно с пеной у рта отстаивать репутацию Десятого перед легионерами Четвертого, Шестого и Второго, когда их легаты так и рвались в бой, в то время как наш при первом же удобном случае укатил в Рим. Впрочем, все споры вскоре прекратились сами собой. К нам прибыл император.
Плотина
Дом Весталок был полон маленьких девочек. Одни от восторга прыгали на одной ножке, другие слегка испуганно озирались по сторонам. Длинный, узкий атрий, с его тихими бассейнами и двойным рядом статуй, был набит ими битком. Те, что посмелее, время от времени пытались подойти ближе к пяти жрицам в белоснежных одеждах, что наблюдали это столпотворение. Самые робкие цеплялись за материнские юбки. Впрочем, Плотину интересовали не они.
– Моя дорогая, какой сюрприз! – Она склонилась в поклоне перед единственной женщиной в Риме, которая была достойна этого поклона. – Вот уж не ожидала, что ты придешь посмотреть, как мы будем выбирать новых весталок.
– В этом году этой чести удостоилась одна из внучек моей сестры. – С этими словами Домиция Лонгина, вдова императора Домициана и бывшая римская императрица, приподняла Плотину из глубокого поклона. – Я пришла поддержать ее.
– Я всегда рада тебя видеть. – Плотина взяла свою предшественницу под руку. Сопровождавшие обеих женщин преторианцы тотчас последовали за ними на почтительном расстоянии. Бывшая императрица наезжала в Рим крайне редко. После убийства Домициана она удалилась на виллу в Байи и почти не появлялась на людях, предпочитая жить затворницей.
– Я как раз подумывала нанести тебе визит, – сказала Плотина. Более того, было нечто такое, что ей хотелось обсудить со своей предшественницей с глазу на глаз. И вот теперь удача сама свалилась ей в руки.
«Спасибо Юноне. Это она устроила для меня эту встречу, – подумала Плотина. – Надо не забыть в знак благодарности принести ей в жертву корову».
В следующий миг к ним подбежала маленькая девочка в ярком платье, с букетиком фиалок в руке. Она растерянно замерла на месте, не зная, какой из двух женщин подарить свой букетик. Плотина незаметно кивком указала на свою спутницу, и девчушка протянула цветы старшей из женщин. Домиция Лонгина с вежливым кивком приняла ее подарок. Высокая, хотя и ниже Плотины, с непроницаемым, словно у статуи, лицом и седыми волосами, убранными в узел под покрывалом. На бывшей императрице было простое бледно-голубое платье, поверх которого наброшена белая шерстяная палла, зато в глаза бросалось полное отсутствие украшений – истинное воплощение скромности, простоты и достоинства. Когда Плотина заняла ее место, она всячески пыталась подражать своей предшественнице.
– Которая твоя кандидатка на шестую весталку? – спросила она, когда они возобновили свой неспешный шаг вдоль зеркальной глади бассейна. – Ты сказала, это твоя внучатая племянница?
– Да, малышка Друзилла Корнелия.
Бывшая императрица кивнула в сторону девочки в голубом платье, крепко державшей за руку бабушку. О том, что они родственницы, догадаться было легко: у обеих были одинаковые ямочки на щеках.
– Правда, я бы не сказала, что буду рада, если выберут именно ее. Все-таки тридцатилетний обет девственности – нелегкая вещь, и я не пожелала бы такой участи девятилетнему ребенку. С другой стороны, это честь, от которой нельзя отказываться.
– Как только весталка покидает храм, кандидатки на ее место рассматриваются самым тщательным образом, – успокоила ее Плотина. – В этом году, поскольку император уехал в Германию, я взяла отбор кандидаток под свое покровительство. Думается, мне не надо тебе объяснять, как важно выбрать девочку с безупречной моральной репутацией. В конце концов, весталкам поручено охранять негасимый огонь, этот символ нашей святости. Так что не каждая хохотушка подойдет на эту роль.
– Это как сказать. Самая лучшая весталка, которую я знала, была хохотушкой и уж точно не девственницей.
Плотина растерянно заморгала. Что это? Шутка? Но нет, лицо бывшей императрицы сохраняло свое величаво-бесстрастное выражение.
– Моя дорогая, могу я называть тебя просто Домиция?
– Это имя больше мне не принадлежит. Его дал мне Домициан. Ему нравилось, что жена названа в его честь. Но его больше нет. Так что я предпочитаю, когда меня называют по имени, полученном при рождении.
Сказано это было все тем же бесстрастным тоном, под стать выражению лица. Разумеется, бывшая императрица неизменно отзывалась о покойном супруге с почтением. Впрочем, поговаривали, что… Вообще их брак начался со скандала, – будущая императрица просто сбежала из дома со своим возлюбленным, – кстати, уже будучи замужем за другим! Неудивительно, что разлад между супругами не заставил себя ждать. Вскоре начались ссоры, любовники, развод, повторный брак. До сих пор упорно ходили слухи о том, что убийство Домициана было задумано заранее и исполнено его венценосной женой. Той самой женщиной, что сейчас стоит рядом с Плотиной, нюхая розовый бутон. Нет, это все людские выдумки. Можно подумать, ей не известно, что злые языки падки на разного рода домыслы о женщинах их положения. А все зависть – если не к титулу, то к несомненному нравственному превосходству. Так что пусть говорят, что хотят. Она же имеет полное право не обращать внимания на слухи. С другой стороны, ей всегда не давал покоя вопрос, почему вдовствующая императрица никогда не облачалась в траур по убитому мужу, чтобы выразить свою скорбь?
– Если не ошибаюсь, твое девичье имя Марцелла Лонгина Корнелия? – спросила Плотина у своей спутницы. – Я знаю, почему ты предпочитаешь именно его. С ним связано меньше горьких воспоминаний.
Вдовствующая императрица невесело улыбнулась.
– Да, примерно так.
Тем временем пятеро весталок пытались направить шумную девчачью толпу ко входу в храм. Вслед за девочками шагали беседующие между собой матери и гордые отцы. Видя, что ее спутница тоже направляется вслед за ними, Плотина взяла ее за локоть, призывая остановиться.
– Подожди. Я хотела бы поговорить с тобой, дорогая Марцелла. Есть одно важное для меня дело…
– Разумеется.
Они остановились рядом со статуей какой-то весталки. Хотя сама она давно покинула этот мир, ее мраморная фигура до сих пор любовалась своим отражением в зеркальной глади бассейна.
«С чего же мне начать, – задумалась Плотина. – Наверно, с женщиной равной по положению не стоит ходить вокруг да около, лучше называть вещи своими именами. В конце концов, Марцелла Лонгина когда-то была хозяйкой Рима, Императрицей семи холмов, земной сестрой небесной Юноны. Так что она не может не понять».
– Ты знаешь воспитанника моего мужа, Публия Элия Адриана?
– Разумеется. Прекрасный молодой человек. Помнится, как-то раз он посвятил мне поэму. Вернее, небольшой, забавный стих. Правда, по-моему, он страшно обиделся, когда я ему это сказала. Такие молодые люди, как он, обычно бывают жутко ранимы.
– Его воспитала я, – скромно призналась Плотина. – И я могу гордиться его достижениями. Причем это не только стихи. Между прочим, он получил назначение на должность легата в Германии. Я просто уверена, что он покроет себя славой, сражаясь против свирепых даков. Я была бы счастлива видеть, как он движется к вершинам славы и власти.
– Естественно, – согласилась Марцелла и вновь зашагала дальше. Ее безмятежный, царственный профиль величаво поплыл вдоль колонн. Плотина поспешила взять ее под руку и доверительно понизила голос, хотя, кроме них, в атрии не было ни души. Лишь только они двое – императрицы, сестры, богини – о чем-то беседующие.
– Я хотела бы поговорить о престолонаследии. Траян не хочет называть преемника. Говорит, что пока он сам в добром здравии, это дурная примета, и наотрез отказывается слушать мои советы. Впрочем, ты сама знаешь, какие они, императоры.
Ответом на ее слова стал еле слышным вздох.
– Но я волнуюсь. И прежде всего, за Рим. Нужно, чтобы империя попала в надежные руки. А самые надежные руки у моего дорогого воспитанника Публия.
Сказав эти слова, она сделала выжидательную паузу. Увы. Марцелла лишь вопросительно выгнула бровь. Плотине ничего не оставалось, как продолжить свою речь.
– Я ввела его в императорскую семью, женила на Вибии Сабине. Мне казалось, что это должно сделать свое дело – ведь речь идет не только о семейных узах. Траян высочайшего мнения о ее отце. Марк Норбан – один из самых порядочных людей в Риме…
– По крайней мере большую часть времени, – негромко прокомментировала Марцелла.
– И я подумала, – продолжила свою мысль Плотина, – что этого будет достаточно. В смысле, достаточно для Траяна, чтобы он отдал дорогому Публию то, что ему принадлежит по праву. Но этого не произошло. И вот теперь я даже не знаю… – Плотина усмехнулась. Рядом с бывшей императрицей она ощутила себя сущей глупышкой. – Извини, я даже не знаю, как лучше выразиться. То есть можно ли этому посодействовать? И что могу я в моем положении? Одно я знаю наверняка: лучше моего дорогого Публия никого нет. И мне казалось, что все остальные это сами поймут, достаточно намекнуть. Увы, все не так-то просто, и некоторых стоит – скажем, так – подтолкнуть в нужном направлении. Но как? Жене не полагается вмешиваться в такие вещи. С другой стороны, долг императрицы действовать во благо Рима.
Кстати, это последнее давно не давало ей покоя. Жена или императрица? Императрица или жена?
– Что я должна поставить на первое место? – Плотина даже остановилась, чтобы перевести дыхание. – Ты ведь наверняка в свое время помогла мужу занять императорский трон. Какова была твоя помощь? Я во всем пытаюсь следовать твоему примеру, моя дорогая Марцелла. Буду следовать и в этом деле. Что я должна сделать, чтобы помочь Публию?
Марцелла Лонгина смерила собеседницу пристальным взглядом.
– Очередная императрица-интриганка, – произнесла она после долгой паузы. – Замечательно!
– Нет, я не интриганка, – с улыбкой ответила Плотина. – Мне просто хочется знать, чем я могу помочь… посодействовать. Тем более, в нынешних обстоятельствах, которые, как известно…
– Ты ищешь моего совета. Что ж, я тебе его дам, – перебила ее Марцелла. – Никаких интриг. Никаких заговоров. Никакого содействия.
– Я бы не стала это так называть, – оскорбилась Плотина. – Я ведь пекусь об интересах Рима.
– Фортуна, упаси меня от лицемеров, – пробормотала Марцелла, покачав головой. – По крайней мере в свое время я никогда не притворялась, будто пекусь о чьем-то благе, кроме моего собственного. Я не пыталась спасти Рим. А просто хотела посадить на трон собственного избранника. И что бы ты там ни говорила, ты мечтаешь о том же.
– Я не…
– О, не пытайся перехитрить старую интриганку, моя дорогая, – с этими словами Марцелла потрепала свою собеседницу по щеке. – Я занималась таким вещами дольше, чем ты, и с куда большим успехом. Мои интриги свели в могилу не одного императора, хотя они же едва не свели в нее и меня. Теперь я стара, и мои интриги остались в прошлом. И я настоятельно советую тебе сделать то же самое, прежде чем ты даже начнешь, а твой дорогой Публий пусть прокладывает себе дорогу сам.
– Я лишь спросила, – пролепетала Плотина, не зная, что возразить. Она еще ни разу не чувствовала себя такой растерянной. – То есть…
– Я ничего не хочу знать, – перебила ее Марцелла и даже подняла руку. – В эти дни, если я и занимаюсь политикой, то лишь прошлой, а не настоящей. Я пишу историю Республики, и единственные интриги, к которым я причастна, это те, которые я описываю на страницах моей книги. Пока что это первые сто лет. Передай Старшей Весталке мои извинения. Боюсь, я не останусь на церемонию избрания.
С этими словами она повернулась и неторопливо вышла из залитого солнцем атрия в скромное круглое помещение, которое было храмом Весты. Плотина поспешила вслед за ней. Ее душила досада, которая была готова сорваться с ее языка потоком резких слов. Да, сегодня ей явно предстоит нанести визит статуе Юноны, но не с благодарственными подношениями, а чтобы выразить богине свое сочувствие.
О нет, не верная дочь она тебе, о, Юнона, о нет! Как, должно быть, страдала ты во время правления Домициана, не имея настоящей императрицы, которую бы вела твоя рука. Все эти слухи верны – то, что она спала с актерами и гладиаторами, что убила собственного мужа Я твоя единственная верная сестра. И она еще посмела назвать меня интриганкой!
Плотина словно прозрела. О боги, как наивна она была просить совета у такой женщины! Неужели ей самой не хватает ума? Или совести? Неужели она сама не знает, что лучше для Рима? Для Траяна? Для дорого Публия?
Нет, все-таки титул императрицы должен стоять перед словом «жена». И если ее долг – наставлять Траяна на путь истинный, то она этот свой долг выполнит. Она поможет ему. Она поможет дорогому Публию.
Старшая Весталка призвала к тишине как раз в тот момент, когда императрица Марцелла подошла к своим близким. Все разом примолкли, и в наступившей тишине Плотина услышала, как Марцелла слегка насмешливо обратилась к сестре:
– Пойдем, Корнелия. Думаю, нам лучше вернуться домой. Сегодня вряд ли выберут твою внучку.
(обратно)
Глава 11
Викс
– Разве он не хорош собой, наш император? – Я расплылся в улыбке.
– Это император? – удивилась Деметра. Она не разговаривала со мной все утро, однако стоило ей увидеть, как по улицам Мога верхом на коне скачет император, как ее милый ротик тотчас открылся. – Да он вылитый бог!
– Он и есть бог.
– Пожалуй, ты прав, – поддакнул Тит, стоявший по другой бок от Деметры словно столб. Сегодня он был в тоге. Он вообще при первой возможности переоблачался в тогу, и, как не странно, даже в этой давке, складки на ней оставались безупречными. – С Траяном не сравнится никто.
Наш император гарцевал на вороном коне по улицам Мога – в алом плаще и латах, он махал рукой и что-то выкрикивал в ответ на ликование толпы. Он мог быть кем угодно – живым богом, виновником торжества или просто императором. Да-да, наверно, таким и должен быть император.
– Как-то раз во время схватки я разрезал ему руку, – задумчиво произнес я. – У него наверняка остался на руке шрам.
– Только не надо лгать, – укоризненно произнесла Деметра.
– А я не лгу. Это была отличная схватка – имейся у него щит, он бы наверняка одолел меня, но…
В этот момент меня, осыпав проклятиями, толкнул какой-то легионер. Я тотчас подхватил сына Деметры и посадил себе на плечи, чтобы его не раздавила напирающая толпа. Мальчонка закричал от восторга и крепко вцепился ручками мне в волосы. А в следующий миг мимо нас ровными красно-золотыми рядами зашагала преторианская гвардия.
– Может, и не будет никакой войны, – сказала Деметра. Прикрыв глаза ладонью, она всматривалась поверх голов. – Раз император здесь, может, он захочет мира?
– Надейся, если тебе нравится, – сказал ей Тит. – Я тоже на это надеюсь. Но боюсь, мы с тобой одни такие. Никто – начиная императором и кончая последним рабом – никакого мира не хочет.
– Вот и я не хочу, – произнес я, вытягивая шею вслед удаляющемуся алому плащу, который почти скрылся за поворотом дороги в направлении форта. В иное время я бы встречал императора, стоя в строю, вместе с моими товарищами по легиону. Но нас, легионеров, было слишком много, чтобы выстроить всех вместе, и потому половину нашей братии отпустили встречать императора вместе с толпами горожан. Те из нас, что сейчас стояли навытяжку у ворот форта, с трудом выдерживали эту пытку. До меня за целую милю то и дело доносился стук древка о щит, когда какой-нибудь бедолага, устав стоять по стойке смирно, пробовал переминаться с ноги на ногу. Внезапно мне самому захотелось оказаться среди них, в облаке терпких запахов раскаленного железа и пота.
– Солдатики! – крикнул сынишка Деметры, вцепившись мне в уши, и я, взвыв от боли, снял негодяя со своих плеч. При этом я сделал такое сердитое лицо, что мальчишка, вместе того, чтобы испугаться и расплакаться, принялся хихикать.
– По крайней мере, кто-то находит меня смешным, – заметил я. Деметра ничего не сказала в ответ. Наоборот, поджав губы, уставилась в землю. Тит растерянно посмотрел на нас.
– По идее, сегодня праздничный день, – сказал я и, взяв за пятки, перевернул сына Деметры вверх тормашками. Мальчонка тотчас разразился визгом и хохотом. Преторианцы уже прошли, и теперь мимо нас тянулись повозки, императорские вольноотпущенники, секретари и надсмотрщики, и прочая свита, что хвостом следовала за ним, куда бы он ни направился. Ликование толпы заметно поубавилось, хотя мне до сих пор был слышен стук копий о щиты. Рев солдатских глоток с каждой минутой тоже становился громче. Стоявшие вокруг меня зеваки теперь трещали без умолку о чем-то своем. По кругу пошли мехи с вином, кто-то размахивал флагами, в общем, это был праздник в полном смысле этого слова.
– Сегодня праздник. Хватит дуться, – сказал я Деметре.
– Дуться? – переспросила она. Голос ее при этом почему-то сорвался на писк. – Ты считаешь, что я дуюсь?
– Итак, – встрял в наше препирательство Тит. – Мне казалось, сегодня твоя очередь стоять на часах. Признавайся, как тебе удалось отвертеться?
– Госпожа удача. Вместо меня эта честь сегодня выпала Симону и Прыщу. Бедолаги, вот кому не позавидуешь!
Я взглядом поблагодарил Тита, что он вмешался в наш разговор. Он подмигнул мне в ответ и повернулся к Деметре.
– Позволь мне взять тебя за руку, если не хочешь быть раздавленной…
Деметра застенчиво покачала головой. Тит теперь регулярно приходил к ней на обед, и она уже давно перестала падать на колени, завидев его, однако до сих пор робела в его присутствии.
– Не понимаю, как солдат может быть приятелем офицера, – сказала она как-то раз, как мне показалось, с неодобрением. – Нужно дружить со своей ровней.
– Кто это сказал? – удивился я.
– Кстати, слышали новость? – вновь подал голос Тит. – В принципии говорят, будто у нас новый легат. Викс, может, ты его, наконец, перевернешь?
– Легата? А-а-а, понял, – до меня только сейчас дошло, что я по-прежнему держу сына Деметры вверх ногами, и я поспешил поставить мальчонку на ноги. По-прежнему отказываясь посмотреть мне в глаза, Деметра взяла сына на руки. Впрочем, мальчонка, похоже, был доволен, потому что улыбнулся мне. Он был симпатичный, этот пострел, темноглазый и золотоволосый, как и его мать. – Так что там с легатом? – уточнил я. – К нам точно прислали нового?
– Он только что прибыл из Рима, – довольно сообщил Тит, как будто лично сопровождал легата от самого Капитолийского холма. – Говорят, что он родственник императора. Если не кровный, то благодаря женитьбе.
– То, что нам нужно, – улыбнулся я, плечом прокладывая нам дорогу. Мы с трудом пробивались сквозь толпу, пытаясь подобраться ближе к форуму. Тит, как истинный женский угодник, следил за тем, чтобы Деметру с ребенком никто не толкал. – Очередной бездельник-патриций.
– Бездельник-патриций это я, – возразил Тит. – Кстати, мы не так уж и плохи.
– И все равно я не доверил бы тебе вести наш легион. Такого плохого трибуна как ты, еще нужно поискать.
– А, по-моему, – робко подала голос Деметра, – ты очень даже хороший трибун.
– Викс имел в виду не это.
– Именно это. Скажи, кому нужен неженка в тоге во главе колонны? Нам нужен настоящий воин! Тот, кто дослужился до своего звания от центуриона.
– Кто-то вроде тебя самого? Хорошо, я замолвлю за тебя слово, Викс, хотя ты еще и ходишь в рядовых легионерах.
– Пока. Вот увидишь, я стану центурионом. Затем старшим центурионом, затем префектом лагеря, после чего получу в свое командование легион. – Наконец мы пробились к форуму, и я остановился, чтобы купить у уличного торговца порцию жареного мяса. – Вот и все. Просто, как песня.
– К сожалению, легатами назначают только патрициев, – возразил Тит.
– Тогда я стану первым плебеем на этом посту.
– Для начала походи опционом, – бросила Деметра. – А тебе им не быть, если учесть, что опционы тебя на дух не переносят.
– А кому хочется быть опционом? – с этими словами я откусил кусок мяса. – Трусливые хорьки, вот кто они такие.
– В таком случае, заведи дружбу с тем, кто мог бы сделать тебя центурионом в обход опционов, – посоветовал Тит. – Давай встретимся сегодня вечером в принципии и поговорим на эту тему. Сегодня император устраивает для своих офицеров званый обед. Туда нам с тобой не попасть, однако и за дверями зала наверняка будет немало полезного нам народа. Только моя к тебе просьба, приведи себя в порядок, чтобы я смог тебя кое-кому из них представить.
– И все равно я отказываюсь понять, – не унималась Деметра, – чем тебя не устраивает должность опциона. Да и деньги были бы не лишними. Особенно этой осенью.
– Я, кажется, сказал тебе, не заводи эту песню.
При этих словах Деметра насупилась и вырвала у меня руку. Подхватив сына, они принялась прокладывать себе пусть сквозь толпу.
– Не было печали, – буркнул я.
– В чем дело? – растерянно спросил Тит.
– Эта глупая корова беременна. – Я доел мясо, выбросил жирный вертел и вытер одна о другую руки.
– Мои поздравления, – весело произнес Тит.
– Это с чем же?
– Так обычно говорят в таких случаях. И вообще, приятель, разве ты не рад. Она красивая, из приличной семьи, готовит как богиня. Нет, богини вряд ли умеют готовить, так что она даже лучше, чем богиня. Надеюсь, ты на ней женишься?
– Это она так считает, – ответил я, подавив отрыжку. – Как только она поняла, что я ее обрюхатил, она вцепилась в меня мертвой хваткой, мол, мы поженимся, переедем в дом попросторнее, и прочая чепуха в том же духе.
– По-моему, это лучше, чем погибнуть, – задумчиво произнес Тит. – Я бы не отказался иметь жену, которая бы меня кормила.
– Вот и женись на ней.
– И растить твоего ребенка? Нет, я раньше времени в могилу не хочу, – Тит бросил взгляд в ту сторону, куда ушла Деметра. – Ты не хочешь ее догнать?
– Зачем? Прошлой ночью мы с ней уже поссорились из-за этого.
– Верцингеторикс, она носит твоего ребенка! – Голос Тита прозвучал на удивление строго. – Уже по одной этой причине она достойна твоего уважения.
– Ну ладно, твоя взяла, – в сердцах бросил я и двинулся вдогонку за Деметрой.
Уйти далеко у нее не получилось. Вскоре она застряла в толпе, так что я поравнялся с ней в тот момент, когда ей наконец удалось выбраться с форума на какую-то кривую улочку.
– Только не вздумай в очередной раз разыгрывать этот спектакль, чтобы досадить мне, – сказал я, беря ее под локоть. – Здесь вокруг полно солдатни, которую хлебом не корми, только дай…
– А тебе не все равно? – бросила Деметра, глядя перед собой, и даже не убавила шага. Щеки ее пылали гневным румянцем. – Тебе ведь не нужен твой собственный ребенок. Тогда с какой стати тебе заботиться обо мне?
– Но ты ведь знаешь, что солдатам запрещено жениться. Какой им толк обзаводиться семьей? Можно подумать, тебе легко с одним ребенком. А что ты будешь делать с двумя?
Она не ответила, лишь еще выше вздернула подрагивающий подбородок и потащила меня за собой, так как я по-прежнему не выпускал ее локоть.
– Я же сказал, что дам тебе денег!
– Чтобы я от него избавилась!
– Пока срок небольшой, это еще можно сделать. И оплачу тебе дни, когда ты не сможешь работать, – добавил я в порыве щедрости.
Она попыталась возразить, затем умолкла, а потом перешла на свой родной греческий.
– Что? – крикнул я. Но она уже вырвала руку и едва ли не бегом бросилась по улице. – Что я такого сказал?
– Уйди от меня!
– Ага, сейчас ты гонишь меня прочь, – крикнул я в ответ, – а когда брюхо полезет тебе на нос, придешь с протянутой рукой. Ты хоть думаешь когда-нибудь? Предохраняешься ради себя самой?
– Нет! – Она уже почти дошла до переулка, где находилась пекарня, над которой она жила, но в последний момент повернулась ко мне. В глазах ее застыли слезы, но подбородок по-прежнему гордо смотрел вверх. О боги, как прекрасна она была в эти мгновения: золотистые локоны разметались по плечам, щеки похожи на алые розы… Но, клянусь Хароном, она меня доконала.
– Нет, я не предохранялась. Я ведь не шлюха. Викс, откуда мне знать, как это делается.
– То есть чтобы думать заранее, нужно быть шлюхой? – Мне тотчас вспомнилась Сабина с египетскими снадобьями, благодаря которым мы могли не опасаться за последствия. – Лучше признайся честно, ты просто решила захомутать очередной мужа.
– Неправда!
К этому моменту на нас уже начали оглядываться. Я счел нужным понизить голос.
– Прошу тебя, посмотри на это дело разумно.
Деметра с такой силой прижала в себе сына, что тот вскрикнул. В следующий миг она резко развернулась и исчезла в пекарне.
– Ты сама знаешь, что я прав, – крикнул я ей в спину. – Я дам тебе денег, и все снова станет на место, как раньше.
– Мне не нужны твои деньги.
Нет, деньги, конечно, ей были нужны – потому что еще кроме них ей нужно? Что вообще нужно женщинам?
– Деметра!
Но она захлопнула дверь пекарни прямо перед моим носом. Затем до меня донесся всхлип, а потом все стихло.
Я какое-то время колотил кулаками в дверь, но она так и не открыла. Внезапно я понял, что на меня из окон, хихикая, таращатся все местные кумушки. Я показал им неприличный жест и зашагал прочь. Чертовы бабы. Скорее бы уж наш Десятый отправили в Дакию! Ноги сами перенесли меня через мост, под которым, шумно несла весенние воды река, чем-то напоминая мое собственное настроение. Перейдя реку, я избитой тропой зашагал к себе в лагерь. По дороге меня окликнули два солдата из моей когорты, но я с такой злостью посмотрел на них, что они даже не стали останавливаться.
Ворвавшись в принципию, я принялся читать развешанные по стене объявления. Потому что первым дело все новости попадали сюда: повышения, увольнения, праздники, надвигающиеся проверки. Так что если новая кампания против даков не за горами, – а еще лучше, уже завтра, – то здесь непременно должно быть вывешено объявление. Увы, как я ни искал глазами, ничего даже близко похожего я не нашел. Готовый лопнуть от злости, я резко развернулся на пятках и едва не врезался в высокую фигуру в тоге.
– Смотри, куда идешь, – рявкнул я.
– Это ты смотри, куда идешь, солдат, – раздался в ответ бархатистый, патрицианский голос. Голос, который я тотчас узнал, прежде чем увидел того, кому он принадлежит. На меня смотрело красивое, бородатое лицо. Как хорошо знал я этот голос. А еще я помнил другой, голос трущоб, который когда-то бросил мне:
– Это тебе от трибуна Адриана.
После чего в лицо врезался чей-то кулак, а в бок – чей-то сапог.
Клянусь Хароном, с каким удовольствием я бы врезал ему сейчас. У меня чесались кулаки.
– Трибун, – сказал я.
– Уже не трибун, – ответил он и посмотрел на меня пристальнее. – Я тебя знаю.
И это не был вопрос.
– Можно сказать и так. – Я отвесил поклон, вспоминая о том, сколько розог я получил от центуриона за то, что поднял руку на старшего по званию. Но оно того стоило.
От меня не скрылось, как блеснули его глаза. Как будто он мысленно развернул хранившийся в голове свиток и, пробежав его глазами, нашел нужное ему место.
– Верцингеторикс. Стражник Норбана. Впрочем, не вижу ничего удивительного в том, что ты пошел служить в легионы. Что еще остается таким, как ты. – С этими словами он поправил на груди складки тоги. – Свободен.
Я поклонился. Адриан, колыхнув тогой с пурпурной каймой, развернулся в другую сторону. При этом я успел заметить, что один ее конец выбился и теперь волочился по земле. Я незаметно наступил на него сапогом. Ткань натянулась, словно узда. Адриан поскользнулся и упал в грязь.
– Господин! – Я тотчас же подскочил к нему. – Позвольте, я помогу вам встать.
При этом я сам поскользнулся и, еще не успев подать ему руку, испачкал ее в грязи. Кое-как поднявшись на ноги, я поскользнулся снова и рухнул в грязь, увлекая за собой Адриана.
– Извини меня, господин. Честное слово, я не виноват. Что поделать, весна на дворе. Грязь, сам понимаешь, она штука коварная.
Когда он наконец поднялся на ноги, лицо его было каменным. Полоса грязи пролегла вдоль одной его руки от плеча до ладони и дальше вдоль всей ноги. Еще одна грязная полоса протянулась поперек ягодиц.
До меня донеслись сдавленные смешки центурионов.
– Верцингеторикс, – задумчиво произнес Адриан. – Если мне не изменяет память, когда-то давно я преподал тебе урок. Похоже, ты плохо его усвоил.
– Прости, господин. Не помню ни про какой урок.
– Значит, он был для тебя недостаточен.
– Да, господин! – Я вытянулся по стойке смирно.
Адриан тем временем собрал складки тоги и зашагал в принципию. Если этот зазнайка считает, что может хоть пальцем меня тронуть, пока я служу в Десятом, урок придется усваивать ему самому. Наказать меня мог лишь офицер Десятого легиона и лишь за нарушение внутренних правил.
Если же вдруг Адриан вздумает мне отомстить, как когда-то в прошлом, надеюсь, он вскоре узнает, что у меня есть приятель-трибун и четыре верных товарища по контубернию, и все они как один встанут за меня горой. От этих мыслей мне стало легче на душе. Я развернулся и зашагал к себе в казарму.
– Слышал новость? – спросил у меня Прыщ, не успел я переступить порог нашей крошечной комнатенки с тремя солдатскими койками. Мой приятель был занят шнуровкой доспехов. – У нас новый легат.
– Да, от Тита. – Я отстегнул ремень и швырнул его на койку, которой в последнее время почти не пользовался. Впрочем, боюсь, что после нашей сегодняшней ссоры Деметра вряд ли откроет мне дверь. Так что хочешь не хочешь, а придется снова спать в казарме. Или ходить на ночь к моей рыжей шлюхе. – Какой-нибудь императорский родственник?
– По крайней мере хотя бы с опытом, – подал голос Филипп. Он сидел на полу, вовлеченный в бесконечную игру в кости. – Где-то трибун, где-то легат. Может, в Четырнадцатом? Траян не любитель назначать генералов, которые только и делают, что от важности надувают щеки. Так что этот новый наверняка где-нибудь уже успел послужить, прежде чем получил назначение в наш Десятый, тем более накануне новой кампании.
– Хотелось бы надеяться, – ответил я. – Эй, Филипп, с кем это ты играешь?
– С кем? Сам с собой. И вечно проигрываю.
Филипп снова бросил кости и от досады выругался.
– Эй, Прыщ, ты видел нового легата. Как он тебе?
– Высокий, – ответил Прыщ, засовывая за ворот шарф. – А еще у него борода, вот умора. Скажите, вы много видели бородатых патрициев?
Внезапно меня прошиб холодный пот.
– А как его звать?
– Что-то вроде Публий Элий. Он еще женат на племяннице императора или что-то вроде того. Иначе как, по-твоему, он получил это назначение, если ему еще нет даже тридцати пяти? Ага, вспомнил! Публий Элий Адриан!
Я со стоном рухнул на свою койку и лишь чудом не задел меч.
– Адриан, – растерянно повторил я. Наш легат, наш генерал, тот, кто поведет нас в битву против даков. Тот, в чьих руках жизнь каждого из нас. И этот легат – муж Сабины, Адриан.
Тит
– Тит! – воскликнула Сабина, поднимая глаза от ящика со свитками. – Как только Адриан сказал, что ему дают легион в Германии, я молила богов, чтобы это был твой. И Фортуна услышала меня.
Встав на цыпочки, она расцеловала его в обе щеки. Титу оставалось лишь надеяться, что вихры на его макушке приглажены.
– Ты все еще разбираешь вещи? – спросил он и тотчас понял, что ляпнул глупость. Можно подумать, оно и так непонятно. Да и чем она должна заниматься? Печь пирог?
Вокруг, кто с ворохом одежды, кто с грудой подушек суетились рабыни, снуя туда-сюда, из одной комнаты в другую. Повсюду стояли сундуки, из которых свисали полуразвернутые свитки или шали. Между сундуками дремали собаки. Некоторые из них, услышав, как Тит пошел в комнату, открыли глаза и лениво приподняли головы.
– Да, мы прибыли несколько дней назад. Траян, хоть и выехал позже нас, но почти нас догнал. – Сабина сняла с ящика бюст отца и жестом предложила Титу сесть. – Я бы предложила тебе стул, но, боюсь, это все, что у меня есть. Этим утром я не смогла отыскать в этом хаосе даже собственную одежду.
Тит присел на край ящика, стараясь не таращиться на хозяйку комнаты. Сабина заколола стилом наскоро закрученные узлом волосы. Вместо платья на ней была мужская туника, – по всей видимости, позаимствованная у мужа, – которая едва доходила ей до колен.
«И пусть у Викса есть его золотоволосая богиня из Вифинии, – подумал Тит, – но мне больше нравятся длинноволосые и длинноногие».
Рядом с Сабиной, вопросительно на нее глядя, застыла рабыня. Сабина бросила взгляд на ящик, который та держала в руках, и отдала распоряжение:
– Книги пока можно поставить подальше. Я займусь ими сама. Скажи, Тит, ты пришел что-то сообщить?
– Да, я пришел с запиской от императора. Сегодня вечером он устраивает для легатов званый ужин.
Записку мог доставить кто угодно, от адъютанта до вольноотпущенника, но Тит ухватился за этот предлог, чтобы сделать это самому. В следующее мгновение, отряхивая с руки засохшую грязь, в комнату вошел Адриан.
– Ну как, разобралась в этом хаосе?
– Я уже обнаружила библиотеку, зато нигде не могу найти сундук с собственной одеждой.
С этими словами Сабина, как и положено образцовой жене, поднялась, чтобы поцеловать мужа в щеку. Тит мгновенно ощутил укол ревности.
– О боги! Что с тобой стряслось? – спросила она, глядя на перемазанную в грязи тогу.
– Несчастный случай, – с видимой неохотой ответил Адриан, раскручивая грязные складки. Сняв тогу, он брезгливо взял ткань кончиками пальцев и вручил ее рабыне. – Думается, кое-кому придется преподать хороший урок. Скажи, трибун, у тебя есть для меня сообщения?
– Да, от императора, – и Тит вручил его записку. Их официальная встреча с легатом произошла пару дней назад, когда того представляли младшим офицерам. Каково было его удивление, когда Адриан выделил его из остальных.
– Тит, – произнес он с искренней улыбкой. – Вот уже не думал увидеть здесь на севере знакомое лицо.
– Для меня неожиданность и высокая честь, что ты узнал меня, легат, – ответил Тит. Он не раз встречал мужа Сабины в Риме – например, на пирах или в театре, но у того не было времени обращать внимание на тощего юношу, что как тень ходил за его женой. Он лишь кивал ему на ходу, направляясь к куда более важным персонам. Однако заметив Тита среди офицеров своего штаба, он улыбнулся ему, как старому другу.
– Рад видеть тебя здесь, трибун.
«А ведь в его голосе и вправду звучит радость», – подумал тогда Тит. Вот и сегодня он остался горд собой, когда Адриан взял из его рук депешу и взломал печать.
– Сегодня вечером мы ужинаем вместе с Траяном, – объявила Сабина.
– Он даже мне не разрешает называть себя по имени, – укоризненно произнес Адриан.
– Мне это разрешено. Это мое право. Ведь я его маленькая любимица.
– А я его воспитанник! Можно сказать, почти сын, только не родной.
Какой-то раб, тащивший ворох одежды, зацепился за локоть Адриана и, быстро пробормотав извинения, поспешил дальше. Адриан обвел взглядом царивший вокруг хаос и, покачав головой, наклонился, чтобы приветствовать своих четвероногих любимцев, которые вскочили на ноги, как
только он вошел.
– Надеюсь, Вибия Сабина, к вечеру ты извлечешь из этого хаоса мой парадный плащ.
– Не волнуйся, – ответила Сабина. С этими словами она порылась в ближайшем сундуке, из которого извлекла какую-то статуэтку, серьгу без пары и чернильницу. – Если я не найду одежду, нам придется появиться на пиру в чем мать родила. Представляешь, какой это произведет фурор?
Титу стоило немалых усилий отогнать от мысленного взора эту картину. По крайней мере пока он рядом с легатом, об этом лучше не думать.
– Как тебе твой новый легион, господин? – спросил он, лишь бы сменить тему разговора.
– Солдаты страшные наглецы, – ответил Адриан, хмуро глядя на засохшую на руке грязь.
– Зато они отличные воины.
– Я бы предпочел, чтобы они были и отличными воинами, и почтительны со старшими. – Адриан жестом указа рабу, который тащил стопку восковых табличек, чтобы тот отнес их в кабинет. – Без меня никаких вылазок в город, Вибия Сабина. Здесь даже супруга легата не может чувствовать себя в безопасности, когда вокруг столько неотесанной солдатни. Они уже забыли, когда в последний раз видели добропорядочную римлянку. Неизвестно, каких выходок от них можно ждать, если они вдруг увидят, как ты бродишь по лугу, нюхая цветы.
– Никаких вылазок, обещаю, – сказала Сабина.
– Я надеюсь, ты сдержишь свое обещание.
– Обещать не могу, – призналась Сабина, – но постараюсь быть осторожной.
– Хитрая лиса, – улыбнулся Адриан. – Иди переоденься. Жене легата не к лицу сверкать голыми коленками перед трибуном, даже если он и пытается из последних сил не таращиться в твою сторону.
Сабина отдала салют, послала Титу воздушный поцелуй и исчезла в соседней комнате. Тит прочистил горло и посмотрел на потолок.
– Не обращай на нее внимания. Ты сам знаешь, временами она бывает просто несносна, – посоветовал Адриан. Взломав печать на депеше Траяна, он быстро пробежал содержание глазами.
– Порой колючий шип рождает нежность розы…
– Вот уж не ожидал услышать в Могунтиакуме Овидия.
– Я привез с собой столько книг, сколько смог увезти, – признался Тит. – Правда, боюсь, я уже все из них прочел.
– Если хочешь, можешь что-нибудь взять почитать у меня. Не стесняйся просить. – Улыбка Адриана была почти дружеской, взгляд светился участием. – Ты не составишь нам компанию на ужине у императора?
– Я? Ты серьезно, господин? – Тит растерянно заморгал, испугавшись на какой-то миг, что муж Сабины заигрывает с ним. О, боги, вот это было бы совершенно некстати. Впрочем, Сабина как-то раз призналась ему, что ее муж питает слабость к сильным, мускулистым юношам. Было достаточно всего разок посмотреть на себя в зеркало, чтобы понять: нет, он явно не из их числа. К тому же глаза легата скорее излучали тепло и участие, нежели похоть.
– Я был бы тебе благодарен, если ты примешь мое приглашение, – продолжал Адриан. – Наш император – великий муж. Увы, разговоры за его пиршественным столом имеют обыкновение вестись вокруг техники осады и тактики боя, нежели являют собой упражнения в красноречии. Я буду рад, если у меня будет собеседник, такой же любитель философии и книжный червь, как и я. А остальные пусть себе обсуждают тактику последнего сражения.
– Сочту за честь, – ответил Тит и, довольно насвистывая, вышел за дверь.
«Спасибо Фортуне, что он не заметил, кок я таращился на ее ноги», – подумал он.
Сабина
– Я выиграл, – прошептал Адриан. Сабина состроила гримаску, однако положила под столом в его руку монету. Траян и его офицеры уже после первого блюда принялись с жаром обсуждать сражение при мысе Акций. Сабина ставила на то, что это произойдет после второго.
Рабы, явно хорошо знакомые с привычками своего господина, предпочитали разносить вино или просто стояли у стен, вместо того, чтобы убирать тарелки, к которым почти никто не притронулся. Все гости, включая Сабину, с восторгом и обожанием в глазах смотрели на императора: седеющие волосы венчал лавровый венок, пусть даже он сидел на голове под каким-то слегка легкомысленным углом. Сам Траян тем временем тыкал полуобглоданной гусиной ножкой в какого-то легата.
– Нет, это было совершенно не так! – с жаром воскликнул он и быстро выложил на столе из гусиных костей схему расположения египетского флота.
Здесь, в этом продымленном триклинии, в гарнизоне на севере Германии, он явно чувствовал себя куда лучше, нежели когда, облаченный в тогу, восседал рядом с Плотиной во время бесконечных приемов, которые она так обожала.
– Кого я вижу! Малышка Сабина! – крикнул он, когда они с Адрианом вошли в зал и тотчас заключил ее в свои медвежьи объятья. На сегодняшнем ужине она была единственной женщиной. Никто из других легатов не взял с собой в Германию жену. – Разрази меня гром, но что делает в этой заднице мира моя маленькая любимица?
– Ищу прибежища от советов твоей супруги, – честно призналась Сабина. В ответ на такие слова Адриан насупил брови, а вот Траян закинул голову и искренне расхохотался.
– Знаешь, наверно, и я тоже. Иди ко мне, здесь рядом есть местечко…
Тем временем Траян и его офицеры от мыса Акций переместились в Алезию. Гусиные косточки сменили расположение и теперь символизировали легионы Цезаря, в то время как кабанья нога стала вражеским фортом. Сидевший по другую сторону от Сабины Адриан переключил свое внимание на Тита, и они принялись по косточкам, правда уже не по гусиным, раскладывать «Энеиду». При этом Тит был ярым сторонником Вергилия, Адриан же грудью стоял за Энния. Тит время от времени посматривал на Сабину, в надежде, что она тоже примет участие в их споре. Увы, Адриан не давал ему вставить даже слова и продолжал изливать на своего собеседника потоки красноречия.
– О нет, она слишком гладкая и манерная! Римской литературе нужна простая, ясная проза, а не эти фокусы поэтического пера.
– Этот дакийский царь, мы разобьем его быстрее, чем в свое время Верцингеторикса Цезарь.
Сабина соскользнула с ложа. Увлеченные спором, ни Адриан, ни Траян даже не заметили, как она, набросив на голову паллу, выскользнула из триклиния в темную германскую ночь.
О, боги, какие звезды! Разве такие увидишь в Риме с его пылью и дымом? Или здесь, в Германии, вообще другое небо? Оно больше и чернее, и звезды рассыпаны по нему от горизонта до горизонта, словно алмазы из императорской казны.
Сабина направилась прочь от светлого пятна, отбрасываемого фонарем. Двое стражников увязались было за ней, но она махнула им рукой, мол, не надо, и спустя какое-то время, поблуждав по темному лагерю, подошла к принципии, рядом с которой обнаружила поросший травой клочок земли.
Время от времени мимо нее или вышагивал несший ночной караул легионер, или спешил с кипой восковых табличек полковой писарь, однако никто не обращал на нее внимания. Тогда она легла на спину в траву и посмотрела на небо. Стоило ей закрыть глаза, как ей начинало казаться, что она вот-вот взмоет верх, что на земле ее удерживает лишь то, что она касается ее кончиками пальцев. «Стоит мне отпустить руки, и я взлечу и никогда больше не спущусь обратно. Да и захочется ли мне назад вниз?»
– Вот зараза! – раздался рядом с ней мужской голос, и кто-то упал на траву. Сабина тотчас вскочила на ноги, однако зацепилась за древко копья и едва не упала снова. Когда упавший выпрямился, Сабина сумела рассмотреть мужской силуэт легионера в доспехах.
– Кто здесь? – раздался в темноте грубый мужской голос.
– Жена легата, – ответила она, стягивая с волос черную паллу. – Привет, Викс.
Ответом ей стало молчание.
– Проклятие! – выругался он, приходя в себя.
– Я так и знала, что наткнусь на тебя, – улыбнулась в темноте Сабина. Похоже, этот вечер обещал быть полным сюрпризов. – Правда, в переносном смысле.
– Госпожа, – Викс отвесил учтивый поклон, – пир императора вон там.
– Отлично. В таком случае проводи меня туда. – Сабина нащупала в темноте его руку и продела ему под локоть свою. – Траян и его легаты заняты тем, что пытаются воспроизвести все ключевые сражения республики. Мне надоело сидеть в духоте, и я вышла подышать свежим воздухом. Кстати, ты не знаешь, почему светильники в Германии так сильно коптят? А теперь я и вообще не уверена, что найду дорогу назад.
– Налево и прямо, – ответил Викс, высвобождая руку. – Жилища легатов всегда в самом дальнем конце принципии. Все форты в империи построены по одному плану.
– Неужели? – удивилась Сабина. – Первый раз слышу. Расскажи поподробнее.
– Нет.
Но ее рука вновь нашла в темноте его локоть, и ему ничего не оставалось, как повести ее по дорожке между казармами назад к императорским покоям. Вскоре они свернули за угол. Здесь дорогу пересекала полоска света, отбрасываемая факелом, и темный мужской силуэт рядом с Сабиной стал тем, кому он принадлежал, то есть Виксом. Но это был другой Викс, совсем не тот долговязый юнец, который делил с ней постель в восемнадцать лет. За эти годы он возмужал, успел нарастить на костях крепкие мускулы. Кожа его была смуглой, движения плавными, взгляд настороженным. Кожаные доспехи и меч на перевязи смотрелись на нем столь же естественно, как чешуя на драконе. Сабина слегка запрокинула голову, искренне любуясь его мужественностью.
– Ты хорошо выглядишь, Викс.
– В отличие от тебя, – грубо ответил он – Ты как будто из могилы.
– Я до сих пор много читаю по ночам.
– Еще бы! Как я понимаю, тебе ведь больше нечем заняться, особенно с таким муженьком, как у тебя.
С этими словами он окинул ее придирчивым взглядом с головы до ног. Сабина была рада, что смогла откопать в ворохе одежды черную столу. Она знала, что этот наряд ей к лицу – ткань была нежной и тонкой, и переливалась в свете факела, словно темная вода. Левое запястье украшал массивный золотой браслет в форме льва. Она не могла сказать почему, но ей по-прежнему хотелось быть в глазах Викса красивой, даже если сама она теперь была ему безразлична.
Тем временем он ускорил шаг, как будто хотел оставить ее позади. Однако Сабина не желала от него отставать и, чтобы идти быстрее, перебросила паллу через руку.
– Скажи, Викс, у тебя есть женщина?
– Еще сколько! – воскликнул он. – Многие патрицианка питают слабость к нашему грубому брату-легионеру.
Сабина рассмеялась.
– О боги, я уже забыла, какой ты грубиян! Ты служишь в Десятом, верно? Мой отец написал тебе рекомендательное письмо.
– Десятый – самый лучший легион во всей Германии. Мы будем в авангарде, когда Траян поведет нас в Дакию.
– Я слышала, Четвертый мечтает о той же чести.
– Пусть Четвертый засунет себе в задницы свои копья.
– Хорошо, я им так и передам, при случае.
– Как хочешь, какая мне разница. Кстати, вот мы и пришли.
И, правда, они уже дошагали до покоев легата, в которых временно разместился Траян. Двери стояли нараспашку, у входа, с плащами наготове, толпились рабы. В атрии – Сабина заметила это в открытую дверь – подвыпившие гости заплетающимися языками прощались друг с другом.
– Похоже, они закончили с Алезией, – сказала она. – Хотя нет, просто у них закончились куриные кости и им нечем строить схемы сражений. Кстати, ты в курсе, что император объявил поход? Он сделал это на сегодняшнем банкете.
– Поход? – Викс остановился и повернулся к ней. – Когда?
– На следующей неделе, если он сумеет – погоди, дай вспомнить, как он выразился. – Сабина закатила к глаза к черному, в россыпи ярких звезд, небу. – Пора дать каждому легиону хороший пинок под зад.
– Что ж, наш Десятый уже готов, – произнес Викс и невольно расплылся в довольной ухмылке.
– Хотелось бы увидеть это своими глазами, – призналась Сабина. – Легионы на марше. Представляю, какое это зрелище!
– Сквернословие и грязь под ногами.
– Ну, не только это, я уверена, – возразила она, накидывая на одно плечо паллу. – Но жен в поход не берут. Даже жен легатов. Адриан мне так и сказал, мол, даже не надейся. Я буду вынуждена вернуться в Рим, чтобы выслушивать там занудные речи императрицы Плотины. Честно говоря, я бы предпочла дакийского царя с его рогами. – Сабина посмотрела на Викса. – Ты, главное, не слишком осторожничай.
– Что?
– Когда уйдешь в поход, забудь про осторожность. – Сабина сцепила на груди пальцы, и золотой лев на ее руке сверкнул золотым боком в свете факела. – Осторожных солдат слава обходит стороной. А ты ведь, как я понимаю, до сих пор мечтаешь о славе.
– Верно, – честно ответил Викс. – А еще о лавровом венке и должности центуриона, а потом… – он недоговорил. – Впрочем, это тебя не касается. Доброй ночи, госпожа.
– Доброй ночи, Викс, – с улыбкой ответила Сабина и отвернулась к триклинию, где Адриан и Тит все еще с пеной у рта спорили о поэтах. – Была рада тебя видеть.
– О себе такого не скажу, – грубо бросил он ей и растворился в темноте.
(обратно)
Глава 12
Викс
Обожаю походы. Когда светит солнце, а под ногами не слишком много грязи, шагать в колонне одно удовольствие. Первые нескольких часов мои плечи обычно протестуют против тяжелого вещмешка, но постепенно к его тяжести привыкаешь и перестаешь замечать. И тогда топаешь себе дальше в хорошем настроении, горланя походные песни, которые помогают шагать в ногу. Походные песни бывают разные – в зависимости, какой у вас центурион. Если он жуткий святоша, а такие бывают, то походный марш – это воззвания к Марсу или же патриотические вирши во славу Рима. Но император Траян в душе такой же легионер, как и наш брат, и чем скабрезнее была походная песня, тем больше она ему нравилась. Так что никто не указывал, что нам петь.
Мог быстро остался позади. Половина из нас оставила в лагере долги и обрюхаченных баб, и все как один были рады шагать навстречу новым приключениям. Ведь впереди нас ждала добыча – рабы, золото, женщины. Дело оставалось за малым – разбить дакийского царя. И тогда даже самый последний легионер вернется домой богачом.
– А мне наплевать на богатство, – признался как-то раз Прыщ в промежутке между походными песнями, когда мы шагали с ним рядом. – Для меня главное бабы. Говорят, местные женщины – страшные дикарки. Вот поймаю себе такую дикую кошку и привезу с собой в Германию.
– Ага, а потом она сбежит от тебя к трактирщику, как твоя последняя краля, – поддразнил его Симон.
– Ну, это было давно.
– Четыре месяца назад! А та, что была до нее, сбежала с лютнистом.
– А мне бы рабов, и побольше, – проговорил Филипп, шагавший с другого бока. – Дюжину крепких, мускулистых бугаев. Отправлю их своей бабе, пусть она их откормит и обучит.
– Не боишься, что они ее прикончат?
– А ты когда-нибудь видел мою бабу? – Филипп даже вздрогнул. – Да они будут пятки ей лизать, как верные псы. А потом я выручу за них на рынке приличные деньжата. Гладиаторские школы хорошо платят за таких варваров.
– Точно, а потом, не пройдет и месяца, и ты просадишь все свои денежки в кости, – согласился я. В ответ Филипп огрел меня по голове копьем. Я едва успел отпрянуть.
– Порядок в строю! – рявкнул центурион, подъезжая к нам на коне, и мы тотчас восстановили строй. – Не отставать!
– Это он нарочно, чтобы себя показать, – буркнул Симон.
– А мы что, не такие разве? – Юлий устремил взгляд вперед, где за клубами пыли шагал Четвертый легион. – Небось надеетесь увидеть, как Четвертый первым войдет в Дакию? Как мой славный предок Юлий Цезарь первым перешел Рубикон, так и мы войдем в Дакию первыми.
Мы поправили на спинах вещмешки и ускорили шаг. Наш Десятый легко мог делать за день восемнадцать миль, а если поторопиться, то и все двадцать две. Что очень даже неплохо для легиона, привыкшего сидеть в четырех стенах форта и если и совершать марш-броски, то не чаще одного-двух раз в месяц. Впрочем, если бы Десятым командовал я, эти лентяи как миленькие отбарабанивали бы у меня по двадцать четыре мили в день.
Легата Публия Элия Адриана я не видел с того самого дня, когда мы вышли в поход. Тогда он, в алом плаще, выехал за ворота лагеря верхом на коне. Сразу видно, патриций. Он тотчас ускакал вперед, к императору и остальным легатам, что было мне только на руку. Чем меньше он будет вертеться рядом с нами, тем лучше, тем более, что легион – это настоящая громадина. При полной численности нас было более пяти тысяч человек. Так что при желании не попадаться на глаза начальству не составляло большого труда. А такое желание у меня было. Я дал себе слово, что этот бородатый ублюдок не увидит меня до конца кампании. И вообще пусть докажет, что я нарочно толкнул его в грязь на глазах у хихикающих центурионов? Впрочем, какая разница. Теперь моим начальником был легат, который меня терпеть не мог. Меня же ждали сражения, слава и возможность пробиться в центурионы. Не хватало мне на мою голову других неприятностей.
Долгий, утомительный марш-бросок. Мы уже по второму кругу перепели все наши походные песни, а когда устроили наконец привал, я выучил еще несколько новых у полкового писаря Шестого легиона. Слышали бы вы, какие они были скабрезные.
– Мы несколько лет стояли в Сирии, – доверительно поведал мне писарь. – Там вообще некого трахать, разве что коров. Как ты думаешь, в Дакии найдутся смазливые бабенки?
– Смазливые-то найдутся, – ответил я. – Вот только боюсь, что они исцарапают тебе коготками спину.
– Все равно лучше, чем мычание, – осклабился он. – У тебя есть женщина?
– Одна, и боюсь, что даже ее слишком много.
Мне пришлось помириться с Деметрой, главным образом ради Тита, который возмущался моим бездушием.
– Она ждет твоего ребенка! – кипятился тот. – По сути дела, она тебе жена, даже если вы с ней и не стояли перед алтарем.
– Сколько можно! – поморщился я.
– А муж, прежде чем уйти на войну, должен по крайней мере попрощаться с женой.
И знаете, что я вам скажу? Этот тощий доходяга Тит имел стальную волю и в конце концов уломал меня.
– Иди и попрощайся с ней, так, как положено, Верцингеторикс, – приказал он мне.
Сказать по правде, дружба с Титом была для меня куда важнее отношений с Деметрой, однако результат был один. Я прикусил язык, укрепил свою волю изрядной дозой неразбавленного вина и объятиями моей рыжей, после чего отправился к Деметре, у которой провел ночь перед выходом в поход. Все вышло так, как я и предполагал, если не хуже – она всю ночь напролет лила слезы, я пытался ее утешить, но тогда она плакала еще сильнее. Когда же я напомнил ей, что мне утром рано вставать, она разревелась белугой.
– Ты погибнешь, – причитала она, рыдая на моем плече. – Ты погибнешь от руки этого дакийского царя с его львиной шкурой и рогами. Ты никогда не вернешься ко мне.
– А вот и неправда, – возразил я. – Это мы еще поглядим, кто кого убьет – рогатый царь меня, или я его. Вот увидишь, я скоро вернусь, и не с пустыми руками, а с целым мешком золота.
– Неужели? Ты вернешься ко мне?
– Вернусь.
Впрочем, может, да, а может, и нет. К тому времени когда мне наконец удалось успокоить ее и она перестала лить слезы, ее сын наблюдал за мной из угла своими карими глазенками, такими же, как и у матери, разве что не такими заплаканными.
– Я рожу тебе сына, – сказала она, прижимая мою руку к своему все еще плоскому животу. – Я знаю, ты будешь ему рад, когда увидишь его. Все мужчины хотят сыновей.
– У тебя пока еще есть время, – осторожно произнес я. – Потому что потом будет опасно… Когда я вернусь, может быть, мы с тобой поженимся. Честное слово, так было бы проще.
Ее улыбки как не бывало, и я с трудом погасил в груди искру злости. Разве я пришел к ней не с самыми лучшими намерениями? Разве я не стараюсь быть с ней добрым и заботливым?
– У нас с тобой будет настоящая свадьба, – произнес я, глядя в окно, как луна уносит с собой последнюю возможность поспать перед дорогой. – С пиром, красной фатой, все как у людей.
– Но у моего народа не принято надевать на свадьбу красную фату.
– Тогда любую, какая тебе нравится. – Я наклонился и поцеловал ее, а сам незаметно подтолкнул ее к кровати. В конце концов, завтра мне предстоит долгий марш-бросок. Возможно, мне будет недоставать Деметры в моей походной койке, и может, это высушит наконец ее слезы. Увы, все оказалось не так-то просто. Похоже, у них в Вифинии не принято, чтобы беременные женщины спали с мужчинами. Так что дело кончилось тем, что я провел свою последнюю ночь перед походом, лежа с одетой Деметрой на кровати, и всякий раз, когда она снова начинала шмыгать носом, я как мог утешал ее, шепча на ухо что-то невнятное. Так что теперь, шагая по грязной дороге, я был рад, что вырвался на свободу.
Поблагодарив полкового писаря из Шестого легиона, я поспешил к моим товарищам с полным мехом воды. Прощаясь со мной, Деметра держалась с достоинством. Выплакавшись за ночь, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, которые, казалось, стали еще больше. Что ж, может, вернувшись, я все-таки женюсь на ней. Наверно, Тит прав. Вряд ли я найду кого-то лучше. Если я на ней женюсь, может, она перестанет плакать. Чего греха таить: Деметра хороша собой, послушна, покладиста, то есть именно то, что мне нужно. Полная противоположность Сабине.
Избегать встречи с женой легата после той странной ночи, когда я наткнулся на нее возле принципии, было просто. Офицерские жены обычно ходили другими дорожками, которые не пересекались с теми, по которым ходил наш брат легионер. Но, черт возьми, как хороша она была в ту ночь! Я был бы не прочь увидеть ее измученной и несчастной. Но нет – она шагала рядом со мной в своих золотых сандалиях – гибкая, веселая и беззаботная как всегда. У меня даже мелькнула шальная мысль, может, стоит рискнуть снова затащить ее к себе в постель? Пусть даже в пику Адриану, этому бородатому любителю юношей. Но если мой легат и без того меня терпеть не может, то застукав меня в одной постели с его женушкой, он вряд ли проникнется ко мне теплыми чувствами. К тому я один раз уже обжегся на этой красотке, и было бы глупо обжечься снова. Так что лучший выход из этой ситуации – жениться на моей златокудрой богине из Вифинии и поставить в этом деле точку.
После привала марш продолжился. Император Траян, в шлеме с пышным плюмажем и в алом плаще, прогарцевал мимо колонны. Лицо его было по-мальчишески задорным и веселым. Более того, он с воодушевлением подпевал нашим самым походным куплетам. Впрочем, его пение стихло, стоило нам миновать сожженный гарнизон – точно такой, на какой в свое время наткнулись мы с Титом. Кстати, когда это было? Неужели прошлой осенью? Дакийский царь посылал свои отряды совершать вылазки в Германию. Он как будто показывал нам нос, хвастаясь своей безнаказанностью. И вот теперь очередной гарнизон превращен в груды обгорелых бревен и обожженной черепицы. На сломанных воротах в нише красовался череп: в пустые глазницы натыканы прутики, а под самим черепом странными узлами завязаны какие-то тряпки.
Когда мы шагали мимо, Симон по-еврейски пробормотал молитву, я же потрогал висевший на шее амулет. Походные песни смолкли сами по себе, и аквилиферы, когда их колонна шагала мимо, поочередно опускали штандарты. По шеренгам вскоре пробежал слух, будто император, замедлив шаг, несколько мгновений смотрел на череп, затем подцепил его копьем и, швырнув на землю, раздавил конскими копытами. Мое сердце было готово лопнуть от гордости за него. Это был настоящий император. Мой император.
К наступлению ночи сожженный форт с его скелетами и призраками остался позади. Мы же устроили между собой негласное соревнование, который легион первым разобьет лагерь. Помнится, в учебном лагере нас постоянно заставляли совершать долгие, бессмысленные марш-броски по горам, чтобы мы учились разбивать на ночь бивуак. Мы по несколько раз подряд ставил палатки, затем снова скручивали их – до тех пор, пока наш командир не говорил нам, что мы уложились во время. Увы, наш Десятый слишком долго засиделся в форте, так что мы разбили лагерь последними. Симон притащил с повозок, что сопровождали колонну, нашу палатку, Филиппа отправили вместе с другими рыть по периметру лагеря оборонительную канаву, я, присев на корточки, принялся разводить огонь. Прыщ потрусил прочь с охапкой жердей возводить забор. Назад он вернулся потным и недовольным.
– У Четвертого уже все готово.
– Ничего, мы обгоним их завтра, – ответил я, раздувая крошечные языки пламени. – Вина ни у кого не найдется?
– Ишь, какой ты прыткий. Нам еще нужно закончить частокол. Так что лишние руки не помешают. Или ты хочешь, чтобы мы перед ними продули? По мне, лучше быть предпоследними, чем остаться в самом хвосте.
И мы с Прыщом отправились ставить частокол. Как только была готова очередная ямка, мы, ругаясь себе под нос, втыкали в нее жердь, злые на землемеров, которые, вместо того чтобы нам помочь, лишь тыкали пальцем в карты. В довершение ко всему меня лягнул мул. К тому времени, когда мы, усталые и потные, завершили нашу работу, в лагере уже пылали костры. Каждый контуберний имел свою палатку и свой костер. У каждой повозки была своя стоянка, у каждого мула – свои ясли и своя привязь. В лагере было не протолкнуться от вооруженных легионеров. Повсюду сновали писари со своими свитками и центурионы с восковыми табличками. В общем, не успели мы и глазом моргнуть, как посреди поля вырос небольшой городок. Честное слово, порой чтобы соблазнить упрямую бабенку, требуется куда больше времени. И что самое удивительное, завтра с зарей городок этот исчезнет в солдатских вещмешках или будет погружен на повозки, как будто его никогда здесь и не было. Единственное, что будет напоминать о нем, – это ямки для частокола и яблоки конского навоза.
Когда я вернулся, у Юлия уже висел над огнем котелок, а мои товарищи уже расположились кругом. Мой нос тотчас учуял баранину и пшеничное печенье.
– Не хочешь попробовать?
– Нет, похлебка еще не готова. – Я отвел в сторону протянутый мне черпак. – Лучше я съем галет, и на боковую. Вчера я всю ночь напролет утешал плачущую бабенку. Помоги мне Господь.
– А что ему еще остается, – Симон как-то странно посмотрел на меня. – Не разорваться же тебе на части.
– При чем тут это?
Все захихикали.
– А я даже не знал, что у тебя их две, – усмехнулся Юлий.
– Кого две?
– Нет, три, ты забыл про рыжую.
И вновь смешки.
– Пошли вы все, знаете куда, – сказал я им и нырнул в палатку. И тотчас замер на месте как вкопанный.
– Привет! – сказала Сабина.
Сабина
Устроившись в ожидании Викса на его свернутой походной кровати, Сабина дала себе слово, что не будет смеяться. Однако стоило ей увидеть его растерянное лицо, когда он, пригнувшись, вошел в палатку, как ее решимость тотчас улетучилась.
– Ой, Викс, – хихикнула она. – Твое лицо!
И она, откинув голову назад, расхохоталась.
– Погоди, – велел он ей, а сам бросился вон из палатки. Сабине было видно, как его тень нависла на фоне костра над другими тенями, которые были его товарищами.
– Я вас убью, – донесся до нее его голос, и ее плечи затряслись в беззвучном приступе хохота. Положив голову на колено, она хохотала до слез, а тем временем снаружи до нее долетали смешки и улюлюканье других легионеров.
– Убью, – повторил Викс и вернулся в палатку. От ярости он даже побагровел. К этому моменту Сабине удалось более-менее унять смех, но, поймав на себе его полный злости взгляд, она зашлась в очередном приступе хохота.
Викс встал перед ней, сложив на груди руки.
– Как ты попала сюда?
– Тебе не кажется, что это весьма избитая реплика? – ответила Сабина, с трудом подавив смешок.
– Я сегодня прошагал двадцать миль и построил в два раза большей длины частокол. И я прошедшие сутки, если не двое, проспал не больше пары часов. Так как все-таки ты попала сюда?
– Только не вини в этом своих товарищей, – Сабина обвела глазами палатку. – Они лишь сказали мне, какая постель твоя.
Викс окинул ее взглядом с головы до ног. По всей видимости, Сабина полагала, что внешне у нее не осталось ничего общего с элегантной женой легата, о которую он споткнулся на прошлой неделе после пира у императора. На ней было простое шерстяное платье, позаимствованное у служанки, волосы заплетены в косу, на ногах – пара грубых сандалий. В таких обычно ходят на большие расстояния.
– Я понятие не имею, в какие игры ты играешь со мной, – произнес он после минутной паузы. – Но я не стану мешать, если ты выйдешь отсюда и пойдешь к себе домой.
– Разве это не дом? – удивилась Сабина. – Иначе зачем, когда вы идете в поход, всегда строить одинаковые лагеря?
Она обвела глазами тугие стены палатки, натянутые с помощью ровного ряда колышков. Походные постели были аккуратно разложены на полу, а между ними то здесь, то там валялись личные вещи – игральные кости, амулеты, обереги, как бы помечая собой границы личных владений каждого обитателя палатки. Сабина взяла в руки точильный камень. Помнится, он всегда лежал рядом с кроватью Викса в те времена, когда тот жил в доме ее отца; теперь же его место было здесь, в походной палатке.
– Временный дом, куда бы ни занесла тебя судьба.
– Да, но только он не твой, – с этими словами он выхватил у нее точильный камень. – Возвращайся к своему мужу.
– То есть ты считаешь, что вдвоем нам в палатке будет тесно? – Сабина вопросительно выгнула бровь. – Вообще-то он на меня зол. У него есть договоренность с одним смазливым трибуном из Шестого легиона, который, должна признаться, гораздо симпатичней меня, и вообще он не в восторге от того, что я буду таскаться за ним хвостом всю военную кампанию. Сам подумай, каково это таскать за собой жену по варварским землям. Но я, как могла, умоляла императора. Я сказала Траяну, что в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Например, внучка императора Августа, Агриппина, сопровождала мужа во всех военных кампаниях. Траян лишь усмехнулся, приподнял мой подбородок и сказал, что, так и быть, я могу идти вместе с вами в поход. Но при одном условии: чтобы я не брала пример с Агриппины и не пыталась никого вести за собой в атаку. Вот я и здесь, – подвела итог Сабина и, довольная собой, пошевелила пальцами в ремешках грубых сандалий. – Адриан велел мне ехать вместе с обозом, даже выделил мне специальную повозку, а палатку приказал ставить в стороне от солдатских. Зато он не смог отправить меня назад. Ведь у меня разрешение самого императора!
– Но зачем тебе вообще понадобилось идти в поход?
Сабина развела руками, как будто хотела объять палатку и весь лагерь.
– Как зачем? Чтобы увидеть мир.
– Это из обоза-то?
– По-моему, это будет интересно.
– Грязь, кровь, сражения, опасности…
– По-твоему, лучше просиживать дни за ткацким станком, слушая надоедливые наставления Плотины? Кроме того, от меня здесь будет польза. Я проехала с обозом всего день, и уже могу сказать, что не помешало бы ввести кое-какие новые правила. Например, тебе известно, что местные жители, которые сопровождают обоз, получают не такой паек, как легионеры? Не знаю, может, оно так положено. Но не исключаю, что ваши офицеры просто обманывают этих несчастных. В любом случае я поговорю об этом с Траяном.
– Да ты с ума сошла, – взорвался Викс, – если считаешь, что твой муженек позволит тебе якшаться с легионерами.
– А кто сказал, что он узнает об этом? – легкомысленно бросила в ответ Сабина. – Он ест вместе с офицерами, спит со своим адъютантом и всячески старается угодить императору. Так что я сомневаюсь, что в походе мы будем с ним видеться чаще, чем раз в день. И если мне суждено увидеть, что такое война, я хочу увидеть ее по-настоящему. Шагая пешком, так же, как и вы.
– И ты решила, что я обрадуюсь возможности стать твоим провожатым? – с этими словами Викс повернулся к ней спиной и принялся расшнуровывать кожаную кирасу. – А ты бесстыжая.
Сабина хитро улыбнулась.
– Я рада, что ты это помнишь.
– После всего того, что ты… – Викс наконец стащил с себя кирасу и бросил ее на полу рядом со шлемом. – После того как ты использовала меня пять лет назад, ты еще надеешься, что я позволю тебе остаться здесь?
– Наверно, с меня причитается за это удовольствие, и я заплачу что-то вроде налога – твоим товарищам, – согласилась Сабина. – По крайней мере так утверждал Юлий. Хотя, наверно, он просто пошутил. Ведь я уже выслушала его бесконечные разглагольствования о том, что он-де прямой потомок Юлия Цезаря.
– Уходи!
– Ну, если ты так настаиваешь. – Сабина встала и отряхнула грязь с подола платья.
– Если тебе нравится водиться с немытой солдатней, поищи себе кого-то еще, – сердито бросил ей Викс. Когда он злился, у него краснели уши, что Сабина не могла не заметить. – Всегда найдется какой-нибудь вонючий опцион, который не прочь переспать со шлюхой.
– Вряд ли до этого дойдет, – пробормотала Сабина. – Если ты не хочешь, чтобы я осталась, хорошо, я вернусь в обоз и хорошенько высплюсь. Я понимаю, вам надо рано вставать, я же хочу попытаться пройти до первого привала пешком. Пусть я всего лишь жена легата и не привыкла к долгой ходьбе. Но я надеюсь не отставать, ведь мне не придется тащить на себе вещмешок и две жерди для частокола.
Викс уставился на нее. Сабина взяла грязную овечью шкуру, которая служила ей вместо тонкой шерстяной паллы. Впрочем, оно даже к лучшему, ведь в паллу могли в два счета сорвать с ее плеч, стоило ей сделать шаг от обоза и офицерских палаток.
– Скажи, Викс, ты будешь пускать меня к тебе в гости?
Викс не ответил. Он по-прежнему стоял, словно статуя, рядом со входом в палатку, глядя на нее в упор. Боги, она уже забыла, какой он рослый! Затем он наклонился и, порывшись в сумке, сунул ей в руку какую-то вещицу.
– Возьми это с собой.
Сабина посмотрела на тяжелую серебряную серьгу, украшенную гранатами, у себя на ладони.
– Я думала, ты давно ее продал.
– Мне никто не хотел давать за нее ту цену, которую я просил, – хмуро ответил Викс. – Я пробовал подарить ее моей девушке, но она сказала, что одна серьга ей ни к чему. Так что бери ее себе. Потому что мне она ни к чему.
Сабина почувствовала, как внутри нее что-то дрогнуло.
– Ты зачем здесь? – повторил свой вопрос Викс.
– Я же сказала тебе. Хочу посмотреть мир. А если получится, слегка изменить его к лучшему.
– Нет, я имею в виду… – Викс отчаянным жестом провел рукой по волосам. Казалось, он вот-вот зарычит. – Почему ты здесь? Зачем ты преследуешь меня?
– Если я хочу посмотреть мир, – ответила Сабина, – то лучше сделать это вместе с тобой.
Викс протянул руки и, взяв ее за плечи, приподнял, так что их глаза оказались на одном уровне. Лицо его было каменным.
– Наверно, я пожалею об этом, – хмуро сказал он.
И поцеловал ее в губы.
– Привет! – обратилась Сабина к остальным обитателям палатки, когда они с Виксом вышли на свежий воздух. – Мое имя Сабина. И я по вечерам иногда буду обитать в вашей палатке. Но я всегда буду платить вам за эту честь. Скажите мне, сколько я вам должна. Мы постараемся не производить слишком много шума, по крайней мере, в будущем. Кстати, что это у вас в котелке? Чечевичная каша? Скажу честно, я страшно проголодалась. Прыщ, а как ты получил свое прозвище?
Сабина наложила две миски чечевичной каши. Одну она протянула Виксу, а сама, скрестив ноги, уселась перед костром с другой. Остальные обитатели контуберния сели рядом с ней. Последним на землю опустился Викс.
– Никому ни слова, – предупредил он и, обняв Сабину за плечи, устроился с ней рядом.
Тит
«Всего две недели на марше, – подумал Тит, – а большинство легатов уже заметно устали». Грязь на сапогах, щетина на когда-то гладко выбритом подбородке, вода, затекающая в палатку. Большинство легатов. Но только не Адриан.
– Проследи за тем, чтобы эти письма были отправлены по назначению, после чего забери следующую партию корреспонденции, – приказал Титу Адриан, не отрывая глаз от восковой таблички, на которой он что-то писал своим размашистым почерком. – Передай префекту лагеря, чтобы он пришел ко мне завтра до начала марша. Мне не нравится ситуация с запасами зерна. Кто-то явно мошенничает, и если это не он, то я хочу знать, кто именно.
Вот это уже лучше.
– Рапорт императору? – напомнил Тит, пытаясь не выронить кипу свитков и восковых табличек.
– Я составлю его сам. Луций, а где тот рапорт от старшего центуриона о нарушении субординации в четвертой когорте?
Палатка легата Адриана гудела как улей: адъютант что-то пытался найти среди книг, аккуратно сложенных в ящиках. Стол был завален горами документов, готовых и почти готовых, и тех, к которым еще не прикасались. Рядом, с кувшином вина наготове, стоял раб. По соседству с ним другой – но только с футляром для перьев. Здесь же в ожидании, когда будут готовы его восковые таблички, нервно расхаживал взад-вперед какой-то трибун. Мимо Тита, с запиской, пробежал третий. Секретарь регистрировал свитки, а раб тем временем счищал грязь с сапог легата, в которых тот проходил целый день. Вторая, чистая, пара уже стояла в углу. Еще один секретарь записывал письмо, которое ему диктовал Адриан.
– Не забудь добавить в конце: «рукой Публия Элия Адриана».
Сам Адриан тем временем неспешно дописывал собственный рапорт. Единственный, кто не был ничем занят, это старый пес, который спал, положив Адриану на ногу голову.
– Старший центурион прислал записку, – доложил Тит, воспользовавшись короткой паузой. – Он напоминает, что ты хотел провести завтра смотр второй когорты.
– Спасибо, я помню.
За неделю похода Тит успел заметить, что Адриан ничего не забывал. Он лично присутствовал и при наказаниях, и при награждениях, пусть это был лишь рядовой легионер. Он также помнил имена не только высших офицеров, но и центурионов, и когда у легионеров возникал повод для жалобы, они знали, что могут обращаться напрямую к легату, минуя трибуна. Адриан никогда не станет спихивать решение вопроса на последнего. Наоборот, внимательно выслушает и вынесет свой вердикт.
Все дни Адриан, облаченный в боевые доспехи, проводил в седле. Еще никто ни разу не видел, чтобы он путешествовал в паланкине. Конь под ним был выносливый и мощный, и вместе с седоком его можно было принять за кентавра. Работал Адриан до глубокой ночи. Он как будто не замечал, что секретари, адъютанты и трибуны уже валятся с ног от усталости. Сам он, хотя и ложился за полночь, утром поднимался рано, как простой легионер. Он всегда оставался спокон. И что самое удивительное, Адриан всегда оставался спокоен и чист: в безупречно начищенных доспехах, с аккуратно подстриженной бородой, как будто только что вышел из бань.
– Высокородная Сабина тоже прислала тебе записку, – произнес Тит. – Спрашивает, будешь ли ты обедать с ней сегодня вечером.
– Нет, вечером я занят. Передай ей мои сожаления.
Тит вздохнул. Он был рад, когда узнал, что Сабина будет сопровождать их в походе. Это значит, что теперь он будет видеть ее каждый день. Увы, она лишь однажды ступила под своды гудящей, словно улей, палатки своего мужа. Когда же Тит в последний раз подъехал к ее паланкину, оказалось, что тот пуст.
– Госпожи нет, – пояснила рабыня. – Она отъехала посмотреть местность.
– Смотрю, ты уютно устроилась, – не удержался от колкости Тит. В отсутствие хозяйки, рабыня устроилась на ее подушках и сидела, обмахиваясь, ее пышным веером.
– Ты ведь не донесешь на меня? – спросила рабыня. На вид ей было не больше тринадцати лет. Насколько помнил Тит, Сабина подобрала эту лентяйку в Брундизии, где та побиралась на углу улицы с миской для подаяний в руках. Сабина вообще находила себе служанок в самых неподходящих местах. Половина из них, обворовав ее, сбегали прочь, что, однако, еще ни разу не остановило ее от того, чтобы тем же самым образом подыскать воровке замену.
– Госпожа сказала, что не станет возражать, если я себя немного побалую.
– Не переживай. Я честное слово никому не скажу, – пообещал Тит. И все же он предпочел бы застать в паланкине Сабину, а не ее служанку…
– Спасибо, трибун.
Адриан приложил к рапорту печать и, взяв у секретаря очередное письмо, требующее его подписи, потянулся за новым пером и с улыбкой посмотрел на Тита.
– Думаю, на сегодня с вас довольно. Все свободны.
– Правильнее сказать, замучены, – проворчал второй трибун, когда они с Титом вышли из палатки. – Эх, и почему старый легат бросил нас! Если он что-то от нас и требовал, так это лишь подносить ему кубки с вином.
– Ну, я не знаю! Лично мне Адриан нравится. По крайней мере он не спихивает всю работу на наши плечи.
– Не знаю, мне больше по душе лентяй. Например, у легата Парминия трибуны не носятся весь день взад-вперед как угорелые с депешами. Они охотятся, путешествуют в паланкинах. А у нас одни мозоли!
– Натри их гусиным жиром! – посоветовал Тит. Этой хитрости его научил Викс. Кстати, а не проведать ли Викса сегодня в его контубернии, тем более что сегодня впервые с начала похода ему выпал свободный вечер.
– Надеюсь, ты к нам не ужинать пришел, – произнес Викс, отрывая глаза от котелка, в котором что-то помешивал. – Юлий, перед тем как заступать на дежурство, сварганил рагу. Клянусь Хароном, на вкус его варево что твои подметки.
– Я готов попробовать даже их, лишь бы составить тебе компанию, – ответил Тит, присаживаясь рядом с костром. Прежде чем наведаться к Виксу и его товарищам, он сбросил с себя доспехи и знаки отличия, хотя бы затем, чтобы они не ломали голову, отдавать ему честь или нет. Все как по команде повернули головы в его сторону: и юный грек Филипп с его вечными игральными костями, и белокурый Прыщ, что клевал носом у костра, и бородатый Симон с его точильным камнем. Все как по команде кивнули. Тит кивнул им в ответ, взял у Викса миску с едой и устроился поудобнее. К этому времени уже стемнело, и лишь над верхушками деревьев догорали последние краски заката. Костер весело потрескивал, согревая и убаюкивая. «И таких костров здесь были тысячи – крошечные пятнышки света на фоне черного бархата ночи», – подумал Тит, обводя взглядом лагерь. Куда ни посмотришь – везде костры, свой у каждого контуберния. Десятый отдыхал от дневных трудов. Солдаты сели ужинать, точить мечи, лечить мозоли, рассказывать истории. Так будет изо дня в день: и завтра, и послезавтра, пока не сложат головы или они, или рогатый дакийский царь.
– Ты прав, – сказал Тит Виксу, отведав солдатской стряпни. – Вареные подметки. И боюсь, это еще мягко сказано. Представляю, как ты, наверно, скучаешь по тушеному
барашку Деметры!
Симон и Филипп хихикнули.
– Ну, не совсем, – ответил Викс, почесывая затылок. – У меня есть новая подружка.
Тит смерил его укоризненным взглядом.
– Должен ли я напомнить тебе, что мать твоего ребенка имеет право требовать от тебя не только заботы, но и верности.
– Нет необходимости, – ответил Викс, уплетая рагу.
– Значит, не буду напоминать.
Тит слышал старую поговорку о человеке, который мог свалиться в сточную канаву и выйти из нее, благоухая розами. Вот так и Викс. Ему ничего не стоило свалиться в сточную канаву и выйти из нее, ведя под руку сразу двух подружек.
– А для меня местечко найдется? – раздался чей-то голос за спиной Тита.
«Сабина?»
Ошеломленный Тит поднял глаза. Рядом с ним стояла жена легата. Вот только кто-нибудь видел, чтобы жена легата стояла, накинув на плечи плащ из овечьей шкуры и закинув за спину заплетенные в косу волосы? Тит даже заметил, что от солнца у нее облупился нос.
Интересно, она пришла сюда за мной? Но не успела эта мысль разлиться приятым теплом по его телу, как Сабина сделала пару шагов и бросилась Виксу в объятия.
В какой-то миг Титу померещилось, что он видит сон. Ведь во сне такое часто бывает – смешиваются лица, смешиваются события, и эта фантастическая смесь не имеет ничего общего с реальной жизнью. С другой стороны, будь это сон, Сабина наверняка бы бросилась в объятия к нему, а не к Виксу. Это он сам взял бы в ладони ее лицо, он сам осыпал бы поцелуями ее губы. Нет, это его рука, а не рука Викса сейчас бы путалась в ее волосах, запрокидывая голову Сабины назад, чтобы его губы могли впиться поцелуем ей в шею. Нет, во сне это был бы Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин.
Это не сон, подумал он с упавшим сердцем. Это не сон.
– Тит! – воскликнула Сабина, когда Викс, наконец, отпустил ее. – Сразу тебя даже не заметила. С каких это пор вы с Виксом друзья?
– Я бы мог задать тебе тот же самый вопрос, – сказал Тит и сам удивился тому, что голос его даже не дрогнул.
Сабина улыбнулась и прижала палец к губам, а сама покосилась на Симона, Прыща и Филиппа. Товарищи Викса по контубернию уже отставили свои миски и приготовились играть в кости.
– Я тебе все объясню, только позже. О боги, Викс, только не говори мне, что ты разрешаешь Юлию готовить вам ужин!
Услышав, с какой легкостью Сабина называет Викса по имени, Тит ощутил укол ревности. Выходит, он и впрямь не промах, коль отхватил себе такую подружку. Потому что Сабина здесь явно не в первый раз. Это можно было понять по тому, как она села у костра, как поддразнивала Филиппа, уверяя, что тот мошенничает, как просила Симона обучить ее еврейской молитве о хлебе. По тому, как она свернулась калачиком в объятиях Викса, как прильнула к его груди, как склонила ему на плечо голову, пока он аккуратно, чтобы ее не задеть, латает подкладку шлема…
Тит попытался сосредоточиться на рагу. Он не спеша вычерпал содержимое миски до последней ложки, после чего попросил добавки и вновь принялся хлебать безвкусное варево. Он сидел у костра до тех пор, пока Симон и Прыщ, зевая, не отправились в палатку спать, а Филипп отошел посмотреть, не попадется ли ему какая-нибудь шлюха. Лишь после этого Тит осмелился поднять глаза.
– Ну и?
Сабина улыбнулась.
– Расскажи мне, как вы с Виксом стали друзьями?
– Он пару раз спас мне жизнь, когда я в первый раз попал в Дакию, – ответил Тит и для смелости набрал полную грудь воздуха. – А ты?
Викс и Сабина переглянулись, затем посмотрели на Тита и неожиданно оба расхохотались. Именно в этот момент Тит как будто пронзило молнией. Это он ощутил укол ревности. Ощутил нёбом ее кисловатый привкус – такой же, как и у желчи, отметил он про себя.
– О, это долгая история! – ответила Сабина. Сказав это, она потянулась и убрала упавшие Виксу на глаза волосы.
– Обожаю долгие истории, – ответил Тит, хотя и знал, что эта вряд ли придется ему по душе.
– Она не смогла устоять передо мной пять лет назад, когда я был стражником в доме ее отца, – пояснил Викс и чмокнул Сабину в шею. – Не может устоять передо мной и сейчас.
– Выходит, история не такая уж долгая, – заключила Сабина. – Хотя, если уж говорить о том, кто не мог перед кем устоять, то Викс…
«Пять лет назад. Когда я дарил ей букетики фиалок, а Адриан читал ей стихи».
О боги! Адриан!
– Да вы оба сошли с ума! – выкрикнул он. – Неужели вы думаете, что легат Адриан ничего не узнает? Легион не то место, где любят хранить секреты!
– А мы никаких не храним, – спокойно ответила Сабина из объятий Викса. В подрагивающем свете костра они являли собой удивительную картину – оба спокойные, уверенные в себе. Сабина взяла огромную ладонь Викса в свою, он же другой рукой лениво играл с кончиками ее волос. – Адриан в курсе, что я исследую лагерную жизнь куда пристальнее, нежели в том есть необходимость. Возможно, он также догадывается, что я завела себе любовника. Он давно дал мне понять, что не будет иметь ничего против, при условии, что я не принесу в подоле. Главное, соблюдать приличия.
«И это говоришь ты, – подумал про себя Тит. – Знай я это в Риме, когда ты только вышла замуж!»
Впрочем, он тотчас же отбросил эту мысль. Сейчас не об этом.
– И ты считаешь, что Адриану будет приятно узнать, что ты выбрала себе в любовники… простого легионера?
Сабина запрокинула голову и посмотрела на Викса.
– Он не простой.
Тит тоже посмотрел на своего спасителя.
– Тебя подвергнут порке. Может, даже казнят.
– Только если Адриан узнает, – с вызовом в глазах бросил в ответ Викс. – Вот только кто ему это скажет. Уже не ты ли, Тит?
Тит на мгновение задумался. Но лишь на мгновение.
– Вы безумцы, – повторил он.
– Возможно, – ответила Сабина. – Кстати, я принесла вина. Давайте, что ли, выпьем, прежде чем ты грохнешься в обморок.
Тит налил себе кубок вина и впервые в жизни выпил его неразбавленным. Он вернул Сабине мех, даже не почувствовав его терпкого вкуса.
– Вот уж никогда бы не подумал, что ты способна завести себе любовника, – заметил он, слегка придя в себя после первого шока.
– Надеюсь, я не слишком низко пала в твоих глазах? – на какой-то миг улыбка ее померкла. – Было бы искренне жаль.
– А с какой, собственно, стати! – подал голос Викс. – Можно подумать, ты не знаешь, кто такой Адриан.
– Думаю, в наши дни тех, кто верит в верность, можно пересчитать по пальцам, – с грустью в голосе произнес Тит. Наверно, со стороны его слова прозвучали старомодно и напыщенно, но он ничего не мог с собой поделать. – Верность женам, верность мужьям. Матерям наших детей, если уж на то пошло, Верцингеторикс.
Викс бросил поверх головы Сабины предостерегающий взгляд, как будто говоря: только посмей заикнуться про Деметру. «А может, все-таки стоит», – подумал Тит.
Сабина все еще смотрела на него. Лицо ее было серьезно.
– Прости, что разочаровала тебя, Тит.
– Неправда, ты не разочаровала, – со вздохом ответил тот. Как можно в чем-то винить женщину, которая замужем за тем, для кого существуют только юноши? В Десятом легионе всем – до последнего легионера – было известно, что у Адриана связь с одним молодым трибуном. А еще у него был смазливый адъютант, а также не менее смазливый красавчик инженер. – И не упала в моих глазах, – добавил Тит, и лицо Сабины вновь озарилось улыбкой.
«Но почему ты выбрала именно его?» – тем не менее с горечью подумал он. Кого угодно, только не этого грубого, нахального, лживого, бессовестного, неверного, неотесанного Викса. Или нет. Наверно, это был высокий, сильный, бесстрашный честолюбивый, уверенный в себе Викс? По крайней мере, в глазах Сабины. Тит посмотрел на себя, на свои костлявые длинные ноги, что торчали из-под туники, словно жерди, на тощие запястья, которые никогда не станут крепки настолько, чтобы сжимать меч, на макушке наверняка торчат юношеские вихры.
– В ближайшие месяцев шесть, если не больше – смотря как долго затянется эта кампания, – мне предстоит работать бок о бок с легатом, – произнес Тит, лишь бы не молчать. – Причем так, чтобы он не узнал, что я вечерами сижу у костра вместе с его женой и ее любовником-легионером?
– Именно так, – согласилась Сабина. – Спасибо Фортуне, что ты умеешь делать серьезное лицо. Временами мне кажется, что все дело в воспитании. Нас, патрициев, к этому приучают с детства.
– Ты уж меня извини, – подал голос Викс, – но я как грязный плебей оскорблен до глубины души.
– Зря. Признайся честно, ради своего спасения ты не в состоянии скрывать свои чувства.
«А вот я могу, – с отвращением к себе самому подумал Тит. – И, о боги, что еще мне остается делать!»
(обратно)
Глава 13
Викс
Память, как червивое яблоко, полна дыр. Мне казалось, что я отлично помню Дакийскую кампанию – даже сейчас, много лет спустя я просыпаюсь по ночам, ощущая терпкий запах хвои. Никакие другие сосны не пахнут так, как пахли сосны в Дакии – по крайней мере в тех местах, где мне довелось побывать. А побывать мне довелось почти во всех уголках империи. Запомнились мне и другие вещи, но главным образом мелочи. Все большое ушло.
Как нет и самого Траяна – нет уже давно. Вместо него теперь памятник, венчающий мраморную колонну на Квиринале, севернее от Римского форума, высокий мраморный столб, украшенный фризом, на котором изображены его главные битвы, включая военную кампанию в Дакии. По крайней мере раз в неделю я прихожу сюда. Я смотрю на фриз и вижу, как армия Траяна движется тремя колоннами, как мы входим в Дакию, как шагаем в направлении ее столицы, Сармизегетузы
[297]. Все это очень хорошо видно на фризе. Но когда ты простой солдат, тебе видна лишь дорога под твоими сапогами и потная, обгоревшая на солнце шея того, кто шагает впереди. Дорога, разъедающий легкие воздух, дорога, пыль в горле. Дорога, натертые ноги и ноющая спина, дорога, ничего, кроме бесконечной дороги. Так что мне ничего другого не остается, как пользоваться картами и фризами, чтобы выяснить то, чего я не знал тогда. Например, что первая колонна Траяна шла вдоль течения рек, от гарнизона к гарнизону, после чего соединилась со второй колонной, которая следовала маршем на север по горным широким долинам. Я слышал от тех, кто двигался в этих колоннах, что им приходилось с трудом пробиваться вперед, отражая дерзкие вылазки дакийских отрядов, что подстерегал вдоль всего пути. Но я шагал в третьей колонне, под предводительством самого Траяна, и я не помню, чтобы нам приходилось с боем прокладывать себе путь в Дакию.
Зато я помню солнечные деньки, утреннюю росу, что высыхала всего за час, стоило взойти солнцу, помню облачка пыли, вздымаемые нашими сандалиями. Еще я помню крутые горы, поросшие сосновым лесом, которые неожиданно обрывались зелеными долинами или ледниковыми озерами. Помню алый плащ Траяна, когда он скакал впереди колонны, вместо того, чтобы прятаться за спинами стражи в ее середине. Время от времени он, пристально вглядываясь в горизонт, объезжал нашу колонну с флангов.
Мы оставляли после себя сожженные деревни, обычно в наказание за пособничество мятежникам. Но лично я не поднес факел ни к одной крыше. Я как сейчас помню девушку в красном платке и ее огромные, влажные глаза, – такие глаза были у всех местных женщин, – как она смотрела на нас поверх спин своих овец, пока мы маршировали мимо. Прыщ даже влюбился по уши в одну местную девчонку, с которой познакомился у источника, и несколько недель таскал ее за собой. Какое-то время она спала в нашей палатке – готовила нам еду, в которую добавляла какие-то странные местные овощи, и обучала Сабину своему языку. Впрочем, спустя пару недель девчонка сбежала от Прыща, по всей видимости, устав от бесконечной дороги. Мы же еще долго подшучивали над Прыщом, пока в один прекрасный день он в ярости не набросился на нас с кулаками.
Помню также, как я впивался глазами в нашего орла, когда тот, сияя и переливаясь на солнце, гордо плыл над нашими головами на высоком древке. Аквилифер, в плаще из львиной шкуры, не менее гордо вышагивал впереди колонны. Орел же с надменным, я бы даже сказал, царственным видом, проплывал мимо чужих полей, и я, не в силах сдержать свой восторг, запрокидывал голову и издавал ликующий клич. И тогда этот мерзавец, наш центурион, подъезжал ко мне и больно бил меня по плечу древком.
Я помню моих товарищей. Смуглые пальцы Филиппа, бесконечно катающие игральную кость. Прыща, вырезающего для своей дакийской зазнобы браслет из мягкого бука. Когда же она сбежала, он в сердцах швырнул его в реку. Симона, который постоянно пытался вычислить, в какой стороне лежит Иерусалим. Моих братьев. И никого из них больше нет в живых. Только я.
Помню я и Тита. По идее, этому неженке было не место среди нас: его единственным желанием было поскорее вернуться домой и больше ни ногой в армию. Тем не менее он был одним из нас. Приходил к нам каждый вечер – посидеть у нашего костра, закончив свои дела у легата. Помнится, он смешно складывал свои длинные ноги под удивительно чистой туникой и потчевал нас россказнями про других офицеров. В том числе и про самого Траяна. По большому счету он каждый вечер рассказывал одно и то же, но мы с охотой его слушали, и даже просили повторить его байки. Помню, его перекошенное лицо, когда он впервые отведал «поски». Это кислое солдатское вино, которые мы получали вместе с пайком.
– Что это? – спросил он.
– Поска, – с улыбкой ответил я. – Производится из лучшего уксуса в империи. Им отлично промывать раны. Пей до дна.
– Лучше налей его в шлем, – посоветовал Симон, – и подержи в нем ноги. Лучшее лекарство после долгого марша. Дай ногам отмокнуть в поске, и мозолей как не бывало. Назавтра можно шагать дальше.
– Надеюсь, ты после этого вино не пьешь? – в ужасе спросил Тит.
– Если ты такой брезгливый, можешь его процедить, – пояснил Прыщ, и мы все покатились со смеху. Тит же вылил содержимое кубка на землю.
Помню, как первый раз Адриан вымазался в грязи. Колонна остановилась на берегу разлившейся реки. Топографы возились с картами, пытаясь выяснить, где же находится ближайший брод. Тот хотя и был обозначен на карте, в половодье исчез под водой.
Я сел на дороге, со стоном сбросил с плеч вещмешок и блаженно вытянул усталые ноги. Впрочем, так поступил не я один. Трибуны тем временем верхом унеслись на соседний луг, где затеяли какие-то дурацкие игры. Но тут из-за деревьев вышел олень – самец с красивыми, ветвистыми рогами, венчавшими его голову, словно корона. Адриан сидел поодаль верхом на своем жеребце, с усмешкой наблюдая за детскими забавами офицеров, однако стоило ему увидеть оленя, как усмешки как не бывало. Он тотчас весь напрягся и выхватил у сидевшего рядом легионера копье.
Испуганный олень бросился в бегство. В считанные мгновения Адриан догнал его, а в следующий миг метким ударом пронзил ему сердце. Из раны ему на ноги фонтаном брызнула кровь, но Адриан лишь растерянно заморгал, как будто стряхивая наваждение, – и лишь потом расплылся в улыбке.
– Он обожает охоту, – позже сказала мне Сабина. – На оленей, кабанов – на всех, за кем можно броситься в погоню верхом или пешком. Странно, не правда ли? На вид его никогда не примешь за охотника. Ведь он любит животных и ненавидит грязь.
– Охота здесь ни при чем, – ответил я. – Ему нравится убивать.
Эта еще одна картина, которая частенько будет меня по ночам. Адриан с копьем в руке, улыбаясь, смотрит на свою забрызганную кровью ногу. Кровь была темной, но в моих снах она ярко-алая.
А еще я помню Сабину. Как ее непослушная коса вечно расплеталась. Как ее пальцы мяли и массировали мне ноги после двадцатимильного марша, пока все мои мышцы не превращались в кисель. Как она постоянно повторяла «Ой как интересно!», когда Филипп учил ее держать игральную кость. Или когда Симон учил ее еврейской молитве о хлебе. Или Прыщ показывал ей, как соскребать ржавчину с кирасы. Сначала ее короткий носик под палящим солнцем сделался коричневым, а затем на нем выступили веснушки. Не знаю, как ей это удавалось: подкупала ли она служанку и стражников или взяла с них клятву держать язык за зубами, но Сабина днями шагала пешком рядом со своей повозкой, в которой ей полагалось путешествовать в относительном уюте, а примерно половину ночей проводила в моей палатке. И что самое удивительное, мои друзья даже не догадывались, что перед ними жена легата. Раз в неделю она облачалась в шелка и присутствовала на императорском ужине, похожая на богиню, но в остальное время расхаживала в простом шерстяном платье и грубых сандалиях, как любая другая женщина, которая решилась сопровождать своего возлюбленного в поход. Я слышал истории о богинях, которые спускались с небес на землю, и никто даже не мог заподозрить, кто они такие. Кто знает, может, моя малышка Сабина и впрямь была богиня.
Помню, как я потешался над ней. Какую гримасу она скорчила, когда впервые отведала овсяной похлебки, приготовленной в шлеме. Затем, водрузив себе на голову этот же шлем, правда, уже в палатке, она в чем мать родила безукоризненно изобразила все парадные маневры легиона. Видели ли бы вы, какое серьезное лицо было у нее при этом!
Я невольно восхищался ею: она не жаловалась и не ныла, а продолжала бинтовать натертые ноги, пока те наконец не привыкли к долгой ходьбе. На переправах она постоянно уступала свою роскошную повозку женщинам с детьми, чтобы они могли в безопасности перейти брод, вместо того, чтобы бороться с коварным течением. А какую головомойку она учинила как-то раз нашему лекарю! Армейские лекари не спешили оказывать помощь женщинам и детям, мол, тех в поход никто не звал, сидели бы лучше дома, так что незачем тратить на них драгоценные снадобья.
Сабина, не стесняясь в выражениях, высказала все, что думает по этому поводу, и доложила Адриану, потребовав, чтобы лекаря высекли. После этого случая сопровождавшие легион женщины и дети получали такую же врачебную помощь, что и легионеры.
Помню, как мы с ней занимались любовью в моей походной постели, стараясь не слишком шуметь при этом, что, увы, не всегда удавалось. Как-то раз Филипп пригрозил, что выльет на нас ведро воды, если мы и дальше будем мешать ему спать.
– Пошел ты сам знаешь куда, – вежливо посоветовала ему в темноте Сабина. Я же расхохотался так, что едва не умер от смеха.
Помню, как Тит постоянно напоминал мне про Деметру, которая ждала меня в Моге.
– Она ведь носит твоего ребенка! – бросил он мне с упреком в голосе. – Ты же, не прошло и дня, нашел себе другую. Ты хотя бы изредка о ней думаешь?
– Нет, – честно признался я. – И только посмей заикнуться о ней Сабине!
Нет, я пытался представить Деметру. Как с каждым днем ее живот круглеет и круглеет, а она все мнет и мнет тесто, печет хлеб или играет с сыном. Согласен, Деметра, с ее царственным ростом и копной медового цвета волос внешне была куда привлекательнее малышки Сабины с ее веснушками. Иногда я исподтишка наблюдал за ней, как она с серьезным видом, ломая язык, пыталась произнесли по-дакийски новое слово. Как она выливала на голову опциона ушат крепких солдатских словечек. В эти минуты я со всей ясностью понимал, как наскучила мне прекрасная и правильная Деметра.
Впрочем, терзаться раскаянием было некогда. На дворе стояло лето. У меня был император, у которого я нес службу, и враг, которого мне предстояло убить. Днем передо мной лежала долгая дорога, которая ни на что другое не оставляла времени, ночью – худенькая девушка рядом со мной. Вот, собственно, и все, что запомнилась от того долгого похода, а отнюдь не широкая картина политических шагов и стратегий. Хотите узнать историю той военной кампании? Ступайте к колонне Траяна у подножия Квиринала и изучайте себе на здоровье фриз, застывший и бесцветный! Этот фриз, вполне вероятно, снабдит вас фактами, но из него вы никогда не узнаете, сколь великолепен был Траян, как он, словно спустившийся с небес бог, шагал пешком рядом со своими солдатами. Фриз бессилен передать подробности того марша, те самые мелочи, что до сих пор будят старого солдата посреди ночи, напоминая ему, что то были лучшие деньки его жизни.
К Сармизегетузе мы подошли к концу лета. Увы, с этого момента, моя память становится чересчур ясной.
Плотина
Письмо от дорогого Публия!
Плотина потрогала пальцами выпуклости печати. Наконец-то! Письма от него приходили нечасто, хотя сама она писала ему каждую неделю. Впрочем, ничего удивительного. Расстояние слишком велико, дороги ненадежны, да и вообще он теперь важная фигура, и его первоочередного внимания требуют совершенно другие вещи. Даже самый преданный сын вынужден выбирать между долгом и матерью. Нет, нет, никто не скажет о ней, что Помпея Плотина чересчур навязчивая мать. Впрочем, Адриан всегда выкраивал минутку, чтобы написать ей, причем собственноручно. Ее дорогой Публий прекрасно знает, с каким упоением читает она его твердый, красивый почерк. Ведь это она сама учила его писать. Правильно держать в пухлых мальчишеских пальчиках стило.
– Послушайте, девушки! – крикнула она своим служанкам. Те слегка испуганно посмотрели на нее. С какой стати их хозяйка вдруг такая веселая. – Сегодня такой чудесный день. Берите свою работу и идите на улицу.
По большому счету чудесным день был с большой натяжкой. В Рим пришла осень, серая, безрадостная. Зелень садов поблекла, лилии увяли, розы пожухли и из алых сделались бурыми. Не забыть бы сделать внушение садовникам!
Спустя час Плотина, в своих темно-фиолетовых шелках, ступила на сухую траву, направляясь к небольшому гроту, в котором – как бы приглашая вас присесть рядом с нежно журчащим фонтаном, – стояла мраморная скамья. Отсюда открывался прекрасный вид на раскинувшиеся внизу императорские сады. Служанки расположились вокруг нее – рабыни с корзинками, в которых лежало шитье, вольноотпущенницы с ее письмами, маленькие девочки, готовые бегом броситься выполнять любое ее поручение.
– Живо угомонитесь! – строго велела Плотина. Женщины тотчас умолкли и взялись за работу. Нет, ее челядь отлично вышколена, но рабы, они как собаки, что нуждаются в строгом ошейнике и крепком поводке. Стоит дать слабину, как эти кумушки тотчас раскудахчутся, как куры в курятнике, обмениваясь слухами и сплетнями. Бросив напоследок строгий взгляд на служанок, Плотина устроилась на скамье и открыла письмо.
Да, ее дорогой Публий жив и здоров. Разумеется, у него много дел. Нет, конечно, он слишком скромен, чтобы прямо об этом написать, однако Плотина не сомневалась, что под его руководством вверенный ему легион процветал. Траян же, увы, по-прежнему не желает даже думать о преемнике.
«Я вижу, как ты хмуришь брови, – писал ее дорогой Публий, – но боюсь, что по вечерам я, вместе с другими офицерами, напиваюсь на ужине у императора. Знаю, ты этого не одобряешь. Я же, поверь мне, не питаю никакой любви к неразбавленному вину и армейским историям, но, похоже, другого выхода у меня нет, если я хочу разговаривать с Траяном без смущения».
Плотина действительно нахмурила брови. Впрочем, сердилась она не на дорогого Публия, а на Траяна. О боги, такой дальновидный человек буквально во всем и такой близорукий, когда дело касается родной семьи! По-прежнему пьет неразбавленное вино и обменивается сальными шуточками с солдатней, как какой-то мальчишка! Какое счастье, что Адриан пережил эти крайности в куда более подобающем возрасте!
«Твой супруг-император трудится до седьмого пота, – продолжал тем временем дорогой Публий, – и нам ничего не остается, как во всем подражать ему. От его взгляда не ускользнет даже самая последняя мелочь, но он находит время и для тех дел, что остались в Риме. Знала бы ты, с каким воодушевлением он ухватился за схему раздачи хлеба, предложенную Вибией Сабиной!»
И вновь брови Плотины хмуро сдвинулись на переносице. У нее до сих пор не укладывалось в голове, что эта девчонка увязалась вслед за армией. Римская матрона, шагающая вместе с легионами? О боги, что эта взбалмошная девчонка вбила себе в голову? Нет, конечно, дорогой Публий в душе был против, но он слишком добр, слишком мягок, чтобы приструнить супругу. За него это в своих письмах делала Плотина. Ведь кто еще, как не она?
– Сноха, – сказала она полной эфиопке, которая пользовалась ее доверием и которой было поручено надзирать за швеями, – согласись, что от нее не дождешься уважения.
– Да, госпожа, – покорно ответила та, не отрыва глаз от иглы. Служанки давно уяснили для себя, что даже если к вам обратились с вопросом, ответа как такового не требуются. Плотина одобрительно кивнула и, зябко поежившись, плотнее завернулась в темно-фиолетовую паллу. Осенний ветер бодрил, но и пронизывал до костей.
Кстати, говоря о поддержке сирот, Сабина хотела бы внести свой вклад в ее осуществление.
Что ж, была вынуждена согласиться Плотина, возможно, в предложении этой упрямицы есть смысл. Специальный императорский фонд, ежегодно берущий на свое содержание осиротевших свободнорожденных римских детей – это, конечно, прекрасно. Но вряд ли эта идея пришла в голову Сабине! Дорогой Публий предлагал Траяну нечто подобное еще года два назад, но тот отказался его выслушать. Или, может, это с самого начала была ее идея, а дорогой Публий лишь озвучил ее перед императором, лишь бы сделать приятно своей женушке?
«Сабина хочет внести свой вклад в сумме ста тысяч сестерциев из своего собственного кошелька, чтобы запустить эту схему раздачи хлеба. Я уверен, что ты будешь довольна».
Сто тысяч сестерциев? О нет, чем тут можно быть довольной? Если так дело пойдет и дальше, этой девчонке самой того гляди придется пойти с протянутой рукой, прося подаяния. Почему бы – если ей не терпится заняться благотворительностью, – Сабине не подыскать себе что-нибудь поприличнее, нежели вытаскивать из трущоб всяких шлюх и давать им работу? А что касается раздачи хлеба, хватило бы и символической суммы. Сто тысяч сестерциев! Это примерно четверть суммы, которую плебей вносит, чтобы перейти во всадническое сословие. К тому же откуда у нее свой кошелек? Эти деньги принадлежат дорогому Публию, и он вряд ли сумеет выкроить из них требуемую сумму. Если вы фигура публичная, ваша жизнь – дорогая вещь, вечно нужно кому-то платить, кого-то подкупать, где-то появляться, ходить в гости, самому принимать гостей.
Лучше бы она потратила эти сто тысяч на то, чтобы протолкнуть его вверх! И что самое главное, она ведь все прекрасно понимает. И делает это нарочно, с умыслом, чтобы позлить ее, Плотину, чьи наставления и советы она привыкла пропускать мимо ушей. На чьи письма отказывалась отвечать. Разве она ответила хотя бы на одно из тех писем, которые Плотина отправила ей с начала кампании? Писем, призванных наставлять и направлять, давать материнские советы? Ни на одно.
Плотина резко вздохнула и оторвала глаза от письма дорого Публия. Позади нее нежно журчал фонтан, ветер покачивал голыми ветвями кипарисов, однако императрица Рима ничего этого не замечала: радость ее дня была омрачена.
– Ниоба! – прикрикнула она на рабыню, беря у нее из рук полотенце. – Немедленно переделай этот шов!
– Да, госпожа.
«Я доверяю тебе распорядиться насчет пожертвования Сабины», – писал дорогой Публий, после чего пустился в легкомысленные рассуждения о других вещах. Например, как он, поскольку армия дошла до Сармизегетузы и легионы заняты подготовкой к осаде, может позволить себе время от времени выбраться на охоту. Но Плотина отложила письмо. Зачем читать, что пишет ей дорогой Публий, если сама она в дурном настроении. К тому же у нее имелись иные соображения по поводу того, как ей провести день.
Императрица просидела в гроте еще полчаса, глядя на расстилающиеся внизу сады. Ветер тем временем заметно усилился, резкий и холодный, и пурпурная стола на ходу колыхалась вокруг ее ног. Но рабыни не жаловались, лишь потуже укутались в шали и сосредоточились на работе, пока их хозяйка продолжала сидеть, похлопывая письмом о каменную скамью.
– Приведите ко мне моего нового секретаря из Афин, – наконец произнесла Плотина. – Если не ошибаюсь, его имя Басс. Я бы хотела поговорить с ним о новом порядке раздачи хлеба.
Если она возьмет это дело в свои руки, это даст ей возможность следить за его ходом, контролировать, получать нужные сведения.
«Я доверяю тебе распорядиться насчет пожертвования Сабины», – написал ее дорогой Публий. Так она и поступит. Другое дело, что эти сто тысяч сестерциев могли бы найти себе лучшее применение, вместо того, чтобы быть истраченными на кормежку сопливых сорванцов в провинциях.
Безусловно, бывшая императрица Марцелла назвала бы это вмешательством в чужие дела. Плотина называла это долгом.
– Пойдемте, – бодро сказала она своим женщинам, вставая со скамьи. – Здесь слишком холодно. От такой работы никакого прока. И почему ни одна из вас даже словом не сказала мне об этом?
– Да, госпожа, – хором пробормотали служанки и следом за ней направились назад в дом.
Сабина
– Я бы не советовал тебе слишком много времени проводить на солнце, – заметил Адриан. – Ты уже стала совсем коричневая.
Сабина посмотрела на свои загорелые руки.
– Траяну нравится.
– А мне – нет.
Сабина прекрасно знала, что ему нравится, а что нет. Так что дело вовсе не в загаре, а в том, какое замечание отпустил по этому поводу император на последнем ужине, похлопав Сабину по веснушчатой щеке.
– Ты переносишь тяготы армейской жизни куда лучше собственного мужа, моя маленькая Сабина.
– Он не хотел тебя обидеть, – сказала она Адриану. – Подумаешь, слегка пошутил.
– У него нет причин шутить надо мной. Я честно исполняю свой долг. Работаю в три раза больше, чем любой другой легат в его армии.
– И он это знает и ценит. Но он также прекрасно знает, что ты не любитель военных кампаний.
– Скорее солдат, – процедил сквозь зубы Адриан, перекладывая в другую руки стопку восковых табличек. – Будь то император или простой легионер – любой, кто предпочитает мечу книгу, в их глазах ничто.
– Не принимай все так близко к сердцу, – утешила мужа Сабина. Как она и предсказала в разговоре с Виксом, ее тропа пересекалась с тропой Адриана не чаще одного раза в день. Тем не менее она любила заглянуть к нему вечерком, чтобы переброситься парой дружеских слов. Особенно сейчас, когда легионы стояли под Сармизегетузой, взяв город в кольцо, в расчете на то, что враг сам сложит оружие. Что, по мнению Сабины, было пустой тратой времени.
– …бесполезные кампании, – продолжал жаловаться Адриан. – Разумеется, мятеж следует подавить, но как только осада закончится. Траян поговаривает о продолжении похода. Он, видите ли, намерен идти в Сарматию! В Сарматию! Во сколько лет и во сколько миллионов сестерциев нам это обойдется? Эти войны за расширение границ, они ложатся на империю тяжким бременем и совершенно бесполезны! Рим и так огромен!
– Да, но ведь мы обожаем приобретать новые провинции, – напомнила Сабина. – И не лучше ли, когда легионам есть чем заняться. Ведь стоит походу закончиться, как солдаты маются от безделья. У них начинают чесаться кулаки и начинают искать, на ком бы им выпустить пар.
– Их можно занять и другими способами, – произнес Адриан, задумчиво похлопывая по ладони пером. – Например, поручить им строительство…
– Траяну строительство не нужно. Он видит себя вторым Александром.
Адриан презрительно фыркнул.
– Любой император видит себя вторым Александром.
– А ты?
– Умереть в тридцать два года, чтобы сразу после твой смерти все, что ты воздвиг, развалилось на части? Нет, избавь меня. С меня довольно того, что я… Адриан.
Сабина оперлась подбородком на ладони.
– И что это значит?
– Нечто такое, чего мир еще не видел, – ответил Адриан с мечтательным блеском в глазах.
Сабина посмотрела на мужа: аккуратно подстриженная борода, сильные плечи, которые казались еще мощнее, когда на нем была кираса, рука, нервно сжимающая перо, и взгляд человека, узревшего нечто такое, что не видно остальным. Интересно, что именно? Сабина не знала. Порой она даже задавалась вопросом, насколько откровенен с ней муж. Помнится, как-то раз Адриан обмолвился, что все, что ему нужно от мира, это его исколесить. Сказал ли он всю правду? Почему-то она не могла избавиться от ощущения, что он что-то прячет, таит в душе нечто такое, чем не желает делиться ни с кем. Даже с ней.
– Как жаль, что мы застряли здесь до окончания осады, – весело произнесла Сабина. – Здесь, в Дакии, так красиво! Я бы с удовольствием посмотрела бы на эту страну.
Мечтательный блеск в глазах Адриана потух. Зато на его место пришел другой – полный задора, который нравился Cабине куда больше.
– Боги, ну конечно! Такой охоты, как здесь, у меня еще нигде не было. Волки размером с медведей. Вчера мои собаки загнали парочку. Честное слово, я бы не удивился, узнай я, что это были Ромул и Рем во плоти. Мне сейчас выделывают их шкуры. Из них можно сшить отличное покрывало, и еще останутся хвосты.
– Легат! – Это в палатку вошел трибун. Шагнув внутрь, он снял шлем и отдал салют. Как оказалось, это Тит. – Депеши из Рима. Принести их тебе?
– Да, немедленно, – Адриан в последний раз со вздохом вспомнил охотничьи просторы Дакии и вернулся к столу. Сабина поставила кубок и поднялась с места.
– Трибун, будь добр, проводи меня до моей палатки.
– Сочту за честь, госпожа, – ответил Тит, по-прежнему избегая смотреть ей в глаза.
Адриан рассеянно пожелал ей доброй ночи. Сабина взяла под руку Тита, и вместе они вышли из палатки.
– Давай сначала сходим к реке, – предложила она, когда они отошли на приличное расстояние. – Мне наконец удалось стянуть с Викса тунику. На ней столько грязи, что если ее поставить, она так и останется стоять.
Тит даже присвистнул, однако вслух ничего не сказал, оставив свое неодобрение при себе. Сабина тем временем взяла с повозки узел с грязным бельем.
С того самого первого вечера, когда она заметила на лице Тита потрясенное выражение, Сабина не переставала надеяться, – причем эта надежда не переставляла удивлять даже ее саму, – что им удастся сохранить дружеские отношения. Тит по-прежнему приходил по вечерам к костру, разделить ужин и поболтать, и даже если при этом он старался не смотреть в сторону Сабины и Викса, то скорее из чувства такта, от обиды.
Вскоре они подошли к реке, чьи серебристые воды окрасились в вечернем солнечном свете закатным пурпуром. На берегу с десяток солдат и несколько женщин стирали подкладки шлемов и туники, время от времени шутливо жалуясь на натруженные ноги и ноющие спины. Кое-кто с любопытством посмотрел на Тита в его безукоризненно начищенных доспехах. А вот на Сабину, с ее косой и накидкой из овечьей шкуры, никто даже не посмотрел. Да и с какой стати? На вид ее можно было принять за рабыню, в лучшем случае – за чью-то служанку-вольноотпущенницу: просто еще одна смелая женщина, из тех, что следуют за легионом. За упорядоченным квадратом лагеря маячила Сармизегетуза, которую солдаты называли просто Сарм. Сабина бросила взгляд поверх верхушек деревьев на столицу даков: вечернее небо пронзала неприступная скала, увенчанная крепостью. Помнится, когда ее громада впервые замаячили вдали, солдаты издали дружный возглас. Сабина тотчас поднесла к глазам ладонь, чтобы лучше ее рассмотреть.
Рим имел четкую, упорядоченную планировку, разрастаясь вширь вокруг форумов, холмов и капитолиев. Даки же построили город, который в буквальном смысле цеплялся, взбираясь вверх по вертикальной стене. Остроконечные крыши и крутые улички, извивавшиеся вокруг вырубленных в камне террас, – и над всем этим высилась крепость дакийского царя. Именно в этой крепости он сейчас заперся вместе со своим диким, кровожадным войском.
– Через неделю от нее останется лишь груда щебня, – похвалялись тогда инженеры. Впрочем, Сабину ничуть не удивляло, что спустя месяц крепость на скале как стояла, так и продолжала стоять, а в каменной глыбе не было сделано даже крошечной зазубрины.
Сабина покачала головой, отгоняя воспоминания. Вместо этого, она опустилась на влажный песок речного берега и принялась полоскать в холодной воде тунику Викса.
– Что-то мне не доводилось видеть жен легатов за стиркой, – заметил Тит. – Почему бы тебе не поручить эту работу рабыням? Или тебе нравится самой счищать с одежды грязь?
– Ну, я бы не сказала, – ответила Сабина, пытаясь удалить с ткани какое-то особенно упрямое пятно. – Но какой смысл в приключении, если ты пропустишь самую увлекательную его часть? Викс же не может попросить раба начистить ему сапоги или починить кирасу. Так почему это должна делать я? Все должны быть в равных условиях.
– Тогда понятно, – ответил Тит. – Наверно, я не имею вкуса к приключениям.
– Верно, ты ученый. У тебя вкус к другим вещам.
– Нет, дело даже не в этом. Я самый обыкновенный. Просто как сказал один мудрец: «Трудолюбие восполняет даже самый посредственный ум».
– Это Сенека?
Тит кивнул.
– Я с удовольствием оставляю приключения куда более великим людям, нежели я сам. С меня достаточно того, если я вернусь домой живым и мне больше никогда не придется беспокоиться о том, чистая туника на мне, или нет.
– А ты отдавай туники мне, и я верну их тебе чистыми, – предложила Сабина, выкручивая тунику Викса. Титу показалось, что глаза ее светятся гордостью. – Возможно, стирка не самое увлекательное занятие, но она получается у меня неплохо.
Вообще-то ей это было жутко интересно. Да что там! Ей это нравилось. Нравилось шагать рядом с повозкой, полной грудью вдыхая напоенный ароматом хвои воздух. Или помогать несчастному писарю толкать упрямого мула, чтобы тот сдвинулся с места. Или же, посадив их к себе на бедра, переносить через брод чьих-то детишек. И ничего, что потом еще целый час в сандалиях чавкает грязь! Или учиться крепким солдатским словечкам, которые поначалу были для нее почти чужим языком. Все это было интересно и весело. Или взять товарищей Викса. Филипп научил ее жульничать при игре в кости. Симон – помнится, в первый раз он с опаской посмотрел на нее, стоило ей открыть рот и заговорить, – привык к Сабине и стал ей почти другом. Юлий, который врал как сивый мерин буквально обо всем, но не имел ничего против того, что и Сабина, если на то пошло, тоже говорила далеко не всю правду. Прыщ, который поначалу страшно тушевался в ее присутствии, но теперь, похоже, не оставлял надежды, что она бросит Викса и обратит свое внимание на него.
И когда другие женщины спрашивали ее: «А который из них твой?», Сабина указывала на высокого воина – рыжеволосого, загорелого, с вечной улыбкой на лице, и глазом не моргнув отвечала:
– Вот этот.
И это было, пожалуй, веселее всего.
– Кажется, грязь отстиралась, – с этими словами Сабина напоследок прополоскала тунику и подержала на весу, давая воде стечь. – Пятен не видать. Будем считать, что она чистая.
К этому времени легион уже расцвел соцветиями костров. Над лагерем, вместе с дымком, устремляясь к звездам, плыли самые разные запахи: гари и масла, жареного мяса и сушащейся одежды, кожи и пота, конского навоза и стали. Сабина глубоко вдыхала эту смесь, пока они с Титом шагали сквозь лабиринт палаток и костров.
«Интересно, а моему мужу нравится этот запах легиона на марше», – подумала Сабина и решила, что наверно, нет. Вот императору Траяну он наверняка нравился. И Виксу – сколько бы тот ни жаловался на свой Десятый, его традиции, его центурионов и его запахи. Запахи он обожал.
– Мало того, что ты украла мою тунику – бросил ей в лицо обвинение Викс, когда они с Титом подошли к костру. – Так теперь ты еще гуляешь с трибуном. Да, вам бабам всегда подавай офицеров!
Викс сидел, скрестив ноги у костра, положив на колени меч. Пламя костра окрасило его волосы из рыжих в золотые. Он работал точильным камнем, и под загорелой кожей голых рук перекатывались стальные мускулы. Сабина давно усвоила: для того, чтобы наточить меч, требовалась сноровка, и немалая.
Сначала небольшим ножом следовало соскоблить пятна ржавчины, если те вдруг появились, затем твердой рукой долго работать точильным камнем. Длинные взмахи для лезвия, короткие – для острия. Затем меч полагалось тщательно смазать маслом, а напоследок протереть мягкой ветошью. А еще говорят, что, мол, мужчины не способны ухаживать за младенцами! Тот, кто такое говорит, размышляла Сабина, садясь рядом с Виксом, никогда не видел, как легионер ухаживает за своим мечом.
– Я принес вина, – сообщил Тит и протянул мех. – Стал бы я приносить вино, если бы хотел сбежать с твоей девушкой?
– Давай мне вино, а ее забирай себе.
– Ты серьезно? – удивился Тит, но Викс уже обнял Сабину за плечи и, притянув к себе, поцеловал в висок.
– Где Симон и все остальные? – спросила она, оглядываясь по сторонам.
– Прыщ и Филипп сегодня стоят в карауле. – Виск снова взял в руки точильный камень. – Симона опцион отправил в разведку. Так что костер сегодня в нашем полном распоряжении.
А потом и палатка, добавил он уже одними глазами. В кои веки можно не бояться, что мы кого-то разбудим.
Она уже потеряла счет, сколько раз они спали вместе, но до сих пор одного его взгляда было достаточно, чтобы внутри нее все затрепетало от предвкушения ночи.
Тит кашлянул и налил в оловянные кружки вина. Глядя на пляшущие языки пламени, все трое в ленивых позах устроились у костра. Вернее, в ленивых позах устроились лишь Сабина и Тит. Викс то и дело раздраженно постукивал по камню ногой и жаловался на затянувшуюся осаду.
– …больше катапульт, – рассуждал он. – Постройте их нужное количество, и они в два счета разнесут вам ворота.
– Можно построить сколько угодно осадных машин, но тогда мы останемся без леса, – мягко возразил Тит. Даже в спорах он был предельно деликатен. – Лично готов заплатить, лишь бы ворота открылись. По словам Катона, «нет такой крепости, которую бы не взяли деньги».
– Цицерона, – поправила его Сабина. – Это Цицерон так сказал.
Страсть Тита к цитатам порой вызывала у Викса и его товарищей недоуменные взгляды, однако по части цитат она легко могла заткнуть его за пояс.
– Или почему бы не предпринять ночную атаку? – продолжал рассуждать Викс, бросив взгляд на черный силуэт Сарма. Крепость надменно высилась над палаточным лагерем – солдатами, осадными машинами, платформами и лестницами. – Послать отряд, чтобы лазутчики под покровом темноты проникли через стены и открыли ворота, – с этими
словами Викс с удвоенным усердием заработал точильным камнем. Для такого, как он, ожидание было смерти подобно. Месяц сидения под стенами крепости для него – сродни году. Сабина подошла сзади и, опустившись на колени, принялась массировать ему плечи. Викс перестал недовольно бормотать и даже ахнул от удовольствия.
– Слева, если можно, посильнее, сегодня я сам не заметил, как растянул мышцу.
– С тобой такое часто бывает, и всегда слева, – Сабина принялась мять больную мышцу ниже плеча, которая чаще других давала о себе знать. – Как будто твоей левой руке не нравится, что в ней всегда щит.
– В учебном лагере я переучился на правшу, хотя до этого привык сражаться левой. Так было проще, чем выслушивать вечные упреки начальства. Ой!
– Зато теперь вечно жалуется твоя левая рука. – Сабина запустила пальцы под вырез его туники и принялась массировать плечо. Кожа Викса была теплой, но жар костра здесь был не при чем. Чтобы согреться, костер ему был не нужен. Стоило Сабине прикоснуться к нему, как он словно начинал полыхать изнутри жаром, как будто кровь его вот-вот закипит.
Викс поймал ее пальцы в свои, мозолистые от рукоятки меча и скользкие от масла, и крепко пожал. Впрочем, своих речей по поводу осады он не оставил.
– Отправьте меня с веревкой. Я перелезу через стены и…
– Все, я сдаюсь, – вздохнула Сабина, убирая руки. – Тебя сегодня ничем не унять. Разве чуть позже, когда я стащу с тебя одежду.
Она переползла на другую сторону и посмотрела на лежавший у него на коленях меч. Поскольку Викс даже не думал его убирать, ей пришлось положить голову на колени Титу.
– …я открою вам ворота, – не унимался Викс.
– О боги, сколько можно! – взмолился Тит. – Какая разница, падет город или нет. Можно подумать, это что-то меняет.
– Как так, какая разница? Что ты хочешь этим сказать? Выходит, я зря потратил целое лето, шагая сюда, в Дакию? И теперь, без единого сражения, я должен вернуться домой?
– А почему зря? Лето было просто замечательное: хорошая погода, красивая страна, веселый поход. Даже я убедился в том, что армейская жизнь не так уж плоха.
– И я, – поддакнула Сабина, отрывая голову от колен Тита. В начале похода она страшно переживала, что через каждый час-полтора вынуждена была забираться обратно в повозку, давая отдых натруженным ногам. Она массировала их, бинтовала кровавые мозоли, проклинала свои хилые мышцы. Глядя на легионеров, она отказывалась поверить, что можно часами шагать по пыльной дороге, нет, не прогулочным шагом, а маршем, в сапогах, в доспехах, с оружием в руках, неся за плечами тяжелые вещмешки. Однако вскоре ее собственные мышцы сделались крепче, и теперь она уже шагала целый день, не зная усталости, и даже находила силы, чтобы вместе со всеми горланить походную песню. Иногда она даже сочиняла скабрезные куплеты, которым затем учила Викса и его друзей.
– Если на наших копьях не будет вражеских голов, значит, все псу под хвост, – изрек Викс, подводя итог. – И для чего я тогда пошел служить? Ведь не ради же жратвы и денег?
– Ты и впрямь настоящий варвар, – заметила Сабина.
– Согласен, – поддакнул Тит. Сам того не замечая, он начал легонько поглаживать ей волосы, как будто опасаясь, что она оттолкнет его руку. Но она только закрыла глаза. – Нам нет необходимости предпринимать решительные действия против Сармизегетузы. Колодца в крепости нет. Так что рано или поздно запасы воды у жителей кончатся.
– А если у них есть трубы, и по ним в крепость поступает вода? – спросил Викс, подбрасывая в костер еще одно полено. Сухое дерево занялось пламенем, и к небу с треском устремились искры, как будто хотели занять местечко среди россыпи звезд.
– Верно. Я не раз был свидетелем горячих споров в императорском шатре по поводу этих труб. Обычно, пока Траян спорит с легатами, я стою в уголке, рядом с ящиками с депешами и слушаю. – Тит продолжал нежно поглаживать ей волосы. Эти легкие прикосновения убаюкивали, и Сабина зажмурилась от удовольствия. «Счастливая женщина, которая станет женой Тита», – подумала она. – Легат Адриан хочет отравить источник воды, но этот выход ненадежный. Император надеялся, что, если трубы широкие, в них под покровом ночи можно было бы запустить несколько человек, чтобы они пробрались под стены. Но, увы, их диаметр оказался слишком мал.
Викс запрокинул голову и расхохотался, после чего словно жонглер бросил наточенный меч в воздух и ловко его поймал.
– Обожаю нашего императора, – со смехом заявил он. – И тебя тоже обожаю, Тит. Правда, рассуждаешь ты, как патриций. Яд, ночные вылазки. Попробуй хоть раз раскинуть мозгами, как варвар! Порушьте эти проклятые трубы!
– Это возможно лишь в том случае, если знать, где они выходят, – ответил Тит. – Мы же этого не знаем.
– Зато знаю я.
(обратно)
Глава 14
Тит
– Ты думаешь, нам такое не приходило в голову? – спросил Тита Траян, с сочувствием глядя на молодого трибуна. – Да мы бы не задумываясь перерезали эти трубы, знай мы, как к ним подобраться.
– Доступ есть, Цезарь. Позволь, я покажу тебе это место на карте, – возразил Тит, переминаясь с ноги на ногу. – Один из моих легионеров обнаружил его во время ночного дозора. То место, где трубы выходят на поверхность. Если их разрушить, крепость останется без воды. Не слишком красивый способ, зато простой и надежный. Как только даков одолеет смертельная жажда, они сами откроют ворота.
Император задумчиво насупил брови.
– Приведите моих инженеров! – приказал он, и походная палатка Траяна мгновенно загудела, как улей. Тит стоял посреди этой суматохи, охваченный странным возбуждением. Чтобы прийти сюда, ему потребовалось собрать воедино все имевшееся у него мужество. И все же он превозмог себя и рискнул представить на суд Траяна безумный план Викса.
– Я, что, должен это сделать сам? – подзадорил его Викс. – Можно подумать, что кто-то пустит потного легионера в грязных сапогах в императорскую палатку! Так что, дружище, хочешь ты или нет, но это придется сделать тебе.
– Я? Но я не могу…
– Тебе ведь уже случалось с ним говорить?
– Лишь походя, – признался Тит. – Раз или два. Ничего серьезного… Я вообще не любитель вести с императорами серьезные беседы. Впрочем, не только с ними, а просто с важными людьми. Они смотрят на меня, и я начинаю заикаться. Так что по возможности стараюсь избегать подобных встреч.
– Доложи об этом Адриану, и вся слава достанется ему, – предостерег его Викс. – И тогда я буду вынужден расквасить тебе нос – за то, что благодаря моей идее этот хорек получит повышение. Хоть раз побудь мужчиной!
– Ты прямо-таки как мой дед, – поморщился Тит.
Однако на следующий день облачился в лучшие свои доспехи. Приделал к шлему парадный гребень. Начистил все до блеска и отправился с донесением к императору. И вот теперь Траян пристально рассматривал юного трибуна.
– Так как, говоришь, твое имя? – спросил Траян. – Если не ошибаюсь, ты из легиона Адриана, тот самый, что вечно сыплет цитатами.
– Да, – со вздохом признался Тит. – Он самый.
– Рад слышать, что в голове у тебя не одни только эпиграммы, а кое-какие дельные вещи. Это, конечно, не означает, что твой план непременно должен сработать, но попытаться можно.
Тем временем народа в палатке прибавилось, адъютанты раскладывали карты. Штабные офицеры жарко спорили друг с другом, инженеры – как то за ними водится – с чувством собственного превосходства сыпали техническими деталями.
Походная палатка императора была мала – простая и непритязательная, как и палатка рядового легионера. Ее строгую спартанскую обстановку составлял складной стол, походная постель и несколько жестких табуретов. И лишь веселый нрав Траяна смягчал эту суровую солдатскую простоту.
– Адриан! – крикнул император, когда порог палатки переступил муж Сабина. – Признавайся, ты почему скрывал от меня этот ходячий сборник цитат? Твой юный трибун умеет не только цитировать Цицерона.
Адриан насупил брови.
– Извини, если он побеспокоил тебя, Цезарь.
– Ничуть. У него нашлось несколько ценных мыслей насчет водопровода. Возможно, я заберу его к себе в штаб. Расскажи нам еще раз, приятель…
– Будь это так просто – отрезать город от воды, мы бы уже давно это сделали, – покачал головой Адриан еще до того, как Тит закончил излагать свой план. – Ничего не выйдет.
– Это как выйдет, – с жаром возразил Тит, чем удивил самого себя. – Мы знаем, что в городе источника водоснабжения нет, по крайней мере такого, которого бы хватило всем. Основная вода поступает в город по трубам.
– Юноша прав, – проворчал один инженер. – Это место, которое нашел твой легионер, то есть трибун… Он уверен, что именно там начинаются трубы? На карте оно не обозначено.
– А я что говорю, – отмахнулся Адриан. – Будь к ним доступ, мы бы уже давно про них знали.
– Необязательно. Потому что место это тайное. Даки постарались сделать так, чтобы оно не попало на наши карты. – Тит шагнул чуть ближе. – Давайте я укажу вам, где оно.
И вновь недоверчивый шепот, споры, догадки, доводы, скептическое хмыканье, однако оптимизм императора перевесил чашу весов в пользу Тита.
Траян уже вовсю размечтался. Не в силах усидеть на месте, он расхаживал по тесной палатке, спорил с офицерами.
«Уфф, кажется, все», – подумал Тит и, довольный тем, что на него никто не обращает внимания, принялся незаметно пробираться к выходу. Как оказалось, кое-кто его все же заметил. Кто-то зоркий и наблюдательный.
– Ты должен был сначала явиться с донесением ко мне, – раздался рядом с его плечом голос Адриана, как обычно, надменный и невозмутимый.
– Извини, легат, – ответил Тит. – Просто я опасался, что эту идею поднимут на смех, мне же не хотелось выставлять тебя на посмешище.
– Зато теперь ты в глазах императора большой умник. Полагаю, именно этого ты и добивался.
– Неправда. Я вообще не стремлюсь к славе. Живу себе и все.
Адриан смерил его недоверчивым взглядом и отошел прочь.
– Цезарь, я бы хотел обратить твое внимание на одну вещь здесь, на карте. Ты с трибуном уже обсуждали эту идею, когда взвешивали все за и против…
«Ну почему мне никто не верит, когда я говорю, что не стремлюсь к славе», – подумал Тит. Адриан, который мечтает подняться до поста консула и даже выше. Император, мечтающий покорить весь мир. Викс, который спит и видит, когда получит под свое командование легион, чтобы ему в этом помочь. Сабина, которая не угомонится, пока не пересечет все до последнего моря, не достигнет самых дальних горизонтов. «Как много их, которые к чему-то стремятся, – размышлял Тит. – И где-то среди их амбиций затерялся я. Тот, у кого этих амбиций нет и в помине».
Разве что одна – в один прекрасный день обзавестись прозвищем «Тот, у которого на любой случай есть цитата».
– Трибун, – наконец произнес Траян, натягивая перчатки. – Ты теперь у меня на заметке. Ну как, найдется по такому случаю эпиграмма?
– «Язык мой онемел, – машинально процитировал Тит. – Но изнутри, невидимое взору, меня сжигает пламя». Правда, Катулл сказал это о женщине. Но именно так я ощущал себя, Цезарь, когда шагал к твоей палатке.
Траян расхохотался и одобрительно хлопнул Тита по плечу, от чего у бедняги едва не подкосились колени. Свита тотчас подхватила его смех, и лишь Адриан едва заметно скривил губы, что должно было означать улыбку.
Викс
– Скажи мне. – Сабина подняла голову и испытующе посмотрела на меня. Водопровод был перерезан. Делать было нечего. Вновь потянулись дни – долгие, теплые, ленивые. Мы ждали, когда же даков наконец начнет мучить жажда. – За что ты так не любишь моего мужа? Признайся, он ведь очень даже неплохой легат.
Я презрительно фыркнул. Впрочем, она права. Я мог испытывать к нему неприязнь, но положа руку на сердце вынужден был признать: как легат Публий Элий Адриан действительно был неплох. Он не заводил себе любимчиков, не докучал мелочной опекой центурионам. Он любил дисциплину, но не насаждал ее грубой силой.
– Он просто пытается во всем подражать императору, – презрительно отозвался я. – Скажи, много ли надо ума, чтобы просто кого-то копировать?
– Да, мой муж подражает Траяну, – согласилась Сабина. – Берет с него пример буквально во всем. Например, теперь он тоже называет всех своих солдат по имени и дружески хлопает их по плечу. Получается слегка неестественно, но Адриану всегда не хватает естественности, пока он не войдет в роль.
– Вот-вот. В этом он весь. Не одна роль, так другая.
– Зато, согласись, как хорошо он их исполняет. Не понимаю, за что его так не любишь. Он ведь ничего дурного тебе не сделал.
– Не сделал? А головорезы, избившие меня в переулке? Думаешь, я нарвался на них случайно?
– На головорезов можно нарваться каждый день. Но ты почему-то не держишь на них зла.
– Твой муженек – холодная, высокомерная ящерица. Мерзкая тварь.
– Верно, – согласилась Сабина. – И что из этого?
– Не пойму, почему ты его защищаешь? Мне казалось, ты сама ненавидишь его.
– С чего ты взял?
– Но ты его уж точно не любишь. – Я пытался подыскать нужные слова. – И я подумал…
– Любовь или ненависть, и ничего между ними? – Сабина с улыбкой посмотрела на меня. – Середины для тебя не существует?
Я на мгновение задумался над ее словами.
– Наверно, нет.
Сабина усмехнулась.
– Мой муж не столь прост. Согласна, он не располагает к любви, зато с ним интересно. Мы постоянно с ним ведем беседы.
– О чем же?
– О греческой поэзии, о сирийской архитектуре, об охоте на львов, об упадке римской литературы. Мы разговариваем о том, почему египтяне обожествляют кошек. О Сивилловых книгах и что в них могло быть написано. О том, как играть на флейте и как поизносить речи. О том, как однажды весной мы с ним совершим прогулку вниз по Нилу. И даже о том, какой формы должны быть камни для придания прочности мостовой – прямоугольными или многоугольными. Или о том, как лучше всего построить трирему.
– Хватит, я понял, – буркнул я. – Вы с ним и впрямь добрые друзья.
Скажу честно, я не знал и половины того, о чем она говорила.
– Друзья? – Сабина задумалась. – Пожалуй, нет. Мы могли бы быть друзьями – Адриан и я, но мы не друзья. У него есть товарищи, но настоящих друзей – никого. Он не любит слишком близко подпускать к себе людей.
– Какой, однако, милый супруг, – усмехнулся я.
– Он учтив, приветлив, мы с ним ведем беседы за обеденным столом. Лично меня такой муж устраивает.
Что еще ей остается, предположил я, если учесть, что после обеда между ними вряд ли что было. Кстати, это первое, о чем я ее спросил.
– В нашу первую брачную ночь Адриан нервничал даже больше, чем я, – помнится, усмехнулась Сабина, лежа в моей палатке в нашу с ней первую ночь в Дакии. – До этого у него были отношения с замужними женщинами, но вряд ли он когда-нибудь имел дело с девственницей. По крайней мере какой он ее себе представлял. Он был страшно рад, что я не расплакалась и не перемазала всю постель кровью, что остаток ночи мы с ним провели в беседах. Если я правильно помню, мы с ним до утра проговорили об Илиаде. Забавно, мы оба сошлись во мнении, что Ахилл был круглый дурак, пусть даже с накачанными мышцами. Однако спустя неделю после свадьбы у меня уже была своя собственная спальня, причем в другом крыле дома.
Мой муж наносит туда визит лишь несколько раз в году. Когда Плотине надоедает отчитывать меня за то, что я еще не произвела на свет наследника, она берется за Адриана.
Несколько раз в году. Что ж, меня это устраивало.
– Можете вести свои разговоры сколько угодно, – великодушно сказал я, – при условии, что между вами больше ничего нет.
– Твоя щедрость безгранична, – пошутила Сабина. – Скажу честно, я ожидала худшего.
С этими словами она притянула к себе мою голову и, припав губами к моим губам, принялась медленно гладить меня по затылку. Всякий раз, когда она это делала, некая часть моего тела тотчас поднимала голову. Подхватив Сабину на руки, я внес ее в палатку, где Прыщ был занят тем, что пришивал к шлему новую подкладку.
– Убирайся! – рявкнул я ему, а сам вновь принялся целовать Сабину.
– В таком случае, пришьешь мне подкладку сам, – огрызнулся Прыщ и нехотя вышел вон.
– Только давай побыстрее, – прошептала мне на ухо Сабина, когда я бросил ее на походную постель. – Через пятнадцать минут у тебя учения, и если ты снова опоздаешь, опцион исполосует тебе спину.
– Пошел он в задницу, – буркнул я. «А заодно и твой Адриан».
Я со злорадной улыбкой целовал изгиб ее бедра, представляя себе, как вытянулось бы лицо ее муженька, случись ему застукать нас вместе. Нет, конечно, случись ему застукать нас, как я сам, наверно, было бы вынужден его пристукнуть. Впрочем, почему бы нет? Бросить тело куда-нибудь в канаву, а потом свалить вину на даков.
В следующий миг я уже проник в нее, и Адриан был забыт. Забыта была и Сармизегетуза, маячившая перед нами в ожидании хотя бы капли дождя, постепенно умирая от жажды. Если судить по фризу на колонне Траяна, взятие крепости может показаться приятной прогулкой. Ворота распахнуты настежь, и мы с триумфом входим в стены цитадели. На самом деле, все было не так-то просто.
Нет, конечно, ворота распахнулись, и легионы с радостными криками выстроились в шеренги. Я впопыхах протиснулся между Филиппом и Симоном – одна сандалия расстегнута, шлем криво нахлобучен на голову. На рассвете, когда меня разбудил звук наших труб, я спросонья небрежно оделся. Филипп весело сыпал греческими ругательствами, Симон вопил как резаный. Вскоре взошло солнце, посыльные носились туда-сюда, как угорелые. И пока шли переговоры о капитуляции, мы стояли, переминаясь с ноги на ногу.
Даки сложили оружие лишь в полдень. Ворота крепости распахнулись, и оттуда вышла колонна пленников. Легионы двинулась вверх к городу по извилистой горной тропе. Но не преодолели мы и середины пути, как к небу взмыли клубы черного дыма, и мы поняли, что даки подожгли город, чтобы не дать нам его разграбить. Лицо Траяна было черным, как туча.
– Где ваш царь? – потребовал он, и даже я, шедший во второй когорте, услышал в его голосе гнев.
– Ты его видишь? – спросил меня Филипп. Он был ниже меня ростом и тянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит, но ему мешал гребень стоявшего впереди воина. Кашляя от едкого дыма, мы выстроились перед храмами. Даки не стали их поджигать, но от горящих кварталов города по-прежнему тянуло гарью и дымом, от которого слезились глаза. – Их царь должен быть заметной фигурой. Я слышал, будто он носит плащ из львиной шкуры.
– Тебе не пришло в голову, болван, что он мог ее снять?
– Где он? – это до нас, словно щелчок кнута, вновь долетел голос Траяна. – Где?
Пленники переглянулись, что-то бормоча себе под нос.
– Хорошо, мы сейчас увидим, – прорычал Траян, и в следующее мгновение наши всадники уже сидели верхом.
– Этот ублюдок наверняка сбежал еще до того, как они открыли ворота, – пробормотал рядом со мной Симон.
– Так что, никакого сражения не будет? – скажу честно, я даже расстроился, слыша, как играют наши трубы.
– Какое сражение? Они ведь сложили оружие!
– Понятно. – Тем не менее я был даже польщен, как, наверно, и сам Траян. Он смотрел на крепость и, наверно, видел перед собой разграбленные римские гарнизоны, где из ниш, в которых когда-то красовались бронзовые орлы, на нас смотрели пустыми глазницами черепа.
– Если они сожгли город, значит, могут сжечь и это, – рявкнул Траян, и мы вновь услышали в его голосе ярость. – Поджигайте.
Через минуту к небу взвились новые языки пламени. Увидев их, даки поспешили отвести взгляды в сторону.
В дымящийся город вошли несколько центурий – тушить пожары, подавлять последние очаги сопротивления. Все остальные стояли перед храмами. Римские храмы обычно квадратные, с колоннами, под крышей – прекрасные здания для прекрасных богов. А вот дакам, похоже, храмами служили каменные круги под открытым небом. Их огромные серые камни были сложены друг на друга и испещрены рунами.
Мой взгляд упал на обширный плоский круг из плотно подогнанных друг к другу камней – как будто кто-то бросил на траву огромных размеров диск. А затем я увидел, как Траян соскочил с коня и зашагал к нему с черным, как туча, лицом. Выхватив у аквилифера штандарт, он оставил его стоять в растерянности, а сам решительно взошел на середину каменного круга. Какое-то время он постоял, тяжело дыша, как будто не мог вспомнить, что хотел сказать или сделать, а затем, не говоря ни слова, вогнал древко с орлом в паз между двумя камнями. Гордая птица распростерла крылья над поганым святилищем.
Внезапно у меня засаднило горло, и я понял, что из меня рвется крик и вместе со мной кричат еще несколько тысяч глоток. Траян поднял руку, призывая к тишине, но мы продолжали стучать копьями о щиты, и постепенно хмурое выражение на его лице сменилось ликованием. Он, словно мальчишка, расплылся в задорной ухмылке. Взгляды всех до последнего были устремлены к нашему надменному, гордому орлу. Раскинув крылья, он высился на шесте над каменным кругом, а вокруг него вились легкие клубы дыма, которые ветер приносил из горящего города.
Затем вперед вышли авгуры: они произнесли слова благословения и провозгласили Траяна повелителем Сармизегетузы. Впрочем, мы то и дело перебивали их нудный речитатив веселыми возгласами, а они лишь сердито махали на нас руками. Напыщенные болваны – кому нужно их благословение? Траян стал повелителем Сарма в тот миг, когда вогнал шест с орлом с трещину каменного круга. Мне были видны даки – женщина с ребенком на руках, старик, мальчишка, на несколько лет младше Тита – все они исподлобья смотрели на нас, и в их глазах читалась ненависть. С другой стороны, что они мне?
Иное дело – мой славный император.
Его дурного настроения как не бывало. Как только жрецы умолкли, он посмотрел на горящую крепость и поморщился.
– Я ее отстрою заново, – заявил он, обращаясь скорее ко всем сразу и ни к кому. – Обещаю, она будет прекраснее прежней.
Затем, повернувшись к нам, он прокричал:
– А теперь ждите, что вам прикажут центурионы. Те из вас, кому заступать в караул, смотрите, не вздумайте прийти пьяными. Остальные могут сегодня отдыхать. Берите себе все, что хотите, если там еще что-то осталось, но предупреждаю: если только я застукаю хотя бы одного их вас с местной женщиной, которую явно пытаются взять силой, клянусь, я отсеку негодяю член тупым мечом.
В ответ раздался радостный рев тысяч глоток и звон щитов. Траян снова поднял руку, призывая к тишине. Пропахший дымом ветерок ерошил его короткие волосы.
– А завтра мы поймаем их царя в его львиной шкуре, где бы он от нас ни спрятался. Хоть в самом Гадесе!
И вновь рев луженых солдатских глоток.
– Свободны!
Я подумал было, а не спуститься ли мне с горы за Сабиной, – после однообразия лагеря ей наверняка хочется чего-нибудь новенького, – но затем решил, что лучше не стоит. Учитывая, что сказал Траян и возможные схватки с непокорными даками, можно ожидать, что в ночь в старушке Сарме нам предстоит горячая.
Солдаты будут насиловать женщина, набивать добром мешки, чтобы потом передраться из-за добычи, местных жителей превратят в рабов, и за каждого римского легионера, найденного мертвым на улицах с ножом под ребрами, с жизнью расстанутся десять даков. Так что Сабине всего этого лучше не видеть, даже для нее, при всем ее любопытстве, это было бы слишком.
Крепость почти полностью выгорела, но отдельные ее части, куда огонь не успел подобраться, уцелели. Я не стал принимать участие в грабежах, – пусть это делают другие, – а сам побрел к таверне на углу. На этой улице дома лишь слегка обгорели снаружи. Побрел не один, а захватив с собой Филиппа, которого затем здорово обул во время игры в кости. Впрочем, затем он обул меня. И пусть, когда я вышел из таверны на улицу, мой кошелек был вдвое легче, зато голова была гораздо яснее, чем у него. Тем временем опустилась ночь. В отличие от прямых римских улиц дакийские были узкими и извилистыми. Я брел, чувствуя на себе чьи-то взгляды: невидимый враг провожал меня глазами, мой красный плащ и шлем с высоким гребнем.
Я не любитель уличных драк, тем более на пьяную голову. Именно поэтому я не спешил набраться в таверне и был противен самому себе. Интересно, с чего бы это? Откуда такая предосторожность? Неужели это первый звонок, что бесшабашная юность позади и я, как какой-нибудь старый хрыч центурион, начинаю взвешивать возможные последствия своих действий. Мои приятели, которые едва держались на ногах, подняли меня на смех, когда я, оттолкнув руку, протянувшую мне очередную чашу с забористым дакийским вином, шагнул вон из таверны. Признаюсь честно, мне не терпелось вернуться в лагерь, чтобы хорошенько выспаться, на тот случай, если поутру нас снова ждет марш. Вот откуда эта моя внезапная предосторожность или, что еще хуже, ответственность. Хотя тогда я в этом бы никому не признался, ни единой душе.
И вообще уж если и не спать всю ночь, так занимаясь любовью с девушкой, а не колобродить в таверне. По крайней мере наутро я буду как огурчик, в отличие от выпивох, у которых будет трещать голова, а сами они то и дело будут бегать блевать в кусты.
Я шагал в направлении городских ворот и вскоре пересек узкую площадь. Мимо меня, весело горланя, прошли несколько легионеров, по всей видимости, смена караула у святилища, где Траян воткнул шест с нашим орлом. Заметив краем глаза рядом со святилищем какое-то бледное свечение, я замедлил шаг, затем развернулся и вновь зашагал назад. Сабина обожала новых богов, даже самых диковинных и свирепых, с рогами и когтями, вроде тех, каким поклонялись даки. Так что если я поведаю ей что-нибудь любопытное, мой рассказ будет для нее дороже алмазного ожерелья. Какая она странная, моя возлюбленная.
Бледное свечение, которое уловил мой глаз, оказалось отблеском неполной луны на плоском каменном круге посреди травы. Кольца вертикальных камней и грубые колонны скрывала ночная тьма, но этот плоский бледный камень, словно зеркало, отражал лунный свет. Я снова поднял взгляд на луну, и мне подумалось, что как только та окажется на середине неба, как будет на одной линии с каменным кругом.
– Что это? – спросил я, схватив на шиворот какого-то человека в штанах и плаще из овчины, который, заметив мой меч, попытался было дать стрекача. – Этот каменный круг?
Дак с видимым отвращением посмотрел на меня.
– Солярный диск.
– И для чего он?
Дак что-то невнятно пробормотал и, выдернув руку из моей хватки, растворился в темноте. Я же, взяв поудобнее щит, осторожно двинулся по траве к камню. В лунном свете он казался больше, рассеченный пополам тенью, которую отбрасывал наш штандарт, торчащий из его середины.
В темноте наш орел казался черным силуэтом, но гордости ему было не занимать. Позади его маячила тусклым заревом крепость – некогда неприступная твердыня, а теперь груда золы и шлака. Я воткнул в землю копье и задумался. Зачем дакам понадобился этот солнечный диск? Они что, когда солнце было в зените, приносили ему на нем в жертву баранов? Или же венчали на нем на царство своих вождей, выдавали замуж царских дочек? Сабине наверняка было бы интересно это узнать.
Пока я стоял в задумчивости, к нашему орлу через солнечный диск прошли три солдата и о чем-то поговорили с часовым. Орлов никогда не оставляли без часового. Мне было видно, как солдаты отсалютовали друг другу, после чего тот, что шел посередине, наклонился и, поднатужившись, выдернул шест из трещины между камней. Лунный луч упал на него, и я увидел на его голове львиную шкуру. Это был наш аквилифер. Что греха таить, я завидовал ему белой завистью.
Аквилифер выносил орла на поле боя – это была самая высокая честь, какой только мог удостоиться простой солдат за свою храбрость. Кроме того, он гордо носил львиную шкуру, завязав на груди львиные лапы, а его жалованье было вдвое больше того, что причиталось рядовому солдату. По рангу он стоял вторым после центуриона. И если судьба будет хранить его, он вполне может стать центурионом. Везунчик!
– Орел устал и хочет спать? – пошутил я, когда аквилифер сошел с солнечного диска и зашагал по траве. Заметив меня, он буркнул что-то невнятное и даже слегка отпрянул назад. Одна рука тотчас легла на рукоятку меча, вторая – еще крепче сжала шест. Двое сопровождавших мгновенно схватились за копья. Тогда я шагнул из темноты и встал посреди пятна лунного света.
– Свои. Верцингеторикс, вторая когорта, третья центурия Десятого легиона.
Потерять орла – больший позор для легиона было невозможно представить. Поэтому аквилифер и сопровождавшая его стража первым делом хватались на мечи, а уж потом задавали вопросы. Платили им вдвое больше нашего брата, зато шуток эти ребята совершенно не понимали.
Вышел подышать свежим воздухом.
– Ступай себе дальше, – рявкнул один из копейщиков. – Нам приказано вернуть орла из Сармизегетузы в лагерь.
Я внимательней присмотрелся к человеку в львиной шкуре.
– С каких это пор аквилифер носит дакийский щит?
– Просто потерял свой, – хрипло ответил он.
– Смотри, у тебя вычтут из жалованья, – предостерег я, уступая им дорогу. У нас за спиной, стражники, что должны были стоять в карауле, охраняя орла и солнечный диск, тотчас разбрелись в поисках ночных приключений. – Найдите для нашей птички постель помягче, – пошутил я. – Она сегодня наработалась.
– Это точно, – бросил мне из-за плеча один из копейщиков, и в следующий миг я метнул в него копье. Оно отскочило от его плеча с нежным звоном. Нет, не так звенят копья, отскакивая от стальной римской кирасы. Под плащом была кольчуга. Да и щит круглый, а не прямоугольный римский. В следующий миг копейщик обернулся ко мне, и я увидел, как из-под римского шлема выбились длинные волосы. Патлы такой длины у легионера не потерпел бы ни один центурион – живо отправил бы стричься.
– Даки! – проревел я в спину удаляющимся стражникам, которые только что позволили трем вражеским лазутчикам стащить нашего орла, а сам бросился на первого копейщика.
Издав звериный вой, он нацелил острие копья мне в лицо, но я успел укрыться за щитом, и копье, с глухим стуком, ударилось о медную шишку. Я же краем глаза выглянул из-за щита на солнечный диск. Еще пять минут назад вокруг него в карауле стояла дюжина стражников, и вот теперь их как ветром сдуло – все как один разошлись в поисках выпивки и шлюх. На мой зов откликнулись лишь двое. С криком обнажив мечи, они уже спешили мне на помощь. Теперь нас было трое – против троих даков. Хороший римский легионер, скажу я вам, стоит двоих мятежников-даков. Клянусь Хароном, я поймал себя на том, что раздаю команды – ни дать ни взять, центурион.
О мой щит снова ударилось копье, и я втянул голову в плечи. А вот мой гладий то и дело совершал вылазки, нанося короткие, колющие удары. Я словно наяву увидел перед собой Траяна, как он поучает меня посреди залитого светом факелов сада: «Острие всегда побеждает лезвие, приятель, острие побеждает всегда».
Копье впилось в мой щит и застряло в нем. Я резко повернул щит, и древко выскользнуло из рук врага. Тогда он выхватил из-за пояса боевой топор и, размахнувшись, занес его для удара, который должен был завершиться где-то между моих ушей. Но вместо этого лишь отщипнул кусок моего щита.
В следующий миг за моей спиной раздался крик. Быстро обернувшись, я увидел, что дак в львиной шкуре раскроил топором голову светловолосому легионеру. Тот так быстро откликнулся на мой зов, что не успел закрепить под подбородком шлем.
Тем временем очередной удар топора разнес в щепки верхнюю треть моего щита. Издав оглушительный вопль, я в ответ отпихнул им врага. Это был крепкий, дюжий дак, а красный плащ он наверняка снял с убитого легионера. В лунном свете его глаза казались черными впадинами. Размахивая топором, он как медведь бросился на меня, и мне был виден лишь его свирепый оскал в гуще темной бороды. Ловко увернувшись из-под очередного удара, я переложил меч в левую руку.
Будучи римским воином, я научился сражаться правой рукой – не нарушать строй, прикрываться щитом, наносить короткие колющие улары, помнить о том, что острие всегда побеждает лезвие. Все это было намертво вбито в меня еще в тренировочном лагере. Но во мне по-прежнему жил варвар, и варвар этот привык сражаться левой. Потому что так меня научил самый знаменитый римский гладиатор, мой отец. И своего первого противника я тоже убил левой, когда мне было всего тринадцать лет. Левая рука не признавала никаких правил, не соблюдала строй. Острие всегда побеждает лезвие – правая рука свято следовала этому правилу. Да провались оно в преисподнюю, считала левая.
Я потрогал подаренный отцом амулет у меня на шее, и в следующий миг мой меч уже вонзился противнику в грудь, и если бы не кольчуга, выпотрошил бы его как курицу от горла до кишок. Дак пошатнулся, а я вновь подпрыгнул к нему, взревев при этом, что его мать была шлюхой, а отец содержимым ночного горшка, что я искромсаю его на куски и помочусь на его кости. Одним махом я срезал гребень с его украденного шлема, затем проткнул ему колено, отсек половину щита, а заодно половину пальцев. Хромая и истекая кровью, он уронил топор, но пощады просить не стал, продолжая смотреть на меня зверем. Это был храбрый воин, и я одним коротким ударом лишил его жизни, вогнав меч ему в шею.
Дак рухнул на землю в тот же миг, что и второй легионер. Резко развернувшись на его крик, я увидел, что копье впилось в него чуть пониже края кирасы. Он упал, загнанный даком в львиной шкуре назад, к солнечному диску. Я бросился к ним, но тотчас понял, что нас осталось двое. Я и Львиная Шкура, отливающая в лунном свете серебром.
Услышав мои шаги, дак резко бросился ко мне: в одной руке у него был зажат штандарт, в другой – боевой топор. Выставив перед собой меч, я двинулся на него. Дак медленно отступил на несколько шагов. Над его головой по-прежнему гордо поблескивал наш орел. К моему великому удивлению, дак заговорил:
– Это ты поднял тревогу.
Он говорил на хорошей латыни, почти без акцента. Неудивительно, что он смог провести часовых, и те приняли его за аквилифера. Хотя в ушах у меня по-прежнему шумела кровь, я острием меча я указал на орла.
– Отдай птицу и львиную шкуру, – задыхаясь, произнес я. – Они не твои.
– Шкура моя. В двенадцать лет я убил на охоте льва. Мою первую крупную добычу.
В моей голове как будто что-то щелкнуло. Аквилиферы – не единственные, кто носит львиные шкуры. Мне тотчас вспомнились слухи, будто войско даков в войне против римлян ведет их царь. Он десять футов ростом, а рога и хвост прячет под львиной шкурой.
– Так это ты? Децебал, царь даков?
Он молча посмотрел на меня. Он действительно был выше меня ростом, что бывает нечасто. Короткая черная борода, полные губы, прямой нос. Жесткая львиная грива сливалась с его собственными темными волосами, львиные лапы связаны на груди в узел. Над его головой в беззвучном крике орел разинул клюв. Мой орел, в когтях у льва.
– Я слышал, будто ты сбежал на восток, – пробормотал я.
– Мог бы, – бросил он в ответ.
– Наверняка есть способы попроще, – сказал я и задумался над своими словами. Аквилифер имел право ходить, где ему вздумается. Стражники у ворот крепости, краем глаза взглянув на орла, наверняка не потрудились бы посмотреть на лицо под львиной шкурой. Просто махнули бы рукой, мол, проходи. Ничто не помешало бы ему взять в лагере лошадей, прихватить с собой орла и быстро ускакать в Ранисторий
[298] или куда-то еще, чтобы собрать войско для нового сражения.
А вот для Десятого уже не было бы никаких новых сражений. Легион, потерявший своего орла, покрывал себя несмываемым позором. Я вновь занес меч и указал на орла.
– Отдай птицу, иначе я тебя мигом убью.
– Царей мигом не убивают, – устало ответил он. – Их в цепях отправляют в Рим, где они умирают на ваших аренах. Игры, кажется, так вы называете это смертоубийство.
У меня в животе шевельнулось неприятное предчувствие, но я подавил его.
– Отдай орла.
Даже не взглянув на залитый лунным светом камень, он вновь осторожно отступил назад.
– Не подходи, – предостерег он, когда я шагнул за ним следом, и опустил штандарт. Его боевой топор был нацелен не на меня, а на орла. – Я разнесу это в щепки прежде, чем ты успеешь подскочить ко мне.
– Зачем тебе это? – от злости я даже сплюнул. – Ведь тебе все равно конец.
– О, даже больший конец, чем ты предполагаешь, – улыбнулся он, хотя и через силу. – Но ведь и вы у меня тоже кое-что отняли.
Я бросил взгляд на дымящиеся останки крепости у него за спиной.
– Это не я. Я просто был здесь, вместе с моим легионом.
– Зачем?
– Как это, зачем? У меня есть приказ, и я иду, куда мне велено. Вот и все.
– У тебя хотя бы есть имя?
Его имя я слышал сотни раз. Длинное и странное, об него можно было сломать язык. Я даже не пытался его запомнить. Да и какая разница?
Чувствуя, как бешено бежит по жилам кровь, я посмотрел на орла в его руке. Все мое тело жаждало битвы, но язык мой как будто окаменел. Ну почему именно я встретился с ним, а не, скажем, Тит? Вот кто наверняка нашел, о чем ему поговорить с царем даков. Мягким, вкрадчивым голосом он произнес бы несколько умных цитат и уговорил бы противника благородно сложить оружие. Из меня же оратор был никакой. Ни сейчас, ни вообще. Мы продолжали смотреть друг на друга, дакийский царь и я. Затем он сел, даже скорее не сел, а тяжело осел на камни. После чего, издав какой-то невнятный звук, опустил шест с орлом на камни и, выразительно посмотрев на меня, занес топор над гордым крылом.
– Ну, хорошо, уговорил. – Я опустил меч и осторожно присел на край солярного диска. С силой сжав рукоятку топора, так, что побелели костяшки пальцев, он убрал вторую руку под львиную шкуру.
– Ты левша, – заметил я. – Как и я.
– Я уже заметил. Жаль. Мой сын никогда не умел сражаться против левшей.
– Твой сын?
Он кивком указал на дака, которого убил я, затем на другого, лежащего на траве рядом с мертвым легионером. Из горла у второго торчал короткий римский меч.
– Оба мои сыновья.
Я не знал, что на это сказать. Одно неверное слово, и мой орел будет разрублен пополам. Затем я заметил, как под моим противником по камням расползается темное пятно.
– Как твое имя? – неожиданно спросил я.
– Децебал, – с каждой минутой его латынь становилась все невнятнее.
– Хорошее имя.
«Сила десятерых» означало оно. Куда лучше чем, чем Кроха-Викс. Темное пятно под ним тем временем расплывалось, его черный язык медленно, но верно, подбирался к орлу.
– Что выдало нас? – спросил Децебал. – Почему ты напал на нас?
– Ты назвал орла «он», – ответил я. – Мы называем его птицей.
– Понятно, – не вынимая руки из-под шкуры, он осторожно прилег на камни. Я незаметно пододвинулся ближе, и топор в его второй руке тотчас дернулся вверх. Я застыл на месте.
– Не искушай меня.
Я поднял руку, давая понять, что у меня нет никаких дурных поползновений. Децебал перевел взгляд на луну, которая теперь весела почти у нас над головами.
– На этом круге я был венчан на царство, – задумчиво произнес он. – Правда, тогда это был полдень. Такой прекрасный, солнечный день. Венок царя мне на голову возложили в полдень, а вот умру я в полночь.
– Отдай мне орла, – сказал я.
Он что-то промычал сквозь стиснутые зубы. Кулак под львиной шкурой сжался сильнее, и на камни пролилась новая кровь. Теперь орел лежал в ее луже. Я встал и шагнул к Децебалу. Тот сидел, закатив глаза.
– Похорони мою левую кисть, – прохрипел он.
– Но ее захочет увидеть император, – возразил я. Траян поклялся, что если дакийский царь погибнет, а значит, его нельзя будет провести во время триумфа по улицам Рима, то в качестве подтверждения смерти врага он хотел бы иметь его голову и руку, что посмела замахнуться на Рим.
– Тогда вручи ему мою правую. Он… он не заметит подлога. Нас, левшей, не так уж много.
Децебал усмехнулся, и я заметил, что его зубы черны от крови. Затем одна из львиных лап сдвинулась, и я с ужасом увидел, что скрывалось под ней. Под шкурой зияла кровавая рана. Мертвый легионер, прежде чем пасть в поединке, успел выпустить дакийскому царю кишки.
Децебал выронил орла, и тот со звоном упал на камни солнечного диска. Сам он на миг прижал к груди боевой топор, затем погладил его, и попытался нащупать на поясе кинжал. Зубы его при этом были оскалены, как у голого черепа, и мне тотчас вспомнился пограничный гарнизон, который он предал огню: четверо стражников, которых он оставил мертвыми у дороги. Сначала их самым зверским образом истязали, а потом их черепа выставили в нишах у ворот.
– Зачем тебе понадобилось нападать на нас? – спросил я, пока он дрожащими пальцами пытался вытащить кинжал. – Или тебе было мало своей страны?
В конце концов, он так и не смог удержать в руке кинжал. Возможно, когда-то он обладал силой десятерых, но река крови унесла с собой эту силу. Он посмотрел на меня, и я взял кинжал у него из рук. Я не знал, что сказать, не знал, какие молитвы читают даки над своими умирающими воинами. Поэтому я лишь потрогал амулет у меня на шее, амулет, который получил от другого воина, также когда-то обладавшего силой десятерых. Еще раз потрогав амулет, я положил руку на лоб умирающего царя, а другой перерезал ему горло.
– Викс? – Тит растерянно заморгал, когда я ввалился в его небольшую, но безупречно чистую палатку. – Мне казалось, сегодня ты вместе со всеми должен праздновать победу.
– Отнеси это императору, – с этими словами я бросил у его ног свернутую шкуру. Львиная лапа с кровавыми когтями безвольно упала ему на сандалию. Тит осторожно заглянул в сверток и тотчас отпрыгнул от него, как ужаленный.
– И вот это. – Я с силой вогнал в землю древко штандарта. – Позаботься о птице. У нее была нелегкая ночь.
– Викс?
– Ее нужно почистить, – добавил я, с трудом ворочая языком. – Орлам не подобает быть вымазанными в крови.
С этими словами, я, шатаясь, вышел из его палатки.
Моему мечу чистка тоже не помешала бы. От рукоятки и до острия он был в крови, и стоит мне в таком виде сунуть его назад в ножны, как центурион взгреет меня так, что мало не покажется. Но руки мои тряслись, и я, грязно выругавшись, пошел дальше. Как и сказал Тит, в лагере было пусто. Легион в городе шумно праздновал победу. Там рекой
лилось вино, отовсюду раздавались хохот и пьяные голоса. В лагере же оставалась лишь горстка тех, кому не повезло заступать этой ночью в караул.
– Викс?
Рядом с моей палаткой, держа в руке ведро, а во второй ворох моих туник, стояла Сабина. Все ясно, очередная стирка. Как же без нее? Стирку не могут отменить никакие войны, никакие победы, никакие поверженные цари.
– Ты знаешь, что сегодня ты будешь стирать одежду героя? – спросил я.
Она удивленно выгнула брови и поставила на землю ведро.
– Неужели?
Я с довольной ухмылкой развел руки.
– Да, я герой.
Но почему улыбка далась мне с таким трудом? Я только что убил дакийского царя, благодаря мне закончилась война. Как только император узнает об этом, меня ждет лавровый венок и несколько медалей на пояс в придачу. Но почему тогда я вымучиваю из себя улыбку?
Сабина посмотрела на меня с той же настороженностью, что и Тит.
– У даков есть такая штуковина, называется солярный диск, – доложил я, сбрасывая с головы шлем. Тот с грохотом упал в ведро и перевернул его, но я сделал вид, что не заметил. – Солярный диск, ты знаешь, что это такое?
– Нет, ни разу не слышала.
Она сделала шаг мне навстречу.
– Это такая штука, с помощью которой измеряют ход солнца, ну и, может быть, луны. Диск круглый и сложен из белых камней, близко подогнанных друг к другу. «Почему ты так странно на меня смотришь?»
Сабина раскинула руки, и я рухнул в ее объятья, а в следующий миг колени мои подкосились.
– На этом диске они венчают своих царей, – добавил я, уткнувшись носом куда-то ей в талию.
– Тс-с, – сказала она, пробегая пальцами мне по волосам. Глаза мои были сухи, но знали бы вы, какая меня била дрожь! Я весь трясся, от макушки до пят, и не мог сказать, почему. Я не знал, почему.
– А еще цари на нем умирают…
– Тс-с, любовь моя. Молчи.
Я схватил ее, как утопающий соломинку. В эти минуты я любил ее так, как не любил ничто другое на всем белом свете.
(обратно)
Глава 15
Викс
– Беспримерная преданность долгу, готовность пожертвовать собой не ради золота, но ради чести легиона…
Это о ком там бубнит мой центурион? Явно не обо мне. Я не из тех, кто ходит у центурионов в любимчиках. Зато не раз получал от него по шее – в прямом и переносном смысле.
– Даже в минуты отдыха он – в лучших традициях нашего легиона – не расслаблялся, не терял бдительности, чем снискал себе уважение…
Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, в пол-уха слушая, как бубнит наш центурион, перечисляя мои достоинства, которых у меня не было и в помине, и изо всех сил пытался сохранить серьезное лицо. Неожиданно я представил себе Сабину – как она, свернув походную постель, в чем мать родила, расхаживает вокруг палатки, изображая центуриона: как пытается подражать его луженой глотке, как громко сопит, перед тем как выдать очередную благоглупость.
– …собственноручно убив двоих, один из которых – это наш злейший враг, сам Децебал.
Сопение. Я больно прикусил щеку, чтобы не расхохотаться. Не хотелось все-таки портить торжественный момент.
Момент и впрямь был торжественный. На плацу, сияя начищенными до блеска доспехами, был вытроен весь легион. Когорты стояли как по линейке, взгляды всех до единого устремлены вперед. Центурионы застыли навытяжку со шлемами под мышкой. Трибуны от скуки зевали и топтались на месте, как могут зевать и топтаться лишь заносчивые сопляки-патриции. И лишь физиономия Тита сияла гордостью, словно маяк.
Я до блеска начистил мою кирасу. Красный гребень из конского волоса гордо топорщился на шлеме, словно гребешок петуха. Сабина пригладила мне непослушные вихры, чтобы те не торчали во все стороны, смазав их водой и гусином жиром.
– Десятый может гордиться тобой, – сказала она, и мои друзья закивали в знак согласия, Юлий и Симон, Прыщ и Филипп. Они по-прежнему оставались моими товарищами по оружию, хотя и не по контубернию.
Центурион кашлянул, и я понял, что пропустил нужный момент. В спешном порядке я снял шлем и склонил голову, подставляя ее под награду. Та оказалась невесомой, словно пушинка: несколько веточек и листьев, сплетенных в венок, который, как назло, оказался мне велик. Я был вынужден сдвинуть его на затылок, чтобы он не съезжал мне на глаза. Вот он, венок победителя, заветная мечта моих бессонных ночей. Я еще раз потрогал его, и моя серьезность дала трещину. Я поднял глаза и посмотрел мимо центуриона туда, где в доспехах и плаще – совсем как рядовой легионер – застыл император, и во весь рот расплылся в улыбке.
Он лукаво улыбнулся мне в ответ и шагнул мимо центуриона, который продолжал свою речь.
– Дай мне! – рявкнул он и выхватил из рук стоявшего рядом опциона львиную шкуру. – А ты, приятель, прекрати скалить зубы, как дурачок, и склони голову. Как-никак это серьезный момент!
Я склонил голову, стараясь не рассмеяться, тем более что от первых рядов, которым было слышно, что сказал император, долетали сдавленные смешки. Траян накинул мне на плечи львиную шкуру. Густая грива скрыла мой лавровый венок, зато лоб мне теперь обрамляли хищные желтые клыки. Император завязал у меня на груди лапы царя зверей; когти звонко царапнули по медной кирасе. Я поднял голову, чтобы шкура не съехала мне на плечи, и потрогал пальцами жесткую гриву. От нее пахло солнцем и сухой травой, кровью и потом и конечно же царем, что закончил свою жизнь на каменном круге. Вообще-то Траян предлагал мне новую шкуру, но я отказался.
Затем мне в левую руку сунули шест, а император схватил меня за правую.
– Прими мои поздравления, аквилифер, – сказал он, разворачивая меня лицом к легиону, и поднял в воздух мою руку. В следующий миг весь наш Десятый взорвался ликующими возгласами.
Я увидел Сабину: облаченная в зеленый шелк, она, как и подобает супруге легата, вежливо хлопала в ладоши, но я заметил в ее глазах слезы. Рядом с ней стоял Адриан, мой ненавистный легат, делая вид, что аплодирует вместе со всеми, хотя на самом деле его ладони соприкоснулись лишь дважды. Он, словно статуя, застыл с каменным лицом, в начищенной кирасе, на которую ни разу не упала даже капля вражеской крови. Я слышал, что он выступал против моего повышения, и лишь голос Траяна сделал свое дело.
Я едва не оглох. Император схватил меня за плечи – гордый мной, как родной отец, – и расцеловал в обе щеки. А еще он что-то крикнул, что именно, я не расслышал. Его голос утонул в радостном гуле голосов и звоне щитов. Подняв глаза, я увидел над моей головой орла. Рот хищной плицы был разинут в немом крике. Все, прощай вещмешок. Отныне моей единственной ношей будет этот орел. Мой орел.
Этот миг – одно из моих самых приятных воспоминаний.
Tит
– Пропади пропадом эта шкура! В ней жарко, как в печке, – пожаловался Викс, когда Тит осадил коня рядом с новоиспеченным аквилифером. – И как только в них ходят сами львы?
– Не успел получить повышение в должности, как уже пошли жалобы, – покачал головой Тит. – Высокая честь есть награда за доблесть.
– Кто это сказал?
– Ты действительно хочешь знать?
– Вообще-то нет, но если я не спрошу, ты обидишься.
Тит рассмеялся и пригладил гриву своего мерина. У него самого по спине уже стекал пот, а ведь еще только утро. Ослепительно-голубой купол неба, раскинувшийся над ярко-зеленым пространством равнины, пыльная, белая лента дороги. Казалось, весь мир праздновал вместе с их Десятым победу. Впрочем, нет, не победу, а возвращение домой.
«Мог», – подумал Тит. Когда он только прибыл туда, какой убогой дырой показался ему этот приграничный городок: серый, некрасивый, с бесконечными тавернами, дешевым театром и отвратительной мостовой. И вот теперь, его единственной мыслью было: «Настоящая постель вместо походной! Жареная свинина и виноград вместо ячменной похлебки и червивых галет! Чистые простыни вместо кишащих блохами одеял!» Нет, Мог теперь казался ему сущим раем.
Похоже, что весь остальной легион думал точно так же, солдаты шли ускоренным шагом, не в лад горланя смачные походные песни. Восседая на мощном вороном жеребце, император горланил их вместе с ними, не обращая внимания на ехавших рядом легатов. Титу был отлично слышно, как Траян своим зычным голосом подхватывает самые непристойные куплеты.
– Похоже, все уже заранее празднуют свое возвращение, – заметил Тит. – Начиная императором и кончая рядовым солдатом.
– А ты как хотел? Мы победили, и нам полагаются вино и почести, – весело ответил Викс. – Не успеем мы войти в город, как все девушки будут наши. Их не придется даже уламывать, сами начнут падать на спину. Скажи, какая из них откажется лечь под героя?
– А что, тебе не хватает тех, что у тебя уже есть?
– Всего две!
– Скажи, а Сабине известно про Деметру или ты?…
– При чем здесь Деметра? Сабина моя первая девушка. Деметра – вторая, – Викс посмотрел на орла, гордо плывшего на шесте над их головами. – И вообще теперь у меня есть эта птица. А она, скажу я тебе, ой какая ревнивая, – попытался он обратить разговор в шутку.
– И все же, что ты намерен делать с Деметрой? – Тит укоризненно посмотрел на друга с высоты седла. – У нее скоро родится ребенок. Твой ребенок.
– Я дам ей денег, чтобы ей было на что жить. – Викс беззаботно присвистнул. – Думаю, она найдет себе кого-то еще. С такой внешностью, как у нее, долго она без любовника не останется. Или ты решил сделать ей предложение? Ты ведь теперь у нас большой человек – трибун самого императора!
– Сказать по правде, я сам не знаю, за что получил повышение, – признался Тит. – Я всего лишь принес ему голову. Можно подумать, я раздобыл ее сам! Подозреваю, Траян наградил меня за то, что я не облевал его, когда вручал ему эту голову. Что ж, согласен, это действительно был подвиг с моей стороны.
Викс сдвинул на плечи львиную шкуру и посмотрел на Траяна – его закованная в доспехи фигура, восседавшая на вороном жеребце, маячила где-то впереди.
– Вот за него я отдам жизнь, – с горячностью заявил он. – Наверно, я его люблю.
– Тс-с, не то Сабина будет ревновать.
– Она знает, что ее я тоже люблю.
Викс произнес эти слова игриво, мол, подумаешь, какой пустяк, любить женщину и быть ее любимым. «Везет тебе, малыш, – подумал Тит. – И львиная шкура тебе, и лавровый венок. И любовь».
– Я думал, все будет по-другому, – признался Викс, перекладывая шест с орлом на другое плечо. – Что я буду как та рыба, которую рано или поздно какая-нибудь красотка поймает на крючок. А все оказалось легко и просто, как дыхание.
– Это потому, что она сама другая, – возразил Тит и мысленно отругал себя за болтливый язык: – «Болван. Думай, что говоришь». Но, похоже, Викс, ничего не заметил.
– В ту ночь, после того как я убил Децебала, она молча обнимала меня. Не сказала даже слова. Обычно она трещит без умолку, однако знает, когда лучше молчать, – сказал Викс и задумался. Его бравада на мгновение дала трещину. – Я до сих пор не пойму, что со мной. Казалось бы, я убил врага, но у меня такое чувство, будто мне самому врезали кулаком под дых. Мне и раньше случалось убивать, но чтобы я потом переживал – такое со мной впервые.
– «И у врага есть чему поучиться», – процитировал Тит. – Ты не первый солдат, который восхищается своим противником. Наверно, так было всегда, с тех самых пор, когда люди придумали войны.
– Родись я в Дакии, – задумчиво произнес Викс, – я бы наверняка пошел сражаться в его рядах.
Столь смелых заявлений Тит еще ни разу от него не слышал. Пусть его другу не хватает красноречия, но за словом в карман Викс никогда не лез.
– Это ведь чистая случайность, где ты родился. Разве не так? Зато потом от этого зависит вся твоя жизнь. Например, появись мои родители на свет на тысячу миль севернее, как я наверняка отрастил бы себе бороду и носил круглый щит, и, главное, никогда бы не сражался на арене Колизея. Зато теперь я наверняка был бы мертв, умер рядом с солнечным диском, бок о бок с моим царем.
– Ты сделал то, о чем он тебя просил? – спросил Тит. – Ты похоронил его левую кисть?
– Да, рядом с диском, в траве, вместе с боевым топором.
В следующее мгновение один из легатов окликнул Тита, и тот поспешил вновь занять место в голове колонны. Впрочем, во время ночных привалов он иногда по-прежнему приносил к костру Викса мех с вином.
Тем временем Десятый продолжал шагать на запад. Непроходимые сосновые леса вскоре поредели, а затем и вообще отступили, сменившись полями, и впервые за много месяцев Тит вновь начал думать о Риме.
«Я подам прошение на должность квестора, – решил он. – Сенатор Норбан обещал, что поддержит мою кандидатуру. Строительные работы и устройство праздников. Думаю, это получится у меня гораздо лучше, чем ночные вылазки во вражеский стан». Возможно, также, ему в скором времени повезет обзавестись собственным жильем. Желательно, поближе к дому деда, но все-таки своим. Как и положено взрослому мужчине.
Он прошагал пол-империи, он сражался на войне, в списке его личных заслуг первой строчкой значится «трибун». «Учитывая мои скромные запросы, одно это означает, что полпути наверх пройдено». Может, оно даже неплохо, иметь скромные запросы. Это Виксу, если он хочет командовать легионом, еще предстоит проделать долгий путь.
– Кстати, – заявила Сабина где-то на полпути через Паннонию, когда до Могунтиака оставалось шагать еще пара недель. – Я должна буду уехать вперед. Повозка, на которую я не садилась все лето, завтра увезет меня в Мог.
– Это еще зачем? – спросил Викс, глядя на ее каштановую макушку: завернувшись в львиную шкуру, Сабина уютно устроилась в его объятиях.
– Потому что так хочет Адриан. В Моге я должна встретить императрицу. Нужно помочь Плотине с приготовлениями к триумфальному возращению императора. – Говоря эти слова, Сабина передернулась. – Плотина приезжает в Германию, чтобы встретиться с ним и Траяном. А еще, чтобы вывалить на меня целый воз ценных советов, причем сделать это в первую же минуту. Нет, уж лучше бы и дальше плестись пешком в хвосте колонны. Представляешь это зрелище? Вот тогда бы она точно умерла от ужаса.
– Вместе с Адрианом. Глядишь, мы с тобой избавились бы от обоих, – Викс нежно поцеловал Сабину. Титу казалось, что теперь, когда Викс смотрел на нее, в глазах его читалась некая задумчивость. Как не похоже это было на его прежнюю грубоватую властность! Всякий раз, стоило Сабине подойти к нему, как пальцы Викса тотчас спешили обвиться вокруг ее запястья. А большой палец начинал нежно описывать медленные круги по тыльной стороне ее ладони.
«Мне нужна любовница, – решил Тит. – Милая девушка. Я поселил бы ее в своем доме в Риме». Он вполне мог позволить себе эту роскошь на жалованье квестора. Хорошенькая и терпеливая, которая не станет затыкать уши, когда он будет цитировать ей Горация, зато будет готовить ему вкусное рагу из баранины.
– Проклятие, – рявкнул Викс на следующий день, после того, как утром Сабина долго целовалась с ним на прощание, а днем села в повозку, чтобы уехать вперед. Вернее, в повозку, куда со всей приличествующей моменту церемонностью ее посадил муж, Адриан. В пути Сабину должен был сопровождать эскорт из стражи и рабов. Надо сказать, что тем летом, все они неплохо набили себе карманы, ведь вместо того, чтобы охранять супругу легата, каждый был занят своим делом.
– Я не люблю с ней спать, – пожаловался Викс. – Ее волосы вечно лезут мне в лицо. А еще она любит время от времени поддать мне локтем в ребра, требуя, чтобы я перевернулся на живот и перестал храпеть.
– Потерпи, дружище, потому что в Моге такого, по всей видимости, больше не будет.
– Это почему же?
Тит в упор посмотрел на друга.
– Тебе что, не дорога жизнь?
– Сабина хитрая. Она способна кого угодно обвести вокруг пальца. Что-нибудь придумаем.
– Но Адриан со дня на день ждет назначения в наместники. – Тит узнал эту новость от Траяна, когда помогал императору составлять список новых назначений. – Это будет что-то неблизкое, Паннония или Сирия.
– Она не останется с ним навсегда.
– Разве гладиатор не просчитывает свой бой на арене? – процитировал Тит Сенеку.
– Это ты к чему?
– К тому, неужели ты никогда не смотришь вперед?
– Это почему же? Намерения у меня есть, причем отличные. Сабина разводится с Адрианом. Я на ее деньги покупаю себе право войти в сословие всадников. Беру себе приличную жену. Получаю повышение до центуриона, двигаюсь вверх и в конечном итоге – бац! – имею под своим началом легион.
– Понятно. Скажи, а ты уже делился этим своим замыслом с самой Сабиной?
– Сабина живет одним днем, – отмахнулся Викс. – Из нас двоих в будущее смотрю только я.
– Что-то подсказывает мне, что все будет не так просто, как ты думаешь.
– Это почему же?
Тит закатил глаза. Легион продолжал шагать маршем на запад.
Сабина
– Ты стала чересчур смуглая, – сказала императрица, придирчиво оглядывая Сабину с головы до ног. – Тебе следовало меньше времени проводить на солнце, зато больше в тени. Пойдем, ты должна стоять рядом со мной.
– Разумеется. – И Сабина последовала за высокой фигурой в темно-синем платье. За время ее отсутствия в Риме изящные серебристые пряди в волосах императрицы – темных, заплетенных в тугие косы, – сделались еще заметнее. Но в остальном Плотина была все такая же: фигура по-прежнему статная, осанка – царственная, взгляд надменный.
Шурша синим шелком, Плотина прошествовала к алтарю храма. Собственно говоря, храмом назвать это было трудно – скорее несколько ступеней, ведущих к алтарю Юпитера.
– Памятник Друзу смотрится куда внушительнее, – заметил накануне наместник Верхней Германии. – Уж если встречать победителей, то с ним рядом.
Императрица Плотина отмела это смехотворное предложение.
– Победу моему мужу даровал Юпитер, – заявила она. – И легионы мы будем приветствовать рядом с его святилищем, и нигде больше.
Наместник наверняка оскорбился, но что значат чувства какого-то наместника? Плотина уже все предусмотрела – едва ли не в первую же минуту по прибытии в Мог.
«В конце концов, – подумала Сабина, – победное возвращение армии, это женский праздник». Ведь кто как не женщины приветствуют своих героев? Так что само место мало что значило. Начиная от застывшей подобно колонне Плотине, в ее синем шелковом платье и диадеме, до пышнотелых супруг легатов, с гордым видом стоявших позади Сабины, от жен центурионов, что, словно сороки, без умолку трещали во втором ряду, до простолюдинок в ярких бусах, что выстроились вдоль улиц, некоторые с детишками на руках – всех их объединяло нетерпение. Все как одна тянули шеи, всматриваясь вдаль, в надежде поскорее увидеть, как их мужчины возвращаются домой.
Интересно, подумала Сабина, а та, другая женщина Викса, о которой он ей так и не рассказал, но которая наверняка осталась в Моге, когда сам он ушел в поход, она сегодня тоже здесь? Помнится, Тит не раз порывался поговорить на эту тему. Тем временем Плотина придирчиво осмотрела сноху с ног до головы и, похоже, осталась недовольна.
– Это платье чересчур яркое.
– Я рада, что оно тебе понравилось.
Желтый шелк, золотые фибулы в виде орла на каждом плече. Какое блаженство вновь ощутить кожей его шуршащую прохладу, особенно проходив лето в колючей шерсти, от которой чесалось все тело. Впрочем, блаженством казались и многие другие вещи. Да что там – само возвращение в цивилизованный мир!
Роскошный паланкин и выносливые носильщики быстро доставили Сабину в Мог, и у нее была целая неделя на то, чтобы побыть одной. Каждый день она почти до полудня отсыпалась под одеялами в мягкой постели, пила за завтраком холодный ягодный морс, лакомилась свежими фруктами, нежилась в горячей парной бане. Тем временем рабы, обмениваясь взглядами, вытрясали из ее одежды блох, которых она нахватала в походе, банщики таращились на мозоли на ее пятках – их, предварительно распарив, пришлось убирать пемзой, но никто не сказал ни слова. Когда же мальчишка-раб, доставившей в библиотеку пачку писем, застал Сабину тихо плачущей над каким-то свитком, он положил письма на стол и, потупив глаза, молча вышел вон.
Впрочем, плакала Сабина недолго. Наутро она встала, что-то напевая себе под нос, подвела глаза, облачилась в желтый шелк и, скрепив его на плечах золотыми орлами, с улыбкой подумала о Виксе.
– Это платье чересчур яркое, – словно судья, изрекла свой вердикт Плотина. – Вибия Сабина, ты должна переодеться.
– Но мне кажется, я уже слышу, как чеканят шаг легионы. Согласись, что три с половиной легиона никак не могут ступать бесшумно.
Ответом на ее слова стал Взгляд. Тот самый Взгляд императрицы Плотины, от которого она отдыхала все последние шесть месяцев. Впрочем, топот ног и гул голосов раздавались все ближе, и стоявшие на улице женщины оживились. Толпа, вытянув шеи, колыхнулась, по рядам пробежал возбужденный шепот, а в следующий миг раздался первый радостный возглас. И Сабина без всяких слов поняла: это в лучах солнца блеснул первый бронзовый орел.
Нет, конечно, по сравнению с триумфом, что ждал героев в Риме, сегодняшнее шествие это пустяк.
– Принести в жертву Юпитеру белых быков, – распорядилась Плотина, планируя празднество. – Черных – в жертву Минерве, Марсу и Аиду. Бега колесниц, гладиаторские бои. В Колизее можно провести театрализованное представление, победное взятие крепости.
И конечно же под рукоплескание толпы, увенчанный лавровым венком победителя, с раскрашенным красной краской лицом, по улицам Рима на колеснице проедет Траян. Сабина была почти уверена, что Викс и другие аквилиферы также примут участие в триумфальном шествии: под исступленные крики безумствующей толпы они молча пронесут по улицам столицы своих орлов. И все же настоящий триумф состоится сегодня. Сияя от гордости, герои маршем пройдут по улочкам Мога, а женщины будут кричать, махать флажками и плакать от счастья.
Впереди колонны, в красном плаще гарцевал Траян. Подъехав к храму Юпитера, он с ловкостью юноши спешился и, сияя улыбкой, поднялся по ступеням. Плотина сдержанно улыбнулась в ответ и протянула навстречу ему руки. Затем под крики и рукоплескания император подошел к наместнику Верхней Германии, затем к другим чиновникам, жаждущим быть обласканными его вниманием. Пока жрец, прежде чем заколоть жертвенного быка, бубнил положенные в таких случаях молитвы, Траян едва мог устоять на месте. Он весело помахал толпе, и гул голосов заглушил собой слова благословения. Как только жертвоприношение свершилось, Траян заключил в медвежьи объятия Сабину, вымазав ее при этом бычьей кровью. Она лишь весело рассмеялась в ответ и расцеловала его в обе щеки. Тогда он вручил ее в руки Адриану, крикнув при этом:
– Вот тот, кто соскучился по тебе! И это всего-то за неделю.
Адриан поставил ее на землю.
– Приветствую тебя, – улыбнулась мужу Сабина. Адриан церемонно взял ее руку и поднес к губам, как будто они не виделись несколько месяцев. Впрочем, наверно, так оно и было.
– Сегодня ты выглядишь гораздо чище.
– Да, как только я вернулась в цивилизованный мир, я, можно сказать, почти не вылезала из бань. Но и ты сегодня прекрасен.
Облаченный в парадные доспехи, Адриан действительно был хорош собой. Подъехав к храму, он ловко соскочил со своего огромного скакуна. Надо признать, что никто так элегантно не смотрелся в седле, как ее муж, – даже сам император. Наверно, потому, что лошади Адриана любили. Вот и в эти минуты огромный жеребец нежно пощипывал его рукав.
– Я соскучилась по тебе, – сказала Сабина и удивилась искренности собственных слов. Хотя во время похода они в течение дня встречались хотя бы раз – за чашей вина или за ужином, но о долгих беседах не могло быть и речи. Они быстро увяли сами собой. Адриан как легат был вечно занят, она же проводила большую часть времени с Виксом. От Сабины не скрылось, как между бровей мужа пролегла удивленная складка, однако стоило выйти вперед Плотине, как складка эта тотчас разгладилась.
– Дорогой Публий, – императрица поцеловала его в лоб. – Как долго тебя не было!
– Даже слишком. – Адриан взял ее руку. – Должен ли я поблагодарить тебя за мое новое назначение?
– Разумеется, мой дорогой мальчик, – императрица вежливо помахала рукой солдатам, и в ответ раздался гром рукоплесканий. – Я надеялась, что это будет Сирия. Надеюсь, ты не слишком разочарован?
– Ничуть. Паннония откроет мне не менее широкие возможности.
– Паннония? – изумленно выгнула бровь Сабина, поворачиваясь к Адриану. – Ты мне ничего о ней не говорил!
– Подтверждение пришло только вчера, – холодно пояснила Плотина. – Более того, дорогой Публий прибудет туда не раньше, чем в Риме состоится триумф, в котором он просто обязан принять участие. Мой мальчик, ты будешь стоять рядом с императором, на меньшее он просто не согласится.
«Неужели?» – подумала Сабина. Да, во время сегодняшнего парада Адриан гарцевал сразу за императором – вместе с остальными легатами. Но сейчас, в эти минуты, Траян предпочел оказаться в гуще солдат, панибратски хлопая по спине трибунов, нежели махать толпе рукой, стоя рядом с Плотиной и ее протеже.
– Маши рукой и улыбайся, Сабина, – прошипела императрица. – От тебя этого ждут.
– По-моему, солдатам все равно, машу я им или нет, – возразила Сабина. – Для них куда важнее получить увольнительную и напиться в стельку.
– Надеюсь, этот день они проведут трезвыми, вознося богам благодарность за свои победы, – строго сказала императрица.
– Что-то я не припомню, чтобы победа доставалась им на трезвую голову, – фыркнула Сабина. – Что уж говорить о празднике по ее случаю.
– Это платье чересчур яркое, – Адриан смахнул пылинку с плеча Сабины. – А орлам и вообще место на шесте, а не на фибуле.
В следующий миг к ним подошел Траян. Один взмах императорской руки, и толпа вновь разразилась ликующими криками. Император произнес несколько слов благодарности, чем растрогал до слез даже закаленных в боях ветеранов. Но в целом он был немногословен. Сабина уже давно заметила, что он любил – и умел – быть кратким.
– Не затягивайте ваши сражения, а ваши речи – тем более, – нередко говаривал он. В свою очередь, Адриан, видя, сколь успешно этот принцип работает на императора, теперь пытался следовать ему в своих собственных речах.
– Твои чиновники надеются, что ты поговоришь с ними, – строго сказала Плотина, как только Траян вновь встал с ней рядом. – Сегодня вечером состоится пир, и необходимо…
– Мне тоже есть о чем с ними поговорить, – Траян добродушно махнул рукой. – Пусть они пригласят на сегодняшний пир не только легатов, но и трибунов. А заодно префектов и первых центурионов.
– Супруг, неужели ты это серьезно? Это же неотесанная солдатня.
– Успокойся, Плотина! Зато с ними будет весело! Кстати, нужно не забыть пригласить еще кое-кого, – Траян что-то шепнул на ухо своему адъютанту, и тот снова нырнул в толпу. А когда вернулся, тащил вслед за собой солдата в красном плаще. Голову и плечи воина покрывала львиная шкура, в руках он держал шест с орлом.
– Цезарь, – Викс опустился на одно колено, но Траян жестом велел ему встать.
– Перед вами тот, кто убил Децебала. Это ему мы обязаны нашей победой. Во время триумфа, мой мальчик, ты положишь его голову на ступеньки сената. Сделаешь это собственными руками…
– Мне кажется, тебе пора уделить внимание наместнику, – недовольно напомнила мужу Плотина, но тот ее не слушал.
– Отлично, жду тебя сегодня вечером на пиру, аквилифер. И не вздумай не прийти – это приказ императора.
– Слушаюсь, Цезарь, – Викс расплылся в улыбке и отдал салют.
– Вот и договорились, – сказал Траян, протягивая жене руку. Но прежде чем за императорской четой сомкнулась свита, император обернулся через плечо и с лукавой улыбкой крикнул Сабине:
– Люблю орлов!
Сабина рассмеялась. Адриан было направился вслед за императором, но в следующий миг из толпы вынырнул Тит, высокий, в чистой тоге, в которую он, сбросив доспехи, поспешил облачиться, как только представилась первая же возможность. Он всегда был тощим, как жердь, но проведенное на марше лето не прошло даром: Тит нарастил мышцы, а вместе с мышцами обрел мужественность. Куда только подевался застенчивый мальчишка! Теперь это был симпатичный молодой человек.
– Легат, я только что узнал, что теперь ты наместник.
В глазах у Тита на мгновение мелькнул испуг – он никак не ожидал увидеть вместе Адриана, Викса и Сабину, однако лицо его даже не дрогнуло, сохранив приветливое выражение.
«Из тебя выйдет отличный политик», – подумала Сабина.
– Прими мои поздравления.
Адриан сухо кивнул в ответ. На Викса, что стоял рядом со своим штандартом, он намеренно не обращал внимания.
– По крайней мере во время марша у нас была возможность пройти по Паннонии, – продолжал Тит, стараясь не смотреть в сторону Викса. – Так что в некотором смысле тебе повезло.
– Я слышала, будто жители Паннонии носят штаны из волчьих шкур и поклоняются рогатым богам, – сказала Сабина, – но, с другой стороны, разве можно верить всяким слухам? Лично я, когда мы шли через Дакию, не видела никаких рогатых богов. И вообще разве не то же самое мы слышали и о даках? А они оказались вполне цивилизованными. Солнечные диски и водопровод, вот что мы у них видели, а вовсе не кровавые ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Лично я не отказалась бы познакомиться с Паннонией поближе.
– Ты намерена сопровождать наместника в Паннонию? – учтиво обратился к ней Тит, как будто они не пили вина из одного меха, сидя у походного костра.
– Ну конечно! Как можно упустить такую возможность! – с жаром воскликнула Сабина. – Новые провинции, новые горизонты. Я буду считать дни до отъезда.
Викс дернулся под своей львиной шкурой.
– Понятно, – ответил Тит и учтиво поклонился Адриану. – Еще раз прими мои наилучшие поздравления, наместник.
Еще один поклон – Сабине и кивок Виксу. Кивок, в котором в равной мере были смешаны испуг и лукавство. Сабина с трудом сдержала улыбку. А вот Виксу было не до смеха.
– Ты уезжаешь в Паннонию, – спросил он и лишь в самый последний момент спохватился и вежливо добавил: – Госпожа?
– Разумеется.
Сабина помахала какому-то воображаемому знакомому по другую сторону лестницы, а сама тем временем бочком отодвинулась от Адриана, который вновь погрузился в изучение восковых табличек.
– Надеюсь, отец пришлет мне три свитка о недавней истории Паннонии. И еще список книг, которые следует прочесть, присовокупив к нему просьбу проверить, как там поживает новый акведук, на строительство которого сенат выделил немалые деньги. Он написал мне, что очень удобно иметь дочь, которая разъезжает по всей империи. Это все равно, что иметь лишнюю пару глаз.
– То есть ты собралась пожить в Паннонии? – шепотом уточнил Викс, и его сильные пальцы судорожно вцепились в рукоятку штандарта.
– Пока не знаю, – ответила Сабина, убирая за ухо непослушную прядь. – Обычно наместничество длится несколько лет.
– Лет? – лицо Викса сделалось каменным. – А у меня ты заранее спросить не могла? Скажи, когда ты успела составить свой план?
– Не составляла я никаких планов, – возразила Сабина. – Про Паннонию я узнала всего пару минут назад.
– Но ведь ты собиралась остаться с нашим Десятым, – едва слышно прошипел Викс. – Со мной!
– Странно, а почему ты меня об этом даже не спросил?
Викс со всех сил сжал деревянный шест.
«Сейчас сломает», – подумала Сабина.
– Стерва, вот кто ты после этого, – прошептал он.
– Это почему же? – удивилась Сабина.
– Я же сказал, что люблю тебя, – шепот Викса едва не сорвался на крик. – Я, видите ли, уже мечтаю о будущем, а ты заявляешь мне, что…
– Что-то не так? – раздался рядом с ними голос Адриана.
– Нет-нет, все в порядке, дорогой, – повернулась к мужу Сабина. – Я сейчас.
Адриан нахмурился, однако вновь повернулся к адъютанту, которому диктовал распоряжения. Сабина одарила Викса нарочито-веселой улыбкой, которая тотчас померкла, как только она протиснулась между ним и мужем.
– Я люблю тебя, Викс, – честно призналась она. – Но почему ты решил, что я последую за твоими звездами, а не за своими?
У Викса не нашлось, что на это сказать, он лишь пристально посмотрел на нее.
– По-моему, аквилифер, тебе пора, – неприязненно произнес Адриан, властно беря Сабину за руку. – Пусть ты и не привык иметь дело с достойными женщинами, тебе должно быть известно, что пялиться на них неприлично. Думаю, ты с гораздо больше пользой проведешь время, если займешься поиском приличной одежды для пира, коль уж император намерен видеть там всех своих любимчиков.
Лицо Викса превратилось в столь хорошо знакомую Сабине каменную маску. Не проронив ни слова, он смерил Адриана убийственным взглядом, холодным как сталь клинка. Сабина поспешила встать между ним и мужем.
– Никакой он не любимчик. – Она с восхищением похлопала увенчанное орлом древко. – Он герой Рима, в чем ты сам мог не раз убедиться. Я уверена, что в будущем его ждет большая слава.
– Крайне сомнительно, – холодно произнес Адриан.
Викс холодно посмотрел на него поверх головы Сабины. Они стояли друг напротив друга – воин в львиной шкуре и легат в доспехах, и было в их глазах нечто такое, что касалось лишь их двоих. Сабина сочувственно пожала Виксу руку, державшую штандарт, и в следующее мгновение его взгляд погас. Выдернув пальцы из-под ее ладони, он резко повернулся, качнув красным плащом, и растворился в толпе. Сабина проводила его глазами: ей было видно, как орел на высоком шесте гордо парит поверх плеч и голов.
– Я бы не советовал тебе строить глазки простым солдатам, – хмуро произнес Адриан.
– То же самое я могла бы сказать и тебе, – игриво возразила Сабина, пытаясь обратить разговор в шутку. – К тому же Викса я знаю давно. Когда-то он служил у моего отца стражником. Не понимаю, с какой стати ты на него обозлился?
– Просто мне не нравятся такие, как он, – сухо ответил Адриан и махнул рукой, как будто отгоняя от себя тень Викса.
«Интересно, куда он его отправил, – подумала Сабина, – в какой уголок своего мысленного архива?»
– Кстати, если тебе так хочется, сегодня вечером можешь строить глазки наместнику Верхней Германии. – Адриан взял ее руку, и они проследовали за Траяном и Плотиной. – Когда я прибуду в Паннонию, мне наверняка пригодится его помощь.
– Ты думаешь, тамошний народ и впрямь ходит в волчьих шкурах?
– Хочется надеться, что нет. И еще. Только не приходи на пир в желтом. – Он окинул Сабину глазами с головы до ног. – И сними этих орлов.
(обратно)
Глава 16
Викс
Сука.
Холодная, расчетливая, двуличная сука. Я вернулся в форт, готовый крушить все вокруг себя, и, пока шел, раздавал направо и налево пинки всему, что попадалось на пути. Я не знал, на ком выместить злость, и если бы кто-то подначил меня, честное слово, я бы с удовольствием ввязался в драку. Но, увы. Наш Десятый пребывал в превосходном настроении, и никто еще не упился до той степени, чтобы у него начали чесаться кулаки. Я видел, как центурион одной рукой обнимает свою женщину, а второй – сына, которому нахлобучил на голову собственный шлем. Я видел, как в направлении таверны прошествовала шумная компания легионеров и как они остановились, чтобы поглазеть на пару симпатичных девушек, из окна кидавших в них цветы. Куда ни бросишь взгляд – все веселы и счастливы. Все до единого, кроме главного героя. В принципии меня приветствовал добродушный писарь.
– Наш новый аквилифер? Наслышан о тебе. Кстати, своего орла можешь оставить у меня.
И я вручил ему птицу. Пусть поживет в часовне. Здесь у нее будет постоянный страж, пока она будет взирать свысока на бюст императора и прочие ценные атрибуты легиона. Я буду выносить ее всякий раз, когда легиону предстоит отправиться в поход, будь то боевой или учебный. Я посмотрел на орла, укрепленного на высоком древке. Казалось, птица надменно смотрит на меня сверху вниз. У Сабины на плечах были броши с орлом, и у обоих орлов был тот же самый гордый поворот головы. Зачем ей это было нужно?
– Ты тот самый, кто убил Децебала? – спросил писарь, и тотчас испуганно отпрянул, увидев выражение моего лица.
Я же, по-прежнему пылая яростью, вышел из принципии. У меня не было желания напиться, как не было желания ликовать. А вот от хорошей драки я бы не отказался. Скажу больше, я бы не отказался от новой войны – долгой, жестокой, кровавой. Мои ноги сами почти донесли меня до моей бывшей казармы, когда я наконец вспомнил, что эта казарма уже больше не моя. У меня больше не было контуберния. Только орел, удвоенное жалованье и удвоенная опасность, которая ему сопутствовала. Я понятия не имел, где аквилифер спит, когда живет в форте. Я уже было решил вернуться к писарю, но, вспомнив его жизнерадостную физиономию, понял, что за себя не отвечаю, и тогда этот ублюдок Адриан наверняка выпорет меня. При мысли о его тяжелом, холодном взгляде, когда он смотрел на меня поверх головы Сабины, меня с новой силой начала душить ярость. Сегодня он наверняка захочет затащить ее в постель, хотя бы раз в год. Перевернет ее спиной к себе, представит, что на ее месте мальчик, а потом они вместе укатят в Паннонию.
– Как интересно! – передразнил я его, направляясь к воротам, и тотчас поймал на себе вопросительный взгляд стражника. – А ты чего таращишься?
– Неправда, – поспешил оправдаться тот. – Тебе повезло, вот и все. Можешь весь день праздновать. А кто-то в это время должен стоять в карауле, и это, между прочим, я…
– Пошел ты, – огрызнулся я.
Весь город был охвачен ликованием, а мне было некуда податься. Впервые за много лет я не знал, куда приткнуться, чем себя занять. Теперь, когда Дакию усмирили, что ждет наш Десятый? Сонное прозябание в форте: вечный караул, или – в лучшем случае – редкий учебный марш-бросок, чтобы кости не заржавели. Но сначала будет триумф, и, возможно, я дошагаю до самого Рима с орлом над головой. А потом назад в Мог, гнить в этом сонном болоте. Неужели еще сегодня утром я мог надеяться, что вскоре стану центурионом, а позднее невозможное станет возможным, и получу в свое командование легион? Какой же я был дурак. В проклятом Моге мне гнить еще двадцать лет. Ведь я принес присягу, я подписал контракт, и вот теперь будущее разверзлось передо мной, словно могила.
А Сабина тем временем будет разъезжать по Паннонии, проверяя акведуки и открывая для себя новые горизонты, о которых она так мечтала. Оставалось лишь надеяться, что местные жители зажарят ее на костре и слопают.
Неожиданно я почувствовал себя в своей львиной шкуре полным придурком. Развязав на груди лапы, я рывком сдернул с головы львиную гриву. Наскоро свернув шкуру, я засунул ее в вещмешок. Мимо меня, размахивая мехами с вином и горланя неприличную песню, прошествовали, пошатываясь, несколько подвыпивших центурионов. Я же был лишен возможности даже напиться, так как вечером был приглашен на пир в императорских покоях. Кроме меня там будет целая куча народа, хотя мне на них наплевать, на всех до единого. За исключением императора. Это ради императора я вынужден маяться целый день, изображая из себя паиньку. Кстати, там будет и Сабина, и ее гад-муженек, и пусть уж лучше зажарят и слопают меня, лишь бы только они не подумали, что я испугался прийти на этот пир. Нет, я туда нарочно заявлюсь и весь вечер буду таращиться на Сабину, пока она первой не потупит глаза. Может даже, я скажу этому ублюдку Адриану, в чьей постели она спала на протяжении шести месяцев, пока он думал, что она спит в своей палатке.
Увы, стоило мне вспомнить его холодный, каменный взгляд, как у меня пропало всякое желание с ним связываться. Пожалуй, не стоит лишний раз искушать судьбу, если я все еще хочу стать центурионом. Ведь скажи я собственному начальнику, что я полгода спал с его женой, как пост центуриона мне не видать как своих ушей. Так что я понуро стоял посреди ликующего города и хотел волком выть на луну. Эта расчетливая, хитрая сучка. Она уже один раз меня подставила. Я же, глупец, не вынес урок.
Безмозглый варвар, связавшийся с патрицианкой. Все, больше никаких патрицианок. Никаких умниц, никаких искательниц приключений, никого, кто стал бы нашептывать мне на ухо байки ночь напролет. С ними я больше не стану связываться. Хорошие, простые девушки – вот это для меня в самый раз. Ведь даже безмозглый варвар вряд ли позволит себе обжечься в третий раз.
Деметра
Я не думал о ней много месяцев – с того момента, как выбросил ее из головы и ушел на войну. И вот теперь мысль о ней не давала мне покоя. Ее волосы медового цвета, ее нежные губы, гибкое тело. Ее широко открытые карие глаза, ее полный восхищения взгляд, когда она смотрела на меня. Ее нежный голос, когда она что-то весело щебетала про стирку, или рынок, или работу в пекарне.
Клянусь Хароном, она была хороша собой, но, боги, как мне с ней было скучно! Интересно, родила она уже или нет? Мой ребенок. С тех пор как я оставил ее, прошло полгода. Возможно, ее разнесло, как арбуз, а может, – кто знает? – она уже держит у груди этот кричащий кусок мяса. А вдруг она все-таки вняла голосу разума и, пока не поздно, избавилась от плода?
Кстати, я, кажется, обещал жениться на ней, как только вернусь?
Я громко простонал и пошел дальше. Родила она или нет, но вешать себе на шею обузу в лице жены в мои намерения не входит. Да, я обжегся, дал себя облапошить коварной патрицианке, но это еще не значит, что я бегом брошусь назад к Деметре. Нет конечно, я приду ее проведать, посмотрю на ребенка, оставлю ей денег. Может даже, как в старые добрые времена, залезу к ней в постель…
Улица ничуть не изменилась с тех пор, как я шагал по ней в последний раз. Ну, разве что сегодня она более шумная от подвыпивших солдат, что, горланя песни, шастали взад-вперед или играли в кости. И все равно я вытащил из вещмешка свою львиную шкуру и перебросил ее через руку. Вряд ли Деметра захочет выслушивать рассказы о моих военных подвигах, зато переброшенная через руку шкура наверняка произведет на нее впечатление. Как-никак перед ней аквилифер! И ее глаза будут вновь полны восхищения.
Сабина никогда не смотрела на меня таким глазами. Она смотрела так, как будто видела меня насквозь, как будто знала меня как облупленного. Скажу честно, иногда от ее взгляда мне даже становилось не по себе. Но я больше
не хочу о ней думать.
– Ты кто?
Я растерянно заморгал, когда на мой стук в заднюю дверь пекарни откликнулся незнакомый голос, а в щель выглянуло худое, неприветливое, старческое лицо.
– Я ищу Деметру.
– Никогда о такой не слышала, – огрызнулась старуха. – Солдатские девки здесь не живут. Так что ступай своей дорогой.
Она уже было собралась захлопнуть перед моим носом дверь, но я успел вовремя просунуть в дверную щель ногу.
– Я ищу девушку, которая жила над пекарней. Из Вифинии. С длинными, светлыми волосами.
– Так она умерла родами неделю назад, – ответила старуха. – Женщина, что живет через дорогу, забрала себе ребенка.
С этими словами старуха пинком убрала мою ногу и захлопнула дверь. Я остался стоять, растерянно глядя перед собой.
– Эй, аквилифер, выпить не хочешь? – раздался рядом со мной пьяный голос, и мимо прошествовала очередная компания пьяных легионеров. – Мы слышали, что ты убил дакийского царя. Это правда, что он был с рогами?
Я растолкал их и, перейдя на другую сторону улицы, принялся стучать кулаками в дверь в доме напротив. На мой стук дверь снова открыла женщина – усталая, седая. На бедре у нее сидел грязный ребенок, второй – цеплялся за юбку.
– Я тебя знаю? – спросила она, подозрительно на меня глядя.
– Деметра, – произнес я. – Где Деметра?
– Эта карга разве тебе не сказала? Да, такую соседку еще нужно поискать, хуже даже, чем твоя зазноба.
– Где Деметра? – повторил я свой вопрос, хотя ответ на него уже знал.
– Умерла, – равнодушно ответила женщина. – Ребенок запросился на свет слишком рано. Такое бывает.
Я поморщился.
– Карга сказала, что ты взяла его себе.
– Ребенка? Так он ведь тоже умер. Я взяла старшенького.
– А кто это был, мальчик или девочка? – я никогда не ждал этого ребенка, ни разу даже не подумал о нем за эти полгода. И вот теперь внезапно мне захотелось знать, кто родился у меня, сын или дочь.
– Откуда мне знать, – ответила женщина. – Меня там не было.
Узнаю ли когда-нибудь правду? И так ли эта правда важна? Дочь или сын – все равно. Мой ребенок мертв. Мой первенец. Интересно, подумал я, а волосы у него были какие? Тоже рыжеватые, как и у меня? Или светлые, как у Деметры?
– А малыша я взяла с охотой, – сказала женщина, снимая с бедра ребенка, и только тогда до меня дошло, что это сын Деметры. – Он тихий. И какая разница, одним больше, одним меньше, когда у тебя их и без того пятеро. Кроме того, он может пойти в мать и вырасти красивым. Глядишь, от него будет прок.
Я сунул женщине несколько монет и поспешил прочь.
Плотина
– Я с готовностью признаюсь тебе, мой дорогой мальчик, что я жду не дождусь того дня, когда наконец покину Германию, – доверительно произнесла Плотина, обращаясь к дорогому Публию. – Грубая, холодная страна. Я уже промолчу про местных рабов. Служанки, которых ко мне приставили, неуклюжи, все до одной. Зато нечисты на руку. Не успеешь повернуться, как они того гляди утащат любую вещь прямо из-под носа. Можешь идти, – добавила императрица, на сей раз обращаясь к рабыне, которая чистила платье.
Та неохотно вышла, что-то бормоча себе под нос. Плотина же собственноручно застегнула у себя на шее аметистовое ожерелье.
– Ты в нем просто царица, – одобрительно заметил дорогой Публий. Он устроился в углу, дожидаясь, когда императрица закончит приготовления к сегодняшнему банкету. – О да еще какая!
– Чего не скажешь о твоей женушке. Она хотя бы раз воспользовалась в походе зонтиком? Посмотреть на нее, она вернулась загорелая, как какая-нибудь германская шлюха, которая…
– Моя дорогая покровительница, – перебил ее Адриан, и в его голосе звучала не то легкая насмешка, не то предостережение. Его пальцы тем временем поправили только ему заметную складку на тунике. – Мне известно, что ты не одобряешь привычек Сабины. В отличие от меня. А это куда важнее.
– Не одобряю, – обиженно фыркнула Плотина. Во всем Могунтиакуме не было почти ничего такого, что она одобряла бы. Город грязный, рабы неотесанные и наглые, покои, которые выделили ей как императрице, трудно назвать даже сносными. Грубые стены, аляповатые подушки на кушетках! А эти германские лампы, от которых больше копоти, чем света! А дымят они и день и ночь. Разумеется, она захватила с собой кое-что из предметов роскоши. Например, полированное стальное зеркало, что сейчас стоит на ее столе, небольшой письменный стол, за которым удобно просматривать и писать письма, ибо это есть прямой долг и обязанность супруги императора. И все же она с превеликой радостью вернулась бы в Рим! Нет, во всем Могунтиакуме не найти ничего, чтобы было бы достойно ее внимания.
Не говоря уже о последних слухах, что достигли ее царственных ушей. Или, скажем так, слухах, которые она постаралась откопать, касательно жены ее дорого Публия.
– Вибия Сабина сама напросилась взять ее в поход, – говорил тем временем ее дорогой Публий. Как приятно снова видеть его в чистом, парадном платье! Как он красив, как к лицу ему борода! Разве сравнятся с пиршественной туникой латы? Порой Плотине казалось, что она обречена провести всю свою жизнь в окружении мужчин в доспехах. – Скажу честно, я с самого начала этого не одобрял, но, с другой стороны, ее присутствие не доставляло мне неудобств. В некотором роде она даже пыталась быть мне помощником. Хотя польза от нее была разве что дважды. Один раз она обратила внимание императора на злоупотребления со стороны офицеров, на которых было возложено следить за обозом, а во второй доказала свою правоту в споре с главным лекарем. Траян был весьма доволен, что она присутствует за его столом на пирах, потому что вместе с ней был вынужден присутствовать на них и я. Так что, насколько я могу судить, в походе ей понравилось.
– Еще бы, – многозначительно произнесла Плотина. – Я тоже слышала.
– Что ты хочешь этим сказать?
Плотина подняла брови и не спеша принялась вставлять в уши аметистовые серьги. Адриан подошел к ней сзади и посмотрел на свое отражение в полированном зеркале.
– Как хорошо, – произнес он, – что у меня снова есть хороший цирюльник, – заметил он, задумчиво трогая бороду. – Нет ничего отвратительней отросшей щетины на шее. Но Траян, похоже, не обращает внимания на такие вещи, и ничего не остается, как следовать его примеру… Как я понял, ты, дорогая Плотина, хочешь сказать, что во время похода моя жена завела себе любовника?
– Я удивлена, что ты говоришь об этом с такой легкостью.
Адриан пожал плечами.
– Что касается меня, жена имеет право называть постель своей собственной, главное, чтобы соблюдались приличия.
– Я старалась воспитать в тебе иные убеждения, – возразила Плотина. – Но сейчас не об этом. Как ты сам только что сказал, главное, чтобы соблюдались приличия. Однако я крайне сомневаюсь, что Вибия Сабина их соблюдала. До моих ушей через рабов доходят крайне неприятные слухи. Да что там, от рабов! От адъютантов легиона, даже от младших офицеров! Эта девчонка проводила все вечера… не знаю даже, как об этом поприличней сказать…
– В таком случае, лучше промолчать. – Адриан сначала посмотрел на рабыню, стоявшую в углу с графином ячменной воды, затем на другую – эта укладывала в сундук шелковые наряды Плотины.
Плотина нарочно оставила служанок в комнате – в надежде на то, что те потом шепнут на ухо кому-то еще, и слух пойдет гулять дальше. И дело вовсе не в том, что ей нравилось, когда членам императорского семейства перемывали косточки. Просто пришла пора осадить эту зарвавшуюся девчонку, эту дерзкую нахалку, которой ее дорогой Публий был готов простить все ее прегрешения. Он, видите ли, находил ее очаровательной!
Так же, как и Траян. Если кто-то и должен быть очаровательной в их глазах, так это она, Плотина.
– Потная солдатня, – с наигранной горечью в голосе произнесла Плотина. – Легионеры. Вот с кем твоя дорогая Сабина якшалась в походе.
Адриан нервно дернул подбородком.
– Ей всегда нравилось заводить себе друзей из числа плебеев, но…
– На этот раз, это более чем друзья, мой дорогой мальчик. И хотя мне неприятно сообщать тебе дурные вести, это, конечно, не совсем так, но какая разница. – Плотина склонила голову, надевая на палец кольцо, а заодно чтобы скрыть злорадство. – Пару раз твою жену заставали в очень даже близких отношениях с простыми легионерами. Грубые личности, неотесанные, самого низкого пошиба. Вряд ли есть необходимость напоминать тебе, что подумают люди, когда это дойдет до Рима.
Дорогой Публий застыл на месте, нервно крутя на пальце перстень с печатью.
– Я знаю, как ты любишь свою жену. – Плотина посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна: на нее величаво смотрела царственная особа, облаченная в императорский пурпур. Сама Юнона одобрительно кивнула бы. – Но не пора ли наконец поставить ее на место?
– Ты хорошо выглядишь, – произнес Адриан с каменным лицом, предлагая Плотине руку. – Итак, мы идем на пир?
Викс
– Выше нос! – умолял Тит, таща меня навстречу огням, шуму и музыке. – Неужели тебе не хочется повеселиться? Ведь это же твой первый императорский пир!
– А вот и не первый, – возразил я. – Когда-то я уже был на таком пиру и даже пытался убить императора.
Тит растерянно заморгал. Тем временем мы с ним пристроились к очереди приглашенных у входа в пиршественную залу.
– Ты пытался убить императора? Убить Траяна?
– Ну, ты скажешь! То был другой император, с мозгами набекрень.
– Вообще-то таких у нас хватало. Или ты опять сочиняешь байки?
– Может, да. А может, и нет.
– Тебя никогда не поймешь, шутишь ты или говоришь серьезно. Эй, прекрати тянуть подол туники.
– Она мне мала, – ответил я и с силой дернул складки белой пиршественной туники, которую мне ради такого случая одолжил Тит.
– Скажи на милость, где, по-твоему, я мог найти ту, что была бы тебе в пору. Скажи спасибо за эту. Иначе пришлось бы идти на пир голым, в одной лишь львиной шкуре.
– Зато женщина проглядели бы все глаза.
В следующий миг к нам вышел императорский управляющий. Тита он поприветствовал первым, благодаря имени и рангу, а на меня лишь взглянул вскользь, после чего провел внутрь. Даже самая лучшая вилла в Моге не шла ни в какое сравнение с теми, что я повидал в Риме. Ее выделили в распоряжение императора и его свиты, как только те прибыли сюда. И вот теперь здесь должно было состояться победное пиршество. И пусть под ногами не изящная мозаика, а грубые каменные плиты, а пиршественные ложа сделаны из железа, а не из серебра. Зато в центре скромного зала сам император с кубком в руках рассказывает походные истории своим офицерам, и его ликование превращает все вокруг в сияние золота. Музыка была веселой, смех, что раздавался со всех сторон, еще веселее, но для меня все, да-да буквально все, было унылым и серым. Ведь я мог прийти сюда вместе с Деметрой. Своей красотой она в два счета затмила бы всех этих напудренных, тщеславных патрицианок. Схватив кубок у полуобнаженной юной рабыни, которая улыбнулась мне так, как будто тоже прошагала пол-Дакии, я поднес его к губам, но не сделал и глотка. В горле у меня как будто застрял комок, и не желал сдвинуться с места.
– В чем дело? – спросил Тит. – У тебя такой вид, будто ты кого-то похоронил.
Деметру, едва не сказал я ему. И собственного ребенка. Но я промолчал. Он бы наверняка постарался меня утешить, полагая, что именно по этой причине я не принимаю участия во всеобщем веселье. Он наверняка бы решил, что я охвачен скорбью. Мне же меньше всего хотелось в этом признаваться. Неужели этот ком засел у меня в горле надолго?
Потому что я… вырвался на свободу.
Ни ребенка. Ни жены. Ничего, что давило бы на меня и мой кошелек, что мешало бы мне следовать за моей путеводной звездой. Несчастная, неинтересная, прекрасная Деметра была мертва. И что же я чувствовал по этому поводу? Легкую печаль… но главным образом, облегчение. Свободу.
Какой же я все-таки мерзавец. Неудивительно, что Сабина не захотела со мной остаться.
Я краем глаза заметил ее, как только вошел в зал, но даже не посмотрел в ее сторону. Я заставил себя выпить вино и протянул кубок другой рабыне, которая тотчас наполнила его вновь. Хорошее вино. Гораздо лучше той кислятины-поски, которой нас поили в походе. Впрочем, не все ли равно.
– Давай напьемся.
– Сначала поклонись императрице, – посоветовал мне Тит, подталкивая меня к небольшому возвышению, на котором стояли два императорских ложа. – Императрица Плотина не одобряет пьянства. Впрочем, трудно сказать, что вообще она одобряет.
Мы проложили себе путь в шумной толпе гостей. Тит произнес перед императрицей витиеватую приветственную речь. Я же отделался тем, что, ощущая на себе любопытный взгляд десятка женских глаз, отвесил короткий поклон. Супруга Траяна в ее пурпурной столе, стайка легатских жен и… Сабина, самая младшая из всех женщин. Глядя на нее, можно было подумать, что в эту минуту она предпочла бы оказаться в толпе ликующей солдатни, чем сидеть среди этих старых клуш, что с чопорным видом расположились на своих ложах. Ей явно не доставало той простецкой жизни, к которой она привыкла, шагая дорогами Дакии вместе с Десятым. Тит представил меня. Сабина скользнула по мне взглядом, и в какой-то миг я – кому ни разу не пришло бы в голову спасаться бегством при виде свирепых даков – едва не бросился в бегство. Но нет, я не опозорю себя, тем более на виду у какой-то там шлюхи-патрицианки, которая возомнила о себе невесть что. Так что я покрепче стиснул зубы и с презрением посмотрел на нее. Сейчас на ней было белое платье с высоким воротником, а не то, ослепительно-желтое, в котором она щеголяла во время парада. Здесь явно не обошлось без указки старой императрицы, сама Сабина никогда бы не облачилась в такой наряд. Тем более что он смотрелся на ней совершенно по-дурацки, точно так же, как смотрелась на мне одолженная Титом пиршественная туника. От долгого марша под солнцем Дакии кожа Сабины покрылась золотистым загаром, и на фоне белизны платья ее тонкие руки казались золотисто-коричневыми. Боги, как хорошо я помнил эти загорелые руки, распростертые на моей походной постели. От злости и горечи я даже ощутил во рту кисловатый, металлический привкус. Наверно, точно такой же был и во рту супруги Траяна, этой безупречной как статуя императрицы, которая наверняка считала, что и пышное белое платье, и накрахмаленная льняная туника бессильны придать Сабине и мне ту респектабельность, какая полагалась на ее пиру.
– Твоя верная служба отмечена, – изрекла Плотина и царственно кивнула головой. Я понял этот кивок как намек и бросился наутек. Не замечая, – вернее, не желая замечать, – улыбки Сабины, которой та одарила меня из-за спины императрицы.
– Хочу еще вина, – сказал я и огляделся по сторонам в поисках рабыни с кубками.
– Только при условии, что ты пообещаешь мне, что не станешь таращиться на жену легата, – ответил Тит, отводя меня к увитой плющом колонне, и окинул меня придирчивым взглядом с головы до ног.
– Ты мне не указчик. Это мое личное дело, – огрызнулся я. – Тем более что сегодня утром я сказал ей, что между нами все кончено.
Тит вопросительно выгнул бровь и пристально посмотрел на меня.
– Вот и хорошо, – произнес он наконец, хотя тон его мне не понравился. – Я бы не хотел, чтобы тебя казнили, а ее отправили в ссылку. Чего, кстати, нельзя исключать, если кое-кому станет известно, чем вы с ней занимались все лето. Адриан убьет тебя. Любовная связь замужней матроны и, ты уж меня прости за такие слова, ничтожества-плебея – такое редко кому сходит с рук.
– То есть ты хочешь сказать, что если бы целый день ты кувыркался с ней в постели, это совершенно другое дело? – огрызнулся я. – То есть вам, патрициям, дозволено все что угодно?
– Нет, я не стал бы трахать ее весь день, как ты только что выразился, и скажу тебе почему. Потому что я на протяжении более полугода служил Адриану, и он заслужил мое восхищение. И я никогда не посмел бы соблазнить жену человека, которым я искренне восхищен, независимо от того, как сильно я ее хочу. Не говоря уже о том, что Адриан злопамятен, и старые обиды так просто не прощает. Я бы не рискнул переходить ему дорогу, и тебе не советую, начальник он тебе или нет. – Тит для выразительности закатил глаза. – Эта твоя интрижка с женой легата – не самая умная твоя затея, Верцингеторикс.
– Заткнись.
– Готов поспорить, – ответил Тит, буравя меня глазами, – что это она отправила тебя в отставку.
– А ты, я смотрю, доволен, – обвинил я его.
– Честно говоря, да. В этой кампании ты получил все, о чем мечтал: славу, орла, повышение в чине, благосклонность императора. Это довольно низменное чувство, и тем не менее мне приятно, что в конце концов Сабина тебе не досталась.
Я подумал про Деметру, однако тотчас отогнал прочь эту мысль.
– О, так мы ревнуем? Вот уж не ожидал.
– Не переживай, я не ревную тебя ни к славе, ни к твоему повышению, – ответил Тит, укоризненно на меня глядя. – Кстати, ты уже залил вином мою тунику.
– Я не нарочно.
– Давай уйдем отсюда, – предложил он. – Может, нам действительно стоит напиться? Скажу честно, я еще ни разу по-настоящему не напивался. А сегодня оно того стоит. Как сказал Гораций, бери от ночи все, и не надейся на утро.
– Я уж точно напьюсь, – признался я. – Но только здесь, на императорском пиру. Не хватало еще, чтобы из-за какой-то бабенки я лишил себя удовольствия.
– Проклятие, – выругался мне вслед Тит, когда я вновь нырнул в толпу гостей.
Вино на пиру лилось рекой, и я был не один, кто вливал его в себя в немереном количестве. В целом пир оказался очень даже не плох, и наверняка понравился бы мне еще больше, будь я в соответствующем настроении. Император напился допьяна и был полон веселья. В какой-то момент, заметив меня, он похлопал меня по плечу и во всеуслышание поведал историю моей схватки с Децебалом. Публика слушала, разинув рты, я же стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда мне деться. Затем половина его генералов поздравили меня с этим подвигом, причем многие из них оказались не меньшими любителями крепкого словца, чем и я сам. В иных обстоятельствах я бы возгордился их похвалой. Еще бы! Ведь мне одобрительно кивнул сам преторианский префект. По идее мне полагалось пошире расправить плечи и гордо вскинуть подбородок. Ведь разве не об этом я мечтал? Простой солдат, который собственной доблестью проложил себе путь наверх и теперь стал правой рукой самого Траяна. Вместо этого я лишь буркнул что-то невнятное в ответ и, схватив у раба очередной кубок с вином, заявил, что ему лучше держаться от меня подальше, пока я не проломил ему череп.
– Ты не хочешь уйти? – с надеждой в голосе спросил Тит.
– Нет.
В следующий момент в зал, неся блюда с угощениями, вошла вереница рабов. Чего тут только не было! И жареные бычьи ноги, и фаршированный кабан, и гусь, запеченный прямо в перьях. Императрица дала гостям знак занять свои места на пиршественных ложах, что были расставлены полукругом, однако никто не обратил на нее внимания. Император просто схватил с ближайшего к нему блюда крыло жареного гуся и принялся размахивать им, видимо, для придания убедительности очередной своей истории о том, как его бравые легионы штурмовали Сармизегетузу. Подвыпившие гости принялись подтягивать ложа ближе к нему и, схватив у раба крыло или ногу, валились на первое попавшееся. Вскоре от аккуратного полукруга остались лишь воспоминания. Императрица отрешенно вздохнула, и как только в зал впорхнула стайка полуголых танцовщиц, величаво удалилась. Траян весело помахал ей вслед и, схватив самого рослого из танцоров, усадил его рядом с собой.
Моя голова шла кругом, наверно, потому, что в зале было шумно, жарко и душно. Вырвав из рук растерянного раба кувшин с виной, я, спотыкаясь, вышел на свежий воздух. По всему периметру стен в скобы были вставлены факелы, но большая их часть уже догорела. Не знаю, как это произошло, но я умудрился упасть в небольшой бассейн в самом центре атрия.
– Проклятие!
Я был мокрым с головы до ног, правда, мой кувшин с вином остался в целости и сохранности. Сидя в воде, я сделал долгий глоток. Над моей головой холодным светом сверкали звезды. Мои звезды, подумал я. Куда они поведут меня теперь?
– Эй, Викс, ты хотя бы понимаешь, что сидишь в воде?
– Нет, а что? – я отпил еще вина, стараясь не смотреть на фигуру в белом, что приближалась ко мне с другого конца атрия. Лунный свет заливал ее своим серебром с головы до ног.
– Может, тебе помочь? Или ты встанешь сам?
– А вдруг мне здесь нравится? – я плеснул в нее водой, и подол ее платья намок.
– О боги! – вздохнула она. – Ты ведешь себя как ребенок.
– Когда спал с тобой, ты не называла меня ребенком, – бросил я ей в ответ.
– Ступай домой, Викс, ты пьян.
– Ты сука.
Она повернулась и пошла прочь, назад, к полуоткрытой двери, из которой доносилась музыка и пьяные голоса. Я резко выбросил руку и схватил за подол платья.
– Не ты ли утром сказала мне, что не желаешь следовать за моими звездами. Что ж, тебя можно понять. Но по крайней мере у меня есть звезды. А что есть у тебя? Искать на свою голову приключений, особенно если это что-то запретное? Знаешь, для этого есть хорошее слово. – Я посмотрел на нее, обнажив зубы в неком подобии улыбки. – Это называется блядством.
Лунный свет падал на белое платье, делая ее похожей на мраморную колонну.
– Это следует назвать «долгом», Викс. Я не настолько свободна, как ты думаешь. Кто знает, может, я и предпочла бы остаться с тобой, чтобы провести свою жизнь, занимаясь, как ты выразился, бл…ом. Но у меня есть долг и по отношению к другим. По отношению к Адриану, который всегда бы честен со мной. По отношению к Риму, за то, что я патрицианка. По отношению к миру – потому что, если мне суждено провести мою жизнь, колеся по нему, я должна сделать его лучше. Не знаю как, но лучше. Да, я не хочу просидеть всю свою жизнь в четырех стенах. Хочу раздвинуть горизонты. Хочу пережить столько приключений, сколько мне выпадет на моем веку. Но долг всегда будет стоять для меня на первом месте. – Она в упор посмотрела на меня. – Скажи, а ты когда-нибудь чувствовал свой долг перед кем-то или только перед самим собой?
– У меня есть долг перед Траяном, – огрызнулся я. – Ему я обязан всем. Он станет вторым Александром. Он завоюет весь мир. И мой долг помочь ему в этом.
– Не говори чушь, Викс, – бросила мне Сабина. – Ты тоже ищешь себе приключения, и не пытайся уверить меня, что это не так. Если бы твой долг перед Траяном означал, что ты изо дня в день будешь просиживать за столом, перебирая бумажки, сомневаюсь, что ты горел бы столь страстным желанием служить ему. Настоящий долг означает, что ты жертвуешь тем, что ты любишь. Мне пришлось дважды уйти от тебя, но ты ни разу не видел меня плачущей.
– Все понятно. Теперь для тебя на первом месте долг, – огрызнулся я. – Интересно, и где он был все эти месяцы, пока ты спала в одной постели со мной?
– Что-то я не припомню, чтобы ты жаловался по этому поводу. Лишь брал свое, и был доволен, потому что имел, что хотел.
– А если в следующий раз захочется тебе? – я встал из бассейна. С меня ручьями стекала вода, но холода я не чувствовал. Мне никогда не бывает холодно во время поединка. – Что если у тебя засвербит в одном месте? Что тогда? Кто его тебе почешет? Я? Нет, может, я и тупой, недалекий умом варвар, но даже тупой варвар не настолько туп, чтобы обжечься трижды.
– Разве я сказала, что ты туп? – ее глаза сделались холодными, как у мраморной статуи. И я ощутил что-то вроде гордости за то, что мне удалось расколоть панцирь ее самообладания. – Тебе хватает ума, чтобы не сжигать за собой мосты. Скажи, эта девушка приняла тебя назад? Та самая, которая осталась у тебя в городе? Тит рассказывал мне о ней. Ты же весь поход скрывал от меня ее существование. На тот случай, если у тебя ничего со мной не выйдет, когда мы вернемся в Германию…
– Она красавица, – бросил я ей, на мгновение забыв, что Деметры больше нет. – По сравнению с ней ты – сморщенное яблоко, пролежавшее на базаре неделю.
– Если она красавица, то где была твоя верность? И кто сказал, что я вцепилась в тебя? Или ты сердит, что я тебя бросила, Викс? Признайся честно, ты просто зол, что это я разорвала отношения, а не ты.
Я сгреб Сабину в охапку и швырнул в бассейн. Раздался всплеск, вода намочила ей плечи, и ее белое платье парусом надулось над ее мокрыми коленками. Сабина растерянно уставилась на меня.
– Давай, наслаждайся, пока не поздно, – сказал я. – Ты в последний раз мокрая благодаря мне. Других не будет.
С этими словами я развернулся, пятерней убрал со лба мокрые волосы и пошел прочь, оставив ее стоять посреди бассейна. Я вернулся к музыке и шуму пьяных голосов. Купание в бассейне и ссора с Сабиной сделали свое дело: я мгновенно протрезвел. Стоило мне переступить порог, как мимо меня, шатаясь, прошествовал пьяный трибун. Я отпихнул его к статуе купающейся нимфы. Нимфа покачнулась и, не устояв на ногах, рухнула на пол, где разлетелась на мелкие куски. Трибун радостно мне икнул. Все вокруг выглядели довольными и счастливыми. Император растянулся на кушетке, одной рукой обняв юного раба, который смотрел на него полным обожания взглядом, а другой постукивал по коленке в такт музыке. Лютнисты задорно щипали струны, выбирая самые непристойные песни. Половина присутствующих нестройным хором горланила припев, вторая половина лежала без чувств среди подушек. Даже ублюдок Адриан, и тот, похоже, весело проводил время, с горящими глазами наблюдая, как какой-то стройный юноша показывал на мозаичном полу акробатические номера. Впрочем, стоило ему посмотреть на дверь, как веселости его как не бывало. Он поставил кубок и мимо меня быстро шагнул к двери.
– Вибия Сабина, что за вид, хотел бы я знать?
– Всего лишь наткнулась на пьяного солдата, причем в крайне неудачном месте, у фонтана, – раздался у меня за спиной голос Сабины. Я прислонился одним плечом к колонне, сделав вид, будто наблюдаю за акробатами, однако краем глаза следил, что будет дальше. С ее платья стекала вода, но в целом внешне она оставалась спокойна.
Окинув ее глазами с ног до головы, Адриан загородил ее собой от гостей.
– Это платье смотрится непристойно.
– Неужели? – удивилась Сабина, поднимая полупрозрачный, намокший подол, который лип к ее загорелым ногам. – Как оно может смотреться непристойно, если его выбрала сама Плотина. Разве императрица может выбрать что-нибудь неприличное?
– Ты пьяна? – спросил Адриан и растерянно заморгал.
Сабина расхохоталась. Волосы темной гривой упали ей на спину, а платье соскользнуло с одного плеча.
– Нет, хотя, наверно, стоило бы. Потому что вокруг все пьяны.
– Немедленно ступай к себе!
– Что я и собиралась сделать. Неужели ты думаешь, что я останусь на пиру, когда с меня ручьями бежит вода?
– Откуда мне знать, что ты собиралась делать, а что нет. В последнее время я не знаю и половины того, что ты делаешь за моей спиной, – в его голосе неожиданно появились стальные нотки. – Кстати, я немало наслышан о том, как ты проводила время в походе. Обычно я пропускаю сплетни мимо ушей, но если императрица вынуждена докладывать мне, что ты питаешь слабость к простым солдатам…
– А, по-моему, Адриан, ты замочил ноги в той же самой воде, – бросила в ответ Сабина. Ее голос по-прежнему звучал игриво. – Скажи, сколько раз я, придя к тебе в палатку, заставала там полураздетого смазливого легионера, который был готов угодить тебе во всем.
– Это не одно и то же! – едва ли не прошипел Адриан. Я же перенес вес с одной ноги на другую, по-прежнему делая вид, будто наблюдаю за акробатами. – Самое главное – это приличия. И не пристало римской матроне патрицианских кровей появляться на званом пиру растрепанной, полуодетой, в мокром платье! Не хватало, чтобы все на тебя пялились. Или, что еще хуже, искать себе удовольствий в обществе простых солдат! Моя карьера только-только пошла вверх, и я не допущу скандала. Плотина считает…
Улыбки Сабины как ни бывало.
– Да, дорогой Публий, давай послушаем все, что считает Плотина.
– Она считает, что тебе пора задуматься над своим поведением. И я с ней согласен.
Я рискнул посмотреть в их сторону. Адриан и его жена застыли, нос к носу. Они так стояли несколько секунд, пока наконец Сабина не взяла из его рук кубок и осушила его до дна.
– Думаю, на сегодня с тебя хватит вина, муженек. От него тебе в голову лезут всякие мысли. Увидимся дома, – бросила она ему и с гордым видом вышла вон. Я проводил ее взглядом. Мне было видно, как покачиваются под мокрым шелком ее бедра. А эти плечи, а изгиб шеи…
– Нечего глазеть на мою жену, – привел меня в чувство чей-то голос. Я стряхнул с себя наваждение. Передо мной стоял Адриан. – Я, кстати, и раньше это замечал, аквилифер. Она тебе не шлюха, чтобы такие, как ты, пожирали ее глазами.
– Судя по тому, что ты только что наговорил ей, она шлюха.
Мой рот сам произнес эти слова, не посоветовавшись предварительно с моим разумом, стоит такое говорить или нет.
– И судя по тому, что говорят в нашем Десятом, ты не так уж и не прав, легат. Как известно, Вибия Сабина еще как охоча до…
Его широкая ладонь впечаталась мне в щеку. Кстати, для того, кто ни разу в жизни не принимал участия в настоящем сражении, рука у него была довольно тяжелая. От удара я отлетел к стене. Почему-то мне вспомнилось, как в Дакии он одним точным ударом копья уложил оленя и как потом улыбался, глядя на брызги крови у себя на ногах.
Я выпрямился. Щека горела огнем. Завтра на ней всем на обозрение будет красоваться синяк.
– Сегодня ты впервые ударил меня, – произнес я и даже удивился спокойствию в собственном голосе. – Второго раза не будет.
– Не будет?
– Нет.
От меня не скрылось, как дернулись его пальцы, с каким гонором вскинул он свой бородатый подбородок. Он был готов ударить меня снова, но и мои пальцы тоже сжались в кулаки. Вокруг нас продолжал шуметь весельем пир. Император и преторианская гвардия громко чокались кубками с неразбавленным вином и, запрокинув головы, залпом вливали его в себя. Похоже, между ними шло нечто вроде соревнования. У меня же было такое ощущение, будто я со всех сторон обложен льдом. В мире не осталось ничего, кроме этого бородача, который смотрел на меня холодным, пронзительным взглядом.
– Легат Адриан, скажи, ты уже обдумал путешествие в Паннонию? – раздался рядом с нами чей-то учтивый голос. – Надеюсь, сначала ты вернешься в Рим, где тебя ждет триумф. По-моему, это великолепный повод!
– О да, еще какой великолепный! – ответил Адриан, поворачиваясь к Титу, который стоял рядом с ним – воплощение внимания и учтивости. Я даже решил, будто мне все показалось. Что не было этого мига – мига ничем не прикрытой ненависти.
И все-таки он был.
– Прошу прощения, легат. Император желает поговорить с нашим аквилифером.
– Пусть идет. Я его не держу.
– Император желает поговорить со мной? – я растерянно заморгал.
Тит взял меня под локоть и отволок в сторону.
– Разумеется, нет, ты болван. Просто я должен был напомнить легату, что ты пользуешься благосклонностью самого императора. Иначе бы он точно придушил тебя на месте. Он что, узнал про свою жену?
– Нет, дело не в этом. – Я посмотрел на тунику, мокрую, в винных пятнах. – Извини, я испачкал тебе тунику.
– Забудь. И пойдем отсюда. Клянусь Хароном, вот уж никогда бы не подумал, что мне придется вытаскивать тебя из передряг. И главное, с чего бы это? – с этими словами Тит схватил у сонного раба плащ и вывел меня в темный атрий. Луна переместилась на другое место, и теперь небольшой бассейн в центре атрия казался темным пятном.
– Я уронил Сабину в воду, – признался я.
– Не жалею знать, почему, – простонал Тит. – И теперь Адриан хочет тебя за это убить?
– Нет. Он просто меня ненавидит.
Почему-то я едва ворочал языком. Впрочем, я также едва передвигал ноги. Я споткнулся о порог и едва не упал. Тит вовремя поддержал меня.
– Наверно, мне придется его убить, – задумчиво произнес я.
– Заткнись, – одернул меня Тит.
– Не знаю, но я почему-то уверен, что в один прекрасный день я его убью.
– Заткнись, кому говорят.
– Потому что или он меня, или я его, – почему-то в этом я не сомневался. Еще сегодня утром, когда я входил в город, у меня была возлюбленная. Теперь я ее потерял. Зато я обрел что-то другое.
Врага.
Спустя неделю, обзывая себя идиотом, я вернулся в убогий домишко напротив пекарни.
– А, это опять ты, – сказала женщина, на лице которой читалась печать усталости. – Ну, ты красавчик!
Я напялил на себя львиную шкуру и кирасу, в надежде, что это произведет на нее впечатление.
– Я пришел насчет мальчика, сына Деметры.
– А зачем это тебе?
– Хочу на него посмотреть.
Женщина скрылась во второй комнате. В той, где я стоял, пахло прогорклым жиром и прокисшей едой. В углу, играя с палочками, сидели двое детей. Они подняли на меня водянистые глаза. Волосы у них были грязные, туники – в пятнах от еды. Как это было не похоже, на выскобленное до блеска жилище Деметры.
Женщина вновь вышла ко мне – на этот раз с мальчиком в руках.
– Вот он.
Я посмотрел на мальчонку в грязной бесформенной рубашонке. Сынишка Деметры заметно вырос. Теперь ему было почти три. У него были материнские, медового оттенка локоны. И если приглядеться, можно было увидеть, что в будущем лицо его тоже будет красивым. Он молча смотрел на меня.
– Вон какой хорошенький, – сказала женщина. – А когда вырастет, станет настоящим красавцем.
Она говорила это и раньше, на прошлой неделе. И эта мысль засела мне в голову, не давая мне покоя.
– И ты воспитаешь его?
– Как своего.
Тит наверняка бы ей поверил. В конце концов я рассказал ему, что Деметра и мой ребенок мертвы. И его сочувствие было искренним, как я и опасался.
– О боги, Викс, прости меня. Неудивительно, что ты в таком плохом настроении. А как же ее первый сын?
– Его взяла к себе соседка, – буркнул я. – Хотя у нее своих детей уже пятеро.
– Ну и отлично, – с облегчением вздохнул Тит. – По крайней мере у малыша будет семья, коль он потерял родную мать, храни боги ее душу. Деметра была добрая женщина и была бы рада, узнай она, что ее сынишка окружен любовью и заботой.
Окружен ли? Я пристально посмотрел на женщину. От меня не скрылось, как она поспешила отвести взгляд. Нет, я не Тит. Я не настолько наивен, чтобы видеть в людях добро. И я отлично знал, что будет, случись красивому мальчику попасть не в те руки. Меня самого едва не постигла такая судьба, не будь у меня добрых хозяев. Не будь у меня матери, готовой грудью встать на мою защиту. Неужели я позволю, чтобы сынишка Деметры, копия своей красавицы матери, рос в этой зловонной дыре? Какая судьба его здесь ждет? Плясать перед похотливыми старыми козлами? К десяти годам страдать кровотечениями из заднего прохода? Помню, в детстве, один противный лысый тип угостил меня устрицами, после чего попытался меня отыметь. Помнится, как он взвыл от боли, когда я сломал ему пальцы и убежал.
Сынишка Деметры робко посмотрел на меня. Он ведь не твой, прошептал внутренний голос. Он не твоя кровь. Не твоя ответственность.
Моей ответственности не было в живых. Я был свободен и чист. Мальчонка протянул пухлый пальчик и потрогал львиную шкуру у меня на голове.
– Еф! – воскликнул он. – Еф!
– О боги! – воскликнул я и вырвал мальчика из рук женщины.
– Эй! – возмутилась она.
– Убери руки! – рявкнул я на нее. – Я беру его к себе.
– И что ты с ним станешь делать? Как будешь его растить? В лагере, среди солдатни?
Нет, я не собирался растить его сам. Да и что я понимал в воспитании детей? Честно говоря, я понятия не имел, что мне с ним делать. Но и оставить его здесь я не мог. Он сидел у меня на руках, трехлетний крепыш, и даже не плакал.
– Еф, – повторял он, поглаживая рыжий мех, пока я уносил его прочь из этого убого жилища.
– Еф, – согласился я, усаживая его себе на плечи. Визжа от восторга, он вцепился в львиную шкуру. – Надеюсь, ты послушный ребенок. Я заплачу какой-нибудь приличной семье, чтобы они позаботились о тебе. А сам буду каждые несколько месяцев навещать тебя.
– Еф! – радостно твердил малыш, сидя у меня на плечах.
– О боги, – вздохнул я и поспешил вдоль улицы.
(обратно)
(обратно)
Часть III. Парфия
Глава 17
Лето 113 года н. э.
Тит
– Энния! – Тит поискал глазами экономку. – Энния, моя нимфа, моя грациозная, прекрасноокая Терпсихора…
– Можешь не тратить попусту красивые слова, господин, – худая, темноволосая вольноотпущенница скрестила на груди руки. – Что тебе нужно?
– Обед на шестерых, причем чем раньше, тем лучше. Буду твой должник до конца дней моих.
– На шестерых? – женщина перевела взгляд от Тита на фигуру в латах и пыльном плаще, с еще более пыльными рыжеватыми волосами. За последние три-четыре года Викс почти не изменился. Ну, разве что чуть сильнее загорела и обветрилась кожа. Но в остальном, это был прежний Викс.
– То есть кроме него будет кто-то еще? – уточнила Энния без особого воодушевления.
– Нет, только он. Но ест он за пятерых.
– Дай мне час, – ответила она и, что-то крикнув рабам, направилась в кухню.
Викс обвел взглядом небольшой атрий: голубая плитка, скромные колонны, и главное, он такой узкий, что его можно преодолеть в три шага.
– Неужели жалованья квестора мало, чтобы прибрести что-то поприличнее? Я надеялся увидеть роскошную виллу на пол-Палатинского холма.
– На вилле обитает мой дед, который отошел от дел. Я бы мог остаться с ним, если бы захотел. Но теперь я человек взрослый и самостоятельный. У меня есть должность, и мне нет необходимости жить с остальными членами семейства, тем более что матери больше нет в живых, а сестры вышли замуж. Вот я и подыскал себе собственное жилье.
Причем более чем скромное жилье: опочивальня, рабочий кабинет и атрий, который время от времени выполнял роль пиршественной залы. Правда, пиры тоже были более чем скромные.
– Как видишь, дом небольшой, – довольно произнес Тит.
– Но тебе его хватает, – кивнул Викс, оглядывая старого друга с головы до ног. – Все-таки тога лучше, чем латы. Квестор, если не ошибаюсь? Я получил твое последнее письмо…
– Никаких походов, никакой грязи, – согласился Тит. – Лишь чистые интриги и политиканство.
Викс недовольно фыркнул.
– Только не говори мне, что ты превращаешься в холодную ящерицу вроде Адриана!
– Пока еще нет, но, с другой стороны, «никто не становился дурным всего за один шаг».
– Проклятие, я забыл, что ты любитель сыпать цитатами! Кто это, Катон?
– Ювенал. Почему ты решил, что это Катон?
– Потому что, дружище, половина твоих цитат – это Катон.
Затем Тит попросил Викса вытащить из кабинета две кушетки, по одной на каждом плече. Вскоре перед ними высились блюда с фаршированным лососем, жареной свининой, свежеиспеченным хлебом и спелыми персиками. Энния только успевала подносить новые угощения.
– Кстати, а что привело тебя в Рим? – спросил наконец Тит, когда Викс разделался с половиной свиной лопатки. – Или я уже тебя спрашивал?
– Легион раз в три месяца отчитывается перед императором. – Викс запил свиную лопатку вином. – Первый копейщик не желал, чтобы я вертелся у него под ногами. Этот ублюдок на дух меня не переносит.
– Что ты натворил на этот раз?
– Всего лишь хочу получить его место, – честно признался Викс.
– В таком случае мой руки после каждого блюда, а не просто макай в воде пальцы. – Тит выгнул бровь, глядя, как Викс отламывает ломоть хлеба. – Даже не мечтай стать первым копейщиком без хороших манер.
– Сначала мне нужно дослужиться до центуриона. Следующая вакансия – моя. Ведь мне уже стукнуло тридцать.
– Скажи, а Симон из твоего контуберния стал центурионом? Ему ведь было достаточно лет…
– Нет, в Десятом он больше не служит. Уволился и переехал в Рим. Ну, кто бы мог подумать!
После этого Тит засыпал меня вопросами про наш Десятый легион. Новый легат – он строгий или смотрит на все сквозь пальцы? Юлий по-прежнему утверждает, будто Юлий Цезарь его прямой предок? А Прыщ? Он нашел, наконец, себе девушку, которая не бросит его ради флейтиста или трактирщика?
А ведь я скучаю по армии, поймал себя на мысли Тит. Нет, не по армейской жизни, без нее я как раз обойдусь. Я скучаю по армейскому братству, которое познал в Дакии. В политике ничего даже близко подобного нет и быть не может. Здесь все заняты собой, продвигают собственную карьеру. И тот, кого вы называете другом, вполне может подставить вам ножку, когда будут назначать нового претора.
В следующий миг в комнату вошла Энния.
– Теперь я вижу, что ты не шутил, господин, – сказала она, обводя взглядом горы обглоданных костей. – Он действительно ест за пятерых.
Впрочем, убирая со стола, она скромно потупила взор, и, когда вышла, колыхнув черной косой, Викс громко высказал ей вслед свое восхищение.
– Смотрю, ты охоч на хорошеньких домоправительниц, – сказал он другу.
Тит смущенно провел рукой по волосам. Энния была вольноотпущенницей в доме его деда – черноглазая, двадцатипятилетняя женщина, с хорошеньким личиком и острым язычком. И когда Тит обзавелся собственным домом, он не замедлил сделать ей предложение, от которого она не смогла отказаться.
– Дом небольшой. Ты с ним легко управишься, – сказал он ей. – Лишь несколько слуг, чтобы готовить пищу и обстирывать одинокого человека. Назначаю тебя главной. Хватит быть частью толпы вольноотпущенников.
– Значит, я буду твоей домоправительницей, – подвела итог Энния. – Постель твою тоже буду греть я?
– Я не против, хотя требовать этого от тебя не стану. С другой стороны, ты хорошенькая. – Тит на минуту умолк, а потом стыдливо добавил: – Будем считать, что мы с тобой договорились. Жены у меня пока нет, ходить по лупанариям я не любитель, а на куртизанок у меня нет денег.
– Я не участвую в оргиях и не обслуживаю твоих приятелей, – выразительно добавила Энния. – И сколько ты будешь мне платить, доминус?
Тит назвал скромную, но вполне достойную плату. Энния фыркнула. Тит увеличил сумму. Энния подняла брови.
– Боюсь, это все, что я могу тебе предложить, – твердо сказал он. – Но я согласен дарить тебе пару новых платьев в год и делать
подарок к сатурналиям.
– Идет, – согласилась Энния. – Я останусь в доме до тех пор, пока ты не женишься. Думаю, когда это произойдет, я уже буду немолода и с радостью отойду от дел.
Так Тит обзавелся домоправительницей и любовницей в одном лице.
– Ты ведь не слишком искушен в женщинах? – спросила она его и взялась за его образование с не меньшей энергией, нежели за управление домом. И Тит, и дом были счастливы.
– А я почему-то думал, что ты уже женат, – машинально заметил Викс. – Что какая-нибудь юная красотка заполучила тебя в свои сети.
– Да, я был на волосок от этого в прошлом году. Дочь легата. Такая рыжеволосая.
– Лично я люблю рыжих, – ответил Викс и присвистнул.
– Я тоже. Но Вибия Сабина меня отговорила. Сказала: ты посмотри на ее рабынь. Неужели ты хочешь, чтобы на тебя из зеркала смотрело точно такое же испуганное лицо?
Викс замер, держа в руках разрезанный не до конца персик.
– Ты все еще видишься с Сабиной?
– Да, когда она бывает в Риме.
Что случалось нечасто, поскольку Адриан увез жену с собой в Паннонию. Не зная, говорить другу или нет, Тит серебряным ножом вырезал сердцевину яблока. И в конце концов решился:
– Между прочим, она сейчас в Риме.
– Мне-то какая разница, – буркнул Викс, салфеткой вытирая с рук сок персика.
– Старую любовь просто так из сердца не выкинешь, – произнес Тит, глядя в потолок.
– Я сказал, какая мне разница. Катон? Угадал?
– Катулл. Как бы там ни было, наместник Адриан вернулся из Паннонии, так что она с ним.
– Наместник Адриан мне тем более безразличен. Я рад, что не он командует нашим легионом.
– Между прочим, он теперь консул.
На прошлой неделе Тит сопровождал консула вместе с супругой в театр. Правда, большую часть представления Адриан был вынужден отбиваться от назойливых секретарей и посыльных. Так что если кто с жаром и обсуждал достоинства пьесы и актеров, так это Сабина и Тит.
Кстати, после двух лет в Паннонии Сабина вернулась в Рим, наряженная на манер местных женщин: вся в браслетах и даже с накрашенными вайдой
[299] глазами (не иначе как, чтобы досадить императрице, которая неизменно приходила при виде снохи в ужас). Что не изменилось, однако, так это старая дружба между ней и Титом. Мне везет даже больше, чем Виксу, не раз думал он.
Похоже, Викс исчерпал тему Адриана и Сабины и теперь вновь оглядывал атрий, над которым чернело ночное небо, а в углу, нежно журча, струился фонтан.
– Не люблю домашний уют, – пожаловался он. – Зато каждый день готов спать в походной палатке.
– Неужели? – поддразнил его Тит. – По-моему, ты лжешь. По тебе видно.
– Что видно?
– То, что надо.
Тит заметил, как Энния зажигает лампы, и встал, чтобы ей помочь. Тем временем на Рим спустилась ночь, шумная римская ночь, полная самых разных звуков: скрипа колес, лая собак, взрывов хохота, чьих-то шагов по мостовой. Как это было не похоже на Германию с гнетущей ночной тишиной, нарушаемой лишь шелестом ветра в кронах деревьев. Тит хорошо помнил, как поразил его этот контраст, когда он вновь вернулся домой с севера.
– Тебе нужна женщина.
– Согласен, – ответил Викс. – Ты случайно не знаешь в Риме хороших шлюх? Думаю тех, с которыми я когда-то водил дружбу, давно нет.
Стоявшая рядом Энния презрительно фыркнула.
– Тебе нужна не шлюха, Викс, – уточнил Тит. – Тебе нужна жена.
– Легионерам запрещено жениться!
– Рядовым, но не офицерам. Ты же, считай, одной ногой уже центурион, – напомнил ему Тит. – Циник Верцингеторикс. Муж и отец семейства. Ведь какой-никакой опыт по этой части у тебя есть, если учесть усыновленного тобою мальчонку.
Тит помог Виксу, когда тот, вернувшись из дакийской кампании, в один прекрасный день заявился к нему с маленьким мальчиком на плечах – сыном его красавицы гречанки.
– Помоги мне найти кого-нибудь, кто взял бы его себе на воспитание, – попросил его тогда Викс. – Я бы и сам, но какой из меня воспитатель?
– Полностью с тобой согласен, – ответил Тит и нашел в Моге лавочника, который за небольшую мзду согласился взять мальчика к себе и растить его вместе со своими тремя сыновьями. Вот и сейчас он поинтересовался, как там поживает сын Деметры.
– Похоже, ему там хорошо, – произнес Викс, вновь беря в руки чашу с фруктами. – Я время от времени навещаю его, чтобы проверить, как его дела.
– Вот видишь? К тому времени, когда у тебя будут свои сыновья, ты уже наберешься опыта.
– Этого мне только не хватало. Не хочу ни детей, ни жены. И вообще кто ты такой, чтобы раздавать мне советы? Можно подумать, ты сам женат, – ответил Викс, посматривая на Эннию, которая, покачивая бедрами, удалилась в кухню. – По крайней мере в глазах людей.
– Я слишком занят строительными проектами императора, чтобы обзаводиться семьей. Когда я возвращаюсь домой, мои волосы серы от мраморной пыли. Скажи, какой жене это понравится?
– Ты помогаешь возводить триумфальную колонну? – с неподдельным интересом спросил Викс. – Я пока еще ее не видел…
– Если ты считаешь, что колонна – внушительное зрелище, то что ты скажешь, увидев бани, которые сейчас строит Траян? Клянусь, таких в Риме еще не было. Траян хочет, чтобы они были готовы едва ли не завтра, но готов поспорить, что их строительство займет еще самое малое лет пять.
– Да, обидно, – ответил Викс, играя рукояткой ножа на поясе. – Он должен ходить в походы, завоевывать мир, а вместо этого строит бани!
– А вот здесь я с тобой не согласен – в отличие от Траяна. Кстати, поговаривают, будто он готовит новый поход – в Парфию.
– В Парфию? – навострил уши Викс. – Хотя вряд ли наш Десятый возьмут туда. Вот проклятие, а я не отказался бы. Жаркие темнокожие женщины. Жаркие небеса и жаркие битвы. Представляю себе!
И Викс с Титом покорили Парфию за новой чашей вина, поднимая тосты за воображаемые победы. Примерно где-то в середине штурма Вавилона Викс начал зевать, во время разграбления Хатры он уже клевал носом, а затем и вообще положил голову на стол и уснул.
– Вот видишь? – сказал Тит и, притащив из спальни одеяло, набросил на друга. – Тебе нужна жена. Чтобы было кому вместо меня накрывать тебя одеялом.
Но Викс уже храпел вовсю.
Сабина
Сабина не помнила, когда она начала избегать мужа. Вернее, показываться ему на глаза лишь тогда, когда тот бывал в хорошем настроении. А в хорошем настроении Адриан бывал, лишь кого-то убив.
– Удачная была охота? – спросила она, когда он вошел в триклиний, держа в руке окровавленные перчатки. Было еще рано, и беломраморные стены триклиния, выходившие на восток, были окрашены розовым цветом.
– Да, убил оленя. – Казалось, Адриан был не в силах устоять на одном месте, как и пара собак у его ног. Как будто все трое по-прежнему жадно втягивали ноздрями утренний туман, пытаясь учуять жертву, чтобы затем выпустить ей кровь. – Правда, это была самка. Но, с другой стороны, надо уметь довольствоваться малым.
– Вот уж не думала, что ты можешь этим довольствоваться.
Адриан ответил на ее колкость холодной улыбкой и потянулся к груде свитков и табличек, которые, несмотря на ранее утро, уже ожидали его.
Перед тем как прийти к завтраку, он успел вымыться. Его тога ниспадала аккуратными накрахмаленными складками, борода аккуратно подстрижена, руки чисты. Это был совсем другой человек нежели тот, за которым Сабина наблюдала из окна в рассветный час, когда он верхом въезжал во двор с ног до головы забрызганный грязью и кровью, а его свита скакала вслед за ним с убитым оленем. Сабина не сомневалась, что Адриан не поленился слезть с коня, чтобы собственноручно перерезать раненому животному горло. Он любил доводить любое дело до конца.
– У нас оленины уже больше, чем мы можем съесть, – сказала Сабина. Благодаря охотничьим подвигам Адриана не только они сами, но и их рабы не знали недостатка в дичи. – Давай отдадим этого оленя одному из твоих клиентов в качестве подарка.
– Как тебе будет угодно, – равнодушно пожал плечами Адриан. Убитое животное его больше не интересовало. – Кстати, не жди меня сегодня вечером на ужин. Сегодня я ужинаю с сенатором Руриком.
– О, какая удача для тебя, – с улыбкой ответила Сабина. – Говорят, у него такие красивые вольноотпущенники.
И вновь взгляд в ее сторону, уже не просто холодный, а ледяной. «Неужели я до конца моих дней буду его дразнить», – подумала Сабина. Еще несколько лет назад ответом на такие слова стала бы сдержанная улыбка или самое большое вопросительно выгнутая бровь. Теперь же от его голоса могла покрыться ледяной коркой ячменная вода в ее кубке.
– Я ведь не спрашиваю у тебя, чем занимаешься ты.
– О, ты только этим и занимаешься.
Еще одно изменение в их отношениях за последние годы. Куда ты ходила? Кого ты видела? Почему ты улыбнулась?
– Неправда, – возразил Адриан. – Я лишь проверяю твое благоразумие.
Резким движением он скатал свиток и потянулся за новым. Сабина не спускала с него задумчивых глаз, отпивая из кубка с ячменной водой. Розовый свет на стенах триклиния сменился золотистым. Внизу, на улице, был слышен скрип колес. Город оживал, чтобы до вечера напоминать о себе своими звуками.
Адриан снова поднял глаза.
– Мне не нравится, когда ты это носишь. – Он указал на ее запястье, украшенное необычным браслетом, сделанным из тонкой, завязанной узелками веревки.
– А мне нравится.
– Он на вид варварский.
– Он и есть варварский.
Сабине его подарила одна колдунья в Паннонии. Более того, Сабина любила Паннонию, ее поросшие лесом равнины, глубокие быстрые реки, местных жителей с их непроницаемым взглядом, которые пили смертоносную сабею, как будто то было молоко. Паннония таила в себе множество тайн, здесь предстояло сделать немалую работу – Сабина в этом даже не сомневалась. А каких трудов, каких уловок ей стоило выпросить у Адриана средства на постройку госпиталя в Виндобоне! И как назло, когда закладывался фундамент, пришло время возвращаться в Рим. Теперь ей снова придется поселиться в высоком и узком доме Адриана на Палатине, с его белыми мраморными стенами, геометрическими фризами и немыми рабами.
– Я вчера купила книгу, – сказала она. – Новые стихи того самого поэта, о котором все говорят. Аммиана. Мне кажется, тебе не понравятся его метафоры, хотя порой он изъясняется весьма оригинально.
Адриан что-то быстро набросал на восковой табличке.
– Мне некогда читать.
– Это не в твоем духе.
– Я теперь консул, и на меня возложены куда более важные обязанности.
– Но раньше ты всегда находил время для книг, независимо от того, кем был.
Адриан не удостоил ее ответом. Вместо этого он продолжил разглаживать воск на табличке, стирая написанное, чтобы начать заново. На большом пальце под ногтем у него запеклась кровь. Заметив это пятнышко, Сабина задалась вопросом, что увидела в его глазах олениха, когда он склонился над ней с ножом, чтобы перерезать ей горло. Когда они только поженились, Адриан ходил на охоту примерно раз в неделю: стоя на колеснице, он с азартом преследовал оленей. В Паннонии он охотился на волков уже через день, для чего держал свору свирепых гончих псов местной породы. И вот теперь у него не было времени на чтение когда-то столь любимых им греческих поэтов! И это при том, что на охоту он отправлялся каждый день. Сама не зная почему, Сабина привыкла вставать с зарей, чтобы встретить его, и всякий раз задумчиво смотрела на улыбающееся, забрызганное кровью лицо мужа.
– Император ничего не говорил тебе про Парфию? – неожиданно спросил Адриан.
– Он планирует поход в следующем году, – ответила Сабина, убирая за ухо выбившийся локон. – По его словам, он пока не решил, какие легионы взять.
– Мне он этого не сказал, – раздраженно бросил Адриан.
– Просто он все еще обдумывает свой план.
– Коль вы с ним так часто проводите время в беседах, не могла бы ты сказать ему, что я готов командовать легионом. Желательно Третьим Парфянским.
– Но почему? – подняла голову Сабина. – Мне казалось, ты не был сторонником вторжения в Парфию.
– Я и сейчас им остаюсь, – ответил Адриан. – Это будет напрасная трата времени и денег. Но тогда я смогу стать наместником Сирии.
– Сирии? – Сабина подперла кулаком подбородок. – А вот это было бы приключение! Горы, палящий зной… Мне давно хотелось увидеть Пальмиру. Помнится, ты говорил, что ее называют Невестой Пустыни.
– Тебя я в Сирию не возьму. – Адриан сделал последний штрих и отложил табличку в сторону. – Вернее, возьму, но при одном условии: что ты пообещаешь мне, что не станешь позволять себе того, что позволяла в Дакии и Паннонии. Не станешь совершать вылазки по лесам и полям, не станешь возвращаться домой с грязными ногами и водиться с простонародьем, дабы не позорить меня. Честное слово, мне порой бывает за тебя стыдно. Супруга губернатора должна иметь безупречную репутацию.
Сабина со стуком поставила кубок.
– Тебе самому нравились эти вылазки. Они помогали ближе узнать страну, помогали понять, что нужно сделать.
– Консул должен держаться с большим достоинством. Равно как и его супруга. К тому же Сирия – это тебе не Паннония с ее дремучими лесами. Там за нами чужие глаза будут следить гораздо пристальнее.
– Если мы попадем туда, – холодно уточнила Сабина. – Хорошо, я замолвлю за тебя словечко перед Траяном, чтобы он выделил тебе легион, коль ты горишь таким желанием. Но я не могу обещать, что он меня выслушает. Потому что Луций Квиет тоже не прочь получить под свое начало Третий Парфянский и, похоже, не остановится ни перед чем.
– А еще он не прочь заполучить тебя.
– Неужели? – пальцы Сабины машинально сжали кубок. Сама она мгновенно насторожилась и замерла словно олень, почувствовавший приближение охотника.
Адриан же даже не поднял глаз от табличек.
– На прошлом пиру у императора Квиет не сводил с тебя глаз.
– И?
– Может, ты сможешь чем-то помочь мне через него?
Сабина вопросительно подняла брови.
– Он бербер, – пояснил Адриан, просматривая свитки. – А у берберов горячая кровь. И слово, оброненное на подушку, может сделать свое дело.
Сабина не нашлась, что на это сказать, и какое-то время сидела молча.
– То есть ты хочешь положить меня ему в постель? – спросила она наконец. – А что на это скажет императрица Плотина?
– Разумеется, она придет в ужас. Как добропорядочная супруга. Ну а поскольку у меня таковой нет, почему бы мне не использовать себе во благо иные твои таланты?
– При условии, что я соглашусь.
– Что-то я не замечал за тобой особой разборчивости, – равнодушно ответил Адриан. – Не понимаю, чем тебя не устраивает бербер?
Сабина соскользнула с кушетки, отдала кубок рабу и вышла вон.
– Как он посмел! – возмутилась Кальпурния. – Наглец! А ведь я когда-то пыталась тебя предостеречь, Вибия Сабина.
– Верно, пыталась, – Сабина скрутила в узел волосы и со злостью скрепила шпильками.
– Мне он никогда не нравился, – поддакнула Фаустина, гордая своей прозорливостью. – Ты дала ему пощечину? Ну, когда он это сказал? Я бы точно дала.
– Нет, – ответила Сабина. – Хотя удержалась с трудом.
Сбросив с плеч платье, она шагнула в парной туман кальдария. Мачеха последовала за ней. Последней, скромно завернувшись в полотенце, шла ее младшая сестренка.
– А что дальше? – не унималась Фаустина. – Расскажи, что было дальше.
– Только не в присутствии младшей сестры! – вмешалась Кальпурния. После нескольких родов мачеха Сабины заметно округлилась, однако светлые волосы по-прежнему ниспадали роскошной волной, а лицо освещала приятная улыбка. – Иначе она наотрез откажется выходить замуж.
– Неправда, не откажусь! – возразила Фаустина. – Наоборот, Сабина, скажи матери, чтобы она выдала меня замуж прямо сейчас. Я не хочу ждать еще два года!
– Тебе всего шестнадцать. Тебе рано замуж. Вот Сабина вышла в девятнадцать.
– Причем к девятнадцати у меня уже имелся большой опыт, – согласилась Сабина, вспомнив про Викса.
– Неужели? – удивилась Фаустина. Теперь это была стройная, высокая девушка. От отца ей достались темные глаза, от матери – роскошные светлые волосы. Какая красавица, отметила про себя Сабина, поймав себя на том, что привыкла думать о Фаустине как об одиннадцатилетней девочке, худенькой и угловатой. Прошло всего несколько лет, и вот теперь перед ней была сама Венера.
«А ведь еще вчера Фаустина примеряла мои платья, сетуя на то, что она такая маленькая!»
– Вижу, вы девушки готовы сплетничать о своем, не обращая внимания то, что я думаю по этому поводу, – заявила Кальпурния. – Постарайтесь не перегреться. Лично я, пожалуй, поплескаюсь в бассейне.
Фаустина едва дождалась, когда мать выйдет вон.
– Расскажи мне все, как было, – умоляла она Сабину. – Твой муж хочет, чтобы ты спала с его приятелями? Я же говорила тебе, что он мне никогда не нравился! Давай, рассказывай, и как можно подробнее.
– А ты не боишься, что будешь потрясена тем, что я расскажу?
– О, еще как! Но мне действительно хочется знать. Все самое интересное, самое волнующее всегда происходит с тобой, а вот со мной – никогда.
– Знаешь, когда твой собственный муж хочет положить тебя в постель к другому мужчине – в этом нет ничего волнующего.
Сабина выразительно посмотрела на младшую сестру: от малышки Фаустины ничего не осталось, за исключением золотого амулета в виде сердечка, который обычно носили на шее незамужние девушки. Этот амулет будет снят в то утро, когда Фаустина выйдет замуж. Может, ей стоит заранее сказать, что муж – это не просто поздравление и красная фата, но и многое другое.
– Адриан тревожит меня, – призналась Сабина, задумчиво глядя сквозь пелену пара. На другом конце кальдария компания немолодых матрон о чем-то сплетничали за розовым вином. А чуть поодаль парочка молодых девушек перешептывались о своих любовниках. «Здесь, в сизом тумане парной, с языка на язык переходило больше секретов, – подумала Сабина, – чем во всем остальном Риме». – В последнее время он сильно изменился.
– Это как? – Фаустина убрала с шеи влажные пряди.
«Казалось бы, такая мелочь, – заключила Сабина, – стоит произнести ее вслух, как она покажется полным абсурдом».
– Он стал меньше читать, – наконец сказала она. – Раньше он только и делал, что читал философские труды, делал архитектурные наброски, ездил в Афины. Теперь же он хочет стать губернатором Сирии. Императрица Плотина уже давно вкладывала ему в уши такие идеи, и вот теперь он, похоже, стал к ним прислушиваться.
– Честолюбивые матери, – с пониманием кивнула Фаустина. – Мама предупредила меня о них, когда ко мне стали заглядывать женихи. «Выбирай себе мужа без матери», сказала она мне.
– Императрица Плотина ему даже не мать.
– Что, согласись, еще хуже, – тоном умудренной женщины произнесла Фаустина. – Мать по крайней мере вынуждена иметь дело с собственным ребенком. Но эти бездетные женщины, они хватаются за молодых людей, чтобы потом понукать ими, как лошадьми. Тебе не кажется, что на самом деле они предпочли бы любовников, но они берут приемных сыновей, которым потом начинают проедать мозг.
– И где только ты набралась такой мудрости?
– Тебе понравились мои речи? Отлично. Я не отказалась бы стать мудрой и всезнающей, – Фаустина довольно поболтала ногами. – Но я хочу знать другое. Императрица Плотина, она на самом деле такая добродетельная супруга? Ни за что не поверю, что все эти годы она блюла себя, ни разу не оступившись, не сойдя со своего пьедестала.
– Пока что никаких признаков падения я не замечала, – со вздохом ответила Сабина. – Безусловно, Плотина – ходячее воплощение добродетели. Как и Адриан. По крайней мере она этого от него ждет.
Правда, теперь он ходит на охоту каждый день, упрекает жену в распутстве, а сам готов подложить ее в постель к своему сопернику.
– Лично я понимаю, в чем тут дело, – заявила Фаустина. – Тебе не нравится Адриан: разведись с ним. Император так любит тебя, что непременно даст согласие. Ты можешь вернуться домой и жить с нами. Но помоги мне выбрать мужа.
Сабина задумалась над предложением сестры. А ведь и впрямь заманчиво! Вновь спать в своей девичьей спальне, сплетничать с сестрой, поближе познакомиться с тремя сводными братьями, которых Кальпурния произвела на свет после Фаустины и Лина. Каждый вечер за ужином обсуждать с отцом книги. Кстати, отец в последнее время заметно постарел, хотя все еще важная фигура в сенате.
– Боюсь, что не смогу.
– Но почему? – Фаустина огляделась по сторонам. – У тебя есть любовник? – шепотом поинтересовалась она.
Сабина опешила.
– О боги, Фаустина, каких только сплетен ты не наслушалась!
– Если верить слухам, ты или весталка или переспала с целым легионом солдат, – чистосердечно призналась Фаустина. – Жду не дождусь, когда нечто подобное начнут говорить про меня.
– Целый легион, говоришь? – переспросила Сабина. – Интересно, откуда у меня столько времени? Честное слово, кроме Адриана моих мужчин можно пересчитать по пальцам.
– Вот и расскажи мне о них, – не унималась Фаустина. – Честное слово, я никому не скажу, даже родителями.
И она в клятвенном жесте подняла руку.
– Ну, хорошо. Есть кое-что, чего им лучше не знать, – Сабина подняла глаза к потолку. – Погоди, дай вспомнить. Был один претор, который красиво читал стихи. Правда, те, которые он писал сам, никуда не годились. Зато чужие он декламировал превосходно. У него был такой красивый голос. Затем был один коллега отца по сенату. Его имени называть не буду…
– Мне кажется, я знаю, о ком ты! – воскликнула Фаустина. – Он ведь на тридцать лет старше тебя!
– И что? Седина и остроумие могут быть неотразимы, – усмехнулась Сабина и пожала плечами, мол, подумаешь. Если в глазах Фаустины она распутная старшая сестра, то почему бы не сыграть эту роль? – До сенатора был один красавчик жрец из Дельф, когда мы с Адрианом жили в Греции. Он дал мне пожевать листьев лавра, и я, словно пифия, вдохнула пары, от которых закружилась голова, после чего я участвовала в оргии вместе с другими паломниками.
У Фаустины округлились глаза.
– Ты участвовала в оргии?
– Я бы тебе не советовала, – сказала Сабина. – После троих партнеров массовое соитие надоедает. Итак, скольких любовников я насчитала? Трех? Да, был еще один солдат. Самый лучший из всех четверых.
А вот эту историю лучше припасти на другой раз. Не хотелось бы, чтобы младшая сестра попробовала соблазнить кого-нибудь из стражников, охранявших их дом. Одной распутной дочери в семье более чем достаточно.
– Ну как, ты потрясена?
– Нет, – призналась Фаустина и покраснела.
– Даже Кальпурния не всегда была такой образцовой матроной, как сейчас, – добавила Сабина. – Она переехала к отцу за три недели до свадьбы. Помнится, тогда весь Рим перемывал ей косточки.
– Мама? – удивилась Фаустина. – Думаю, даже убеленные сединами старики в молодости нарушали правила.
– Ну, Кальпурния еще не старуха. Ей всего лишь сорок пять. Это еще не возраст.
– Сорок пять – это старость, – решительно заявила шестнадцатилетняя Фаустина.
– Наверно, все матери кажутся старыми в глазах своих дочерей, – сказала Сабина. – Но только не моя. А еще она была самой знаменитой распутницей во всем Риме после императрицы Мессалины.
– Неужели? А я и не знала, – призналась Фаустина. – Мне никто ничего о ней не рассказывал. Только рабы. Но если их послушать, она была настоящая Медуза.
– Она была в сто раз хуже Медузы и Мессалины вместе взятых. Иначе почему все с таким рвением вешают на меня ярлык шлюхи? В глазах людей я такая же, как и мать. Вои и все объяснение.
– Четыре любовника за десять лет не делают тебя шлюхой, – решительно изрекла Фаустина. – Тем более, если учесть вкусы Адриана.
– А что тебе известно про его вкусы?
– Рабы делятся со мной слухами. В том числе, и твои. Это самый верный способ быть в курсе дел. Адриан, как он может возражать. У него ведь у самого есть… мужчины.
– Когда-то не возражал.
В первые годы их брака Адриан никогда не задавал вопросов, с кем проводит время его жена, при одном условии, что Сабина будет соблюдать приличия и не запятнает его имя позором, став причиной публичного скандала или родив внебрачного ребенка. В остальном ее постель – это ее постель. Он даже не настаивал, чтобы она родила ему сыновей, как то обычно требуют большинство мужей. Но после Дакии тема любовников вдруг стала болезненной.
– Признайся, во время кампании ты приводила в свою палатку легионеров? – спросил он как-то раз, что называется, в лоб, и по обеим сторонам его рта залегли глубокие складки. Это случилось в ту ночь, когда Траян праздновал в Моге победу. Тогда он приказал ей блюсти себя, и она вышла за дверь в мокром платье.
– Трибун или офицер, человек равного с тобой положения – это одно, но грязный солдат – это уже выходит за рамки любых приличий. Так приводила или нет?
– Нет, – ответила Сабина, и это была чистая правда. Потому что в свою палатку они никого не приводила. Она вообще в ней не спала. Если она и спала где-то и с кем-то, то всего с одним солдатом. Если вы хотите, чтобы ваша ложь звучала убедительной, она должна содержать как можно больше правды. Помнится, тогда Адриан повернулся и зашагал прочь. И никогда больше не возвращался к этой теме.
«Но именно после той ночи начались все эти его вопросы, – подумала Сабина. – Где ты была? Куда ходила? Кого видела? Почему улыбнулась?»
– Скажи мне еще раз, – обратилась к ней Фаустина. – Лично мне Адриан не нравится. Отцу он тоже не нравится. Он не нравится самому Траяну. Тогда почему ты вышла за него замуж? Ты ведь могла выйти за кого угодно!
– Честно говоря, я не жалею, что вышла за него. – Сабина поднялась с места и потянулась. – Когда-то мы с ним вели такие замечательные беседы. – Она пыталась сохранить легкомысленный тон. – Даже сейчас я бы не сказала, что жить под одной крышей с Публием Элием Адрианом скучно.
Фаустина вопросительно посмотрела на сводную сестру.
– Тебе это так важно?
В следующий миг, наплававшись в бассейне, вернулась Кальпурния. От прохладной воды ее щеки раскраснелись.
– Ну как, девушки, еще не устали сплетничать? Сабина, если ты убедила мою дочь, что она должна или стать весталкой или сбежать с гладиатором, скажу честно, я на тебя рассержусь.
– Неправда, – возразила Фаустина. – Сабина дала мне немало ценных советов о семейной жизни. Согласись, что девушки должны брать пример со своих старших сестер.
– В разумных пределах, – уточнила Сабина. – Значит, у тебя появились женихи? Интересно было бы о них услышать.
Втроем они вышли из кальдария в соседний зал, где улеглись на мраморных плитах и подозвали к себе банщиц. Сабина и Фаустина легли рядом, и пока ловкие пальцы массажисток мяли им спины, переговаривались между собой.
– Есть один жених, его я называю его Нытик, и еще один претор, которого я называла Красавчик, потому что он… красавчик. Но однажды он попробовал меня поцеловать и засунул мне в рот язык так глубоко, что меня едва не стошнило, и с тех пор я называю его Тошнотиком.
Возможно, внешне Фаустина и была юной Венерой, но ее темные глаза светились отцовской проницательностью, под роскошными светлыми волосами скрывалось здравомыслие Кальпурнии. Так что у нее не возникнет трудностей, когда настанет момент выбрать себе мужа. Она наверняка предпочтет человека честного, разумного, надежного, такого, кто бы ценил и уважал ее.
Как жаль, что я не Фаустина, вздохнула Сабина. Прямая и трезвомыслящая. Фаустина никогда бы не влюбилась в бывшего гладиатора… чтобы потом выйти замуж за холодного, расчетливого политика с его занудной мамашей, которой до всего есть дело.
Адриан был таким не всегда, тотчас встала на защиту супруга вторая половинка ее «я». Вот если только знать, почему он так сильно изменился с тех пор!
(обратно)
Глава 18
Викс
Никто никогда не говорит вам, что это такое, стареть. Нет, я знал, что к тому времени, когда мне стукнет пятьдесят, у меня появится седина, а мои плечи начнут сутулиться. Но как несправедливо, уже в тридцать лет просыпаться с жуткой головной болью после всего двух кубков вина, в то время как в семнадцать я мог запросто выпить два кувшина, а на утро даже не вспомнить об этом. Увы, после ночи воспоминаний у Тита у меня было такое ощущение, будто в моей голове работает дюжина молотобойцев. Превозмогая шум в ушах и пульсирующую боль в висках, я кое-как влез в доспехи, дрожащими пальцами закрепил ремни, прицепил на шлем парадный плюмаж и вместе с курьером и его депешами потащился во дворец на прием к императору. Я уже забыл, когда последний раз бывал во дворце и не могу сказать, что я горел желанием попасть туда снова. Когда мне было тринадцать, я провел в его стенах несколько не самых лучших месяцев моей жизни, не то в качестве гостя, не то пленника, и потому был бы только рад, если бы представилась возможность никогда больше там не появляться. Но мраморные коридоры показались мне веселее, чем я их помнил. А может, все дело в шумной толпе рабов, вольноотпущенников и даже длинных очередях просителей, на лицах которых больше не было печати страха.
– Имя? – надменно спросил вольноотпущенник, когда мы с курьером переступили порог дворца.
– Верцингеторикс, аквилифер Десятого легиона в Могунтиакуме, и с ним курьер. – Я потрогал футляр с депешами, украшенный печатью нашего легиона. – У меня донесения для императора.
Вольноотпущенник явно ждал подношения, но я не сунул ему в ладонь ни единой монеты.
– Придется подождать, – холодно изрек он. – Перед вами вон какая очередь.
К императору мы попали лишь после полудня, и к этому времени хор молотов и наковален в моей голове звучал с удвоенной силой. Увидев Траяна, я невольно улыбнулся: загорелый, широкоплечий, в забрызганной чернилами тунике, он что-то быстро писал на восковой табличке, а вокруг него суетились секретари. И, честное слово, он улыбнулся мне в ответ.
– Верцингеторикс из Десятого! – воскликнул Траян, откладывая перо. Он помнил всех по именам, всех – до простого солдата. Стоит ли удивляться, что легионеры так любили его. – Клянусь Юпитером, не иначе как ты уже центурион!
– Стану им, как только откроется вакансия, Цезарь. По крайней мере мне так сказали.
– Отлично, отлично. Я велел легату повысить тебя, как только ты протрезвеешь. Потому что центурион из тебя будет – лучше некуда.
Неужели это так? Неужели свершится то, о чем я мечтал все эти годы? Шлем с гребнем, поножи, меч на другом боку, потому что мне больше не надо будет вытаскивать его, будучи в строю. Я спал и видел себя центурионом с того момента, как стал аквилифером, и вот теперь от этой мысли у меня вспотели ладони. Восемьдесят человек под моим началом. Интересно, станут ли они обзывать меня за моей спиной обидными кличками? Например, зверем, солдафоном или, наоборот, тюфяком? Будут ли ворчать, завидев мое приближение или тотчас вытягиваться в струнку? Будут ли хвалить меня, сравнивая с другими центурионами, или за моей спиной делать в мой адрес непристойные жесты и плеваться?
Впрочем, не все ли равно. Если Траян считает, что из меня выйдет отличный центурион, значит, так и будет. Даже если ради этого мне придется вывернуться наизнанку.
– Прими мою благодарность, Цезарь, – начал было я, но он жестом велел мне закрыть рот.
– Ерунда. Нам нужны хорошие офицеры. Особенно сейчас, когда я положил глаз на Парфию. Не хочешь пойти со мной?
Он тепло и вместе с тем пристально посмотрел на меня. Я выдержал его взгляд.
– Ты только скажи, Цезарь.
– Вот и отлично. Говоришь, привез депеши? Давай их сюда, – с этими словами он взломал печати и пробежал донесения глазами. – Надеюсь, вы не слишком скучаете в своем Моге?
– Нет, Цезарь. – Сказать по правде, вернувшись из Дакии, я опасался прокиснуть в германской грязи, но в последние годы вылазки даков снова участились, так что долго скучать не пришлось. – Я даже умудрился заработать несколько шрамов.
Траян потребовал, чтобы я их ему показал. И мне ничего не оставалось, как приподнять рукав и показать ему толстый рубец в том месте, где два года назад руку пронзило вражеское копье. Траян посмотрел на него с восхищением.
– Узнаю Дакию! Интересно, будет ли так же весело в Парфии?
– Возьми туда наш Десятый, Цезарь, и Парфия будет твоя уже через полгода.
Минут через пять – десять он выпроводил меня. Правда, подмигнув мне на прощание, добавил, чтобы я не слишком торопился возвращаться в Мог.
– Возьми себе отпуск на месяц, погуляй по Риму. Когда я закончу составлять приказы для Десятого, захватишь их с собой.
– Слушаюсь, Цезарь.
Отдав свой самый бравый салют, я резко развернулся на пятках. Головная боль хотя и напомнила о себе, однако терпеть удары молотов стало гораздо легче. И все благодаря воодушевлению Траяна, который взбодрил меня лучше, чем глоток воды в жаркий день.
– Любимчик императора, – усмехнулся курьер, пока мы с ним прокладывали себе путь по шумному коридору, битком забитому просителями. – Иначе, с какой бы стати легату посылать в Рим именно тебя? Он подумал, что если император тебя поимеет, то он скорее откликнется на нашу просьбу прислать нам новых инженеров. Так он поимел тебя?
– Нет.
– Не верю!
– Какая мне разница. Не хочешь – не верь.
Ни для кого не было секретом, что император питал слабость к красивым юношам, хотя и был женат на каменнолицей Плотине. Впрочем, его легко понять.
При желании я мог бы стать его возлюбленным. Как-то раз вечером, после того, как меня сделали аквилифером, я возвращался к себе со своим орлом. Траян, шедший мне навстречу, остановился, чтобы поприветствовать меня, по пути в свою палатку. Он, как обычно, похлопал меня по плечу, однако его рука задержалась на мгновение дольше положенного, а одна бровь выгнулась в немом приглашении. Признаюсь честно, отказ дался мне нелегко – не потому, что я никогда не спал с мужчинами или, наоборот, хотел с ним спать, и даже не потому, что это был император, и он мог сделать со мной что угодно, если я откажусь. Нет, я отказал потому, что любил его. Это был мой Цезарь, мой генерал, чьи приказы я привык выполнять. Так или иначе я, пробормотав что-то невнятное, мол, меня ждут мои обязанности, высвободил плечо из-под его руки. Траян, в свою очередь, стукнул меня по руке – похоже, без всякой обиды, – и пошел дальше, к одному из красивых молодых офицеров, что с радостью делили его ложе. А ведь не все императоры проявляли такое благодушие, когда им отказывали. Взять, к примеру, последнего императора, которому я служил в этом дворце. Жизнерадостный, хотя и не совсем в своем уме. Помнится, он любил насаживать мух на перо. Не могу сказать, что я горел желанием служить Риму, но императору – это совсем другое дело. По крайней мере пока у руля власти стоял такой человек, как Траян. На самом же деле, я был любимцем Траяна не потому, что я был не такой, как все, какой-то особенный, и даже не из-за моей внешности. Просто он предпочитал иметь рядом с собой таких людей, как я – молодого, энергичного солдата, которому в жизни не нужно ничего, кроме боевого похода и хорошего сражения в его конце. И таких любимцев, как я, у императора было немало, разбросанных по разным легионам в разных концах империи. Даже сейчас я с легкостью узнаю солдата Траяна – по глазам, по пружинящей походке, хотя все мы теперь далеко не молоды. Этакий дополнительный блеск, который мы приобретали, служа нашему императору.
А тогда он дал мне увольнительную на месяц.
Выйдя из дворца, я постоял в тени ворот, а заодно бросил взгляд на шумный город. Накануне я слишком устал с дороги, слишком проголодался и слишком увлекся разговорами со старым другом, чтобы задуматься о том, что я вернулся домой. Утром же молоты в голове бухали с такой силой, что почти ничего не замечал вокруг себя. И вот теперь я огляделся по сторонам. Со всех сторон меня обступали высокие здания. Прижимаясь друг к другу, их громады как будто нависали надо мной. Все это было странно и непривычно – особенно после нескольких лет в Германии, с ее раскисшими дорогами и дремучими лесами. Я стоял на ярком солнце, истекая под латами потом, и это тоже было странно. Потому что в середине лета в Моге лили дожди.
Не скажу, чтобы я в течение десяти лет, проведенных в Германии, скучал по Риму, но сейчас я все-таки с жадностью вдыхал римский воздух.
– Привет, старушка, – сказал я столице империи.
В ноздри мне ударили запахи дегтя, пива, жареного мяса, немытых тел, благовоний и кипучей жизни.
– Ну и вонища здесь, – проворчал курьер.
– И как тебе запашок? – весело отозвался я. – Кроме как здесь, такого нигде больше нет. Обожаю этот город.
– Здесь слишком жарко, – пожаловался курьер и удалился в поисках гостиницы.
– Ты идешь со мной? – крикнул он мне из-за плеча.
– Нет, надо кое-кому нанести визит.
На мой стук дверь открыла старая вольноотпущенница в платке и придирчиво окинула меня взглядом с головы до ног.
– Ты к кому?
Я снял шлем и представился. Не успел я договорить до конца, как ее лицо расплылось в беззубой улыбке.
– Ну конечно! Ну конечно! – и она пропустила меня внутрь. – Он уже давно ждет тебя. Постой минуточку…
Ждать долго не пришлось.
– Разрази меня Юпитер! – воскликнул я, высвобождаясь из медвежьих объятий. – Что случилось с тобой, Симон?
Я посмотрел на своего бывшего товарища по контурбернию, который первым ушел из армии. Симон отрастил курчавую бороду, волосы на голове тронуты сединой, сверху – шапочка. Вместо привычных лат, которые сидели на нем как вторая кожа, он на восточный манер был одет в халат с кисточками.
– Где тот, кто учил меня входить в учебный поединок правой рукой?
– Его нет, и притом давно, чему я только рад, – с этими словами Симон потащил меня дальше в дом. Я успел рассмотреть приятный, залитый солнцем атрий, такой же, как и во всех римских домах. В небольших кадках росли апельсиновые деревья, широкие резные двери вели в просторные комнаты. Впрочем, не успел я войти, как из этих дверей в атрий тотчас начали стекаться любопытные.
– Вот уж не рассчитывал увидеть тебя так скоро, – Симон, все так же улыбаясь, похлопал меня по плечу. – Ты только что прибыл?
– Прыщ, Юлий и Филипп съели бы меня заживо, узнай они, что я не зашел проведать тебя. – Я покосился на толпу любопытных, которая росла буквально на глазах. Многие были похожи на Симона – та же борода, те же темные глаза. – Это твои родственники?
– Все до единого! Это моя племянница Мира, а это ее брат Веньямин.
Мне навстречу вышла симпатичная веснушчатая девушка и маленький черноволосый мальчик, которого Симон тотчас подбросил в воздух, а девочку ласково потрепал по щеке, сказав что-то по-еврейски. После чего вновь обратился ко мне на латыни.
– А это мой брат Исаак, его жена Хедасса, мои двоюродные братья… – за этим последовали новые имена, новые лица, новые приветствия. Слегка ошарашенный, я раздавал кивки, а сам думал о том, какие они сейчас, мои собственные сестры. Одну я видел, когда она еще была в колыбели, другую не видел вообще. Интересно, волосы отца уже совсем поседели? А мой брат, он хотя бы сколько-нибудь похож на меня? Иногда я с оказией посылал письма родителям в Британию, а еще реже мне приходил ответ – помятое письмо, написанное красивым материнским почерком. Последнее, что я слышал от них, так это что жизнь в их горах прекрасна и безмятежна, отец по-прежнему терзает свой сад и учит брата боевым приемам, а мои сестры – веселые, длинноногие девчушки. Кто знает, когда я увижу их снова? Служить мне оставалось еще десять лет. Надеюсь, что к тому времени моя мать еще будет жива, чтобы вновь заключить меня в теплые, материнские объятия.
– Здравствуй, Верцингеторикс, – поприветствовала меня немолодая женщина. – Мой Симон много о тебе рассказывал. Ты должен сегодня вместе с нами отпраздновать шаббат. Симон говорил, что ты ведь тоже еврей?
Женщина задержала взгляд на татуировке на моей левой руке: там был изображен орел с распростертыми крыльями. Клюв раскрыт в победном клекоте. Я сделал себе ее после триумфа в Дакии.
– Да, моя мать еврейка, – признался я, понимая, что мои слова слышат бесчисленные дядья и двоюродные братья.
– Значит, и ты тоже еврей, – сказала женщина, как будто подводя итог. Наверно, я ожидал от еврейского дома большей экзотики. Некоторые легионеры из нашего Десятого служили в Иудее. От них я наслышался об этой стране самых нелестных отзывов, мол, засушливая знойная задница мира, в которой живет шумный, вспыльчивый народец. Правда, я старался пропускать мимо ушей самые невероятные байки: мол, евреи отрезают своим новорожденным мальчикам члены. И все же я ожидал встретить в доме Симона что-то иное, нечто более восточное, совершенно непривычное. Увы, его семейство – стоило мне привыкнуть к числу людей – мало чем отличалось от любой римской семьи, с которыми мне доводилось делить трапезу. Дом тоже был самый обыкновенный, возведенный вокруг квадратного атрия. Как и просторный триклиний с его стилизованными фризами из виноградных гроздей и чаш. Как и слуги из числа вольноотпущенников, которые забрали у меня плащ. Ну, разве что здесь было больше бородатых мужчин, а женщины закрывали головы яркими платками. В остальном это был зажиточный римский дом. Впрочем, нет, одна разница все же была. За столом меня усадили на почетное место, однако многочисленные сморщенные тетушки и бабушки, да и дети тоже, смотрели на меня как на существо из сказочного мира, как будто у меня вот-вот вырастут рога. Какой-то маленький мальчик указал на меня пальцем, и сестра – та самая веснушчатая девушка, которую Симон представил как свою племянницу – поспешила одернуть его. Когда же я повстречался с ней глазами, она потупила взор, как и положено воспитанным девушкам. Правда, что касается меня, то в последние годы мне почти не попадались воспитанные девушки. Лишь веселые и крикливые офицерские жены, и германские шлюхи, с которыми я проводил время в Моге.
Кушетки поставили полукругом, как обычно на вечеринках, с той разницей, что здесь имелись места и для детей, чего не встретишь в римских домах. Слуги обходили кушетки, подавая вино и блюда с угощениями. Я было потянулся за хлебом, но Симон подтолкнул меня в бок. И тогда до меня дошло, что его мать по-еврейски читает какую-то
молитву и исполняет некую церемонию со свечами. Я поспешил склонить голову, однако молитва оказалась короткой.
Нам подали рыбу, жареного ягненка и снова вина. Через какое-то время последовали новые молитвы, и, что удивительно, я разобрал половину еврейских слов. Правда, ради меня всеобщая беседы шла на латыни. По мере того как наши кубки наполнялись снова и снова, несколько юных племянников начали жаркий спор об Иудее, о том, как жестоко обошелся с их страной Рим. Интересно, подумал я, если Рим был столь жесток, то почему они сейчас живут здесь, если не в роскоши, то в достатке? Но Симон согласно им кивал. В эти минуты он вновь напомнил мне бравого солдата, каким я его знал – этакая неприступная скала, прошагавшая справа от меня весь поход. Затем разговор пошел о том, что возможно ли заново отстроить Иерусалим. Я рискнул вставить свое слово.
– У вас будет такая возможность, – обратился я к одному из юных бородачей. – Вскоре император поведет легионы в поход в Парфию. И ему не будет дела до того, кто чем занят в Иудее.
– Вот как? – удивился племянник и посмотрел на орла у меня на руке. – Скажи, а что такого Парфия сделала императору, что на нее нужно идти походом?
Я не мог говорить за Траяна, но сам был не прочь отправиться в Парфию, хотя бы потому, что устал маяться бездельем. Правда, говорить об этом здесь я не стал и вместо ответа предпочел впиться зубами в баранью ногу.
– Значит, теперь настала очередь Парфии, – произнес другой племянник, подливая себе в кубок вина под неодобрительными взглядами матери. Похоже, что даже примерные еврейские юноши иногда напивались допьяна, к великому огорчению своих матерей. – Вскоре Масада узнает, что это значит.
Я тотчас вскинул голову. Название Масада было мне знакомо, причем очень хорошо. С кушеток раздались вздохи. Симон потемнел лицом, а его симпатичная веснушчатая племянница сделала жест, который тотчас же напомнил мне мою мать: она как будто отгоняла печаль.
– Масада – это наша трагедия, – пророкотал басом брат Симона со своей кушетки во главе стола. – Ее нельзя упоминать в субботу.
– Масада это не только трагедия, – произнес я.
Все посмотрели в мою сторону. Я с вызовом откусил еще от бараньей ноги.
– Целый город был мертв по вина Рима, – сказал бородатый племянник и холодно посмотрел на меня. – Погибли все, до последнего ребенка. Разве это не трагедия?
– Это не только трагедия, но и триумф.
– Откуда тебе это знать?
– Там была моя мать.
Повисло молчание. Я поднял глаза и обвел взглядом притихшие кушетки.
– В чем дело?
– Там никто не выжил, – наконец произнес Симон. – Ни единая душа. Это известно всем.
– Моя мать выжила.
Молчание сделалось еще более тягостным, и между нами словно выросла стена. Казалось, даже служанки испуганно застыли на месте со своими блюдами и кувшинами.
Никто не проронил ни слова, а вот глаза присутствующих продолжали пристально смотреть на меня. Я оттолкнул свою тарелку и, откинувшись назад, оперся о локоть. Эту историю я слышал всего один раз, когда мне было лет десять. Моя мать рассказывала ее кому-то еще, пока я играл рядом. Мне запомнились ее слова:
– Масада – это был твердый орешек. Крепость, полная мятежников, запасов воды и провианта. Она держалась долго, отказываясь сложить оружие перед римлянами. Поскольку те не могли взять крепость измором, они построили насыпь к ее воротам и подтянули осадную башню. Причем использовали для этого подневольных евреев рабов, зная, что осажденные никогда не рискнут лить горячий деготь и бросать камни на головы своим соплеменникам.
Неожиданно веснушчатая девушка встала, сняла с кушетки темноволосого малыша и, посадив его себе на бедро, подозвала к себе остальных детей. Вслед за ней они гуськом вышли за дверь. Я выждал какое-то время. Вскоре девушка вернулась и вновь опустилась на ложе.
– Мира, – строго произнесла мать, – твоим ушам рано слушать такое.
Однако девушка, обведя глазами присутствующих, посмотрела в мою сторону. Я вновь обрел голос, пусть даже для этого мне пришлось собрать волю в кулак.
– Римляне внизу уже ликовали, предвкушая победу. Утром они возьмут город, сожгут, разорят, пленных мятежников закуют в цепи и отправят в Рим, где они будут проданы в рабство.
Чернобородый племянник сплюнул.
– Внутри Масады мятежники созвали всеобщую сходку. Пришли все, и мужчины, и женщины. Не было только моей матери. Ей было всего шесть лет, но позднее она поняла, что там случилось. Отец вернулся домой и долго о чем-то разговаривал с матерью в спальне. Когда он вышел, лицо его было белым, как мел. Позади него на полу лежало тело.
Моя бабушка. Я почему-то только сейчас об этом подумал.
– Отец плакал. Он велел моей матери и ее сестре подойти к нему, но моя мать, увидев в его руке нож, испугалась и убежала. Правда, она успела заметить, как сестра подошла к отцу и, взяв у него из рук нож, сама лишила себя жизни. Потому что он сам не мог этого сделать. Сестре было четырнадцать.
Останься она жить, она была бы моей теткой. Напротив меня веснушчатая девушка по имени Мира прикрыла ладонью рот. Ей явно было не намного больше, чем той мертвой девушке.
– Моя мать убежала в соседний дом, – продолжил я свой рассказ. – Но во всех домах картина была та же самая. По взаимному согласию – и мужчин, и женщин – отцы пришли домой, чтобы уничтожить все, что имело хоть какую-то ценность и… убить свои семьи. После чего мужчины собрались на площади, чтобы тянуть жребий. Так были выбраны десять мужчин, которые должны были лишить жизни остальных. Затем они снова вытянули жребий – один из этих десяти должен был убить оставшихся девятерых, а потом себя. Поэтому, когда римляне вошли в город, грабить там было нечего. В живых тоже не было никого. Ни женщин, которых можно было насиловать, ни мятежников, которых закованными в цепи можно провести по улицам Рима. Это мертвый город, правда, полный запасов пищи. Евреи специально не стали их уничтожать, чтобы враг понял: голод защитникам крепости не грозил.
Я обвел взглядом своих сотрапезников.
– Их добровольная смерть была вызовом римлянам.
– Для нас самоубийство – великий грех, – возразил чернобородый племянник. Правда, осуждения в его голосе я не услышал.
– Именно поэтому они и тянули жребий, – ответил я. – Чтобы себя убил лишь один из них.
Впрочем, я не мог не думать о том, сколько все же предпочли сами наложить на себя руки, как моя юная тетя, когда их отцы не смогли найти в себе сил. Я представил, как я подношу меч к горлу сынишки Деметры, как он доверчиво смотрит на меня, и эта картина заставила меня вздрогнуть.
– И все-таки это грех, – повторил бородатый племянник. – Они не должны были этого делать.
– Чтобы затем стать рабами? – Я в упор посмотрел на него, и он отвел взгляд. – Моя мать была рабыней. Ей и еще горстке детей удалось убежать, но в конце концов в живых осталась только она. Поверьте мне, потом она не раз пожалела, что осталась в живых. – Я обвел взглядом обитателей дома. – Я тоже был рабом. Скажу вам честно, это не жизнь.
И вновь гробовое молчание. Почувствовав, как мой сосед по кушетке Симон весь напрягся, я укорил себя в душе, что испортил им ужин. Вечно я все делаю не так.
– Думаю, об этом хватит, – бодрым голосом произнесла мать Симона. – В конце концов сегодня суббота.
– Нет, потому что сегодня суббота, мы должны почтить их память, – возразила девушка по имени Мира, чья кушетка была напротив моей. Ее голос прозвучал негромко, но сильно. В глазах ее застыли слезы. – Он прав. Масада – это триумф.
– Не совсем…
– Они ушли из жизни так, как сами захотели, лишив римлян победы. Разве это не триумф? – Мира вопрошающе посмотрела на меня. – А что стало с твоей матерью?
– В конце концов она обрела свободу, – произнес я, осторожно подбирая слова. – Она до сих пор жива. У нее дом на высокой горе, в котором она живет вместе с моим отцом. У них есть дети помимо меня.
– Тогда и Масада тоже жива. – Мира подняла кубок. Я в ответ поднял свой. На какой-то миг вновь воцарилась тишина, но затем Симон тоже поднял свой кубок и что-то сказал по-еврейски. Его слова прозвучали резко, но когда я посмотрел на него, его глаза сверкали как факелы.
Суббота закончилась. Но семья Симона не спешила расходиться. Все они сгрудились вокруг меня. Женщины теребили меня за руку, пылкие юные племянники требовали от меня подробностей обороны крепости, и даже брат Симона, этот суровый патриарх, дружески сжал мне плечо. Мать Симона со слезами на глазах пригласила меня в гости на следующей неделе, правда, уже не в римский дом, а в загородную виллу. Невидимая стена, разделявшая нас, рухнула.
– Извини, если что не так, – сказал я Симону, когда мы с ним остались наедине. – Честное слово, я не хотел испортить вам шаббат.
– Ты ничего не испортил, – заверил он меня. – Наоборот, поведал прекрасную историю. Викс, я тебя знаю уже десять лет, но ни разу ее от тебя не слышал.
– Это было так давно…
– Это было вчера…
Голос его звучал с такой яростью, что я вопросительно поднял брови.
– Но если Рим так поступил с твоей семьей, – спросил он меня со всей страстью, – во имя всего святого, ответь, почему тогда ты ему служишь?
– Единственное, что я умею, это держать в руках меч, – ответил я, не зная, что еще ему сказать. – Для такого, как я, выбор мал: или легионы или арена. Но на арену я больше не хочу.
Симон вперил взгляд в темноту, хотя я был готов поклясться, что он ничего перед собой не видит.
– Несчастные евреи, – голос его звучал одновременно гордостью и негодованием. – Они покинули этот мир по собственной воле.
– Да.
– Чего еще можно себе пожелать?
Я обвел глазами темный атрий. Светильники отбрасывали на стены теплый, желтый свет, апельсиновые деревья в кадках источали нежный аромат. И я подумал, что себе можно пожелать массу других вещей, однако предпочел не спорить с Симоном на эту тему, тем более, учитывая его настроение. Я почему-то подумал о том, что мне предстоит вернуться в Мог, в пропахшую потом казарму, где затем несколько месяцев дожидаться похода в Парфию, и на меня накатилась страшная усталость.
В темноте кто-то взял меня за руку. Я повернулся: на меня смотрело хорошенькое личико с веснушками на носу. Племянница Симона, Мира. Крупный рот, огромные глаза, волосы прикрыты белым платком.
– Спасибо, – сказала она, но не найдя больше слов, лишь покачала головой, которая доставала мне лишь до плеча. Затем, еще раз молча пожав мне руку, она повернулась и зашагала назад в дом. Я посмотрел ей вслед, и мне почему-то захотелось узнать, какого цвета у нее волосы.
Плотина
Человек перед ней исходил потом. Плотине это нравилось. Мужчинам пристало нервничать в присутствии богинь. Именно так и должно быть. А кроме того, это значительно облегчало жизнь самой богине.
Человек облизал пересохшие губы.
– Я ничего не понимаю.
– По-моему, Гай Теренций, ты все отлично понимаешь. – Плотина подтолкнула через стол табличку, чтобы на нее взглянул ее собеседник, пухлый, чиновник в парике. – Мои секретари обратили мое внимание на кое-какие расхождения в цифрах, и я решила проверить их сама. Ты прикарманивал деньги, выделенные на строительство общественных бань.
Гай Теренций обвел глазами стены ее кабинета. В прошлом году Плотина велела снять с них веселые тканые гобелены. Теперь они были голые, как в каком-нибудь храме: никаких украшений, лишь темный африканский мрамор. Плотина догадывалась, как давит сейчас эта чернота на испуганного потного чиновника.
– Госпожа, уверяю тебя…
– Прошу тебя, избавь мои уши от заверений в твоей невиновности, – Плотина помахала рукой, и ее обручальное кольцо сверкнуло в свете лампы. – Телега с лесом здесь, заказ на мрамор там. Но ни то ни другое почему-то не дошло до места. Зато в твои карманы, Гай Теренций, перекочевали несколько сестерциев.
По шее чиновника сбежал ручеек пота.
– Госпожа, – прошептал он, – я уеду из Рима…
– Разве я просила тебя об этом? – императрица посмотрела на себя в зеркало на противоположной стене, над головой у мошенника, и осталась довольна своим отражением. Выражение лица подобающее таким моментам – холодное, неодобрительное, царственное, однако не беспощадное. Именно так она взирала на провинившегося чиновника с высоты своего кресла, чем-то напоминая статую Юноны в храме Юпитера. Та тоже свысока взирала на тех, кто пришел просить ее милости. «Мне не хватает лишь ее диадемы».
– Думаю, ты можешь сохранить свою должность, Гай Теренций, – продолжала Плотина. – Но взамен я попрошу от тебя одну услугу.
– Что угодно, госпожа! – Гай Теренций рухнул на колени.
– Долю тех средств, что ты прикарманиваешь на строительстве бань, – видя растерянное выражение его лица, Плотина улыбнулась уголками рта, – давай разделим пополам. Половина тебе, половина мне. Как ты понимаешь, управлять империей – дело весьма накладное.
Затем они еще несколько минут обсуждали детали, после чего потный чиновник покинул кабинет. Плотина же взяла со стола табличку и аккуратно вычеркнула имя Гая Теренция. Там были и другие имена, но они могут подождать.
Помнится, она страшно нервничала в первый раз. Но с каждым новым разом это давалось ей все легче и легче. Да и вообще, что дурного в том, если зарвавшийся чиновник раскошелится на благое дело? Поступай она так ради своей собственной выгоды, да, ей не было бы никаких оправданий. Но она печется о благе Рима.
Плотина вновь бросила взгляд в зеркало.
– В некотором смысле это мой долг, – сказала она, обращаясь к собственному отражению. – Ведь, согласись, теперь, когда он стал консулом, дорогому Публию требуются средства, и немалые.
Сабина
Сабина дождалась, когда из спальни мужа выскользнет темноволосый вольноотпущенник с плечами Аполлона и на цыпочках удалится по коридору. Как только тот ушел, она распахнула дверь и вошла. Адриан растерянно заморгал. Он лежал на подушках, и на его голых плечах блестели капельки пота. Лампы отбрасывали неяркий свет на смятое покрывало, на высокий лепной потолок, на статую греческого воина в углу, застывшего метающим копье.
– Довольно неожиданный визит, – произнес Адриан, придя в себя.
Облаченная в просторное белое платье, Сабина пересекла комнату и присела на край постели.
– Давай поедем в Афины, – предложила она. От нее не скрылось, что всего за пару минут она успела удивить мужа как минимум дважды.
– Что?
– Забудь про Парфию, – сказала она. – Забудь про то, что ты хотел стать наместником Сирии. Забудь про то, что ты консул. Давай поедем в Грецию. Мы ведь давно уже об этом мечтали. Афины, Коринф, Спарта. Островки с белыми утесами в окружении лазурного моря. Давай сядем на корабль и поплывем в Трою. Лишь бы только уехать из Рима.
На какой-то миг ей показалось, будто взгляд его вспыхнул огнем. Тем самым задорным огнем, какой она видела в его глазах, когда он, от восторга махая руками, отдавал себя во власть чудес и загадок этого мира. Но затем он вновь посмотрел на постель и расправил смятые простыни. Взор его тотчас потух, брови насупились.
– Может, в будущем. Но только не сейчас.
– Но почему нет? Только не говори мне, что ты предпочитаешь спорить в сенате с упрямыми стариками, вместо того, чтобы верхом на муле ехать в Дельфы, чтобы посмотреть на Оракула. Неужели тебе этого не хочется?
– Дело отнюдь не в том, чего мне хочется, а чего нет.
– Значит, оно в том, чего хочет Плотина? – Сабина вопросительно выгнула бровь. – Я думала, Публий Элий Адриан, что ты взрослый мужчина и хозяин своим поступкам.
– При чем здесь Плотина! Она всего лишь помогает мне добиться того, что принадлежит мне по праву.
– И что же это такое? Третий Парфянский легион? Сирийское наместничество?
– Это и многое другое.
Адриан потянулся за свитком, лежащим на прикроватном столике, и развернул его. Сабина наклонилась к нему и ладонью закрыла написанное. Адриан раздраженно вздохнул.
– Между прочим, я впервые за много недель вижу тебя с книгой в руках, – игривым тоном сказала Сабина.
– Мне было не до чтения.
– Ну, раньше тебе хватило времени на все, и на книги тоже, – заметила Сабина как можно мягче. – Почему ты так изменился? В чем причина?
– Разве я изменился?
– Когда-то ты разговаривал со мной.
– Когда-то ты были мне интересна.
– Только не думай, Адриан, что, обидев, ты заставишь меня отступиться. Я не настолько тебя люблю, чтобы ты мог меня обидеть. – С этими словами она потянулась и взяла в ладони его большую руку. – Но это не значит, что ты мне безразличен. И я точно знаю, что ты несчастлив.
Адриан убрал ее руки и резко встал, чтобы надеть тунику. В неярком свете ламп Сабине было видно, как играют под кожей литые мускулы. «Как божественно сложен мой муж, – подумала она. – Какой он стройный и сильный. Впрочем, неудивительно, ведь он каждый день тренирует тело на охоте».
– Что ж, может, я действительно не так уж и счастлив, – сказал он, затягивая на талии ремень. – И мне стоит отравиться в Грецию вместе с тобой, и пусть Луций Квиет командует Третьим Парфянским. Какой толк принимать участие в войне, в которой я не вижу смысла и которая мне безразлична.
– Неужели? – Сабина подтянула ноги и села, скрестив их, на кровати. – Скажи, почему?
«Скажи мне что угодно, о, муж. Главное, говори со мной».
– Боюсь, мне просто не предначертано судьбой проводить мои дни в странствиях по Греции или за чтением книг, – с этими словами он сложил на груди мускулистые руки. – Вот и все.
– Ах да, опять эта судьба. Помнится, ты говорил, что отлично знаешь, чего она ждет от тебя.
– Что я стану императором Рима.
Сабина посмотрела на мужа. В свете ламп его волосы и борода казались почти черными. От носа на щеку пролегла резкая тень. Взгляд его был тверд и спокоен, сам он застыл в ленивой, расслабленной позе, словно во сне, живое воплощение спокойствия и безмятежности.
– Когда я был мальчиком, для меня составили гороскоп, – произнес он, как будто между прочим, словно разговор шел о погоде. – Астролог сказал…
Сабина расхохоталась. Адриан весь напрягся, лицо его сделалось каменным. Ее смех тотчас оборвался, застряв где-то в горле.
– Астролог? Ты строишь свою жизнь, ты принимаешь решения на основе гороскопа?
– Большинство астрологов мошенники, но только не Несс, – возразил Адриан. – Я не помню случая, чтобы он ошибался в своих предсказаниях.
– Ах да, астролог императора Домициана. Ты рассказывал мне о нем. – Сабине было хорошо известно это имя, хотя знаменитый провидец уже давно отошел от дел. – Он якобы предсказал тебе, что ты повидаешь почти весь мир.
– Верно, так он и сказал. А также, что мне суждено стать императором.
– И поэтому Плотина вечно старается…
– Я не рассказывал ей про пророчество Несса. Я вообще никому о нем не рассказывал. – В его голос закрались странные нотки. – Я даже не знаю, зачем я это рассказываю тебе.
– Ну, это не такой большой секрет, – пожала плечами Сабина. – Подумаешь, пророчество! Сколько астрологов нашептывали честолюбивым юнцам слова о троне и венце в расчете на звонкую монету.
– Это не просто пророчество. С того дня, когда Несс начертал свои предсказания, я заинтересовался расположением звезд, сам научился их читать. Каждый год я составляю свой собственный гороскоп и каждый год его сжигаю. Потому что все они до единого говорят, что я стану императором.
Сабина вновь рассмеялась, правда, не так звонко, и покачала головой.
– Я всегда считала тебя трезвомыслящим человеком.
– И все же это произойдет. Вот увидишь.
– Скажи, тебе самому хочется стать императором?
– Какое это имеет значение? – пожали плечами Адриан. – Я все равно им стану, хочу я того и или нет.
Сабина в упор посмотрела на мужа.
– Ты серьезно это говоришь?
– Скажи, я когда-нибудь шутил, Вибия Сабина?
По-прежнему скрестив руки на груди, он посмотрел на нее сверху вниз. Она сложила ладони и задумчиво подперла кончиками пальцев подбородок. Ей казалось, будто она сделала шаг вниз и, оступившись, нечаянно прикусила язык.
– До того как выйти за тебя замуж, – произнесла Сабина после короткого молчания, – я спросила, не сделает ли Траян тебя своим преемником. Ты ответил, что Плотина мечтает об этом в отличие от тебя самого. И еще ты сказал, что будешь только рад, если выбор падет на кого-то еще. Потому что в жизни нужно успеть повидать как можно больше – своими глазами увидеть разлив Нила, посетить храм Артемиды в Эфесе…
– Все так, – кивком подтвердил Адриан. – Но разве не твои слова, что, мол, если вам нужна хорошая ложь, к ней нужно подмешать как можно больше правды.
За окном стояла жаркая ночь, через открытые ставни в комнату из сада вливался густой, горячий воздух, напоенный ароматами цветов. Сабина же зябко поежилась, словно продрогла до костей.
– Зачем же тебе было мне лгать? – спросила она.
– Как зачем? Чтобы добиться тебя, – удивился он. – Хотя сказать по правде, я не сразу догадался, каким образом это лучше сделать. Большинство девушек были бы несказанно рады, если бы им предложили корону. С тобой же было с точностью до наоборот.
– Тогда почему ты не сделал предложение одной из них? Зачем тебе понадобилась я?
– Я бы так и поступил, – согласился Адриан, – будь у меня на примете кто-то еще. Но, увы, невесты из приличных семейств – не слишком частая вещь. Мне нужна жена хороших кровей, желательно, связанная узами родства с императором, с приличным приданым и связями с влиятельными семействами Рима. Умная, образованная, с хорошим вкусом. Такая, что способна расположить к себе людей самых разных сословий. Мне самому не хватает легкости в общении с людьми, зато твои таланты легко восполняют этот мой недостаток. Так что других кандидатур просто не было. И если ты, Вибия Сабина, обуздаешь свою ненасытную страсть к приключениям, то из тебя получится достойная императрица.
– Что ж, не могу сказать, что эта идея совершенно не прельщает меня, – Сабина была совершенно не уверена в том, что говорит. Более того, опасалась сказать лишнее, однако молчание было подобно пытке. – Хотя, боюсь, я буду вынуждена отказаться. Или ты не слушал меня, когда я еще в самый первый раз сказала тебе, что не хотела бы работы, которая бы длилась всю жизнь. Или я неясно выразилась? Я не хочу быть императрицей.
– Моя дорогая, – улыбнулся Адриан. – Разве твои желания что-нибудь значат? Так будет, хочешь ты того или нет.
– Неужели? – спросила Сабина. – А без меня это случится?
Адриан резко обернулся.
– Что ты хочешь этим сказать?
Но ее уже не было в комнате.
(обратно)
Глава 19
Викс
Насколько я мог судить, праздник Ту-Бе Ав был чем-то воде еврейских луперкалий. День возлюбленных, день тех, кто еще не связал себя узами брака.
– А зачем тебе понадобился я? – недоумевал я, когда Симон вытащил меня из дому. – Неужели я еще не надоел вам?
В один из дней, прошедших с предыдущего шаббата, семейство Симона отбыло на скромную виллу и едва ли не силком вытащило меня с собой.
– Нет-нет, мы будем рады тебя видеть на нашем празднике, – сказал Симон и махнул рукой в сторону виллы. Это было приятное место, хотя оно и не шло ни в какое сравнение с внушительным загородным домом сенатора Норбана в Байях. Вилла Симона представляла собой просторный дом, по которому бегали собаки, в трещинах между плитками двора росли пучки травы, а над виноградником плыл запах пыльного винограда. – Ведь ты у нас герой Масады.
– Послушай, – пожаловался я. – Никакой я не герой, тем более, не герой Масады. Я даже никогда не бывал в Иудее.
– Зато ты последний прямой потомок, – Симон дружески поддал мне кулаком в бок. – Твои дети тоже будут героями Масады. Докажи, что Риму нас не одолеть.
– Рим вас одолел, – возразил я и махнул рукой туда, где на горизонте вырисовывался силуэт города, чьи огни были видны нам каждый вечер, а затем на возделанные поля вокруг нас. – Ты ведь живешь в Риме, не говоря уже о том, что на протяжении двадцати лет воевал во славу Рима.
– Было да прошло, – отмахнулся Симон, как будто годы, проведенные в Десятом, ничего для него не значили. – Сейчас совсем другое время. Готов поспорить, ты ни разу не видел, как мы празднуем Ту-Бе Ав. Ага, а вот и они!
– Кто?
К дверям, громыхая, подкатила украшенная цветами повозка, которой управлял раб в щегольском венке. В повозке сидел десяток хихикающих девушек в белых платьях. В следующее мгновение двери виллы распахнулись, и мимо нас пробежали еще две девушки, тоже в белом. Одну я узнал, это была Мира. Ее стройные лодыжки мелькнули из-под подола платья, когда вторая девушка с визгом помогла ей забраться в повозку.
– В этот день незамужние девушки танцуют среди виноградников, – пояснил Симон. – Считается, что это поможет им найти мужа.
– И как, помогает?
– Мужчины приходят посмотреть их танец, – расплылся в хитрой улыбке Симон. – Так девушки потом выходят замуж.
Увидев, что повозка, скрипнув, сдвинулась с места, Симон поспешил взяться за руки с двумя своими братьями, чтобы пойти вслед за ней к винограднику. Это была действительно праздничная процессия. Молодые люди передавали из рук в руки кувшины с вином, девушки в повозке весело хихикали, не осмеливаясь поднять глаз. Отцы и матери гордо вышагивали под руку, с венками на головах. Я замыкал шествие, полной грудью и вдыхая терпкий аромат земли под моими сандалиями и запах винограда, что рос по обеим сторонам дороги.
– Эй, только не отставать! – крикнула мне мать Симона и, схватив под руку, потащила дальше. За последнюю неделю она привязалась ко мне, как к родному сыну. Мне почему-то подумалось, что матери обычно следили за тем, чтобы я не слишком заглядывался на их дочерей и не оставлял грязных следов на выскобленных до блеска полах. В отличие от них мать Симона потчевала меня жареным гусем и уговаривала вставать утром как можно позже, чтобы получше выспаться.
– Это надо же! Давно ли я сама танцевала на празднике! Отец Симона, он выбрал меня в тот же самый день. Надеюсь, что и Симон поступит точно так же. Ему нужна жена. Какая это, однако, глупость – запрещать солдатам жениться! Если кому и нужна жена, чтобы встречала мужа после долгого похода, так это солдату!
Не отрывая глаз от повозки, я сдержанно улыбнулся.
– Будем надеяться, что Мире больше не придется танцевать на этом празднике, – сказала мать Симона, и я почему-то вздрогнул. – Ведь это уже третий раз! Ей ничто не мешало выйти замуж в шестнадцать лет, но мой сын ей многое позволяет. Она же привыкла задирать нос…
За неделю я слегка разобрался в их запутанных семейных отношениях. Мира приходилась Симону племянницей. Ей исполнилось девятнадцать. У нее был приятный, мягкий голос, и она умела приготовить гуся так, что тот таял во рту.
– По крайней мере, сегодня хороший день для танцев, – заметил я, глядя на безоблачное небо.
– Может, и ты сегодня найдешь себе жену, – пошутила надо мной мать Симона и шагнула вперед. – Подумай сам, разве сравнится с заботливой женой-еврейкой избалованная римлянка, которая только и знает, что приносит в жертву козлов!
Я вновь посмотрел на повозку с девушками. Двое из них поймали мой взгляд и тотчас захихикали, прикрыв ладонями рот. Я почему-то был уверен, что меня пригласили не просто так, а видя во мне завидного жениха. Странно, обычно это вызывало у меня желание бежать без оглядки. Но только не сегодня. По крайней мере, любопытство взяло надо мной верх.
Под хихиканье и смешки девушек телега остановилась, и мужчины подошли, чтобы помочь им спуститься на землю. Старшие женщины принялись распаковывать сумки со снедью. Оттуда же появились и новые кувшины с вином. Как и повсюду в мире, женщины страшно суетились, опасаясь, что угощений не хватит на всех. Стайка девочек, слишком юных, чтобы танцевать среди виноградника, обступили со всех сторон послушных мулов и принялись вплетать им в гривы разноцветные ленты.
– Викс, дай мне, пожалуйста, руку, – сказала мне Мира, поднимаясь на ноги. Я подошел и, взяв за талию, помог спуститься на землю. На ней было тонкое белое платье, сквозь которое я чувствовал тепло ее шелковистой кожи.
– Скажи, почему все девушки в белом? – спросил я, не торопясь, однако, отпускать рук.
– Чтобы никто не мог отличить богатую от бедной, – ответила Мира, кладя мне на плечо для опоры руку, а сама наклонилась, чтобы снять сандалии. – Ведь это день любви, а не споров по поводу приданого.
– Что ж, разумно.
– Как сказать, – задумчиво произнесла она. – Все молодые люди здесь знают меня не один год. Они знают, чего я стою, независимо от того, какое на мне платье. Но обычай хороший, я согласна.
У многих девушек волосы были распущены, однако на голове у Миры был белый платок. Он был ей к лицу, но мне до сих пор не давал покоя вопрос, какого у нее цвета волосы.
Мира выпрямилась, закинула сандалии в повозку и улыбнулась мне. Секунду постояв, она издала боевой клич и бегом бросилась в виноградник. Остальные девушки с визгом и хохотом бросились на ней вслед. Кто-то у меня за спиной заиграл на флейте, и маленькие девочки закружились под ее звуки. А в это время их старшие сестры взялись за руки и двинулись в танце по винограднику. Мужчины буквально пожирали их глазами, время от времени обмениваясь обычными в таких случаях шутками.
– Красивое зрелище, – сказал Симон, беря меня за локоть.
– Согласен, – ответил я. – Признавайся, на которую из них ты положил глаз?
– Пока не знаю, – буркнул он, не отрывая глаз от смуглой девушки с приятным лицом.
– А она и впрямь ничего, – подначил я его.
– Что ж, мне действительно нужна жена, – признался мой друг слегка сконфуженно. – Сколько можно ходить холостяком, пора обзавестись собственной семьей. Тем более, что вскоре я получу причитающийся мне участок земли, надеюсь, где-нибудь в Иудее.
Всем легионерам, отслужившим полный срок, полагался участок земли в любом из концов империи. Хотя какой из бывшего солдата земледелец? Не знаю. Лично я не отличу плуг от уличного фонаря. Думаю, и Симон недалеко от меня ушел в своих земледельческих познаниях.
– То есть ты хочешь жениться и увезти жену в Иудею, чтобы потом всю жизнь пахать землю? – удивился я. – Но ведь эту землю ты даже ни разу в глаза не видел!
– Чтобы любить Иудею, не нужно ее видеть, – со всей серьезностью произнес Симон. На этом наш разговор закончился.
Тем временем девушки успели обойти виноградник и теперь бросались в мужчин гроздьями винограда или цветами. Я заметил, как матери одобрительно кивают головами. Немолодой мужчина с сединой в бороде, стоявший чуть поодаль, – я знал, что у него недавно умерла его третья жена – буквально пожирал Миру глазами. У меня тотчас зачесались кулаки. В следующий миг ему в грудь полетела гроздь винограда. Он качнулся и растерянно заморгал, Мира же, заливаясь смехом, сделала невинные глаза и вновь нырнула в виноградник.
Мне удалось перехватить ее взгляд, Заметив, что я смотрю на нее, она улыбнулась и сдернула с головы платок. Махнув им, словно победным знаменем, она в следующий миг исчезла среди виноградных лоз. Впрочем, я успел разглядеть, что в ее косу были вплетены цветы, а сами волосы были рыжеватыми. Как и мои.
Раньше я этого не знал, но евреи совершают брачный обряд под балдахином. Я тоже стоял под ним, когда спустя месяц сочетался с Мирой браком.
Тит
– Аподитерий с полками для одежды будет стоять вон там, – сказал Тит каменщикам, клавшим кирпич под жарким полуденным солнцем. – Фригидарий с бассейном – вот здесь, – добавил он, обращаясь к другой группе рабочих, которые, сыпля проклятиями, заливали бетон. – А вот котельная – там. Видите, там выкопаны глубокие траншеи? Они для печей, чтобы пар в трубах не остывал. А вот там тепидарий, с массажными столами, – с этими словами, немного нервничая, он обернулся к гостям.
– Ну как вам?
Сенатор Марк Норбан и его младшая дочь Фаустина обвели взглядом внушительных размеров стройку. В воздухе висела кирпичная пыль, мимо то и дело сновали рабочие с лопатами или носилками. Было шумно, отовсюду раздавались стук молотков и топоров, шарканье ног, негромкие проклятия.
– Если не ошибаюсь, когда император Траян предложил сенату проект общественных бань, он дал на завершение их строительства три года, верно? – спросил Марк Норбан, складкой тоги прикрывая голову от палящих лучей солнца. – Однако я, видя, как движутся дела, дал бы четыре.
– Это самое малое, – согласился Тит. – А так, по-хорошему, все пять лет. Потому что без изменений в первоначальном проекте не обойтись, прежде чем воплотить его в камне. Я, например, отлично знаю, что наши мужчины хотели бы увидеть в общественных банях: гимнасий, парилку, где можно хорошенько пропотеть после физических упражнений, и как можно больше хорошеньких массажисток-рабынь.
– Мне все равно, какими они будут, хорошенькими или нет, – отозвался Марк Норбан, потирая больное плечо. – Главное, чтобы их руки умели снимать боль моих немощных старческих костей.
– Ну, твои еще не немощные, – возразила Фаустина и игриво потрясла отцовскую руку. – Ты нарочно так говоришь, чтобы ввести в заблуждение других сенаторов. Чтобы они подумали, будто ты им не страшен.
– Тс-с, – велел ей отец, – не надо говорить об этом вслух. Мне уже удалось убедить Рурика с его клакой, будто я на заседаниях клюю носом всякий раз, стоит разговору зайти о строительстве новых дорог.
– Я так и знала, что я права! – воскликнула Фаустина и, довольная собой, гордо вскинула подбородок. – Скажи, почему ты настаивал, чтобы я тоже пришла сюда? – обратилась она к Титу.
– Хотел услышать женское мнение, – с поклоном ответил Тит, снимая с головы широкополую шляпу. – Итак, скажи мне, каковы пожелания римских женщин? Что они хотели бы видеть в общественных банях? Потому что эти бани будут самыми лучшими, самыми грандиозными во всей империи! И женщины Рима, безусловно, имеют в этом вопросе право голоса. В твоем лице.
– В моем? – удивилась Фаустина, слегка откинув назад золотоволосую голову. – А почему не в лице моей сестры?
– Я просил ее, но, боюсь, она вряд ли может мне помочь. По ее словам, лучшие бани в ее жизни – это купание обнаженной в горной реке в Паннонии. Я, конечно, могу построить все, что угодно, – Тит взмахом руки обвел гигантскую стройку, – но, скажи, где я возьму горную реку?
Фаустина рассмеялась. В своем голубом платье она напоминала ему цветок гиацинта. За это время она не только вытянулась, но и успела превратиться в красавицу – что он и предсказывал ей, когда видел ее одиннадцатилетней девочкой.
– Ну, так давайте посмотрим самые большие бани Рима!
– Может, я и не настолько стар, как думают мои коллеги-сенаторы, – проворчал Марк Норбан, – но и не настолько молод, чтобы преодолевать горы строительного мусора. Бери мою дочь, а я пока посижу в теньке и поразмышляю о твоих архитектурных планах. Мне кажется, здесь можно выкроить место под приличный архив. Некоторые из нас, придя в бани, предпочли бы почитать книгу, вместо того, чтобы поднимать гири.
Тит жестом пригласил Фаустину следовать за ним, а согбенный, седовласый сенатор уселся на глыбу необработанного гранита. Тит был исполнен к нему самой искренней благодарности. Если бы не Марк Норбан с его мудрыми советами, неизвестно, как бы он выдержал первый месяц в должности квестора. Его собственный дед был уже стар и немощен, и Тит не желал лишний раз беспокоить его своими вопросами. А вот сенатор Норбан, наоборот, был только рад поделиться опытом, и ни разу не отказал Титу, когда тот обращался к нему с просьбой.
– О да, средства, выделяемые на армию, для многих отличная кормушка. Найдется немало желающих запустить в них лапу. Зато у тебя будет прекрасный опыт, когда тебе поручат разоблачать казнокрадов. А ведь у них, что ни день, то новые схемы прикарманивания общественных денег.
Марк рассеянно помахал им вслед, поскольку сам уже с головой ушел в изучение чертежей. Тит предложил Фаустине руку.
– Смотри под ноги, – предупредил ее, ведя за собой по стройке. – Здесь повсюду валяются камни. Не говоря уже про каменщиков, которые за всю свою жизнь не видели такой красавицы, как ты. Итак, этой гимнасий… это бассейн. Это уборная. Трубы повсюду проложены медные, даже ручки для смыва. Фригийский мрамор в вестибюле. Каррарский более знаменит, но фригийский менее зернист, и у него имеется только ему свойственный лоск, а ведь стены здесь постоянно будут влажными. Пятьсот ламп будут освещать кальдарий и…
Поймав себя на том, что трещит без умолку, Тит осекся на полуслове.
– Извини, наверно я, утомил тебя. Но я действительно увлекся этим проектом. Настоящий квестор не любит свою работу, а по возможности, даже ее не делает, потому что все свое время проводит в мечтах о том времени, когда станет претором.
– Признаюсь тебе, я и не знала, что в обязанности квестора входит следить за ходом строительства бань, – ответила Фаустина, с интересом глядя на огромную яму, которой, по словам Тита, вскоре предстояло стать бассейном, дно которого украсит мозаика с изображением дельфинов.
– Да, в иное время это не входило бы в круг моих обязанностей. Но император Траян поручил мне эту работу. Видишь ли, я уже работал с архитекторами, возводившими колонну в честь победы над даками. Императору хотелось, чтобы за ходом работ следил кто-то такой, кто видел Дакию собственными глазами. Чтобы он мог сказать резчикам, как все на самом деле выглядело. А поскольку к тому моменту, когда начались главные работы по строительству колонны, все те, кто принимал участие в походе, были заняты другими делами, это поручили мне. Думаю, Траян остался доволен, поскольку сразу после завершения колонны, отправил меня надзирать за строительством бань.
– Да, впечатляет.
– Ну, я бы не сказал, – возразил Тит и признался: – Чаще всего я занимаюсь тем, что разнимаю консула Адриана и архитектора, чтобы они не убили друг друга. Дело в том, что Адриан тоже надзирает за ходом работ, а поскольку он питает интерес к архитектуре, у него то и дело возникают идеи, как можно улучшить первоначальный замысел. Неудивительно, что он страшно оскорбился, когда архитектор сказал ему, что его купола смотрятся как тыквы. Так что я между ними нечто вроде буфера, как Паннония между Германией и Дакией. И пусть на меня сыплются удары с обеих сторон, убери меня, – и про мир можно забыть.
Фаустина, прищурившись, рассматривала фундамент аподитерия.
– Скажи, а какой кирпич вы используете?
– Из Таррацины, – ответил Тит и назвал ей имя поставщика.
– Вы покупаете высушенный на солнце кирпич, вместо обожженного в печи? Знаешь, покупай лучше кирпич у меня!
Тит растерянно заморгал.
– У тебя?
– В моей собственности четыре кирпичных фабрики, – пояснила Фаустина. – Мать подарила их мне в качестве приданого, правда, при условии, что я разберусь в кирпичном производстве. И я разобралась и теперь знаю про кирпичи буквально все. И я вижу, что твой кирпич был высушен на солнце, вместо того, чтобы быть обожженным в печи. Такой кирпич быстро разрушается от воды, а ведь вы строите бани, где вода будет повсюду.
Тит взял ее слова на заметку.
– Еще кто-нибудь?
Фаустина, руки в боки, обошла наполовину вырытый аподитерий. Солнечные лучи пронизывали тонкую ткань ее платья, и Тит был вынужден сделать рабочим знак, чтобы те не смели глазеть.
– У тебя предусмотрены полки, где посетители могли бы оставить одежду?
– Да, из сосны.
– Лучше из ольхи. Она не гниет, когда намокает. Кстати, в мое приданое также входит лесопилка, – пояснила она, предвосхищая его вопрос. – Кроме того, помимо полок должны быть крючки. Женщины наверняка предпочтут вешать платья, а не складывать.
– Неужели?
– А ты попробуй, сложи платье вроде этого, – Фаустина потрогала пальцами шелковую ткань. – Чтобы его вновь разгладить, потребуется горячий утюг. А какая женщина захочет выйти из бань в мятом платье?
– Именно поэтому мне так важно услышать мнение женщины, – ответил Тит, делая на табличке очередную пометку. – Что-то еще?
– Буквально во всех банях Рима можно увидеть мозаику с обнаженными русалками. Женщинам же не нравится смотреть на обнаженных русалок, чья грудь гораздо красивее, чем у них самих. Пусть русалки красуются в мужской половине, а в женской изобрази что-нибудь другое. Например, морского бога с красивой голой грудью.
– Никаких обнаженных русалок, – пообещал Тит. – Ведь мы строим самые лучше бани Рима.
Фаустина отряхнула с лица кирпичную пыль и посмотрела на Тита.
– Для тебя ведь эта работа важна? Даже если по большому счету она не входит в круг твоих обязанностей.
– По большому счету бани – не самое важное по значимости, – Тит провел рукой по почти готовой стене, сложенной вдвое толще обычной, чтобы сохранять тепло парной, – хотя они и будут самыми большими в империи. Эта емкость вмещает в себя восемь миллионов мер воды. И когда строительство завершится, здесь будут и обнаженные русалки в гимнасии, и обнаженный морской бог в женском тепидарии, и пышные сады, и цветники, что раскинутся вокруг здания. – Казалось, будто Тит внутренним взором уже видит не пыльные кучи строительных материалов, а зеленый оазис в середине каменного города. – Эти бани станут известны как бани Траяна, потому что именно он распорядился их построить. Может быть, их назовут банями Апполодора, потому что он разработал их проект, или даже банями Адриана, потому что у него изысканный архитектурный вкус, пусть даже его купола и похожи на тыквы. Самое главное, эти бани не назовут в честь меня. И все же всякий раз, когда я буду смотреть на них, я буду думать о том, что я тоже помогал их строить, помогал Риму стать еще красивее. – Тит отвернулся от своих соображаемых садов. – Именно этим я и занимаюсь. Помогаю Риму стать еще красивее.
Фаустина улыбнулась ему.
– В таком случае давай обойдем стройку еще раз. Отец что-то сказал про то, что неплохо бы добавить архив. Мне кажется, его можно было бы пристроить с восточной стороны. Или даже библиотеку?
– Мне кажется, ты сейчас обожжешь себе нос.
– Подумаешь нос! Я тоже хочу помочь Риму стать еще красивее.
Сабина
– Проклятие! – проворчал император. – Терпеть не могу театр.
– Но ведь сегодня ставят «Федру», –
прошептала Сабина.
– Вот и я о том же – сдалась мне эта пьеска про безмозглую бабенку, которая положила глаз на собственного пасынка, чтобы загубить ему жизнь. Можно подумать, я не видел этого в жизни. Так что никакое это не искусство, – Траян раздраженно побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. – Это насмешка над искусством, вот что это такое.
Императрица Плотина неодобрительно посмотрела на них обоих. Траян состроил гримасу, словно проказливый школьник, и Сабина рассмеялась. Однако неодобрение на лице Плотины лишь усилилось. В конце концов, видя, что этим ничего не добиться, она вновь повернулась к сцене, где актеры в масках декламировали свои реплики. Театр Марцелла был забит до отказа – плебеи в их шерстяных плащах заняли все проходы. Сабине было видно, как в небольшой нише под императорской ложей музыканты, взмокшие от своих трудов, перебирали струны.
– Не переживай, Цезарь, – шепнула она, когда пальцы Траяна вновь начали отбивать барабанную дробь по подлокотнику кресла. – Вскоре тебе не придется ходить по театрам. Вместо этого ты будешь убивать парфян.
– Хотелось бы надеяться.
На этот раз повернул голову и раздраженно посмотрел на нее сидевший рядом с Плотиной Адриан. Сабина встретилась с ним взглядом, однако глаз отводить не стала, и Адриан отвернулся первым. Правда, не к сцене, а к своей работе.
«Приди мы в театр одни, – подумала Сабина, – он наверняка бы следил за спектаклем». Сосредоточенный, неслышно шепча одними губами строки, которые в этот момент на сцене произносил актер, игравший Федру, неотрывно следуя глазами за каждым жестом, затаив дыхание внимая каждому звучному греческому слову. Увы, сегодня с ними был император, и Адриан устроил свой собственный спектакль, изображая свою преданность консульским обязанностям: шуршал свитками, перебирал таблички, негромким полушепотом диктовал письма секретарю, что застыл рядом с ним, почтительно согнувшись. И если он и отрывал глаза, то не для того, чтобы посмотреть на сцену, а на пышное кресло, стоявшее позади него – дабы убедиться, что Траян видит его усердие.
Сабина могла бы сказать ему, что Траян действительно обратил внимание, но только не на усердие.
– О боги, такое впечатление, будто он вечно чем-то недоволен! – проворчал император, глядя на любимца своей жены. – Я уже устал видеть эту вечно кислую физиономию!
– Сомневаюсь, что он бывает чему-либо рад, Цезарь, – вздохнула Сабина. – Особенно, в последнее время, он только и делает, что ходит с недовольным видом. Наверно, потому, что ты отдал легион, которым он надеялся командовать во время похода в Парфию, кому-то другому.
– Я бы не хотел отдавать ему в командование ни этот легион, ни любой другой.
– Но почему? Он ведь отличный легат. – Сабина никогда бы не осмелилась это отрицать. – Он отлично разбирается в картах, он хорошо видит местность, он ровен со своими подчиненными…
Траян подозрительно посмотрел на нее.
– Он нарочно тебя ко мне подослал?
– Да, – ответила Сабина, – но это не значит, что я выполняю его поручение. Мне безразлично, получит он легион или нет. Но мне не дает покоя вопрос, почему ты не берешь его с собой?
– Потому что он рассчитывал получить легион, да и Плотина тоже на это надеялась. Но беда с добросердечными людьми вроде меня состоит в том, что все вокруг ждут, что я сделаю то, чего они от меня хотят. И очень даже неплохо хотя бы разок их разочаровать, – с этими словами Траян посмотрел на сцену, где фигура в желтом кудрявом парике била себя кулаками в грудь и громко стенала.
– Замолчит ли когда-нибудь эта женщина?
– Это не женщина, Цезарь. Это актер в парике.
– Разве это мужчина, если его можно принять за женщину?
– Ты хочешь сказать, Цезарь, что женщины вообще не нужны?
– Вибия Сабина, ты милое, забавное существо. – Траян ущипнул ее за щеку. – В Парфии мне будет недоставать твоего общества.
– С удовольствием пошла бы туда вместе с тобой. Говорят, будто парфяне поклоняются змеям.
– Интересно, зачем они это делают?
– Возьми меня с собой, и я обязательно это выясню.
– Ты можешь приехать ко мне в гости, когда я их завоюю.
Тем временем на сцене Федра умерла.
– Что же стало с ее пасынком? – шепотом спросил император.
– Он тоже умер.
– Ответь мне, есть другие пьесы, без этой груды мертвых тел в самом конце?
– Мне казалось, тебе нравятся груды мертвых тел, Цезарь.
– Только на поле боя.
В следующий миг раздался гром аплодисментов, но Адриан даже не поднял головы от своих свитков. Впрочем, Траян оставил без внимания как всеобщий восторг, так и рвение своего консула. Как только спектакль закончился, он тотчас же встал с кресла. Схватив плащ, из бледно-зеленой шерсти, он закалывался на плече серебряной пряжкой в виде стрелы, Сабина устремилась вслед за ним вместе с колонной преторианцев и прочими членами свиты. Как и Викс, Траян никогда не замедлял шаг, вынуждая других поторопиться.
Поджидавшая снаружи толпа разразилась ликующими возгласами. Император помахал в ответ, словно мальчишка на празднике. Императрица Плотина на миг остановилась, чтобы удостоить римлян царственным кивком. Ее примеру последовал и Адриан. Траян же, обхватив Сабину за плечи, шагнул навстречу толпе. Людская масса тотчас же расступилась, освобождая им путь: уличные торговцы, предлагавшие грубо намалеванные портреты знаменитых актеров, беспризорные мальчишки с плошками для подаяния, старый безногий солдат. Лица всех до единого светились радостью. Траян остановился, чтобы поговорить с безногим солдатом и даже приподнял несчастного, когда тот попытался отвесить ему поклон.
– Ты слишком близко подходишь к плебсу, – услышала за своей спиной Сабина. Это Плотина сочла своим долгом предостеречь мужа. – Любой безумец с кинжалом в руке может легко тебя прикончить.
Но Траян, как обычно, пропустил ее слова мимо ушей, и Сабина в очередной раз восхитилась его смелостью. Какой другой римский император вот так запросто ходил по улицам, не опасаясь за свою жизнь?
Сабина зябко, по самый подбородок, завернулась в зеленый плащ. Было еще светло, косые солнечные лучи падали на мраморную крышу театра, однако свежий вечерний ветерок давал о себе знать.
Толпа постепенно редела. Плотина уже вышла из театра, и теперь какой-то преторианец помогал ей занять место в серебряном паланкине. Затем шестеро греческих рабов подняли паланкин, и тот, покачиваясь, словно корабль на волнах, поплыл по улице. Преторианцы шагали впереди, прокладывая ему путь.
– Цезарь! – окликнул Траяна Адриан, однако тот помахал рукой, продолжая шагать рядом с Сабиной. Адриану ничего другого не оставалось, как с каменным лицом одному сесть в носилки и двинуться вслед за Плотиной. При виде этой сцены Сабина испытала нечто вроде легкого, приятного злорадства. После того разговора в спальне они практически не общались.
– Смотрю, ты тоже замерзла, Вибия Сабина, – раздался рядом с ней голос императора. – Или это мерзнут лишь мои старые кости?
– Да, довольно прохладно, – согласилась Сабина. – Все-таки уже осень. Может, ускорим шаг, Цезарь, чтобы согреться? А если ты устал, можешь на меня опереться.
– Чепуха, – ответил Траян и помахал рукой шагавшим сзади преторианцам. – Ты слишком маленькая, чтобы на тебя опираться.
– Мой отец тоже невысок ростом. Но на него опирались полдесятка императоров.
Они шагали, взявшись под руку, оставив позади толпу. Императорская свита послушно тащилась позади. Время от времени шагавшие навстречу горожане, узнав императора, останавливались, чтобы поприветствовать его, и тогда Траян в ответ махал им рукой.
– Где твоя улыбка? – спросил он, посмотрев на Вибию Сабину. – Только не говори мне, что это ужасная пьеса повергла тебя в уныние.
– Нет, пьеса здесь ни при чем. Скорее воспоминания.
Было время, когда они с Адрианом, взявшись под руку, шагали домой из театра, всю дорогу споря о том, какой актер лучше декламировал свои строки и у какого были деревянные жесты. Бывало, Сабина начинала декламировать свой самый любимый монолог, а Адриан где-нибудь на середине перебивал ее, чтобы прочесть его самому.
– Да, воспоминания штука коварная, – согласился Траян, натягивая на голову капюшон. – О боги, кажется, я старею. Ветер пронизывает меня до костей.
Сабина посмотрела на него. Волосы Траяна, когда-то лишь слегка тронутые сединой, за последние годы поседели сильнее прежнего, нос заострился. Годы, проведенные в походах под палящим солнцем, оставили следы в виде глубоких морщин, что залегли вокруг глаз и рта.
«Ему ведь уже шестьдесят, – внезапно подумала Сабина. – И он выглядит на свои годы».
Она глубоко вздохнула.
– Цезарь, можно задать тебе один вопрос?
– Спрашивай. И я на него отвечу, если, конечно, он разумный, – сказал с лукавой улыбкой Траян.
Сабина тем временем свернула с улицы к Садам Антония, протянувшимся вдоль Тибра. Преторианцы послушно повторили ее маневр. Они прошли мимо череды елей, аккуратно подстриженных, чтобы не загораживать вид на речную гладь, затем прошагали мимо мраморной Дианы в полном охотничьем снаряжении, в сопровождении своры гончих псов.
Поскольку Сабина молчала, Траян счел своим долгом напомнить ей:
– Ну, так что это такое, говори? Тебе хочется изумрудное ожерелье? Дом на Капри?
– Я хочу развод.
Траян застыл как вкопанный.
– Что?
– Я хотела бы развестись с мужем. – Эта мысль вертелась у нее в голове вот уже несколько недель, с того самого момента, когда Фаустина в банях подбросила ей эту идею… и особенно с того момента, когда Адриан объявил о своем предначертании. Сказав эти слова, Сабина ощутила что-то вроде головокружения. – Если ты, конечно, дашь согласие.
– Это абсолютно исключено, – холодно ответил император. – Мой ответ – однозначное «нет».
Сабина растерянно заморгала. Ей не раз приходилось слышать его командный тон, когда Траян бывал раздражен тупостью чиновников или упрямством сенаторов. Но чтобы он так разговаривал с ней! Нет, такое было впервые.
– Могу я спросить почему, Цезарь? Не похоже, чтобы ты сам питал к нему особую теплоту.
– Неужели тебе в браке неожиданно захотелось теплоты? Кому это нужно? Мы с Плотиной… – Траян недоговорил, раздраженно насупив брови. – Пусть я не дал Адриану легион в Парфянском походе, но это еще не значит, что он мне не нужен. С моей стороны было бы великой глупостью вышвырнуть человека из семьи, чтобы затем поручить ему снабжение армии.
– Согласна. И все же…
– Никаких «все же». Плотина и Адриан не единственные, кто ждут от меня, что я выполню любую их прихоть. Или ты, Вибия Сабина, тоже считаешь, что император – это что-то вроде колодца, глядя в который можно загадывать свои желания? – Траян посмотрел на блестевшую в солнечных лучах реку. – Этак недолго, при всем моем добросердечии, сделаться диктатором.
Сабина ни разу не слышала от Траяна столь гневных речей. «Может, возраст дает о себе знать сильнее, чем он готов признаться? – с горечью подумала она и поежилась. – Рим без Траяна… Нет, об этом лучше не думать».
– Ты и так диктатор, Цезарь, – сказала она. – Только добросердечный. И все мы этим пользуемся.
– По крайней мере ты готова это признать, – добродушно проворчал Траян.
– Может, ты все-таки передумаешь?
– Нет! Ни за что! Да, я люблю тебя, но боги свидетели, моя девочка, в первую очередь я все-таки должен печься о благе империи. Скажи, что по сравнению с этим твои капризы? На мне лежит долг по отношению к Риму. И даже если я позволю тебе развестись с Адрианом, как тотчас выдам тебя замуж за кого-то другого мне полезного!
– Что ж, я согласна, – с улыбкой ответила Сабина. – Я знаю мой долг, Цезарь. Давай, выдай меня замуж за кого-то еще. Обещаю, ты не услышишь от меня даже слова против. Да что там слова! Даже еле слышного писка!
– Даже не надейся, Вибия Сабина. Адриан мне нужен, причем нужен в хорошем настроении.
– Да, Цезарь, – упавшим голосом ответила Сабина.
– Только не надо изображать передо мной несчастную. Это тебе не идет, – Траян приподнял ей подбородок. – Почему бы тебе не попросить у меня изумрудное ожерелье или кольцо с бриллиантом? Я бы с радостью тебе их подарил.
– Бриллианты мне неинтересны, Цезарь. Но ты мог бы подарить мне кое-что другое. Нет, не развод, – поспешила добавить Сабина. – Обещаю, что больше даже не заикнусь ни о каком разводе. То, о чем я тебя прошу, нечто совершенно другое.
– И что же это такое? – сухо уточнил Траян.
Сабина поглубже вздохнула, набираясь смелости. Эта просьбы далась ей с еще большим трудом, нежели первая.
– Не делай моего мужа своим преемником.
Ответом ей стало молчание. Траян остановился и холодно посмотрел на нее.
– Прости, – поспешила загладить оплошность Сабина. – Понимаю, это дерзость с моей стороны.
– Намекать, что когда-нибудь я умру? Нет, это не дерзость, это я тебе прощаю. – С этими словами Траян вновь оперся на ее руку и зашагал вперед по извилистой тропинке. – Что касается преемника, то почему бы и нет?
– Прошу тебя. Только не Адриана. Неужели у тебя нет на заметке кого-то еще?
– Но почему? – искренне удивился Траян. – Мне казалось, любая женщина не прочь стать императрицей.
– А я не хочу. Я еще ни разу не видела императрицы, которая жила бы собственной жизнью.
– Плотина могла бы, если бы захотела, – поспешил возразить Траян. И хотя на душе в Сабины было невесело, она невольно улыбнулась. Император ни разу не позволял себе колкостей в адрес императрицы. В глазах публики они были идеальной парой, олицетворением счастливого супружества. Что касается частной жизни… таковой у них просто не было.
– Дабы успокоить твои страхи, – продолжал тем временем Траян, – в мои намерения не входило сделать Адриана преемником. Как и кого-то другого, если на то пошло. По крайней мере пока.
– Спасибо, у меня отлегло от души, – ответила Сабина, останавливаясь под кипарисом, чтобы полюбоваться рекой, чья серебристая лента, подобно змее, извивалась в лучах заходящего солнца. – Просто я подумала, если Плотина станет подталкивать тебя…
– Я не так уж часто прислушиваюсь к ее советам, – резко ответил Траян. – Ну а теперь ты ответь на мой вопрос, маленькая Сабина. Возможно, ты не хочешь видеть себя императрицей, но что дурного в том, если императором станет Адриан? Это его давняя мечта, так почему бы жене не поддержать мужа?
– Я поддерживаю его, – ответила Сабина, и, как ни странно, не покривила душой. – Я поддерживаю все, что идет ему на пользу. Но чтобы он стал императором – ничего хуже я не могу даже представить.
– Неужели это так важно? Ведь самое главное, чтобы это было на пользу Риму.
– Знаю. Но Адриан… нет, это не для него, чтобы там ни говорил его любимый астролог.
– Астролог?
– Несс, бывший астролог Домициана. Он предсказал Адриану, что тот в один прекрасный день станет императором. И мой муж, разумеется, безоговорочно в это верит.
– Ненавижу астрологов, – недовольно буркнул Траян. – Я помню этого Несса. У него хватило наглости заявить мне, что меня ждет поражение, когда я в первый раз попробую усмирить Дакию.
– Но ведь он оказался прав, разве не так?
– Дело не в этом!
– Он сказал Адриану, что тот станет императором, и Адриан считает, что и на этот раз Несс окажется прав. Кстати, из него вполне может выйти хороший император, – сказала Сабина, воздавая должное мужу, хотя при одной мысли о нем гнев тотчас напоминал о себе уколом в самое сердце. – Но это еще не значит, что быть императором – это лучшая для него стезя, что бы он сам по этому поводу ни думал. Стоит ему примерить императорскую тогу, как все худшее, что есть в нем, проявится во всей своей полноте. Скажи, не поэтому ли и ты не спешишь объявить его преемником?
– Верно, – ответил Траян, слегка пожимая плечами. – Не люблю холодных людей.
– Тогда кого ты предпочитаешь? В качестве преемника?
– Я бы выбрал твоего старшего брата, останься он жить, – по лицу Траяна пробежала печальная тень. – Такого достойного человека, как он, я больше не встречал.
– Я тоже.
«Будь мой старший брат сейчас жив, – подумала Сабина, – он бы врезал Адриану кулаком по его бородатой физиономии за то, что тот пытался положить меня в постель к своим врагам».
– Значит, если это не Павлин, и не Адриан, то…
– Только Юпитер ведает, кто это может быть. Возможно, я умру, как Александр, и оставлю мою империю сильнейшему.
– Вспомни, что стало с империей Александра. Не успел он умереть, как она развалилась на части.
– Давай я сначала разберусь с Парфией, а потом будет видно, что делать дальше.
И они вновь зашагали вдоль кипарисовой аллеи.
(обратно)
Глава 20
Викс
– Ты смотрел на ту девушку, – сказала Мира, когда я прокладывал нам дорогу сквозь шумную толпу возле цирка.
– Какую девушку?
– Ту, что сидела в императорской ложе рядом с императором. Такая темноволосая, в ярко-алом платье, – в голосе моей жены скорее чувствовалось любопытство, нежели ревность. Она обожала поддразнивать меня.
– Когда я с тобой, я не смотрю ни на каких девушек, – шутливо поклялся я. – Я смотрел на императора. Разве он не великолепен?
– Только не увиливай от ответа. Она явно из императорского семейства. Скажи, у императора случайно нет внучатых племянниц?
– Откуда мне знать?
Скажу честно, я тотчас заметил Сабину, сидевшую рядом с Траяном в императорской ложе. Она на протяжении всех бегов о чем-то весело щебетала с императором. Ни Адриана, ни этой унылой суки Плотины я не заметил. Сабина и Траян с воодушевлением подбадривали участников и что-то с жаром обсуждали в перерывах между забегами. Я представил себе, как она своим нежным голоском шепчет Траяну, как когда-то шептала мне:
– Эти Синие сегодня обставили всех. Звери, а не кони.
Как жаль, что она не посмотрела вниз, на толпу зрителей и не выхватила взглядом меня. Меня и Миру, на которой я был женат вот уже два месяца.
– Я бы тоже не отказалась от огненно-алого платья, – сказала моя жена, – И такие же опаловые серьги, как и у внучатой племянницы императора.
– Ну, на опалы у меня, возможно, денег не хватит, а вот платье я тебе куплю.
– К таким-то волосам? – Мира задумчиво провела рукой по рыжеватой голове. – Ты только подумай, на кого я буду в нем похожа. На тыкву.
– Неправда, ты у меня красавица. – Я поцеловал ее в кончик носа.
– Впрочем, скоро я и так стану, как тыква – круглой и толстой, потому что в животе у меня твой ребенок. Правда, живота пока не видно, но ты уже заглядываешься на других женщин! – сказала Мира и, взяв меня под руку, улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ.
И пусть только кто-то попробует сказать, что я не извлек для себя урока из прошлого. Вернувшись домой, после того, как я убил целый день на бесполезное ожидание во дворце (как оказалось, свыше так и не был спущен приказ о моем возвращении в Десятый), я пошел прогуляться с женой, и во время этой прогулки она призналась мне, что беременна. От неожиданности я на миг лишился дара речи, а когда вновь его обрел, то прошептал то, что в свое время должен был прошептать Деметре:
– Вот и чудесно!
После чего, чтобы отпраздновать это известие, отвел ее посмотреть скачки. Вообще-то Мира предпочитала театр, особенно, если пьеса вышибала у зрителей слезу, но я решил, что ей пойдет только на пользу азарт Большого Цирка. Кстати, мне самому это тоже не помешает – по крайней мере поможет на какое-то время отвлечься от странного ощущения, что поселилось после ее слов в моей груди. Я отец.
– Как я понимаю, ты уже сказала о ребенке своим родным? – спросил я, когда мы вышли из-под мраморных арок, под которыми сбились в кучу расстроенные поклонники Зеленых, и Большой Цирк остался за нашими спинами.
Мира рассмеялась.
– Моя мать поняла это раньше, чем я. В нашей семье секретов не бывает.
Кстати, я постоянно узнавал для себя что-то новое. Когда я только женился на Мире, я полагал, что мне осталось провести в Риме всего несколько недель, потому что затем мне вручат депеши и я отправлюсь назад в Мог. А коль скоро мне уезжать, я не стал подыскивать для нас отдельное жилье. Мы оставались жить в ее родительском доме, лишь переехали в комнату, в которой стояла большая кровать. Но лето вскоре сменилось осенью, а я по-прежнему маялся бездельем в столице, пока император не спеша доводил до ума свой замысел вторжения в Парфию. Так что у меня было время близко познакомиться с родственниками моей жены. Теперь я знал о них все: о мозолях ее тетушки и ночных кошмарах деверя, о неспособности третьей жены ее дяди забеременеть, и, наоборот, о неспособности ее кузины рожать по одному ребенку за один раз, вместо того, чтобы производить на свет двойни и тройни. Я также узнал, что стоит ее племяннице Тирзе поесть клубники, как у нее на коже выступает сыпь, а ее брату Вениамину вечно мерещатся под кроватью призраки. Знал я и то, что Симон собрался жениться на той девушке с оливковой кожей из соседнего дома, но ее отец закатил скандал из-за приданого.
Кстати, в семье Миры обо мне тоже знали все. Ее мать каждое утро намазывала мне хлеб клеверным медом, слуги точно знали, в какой пропорции для меня смешивать воду и вино. И даже ее горячие племянники и кузены с их вечными речами об освобождении Иерусалима, стоило мне войти в комнату, прикусывали язык, понимая, что поносить при мне римские легионы не самое благодарное занятие. В общем, в этой моей новой семье никаких секретов не было: здесь все знали про всех. И что самое удивительное, меня это даже не раздражало.
И все же вскоре я начал подумывать о том, как мне увезти Миру на север, в Германию, чтобы в нашу жизнь никто не вмешивался.
– Моя мать надеется, что ты задержишься в Риме до тех пор, пока не родится ребенок, – сказала Мира. – Ей хочется устроить праздник наречения.
– Боюсь, что нам вскоре придется уехать, – ответил я, обводя ее вокруг канавы, пока мы с ней шагали по южному краю форума. – Ждать осталось считанные месяцы, после чего император выступит с походом в Парфию. До этого он наверняка отправит депеши в Мог, и я тогда буду вынужден уехать.
Впрочем, я бы не стал утверждать, что мой легат в Моге зол по поводу моего затянувшегося отсутствия. Когда орел отдыхает в углу, аквилиферу делать особо нечего. Должность же центуриона мне пока что не подвернулась. Когда же она мне подвернется, то орел перейдет к другому. Почему-то эта мысль заставила меня нахмуриться. Я любил своего орла. Я гордо носил его целых четыре года. И пусть это были не боевые походы, но всякий раз, на любом марше, орел гордо плыл у меня на плече. Вместе с моим орлом я вошел в Рим во время триумфа Траяна, который тот устроил в честь победы над Дакией. Прежде чем отправиться в Рим с моими депешами, я долго гладил на прощание его металлические крылья и обещал вернуться как можно раньше. Нет, мне не хотелось отдавать моего орла другому аквилиферу. Это был мой орел, даже если я больше его не носил. Он принадлежал нам, солдатам Десятого легиона, независимо от ранга и звания. Он будет гордо взирать на меня, когда я наконец получу шлем центуриона – если, конечно, это когда-то произойдет. Честное слово, я спал и видел, чтобы кто-то из центурионов нашего Десятого погиб, или вышел в отставку, или что еще с ним могло приключиться, чтобы я наконец мог получить под свое начало долгожданную центурию.
– Может, нам заранее провести праздник?
– Не понял? – я стряхнул с себя мечтания и вновь вернулся на землю.
– Праздник наречения, – с этими словами Мира обхватила себя руками за талию, которая, насколько я мог судить, пока еще не утратила своей стройности. – Чтобы моя сестра тоже присутствовала на нем. Посмотрела бы я тогда на ее лицо с этой ее вечной ехидной улыбочкой! Ну, конечно же! Ведь у нее есть ее драгоценный Исаак. Посмотрим, что она скажет, когда у меня тоже будет сын.
– Неужели мы тоже назовем его Исааком? – задал я довольно глупый вопрос.
– Нет, лучше Вениамином или Иммануилом. Пусть это будет что-то благочестивое.
– Нет, лучше что-то воинственное, – возразил я. – Например, Ганнибал. Или Каратак.
– Ганнибал Иммануил? – улыбнулась Мира, а потом и вовсе расхохоталась. Нет конечно, в благочестии моей жене не откажешь, но и посмеяться она тоже большая любительница.
– Ну а если это девочка? – заметил я.
– Будет мальчик, – твердо возразила Мира.
– Откуда тебе это известно? – схватив ее за талию, я указал на ее плоский живот.
– Оттуда. Может, даже близнецы – в нашей семье такое бывает часто.
– Отлично. Тогда один будет Ганнибал, а второй – Иммануил.
Мира обвела критическим взглядом форум. Какой-то лавочник, торговавший медными сковородками, тотчас попытался привлечь к себе ее внимание. Впрочем, не только он, но и оборванный воришка, продававший краденые бусы. От мясницкой лавки тянуло кровью и навозом, в канаве свора уличных псов устроила драку из-за дохлой крысы. Мимо нас с громкими криками пронеслась ватага уличных мальчишек, а вслед за ними просеменила стая домохозяек с корзинами.
– Город не место для ребенка.
– Мог не такой, – ответил я, глядя, как из винной лавки, шатаясь, вышел какой-то пьяница и едва не задел Миру плечом. Я со всей силы оттолкнул его к ближайшей стене, а жену покрепче прижал к себе, обняв за плечи.
– Нам понадобятся по крайней мере две комнаты, – продолжала тем временем Мира. – Причем желательно рядом с рынком. И как можно ближе к форту. Зато подальше от винных лавок, – добавила она, брезгливо сморщив носик.
– Две комнаты? Это с моим-то жалованьем?
– Не знаю, захочешь ли ты спать в одной комнате с вечно пищащим младенцем.
– Значит, две, – согласился я, надеясь в душе, что эти две комнаты будут не в Моге. Клянусь Хароном, как я устал от Мога! Устал от дождей, устал месить ногами местную грязь, устал от вечно серого неба, от убогих улочек, от холодного ветра, который спрячет от меня красивое лицо Миры, вынуждая ее пониже натягивать капюшон. Десять лет своей жизни я прожил в Германии, и думаю, что с меня достаточно. Теперь мне хотелось солнца, хотелось тепла, хотелось… в Парфию. Но насколько это возможно? Император уже выбрал легионы, которые будут сопровождать его в парфянском походе. И было бы большой наивностью надеяться, что в самый последний момент он призовет для участия в кампании Десятый.
Мы дошли до нашего дома на Квиринале и не успели подняться по ступенькам и шагнуть в атрий с апельсиновыми деревьями в кадках, как мать Миры уже высунула из окна голову и спросила:
– Ты сказала ему?
– Сказала, – ответила Мира и рассмеялась.
– Ну и отлично. Значит, можно надеяться, что он задержится в Риме, пока не родится маленький Иммануил. Не может же моя бесценная Мира рожать в дороге.
– Ганнибал, – поправил я. – Ганнибал Иммануил.
Но мы уже переступили порог дома. Здесь нас с радостными возгласами окружили три тетушки и принялись осыпать Миру благословениями на еврейском языке. Прожив в этом доме два месяца, я знал, что в такие минуты с моей новой родней лучше не спорить.
– Тебя пришел проведать твой друг, – сказала мать Миры, расцеловав меня в обе щеки, и я поспешил ретироваться в атрий. Миру же под радостные крики потащили наверх.
– Вижу, у вас появился законный повод для ликования? – с улыбкой произнес Тит, вставая со скамьи под апельсиновым деревом. В одной руке он держал кубок с вином.
– Ах ты, негодяй! – шутливо оскорбился я. – Откуда тебе это известно?
– Твоя теща сказала мне, пока я тебя ждал, откуда еще.
– Мира говорит, что это будет мальчик, – произнес я и сел на скамью рядом с ним.
– И ты думаешь, она права?
– Может, да, может, нет, спорить не буду. – Тем временем ко мне подошла служанка, чтобы предложить мне вина, и мы с Титом подняли наши кубки. – А что привело тебя сюда, Тит? Да и вид у тебя какой-то важный. – Я окинул взглядом его белоснежную тогу.
– Я помогал императору.
– И после этого ты называешь меня его любимчиком! Теперь ты сам лижешь ему пятки!
– Он был со мной в высшей степени добр, но дело не в этом. Траян принял несколько решений относительно парфянской кампании, а кое-какие из них могли бы заинтересовать тебя.
Я опустил кубок.
– Например?
– Думаю, это известие может подождать. Мне кажется, с тебя достаточно новости, которую ты услышал от своей молодой жены. Лучше скажи мне, вы уже придумали будущему ребенку имя?
– Живо говори, поганец ты этакий!
– А вот ругаться совсем ни к чему, – пожурил меня Тит, хотя в глазах его плясали хитрые огоньки. – Придержи язык, ты ведь будущий отец.
– Да пошли вы все, и ребенок, и ты, куда подальше. Что ты узнал?
– Ничего особенного. Император решил усилить свою армию, которую он поведет в Парфию, тремя когортами из другого легиона. И этот легион – Десятый Фиделис.
– Проклятие! – взревел я. – Аквилифера вряд ли возьмут вести три когорты. Выходит, мне и дальше торчать в этом ненавистном Моге!
– Верно, – согласился Тит. – Аквилиферу, как ты только что выразился, и дальше торчать в Моге, но только не новому центуриону.
Я, разинув рот, уставился на него.
– Император только что произвел кое-какие подвижки среди офицеров Десятого, – продолжил тем временем Тит. – В результате одна центурия оказалась без начальника…
– Которая?
– Последняя в первой когорте, – Тит поднял кубок. – Мои поздравления, центурион.
Первая когорта.
Первая когорта – это лучшие из лучших, закаленные в сражениях воины, а их центурионы – это вообще ходячие легенды. С отличными перспективами. В тридцать лет – а это минимальный возраст для повышения – я получил под свое начало центурию в первой когорте. Испустив победный клич, я швырнул кубок через весь атрий. Ударившись о противоположную стену, тот разлетелся на тысячу мелких осколков. Я центурион! Наконец-то! Причем не где-нибудь, а в первой когорте!
– Правда, для начала тебе все равно придется вернуться в Могунтиакум, и вместе со всей когортой начать приготовления к походу.
Поход, подумал я, и сердце тотчас сильнее забилось в груди. Интересно, сколько времени займет путь до Парфии? Да и где она, эта Парфия? Наверняка, часть пути мы проделаем на кораблях. Проклятие! Я ведь не выношу корабли! Но и прошагать придется прилично. И все это время восемьдесят солдат будут смотреть мне в рот и беспрекословно выполнять мои приказы. А ведь многие наверняка будут старше меня годами и вряд ли будут рады тому, что ими командует какой-то мальчишка. От этих мыслей мне стало слегка не по себе, и я сглотнул застрявший в горле комок.
– Ничего, – успокоил меня Тит, видя мое замешательство. – Никто тебя ни в чем не упрекнет.
Когда мы объявили это известие, мать Миры расплакалась. Симон, и кое-кто из его горячих племянников, проворчали что-то неодобрительное насчет Парфянской кампании. Впрочем, я их не слушал, потому что моя собственная голова гудела. Мы с Титом подняли кубки за успех Парфянского похода, за Траяна, на богиню удачи, Фортуну, которая поцеловала меня в щеку. Мира тоже выпила вместе со мной, но как только я принялся поднимать тосты за парфян, благодаря которым я получил повышение, удалилась в спальню.
– Я непременно возьму в мою центурию Прыща, Юлия и Филиппа, – объявил я, провожая Тита до дверей дома. Было уже темно – Тит поддался на уговоры и остался на ужин. – Если я правильно помню, у центуриона есть такое право. И все снова будет, как в Дакии.
– Не совсем, – сухо заметил Тит. – Во-первых, у меня нет ни малейшего желания тащиться вместе с тобой в поход. Император предложил мне должность, но я отказался. Я просто не имею права уйти ни в какой поход, пока не закончу строительство бань. Но есть и другое отличие. Во время похода в Дакию рядом с тобой постоянно была совсем другая женщина. Надеюсь, ты не стал рассказывать о ней своей жене?
– Знаешь, пусть я варвар, но не идиот, – ответил я.
Скажу честно, мне было довольно непривычно видеть Сабину на ипподроме, даже с расстояния. Сидя рядом с императором, она была такая царственная, такая изящная, но моя Мира в два счета могла затмить ее своей красотой.
Я пожелал Титу доброй ночи, а сам вернулся в темный атрий. Большинство членов моего нового огромного семейства уже разошлись по своим спальням. В полумраке, задувая на ночь лампы, сновали лишь с полдесятка слуг. Я даже не заметил, как опустилась ночь. Впрочем, неудивительно, ведь мысленно я уже шагал в походном строю, двигаясь в сторону Парфии.
С тяжелым сердцем я поднялся по лестнице в нашу с Мирой комнату. Она была уверена, что мы вместе вернемся в Мог, и вот теперь… Женам центурионов жилось неплохо, пока легион отдыхал после походов за стенами форта. Но поход – это совершенно иное дело! Я с опаской посмотрел на темные очертания спящей Миры на кровати. Станет ли она плакать и стенать, как когда-то Деметра? Я потрогал амулет у меня на шее, тот самый, что когда-то подарил мне отец. Пока что он исправно хранил мне жизнь даже в самых кровавых битвах. Интересно, поможет ли он мне в битве с собственной женой?
– Ложись, – раздался в темноте голос Миры. – Мне одной холодно.
Я снял тунику и лег к ней в постель. Она, дрожа, тотчас зарылась мне под мышку и принялась тереть пальцы ног и мои голени. Я натянул на нас обоих мою потертую львиную шкуру.
– Значит, Парфия? – спросила Мира.
– Я солдат, и иду туда, куда мне приказано, – начал было я, но Мира прижала к моим губам палец, не давая мне договорить.
– Викс, я могла бы выйти замуж за Елеазера. У него несколько мясных лавок и вилла в Остии, и он наверняка бы не сбежал от меня на восток, помани его туда кто-то пальцем. Но я вышла замуж за тебя. – Она удобнее устроилась на моем плече. – Как долго тебя не будет?
– Поехали со мной!
– Что?
– Почему бы нет?
Внезапно мне захотелось взять ее с собой. Я привык, что она рядом со мной в постели, привык постоянно слышать ее голос, привык к тому островку бурной деятельности, который Мира неизменно создавала вокруг себя, и мне не хотелось ни с чем из этого расстаться.
Кроме того, взяв ее с собой, я смогу обойтись без шлюх, чьими услугами пользуются легионеры, надолго оставившие своих женщин, ведь походы растягиваются на долгие месяцы, а иногда и на годы. Мне же не хотелось изменять жене, по крайней мере в первое время нашего брака.
– Я не могу, – возразила Мира. – Жены не ходят вместе с мужьями на войну!
– Почему же? Легаты иногда берут в поход своих жен. Те едут впереди солдат и, если видят приличное место, делают там передышку. Ты могла бы поступать точно так же.
– Легат вряд ли даст разрешение, – не согласилась Мира.
– Оно и не требуется. Потому что мое подразделение будет подчинено напрямую императору. К тому же я у него в любимчиках.
– Вот как?
Я улыбнулся в темноте.
– В тот день, когда я впервые увидел тебя, я доставил ему во дворец целый ворох депеш. В разговоре он сказал, что намерен идти в Парфию, на что я ответил, что он непременно должен взять в поход меня и наш Десятый легион.
Скажу честно, мне самому с трудом верилось, что император помнит меня. Что в самый разгар подготовки к новой кампании, он повысил меня до центуриона. Я был готов лопнуть от гордости.
– Хм, – проворчала Мира, устраиваясь поудобнее. – А зачем вообще ему понадобилась Парфия?
– Все дело в новом царе. – Я погладил ее волосы, лежавшие на подушке шелковистой волной.
– А что с ним не так?
– Какая разница. Последние годы император только и был занят тем, что строил новые дороги, возводил новые арки и колонны в Риме. Неудивительно, что он заскучал.
– Никто не должен идти на войну лишь потому, что ему, видите ли, скучно, – решительно заявила Мира.
Лично для меня это была очень даже веская причина, но я не рискнул высказать свое мнение.
– Так что такого сделали парфяне, что он идет на них походом? – не унималась моя жена. – Особенно те из них, чьи поля вы вытопчите своими тяжелыми сапожищами?
– Ну не такие они и тяжелые, – пошутил я.
– Да они, как лодки, – ответила Мира. – Признайся честно, Викс, зачем тебе идти вслед за императором?
Вот на этот вопрос ответ у меня был.
– Потому что он великолепен!
– Он всего лишь очередной римский император, который ради забавы идет завоевывать несчастную страну.
– Неправда!
– Это почему же?
– Ты его просто не знаешь, а когда узнаешь, поймешь сама.
– Не понимаю я вас, римлян, – резко заявила Мира. – Вы готовы что угодно простить человеку за его очаровательную улыбку. Кстати, император, приказавший осадить Масаду, тоже был само очарование.
– Ты говоришь, совсем как Симон.
В последнее время мой друг стал слишком обидчив и вспыльчив, стоило разговору зайти о его бедной и несчастной Иудее. И еще он очень не любил, когда ему напоминали про его службу в Десятом.
– Но что в этом плохого? У твоих римлян завидущие глаза. Стоит им увидеть нечто такое, что им хотелось бы иметь, как они прибирают вожделенную вещь к рукам. Будь то чаша вина или новая провинция. И твой очаровательный Траян – такой же, как и все они.
– К чему весь этот разговор о старых грехах? – вспылил я. – Траян не осаждал Масаду. При чем здесь все это?
– Но…
Я обнял ее и поцеловал в шею, затем мои губы двинулись дальше, к мочке уха, и она повернулась ко мне лицом.
– Ты и вправду хочешь, чтобы я отправилась в поход вместе с тобой? – прошептала она, касаясь губами моих губ.
Я погладил ее живот и внезапно ощутил укол совести.
– Зря я тебя об этом спросил. Ребенок…
– Я не из тех женщин, что готовы все девять месяцев просидеть в четырех стенах и боятся поднять даже чашу с вином, – сурово произнесла Мира. – Я могу ехать в повозке, без всякого вреда для маленького Ганнибала Иммануила. Так что, если ты хочешь…
– Еще как хочу!
Спустя два дня я получил приказ от императора, ящик, полный депеш для легата Десятого Легиона и новый гребень на шлем, знак моей новой должности. На следующий день я усадил Миру и ее едва наметившийся животик на повозку, пообещав, что встречу ее в Антиохии, пожелал всего доброго моей новой родне и взял курс на север.
– Удачи тебе, – сказал мне на прощание Симон, правда, довольно кисло. Он с самого начала не одобрял, что Мира вышла за меня замуж. Подозреваю, ему было неприятно, что его любимая племянница вышла замуж за того, с кем он когда-то вместе ходил по шлюхам.
– Как сказал поэт, еще ни один трус не достигал вершин, – сказал Тит, чуть веселее, чем Симон. – И как хорошо, что страх тебе неведом. Верно я говорю?
Но я толком не слушал ни того ни другого. Глядя вдаль, я теребил гребень моего нового шлема.
Плотина
– Я не понимаю, госпожа.
– Неправда, ты все прекрасно понимаешь, Гней Авид, – возразила Плотина и подтолкнула через стол восковую табличку, чтобы претор, отвечавший за новый проект Траяна, мог взять ее в руки. – Мои секретари обратили мое внимание на разницу, и я лично проверила все числа. Ты потихоньку прикарманивал часть тех сумм, которые император выделил на строительство нового форума.
– Госпожа, уверяю тебя…
– Только избавь меня от твоих лживых заверений, – ответила Плотина, смахивая со стола видную только ей одной пылинку. – Заказ на новые инструменты и материалы вот здесь. Где они? Никаких инструментов и материалов не получено. Заказ на новую партию камня. И где он? Так и не прибыл из каменоломни. Из этого следует, что еще несколько сестерциев легли в твой карман, Гней Авид.
– Нет, это не я! Просто какой-то мошенник греет руки на моем жалованье! Если необходимо, я могу представить собственные отчеты!
Нахмурив брови, претор взял в руки восковую табличку.
– Спасибо, госпожа, что сообщила мне об этом мошенничестве. Обещаю, я сделаю все для того, чтобы поймать вора за руку, и тотчас отстраню его от работы.
– Разве это я тебя просила делать? – Плотина задумчиво подняла глаза к потолку. Карниз в углу перерезала трещина – ну почему управляющий ее не заштукатурил? Неужели императрица Рима должна лично заниматься такими вещами? – Средства на форум выделяются щедрые. Так что в небольших утечках ничего страшного нет. Я готова закрыть на их глаза. При условии, что ты готов поделиться со мной. Предлагаю поделить эти суммы пополам.
Претор с минуту молчал, затем поднялся с места и отвесил поклон.
– Давайте будем считать, что я не слышал этих слов, – произнес он. – А с вором я разберусь так, как сочту нужным. Я не позволю, чтобы на вверенном мне строительстве расхищались выделенные самим императором деньги.
– О боги, – вздохнула Плотина, когда он, возмущенно топая, вышел за дверь. Как много, однако, в Риме непорядочных людей! Правда, обычно они как за спасительную соломинку хватались за предложение императрицы. Ничего, ухабы и рытвины бывают на любой, даже самой гладкой дороге. Плотина аккуратно перечеркнула на табличке имя Гнея Авида. Пожалуй, ему подойдет какой-нибудь другой пост, где-нибудь в провинции. Там, где жарко и где легко подцепить любую болезнь. Зато его преемник наверняка окажется более сговорчивым.
– Мне казалось, что как только дорогой Публий станет консулом, я могу с чистой совестью уйти на покой, – сказала Плотина своему отражению в зеркале. – Но это оказалось только началом.
Сколько же еще понадобится средств, чтобы обеспечить ему тот пост, какой она прочила ему для Парфянской кампании! Она помнила о нем, когда сослала несговорчивого претора в Африку, тем более что предлог нашелся. Нет конечно, к чему лишний раз думать о неприятном? О том, что кто-то отправился в изгнание, умер на чужбине, заболел, разорился? Самое главное – долг, напомнила себе Плотина. И пусть кто-то станет утверждать о том, что она-де вмешивается не в свои дела, например, та же императрица Марцелла – все, что она делает, она делает во славу Рима.
Изгнать второго неугодного ей претора оказалось гораздо проще. Третьего она изгонит, даже не моргнув глазом.
Сабина
Голос у Плотины был низкий, грудной. У Адриана еще ниже. Но оба явно были довольны. Это самодовольство исходило от них волнами, распространяясь по всему триклинию. Сабина могла поклясться, что видит его, когда спустилась вниз по лестнице из своей спальни. На какой-то миг она застыла в атрии, чтобы поправить непокорный локон, что выбился из прически, а заодно послушать обрывки разговора, которые доносились из-за полуоткрытых дверей.
– Начальник личного штаба императора! – воскликнул Адриан, с чувством проговаривая каждое слово. – Я надеялся получить легион, но это еще лучше!
– Мой дорогой Публий, я же пообещала тебе, что уговорю императора дать тебе подобающий пост.
Низкий голос Плотины сопровождало позвякивание металла о металл – это слуги наливали вино в кубки. Траяна за столом не было, он умчался в Остию на смотр каких-то войск, однако императрица решила устроить скромный пир в честь нового назначения Адриана. То есть скромный по меркам Плотины: на ложах триклиния сегодня возлежали она сама, дорогой Публий, Сабина, бледная сестра Адриана, которую он сам терпеть не мог, муж сестры, которого он не мог терпеть еще больше, а также двадцать две важных персоны, которых пригласили лишь для того, чтобы заручиться их поддержкой, а заодно полюбоваться на их зеленые от зависти лица.
– Поздравляю с новым назначением, – раздался чей-то негромкий голос. Тит. Сабина была рада, что ей удалось втиснуть его в список гостей, составлением которого занималась Плотина. Если учесть, что она намеревалась сделать, было неплохо иметь среди гостей хотя бы одного друга. – Могу я спросить тебя, каким образом ты намерен осуществлять снабжение армии?
Увы, Плотина перебила его вопрос.
– Мой муж проявлял завидное упрямство, однако несколько легатов передумали и кинулись уговаривать моего Публия. Кстати, как я и предсказывала. Ты должен и дальше доверять мне, мой мальчик.
– Никогда больше не усомнюсь в твоей мудрости, – галантным тоном ответил Адриан. – Пирожных?
– Нет, давай сначала подождем Сабину. Вибия Сабина!
– Минуточку! – крикнула та в ответ, приминая влажными ладонями юбку.
Плотина издала негромкое ворчание, после чего вновь послышался голос Адриана.
– Я даже не надеялся получить должность при штабе, – лениво произнес Адриан и, опершись на локоть, вальяжно откинулся на подушки.
– Чепуха, мой дорогой. Твои способности, твое умение работать с подчиненными – было бы обидно, чтобы все они были растрачены всего на один легион. Да, бразды командования армией в руках Траяна, но бразды управления – в твоих.
В голосе Плотины слышались самодовольные нотки. «Гости наверняка уже потихоньку закатывают глаза, – подумала Сабина, – или же просто пропускают все эти похвальбы мимо ушей и потихоньку напиваются допьяна».
– И это не преувеличение, мой дорогой Публий, если я скажу, что теперь ты второй человек во всей империи.
Увидев Сабину, служанка, спешившая с подносом пирожных, споткнулась и лишь чудом удержала равновесие и, бросив на хозяйку растерянный взгляд, засеменила дальше. Сабина же многозначительно прижала палец к губам – мол, тс-с! Служанка покачала головой и шагнула в триклиний.
– Мы отправляемся в Антиохию раньше, чем император, – вещал Адриан со своего конца стола. – Он может полагаться на меня. К его прибытию все легионы восточной армии будут в полной готовности.
– На протяжении всего похода тебе лучше оставаться в Антиохии, – сочла нужным вставить свое веское слово Плотина. – Так гораздо удобнее.
– Да, тем более что я всегда мечтал побывать в этом городе, – в голосе Адриана прозвучали задумчивые нотки. Когда-то, подумала Сабина, он мог разразиться пламенной речью в адрес знаменитых храмов и колоннад Антиохии, сравнивая их с храмами и колоннадами Рима. Теперь же его голос звучал устало и напыщенно:
– Я уверен, нам есть, чему поучить местных жителей. Говорят, они начисто лишены свойственных нам, римлянам, добродетелей, что им не ведомы порядок и дисциплина.
Сабина нагнулась, чтобы зачем-то еще раз поправить ремешок сандалии. Хватит тянуть, приказала она себе. Мимо, с графином ячменной воды прошел юный раб. Увидев хозяйку, он, опешив, испуганно вытаращил глаза, и не сразу пришел в себя.
– Я слышала, что эти антиохийцы – народ в высшей степени малоприятный, – раздался тем временем из-за двери голос Плотины. – Хитрые, изворотливые людишки. Впрочем, нечему удивляться. Сказывается пагубное влияние Востока. Мужчины все как один страшные развратники, а женщины и того хуже. Ты должен приложить все усилия к тому, чтобы репутация Сабины осталась незапятнанной. Не секрет, что она любительница злачных мест.
О боги, этого ей только не хватало! Сабина выпрямилась, гордо вскинула подбородок и шагнула к двери.
– Я уверен, что Сабина будет мне полезна, – спокойно возразил Адриан. – Хотим мы этого или нет, но мы будем вынуждены поддерживать с местными жителями добрые отношения. Вот здесь-то нам и пригодится ее своеобразное очарование.
– Обещаю сделать все, что смогу, – громко произнесла Сабина, с самой своей ослепительной улыбкой входя в триклиний. – Плотина, уважаемые гости, я рада вас всех видеть.
Плотина оторопела. Рука ее, тянувшаяся за пирожным, застыла в воздухе, как будто сама она превратилась под темно-синим шелком платья в каменное изваяние. Брови Тита медленно поплыли вверх. Гости растерянно переглянулись. Адриан, вальяжно устроившийся на пиршественном ложе, поднес к губам кубок, однако, заметив, что все таращатся на вошедшую в триклиний Сабину, посмотрел в ее сторону. И, поперхнувшись от неожиданности, застыл с кубком в руке. При этом, вино, которое он только что отпил, выплеснулось изо рта и, пролетев красноватой дугой, забрызгало мозаичный пол. «Так тебе и надо», – подумала Сабина.
– Что это? – взревел он, поднимаясь с ложа.
– Ты сам только что сказал, что нам нужно поддерживать с антиохийцами добрые отношения, – ответила Сабина и, сделав невинное лицо, заморгала. – Или тебе не нравится? Просто это последняя антиохийская мода. Мне почему-то подумалось, что если следовать местным обычаям, это должно расположить к нам местных жителей. Скажи, Плотина, ты согласна?
Адриан, Плотина, Тит и еще двадцать самых влиятельных фигур Рима – сенаторов, легатов, офицеров, чиновников – растерянно переводили взгляд от ее обведенных черной краской глаз к тяжелым золотым серьгам, свисавшим едва ли не до обнаженных плеч. По одной руке почти до самого локтя змеился витой браслет. Платье же было таким тесным и узким, что казалось второй кожей, пришитой к ее телу. Более того, оно оставляло одну грудь обнаженной. И как будто этого было мало, сосок был выкрашен алой краской в тон таким же ярко-алым ногтям на руках и ногах.
Лишившись дара речи, Плотина возмущенно отвела глаза. Тит поспешил поднести к губам кубок, лишь бы только – Сабина была готова поклясться – спрятать улыбку.
– Что все это значит? – процедил сквозь зубы Адриан.
– Ну, мы же не хотим, чтобы антиохийцы думали о нас, будто мы, римляне, не знаем местных обычаев, – сладким голоском пояснила Сабина и прошлась по залу, чтобы гости могли взглянуть на нее со всех сторон. Вид слева особенно поражал своей смелостью. – Вот увидишь, Адриан, местные жители в меня сразу же влюбятся. И вообще разве не поэтому ты женился на мне? Ведь я умею очаровывать людей, независимо от их места рождения и положения в обществе.
Адриан открыл было рот, но предпочел промолчать. Плотина залилась краской и сделалась пунцовой до самой шеи.
– Вибия Сабина! – гневно произнесла она.
Сабина же мелкими шажками – большие не позволяло сделать узкое платье – направилась к столу. От нее не скрылось, что все присутствующие, в том числе секретарь Адриана, мальчишка-раб с вином, дюжина слуг и двадцать четыре гостя стыдливо отводят глаза, стараясь не таращиться на ее голую грудь. Не обращая на них внимания, она протянула руку и нежно похлопала Адриана по щеке.
– Дорогой, ты будешь мною гордиться!
– Извини, – добавила она, обращаясь к Титу. – Я пригласила тебя на пир, но вместо вкусной трапезы тебя здесь потчуют ходульными речами.
– Обещаю, что запомню этот пир на всю жизнь, Сабина. Пусть разговор за столом был скучен, зато какой возмутительный скандал!
Сабина улыбнулась. Адриан застыл посреди атрия, провожая последних гостей. Плотина стояла с ним рядом и что-то бормотала в оправдание. Когда же Тит решил последовать примеру других гостей, Сабина схватила его за руку и потащила за собой в сад.
– Давай хотя бы попрощаемся так, как надо. Не думаю, что ты сломя голову бросишься рассказывать всему Риму о том, как низко я пала.
– Но разве не на это ты рассчитывала? – он посмотрел на ее платье, на которое она скромно накинула шаль, как только пир подошел к концу и гости покинули дом. – Скажи, Сабина, что ты задумала?
Сабина пожала плечами и, опершись локтями на балюстраду, посмотрела на залитый лунным светом сад. Даже через шаль она грудью ощущала холодок мрамора и мечтала лишь об одном – поскорее сбросить с себя тесное антиохийское платье. Интересно, неужели низко пасть можно только в неудобном платье?
– Мы ведь прощаемся, не так ли? – спросила она Тита. – Я уезжаю в Антиохию, ты же остаешься в Риме.
– Я должен закончить строительство бань, – уклонился от прямого ответа Тит. – Кроме того, на мне лежат обязанности квестора.
– Ты мог бы поучаствовать в походе. Траян наверняка бы не имел ничего против и даже дал бы тебе должность в своем штабе. Вместо этого Плотина и ее ручные легаты выбили у него должность для Адриана. Но все равно Траян держит тебя на примете. Он как-то раз сказал, что с удовольствием взял бы тебя с собой в поход, чтобы – как он выразился – привить тебе вкус к сражениям. Скажи, почему ты не воспользовался такой возможностью?
– Песок, – ответил Тит. – Насекомые. Местные племена, которые только и делают, что пытаются лишить тебя жизни. Так что покорнейше благодарю. Уж лучше я останусь со своими банями и буду следить за тем, как расходуется городская казна.
– Ты просто зарываешь в землю свои таланты. Кстати, Траян тоже так считает. И пусть ты не стал добиваться для себя должности при его штабе, у него для тебя есть другие планы.
– Интересно, с чего бы это? Помнится, в Дакии трибун из меня был никакой. Да и сейчас я самый нерасторопный квестор во всем Риме.
– Траян говорит, что у тебя отличная голова на плечах. И еще, по его словам, ты один из немногих в Риме, – не считая его легионов, – кто всегда прямо отвечает на все его вопросы. – Сабина подняла глаза на Тита. – В один прекрасный день ты станешь консулом.
– Только не это! – Тит облокотился на балюстраду рядом с ней и посмотрел вдаль поверх цветочных клумб. – Подумай сама, я ведь все завалю!
Сабина не спешила с ним согласиться. Тит, по-прежнему серьезный и задумчивый, в последнее время приобрел уверенность в себе. Это было заметно и по тому, как он себя держал, и по зоркому, проницательному взгляду. Не скрылось это и от Траяна, который имел далеко идущие планы для молодого, но подающего большие надежды Тита Аврелия. Выделяли его и другие влиятельные люди Рима, в том числе и ее отец.
– Я буду скучать по тебе в Антиохии, – сказала Сабина, чувствуя, как защемило сердце от предстоящей разлуки. Тит был ее верным другом с того самого дня, когда он вошел в ее жизнь с букетиком фиалок и, заикаясь, предложил руку и сердце. В Риме, в Дакии, в своих письмах к ней в Паннонию, он всегда был вместе с ней, пусть даже мысленно.
– Я буду тебе писать. Надеюсь, у тебя тоже найдется свободная минута черкнуть мне пару строк? Поскольку у тебя теперь такой богатый строительный опыт, я надеялась получить у тебя совет, как быстро и дешево покончить с трущобами. Я слышала, что трущобы Антиохии – еще страшнее, чем наша Субура. И пока я буду пережидать там зиму, хотелось бы взглянуть на них своими глазами и хоть чем-то помочь.
– Напиши мне, как только доберешься до места и у тебя будут все необходимые факты и цифры. Тогда мы попробуем что-нибудь придумать.
Они выпрямились и обменялись печальными взглядами.
– Ты выглядишь просто потрясающе, – произнес Тит, окинув ее на прощание взглядом с головы до ног.
– На самом деле, никакое это не антиохийское платье, – призналась Сабина. – Я просто попросила портного сшить мне что-нибудь такое, что наверняка потрясет всех, – добавила она, плотнее заворачиваясь в шаль. Почему-то в присутствии Тита ей было неловко в отличие от общества Плотины и Адриана.
– Нет-нет, – Тит поймал край ее шали и потянул на себя, пока та не соскользнула с плеч Сабины. – Не надо стесняться, пусть все увидят, какая ты красавица.
– Неужели?
– По крайней мере я еще не налюбовался. Или ты не знала, что я люблю тебя?
– Что ты сказал?
Вместо ответа, Тит нагнулся и неторопливо поцеловал ее в губы. Его рука скользнула по ее шее, плечам, груди…
– Не надо, – взмолилась Сабина, когда он наконец оторвался от нее.
– Не такие слова я надеялся услышать, – прошептал Тит.
– Я не о поцелуе. Он был потрясающий. Я о другом.
– О том, что я тебя люблю? – При всей их серьезности, слова эти прозвучали довольно легкомысленно. – Да, с того самого дня, когда мы с тобой познакомились, если тебе это интересно. Ты была для меня всем, о чем только может мечтать шестнадцатилетний мальчишка. И с тех пор он не видел ничего лучше.
– Я не знала, – прошептала Сабина. Ей тотчас вспомнились вечера в Дакии, когда она, сидя на коленях у Викса и обняв его за шею, весело болтала с Титом, и от этих воспоминаний ей стало не по себе. – Но почему я? На самом деле, я не такая уж и красивая.
– Тебя любил Викс.
– И ненавидел ничуть не меньше. Тем, кто меня любит, со мной нелегко.
– Лично я не намерен предаваться душевным терзаниям, – шутливо ответил Тит. – Если хочешь хорошо жениться, женись на своей ровне, как сказал Овидий. Мы же никогда не были ровней, ведь так? Если бы мы поженились, я бы доконал тебя своим занудством.
«Занудством, но не ненавистью, как Адриан», – подумала Сабина. При этой мысли ей почему-то стало больно, как будто она потеряла дорого ей человека. Будь она женой Тита, разве стояла бы она сейчас здесь в этом тесном, неудобном платье…
– Прости, – прошептала она, сама толком не зная, за что просит прощения.
Тит вновь нагнулся и поцеловал ее – сначала в губы, затем в обнаженную грудь.
– Спокойной ночи, Вибия Сабина.
– Спокойной ночи.
Сабина осталась стоять у балюстрады, а Тит, что-то насвистывая, пошел прочь. Он даже не оглянулся, однако Сабина проводила его глазами, глядя ему вслед, пока его силуэт не растворился в темноте ночи.
Когда она повернулась, то заметила, что в арке позади нее с перекошенным от гнева лицом застыла Плотина.
– Я все видела, – возмущенно воскликнула императрица.
– Отстань! – бросила ей Сабина и тоже пошла прочь.
(обратно)
Глава 21
Викс
– Вот такие дела, центурион, – сказал лавочник, которому я несколько лет платил за то, чтобы он присматривал за сыном Деметры. Он стоял передо мной, неловко переминаясь с ноги на ногу, явно не зная, с чего начать. – Моей жены больше нет, мои собственные дети теперь будут жить у тетки, а у нее нет места для еще одного, и…
– То есть, ты возвращаешь мальчонку мне? – процедил я сквозь зубы. – И это при том, что через две недели мне идти с походом в Парфию?
– Знаю, – вздохнул лавочник и в очередной раз прочистил горло. – Лично я ничего против него не имею, но содержать его больше не могу.
Я посмотрел на сына Деметры, которому уже стукнуло семь. Скажу честно, я едва узнал его, когда, пригнув голову, чтобы не задеть низкий потолок, вошел в лавку. Это был симпатичный для своего возраста мальчуган, светлые кудрявые волосы и выразительные глаза. Правда, сейчас, стоя между мною и лавочником, он выглядел бледным и напуганным и то и дело вертел головой, растерянно глядя то на одного, то на другого.
– Драться умеешь? – спросил я его, сложив на груди руки.
– Нет, – прошептал мальчуган.
– А стрелять из лука?
– Нет.
– Пользоваться ножом?
– Нет.
– Проклятие!
Со своей кудрявой головой и длинными ресницами он скорее походил на девочку. Я вновь повернулся к лавочнику.
– Подержи его у себя еще пару недель. За это время я найду, к кому его можно пристроить.
Мне было слышно, как мальчонка испуганно ахнул у меня за спиной. Но у меня было полно дел, моих собственных дел. На моих плечах лежала ответственность за целую центурию, тем более, сейчас, накануне похода. А времени, чтобы к нему подготовиться, оставалось в обрез, всего две недели.
– Викс, только не это! – воскликнул Прыщ, когда я через складной стол, на котором были разложены мои бумаги, бросил ему ремень и знаки отличия опциона. – Разрази тебя гром, я не желаю быть опционом! Ведь их все ненавидят, и поделом. Скажи, ну почему ты ко мне пристал?
– Потому что ты слишком глуп, чтобы проворачивать за моей спиной свои делишки, слишком весел, чтобы меня ненавидеть, и слишком велик, чтобы тобой можно было помыкать, – ответил я. – Иными словами, ты тот, ко мне нужен. Кстати, ты болван, никакой я тебе больше не Викс, а центурион. Выметайся из моей палатки и займись проверкой готовности оружия. К утру мне нужен подробный отчет, чего не хватает.
– Не было печали! – буркнул Прыщ, и его румяная галльская физиономия стала под цвет его алому плащу. Громко топая, он вышел вон. Никто из моих товарищей по контубернию не обрадовался моего повышению, тем более что по моей просьбе все они оказались в моей новой центурии. Впрочем, рады они или нет – меня не интересовало. Я уже столько лет мечтал стать центурионом и хорошо знал, какие солдаты мне нужны.
Я выпрашивал, выменивал, брал взаймы, подкупал других центурионов, лишь бы только отобрать для похода в свою центурию лучших из лучших.
– Я заплачу тебе недельное жалованье за твоего огромного африканца, как там его имя?
– Африкан. Но даже не надейся, я его тебе не отдам. Потому что он стоит троих.
– Тогда как насчет трехнедельного жалованья? Может, согласишься?
– Ишь, какой умник выискался, – буркнул в ответ на мое предложение другой центурион.
Скажу честно, все они меня не жаловали. Еще бы! Где это видано, чтобы простой аквилифер получил под свое начало легион первой когорты, в то время как они медленно прокладывали себе путь наверх. Закаленные боями вояки, большинство из них лет на десять, а то и двадцать старше меня. Я был самым младшим из них, и то и дело испытывал на себе их суровый нрав, но мне было все равно. Начиная с того момента, когда три когорты Десятого легиона выступили из Мога, чтобы влиться в более мощную колонну, двигавшуюся на восток, я ощущал в груди радостное биение, как будто каждый удар сердца, разгонявший по моему телу кровь, выбивал ликующий ритм «В поход, в поход, в поход!».
Начало марша я помню плохо. Мы вышли из Мога ускоренным шагом, горя желанием поскорее вступить с противником в бой, и каждый вечер валились с ног от усталости, вымотанные настолько, что у нас не оставалось сил даже на жалкий плевок. Центурионы обычно объезжают свои колонны верхом, мне же меньше всего хотелось вылететь из седла на глазах у тех, кем я командовал; тех, кто был обязан меня уважать или даже трепетать предо мной. Так что я, как и все мои солдаты, обвешался оружием и, невзирая на тяжелый вещмешок, сам задавал шаг. Мне было слышно, как в первый день солдаты недовольно переговаривались за моей спиной. В конце концов мне это надоело, и я рявкнул:
– Походную песню запевай! И погромче. А кто не будет драть глотку, тому я лично надеру задницу.
Вскоре моя центурия, время от времени недобро косясь в мою сторону, уже вовсю горланила куплеты про то, как парфяне пользуют своих овец. На недобрые их взгляды я не обращал внимания, а когда наступило время становиться лагерем на ночь, подавив в горле нервную дрожь, командирским тоном принялся раздавать приказы. Более того, когда мне не понравилось, как стоят три палатки, я велел снять их все до одной и поставить заново.
– И это вы называете лагерем? Живо все переделать! – рявкнул я. Солдаты тотчас засуетились, я же не без злорадства принялся наблюдать за ними.
– Вот гад, – услышал я, как проворчал кто-то из них, когда эта процедура повторилась в третий раз. – Еще месяц назад он был такой же, как мы. Стоило императору похлопать его по плечу, как он принялся задирать нос. Тоже мне, центурион!
Не могу сказать, что это сильно меня задело, но проучить наглеца стоило.
– Эй, ты, вперед! – приказал я. Другие легионеры встали вокруг меня. Недовольный неохотно вышел вперед. Мне тотчас стало не по себе: им оказался Юлий. Мой бывший товарищ по контубернию смерил меня колючим взглядом. Что ж, оно даже к лучшему, подумал я. Пусть вся центурия знает, что у меня нет любимчиков, даже из числа моих бывших друзей.
– Давай уясним раз и навсегда, – произнес я начальственным тоном, хотя скажу честно, в душе моей шевельнулся страх. От меня не скрылось, как поморщился стоявший неподалеку от меня Прыщ, как будто точно зная, что сейчас последует. Другие просто отвернулись.
– В чем дело? – хмуро спросил Юлий, и в его голосе слышался вызов. Из всех моих бывших товарищей по контубернию он один болезненно воспринял мое повышение. Но я никак не ожидал, что он так озлобится.
– «В чем дело, центурион»! – рявкнул я в ответ. – Сейчас речь пойдет не о том, где ты проведешь ближайшие три дня, громко выражая свое недовольство. Я притворюсь, что ничего не слышу, пока ты не скажешь что-то такое, чего я при всем желании не смогу пропустить мимо ушей, и тогда я буду вынужден поставить тебя на место. Сегодня ж просто тебе врежу, чтобы не тратить зря время, ни свое, ни других. Если хочешь, можешь дать мне сдачи. В конце концов когда-то мы спали в одной палатке, а иногда даже спасали друг другу жизнь. К тому же сейчас на мне ни шлема, ни медалей.
Мне пришлось врезать ему дважды, прежде чем он тоже замахнулся на меня. Его кулак попал мне под дых – Юлий был ниже ростом, зато более коренастый и крепкий, что даже к лучшему: думаю, все были только рады, что мне попался достойный противник. Я позволил моему бывшему товарищу пустить мне кровянку из носу и выждал, видя, как по его физиономии расплывается самодовольная улыбка. Вот тогда-то я и применил прием, которому научил меня отец. Одно короткое движение, и Юлий полетел лицом в грязь.
– Вот так-то, – произнес я в назидание, выпрямляясь. – Мне наплевать, что мы спали с тобой в одной палатке. Мне наплевать, что когда-то мы сражались бок о бок. Пока ты шагаешь в строю этой центурии, я не услышу от тебя больше не единого слова. – Подняв с земли свою львиную шкуру, я набросил ее на плечи. – А вы все остальные, вы хотя бы знаете, кто я такой? Я тот, кто принес императору голову дакийского царя. Я тот, кто нес вашего орла. И вот теперь я ваш центурион, вы, злобное крысиное дерьмо, так что попридержите языки и делайте, что вам говорят.
– Что такое дерьмо? – спросил меня сын Деметры, когда я вернулся к себе в палатку.
– Это что-то такое, что нужно научиться говорить, чтобы никто не подумал, будто ты девчонка. А теперь найди мне какой-нибудь лоскут.
Мальчонка порылся в мешке и извлек оттуда ворох старой одежды, которую я приготовил на повязки.
– Ты это нарочно придумал?
Я посмотрел на него, как будто плохо понимая, что он здесь делает. Нет, я вправду плохо понимал, зачем я тогда вернулся в лавку, ведь мне ничего не стоило уйти в поход, и все. Но я вернулся и, посмотрев на его симпатичную мордашку, сказал:
– Собирай свои вещи. Мы отправляемся в Парфию.
Наверно, зря я это сделал. Наверно, сначала я должен был хотя бы спросить у Миры, согласна ли она взять с собой ребенка чужой женщины, когда ее собственный был на подходе. Я пока что плохо разбираюсь в женах, но мне почему-то кажется, что в таких случаях с ними нужно советоваться. Наверно, мне с самого начала следовало рассказать ей про сына Деметры. Я же, ухаживая за Мирой, строил из себя образцового жениха, а когда мы поженились, учился жить рядом с ней. И все это время мне так и не подвернулся удобный момент, чтобы рассказать ей про сына другой женщины.
Нет, зря я все не обдумал с самого начала, так было бы гораздо лучше. Но Мира уже уехала в Антиохию, и я не знал, что она мне скажет. Но этот кудрявый мальчуган смотрел на меня своими огромными карими глазищами, и я думал лишь одно: если кто-то не закалит его, не сделает из него настоящего мужчину, этот мир проглотит его, а потом, пережевав и переварив, выплюнет его косточки. Вот и сейчас он, скрестив ноги, сидел передо мной в моей палатке и вопросительно смотрел на меня.
– Так ты нарочно это придумал? И драку, и речь?
– Все, до последнего оскорбления, – ответил я, прижимая в носу лоскут, а сам подумал, смогу ли я после этого и дальше называть Юлия моим другом.
Ладно, какая разница. По идее он и так мне теперь не друг, а подчиненный.
– Зачем ты это сделал? – не унимался Антиной. – Теперь они все злые и ворчат.
– Сегодня ворчат, а завтра перестанут.
– Они тебя не любят.
– От них и не требуется меня любить. Уважать – это да.
– И они уважают?
– Пока нет. По крайней мере пока мы не выиграем пару сражений. А пока нет. Впрочем, я их не виню, на их месте я поступил бы точно так же.
Сын Деметры заморгал пушистыми ресницами. Нет, он точно был похож на девчонку.
– Я научу тебя сражаться, – пообещал я. – Начиная с завтрашнего дня на марше. А пока спи.
– Могу я завтра ехать верхом? – спросил он и, словно белка, юркнул в походную постель. – В повозке так скучно! Ты ведь не едешь верхом!
– Давай, если хочешь. Только потом пеняй на себя, когда отобьешь себе задницу.
Я уже засыпал, когда в темноте вновь раздался его голос.
– Скажи, а как я должен тебя называть?
Я зевнул и задумался. Пока что ему не было необходимости обращаться ко мне по имени. Во время моих редких визитов в лавку он лишь смотрел на меня широко открытыми глазищами и в ответ на мои вопросы невнятно мямлил «да» или «нет».
– В присутствии других называй меня центурион, – ответил я в темноте. – А так можешь назвать Виксом.
– Викс? – робко подал он голос, как будто опасаясь, что ему влетит от меня за подобную дерзость.
– Но ведь ты так бы называл меня, будь я твоим братом.
– Но ведь ты мне не брат.
– Но и не отец, – возразил я, хотя, как мне показалось, он предпочел бы называть меня отцом. Вот только мне это ни к чему. – У тебя был отец. Правда, я с ним не был знаком. Но вот будь я твоим братом, ты бы называл меня Викс. У меня в Британии есть братья и сестры, и они не намного старше тебя. Так что Викс будет в самый раз.
– Викс, – неуверенно повторил он.
– А теперь давай спать, Антиной.
Теперь, когда он стал моим подопечным, мне тоже не мешало запомнить его имя.
Тит
– Как насчет совета? – обратился Тит с вопросом к бюсту отца. Тот лишь посмотрел на него мраморным взглядом: холодный, немой, благосклонный. Тит глубоко вздохнул. Он уже давно не обращался за советом к отцу, вернее, к его каменному двойнику, однако эта старая привычка дарила ощущение уверенности в своих силах. – Мне ведь ни разу еще не приходилось произносить публичных речей. И я надеюсь на твою помощь.
Молчание.
– Ну почему мне никто не хочет помочь? – негромко спросил Тит, переводя взгляд с бюста отца на пустую нишу рядом с ним. Нишу, которую сегодня займет урна с прахом его деда, как только завершится похоронный обряд. Деда больше нет, и он, Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин, теперь глава семьи. Это к нему теперь люди будут обращаться за советом, а не он к ним.
– Снова разговариваешь со статуями? – в дверях, упершись кулачками в бедра, застыла Энния. – Люди подумают, что ты сошел с ума, а ведь ты теперь патерфамилиас. Глава семьи.
Тит простонал.
– Не напоминай.
– Можно подумать, от этого что-то изменится. – Она шагнула к нему, чтобы поправить складки его черной траурной тоги. – Там тебя уже ждут.
– Тогда пожелай мне удачи, – сказал Тит, накидывая на голову складку черной шерстяной ткани. Он сам не знал, кому предназначались эти слова, то ли отцовскому бюсту, то ли любовнице.
Небо было холодным и серым, что, однако, не мешало огромному множеству людей прийти, дабы воздать последние почести бывшему консулу и выдающемуся государственному деятелю Рима. Под торжественные звуки медных труб Тит шагал рядом с плакальщиками в масках, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Выставлять напоказ свое горе было бы неприлично. За ним, рыдая, шли его сводные сестры – женщинам в отличие от него плакать не возбранялось. Главе же семейства полагалось сохранять каменное спокойствие. Лишь в какой-то момент, когда он встретился взглядом с сенатором Марком Норбаном, который, хромая, торопился присоединиться к процессии, Тит почувствовал, как у него тоже защипало в глазах. Кстати, старый сенатор был не один. Рядом с ним в черных платьях шли его супруга и дочь. Приблизившись к колонне, Марк Норбан кивнул Титу как равному.
Нет, я не равный тебе, возразил про себя Тит. Я вообще никому не равный. Мне всего двадцать восемь, и я обычный чиновник. Так что, пожалуйста, не смотри на меня так, будто я важная фигура.
Увы, теперь в глазах окружающих он был важной фигурой – главой семейства, со всеми вытекающими отсюда обязанностями. Тит учтиво ответил на кивок Марка и зашагал дальше.
Будь у него выбор, похоронной процессией все бы и закончилось. Он оставил бы останки в склепе, а сам с облегчением вернулся бы для девятидневного траура домой: установил бы в нише бюст деда и время от времени разговаривал бы с ним, привыкая к своей новой роли.
Но сначала требовалось произнести в адрес покойного хвалебную речь, а для такого важного человека, как его дед, хвалебную речь полагалось произносить публично, с ростральной колонны на Римском форуме, чтобы ее слышал весь Рим.
«Держись, – мысленно сказал себе Тит. – Тебе уже случалось произносить речи. Пусть даже не с Ростральной колонны, где ее будет слушать плебс, чтобы затем перемывать мне косточки, комментируя каждое мое слово, каждую фразу, а заодно гадая, выйдет ли из меня важная политическая фигура или нет». Еще ни разу не произносил он речей перед таким скоплением народа. И что самое главное, это не сенат, где многие тихо дремлют, убаюканные голосами ораторов, вещающих про налоги и петиции. Сегодня его действительно будут слушать, внимая каждому его слову. Тит проглотил застрявший в горле комок. Процессия тем временем достигла форума. Площадь перед колонной была забита до отказа. Возникало ощущение, будто сюда стекается весь Рим. Медные трубы стихли. Почти ничего не видя перед собой, Тит по ступенькам поднялся на платформу и встал лицом к толпе. Обращенные к нему лица казались размытыми розовыми пятнами. Он заморгал, пытаясь вернуть зрению фокус, и в следующий миг увидел все: и нахмуренные брови, и напряженное ожидание, и зевки, и зависть, и насмешливые ухмылки. Нет, лучше бы все по-прежнему оставалось размытым пятном.
Впрочем, взгляд выхватил из толпы несколько дружеских лиц – пару знакомых квесторов, архитектора, который разрабатывал проект новых бань, и других. Стоя между женой и дочерью, сенатор Норбан улыбался, пытаясь вселить в него уверенность. Кстати, сегодня с сенатором была его младшая дочь, Фаустина. Сабина уже отбыла в Антиохию, и до нее наверняка еще не дошла весть о кончине его деда.
«Через месяц ты получишь от нее письмо», – напомнил себе Тит. Увы, он с великой радостью обменял бы письмо, и собственные руки в придачу, на то, чтобы сегодня она была здесь, чтобы стояла в толпе, подбадривая его взглядом. Сабина наверняка улыбнулась бы ему и едва заметно кивнула, помогая избавиться от застрявшего в горле кома… Тит представил ее губы, как он припадает к ним в поцелуе, представил упругость ее груди под своей ладонью, и заморгал, отгоняя наваждение. О боги, разве об этом думают на похоронах, тем более что с минуты на минуту ему придется произносить хвалебную речь в честь покойного деда.
По толпе пробежал шепоток нетерпения, размытые розовые лица насупили брови. Тит прочистил горло, засунул одну ладонь в складки тоги и вскинул подбородок. С чего же начать? Каким полагается быть первому предложению? Он не раз проговаривал для себя свою речь – серьезную, хорошо продуманную, призванную воздать должное многочисленным заслугам деда. И вот теперь он не мог вспомнить ни единого слова.
Тит в отчаянии поводил глазами по толпе, пока его взгляд не упал на сестру Сабины. Фаустина ростом была выше матери, и даже отца. Ее светлые волосы покрывала черная вуаль. Она вся подалась вперед, как будто хотела помочь ему извлечь из глубины души застрявшие там слова, и незаметно кивнула.
Тит прочистил горло.
– Уважаемые граждане Рима, – начал он, сильным, не дрогнувшим голосом. – Марциал говорит нам «Скорбит тот, кто скорбит в одиночку». Но сегодня, когда от нас ушел такой уважаемый человек, как мой дед, Гней Аррий Антонин, мы, граждане Рима, скорбим вместе.
И он гладко, без единой запинки, довел свою речь до конца.
Викс
В народе Антиохию называли восточным Римом, но лично я не нашел с ним ничего общего. Нет, здесь были и колоннады, и акведуки, и цирковые арены, но на Рим это не было похоже даже близко. Местные мужчины отращивали длинные волосы, на манер женщин, и, как женщины, красили ногти. На улицах города звучала самая разная речь – еврейская, латынь и еще добрый десяток неизвестных мне языков и наречий. А еще я всего на одном рынке насчитал больше шлюх, чем во всех римских трущобах. Но, может, это были и не шлюхи вовсе. Просто они так одевались – ярко и вычурно.
– Мой бывший аквилифер? – поприветствовал меня Траян, когда нагрянул с инспекцией в нашу когорту. Впрочем, он не столько проверял нашу готовность к походу, сколько раздавал солдатам обещания богатой добычи и громких триумфов, которые ждали их в наступающем году.
– Надеюсь, морское путешествие не доконало тебя.
– Но было близко к тому, Цезарь, – ответил я, салютуя моему императору.
– Смотрю, ты все еще носишь львиную шкуру, которую снял с Децебала. Неужели тебе не хочется передать ее новому аквилиферу?
– Только через мой труп, Цезарь.
Мех уже порядком поистерся, но я все равно носил его поверх моего алого плаща, и центурион копейщиков вечно хмурил брови, глядя на меня.
– Центурионам не положены никакие шкуры, – не раз строго выговаривал он мне. – Немедленно сними.
– Слушаюсь, – отвечал я и даже не думал выполнять его требование. Эту шкуру я получил из рук самого Траяна. И вот теперь та же самая рука похлопала меня по плечу, поздравляя с повышением. Центурион копейщиков оставил меня в покое. Впрочем, он уже успел проникнуться по мне неприязнью, хотя лично я не питал к нему никакой ненависти. Более того, с нетерпением ждал тех приятных моментов, когда он, сам того не ведая, поможет мне получить его должность. Он был центурионом первой колонны, поскольку возглавлял первую центурию первой когорты, и потому считался первым из центурионов нашего легиона. Я же был уверен, что могу делать это куда лучше этого солдафона.
Антиохия была в буквальном смысле наводнена римлянами. В свое время мне перед дакийским походом казалось, что Мог запружен людьми. Но в дакийском походе было задействовано лишь три с половиной легиона, здесь же их было семь, плюс несколько когорт из западных легионов, как например, наших, из Десятого. К концу года снять в Антиохии комнату было практически невозможно, и я был рад, что предусмотрительно отправил Миру вперед себя, чтобы она могла найти для нас подходящее жилье. Как только я по прибытии оторвался от ее губ, Мира закрыла мне ладонями глаза и провела в небольшое, но уютное жилище, в котором нам предстояло обитать остаток зимы. Моя центурия на зиму расположилась в казармах. В ожидании весны, когда откроются перевалы, солдаты убивали время тем, что пили, точили мечи, рассказывали свои байки. Я же поселился под одной крышей с Мирой.
– Викс, – донесся до меня из кухни ее голос. – Иди ко мне. Вынь из моего таза свой шлем.
– А что он там делает? – ответил я, входя в небольшую кухню. Мира была занята тем, что вынимала из духовки баранью ногу и что-то бормотала над ней.
– Почему мой шлем полон воды?
– От него плохо пахло, и я его помыла, – пояснила Мира. Ее живот уже заметно округлился под фартуком. – Я не желаю даже думать о том, сколько раз ты варил в нем похлебку. Кстати, какая она на вкус?
– Ты вряд ли бы оценила, – ответил я, выливая из шлема воду, после чего принялся вытирать его насухо подолом туники. – Его нужно начистить до блеска.
С этими словами я посмотрел на Антиноя, который, сидя в углу, играл со своей деревянной лошадкой.
– Что ты скажешь на это, приятель? Думаю, у тебя это получится даже лучше, чем у моих солдат.
Не говоря ни слова, Антиной отправился за тряпицей и, когда проходил мимо Миры, та потрепала его кудрявую голову.
– Чтобы к вечеру все было готово. Чистка доспехов считается работой, Антиной. А в шаббат, как тебе известно, мы не работаем.
– Вообще-то в шаббат полагается с аппетитом кушать, – заметил я, глядя через ее плечо на баранью ногу, слегка подгоревшую в отдельных местах. – Вот только вид не слишком аппетитный. Похоже, ты так и не научилась управляться с этой антиохийской духовкой.
– Зато как она управляется со мной!
– Может, нам стоит выписать сюда твою мать?
В ответ Мира огрела меня ложкой. В свете пламени духовки ее волосы казались огненно-рыжими.
– Марш отсюда!
– Слушаюсь! – ответил я и поцеловал свою женушку в губы.
Я вышел из кухни, а за моей спиной раздавалось ее пение. Скорее не пение даже, а веселая декламация, сопровождавшаяся звяканьем кастрюль и сковородок, а время от времени и крепким ругательством. Мира всегда затыкала уши, стоило мне выругаться в ее присутствии, однако вскоре и сама, уронив на пол горшок, негромко сыпала себе под нос сочные солдатские словечки. Антиной потихоньку брал с нее пример.
– Ну почему мне нельзя говорить «вонючий недоносок»? Мира ведь вчера так и сказала пекарю, когда он попытался обмануть нас.
– По мне, так говори, но при одном условии. Если уж взялся ругаться, то ругайся как мужчина. Но только не в присутствии моей жены.
– Я все слышала, – сказала Мира, даже не оборачиваясь.
Когда я, по прибытии в Антиохию, появился на пороге дома, ведя за руку семилетнего Антиноя, она сначала вопросительно посмотрела на меня, затем на него и сердито спросила:
– И кто эта хорошенькая девочка?
В ответ на что Антиной сделал злое лицо, пятерней взлохматил свои золотистые кудри и заявил:
– Я мальчик.
– Наверно, мне следовало рассказать тебе о нем раньше, – покаянно произнес я, набравшись смелости, и под конец моего повествования Мира уже почти на меня не сердилась. А если и сердилась, то совсем чуть-чуть – ровно настолько, чтобы слегка подправить мне лицо первой попавшейся под руку сковородкой, не успей я вовремя найти убежище за спинкой стула. Похоже, нам, мужчинам, следует сначала спрашивать у наших жен, не согласятся ли они воспитывать чужого ребенка. Более того, делать это желательно до того момента, как вышеназванный ребенок переступил порог вашего дома. Но Антиной буквально с первых же минут ходил за Мирой хвостом, готовый угодить ей во всем. Стоило же ей похвалить его, как он светился такой счастливой улыбкой, что вскоре она оттаяла.
– Он будет хорошим братом Иммануилу, – сказала она как-то раз, потирая живот. – Интересно, они будут похожи?
– И когда ты только поверишь, что он не мой сын? Я ведь тебе уже говорил, мать Антиноя родила его еще до того, как я познакомился с ней. Его отец был мелким писарем из Вифинии и умер еще до того, как я получил назначение в Мог.
– Это ты так говоришь, но какой мужчина взялся бы воспитывать чужого ребенка? Кроме того, он похож на тебя.
С этими словами Мира посмотрела на Антиноя. Тот слегка вразвалочку – не иначе как в подражание мне – расхаживал по своему новому дому.
– И с чего ты взяла, будто он на меня похож? – огрызнулся я. – Для этого он чересчур хорошенький. Просто он вылитая мать.
– То есть его мать была хорошенькая? – спросила Мира тоном, который не предвещал ничего хорошего. – Красивее даже меня?
– Пойду, проверю, как там мои солдаты, – уклонился я от ответа и поспешил выйти вон. Пусть я был женат всего несколько месяцев, но и этого довольно, чтобы понять: мои шансы победить в этом споре нулевые.
Однако вскоре наши отношения наладились снова. И теперь Антиной, напевая в углу, тряпицей надраивал мне шлем, Мира пела что-то свое в кухне, я же поискал иглу, чтобы починить порванную подкладку.
– Где нитки? – крикнул я.
– Швейные принадлежности в корзинке рядом со стулом, – не оборачиваясь, крикнула в ответ Мира. – Или ты забыл?
– Я еще не успел привыкнуть.
Теперь мои сандалии поселились под кроватью, рядом с точильным камнем. Ветошь для чистки шлема и доспехов приютилась рядом с ворохом шитья, а мои грязные туники отправлялись в корзину рядом с кроватью, вместо того, чтобы валяться на полу.
– Теперь я ничего не могу найти, – жаловался я первую неделю после прибытия в Антиохию.
– Ничего, привыкнешь, – отмахнулась Мира. – Кстати, этот фриз на стене лучше убрать.
– А что с ним не так?
– На нем танцующие девушки.
– Но ведь они же одетые.
– Они люди, а в доме нехорошо иметь изображения или скульптуры людей, – пояснила Мира, – можно лишь такие вещи, как плющ, цветы и вазы.
– Ответь, людей почему нельзя?
– Бог не любит, когда создаются изображения по его образу и подобию. От этого, – серьезно добавила Мира, – всего один шаг до идолопоклонства, Верцингеторикс из Масады.
– Не смей меня так называть! – я даже поморщился.
– Но ведь это так, – настаивала Мира. – Ты последний сын Масады.
– И теперь последний сын Масады должен закрасить этот несчастный фриз?
– Да, если он хочет, чтобы в его семье царил мир. Не говоря уже об ужине.
На следующий день я замазал фриз. Филипп, у которого – когда он не играл в кости – имелся небольшой дар рисовальщика, набросал поверх изображение виноградных лоз, перевитых лентами. Мира расцеловала его в обе щеки и от души накормила жареным гусем.
– Викс, неотесанный ты мужлан, – пожаловался Филипп. Надо сказать, что в отличие от Юлия он воспринял мое повышение не столь болезненно. – И где ты только берешь таких красивых женщин?
– Просто мне везет, – ответил я, причем совершенно искренне. Примерно половина центурионов были женаты, но их жены были или толсты, или рябы. Кроме того, у всех до единой был противный пронзительный голос, что твой горн, который созывает на построение.
Мира же с ее легкой походкой, живыми глазами, голубым платком на
волосах казалась среди них царицей. В Антиохии ей нравилось. Ей понравился легион, понравилось морское путешествие из Рима. Малоприятные вещи – пауков, томительные часы путешествия, странные местные обычаи – она пыталась побороть потоком проклятий или же, закатав повыше рукава, бралась за работу.
– Итак, пауки, – говорила она, размахивая метлой с таким усердием, что пыль летела в разные стороны. – Живо ступайте отсюда. И ты песок, тоже.
– Она ждет, когда весной начнется поход? – Прыщ не поверил своим ушам.
– По ее словам, да, – ответил я, гордясь в душе своей женой.
– Но ведь центурионы оставляют жен дома.
– Эта кампания не то, что тогда в Дакии, когда, кроме армии и обоза, у нас ничего не было. На этот раз император берет с собой всю свою свиту – дабы принимать всех этих армянских царей. Прачек, поваров, писарей, цирюльников, музыкантов. Я раздобыл для Миры местечко вместе со швеями. Она и мальчонка будут путешествовать вместе с императорской челядью.
– Везет же некоторым, – вновь проворчал Филипп, однако Прыщ ткнул его локтем в бок. – Извини, центурион.
Я махнул рукой, но сам задумался. Отношения с моими бывшими товарищами уже были не те, что раньше. Филипп, Прыщ, другие солдаты иногда наведывались ко мне вечерком. Мира кормила их сытным ужином, они выкладывали мне последние новости. Спустя пару месяцев стал приходить и Юлий, правда, он ни разу не вспомнил о том, как я на виду у всех уложил его лицом в грязь. Но стоило нам облачиться в доспехи, как они тотчас вытягивались в струнку и салютовали мне. Но даже вечером, сидя со мной за одним столом, они не спешили, как бывало, сыпать солеными шутками или перемывать в моем присутствии косточки другим офицерам.
«Да и с какой стати? – писал мне Тит в длинном письме из Рима. – Они знают, что ты развлекаешь других центурионов байками о своей службе рядовым легионером. Поверь, приятель, начальникам доверия нет ни у кого».
Тит теперь сделался в Риме большим человеком. В конце года умер его дед, и даже до Антиохии дошли слухи о том, какое огромное наследство приплыло к нему в руки. Честное слово, я с удовольствием взял бы у него деньжат взаймы. Жалованье солдатам поступало регулярно, но какой толк от богатого друга, если к нему нельзя обратиться в тощие годы? Правда, я слышал от одного из секретарей, что даже сам Траян подумывал о том, чтобы одолжить у Тита денег. В общем, подумав, я решил, что идти по стопам императора лучше не стоит.
– Ну как? – Антиной скакал передо мной со шлемом в руках, явно довольный собой.
– Сияет, как зеркало, – ответил я и выбросил вперед руку. Он же, как я его и учил, нырнул под нее и принялся колотить меня кулачками в грудь. – Отлично, молодец, – похвалил я его и потрепал по курчавой голове. – Главное, не зевать.
– Вот так?
– Подбородок ниже, и сожми крепче пальцы.
– Но не так, а вот так, – поправила его Мира и показала, как нужно сжимать кулак. – Большой палец должен быть снаружи, Антиной. Кстати, вовсе не обязательно драться кулаками. Я бы на твоем месте не стала недооценивать ногти, ими можно неплохо расцарапать противнику грудь или лицо.
– И где же ты научилась драться? – с улыбкой поинтересовался я у своей драгоценной супруги.
– Когда у тебя пять кузенов, которые вечно тебя дразнят, и шесть двоюродных сестер, которые царапаются, научишься чему угодно.
– А теперь проверим, научили ли они тебя бороться, – с этими словами я обхватил жену за талию.
Мира взвизгнула и, сжав кулаки, принялась осыпать ударами мне плечи. Антиной подошел ко мне с другой стороны и принялся колотить кулачками мне в бок.
– Двое против одного? Так не честно! – рявкнул я, отпуская Миру. Она захихикала.
– Ну, все, хватит дурачиться, идите-ка лучше оба умойтесь, а то вы все в пыли.
– Слушай, что она говорит, – сказал я Антиною, как мужчина мужчине.
– Женщины, – вздохнул тот, с видом маленького мудреца и бросился за тазом.
Умытый и чистый, я занял свое место за небольшим столом. Антиной уселся рядом со мной. Мира покрыла голову и принялась читать первую субботнюю молитву. Свечи отбрасывали на стол теплые желтые круги, смягчая строгую белизну стен и придавая блеск ее глазам, пока она нараспев читала слова древней как мир молитвы. Я понемногу учился понимать еврейскую речь, как, впрочем, и Антиной. Бритт, грек и еврейка – странная, однако, компания сидела за субботним столом! Когда молитва закончилась, я вилкой разложил по тарелкам куски жареной ягнятины, и все с аппетитом принялись за еду, особенно Мира. Не то что патрицианки, у которых как будто нет желудка. Время от времени я замечал, как она, посматривая на Антиноя, за обе щеки уплетавшего свой ужин, касалась своего округлившегося живота. В эти минуты она наверняка думала о том, каким будет ее собственный сын, когда ему исполнится семь. Лениво положив руку на спинку стула, я потягивал пиво и придирчиво рассматривал наше жилище. Скажу честно, мне нравилось все. Мой стол. Мой ужин. Моя жена. Мальчишка, который в некотором смысле стал моим сыном. И все это под крышей моего дома, который я заработал мечом. Это было на редкость приятное ощущение.
Впрочем, на протяжении всей этой ленивой зимы мое сердце выбивало знакомый ритм: в поход, в поход, в поход!
Весной мы двинулись на Армению, и вот тогда-то получили впечатлений сполна. Мы? Нет, пожалуй, Траян. Горная местность, вершины выше и круче тех, что я видел в Дакии, глубокие зеленые долины между ними. Никаких сосен, как вокруг старушки Сермизегетузы. Лишь стремительные горные потоки и узкие перевалы между отвесных скал. Траян провел по ним восемьдесят тысяч солдат. А в Элегии я собственными глазами видел, как армянские князьки один за другим приходили к нему на поклон и приносили присягу верности. Один из них снял с себя корону и передал ее Траяну. Правда, сделал он это с наглой ухмылкой, которую лично меня так и подмывало смахнуть с его физиономии открытой ладонью. Подозреваю, что этот наглец надеялся, что Траян, произнеся небольшую приветственную речь, вернет корону обратно ему на голову, но Траян этого делать не стал. Вместо этого, он выгнал принца, и мне было слышно, как тот возмущается за дверью, не понимая, что он сделал не так. Я мог бы сказать ему, что именно.
Траян терпеть не мог ухмылок. Швырнув корону секретарю, он велел вынуть из нее драгоценные камни, а саму переплавить на золото.
Этот самый принц потом пытался загладить свою вину, подарив императору коня, который умел в поклоне опускаться на передние колени. Траян разразился громкими аплодисментами, а затем крикнул:
– Поднимите несчастного жеребца. Не хватало, чтобы он принес мне присягу верности.
Однако Адриан заставил коня поклониться еще несколько раз, с восторгом глядя, как животное покорно касается носом его ног. После этого он покинул Элегию и вернулся в Антиохию, чтобы руководить отправкой обозов, что длинной вереницей тянулись за нами вслед. О боги, как я ненавидел этого надменного гордеца! Тем не менее я был вынужден признать, свое дело он делал великолепно. Мне впервые довелось участвовать в кампании, где провиант и все необходимое для армии доставлялось быстро, четко и, главное, без клопов и блох.
Насколько мне было известно, Сабины в Антиохии не было. По крайней мере ее я так и не встретил, ибо еще до моего прибытия она уехала в Египет, полюбоваться на весенний разлив Нила.
– Эх, жаль ты не видел лицо легата Адриана, – присвистнув, сказал одному из центурионов наш старший. Ему так не терпелось сообщить эту новость, что он оставил свою обычную напыщенность. – Я как раз ждал в приемной с выкладками по обозу, когда вошла горничная с сообщением, которое его женушка соизволила послать ему, лишь отъехав от города на приличное расстояние. Более того, она велела горничной передать ее слова во всеуслышание, чтобы Адриан не смог заглушить их своим криком. Но он ничего не сказал, лишь продолжил диктовать письмо. Правда, на следующий день он на целую неделю отбыл на охоту. Готов поспорить, что за это время он перебил половину живности в здешних лесах, – старший центурион покачал головой. – Странный тип. Такому лучше лишний раз не переходить дорогу.
– Я как-то раз рискнул, – отозвался я. – И как видишь, до сих пор жив.
– Ты у нас непобедимый. Не порекомендовать ли мне твою центурию для участия в наступлении на север, под командованием Луция Квиета, – ехидно отозвался старший центурион. – Это тотчас выбьет из тебя лишнюю прыть.
– Слушаюсь, центурион, – ответил я. Внутри меня все пело. Армения пала в одночасье, но там еще оставались очаги сопротивления, на подавление которых Траян отправил отборную берберскую конницу.
Я плохой наездник, равно как и восемьдесят солдат пехоты под моим началом. Зато я натаскал их на долгие марши, и, боги свидетели, мы показали, на что способны. Мой час пробил. В тот год Траян сокрушил Армению. Был в этом и мой вклад.
– Квиет высоко отзывается о тебе, – сказал император во время очередного смотра. – Обычно он не слишком жалует пехоту. Тем не менее он снизошел до того, чтобы сказать мне, что от твоих солдат была польза.
– Значит, я их правильно готовил, – ответил я.
– Это как же? – в глазах Траяна блеснул огонек. Отмахнувшись от двух секретарей, что топтались рядом с какими-то депешами, он полностью переключил внимание на меня.
– Я разрушаю строй, Цезарь, – ответил я, – давая моим воинам возможность свободно перемешаться по полю сражения, вести бой независимо друг от друга. Однако по первой же моей команде они вновь выстраиваются «черепахой» или клином.
Я с трудом подбирал слова, чтобы описать то, чего я добивался от моих солдат. Скажу честно, поначалу мои нововведения им пришлись не по душе: легионеры вообще не любители перемен. Неудивительно, что все как один жаловались, что их заставляют покидать формацию, внутри которой они чувствовали себя в относительной безопасности. Но я не отступился и всю зиму, пока мы стояли в Антиохии, продолжал натаскивать их на новую тактику ведения боя. И вот теперь я отточил их умения, доведя их до совершенства, среди скал и рек Армении.
– Я хочу, чтобы они умели сражаться против любого противника и в любых условиях.
– Сразу видно, что передо мной бывший гладиатор.
Траян ничего не забыл.
– И, главное, это идет на пользу делу.
– Я до сих пор ношу твой шрам. Когда это было? Лет десять назад? – Траян закатал рукав, чтобы посмотреть на розовый рубец на все еще сильной, мускулистой руке, и покачал седой головой. – Клянусь Юпитером, я старею. Думаю, я снова отправлю тебя с Луцием Квиетом.
И мы отправились, и не раз – то в разведку, то за добычей, то в ночные вылазки, чтобы под покровом темноты наносить стремительные, смертельные удары по врагу. Где я только не был с моей центурией! Мы шагали извилистыми горными тропами, карабкались по скалам, взбирались на каменистые холмы, ползли на брюхе по низкорослой летней траве, переходили вброд горные потоки, опираясь на щиты, чтобы нас не снесло быстрым течением. Я убивал бородатых узколицых армян, я получил еще три памятные медали, и, когда приказывал моим солдатам разбиться на десяток небольших подвижных отрядов, которые в считанные секунды пронзали строй врага, рубя его на мелкие куски, никто больше не ворчал и не жаловался. Мои солдаты называли меня упрямым ублюдком, зато в нашей центурии памятных медалей за участие в кампании было в разы больше, чем в любой другой из нашего Десятого. Я же шагнул на две ступеньки выше. Центурион, что был по рангу на ступеньку старше меня, погиб, а тот, что был перед ним, умер от лагерной лихорадки, так что император быстро передвинул меня на их место.
– Теперь ты не младший центурион! – ворковала Мира, когда я пришел к ней в тот вечер. Ее ловкие руки, умеющие работать иглой и ниткой, снискали ей место среди императорской челяди. Теперь она ехала в повозке вместе с другими женщинами, перемывая мужчинам косточки и занимаясь починкой одежды огромной императорской свиты, которую Траян таскал за собой на протяжении всей Армянской кампании. – Представляешь, как ненавидят тебя другие центурионы! Ты обскакал их всех. А как должен быть рад старший центурион!
– Это точно, поет и прыгает от восторга, – с этими словами я надел на палец Миры перстень с жемчугом. – Ну как, нравится? Я снял его с толстого армянского вельможи, которого мы захватили в плен.
– Смотрится внушительно, – с хитрой улыбкой ответила жена, любуясь кольцом. Теперь мы с ней вместо уютной антиохийской квартирки жили в походной палатке. Однако Мира с прежним усердием выметала песок и вытряхивала из наших походных постелей пауков. Она умудрялась поддерживать такой образцовый порядок, что я никогда не мог найти свои вещи, не зная, где она их прячет.
– Где дети? – спросил я и потерся носом о шею Миры.
– Сегодня их на ночь взяла к себе Мириам. Антиной сам отнес младенца к ней на руках. Он ведет себя, как настоящий брат. А я-то думала, что мальчики не любят маленьких детей.
– Своих всегда любят.
Наша дочь родилась на месяц раньше срока во время весеннего марша между Антиохией и Элегией, как будто ей не терпелось поскорее увидеть этот мир. Мира слегка расстроилась, так как ожидала мальчика, я же был рад тому, что ребенок появился на свет без лишнего шума. К тому же, когда у нас с Мирой пойдут мальчики, нам не избежать ссор по поводу ужасного ритуала, который назывался не то брит, не то брис. Ладно, как бы он там ни назывался, я не позволю, чтобы мои сыновья прошли через него.
– Только через мой труп! Я не позволю уродовать моего ребенка! – в ужасе воскликнул я, когда Мира ввела меня в курс подробностей этого жуткого ритуала. – Даже не мечтай!
– Меня не заставят это сделать? – испуганно спросил Антиной.
– Ни за что на свете! – ответил я. – Ни тебя, ни наших детей.
Мира обиженно поджала губы, что означала одно: следует ждать неприятностей. На мое счастье, у нас родилась темноволосая малышка Дина с розовыми пальчиками, которые она – не иначе, как следуя моему примеру – постоянно сжимала в кулачки. Так что на время спор по поводу бриса утратил свою остроту.
– Раз Мириам взяла Дину на ночь, почему бы нам этим не воспользоваться? – произнес я, увлекая жену к походной постели.
– Зато завтра мне придется взять к себе ее сына, – ответила Мира между поцелуями. – Я пообещала ей, в обмен за то, что сегодня она даст нам побыть вместе.
– Отлично. Потому что завтра мне снова в поход. Пожелай мне удачи.
В этот раз нам привалила крупная удача – мы взяли в плен сатрапа, путешествовавшего со своей свитой и богатым обозом. Это был наш первый крупный улов этим летом. К осени у Миры на руке уже сверкал сапфировый браслет, а на шее висела золотая цепь, украшенная аметистами. Антиной получил в подарок короткий сирийский лук и пару кинжалов с рукояткой из слоновой кости. Даже малышка Дина удостоилась серебряного браслета, о который она точила свои крошечные зубки.
Плотина
– Госпожа, – Плотина почувствовала, как кто-то схватил ее руку и принялся осыпать ее поцелуями. – У меня нет слов, чтобы выразить тебе благодарность за твое содействие. Богиня, снизошедшая с небес до нас, простых смертных, дабы даровать нам свое благословение…
– Только не надо льстить мне, сенатор. – Плотина с трудом высвободила пальцы. Такого количества поцелуев она не удостоилась за всю свою супружескую жизнь.
– Богиня, – продолжал тот. От избытка чувств даже его лысина сделалась пунцовой. – Я закажу себе статую Юноны с твоим лицом. Ибо это она сейчас стоит передо мной во всем своем ослепительном величии!
Для убедительности он даже прикрыл ладонью глаза. Плотина же благосклонно склонила голову, однако поднимать его с колен не стала. Все-таки приятно, когда тебе поклоняются.
– Надеюсь, ты не забыл, сенатор, о том небольшом одолжении, о котором я тебя просила?
– Как я мог о нем забыть?! Уверяю тебя, этим делом я займусь лично.
– Прекрасно, и главное, поскорее.
Плотина вычеркнула из таблички еще одно имя. Письма Траяна, приходившие с востока, содержали маловато похвал в адрес дорогого Публия, хотя других ее муж превозносил едва ли не до небес. Например, он неизменно упоминал некоего Авла Корнелия Пальму, который в свое время одержал ряд побед над арабами Наббатеи. Постоянно мелькало в письмах и Луций Публий Цельс, причем его имя неизменно сопровождали самые хвалебные отзывы. Но разве можно допустить, чтобы их звезды сияли ярче, нежели звезда ее дорого Публия?
И как только Плотине стало известно, что некий знаменитый сенатор в данный момент находится на грани разорения, как ее задача стала существенно проще. Стоило предложить приданое для дочери и оплатить закладную за дом, прежде чем тот пошел с молотка, как сенатор даже глазом не моргнул, услышав цену, которую Плотина назвала в обмен за свою щедрость.
– Немножко клеветы, – шепнула она. – Только ненавязчиво. Где-нибудь на пиру. Словечко в разговоре с одним, словечко с другим. Например, можно вспомнить, что в юности Пальма соблазнил дочь одного достойного римского семейства, а когда отказался жениться на ней, девушка наложила на себя руки. Или что консул Цельс неплохо набил себе кошелек на своей предыдущей должности.
Крошечная ложка клеветы, которой, однако, достаточно, чтобы запятнать в глазах остальных доброе имя того или иного человека. Ведь тот, о ком поговаривают, будто он развратник или вор, никогда не будет назван преемником императора.
– Надеюсь, ты понимаешь, чего я от тебя хочу. Пойми, я пекусь о благе Рима.
– Разумеется, госпожа.
– Можешь также добавить пару словечек о бывшем консуле Сервиане, – добавила Плотина, подумав. Шурин Публия, он также постоянно упоминался в письмах Траяна. – Надеюсь, ты не забудешь шепнуть кому-нибудь на ушко, что в частной жизни он похотливый пьяница.
– Этому никто не поверит, госпожа. Сервиан – самый порядочный человек во всем Риме.
– Что ж, тогда у тебя есть те двое.
Что ж, на сегодня, пожалуй, хватит. Сенатор, кланяясь и рассыпаясь комплиментами, попятился вон. Плотина же убрала свою восковую табличку и слегка поправила прическу, тронутую на висках благородной сединой.
– Мое лицо на статуе Юноны, – громко сказала она, глядя в зеркало. – Надеюсь, дорогая сестра, ты не будешь на меня в обиде?
Ей не было нужды идти в храм, чтобы поговорить с богиней. Ее небесная сестра и так внимала каждому ее слову. Плотина в этом не сомневалась.
(обратно)
Глава 22
Зима 114 года н. э.
Тит
– Энния! – Тит вышел в атрий, где та отчитывала двух молоденьких рабынь за то, что те недостаточно расторопны со стиркой. – Будь добра, взгляни вот на это. Скажи, я правильно это прочел?
– Ты же знаешь, что я не умею читать, – Энния жестом велела рабыням уйти, а сама подошла, чтобы взглянуть на свиток в его руке. – Это императорская печать?
– Она самая, – Тит снова пробежал глазами письмо, краткое и четкое, написанное размашистым солдатским почерком. – Если не ошибаюсь, император написал его собственноручно.
– И оно пришло сюда из Армении, – было видно, что Энния потрясена. – И что он говорит?
– Траян просит моего отчета по баням, а также спрашивает моего мнения касательно ряда других дел. С другой стороны, зачем ему понадобилось мое мнение? У меня его вообще нет. Хм, понятно, он просит у меня денег.
Энния усмехнулась.
– Да, быстро вести разлетаются по миру!
– Это точно.
После смерти деда сюрпризы посыпались на Тита как из рога изобилия. Но самым главным стали условия завещания. Дед завещал ему все свое имущество, в чем, собственно, не было ничего удивительного. Что поражало, так это размер наследства.
– Ну, кто бы мог подумать, что старик окажется таким толстосумом, особенно если учесть, как скромно он жил последнее время, – не переставала удивляться Энния. Неожиданно для себя Тит стал владельцем внушительного денежного мешка, не говоря уже о таких на первый взгляд прозаических, однако в высшей степени доходных вещах, как серебряные рудники, лесопильни, земельные участки в Остии, Равенне и Брундизии, виллы в Байах, Тиволи и на Капри, флот зерновозов, гладиаторская школа и доходные дома на Эсквилине.
Не иначе как весть о свалившемся на него богатстве разлетелась на крыльях ветра, коль она достигла другого конца империи. Военная кампания вещь недешевая, честно признавался в письме Траян. «Если ты дашь мне взаймы денег, я смогу оплатить солдатам их жалованье в зимние месяцы. Со своей стороны, я не забуду оказанную мне услугу».
– Выходит, даже императоры влезают в долги, – заметил Тит, направляясь к себе в кабинет. – Особенно когда им нужно содержать такую огромную армию. Что ж, пойду отдам распоряжение о ссуде.
– Которую ты никогда не получишь назад, – скала Энния. – Императоры, они все одинаковы. Когда они говорят «дай взаймы», это означает просто «дай».
– «Приятно подчиняться, когда вами правит достойный», – процитировал крылатую фразу Тит и быстро набросал самому себе записку, чтобы завтра не забыть поговорить с управляющим. – Если Траян попросит, я готов отдать за него свою жизнь. Кто я такой, чтобы отказывать ему в деньгах?
– Так недолго и разориться.
– Что ж, может, и разорюсь. Зато буду любим.
– Если ты и дальше собираешься разбрасываться деньгами, найди себе богатую жену, – сердито пробормотала Энния. – Кстати, коль о жене зашла речь, саранча скоро начнет слетаться. Причем двое из них сказали, что захватят с собой дочерей.
– Думаю, они бы предпочли, чтобы их назвали гостями, а никак не саранчой, – одернул Эннию Тит и со вздохом переспросил: – Дочерей, говоришь?
– И еще племянницу, – ледяным тоном уточнила Энния.
– Надеюсь, ты их как-нибудь разместишь, только не рядом со мной.
Как только весть о богатом наследстве, оставленном ему дедом, разнеслась по всему Риму, Тит не знал отбоя от женщин. Коллеги, которые раньше едва замечали его на пирах, не только умоляли его прислать им приглашение, но и приводили вместе с собой орды незамужних женщин. Так что зима для Тита превратилась в нескончаемый парад чьих-то сестер, дочерей, внучек и племянниц.
– Да, зря ты не женился раньше, когда дед был еще жив, – укоризненно заметила Энния, убирая со спинки стула плащ, чтобы энергично его тряхнуть. – Теперь же ты самый завидный жених в Риме, и не сочти за дерзость, если я скажу тебе, что я еще не видела ни одной девушки, которая бы не напомнила мне акулу, приплывшую на запах крови.
– Должны же быть хотя бы несколько таких, кому кровь… неинтересна.
– Смотри во все глаза, господин. В один прекрасный день я захочу отойти от дел. Поверь мне, не так-то это легко одной вести такой огромный дом…
– Довольно ворчать, – Тит прервал поток излияний Эннии, прекрасно зная, что той польстило, когда он попросил ее остаться в качестве домоправительницы.
– Я? – удивилась тогда она. – Мне казалось, моя помощь требуется лишь для того, чтобы помочь тебе перебраться из твоей старой квартиры назад в фамильный особняк, и на этом все кончится. Ведь теперь тебе требуется настоящий управляющий.
– Можно подумать, ты не справишься с этой глыбой мрамора, – поддразнил ее Тит. Как только закончился траур, он, как и положено, перебрался назад в фамильный особняк. И хотя теперь он официально считался главою рода, ему было непривычно бродить по дедовскому дому в новом качестве, качестве полноправного хозяина. – Кроме тебя, я не вижу никого, кто бы управился с этим домом.
– По-моему, тебе пора от меня избавиться, – возразила Энния, пристально глядя ему в глаза. – Теперь, Доминус, ты можешь выбрать себе самую красивую и самую знатную из всех красивых и знатных девушек Рима. Зачем тебе домоправительница, которая разговаривает, как уличная торговка. Я ведь прекрасно знаю, кто я такая.
– И я тоже. И я знаю, чего ты стоишь, – с этими словами Тит приподнял худое запястье и надел на руку Эннии тяжелый золотой браслет, украшенный цветами из драгоценных камней. Это была первая по-настоящему дорогая вещь, которую он мог себе позволить, не думая о том, что она обошлась ему в его месячное жалованье. – И я хочу, Энния, чтобы ты осталась. И если кто-то другой попробует переманить тебя, честное слово, я тотчас удвою предложенную сумму.
– Хм, – задумчиво произнесла Энния.
– Правда, для начала я буду вынужден проверить, что такое предложение имеется.
В ответ Энния фыркнула и протянула руку, любуясь браслетом.
– Что ж, пожалуй, я все же останусь. А не то какая-нибудь девица возьмет тебя в оборот, чтобы потом, присосавшись как пиявка, отравить тебе жизнь.
– Ну, когда ты рядом, этого можно не опасаться.
И Энния осталась следить за его домом, рабами, пирами, гостями и делала это так, как никто другой. Ни одна девушка не прошла в дом, минуя ее придирчивый взгляд, которым Энния окидывала любую гостью с головы до ног.
– Полчаса, – вновь напомнила она ему и тотчас ушла, чтобы крикнуть мальчишкам-рабам, чтобы те несли вино, если не хотят, чтобы она поджарила им задницы. Тит же откинулся на спинку кресла и вновь пробежал глазами письмо императора.
«Как продвигается строительство моих бань? – писал Траян ниже, после просьбы о ссуде. – Я подумываю о том, а не поручить ли тебе также раздачу хлеба. Последнее время я стал замечать разного рода махинации, и мне бы хотелось, чтобы этим делом занимался кто-то честный. Напиши мне, что ты думаешь по этому поводу…»
Тит оторвал глаза от письма и посмотрел на бюст деда. Посмертная маска была с почестями помещена при входе в дом, а вот кабинет украшал менее официальный скульптурный портрет, с хорошо знакомой хитринкой в мраморных глазах.
– Император просит моего совета, – вздохнул Тит. – В странные, однако, времена мы живем, дед.
Он до сих пор смущался, раздавая приказы слугам или восседая в кресле в роли судьи, когда управляющие докладывали ему о тех или иных сложностях, когда ставил свое имя под документом и скреплял его семейной печатью. В глазах людей он больше не был мечтательным юношей, ходячим сборником цитат. Сестры смотрели на него с уважением и больше не отчитывали за взъерошенные волосы или рассеянность. С его мнением теперь считались, к его голосу прислушивались. Встречая его на улице, люди спешили поклониться ему.
– Ну, кто бы мог подумать! – произнес Тит, обращаясь к деду и, встав с места, отправился встречать гостей.
Викс
Всего один год, и Армении как не бывало.
– У Рима появился достойный повод для ликования, – напыщенно произнес по этому поводу один из трибунов Десятого легиона, никчемный патрицианский отпрыск, у которого еще не до конца сломался голос. – И эта победа наша.
– Ты полегче, сынок, – осадил его я. Впрочем, этот сопляк был прав. Рим взорвался ликованием, когда до столицы дошла весть о том, что империя приросла новой провинцией, причем почти молниеносно, а потом, не успели мы перевести дух и отпраздновать Новый год, как за Арменией последовала Месопотамия. Не успели мы вторгнуться в пределы Парфянского царства, как тотчас разразились радостными криками при виде плодородных земель, что простирались перед нашим взором между Тигром и Евфратом. Эта земля была двух цветов: плоское желтоватое пространство пустыни по берегам рек расцветало пышной зеленью, скалы и барханы сменялись тучными пастбищами, на которых паслись стада коз. Завидев приближение римского орла, их пастухи в спешном порядке сворачивали свои шатры и снимались с места. Между двумя главными реками местность прорезали русла тысячи мелких ручьев и речушек, и в наших сапогах от рассвета до заката булькала вода, столько из них мы ежедневно переходили вброд. Траян пешком переходил каждый брод, каждый мост, шагая рядом с нами, горланя вместе с нами непристойные походные песни. Я не раз незаметно смахивал слезы, глядя, как он, по-прежнему сильный и выносливый в свои шестьдесят с лишним лет, ведет за собой нас, гораздо более молодых, чем он; ведет, ничем не прикрыв от палящего солнца седую голову. Думаю, при виде этого слезы смахивал с глаз не я один. Потому что на всем белом свете нет существа более сентиментального, чем рядовой римский легионер.
В том году мы зажали Месопотамию в огромные клещи: Луций Квиет с востока, Траян – с запада. Теперь я постоянно состоял при Луции. Ему нравились мои выносливые солдаты, которые без труда поспевали за конницей, одним броском могли поддержать любое наступление или же, если требовалось, неслышно залечь в засаде, чтобы в нужный момент с криками выскочить из темноты, потрясая сталью. Кровопролитные схватки, пьянящие победы – эта война была как вино. Как песня, как женщина, с той разницей, что за ней не нужно было ухаживать.
Правда, тем летом во время одной ночной вылазки мы потеряли Юлия. Это случилось, когда я вместе с парой десятков солдат бросился вдогонку за остатками месопотамской когорты после того, как мы в глухую полночь изрубили в мясо их лагерь. Вернувшись, я обнаружил Юлия мертвым. Он лежал на спине, глядя на меня незрячими глазами, и из его бока торчал обломок копья. Я тихо плакал. Прыщ, воя на луну, выдернул из раны копье, и я был вынужден скрутить моего опциона, когда тот в бессильной ярости пытался колотить меня по плечам своими пудовыми кулаками. Мы с ним вдвоем собственными руками вырыли для Юлия неглубокую могилу, а когда другие солдаты попытались нам помочь, рявкнули, чтобы они нам не мешали. Мы положили тело Юлия в могилу на берегу Евфрата, и я зарыл в плодородную землю Месопотамии две дополнительные бляхи, которые сорвал с собственной груди, – в знак того, что прежде чем враг нанес ему смертельный удар, он успел отправить на тот свет двух парфянцев. Один из моих лучших разведчиков был сыном каменотеса, и я поручил ему начертать на камне имя Юлия.
– Напиши, что здесь лежит потомок самого Юлия Цезаря.
– А что, он им был? – недоверчиво уточнил мой разведчик.
– Был.
Вся центурия застыла в почетном карауле рядом с могилой Юлия. Один за другим солдаты лили в землю вино. Мои солдаты. И пусть не все они жаловали меня, но они уважали мое имя. А как любили они прихвастнуть своими победами перед солдатами других центурий! Послушать их, во всем Десятом легионе не было центурии, которая могла бы тягаться с ними по части воинской доблести! Выстраивались ли они черепахой, превращаясь в один огромный щит, или же сорока отдельными парами врезались в фаланги месопотамских воинов, в тот год удача была всегда на их стороне. Будучи острием копья, они просто не знали, что такое поражение. Они были сама стойкость, ходячее воплощение смерти, которую они несли врагу. Месопотамия пала. Я поднялся ступенькой выше.
И снова в поход, в поход, в поход!
В конце года мы вернулись на зимние квартиры в Антиохию.
– Слава богу, – сказала Мира, которой каким-то чудом удалось снять для нас крошечную комнатушку на первом этаже многоэтажного дома в западной части города. – Не могу сказать, что мне не понравилось это небольшое приключение. Было приятно видеть, как в прекрасную, цветущую страну вторгается стая саранчи в солдатских доспехах, чтобы все крушить на своем пути. Но лично я предпочитаю дать жизнь нашему ребенку в чистой постели, а не в походной палатке или в телеге.
– На этот раз тебя разнесло еще больше, ты не находишь? Нет, не тебя, – поспешил поправиться я, заметив, что глаза моей женушки блеснули словно кинжалы. – Ты как всегда стройна. Взгляни хотя бы на свои лодыжки. Но ребенок, на этот раз он гораздо больше.
Когда нашей дочери Дине исполнился год, Мира снова понесла. Впрочем, я не возражал. Дочь не доставляла ей особых хлопот – спокойная, здоровая, она сладким сном спала по ночам, а днем ворковала сама с собой на своем младенческом языке. Вот и сейчас она ползала на твердом земляном полу, играя с деревянной лошадкой, которую смастерил для нее Антиной. По крайней мере, мне казалось, что это лошадка. Я учил Антиноя обращаться с ножом, и он наверняка знал, как при необходимости пустить его в ход против врага, но чтобы вырезать какую-нибудь фигурку, тут его руки явно росли не из того места. Насупив брови, он сидел в углу, пытаясь что-то вырезать из куска дерева.
– И что это будет? – поинтересовался я, присаживаясь на край кровати. Последний год я привык спать на земле, и теперь постель показалась мне чересчур мягкой.
– Не знаю, – ответил он, довольно вертя в руках деревяшку. – Может, мне стоит вырезать для Дины кубики?
– Ты просто находка, Антиной! – воскликнула Мира, поглаживая под фартуком округлившийся живот. – О, Господи, он лягается словно мул!
– Тебе, наверно, больно? – сочувственно спросил я.
– Нисколько! Наоборот, приятно. Это просто означает, что ребенок крупный и сильный. – Мира с гордостью похлопала себя по животу. – Мне кажется, этому подойдет имя Ганнибал.
– По-моему, его следует назвать в честь Траяна, – возразил я. – Ну, не полностью, а взять одно из имен: Марк Ульпий Траян…
– Даже не мечтай! Я не допущу, чтобы мой сын носил имя Ульпий! – заявила Мира и с трудом наклонилась, чтобы развязать сандалии. И хотя живот можно сказать почти упирался ей в нос, энергия в ней по-прежнему била ключом. Нет-нет, моя Мира не ходила вперевалку, словно утка: ни зной, ни песок, ни пауки, ни тяготы походной жизни – ничто не могло унять ее деятельную натуру. Даже огромный живот.
– Тогда как тебе Марк? – предложил я, усаживая ее рядом с собой. – Мне кажется, очень даже неплохое имя для мальчика. Я, между прочим, кроме Траяна знаком с еще одним Марком. Это сенатор, который помог мне попасть на военную службу. Вместе они составляют прекрасную пару, в честь которой не стыдно назвать никакого мальчишку.
– Не знаю. Лично меня не слишком вдохновляет идея назвать сына в честь римского императора.
Я принялся массировать ей ноги, и она с видимым удовольствием зажмурилась.
– Я знаю, Викс, Траян для тебя кумир, но ты когда-нибудь слышал о том, что происходит за пределами Парфии?
– Разумеется, слышал. Я получаю письма от Тита, а уж он-то в курсе всего, что происходит в мире.
Тит в Риме получил высокую должность и вообще теперь он был большой человек. Так что на его мнение можно было положиться. И хотя этот поганец теперь был птицей высокого полета, его письма оставались все те же – он густо сдабривал их цитатами из философов, о которых я и слыхом не слыхивал, и называл меня варваром за то, что я пью неразбавленное вино.
– Все эти волнения среди евреев, о которых он писал в своем последнем письме, – сказала Мира. – В Киренаике, на Кипре, в Александрии. Повсюду недовольство, и, если верить Титу, все что делает Траян – это отправляет войска на их подавление.
– После чего евреи больше не возмущаются?
– Это пока, – ответила Мира и сладко простонала, когда я принялся массировать ей пятки. – Твоему драгоценному императору нужно лишь одно: чтобы весь остальной мир встал перед ним навытяжку и не шевелился, чтобы не мешать ему, пока он прибирает к рукам другие страны. И ты хочешь назвать нашего сына в честь такого человека?
– В честь такого человека, как Траян? Да.
– Твой Траян зарылся головой в песок, как, впрочем, и ты сам, – с жаром заявила Мира. – Вы оба живете мечтами, обитаете где-то там, на краю мира. У других людей, по всей империи, свои заботы, и они говорят об этом вслух. Но даже твой Траян бессилен искоренить недовольство, сколько бы легионов он ни посылал на усмирение недовольных.
– До сих пор ему это удавалось.
Мира одарила меня язвительной полуулыбкой, которая означала, что я круглый дурак, но спорить со мной она не намерена. Скажу честно, порой мне нравилось провоцировать эту улыбку. Шутки ради.
– Нам необязательно называть нашего сына в честь Траяна, – уступил я. – В конце концов рожать его тебе, так что право дать ему имя тоже за тобой, – добавил я, правда, из корыстных соображений, в расчете тем самым добиться ее уступки в неизбежном споре по поводу «брита». В целом я уважал ее традиции: если только не воевал, то в конце каждой недели вместе с женой соблюдал шаббат, вместе с ней читал молитвы по случаю самых разных религиозных праздников, а их в году было не меньше дюжины. Но что касается «брита», мне все равно древняя это традиция или нет. Когда моему сыну исполнится восемь дней, только через мой труп кто-то подойдет к его паху с ножом в руке.
Крошка Дина оставила свою деревянную лошадку, подползла ко мне и ухватилась за мою сандалию. Я наклонился и, одной рукой подняв ее с пола, положил ее на живот Миры.
– Ну как, чувствуешь братца? Как он толкает маму ножками?
– Это он пробивается поближе к выходу, – пошутила Мира. – Слава богу, этот ребенок родится, как и положено, в чистой постели.
Но все вышло иначе.
Как только отгремели Сатурналии, я собрал своих солдат на учения. Первое время я рычал на Прыща за то, что пока мы стояли на зимних квартирах, он совершенно распустил солдат, и теперь эти бездельники ни на что не годны. Затем я велел каждому найти себе напарника и проделать все положенные упражнения, а сам кинул Антиною свой гладий.
– Давай проверим, насколько ты такой же, как и они, – сказал я ему. – Упражнение номер пять.
– Я упражнялся, – заверил он меня. Я встал в сторонке и, сложив на груди руки, принялся наблюдать, как он старательно размахивает мечом. От напряжения он даже прищурил огромные карие глаза. Для мальчишки его возраста меч был слишком тяжел, но, похоже, это ему не мешало. Я сам был моложе его, когда отец начал натаскивать меня во владении холодным оружием. Антиною уже исполнилось девять. У него по-прежнему была хорошенькая детская мордашка, хотя он как мог боролся со своей смазливой внешностью – старался раздобыть как можно больше ссадин, в надежде, что те оставят после себя настоящие боевые шрамы. Как-то раз он даже стащил у меня кинжал, чтобы на дюйм обрезать свои золотые кудри.
– Пусть теперь только попробуют назвать меня девчонкой, – заявил он, тряхнув кое-как остриженной головой.
– Он стал гораздо мужественнее, – одобрительно отметила Мира. – Раньше он, бывало, увядал, словно сорванный цветок, стоило другим детям начать дразнить его. Теперь же он умеет дать сдачи.
– То есть ты не против утирать ему окровавленный нос и обрабатывать ободранные коленки? – спросил я.
– Нет конечно. Этот мир суров, и каждый мальчишка должен уметь постоять за себя. Особенно, с такой внешностью.
Но Антиной теперь все меньше и меньше походил на девочку. Это был худой, с разбитыми коленками и ссадинами мальчишка – этакий юный солдат, который размахивал мечом, словно закаленный боями ветеран.
– Еще разок, только раза в два медленнее, – крикнул я ему. – Скорость у тебя есть, теперь нужно вырабатывать выносливость.
В этот момент земля под моими ногами заходила ходуном. На какой-то миг мне показалось, будто я пьян, но потом я заметил, что и другие солдаты вокруг меня тоже пошатываются. Затем послышались испуганные крики. Земля вновь выгнулась, и я рухнул на колени. Где-то неподалеку послышался звон разбитого стекла. Я обеими руками вцепился в каменную брусчатку. Солдаты последовали поему примеру. Затем до меня донесся грохот рушащихся стен. Мне было слышно, как где-то поблизости гремят камни. Прежде чем земля вновь замерла на одном месте, казалось, прошла целая вечность.
– Что это было? – спросил я, поднимая глаза. Рядом со мной Антиной осторожно приподнял голову. Он лежал, свернувшись калачиком, по-прежнему сжимая в руке мой меч.
– Землетрясение, – откликнулся один из моих солдат. Он уже встал на ноги и теперь отряхивал от пыли ладони. Все остальные, в том числе и я, еще какое-то время не решались подняться и тупо смотрели в землю. – Иногда земля начинает дрожать. Такое часто случается в тех краях, откуда я родом, рядом с Помпеями. Обычно никто не обращает на это внимания, разве только если толчки становятся действительно сильными.
– Не слишком утешает, – бросил я в ответ на его слова. – Особенно если учесть, что теперь от твоих Помпей осталась лишь груда пепла да развалины.
Я осторожно решился встать с земли. Скажу честно, я бы предпочел остаться стоять на четвереньках, а заодно прочесть пару молитв, как то сделал Антиной и добрая половина моих солдат, но как центурион я был обязан подавать личный пример.
Не успел я встать на ноги, как где-то рядом снова раздался грохот.
– Это начитают рушиться дома, – с улыбкой произнес выходец из Помпей. – Мой отец был строителем и всегда говорил, что землетрясения только на руку его делу. Ведь старые дома рушатся, и хочешь не хочешь, а приходится строить новые. Эй, центурион, ты куда?
Я же со всех ног бежал к дому, а за мной по пятам – Антиной.
Как я узнал позже, сам император лишь чудом избежал смерти. На него обрушилась балка, но он успел выпрыгнуть из окна. Впрочем, балка успела настичь одного из его консулов, и тот встретил под ее тяжестью свою смерть. Под обломками дворца нашли свою гибель немало благородных мужей – как римлян, так и коренных антиохийцев, а также участников разного рода посольств. Мне было слышно, как из-под обломков доносятся крики людей, взывающих о помощи. Но я, не чуя под собой ног, несся дальше и даже ни на миг не замедлил бег.
Наконец я свернул за угол и замер как вкопанный: там, где еще час назад стоял мой дом, в котором я оставил Миру с дочерью, ничего не было. Лишь груда пыльных обломков.
Сабина
Тростниковые сандалии Сабины ступали по тропинке бесшумно, однако Адриан услышал ее и заговорил с ней, даже не поворачивая головы.
– И как тебе Египет?
– Он прекрасен. – Она остановилась рядом с мужем. По привычке сжав за спиной руки, Адриан стоял под тенью пышного лавра, задумчиво глядя на зеркальную поверхность небольшого источника. – Я, словно царица Клеопатра, прокатилась по Нилу в ладье. Я видела Александрию, побывала в Бубастисе, Карнаке…
– Да, Плотина писала мне о твоих… подвигах.
– Для такой разумной женщины, как Плотина, удивительно иметь столь богатое воображение.
Адриан оторвал глаза от пруда у его ног и нарочито медленно оглядел Сабину с головы до ног.
– Тебе не холодно? – спросил он, разглядывая тонкую рубашку, которая не доходила даже до щиколоток. Затем его взгляд переместился на висевший у Сабины на шее анкх. Не ускользнул от него и золотистый загар, который она приобрела, катаясь на верблюдах, когда отправилась посмотреть великие пирамиды, в которых были захоронены фараоны далекой древности.
– После
египетского зноя прохлада приятна.
– И все же тебе не помешает прикрыться, как подобает уважающей себя матроне. Кстати, а это еще кто такой?
– Это Неферу, – ответила Сабина и почесала за ухом кошку, которую держала на руках. Вечные спутники Адриана, пара гончих псов, тотчас заскулили. Кошка же потянулась и зашипела. У нее была гладкая, блестящая шерсть, высокомерная треугольная морда и огромные острые уши, в которые были вставлены золотые кольца.
Адриан провел рукой по спине кошки. Та тотчас замурлыкала и довольно выгнула спину. Лошади и собаки обожали Адриана. Сабину ничуть не удивило, что кошка тоже моментально прониклась к нему расположением.
– Никогда не понимал, зачем египтянам понадобилось вставлять кошкам в уши серьги, – произнес он.
– Неферу – священная кошка. Мне подарил ее жрец храма богини Бастет, когда я осталась в Бубастисе, чтобы принять участие в священных ритуалах.
Адриан насупил брови.
– Снова оргии и мистерии?
– Собственно говоря, я оказалась пойманной в западню, потому что Нил неожиданно разлился. Я даже помогала в срочном порядке собирать урожай, пока тот еще не был затоплен водой. После чего жрецы в знак благодарности пригласили меня поучаствовать в священных ритуалах, – ответила Сабина и презрительно выгнула брови. – И вообще с каких это пор любой культ, о котором ты раньше не слышал, непременно предполагает участие в оргиях? Раньше, Адриан, я не замечала в тебе этой провинциальной косности.
Адриан холодно посмотрел на нее, а затем вновь отвернулся к источнику. Сабина пощекотала кошку под подбородком и осмотрелась по сторонам. Вокруг нее простирались знаменитые сады Дафны. Длинное ущелье, обнесенное высокими стенами, протянулось от Антиохии на расстоянии нескольких миль. Даже зимой здесь зеленели, радуя взор, лавровые или кипарисовые рощи, среди которых, журча на искусно устроенных каскадах, сбегали стремительные потоки. Сабине были слышны негромкие голоса и чьи-то шаги – это в тени садов по извилистым дорожкам неспешно прогуливались антиохийцы. Но Адриан стоял один, устремив взгляд в источник.
– Управляющий говорит, что ты проводишь здесь много времени, – сказала Сабина. – Все те часы, когда ты ничем не занят.
Адриан пропустил ее слова мимо ушей.
– Мы когда-нибудь пойдем в Египет? – прошептал он, обращаясь, но только не к Сабине, и бросил в источник небольшую монетку. Затем присел и пригнулся над водной поверхностью, пристально в нее глядя.
– И что же говорит тебе Кастальский ключ на этот раз? – с легкой издевкой в голосе поинтересовалась Сабина.
– Рябь на поверхности сказала мне, что в один день я окажусь в Египте, – ответил Адриан, не отрывая глаз от пруда, поверхность которого вновь стала ровной как зеркало. – Но только не в ближайшие годы. Жаль. Я бы хотел своими глазами увидеть разлившийся Нил. Кроме того, меня уже давно интересует их техника строительства. Я немало наслышан о гипостиле в храме Амона в Карнаке. Почему бы мне не украсить чем-то подобным свою виллу, когда я наконец всерьез возьмусь за ее возведение?
Столь учтиво муж не разговаривал с ней вот уже больше года. «С другой стороны, – подумала Сабина, – за этот год мы провели в обществе друг друга не более двух недель». Пусть ее муж, вместо того, чтобы собственными глазами видеть мир, предпочитает проводить время в поисках подтверждения своим амбициям в глубине вещих источников, сама она не горит желанием следовать его примеру.
«Не поехать ли мне на следующей неделе в Эпидавр, – подумала она. – Асклепион знаменит на весь мир. В поисках исцеления страждущие стекаются в храм со всех концов света. Я могла бы подержать в руках священных змей, обитающих в Зале Снов. А еще хотелось бы проверить, действительно ли хитрые жрецы искусно вымогают деньги у несчастных паломников, предлагая им фальшивые снадобья. Если это так, то я непременно напишу Траяну, чтобы он положил конец этому вопиющему мошенничеству».
– Ты давно уже не заводил разговор о вилле, – сказала она вслух. Если Адриан в кои веки учтив с ней, она с великой радостью готова поддержать их разговор. – Ты действительно решил приступить к строительству?
– Да, когда у меня наконец появятся средства. Когда я стану императором.
Сабина легонько оттолкнула в сторону собак, которые взялись нюхать хвост Неферу.
– Ты все еще тешишь себя невозможными надеждами.
– Невозможными? – Адриан резко обернулся через плечо и окинул ее высокомерным взглядом, от которого кончики ее пальцев всякий раз начинали пылать огнем. – Кастальский ключ говорит мне, что это неизбежно.
– Это всего лишь лужа воды, – холодно заметила Сабина. – Ты просто внушил себе, что Траян непременно сделает тебя своим преемником.
– Что тебе вообще об этом известно? Я сделал все для успеха это кампании. Без меня легионы остались бы без хлеба и оружия. И мои усилия не остались незамеченными…
– Да, и я уверена, что император в знак благодарности похлопает тебя по спине, и когда война закончится, вновь сделает консулом. А империю завещает кому-то другому.
– Плотина уверяет меня…
– Плотины здесь нет. Она при всем желании не может нашептывать свои желания в ухо Траяну. Зато здесь есть я. Даже будучи в Египте, я каждый месяц писала ему, и готова спорить на что угодно, что мои письма он читал с куда большим удовольствием, нежели послания Плотины. В отличие от нее я умею его рассмешить. Как ты думаешь, что вызывает у нас смех? Вернее, кто?
Адриан резко обернулся – сказалась реакция заядлого охотника – и занес руку. Неферу подняла заостренную мордочку и зашипела.
– Ударь меня, если хочешь, – спокойно ответила Сабина. – Я покажу Траяну синяк, тем более что сегодня вечером он пригласил меня на ужин. Надеюсь, ты тоже получил его приглашение.
Адриан опустил руку. Лицо его напоминало каменную маску.
– Ты еще пожалеешь об этом, Вибия Сабина.
– Когда ты станешь императором? – Сабина повернулась, обходя собак, и направилась прочь. – Можешь говорить об этом со своей лужей, я же поговорю с императором. Посмотрим, кому из нас повезет больше.
(обратно)
Глава 23
Викс
Нашел я их лишь через два дня, голыми руками разворотив каменные глыбы.
Бок о бок со мной молча трудился Прыщ, изредка полушепотом отдавая команды моим солдатам, которые всякий раз спешили мне на помощь, когда я самостоятельно не мог сдвинуть тяжелый камень. Антиной тоже молча копошился рядом со мной, выбирая камни поменьше и полегче. Но я не обращал на них внимания. Словно безумец, ничего не замечая вокруг себя, я разгребал завалы, убирал с дороги битый камень и кирпич, которые еще недавно были нашим домом. От толчков обрушились все четыре этажа, и, увы, моя Мира находилась в самом низу. Вскоре я наткнулся на недвижимое, изуродованное женское тело, и мое сердце едва не выскочило из груди. Впрочем, это оказалась какая-то старая женщина. Ее волосы лишь потому показались мне рыжими, что были измазаны кровью. Дочери погибшей тотчас принялись выть и стенать, и лишь тогда до меня дошло, что я не один пытаюсь разобрать завалы, что рядом со мной трудятся еще десятки людей, соседи, что жили на верхних этажах или в соседних домах. И все они, как и я, искали своих близких. По всему городу люди разгребали обломки домов, выкрикивая имена жен, мужей, сестер, детей. Впрочем, были и те, кто пришел с тем, чтобы поживиться – то здесь, то там можно было увидеть компании мародеров. На моих глазах какой-то молодой мужчина с жадностью рылся в карманах женщины, что лежала посреди улицы с раздавленными ногами. Не обращая внимания на ее стоны, он продолжал ощупывать ее одежду в надежде найти в складках что-нибудь ценное. Я молча подкрался к нему сзади и двумя руками свернул ему шею. Антиной в ужасе уставился на меня. У меня же не нашлось слов, чтобы объяснить ему мои действия.
Время от времени Прыщ заставлял меня вздремнуть. Я ложился тут же рядом, на земле, на расстеленный плащ и, проспав с полчаса, вновь принимался за работу. Вскоре мои руки были изодраны до крови.
– Нам ее не найти, центурион, – произнес огромный африканец, один из лучших моих бойцов, но я пропустил его слова мимо ушей.
На утро третьего дня Прыщ откопал ступню.
Небольшую, с высоким подъемом и тонкой лодыжкой. Она торчала из груды камней и обрушившихся потолочных перекрытий.
Тощий испанец, которого в прошлом месяце я выпорол за то, что он посмел ослушаться моих приказов, положил мне на плечо руку. Я стряхнул ее, а сам бросился на каменную груду и принялся разгребать обломки. Мне под ноготь тотчас впились две острых занозы, но я не замечал боли.
Прыщ и гигант африканец, поднатужившись, сдвинули с места потолочную балку, я же освободил из-под завала стопу моей любимой жены. Затем присыпанную серой пылью голень. Затем усыпанное щепками колено.
В следующий момент откуда-то из глубины обрушившихся балок донесся голосок, едва слышный, но не менее язвительный:
– Ну, наконец-то, муженек.
Стены дома обрушились, а вот кирпичная печь осталась цела. Схватив малютку Дину, моя жена прижалась к печи. Она успела вовремя, потому что в следующее мгновение рухнула крыша. Падающие балки наверняка убили бы их насмерть, если бы не печь – две балки обрушились поперек печи, что и спасло мою жену и дочь. Правда, нога Миры оказалась поймана в каменный капкан, зато печь и потолочные балки образовали нечто вроде крошечного кармана, который и стал их спасением. Рядом со мной мои солдаты орали, сыпали проклятиями, напрягали усталые мускулы, чтобы сдвинуть очередную балку. Я же, как зачарованный, смотрел в небольшую щель, которую сумел проделать в груде обломков.
Мне была видна прядь волос моей жены, кусочек покрытого ссадинами лба.
– Ты ранена.
И тут я увидел кровь. Мое сердце тотчас застучало, словно кузнечный молот, готовое в любой момент выскочить из груди. Через всю щеку Миры протянулась коричневая полоса запекшейся крови.
– Нет, – ответил голос моей жены со странной хрипотцой. – Это родовая кровь.
– Что?
– Меня стукнуло балками, и ребенок попросился наружу еще до того, как осела пыль.
Мира повернула голову, и на меня в щель посмотрел один ее глаз.
– Ты поклялся, что наш второй ребенок родится в доме. Но если не ошибаюсь, ничего не сказал о том, что дом будет целым.
– Эй, давайте поживее! – крикнул я своим солдатам.
– С нами все в порядке, со всеми тремя, – голос Миры подрагивал, но, клянусь всеми богами, я не услышал в нем ни паники, ни уныния. – Когда мои двоюродные сестры рожали, я помогала повитухам, и потому знаю, как перевязать пуповину.
– Живее, кому сказано!
Натужно скрипнув, в сторону сдвинулось еще одно бревно. Я, не раздумывая, прыгнул в образовавшееся отверстие и, протянув руку в небольшую щель, зиявшую в груде обломков, вытащил наружу мою жену: грязную, в крови и пыли, но улыбающуюся мне самой счастливой улыбкой.
– Воды, – прохрипела она, и тогда я крепко прижал ее к себе. Мое сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, в ушах по-прежнему стояли крики, которые начались, как только я откопал среди камней ее ногу. Впрочем, вскоре до меня дошло, что крики настоящие и исходят от двух свертков у нее на руках. Одним таким свертком была Дина: из шали, в которую завернула ее Мира, был виден клочок ее черных волос. Второй сверток…
– Это наша вторая дочь, – сказала Мира, вручая мне пищащий кусок мяса, все еще перемазанный родовой кровью и наспех закрученный в синюю материнскую шаль.
– Это хороший знак, – глубокомысленно произнес испанец. – Родиться среди крови и руин и все равно стремиться к жизни. Как и мы.
Прыщ крикнул, чтобы принесли воды и перевязочный материал. Антиной первым бросился выполнять приказ.
Придавленной ноге Миры требовалась помощь. Было видно, что ей больно на нее наступать. Мне ничего другого не оставалось, как придерживать жену, чтобы та не упала. Что я и делал, дрожа всем телом.
– Я пообещал, что у тебя будет повитуха, – полным раскаяния голоса сказал я Мире. – Я пообещал тебе чистую постель и вкусную пищу.
– Пища была, – Мира посмотрел на округлившиеся груди. – Не успела малышка родиться, как прилило молоко, так что я кормила их обеих. А потом я сцеживала немного для себя, – еле слышно добавила она. – Ничего другого не оставалось, ведь как иначе прожить два дня без воды. Что ты скажешь, если мы назовем ее Чайя. Что значит «живая». – Подбородок Миры на мгновение дрогнул. – Ведь она могла умереть.
– Это ты могла умереть, – сказал я, чувствуя, как по моим щекам катятся слезы. Как вы думаете, кто помог их мне осушить? Ну, конечно же моя жена, которую я только что выкопал из могилы с двумя орущими свертками в руках.
Тит
Тит проходил мимо длинного пруда в садах сенатора Норбана, когда неожиданно откуда-то из глубины водоема поднялась волна и обрызгала ему сандалии. Он тотчас остановился, глядя на воду – поверхность пруда была спокойной и чистой, как зеркало. Увы, стоило ему повернуться, чтобы продолжить свой путь дальше к дому, как еще одна волна намочила ему край тоги. Правда, на этот раз до его слуха донесся смешок.
– Похоже, я чем-то оскорбил обитающую в пруду нимфу, – громко произнес он. – С другой стороны, я уверен, что не в привычках нимф хихикать.
– О, еще как! – из-за края фонтана возникла золотая головка Фаустины, а в следующий миг ее лицо озарила довольная улыбка. – Нимфы большие любительницы всяких проказ. В мифах они просто обожают подшучивать над пьяными сатирами и время от времени превращаются в деревья.
– Что ж, справедливое замечание. Но не слишком ли еще холодна вода для подобных плесканий?
Весна уже пришла, с солнцем и зеленой травой, но настоящего тепла еще не было.
– Насколько мне известно, в отличие от сенаторских дочерей нимфам простуда не грозит.
– А мне нравится холодная вода. Она, словно удар молнии, пронзает тело насквозь. Зато потом становится тепло. А как хорошо спится после холодной ванны! – Фаустина пристально посмотрела на Тита. – Ты сегодня весь какой-то слишком серьезный и официальный.
– Боюсь, что сегодня я пребываю в серьезном и официальном настроении. Скажи, отец дома?
– Да, но моя мать точно убьет тебя, если ты посмеешь его побеспокоить. Он неважно себя чувствует, и она пытается обеспечить ему полный покой.
Тит едва не выругался. Он несколько дней взвешивал все за и против, не решаясь обратиться за советом к сенатору Норбану, и вот теперь ему говорят, что сенатора нельзя беспокоить.
– Скажи, а дело важное? – Фаустина раскинула на мраморе мокрые руки.
– Не знаю. Это как посмотреть. И я надеялся услышать его совет. – С этими словами Тит поправил ворох свитков и восковые таблички, которые держал в одной руке. Хотя они едва в ней помещались, однако он никак не мог доверить их рабу, настолько важны они были. – Дело касается финансирования общественных бань.
– Что?
– Ничего такого, что могло бы помешать твоему купанию.
– Финансовые нарушения? – тотчас уточнила Фаустина.
– Да, что-то в этом роде.
– Давай я тебе помогу.
Она поднялась по мраморным ступенькам бассейна. Вода стекала с ее плеч, капала с подола тонкой льняной туники. Казалось, она была сама Венера, родившаяся из морских волн. Разумеется, Венера обычно купалась нагой, но туника Фаустины промокла насквозь и липла к телу, отчего казалось, будто она… тоже нагая. Тит кашлянул и отвел глаза, вернее, уставился себе под ноги. Фаустина же как ни в чем не бывало прошествовала мимо его в дом. Та самая маленькая, пятилетняя девчушка, которую он когда-то на свадьбе Сабины на руках отнес домой, за эти годы успела превратиться во взрослую девушку. Впрочем, как будто почувствовав его смущение, Фаустина наклонилась, чтобы поднять с земли брошенную паллу, и набросила ее себе на плечи.
– Итак, что там у тебя? – спросила она, опускаясь в кресло посреди атрия и указывая на ворох свитков в его руках. – Дай мне взглянуть.
– Я бы не осмелился докучать хорошенькой девушке такими скучными вещами, как финансы.
– Уж лучше ты с такой скучной вещью, как финансы, чем женихи с их скучными стихами, – возразила Фаустина. – Честное слово, я предпочитаю первое.
– Мне казалось, девушкам нравится принимать ухаживания.
– Это ты так думаешь, – ответила Сабина и отправила в дом раба принести вина. – Мне тоже казалось, что это ужасно приятно. Я помнила, как когда-то наш дом был полон мужчин, оказывающих знаки внимания Сабине, и не могла дождаться, когда наступит моя очередь. Наконец она настала. И что же? Все эти женихи и их ухаживания мне страшно наскучили. Те, что постарше, вечно бубнят о политике, те, что помладше, без умолку трещат о войне, и все как один пытаются заглянуть в вырез моего платья.
– А что мешает тебе изобразить из себя дурнушку? – предложил Тит. – Впрочем, это потребовало бы немалых усилий с твоей стороны. Да и что ты могла бы сделать? Обрезать волосы? Носить туники из грубой ткани и перемазаться в саже? Зачернить углем зубы? – Тит покачал головой. – Нет, и впрямь бесполезная затея.
– Вот чем ты мне и нравишься, Тит! – радостно воскликнула Фаустина и, наклонив голову, посмотрела на него. – Любому мужчине не стоит больших трудов сказать женщине, что она прекрасна. Но только ты способен это сделать, когда ее волосы похожи на мокрую мочалку. Отведай-ка лучше вот это, – с этими словами она потянула у него из рук ближайший к ней свиток, а вместо него вручила кубок с вином, которое только что принес раб. – Я же пока просмотрю твои бумаги.
Тит не стал с ней спорить. Разве поспоришь с нимфой? Сев рядом с Фаустиной, он принял из ее рук кубок. В конце концов других дел на сегодня у него нет, так что спешить ему некуда. Кроме того, в своем последнем письме из Антиохии Сабина просила его присматривать за ее младшей сестрой.
«По словам отца, женихов у нее больше, чем у Елены Троянской, и мне бы не хотелось, чтобы она пошла по моим стопам и позволила какому-нибудь зазнайке вскружить ей голову».
Впрочем, судя по словам самой Фаустины, такого развития события опасаться нет причин.
Фаустина подвинула стул ближе к Титу и указала ему на одну строчку свитка в своей руке.
– Как я понимаю, для каждой из этих сумм имеется расписка в получении?
– Да, вот они, – сказал Тит, делая глоток приятного, теплого напитка. – Скажи, а где ты научилась так хорошо считать?
– Моя мать учила нас с Сабиной вести домовые книги, – ответила Фаустина. – Не могу сказать, что Сабина отличалась усердием – в отличие от меня. А это что за табличка?
– Это копии заказов для каменоломни. Будь добра, посмотри вот сюда…
Примерно через полчаса Фаустина задумчиво вздохнула и подняла глаза.
– Ну что я могу сказать? Тебя обманывают.
Тит посмотрел на расстеленные перед ним свитки, на восковые таблички, на испещренные цифрами записки, которыми теперь был завален весь стол.
– Да, я знаю.
– Нет, не совсем так. Обманывают не тебя, – поправилась Фаустина. – Обворовывают бани Траяна. Кто-то пытается положить себе в карман государственные деньги, и это неплохо ему удается.
– На прошлой неделе я и сам пришел к тому же выводу, – мрачно произнес Тит. – Но остается вопрос, кто же этот вор? И как мне с ним бороться? Потому что карман себе явно набивает не какой-нибудь жадный вольноотпущенник, дорвавшийся, как ему кажется, до ничейных денег.
– В таком случае все сводится к ответу на вопрос, а кто, собственно, имеет доступ к этим средствам? – произнесла Фаустина. – Кто способен без опаски снимать пенки с государственной казны?
– Я и это изучил на прошлой неделе. И могу с уверенностью сказать, что ни один из моих непосредственных подчиненных не имеет отношения к этим хищениям. Хотя бы потому, что не располагают необходимым в таких случаях влиянием. Впрочем, так же, как и я сам.
Тит вопросительно посмотрел на Фаустину.
– Скажи, а твоя мать случайно не учила тебя распознавать финансовые махинации или все твое обучение свелось к ведению домовых книг?
– Учила, как же не учить. Ведь, как известно, вольноотпущенники народ ушлый, так и норовят положить деньги себе в карман. – Фаустина скрутила в косу мокрые волосы и перебросила их через плечо. – Будь то мука, украденная из кладовой, или мрамор из каменоломни, все это в конечном итоге деньги. И если ты хочешь схватить вора за руку, тебе надо сделать одно из двух. Сначала посмотри вверх…
– Или?
– Или не смотри. Потому что кем ни был вор, вряд ли он захочет остановиться, тем более, если он по положению выше тебя. Потому что ты вряд ли захочешь навлечь на себя его гнев.
Тит подумал о банях, о стенах, что уже высились на прочном фундаменте, из которого выросли примерно так же, как Фаустина только что выросла перед ним из бассейна.
– Я подумаю, как мне поступить.
Какое-то время они сидели молча. Тит задумчиво постукивал стилом по восковой табличке. Фаустина уложила мокрые волосы на голове, и теперь с их концов ей на плечи стекали капли воды.
– Но ведь ты все равно попытаешься положить этому конец? – спросила она, когда молчание стало затягиваться.
– Да.
Императорский двор. Императрицу Плотину вечно окружал рой управляющих и секретарей, которые были в курсе всех государственных проектов. Любому из них ничего не стоило, прикрывшись высоким именем, заниматься самообогащением. Тит поделился своими соображениями с Фаустиной.
– Что ж, для начала неплохо, – сказала та и, взяв у него из рук стило, вместо шпильки скрепила им в узел мокрые волосы, которые так и норовили вновь рассыпаться по плечам. – Но только будь осторожен, слышишь?
– Вот увидишь, императрица поддержит меня! – с жаром воскликнул Тит.
И действительно, кто как не императрица, известная своей добродетелью, способен понять его возмущение наглым хищением государственных денег! Потому что обратись он к какому-нибудь вельможе, что он услышит в ответ? «Все воруют», – скажет тот ему. «Все, кто как может, набивают себе карманы, все стремятся обогатиться за государственный счет. Так уж устроен мир». «И возможно, этот человек будет прав, – подумал Тит. – Но со мной этот номер не пройдет».
Викс
К концу того года Парфия лежала у наших ног: Аденистры, Вавилон, Селевкия, Ктесифон. Все до последнего ее города пали.
«Трудно уследить за вашими победами, – писал из Рима Тит в одном из своих писем. – Как я понял, вы маршем – почти как Александр – прошли Гавгамелы, и что также важно, с тем же результатом. В эти дни сенат проводит примерно половину времени в спорах о том, кто главные действующие лица и герои этого грандиозного спектакля. И один из них, насколько мне известно, это ты. Прими мои поздравления, Первый Копейщик!»
Да, я достиг своего! Теперь я самый главный центурион Десятого легиона! Причем один из самых молодых в этом звании. Если не самый молодой. Точно сказать не могу. Разумеется, немало тех, кто готов придушить меня за это, тех, кто вечно возмущается себе под нос, что, мол, я слишком быстро пришел к своему званию, и то лишь потому, что хожу в любимчиках у Траяна. Конечно, в столь стремительном продвижении мне посодействовали лагерная лихорадка и парфяне, что быстро выкашивали наши ряды, в том числе, и центурионов. Впрочем, до меня ни лихорадка, ни парфяне еще не добрались. А вот Траян – да. Он закрыл глаза на традиция и сделал меня первым копейщиком Десятого легиона в обход нескольких кандидатур. Бывшего первого копейщика отправили в Рим, и перед отъездом он с кислым видом передал мне свои знаки отличия. Следующей моей ступенькой будет префект лагеря, после чего – кто знает, вдруг и впрямь воплотится в жизнь моя самая заветная мечта, и я получу в свои руки командование целым легионом.
– Вот увидишь, я им стану, – сказал я Мире, которая укладывала наших дочерей в кроватку в соседней комнате. – Еще два года войны, и я им стану.
– В таком случае, упаси бог, чтобы война кончилась, – сухо ответила она, поцеловав девочек и пожелав им спокойной ночи. Обе наши дочери были светлокожие и темноволосые. Ни одна из них не унаследовала рыжинки обоих своих родителей. Лежа бок о бок в колыбельке, обе были похожи на розовые бутоны.
– Какие хорошенькие, – сказала Мира, любуясь ими. – С другой стороны, не дай бог им вырасти такими же красивыми, как Антиной.
– Это почему? – тотчас навострил уши тот. Ему было почти десять, и он уже пошел в рост и в скором времени обещал превратиться в стройного, красивого юношу. Пухлые щечки смазливой мальчишеской мордашки постепенно исчезали, уступая место правильным, точеным чертам. Антиной напоминал мне скульптуру какого-нибудь бога в храме – те же высокие скулы, волевой подбородок, прямой, слегка орлиный нос. Я уже много лет как не мог вспомнить лица Деметры, и вот теперь, всякий раз глядя на ее сына, я вновь видел его перед собой.
– Потому что такая красота не сулит ничего хорошего. Надеюсь, тебе известно, что ко мне на улице подходило трое мужчин с просьбой его продать. – Мира поморщила носик. – Ты даже не представляешь себе, что они предлагали. И с каким усердием уламывали меня. Честное слово, мне потом хотелось отмыться от этой грязи.
– Ох уж эти антиохийцы и их хорошенькие мальчики! – пробормотал я. – Может, мне стоит в этом году взять его вместе с собой в поход?
– Думаешь, так будет лучше? Римские солдаты еще хуже антиохийцев! – воскликнула моя жена, после чего сурово поджала губы. – Можно подумать, Викс, мне не известно, что происходит между мужчинами в ваших лагерях. Я также знаю, что ты привык смотреть на такие вещи сквозь пальцы. Но это еще не значит, так и должно быть.
– Если это коснется моего девятилетнего сына, я не стану смотреть на это, как ты выразилась, сквозь пальцы, – ответил я и поцеловал пробор на ее голове. – Не переживай, мы сделаем все для того, чтобы с ним ничего не случилось.
– Боюсь, что тебе предстоит это делать одному, потому что в этом году я остаюсь с девочками в Антиохии. Следовать за армией с ребенком на руках нелегко, а их теперь у меня двое. Так что уж лучше я останусь с ними в городе.
– Только не в квартире на первом этаже! – и я взял с нее обещание. Боги свидетели, как мне недоставало Миры в том походе. Выручало одно – я часто наведывался в Антиохию по служебным делам. Бывало, мы с Антиноем входили в дом, и я начинал звать жену. Первой на шатких детских ножках ко мне выходила Дина и цеплялась за мои сапоги. Тогда я надевал ей на голову мой шлем, и она заливалась звонким детским смехом и принималась жевать перья гребня. В свою очередь, Антиной пытался отцепить ее от моих сапог, чтобы затем подбросить ее в воздух, а в следующий момент с младшей дочерью на бедре ко мне выходила Мира, чтобы, вытерев о передник руки, начать отчитывать меня за то, что я не предупредил ее о моем приезде. Потому что, знай она об этом, она непременно купила бы на рынке гуся. Ведь накормить меня – это все равно что накормить пятерых, если не семерых, в зависимости от того, сколько пустого места осталось в моем желудке.
– Пока что война была благосклонна к нам, – сказала я, протягивая ей навстречу руки, как только она закрыла за собой двери нашей спальни. В свете лампы ее волосы горели огненной медью. Впрочем, в следующий момент она задула пламя, и мне было слышно лишь шлепанье ее босых ног по неровному полу, а в следующий момент она скользнула ко мне в постель. К концу дня, когда усталость валила ее с ног, она слегка прихрамывала. Лодыжка, которую она сломала во время землетрясения, срослась, но частично утратила подвижность.
– Я знаю. Пока что война благосклонна к нам, – ответила Мира, переплетая свои пальцы с моими. – И все же это своего рода грех радоваться военным успехам. Есть в этом что-то неправильное.
– Разве быть победителем грешно?
– А разве победители не насилуют и не грабят побежденных?
– Только не мои солдаты! Я этого им не позволяю. Да и Траян также не одобряет такие вещи.
«Мне нужна провинция, которая, как только война завершится, будет способна платить налоги», – высказался он как-то раз по этому поводу, давая легатам понять, что те обязаны пресекать любые попытки грабежа и мародерство.
– Я сегодня получила письмо от дяди Симона, – сказала Мира, водя пальцем по моей груди. – Он получил надел земли в Иудее и, по его словам, уже к концу года перевезет туда свою семью.
– Не слишком удачное время, – откликнулся я. Насколько мне было известно, не то в Кирене, не то в Киренаике евреи недавно подняли мятеж, и Траян был вынужден отправить на его подавление часть своих сил: моего бывшего начальника Квиета с его кавалерией.
– Иудея переживет все, – возразила Мира, приподнимая голову с моего плеча, чтобы заглянуть мне в глаза. – Может, нам тоже стоит там поселиться?
– Что? – я даже расхохотался.
– Ты ведь больше не рядовой солдат, привязанный к своему легиону. Центурион легко может получить перевод из одного легиона в другой. И когда ты отслужишь свой срок в качестве первого копейщика, а война закончится…
Я был готов поклясться, что вижу, как говоря эти слова, Мира морщит носик.
– Ты можешь попросить у начальства дать тебе назначение в Иудею, и тогда мы поселимся со своим народом.
– Мой народ живет в Британии, – возразил я. – От Иудеи это не близкий свет.
– Иудея – родной дом для каждого еврея, – твердо сказала Мира. – И наш тоже. Я бы хотела, чтобы наши дочери выросли там. Одно дело таскать их вслед за армией в камышовых корзинках, пока они маленькие, и совсем другое – дать им нормальный дом, в котором бы прошли их детство и юность.
– Поговорим об этом позже, – ответил я зевая. – Когда мы покончим с Парфией. Завтра я возвращаюсь назад в Ктесифон.
Впрочем, действительно ли я хотел, чтобы война поскорее закончилась? И хотел ли этого Траян? Мне запомнились его слова, сказанные прекрасным летним вечером на борту ладьи вскоре после того, как Ктесифон пал. Стоя в боевых доспехах перед его рабочим столом, я тогда докладывал ему о еврейских волнениях на Кипре. По идее, для человека, покорившего три новых провинции, это должна была быть приятная лодочная прогулка по Тигру. Увы, всего несколько спокойных, размеренных летних дней, и отдых уже наскучил Траяну. Он вытащил на палубу рабочий стол и теперь восседал за ним в окружении горы свитков, делая на восковой табличке какие-то пометки.
– Придется повысить плату за перевоз паромами через Тигр верблюдов и лошадей, – задумчиво произнес он, когда я закончил доклад. – Кстати, как там обстоят дела у Квиета на Кипре? Что слышано по этому поводу?
– Поговаривают, что на Кипре мятеж, Цезарь. Что там якобы убивают римских граждан. Обычные слухи.
– Что за слухи?
– Что евреи якобы пожирают своих жертв, делают из их кишок пояса, выделывают их кожу себе на плащи.
– А что ты сам думаешь по этому поводу? – Траян с прищуром посмотрел на восковую табличку, затем поднес ее ближе к глазам. – О боги, мои глаза уже не те, что раньше!
– Моя жена еврейка, Цезарь. – Я потрогал пальцами выцветший край синего платка, который после землетрясения и чудесного спасения Миры носил, намотав на руку под наручами. – Она не торопится пустить мои кишки себе на пояс даже тогда, когда я забываю вытереть ноги и сапогами разношу грязь по только что выметенному полу.
– Отлично. Тогда я отправлю тебя на Кипр. Раз у тебя жена-еврейка, тебе будет проще договориться с тамошними евреями. Можешь взять с собой свою центурию. Думаю, ее быстрота тебе не помешает.
– Все мои центурии натасканы на быстроту, Цезарь.
Поскольку я теперь бы первый копейщик, я мог отдавать приказы и другим центуриям. Не скажу, чтобы они были от этого в восторге, но приказам моим подчинялись. Что еще им оставалось? Харон свидетель, я обожал раздавать приказы!
– В таком случае возьми пару когорт, – ответил Траян. – И как только прибудешь на Кипр, сразу отправь мне рапорт.
– Слушаюсь, Цезарь.
Траян бросил стило и, встав из-за стола, прошел мимо меня к парапету ладьи. Был закатный час, и воды реки отливали в вечернем свете золотом. Берега же уже приобрели пурпурный оттенок. Я поднял голову и посмотрел на парус, на котором золотыми буквами было вышито имя Траяна и все его титулы. В свете заходящего солнца казалось, будто они пылают огнем.
– Видишь вон ту ладью? – спросил Траян, указывая за борт. Я подошел к нему и встал рядом. По обеим сторонам от нас застыла стража, а рядом со стражниками, в ожидании, когда подойдет их очередь, толпа придворных и секретарей с ящиками корреспонденции и другие его приближенные. Но Траян обращался только ко мне. Мы с ним бок о бок застыли у перил, обыкновенная пара солдат, наслаждающихся вечерней беседой. – Вон ту, под красным парусом? Она направляется в Огаракс, а затем в Индию. Ты только представь себе, в Индию!
Лично я представлял себе это с трудом. Неужели наш мир раскинулся столь широко? Я был уверен, что если и дальше все время двигаться на восток, рано или поздно мы просто провалимся за горизонт.
– А какая она, Индия, Цезарь?
– Не знаю, – задумчиво признался Траян. – Хотя хотелось бы узнать – все время идти вперед, завоевывать новые страны. Ради этого стоит жить. Скажи, Верцингеторикс, ты хотел бы побывать в Индии?
– Дойти до нее – хотел бы, лишь бы только не плыть морем. Ненавижу лодки.
Траян рассмеялся моим словам.
– В таком случае двигайся сухопутным ходом. Я дам тебе половину моих легионов, чтобы ты вторгся в нее с севера. Вторую половину я возьму с собой, чтобы высадиться на побережье на юге. Мы встретимся с тобой где-нибудь посередине. Как тебе мой план?
– Отличный план, Цезарь.
– Наверно, так оно и есть. О боги, как бы я хотел сбросить четыре десятка лет, чтобы мне вновь было двадцать два, а не шестьдесят два.
– Сколько бы тебе ни было, Цезарь, можешь на меня положиться. Даже если ты заставишь меня плыть морем.
Траян поднял руку и помахал лодке, что шла под красным парусом, держа курс на восток.
– Не в этот раз. А пока отправляйся на Кипр. Выясни, во имя всех богов, чем в этот раз недовольны эти евреи.
Я отсалютовал Траяну и отправился выполнять императорский приказ: собрал моих солдат, совершил стремительный марш-бросок обратно в Антиохию и отплыл на Кипр.
И когда сошел на берег…
Мне до сих пор не хочется вспоминать этот день. Но он все еще является ко мне в дурных снах.
Плотина
– Моя дорогая, да ты просто загляденье! – с этими словами Плотина расцеловала в обе щеки высокую светловолосую девушку. – Сенатор Норбан, я наслышана, что твоя дочь сводит с ума весь Рим. Скажи, ты уже подыскал ей достойного жениха?
– Она сама сделает свой выбор, и, я надеюсь, что император его одобрит. – Сенатор даже запрокинул голову, с улыбкой глядя на дочь, которая была гораздо выше его. – Хотя, признаюсь честно, я даже рад, что она пока еще его не сделала.
– Мне пока не встретился никто, кто хоть в чем-то был похож на моего отца, – ответила Фаустина и наклонилась, чтобы поцеловать сенатора в щеку. – О боги, кажется, сюда идет этот старый зануда Сервиан. Отец, ты не против, если я спрячусь?
– Да я бы и сам с удовольствием от него спрятался, – ответил Марк Норбан и помахал рукой, разрешая дочери уйти. Фаустина отвесила императрице быстрый поклон и нырнула в толпу, которой был заполнен атрий, а когда вновь из нее вынырнула, то поспешила встать рядом с матерью.
«Ей уже девятнадцать, – подумала Плотина, – и как же она хороша собой».
Фаустина и впрямь была хороша в своем бледно-желтом шелковом платье. И хотя молодость била из нее ключом, она умела держаться с достоинством, учтиво кивая каждому гостю.
Сразу видна благородная кровь, отметила про себя Плотина, и главное, к крови прилагается достойное приданое. Широкие бедра женщины, которой будет легко рожать, манеры, которые украсили бы собой дворец. О боги, ну почему Фаустина появилась на свет позже своей старшей сестры? Как же это несправедливо! Из нее получилась бы куда лучшая жена дорогому Публию, нежели из ее старшей сестры, этой безнравственной шлюхи, которая только и делает, что ищет приключений. Плотина даже закрыла глаза, вспоминая проклятый пир, на котором Сабина осмелилась выставить себя напоказ гостям в
том платье. Страшно подумать, в какой шок эта нахалка повергла друзей и знакомых дорогого Публия. Слава Юноне, эта потаскуха уехала из Рима и теперь выставляет себя напоказ в Эфесе, или Сирии, или где-то еще. Главное, чем дальше от Рима, тем лучше, чтобы люди поменьше знали о ее бесстыдных выходках. К великой досаде Плотины, о Сабине в Риме говорили, правда, не о ее любовниках и даже не о бесстыдных нарядах, а госпитале, который она основала в какой-то дакийской дыре, или о приданом, которым она одаривала бедных свободнорожденных девушек в Кампании. И Плотина была вынуждена воздать ненавистной снохе должное: при всем своем бесстыдстве Сабина была не настолько глупа, чтобы выставлять свои пороки на всеобщее обозрение, наоборот, она умело маскировала их добрыми делами.
Гости тем временем постепенно занимали свои места в триклинии – причем пиршественные ложа заменили на длинные ряды стульев. А все потому, что гости были приглашены не на пир. В триклинии должно было состояться публичное чтение последнего трактата сенатора Норбана. И пусть сам автор в этом году сложил с себя сенаторские полномочия, его перо оставалось по-прежнему острым. Плотина заняла отведенное ей почетное место и нахмурилась. Честное слово, она бы предпочла, если бы престарелый сенатор наконец покинул этот мир или по крайней мере перестал вмешиваться в политику. Увы, его мнение до сих пор значило слишком многое – гораздо больше, нежели ее устраивало. Ну а самое главное, он никогда не выказывал особого расположения к ее дорогому Публию. И все же такую возможность, как сегодняшние чтения, упускать было бы неразумно.
– Легат Урбик! Могу я сказать пару слов? Бывший консул Адриан с теплотой описал мне твои подвиги в Германии… Насколько я понимаю, вы с Публием лично знакомы? Ему необходима поддержка в двух небольших начинаниях, и я хотела бы обратить на них твое внимание. Насколько мне известно, ты сейчас подыскиваешь себе жену. Скажи, а как тебе дочь сенатора Норбана, Фаустина? Такая красавица, не говоря уже о приданом. Кстати, в том, что касается ее семьи, то у меня есть кое-какое влияние. Думается, я бы могла повлиять на ее выбор. Надеюсь, у тебя вскоре состоится разговор с Адрианом. Вот увидишь, он будет только рад поддержке с твоей стороны.
– Магистрат, не желаешь ли сесть рядом со мной? Думаю, нам есть, о чем поговорить. Мы могли бы обменяться парой слов, – Плотина понизила голос до шепота, практически неслышного окружающим, поскольку оратор уже начал свою речь. Но говорил не сам сенатор – он заявил, что слишком стар для публичных речей. Вместо него трактат читал Тит Аврелий. А вот ее дорогого Публия сенатор почему-то никогда не приглашал читать за себя трактаты. А ведь тот приходится ему зятем! Судя по всему, старый сенатор – как и весь остальной Рим – оказывает юному квестору знаки внимания лишь по причине огромного наследства, которое завещал ему дед. Плотина нахмурила брови. Молодой человек тем временем поднялся на возвышение и уверенным, бархатистым баритоном произнес первые слова трактата.
Впрочем, Плотина не стала его слушать, а повернулась к магистрату, сидевшему с ней рядом.
– Я наслышана о кончине твоей жены – какое, однако, печальное известие! Говорят, ты подыскиваешь себе новую жену. Отлично тебя понимаю. Как-никак твоим детям нужна мать. Так что это весьма разумно с твоей стороны. Кстати, как тебе нравится дочь сенатора Норбана Фаустина? Та, что сидит в первом ряду, в желтом платье? Согласись, она прекрасна. Между прочим, у меня прекрасные отношения с их семейством, и мне ничего не стоит повлиять на ее выбор. А еще в скором времени я бы хотела поговорить с тобой о кое-каких вещах юридического характера. Причем таких, решение которых весьма важно для бывшего консула Адриана.
Плотина откинулась на спинку стула и принялась обмахиваться веером. Первая часть трактата подошла к концу, и юный Тит отпустил по этому поводу шутку, и хотя Плотина не слушала его, все равно рассмеялась вместе с остальными гостями. Во время короткого перерыва к Титу подскочила Фаустина, чтобы поздравить его. Плотина не сводила с нее глаз. Девушка ей нравилась. Из нее наверняка выйдет прекрасная супруга – супруга легата или магистрата, или кто там еще окажется лично ей полезен.
«Я непременно приглашу ее во дворец, помочь мне за ткацким станком, – решила Плотина. – А вообще как жаль, что такую чудную девушку нельзя выдать за дорогого Публия».
(обратно)
Глава 24
Викс
– Викс?
– Что?
Я вынул пробку из нового кувшина, налил до краев кубок и жадно осушил его, даже не разбавляя вино водой. Неразбавленный напиток обжег мне горло до самого желудка.
– Ты даже слова не сказал мне с тех пор, как вернулся домой, – Мира вопросительно посмотрела на меня. Чайя сидела у нее на бедре, Дина держалась за юбку. – Неужели ты не хочешь рассказать мне, что случилось?
Я фыркнул и неохотно опустил кубок. Прошло два дня после того, как я с моими солдатами кораблем вернулся с Кипра. Мира с детьми выбежала к двери, чтобы встретить меня. Но я молча шагнул в дом мимо нее и жадно припал к кувшину с вином. Моя жена осталась стоять у двери в новом красном платье, держа на руках наших дочерей, которых по этому случаю принарядила в розовые платьица. Спустя два дня я все еще не был пьян в той степени, в какой мне хотелось.
– Викс, – в голосе Миры слышались нотки отчаяния. – Так ты отказываешься со мной разговаривать?
– Да, – ответил я, наливая себе очередной кубок. Испугавшись моего осипшего голоса, малышка Дина спряталась за материнской спиной. Антиной испуганно посмотрел на меня из угла комнаты, где он сидел, упражняясь в грамоте. Слава богу, я не стал брать его с собой на Кипр. Он прошел рядом со мной не одну кампанию и наверняка понимал, какое выражение бывает на моем лице после неудачного сражения. Когда я вернулся с Кипра, он лишь разок посмотрел в мою сторону, после чего вновь забился в угол.
– И как долго ты собираешься накачиваться неразбавленным вином и тупо смотреть в стену? – голос Миры почти срывался на крик. – Через два дня тебе возвращаться в легион! Ты же не состоянии даже сесть на лошадь.
Я задержал во рту глоток вина до тех пор, пока у меня не заныли зубы. Не
помогло. Я сглотнул вино.
– Так что же случилось на Кипре? – мне было слышно, что юбки моей жены шелестят уже совсем рядом. – Ты отсутствовал дома целый месяц. Я думала, ты покидаешь нас на несколько дней…
– Копать могилы требуется время…
Малышка Дина выглянула из-за юбок Миры и уставилась на меня из-под челки темных, выбившихся из-под ленты волос. Мне пришлось хоронить девчушку примерно ее возраста. Правда, ее волосы удерживала на месте кровь, и ей не требовались никакие ленты.
Мира смерила меня очередным пристальным взглядом, затем взяла Дину за руку и скрылась в спальне. Антиной, словно олененок, увязался вслед за ней. Я обвел глазами наше жилище: как обычно, чисто убранное и вымытое до блеска. Не знаю как, но Мире удавалось превратить любую тесную квартирку в уютное семейное гнездышко. Вокруг дверей вился фриз из виноградных листьев. Рядом с дверью стоял горшок – в нем росли какие-то травы, которые шли затем в суп. На полу горка детских игрушек. Казалось бы, так просто. И вместе с тем, так уютно. Впрочем, я смотрел на все эту сквозь застилавшую мне глаза пьяную пелену.
А может, сквозь слезы.
Из спальни Мира вернулась одна, без детей. Она опустилась передо мной на колени и заглянула мне в глаза.
– Что случилось?
– Евреи на Кипре подняли мятеж, – ответил я, еще крепче сжимая кубок. – К тому времени, как я прибыл туда, он был уже практически подавлен. Нам оставалось разве что убирать с улиц мертвые тела.
Мира в ужасе прикрыла ладонью рот.
– О, Господи!
– Что-то на Кипре я твоего господа не заметил.
Мира подпрыгнула как ужаленная и, сложив на груди руки, принялась мерить шагами комнату.
– И так везде, – сказала она сдавленным голосом. – Не успели мы приехать в Антиохию, как до меня начали доходить слухи. Говорят, в Александрии было вырезано около ста тысяч евреев. И вот теперь Кипр.
– На Кипре не убивали евреев, – возразил я, осушив наконец кубок до дна. – На Кипре убивали они сами.
– Замечательно, – ответила моя жена.
Я в упор посмотрел на нее и выдавил самое главное:
– Детей. Их матерей. Стариков, мужчин и женщин – всех невинных. Резали, как скот.
– Но ведь римляне делали то же самое с невинными людьми в Александрии! – воскликнула Мира. – В Месопотамии! Ты хотя бы знаешь, кого император отправил туда, чтобы расправиться с евреями? Твоего командира, Люсия Квиета!
– Мира!
– И тебе известно, как он очистил провинцию от смуты? Он убивал всех евреев, какие только попадались ему на глаза! – воскликнула моя жена и покачала головой, глядя перед собой незрячим взором. – Если то, что ты рассказываешь о Кипре, правда, – что ж, значит, евреи хотя бы как-то отомстили за себя.
– Они убили тысячи людей, – сказал я, вставая со стула. – Ты знаешь, скольких я помогал хоронить? Там была одна женщина, похожая на тебя. Невысокая, с рыжими волосами. При жизни она наверняка была хорошенькой. Впрочем, утверждать не могу, после того, как с нее сорвали одежду, изнасиловали и нанесли ей несколько десятков ножевых ран. Римские легионеры не единственные в мире, у кого руки по локоть в крови.
– И что будет теперь, после того, как евреи вырезали на Кипре несколько тысяч римских граждан? – голос Миры сорвался на пронзительный крик. – Сколько евреев теперь будут убиты в отместку за одну римскую женщину?
– Она была там не одна! – крикнул я. – Скажу больше, они даже не смогли объяснить мне, что подтолкнуло их устроить эту кровавую резню. Почему они, проснувшись в одно прекрасное утро, решили перебить всех своих соседей, которые в отличие от них не празднуют в конце недели шаббат.
Мира застыла, обхватив себя руками за плечи, как будто ей было холодно.
– Ты ничего не понимаешь.
– Верно, не понимаю, – ответил я, отводя от нее взгляд. – И никогда не пойму.
– Более сотни лет, – заговорила она срывающимся голосом, – нас обвиняли в распространении любой заразной болезни, в любой засухе, какая только постигала Рим. Нас убивали, изгоняли, грабили. И так всякий раз по капризу очередного императора.
– Лично с тобой такого не случалось, – бросил я ей и обернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. – Ты и твоя семья на протяжении трех поколений жили спокойной, мирной жизнью, более того, процветали, и не где-нибудь, а в самом сердце Рима.
– То, что происходит с одним евреем, происходит со всеми. Скажи, почему, по-твоему, мы до сих пор помним Масаду? Потому что то были наши братья, Викс. И кому как тебе этого не знать!
– Все, что я знаю, так это, что я несколько недель рыл могилы! – воскликнул я и в сердцах швырнул кубок о стену. Тот упал на пол и разбился. – И вот теперь я получил приказ присоединиться к Луцию Квиету в Месопотамии, где мне, возможно, придется снова рыть могилы.
– Могилы евреев, если там еще остался хотя бы один еврей, – бросила в ответ Мира и прикусила губу.
– Это ты увидишь сама. На этот раз я возьму тебя с собой. Тебя и наших детей.
– Даже не думай! Я никуда не поеду.
– Я не оставлю тебя в Антиохии, когда убивают евреев. Со мной ты будешь в безопасности.
– И ты надеешься, что я последую за этим мясником Квиетом? – крикнула Мира. – Чтобы я вечерами готовила тебе ужин после того, как ты в течение дня будешь уничтожать еврейских мятежников? Нет, как хочешь, но я остаюсь здесь. Я и мои дочери.
– Твои дочери? Они и мои тоже. А ты моя жена, и ты поедешь за мной туда, куда я тебе скажу!
– Я не поеду вместе с тобой на этот раз, даже если ты приставишь мне к горлу меч.
Я с трудом удержался, чтобы не ударить ее. Она это заметила и встала передо мной, гордо вскинув подбородок. Я отошел назад, к кувшину с вином. На этот раз я даже не стал брать в руки кубок. Просто взял кувшин в обе руки и жадно припал к горлышку. Внезапно я услышал за спиной сдавленный всхлип и шаги Миры, направлявшейся в спальню. Я не стал оборачиваться, лишь одним долгим глотком до конца осушил содержимое кувшина. В ту ночь я выпил все имевшееся в доме вино, и все равно мне было мало. У меня перед глазами по-прежнему стояли свежевырытые могилы на небольшом, солнечном острове. И как только этот райский уголок стал свидетелем таких зверств!
Когда я проснулся на следующий день, было далеко за полдень. Кстати, как оказалось, я уснул прямо на полу. Ощущение во рту было омерзительное, как будто мой язык покрылся мехом, в черепе громко ухал кузнечный молот. Впрочем, ночью кто-то расшнуровал мне сандалии и накинул на меня одеяло. Я с великим трудом открыл один глаз и увидел, что моя жена сидит передо мной на стуле, как всегда чистая и опрятная, и пристально наблюдает за мной. Впрочем, одно отличие было – губы ее были сурово поджаты.
Я простонал и снова закрыл глаза.
Минутная пауза, затем чьи-то тонкие пальцы сплелись с моими. Мира ничего не сказала. Ничего не сказал и я.
В свой легион я вернулся один.
После чего все пошло наперекосяк.
Не успел я вернуться в свой Десятый, как до нас стали доходить дурные вести. Повсюду вспыхивали новые мятежи – в Армении, Месопотамии, Вавилонии. Во всех недавно завоеванных провинциях, в которых до сих пор царили мир и спокойствие.
– Мы слишком растянули наши силы, – сказал мне Прыщ. Как только я стал первым копейщиком, я сделал его центурионом. Его мясистые пальцы нервно теребили гребень шлема, когда он пришел ко мне с рапортом. – В Армении мутит воду местный царек. В Месопотамии на прошлой неделе в неудачном бою убит наш легат. Нет, такую огромную территорию силами семи легионов нам не удержать.
– Нам и не нужно ее удерживать, – устало ответил я. – Кстати, куда отправляют наш Десятый?
На следующий день мы уже были на марше. Квиет, этот старый свирепый бербер, приветствовал меня рукопожатием и кивком.
– Это твой мальчишка? – спросил он, кивком указав на Антиноя, которого я взял с собой в качестве личного помощника. – Сейчас он меньше похож на девочку.
Антиной расплылся в улыбке Теперь у него был собственный меч, короткий гладий, и кривой сирийский нож, которым он укорачивал себе волосы, как только те отрастали настолько, что начинали виться локонами. В последний раз он решил заодно с собой обрить головы Дине и Чайе.
– Они сами попросили меня, – оправдывался он, пока Мира молча качала головой, потрясенно глядя на наших облысевших дочерей, после чего сказала мне, что, пожалуй, я могу взять с собой Антиноя в поход. И я его взял, хотя и держал под жестким присмотром. Потому что Мира была права: в легионе было немало любителей хорошеньких мальчиков. Антиной же – даже с коротко остриженными волосами и загорелый едва ли не до черноты – был на редкость хорош собой. Именно по этой причине я вручил ему гладий, сказав при этом, что при случае он может постоять за себя.
– Скажи, мальчик, ты можешь работать мечом? – хмуро спросил его Квиет, от которого не скрылось, что Антиной вооружен. – Или меч тебе нужен просто для похвальбы?
– Я умею работать с мечом с восьми лет, – гордо ответил Антиной. – А теперь Викс учит меня охотиться. Я уже могу попадать с пятидесяти шагов в кролика и…
Я взглядом одернул его. Квиет лишь усмехнулся. Я же подумал, что Мира, похоже, была права и они уже вырезали в этой провинции всех евреев.
Я не стал спрашивать. Не смог.
Мы вырвали у парфян Осроэне – благодаря нескольким коротким, но кровопролитным схваткам и кое-каким маленьким хитростям, которые я придумал (каким именно, не скажу). Кроме Осроэне мы отбили еще несколько городов, и все же это был лишь крошечный островок порядка в бушевавшем вокруг нас море хаоса.
Мы ехали вдоль Евфрата, и я чувствовал, как нас откуда-то из прибрежных камышей оценивают пристальные взгляды чужих глаз. И глаза эти мечтали лишь об одном: как можно скорее украсить мою спину между лопаток кинжалом. На этот раз даже победы не пьянили, не кружили мне голову, не наполняли сердце ликованием, как в тот первый раз, когда мы только вошли в страну.
В конце того года произошло сражение, настоящее, большое сражение у Ктесифона. Такое самое, о котором я мечтал, будучи мальчишкой: бесконечные ряды щитов, за которыми выстроились воины, мужественные, несгибаемые, кончики копей зловеще поблескивают на солнце.
В бой нас вел сам Траян, даже с расстояния мне была видна его седая голова, было слышно, как преторианцы умоляют его надеть шлем. Я видел, как напряжены мои солдаты, готовые в любое мгновение ринуться на врага. Я машинально потрогал амулет на шее и пробормотал короткую молитву богу войну, который до сих пор в моем представлении был похож на моего отца. Затем я пробормотал вторую, обращенную к богу Миры, – чем больше богов защищают вас в битве, тем лучше для вас, – после чего поддал в бок коню и встал рядом со своими пешими воинами.
В тот день я убил шестерых или семерых. И пусть эти парфяне разделяют волосы на пробор и умащивают их благовониями, пусть обводят сурьмой глаза, они такие же свирепые воины, как и мы. В какой-то момент я оказался зажат между тремя парфянами, которые заметили, что я отдаю приказы, не иначе как в расчете на то, что они сокрушат моих солдат, лишив их командира. Идиоты, подумал я. Мои воины не дрогнут и продолжат сражаться, даже если я стану трупом. Но парфяне этого не знали и продолжали теснить меня со всех сторон, и тогда я проткнул одного из них копьем, ударил шишкой щита в лицо другого, но меч третьего наверняка опустился бы мне на шею, если бы мне на помощь не подоспел Филипп и копьем не пронзил моему неприятелю горло. Я видел, как тот в ужасе посмотрел на окровавленный наконечник, торчавший у него под кадыком, после чего бездыханный рухнул на землю. Я, как водится у нашего брата-солдата, молча, одним кивком поблагодарил Филиппа. И в этом кивке было больше признательности, нежели в самых пышных речах. Он кивнул мне в ответ, а затем пронзительно вскрикнул: это в него впился кривой парфянский меч, проложивший себе путь между грудной и спинной пластинами. Филипп рухнул замертво еще до того, как захлебнулся его крик. Из моего горла тоже вырвался вопль, и в следующий миг я уже ничего вокруг себя не видел. Позднее Прыщ был вынужден трижды рассказать мне, что враг был обращен в бегство, и победа осталась за нами. Итак, мы победили. По крайней мере так мне было сказано. Мои руки были по локти в крови, крови того парфянина, что убил Филиппа. Я изрубил его мечом на мелкие куски. После этого воины Десятого легиона прозвали меня Верцингеторикс Красный.
В начале следующего года состоялись еще несколько стремительных марш-бросков. Страшно подумать, сколько миль прошагал я по дорогам империи. Случались и ночные броски, и короткие, но ожесточенные стычки посреди болот или песков. Про Антиохию можно было забыть. Я вернулся домой после многомесячного отсутствия, и малышка Чайя даже не узнала меня. Увидев перед собой воина в шлеме с высоким гребнем, она испуганно расплакалась и зарылась лицом в материнское плечо.
– Ничего страшного, она снова привыкнет к тебе, – заверила меня Мира.
– Когда? Я уезжаю уже завтра. Император велел мне приехать к нему в Хатру, после чего…
– Понятно, – отрешенно вздохнула Мира.
– Я скоро вернусь, – попытался я слегка взбодрить ее. – Как только мы возьмем Хатру, я вновь приеду к тебе и детям.
– То же самое ты говорил после Селевкии.
– Ты ведь сама предпочла остаться в Антиохии, – напомнил я ей.
– Когда я иду на рынок, люди плюют мне в лицо, – голос Миры звучал безучастно. – Они спрашивают у меня, не ем ли я мертвых младенцев, как те евреи, что восстали в Александрии. Я говорю им, что в Александрии не осталось ни одного живого еврея, не говоря о младенцах. Вот тогда они и начинают в меня плевать.
– Мира…
– Я стараюсь не выходить из дома с детьми. Не хочу, чтобы в них тоже плевали, – сказала Мира, поглаживая темноволосую головку Чайи, и добавила: – Эти твои римляне.
– Антиохийцы, – поправил я ее.
– Они все римляне, – устало возразила Мира. – Скажи, Викс, когда мы сможем вернуться домой?
– Не знаю, – честно признался я и поцеловал ее. Она поцеловала меня в ответ, и на какой-то миг рядом с уголком рта вновь возникла знакомая мне милая ямочка, но, увы, лишь на миг. В ту ночь, полагая, что я уже сплю, моя жена разрыдалась в подушку. И хотя она отодвинулась от меня как можно дальше на другой край кровати и лежала, свернувшись калачиком, мне было слышно, как рыдания сотрясают все ее тело. Бог свидетель, я был рад, что завтра уезжаю снова.
Тит
– Господин, к вам какая-то молодая особа.
– Надеюсь, это не Юлия Статилла?
Некая молодая вдовушка, подруга его сестер, в последнее время вбила себе в голову, что из Тита вышел бы неплохой муж, четвертый по счету. В отличие от нее самого Тита такая перспектива отнюдь не вдохновляла.
– Скажи ей, что меня нет. Нет, лучше скажи ей, что я отбыл в Африку или даже в Индию, которая там из них дальше.
– Хозяин, к вам пожаловала отнюдь не эта Горгона, – в голосе Эннии слышалось ободрение. – Это дочь сенатора Норбана.
– Фаустина? – Тит поднялся из-за стола. – Пусть войдет.
В следующий миг в кабинет шагнула младшая сестра Сабины, а за ней какой-то вольноотпущенник и целая свита служанок. От летнего зноя лицо ее раскраснелось, под стать платью, однако в целом вид у нее был вполне довольный.
– Скажи мне, что я просто прелесть.
– Ты просто прелесть, – послушно подтвердил Тит.
– Скажи также, что я умная. И смелая.
– И то и другое, какие могут быть сомнения, – Тит поклонился ей из-за стола. – Но почему?
Было видно, что Фаустину так и распирает гордость за себя.
– Потому что я нашла вора, который ворует деньги из твоих бань!
– Принять услугу – значит продать свободу, – пробормотал Тит.
– Публий Сир, – сказала Фаустина, довольная собой.
– Публий или Публилий? – уточнил Тит.
– А разве это не одно и то же?
– Какая разница. Я это просто к слову. Тем не менее я принимаю твою услугу и становлюсь твоим рабом. Так кто же обворовывает меня?
Фаустина с ослепительной улыбкой посмотрела на домоправительницу Тита.
– Энния, если я не ошибаюсь. Будь добра, отведи моих служанок в кухню и дай им попить. Они сегодня терпеливо ходили за мной по солнцу весь день и заслужили отдых.
– Да, госпожа, – Энния окинула Фаустину оценивающим взглядом, от золотистой челки до подола розового платья. – Пойдемте, девушки.
Как только они вышли и дверь кабинета закрылась, Фаустина повернулась к Титу.
– Я обещала Бассу, что, кроме нас, об этом никто не узнает.
– Бассу? – Тит пристально посмотрел на вольноотпущенника, вошедшего к нему в кабинет вслед за служанками Фаустины. Тот стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу.
– Это и есть наш вор?
На лице гостя возникло возмущенное выражение.
– Эй, госпожа Фаустина ничего не сказал о том, что меня в чем-то обвинят…
– Не беспокойся. Тебя никто ни в чем не обвиняет, – заверила Басса Фаустина и, похлопав по плечу, подвела его к стулу. – Ты посиди немного, а я пока поговорю с Титом Аврелием.
– Я так и знал, – пробормотал себе под нос Басс.
Это явно был императорский вольноотпущенник. Тит сделал этот вывод по его чистой тоге и перепачканным в чернилах руках. Молодой секретарь, родом откуда-то из Греции, зарабатывает себе на жизнь благодаря красивому почерку и знанию языков.
– Стоит мне открыть рот, как меня тотчас заклеймят вором и гвоздями прибьют мои руки к доске. И зачем я только послушался тебя, госпожа! – плакался он.
– Твоим рукам никакие гвозди не грозят, – успокоила его Фаустина, после чего отвела Тита в дальний угол комнаты. – Попытайся не нервировать его, – прошептала она. – Ты даже не представляешь, каких адских трудов стоило мне привести его сюда.
– Если он не наш вор, то кто он такой? – шепотом уточнил Тит.
– Как бы тебе сказать. – Фаустина прочистила горло, как будто готовилась произнести долгую речь. – Мы с тобой подумали, что вор – это какой-нибудь управляющий или чиновник императорского двора. Кто-то такой, у кого имеется доступ к выделяемым средствам. Но я точно знала, что тебе до сих пор так и удалось установить, кто это такой.
– Верно, пока что не удалось.
Любая ниточка, за которую Тит цеплялся на протяжении последних нескольких месяцев, всякий раз приводила его к табличке, которая каким-то непонятным образом исчезла из государственного архива. Или же вдруг землемер или архитектор неожиданно получал назначение куда-нибудь в Африку. Или же чиновник неожиданно заливался краской и отказывался разговаривать с ним, даже когда Тит предлагал ему деньги.
– Моя голова мне еще дорога, – сказал Титу один невысокий толстый претор и вышел, даже не попрощавшись.
В общем, все нити приводили к одному результату – в тупик.
– И я подумала, – произнесла Фаустина. – А не вернуться ли к самому началу?
Тит с легкой дрожью посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Басса и вновь на Фаустину.
– И что ты сделала?
В следующий миг, предварительно постучав в дверь, на пороге снова выросла Энния. Вольноотпущенник как ужаленный подпрыгнул на своем стуле.
– Холодный ягодный морс, госпожа, – произнесла она, вручая Фаустине три золотых кубка. – И проследи, чтобы господин непременно выпил свой. В такую жару это полезно. И еще, господин, на сегодня я отменила все твои встречи с клиентами Аврелиев.
– В этом не было необходимости.
– Так что можешь не торопиться, – довела до конца свою мысль Энния и, громко топая, вышла из кабинета.
– Мне она нравится, – сказала Фаустина, задумчиво глядя ей вслед. – Она твоя любовница?
– В общем-то, нет, – заикаясь, выдавил Тит.
– Что? Только не думай, что я потрясена. Одна из вольноотпущенниц моего отца была его любовницей, когда он еще ходил в холостяках, хотя по части ведения дома она не годилась бы Эннии даже в подметки. Теперь они с мамой хорошие подруги.
– Я не намерен обсуждать такие вещи!
– Верно, никто не обсуждает то, что неинтересно, – ответила Фаустина, протягивая третий кубок вольноотпущеннику. Доверительно похлопав беднягу по плечу, она снова обернулась к Титу. – Итак, пей свой морс и слушай меня. Я часто бываю во дворце. Императрица Плотина постоянно приглашает меня помочь ей ткать, а заодно, чтобы прожужжать мне уши своими советами, какого жениха я должна себе выбрать. А еще она то и дело намекает, что предпочла бы видеть женой ее любимого Адриана меня, а не Сабину. Но в последний раз ее куда-то позвали, и я на какое-то время осталась одна в ее комнатах. Я тотчас заметила, где она хранит свои документы. Вернее, – поправилась Фаустина, – я порылась в ее вещах, пока не наткнулась на ее личные счета.
Тит подавился морсом.
– Ты шпионила за императрицей Рима?
– Фу, какое некрасивое слова, «шпионила», – игриво возразила Фаустина. – Давай скажем также, что Фортуна улыбнулась мне: пустая комната и немножко поисков. В ее папках я наткнулась на кое-какие весьма интересные вещи. Тебе известно, что она хранит сведения на всех, кто работает во дворце?
Но зачем, задался мысленным вопросом Тит. Публичные дела, такие, например, как судебные расследования или официальные назначения, вряд ли входили в круг ее обязанностей. С какой стати императрице понадобился личный архив?
– И что ты нашла?
– Ничего. – Фаустина отодвинула в сторону ворох свитков, чтобы опереться на край стола. – И это странно. Императрица не купит и локтя полотна, не указав потраченную сумму в своих личных счетах. А тут вдруг неожиданно ей текут огромные средства, но ни слова о том, откуда они поступают. К сожалению, я ничего не могла взять с собой, но самые интересные вещи записать успела.
– Это еще ни о чем не говорит, – возразил Тит, когда она показала ему сделанные наспех записи.
– Знаю. Именно поэтому я и провела целую неделю, вращаясь среди ее вольноотпущенников, пока наконец не набрела на Басса. Он один из младших секретарей императрицы, и, когда я спросила его про эти записи, он тотчас побледнел, как мел, и отказался разговаривать со мной. В конце концов я уломала его, убедила прийти к тебе.
– И как тебе это удалось?
– Скажи, разве мне кто-то может отказать? – искренне спросила Фаустина. – К тому же я дала понять, что ты один из самых богатых и влиятельных людей в Риме и хорошо заплатишь ему за то, что он тебе скажет.
– То есть ты пообещала ему круглую сумму из моего кошелька непонятно за какое-то свидетельство?
– А что еще мне оставалось делать? – улыбнулась Фаустина, и на ее щеках заиграли ямочки. Облаченная в розовый шелк, юная и свежая, она была воплощением бесхитростности – этакий невинный агнец. А вот в темных глазах плясали лукавые огоньки.
Тит на мгновение закрыл глаза.
– Соблазнен преступить закон юной девой, – процитировал он себе под нос, а вслух добавил: – Похоже, отступать мне некуда. Так и быть, давай выслушаем, что скажет твой вольноотпущенник.
Фаустина подвела к нему несчастного Басса, который от волнения обливался потом.
– Господин, мне не нужны неприятности, – пробормотал он. – Отпустите меня. Я вернусь в Афины, где с моим почерком легко найду себе работу. Я скажу тебе все, что знаю, но после этого я уеду. Хорошо?
– Да, корабль до Афин и тугой кошелек, который позволит тебе прожить целый год. Ты их получишь, – сказал Тит. Он до сих пор не привык к тому, что мог легко, даже глазом не моргнув, расстаться с такими внушительными суммами. Нет, конечно, не просто так, а чтобы разрешить важную для него загадку. – Так что же ты расскажешь мне, Басс?
Вольноотпущенник покосился на Фаустину. Та сжала ему руку выше локтя и улыбнулась своей самой ослепительной улыбкой, которая посрамила бы даже Елену Прекрасную, после чего грекам точно бы расхотелось ради нее целых десять лет умирать под стенами Трои. Басс вздохнул, собираясь с мужеством.
– То, что я видел, – пробормотал он, – это не только деньги для постройки бань, хотя и из них были взяты приличные суммы. Деньги поступают из сотни самых разных источников и идут на самые разные цели: подкуп, негласные ссуды, подношения. Раздаются обещания. Высокие должности или дарятся, или обмениваются на услуги, или просто продаются. Кто-то становится жертвой шантажа, кого-то сразу отправляют в изгнание. Записи госпожи Фаустины, я могу указать тебе…
– Кто? – потребовал ответа Тит. – Кто стоит за всем этим? Кто ворует? Кто подкупает? Кто шантажирует?
– А разве ты сам еще не понял? – растерянно заморгал Басс. – Императрица Плотина.
Викс
Хатра оказалась сущим адом. Я проклял тот миг, когда мои глаза увидели ее. Пыльная цитадель, сидящая на пути в Вавилон. И ничего на многие мили вокруг – лишь пыль, песок и ветер. Мои солдаты жаловались на мух еще до того, как успели поставить палатки. И пока они ставили лагерь, им по спинам хлестал горячий ливень, а над их головами гремел гром и сверкали молнии. Того гляди, хворост для растопки отсыреет. Легионеры, которых я видел в лагерях, походили на высохших мумий: темная кожа и запекшиеся от зноя губы. Чтобы не наглотаться песка, они обертывали лица платками.
– Легат будет рад получить пополнение, – сказал мне первый копейщик, когда я доложил обстановку. – Но самое главное, чтобы они принесли с собой собственный запас воды. Потому что среди этого песка воды не найти даже капли. – Он с прищуром посмотрел на меня. Я с первого взгляда понял, что передо мной один из лучших офицеров Траяна: он не утратил выправки, а его латынь была куда лучше моей.
– Ты ведь Верцингеторикс Красный, я правильно понял?
– Да.
– Наслышан о тебе. Люсий Квиет говорит, что в бою от тебя есть толк.
– А он упомянул о том, что я несколько раз спас ему жизнь?
– Берберы! Этих безумцев вечно приходится спасать! Иди, доложи императору. Он наверняка захочет услышать последние известия из Селевкии. Он сейчас в поле, наблюдает, как проваливается наша кавалерийская атака. – Первый копейщик коротко усмехнулся: – Добро пожаловать в ад. Готов поспорить, ты даже не предполагал, что где-то бывает так жарко!
Я не видел Траяна несколько месяцев и не смог совладать со своими чувствами, когда он, сидя верхом в окружении преторианцев и офицеров штаба, обернулся, чтобы поприветствовать меня. В уголках рта залегли глубокие морщины, глаза запали, лицо хмурое и какое-то слегка перекошенное Мне тотчас вспомнился один слух, будто несколько месяцев назад император перенес удар, и даже был вынужден провести неделю в постели, несмотря на все свои громкие протесты. Тогда я отмахнулся от этого известия, как от глупой сплетни. Траян? Болен? Человек, который по-прежнему мог прошагать дневной марш, а затем перепить целый легион? Такого просто быть не может!
Какой у него нездоровый вид, подумал я, спешиваясь и отдавая ему салют. Впрочем, его улыбка, когда он помахал мне рукой, была такой же теплой, что и раньше.
– Верцингеторикс! Вот кто мне нужен для успеха нашей небольшой осады! Как ты думаешь, взять ее будет легче, чем старушку Сарму?
Я прищурился, глядя на стены крепости, маячившие в песчаной дымке. Римская кавалерия раз за разом пыталась с наскока взять ворота, и до меня доносился свист стрел.
– Думаю, что труднее, Цезарь.
– Мне тоже так кажется, – мрачно согласился император. – В отличие от Сармы здесь нет никаких труб.
– То была моя идея, – признался я. – Разбить трубы. Я попросил Тита, чтобы он предложил ее тебе.
– Так это ты придумал! Кстати, прекрасный юноша, этот Тит Аврелий. Один из честнейших мужей Рима, насколько мне известно. С другой стороны, очень даже неплохо, что теперь и один из самых богатых.
– Да, он хороший человек, – согласился я. – Я даже не обижаюсь на него, что похвала за идею с трубами досталась ему.
– Адриан пытался приписать эту заслугу себе, – презрительно сказал Траян. – А теперь докладывай про Селевкию.
– Может, нам лучше отойти в сторону? – предложил я, слыша пение стрел. – Мы в пределах досягаемости, и какой-нибудь меткий стрелок вполне может…
Тем более что император был без шлема. Его обнаженная голова блестела под палящими лучами солнца как начищенная серебряная монета.
– Не смеши меня, – отмахнулся Траян. – Селевкия! Рассказывай все, как есть.
Траян был в солдатских доспехах, но кто-то зоркий на стенах Хатры наверняка узнал его седовласую голову. Не успел я довести до середины мой рапорт о взятии Селевкии, как пение стрел зазвучал гораздо ближе. Затем раздалось глухое бульканье: это верховой офицер рядом с Траяном, который только что обмахивался рукой, постоянно жалуясь на мух, попытался что-то сказать. Из горла у него торчало древко стрелы. Затем он упал, и я увидел, как песок обагрился кровью.
Я не стал кричать, чтобы предупредить об опасности, а просто схватил Траяна за руку и одним резким рывком сбросил римского императора с седла. Мое плечо тотчас пронзила обжигающая боль, но я не обратил на нее внимания. Траян с глухим стуком упал в песок. Я перевернул его плашмя, а сам бросился на него сверху, прикрывая собственным телом. В следующее мгновение до меня донеслись крики и топанье копыт – это нас в плотное кольцо взяли преторианцы. Кто-то поднял меня, три гвардейца, обнажив мечи, обступили императора, и он вместе с ними вновь занял свой наблюдательный пост. Мне было слышно, как Траян смеется. Я шагнул к нему, но в следующую секунду мое правое плечо вновь пронзила острая боль. Повернув голову, я увидел, что оттуда торчит стрела. Злодейка впилась мне в тело рядом с самым краем лат.
– Отлично! – проревел я. Три с половиной года в Парфии, бесконечные схватки, большие и малые, и не единой царапины. И надо же, чтобы в первый же день под стенами Хатры в меня угодила стрела. Стиснув зубы, я вырвал стрелу из плеча. Из раны тотчас брызнула кровь. Посмотрим, что я буду делать завтра во время упражнений со щитом!
– Верцингеторикс! – окликнул меня чей-то голос. Обернувшись, я увидел императора. Глубокие морщины в уголках рта куда-то исчезли, он весело улыбался мне своей мальчишеской улыбкой. – С твоей стороны это был весьма своевременный шаг, и я хотел бы поблагодарить тебя…
– Молчать! – гаркнул я командирским голосом центуриона. Император растерянно заморгал, преторианцы и штабные офицеры открыли рты. – Сколько раз говорить тебе, чтобы ты надевал шлем?
Траян раскрыл было рот, но я не был намерен выслушивать его оправдания. У стоявших за его спиной преторианцев и офицеров челюсти отвисли еще больше, руки потянулись к рукояткам мечей. Что касается меня, то я ткнул пальцем в нагрудную платину Траяна и громогласно рявкнул ему, что он идиот. Идиот потому, что стоит слишком близко к врагу, и еще больший идиот, что делает это во время активной атаки. Высказав все, что я думаю по этому поводу, я принялся сыпать проклятиями, а когда закончились и они, просто смерил его полным ярости взглядом. Император Рима, не говоря ни слова, с легкой улыбкой посмотрел на меня в ответ, а когда пар из меня, наконец, вышел, похлопал меня по раненому плечу.
– Успокойся приятель, незачем так кипятиться.
– Кипятиться? – вновь сорвался я на крик, и, наверно, продолжил бы свои обвинительные речи в его адрес, но даже это легкое похлопывание отозвалось у меня в плече пронзительной болью. Подавив рвущиеся из горла проклятия, я прижал к ране ладонь.
– Ступай к лекарю. Пусть тебе зашьют рану, – велел мне Траян.
– Слушаюсь, Цезарь, – хмуро буркнул я в ответ и нехотя подчинился.
– После чего приходи ко мне в палатку. Ты и твои воины понадобятся мне для взятия Хатры, но как только она падет, я отправлю тебя назад в Германию.
– В Германию? – мою ярость как рукой сняло. Траян тем временем развернулся и своим обычным стремительным шагом зашагал прочь. Я, все еще прижимая руку к плечу и едва поспевая, бросился вслед за ним.
– Даки вновь мутят воду, – произнес Траян, не замедляя шага. – Отсюда мне следить за этими ублюдками трудно. К тому же я в известной степени оголил Германию, перебросив сюда часть тамошних сил. А те, что там остались, явно не справляются с обороной границ. Ты же знаешь Дакию, ты там был. Ты вернешься со своими воинами назад в Германию, получишь под свое командование легион, совершишь поход в Дакию и наведешь там порядок. Прими мои поздравления, Верцингеторикс! – с этими словами Траян похлопал меня по здоровому плечу. – Десятый легион – твой.
– Мой?
– Твой. За то, что ты…
Я поймал себя на том, что заикаюсь, словно мальчишка. Не скрылось от меня и то, как другие офицеры обменялись взглядами. Вид у них был такой же ошарашенный, как и у меня самого.
– Ты даешь мне легион за то, что спас тебя от стрелы? Я не… то есть я даже не думал…
– Нет. Я уже до этого решил дать тебе легион. Обидно, что такой трубный глас растрачивается на какого-то там центуриона. Тем более что твой срок службы первым копейщиком истек. Верно я говорю?
– Верно, Цезарь.
– Отлично. В таком случае ты имеешь полное право пополнить ряды всадников. Учитывая, сколько сокровищ мы здесь добыли, думаю, это тебя не разорит. Кстати, сразу хочу предупредить: легатом Десятого я назначить тебя не могу. На эту должность мне придется подыскать какого-нибудь бездельника-патриция.
Говоря эти слова, Траян едва заметно подмигнул мне.
– Но что мне мешает слегка протянуть с его назначением? К тебе же я приставлю толкового адъютанта, который разбирается в таких вещах, как выплата довольствия, и при необходимости будет вместо тебя ставить свою подпись. На этот раз в Дакии вас будет поджидать куда больше опасностей, именно по этой причине мне и нужен во главе легиона настоящий солдат. А не какой-то там тщеславный выскочка в тоге, который мечтает пробиться в консулы.
– Цезарь… – начал было я.
– Только никаких благодарностей. Кто знает, вдруг ты не вернешься из этого похода. С другой стороны, сколько можно ходить с таким командирским голосом в первых копейщиках. Что касается того, что ты сегодня спас мне жизнь, прими вот это… – С этими словами император стащил с пальца кольцо и положил мне его в руку. – И вот это. – И он с чувством поцеловал меня в щеку. – А теперь ступай к лекарю, чтобы он перевязал тебе рану, после чего возвращайся ко мне за приказами.
Я открыл было рот, но так ничего и не сказал. В горле застрял комок, слезы застилали глаза, по руке текла кровь. Зато сердце было переполнено ликованием. Остальные офицеры, прежде чем последовать за Траяном, одарили меня пристальными взглядами: кто-то с улыбкой, кто-то с презрением, кто-то с нескрываемой завистью. Если я был слишком молод для первого копейщика, то что говорить про командование легионом?
Ты нажил себе не одного врага, приятель, сказал я себе. С другой стороны, какая разница? Честное слово, мне было все равно. Я посмотрел на кольцо, лежавшее у меня на ладони. Простое, тяжелое золотое кольцо, на котором было выгравировано всего одного слово: Parthicus – покоритель Парфии. Этим титулом удостоил Траяна сенат. Я надел его на средний палец, и оно пришлось впору, как будто специально для меня сделанное.
– Покоритель Парфии, – произнес я глухим от волнения голосом.
– Молодец, что накричал на него, – бросил мне один из преторианцев. – Мы уже устали напоминать ему, что нужно надевать шлем. Но можно подумать, он кого-то слушает! Это точно для него добром не кончится. Сам подставляет себя под удар, болван.
– Ничего, пока я рядом, можно не волноваться, – заверил его я.
Я даже не чувствовал боли, пока полковой лекарь зашивал мне рану. Когда же та зажила, я вытатуировал на ней букву Х. Что значит «Десятый».
Мой Десятый.
(обратно)
Глава 25
Плотина
– Прошу извинить меня, госпожа. Но к вам посетитель. Говорит, что по неотложному делу.
– Я слишком занята. – Плотина сделала аккуратную пометку на восковой табличке и потянулась за новой. За ее спиной, с ворохом выстиранных шелковых платьев, которые предстояло выгладить, суетились четыре рабыни. Две другие занимались починкой одежды. В углу пара мальчишек-рабов дожидались, когда их отправят с каким-нибудь поручением.
Императрица восседала за рабочим столом посреди всей этой суеты, занятая своими делами даже больше, чем они. На новом форуме предстоит воздвигнуть статую Траяну. Зимние платья и плащи нужно вынести из кладовой, развернуть и проверить, не потрачены ли они молью. Губернатор одной из провинций – не будем называть его имя – оказался по уши в долгах, и если пообещать ему небольшой заем, он наверняка окажет поддержку ее дорогому Публию. В общем, идеальная кандидатура… В винных погребах вновь завелись пауки…
Дорогая Юнона, сколько трудов свалилось на меня! Оказывается, самая большая рабыня Римской империи – это ее императрица!
– Он настоятельно требует, чтобы его приняли, – не унимался управляющий. – Это…
– Мне все равно, кто он. Сегодня утром у меня нет времени на посетителей.
Плотина пробежала глазами последнее письмо мужа – короткое, но как всегда, учтивое. Такое впечатление, будто он быстро набросал его кончиком меча в перерыве между битвами. Что поделать! Траян начисто лишен эпистолярного дара.
Плотина уже подумывала о том, не нанести ли ей мужу официальный визит, коль кампания затянется дальше. Два года назад она уже совершила путешествие в Антиохию, чтобы, как то и полагается верной супруге, провести рядом с мужем месяц-другой. Впрочем, то путешествие никак не назовешь приятным. Ох уж этот Восток с его восточными мухами, восточным вином, восточными шлюхами, которые величали себя римскими аристократками и даже надеялись разделить с ней трапезу. Нет, думаю, с визитом можно повременить еще год.
– Это Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин, – не унимался управляющий. – Говорит, что пришел по крайне важному делу.
– Кто из вас глух, ты или он?
Нет, ее посетитель явно не глух, этот юный выскочка, на которого теперь молится едва ли не весь Рим. Редко какое письмо Траяна обходилось без панегириков в адрес этого юнца – шла ли речь о строительстве бань или о том, с каким тактом он улаживал разногласия в сенате. Можно подумать, ее дорогой Публий не сделал для Рима ничего хорошего! Сделал, причем куда больше, но никаких аплодисментов в свой адрес почему-то не заслужил. Плотина постаралась пустить по поводу этого любимчика Траяна пару слухов: мол, на самом деле он пьяница, и вместо того, чтобы поклоняться римским богам, следует непристойным заморским культам вроде Изиды и Тараниса
[300]. Увы, к великому ее прискорбию, никто этому не поверил. Как назло, этот мальчишка был ходячим воплощением добропорядочности.
– Боюсь, домина, я не могу ждать, – прозвучал из-за спины управляющего чей-то голос, Плотина подняла глаза: перед ее столом стоял Тит и явно не желал уходить. – Я должен поговорить с тобой, и я бы хотел, чтобы этот разговор не слышали посторонние уши.
– Ты не имеешь права без спроса входить в мои личные покои.
– А ты не имеешь права запускать руку в государственную казну, – спокойно возразил Тит. – И если ты готова обсудить этот вопрос в присутствии рабов, что ж, я не стану возражать.
Плотина в упор посмотрела на своего гостя. Стоявший за спиной Тита управляющий вытаращил глаза. Две рабыни, складывавшие ее шелка, испуганно застыли на месте, третья, прикрыв ладонью рот, что-то прошептала мальчишке-рабу, стоявшему наготове с кубком ячменной воды.
– Оставьте нас, – приказала Плотина.
Тит дождался, пока за последним рабом закрылась дверь.
– Спасибо, – произнес он и без приглашения опустился на стул. Он был в тунике и сандалиях – этот щенок даже не счел нужным по случаю визита к ней завернуться в тогу! – и даже небрит, как будто заявился к ней прямо из постели, не заглянув по дороге в бани.
– Разве так наносят визиты императрице? – холодно спросила Плотина. – Со щетиной на подбородке и с полным ртом дичайших обвинения?
Тит достал несколько свитков и разложил их на столе.
– О нет, отнюдь не дичайших.
Плотина посмотрела на первый свиток.
– Ты хочешь сказать, что это мои личные счета? Уверяю тебя, я ежедневно проверяю, все ли бумаги на месте. И не было случая, чтобы хоть какая-то из них пропала.
– Я лично проследил за этим. Мой осведомитель принес мне оригиналы, а на их место положил копии.
Осведомитель? Плотина потянулась через стол, чтобы развернуть первый свиток. Пары строк хватило, чтобы по спине у нее пробежал холодок.
– Как вообще мои личные бумаги попали к тебе? Это дело рук кого-то из рабов? Я не раздумывая распну предателя, я…
– Какая разница, откуда они у меня. Тот, кто их мне принес, уже далеко, и тебе до него не дотянуться.
– Как ты смеешь!
– Я устал, домина. Я потратил целую неделю, чтобы разобраться в твоем мошенничестве, и еще неделя ушла у меня на то, чтобы решить, что мне с этим делать. Так что обойдемся без обиняков. – Тит смахнул со лба непослушную прядь и посмотрел императрице в глаза. – Императрица Плотина, ты присваивала государственные деньги, и я легко могу это доказать. Из средств, выделенных на постройку императорских бань, на закупку зерна для бедных, на другие не менее важные вещи.
– Я не обязана перед тобой оправдываться, – высокомерно ответила Плотина, что, впрочем, стоило ей немалого труда. Однако голос ее прозвучал громко и холодно, как будто она разговаривала с провинившимся рабом, а это самое главное. – У императрицы могут быть причины, которые не дано понять простому человеку, в том числе и тебе.
– Твои причины меня не интересует.
Чувствуя, что земля уходит у нее из-под ног, Плотина откинулась на спинку кресла.
– В таком случае, что же?
Тит молча посмотрел на нее.
– Вряд ли тебе нужна богатая жена, учитывая то огромное наследство, которое завещал тебе дед. Но, может, ты хотел бы добавить к своему имени титул куда более внушительный, нежели «квестор»? – Плотина приподняла руку. – Как, например, тебе нравится «консул»? Я уже вижу твое имя в списке на следующий год.
Кстати, чудесная мысль! Юный Тит Аврелий, один из самых богатых людей Рима, – и у нее в долгу! Богатый юный консул, которым можно будет вертеть и так и этак. Из него наверняка вышел бы отличный союзник для дорогого Публия.
– Прослужив год консулом, ты мог бы претендовать на пост наместника одной из провинции, – продолжила свою речь Плотина. – Что та скажешь насчет Германии? Или это, может, Испания, если ты предпочитаешь страны потеплее. Или даже…
– Моя дорогая госпожа, – вздохнул Тит. – Неужели ты и впрямь пытаешься подкупить меня?
Так и не предложив Титу в ближайшие
пять лет место префекта Египта в обмен на несколько своевременных ссуд и поддержку ее дорого Публия, Плотина стиснула зубы. В висках потихоньку начинала пульсировать ее старая знакомая – головная боль. Как давно в ее голове не раздавались эти болезненные удары невидимого молота! Она уже забыла, когда кто-то в последний раз осмеливался дерзить ей. Или хотя бы смотреть на нее как на равную себе.
– Позволь я тебе все объясню, – Тит посмотрел ей в глаза. Он явно не желал отступать. – Лично мне от тебя ничего не нужно. Кроме одной-единственной вещи: чтобы ты немедленно прекратила запускать руку в казну империи.
– Да как ты смеешь!
– Извини, госпожа, но из нас двоих в этой комнате вор – не я. И потому смею. С сегодняшнего дня никаких махинаций с деньгами, выделяемыми на постройку бань. Сделать это будет довольно легко, потому что их строительство практически завершено. Однако император на днях известил меня о том, что возлагает на меня раздачу хлеба осиротевшим римским детям в провинциях. Насколько мне известно, в последние годы ты щедро одаривала себя деньгами, выделяемыми на поддержку сирот. Отныне с этим покончено. Просто удивительно, – искренне добавил Тит, – как твои знаменитые моральные принципы не удержали тебя от столь низкого падения. Одно дело класть в карман деньги, идущие на строительство бань, и совсем другое – обкрадывать несчастных сирот.
Плотина вскочила на ноги. Резкое движение тотчас отдалось в висках нестерпимой болью.
– Ты считаешь, что можешь угрожать императрице Рима?
– Конечно, могу. У меня достаточно доказательств, чтобы разоблачить тебя перед императором. Сомневаюсь, что он будет этим доволен, равно как и в том, что он строго тебя накажет. Но в любом случае об этом узнает весь Рим – уж в чем, а в этом никаких сомнений нет. Не думаю, что тебе было бы приятно стать притчей во языцех у всего Рима. Императрица Плотина, ходячее воплощение добродетели, – обыкновенная воровка.
– Как ты смеешь!
– Только не надо мне угрожать. Если ты рассчитываешь на то, что сможешь меня шантажировать, советую тебе об этом забыть. В моей жизни нет ничего, чем ты могла бы купить мое молчание. У наивных зануд есть одно преимущество. Им, как правило, нечего скрывать.
– Вот как? – Плотина улыбнулась улыбкой гадюки. – А как же твой роман с Вибией Сабиной? Неужели тебе хочется, чтобы о нем узнал весь Рим? Я видела вас вместе, перед тем, как она уехала в Антиохию. Обычно она бывает более осторожна, но стоило ей нарядиться в платье шлюхи, как ты не удержался и облапил ее.
– Верно, не удержался, – спокойно согласился Тит. – И это единственное, что когда-либо было между мной и Вибией Сабиной. Впрочем, твое право мне не поверить.
– Какая тебе разница, чему я верю, а чему нет. Поверит ли тебе ее муж? Поверят ли тебе граждане Рима?
– Вот это мне не слишком интересует. Если хочешь, можешь распустить обо мне какие угодно слухи. Скажи, будто я увел из-под носа твоего бесценного воспитанника его жену. Думаю, моя репутация не пострадает, если придать ей немного пикантности.
– Ты гадкий, беспринципный интриган!
– Я дал себе слово, что уйду, как только прозвучат первые оскорбления в мой адрес, – произнес Тит, вставая. Плотина почти не видела его – ее взор застилала красная пелена ярости.
«Ты еще за это поплатишься, – подумала она. – Я брошу тебя на арену, где тебя растерзают львы, а глаза выклюют хищные грифы». Будь у нее в эти минуты в руках кинжал, она бы, не раздумывая, всадила лезвие в горло этому наглецу.
– И еще одна вещь, – бросил Тит через плечо. – Вскоре ты наверняка найдешь другие источники, в которые запустишь руку, и я вряд ли смогу тебя остановить. С меня будет довольно того, что ты остережешься делать это с моими проектами. Как тебе мое предложение? Обещаю, что я даже слова не скажу императору. Ну как, договорились?
– Я не собираюсь заключать с тобой никаких сделок. Я императрица Рима!
– Что не мешает тебе, однако, покупать следующего императора.
От этих слов Плотина вся передернулась, в упор глядя на молодого человека, который, в свою очередь, смотрел на нее. Казалось бы, какой-то мальчишка, стоит ли вообще обращать внимание на его слова!
– Что ты хочешь этим сказать? – процедила она сквозь зубы.
– Госпожа, я не настолько глуп, чтобы не замечать кое-каких вещей. Ты живешь скромно, у тебя почти нет расходов. Ты не тратишь всех денег, что выделяются на твое содержание. Тогда зачем тебе понадобилось более двух миллионов сестерциев? – Тит обвел взглядом ее комнату, уютную, но далеко не роскошную: темные мраморные стены, простые ложа, низкие столы, шерстяные занавеси, сотканные Плотиной собственноручно. – Нет, ты воруешь деньги не для себя. Зато я легко могу предположить, что требовались средства, и немалые, чтобы твой бесценный Адриан мог ни в чем себе не отказывать, будучи консулом. Не говоря уже про его новое назначение наместником Сирии. Два миллиона сестерциев – неплохое начало, чтобы купить ему поддержку. А без нее никак не обойтись, если он хочет стать преемником императора.
Тит покачал головой.
– Одно дело, если бы ты просто попросила меня поддержать Адриана… клянусь, я с готовностью пошел бы тебе навстречу. Из него получится хороший император. Не думаю, что ему известно о твоих грязных делишках. Пусть он бесчувственный себялюбец, но скорее умрет, чем сделается вором.
– Ты поплатишься за своим слова, – выдавила из себя угрозу Плотина. – Это я тебе обещаю.
– Посмотрим, – спокойно откликнулся Тит. – Потому что если ты на это решишься… если со мной вдруг произойдет какое-то несчастье, весь Рим тотчас узнает о твоих махинациях. Или ты думаешь, что сегодня я пришел к тебе, не позаботившись о том, чтобы выйти отсюда живым?
С этими словами он шагнул за порог и почти неслышно закрыл за собой дверь. Плотина открыла в немом крике рот: казалось, голову ей сжимали огромные огненные клещи. Нет!
Почти ничего не видя пред собой, она принялась расхаживать по комнате, то и дело натыкаясь на мебель. Нет, нет, нет!
Задев ногой ящик с бельем, она в сердцах резко отодвинула его в сторону. Ящик перевернулся; на пол высыпался ворох только что аккуратно в него сложенных туник. Он не посмеет! Он не посмеет!
За помощью Плотина обратилась к Юноне. Ледяного шепота императрицы было достаточно, чтобы все молящиеся в мгновение ока поспешили к выходу, после чего она смогла свободно излить душу своей небесной заступнице и сестре. Юнона выслушала ее с каменным лицом, глядя сочувствующим взглядом, пока Плотина рыдала, ломала руки и рвала перед ней на себе волосы.
– Он за это поплатится! – сказала она наконец осипшим от стенаний голосом. – С богинями так не разговаривают.
Юнона с ней согласилась.
– Если он думает, что остановил меня, то он наивный болван. Мой Публий станет императором. Он непременно им станет, и тогда мы посмотрим, что будет с этим самоуверенным сопляком. Я сделаю все для того, чтобы в один прекрасный день на полу нашли его труп!
Юнона ее поняла.
– Я поеду к Траяну. Совершу тяжкое путешествие в Антиохию, я отправлюсь в путь без промедления, прямо сейчас. Мой муж услышит о том, как мое доброе имя поливают грязью. Он поверит мне, а не этому юному выскочке. Ведь я его жена.
Юнона ей посочувствовала.
– Ты ведь поможешь мне? – Плотина прикоснулась пылающим лбом к прохладным мраморным складкам хитона богини. – Ты поможешь мне избавиться от него?
Юнона пообещала ей помощь.
Сабина
– Мне казалось, Цезарь, твои врачи прописали тебе покой.
Откинувшись на подушки, Траян оперся на локоть, и раб вновь наполнил ему кубок.
– Как видишь, я отдыхаю.
– Я бы вряд ли назвала это отдыхом, – с улыбкой ответила Сабина.
По поводу возвращения Траяна из Хатры в Антиохию был устроен огромный пир. Кто только не был приглашен на него: и восточные вельможи в полосатых одеждах, и сенаторы, и наместники в белоснежных тогах, легаты и трибуны в доспехах. Вокруг царил обычный в таких случаях шум и гам: пенились кубки с вином, звучали тосты, велись бесконечные беседы. Гости переходили от ложа к ложу, танцорам не удавалось закончить свой танец, потому что их тотчас тащили за стол. Парочка пьяных легатов вызвалась разделывать тушу жареного быка боевыми мечами. Траян хохотал до икоты, что Сабина была вынуждена постучать кулаками ему по спине.
– Только никаких упреков в мой адрес, – предостерег Траян, когда несколько акробатов-парфян принялись под барабанную дробь искусно выделывать свои номера. – Я еще наслушаюсь их, когда сюда приедет Плотина.
– А что, она скоро будет здесь? – удивилась Сабина и простонала.
– Какое-то время назад отплыла из Рима, и, насколько мне известно, на ее счастье дует попутный ветер. – Траян широким жестом обвел шумный зал. – Разумеется, когда она будет здесь, мне немного придется умерить свое гостеприимство.
– В противном случае она доведет тебя до припадка своим занудством, – согласилась Сабина. – И как долго она намерена здесь пробыть?
– Надеюсь, что недолго. Моя жена не любит Восток – он для нее слишком грязный, слишком яркий и шумный. Она пробудет здесь ровно столько, чтобы пару раз показаться на публике и дать мне советов на два года вперед, после чего вновь уедет в Рим. Но пока она здесь, моя дорогая Сабина, я бы советовал тебе воздержаться от колких комментариев в ее адрес. С меня хватает забот. Не хватало мне мирить ссорящихся женщин.
– Хорошо, Цезарь, – Сабина отдала Траяну что-то вроде салюта. – Думаю, я тоже буду вынуждена выслушать советов на два года вперед.
– Не только советов, – мрачно добавил Траян. – Вот увидишь, она потребует, чтобы ты вместе с ней вернулась в Рим.
– А ты?
– Мне, моя девочка, еще предстоит взять Хатру. Это оказался крепкий орешек. После чего… Я бы хотел вернуться в Месопотамию и погасить там кое-какие костры.
С этим словами Траян при помощи виноградин и сыра выложил у себя на тарелке план оборонительных сооружений Хатры, после чего принялся поглощать вражеские войска, погибшие при осаде, провел сквозь городские ворота кусок хлеба, чтобы затем бросить его в атаку, которую планировал предпринять по возвращении под стены крепости. Сабина задумчиво наблюдала за его действиями. Она не видела Траяна больше года: сама она за это время совершила путешествия в Египет и Грецию, он же метался по Парфии. Он заметно похудел и осунулся, и хотя мускулы были по-прежнему сильными, кожа на них стала полупрозрачной и слегка обвисла. Когда же он потянулся за очередным куском хлеба, ей показалось, что руки его слегка подрагивали.
– Как ты себя чувствуешь, Цезарь? – негромко спросила она. – Я слышала, будто под Хатрой с тобой случился обморок.
– На таком жутком солнцепеке он случится с любым. Голова кружилась не у меня одного, – пожаловался Траян. – Но сейчас я чувствую себя неплохо.
Парфянские акробаты тем временем построили высокую, под самый потолок, пирамиду, и теперь один за другим спрыгивали с плеч друг друга. Траян одобрительно похлопал в ладоши, после чего подозвал к своей ложе самого красивого из них. Сабина вежливо отодвинулась в сторону.
Как всегда бородатый и самодовольный, Адриан застыл в кольце сенаторов рядом с фризом, изображавшим похотливых сатиров. Его внимания добивались с полдесятка прихлебателей. Недавно он получил пост наместника Сирии (хотя наверняка притворится, будто ничего об этом не слышал, дожидаясь, когда сюда пожалует Плотина, чтобы преподнести ей эту новость). В следующем году его ожидало очередное консульство.
– Ты снизойдешь до того, чтобы сопровождать меня в Сирию? – язвительно поинтересовался он у Сабины, когда они готовились к императорскому банкету. – Или же ты предпочитаешь путешествовать со своими любовниками?
«Неужели ты и впрямь думаешь, будто я провожу все свое время в постели других мужчин?» – с обидой подумала Сабина. Она вернулась в Паннонию, чтобы проверить госпиталь, открытый ею в Виндобоне в то время, когда Адриан был там наместником. Она провела целый месяц, наблюдая за тем, как там идут дела, после чего потребовала прислать еще врачей, и хотя бы единая душа ей поверила! Всем хотелось услышать лишь одно – кто ее новый любовник. Впрочем, Сабина не принимала это близко к сердцу.
– Думаю, оргий с меня хватит. Я сыта ими по горло, – отшучивалась она. – Согласись, извращения – на редкость скучная вещь.
В пиршественный зал они вошли вместе. Пальцы Сабины едва касались руки ее мужа. Как только они с Адрианом прошествовали в двойные резные двери, так она тотчас же убрала руку. Сирия, напомнила она себе, держа кубок с вином. Адриана тем временем окружила плотная толпа сикофантов.
Она еще не бывала в Сирии. Наверняка там есть, что посмотреть… И все же последнее время ее мысли все чаще и чаще возвращались домой, в Рим. Ее сестра Фаустина наверняка вскоре выйдет замуж. «Надеюсь, я смогу выйти замуж за того, кто мне по сердцу, до того, как мне стукнет сто лет. О боги, до чего же он туп!». Женихи Фаустины не были единственной драмой в их семье. Их брат Лин просил, чтобы его отправили в армию трибуном, хотя ему еще не было семнадцати лет. И конечно же здоровье отца уже не такое, как раньше. Кальпурнии наконец удалось убедить его оставить сенаторское кресло. В своем последнем письме отец рассказывал о трактате, который он посвятил вопросу финансовой реорганизации римских храмов. А вот Тит в своем послании взахлеб описывал новые бани. Кроме того, теперь он теперь отвечает за раздачу хлеба сиротам, и император им доволен.
– Наверно, я соскучилась по дому, – задумчиво произнесла Сабина. После стольких лет скитаний по миру – как, однако, это странно. Она вновь подумала о Сирии, и почему-то в душе ничего не шевельнулось.
– Разговариваешь сама с собой? – раздался у нее за спиной до боли знакомый голос. Он горячей волной обдал ее тело с головы до ног еще до того, как она произнесла имя его обладателя. – Я всегда знал, что ты безумна.
– Кто ты такой, чтобы меня в чем-то обвинять, Верцингеторикс? – с улыбкой обернулась к нему Сабина. – Я слышала о ночной атаке, которую ты предпринял при Осроэне. Восемьдесят легионеров против двухсот защитников сторожевой башни, причем в кромешной тьме. Вот это действительно безумие.
– Но ведь сработало! – воскликнул Викс, и медали на его поясе звякнули, как будто в подтверждение его слов. Затем его взгляд переместился на ее голову.
– А куда подевались твои волосы?
– Я сбрила их, будучи в Египте, – Сабина провела рукой по густой, бархатистой щетке у себя на голове длиной не более дюйма – это все, что оставалось от роскошных локонов, которые когда-то ниспадали почти до пояса. – Там такая жара, что египтяне бреют себе головы, а вместо волос для торжественных случаев надевают парики. Спустя какое-то время я решила, что обойдусь без всяких париков.
– Мне тоже нравится.
– Зато Адриан всякий раз морщит нос.
– Тогда мне нравится еще больше, – серые глаза Викса окинули Сабину оценивающим взглядом с головы до ног, начиная с подведенных толченым малахитом глаз и кончая зеленым шелковым платьем, из-под которого виднелся яшмовый браслет на одной лодыжке. – Ты хорошо выглядишь.
«Знай я, что ты будешь здесь, я бы надела платье с одной обнаженной грудью, от которого Плотина едва не рухнула в обморок».
– Ты тоже, – сказала она вслух. – Вот только зачем ты пришел на пир в доспехах?
– После пира меня ждут кое-какие дела. Так что какой смысл переодеваться в пиршественную тунику, тем более, что императору безразлично, в чем приходят на пир его солдаты.
– Ты хорошо в них смотришься. – Это еще мягко сказано. Даже не верится, что когда-то это был драчливый волчонок с колючим взглядом. Рыжая голова Викса возвышалась над всеми присутствующими примерно на ладонь. Он стоял, широко расставив ноги, как будто застолбил свою территорию, и пусть только кто-то посмеет на нее покуситься! Сам он при этом пристальным взглядом скользил по толпам гостей, подмечая любую мелочь. В своей видавшей виды львиной шкуре, покрытый бронзовым загаром, он казался еще мощнее и шире в плечах.
«Твое изображение следует высечь в граните и поставить перед всеми легионерами-новобранцами, – подумала Сабина. – Увидев тебя, они моментально выстоятся стройными рядами. Достаточно сказать им, что в один прекрасный день они могут стать такими, как ты».
– Оно даже к лучшему, что он хорошо в них смотрится, – произнесла стоявшая рядом с Виксом женщина. – Ведь я все равно не вижу его ни в чем другом.
– Извини, – Сабина перевела взгляд на женщину. – Мне следовало представиться. Я – Вибия Сабина.
– Мира, – коротко произнес Викс. – Моя жена.
Рука, пожавшая руку Сабины, была маленькой, но натруженной и крепкой. У женщины были рыжеватые волосы, почти такие же, как и Викса. Одетая в дымчато-голубое платье, она также была выше Сабины. В ушах жемчужные серьги.
– У тебя прекрасный муж, Мира.
«Интересно, он по-прежнему храпит по ночам как пила, перепиливающая дуб?»
– Верно, у меня прекрасный муж, – ответила Мира, и на ее подбородке на мгновение появилась очаровательная ямочка. – А ты благородная Вибия Сабина, внучатая племянница императора? Викс, ты постоянно рассказываешь мне про Траяна, но никогда даже словом не обмолвился о том, что ты знаком с его родственниками.
– Это было так давно, – сказал в свое оправдание Викс, – что я почти забыл.
Верно. Последний раз они разговаривали друг с другом восемь лет назад. На пиру, почти таком же, как этот пир.
– Викс когда-то был стражником в доме моего отца, – пояснила Сабина, обращаясь к Мире, на лице которой все еще читалась растерянность. – Давно, еще до того, как он вступил в ряды Десятого легиона.
– Не могу представить себе Викса без Десятого легиона, – несколько натянуто улыбнулась Мира.
– Тогда он был еще слишком юн. Голенастый, с большой ногой, словно щенок. Он был зачинщиком всех уличных драк.
– Мне нужно поговорить с тобой, Сабина, – неожиданно произнес Викс. – Сейчас.
– Как пожелаешь.
– Наедине, – Викс повернулся к жене. – Я ненадолго. А ты смотри в оба – вон тот жирный ублюдок в тоге уже положил на тебя глаз, и как только ты останешься одна, он наверняка предложит тебе стать его постельной грелкой.
– Это ты смотри в оба, – прошептала в ответ Мира едва слышно. – Кто-то пялится на тебя по той же причине.
Сабина услышала ее слова, но не подала виду. Викс тем временем проложил сквозь плотную толпу гостей дорогу в атрий. Кстати, для этого ему даже не пришлось работать локтями или плечом. Для того чтобы люди расступились перед ним, ему было достаточно выразительно выгнуть бровь. Они вышли в залитый лунным светом атрий, и Сабина смогла вздохнуть с облегчением, а заодно выпустить на волю смех, который она старательно до этого сдерживала.
– Мне понравилась твоя Мира. У нее отливают золотом не только волосы, но и душа. А без этого ей никак, коль она вышла за тебя замуж. У вас уже есть дети?
– Две дочери, – Викс пробежал пятерней по волосам: жест, который она успела позабыть и вот теперь вспомнила снова. – Я не хочу обсуждать с тобой Миру.
– Как скажешь. – Сабина прошла мимо него к бассейну посреди атрия – блестящий, черный квадрат, устроенный в мраморном полу, в котором через отверстие крыши отражался лунный свет. Казалось, будто бассейн поймал луну в водный капкан. Из дальнего конца атрия, негромко смеясь, в сад прошествовала какая-то парочка. Но в целом здесь было пусто.
– Прошлый раз мы разговаривали с тобой примерно в таком же атрии, – сказала Сабина. – Обещай, что не станешь швырять меня в воду.
– Тогда ты это заслужила, – ответил Викс с веселыми нотками в голосе.
– Может, и заслужила, – Сабина повернулась к нему, прижавшись спиной к изящной резной колонне. – Так в чем дело, Верцингеторикс?
– В императоре, – ответил Викс, скрестив на груди руки. – Скажи, он прислушивается к тебе?
– Он не позволил мне развестись с Адрианом, – ответила Сабина, водя пальцем по мрамору колонны. – Но в целом, да. Прислушивается.
– Ты пыталась развестись с Адрианом?
– Это неважно. Так что с императором?
– Я хочу, чтобы ты поговорила с ним.
– Но ведь он, насколько мне известно, уже дал тебе легион. Кстати, хочу тебя поздравить…
– Нет, дело не во мне. Тебе нет необходимости говорить с ним обо мне. Своего я добьюсь и сам, – лицо Викса было скрыто тенью, однако от Сабины не скрылись насупленный брови и подрагивающий подбородок. На лице Викса читалась не просто озабоченность. На нем читался страх. – Уговори его вернуться в Рим.
– Что?
– Во время осады Хатры с ним случился обморок, – отрывисто произнес Викс. – Шесть часов в седле под палящим солнцем, это надо же быть таким идиотом! Он без чувств вывалился из седла. Его сумели до конца дня уложить в постель, но на утро он вновь уже был в седле. И все равно он уже не тот. Я вижу, как он устает, как у него трясутся руки.
– Я тоже это заметила.
– Он болен, хотя сам в этом никогда не признается. Мы с трудом уговорили его отступиться от Хатры. И вот теперь он вновь только и знает, что твердит о возвращении под ее стены. Очередной месячный марш-бросок по жаре вдоль Тигра, и я не знаю, чем это для него кончится. Ведь ему уже шестьдесят три! – Викс едва ли не с мольбой посмотрел на Сабину. – Лекарь отговаривает его. Стража отговаривает его. Уверен, что императрица, когда приедет сюда, тоже попытается его отговорить. Она наверняка прожужжит ему уши, пока из них не потечет кровь. Может, тебе повезет больше. Попытайся убедить его вернуться в Рим. Пусть он отдохнет, посидит в прохладе садов, даст покой сердцу и ногам.
Сабина посмотрела на своего бывшего возлюбленного.
– Ты любишь его, я верно поняла?
– Больше чем… – Викс не договорил и вновь пятерней взъерошил волосы. – Больше чем все на свете. Больше чем Миру. Больше наших дочерей. Боги свидетели, чего мне это стоит.
– В таком случае я поговорю с ним, – Сабина легонько прикоснулась ладонью к руке Викса. – Ведь я тоже его люблю.
Тит
– Фаустина? – Тит растерянно посмотрел на знакомую фигуру в светло-голубом платье, застывшую среди колонн Траяновых бань. – Что ты здесь делаешь?
– Я пришла к тебе, но Энния сказала, чтобы я искала тебя здесь. Она не на шутку встревожена. – Фаустина жестом велела служанкам оставаться на месте, а сама шагнула вперед. – Кстати, и я тоже.
Тит махнул в сторону высоких стен.
– Как видишь, я уже близок к завершению. Осталось лишь покрыть их глазурью и выложить мозаики. Плюс еще несколько мелочей. Но в целом уже почти все готово.
– Что случилось с императрицей? – потребовала ответа Фаустина. – Я знаю, что перед тем как ей отбыть в Антиохию ты был у нее во дворце.
– Был.
– Она спешно отбыла из Рима.
– Верно. Не хочешь прогуляться мной?
Фаустина взяла его под руку, и они зашагали рядом. Их шаги эхом разносились по пустым залам. Тит сегодня отпустил рабочих чуть раньше обычного, и теперь, кроме них, здесь никого не было. В этот полуденный час будущие бани смотрелись во всей своей красе: вливаясь в высокие окна длинными золотыми струями, солнечные лучи собирались на полу золотыми лужицами, превращая воду в бассейнах в блестящее жидкое стекло. Вернее, так наверняка будет, когда бассейны наконец наполнятся водой.
– И? – спросила Фаустина, так и не дождавшись ответа. – Только не надо меня мучить! Ты имел с ней неприятный разговор?
Тит поймал себя на том, что улыбается. Фаустина вскрикнула и, чтобы удержаться на ногах, обняла его за талию. Тит еще крепче прижал ее к себе. Фаустина была, пожалуй, единственной девушкой, обнимая которую, ему не нужно было складываться пополам.
– Ты болван! – Фаустина отстранилась от Тита и легонько его встряхнула. – Ты явился в личные покои римской императрицы, чтобы сказать ей, что она воровка!
– Я не называл ее воровкой. Я сказал ей, что сохраню все в секрете при условии, что она прекратит это свое занятие.
– Можно подумать, это на нее подействует! – воскликнула Фаустина. – Ну почему ты не мог закрыть на это глаза? Ведь это всего лишь деньги на постройку бань!
– Да, сегодня это деньги на постройку бань, и вред от ее воровства не так уж велик. Как ты видишь, бани, пусть медленно, но строятся. – Тит указал на изящный сводчатый потолок над их головами. – Но она запустила свою лапу и в другие средства, а это приданое для десятков осиротевших девушек. Это деньги, которые позволят им выйти замуж, завести семью, вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь, продавая собственное тело. Деньги, которые позволят юношам начать собственное дело, вместо того чтобы воровать. – Тит сморщил нос. – Сегодня она ворует у сирот. И кто знает, чего ждать от нее дальше.
– Но ведь то, что императрица воровка, наверняка известно не тебе одному. Почему же никто не пришел к ней, чтобы потребовать от нее объяснений?
– Потому, что всем это ни к чему.
Фаустина задумчиво наклонила голову.
– И все равно ты болван, – заявила она. – Но я тобой горжусь. Думаю, что твой отец и дед тоже бы гордились тобой.
– Знаешь, по всей видимости, ты права.
– Скажи, тебе было страшно? – Фаустина перешла на шепот. – Даже когда императрица в хорошем настроении, у меня внутри все сжимается от страха.
– Я едва не проглотил язык, – признался Тит. – Мои колени не переставали дрожать еще долго.
– Теперь она твой злейший враг. – Лицо Фаустины стало серьезным. – Мы оба знаем, почему она так неожиданно отплыла в Антиохию. Вовсе не потому, что соскучилась по мужу. Она отправилась к нему за тем, чтобы ему все рассказать, мол, ты ее оклеветал и все такое прочее. Траян будет вынужден поверить ее словам.
– Именно по этой причине он уже ознакомился с моей версией, – успокоил ее Тит. – Я поговорил с твоим отцом, и мы с ним пришли к выводу, что еще до моего визита к Плотине необходимо отправить императору в Антиохию письмо, в котором изложить все известные мне факты. Мне одному он может и не поверит, но если присовокупить мнение сенатора Марка Норбана…
– Но ведь ты пообещал Плотине, что о вашем разговоре никто не узнает!
– Я солгал, – честно признался Тит.
Фаустина выразительно похлопала ресницами.
– Выходит, ты не такой уж и болван!
– Согласен. Лишь круглый дурак отправился бы к императрице, не обезопасив тылы. Так что если я и болван, то болван осторожный.
Тогда ему ничего не оставалось, как повернуться спиной – ничем, между прочим, не защищенной – и выйти вон. Плотина застыла, бледная, как полотно. Она с трудом сдерживала клокотавшую в ней ярость, отчего время от времени каменное ее лицо начинало подергиваться, как будто из спокойных глубин океана наружу пыталось вырваться некое морское чудовище.
«Ты у меня еще за это поплатишься».
От ее голоса у Тита по спине тогда пробежали мурашки. Даже сейчас, стоя среди залитого солнцем зала, прекрасно зная, что Плотина сейчас еще только держит путь к Антиохии, Тита передернуло.
Пустые угрозы, напомнил он себе. Императору уже известна правда. Император не станет слушать ее лживые речи. Когда же Траяна не станет, Плотина больше не будет императрицей. Она лишится своего влияния и больше не сможет диктовать кому-то условия.
«Ты у меня еще за это поплатишься».
Что ж, известный риск все же был.
Тит поймал себя на том, что по-прежнему держит Фаустину за талию, она же с тревогой в глазах смотрит на него.
– Тебя что-то беспокоит, – сказала она. – Я всегда вижу, когда так бывает. В таких случаях у тебя между бровей возникает складочка, а рот слегка кривится чуть влево.
– Неправда, – попытался возразить Тит и поспешил предложить ей руку. – Давай лучше я тебе кое-что покажу.
И он повел ее во фригидарий, расположенный в дальней части банного комплекса, как можно дальше от солнечного света, чтобы даже в самый знойный день там сохранялась прохлада. Там все еще возились с инструментами, делая какие-то замеры, пара рабочих. Тит разрешил им уйти, а сам одну за другой принялся зажигать лампы. Фаустина застыла посреди зала, любуясь синими и зелеными плитками потолка. На полу еще предстояло выложить мозаику, но бассейн уже оделся в голубой с синими прожилками мрамор.
– Скажи, а почему этот бассейн уже наполнен водой? Ведь остальные все еще стоял пустые?
– Инженер опасался, что в облицовке бассейна есть трещина, и, чтобы проверить, так это или нет, пришлось наполнить его водой. Но, похоже, что все в порядке, никакой течи нет. – Тит вынул из-за пояса свиток и развернул: – Как видишь, здесь все готово, кроме мозаики на полу. Но на нее уже сделан заказ. Мой инженер предложил изобразить обнаженных наяд, но у меня есть другая идея.
Фаустина нагнулась над свитком. Из лазурных морских глубин, извиваясь и поблескивая чешуей, всплывало черно-зеленое чудовище, а перед ним, прикованная к скале, застыла прекрасная дева.
– Андромеда и морское чудовище?
– Посмотри на лицо. Я имею в виду Андромеду.
Фаустина внимательнее присмотрелась к закованной в цепи светловолосой девушке, чье платье, словно крылья, разметал ветер.
– Это же я!
– Это, конечно, не самый подходящий миф, – признался Тит. – Андромеду должен спасти Персей. Но в нашем с тобой случае это ты спасла меня, вовремя подкупив младшего секретаря Плотины. И я подумал, что просто обязан увековечить тебя, пусть даже на дне бассейна.
Фаустина пристально посмотрела на Тита.
– Знаешь, есть и другие способы выразить свою благодарность.
Тит оторвал глаза от рисунка.
– Например?
– О, боги! – воскликнула Фаустина и столкнула его в воду. Титу показалось, будто его пронзило ледяной молнией. От неожиданности он вскрикнул и закашлялся, так как набрал полный рот воды. Он отчаянно бил руками по водной поверхности, одновременно пытаясь нащупать ногами скользкое дно. Бассейн был наполнен водой ему по плечи. Обретя под ногами твердую опору, он встал во весь рост и попытался отдышаться.
– Зачем ты это сделала?
– Чтобы ты проснулся, – Фаустина, руки в боки, встала на краю бассейна и окинула его сердитым взглядом. – Скажи, что еще я должна сделать, чтобы ты наконец обратил на меня внимание? Обычно мужчинам бывает достаточно нескольких намеков, тебя же, наверно, нужно огреть кирпичом по голове!
– Ты о чем? – задумчиво произнес Тит. Намокшие складки тоги тянули его ко дну, и он принялся стаскивать с себя тяжелую, словно камень, ткань. – Боюсь, я не совсем тебя понимаю.
Мимо них, с полными корзинами щебня, прошествовала пара рабов, то и дело бросая в их сторону любопытные взгляды, не иначе, как они явились сюда, услышав плеск воды.
– Вон! – сердито крикнула им Фаустина, и рабы в спешном порядке ретировались. Она же вновь повернулась к Титу, чтобы одарить его очередным испепеляющим взглядом.
– Как ты думаешь, я подкупаю императорских вольноотпущенников для других своих женихов? – кипятилась она. – Ты думаешь, я затем в жару наряжаюсь в свои лучшие платья, чтобы наносить визиты всем римским холостякам? Ты думаешь, что ради каждого из них я готова шпионить за императрицей?
Тит слушал ее гневную речь, не зная, нужны ли ей ответы на ее вопросы или нет. Наверно, нет, решил он.
Наконец ему удалось стащить с себя стопудовую тогу. Собрав в ком тяжелую ткань, он швырнул ее в дальний угол бассейна. Под тогой на нем была тонкая туника, которая, даже намокнув, не тянула его ко дну. Так что теперь ему ничто не мешало вылезти из воды и выскочить вон из фригидария.
– Я знала, что мне придется набраться терпения. В любом случае отец не хотел, чтобы я выскочила замуж слишком рано. И я решила, что дам тебе время. – Фаустина с вызовом скрестила на груди руки. – Мне также известно, что ты вот уже много лет сохнешь по моей сестре, но я…
Тит открыл рот, но не затем, чтобы сплюнуть воду.
– Что? – растерянно воскликнул он.
– Ты сам говорил мне, когда мне было пять лет и ты после ее свадьбы нес меня на руках до дома.
– Хм. Тогда ты была еще так мала, и вряд ли можешь что-то помнить.
– Зато я не слепая. Я видела, какими глазами ты смотрел на Сабину. Да это известно всему Риму! Даже твоя бесценная Энния, и та предупредила меня, что с тобой меня жду трудности. Нет, даже не с тобой, а с твоей романтической привязанностью к первой и единственной девушке, которая когда-то посмотрела на тебя с интересом. Причем тогда ты даже был моложе, чем я сейчас.
Тит в очередной раз задумался, не броситься ли ему в бегство. Но Фаустина загораживала единственные ступеньки, которые вели из бассейна, и, судя по всему, была не намерена сдвинуться с места. А еще он надеялся, что холодная вода сделает менее заметным тот удручающий факт, что он покраснел по самые уши.
– В принципе я не вижу ничего страшного в том, что когда-то ты был влюблен в мою сестру, – продолжала тем временем Фаустина. – Она действительно обворожительна и гораздо умнее меня. Но она, колеся по всему свету, разбила тебе сердце, сделала тебя несчастным. Зато есть я. Я гораздо красивее Сабины и гораздо лучше тебе подхожу. Ты думаешь, Сабине когда-нибудь приходило в голову научиться готовить твоего любимого тушеного барашка?
Фаустина произносила свою речь с серьезным лицом. А как хороша она была в эти минуты: щеки раскраснелись, глаза сверкали, грудь вздымалась под голубым шелком.
«Работник, которому поручено выкладывать мозаику с Андромедой, вряд ли согласится спрятать ее грудь под голубой драпировкой, – подумал Тит и крайне удивился, поймав себя на этой мысли. – Он наверняка скажет, что это просто преступление прятать такую красоту, и будет прав».
– Ты знал меня, когда я была маленькой девочкой, но с тех пор я выросла, – продолжала тем временем Фаустина. – И ты не мог этого не заметить, когда я вышла из бассейна в мокрой тунике, которая почти ничего не скрывала.
Вот это верно. Не мог. Образ выходящей их воды Фаустины, практически обнаженной, если не считать тонкой, прилившей к телу ткани, преследовал его весь этот год с пугающей настойчивостью.
– Думаю, Тит, ты понял намек, – бросила ему Фаустина. – Будь мне неприятен твой взгляд, я бы схватила с земли плащ гораздо раньше. И я бы точно не пошла бы по дорожке в дом впереди тебя. Подумай сам. Начиная с одиннадцати лет, я только и делала, что всячески пыталась тебе понравиться. Ты даже как-то раз сказал мне, что я вырасту красавицей. Я нравилась тебе еще до того, как расцвела. Ты же нравился мне еще до того, как на тебя свалилось дедово наследство. Разве одно только это не ставит меня впереди всех тех красавиц, которые мечтают прибрать к рукам твои деньги?
Фаустина поводила обутой в сандалию ногой по каменному краю.
– Нет, конечно, мне приятно, что ты решил изобразить меня на дне бассейна. Но, поверь, это не самый лучший способ отблагодарить меня. Если бы ты и в самом деле хотел…
– Поверь, этим дело не ограничится.
С этими словами Тит сделал рывок из воды и, схватив Фаустину за руку, дернул ее вниз. Издав пронзительный вопль, она полетела в воду. Вверх взметнулся фонтан брызг, светло-голубое платье мгновенно намокло и сделалось синим. Вынырнув из воды, – причем с куда большей грацией, нежели Тит, – Фаустина обеими руками убрала с лица намокшие волосы. Потемневшие от воды, ресницы слиплись и топорщились шелковистыми иглами вокруг ее огромных темных глаз, мокрые волосы отливали тусклым блеском золотых монет на дне реки. В ее внешности не было ничего от Сабины. Если она и была на кого-то похожа, то только на себя – Аннию Галерию Фаустину, и, что куда важнее, она была прекрасна. Тит ощущал нежный аромат ее духов, хотя вода постепенно вымывала пьянящий запах. Запах гиацинтов – эта плутовка наверняка знала, что гиацинт – его любимый цветок.
– Должен сказать тебе кое-что, на тот случай, если ты этого еще не знаешь, – сказал Тит. – Я зануда, я не блещу умом и, разумеется, далеко не красавец…
– Что ты…
– Когда-то я предложил твоей сестре выйти за меня замуж, честно перечислив при этом все причины, почему я вряд ли стану для нее хорошим мужем. Она отвергла меня, и я просто обязан дать тебе возможность сделать то же самое, – с этими словами Тит убрал с лица Фаустины мокрую прядь и заложил ее ей за ухо. – Итак, ты прекрасно знаешь, что я не оригинален, что за неимением своих слов я только и делаю, что цитирую Горация или Катона. Когда-то люди, не стесняясь, зевали мне в лицо. Теперь же они почитают меня человеком большого ума. Думаю, столь разительные перемены произошли после того, как дед оставил мне наследство.
На подбородке Фаустины появилась лукавые ямочки. Тит же продолжал свою речь – все тем же пафосным, глубоким баритоном, каким он выступал с ростральной колонны на форуме.
– Я веду простую жизнь, я не люблю показную роскошь. Наверно, в один прекрасный день я стану претором, но смею полагать, что на этом моя карьера завершится. Никаких высот мне не достичь. Я обыкновенный зануда, чье имя вряд ли прибавит тебе блеска, а поскольку и мой отец, и дед облысели довольно рано, смею предположить, что и меня ждет та же участь.
– А вот это и впрямь было бы обидно, – отозвалась Фаустина, – седые мужчины мне нравятся больше, чем лысые.
– Итак, Анния Галерия Фаустина. – Тит приподнял ее мокрые волосы и намотал их себе на руку. – Я решил, что не стану изображать тебя в голубых одеждах. Я предпочитаю увидеть тебя в красной фате, причем не на дне бассейна, а в своей постели. Если, конечно, ты не имеешь ничего против того, чтобы стать женой самого обыкновенного, самого нудного квестора во всем Риме.
Фаустина подалась ему навстречу и поцеловала в губы. Ее собственные стали для него сродни живительному источнику, глубокому, спокойному, освежающему. Голубой шелк ее платья плавал вокруг него подобно сизому дыму. Тит привлек ее к себе, она же положила ему на грудь ладони и, схватив за мокрую тунику, подтянула еще ближе. Запустив руку ей за шею, Тит нащупал застежку амулета – небольшого золотого сердечка, которые римские девушки носили до того дня, как им выходить замуж, – и расстегнул. Золотое сердечко соскользнуло в воду.
– Вот и отлично, – прошептала Фаустина между поцелуями. – Энния наверняка будет довольна.
(обратно)
Глава 26
Плотина
– Мой дорогой, – Плотина не смогла удержаться от упрека. – Четыре года мы провели в разлуке, и ты не составишь мне компанию за ужином?
– Боюсь, что не смогу выкроить время. – Траян даже не поднял на нее глаз. Его взгляд был прикован к рапортам, которые ему еще предстояло изучить. Его стол был завален свитками, табличками, точильными камнями. Здесь же валялись ножны от какого-то кинжала и одиноко стоял бюст Александра: Траян привык использовать его вместо груза, удерживающего на месте стопку карт. Рядом усердно водили перьями секретари, записывая его распоряжения, адъютанты перебирали последние рапорты. Мимо Плотины то и дело сновали вольноотпущенники – то выбегали за дверь, то возвращались с новыми донесениями.
– Должна тебе сказать, что плавание было тяжелым, – добавила Плотина, когда муж даже не поинтересовался у нее, как она перенесла путешествие. Утром, когда корабль вошел в гавань, Траян лишь на несколько минут забежал на пристань, чтобы ее встретить, после чего, сославшись на занятость, вновь вернулся к себе и даже не соизволил выйти к обеду. Плотина, как какой-нибудь запоздалый проситель, была вынуждена выследить его в штабе.
– Кстати, дорогой Публий выкроил свободную минутку, чтобы составить мне компанию за обедом. Какая забота с его стороны, если учесть, как страшно он занят, выполняя твое поручение. И главное, как хорошо он с ним справляется!
Траян издал невнятный звук. Плотина вздохнула. Похоже, муж снова не в настроении. Она же, как назло, за это время разучилась находить нужные в таких случаях слова. Нет, дорогой Публий оказался куда более приятным собеседником. О боги, какое счастье было вновь видеть ее дорогого мальчика! Какой он красавец! Какая гордая у него осанка! Настоящий юный бог!
– Здесь у тебя настоящее сорочье гнездо, – заметила Плотина, придирчиво оглядывая тесный кабинет. Антиохийский дворец был слишком мал и скромен для императора Рима, не говоря уже об императрице. Впрочем, ее муж почти не обращал внимания на такие вещи. – Надеюсь, ты не заставишь меня жить в таком беспорядке?
– Осталось недолго. – Траян резким движение скатал свиток. – Вскоре мы возвращаемся в Рим.
– В Рим? – растерянно моргая, уточнила Плотина. – А почему такая спешка? Я ведь только прибыла сюда…
– Если бы ты предварительно написала мне о своем желании посетить Антиохию, я бы непременно тебе ответил, что в твоем приезде сюда нет никакой необходимости.
– Да, наверно, это необдуманный поступок с моей стороны, – была вынуждена согласиться Плотина. – Но разве нельзя жене соскучиться по мужу? Даже если эта жена – императрица?
– Некоторые жены действительно скучают по своим мужам. – Траян поднял на нее глаза, и она в очередной раз отметила про себя, как сильно он постарел за те два года, что прошли с момента их последней встречи. Седые волосы, едва ли не черный загар, глубокие морщины. – Только не ты, Плотина, только не ты.
Плотина вымучила улыбку и подошла ближе, чтобы пожать ему руку. Даже в этой знойной, порочной дыре она нарядилась так, как и подобает императрице. В пурпурной столе, с жемчужными серьгами в ушах, прическу венчает диадема, иными словами, супруга императора во всем своем царственном великолепии. Нет, даже более того, воплощение верной, заботливой, достойной его доверия жены.
– По крайней мере, мне будет, чем заняться во время обратного путешествия, – произнесла она нарочито бодрым голосом. – Я так давно ждала твоего возвращения, что, честное слово, даже разучилась тебя упрекать. Тебя не было в Риме целых четыре года. Скажи, почему так долго?
Не говоря уже о том, как скажется его возвращение на размеренной жизни, к которой она привыкла в его отсутствие. Ведь как удобно было, когда Траян уехал на восток! Полы дворца сверкали чистотой, их не портила грязь его сапог. Тишину залов не нарушал грубый мужской хохот, пиры проходили чинно и пристойно – никаких грязных военных шуток, никаких планов и карт, выложенных из обглоданных гусиных костей. Никто не забывал на столе гусиных перьев или восковых табличек, не говоря уже о ножнах. Никто не совал свой в нос в то, на что тратятся дворцовые деньги. Никто вообще ни во что не вмешивался.
– Почему
именно сейчас? – задал встречный вопрос Траян, словно угадав ее мысли. – Я был вынужден обратить внимание на кое-какие вещи. Похоже, мне пора вернуться в Рим и навести там порядок.
– Целиком и полностью согласна. – Опустившись на соседний стул, Плотина щелкнула пальцами, отсылая прочь вольноотпущенников и секретарей, чтобы те не мешали их с Траяном беседе. – Более того, я сама хотела с тобой кое о чем поговорить. В Риме все только и делают, что восторгаются юным Титом Аврелием, – Плотина выразительно понизила голос. – Я знаю, что ты тоже о нем самого высокого мнения. Увы, смею тебя разочаровать. Ты глубоко заблуждался.
– Неужели?
– Представь себе. Мне стало известно…
– Мне кажется, ты хочешь сказать, что это ему стало известно. – С этими словами Траян швырнул ей на колени мятое, не единожды читанное и перечитанное письмо. Длинное письмо. Несколько страниц цифр, расчетов, расписок и выписок из бухгалтерских книг, все до одной испещренные дотошными комментариями. Впрочем, Плотине было достаточно прочесть лишь первую страницу, как к горлу подкатился комок желчи.
«Он же обещал, что никому ничего не скажет, – возмущенно подумала она. – Обещал ничего не говорить императору. Юнона, ты ведь слышала его обещания! Ах ты хитрый, вероломный хорек!»
– О боги, какой пышный букет клеветы, – голосом, полным презрения, сказала Плотина, поднимая глаза от письма. – Надеюсь, ты не поверишь этому честолюбивому щенку? Он может утверждать, что угодно…
– Нет, Плотина.
– Но я…
– Нет.
Резкий, командирский голос Траяна обрубил ее слова, словно острый меч.
– Я возвращаюсь Рим, – добавил он, как будто диктовал поручения адъютанту. – Ты вернешься вместе со мной, но только без Публия. Он останется здесь, в качестве наместника Сирии. Думаю, он отлично справится с возложенными на него обязанностями. Я скажу ему об этом сам. Что он станет делать потом – меня не касается, так как отныне он не считается членом императорской семьи. Думаю также, я дам Сабине разрешение на развод, тем более, что она меня давно о нем просила.
– Ты этого не сделаешь! – прохрипела Плотина. Слова царапали ей горло, словно острые камни.
Траян продолжил свою речь, как будто ее не слышал.
– Ты уже давно досаждаешь мне, требуя назначить преемника. И, возможно, ты права. Мне и впрямь пора вплотную задуматься над столь важным вопросом. По возвращении в Рим я, пожалуй, возьму юного Тита под свое крыло. Хочу посмотреть, какие у него таланты. Ибо любой, кому хватило храбрости заявить моей жене, что она воровка, достоин уважения. У такого человека железные яйца, а это именно то, что я ценю в мужчинах.
Камни в горле Плотины неожиданно превратились в булыжники.
– Ты этого не сделаешь! – сорвался с ее губ очередной крик.
– Можешь не утруждать себя распаковкой вещей, – добавил Траян и, жестом подозвав секретарей, что, перешептываясь, стояли в дальнем конце комнаты, вновь переключил внимание на депеши. – Мы отплывем в Рим в ближайшие две недели.
Викс
Всего три дня на борту судна, и все три я провел, давясь блевотиной. Боги свидетели, как же я ненавижу корабли!
– И откуда в тебе еще что-то берется? – удивилась Сабина и, подойдя к парапету, встала со мной рядом. Я же в очередной раз перегнулся, чтобы исторгнуть из себя то последнее, что еще оставалось в желудке.
– Зато у тебя желудок железный, – ответил я, выпрямляясь и вытирая рот тыльной стороной ладони. – Сучка.
Сабина состроила забавную рожицу и продолжила гладить кошку, что сонно мурлыкала у нее на руках. С трудом верилось, что судьба вновь свела меня с Сабиной. Теперь она была совсем другая: невысокого роста, в узком египетском платье, оставлявшем открытыми руки и лодыжки, на запястье болтается амулет, лицо загорелое, на носу веснушки, волосы коротко острижены. А вот голос остался прежним, совсем как в те далекие годы. Разница лишь в том, что глядя на нее, я больше не ощущал привычного возбуждения… Впрочем, это не мешало мне смеяться вместе с ней. А самое главное, она уломала Траяна вернуться в Рим, а за это я мог простить ей что угодно.
– Согласись, что он выглядит лучше, – я кивком указал на корму, где император сидел, играя в латрункули под пурпурным пологом, который натянули специально для того, чтобы ему не напекло голову. Рядом с ним, обмахиваясь веером, словно каменный истукан сидела Плотина. В кои веки императрица хранила молчание, вместо того, чтобы докучать мужу своим занудством. Кроме венценосной пары на палубе лениво расположились еще около дюжины придворных, между которыми то и дело сновали босоногие матросы, таща за собой канаты или поправляя паруса. За бортом под солнцем сверкало лазурное море. Я никогда не видел таких ослепительных красок.
– Может быть. Я так рада, что он возвращается в Рим. И приложу все усилия к тому, чтобы остаток лета он провел, отдыхая в садовом кресле.
– Мне казалось, ты вернешься к мужу в Сирию.
Сабина покачала коротко стриженной головой и пощекотала кошку под подбородком.
– Хочу немного побыть с родными. Кстати, а разве ты не станешь скучать по своей семье?
Я уклонился от ответа на вопрос. Мира знала, что не сможет приехать ко мне в Германию до тех пор, пока я там не обоснуюсь. На этот счет споров у нас не возникло, зато она настаивала, чтобы я взял Антиноя с собой. Я ответил однозначным отказом, и любой разговор на эту тему был для нас обоих болезненным.
– Меня ждет очередная кампания, – сказал я ей незадолго до отъезда. Говоря эти слова, я был занят тем, что собирал с кровати мои разбросанные вещи, чтобы упаковать их в походный мешок. – Думаю, с него более чем достаточно этой.
– Ему уже почти одиннадцать, – стояла на своем Мира, вручая мне пару сменных сандалий и запас точильных камней. – Мальчику в таком возрасте требуется отец.
– Сколько раз я говорил тебе и сколько раз мне еще предстоит сказать, что он мне не сын!
– Но ведь ты хочешь иметь сына. Мужчины хотят сыновей – мне казалось, ты возьмешь его с собой… тем более, что у нас две дочки…
– Две чудесные дочки, – уточнил я и, бросив на кровать ворох туник, нагнулся, чтобы взять на руки Дину. Я принялся подбрасывать ее в воздух, а она испуганно верещала. Чайя своими огромными черными глазами пытливо смотрела на меня снизу вверх, но как только я попробовал погладить ее по головке, тотчас отодвинулась в сторону. Она все еще побаивалась меня, впрочем, ничего удивительного, если учесть, сколько меня носило вдали от дома по полям сражений.
– Да, две чудесные дочки, – согласилась Мира чуть веселее, но затем вновь нахмурилась. – Скажи, Викс, что будет, если император все же не поправится.
– Поправится. Куда он денется.
Любое другое развитие событий просто не укладывалось в голосе.
– Но если не оправится. Ты все равно отправишься в Дакию?
– Почему бы и нет? Ведь у меня будет свой легион. Разве не к этому я шел всю мою жизнь?
– Служа Риму, – сказала Мира. – Ты будешь служить Риму, а не Траяну.
– Траян и есть Рим, – произнес я и поцеловал ее гордо вкинутый подбородок.
– Не навсегда, – возразила она. Я же вновь взялся собирать вещи перед предстоящим отплытием в Италию. На императорской триреме нашлось место и для меня. Я сойду на берег где-нибудь по пути, найму лошадей и продолжу свой путь дальше, в Германию. Остальная часть Десятого легиона последует за мной позже на другом судне. Так что мы встретимся уже в Германии. И как только воссоединимся, я пошлю за Мирой и дочками, а сам тем временем засяду разрабатывать план нового похода в Дакию.
– Тебя носит туда-сюда по всей империи, как почтовую суму, – устало пошутила Мира. Тем не менее, когда я на следующий день взошел на борт триремы, отплывавшей из Антиохии в Рим, она попрощалась со мной без единой слезинки. Я еще долго не сводил глаз с ее удалявшейся фигурки, пока наш корабль выходил из гавани в море. Когда же она превратилась в черную точку, рядом с которой маячила другая, – Антиной, – а наши девочки, которых она держала на руках, сделались неразличимы, я поцеловал край голубого платка, которым под доспехами была обмотала моя рука.
Сидевший на противоположном конце палубы Траян отшвырнул в сторону игральную кость и резко поднялся на ноги. Видимо, слишком резко, потому как схватился за спину, массируя затекшие мышцы, и негромко выругался. Каменнолицая Плотина что-то у него спросила, но он пропустил ее вопрос мимо ушей.
– Как тебе удалось вернуть его в Рим? – спросил я у Сабины.
– Не хочу в этом признаваться, но я расплакалась, – призналась та и состроила гримасу. – Терпеть не могу женщин, которые привыкли добиваться своего слезами, но что поделать, если Траян никогда не мог устоять перед плачущей женщиной. Я немного попеняла ему, пытаясь втолковать, что в его возрасте важно следить за своим здоровьем, тем более, если ему дорога судьба империи, которую он с таким трудом построил. Когда же он рассердился и был готов кричать на меня, пустила слезу. На самом же деле, он и сам устал и давно соскучился по Риму.
– Ты станешь за ним присматривать? – спросил я у нее с тревогой в голосе. – То есть как полагается. Старая перечница Плотина вряд ли станет нянчиться с ним.
До меня дошли слухи, что императрица не слишком обрадовалась, когда по прибытии в Антиохию ей было сказано, что в ближайшие две недели ее венценосный супруг возвращается в Рим.
– Кто-то наверняка решит, что она рада вновь видеть его в Риме после нескольких лет отсутствия, но что-то подсказывается мне, что такая особа, как она, предпочла бы, чтобы все оставалось по-старому. За эти годы Плотина привыкла чувствовать себя полноправной хозяйкой.
– На этот раз пусть даже не мечтает! Я сделаю все для того, чтобы попортить ей кровь, – в голосе Сабины слышалось нескрываемое злорадство. – Кстати, я и сама не прочь провести в Риме какое-то время.
– А что, Адриан не возражал против твоего отъезда?
– Ничуть.
– А ведь было время, когда вы никуда не ездили друг без друга.
– Времена меняются, – голос Сабины прозвучал почти равнодушно, и я с любопытством посмотрел на нее. Лицо ее не выражало никаких чувств, напоминая чистую восковую табличку. Впрочем, какое мне дело, что там за нелады между ними, не говоря уже о том, какие мысли бродят в ее странной стриженой головке. Сабина тоже в пол-оборота посмотрела на меня поверх кошачьей головы, и на какой-то миг, и она сама, и ее загадочная кошка с серьгами в ушах показались мне едва ли не близнецами. Но уже в следующую секунду ее лицо озарила улыбка, и сходство исчезло. Сама она поспешила сменить тему разговора.
– Что с твоим плечом? Почему оно перевязано?
– При Хатре, когда я пытался загородить собой императора, в меня попала стрела. Хорошо, что в плечо, а не в шею.
– Тогда понятно, почему Траян дал тебе легион.
– По его словам, он и без того намеревался это сделать. Представляешь, как ненавидят теперь меня его офицеры. Ведь я перепрыгнул через голову не одному из них. На прошлой неделе в банях одна такая компания пыталась отвести меня в сторонку для разговора…
Мне не дал договорить чей-то крик. Я резко обернулся. Что произошло дальше, я увидел, словно в устье тоннеля. Схватившись одной рукой за другую, что внезапно повисла, как плеть, Траян покачнулся и рухнул на колени, опрокинув при этом игровую доску со стоявшими на ней фигурками. И хотя император тотчас попытался встать, мне было видно, как он ощерился, превозмогая себя.
Вставай, мысленно взмолился я. Вставай!
Но он упал. О боги, он упал!
Сабина
– Тебе к нему нельзя, Вибия Сабина. Мой муж отдыхает.
– Он спрашивал обо мне. – Сабина попыталась обойти императрицу. – И я иду к нему.
– Его лучше не беспокоить, – стояла на своем Плотина. В темно-сером платье, она походила на гранитную колонну, которую никому не сдвинуть с места. Серебрившая виски седина гармонировала с ее нарядом. – Я тебе этого не позволю.
Сабина улыбнулась императрице своей самой слащавой улыбкой.
– Иди в задницу! – сказала, она, четко выговаривая каждый слог и, плечом оттолкнув Плотину, шагнула в комнату, где лежал больной.
На окне комнаты не было ставень, и врачи, чтобы свет не беспокоил их венценосного пациента, завесили окно одеялом. Императорское ложе в разобранном виде перевезли с триремы на берег и собрали заново. Пол был земляным, в углу повисла паутина.
«Нет, не в таком убожестве должен умирать император», – подумала Сабина.
– Только не надо вокруг меня суетиться, – донесся с кровати хриплый, невнятный голос.
Траян лежал на спине. Несмотря на жару, он был завален грудой одеял. Рядом с кроватью, пытаясь измерить больному пульс, сидел лекарь.
– А это еще кто? Моя малышка Сабина? Подойди ко мне ближе. Остальные вон отсюда.
Врачеватель послушно исполнил его приказ. Когда он проходил мимо Сабины, от нее не скрылось, как серьезно лицо лекаря, как скорбно поджаты его губы. Вслед за врачом к выходу потянулись рабы. Как ей показалось, у всех до одного были заплаканные лица. Застывший у двери преторианец то и дело вытирал глаза.
– Уберите это проклятое одеяло, – прохрипел Траян. – Впустите хоть немного света.
– Пожалуйста, – ответила Сабина, срывая одеяло. За окном, переливаясь в солнечных лучах, сияла лазурью гавань. Пустая гавань, подумала Сабина. Когда с Траяном случился удар, императорскую трирему поставили на якорную стоянку в ближайшем порту, в разрушенном, разграбленном и десятки лет заброшенном Селинусе, который с тех пор так и не был восстановлен. В пустых постройках у кромки пристани поселились какие-то бездомные и стая ворон. Увы, кроме этих ветхих строений, не нашлось ничего, что могло бы приютить захворавшего императора. Когда Траяна вынесли с триремы на берег, напуганные придворные были рады, что нашли хотя бы один дом, на котором еще оставалась крыша. На холме над городом Сабина заметила руины древнего храма, но в кои веки у нее не возникло желания отправиться туда, чтобы посмотреть на них вблизи.
– Подойти ко мне, моя девочка, – прохрипел Траян.
Она послушно подошла и опустилась рядом с ним на колени. За два дня он как будто усох и стал меньше ростом. Щеки впали, тело исхудало и теперь скорее напоминало скелет. Кожа на безвольных руках висела тряпкой. Рот перекошен, и казалось, будто на лице застыл кривой оскал. Правая половина тела была полностью парализована – Траян не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Дыхание вырывалось из груди сиплым хрипом.
Сабина взяла в обе ладони его руку и не ощутила ответного пожатия.
– Ничего, через несколько дней встану, – заверил ее Траян и закашлялся. Сабина просунула руку ему под плечи, помогая приподняться. – Самое большее, через неделю.
– Никто не сомневается, – заверила его Сабина.
– Я хочу написать письмо. О порядке наследования. Не волнуйся, это лишь мера предосторожности. Указания тому, кто сменит меня на троне.
– Но, – начала было Сабина. – Не то, чтобы я не одобряю, но зачем говорить об этом со мной?
– Потому что стоит мне завести этот разговор с кем-то из моих офицеров, все как один начнут предлагать себя. Я уже и так выслушал все, что хотел услышать на эту тему от Плотины, – Траян вновь закашлялся. – Ты же не станешь пытаться влиять на мой выбор, Вибия Сабина. Ты лишь выслушаешь меня, как настоящий солдат, не проронив при этом ни слова.
– Верно, – согласилась Сабина, чувствуя, как трепещет в груди ее сердце. – Так что же твой преемник?
– Хороший вопрос. Я собирался составить список, чтобы представить его сенату. В конце концов приходится считаться с этими старыми бездельниками. И я решил дать им на выбор пять имен.
– Понятно. И среди них Адриан?
– Упаси нас Харон.
Сабина облегченно вздохнула. Голова кружилась, как будто она перепила вина. Объявит ли Траян ее мужа своим преемником – этот вопрос не давал ей покоя вот уже несколько лет. Более того, он стал той пропастью, что разделила ее и мужа. И вот теперь его тяжесть свалилась с ее плеч.
Публий Элий Адриан императором не будет.
– Пять имен, – продолжал Траян. – Первыми в списке идут бывшие консулы Пальма и Цельс.
– Ты уверен, Цезарь? – С сомнением в голосе уточнила Сабина, мысленно возвращаясь к текущим делам. – Они оба, как бы это помягче выразиться… Помнится, ты сам как-то раз сказал, что Пальма вспыльчивый остолоп, а Цельс, хотя и честный человек, зато круглый дурак.
Впрочем, Траян ее не слушал.
– Третье имя – Люсий Квиет.
– Цезарь, сенат никогда не выберет бербера, – растерянно возразила Сабина. – Скажи честно, ты действительно взвесил все за и против, когда составлял этот список?
– Разумеется, моя девочка. А как иначе? – с едва заметной ехидцей в голосе ответил Траян. – Странно, что ты в этом сомневаешься. Сенат никого из них не выберет. Дураки, берберы и задиры не становятся императорами Рима. Сенат отметет этих троих без малейших колебаний и остановится на том имени, которое мне нужно.
– Понятно, – Сабина выгнула брови. – Ты хитер, Цезарь. Впрочем, я всегда знала, что ты не так прост, и эти твои солдатские замашки не более чем маска.
Траян попытался подмигнуть ей, но веко лишь слегка дернулось.
– Они выберут Гая Авида Нигрина. Вот кто и надежен, и честен. Не то, чтобы блистал умом или талантами, но по крайней мере в его руки мне не страшно отдать империю. Нигрин справится.
Сабина задумалась.
– Но ты назвал лишь четыре имени. Три кандидата для отвода глаз и один настоящий. Кто же пятый? Уж не бывший ли консул Сервиан?
– Эта старая черепаха? Ты с ума сошла?
– Но ты называл его имя раньше. Например, на одном пиру ты сказал, что из него вышел бы неплохой кандидат в…
– Я был пьян. Нет, пятое имя нуждается в моей поддержке на тот случай, если сенаторы откажутся выбрать Нигрина. И это имя Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин.
У Сабины от удивления отвалилась челюсть.
– Тит?
– А что такого? Я давно уже присматриваюсь к нему. Спокойный, трудолюбивый, честный. Прекрасная семья, горы денег. Кроме того, он неплохо зарекомендовал себя как квестор. И пусть душа его не лежит к военному делу, мужества ему не занимать. Например, недавно ему хватило смелости поймать за руку одного мошенника, и я чувствую себя перед ним в долгу. Нет, я бы даже сказал, весь Рим у него в долгу.
Сабина попыталась собраться с мыслями. Тит, при всем его обаянии в ее глазах всегда был милым занудой. И вот теперь он кандидат в императоры Рима?
– Но он еще слишком молод, Цезарь, – возразила она, собравшись с духом. – Сенат никогда не даст согласия, ему ведь еще нет тридцати пяти.
– Это почему же? – прохрипел Траян. – В свое время эти идиоты одобрили таких мерзавцев, как Нерон и Калигула, несмотря на их молодость. Так что если кандидатуру Нигрина отвергнут, а так наверняка поступят те, кто сами метят высоко, то сенат вполне может поддержать Тита. Если же они отдадут пурпурную тогу Нигрину, я заставлю его усыновить Тита.
Но ты не думай, это просто так, на всякий случай. Через пару дней я буду на ногах, и как только мы вернемся в Рим, я возьму Тита под свое крыло. Думается, небольшое руководство с моей стороны пойдет ему только на пользу. Дай мне пять лет, чтобы хорошенько его вымуштровать, и я без колебаний поставлю его имя в списке первым, – произнес Траян, надрывно дыша. – Пять лет, это все, о чем я прошу.
«Тит. – Чем больше Сабина размышляла над этой идеей, тем больше она ей нравилась. – Вот у кого нет ни единого врага. Скажи, сколько людей во всем мире могли бы сказать о себе то же самое?»
Сабине почему-то вспомнился Викс. Сейчас он наверняка, понурив голову и сжав в бессильной ярости кулаки, сидит где-то снаружи. И это Викс, который всю жизнь только и делал, что наживал себе новых врагов. Сабина с содроганием в сердце вспомнила крик, что вырвался из его горла, когда Траян рухнул на палубу.
– Найдется немало бесхребетных тварей, – пробормотал Траян. – Иное дело – честные и храбрые молодые люди. К тому же наш юный Тит одного врага себе все-таки нажил, хотя и сделал это ради меня, так что мне не к лицу жаловаться. Как бы то ни было, его имя стоит пятым в моем списке. Будь добра, позови Федима. Надо сделать список официальным. Федим – мой секретарь по наградам и повышениям. Он знает, что там нужно еще написать. – Не успел Траян сказать этих слов, как его вновь начал душить очередной приступ кашля. – Проклятье! И почему я так долго тянул с этим делом. Ведь мог все сделать еще лет пять назад.
– Ты был занят, покоряя мир, – мягко напомнила ему Сабина и вышла за дверь, где ее тотчас со всех сторон обступила толпа любопытных, желавших заглянуть в комнату к больному императору. Чтобы проложить себе дорогу, она даже была вынуждена работать локтями.
– Император не желает никого видеть, – громко произнесла она несколько раз, вновь протискиваясь внутрь, и захлопнула за собой дверь.
Федим оказался одним из траяновых вольноотпущенников. Стройный и красивый, он, войдя к больному, рухнул перед его постелью на колени и с пылом прижал к губам ослабевшую руку, из чего Сабина сделала вывод, что вряд ли его обязанности при императоре ограничивались ведением дел о наградах и повышениях.
– Цезарь, – прошептал он.
– Доставай свои перья, приятель, – прохрипел Траян и дрожащей рукой погладил его по щеке. – Только без рыданий. Напиши для меня письмо. Итак, «досточтимым сенаторам Рима». Дальше можешь продолжить сам. Ты ведь не хуже меня знаешь, как польстить этим заносчивым бездельникам.
Четким, аккуратным почерком Федим принялся писать послание сенаторам. И хотя слезы ручьями бежали по его лицу, перо его ни разу, ни на мгновение, не замедлило свой бег. Теперь оставалось лишь поставить на нем венценосную подпись. Сабина помогла Траяну слегка приподняться в постели, чтобы он мог поставить под посланием свое имя. Увы, рука его почти не слушалась, и подпись получилась корявая.
– Ну вот, – пробормотал он и, выронив перо, вновь откинулся на подушки. – Ты, Федим, какое-то время подержи его у себя. Пока я сам не сообщу эту новость Плотине и всем остальным. Может, даже завтра… – едва слышно проговорил Траян. – Сегодня у меня нет желания слышать ее змеиное шипение. Она и без того уже наверняка строит планы, не отравить ли ей меня, особенно после того как я разъярил ее в Антиохии.
Траян добавил что-то еще, но Сабина не разобрала его слов. Она лишь наклонилась и поцеловала его в лоб.
– А теперь отдыхай, – сказала она.
Кожа под ее губами была суха, как пергамент, и холодна, как лед. Федим, посмотрел на нее, – его опухшие глаза были полны слез, – и они вместе вышли из комнаты.
– Скажи, он умрет?
– Умрет, – честно ответила Сабина, закрывая за собой дверь.
Викс
Я стоял и смотрел, как умирает император. Вернее, я стоял рядом, но почему-то его не видел. Мои глаза отказывались взять в фокус его исхудавшее тело. Перед моим внутренним взором по-прежнему стоял другой Траян: триумфатор, въезжающий в Рим под рукоплескания толпы по возвращении из Дакии. Возвышаясь, словно колосс, на своей колеснице в центре парада, в моих глазах он был подобен богу: увенчанный лавровым венком победителя, с раскрашенным красной краской лицом. Мой император. Эта картина до сих пор стояла перед моими глазами, яркая и четкая, как будто триумф этот состоялся не десять лет назад, а всего неделю.
Крошечная комната, в которой он умирал, была полна народа, но я не различал лиц. В голове моей роились воспоминания.
Мне вспомнилось, как я шагал в своей львиной шкуре под палящим солнцем, а над моей головой в немом клекоте разинул клюв орел. Вспомнилось, как я вместе с другими легионерами поносил Траяна отборными проклятиями – старая солдатская традиция по поводу триумфа их предводителя. Впрочем, он прекрасно понимал, что на самом деле никакие это не оскорбления, а выражение любви и всеобщего восхищения. Лицо его расплылось под красной краской в улыбке, и он помахал рукой, мол, не стесняйтесь, давайте еще. Стоило зевакам заметить императора, как напиравшая с обеих сторон толпа взорвалась такими оглушительными криками, что я потом еще три часа ходил оглохшим. За спиной моего императора стоял раб, который нашептывал ему на ухо:
– Ты простой смертный, ты никто…
Еще одна старая римская традиция, которую я, впрочем, никогда не понимал. Какой смысл в минуты триумфа бубнить победителю на ухо, что он полное ничтожество. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что император расслышал хотя бы слово из того, что бормотал ему раб. Он был счастлив. Его лицо под лавровым венком, который он по-мальчишески сдвинул на затылок, сияло улыбкой, а людские толпы продолжали рукоплескать и восторженно выкрикивать его имя.
Странный народ, эти римляне. Ну, с какой стати им нужно, чтобы кто-то нашептывал богу, что он простой смертный?
В тесной комнате было душно. Офицеры Траяна толпились у стен. Между ними с несчастным видом застыли преторианцы, в чьи обязанности входило охранять жизнь императора. Но чем они могли помочь ему сейчас? По углам сбились в кучки вольноотпущенники, а в двух шагах от них, перешептываясь о чем-то, словно курицы-наседки, – сенаторы. Я как самый молодой и недавно назначенный командир стоял, оттесненный за чьи-то спины, но при моем росте мог неплохо все видеть поверх голов. Императрица подобно каменной статуе сидела на стуле рядом со смертным одром Траяна, держа мужу за руку. По другую сторону кровати Сабина соскользнула со стула и теперь стояла на коленях, прижав коротко остриженную голову к плечу умирающего. Мне было видно, как ее пальцы поглаживают его неподвижную руку. Веки ее были закрыты, но когда императорский лекарь попытался вновь завесить окно одеялом, чтобы в глаза Траяну не бил яркий солнечный свет, она резко подняла голову и сказала:
– Не надо. Он просил этого не делать.
– Но ведь…
– Не надо, кому сказано.
Плотина шумно втянула в себя воздух, как будто собралась отругать сноху на такую дерзость, но Сабина посмотрела на нее таким ледяным взглядом, что императрица предпочла промолчать. В комнате вновь установилось гробовое молчание, нарушаемое лишь шарканьем ног или редким покашливанием. Но громче всего раздавалось надрывное дыхание самого Траяна, которое с каждой минутой становилось все медленнее и медленнее.
– Выйдите все, – приказала Плотина. – Императору не пристало покидать этот мир среди такой толпы.
Сабина попробовала было ей возражать, но вереница вольноотпущенников уже устремилась к двери, и я вышел за ними вслед. Было свыше моих сил наблюдать за тем, как восковая фигура на кровати приближается к последней черте, свыше моих сил слышать, как с губ срывается хриплое, надрывное дыхание, видеть, как умирает мой император. Мой император – тот самый, за кем я прошагал всю Дакию и Парфию, тот, ради кого, я – будь на то его приказ – был готов ринуться в саму преисподнюю.
Половина солдат, уже не стесняясь, плакали. Рядом с закрытой дверью застыл, сложившись едва ли не вдвое, красивый секретарь. Плечи его содрогались от рыданий.
Я понуро побрел прочь, вон из этого неказистого, безымянного дома. Какое убогое, тесное место. Было нечто непристойное в том, что именно здесь испустит дух такой великий человек, как Траян. Ну почему он не погиб на поле боя? Последняя стрела последнего сражения за последнюю непокоренную провинцию этого мира – пусть бы она пронзила сердце ему, а не его последнему врагу. И вот теперь Траян покидает этот мир, лежа в пыльном, мертвом городе, полном призраков прошлого.
Я прошел мимо каких-то полуразрушенных хижин, вдоль дороги, на которой не хватало половины камней, которыми она кода-то была вымощена. Впрочем, дорога по-прежнему змеилась вверх по склону холма, ведя к храму, хотя сам храм давно стоял пустой и без крыши. В нем давно не обитал ни один бог.
Прекрасный солнечный день, ослепительно-лазурное море. Может, было бы лучше, если бы небеса вдруг разверзлись дождем, оплакивая уход из жизни великого императора?
Я поднялся по замшелым, растрескавшимся ступеням в храм. Возможно, это был храм Юпитера, а может, какого-то другого, неизвестного мне божества. Сейчас же от него оставалось лишь несколько полуразрушенных колонн на поросшем мхом фундаменте. Мне показалось, будто одна колонна устремилась на меня и больно ударила по больному плечу. Но нет, это я привалился к ней и обхватил ее дрожащими руками. Раненое плечо горело огнем. Как и мои глаза. Должен ли плакать солдат, когда умирает его генерал?
Не знаю, сколько я там простоял, прижимаясь, дрожа всем телом, к этой колонне. Знаю только, что спустя какое-то время я поднял голову и как в тумане осмотрелся по сторонам. Мой взгляд упал на Сабину.
Она застыла на другом конце храма, одетая все в ту же мятую одежду, в которой проходила весь день и ночь, ухаживая за умирающим. На фоне величественных колонн ее фигурка показалась мне совсем крошечной. Воспаленные глаза горели от непролитых слез. Шатаясь, словно пьяный, я сделал шаг ей навстречу, затем другой…
Она раскрыла мне объятья. Я рухнул в них и тяжело опустился на колени.
– Он умирает, – прошептал ей куда-то в талию.
– Тс-с, – сказала она, и ее пальцы пробежали по моим волосам. Из моего горла вырвался первый всхлип.
– Он умирает, он умирает.
– Тише, любовь моя, – прошептала Сабина, как когда-то давно шептала мне в Дакии после того, как я убил на каменном диске тамошнего царя. Тогда я схватился за нее, словно утопающий. И вот теперь она вновь крепко обнимала меня, как будто в очередной раз не давая мне утонуть; я же лил слезы, воя и стеная в ее тонкую тунику.
Мира наверняка постаралась бы меня утешить. Она велела бы мне не плакать, попыталась бы убедить, что, покинув этот мир, Траян обретет вечное блаженство и покой. Сабина же просто прижимала меня к себе. Опустившись на пол там же, где и стояла, она села на поваленную колонну, положила мою голову себе на колени и, обняв за плечи, позволила мне выплакаться, словно маленькому ребенку.
В конце концов слезы мои иссякли, но я даже не пошелохнулся, оставаясь лежать в объятиях той, которую когда-то любил и ненавидел. Солнце тем временем село, и на небе взошла луна, дневной зной сменился ночной прохладой. И как только этот мир может жить дальше, как будто ничего не изменилось? Лично для меня изменилось все.
– Вставай, Викс, не то замерзнешь, – Сабина осторожно помогла мне подняться на ноги. Я встал, как во сне, смутно понимая, что ждет меня, словно вол в ожидании острого жреческого ножа. Я был римским солдатом. Я привык идти туда, куда мне приказано. Кто же теперь отдаст мне приказ? Ведь моего генерала больше нет в живых.
– Пойдем отсюда, – сказала Сабина. Я взял ее протянутую руку и позволил ей повести меня за собой. Какой-никакой приказ. Других нет.
Дом, где лежал Траян, встретил нас мертвой тишиной. Вокруг дома, отгоняя любопытных, плотным кольцом застыли преторианцы. Рядом, словно тигры в клетке, расхаживали солдаты: кто-то с заплаканным лицом, кто-то от ужаса бледный как мел. «Им полагается быть внутри», – подумал я. В его последний час рядом с Траяном должны быть те, бок о бок с кем он сражался почти всю свою жизнь, а не эта старая карга, императрица, которая, словно стервятник, ждет, когда же он наконец испустит дух.
Впрочем, Сабина обошла толпу стороной и привела меня в другой дом. Скорее даже не дом, а четыре полуразрушенные каменные стены, на которых каким-то чудом уцелела крыша. Достав откуда-то походную постель, она ловко и аккуратно – совсем как в те времена, когда она сопровождала в походе наш Десятый, – раскатала ее на земляном полу и велела мне лечь. Укутав меня одеялом под самый подбородок, она взяла мою руку в свою, а сама свернулась калачиком у стены.
Когда я рано утром открыл глаза, она по-прежнему лежала, свернувшись калачиком рядом со стеной.
В следующее мгновение до нас дошло, что нас кто-то запер снаружи.
Плотина
– Молодец, – в знак благодарности Плотина протянула руку коренастому преторианцу в красно-золотых доспехах. – Убедительности тебе не занимать. Ты обманул их всех. Надеюсь, никто ничего не заподозрил.
– Я не люблю обманывать людей, домина, – ответил преторианец, растерянно переминаясь с ноги на ногу. – Ты уверена, что в этом была необходимость?
– Еще какая! – Плотина одарила его своей самой убедительной улыбкой. – Теперь весь Рим у тебя в долгу. Впрочем, и я тоже.
– Ну, если ты так говоришь…
– Говорю. И то же самое тебе сказал бы сам император, – Плотина взяла холодную руку мужа и нежно ее погладила. – То есть бывший император. Новый император отблагодарит тебя, как только прибудет сюда.
– Да, госпожа.
– А теперь можешь идти. И никому ни слова.
– Слушаюсь, госпожа, – ответил преторианец и вышел за дверь.
Впрочем, было видно, что ему не по себе. Плотина была в этом уверена.
– Пожалуй, мне придется кое-что предпринять по этому поводу. Что ты скажешь? – сказала она, обращаясь к мертвому мужу. – Как тебе неосторожное падение со скалы? Ведь оступиться может любой.
Труп ее мужа молчал. Тело Траяна успело остыть и окоченеть, став твердым и холодным, как мрамор. Впрочем, груда наваленных на него одеял скрывала сей прискорбный факт.
– Надеюсь, ты не сердишься на меня? – обратилась к мужу Плотина, опускаясь на стул рядом с его кроватью. Ей даже в голову не пришло перейти на шепот. Не пристало императрице действовать с оглядкой, пусть даже у стены, в ожидании, когда в них возникнет необходимость, застыл десяток рабов. Ведь им всем до одного известно, что посмей хоть кто-то проговориться о том, чему они стали свидетелями, как их ждет смерть. – Это такой небольшой обман, дорогой муж. Мы объявим о твоей смерти, как только сюда из Антиохии прибудет дорогой Публий. А пока пусть все думают, что ты еще жив. Поверь, так будет легче передать власть. Ты же знаешь, что я всегда помогала тебе сглаживать острые углы.
Преторианец и впрямь отлично выполнил порученное ему дело. Голос у него был хриплый, почти как у его императора. Стоя, спрятанный в тени за пологом, он прочел по табличке написанные Плотиной фразы. Ей же самой оставалось лишь гладить мертвую руку мужа и проронить несколько слезинок. Писарь записал последнюю волю Марка Ульпия Траяна, правда, сделал это, сидя в дальнем углу, под впечатлением важности момента. Свидетели тоже столпились на почтительном расстоянии, в дальнем конце тускло освещенной комнаты. Плотина разрешила им войти лишь на короткое время, когда с приготовлениями к спектаклю было покончено. Кроме того, большинство вошедших продолжали лить слезы, и потому вряд ли могли заметить, что грудь императора, под грудой наваленных на него одеял, уже давно не вздымается дыханием. Сабина наверняка бы это заметила, но Сабины здесь не было. Плотина позаботилась о том, чтобы не допустить сюда эту мерзавку.
– Я ничего дурного ей не сделала, если это именно то, что ты хотел бы от меня услышать, – оправдывалась Плотина, обращаясь к мертвому мужу. – Лишь заперла ее на несколько дней, пока все не уладится. Знаю, ты любил эту девчонку, но, согласись, у нее имеется привычка совать нос не в свои дела. Так как я могла такое позволить? – Плотина на минуту задумалась. Эта девчонка с ее непристойными платьями, острым языком и странными представлениями о благотворительности теперь фактически заняла ее место – место первой женщины Рима. Плотина впервые осознала это со всей остротой.
«И эта сквернословка теперь императрица? Это мы еще посмотрим». В конце концов для этой потаскушки Сабины найдется другая роль. В скором времени, без лишней огласки, дорогой Публий может легко с ней развестись. Ее близость к Траяну сделала свое дело, и теперь ее место может занять другая – более покорная, более сговорчивая. Например, ее младшая сестра. И если найти в законе соответствующую лазейку…
Пока же ей удалось на время ловко устранить Сабину, а это самое главное.
– Это было даже забавно, – заверила Плотина мужа. – Мой маленький обман с твоим завещанием. Настоящая комедия. Честное слово, ты бы сам наверняка смеялся. И, разумеется, я выполнила твою последнюю волю. Согласись, ты ведь тоже выбрал бы в качестве преемника дорогого Публия. Знаю, ты был сердит на меня за мои скромные старания, но я отлично знала, что делаю. Если бы только ты дал мне возможность все тебе объяснить, ты бы сам наверняка меня понял.
Сухие губы Траяна начали постепенно растягиваться в оскале, как будто он хотел зарычать на нее.
– Только не ворчи, дорогой. Лично я на тебя не сержусь, несмотря на все те гадости, что ты бросил мне в лицо в Антиохии. В конце концов все получилось как нельзя лучше.
Нет, не иначе как ей посодействовала Юнона. Богиня протянула с небес руку, чтобы спасти сестру. Всю дорогу от Антиохии Плотину не отпускал ужас, стоило ей представить себе, что ее ждет в Риме – скандал, позор, всеобщее презрение. Траян вполне мог с ней развестись, и это после всех ее трудов, всех ее стараний. А все из-за этого хорька, Тита Аврелия, чьей наградой наверняка стало то, что дорогому Публию принадлежит по праву рождения. Что же мне делать? Что делать?
К тому моменту, когда наконец Юнона взяла все в свои руки, Плотиной уже владела паника.
– Ты должен гордиться, – сказала она мужу. – Только небесная царица могла поразить земного бога, как ты.
Раздался стук в дверь. Плотина вздрогнула, затем поднялась со стула и спешно задернула полог, чтобы скрыть неподвижное тело Траяна.
– Императора нельзя беспокоить.
– Извини, домина, – в комнату, вертя в руках свиток, торопливо вошел молодой секретарь. – Я не хотел… кстати, как он?
– Отдыхает, – ответила с улыбкой Плотина. – Он слишком утомился, диктуя свою последнюю волю. Думаю, ему осталось недолго.
Перед тем как Траян окончательно испустил дух, она на всякий случай влила ему в рот снотворный отвар. Нет-нет, у нее и в мыслях не было его отравить. Она дала ему выпить совсем немножко, чтобы погрузить его в сон, а отнюдь не в небытие. Она на всякий случай выставила посторонних из комнаты, так что Траян отошел в мир иной тихо, без свидетелей. Впрочем, если подумать, она все же дала ему выпить чуть больше, чем следовало. «Странно получается, однако. Я только что сделала все для того, чтобы он без лишних страданий ушел из жизни, и вот теперь вынуждена притворяться, что он все еще жив!»
– Видишь ли, госпожа, у меня возникли кое-какие вопросы, – не унимался секретарь. – Меня удивляет то, что император неожиданно передумал. Ведь накануне он продиктовал мне письмо…
Плотина выхватила свиток из его рук прежде, чем он протянул его ей.
– Неужели?
– Да, это список его возможных преемников для сената. Как я уже сказал, довольно странно, что он так резко изменил свое решение.
– Такое нередко случается с людьми на смертном одре.
Плотина быстро пробежала глазами список: Цельс, Пальма, Квиет, Нигрин… что ж, видимо, придется что-то с ними делать. Затем ее взгляд упал на последнее имя, и сердце ее затрепетало от радости.
Тит Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин.
Впервые это имя наполнило ее ликованием, вместо того, чтобы отозваться железным молотом в висках. Тит. Вот с кем она еще сведет счеты.
– Спасибо, что принес его мне. – Плотина вновь повернулась к секретарю. Она даже не пыталась скрыть свое ликование. – Твое имя Федим, я правильно помню?
– Да, госпожа, – ответил секретарь. Впрочем, взгляд его заплаканных глаз был прикован к кровати, на которой, под ворохом одеял лежало бездыханное тело. Красивый юноша, отметила про себя Плотина. Явно из числа траяновых любовников. Она улыбнулась ему, а затем крикнула:
– Стража!
На ее зов в комнату шагнул все тот же коренастый преторианец.
– Уведи его отсюда и избавься от него, – с этими словами Плотина скрутила свиток и, понизив голос до едва слышного шепота, чтобы ее не услышал никто посторонний, добавила: – Можешь столкнуть его со скалы. Сделай так, чтобы это было похоже на самоубийство, и тогда тебя ждет тугой кошелек.
Преторианец даже не моргнул глазом.
– Слушаюсь, госпожа.
Что ж, значит, она в нем не ошиблась. О боги, верные люди в наши дни такая редкость! Жаль, правда, что и он через день-другой тоже последует за секретарем с утеса.
– Госпожа, – когда преторианец схватил его, секретарь был скорее растерян, нежели напуган. – В чем дело…
Плотина не говоря ни слова, швырнула письмо Траяна с его дурацким списком в светильник. Вверх тотчас взвился яркий язык пламени.
– Госпожа, погоди!
– Никому не входить, – приказала Плотина, как только преторианец выволок Федима за дверь. – Я не позволю, чтобы кто-то нарушал покой императора.
Дверь со стуком захлопнулась. Письмо тем временем превратилось в горстку пепла. Плотина отряхнула пальцы и повернулась к мужу.
– Тит Аврелий, говоришь? – укоризненно сказала она. – Нет, Траян, и о чем только ты думал?
Муж ответил ей застывшим навсегда оскалом. Может, он тем самым хотел сказать ей, что он раскаивается?
– Думаю, о твоей смерти можно будет объявить уже утром, – сказала она, возвращаясь к его изголовью. – До того, как ты начнешь… вонять. И как только прибудет дорогой Публий, мы сложим здесь погребальный костер, а в Рим отвезем твой пепел. Я велю, чтобы его, мой дорогой, захоронили под твоей триумфальной колонной. Той самой, на которой запечатлены твои победы в Дакии.
Сев рядом с бездыханным телом мужа, Плотина наклонилась, чтобы убрать со лба седую прядь.
– За тридцать лет супружества я ни разу не видела тебя таким счастливым, как на том триумфе. Ты был просто чудо, настоящий красавец воин. Ну почему ты не позволил мне иметь детей? Мы бы дали начало расе богов!
Плотина зевнула. Она даже не заметила, как подкрались сумерки. О боги, как же она устала! Как только она вернется в Рим, честное слово, она не встанет с кровати целую неделю. Будет отсыпаться после всех передряг.
– Ты не против, если я чуть-чуть вздремну? – спросила она у мужа, свернувшись рядом с ним в клубок на ворохе одеял. – Мы ведь никогда не делили с тобой постель. Даже в нашу первую брачную ночь. О боги, какой же ты холодный! Верно говорят, хорошего понемножку.
И, положив голову на холодное плечо мужа, императрица Помпея Плотина сладко уснула.
(обратно)
Глава 27
Сабина
Громко топая, Сабина ворвалась в комнату, которую Плотина превратила в свой рабочий кабинет. При виде ее бывшая императрица учтиво склонила голову.
– Моя дорогая, – лицо вдовы озарила
улыбка. – Боюсь, что последнее время я обделяла тебя своим вниманием. Что поделать, дела, хотя это вряд ли может послужить оправданием. Ведь как-никак теперь ты императрица Рима.
Сабина даже не остановилась, чтобы задуматься о своем нынешнем титуле, хотя услышала о нем впервые. Подскочив к столу, она с размаху ударила Плотину по лицу, наградив бывшую императрицу, нет, не изящной женской пощечиной, а по-настоящему врезав ей кулаком, так центурионы обычно ставят на место бунтовщиков. От удара, пронзив ее тело подобно острию копья, пробежала сладкая волна.
– Сука! – процедила она сквозь зубы, с трудом сдерживая себя, чтобы не сорваться на крик. – Ты не хуже меня знаешь, что Траян скорее бы умер, чем назначил своим преемником твоего дорогого Публия.
Рабы, не дожидаясь, пока их выставят из комнаты, сами потянулись к выходу.
– Но Траян мертв, – невозмутимо ответила Плотина, хотя одна щека ее пылала огнем. – И я с радостью говорю тебе, что перед тем, как душа его отлетела к богам, он изменил первоначальное решение. Ему хватило сил продиктовать сенату письмо, в котором он объявлял свой выбор.
– Письмо, которое подписала ты. Скажи, ты когда-нибудь раньше подписывала за него документы?
– Дорогая моя. Он был так слаб, что перо валилось у него из рук.
– Так слаб? Он уже был мертв! Он умер, и ты за него продиктовала это письмо!
– Императрица не обязана верить столь возмутительным слухам.
Сабина уселась на ближайший стул и вызывающе закинула ногу на ногу, прекрасно зная, что тем самым злит Плотину.
– И это твое письмо единственное доказательство.
– Не скажи, – Плотина уселась за складным столом, столом Траяна.
Траяновы лампы, траяновы ковры, траяновы ложа – все это было перенесено на берег с триремы в эту тесную и сырую каменную комнатушку с тем, чтобы обеспечить императрице – бывшей императрице – необходимый уют.
– Мой муж лично объявил о своем намерении усыновить Адриана, сделав его своим сыном и наследником. Тому есть свидетели.
– Как же, как же, наслышана о них. Стояли, забившись по углам темной комнаты, пока ты рыдала, взяв за руку мертвеца. Если бы тебе действительно нужны были свидетели, то почему ты не пригласила меня?
– Мне сказали, будто ты в постели со своим новым любовником. Кстати, это правда, что он легионер?
Сабина расхохоталась.
– Это все, что ты могла придумать? Приказать запереть меня, пока я пыталась утешить безутешного легионера, кстати, одного из лучших его офицеров! Более того, в отличие от тебя он оплакивает императора куда искреннее, со всей страстью сердца.
– Ну, вопрос страсти мы оставим тебе, Вибия Сабина. Куда мне до тебя. Из нас двоих главный знаток таких мерзостей – это ты.
Плотина вновь потянулась к раскатанному на столе свитку и принялась что-то быстро записывать, Сабина несколько секунд наблюдала за ней, чувствуя, как ее саму изнутри душит гнев.
– Ты еще за это поплатишься, – заявила она наконец, отбросив всякий холодный расчет.
– За что? – Плотина даже не подняла на нее глаз. – Дорогой Публий наверняка уже получил письмо, в котором император извещает его об усыновлении. Я отослала депешу еще до того, как Траян умер, причем самым быстрым судном. Этим же судном Адриан вернется сюда, чтобы взять на себя проведение похорон, после чего вернется в Рим. Сенат уже оповещен о его возвращении. Так что одобрение его кандидатуры будет получено в ближайшую неделю или две. Легаты и офицеры получили приказ оповестить свои легионы о…
– Что стало с подлинным завещанием? – перебила ее Сабина. – Куда подевался список кандидатов, который император намеревался отправить сенату, чтобы тому было из кого выбрать нового императора? Тит…
– Первый раз о таком слышу! – Плотина изобразила изумление. – Мы тщательно просмотрели бумаги моего мужа. Увы, как я и предполагала, в них царил полный беспорядок. Федим, его вольноотпущенник, который оповещал о новых назначениях, наложил на себя руки. Как это, однако, благородно – последовать за своим императором в могилу! Правда, я предпочла бы, чтобы перед тем, как броситься с утеса, он навел порядок в императорских бумагах.
По спине Сабины ледяной змейкой пробежал холодок.
– Я присутствовала, когда Траян диктовал свою последнюю волю, – в ужасе выдавила она. – Я знаю, какие имена были в том письме, и я расскажу всем, что в том списке имени Адриана не было. Неужели тебе хватит дерзости избавиться от меня с той же легкостью, с какой ты избавилась от несчастного вольноотпущенника?
– Нет. Но скажи, кто поверит тебе? Женщине, которая водит дружбу с сомнительными личностями? Которая, запирается с любовником, – и это когда император, который, между прочим, приходится ей родственником, – лежит на смертном одре! Кстати, и любовник далеко не первый. Можно подумать, я не видела, как до отъезда в Антиохию ты крутила любовь с юным Титом Аврелием. Интересно, многим ли известно о ваших с ним отношениях? Не говоря уже о других твоих мужчинах.
Сабина негромко усмехнулась, как будто то, что услышали ее уши, было не более чем досужими разговорами за пиршественным столом.
– То есть ты решила запятнать репутацию жены твоего дорогого Публия именно тогда, когда его собственная должна выглядеть безупречно? Что ж, давай, Плотина. Я не буду тебе мешать. Раструби всему Риму, что все эти годы твой дорогой Публий был женат на шлюхе, что своим поведением я выставляла его на посмешище, гуляя за его спиной с грязной солдатней. Уверяю тебя, твой дорогой Публий будет благодарен тебе по гроб жизни.
– Дорогой Публий и так благодарен мне. Ведь это я сделала его императором Рима, – самодовольно заявила Плотина. Она явно гордилась собой. – Думаю, Вибия Сабина, с тобой мне придется заключить сделку иного рода. Согласна, в прошлом между нами было немало противоречий, что, однако, не мешает нам заключить новый союз. Я не стану чернить твою репутацию, ты же, когда сюда прибудет твой муж, встретишь его, как и подобает жене. И, разумеется, наденешь нечто более приличное, чем эта полупрозрачная тряпка.
– Умри, но медленно, Плотина, – отчетливо процедила сквозь зубы Сабина, поднимаясь с места. – О боги, была ли когда-нибудь на свете большая сука и интриганка, чем ты, бледная страхолюдина!
С этими словами она развернулась и направилась к двери.
– Научись следить за своим языком! – крикнула ей в спину Плотина. Сабина была готова поспорить, что услышала в ее голосе улыбку. – Римской императрице не пристало сквернословить.
Тит
Когда Тит шагнул в атрий, дом Норбанов встретил его странной тишиной. Раб, который провел его внутрь, был бледен и не решался посмотреть ему в глаза. Взяв у Тита плащ и спросив, к кому, собственно, пожаловал гость, он поспешил скрыться в доме. Странно.
Когда всего пару дней назад Тит, рука об руку с Фаустиной – оба мокрые до нитки после купания в бассейне – шагнули в этот же самый атрий, чтобы просить у ее отца согласия, дом от входной двери до самой крыши гудел поздравлениями. Кальпурния осыпала обоих поцелуями. Маркс сиял от счастья. Братья Фаустины отпускали в адрес сестры в мокром платье едкие шуточки, рабы многозначительно перешептывались. «Я же тебе говорил», – доносилось со всех сторон.
И вот теперь дом встретил его мертвой тишиной, словно склеп.
«Им уже все известно, – подумал он. – Что ж, оно даже к лучшему».
– Фаустина!
Тит обнаружил ее в саду. Одетая в платье персикового оттенка, Фаустина сидела, задумчиво глядя в фонтан.
– Ты слышал. Я дала согласие.
Тит наклонился и поцеловал золотистые волосы своей нареченной.
Нареченная. Невеста. Будущая жена. Эти слова вот уже несколько недель он произносил, упиваясь их сладостью. И все они прекрасно сочетались со словом «моя».
Фаустина подняла на него глаза. Но что это? Куда подевался их прежний огонь, куда исчезла ее улыбка? Ее темные глаза были широко раскрыты, но взгляд был отрешенным, отсутствующим.
– Он умер, – еле слышно произнесла она.
– Я знаю, – отозвался Тит и сглотнул застрявший в горле комок.
Первой это печальное известие ему сообщила Энния. Как ни странно, именно его экономка-вольноотпущенница оказалась в курсе последних новостей, а отнюдь не он сам, один из самых богатых людей в Риме. А все потому, что у нее был брат, который работал в доках на Тибре, и в тот день, когда Энния отправилась проведать его, в порт вошел корабль под черными парусами. Она тотчас, не раздумывая, бегом вернулась в дом Тита. Запыхавшись, она вбежала к нему в кабинет, где он сидел, изучая отчеты о поддержке сирот и строя счастливые планы по поводу предстоящей свадьбы. Сколько гостей пригласить на пир? Какое кольцо предпочтет Фаустина – традиционное железное или новомодное золотое? Тит задумчиво рисовал на полях восковой таблички ее профиль, когда на пороге, надрывно дыша от быстрого бега, выросла Энния – бледная, что смотрелось довольно странно при ее оливковой коже, – и сообщила ему известие, которое еще не успело стать достоянием всего Рим.
«Умер Траян».
– Вряд ли кто-то об этом знает, – сказал Тит, обращаясь к Фаустине. – Сначала должны официально оповестить сенат, хотя…
– Разумеется, пока никто ничего не знает. – Фаустина недоуменно посмотрела на него. – Потому что это случилось всего час назад.
– Что? – не понял ее Тит.
Фаустина задумчиво покачала головой.
– Отец.
На какой-то миг Тит утратил дар речи и судорожно попытался подыскать нужные слова.
– Твой отец? – наконец выдавил он.
– Мама нашла его за рабочим столом, – едва слышно ответила Фаустина. – У него был такой умиротворенный вид, что она поначалу решила, что он спит. Просто задремал над своими книгами. Но когда она окликнула его…
Тит тяжело опустился рядом с ней на скамью и обнял за плечи. Траян мертв. Марк Норбан мертв. О боги, нет! Нет! Нет!
Все – вся его жизнь – изменилось в одночасье.
– Что ты сказал? – переспросила Фаустина, поднимая на него полные слез глаза. Ей стоило немалых усилий, чтобы не разрыдаться. – Умер кто-то еще?
Тит помедлил с ответом, не решаясь сказать ей правду.
Она потеряла отца. Не стоит расстраивать ее еще больше. Но Фаустина была далеко не тем нежным цветком, который увял бы при первом дуновении холодного ветра. Если что-то и роднило ее с Сабиной, так это стойкость и выдержка.
– Траян.
При этом слове из ее глаз хлынули слезы. Тит держал ее в объятиях, не стесняясь того, что его собственные глаза тоже были на мокром месте. Сидя на мраморной скамье, они прижались друг к другу: Фаустина, словно ребенок, зарылась заплаканным лицом в его плечо, Тит – в ее душистые, шелковистые волосы.
– Я даже рада, что отец об этом не знает, – наконец Фаустина выпрямилась и вытерла тыльной стороной ладони последние предательские слезы. – Он боготворил Траяна. И кто теперь новый император?
Тит помедлил. Честный ответ дался ему нелегко.
– Твой деверь Адриан.
Фаустина остолбенела.
– Адриан? Но откуда это известно? Ведь сенат еще…
– Траян провозгласил его своим преемником на смертном одре. Эта весть уже наверняка разнеслась по всему городу.
Весть, которая по идее не должна была просочиться прежде, чем о смерти Траяна станет известно сенату, но каким-то странным образом стала всеобщим достоянием. Интересно, причастна ли к этому императрица, задумался Тит. Сенату будет гораздо труднее противостоять кандидатуре Публия Элия Адриана после того, как по всему Риму разнесся слух о том, что Траян, будучи на смертном одре, якобы усыновил его и назначил своим преемником. Фаустина растерянно покачала головой.
– Адриан, – повторила она. – Траян ни за что бы его не выбрал!
«Разумеется, особенно после того, как получил мое письмо». А в том, что Траян получил его письмо, сомнений у Тита не было. Император прислал ему короткое послание, в котором поблагодарил за труды, а заодно упомянул о каком-то длительном поручении, которое возложит на него по возвращении в Рим. У меня для тебя большие планы, мой мальчик, писал Траян своим размашистым солдатским почерком.
И вот теперь все это в прошлом. Для него, но только не для императрицы Плотины, у которой наверняка имеются свои планы. Титу вспомнилось злобное выражение ее лица, когда он явился к ней со своими обвинениями, вспомнилось, как страшно ему было в те мгновения повернуться к ней спиной, как будто она в один прыжок, могла, словно гигантский паук, вцепиться в его голую шею.
«Тебе ничего не грозит», – успокоил он тогда себя. Императору известна правда. Он не станет слушать ее лживые речи. А когда Траяна не станет, она больше не будет императрицей и не будет иметь никакого влияния на государственные дела.
Нет, он никак не ожидал, что Траян уйдет из жизни так скоро. Разве он мог предвидеть, что Плотина в конце концов добьется своего, что ей удастся облечь своего дорогого Публия в пурпурную императорскую мантию? Теперь же Адриан официальный преемник Траяна. И наверняка ей за это благодарен. Тит словно наяву, как будто Плотина стояла с ним рядом, услышал, как она прошипела ему на ухо:
– Ты у меня еще за это поплатишься!
– Тит? – голос Фаустины вывел его из задумчивости. Негромкий, сладкий словно мед, голос, от звуков которого у него в груди начинали звучать струны невидимой лиры. – Вернись, ты унесся в своих мыслях за тысячу миль.
– Я просто задумался о том, как это воспримет твоя сестра, – солгал он и даже заставил себя выдавить улыбку. – Императрица Сабина. Не думаю, что она будет в восторге.
– Зато буду я! – Фаустина тоже попыталась улыбнуться, хотя глаза ее оставались печальны. – О боги! Поверь, мне все равно, кто станет новым императором, Адриан или кто-то другой. Мне все равно, станет ли моя сестра императрицей. Честное словно, мне это безразлично. Но отец… Траян. Лучшие люди Рима, и вот теперь их нет. Они мертвы.
«Так же, как и я», – подумал Тит.
Сделав глубокий вздох, он произнес это вслух. Собственно говоря, именно за этим он сюда и пришел: выдавить из себя эти слова, что колючим комом застряли у него в горле, пока он шагал к дому Норбанов.
– Я не могу взять тебя в жены, Фаустина. Ни сейчас. Ни вообще.
Фаустина резко вскинула голову и посмотрела ему в глаза.
– Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за мертвеца, – добавил он убитым голосом. – Плотина давно мечтает разделаться со мной – с того момента, как я поймал ее за руку. И вот теперь ее мечта сбылась. Адриан – император. И ей ничто не мешает отомстить мне.
– Но это полный абсурд! – возразила Фаустина, и щеки ее зарделись. – Скажи, зачем Адриану…
– Он невзлюбил меня еще во время похода в Дакию. Тогда я выставил его посмешищем перед Траяном.
Впрочем, была и другая причина, но говорить о ней Фаустине лучше не стоит. В ту ночь, когда он поцеловал ее сестру, Сабину, Плотина застала их вместе. Она наверняка уже доложила об этом своему дорогому Публию. Тот же не привык смотреть на такие вещи сквозь пальцы. В общем, у нового императора не было никаких причин благоволить Титу, скорее, наоборот.
– Если Сабина станет императрицей, она этого не допустит.
– Настоящей императрицей ей никогда не стать. Власти у нее не будет никакой.
Титу вспомнилась длинноногая девушка, сенаторская дочь, разложившая на полу карту мира, как она буквально пожирала ее глазами, мечтая посетить далекие страны. «Моя бедная девочка, отныне тебе сидеть взаперти».
– Мой отец, – подала голос Фаустина, однако тотчас же осеклась. Еще вчера Тит мог рассчитывать на защиту Марка Норбана. Даже Адриан был бы вынужден считаться с мнением такого человека, как ее отец. Тит наверняка пришел к нему за советом: как ему избежать возможной мести со стороны Плотины. Но Марка Норбана больше нет.
– Ты сама понимаешь, почему я не могу на тебе жениться, – Тит отпустил ее руки и осторожно отодвинул их от себя. – Ты заслуживаешь мужа, который проживет не один год…
– Замолчи! – крикнула Фаустина, вскакивая на ноги. – Ты думаешь, что от меня так легко избавиться?
Он поднял на нее глаза. Как же она прекрасна! Высокая, стройная, нежная… И, самое главное, она в безопасности. По крайней мере до тех пор, пока не вышла за него замуж. Потому что, на ком бы он ни женился, в течение года эта женщина станет вдовой. Или же отправится вслед за ним.
При этой мысли его сердце болезненно сжалось.
«Я не могу», – подумал он. Но боль, словно хищная птица, терзала его внутренности острыми когтями. О Боги, я не могу ее потерять. Ведь я только что ее нашел!
«Прекрати стенания, – мысленно осадил себя Тит. – Она не для тебя. И никогда ею не была».
– Мне пора, – сказал он вслух, вставая с мраморной скамьи. – Передай матери мои соболезнования. И будь добра, объясни ей, почему я не могу присутствовать на похоронах твоего отца. Так будет лучше для нас обоих.
Глаза Фаустины вновь наполнились слезами, но она из последних сил делала мужественное лицо.
– На самом деле, ты ведь так не думаешь, – прошептала она.
Тит отвел взгляд.
– Мне лучше уйти. – Да, так действительно будет лучше, прежде чем весть о смерти Траяна погрузит Рим в состояние безумия.
Лишь бы она не расплакалась, лишь бы не стала хватать его за руку, не стала бы умолять, чтобы он остался. И верно. Фаустина гордо вскинула голову и лишь протянула руку, чтобы поправить складки на его тоге. Увы, все обернулось еще хуже. Сделав шаг ему навстречу, она взяла его лицо в свои ладони и припала к его губам в поцелуе. Его руки тотчас обхватили ее за талию, и ее губы раскрылись навстречу его губам, словно лепестки розы.
«Прекрати», – подумал Тит, однако продолжил жадно пить нектар с ее губ, понимая, что совершает непростительную ошибку. Его руки скользили по ее телу – по тонкой талии, по холмикам грудей, по шелку волос. Она же в ответ всем телом прижалась к нему, отдавая себя его ласкам. В следующую секунду платье соскользнуло с ее плеча, и его губы ощутили теплый шелк ее кожи. Фаустина едва слышно что-то прошептала, увлекая его за собой, пока они не уперлись в стену дома, где их никто не мог увидеть, ни из сада, ни из атрия. Затем мгновение – платье соскользнуло со второго плеча. Тит с головой окунулся в исходивший от нее аромат гиацинтов.
На противоположной стороне доме стукнул ставень – кто-то открыл там окно, затем до Тита донеслись женские рыдания. Наверно, одна из рабынь, убирая комнату, оплакивает своего господина, подумал он и тотчас же устыдился самого себя. «Не прошло и часа, как я узнал о смерти императора, и вот теперь я раздеваю его внучатую племянницу! Более того, дочь Марка Норбана…»
Фаустина тоже притихла в его объятиях, как будто внезапно поняла, что кроме них двоих существует еще целый мир, и этот мир напугал ее.
– Мой отец мертв, – прошептала она сдавленным голосом и прижалась щекой к груди Тита. Он нежно обнял ее за плечи. С другой стороны дома вновь донесся стук ставень – на этот раз кто-то захлопнул окно – и очередной всхлип. Должно быть, все та же рабыня. Впрочем, вскоре в сад на поиски Фаустины пришлют еще кого-нибудь. Он осторожно отстранил ее от себя. Как ни странно, это далось ему даже с большим трудом, чем оторваться от ее губ.
– Ты рассчитывала соблазнить меня, чтобы потом я был вынужден на тебе жениться? – голос Тита прозвучал на удивление твердо. Тем временем его рука вернула ей на плечи платье. – Боюсь, из этого ничего не выйдет.
– Не то, чтобы рассчитывала, – ответила Фаустина, глядя ему в глаза, – но, с другой стороны, почему бы нет?
Тит окинул ее взглядом: светлые волосы выбились из прически, губы распухли от поцелуев, глаза покраснели от слез. Но вот голос был тверже стали.
– Я никому тебя не отдам, Тит.
– Но ведь мне грозит смерть! Неужели ты этого не поняла? – бросил он ей. – Как только на голову ее дорогого Публия возложат императорский венец, Плотина начнет сводить старые счеты. Вскоре в глухую полночь ко мне в дом вломится банда головорезов. Фаустина, умоляю тебя, хотя бы раз в жизни прислушайся к совету: держись от меня как можно дальше.
– Ни за что не поверю, что тебе нравятся покорные женщины, Тит. Сабина ведь всегда поступает всем наперекор и неизменно добивается своего. И я тоже. Может, в остальном между нами мало общего, но эта черта нас роднит.
Тит отвернулся, машинально то сжимая, то разжимая край помятой тоги. Глаза его горели, как будто в них швырнули пригоршню песка. Он все еще ощущал вкус ее губ, вкус шелковистой кожи ее плеча.
– Возможно, ты прав, – сказала Фаустина, обнимая его сзади за талию и прижимаясь горячей щекой к его спине. – Возможно, Адриан не оставит тебя в живых. Но самое худшее, Тит, что может случиться со мной, это то, что я останусь богатой вдовой. Он не посмеет причинить мне зло. По крайней мере пока женат на моей сестре. И если эта банда головорезов вломится в глухую полночь к тебе в дом, они…
Тит усмехнулся. На какой-то миг ему в голову закралась мысль о бегстве. Действительно: может, стоит, взяв с собой Фаустину, бежать из Рима? Например, в Британию или Испанию. Да куда угодно. С другой стороны, разве скроешься, если твой злейший враг – властелин всего мира?
Тит повернулся и вновь заключил Фаустину в объятия.
– Я люблю тебя, Анния Галерия Фаустина.
В тусклом свете сумерек они прижались друг к другу.
«Уходи, – приказал себе Тит. – Немедленно уходи. Ты ведь сам это прекрасно знаешь».
Увы, он словно прирос к земле. Ведь как уйти, если руки Фаустины крепко, словно канаты, обхватили его за талию, удерживая на одном месте.
– Скажи, что бы ты предпочла, – спросил он у нее. – Простое железное кольцо или новомодное золотое?
– Простое железное, – ответила Фаустина, поднимая голову от плеча Тита, и одарила его грустной улыбкой. – Железо – прочный металл. Оно живет долго. Вот и мы тоже. Мы тоже проживем долго и состаримся вместе. Вот увидишь, Тит, Адриан не посмеет тебя убить. И если мы с тобой поженимся, мне не грозит остаться вдовой. Наоборот, тем самым ты спасешь себя. Пока ты будешь его шурином, Адриан не посмеет прикоснуться к тебе даже пальцем.
Тит не стал с ней спорить. Фаустина же вытерла глаза и еще пару минут отчитывала его за малодушие.
– Тебе придется купить мне что-нибудь дорогое, чтобы загладить его, – шутливо заявила она.
Но Тит почти не слушал, пожирая ее глазами.
Одни боги ведают, сколько он сможет наслаждаться ею, когда они поженятся. И кого подошлют к нему, чтобы забрать его жизнь.
Викс
На следующий день после прибытия в Селинус мой новый император послал за мной. Нет, не мой, а просто новый император. Этот высокомерный ублюдок Адриан никогда не станет моим императором, правь он хоть тысячу лет. Я отсалютовал ему, переступая порог кабинета, наскоро набитого роскошью. Адриан сидел, лениво откинувшись на подушки кресла, бородатый, в черной тоге. Он читал какое-то письмо, а сам тем временем диктовал другое стоящему рядом секретарю. Вокруг него суетились вольноотпущенники – таскали туда-сюда горы корреспонденции, табличек и свитков, а также подарки чиновников, спешивших засвидетельствовать новому императору свою преданность. Адриан то и дело щелкал пальцами, довольно ловко управляя этим нескончаемым людским потоком, одновременно не забывая про письмо в руках, равно и про другое, которое диктовал. При этом он умудрялся ногой поглаживать спину собаки, дремавшей у его ног. Когда же я вошел, у него нашлось внимание и для меня.
– Прибыл по твоему приказу, – отчеканил я, вытягиваясь в струнку.
– …что касается садов на окраине Антиохии, то я повелеваю, чтобы Кастальский ключ был немедленно завален камнем. Этот ключ предсказал мне, что я стану императором. И я не желаю, чтобы кто-то другой получил от него точно такое же предсказание. А теперь подпиши письмо: Адриан, сын Траяна Цезаря.
С этими словами Адриан жестом велел секретарю писать дальше, а сам, многозначительно выгнув бровь, посмотрел на меня.
– По твоему приказу?
– По твоему приказу, Цезарь, – исправился я, давясь словами, и снова отдал салют.
– Вот это другое дело, – произнес Адриан, протягивая руку за свитком, чтобы взять его у секретаря. – Спасибо. Я подпишу сам. И принеси мне пакет для Верцингеторикса.
Пока Адриан подписывал документы, я стоял, глядя ему куда-то через плечо. Я не мог заставить себя посмотреть на него, потому что стоило мне это сделать, как к горлу подкатывался ком тошноты. Он прибыл вчера, на самом быстром судне, какое только нашлось в Антиохии. Сойдя с покрытой в знак траура головой с триремы с черными парусами, он склонился в поклоне, а в следующий миг императрица Плотина, бывшая императрица Плотина, стоявшая в кольце своих прихлебателей, громко приветствовала его как нового императора. Прихлебатели последовали ее примеру. Стоя за спинами других офицеров, я даже ни разу не хлопнул в ладоши. Мне хотелось одного: поскорее уехать из этого унылого безлюдного городишки, вернуться к моим солдатам. Мое сердце истосковалось по марш-броскам и походам, по бряцанию оружия, по крепким словечкам, которыми привык сыпать наш брат-солдат. В общем, я хотел вернуться в привычный и понятный для меня мир.
Я никак не ожидал, что Адриан вызовет меня к себе. Наверняка ведь у новоявленного императора есть дела поважнее, чем сводить счеты со старыми врагами. Мой послужной список говорил сам за себя. И пусть Адриан бессердечный ублюдок, но отнюдь не безмозглый. И наверняка захочет, чтобы я продолжил делать для него то, что делал для Траяна.
Впрочем, в следующий миг мне вспомнился его полный ненависти взгляд, каким он посмотрел на меня на пиру в Германии, взгляд, на который я ответил ему точно таким же, и по моей спине пробежал холодок.
Но, похоже, Адриану я был безразличен. Собственноручно добавив пару строк еще на одном свитке, он подозвал к себе очередного секретаря, который вручил мне толстый запечатанный пакет.
– Это твое новое назначение, Верцингеторикс.
– Назначение, Цезарь?
Интересно, что со мной сделают. Отрубят голову? Лишат званий? Выбросят на голую скалу где-нибудь посреди океана, чтобы я умер от голода и жажды?
– Да, ты должен немедленно отбыть отсюда.
У меня отлегло от души. Главное, чтобы я мог увести своих солдат в Германию. От Германии до Рима далеко. Там, на севере, я смогу выбросить Адриана из головы. Меня ждут новые сражения с даками. Я буду командовать моими воинами, командовать так, как сочту нужным. И мне не будет никакого дела до того, кто там в Риме нацепил на себя пурпурную тогу. Я буду сам себе хозяин.
«Если Траян не оправится, шептал мне на ухо голос Миры, ты будешь служить не Траяну, а Риму».
Траян – это Рим, сказал тогда я, как всегда уверенный в своей правоте.
«Не навсегда».
По моей спине вновь пробежала дрожь. Но я выбросил слова Миры из головы и взял в руку пакет с письмами.
– Я должен отбыть в Германию, Цезарь? – уточнил я.
– Нет, – Адриан даже не поднял головы от таблички. – В Рим.
– В Рим?
– Да. Ты получил повышение. Отныне ты служишь в моей преторианской гвардии.
Я оторопел. Я лишился дара речи. Вокруг меня по-прежнему суетились секретари, вольноотпущенники таскали какие-то корзины, рабы застыли рядом с острыми перьями наготове. Все были заняты, каждый своим делом, и никто не заметил, что я на мгновение окаменел, словно статуя.
– Но ведь у меня есть легион, – хрипло возразил я. – Десятый Фиделис.
Мой Десятый. Я шел к нему все эти годы.
– Больше нет. – Адриан взял со стола восковую табличку и, пробежав по ней глазами, протянул руку за новым пером. – В таком количестве новых командиров нужды нет. Новых кампаний в ближайшее время не предвидится. Дакия – это бездонная дыра, съедающая наши ресурсы. Пусть лучше ею владеют мятежники. Я не намерен постоянно держать там целый легион. Кроме того, – равнодушно добавил Адриан, – Парфянская кампания должна быть немедленно закончена. Армения, Месопотамия, Ассирия и другие завоеванные территории, – наши легионы будут выведены из них в самое ближайшее время.
Если до этих слов я успел превратиться в камень, то теперь я превратился в глыбу льда.
Дакия – та самая Дакия, чьего царя я когда-то собственноручно лишил жизни. Царя, у которого была сила десятерых. Дакия, где за этот подвиг мне было доверено носить полкового орла. Армения, где мне впервые было доверено командовать когортой. Месопотамия, где я, на берегу Евфрата, предал земле тело Юлия. Ассирия, где на моих глазах погиб Филипп, где я сам принял в плечо стрелу, предназначавшуюся Траяну, после чего заслужил прозвище Верцингеторикс Красный. И вот ничего из этого больше нет. Все мои усилия были напрасны. Подаренное Траяном кольцо жгло мне палец. Parthicus. Покоритель Парфии.
– Но почему? – прохрипел я.
Адриан впервые поднял на меня глаза, и я увидел в них нечто похожее на усмешку.
– Ты думаешь, я стану обсуждать государственную политику со стражником?
В этот момент я был голов придушить его голыми руками.
– Не переживай, – тем временем продолжал Адриан. – Я учел все твои предыдущие заслуги, так что твои таланты будут востребованы. Ты станешь прекрасной находкой для моей личной гвардии. Более того, у меня есть для тебя небольшое поручение, которое ты должен выполнить по пути в Рим. Оставьте нас одних! – приказал он остальным.
Рабы, вольноотпущенники, секретари вереницей потянулись к двери. Я же стоял, словно каменный столб, сжимая в руке пакет с назначением, который только что лишил меня будущего и перечеркнул все мое прошлое. Как только дверь за последним рабом закрылась, улыбки Адриана как не бывало.
– Этого приказа в этом пакете нет. Ты получишь его непосредственно от меня. Есть пятеро, которых нужно убрать. Это мои соперники. Их имена я сообщу тебе позже. Для выполнения этого задания можешь взять с собой сколько угодно своих людей. Главное, чтобы с этими пятью было покончено. После чего ты вернешься в Рим и приступишь к своим новым обязанностям преторианца.
Вместо ответа я швырнул в него пакетом с новым назначением. Увы, этот ублюдок был ловок. Здесь я воздам ему должное. Одно стремительное движение руки, и пакет отлетел к стене, даже не коснувшись его лица. Я же сложил на груди руки и плюнул в пол.
– Я не наемный убийца, – бросил ему я, на сей раз не утруждая себя учтивостью. – Для грязной работы подыщи себе сговорчивых головорезов.
– А ты и есть головорез, – спокойно возразил Адриан. – Более того, головорез талантливый. И я хочу видеть тебя на моей стороне. Обещаю тебе блестящую карьеру. Но ее ты купишь этими пятью трупами.
– Если ты надеешься, что я стану убивать твоих соперников…
– Станешь. Никуда не денешься. Ведь у тебя есть жена и, если не ошибаюсь, две дочери. Ах да, еще мальчишка, которого ты воспитываешь. Ты ведь не хочешь, чтобы с ними что-то случилось?
– Не волнуйся, я все для этого сделаю.
«Я возьму Миру и детей и исчезну где-нибудь в лесах прежде, чем соглядатаи Адриана выйдут на мой след».
– А твои солдаты?
Огромный охотничий пес Адриана поднялся с пола и злобно посмотрел на меня. Адриан нежно почесал ему за ухом.
– Этот твой центурион-галл, с которым ты делил контуберний, когда пришел служить в Десятый. Африканец, которого ты недавно повысил до опциона за то, что он спас твою жизнь при Осроэне. Все остальные. Да что там! Весь твой Десятый легион! Мне ничего не стоит отдать приказ о его децимации. Повод всегда найдется. Более того, я сделаю все для того, чтобы этим каждым десятым стал тот, кого ты особенно ценишь. После чего я вообще его распущу. Тех, кто останется жить, распихаю по другим легионам. Какая цена татуировкам, которые я вижу на твоих плечах, цифре десять и орлу, если и сам легион, и его подвиги вскоре будут забыты. О них никто даже не вспомнит.
Моя рука машинально потянулась к рукоятке меча. Разумеется, никакого меча при мне не было. Никто не входил к императору вооруженным.
– Вот это настоящий боевой дух. – Адриан неожиданно улыбнулся мне, сверкнул белыми зубами в обрамлении темной бороды. – Можешь сколько угодно меня ненавидеть, можешь думать обо мне что угодно. Это твое право, когда ты будешь перерезать этим пятерым горло. Мой тебе совет: постарайся сосредоточиться при этом на чем-то приятном. Обещаю, что щедро отблагодарю тебя, когда вернусь в Рим. Может даже, сделаю тебя преторианским префектом. Нет, конечно, сенат наверняка устроит шум по поводу гибели тех пятерых, чьи имена я тебе назову. Ничего страшного. Я возложу вину за убийство пятерых достойных граждан на нынешнего префекта. Во избежание позора публичной казни ему будет позволено совершить самоубийство. И если ты покажешь себя самым достойным образом, то вскоре займешь его место. А это – приличная добавка к жалованью, престиж, положение в обществе. Неплохое вознаграждение для такого головореза, как ты.
Преторианцы. Элита элит. Но наш брат-легионер знал им настоящую цену. Дворцовая стража, пусть даже в доспехах. Никогда не видевшие ни крови, ни грязи, ни пыли. Не знавшие даже укола мечом. Привыкшие послушно шагать за императором, куда бы тот ни направился. От безделья с годами они только жирели на дворцовых харчах.
Префекты? Сторожевые псы императора. Они только и занимались, что ночами пытались распутать несуществующие заговоры, или же подсылали соглядатаев шпионить за друзьями и близкими императора. Их боялись. Перед ними заискивали. Сами же они умирали от скуки.
– Цезарь, – процедил я сквозь зубы. – Я скорее всажу тебе в спину кинжал, чем стану тебя охранять.
– Я это предвидел. – Все так же улыбаясь мне своей безумной улыбкой, Адриан отодвинул кресло. – Но я скорее доверю охрану своей жизни врагу, чем другу. Друзья ожидают от вас услуг, друзья обижаются, когда не получают того, на что рассчитывали, друзья предают. Нет, конечно, враг тоже может предать, к этому нужно всегда быть готовым. К тому же я хорошо тебя знаю, Верцингеторикс. Мне известны твои подвиги, которые ты совершил на полях сражений. И ты станешь охранять мою спину от других врагов, ибо захочешь уберечь меня от своей собственной мести.
Видя моя растерянность, Адриан еще шире расплылся в улыбке.
– Траяну нравилось, чтобы те, кто служит ему, его любили. Я не Траян.
– Ты не достоин его сапог!
– Согласен, – спокойно признал Адриан.
Его ответ сразил меня наповал.
– Траян был порядочным человеком, – продолжал тем временем Адриан, задумчиво поглаживая шею псу. – Наверно, императору следует быть порядочным, если он хочет как можно дольше продержаться на троне. Август это знал. Безжалостный деспот, он умел предстать в глазах окружающих этаким душкой. Весьма разумно с его стороны, потому что безжалостных деспотов, как правило, убивают. Калигула, Нерон, Домициан. Достаточно вспомнить их имена. А вот добрые правители правят долго: Веспасиан, Траян. Мое имя будет звучать в одном ряду с ними. Но если эти двое были добрыми по натуре, то я – нет. Я умею быть жестоким. Но я также прекрасно умею надевать маски, так что мало кто догадывается, каков я на самом деле. Охота помогает мне выпускать пар, позволяет проливать кровь, правда, не людскую, а кровь животных.
Мне тотчас вспомнилось, как в Дакии Адриан убил оленя. С какой самодовольной улыбкой на лице смотрел он тогда на свою забрызганную кровью ногу!
Адриан слегка встрепенулся, возвращаясь к нашему разговору.
– Так что не обольщайся, Верцингеторикс. Для меня доброта – не более чем маска. И если кто-то перешел мне дорогу, я тотчас ее сбрасываю. Помни об этом.
С этими словами он поднялся из-за стола – внушительная фигура в безукоризненных складках черной тоги – и пересек комнату, чтобы поднять с пола пакет с новым назначением, которым я швырнул в него.
– Можешь идти, – произнес он, вручая мне пакет. – Думаю, мы с тобой сработаемся.
– А я думаю, ты всего лишь рябой трус, – спокойно возразил я. – И всегда им был. Разница лишь в том, что теперь ты просто рябой трус в пурпурной тоге.
По лицу Адриана пробежала тень, как будто под зеркальной гладью озера пошевелилось некое подводное чудовище. Он было занес руку, чтобы меня ударить, но в этой комнате ловким был не он один. Перехватив его запястье, я так резко отвел его руку в сторону, что он покачнулся. Пес оскалился и зарычал.
– Ты уже однажды ударил меня, в Дакии, – процедил я. – Хорошо, я буду работать на тебя, Цезарь, ведь ты не оставил мне выбора. Я убью твоих врагов, и даже стану охранять твою вонючую спину. Но я уже предупредил тебя как-то раз: попробуй только поднять на меня руку.
Адриан медленно выпрямился. По идее, мне полагалось окаменеть от ужаса. Это бородатое лицо, эти холодные, словно у статуи, глаза – их взгляд обратил бы в камень даже бога. Но я не бог. Я всего лишь глупый варвар, который никогда не знает, где пора остановиться. И я спокойно встретил его взгляд.
Адриан не выдержал первым.
– Ступай, – произнес он. Голос его даже не дрогнул. – Тебя ждут твои новые обязанности, мне же еще нужно составить план похоронной процессии. Траян был великий муж и достоин подобающих похорон, – добавил он, причем, что поразило меня больше всего, совершенно искренне. – Кстати, скажи моей жене, чтобы она вошла. Она наверняка уже устала ждать за дверью.
Я повернулся, чтобы выполнить его распоряжение.
– Ах да, как я мог забыть, – раздался за моей спиной его голос. Я обернулся. – Императрица Вибия Сабина. Кстати, по словам вдовствующей императрицы Плотины, день, когда умер Траян, вы провели вместе. Причем не в первый раз.
Адриан поднял глаза от восковой таблички.
– Ты спал с моей женой?
Мне вспомнились слова Сабины о том, что ложь вряд ли спасет мою жизнь. Но у меня еще были Мира, мои дочери, мои солдаты.
– Нет, – сказал я.
– В таком случае можешь идти, Верцингеторикс, – сказал Адриан и вернулся к делам. Охотничий пес вновь свернулся у его ног. – На сегодня все.
На следующий день новый император был готов к отплытию. По его приказу на берегу моря был сооружен высокий погребальный костер, к которому, когда он был готов, подпустили толпу. У Адриана уже была с собой урна, в которой останки Траяна проделают путь до Рима. Некогда безлюдная гавань была полна людей. Трирему одели в черные паруса. Чиновники пытались заранее занять для себя места поудобней. Тут же сновали рабы, грузя на корабль то, что не успели погрузить заранее. Солдаты строились ровными рядами, чтобы воздать императору – настоящему императору – последние почести. Многие плакали, не стесняясь слез, но большинство обсуждали нового императора. Какой прекрасный муж, говорили они. Какой образованный. Какой опытный. Достойный преемник Траяна.
Меня от этих разговоров тошнило. К счастью, мне не пришлось их долго выслушивать. В конце концов эта трирема отправится в Рим без меня. Вместо того чтобы провожать ее на пристани, я отправился в холмы за городом. По заросшей травой тропинке я поднялся к разрушенному храму, в котором недавно оплакал Траяна, даже не представляя, какой новый ад ждет меня впереди. В храме я обнаружил Сабину. Опустив плечи, она сидела на поваленной колонне. Она успела облачиться в черное и была готова к отплытию в Рим. На ней была жесткая черная стола – не иначе, как выбранная Плотиной, золотистая вуаль и парик с фальшивыми светлыми косами, скрывавший ее коротко остриженные волосы.
– Ступай, – услышав мои шаги, она расправила плечи, однако даже не повернулась ко мне. – Я приду, когда корабль будет готов отплыть. И ни минутой раньше.
– Это я.
Лишь тогда она обернулась, и я заметил, что глаза ее покраснели от слез.
– Мне казалось, что я отослала преторианцев с запиской, – сказала она, рассматривая меня придирчивым взглядом.
– Не совсем. – Я тоже посмотрел на свою новую форму. Как я ее ненавидел! Бесполезная кираса, дурацкая красная юбчонка, еще более дурацкий плащ, слишком тонкий, чтобы уберечь от непогоды. – В этой одежке я как петух. Наверно, и пользы от меня, как от петуха. Ни яиц не несу, ни даков не убиваю.
– Мой наряд не лучше, – Сабина стащила с головы светлый парик и забросила его в лопухи рядом с колонной. – Мы с тобой оба получили повышение. Лично я даже не предполагала. А ты?
Когда нас обоих по приказу Плотины почти на трое суток заперли в полуразрушенном доме, мы провели почти все это время, размышляя о том, какая судьба нас ждет. Нам обоим было прекрасно известно, как начинаются государственные перевороты. Похоже, этот был хорошо подготовлен. Пока мы с ней сидели взаперти, Сабина, словно кошка, расхаживала из угла в угол, пытаясь добиться ответов у приставленного к двери преторианца. Вместо этого ей было велено закрыть рот. В свою очередь, я пытался вычислить, сколько преторианцев дежурят за дверью и скольких я смогу отправить на тот свет, если они вдруг явятся за мной. Увы, мы оба ошибались, и она, и я. И вот теперь мы снова сидели рядом: не просто Викс и Сабина, покрытый шрамами легионер и искательница приключений, а императрица Вибия Сабина и преторианец Верцингеторикс.
– Я получил новый приказ, – сказал я и вкратце посвятил ее в кровавые планы ее мужа, от которых зависело и мое повышение, и мое понижение, моя награда и мое наказание.
– Как это похоже на Адриана, – поморщила носик Сабина. – Связать все в один аккуратный узел.
– Кстати, ты слышала, что он отзывает легионы? Что возвращает врагу все завоеванные провинции? Армению, Месопотамию, Ассирию. Даже Дакию.
– Нам их все равно было не удержать, – негромко возразила Сабина. – По крайней мере без Траяна.
– Но ведь мы четыре года подряд одерживали победы!
– Ты сотворил пустыню, и назвал это миром, – процитировала Сабина.
– Это кто так сказал? Тит?
– Он самый. А до него Тацит. Потом Тит, в одном из своих писем. И они оба правы. Все это… – Сабина обвела взглядом скалистый утес, с которого открывался вид на лазурный горизонт. Где-то там вдали раскинулись завоеванные нами пустыни. – Нам все равно их не удержать. Даже Траян понимал, что наших сил на это не хватит.
– И поэтому сразу нужно было отказываться? – спросил я и потер больное плечо. Мне до сих пор казалось, что в нем застряла стрела, та самая, что пронзила меня под стенами Хатры. – После всего, через что мы прошли? После того, сколько жизней мы положили во имя этих побед?
Юлий. Филипп. Сотни солдат, которых я похоронил на берегах Евфрата?
– Думаю, что да, – тихо сказала Сабина.
– Тогда чем нам доказать, что мы там были? – воскликнул я. – Скажи, чем?
У Сабины не нашлось ответа. Да и откуда ему быть? Кроме нескольких шрамов все, что мне оставили в память о себе военные походы, это разная
мелочь, которую я накопил за эти годы на дне вещмешка. Отцовский амулет, подаренное императором кольцо. Платок жены. Львиная шкура. Несколько медалей. Сережка возлюбленной. Не густо, если как следует призадуматься.
Я сел на другой конец поваленной колонны и принялся размахивать моим новым дурацким шлемом, держа его за дурацкую кожаную лямку. Сабина сидела, молча обхватив колени. Так мы с ней просидели какое-то время, не проронив ни слова. Среди колонн нахально чирикали какие-то птицы. Да и почему бы им не чиркать, здесь ведь не было никакого жреца, чтобы их прогнать. Яркое солнечное утро, такое прекрасное.
– Императрица Рима, – произнес я наконец, пробуя на вкус ее новый титул. – Ну, кто бы мог подумать!
Сабина грустно улыбнулась мне.
– По крайней мере это будет интересно.
– Верно, нечего вешать нос.
– Интересно или нет, – продолжила она. – Я бы предпочла вернуться в те дни, когда мне было всего восемнадцать, и навсегда остаться в отцовском доме. И никогда не выходить замуж.
Наверно, мне тоже следовало остаться в ее отцовском доме. Например, в качестве телохранителя, вместо того, чтобы идти служить в легионы. Поступи я так, и я бы до сих пор вел сытую и спокойную жизнь: сопровождал бы сенатора Марка Норбана в Капитолийскую библиотеку и назад домой, а не сидел бы сейчас непонятно где в развалинах полуразрушенного храма.
– Может, отец мне поможет, – без особой надежды сказала Сабина, крепче обхватывая колени. – Вдруг он разгадает эту жуткую тайну с усыновлением, устроенную Плотиной, чтобы возвести на престол своего дорого Публия.
Сабина покачала головой, как будто споря сама с собой.
– О боги, вряд ли отец мне поможет. Он слишком стар.
Я подумал о своем отце. Если он еще жив, то примерно одних лет с Траяном. Последнее письмо от матери я получил года два назад. Она писала, что у них все хорошо. Но за два года могло произойти многое. Интересно, он по-прежнему копается в своем саду? Он такой же седой, как Траян? Или же, как и Траян, умер, жадно хватая ртом воздух, прежде чем я успел к его смертному одру? Неожиданно меня потянуло домой.
Британия? Могу ли называть ее своим домом? Да и есть ли он у меня вообще, этот дом? «Какая разница», – подумал я. Где бы ни он находился, Адриан никогда меня туда не отпустит. Мои родители умрут, и я никогда не увижу их снова. Я не видел их с тех самых пор, когда мне было восемнадцать. Когда я оставил отчий дом, мечтая о славе.
– Всю мою жизнь, – голос Сабины вывел меня из раздумий. Она говорила надрывно, как будто захлебываясь, и я понял, что она плачет. Я ни разу не видел ее плачущей, по крайней все эти годы, пока мы с ней были знакомы. Слезы катились по ее лицу и капали с подбородка на платье. – Всю свою жизнь, – повторила она, – я думала, что отправляюсь в приключения лишь потому, что таково мое желание. Что могу исполнить свой долг, сделать что-то хорошее этому миру, и одновременно жить той жизнью, какой хочу. Но ведь это не так, правда? Я ввязывалась в приключения лишь потому, что мне позволял отец, а потом Адриан и Траян. Любому из них ничего не стоило остановить меня, когда им захочется, и вот теперь это сделал Адриан. Никаких новых приключений для императрицы Рима.
Я мог вспомнить бессчетное количество раз, когда я ждал, когда же наконец невозмутимая маска на ее лице даст трещину. Ждал, когда она сломается, даст выход слезам. И вот теперь я видел, как она плачет, и сердце мое было готово разорваться от боли. Сабина повернула ко мне заплаканное лицо, бледное, с печатью душевных мук.
– Не было у меня никакой свободы, никогда не было!
– Ее нет ни у кого, – ответил я.
– Вибия Сабина, Императрица семи холмов. – Сабина вновь одарила меня своей новой, горькой улыбкой. – Если как следует призадумываться, это означает лишь одно: просто жена. И ничего более.
Увижу ли я когда-нибудь мою жену, задумался я. Рыжеватые волосы Миры, ее тонкую, перехваченную пояском талию, гордо вздернутый подбородок, которым она привыкла указывать, когда руки бывали заняты. Мой большой палец машинально нащупал край голубого платка, торчавший из-под наруча, и нежно его погладил. Ну почему я не попросил, чтобы мой легион перевели в Иудею? Ведь как мечтала об этом Мира! Почему я не подарил ей жизнь, достойную жены последнего живого наследника Масады?
Впрочем, я тотчас прогнал эти мысли прочь. Я не мог о ней думать, просто не мог, и все. Ощущение было такое, будто мне проткнули копьем живот.
– Согласен, возможно, слово «императрица» означает просто жену, – сказал я, обращаясь к Сабине. – Зато «преторианец» означает «наемный убийца». Ибо вот кто я теперь. На пути в Рим мне поручено сделать несколько остановок, чтобы убить врагов твоего мужа.
– Всех его врагов? – с горечью в голосе уточнила Сабина. – Боюсь, что список окажется слишком длинным для одного человека. Даже для тебя.
– Его пятерых главных врагов.
Их список я получил лишь сегодня утром. В нем значились два бывших консула, Цельс и Пальма. Бывший наместник Дакии Луций Квиет. Он же мой бывший командир. Но самый страшный удар ждал меня в конце списка. Мое сердце екнуло, а потом и вовсе остановилось, когда я прочел последнее имя. Тит.
Мне тотчас вспомнилась одна из его самых дурацких цитат. Не то из Овидия, не то из Ювенала. Что-то такое, что Тит однажды обронил в разговоре со мной по поводу моего мрачного настроения, когда я слишком близко к сердцу принял какую-то неудачу.
– Будь терпелив и крепок духом, – сказал он, с сочувствием на меня глядя. – В один прекрасный день эта боль может принести тебе пользу.
Но какую пользу может принести мне эта боль? Боль от осознания того, что должен вонзить свой меч в сердце одного из достойнейших людей в этом мире?
– Может, мне стоит пронзить мечом собственное сердце, – произнес я вслух. – Может, так я и должен был поступить, когда умер Траян.
– Поступи ты так, и империя обеднела бы, – возразила Сабина. Она положила щеку на сложенные руки и умолкла. Молчал и я.
Я сидел с ней рядом, перебирая пальцами медали, полученные за участие в кампаниях, единственное, что мне официально разрешили носить поверх преторианской формы. Медали, которые я получил в знак завоевания новых земель. И вот теперь эти земли, которые дались нам потом и кровью, вновь перейдут к варварам и зарастут сорной травой. Я не имел права носить вместе с новой формой львиную шкуру, равно как другие дорогие мне амулеты, подаренные женой, отцом или Сабиной.
– Преторианцы не цепляют на себя всякий мусор, – это или примерно это было сказано мне преторианцем, которому Адриан велел ввести меня в курс моих новых обязанностей. Я врезал ему кулаком в нос, и он взвыл, как пес. Наверно, я просто разучился слушать чужие приказы, поскольку привык отдавать их сам.
– Боюсь, что мне пора идти. – Сабина бросила взгляд на каменистую тропу, что вела в заброшенную гавань. Даже с того места, где мы с ней сидели, мне была видна царившая там сутолока. – От меня ждут исполнения моих новых обязанностей. Они хотят, чтобы я стояла, как статуя, и улыбалась. Собственно говоря, это единственное, чего ждут от императрицы. Разумеется, по прибытии в Рим меня ожидают и другие, не менее важные дела. Я буду обязана поводить время за ткацким станком. Надзирать за рабами. Устраивать во дворце пиры. Вот они – мои теперешние обязанности. По крайней мере по словам Плотины. О, боги, как же я ее недооценивала!
– Не горюй, ты найдешь способ отравить этой суке жизнь.
– А еще она ждет, когда я начну приносить приплод. Но слава богам, это интересует Адриана меньше всего. Похоже, наследники его вообще не волнуют. По крайней мере рожденные мною. – Сабина поморщилась. – Ты можешь представить себе Адрианова сына? То, что он наследует империю? Это был бы конец всему человечеству.
– Но ведь это будет и твой сын. Так что все не так уж и плохо, – сказал я и вспомнил собственных дочерей. Мои дорогие крошки. Дине недавно исполнилось три, Чайе чуть больше года. Увы, отныне обе – заложницы Адриана. От моей верности ему зависят их жизни, хотя ни одна, ни другая еще об этом не ведают. Да и знают ли они, кто я такой? И если мне суждено погибнуть, вспомнят ли они когда-нибудь своего отца?
– Может, мне стоит забеременеть? – задумчиво спросила Сабина, размышляя вслух. – У Адриана не возникнет заблуждений на это счет. Он будет точно знать, что это не его ребенок. Может, тогда он разведется со мной?
– Не говори глупостей. Он скорее тебя убьет, чем даст развод.
– Верно, он терпеть не может, когда его выставляют посмешищем.
– А неплохо бы выставить, – со злостью сказал я. – Продолжай брить голову, води дружбу с плебеями, подбирай себе слуг на улице, ходи босая вдоль Тибра, бери себе в любовники тех, кто станет насмехаться над ним, лежа в твоей постели. Только не превращайся в жену, какая ему нужна, в холодную мраморную статую. Пусть Рим смеется, а он пусть кусает локти, что женился на тебе.
– Золотая мысль! – воскликнула Сабина. – Может, не будем тянуть?
Я посмотрел на нее. Ее лицо было каменной маской. Голубые глаза сверкали холодными колючими льдинками.
– Не хочешь мне помочь? – спросила она. – Давай выставим Адриана посмешищем?
«Ты спал с моей женой?» – шепнул мне на ухо Адриан, и в его шепоте мне послышался убийственный холод стали. Я посмотрел на новую императрицу Рима. Она – на меня.
Нет, я ее не хотел. Видит бог, я ее не хотел. Я хотел мою Миру. Но моя рука уже потянулась к ней. Я рывком поднял Сабину с колонны, а в следующий миг жадно впился ей в губы. Она подалась в мои объятья и, обхватив меня ногами, с какой-то животной страстью ответила на мой поцелуй. Сорвав пряжки с ее жесткого траурного платья, я своей солдатской пятерней взъерошил ее коротко стриженные волосы.
– Обещай мне, что никогда не отпустишь их снова, – прошептал я, опуская ее на траву. – Он ненавидит твои короткие волосы.
– Обещаю. – Сабина обхватила меня за шею, притягивая ближе к себе. – А теперь замолчи и возьми меня.
Никаких ласк, никаких нежностей – только плотская страсть и ярость. И еще, наверно, дружба. Похоть, любовь, и даже редкие приступы ненависти – в эти минуты они слились для нас в единое целое.
Когда все закончилось, я помог ей подняться. Сабина расправила платье и вернула на место светлый парик. Какое-то время мы постояли рядом, глядя с высоты утеса на морской берег, у которого ее уже ждала трирема. А рядом, сотня императорских слуг возводила для Траяна погребальный костер. Впрочем, ни Сабина, ни я ничего этого не замечали. Перед нашим мысленным взором маячил Рим. Нет, не тот Рим, который мы знали. Рим новый, полный опасностей. Рим, который ожидал нас.
Я положил Сабине на плечо руку. Она накрыла ее своей, и на какой-то миг наши пальцы переплелись, а уголок ее рта скривился в подобии улыбки. Но уже в следующее мгновение она накинула на голову золотистую вуаль и, оставив меня стоять, зашагала по тропинке к берегу, чтобы застыть там мраморной статуей рядом с новым императором, отплывающим под ликующие возгласы толпы в Рим.
Я тоже спустился вниз и занял место в строю, рядом с другими солдатами, и когда погребальный костер Траяна наконец догорел, мои глаза все еще были полны слез.
Мой император ушел. Его место занял новый. Вон он стоит, нацепив на лицо маску скорби.
«Ты спал с моей женой?»
«Да, Цезарь, – мысленно ответил я. – На следующий день после того, как ты отнял у меня легион, взамен вручив список тех, кого я должен убить. Я спал с твоей женой».
И, между прочим, сделал ей ребенка.
А в один прекрасный день ты умрешь, причем у меня на глазах.
Но пока я тебе об этом не скажу. Подожду до лучших времен.
(обратно)
(обратно)
Историческая справка
Кроме Викса и нескольких второстепенных персонажей, все действующие лица «Императрицы семи холмов» отнюдь не плод авторского вымысла. Императоры Траян и Адриан, их жены Плотина и Сабина, друзья Викса Тит и Симон, даже усыновленный Виксом Антиной – все они реальные личности. Жизнь и карьера Викса основана на жизнеописаниях нескольких известных солдат того времени, в частности, офицера кавалерии Тиберия Клавдия Максима, который действительно пленил умирающего дакийского царя Децебала и принес Траяну его голову, а также Марка Турбона, который благодаря своей доблести от рядового легионера дослужился до преторианского префекта при императоре Адриане. Таким образом, в моей книге Викс в некотором роде присвоил себе заслуги других людей, чему он вряд ли был бы рад. Редко кому из рядовых легионеров удавался столь стремительный взлет, как то случилось с Виксом, но исключать такую возможность нельзя. Длительные военные кампании Траяна несли с собой огромные человеческие потери, в том числе и среди офицеров, что открывало возможности карьерного роста тем, кому повезло остаться в живых. Повышения раздавались в награду за проявленный героизм. При этом немаловажно было попасть под крыло кого-то из начальства. Пользуясь благосклонностью императора или кого-то из старших офицерских чинов, даже простой легионер как Викс мог мечтать о повышении в звании.
Приключения Сабины не дошли до нас в виде надежных исторических свидетельств. В тех же, что дошли, четко просматривается вражда между ней и ее мужем Адрианом. Будучи гомосексуалистом, он женился на ней по политическим соображениям, однако вскоре проникся к ней неприязнью якобы за ее «приступы дурного настроения». В свою очередь Сабина не раз публично заявляла, что не желает иметь от него детей, ибо они были бы несчастьем для человеческого рода. Реальная Сабина, как и героиня этой книги, действительно повидала мир. Она ездила вслед за мужем во время его путешествий, что дает основания полагать, что склонность к приключениям была ей свойственна. Степень ее свободы порой вызывает удивление. С другой стороны, римские женщины никогда не сидели взаперти, пользуясь той свободой, какую им удавалось получить у мужей и отцов. Так что, несмотря на традиционный суровый образ paterfamilias, железным кулаком сжимавшего бразды правления семейством, Древний Рим знал и любящих отцов (известно, что Цицерон баловал своих дочерей), и любящих мужей. Немало римских женщин путешествовали по провинциям, возя за собой детей, в то время как их мужья служили наместниками или начальниками гарнизонов. Были случаи, когда отдельные любительницы приключений сопровождали мужей в военных походах. Так, например, внучка императора Августа, Агриппина Старшая, сопровождала мужа во время всех его войн. И я решила, почему бы не позволить сделать то же самое моим героиням, Сабине и Мире? Благотворительная деятельность Сабины была в духе того времени, ею занимались многие патрицианки. Известна, например, ее щедрая финансовая помощь сиротам. Чего нельзя утверждать точно, так это того, что у нее имелись внебрачные связи. Тем не менее Адриан удалил от двора нескольких мужчин за то, что они-де «слишком фамильярны» в общении с его супругой, в том числе одного из своих преторианцев. Мы не знаем, стояли ли за этими обвинениями реальные факты супружеской неверности или же императрица легко заводила дружбу, в том числе и с мужчинами.
Иное дело – императрица Плотина. По всей видимости, на страницах моей книги я несправедлива к супруге Траяна, которая вошла в историю как милая, но вполне обычная женщина, которая никогда не вмешивалась в политику. А вот усыновление Траяном Адриана на смертном одре – история действительно темная, и по Риму ходили упорные слухи, будто императрица приложила к этому руку. Всю свою жизнь она опекала его; подтолкнула к браку с Сабиной, чтобы крепче привязать к императорской семье, и не делала секрета из своих надежд в один прекрасный день увидеть его преемником своего мужа. И хотя Траян воздавал Адриану заслуженные почести, отношения между ними никогда не отличались теплотой. Траян действительно предлагал направить сенату небольшой список кандидатур (хотя Тит, в силу своей молодости, по всей видимости, в него не вошел), который поручил составить своему вольноотпущеннику Федиму. Однако Плотина сочинила свой собственный указ об усыновлении Адриана и сама подписала его, пока ее муж лежал на смертном одре. Разыгранный ею фарс с телом умершего мужа, сколь омерзительным он бы ни показался, вполне в духе того времени, тем более что слухи о том, что она якобы нарочно утаила смерть Траяна, чтобы составить фальшивое завещание, с завидным упорством ходили среди ее современников, чьи записки дошли до наших дней. Возможно, я очернила Плотину, изобразив ее психически ненормальной женщиной и воровкой. Тем не менее Траян, уже лежа на смертном одре, действительно высказывал предположение, что его отравил кто-то из близких. Известно также, что его секретарь, вольноотпущенник Федим, внезапно умер в тот самый день, когда Адриан был объявлен императором, как будто кто-то решил от него избавиться.
Признаюсь, я позволила себе небольшие вольности с историческими деталями, слегка «ужала» события, подогнала под сюжет книги даты и место действия. Так, например, я слегка подвинула дакийские войны и восстание на Кипре, чтобы Викс мог принять в них участие, зато отодвинула год, проведенный Адрианом в Афинах в качестве магистрата.
Реальная Анния Галерия Фаустина приходилась Сабине не сводной сестрой, а сводной племянницей (их семейное древо – настоящий узел переплетающихся ветвей, которое просто требовалось упростить для удобства читателя). И хотя дата обручения Фаустины с Титом неизвестна, возможно, оно имело место на несколько лет раньше, чем в нашей книге, как, впрочем, и замужество Сабины. Неизвестно, служил ли когда-нибудь Тит трибуном в легионе, но это, как правило, была первая ступень в карьере любого молодого политика. Зато хорошо известна его неприязнь к военной службе, какую он испытывал на протяжении всей своей жизни. Чтобы карьера Тита «вписалась» в роман, я также позволила себе некоторые вольности с датами таких строительных начинаний Траяна, как Триумфальная колонна и общественные бани, которые до сих пор украшают собой центр современного Рима.
Легион, в котором служил Викс, Десятый Фиделис, – целиком и полностью плод моего воображения, однако в основу его подвигов легли подвиги, совершенные другими легионами во время Дакийской и Парфянской кампаний. Адриан присутствовал при осаде Сармизегетузы, правда, как легат другого легиона. Но в целом ход Дакийской и Парфянской кампаний был таков, каким показан на страницах этой книги.
Точно так же некоторые на первый взгляд странные вещи, которые читатель может найти в ней, соответствуют истине. Например, нам может показаться смехотворной сама идея тайных предсказаний астрологов, однако известно, что в юности Адриану было предсказано, что в будущем его ждет пурпурная тога. (Впрочем, так бывало почти со всеми императорами.)
То, что Траян порой оказывался на волосок от смерти, тоже исторический факт. При Хатре он действительно едва не стал жертвой лучника, разглядевшего в гуще римлян его седую голову. Он также чудом избежал смерти под завалами во время разрушительного землетрясения в Антиохии. В исторических источниках также упоминается женщина, которая не только осталась жива, будучи погребенной под обломками дома, но и родила ребенка. Обоих спасло ее грудное молоко.
Современный читатель может удивиться тому, что два знаменитых римских императора были гомосексуалистами, или по крайней мере предпочитавшими мужчин бисексуалами. Надо сказать, что в Древнем Риме на такие вещи смотрели спокойно. Более того, бисексуальность была среди представителей правящих классов скорее нормой, нежели исключением. И Траян, и Адриан заключили браки по политическим соображениям, но их отношения с женами, по всей видимости, оставались платоническими, поскольку оба не скрывали своих сексуальных предпочтений. При этом ни один историк не усомнился в мужественности обоих. Разница лишь в том, что удивительная популярность Траяна имеет многочисленные документальные подтверждения, в то время как фигура Адриана представляет собой загадку. Похоже, натура его была сложной и противоречивой. Автор хроники «Historia Augusta» пишет о нем так: «…в его натуре уживались суровость и доброта, высокомерие и веселье, скупость и щедрость, прямота и обман, жестокость и милосердие, причем перемены его настроения бывали непредсказуемы. Благодаря таким историкам, как Гиббон, Адриан вошел в число Пяти Добрых Императоров (кстати, само выражение принадлежит Макиавелли). Безусловно, он отличался красноречием, был начитан, любил животных и умел расположить к себе. И все же, несмотря на свое обаяния, он был одним из самых не любимых народом императоров по крайней мере при жизни. Нелюбовью к нему римляне прониклись еще в самом начале его правления, после того, как он отказался от всех завоеванных Траяном провинций. Не прибавила ему популярности и серия политических чисток, во время которых Адриан расправился со своими политическими противниками. И хотя сам Адриан отрицал свою причастность к этим кровавым убийствам, римляне были убеждены, что эти расправы – дело его рук и ложатся на его репутацию черным пятном».
Самый знаменитый литературный портрет Адриана мы находим в книге Маргерит Юрсенар «Записки Адриана». В ней все его деяния преподносятся в положительном свете, а сам Адриан изображен едва ли не святым. Я же предпочла исследовать темную сторону его натуры. Ведь среди римлян было немало тех, кто видел в нем интригана и лицемера, который, как хороший актер, скрывал за маской обаяния свою жестокую сущность.
Теперь, когда императорскую тогу надел на себя их злейший враг, моих героев – Викса, Сабину и Тита – наверняка ждут новые приключения.
Я же хочу выразить глубокую благодарность моей хорошей знакомой, Хелен Шэнкман, которая не только просветила меня относительно раннего иудаизма, но и свела меня с профессором Стивеном Файном из Еврейского университета Нью-Йорка, который, несмотря на свою занятость, ответил на те мои вопросы, на которые не нашлось ответов у Хелен. Слова благодарности также полагаются Бену Кейну, который рекомендовал мне сайт RomanArmy.com – замечательный интернет-форум, на котором я познакомилась со многими знатоками устройства римской армии. Там мне повезло познакомиться с Натаном Россом, Полом Элиотом, Максом Конземиусом и Квинтоном Джохансеном, которые любезно ответили на мои вопросы относительно военной карьеры Викса, тактично указав на мои ошибки.
И в завершение – пылкие слова благодарности в адрес Энтони Эверитта, чья прекрасная биография «Адриан и триумф Рима» стала моей настольной книгой и подушкой безопасности во время работы над «Императрицей семи холмов».
(обратно)
Действующие лица
Императорское семейство [301]:
* Марк Ульпий ТРАЯН – римский император
* Помпея ПЛОТИНА – императрица, его супруга
* Публий Элий АДРИАН – его воспитанник
* Домиция Лонгина, известная так же как МАРЦЕЛЛА – вдова императора Домициана и бывшая римская императрица.
Римские сенаторы и их семьи:
Сенатор МАРК Вибий Август Норбан
КАЛЬПУРНИЯ – его третья жена.
* Вибия САБИНА – его дочь от второй жены
* Анния Галерия ФАУСТИНА – его дочь от Кальпурнии.
Лин и три его младших брата – дети Марка и Кальпурнии
Гайя – рабыня в доме Марка Норбана
Квинт – его управляющий.
* ТИТ Аврелий Фульв Бойоний Аррий Антонин – патриций
Энния – его экономка
* Цельс – консул
* Пальма – консул
* Гай Авидий Нигрин – наместник Дакии
Римские солдаты и их семьи:
Верцингеторикс, он же ВИКС – телохранитель, легионер, бывший гладиатор
* СИМОН бен Кошиба – легионер
МИРА – его племянница
Дина и Чайя – ее дочери
Юлий – легионер
Филипп – легионер
Прыщ – легионер
* Луций Квиет – командир берберских всадников
Римские граждане и подданные:
ДЕМЕТРА – работница пекарни в Могунтиакуме
* АНТИНОЙ – ее сын
* Децебал – царь Даков, поднявший мятеж против Рима
Басс – секретарь императрицы Плотины
* Федим – вольноотпущенник Траяна
(обратно)
(обратно)
Примечания
1
Бабирусс — малайский кабан.
(Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)
2
Зенет — предшественница игры триктрак.
(обратно)
3
Миср — семитское название Египта, всегда используемое в арабо-язычных странах.
(обратно)
4
Электрум — сплав золота и серебра.
(обратно)
5
В это же время, впрочем, Ассирия приняла закон, определяющий правила заключения браков между родственниками.
(обратно)
6
Ном — округ в Древнем Египте.
(обратно)
7
Царский локоть равнялся 52,5 см, обычный локоть был более коротким — 45 см.
(обратно)
8
В то время еще отсутствовали стремена.
(обратно)
9
Хет равнялся приблизительно 2500 метрам.
(обратно)
10
Подробнее описано в книге «Гнев Нефертити».
(обратно)
11
Сирия.
(обратно)
12
Еще одно название Древнего Египта.
(обратно)
13
Мемфис.
(обратно)
14
Речь идет, вероятно, о мере длины, действующей с XII века, около 26,5 сантиметра. Статуя высотой около 3,45 метра.
(обратно)
15
Об этом рассказано в романе Ж. Мессадье «Гнев Нефертити».
(обратно)
16
Иераконполь и Напата.
(обратно)
17
В то время Южный Гарем находился на территории современного Луксора.
(обратно)
18
Эннеада — группа из девяти божеств, представляющих основные силы мира; в нее входили разные божества, в зависимости от эпохи и главенствующих теологических учений.
(обратно)
19
См. «Гнев Нефертити».
(обратно)
20
Дебен — египетская мера веса, составляющая 91 грамм.
(обратно)
21
Нефертум — бог, покровительствующий Мемфису и почитаемый как творец мира сердцем, то есть мыслью и языком. Пта был супругом богини мести, Сехмет, которая родила ему сына, Нефертума, что означает «Душистый Лотос». В сложной египетской теогонии Амон одновременно является преемником и соперником Пта.
(обратно)
22
Речь идет о бумеранге.
(обратно)
23
В действительности Аменхотеп III установил в Долине шестьсот статуй царицы-львицы Сехмет.
(обратно)
24
Обряд погребения, очень важный и очень древний, который состоял в том, чтобы обеспечить покойника органом питания и речи.
(обратно)
25
Гусек — игра, заключающаяся в том, что фишки передвигаются на количество клеток, соответствующее количеству выпавших очков.
(обратно)
26
См. «Гнев Нефертити».
(обратно)
27
5 х 3,30 х 2,73 метра.
(обратно)
28
Книга Амдуат — книга о том, что представляет собой загробная жизнь.
(обратно)
29
Папирус Лейда, том XI.
(обратно)
30
Для справки: расстояние между Фивами и Ахмином составляет приблизительно 200 километров.
(обратно)
31
Дощечка для письма из слоновой кости царицы Меритатон, вдовы Сменхкары, на самом деле была обнаружена в могиле Тутанхамона. Подарок был необычным, главным образом потому, что был сделан от имени живого человека, который этой дощечкой пользовался.
(обратно)
32
Специальный отряд охранников, действующих очень эффективно, составленный из нубийцев, которые, кажется, были первыми, кто стал использовать собак, выполняя свои обязанности.
(обратно)
33
Гебтиу — Коптос.
(обратно)
34
При изучении мумии Тутанхамона ее первооткрыватель Картер отметил, что внешние повязки принадлежали другой мумии, мумии Сменхкары. Предшествующие записи скоблили, на них действительно просматривалось имя Сменхкара.
(обратно)
35
Об этом рассказывается в романе «Маски Тутанхамона».
(Здесь и далее примеч. авт., если не указано иное.)
(обратно)
36
Об этом рассказывается в романе «Гнев Нефертити».
(обратно)
37
См. «Гнев Нефертити».
(обратно)
38
См. «Маски Тутанхамона».
(обратно)
39
Ноябрь.
(обратно)
40
Имеются в виду гиксосы — группа кочевых скотоводческих азиатских племён из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в. до н. э., которые затем, около 1650 г. до н. э., образовали свою династию правителей. Свое название они получили от египетского Hqa xAswt «правитель (чужеземных) стран», передаваемого по-гречески ϋκσως. Манефон переводит слово «гиксосы» как «принцы-пастухи». Они основали город Аварис, который при их правлении был столицей.
(обратно)
41
См. «Маски Тутанхамона».
(обратно)
42
В Двух Землях месяц состоял из трех декад.
(обратно)
43
Casus belli — повод для начала военных действий (лат.).
(Примеч. пер.)
(обратно)
44
См. «Маски Тутанхамона».
(обратно)
45
Это было почти все население Египта в XIV веке до нашей эры.
(обратно)
46
См. «Маски Тутанхамона».
(обратно)
47
Подобие игры в «гуся».
(обратно)
48
Речь идет о произведениях моралистов Средневековой Империи, стало быть, предшественников тех, трудами которых зачитывались в последующий период. Их тон некоторые авторы считают удивительно «современным», утверждая, что они напоминают Сенеку и Эпикура.
(обратно)
49
Ни саркофаги, ни мумия Ая не были обнаружены. Единственный — каменный — саркофаг был найден разбитым, но в Тель эль-Амарне, бывшем Ахетатоне, что весьма странно. Действительно, как фараон, находившийся в Фивах, и, кроме того, официальный реставратор традиционных культов, он должен быть похоронен в Долине царей.
(обратно)
50
Текст этого исторического письма приводится без существенных изменений.
(обратно)
51
Хеттские послания в иностранные государства составлялись на аккадском языке, официальном языке страны.
(обратно)
52
Хеттское имя Тутанхамона.
(обратно)
53
Одно из имен Ая.
(обратно)
54
Речь идет о той части Леванта, страны Ближнего Востока, территория которой имела форму полумесяца, вогнутого к югу, и включала юг Турции, несколько островов в Эгейском море, Сирию и юг нынешнего Ирака. На протяжении XIII и XII веков до нашей эры границы государств в этом регионе постоянно менялись.
(обратно)
55
Это исторические имена.
(обратно)
56
В середине XV века до нашей эры Митанния, называемая в некоторых текстах также Нахарина, представляла собой одну из пяти могущественных стран Ближнего Востока, четырьмя другими были Египет, Вавилон, ассирийская и хеттская империи; Митанния занимала часть территории нынешних Сирии, Ливана, Палестины и большую часть территории Ирака. Она была ослаблена завоевательными войнами фараонов Тутмоса III и его сына, Аменхотепа II, которые длились приблизительно с 1474 по 1401 год, и потеряла часть территорий. Позже, именно в конце XVIII династии, Митанния была еще более ослаблена противостоянием с хеттами. Триста двадцать три митанньянские царевны были взяты в плен Аменхотепом II. Вероятно, одна из них стала матерью Сменхкары. Со времени правления Тутмоса IV, сына Аменхотепа II, отношения между Египтом и Митаннией наладились, и между двумя странами был заключен мирный договор, объединивший их в союз для защиты от притязаний угрожающих им хеттов и ассирийцев. Попытки заключения союза между царевнами и царями предусматривали закрепление союзнических отношений между странами, хотя это оказалось нелегким делом. Так, Тутмос IV семь раз просил руки митанньянской царевны, прежде чем та дала согласие, но когда цари Митаннии в свою очередь просили руки египетской царевны, Аменхотеп III им категорически отказывал.
(обратно)
57
Текст этого послания царю Мурсили II, сыну Суппилулиумы, приблизительно с такими же формулировками, обнаружен в хеттских летописях в Богаз-Кое.
(обратно)
58
Существует единственный исторический документ, подтверждающий, что Анкесенамон и Ай успешно делили трон: именно скарабей Бланчарда включает оба картуша, стоящие рядом. Сомнительно, что их союз был неформальным.
(обратно)
59
Территория современной Сирии.
(обратно)
60
Египетское название планеты Марс.
(обратно)
61
Хоремхеб был провозглашен царевичем во время правления Эхнатона.
(обратно)
62
Египетский год делился на три сезона по четыре месяца — Ахет («половодье»), Перет («выхождение») и Шему («засуха»); каждый месяц был разделен на 3 периода по 10 дней, что в сумме давало 360 дней в году. К этой цифре добавлялись пять дней, посвященных богам Осирису, Хору, Сетху, Исиде и Нефтиде. Начало года совпадало с появлением на небе звезды Сотис (Сириуса) 18 или 19 июля и разливом Нила.
(Прим. перев.)
(обратно)
63
Схенти — набедренная повязка (передник) из неширокой полосы льняной ткани.
(обратно)
64
Атон — солнечный диск, которому поклонялись при правлении Эхнатона.
(обратно)
65
Визирь — советник царя.
(обратно)
66
Систр — небольшой медный или бронзовый музыкальный инструмент типа погремушки; состоит из рукояти и рамки с тарелочками или колокольчиками.
(обратно)
67
Амон — царь богов и создатель всего сущего.
(обратно)
68
Анубис — бог-покровитель мертвых. Он взвешивает сердца на весах истины и решает, будут ли их обладатели продолжать путь по загробному миру. Часто изображался с головой шакала, потому что шакалов можно было встретить в Долине царей, где покоились мертвые.
(обратно)
69
Осирис — супруг богини Исиды; судья мертвых. Осириса убил его брат — бог Сет, который разбросал части его тела по всему Египту. Исида, собрав все части, оживила супруга, и Осирис стал символом вечной жизни. Осириса часто изображали как человека с бородой, одетого в погребальные пелены.
(обратно)
70
Дешрет — красная корона, символ власти над Нижним Египтом. Власть над Верхним Египтом символизировала высокая белая корона хеджет.
(обратно)
71
Шазу — кочевые племена, появившиеся в Египте около 1400 года до нашей эры.
(обратно)
72
Мауат — мать.
(обратно)
73
Фаянс — голубая или зеленая глазированная керамика, из которой изготавливались небольшие бусины и амулеты.
(обратно)
74
Миу — кот.
(обратно)
75
Исида — богиня красоты и колдовства; почиталась также как супруга и мать.
(обратно)
76
Клинопись — идеографическое письмо; клинописные знаки выдавливались на глиняных табличках. Изобретено шумерами, позднее принято хеттами.
(обратно)
77
Бес — бог-карлик, покровитель плодородия и материнства.
(обратно)
78
Акху — предки человека; бессмертная душа.
(обратно)
79
Сенет — считается первой в мире настольной игрой. Позднее приобрела религиозное значение и часто изображалась на гробницах.
(обратно)
80
Ра — бог солнца, часто изображавшийся в виде сокола.
(обратно)
81
Папирус — тростниковое растение, высушенные листья которого можно использовать для письма.
(обратно)
82
Сурьма — вид краски для ресниц и век, изготовлялась из сажи и растительного масла.
(обратно)
83
Сехмет — богиня войны и разрушения, изображаемая с львиной головой.
(обратно)
84
Наос — термин греческого происхождения, используемый египтологами для обозначения ковчега, содержащего статуэтку бога или богини.
(обратно)
85
Мут — богиня материнства и супруга Амона. Часто изображалась с головой кошки.
(обратно)
86
Хнум — бог; изображался как человек с головой барана, сидящий за гончарным кругом. Считалось, что Хнум лепит из глины живых существ и помещает их в материнскую утробу и, таким образом, является создателем жизни.
(обратно)
87
Ка — дух, или душа человека, которая создается одновременно с его рождением.
(обратно)
88
Празднество Уаг — египтяне верили, что в восемнадцатый день месяца тота души мертвых посещают заупокойные храмы. В этот день принято было почитать своих предков, принося им еду и воскуряя благовония.
(обратно)
89
Корона немес — корона в виде платка с золотыми и голубыми полосами. Немес изображен на саркофаге Тутанхамона.
(обратно)
90
Хабиру — малоизвестное племя, проживавшее на Аравийском полуострове между Средиземным морем и Персидским заливом. Упоминается древними египтянами, хеттами и шумерами.
(обратно)
91
Пару — считалось, что после смерти душа человека приходит в загробный мир — Дуат, и его сердце взвешивается на весах богини Маат, весах истины. Если сердце весит не больше перышка, душе человека позволяют идти в поля иару — небесные поля где-то на востоке.
(обратно)
92
Анх — символ жизни; по форме напоминает крест с петлей.
(обратно)
93
Алебастр — твердый белый минерал, добываемый близ города Алабастрон на территории Древнего Египта.
(обратно)
94
Менат — ожерелье — символ богини Хатор. Состояло из множества нитей с бусинами, к которым спереди прикреплялась небольшая пектораль, а сзади у ожерелья был декоративный наконечник, спускающийся на спину.
(обратно)
95
Дебен — кольцо определенного веса из золота, серебра или меди, применяемое в качестве денежной единицы.
(обратно)
96
Картуш — рамка с горизонтальной полосой внизу; в ней писалось тронное имя фараона.
(обратно)
97
Хор — бог солнца и неба, изображался с головой сокола.
(обратно)
98
Ибис — болотная птица с длинным изогнутым клювом.
(обратно)
99
Пер-меджат — библиотека.
(обратно)
100
Праздник Опет — самый значительный праздник в Фивах. В этот день статую Амона перевозили в лодке из карнакского храма в луксорский храм.
(обратно)
101
Северным морем египтяне называли Средиземное море.
(Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)
102
Заупокойный храм — храм, который возводился ради сохранения памяти об умершем; часто строился отдельно от усыпальницы.
(обратно)
103
Пилон — колонна, столб, обычно со скульптурными украшениями, стоящий в воротах здания.
(обратно)
104
Сет — злой бог пустыни и бурь, брат и убийца Осириса. Изображался с головой неизвестного животного, с рыжими волосами.
(обратно)
105
Сешед — диадема с уреем.
(обратно)
106
Корона хепреш — голубая корона, надеваемая на войне.
(обратно)
107
Жезл и
цеп — символы власти фараона, которые он держал в руках, напоминая, что он для своего народа — пастух (жезл или посох) и кормилец (цеп для обмолота зерна).
(обратно)
108
Нун — в египетской мифологии изначальное космическое божество, первозданный водный хаос.
(обратно)
109
Шен — символ вечности; знак, имеющий форму петли. Картуш — это вариант знака шен.
(обратно)
110
Маат — богиня правды и правосудия; часто изображалась в виде женщины с крыльями (или в короне с одним пером). Перо Маат клалось на весы при взвешивании сердца умершего, чтобы определить, достоин ли он перейти в Царство мертвых. Имя Маат было символом справедливости, честности и порядочности — свойств, которыми предписывалось обладать каждому египтянину.
(обратно)
111
Таурт — богиня, покровительница деторождения; часто изображалась в виде самки гиппопотама.
(обратно)
112
Египтяне называли свою страну «Кемет» — «Черная», по цвету почвы нильской долины.
(обратно)
113
Дес — древнеегипетская мера объема, приблизительно равная 0,5 литра.
(обратно)
114
Шедех — египетский напиток из сока гранатов или винограда.
(обратно)
115
Аммит — божество, изображаемое с телом льва и головой крокодила. Если сердце умершего человека весит больше, чем перышко богини Маат, Аммит пожирает его душу и обрекает на забвение.
(обратно)
116
Аби — ласковое обращение к отцу.
(обратно)
117
Саркофаг — каменная гробница, часто покрытая золотом.
(обратно)
118
Ушебти — маленькие статуэтки, помещаемые в гробницы в качестве слуг. Считалось, что в загробном царстве они будут выполнять за умершего все работы.
(обратно)
119
Шамаш — вавилонский бог солнца.
(обратно)
120
Дуат — подземный мир, куда каждую ночь опускается бог солнца Ра, чтобы поразить змея Апопи. Победив змея, Ра каждое утро возвращается на небо и несет земле солнечный свет.
(обратно)
121
Апопи — злой демон, изображался в виде змея.
(обратно)
122
Книга Врат — условное название древнеегипетского свода заупокойных текстов.
(обратно)
123
Канопы — сосуды, в которые при бальзамировании помещали важнейшие органы человека — печень, легкие, желудок, кишечник — для хранения в загробной жизни. На каждой канопе изображали голову одного из четырех сыновей Хора.
(обратно)
124
Книга Мертвых — условное название сборника египетских гимнов и религиозных текстов, который помещали в гробницу, чтобы помочь умершему преодолеть путь в царство мертвых.
(обратно)
125
Пшент — двойная корона, символ власти над Верхним и Нижним Египтом.
(обратно)
126
Бастет (Баст) — богиня солнца и луны. Кроме того, считалась богиней войны. Изображалась с головой львицы или кошки.
(обратно)
127
Птах — бог, покровитель зодчих и живописцев.
(обратно)
128
Урей — кобра на короне, символ власти; изображалась с раздутым капюшоном.
(обратно)
129
Монту — бог войны с головой ястреба.
(обратно)
130
Неарин — племя, упоминаемое в египетских источниках; считается, что неарин помогали Рамсесу в битве при Кадеше.
(обратно)
131
Тот — бог писцов, автор известной Книги Мертвых. Считался изобретателем речи и письменности и часто изображался с головой ибиса.
(обратно)
132
Книга Тота — легендарная книга, в которой, согласно преданию, содержатся тайные магические знания и заклятия.
(обратно)
133
Хаттуса — древняя столица Хеттского царства; ныне — турецкий город Богазкёй.
(обратно)
134
Свод законов Хаммурапи — один из древнейших сводов законов, относящийся к 1750 году до нашей эры. Законы записаны клинописью на стеле с изображением вавилонского бога солнца Шамаша. Стела была обнаружена в 1901 году и находится в Лувре. Вавилонский царь Хаммурапи считал, что боги выбрали его, чтобы он донес эти законы до своего народа.
(обратно)
135
англ. turbot, (лат. psetta maxima) – тюрбо или "большой ромб" крупная рыба рода камбалы, водится в Средиземном море. Переведено как "палтус" по причине использования именно такого варианта в издании АСТ в предыдущей книге серии.
(обратно)
136
Квинт Гораций Флакк (лат. Quintus Horatius Flaccus) – поэт "золотого века" древнеримской литературы. Немного искаженная цитата из второй книги Сатир.
(обратно)
137
Авл Персий Флакк (лат. Aulus Persius Flaccus) – поэт-сатирик "золотого века" древнеримской литературы. Несколько переделанная цитата из 6-ой сатиры.
(обратно)
138
Авентин (лат. Aventinus) – один из холмов Рима. В этом районе находится квартира Фалько.
(обратно)
139
Тит Флавий Веспасиан (лат. Titus Flavius Vespasianus) - старший сын Тита Флавия Веспасиана (старшего), императора Рима. Пока был жив отец, был его соправителем. В книге носит титул Цезарь (Caesar), хотя в это время это был титул императора. Титулом младшего соправителя титул Цезарь стал в III в. н.э., тогда как старший соправитель получал титул Август (Augustus), до этого оба титула были фактически синонимами.
(обратно)
140
Тит Флавий Веспасиан (старший) (лат. Titus Flavius Vespasianus) – римский император, правил с 69 по 79 гг. н.э. Им открывается период римской истории, известный как "пять хороших императоров".
(обратно)
141
Это не имя, это просто крыса.
(обратно)
142
англ. letting agent – посредник между владельцем имущества и арендатором. Собирает арендную плату за процент от сборов.
(обратно)
143
Претор (лат. praetor) – административная должность в Древнем Риме. Во времена императоров исполняли судебные функции.
(обратно)
144
Большой цирк (лат. Circus Maximus) – самый большой ипподром в Древнем Риме. Перестроен при Нероне (известен поэтому и как "Цирк Нерона", не путать с Цирком Калигулы - Нерона).
(обратно)
145
Латомийская тюрьма (греч. Lautumiae) – "Каменоломни" в переводе с греческого.
(обратно)
146
Форум (лат. Forum Romanum) – система площадей и общественных зданий в центре Древнего Рима. Служила центром общественной и политической жизни города и Империи.
(обратно)
147
Мамертинская тюрьма (лат. Carcer Tullianum) – старейшая тюрьма в Риме. Находится на Капитолийском холме. Название "Мамертинская" приобрела в средние века.
(обратно)
148
Субура (лат. Subura) – старый район Древнего Рима. Район трущоб.
(обратно)
149
Кампания – область в Италии, около Неаполя.
(обратно)
150
Эмпорий (лат. Emporium) – портовый и складской район в Риме. Так же крупный крытый рынок на берегу Тибра.
(обратно)
151
Храм Кастора (лат. Aedes Castoris) – один из старейших храмов на Форуме.
(обратно)
152
Порта Капена (лат. Porta Capena) – ворота в Древнем Риме. От них начинались Латинская дорога (лат. Via Latina) (вела в Капую) и Аппиева дорога (лат. Via Appia) (шла параллельно Латинской до Капуи, а потом сворачивала в Брундизий).
(обратно)
153
квадрант (лат. quadrans) – мелкая бронзовая монета в четверть асса.
(обратно)
154
Базилиа Юлия (лат. Basilica Iulia) – общественное здание на Форуме, построенное Юлием Цезарем. Место заседаний Сената, использовалось для проведения судебных разбирательств (в основном по имущественным вопросам) и для лавок менял.
(обратно)
155
сестерций (лат. sestertius) – в I в.н.э. латунная монета стоимостью в 4 асса.
(обратно)
156
Сословие "всадников" (лат. equites). Минимальное состояние для включения в это сословие составляло 400 000 сестерциев. Позволяло занимать ряд должностей и вступать в брак с представителями патрицианского сословия.
(обратно)
157
Остия (лат. Ostia) – античный порт Рима в устье Тибра.
(обратно)
158
Марк Лициний Красс (лат. Marcus Licinius Crassus) – римский политик и военачальник I в.д.н.э., скопил огромное богатство на сделках с недвижимостью и сборах арендной платы.
(обратно)
159
Автор романа англичанка, а в Англии первый этаж называется "наземным", "второй" - "первым" и т.д.
(обратно)
160
Обращение на "Вы" в Древнем Риме возникло только с III века н.э., и до V века применялось только по отношению к императору.
(обратно)
161
денарий (лат. denarius) – серебряная монета, стоимостью, первоначально в 10, затем в 16 медных ассов.
(обратно)
162
Широкая дорога (лат. Via Lata) – северный район города. Через него в город входила Фламиниева дорога, которая проходила через весь район и переходила в городскую улицу Via Lata.
(обратно)
163
Холм Пинций (лат. Mons Pincius) – холм в северной части Рима. Был застроен богатыми виллами и засажен садами. Другое название Collis Hortorum (Садовый холм).
(обратно)
164
Фламиниева дорога (лат. Via Flaminia) – важная римская дорога, которая вела из древнего Рима на север, в сторону Аримина (совр. Римини).
(обратно)
165
Длинная улица (лат. Vicus Longus) – улица, проходившая вдоль долины, разделявшей холмы Квиринал и Виминал.
(обратно)
166
квинарий (лат. quinarius) – золотая монета в половину ауреуса (лат. aureus). Равна по стоимости 200 ассам. Под этим же названием ходила серебряная монета в 8 ассов.
(обратно)
167
Луций Лициний Лукулл (лат. Lucius Licinius Lucullus) – римский политик и военачальник I в.д.н.э., скопил огромные богатства за счет военной добычи, взятой в Понтийском царстве и Армении.
(обратно)
168
Валерия Мессалина (лат. Valeria Messalina) – третья жена императора Клавдия. Отличалась крайне распущенным поведением.
(обратно)
169
Фидий – древнегреческий скульптор.
(обратно)
170
Возможно Corona Vallaris – награда за взятие полевого укрепления.
(обратно)
171
Бывший хозяин раба. После освобождения вольноотпущенник юридически подчинен своему бывшему владельцу и выступает как клиент, поддерживая своего патрона, получая взамен покровительство в делах и в суде.
(обратно)
172
Гора на острове Крит.
(обратно)
173
Римская игра типа шашек. Реконструирована при раскопках лагеря римского легиона в Британии благодаря находке доски с шашками в позиции после первых ходов.
(обратно)
174
Гимет (греч.Hymettus) – гора в Греции, на востоке от Афин.
(обратно)
175
Гибла (греч. Hybla) – гора в Сицилии.
(обратно)
176
Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик (лат. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus) – римский император, правил после убийства преторианцами императора Калигулы с 41 по 56 гг. н.э. Провел ряд правовых реформ, укрепивших власть императора, и завоевал Британию.
(обратно)
177
Лаций (лат. Latium) – регион в центральной части античной Италии. Центром области являлся Рим.
(обратно)
178
Эсквилин (лат. Mons Esquilinus) – один из семи холмов Рима. Расположен на востоке города.
(обратно)
179
Кумы (лат. Cumae) – город недалеко от Неаполя. Курорт с античных времен.
(обратно)
180
фасции (лат. fasces) – пучок прутьев, обвязанный красной лентой с воткнутым в пучок топориком. Символ власти магистрата в Древнем Риме. Фасции носили ликторы, разным чинам полагалось разное число ликторов.
(обратно)
181
ликтор (лат. lictor) – почетный охранник при должностном лице в Древнем Риме.
(обратно)
182
эдил (лат. aedilis) – мелкий выборный чиновник в Древнем Риме, в императорский период нес полицейские функции и надзирал за банями, тавернами и т.п. в одном из городских округов.
(обратно)
183
цензор (лат. censor) – выборный чиновник в Древнем Риме, следил за нравственностью и проводил финансовый контроль.
(обратно)
184
Делос – остров в Эгейском море. Крупнейший рынок рабов в Средиземноморье.
(обратно)
185
Мавретания (лат. Mauretania) – римская провинция в Северной Африке, на месте Западного Алжира и Северного Марокко.
(обратно)
186
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (лат. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) – римский император (54 - 68 гг.н.э.). При нем случился Великий Пожар (64 г.н.э.), длившийся пять дней, уничтоживший большую часть Рима (10 районов из 14). Императора подозревали в поджоге города. Нерон свалил всю вину на христиан.
(обратно)
187
Вифиния – страна в Малой Азии, на южном берегу Босфора.
(обратно)
188
Яникул (лат. Mons Janiculus) – холм на правом берегу Тибра.
(обратно)
189
Мост Проба (лат. Pons Probi) – анахронизм. Мост императора Проба построен через 200 лет после времени действия романа.
(обратно)
190
Остийская дорога (лат. Via Ostiensis) – важная дорога, связывала Рим с портовым городом Остией в устье Тибра.
(обратно)
191
Публичные рыбные садки (лат. Piscina Publica) – двенадцатый округ Древнего Рима. На юге города.
(обратно)
192
Целий (лат. Caelimontium) – второй округ Древнего Рима. На юго-востоке города, на холме Целий. Престижный район.
(обратно)
193
Портик Клавдия (лат. Porticus Claudia) – старинные ворота на Целийском холме. Примыкали к храму Клавдия. Были разрушены при Нероне.
(обратно)
194
Ослиные ворота (лат. Porta Asinaria) – анахронизм. Ворота будут построены через 200 лет после времени действия романа.
(обратно)
195
Счетная улица – вымышленная улица (Abacus Street у автора).
(обратно)
196
Священная дорога (лат. Via Sacra) – главная улица Древнего Рима. Соединяла Палатинский холм с Капитолийским.
(обратно)
197
Аппиева дорога (лат. Via Appia) – одна из важнейших дорог Италии. Вела из Рима на юго-восток, в Капую.
(обратно)
198
Атриум Свободы (лат. Atrium Libertatis) – ошибка автора, речь должна идти о портике храма Свободы (Aedes Libertatis), а не о созвучном Атриуме Свободы. Храм Свободы располагался как раз на Авентинском холме, а Атриум Свободы входил в число общественных зданий Форума.
(обратно)
199
Гай Азиний Поллион (лат. Gaius Asinius Pollio) – военачальник и писатель. Отреставрировал портик храма Свободы на Авентине и учредил в нем первую публичную библиотеку Рима.
(обратно)
200
стола (лат. stola) – женское платье в Древнем Риме.
(обратно)
201
Бетика (лат. Baetica) – римская провинция на юге Пиренейского полуострова.
(обратно)
202
Театр Марцелла (лат. Theatrum Marcelli) – расположен на берегу Тибра.
(обратно)
203
гарум (лат. garum) – соус из перебродившей мелкой рыбы.
(обратно)
204
Лукания – область на юге Италии.
(обратно)
205
стригил (лат. strigil) – серповидный скребок для очищения поверхности кожи от пота и грязи.
(обратно)
206
Ливия.
(обратно)
207
Октавиан Август (лат. Octavianus Augustus) – римский император (27 г.д.н.э. - 14 г.н.э.). Основатель Римской империи.
(обратно)
208
Ромул (лат. Romulus) – легендарный основатель Рима. По преданию вскормлен вместе с братом Ремом волчицей.
(обратно)
209
Семь холмов Рима: Авентин, Виминал, Капитолий, Квиринал, Палатин, Целий, Эсквилин. Из древних поселений на этих холмах сложился город Рим.
(обратно)
210
Золотой Дом (лат. Domus Aurea) – огромный дворцово-парковый комплекс. Строительство началось при Нероне, но не закончилось, и при императоре Тите (79 - 81 гг.н.э.), после очередного пожара, дворец был разобран.
(обратно)
211
Тускул (лат. Tusculum) – античный город в 24 км от Рима. Место загородного отдыха состоятельных древних римлян.
(обратно)
212
Тюхе (греч. Τύχη) – судьба, удача.
(обратно)
213
Фортуна – римская богиня удачи.
(обратно)
214
Римская Кампанья (лат. Сampagna romana) – область вокруг Рима. Важный сельскохозяйственный район.
(обратно)
215
Янус – римский бог дверей, входов и выходов.
(обратно)
216
Марс Мститель (лат. Mars Ultor) – один из эпитетов бога Марса. Его храм стоял на Форуме.
(обратно)
217
В Древнем Риме существовал закон, разрешавший движение колесных повозок только в промежуток времени от заката до рассвета.
(обратно)
218
Преторианцы – императорская гвардия в Древнем Риме (времена ранней империи).
(обратно)
219
В римской мифологии, "грации" это благодетельные богини, олицетворяющие радостное, доброе и вечно юное начало жизни.
(обратно)
220
Период с 6 июня 68 г.н.э. (Сенат сверг Нерона) до 1 июля 69 г.н.э. (императором стал Веспасиан). За это время в Риме в результате переворотов сменилось три императора.
(обратно)
221
Цирк Нерона (лат. Circus Gai et Neronis) – арена для скачек около Ватиканского холма. Строительство начато при императоре Калигуле, закончено при императоре Нероне.
(обратно)
222
ланолин – воскоподобное вещество, содержащееся на шерсти овец.
(обратно)
223
Фалернское вино (лат. Vinum Falernum) – вино из северной Кампании. Считалось самым лучшим сортом и стоило в четыре раза больше обычного.
(обратно)
224
Авентин входил в тринадцатый административный район Древнего Рима.
(обратно)
225
Фракия – область на севере Греции.
(обратно)
226
Триклиний (лат. triclinium) – комната для приема пищи у римлян. Названа так, потому что по традиции в ней стояло три ложа "клинии" (с греч.) (римляне считали, что есть прилично лежа).
(обратно)
227
Сидон – город в Финикии. Сейчас Сайда в Ливане.
(обратно)
228
Норик (лат. Noricum) – римская провинция на территории современной Австрии.
(обратно)
229
ярь-медянка – ацетат меди. Сильный яд.
(обратно)
230
ростра (лат. rostra) – ораторская трибуна на Римском Форуме.
(обратно)
231
гимнасий (лат. gymnasium) – площадка или строение для гимнастических упражнений.
(обратно)
232
Ио – героиня одного из греческих мифов.
(обратно)
233
Палатин (лат. Palatinus) – центральный холм Рима. На нем строили свои дворцы императоры, начиная с Августа.
(обратно)
234
Сабина (лат. Sabina) – регион в центральной Италии, северо-восточнее Рима. Область обитания племени сабинов.
(обратно)
235
Одежда, полностью окрашенная пурпуром, считалась символом императорской власти.
(обратно)
236
В римском цирке существовало четыре партии колесниц: белые, красные, синие и зеленые. Партии являлись прообразом современных спортивных и фанатских клубов. В византийскую эпоху партии ипподрома играли и политическую роль.
(обратно)
237
Септа Юлии (лат. Saepta Julia) – строение на Марсовом поле в Риме. Было построено Августом для проведения голосований среди римских граждан.
(обратно)
238
Марк Сальвий Отон (лат. Marcus Salvius Otho) – римский император, правил после убийства преторианцами императора Гальбы в течении трех месяцев 69 г. н.э. Отличался распутным поведением.
(обратно)
239
Флавия Домицилла Старшая (лат. Flavia Domitilla Major) – жена Веспасиана, умерла за несколько лет до событий, описываемых в романе.
(обратно)
240
В оригинале "half a yard", что соответствует римской единице длины - локтю (kubit) - 44 см.
(обратно)
241
"Ежедневные дела римского народа" (лат. Acta diurna populi Romani) – рукописная ежедневная газета, издание которой начал Юлий Цезарь. Просуществовала до середины III в.н.э. Публиковала официальные сообщения, светскую хронику, сообщения о громких судебных делах, происшествиях и т.п.
(обратно)
242
Серебряный склон (лат. Clivus Argentarius) (в тексте ошибочно Vicus Argentarii) – улица в Древнем Риме, шла от Форума вдоль склона Капитолийского холма. На ней располагались мастерские по серебру и лавки менял.
(обратно)
243
вигилы (лат. vigiles) – городская стража в Древнем Риме. Занималась контролем за соблюдением мер противопожарной безопасности, и тушила пожары. Формировались из вольноотпущенников, за службу они получали римское гражданство и земельный надел.
(обратно)
244
Гней Юлий Агрикола (лат. Gnaeus Julius Agricola) – римсктй полководец I в.н.э. Родом из Южной Галлии из поселения Форум Юлия.
(обратно)
245
намек на Гая Корнелия Галла (лат. Gaius Cornelius Gallus) – римского поэта и государственного деятеля начала I в.н.э. Родился в поселении Формум Юлия (там же, где и Агрикола).
(обратно)
246
Форум Юлия (лат. Forum Iulii) – портовый город основанный Юлием Цезарем, был столицей провинции Нарбонская Галлия. Современный Фрежюс в Провансе, Франция.
(обратно)
247
При Республике и ранней Империи Галлия делилась на три провинции: Нарбонская Галлия (лат. Gallia Narbonensis) на юге, Аквитания (лат. Gallia Aquitania) на западе и Лугдунская Галлия (лат. Gallia Lugdunensis) на севере.
(обратно)
248
мирра и кассия – ароматические вещества, добываемые из растений Ближнего Востока.
(обратно)
249
Байи (лат. Baia) – приморский город на берегу Неаполитанского залива.
(обратно)
250
Геспериды, по греческому мифу дочери титана Атласа. Ухаживали за садом, где росли плоды бессмертия.
(обратно)
251
мульсум (лат. mulsum) – древнеримский напиток из вина и мёда.
(обратно)
252
Меластома (лат. Melastoma) (в книге Malabathrom) – цветковое растение с Малабарского побережья Индии. Обладает пряным запахом.
(обратно)
253
Сетийское вино – вино из города Сеттия (лат. Setia), сейчас горд Сецца, в Лациуме. Очень ценилось императором Августом.
(обратно)
254
легат (лат. legatus) – должностное лицо в Древнем Риме. Служебные функции в разное время менялись. Во времена Веспасиана в основном послы, особые порученцы императора, командующие легионами, заместители магистратов (преторов и т.п.). Здесь просто вежливое обращение к вышестоящему по званию.
(обратно)
255
скрупул (лат. scrupulum) – единица веса, 1.137 грамма.
(обратно)
256
Сенаторы на тоге носили широкую пурпурную полосу.
(обратно)
257
Беллерофонт – герой греческого мифа. Укротил Пегаса.
(обратно)
258
фригийцы – народность из Малой Азии. Здесь, вероятнее всего, охранники названы по типу вооружения, характерному для фригийцев (кинжал и метательные копья), а не по происхождению.
(обратно)
259
Квиринал (лат. Collis Quirinalis) – самый высокий из холмов Древнего Рима. Находился на северо-востоке от исторического центра города.
(обратно)
260
Соляные ворота (лат. Porta Salaria) – ворота в северо-восточной части города. Анахронизм, т.к. были построены императором Аврелианом через двести лет после времени действия романа.
(обратно)
261
Храм Сатурна (лат. Templum Saturni) – расположен на Форуме, один из древнейших храмов Рима. Во времена Республики в нем хранилась государственная казна и казначейский архив.
(обратно)
262
триба (лат. tribus) – территориальные и избирательные округа в Древнем Риме. Триба Галериев состояла первоначально из представителей рода Галериев, возвысившегося при династии Юлиев-Клавдиев.
(обратно)
263
Пенелопа – супруга Одиссея, героиня поэмы Гомера. Занималась ткачеством.
(обратно)
264
Не очень понятно, альбанский праздник отмечался в середине лета, а по календарю - август…
(обратно)
265
Исида и Серапис (лат. Isis et Serapis) – район Древнего Рима к востоку от Форума.
(обратно)
266
Римский Форум (лат. Forum Romanum) состоял из нескольких частей, отделенных общественными зданиями и храмами. Юлиев Форум (не путать с одноименным городом в Нарбоннской Галлии) был построен Юлием Цезарем, и известен и как Форум Цезаря.
(обратно)
267
Курия Юлия (лат. Curia Iulia) – общественное здание на Римском Форуме, предназначенное для заседаний Сената.
(обратно)
268
Марсово поле (лат. Campus Martius) – располагалось на левом берегу Тибра, в его излучине.
(обратно)
269
хетты – древняя народность на территории Малой Азии, столица их империи находилась на территории современной Турции. К I в.н.э. народность полностью исчезла. Ранее эти телохранители названы фригийцами, вероятно автор использовал название "хетты", взамен слова "hatjos", так на протоармянском называли себя предки армян и фригийцев (оно происходит от слова "хетты").
(обратно)
270
Храм Венеры-Прародительницы (лат. Templum Veneris Genetricis) – храм был построен Юлием Цезарем на Форуме Юлия. От Венеры (Афродиты) считалось шел род Юлиев.
(обратно)
271
Тимомах – греческий художник I в. до н.э. Родом из Византия.
(обратно)
272
фраза в оригинале "More front than the beach at Baiae!", происходит от английской идиомы (характерной для лондонских кокни) "more front than …", где "front" это сокращение от слова "effrontery". В целом фраза имеет смысл: "преувеличивающий свои силы".
(обратно)
273
1 сентября.
(обратно)
274
Император Нерон был похоронен в фамильной усыпальнице на холме Пинций.
(обратно)
275
Традиционная процедура заключения брака в Древнем Риме оформлялась как юридическая сделка между сторонами вступающими в брак.
(обратно)
276
Большая часть Рима лежит на одном берегу Тибра. Районы за Тибром долгое время не считались входящими в городскую черту.
(обратно)
277
Александр Македонский. Славился малым ростом, он составлял всего 150 см.
(обратно)
278
фраза в оригинале звучит как "I would not trust him as far as I could see up a camel's backside at midnight". Но оборот "верил не далее" не характерен для русского языка.
(обратно)
279
двери храма Януса в Риме были открыты, если Рим вел какую-либо войну. Плутарх писал, что запирать его двери случалось очень редко когда.
(обратно)
280
Аврелиева дорога (лат. Via Aurelia) – вела из Рима на север вдоль побережья Тирренского моря, через Пизу к Генуе.
(обратно)
281
Свайный мост (лат. Pons sublicius) – старейший мост на Тибре в черте города Рима.
(обратно)
282
Транстиберин (лат. Transtiberim) – район на западном берегу Тибра.
(обратно)
283
Калигула (лат. Caligula — "сапожок") – прозвище римского императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus), правившего с 37 по 41 гг.н.э. Он отличался сумасбродством и расточительностью.
(обратно)
284
Текст надписи: "D(is) + M(anibus) C(aio) + CERINTHO + LIB(ertus) + C(aii) + SEVER(i) + MOSC(i) + VIXIT + XXVI + ANN(os) + SEVERINA + ZOTICA + LIB(ertina) + SEVERI + FECIT". Имя Gaius сокращенно писалось литерой C, только если имя писалось полностью, употреблялась литера G. В надписи автор допустил ошибки в падежах, неправильно расставлены разделители слов и неправильный порядок слов. Должно было быть примерно так: "D + M + C + CERINTHI + C + SEVER + MOSC + LIB + VIXIT + XXVI + ANN + SEVERINA + ZOTICA + SEVERI + LIB + FECIT"
(обратно)
285
Маны (лат. Manes) – добрые духи умерших.
(обратно)
286
Парки (лат. Parcae) – три богини судьбы у древних римлян.
(обратно)
287
Дом Весталок (лат. atrium Vestae) – находился на Форуме, рядом с храмом Весты. Римляне часто отдавали на хранение весталкам важные документы и ценности.
(обратно)
288
Юба II – царь Мавретании (годы жизни 50 г. до н.э. - 23 г. н.э.), сын Юбы I. Считался другом Рима. Был женат на Клеопатре Селене II из династии Птолемеев. Написал несколько научных трудов, в том числе по ботанике.
(обратно)
289
Клеопатра Селена II – принцесса из династии Птолемеев, дочь римского полководца Марка Антония и царицы Египта Клеопатры VII.
(обратно)
290
Марк Антоний (лат. Marcus Antonius) – римский политический деятель и военачальник. Годы жизни 83 - 30 гг. до н.э. Был начальников кавалерии у Юлия Цезаря. После смерти Цезаря соперничал с Октавианом. Покончил с собой в Египте после поражения в битве у Акциума.
(обратно)
291
эдил — должностное лицо в Древнем Риме, помощник народного трибуна. —
Примеч. пер.
(обратно)
292
ныне город Кельн. —
Примеч. пер.
(обратно)
293
Таунус — горы в Германии, на севере Рейнско-Майнской равнины. —
Примеч. пер.
(обратно)
294
примерно 15 метров. —
Примеч. пер.
(обратно)
295
Рожон – кол либо длинная заостренная палка, которой подгоняли волов, отставших от стада. (
Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)
296
Могунтиакум – латинское название г. Майнца.
(обратно)
297
Сармизегетуза находилась в горах Орэштие на территории современной Румынии.
(обратно)
298
Ранисторий – неустановленная деревня в Дакии.
(обратно)
299
Вайда – растение семейства крестоцветных, разводимое для получения красильного вещества индиго.
(обратно)
300
Таранис – бог грома в кельтской мифологии.
(обратно)
301
Звездочка рядом с именем означает реальный исторический персонаж.
(обратно)
Оглавление
Жеральд Мессадье
«Гнев Нефертити»
ЧАСТЬ I
КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА
Пыль, запах, колдовство
Напуганный шпион
Дерзость мух
Месть женщины
«Kherouy Apopisso!»
Стеклянный взгляд
Прерванное наслаждение
Пустая статуя
Обращение к Сехмет
Полет божественной птицы
Пленница
Подслушивающий мальчик
Клятва и обман
Провокационное знамя
Настой цветков апельсинового дерева
Сорок три кобры и злая корова
Слуга по приказу
Волы, овцы, гуси, сернобыки, гиены и весть
Приготовления и горечь, или сова и попугай
Где заканчивается Великая Река?
ЧАСТЬ II
ЛОТОСЫ АНУБИСА
Возвращение шакала
Архивные документы
Погребальный скандал
Пощечина
Позор
Мерзавец
Вино власти
Пот живого бога
Призрачный демон
Обращение к перевернутой голове
Проснувшийся кошмар
Пленница, дерево, сумасшедшая змея
Враги Осириса
Тысяча золотых колец
Возбуждение Пасара, возбуждение Анубиса
«Красивый мальчик, покоряющий сердца»
«Он писал гимны…»
Отец по доверенности
Время бальзамировщиков
Бегство из Египта
Биографические заметки о персонажах романа
Жеральд Мессадье
«Маски Тутанхамона»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СТРАНА, ЦАРЕМ КОТОРОЙ БЫЛ РЕБЕНОК
1
ТАИНСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
2
ТО, ЧТО ЗНАЛА ЦАРЕВНА
3
«ЛУЧШЕ КУПИ ОБЕЗЬЯНКУ»
4
К ЧЕМУ ЭТОТ МАСКАРАД?
5
ВОРОБЕЙ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ЯСТРЕБОМ
6
НОЧЬ ЛИС И НОЧЬ В АСТАРТЕ
7
КОБРА
8
МЫШОНОК — ЦАРЬ ЛЬВОВ
9
СИРОТЫ
10
ПРОБУЖДЕНИЕ ДЕМОНА АПОПА
11
НЕНАСТОЯЩИЙ МУЖ И РАЗДОСАДОВАННЫЙ МУЖ
12
ПЫЛЬ ПРОШЛОГО
13
СОРОК ВТОРОЙ ПРЕСТУПНИК
14
ВЕРХОМ НА СЛОНЕ
15
НИЗШИЕ БОГИ И ВЫСШИЕ ДЕМОНЫ
16
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЯСТРЕБ
17
ОБВИНЕННЫЕ СУДЬИ
18
САМЫЙ ПЛОХОЙ ВЕЧЕР ШАБАКИ
19
МАСКИ ЦАРЯ
20
САДОВНИК ДОМА ЖИЗНИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КРОВАВАЯ ДОРОГА
21
ЦАРЬ-БАБОЧКА С БРОНЗОВЫМИ КРЫЛЬЯМИ
22
СТЕЛА И СУМАСШЕСТВИЕ
23
НАЧАЛЬНИК КОНЮШЕН
24
НЕСКОНЧАЕМАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
25
СЫН СОПРОВОЖДАЕТ СВОЕГО ОТЦА В ГАРЕМ
26
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВООБРАЗИЛ СЕБЯ БОГОМ
27
ЭСКИЗЫ БОТАНИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ БУРИ
28
БОЖЕСТВЕННОЕ СЕМЯ
29
НИКТО НЕ ВЛАСТЕН ПОМЕШАТЬ ПРИХОДУ НОЧИ
30
БИТВА БОГОВ
31
МОЛЧАНИЕ И МОЛОТОК
32
ПЛАТА ЗА СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
33
ВЗБУЧКА
34
ПРИКАЗ, ОТДАННЫЙ ЛЬВОМ
35
МОГИЛА НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
36
ОТКРЫТИЕ РТА
37
ВЕЛИКОЛЕПИЕ И ПОЗОР
38
ГНЕВ АПОПА
39
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДВОРЦА, ОХВАЧЕННОГО ТРЕВОГОЙ
40
ДЕТИ ИСИС
Эпилог
Кратко о событиях этого романа
Регентство Ая
Соперничество между Аем и Хоремхебом
Недуг Тутанхамона
Неслучайная смерть Тутанхамона
Беспорядочные похороны и дело масок
Жеральд Мессадье
«Триумф Сета»
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
МОГУЩЕСТВО СЕТА
1
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
2
НА МЕСТЕ СОЛНЦА — ЛУНА
3
ТЕМНОЕ ДЕЛО ДОМОВ ТАНЦЕВ
4
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНЫЕ ДЕВЫ
5
ВЕЧЕР ВО ВРЕМЯ БУРИ У ПОЛКОВОДЦА ХОРЕМХЕБА
6
«ИСИС — ВЕЧНАЯ НЕВЕСТА ПЕЧАЛИ…»
7
ПОЖАР
8
ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ ЗАУПОКОЙНАЯ РЕЧЬ В ЧЕСТЬ ПРЕДАННОГО, НО БЕЗРАССУДНОГО КОМАНДИРА
9
ЦАРИЦА ПОДЫСКИВАЕТ ЦАРЯ
10
«КАКОВ ВЫСКОЧКА!»
11
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ И ОБЫЧНЫЕ МАХИНАЦИИ
12
ДРЕССИРОВЩИКИ КРЫС
13
ПРОВОКАЦИЯ, СМУТА И ПОТАСОВКА
14
«У ТРОНА ВСЕГДА ТОЛЬКО ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ»
15
СРАЖЕНИЕ У ДЕРЕВНИ «ПЯТЬ СВИНЕЙ»
16
УНИЖЕНИЕ И НЕНАВИСТЬ
17
ОБОЛЬЩЕНИЕ ЦАРЕВНЫ
18
ЛУКАВСТВО И БОГИ
19
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРОСТОЛЮДИНА
20
НЕЗАКОНЧЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
УЗНИЦА
21
ЦАРИЦА НА БАРЕЛЬЕФЕ
22
ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОГОВ
23
ЖЕНЩИНА ПРОТИВ КОЛОССА
24
ПРЕЗРЕНИЕ
25
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП И ВОЕННОЕ МОГУЩЕСТВО
26
ОСКОЛКИ СТЕКЛА, РАЗБРОСАННЫЕ ДИКОЙ СВИНЬЕЙ ВОЗЛЕ ЛАП ЛЬВА
27
ПОРАЖЕНИЕ ЦАРИЦЫ
28
«МАРГИ»
29
ВРЕМЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ
30
НЕВОЗМОЖНАЯ ПОДПИСЬ
31
«БОГИ ИЗМАТЫВАЮТ МИР»
32
БОЖЕСТВЕННЫЕ САРКАЗМЫ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
33
ВТОРЫЕ ПОХОРОНЫ ПОЧТИ НИЧЕГО
34
НЕБЫВАЛОЕ ПИСЬМО
35
ОФИЦИАЛЬНАЯ… ТАЙНА!
36
НАСТРОЕНИЕ БОГОВ
37
ОБРАЩЕНИЕ К ПАЗУЗУ
38
ЗНАК КРАСНОГО ГОРА
39
ПРОШЛОЕ ПРИЯТНЕЕ БУДУЩЕГО
40
«УБИВАЮТ МЕРТВЫХ!»
Исторические персонажи романа
Анкесенамон
Ай
Ивриты
Хоремхеб
Гуя
Майя
Меритатон
Рамзес I
Суппилулиума
О событиях этого романа
Столь странные ранние смерти
Озадачивающая стерильность
Письмо Суппилулиуме
Мишель Моран
НЕФЕРТИТИ
От автора
Пролог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Послесловие
Мишель Моран
Нефертари. Царица египетская
От автора
Пролог
Глава первая
ЦАРЬ ВЕРХНЕГО ЕГИПТА
Глава вторая
ТРИ СТРОЧКИ КЛИНОПИСЬЮ[76]
Глава третья
КАК СЛУШАЮТ КОШКИ
Глава четвертая
ПУТИ БОГИНИ ХАТОР
Глава пятая
СЛАДКИЙ АРОМАТ ИНЖИРА
Глава шестая
ПРАЗДНЕСТВО УАГ
Глава седьмая
МОЛИТВА БОГИНЕ СЕХМЕТ
Глава восьмая
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Глава девятая
ТОЛЬКО СВАДЬБА
Глава десятая
СВАДЬБА ФАРАОНА НАЧИНАЕТСЯ НА ВОДЕ
Глава одиннадцатая
В ТРОННОМ ЗАЛЕ
Глава двенадцатая
НАРОД ГОЛОДАЕТ
Глава тринадцатая
КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СЕБЯ
Глава четырнадцатая
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ВЗАМЕН
Глава пятнадцатая
АХМОС ХАЛДЕЙСКИЙ
Глава шестнадцатая
ДА ХРАНИТ НАС АМОН!
Глава семнадцатая
КОГО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ?
Глава восемнадцатая
ВСЯ ПРАВДА
Глава девятнадцатая
В ЛАПАХ СЕХМЕТ
Глава двадцатая
СЕВЕРНОЕ МОРЕ
Глава двадцать первая
ПЕР-РАМСЕС
Глава двадцать вторая
ДОЛИНА СПЯЩИХ ЦАРЕЙ
Глава двадцать третья
РА — НАШ ВЛАДЫКА
Глава двадцать четвертая
СПРАВА ОТ ФАРАОНА
Глава двадцать пятая
У СТЕН КАДЕША
Глава двадцать шестая
ТЯЖЕЛОЕ ОДЕЯНИЕ БОГА ПТАХА
Глава двадцать седьмая
СМЕРТЬ ОТ КЛИНКА
Глава двадцать восьмая
ПОТОМУ ЧТО ПТАХ НИЗВЕРГ ТВОИХ ВРАГОВ
Глава двадцать девятая
ТВОИ АКХУ БУДУТ РЯДОМ С МОИМИ
Исторический комментарий
Глоссарий
Календарь
Послесловие автора
Линдсей Дэвис
«Серебрянные слитки»
Действующие лица
ЧАСТЬ I
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
ЧАСТЬ II
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34
Глава 35
Глава 36
Глава 37
ЧАСТЬ III
Глава 38
Глава 39
Глава 40
Глава 41
Глава 42
Глава 43
Глава 44
Глава 45
Глава 46
Глава 47
Глава 48
Глава 49
Глава 50
Глава 51
Глава 52
Глава 53
Глава 54
Глава 55
Глава 56
Глава 57
Глава 58
Глава 59
Глава 60
Глава 61
Глава 62
Глава 63
Глава 64
Глава 65
Глава 66
Комментарии
Примечания
Линдсей Дэвис
«Заговор патрициев, или Тени в бронзе»
Действующие лица
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
РИМ
Поздняя весна, 71 г.н. э
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИК В КРОТОНЕ
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ (Великая Греция)
Несколько дней спустя
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ТИХИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Конец июня
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ИГРА НА АРФЕ В ГЕРКУЛАНУМЕ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Июль
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЗАЛИВ НЕАПОЛЯ
Июль
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ДОМ НА КВИРИНАЛЕ
РИМ
Август
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
Линдсей Дэвис
«Венера из меди»
Главные действующие лица:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
XLVII
LXVIII
Кейт Куинн
Хозяйка Рима
ЧАСТЬ 1
ЮЛИЯ
В храме Весты
ПРОЛОГ
Тея
Глава 1
Тея
Глава 2
Тея
Тея
Тея
Глава 3
Лепида
Тея
Глава 4
Тея
Глава 5
Тея
Лепида
Тея
Глава 6
Тея
Глава 7
Тея
Тея
ЧАСТЬ 2
ЮЛИЯ
В храме Весты
Глава 8
Лепида
Лепида
Глава 9
Тея
Лепида
Лепида
Глава 10
Тея
Лепида
Глава 11
Лепида
Глава 12
Лепида
Лепида
Тея
Глава 13
Лепида
ЧАСТЬ 3
ЮЛИЯ
В храме Весты
Глава 14
Тея
Рим
Глава 15
Лепида
Глава 16
Тея
Рим
Тея
Глава 17
Тея
Глава 18
Тея
Глава 19
Тея
Глава 20
Тея
Рим
Тея
Тея
Тея
Тея
Тея
ЧАСТЬ 4
ХРАМ ВЕСТЫ
Глава 21
Лепида
Тиволи
Глава 22
Глава 23
Тиволи
Рим
Лепида
Глава 24
Тиволи
Рим
Глава 25
Тея
Тиволи
Рим
Глава 26
Лепида
Рим
Тея
Лепида
Глава 27
Рим
Рим
Лепида
Глава 28
Тея
Рим
Тиволи
Глава 29
Рим
ЧАСТЬ 5
ЮЛИЯ. В ПОСЛЕДНЕМ ХРАМЕ
Глава 30
Тея
Лепида
Глава 31
Тея
Глава 32
Лепида
Тея
Лепида
Глава 33
Лепида
Лепида
Лепида
Глава 34
Лепида
Тея
Лепида
Глава 35
Тея
Тея
ОТ АВТОРА
Кейт Куинн
Дочери Рима
Пролог
Часть I
ГАЛЬБА
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Часть II
ОТОН
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Часть III
ВИТЕЛЛИЙ
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Часть IV
ВЕСПАСИАН
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 24
Эпилог
Послесловие
Кейт Куинн
Императрица семи холмов
Об авторе
Часть I. Рим
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Часть II. Дакия
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Часть III. Парфия
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Историческая справка
Действующие лица
*** Примечания ***

 Все это не имело никакого смысла. Анкесенамон не знала математики, но беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что цифры не были расположены последовательно ни в одном, ни в другом столбце. Кроме того, она сомневалась, что Сати увлекалась расчетами на досуге.
— Что это за дощечка? — повторила она вопрос.
Сати вздохнула.
— Магический способ узнать судьбу.
— Узнать судьбу? Как?
— Надо знать дату рождения человека и имя, которое он получил при рождении. Затем подсчитываем количество лунных месяцев, которые он прожил, и количество дней, оставшихся до конца текущего лунного месяца. Если первая цифра в количестве месяцев, которые он прожил, оказывается среди цифр в верхнем столбце, он будет жить. Если она среди цифр в нижней части, он умрет. Если количество дней, которые остаются в лунном месяце, фигурирует вверху, этот человек будет жить. Если внизу, он умрет.[29]
Анкесенамон нахмурила брови.
— Для кого ты сделала эти расчеты? — спросила она.
— Ни для кого.
— Для меня?
— Нет, госпожа, я тебе в этом клянусь.
— Для кого тогда?
Сати подняла на нее опечаленный, но упрямый взгляд. Охваченная неистовой тревогой, Анкесенамон стала трясти опустившуюся на корточки кормилицу.
— Ответь мне! Я не уйду из этой комнаты, пока ты мне не ответишь!
Сати закрыла лицо руками.
— Я их сделала для мужчины, — сказала она наконец.
Анкесенамон отступила.
— Какого мужчины?
Сати покачала головой.
— Для мужчины.
Почему она отказывалась отвечать? Очевидно, это означало, что мужчина был важным человеком.
— Это мужчина, — упорствовала она.
— Царь? — выговорила Анкесенамон подавленно.
Сати поднялась с таким трудом, как будто ей было сто лет, и скрестила руки на груди.
— Царь? — повторила Анкесенамон, словно спрашивая саму себя.
Реакция Сати указывала на то, что это был действительно он.
Женщины посмотрели друг на друга. Выражение лица кормилицы было таким мрачным, что Анкесенамон бросилась к ней и схватила за руку, в ее глазах застыл немой вопрос. В красноватом свете ламп лицо Сати напоминало лицо статуи богини ночи. Анкесенамон пронзила дрожь.
— Он тоже?
Она вспомнила проклятую повязку и явившуюся кормилице ее мать.
— Сколько дней? — спросила она хрипло.
— Двадцать один.
Анкесенамон прислонилась к стене. Три недели.
— Я умру, — прошептала она.
— Нет, не ты. Кобры тебя защищают.
— Чем так жить, лучше умереть.
— И знание — тяжкий груз.
— Ты не могла ошибиться? — спросила Анкесенамон, снова беря в руки дощечку для письма.
— Он прожил пятьсот семьдесят лунных месяцев. Пять — в нижней части. И ему остается двадцать один день до конца текущего месяца.
— Но, может быть, это не для него?
— Какой еще есть стражник царства? Он единственный. Это на него указывала царица. Неужели ты думаешь, что ради какого-нибудь чиновника она явилась бы сюда?
«Как я смогу теперь посмотреть ему в лицо?» — думала Анкесенамон. Она попросила у Сати мазь и натерла себе лодыжку. Но это не принесло пользы: она почувствовала облегчение в лодыжке, но сон ушел.
Все это не имело никакого смысла. Анкесенамон не знала математики, но беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что цифры не были расположены последовательно ни в одном, ни в другом столбце. Кроме того, она сомневалась, что Сати увлекалась расчетами на досуге.
— Что это за дощечка? — повторила она вопрос.
Сати вздохнула.
— Магический способ узнать судьбу.
— Узнать судьбу? Как?
— Надо знать дату рождения человека и имя, которое он получил при рождении. Затем подсчитываем количество лунных месяцев, которые он прожил, и количество дней, оставшихся до конца текущего лунного месяца. Если первая цифра в количестве месяцев, которые он прожил, оказывается среди цифр в верхнем столбце, он будет жить. Если она среди цифр в нижней части, он умрет. Если количество дней, которые остаются в лунном месяце, фигурирует вверху, этот человек будет жить. Если внизу, он умрет.[29]
Анкесенамон нахмурила брови.
— Для кого ты сделала эти расчеты? — спросила она.
— Ни для кого.
— Для меня?
— Нет, госпожа, я тебе в этом клянусь.
— Для кого тогда?
Сати подняла на нее опечаленный, но упрямый взгляд. Охваченная неистовой тревогой, Анкесенамон стала трясти опустившуюся на корточки кормилицу.
— Ответь мне! Я не уйду из этой комнаты, пока ты мне не ответишь!
Сати закрыла лицо руками.
— Я их сделала для мужчины, — сказала она наконец.
Анкесенамон отступила.
— Какого мужчины?
Сати покачала головой.
— Для мужчины.
Почему она отказывалась отвечать? Очевидно, это означало, что мужчина был важным человеком.
— Это мужчина, — упорствовала она.
— Царь? — выговорила Анкесенамон подавленно.
Сати поднялась с таким трудом, как будто ей было сто лет, и скрестила руки на груди.
— Царь? — повторила Анкесенамон, словно спрашивая саму себя.
Реакция Сати указывала на то, что это был действительно он.
Женщины посмотрели друг на друга. Выражение лица кормилицы было таким мрачным, что Анкесенамон бросилась к ней и схватила за руку, в ее глазах застыл немой вопрос. В красноватом свете ламп лицо Сати напоминало лицо статуи богини ночи. Анкесенамон пронзила дрожь.
— Он тоже?
Она вспомнила проклятую повязку и явившуюся кормилице ее мать.
— Сколько дней? — спросила она хрипло.
— Двадцать один.
Анкесенамон прислонилась к стене. Три недели.
— Я умру, — прошептала она.
— Нет, не ты. Кобры тебя защищают.
— Чем так жить, лучше умереть.
— И знание — тяжкий груз.
— Ты не могла ошибиться? — спросила Анкесенамон, снова беря в руки дощечку для письма.
— Он прожил пятьсот семьдесят лунных месяцев. Пять — в нижней части. И ему остается двадцать один день до конца текущего месяца.
— Но, может быть, это не для него?
— Какой еще есть стражник царства? Он единственный. Это на него указывала царица. Неужели ты думаешь, что ради какого-нибудь чиновника она явилась бы сюда?
«Как я смогу теперь посмотреть ему в лицо?» — думала Анкесенамон. Она попросила у Сати мазь и натерла себе лодыжку. Но это не принесло пользы: она почувствовала облегчение в лодыжке, но сон ушел.








































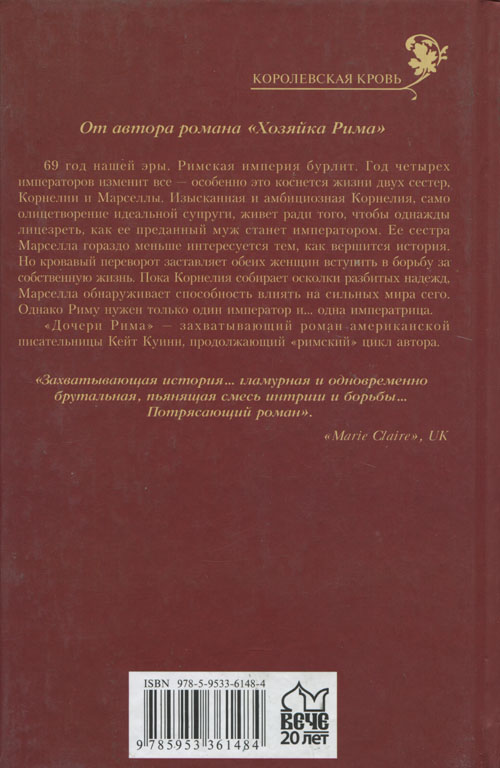 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)