
НАРИМАН ДЖУМАЕВ
ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ
РОМАН

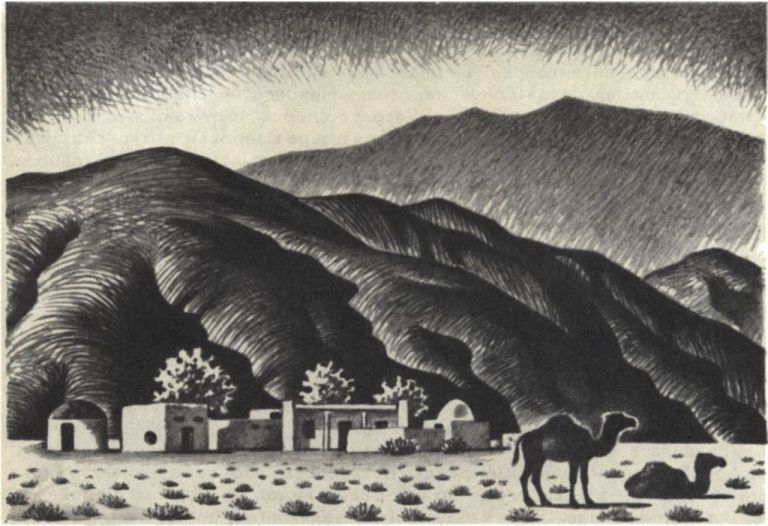 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ягненок… Куда же он подевался, куда исчез? Такой маленький, такой смешной, и такой шалун. Все другие жмутся к стаду, а этот норовит убежать туда, где цветы посвежее да травка посочней. А ведь Айдогды спас его от чабанского ножа раннею весною, когда двух-трехдневных ягнят забивали на каракуль. Усатый чабан уже протянул было волосатую руку, и вот тут Айдогды — сам не понимая почему, — заступился за малыша. Уж больно жалко было отдавать именно его: еле на ногах стоит и смотрит так, словно хочет сказать: защити меня, заступись…
Мальчик шел оврагом, широким, словно русло высохшей реки. Тускло поблескивают валуны, отражая утренний свет, изумрудными брызгами зеленеют сочные травы, замерли кусты. Ни звука.
Да, сейчас здесь покой и тишина. Но какой грохот стоит здесь раннею весной, когда обрушиваются с гор могучие потоки селя, мгновенно возникают ручьи и неукротимо несутся и бушуют, словно спеша насладиться жизнью.
Но где же ягненок? А вдруг он попал в лапы к барсу, спустившемуся с гор, или встретился с шакалом. Или с солдатами. Это еще хуже. Барс выходит на охоту лишь когда он голоден. А солдаты голодны всегда. Ночами лазят они по виноградникам и садам, опустошают курятники. Вот почему дядя Гочак, за свою храбрость прозванный Гочак-мерген
[1], не раз и не два предупреждал подпасков, чтобы держались от солдат подальше.
Айдогды шел по оврагу долго и собрался уже поворачивать, когда в чаще раздались голоса. Первая мысль была — убежать. Но тут он словно услышал слова Гочак-мергена: «Никогда не спеши, особенно в опасности. От беды не убежишь, всегда сперва подумай…»
Он лег на землю и бесшумно пополз через заросли тамариска. Чем-то пахло таким… неприятным, чем солдаты смазывают свои сапоги. Айдогды осторожно выглянул из-за валуна и чуть не вскрикнул — прямо перед собой он увидел блестящее голенище. Просто рукой подать, так близко стоял этот человек. Айдогды узнал его. О, это был важный начальник, эбсир! Вот уж кто никогда не улыбался, вот кого боялись больше, чем любого солдата. Когда он с надменным видом шел по улице, казалось, будто он недоволен, что для него не расстелили ковер.
Голенище блеснуло и исчезло. И тогда стало видно солдат. Они стояли в строю у подножья холма. Эбсир, начальник, что-то крикнул и поднял руку, и тридцать винтовок, подчиняясь этому крику, стали медленно подниматься… подниматься… и Айдогды увидел: на вершине холма стояли двое. Двое пленников со связанными за спиной руками. Они еле стояли на ногах, поддерживая друг друга.
Раздалась короткая, как лай, команда, и винтовки недружно, вразнобой брызнули огнем. Айдогды показалось, что небо сейчас упадет на землю. Он закрыл глаза, но все равно видел этих двоих людей, что стояли, прижавшись друг к другу, и глядели перед собой бесстрашно и гордо. Неужели их могли убить? Ведь всякому, кто слушает сказочников, кто знает преданья о богатырях и героях, известно, что пули их не берут.
И он открыл глаза. Конечно! Так оно и было! Пленники были невредимы, а эбсир стоял, схватившись за грудь, словно пули, предназначавшиеся пленникам, попали в него самого. Так и должно было случиться, именно он должен сейчас упасть и издохнуть, как бешеная собака.
Но он не падает. Как же это? Он не падает, эбсир, не падает и не умирает. Он кричит на солдат, а они, тридцать человек, такие высокие и здоровые, стоят перед ним и молчат. Да ведь каждый из них может одной рукой взять тощего эбсира за шиворот и сбросить в овраг. Почему же никто этого не сделает? Почему они подчиняются ему так безропотно? Неужели бабушка верно говорит, что даже самый могучий богатырь становится слабее ягненка, когда стоит перед начальником…
А может быть, этот эбсир колдун? Или палач?
Каждую ночь бабушка рассказывает новую сказку, и почти в каждой — или колдун или палач. Но у бабушкиных палачей — усы до ушей, толстые, топором не отрубишь, а эбсир безус. И глаза у палачей красные, кровью налитые, а у эбсира — голубые, чистые.
Но бабушка рассказывала еще и о том, как все сторонятся палачей и какое одиночество ждет их. Их ждет всеобщее презрение и ненависть, с ними никто не дружит, в гости их не зовут, и никто к ним не ходит, и жениться они не могут, потому что кто же отдаст свою дочь замуж за палача, и вот, рассказывала бабушка, некоторые из них не выдерживают своего вечного одиночества и продают душу нечистой силе, только для того, чтобы быть похожими на обычных, на нормальных людей, И наверное, этот начальник, что кричит сейчас на солдат, он тоже такой и продал свою душу.
Эбсир выкрикнул короткое слово, и снова грянули, выплюнув огонь, винтовки. Гром выстрелов заставил содрогнуться горы, небо, почернев, упало на землю, и Айдогды видел и запомнил навсегда, как схватился за сердце, улыбнувшись, молодой пленник и упал.
* * *
Кто был богаче всех в ауле? Конечно, лавочник Мурзебай. А кого больше всех уважали? Гочак-мергена. Потому-то и сидел он в доме Мурзебая на почетном месте. Сидел и смотрел на Айдогды, который рассказывал о пропавшем ягненке и о том, что он видел.
— Значит, говоришь, что солдаты выстрелили, а те, двое, так и остались стоять и пули их не брали? Видно, и впрямь до того наслушался ты бабушкиных сказок, что и сам стал сочинять не хуже…
— Я не сочиняю… видел своими глазами.
— Ничего ты не видел. Кто поверит такой чепухе? Никто не поверит. Значит, и болтать нечего, — наставительно поучал Мурзебай.
— А болтать и сплетничать — великий грех, — подхватил Сахиб-мулла. — Ибо сказано: «Длинный язык укорачивает жизнь».
— Ты понял? — спросил Мурзебай, и мальчику показалось, что в это мгновенье все посмотрели на него — и Гочак-мерген, и Мурзебай, и мулла, и еще один гость, в красивой каракулевой шапке, который за все время не проронил ни слова.
От стыда Айдогды предпочел бы провалиться сквозь землю. Самые уважаемые люди аула считают его лжецом и сплетником! Такого он не ожидал. Может, он заслужил упрек в нерадивости или даже лености, но лгать — этого за ним не водилось. Ему было невыносимо стыдно. «Я не врал. Не соврал ни слова. Я все это видел собственными глазами», — хотелось снова крикнуть ему, но язык не слушался.
Повернувшись, он молча вышел на веранду. Лучше было бы ему погибнуть, как те двое, чем выслушать такое. Огромный хозяйский пес Акбай потерся о его ноги.
— Они стояли как герои, и пули их не брали, — донесся до него голос Мурзебая. — Какая ерунда… Нет таких героев, которые не трепетали бы перед смертью.
— Это были большевики, — раздался голос, которого Айдогды никогда раньше не слышал. Очевидно, говорил тот, в каракулевой шапке. — Это очень опасные люди. Они хотят бедных сделать богатыми, а у богатых отнять их богатство.
— Они просто сумасшедшие, — выкрикнул Сахиб-мулла.
— Эти двое могли бы остаться в живых, — сказал незнакомец. — Но они предпочли умереть, чем отречься от своих убеждений. Не следует об этом говорить, иначе они могут прослыть героями.
— Не верю, — стоял на своем Мурзебай. — Не верю я в этих героев.
— А я верю в героев, — послышался голос Гочак-мергена. — И мальчику я верю тоже. Он никогда не врет.
Огромная тяжесть скатилась с души Айдогды. Гочак-мерген, самый меткий стрелок в округе, самый сильный и самый храбрый мужчина в ауле, поверил ему. Да, он не врет. Все было так, как говорил сейчас Гочак-мерген, — герои существуют. Они существуют всегда, как небо и звезды. Ты слышал, Акбай!
Пес толкнул Айдогды широким лбом и тихо заскулил.
* * *
Куда ни бросишь взгляд — везде барханы, однообразный простор песчаных волн.
Осел все трусил меж барханами и трусил, и никакая сила не могла заставить его подняться на вершину. Что ж, осел вовсе не глуп, гряду обойти куда легче, да только снизу ничего не увидать. Айдогды пришлось слезть с осла и самому взбираться наверх. Серые барханы тянулись во все стороны до самого горизонта. Уж не заблудился ли он? С пустыней шутки плохи; немало было случаев, когда погибали, заблудившись, даже старые чабаны. Правда, с ним был осел… но каким бы умным он ни был…
— Можешь ему доверять, — напутствовал мальчика хозяин осла, — он хорошо знает дорогу. Только не мешай ему, не сбивай с пути. Сиди себе спокойно в седле.
И все-таки было страшно. Ведь в какую сторону ни посмотри, всюду серые волны песков сливаются с серым небом. С самого рождения Айдогды привык видеть небо, южная сторона которого всегда опиралась на высокие горы, а северная — простиралась над безграничным простором степи. А сейчас…
Но тут раздался могучий рев. Осел, до тех пор терпеливо и даже понуро стоявший у подножья бархана, вдруг встрепенулся и взмахнул хвостом, словно хотел пристыдить Айдогды за недоверие и сказать: «Не бойся, Айдогды. Смелей. Я знаю дорогу. Не беспокойся и спускайся вниз».
А как хорошо сейчас в горных ущельях! Какие там пастбища! Только в этом году там пусто. Никто не погнал туда скот, никто не отважился — можно и жизнь потерять, и стадо. Басмачи, говорят, появились. Богатым что — объединили свои стада в одну большую отару и наняли в чабаны двух человек с винтовками. Только разве это чабаны? Вот и вышло, что вся работа легла на подпасков, а те, с винтовками, просто охраняют стадо…
Барханы, и снова барханы. Застывшие гребни песчаных волн, без границ, без берегов. Неужели им нет конца?
Но как-то вдруг, внезапно над мягкими песчаными буграми возникли знакомые очертания Копетдага. Горы росли и росли, и все выше и выше становились они, грозно вздымаясь над землей.
Луна еще не взошла, но звезды залили мир своим серебряным светом.
Впереди показалась темная громада. Это были развалины старинной крепости — страшное место, где, по слухам, обитал чудовищный дэв. Многие утверждали, что даже видели его. Это был страшный великан, и женские груди свисали у него до самого живота. Он боялся солнечного света и отваживался выходить из своего мрачного логова только с наступлением темноты.
Бабушка, которая знала все на свете, рассказывала, что крепость эта построена в незапамятные времена, когда люди даже не были еще мусульманами, а поклонялись огню. Были тогда враждовавшие между собой духи света и духи тьмы. Так вот, одного из этих духов тьмы, злого дэва, и заключили тогда в темницу, и с тех пор он отбывает здесь свой срок заключения, которому нет конца, потому что каждый луч солнца, который коснется его, удлиняет этот срок. Поэтому только ночами может выходить этот дэв на стены крепости пугать запоздалых путников. Много ходило в ауле страшных историй о таких встречах, и уж конечно, лучше было обогнуть крепость.
И Айдогды похлопал осла по шее, поворачивая его на обходную дорогу. Но осел не обратил на это никакого внимания. Он шел прямо на страшную крепость. Айдогды спрыгнул на землю и, обхватив теплую, потную шею, попробовал повернуть осла влево. Все было напрасно.
— Ты упрям, как осел! — И мальчик со злостью ударил осла в крутой бок. — Проваливай! Убирайся куда хочешь.
Осел замахал хвостом и снова засеменил к крепости.
Оставаться одному было еще страшнее. Пришлось пуститься вслед. Будь что будет. Айдогды вцепился обеими руками в седельную луку и закрыл глаза. И сразу увидел дэва — огромного, лохматого. Мороз пробежал по спине. Черным чудовищем надвигалась мрачная стена; из расщелин, в которых днем торчали безобидные верблюжьи колючки, сейчас, сверкая, искрились чьи-то злые глаза. Вот что-то зашуршало… шевельнулось. Айдогды задрожал и почувствовал, как волосы на его голове стали дыбом.
— Да открой же глаза…
Прямо на дороге, поглаживая голову осла, стоял носатый человек.
— Чего ты дрожишь? Испугался? Разве я такой страшный?
Айдогды помотал головой. Но он дрожал и ничего не мог с собой поделать.
— Я знаю тебя. Ты пасешь овец у Мурзебая, верно? Я тебя видел возле железнодорожного моста.
Мурзебай — Айдогды слышал это не раз — презрительно обзывал рабочих-путейцев голодранцами. «Не подходите к ним, — говорил он, — ибо они продались неверным». И этот, носатый, такой же. Он неверный, а значит, тоже злой дух.
— Ну что ты дрожишь, браток. — У незнакомца был ласковый голос. — Небось чертей боишься, дэвов? Эх ты… Пора тебе становиться мужчиной, посмелее быть. Смелых боятся сами черти…
Из темноты донесся топот конских копыт. Незнакомец вздрогнул.
— Я должен исчезнуть. Ты не видел меня, ладно? Мы еще встретимся…
И он исчез, словно растворился во мраке.
Всадники появились со стороны железной дороги.
— Эй, баранчук, кель мунда!
[2] — крикнул один, и мальчик узнал эбсира, того самого. — Твоя видел человек?
Айдогды уже не дрожал. Он даже забыл, что находится у стен страшной крепости. И о дэвах не думал.
— Не понимаю, — протянул он.
Эбсир взглянул на второго всадника в красивой каракулевой шапке. Айдогды узнал и его: это был молчаливый гость Мурзебая. Он задавал вопросы по-туркменски.
— Ты не видел где-нибудь здесь чужого человека?
— Видел, — кивнул Айдогды.
— Как он выглядел?
— Такой… с большим носом. Обут в русский чокай.
— Куда он шел?
— Я видел его у железной дороги. А шел он в сторону Каахка.
Топот коней еще не затих, когда незнакомец так же бесшумно, как исчез, появился рядом.
— А ты напугал меня. Я уже подумал, что ты… Ну ладно, браток, не хмурься, приходится быть готовым ко всему. — И он спрятал в карман тускло блеснувший предмет. — А тут еще чертова нога…
* * *
Три дня прогостил Яйлым-ага — так звали незнакомца. Бабушка ставила ему примочки на распухшую ногу, Яйлым-ага скрипел зубами и улыбался. На четвертую ночь он ушел, но многое успел услышать от него Айдогды.
Сколько всего знал этот человек! Казалось, он может сразу ответить на любой вопрос. Он говорил: люди делятся на богатых и бедных. Богатые живут в роскоши, а бедные работают на них от зари до зари. Разве это справедливо? Вот потому-то бедные и поднялись на борьбу. Наступает последний, решительный бой. А когда бедные победят, тогда не будет ни бедных, ни богатых. И будет справедливость — одна для всех. И жизнь будет прекрасна, потому что все будут честно трудиться.
А потом он говорил и о революции во всем мире, после которой во всех странах тоже наступит справедливость и все люди будут жить в мире, как одна семья.
— Но чтобы это время наступило скорее, — сказал Яйлым-ага, — надо много знать. И тебе надо учиться грамоте. А то какой же из тебя боец революции.
Так он сказал, прощаясь. А потом ушел в ночную мглу. И Айдогды, глядя ему вслед, долго еще стоял под светом бесчисленных звезд и думал, что теперь он тоже много знает. Знает, что надо делать, чтобы поскорее наступила повсюду справедливость. Надо учиться, чтобы хитрецы не смогли его обмануть. И еще он знает, что за равенство, за счастье людей надо бороться.
«Есть мудрые книги, в которых все об этом сказано, — вспоминал он слова Яйлым-аги. — И хотя муллы заодно с богатыми, заодно с баями, учиться грамоте пока придется у них. А когда мы победим, мы откроем школы, в которых настоящие учителя будут учить всех, кто захочет».
Трудно было поверить в такое, и Айдогды не поверил бы, если бы об этом говорил кто-то другой, не Яйлым-ага.
…Школа была неподалеку. Когда Айдогды вошел, Сахиб-мулла совершал омовение. Ноги у него были безволосые и совсем белые.
— Обучите меня, почтенный.
Мулла смерил его взглядом.
— Зачем тебе это?
— Я хочу знать буквы. Хочу читать книги.
— Стремиться к тому, что не нужно, — грех. — В голосе муллы звучало осуждение. — У каждого в этом мире свое ремесло, свое место и своя судьба. Чабан должен пасти овец, земледелец сеять, а читать книги должен мулла. Каждому аллах определил его судьбу, и уйти от нее нельзя. Ты понял меня?
То же говорила и бабушка. «То, что совершается в этом мире, предопределено заранее. Лист на ветке — вот что такое человек. Весной зеленеет и наливается силой, летом страдает от зноя, осенью вянет и желтеет, а зимний злой ветер срывает его и уносит в небытие».
Так твердила бабушка, а теперь и мулла. Но ведь Яйлым-ага говорил совсем другое! «Судьба человека — в его собственных руках, — сказал он. — Да, жизнь коротка. Тем постыднее прожить ее рабом».
Вот ведь как…
* * *
Отара двигалась по жнивью. Солнце поднялось уже выше гор, а в мешочке, который мать повесила Айдогды на шею, не было еще ни единого колоска. Здесь уже прошли хошачи
[3], а после них нечего было делать даже сусликам.
Алабай трусил рядом. Внезапно шерсть на его загривке поднялась, и он глухо зарычал. Что бы это могло значить? Но не успел Айдогды подумать об этом, как из-за развалин на полном скаку появились всадники. Тут было чего испугаться. Солдаты! Только зазевайся, и недосчитаешься нескольких овец.
Передний всадник осадил коня.
— Живее отсюда, понял! Загоняй овец в развалины, сейчас начнется бой…
Конь заржал и встал на дыбы. На фуражке всадника сверкнула красная звезда.
— А вы не знаете случайно, где Яйлым-ага?
Но всадник уже был далеко. Он догонял своих товарищей, а потом они все поскакали к железной дороге.
И тут где-то громыхнуло, словно гром, хотя небо было чистым. Айдогды загнал стадо в развалины, велел Алабаю сторожить овец, а сам полез на полуразрушенную башню. И оттуда увидел клубы дыма, словно горел огромный стог сухой колючки. Но горел железнодорожный мост, и это удивило Айдогды: мост был каменным, а разве камень горит?
А от моста мчались конники — те, с красными звездами. Но как мало их было по сравнению с теми, кто, размахивая обнаженными шашками, мчались им вслед! Вот-вот догонят краснозвездных, и они упадут под ударами сабель…
— Нет! — закричал Айдогды и закрыл глаза, а когда открыл, то увидел, как белые — так называл врагов Яйлым-ага — осаживают коней, пытаясь повернуть назад, потому что в арыке, в засаде, оказалось, сидели красные. Некоторые всадники с разгона проскочили арык, и теперь их стаскивали с коней, и вот уже они стоят, подняв руки и умоляя о пощаде.
Сверху было видно, как красные цепь за цепью стали приближаться к железной дороге. Вот встают, бегут, ложатся, снова встают. Но не все. Некоторые остаются недвижимы, и сердце у Айдогды сжалось.
Их было много, лежавших на земле неподвижно…
А мост все горел, заволакивая небо клубами черного дыма. Стрельба усиливалась, и снаряды с воем проносились над самой головой Айдогды.
Со стороны Каахка подошел эшелон и остановился у взорванного моста. Из вагонов посыпались солдаты, побежали вдоль железной дороги; некоторые залегли на насыпи, другие побежали к мосту, волоча по земле рельсы и шпалы. Но снаряды стали рваться рядом с вагонами, и вот уже загорелся один, а за ним еще один.
И уже на всем огромном пространстве кипел бой. Тысячи людей, стреляя, перемещались в разных направлениях. Громыхали пушки, четко строчили пулеметы. Сверху Айдогды было видно, как, погибая, падали бойцы, он видел раненых, которые пытались отползти с поля боя, — над ними склонялись санитары. Все это было страшно и непонятно. Нет, не такой виделась Айдогды война, не такой он себе ее представлял. Не видно было ни героев-великанов на белых конях, ни поединков богатырей. Все было проще. Проще и страшнее.
Бабушка говорила, что богатыри совершали свои подвиги, сражаясь лицом к лицу, в честном, открытом поединке. А тут бойцы умирают, не видя того, кто несет им смерть. Как же так? И кто виноват? Краснозвездные? Выходит, это они нарушают древние воинские обычаи? Но ведь и враг спрятался: как же идти на него в открытую, на верную смерть? А как бы поступил он сам?
Вырвавшаяся из-за холмов лавина краснозвездных конников решила исход боя…
* * *
А вечером, пригнав отару, Айдогды недосчитался годовалого барашка. Что тут было! Как скандалил владелец барашка, как он кричал. И неизвестно, чем все это могло закончиться, если бы не Гочак-мерген.
— Ты чего кричишь? — тихо сказал он. — Благодари аллаха, что пропал
всего один баран. А что бы ты делал, если бы все стадо погибло. А так вполне могло быть, если бы овец не отогнали в развалины. Айдогды молодец, настоящий джигит. Ты его еще благодарить должен, а пропавшего барашка считать жертвой аллаху.
Гочак-мерген был явно возмущен, и хозяину ничего не оставалось, как согласиться, что это аллах забрал у него пропавшего ягненка.
Поутру на улице послышался топот множества копыт.
— Эй! Айдогды! Выйди-ка.
Яйлым-ага! Айдогды сразу узнал его голос. Да и сам Яйлым-ага мало изменился — и нос был таким же большим, вот только глаза… Раньше такие добрые, они сейчас смотрели остро и зло.
— Это ты вчера пас свою отару возле развалин?
Почему Яйлым-ага разговаривает так сердито? Да на нем просто лица нет. И другие всадники смотрят на него с тревогой.
— Яйлым-ага, что случилось?
Вместо ответа Яйлым-ага достал из хурджуна голову барашка. Он держал ее левой рукой, а правой вытаскивал из кобуры револьвер.
— Товарищи! Среди нас оказался вор. Тот, кто крадет, позорит революцию, позорит всех нас.
Все замерли, а один из бойцов, рыжеватый парень, побледнел так, словно вся кровь из него ушла.
— Этот вор будет расстрелян…
И Айдогды решился.
— Никто не крал барашка, — сказал он звонким в тишине голосом. — Я сам его отдал.
Глаза Яйлым-аги яростно впились в лицо мальчика.
— Айдогды! Я верил, что ты не лгун.
— Я не лгу, Яйлым-ага. Этот барашек — жертвоприношение аллаху. Можешь спросить у хозяина. Он сам так сказал.
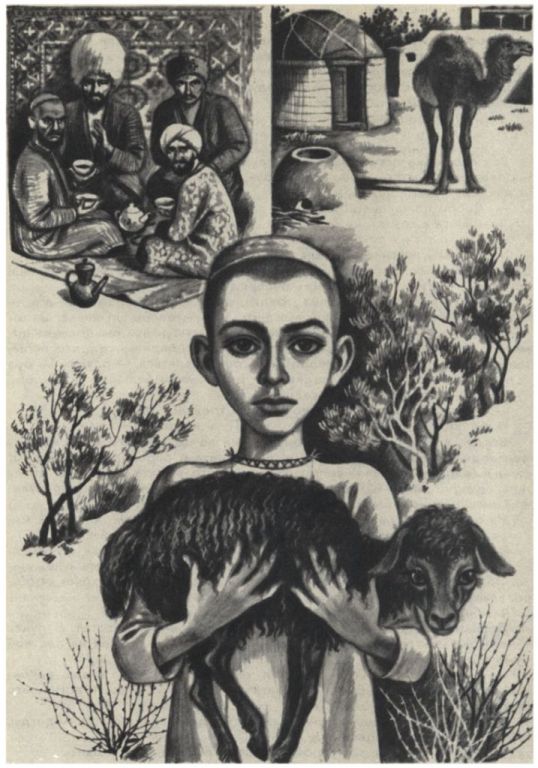
Яйлым-ага по-прежнему смотрел мальчику в лицо. Рука его, сжимавшая револьвер, побелела от напряжения. Затем он отвел взгляд и спрятал револьвер в кобуру. У него был вид человека, избежавшего большого несчастья.
— И все-таки ты сказал неправду, Айдогды. Но раз ты настаиваешь, я должен тебе верить. Своими словами ты спас от смерти вот его… — и Яйлым-ага кивнул в сторону рыжеватого парня, — ты спас его ценой своей лжи. И все-таки никогда, даже под страхом смерти не говори неправды. Тот, кто борется за свободу, должен быть чист, как воды копетдагского родника. Обещаешь?
— Обещаю, — сказал Айдогды.
Вся площадка перед лавкой была забита народом. Люди смотрели недоверчиво, настороженно. Мурзебай, выбравшись из толпы, протянул командиру сачак
[4] с хлебом.
— Добро пожаловать! Мы рады уважаемым гостям.
Яйлым-ага смотрел на Мурзебая в упор, без всякого уважения.
— Что-то ты не похож на бедняка. А от богатых я хлеба не приму.
Мурзебай искренне обиделся.
— Зачем так говоришь, командир? Не бедный я, это верно. Но я и не богач. Я трудящийся, то есть посередине.
— Что-то не похож ты на трудящегося, — отрезал Яйлым-ага. — Жаль, что нет у меня времени выяснить это. А теперь слушайте. Отныне и навсегда устанавливается Советская власть, и все вы должны помогать ей всегда и во всем. Но должен предупредить: тех, кто попытается нам вредить, кто попробует сопротивляться, — раздавим без всякой пощады. Точно так же, как мы разгромили белых.
Яйлым-ага повернулся к всадникам.
— Эскадрон, слушай мою команду! Стройся!..
И вот уже конники скрылись вдали. Путь их лежал на запад.
Вскоре в аул прибыл уполномоченный из центра. Его сопровождал переводчик. Айдогды не поверил своим глазам: переводчиком был тот самый человек, который сопровождал белого эбсира в ту ночь, когда чуть не поймали Яйлым-агу. Только теперь вместо красивой каракулевой шапки на нем была кожаная фуражка.
На открытой веранде, айване, было людно. На самом почетном месте сидел белобородый аксакал по имени Каджар-чапык. Рядом с ним — уполномоченный, а за ним — переводчик в кожаной фуражке.
— Уполномоченный, — говорил Каджар-чапык, обращаясь к нему, — мы поняли тебя. Мы поняли, чего хочет новая власть. Она хочет, чтобы во главе села стоял человек, который зарабатывает себе на жизнь собственным трудом. Так?
Переводчик что-то тихо сказал уполномоченному и встал. В руках у него была фотография размером с ладонь, напечатанная на плотной бумаге.
— Принято решение, — объявил он, — переименовать ваш районный центр. Теперь он будет называться Гинцбург — в честь погибшего героя революции.
Карточка переходила из рук в руки. Когда она дошла до Айдогды, мальчик невольно вскрикнул:
— Это же он! Он, тот герой, которого расстреляли солдаты.
Наступила тишина.
— Ты не можешь его знать, — внушительно сказал переводчик. Он хотел казаться спокойным, но глаза выдавали волнение. — Ты не мог знать или видеть товарища Гинцбурга. Он был комиссаром Казанского полка. Говорили, что он попал в плен тяжело раненным, а потом был расстрелян, но никто не знает, как это случилось и где.
Уполномоченный внимательно слушал.
* * *
— Ты действительно узнал его? — спросил Поладов, показывая Айдогды фотографию.
— Яйлым-ага, я видел это. Своими глазами. Белые расстреляли его.
— А среди карателей ты никого не узнал? Сарыбекова, например, не видел? Ну, переводчика этого?
— Н-нет, не помню его.
— А ты не спеши… вспомни хорошенько. Может, все-таки он был там? Этот человек мне подозрителен.
Поладов напряженно смотрел на Айдогды. Похоже, ему очень хотелось услышать: «Да, был».
— В дальнем конце среди зарослей стояли какие-то люди… но я не мог разглядеть их.
— Постарайся вспомнить, Айдогды. Это очень важно. Я уверен, что Сарыбеков был там. Нам известно, что он служил у белых. Сарыбеков из богатой семьи.
— Если он был у белых, почему вы его не арестуете?
— Он хитер. Говорит, что специально был заслан к белым. А те, кто могли бы это подтвердить, погибли в боях. Мы пока не можем доказать, что это не так. Но ему не доверяем. Поэтому о нашем разговоре никому ни слова. Я думал, ты поможешь мне в разоблачении врага. Но ты мне не помог.
— Яйлым-ага! Ты же сам сказал, чтобы я говорил только правду. Даже под страхом смерти.
— Кстати… сколько овец у Мурзебая? — спросил Яйлым-ага.
— Было триста.
— Было? А теперь?
— А теперь пятьдесят. Остальных он продал.
Не знал и не ведал Айдогды, к чему приведут его слова…
Вскоре мальчика позвал к себе Сахиб-мулла.
— Ты хотел учиться? Так и быть. Я научу тебя читать и писать. Благодари за это Мурзебая, хотя своими необдуманными словами ты причинил ему большой вред.
Место Айдогды было на самой дальней скамье, рядом с другими новичками, только что приступившими к ученью. Но мальчики, которые должны были сидеть с ним рядом, пересели на другие скамьи. Никто в классе не разговаривал с Айдогды, словно его вообще не было, а если он к кому-то обращался, от него молча отворачивались.
После занятий Сахиб-мулла велел ему задержаться.
— Кажется, ребята обижают тебя, Айдогды?
— Да, почтенный.
— Ты сам виноват в этом. В том, что люди отворачиваются от тебя. Тебя считают доносчиком, а это самый большой грех.
— Я ни на кого не доносил.
— Ты оклеветал такого замечательного человека, как Мурзебай. Ты наговорил на него Поладову, и теперь на твоего односельчанина будет наложен огромный штраф.
— Но я…
— Твои оправдания только уличают тебя. Разве Поладов не спрашивал тебя о том, сколько овец держит почтенный Мурзебай?
— Но ведь я сказал правду. Откуда я мог знать, что овцы Мурзебая где-то скрываются?
— Правда бывает разной, мальчик. Видишь — ты сказал правду, а человек из-за твоей правды пострадал. Подумай: не лучше ли, чтобы неправда приносила пользу, чем правда, от которой людям становится плохо? Ты, конечно, знал Шихли-кузнеца?
— Того, что хоронили на прошлой неделе?
— Того самого. Так вот: он был давно уже болен неизлечимой болезнью. Никто об этом не знал, только я. И что ты думаешь, я пришел к нему и сказал: ты должен умереть? Нет. Три года я подбадривал его, и это давало ему надежду на выздоровление, давало силы для борьбы с болезнью. А если бы я по твоему примеру сказал ему правду?
— Я не хотел никому причинять зла…
— Меньше говори, больше слушай. Особенно когда говорят люди, которые старше тебя. И тогда в следующий раз ты крепко подумаешь, прежде чем станешь рассказывать кому попало все, что ты случайно знаешь. Иначе не миновать тебе беды.
Мягкая пыль, целый день накалявшаяся под солнцем, была еще теплой. С темного неба, среди покоя, опустившегося на горы и долины, равнодушно смотрели мерцающие звезды на босоногого мальчика, который одиноко брел по пустынной и пыльной улице.
«Все отвернулись от меня, — думал Айдогды. — Все, кроме Сахиб-муллы. Раньше я думал, что он недобрый, а он ласково говорит со мною. Наверное, он и правда хочет мне добра. Наверное, он прав и надо уметь молчать. Ведь недаром говорит пословица: «Сказанное слово не проглотишь».
Запах плова, казалось, ударил не в нос, а прямо в мозг. Уже два дня, как Айдогды ел только мешанину из ячменных отрубей пополам с кормовой тыквой, которую варила мать. Чего бы он только не дал, чтобы съесть сейчас не мяса, нет — об этом он и не мечтал, — но хоть кусочек хлеба.
Айдогды повернулся и побежал, побежал изо всех сил, и все равно ему казалось, что запах плова, который варили сейчас во дворе у Мурзебая, гонится за ним по пятам. Он выбежал из аула и упал в клевер.
Ночной воздух гудел от насекомых. Звезды, перемигиваясь, поверяли друг другу небесные тайны. Звезды были далеко-далеко, и, конечно, они не могли разглядеть мальчика, а если бы даже и могли, то что он для них?
Как непонятно устроен мир. Почему одни обречены на голод и мучения, а другие блаженствуют? Почему он мечтает о куске хлеба, а Гарахан, сын Мурзебая, живет себе припеваючи, не зная никаких забот?
Книги были тяжелые, в кожаных переплетах.
Айдогды взял одну, украшенную позолоченным орнаментом, стер с нее пыль и бережно положил на полку. Взял другую. От старости переплет из толстой кожи потрескался, да и во всем остальном она тоже была непохожа на книгу с золотым орнаментом: строчки неровные, буквы неодинаковые. Эту книгу Сахиб-мулла принес вчера с базара. Он смотрел на нее нежно, почти с любовью. «Махтумкули, — сказал он, — великий Махтумкули».
Как много было книг у муллы. Целый сундук. И он прочел их все, от первой до последней. Счастливец! Любая строка готова открыть ему тайну, в любое время он может разговаривать с мудрецами, с самим Махтумкули!
И Айдогды мечтательно рассматривает эти строки. Непостижимо далек от него их смысл, дальше, чем звезды в небе. Но как знал он названия некоторых звезд, так знал он уже и некоторые буквы. Вот «элип» — гордо стоящий знак. Если он попадет в середину слова, то у него появляется хвостик, а в большинстве случаев над «элипом» или под ним проводится черточка — ограничение.
Буква, стоящая отдельно, — просто знак.
Буква вплетается в букву — образуется слово.
Слово становится возле другого слова — и вот уже образуются строчки, имеющие смысл. Какое это поразительное чудо!
— Если будешь старателен и послушен, через три-четыре года сможешь читать книги и ты, — обещал ему Сахиб-мулла.
В школе произошли с недавних пор изменения. Исчезли прутья для наказания, да и сам Сахиб-мулла, или почтенный, как его надо было раньше величать, теперь назывался учителем. По новому закону он обязан был всех обучать бесплатно…
* * *
Огромной железной птицей кружил над аулом аэроплан. Но теперь Айдогды уже не пугался его, как испугался в прошлом году, увидев впервые. Тогда ему показалось, что на него летит дракон из самых страшных бабушкиных сказок. Теперь он с интересом смотрел, как двукрылый аэроплан проносится в небе, оставляя за собой белый след. Это были листовки, которые, кружась, опускались на землю.
Айдогды поймал одну. На белой бумаге бежали непонятные строчки. Он дал себе слово, что еще усердней будет заниматься в школе, — тогда в следующий раз он сможет сам прочитать то, что написано на небесной бумаге.
Впрочем, он узнал это много быстрее. На следующий день из районного центра приехали люди в кожаных фуражках, которые называли себя работниками просвещения.
Арчин объявил жителям аула:
— Сейчас выступит товарищ Поладов. Он прочитает воззвание.
— Товарищи! Трудящиеся! Сотни лет угнетали вас. Долгие годы вы лишены были возможности учиться, — так начал Яйлым-ага, держа в руках листовку, одну из тех, которые вчера разбрасывали с воздуха. — Царизм старался развратить народ. Его представители насаждали лихоимство и взяточничество, они и сами грабили вас и приучали вас к сутяжничеству, лжи, воровству; они старались привить вам пороки, чтобы вами было легче управлять. Братья-мусульмане! Неужели вам не надоело жить в вечной темноте, в вечном рабстве? Если надоело — тогда открывайте школы. Не верьте людям, которые говорят, что простому человеку знания вредны. Это уловки богачей, врагов народа. Они нарочно хотят держать вас в рабстве и темноте. Если каждый грамотный мусульманин научит сто мусульман чтению и письму — пройдет немного лет, и у нас будут уже свои общественные деятели, свои учителя, которые помогут нам полностью освободиться от всякого гнета. А потому, братья-мусульмане, мы призываем вас, призываем всех вас — помогите нам. Помогайте нам открывать школы. И посылайте в эти школы своих детей, потому что в них — наше будущее…
После митинга Поладов заметил в толпе Айдогды и позвал его.
— Ты ведь учишься в школе?
— Учусь, Яйлым-ага.
— А кто у вас учитель?
— Сахиб-мулла.
— Бичует ли он пороки старого общества?
— Нет, — сказал Айдогды. — Он теперь никого не бичует, теперь даже прутьев в школе нет.
Все вокруг засмеялись, Айдогды обиженно подумал: «Чего тут смешного?»
— Я спрашиваю тебя не об этом. Я спрашиваю: разоблачает ли он баев и прочих вредителей?
На уроках в школе Сахиб-мулла ни о чем подобном не говорил, и Айдогды ясно понял, что стоит ему сказать правду, учителю несдобровать.
— Ты что молчишь, Айдогды?
— Я… я уже выучил много букв!
— Я тебя спрашиваю о твоем учителе. Что говорит он вам на уроках про старую и про новую жизнь?
Айдогды стоял молча, потный и красный.
— Молчишь, значит, — презрительным голосом сказал Поладов. И отвернулся от него.
— Кто здесь бывший мулла Сахиб?
Сахиб-мулла отделился от толпы.
— Слушай внимательно, учитель Сахиб, — сказал Поладов и пальцем уперся Сахиб-мулле в грудь. — Отныне ты служишь трудящимся. Даю тебе ровно год сроку. Перевоспитайся. Забудь о том, что ты был муллой, и стань настоящим красным учителем. И говори своим ученикам правду о новой власти, не то плохо, очень плохо тебе будет. Понял?
Невидящий взгляд Поладова скользнул по лицу Айдогды…
«За что презирает меня Яйлым-ага, — думал мальчик, медленно бредя по улице. — Он хотел, чтобы я сказал что-то плохое о своем учителе. Но я не могу, не могу. Пусть он раньше был муллой и угнетателем, но теперь-то он никого не угнетает. Он старается быть хорошим, и мне он желает добра». И тут Айдогды спросил себя: вот Яйлым-ага отвернулся от него при всех, а Сахиб-мулла был с ним ласков — кто же ему больше нравится, на кого он хотел бы быть похожим? И тут уже не было никакого сомнения — конечно, он хотел бы быть таким, как Поладов.
Но теперь, наверное, Поладов никогда не будет с ним разговаривать.
Если бы хоть кто-нибудь знал, как тяжело было на душе у Айдогды! Эх, стать бы птицей, улететь бы отсюда в неведомые края. А может, убежать в город? Говорят, что для тех, у кого нет дома, там построили огромный дворец. Но можно ли даже думать о том, чтобы бросить маму и братьев? Как плохо человеку, когда он не знает, как ему жить дальше. Не знает, как жить и что ему делать.
* * *
Сельское кладбище помещалось на огромном оплывшем холме. Старики говорили, что на этом кладбище испокон веков хоронили жителей аула. «Прах всех наших предков покоится в этом холме». Мысли о смерти мало беспокоили Айдогды, хотя не было дня, когда бы он не проходил мимо холма. И все же нет-нет да и задумывался он об ограниченности человеческой жизни. И всякий раз он вспоминал слова, сказанные однажды Поладовым: «Любому из нас жизнь дарована единожды. И жить надо так, чтобы не стыдно было встретить свой последний час».
Поладов… Давно уже Айдогды не слышал о нем. Ходили слухи, что его отправили учиться в Ташкент. Что ж, каждому свое. Яйлым-ага будет большим человеком, а он, Айдогды, как ему и написано на роду, станет дайханом. Вместе с братьями засеял свою землю пшеницей, скоро созреет урожай, половину которого придется отдать за долги, потом снова потянутся долгие дни ожидания…
Молча глядел древний холм на юношу, который с серпом в руках проходил мимо. Сколько уже таких юношей видел он за минувшие столетия? Сколько таких серпов — только не железных, а бронзовых, лежало в нем под слоем земли, сколько людей мог бы он вспомнить, всех этих безвестных тружеников, пахавших здесь три, и четыре, и пять тысячелетий тому назад. Ибо когда-то здесь был город Намазга, едва ли не более древний, чем любой город в нашей стране. Намазга! Свидетель сотен тысяч рождений, свидетель сотен тысяч смертей. Эта земля и этот холм, опоясанный когда-то могучими стенами, видели, как бушевали вокруг людские страсти, они были свидетелями ликования победителей и отчаянья побежденных. Всегда люди говорили о справедливости и всегда убивали друг друга, хотя всегда верили в своих богов и ради них шли на смерть. Сначала они верили солнцу и луне, потом справедливейшему Зороастру, потом шли на гибель, защищая свою древнюю веру от завоевателей-арабов, а потом снова гибли, защищая ислам… И что же? Значит, все повторяется снова и та же участь ждет вот этого паренька с железным серпом в руке, который однажды поверил фанатику с красной звездой на фуражке, новому апостолу новой веры, которая, как и все прежние, обещает равенство и справедливость? Неужели и ему придется быть обманутым и нет ничего нового под луной и небесами, а есть только то, что было всегда, — сильные и слабые, богатые и бедные, и мальчику придется выбирать между бедностью и богатством, между господством и подчинением?
Но мальчик верит — справедливость и равенство должны победить. Рабство — позор, и человек не имеет права его терпеть, а свобода — в руках самого человека, — вот во что он верит, этот мальчик по имени Айдогды.
«И пусть верит», — думает старый холм, и снова сладкая дрема тысячелетий окутывает его. Надо верить. Ибо без веры в справедливость своего дела невозможна жизнь на этой древней земле.
* * *
Кто это несется там, вдали, вздымая пыль? Юноша вгляделся и ахнул: Яйлым-ага! И вот уже Поладов соскочил с коня, ронявшего пену и грызшего удила.
— Ну, здравствуй, Айдогды!
— Здравствуйте, Яйлым-ага.
— Во-первых, я тебе не Яйлым-ага, а товарищ Поладов. Как идут дела в землепашестве?
— Ничего, Яй… товарищ Поладов.
— А теперь второе. От имени Советской власти я вручаю тебе, товарищ Тахиров, комсомольский билет. Держи.
И Поладов протянул ему толстую бумагу, сложенную вдвое. «Союз молодых коммунистов» — напечатано было на обложке.
— Как первого комсомольца в вашем ауле, товарищ Тахиров, я назначаю тебя руководителем комсомольской ячейки. Задача ячейки — поднять трудовую молодежь на классовую, беспощадную борьбу против чуждых элементов. Понятно?
Совсем не было Айдогды понятно, что он должен делать. Бороться? Но с кем? И против кого? И что такое «комсомольская ячейка»? Как ею руководить?
Вопросов было множество, он задал один, самый важный:
— Что должен я делать?
Поладов жадно затянулся папиросой. Он сел на корточки и показал на дохлого кузнечика, которого тащили куда-то неугомонные и деловитые муравьи:
— Надо служить общим интересам, как это делают муравьи. Меньше думать о собственном благополучии и всей душой ненавидеть дармоедов и тех, кто хочет обмануть народ. Не жалея жизни, надо бороться за общее дело и Советскую власть. Ну, прощай.
И Поладов ускакал, взметая пыль.
А Айдогды остался стоять на дороге с комсомольским билетом в руке. Как молниеносно, как непостижимо меняется все в жизни. И часа не прошло с той поры, когда он радовался своим несложным делам, тому, что расплатился с долгами, тому, что купит братьям новую одежду; еще стояли у него перед глазами мешки, полные зерна. И вот — все изменилось. Он посмотрел на комсомольский билет. Он посмотрел на землю — муравьи еще тащили кузнечика. Да, так. Так же, как муравьи, не зная страха, сражаются против чужаков, так и он, Айдогды Тахиров, должен сражаться против тех, кто хочет обмануть народ. Так сказал ему товарищ Поладов.
А Поладов в это время был уже далеко-далеко. На взмыленном неутомимом коне он скакал к аулу Хивабад. И там он должен создать комсомольскую ячейку. Кому, какому хивабадскому Айдогды Тахирову сможет он доверить комсомольский билет?
Ни днем ни ночью не знал Поладов покоя. Вернувшись в свой район после окончания в Ташкенте двухгодичной партийной школы, он надеялся найти в районе большие перемены. И он действительно нашел их. Но не все, далеко не все перемены радовали его. Советская власть укрепилась и прочно стояла на ногах, это верно. Но то, что к ней за это время сумело примазаться немало чуждых элементов, — это тоже было верно. Во всех аулах открылись школы? Это так. Но главное в них — политическая подготовка учителей — равна нулю. И что самое худшее — огонь классовой борьбы у многих сменился тягой к спокойной и тихой жизни, а кое-кто из коммунистов даже попал под влияние нэпманов.
С этим мириться нельзя, и пока он, Яйлым Поладов, жив, он этого не допустит. Надо бороться. Надо вовлекать в борьбу молодежь, доверять ей, руководить ею, с ее помощью создать новые кадры партии и без страха разоблачать все, что ей чуждо.

Без устали носился Поладов по аулам. Его видели в долинах, его видели в горах. И везде находил он тех, кому мог доверить будущее, и всюду, где он побывал, оставались молодые парни с комсомольскими билетами в руках и жаждой справедливости в сердце.
* * *
Сельсовет находился позади лавки Гарахана Мурзебаева, в старом глиняном доме. Бывший батрак Гулджан, выбранный сельским арчином, каждый день исправно приходил сюда и терпеливо сидел за голым столом до захода солнца. Секретарь сельсовета, сам Гарахан, не торопясь составлял списки хозяйств. Он медленно водил ручкой по гладкой бумаге, отделывая каждую букву, словно рисовал картину.
Инспекторы, время от времени наезжавшие из райцентра с проверками, не могли нарадоваться на прилежного председателя и его помощника.
Особенное впечатление производил на всех лозунг, висевший перед входом в сельсовет. На красной материи очень красивым почерком было начертано:
МНОГОСТРАДАЛЬЦЫ ВСЕГО МИРА — СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Айдогды впервые переступил порог сельсовета. Он ни за что не стал бы заходить сюда, если бы не комсомольский билет в кармане. Там, где за красной ширмой «многострадальцев мира» в качестве представителей власти сидят сын лавочника и байский лизоблюд, — ему, Айдогды Тахирову, делать было нечего. Но товарищ Поладов приказал ему бороться против тех, кто «не наш», а кто был более «не наш» в ауле, чем эти двое?
И Айдогды резко толкнул дверь сельсовета. Он вошел, не поздоровавшись, готовый к схватке. Но схватки не получилось, потому что Гулджан мирно дремал за столом, а Гарахан не обратил на вошедшего никакого внимания. Тогда Айдогды достал комсомольский билет и припечатал его к столу прямо перед носом Гулджана. От неожиданности арчин подскочил на стуле и вытаращил глаза.
— Это что такое? — спросил он, моргая и вытирая слезящиеся глаза.
— От имени Советской власти товарищ Поладов назначил меня главным комсомольцем!
Гулджан не на шутку испугался.
— Кем-кем тебя назначили?
— Не бойся, арчин, — подал голос Гарахан. — Айдогды сам не знает, что плетет. Комсомолец — это не должность. Это что-то вроде… — он пошевелил в воздухе толстыми пальцами, — ну, словом, это те, кто должен помогать настоящим членам партии. А сами они — не настоящие, что-то вроде слуг…
Тут Гулджан немного успокоился, поняв, что Айдогды, похоже, не покушается на его должность. «Но поскольку, — подумал он, — его знает сам Поладов, раздражать его не стоит».
— Ладно, — сказал он, принимая важный вид. — Говори, чего ты хочешь, Айдогды. Если скажешь что-нибудь дельное, мы тебя, конечно, поддержим.
— Товарищ Поладов приказал мне разжечь огонь классовой борьбы против дармоедов и богачей!
— Верно, — сказал Гулджан. — И мне он тоже говорил — надо, мол, бороться с богачами. Только где они, богачи. Сам знаешь, не стали они ждать. Убежали за границу, через горы.
«Это правда, — вынужден был признать про себя Айдогды. — Многие богачи действительно ушли через горы. Но кое-кто остался, и первый — Мурзебай».
И едва он успел об этом подумать, как дверь отворилась и в сельсовет, словно в собственный дом, не торопясь вошел Мурзебай. Как всегда, небрежным кивком головы он ответил на приветствия, затем, так же не торопясь, сел на стул, стоявший между столами председателя и секретаря, и достал из кармана кителя газету.
Гарахан отложил ручку, поднял голову и почти неслышно кашлянул. Мурзебай вопросительно посмотрел на него.
— Вот этого Поладов назначил комсомольцем, — сказал Гарахан и пренебрежительно ткнул пальцем в сторону Айдогды.
Мурзебай поднял толстые брови. Новость его явно заинтересовала.
— Поздравляю, Айдогды, — сказал он, словно увидев его впервые. — Поздравляю. Что же ты теперь будешь делать? Ведь не просто же так тебя назначили.
В голосе его звучало нечто похожее на уважение.
— Мы будем уничтожать и истреблять всех богачей и тунеядцев, — каким-то чужим, не своим голосом ответил юноша и, повернувшись, направился к выходу. В душе у него все кипело от того пренебрежения, с которым Гарахан тыкал в него пальцем. «Обязательно надо разыскать Поладова и получить точные указания, что делать», — решил он.
Но Поладова он не нашел — тот еще мотался по аулам — и обратился к Лукманову, председателю райисполкома.
— А, это ты, Айдогды Тахиров. Входи. Я узнал тебя. Ты — тот самый мальчик, который видел казнь Гинцбурга. Чем могу помочь?
— Товарищ Поладов велел мне раздувать огонь классовой борьбы. Я готов бороться, товарищ Лукманов, но не знаю, что должен делать.
Лукманов подошел к нему, и Айдогды ощутил на своем плече его сухую горячую руку.
— За нашу с тобой свободу погиб замечательный герой. Мы поставили памятник Гинцбургу. Мы назвали его именем поселок. Его имя навсегда останется в истории революции. Но самый великий памятник ему — это те молодые борцы, которые продолжают его дело. Такие, как ты, Айдогды. А что до дел… сколько комсомольцев в вашем ауле?
— Я пока что один.
— Вот видишь. В народе говорят: «Одинокий всадник и пыли не поднимает». Надо сколотить ячейку из твоих сверстников.
Они говорили еще долго.
В тот же день, вернувшись, Айдогды вызвал из дома на улицу своего давнего приятеля Бабакули и вручил ему комсомольский билет.
— С этой минуты, Бабакули, мы с тобой вместе будем бороться за счастливую жизнь всех бедных и обездоленных. Ты теперь — член комсомола, молодой коммунист.
— Но я не хочу быть коммунистом, — сказал Бабакули и протянул комсомольский билет обратно.
— Почему это не хочешь?
— Потому, что эти твои коммунисты хотят вводить новую религию —
коммынизм. Все будет общим — и дома, и постель, и даже жены…
— От кого ты мог такое услыхать?
— Гарахан говорил.
— Гарахан, как и его отец, — наши враги. Не верь классовым врагам, Бабакули. Для того нас и объединяют в комсомол, чтобы мы боролись с Такими, как Гарахан и Мурзебай.
— В эту игру я с тобой не играю, Айдогды. Ты и сам знаешь: свяжешься с Мурзебаем — добра не жди.
— Значит, ты из-за подлого страха согласен терпеть байский гнет? Ты хочешь, чтобы мы всего достигли без твоей помощи? А не стыдно тебе будет в той счастливой жизни? Ничего не скажешь — хитер — постоишь в стороне, пока мы будем погибать в тяжелой борьбе, а потом придешь на все готовое? Нет уж, Бабакули, так не пойдет. В классовой борьбе такое правило: кто не с нами, тот против нас.
И он вытащил из кармана револьвер, блеснувший вороненой сталью.
— Видишь это? Мы сильнее Мурзебая и тех, кто с ним. За нами — могучая опора — все правительство, а в руках у нас — оружие. Чего же ты боишься?
— Дай мне подумать, — взмолился Бабакули. — Я не могу так, сразу. Я тоже буду с вами — только попозже…
— Бабакули, друг! Нет времени ждать. Подумай сам — тебе дай время, другому дай время, третьего подожди… если каждый будет увиливать от дела, значит, вы все, такие же бедняки, как и я, вы бросите меня одного, чтобы я один из всего аула бился за наше общее дело. Разве так поступают настоящие друзья?
Было видно, как борется с собой Бабакули. Он раскрывал рот, чтобы произнести что-то, и снова замолкал, не сказав ничего. Но потом, решившись, махнул рукой:
— Я с тобой, Айдогды.
Узнав об образовании в ауле комсомольской ячейки, Мурзебай усадил своего сына за стол.
— Пиши: «Заявление в комсомольскую ячейку. Прошу принять меня в члены комсомола. Хочу нести вперед красное знамя мировой революции. Я вырос в простой трудовой семье. Наемной силой в хозяйстве никогда не пользовался». Написал? Теперь подпишись. И пригласи к нам в дом своих новых друзей. Накорми их пловом. И не спорь с ними, что бы они тебе ни говорили. Понял?
На следующий день Гарахан пригласил к себе домой Айдогды и Бабакули. Не успели они опуститься у сачака, как перед ними появилась большая деревянная миска с пловом. От плова шел такой соблазнительный запах, что у гостей закружилась голова. Бабакули сглотнул слюну.
Гарахан пододвинул гостям тазик — предложил помыть руки.
«С чего бы ему так стараться для нас? — подумал Айдогды. — Раньше он и внимания не обращал на таких, как я или Бабакули, а теперь и пловом угощает, и на руки воду льет…» Что-то здесь было не так.
И он спросил напрямик:
— Зачем ты нас позвал, Гарахан?
Гарахан достал с полки бумагу.
— Вот мое заявление о вступлении в комсомол. Отныне мы, как говорится, единомышленники. Вы комсомольцы, и я тоже. Ведь я уже давно состою на большевистской службе, тружусь для Советской власти. Давайте угощайтесь, а протокол я напишу позднее.
— А что это такое «протокол»? — настороженно спросил Айдогды.
— Ну, это запись, что было собрание и вы меня приняли в ячейку.
— Но ведь мы тебя еще не принимали. Что же ты будешь записывать. Это ведь просто обман.
Гарахан было вспылил, но потом сдержался.
— Айдогды! Ты… зачем ты так грубо говоришь со мной? Мы ведь теперь будем делать одно дело. — И он протянул руку к миске с пловом.
— Смотрите, остынет. Берите, угощаю от души.
Бабакули потянулся было к плову, но Айдогды схватил его за рукав.
— Подожди, Бабакули. Ты слышал, Гарахан просит провести собрание. Хочет, чтобы мы приняли его в ячейку комсомола. Это надо обсудить.
Гарахан снова улыбнулся через силу.
— А вы что, против? Не хотите, чтобы я к вам присоединился?
— Твой отец — самый богатый человек в ауле. Как же мы будем тебя принимать, если комсомолец — первый враг богача?
— Но я-то не богач. Я работаю в лавке. Я труженик, как и вы.
— А сможешь ты пойти против дармоеда-лавочника, против своего отца?
И тут Гарахан не выдержал. Глаза у него округлились и губы задрожали от злости. Забыв, что говорил ему отец, он закричал срывающимся голосом:
— Ты моего отца не задевай, грязный ишак! Давай выметайся отсюда. А в комсомол я вступлю и без тебя.
У дверей Айдогды остановился.
— Вот теперь ты похож сам на себя, Гарахан. Заговорил своими словами. Ты, видать, привык обзывать людей в своей лавке. Но я тебя предупреждаю — теперь этого не будет. Если еще раз кого-нибудь обзовешь ишаком — получишь по заслугам.
— Плевать я на тебя хотел. Да и что ты можешь сделать?
Айдогды не торопясь вытащил из кармана наган. От ярости он даже стал заикаться.
— Н-не пожалею н-на тебя пули.
У Гарахана отлила от лица кровь, и оно стало белей муки. Не говоря ни слова, он сел и протянул дрожащую руку к миске с пловом.
* * *
А на следующий день в сопровождении милиционера, приехавшего из районного центра, чтобы арестовать его, Айдогды отправился в город.
— Ты обвиняешься в попытке убить секретаря сельсовета Гарахана Мурзебаева, — сказал ему следователь. — Признаешь себя виновным или нет?
— Я сказал, что если он не перестанет обзывать людей ишаками, то застрелю…
— А если бы он и действительно обозвал тебя?
— Застрелил бы.
Следователь посмотрел на него с удивлением.
— Вон ты какой. Ладно, подпиши вот это. — И он протянул ему протокол допроса. — Только подумай еще раз.
Следователь спрятал подписанный протокол в ящик стола, поднялся.
— Айдогды Тахиров! За попытку убийства представителя Советской власти ты привлекаешься к уголовной ответственности…
И Айдогды оказался в тюремной камере. Он не мог прийти в себя. Ему казалось, что все происходит не наяву, а в дурном сне, что вот сейчас он проснется, откроет глаза и наваждение исчезнет.
Но наваждение не проходило. В решетчатое окошечко душной сумрачной комнаты проник трепещущий солнечный лучик — свидетельство того, что сейчас за стенами камеры яркий день. Слышно было, как скрипели телеги и доносился невнятный шум людских голосов. Нет, это был вовсе не сон!
И тогда Айдогды понял, что он натворил. Товарищ Поладов вручил ему комсомольский билет, а товарищ Лукманов доверил боевое оружие. А он? Взял и угодил в ловушку. Теперь богачи могут радоваться — ведь следователь сказал, что ему придется отсидеть в тюрьме не меньше пяти лет. Эх, Айдогды, какой же ты все-таки болван. Какой из тебя комсомолец? Какой из тебя человек? Если твои учителя-большевики перестанут тебе доверять, они будут правы. Ведь ты не смог оправдать их доверия. Как посмотреть им теперь в глаза?
Если оценивать проступок Айдогды по мерке тогдашних дней, «преступление» его было смехотворным. Еще кипели бои с басмачами, еще контрабандисты легко и беззастенчиво переходили границу, еще сильны были богачи, рассчитывающие на скорый возврат былых времен, еще лилась кровь. На этом фоне происшествие в далеком ауле могло остаться вовсе не замеченным. И тем не менее именно оно стало искрой, попавшей в бочку с порохом. Именно этот случай сжал до предела пружину упорной борьбы между руководителями района.
Сарыбеков, заведовавший теперь райфинотделом, любил становиться в позу преданного защитника законности. И прокурор и судья, не говоря уже о других районных руководителях, начинали побаиваться его, и даже на более высокое начальство нападал он в своих жалобах, обвиняя всех в недостаточной бдительности и послаблениях нарушителям закона и бюрократам.
Узнав, что Поладов распорядился освободить Айдогды из-под стражи, Сарыбеков позвонил в райком партии и потребовал, чтобы созвали бюро райкома.
— Тахиров грубо нарушил закон и должен ответить со всей строгостью, — настаивал он на бюро.
— Сын лавочника обзывает комсомольца грязным ишаком, — взорвался Поладов. — Разве можно спускать такое?
— Для этого и существует суд, — холодно и не глядя на Поладова отвечал Сарыбеков. — Если каждый мальчишка будет, когда ему вздумается, хвататься за наган, никакого закона быть не может. А там, где нет закона, — там анархия.
— Законы изданы для того, чтобы установилась справедливость. Что идет на пользу народу — то законно. Мне странно, товарищ Сарыбеков, что ты так горячо защищаешь обиженного байского сына. А может, это и не странно. Мы все знаем — большинство бедняков только-только одолевает начала грамотности, большинство же грамотных пока — среди зажиточного слоя. И при помощи некоторых защитников им удается обходить законы, направленные против них. В Арап-Кале работала комиссия, во главе которой был как раз Сарыбеков. И что же? Комиссия не обнаружила в Арап-Кале ни одного богача. Ни одного! По «закону», который представлял Сарыбеков, там нет богатых. Хотелось бы послушать, как он объяснит нам этот случай. А пока среди нас живут и действуют такие защитники законности, которые играют законами, как игрушкой, нельзя забывать о классовом чутье. И такое чутье есть у бедняка Тахирова. Кстати, не припомнит ли товарищ Сарыбеков, на чьей стороне был этот паренек, когда я прятался от беляков в развалинах старой крепости, а Сарыбеков помогал меня ловить?
Давно, давно уже Сарыбеков ждал этого вопроса и давно приготовился к ответу.
— Я помню этот случай, товарищ Поладов, — спокойно проговорил он. — И вы знаете, я тогда не перевел слов этого неосторожного мальчика. Ведь он сказал, что видел вас. Представляете, что сделали бы с ним белые, чтобы узнать правду?
— Логично. Только забыл ты, товарищ Сарыбеков, что вы поскакали именно в ту сторону, куда указал Айдогды. А я этого не забыл…
— В промахе Тахирова частично виноваты мы все, — сказал после паузы Лукманов. — Этот случай и нас научит немалому. Тахиров молод, неопытен, горяч — простой, малограмотный крестьянский парень. У него еще мало силенок для самостоятельных действий. Но он всей душой и помыслами предан революции. И революция совершалась для таких, как он. Он хочет работать, и мы должны оказывать ему и тысячам таких, как он, всяческую помощь. А судить его не за что, и делать этого мы, конечно, не будем.
А по аулу ползли слухи:
— Айдогды сослали в Сибирь.
— Говорят, лет десять дадут ему.
— Да, с Мурзебаем свяжешься, рад не будешь…
Сплетники наслаждались. Эджегыз молча вытирала слезы, кляня злую судьбу.
Плакала мать; ядовитыми змеями, шипя, расползались слухи, а виновник всего этого, Айдогды, весело и бодро шагал по пыльной дороге к родному аулу. В кармане — наган, а на ногах — непривычная, новая, почти невесомая обувь — ботинки. Идешь по горячему песку как ни в чем не бывало.
Ботинки ему выдали в райкоме комсомола. Там и накормили, потом объявили выговор, потом долго объясняли, что и как он должен делать. И это радовало Айдогды — ведь ему снова доверяли!
…Заслышав шаги, с лаем выскакивали на улицу собаки, но, узнав Айдогды, весело виляли хвостами. Мальчишки, игравшие в пыли в альчики
[5], забывали про игру и с завистью смотрели ему вслед. Весть о возвращении Айдогды птицей пролетела по аулу, и все больше людей выходило посмотреть на того, кто, по слухам, должен был отправиться в далекую и холодную Сибирь, так что Айдогды то и дело приходилось отвечать на приветствия. Со сверстниками он здоровался весело, стариков приветствовал степенно.
Он шагал по длинной улице. Тот же родной аул, та же пыль под ногами, те же люди. Но что-то изменилось. По-другому смотрят на него жители аула, с уважением смотрят, как на победителя. А он и есть победитель. Впервые нашелся в ауле человек, осмелившийся открыто перечить всемогущему лавочнику Мурзебаю. Значит, можно, оказывается, жить достойно, с гордо поднятой головой, можно добиться уважения, можно отбросить робость…
Айдогды в этот вечер лег спать рано, чтобы чуть свет отправиться на жатву.
И ему приснился сон. Будто стоит он с серпом в руке посреди безграничного поля пшеницы. Налитые колосья пригибают к земле стебли. И вдруг, неведомо откуда, раздается голос: «Эй ты! А чьи это посевы?» — и на стенах крепости начинает подпрыгивать отвратительное мохнатое чудовище. «Того, кто сеял», — кричит в ответ Айдогды и еще крепче сжимает серп. Морда чудовища меняется, и становится оно чем-то похоже на лавочника Мурзебая. «Посевы ваши, а урожай мой», — хохочет он. Айдогды протягивает руку к ружью, лежащему на земле. Но чудовище надувает щеки, извергает огонь, и пшеница мгновенно вспыхивает.
— Проснись. Вставай. Горит наша пшеница…
Айдогды выбежал во двор. Вдали, возле крепости в небо вздымались языки пламени.
* * *
— Так ты говоришь, что ничего не знаешь?
Не отрывая взгляда от нагана, лежащего на столе, Гулджан затараторил:
— Не знаю, товарищ Поладов, клянусь, не знаю ничего. Мы ведь ночью не выходим из дома. Проклятые басмачи не дают покоя.
— Басмачи останавливаются у кого-то из местных. У кого? Или ты и этого не знаешь?
— Не знаю, товарищ Поладов.
Подойдя к съежившемуся Гулджану вплотную, Поладов заглянул ему в глаза:
— Врешь, Гулджан. Знаешь ты байских прихвостней.
Гулджан затрясся, как в лихорадке:
— Клянусь алла… жизнью клянусь. Знал бы — давно бы сообщил вам. Зачем мне их покрывать?
При виде трясущегося от страха бородатого мужчины, Поладов почувствовал брезгливость. Трус. И такого мы сами выдвинули в арчины. Бывший бедняк, батрак, а продался богачам. Запуган, забит. Что делать? Все бедняки, подавляющее пока что большинство их — вот так же забиты, неграмотны, запуганы.
И он снова посмотрел на арчина.
— Если не справишься со страхом, умрешь от него раньше, чем от басмаческой пули. Подумай об этом, батрак Гулджан.
* * *
В районном центре открылась новая чайхана. Хозяином ее был Таракан, который даже выступил в газете с восхвалением нэпа — новой экономической политики. «Следуя мудрым законам Советской власти, которая поощряет частную инициативу, я, как чайханщик, буду изо всех сил помогать ей в обслуживании населения».
Однажды поздним вечером, возвращаясь с собрания, Айдогды встретил чайханщика на улице.
— Айдогды! — Голос Гарахана звучал вполне дружелюбно. — Я рад встретить односельчанина. Приглашаю тебя к себе в чайхану. Заходи и будь моим гостем.
— Я спешу, — сказал Айдогды устало. — Извини, Гарахан, в другой раз как-нибудь.
— Э, я вижу, ты теперь не такой уж смелый. Боишься, наверное, что кто-нибудь скажет тебе правду. Ты, похоже, привык нападать, только если тебе не сопротивляются, а когда приходится защищать свои убеждения, ты спешишь…
Из чайханы доносились соблазнительные запахи плова и шашлыков. Не хотелось туда идти, тем более что в кармане у Айдогды не было ни копейки, но и убегать с поля боя было не в его правилах. Гарахан бросил ему вызов — и он не имеет права уклониться.
Чайхана занимала большую комнату, уставленную столами. В глубине ее, на возвышении сидели музыканты: толстяк, игравший на гиджаке, и его товарищ, маленький и худой, который бил в барабан, депрек.
В чайхане было людно, дымно, шумно, на всех столах стояли бутылки. Не успел Айдогды сесть, как перед ним уже дымилась тарелка с пловом.
— Угощайся, — сказал добродушно Гарахан, откупоривая бутылку с лимонадом. Он с гордостью оглядывал свое процветающее заведение — уж он-то не был голодранцем.
Тахиров незаметно пошарил в своих карманах. Бесполезно. А сидеть здесь, среди запахов, наполняющих чайхану, он был не в силах.
— Ладно, — сказал он с вызовом. — Так и быть. Попробую твой плов. Но с одним условием — в кредит.
— Ты меня обижаешь, земляк. Ты мой гость.
— Я твой противник. Был и остаюсь. Ты это крепко запомни.
— Ты меня ненавидишь, а вот у меня к тебе уже давно никакой злобы нет. И объясни мне, ради аллаха, почему мы с тобой, родившиеся и выросшие в одном ауле, вечно должны враждовать. Я ведь не мешаю тебе жить. Не мешай и ты мне.
— Ты, Гарахан, нэпман, а это значит, что ты — мелкий буржуй. А с буржуями я поклялся драться до последнего вздоха.
— Ты неправ, дорогой. Что я делаю? Я кормлю людей. Ко мне в чайхану приходят все, в том числе и партийные товарищи, и ответственные работники. Разве у меня плохой плов? Скажи честно — плохой? И вот ко мне приходят голодные люди, голодные и злые. А уходят довольные, в хорошем настроении. Так что же я делаю плохого? Может быть, я приношу народу не меньше пользы, чем ты, а?
Под заунывные звуки гиджака и буханье депрека появилась полуодетая женщина и стала танцевать, двигая бедрами и тряся пышной грудью.
Тахиров отвел от нее взгляд и посмотрел на Гарахана.
— Что плохого? А тебе не совестно каждый день смаковать свой плов, когда тысячи и тысячи людей целыми месяцами не видят и кусочка мяса?
— Но при чем тут я? — удивился Гарахан. — Если многие ходят полуголодными, то, по-твоему, и я должен отказаться от нормальной жизни? И разве они голодают из-за меня? Или окажись они на моем месте, они отказались бы от плова и шашлыка только потому, что где-то есть бедняки? Ведь все, в том числе и те, у кого сейчас нечего есть, стремятся к лучшей жизни, разве не так?
— Но они работают, они живут своим трудом, а ты блаженствуешь за их счет, и выходит, что ты просто тунеядец.
— Э, уважаемый односельчанин, не бросай необдуманных слов. Если я, работающий здесь, тунеядец, то кто же тогда, по-твоему, все те люди, которые ко мне приходят? Разве я питаюсь лучше или пользуюсь большими благами жизни, чем член партии Сарыбеков, который заходит сюда чуть ли не каждый день? А ведь он понимает и в жизни, и в политике, наверное, не меньше тебя.
— Сарыбеков для меня не пример.
— А это и не так уж важно — берешь ты его в пример или нет. Главное, что он тоже большевик, влиятельный работник, занимает большой пост и не считает меня тунеядцем. А ведь он не чета тебе…
Танцовщица принимала все более обольстительные позы. Музыкант, сменивший теперь гиджак на зурну, пел высоким и тонким голосом об удовольствии жизни. «Человек, — пел он, — ты лишь раз живешь на этой грешной земле. Так не теряй же времени даром, пей, ешь, веселись, обнимай. Посмотри на красоту, что тебя окружает. Посмотри на красавиц, что играют бровями. Посмотри — деревья манят тебя своею прохладной тенью, похожей на объятья красавиц. Не упускай же миг, трудись, зарабатывай деньги, а потом трать их на наслажденья. Жизнь коротка — ты помнишь об этом? Ведь второй раз тебе не суждено появиться на свет».
Так пел музыкант.
Тахиров встал.
— Я ничего еще не сделал ради счастья людей, — сказал он. — Но если мне суждено еще пожить, я хотел бы стать таким, как Поладов. А твоего Сарыбекова я не признаю.
Он злился на себя, потому что понял — в этом бессмысленном споре ему не переубедить чайханщика.
— Мы еще продолжим разговор, — сказал он и направился к двери.
— Заходи, когда соскучишься по плову, — услышал он за собой насмешливый голос.
* * *
Осенний день был погожим. Словно белые пушинки, медленно плыли по небу перистые облака, нежаркие уже лучи солнца ласково обогревали землю. Омытый ночным дождем воздух был свеж. Дорога, петлявшая в серой степи, исчезала в предгорных холмах.
Как по коже барабана, били копыта коней по степной дороге, распугивая зайцев и тушканчиков, которые, заслышав гулкий топот, пускались наутек. Высоко в небе парил орел. Он поднимался выше и выше, становясь при этом все меньше, пока наконец не превращался в черную точку, почти неразличимую в небесной густой синеве. Почти каждый день видел орел этих всадников, что и сейчас взметали пыль степной дороги, — один впереди, двое, с винтовками за спиной, — сзади. Но это не были охотники — иначе они обязательно выстрелили бы по какому-нибудь зверю, вот, хотя бы по этому глупому зайчонку, выскочившему буквально из-под копыт.
Поладову было в эти дни не до охоты и не до зайцев. Целыми днями не слезал он с седла. Из одного аула в другой, из другого в третий.
Раньше он ездил без сопровождающих; с недавних пор решением бюро райкома к нему прикрепили двух вооруженных милиционеров.
Милиционеры за день выматывались до смерти, а Поладову хоть бы что. По правде сказать, в седле он чувствовал себя лучше, чем в кресле, а в степи уверенней, чем в райкомовском кабинете.
Работы было выше головы. Аульные советы ненадежны, в них полно чуждых элементов. Надо чистить, выметать сор, надо открывать людям глаза — снова и снова, а это еще тяжелее, еще труднее, чем проводить партийную чистку. Вот хотя бы тот же Гулджан. Прибит прежней бедняцкой жизнью до того, что никак не может не раболепствовать перед зажиточными односельчанами. Казалось бы, чего проще — снять его и заменить другим. Но Поладов не снял Гулджана. Почему? Ответ прост — некем заменять. Был бы подходящий человек, Поладов без раздумий выдвинул бы его на решающий участок работы. Но где они, такие люди? Айдогды Тахиров? Этот хорош — но молод, еще молод. А остальные ничуть не лучше Гулджана. Надо растить кадры, учить людей, способных на каждодневный подвиг. Их надо найти, этих людей. Ведь находятся же они в армии, люди, способные пойти, не робея, на сеющий смерть пулемет. Почему же, вернувшись в свой аул, в мирной жизни они теряют всю свою смелость и становятся тихими и смирными?
И в мирные дни, как в дни войны и революции, нужны герои. Но разве Гулджан пойдет на смерть ради свободы мирового пролетариата? Вряд ли. Он человек приземлённый, без полета. Он как сырой материал, как глина, из которой жизнь лепит какие-то фигуры. Но что это за человек, из которого можно вылепить все, что угодно?
За тысячелетнюю человеческую историю люди натерпелись всякого. Ради прижизненной славы полководцы обрекали на мучения и смерть сотни тысяч ни в чем не повинных людей, а продажные поэты воспевали и прославляли эти подвиги в своих стихах. Люди были разделены на рабов и господ, и часто жизнь человека была хуже, чем жизнь животного. Но ведь человек не рожден для рабства! Он должен жить достойно! Он должен жить свободно, уважая право другого человека на такую же свободную жизнь. Эту возможность впервые за тысячи лет дала людям революция. Но разве исчезли бесследно те, кто с этим так и не согласился? Мы победили их, но они еще не уничтожены до конца. Так надо довершить эту работу, уничтожить защитников старого. Надо расправляться с ними беспощадно… а мы идем на уступки. Да, он, Поладов, понимает, что это временная, вынужденная мера… он понимает, что в один день старое так просто не уничтожить, что корни его еще сильны…
И все-таки он истребил бы все это племя — буржуазию. Жертвы? Они были бы, это верно. Без жертв не обходится никакая борьба. Но история, в этом Поладов был уверен, оправдала бы их. И пусть в этой борьбе погибнет он сам, Яйлым Поладов, он готов на это ради окончательной и скорой победы.
Что и говорить, враги опытны и коварны. Им неведомы высокие идеалы, они не гнушаются никакими подлостями. Про него самого распускают слухи, будто он в своем ауле был запятнан и опозорен. Да, эти люди не останавливаются ни перед чем, и их нельзя перевоспитать. Это не батраки, темнота которых от нищеты и забитости, это сознательные враги. Такой враг способен принимать всевозможные обличья, лицемерить и приспосабливаться; он может произносить самые правильные лозунги — и все-таки останется врагом, как волк, даже в овечьей шкуре, остается волком.
Взять того же Мурзебая, лавочника, которого Поладов накануне исключил из состава аулсовета. Чем, казалось бы, плох — Советскую власть хвалит, среди руководства имеет немало знакомых. Сарыбеков вообще приводит Мурзебая в пример. Ничего не скажешь, не глуп этот лавочник. Но Поладова ему не провести, не обмануть; классового врага он учует и под землей. Да и сын его, Гарахан, недалеко ушел от Мурзебая — и пусть чайханщик хоть сто раз правильно платит налоги — со временем Поладов доберется и до него.
А вместо Мурзебая в состав аульного совета он тогда же рекомендовал избрать Эджегыз. Он до сих пор даже сам не может понять, как ему раньше не пришла в голову эта блестящая мысль — при всем ауле заменить всемогущего лавочника женщиной, рот которой, как того и требовал древний обычай, закрыт «платком молчания», яшмаком. Поладов видел, как были все поражены, особенно Мурзебай: ведь он так старался угодить новым властям! И вот теперь его заменили женщиной. Позор!
«Давно пора было это сделать, — думал Поладов. — Давно. Слишком долго лишены были женщины слова, слишком долго они молчали. Теперь настала пора им заговорить. А если женщина, если Эджегыз заговорит, она скажет то, что нужно. Она будет думать не о себе. Она будет думать о детях — обо всех детях, она станет думать о будущем».
— Эджегыз! Ты назначаешься членом аульного совета. Теперь все силы ты должна отдавать борьбе за освобождение таких же, как ты, — так сказал ей Поладов.
Она ничего не ответила. Да и что она могла сказать? Может быть, ей было страшно? Может быть, она хотела отказаться? Но ни за что она не сказала бы Поладову «нет».
Ни за что.
* * *
Сколько помнил себя Айдогды, столько помнил и гудки паровозов. Каждый день проходили мимо поезда, сотрясая землю. Они проходили на восток, они уходили на запад, солнце отражалось в окнах вагонов, и у Айдогды рябило в глазах, а поезда все проходили и проходили, и их заглатывал горизонт. Айдогды провожал их взглядом, словно журавлей, исчезающих в небе, улетающих в неведомую даль.
И вот теперь он сам едет в таком же вагоне. Снизу доносится до него монотонный стук, вагон вздрагивает на стыках и скрипит, словно старое дерево. В вагоне душно, тесно. Так-так — стучат колеса. За окном — квадратный кусочек неба, за окном — безграничный мир, бескрайняя степь, которая медленно отодвигается назад.
«Тук-тук» — говорят кому-то колеса — «так-так…»
— Нам выдадут там хромовые сапоги…
Айдогды отвлекся от картины, видимой из окна, и прислушался. Невысокий парень говорил мечтательно.
— Да, ребята. Настоящие сапоги. Блестящие. Со скрипом. Идешь по улице, а они скрипят — жик-вжик, джик-джик. Аж дух захватывает!
Парень говорил по-туркменски, да так, что Айдогды только моргал от удивления. У парня были рыжие волосы и глаза голубые, как небо; по лицу — русский и русский, а закроешь глаза — говорит настоящий туркмен.
— Ты из какого аула? — не выдержав, спросил Айдогды?
— Из Арчиняна. А что?
— А по-русски ты тоже можешь говорить?
— Как же я могу не знать родной язык?
— Значит, ты русский. А говоришь, как туркмен.
— Что русский, что туркменский — для меня все равно, Айдогды.
— Ты знаешь мое имя?
— Я знаю секрет, как узнать имя человека.
— Тогда скажи, как меня зовут, — попросил парень с пухлым лицом.
— Тебя зовут Шакылыч.
— А меня? — спросил другой, длинный и тощий.
— Ты — Мамед Широв.
— А сам-то ты кто? Уж не волшебник ли?
— Нет, не волшебник. Да и волшебства тут никакого нет. Когда вы прощались на вокзале, вас всех называли по именам, вот я и запомнил. А меня самого зовут Константин, фамилия Горелик, попросту — Костя. Служить нам придется вместе, так что будем знакомы.
Степь уходила и уходила назад…
* * *
И кони, и люди были измучены до предела. Куда ни глянь — бесконечные волны барханов. Вверх и вниз, вверх и вниз, и кажется, что этому не будет конца, и нет уже сил, вот взойдешь на этот бархан, и упадешь и не двинешься, а пустыня все так же вздымает свои песчаные валы.
Еще и еще.
Ноги налились свинцом, каждый шаг казался последним. Еще шаг, еще шаг и еще. Закусив пересохшие губы, Айдогды шагал вместе со всеми. Откуда у людей столько терпения и столько сил? Если бы кто-нибудь другой рассказал ему, что почти целую неделю можно идти вот так, без отдыха, в раскаленных песках, — он не поверил бы ни за что. Пусть это была учеба, пусть воевали они пока что с условным противником — но жара была не условная, и усталость и пот были настоящие, может быть, ничуть не меньшие, чем в настоящих боях, которые еще впереди. А пока что перед ними стояла задача — дойти до колодца Орта-кую. Там — отдых, там — конец мученьям, и они шли, передвигая негнущиеся ноги и таща за собой на поводу отощавших и изнуренных жарою лошадей, которые оказались менее выносливыми, чем люди.
До колодца было уже недалеко. Об этом говорило опытному глазу много признаков. Все больше попадалось голых барханов, все шире становились овечьи тропы между ними.
И тут в небе возник сначала какой-то вибрирующий звук, а потом слабый рокот, и вот уже из-за барханов показался аэроплан. Покачивая крыльями, он сделал круг над отрядом, потом летчик высунул из кабины руку и что-то бросил вниз.
Комэск Атаев вскрыл пакет, углубился в чтение и через несколько минут собрал весь эскадрон в лощине.
— Товарищи бойцы! Поступило сообщение: большая группа басмачей перешла границу и движется на север. Нами получен боевой приказ: обнаружить банду и уничтожить ее.
Бойцы, предвкушавшие близкий отдых, стояли молча, и это молчание не понравилось командиру.
— Эскадрон, р-равняйсь! Смирно! — рявкнул он. — Что за настроение! Устали? Нет сил пошевелить языком. А вы что думали. Вы бойцы Красной Армии или слабые женщины? Вы должны быть готовы всегда и ко всему. Красный боец всегда и в любом положении должен быть готов к выполнению своего революционного долга. Понятно?
— Понятно!
— Вот так-то лучше. Через полчаса, товарищи бойцы, мы будем с вами у Орта-кую, — продолжил комэск. — Там соединимся с другими отрядами и начнем действовать. А пока необходимо разведать обстановку. Добровольцы есть?
Тахиров и Горелик шагнули вперед. Мгновение спустя рядом с ними стоял Мамед Широв.
— Горелик, назначаю тебя командиром первой разведгруппы. Вы пойдете на восток, к колодцу Чукур. Ваша основная задача — обнаружить врага и сообщить о его передвижении. Час на отдых — и в дорогу. Основная наша база — Орта-кую.
Эскадрон, уходя, оставил разведгруппе весь свой запас воды. Впервые за последнюю неделю смог Айдогды не считать сделанных глотков. Напоили и коней.
Эскадрон скрылся за барханами.
* * *
Горелик посмотрел на часы.
— Двинемся через пять минут.
Мамед Широв подумал, что эскадрон уже, наверное, дошел до колодца. Теперь все отдыхают, а они? И он пожалел, что тоже шагнул вперед, и чай, который он пил, показался ему вдруг совсем безвкусным. Они идут в разведку. А если нарвутся на басмачей? Как сказал комэск Атаев — «большая группа». Целая банда басмачей, вооруженных до зубов, а их только трое. Каким нужно было быть дураком, чтобы самому напроситься на верную гибель. Ему вспомнилась девушка, Аксона, лучшая в мире, он увидел ее сияющие глаза, услышал ее голос: «Вот вернешься со службы, и мы поженимся…».
Но ведь если он погибнет, то никогда… он никогда не увидит больше Аксона, и никто даже не узнает, где лежат его кости…
Внезапно он почувствовал резкую боль. Да, он не мог дальше двигаться, он заболел, он не мог подняться и сесть в седло.
Горелик в растерянности смотрел на Мамеда, который стонал и корчился на песке у его ног.
— Что с тобой, Мамед? Ну, потерпи, брат, потерпи. — Он то смотрел на часы, то на Мамеда. — Слушайте, сделаем так: я пойду один, а ты, Айдогды, доставь Мамеда к колодцу. Не можем ведь мы бросить товарища в беде.
— Нет! — простонал Мамед, пытаясь подняться. — Нет. Я не останусь… Я пойду с вами. O-o-o! Нет, идите сами. Я догоню вас… приказ надо выполнять.
— Ладно, — сказал Горелик. — Приказываю тебе остаться здесь. Замаскируйся, лежи и не двигайся.
И двое всадников двинулись вдоль подножья громадной песчаной волны. Они были настороже, ничто не ускользало от острого взора, но кругом царило извечное, ничем не нарушаемое однообразие пустыни. Тишина, никаких следов, и повсюду взгляд встречает только морщинистые склоны барханов.
От уставших, вспотевших коней валил пар.
— Отдохнем немного.
Горелик вскарабкался на вершину бархана и тут же кубарем скатился вниз.
— Что случилось?
— Быстрее надевай на коней торбы. Заржут — пропадем…
— Басмачи?
— Здесь, рядом. Если бы не остановились, нарвались бы прямо на них. Скачи назад с донесением.
— А как же ты? Я не оставлю тебя, — упрямо сказал Айдогды.
— Это приказ. Выполняй.
Но не успел Тахиров отъехать и ста шагов, как раздался выстрел, и конь под ним взметнулся на дыбы и повалился на бок. Айдогды успел выброситься из седла, змеей пополз к зарослям саксаула. И замер там.
Но сколько ни прислушивался он, сколько ни вглядывался, ничего не услышал и не увидел. Тогда, вытащив лопатку, он принялся аккуратно, как на учениях, отрывать окоп. Думал он при этом только об одном — как там Горелик…
А Горелик ругал себя на чем свет стоит. Так глупо попасться в ловушку! С самого начала они действовали неправильно. Ведь и дураку ясно, что в густых зарослях саксаула могли укрыться басмачи. Он обязан был предусмотреть возможность засады. Надо было ехать порознь, сохраняя дистанцию; тогда в случае нападения или засады хотя бы один из них имел возможность уйти от преследования и предупредить эскадрон.
Да, ему не было оправдания. Ведь в военном деле нет мелочей, потому что за любую ошибку, за любую оплошность одна расплата — смерть. А что может быть хуже смерти? Только невыполнение боевого приказа.
Но теперь поздно было корить себя, надо было действовать, и уж коли попал в ловушку — держаться, держаться до последнего вздоха, пытаясь нанести врагу как можно больший урон.
Горелик лежал на верхушке высокого бархана, заросшего густым саксаулом. Это была позиция, вполне подходящая для обороны. С тыла его защищал Айдогды, а впереди, отделенный лощиной метров в сто шириной, тянулся высокий вал. Хорошая позиция, можно держаться, надо только не угодить под меткий выстрел — тогда конец, погибнешь нелепо, зазря. И Горелик вжался в песок, стараясь не шевелиться. Пусть нападают. Многим придется лечь в песках навсегда, прежде чем до него доберутся…
* * *
Мамед Широв лежал, растянувшись, на мягком песке. Боль отпустила его. Какое облегчение почувствовал он — словно беда миновала. Все-таки какая хорошая штука — жизнь. Жизнь и свобода. И молодость. И конечно, любовь.
Мамед перевернулся на спину, потянулся. Он вспомнил Аксона. Вот кончилась служба, и она встречает его. «Ты похудел, Мамед, — ласково скажет она. — Трудно было, наверное, на военной службе». Она спросит его: «А с басмачами ты встречался? Участвовал в боях? Ведь ты такой храбрый, а вот я не смогла бы, испугалась…»
А он — что он ей ответит?
Мамед сел. Он расскажет ей все, как было. Разве он не вызвался первым идти в разведку вместе со своими друзьями? Разве он побоялся остаться в песках, сраженный болезнью? Разве кто-нибудь может обвинить его хоть в чем-то — все ведь знают, что однажды он уже попал в госпиталь из-за внезапной рези в животе.
И вдруг он снова увидел лицо Аксона. Но не ласковым было оно, и уже не светились нежной улыбкой ее глаза. Они горели гневом, и в них было презрение. «Ты предал своих товарищей, Мамед. Ты трус».
Мамед вскочил, словно его укусил скорпион. Он оказался трусом. Лучше, во сто раз лучше погибнуть от вражеской пули, чем жить с клеймом труса и предателя.
Он уже сидел в седле. Следы копыт четко прочерчивали его путь к горизонту. Скорей! Надо спешить. Когда впереди показались заросли саксаула, он попридержал коня. Здесь надо быть осторожным — так учили на тактических занятиях. Въезжать в заросли не надо, не сделав предварительно круг. Но следы ведут прямо. Почему поехали так Горелик и Тахиров? Неужели ошиблись?
И он спешился, ползком взобрался на вершину самого высокого бархана, притаился в кустах саксаула.
Ничего подозрительного он не увидел и хотел уже было спуститься вниз, когда на вершине одного из самых дальних барханов что-то блеснуло. Через некоторое время блеснуло опять, а затем шевельнулась ветка. Видимо, Горелик с Тахировым нарвались на засаду. Что делать ему, Мамеду Широву, как он должен поступить? Если пойти к ним на помощь — он тоже попадет в засаду. Вернуться и сообщить своим? «Но что я скажу командиру? Ведь я не видел басмачей своими глазами. Мне просто показалось. Недаром в народе говорят: «У того, кто боится, в глазах двоится».
И вот он уже снова в седле. Но что это? Где-то вдалеке заржал конь. Теперь Мамед продвигался вперед шагом, тихо. И тут увидел следы коней. Широкая полоса следов пересекала низину и уходила за бархан. Если судить по следам, всадников было не меньше сотни. А вот и не высохший еще помет… Он повернул коня. Скорей. Скорей в Орта-кую. Дорога впереди — не меньше чем на час. Но что значит «не меньше», если товарищи в беде. За полчаса, Мамед Широв, ты должен добраться до своих, за полчаса. Выдержит ли конь, выдержит ли верный Гарагулак полчаса непрерывной скачки!
Выручай, Гарагулак!
Конь несся галопом, прижав уши. Пот с него катился градом, и Мамед всем телом чувствовал, каким горячим был Гарагулак, как нелегко приходилось ему.
Уже у самого Орта-кую встретил Мамед передовых дозорных своего полка.
— Скорее доложите штабу, — прохрипел Мамед, — банда прошла у вала Оджарлы…
Один из дозорных тут же ускакал. Мамед склонился к шее Гарагулака. Его сняли с седла.
— Не давайте… Гарагулаку… стоять… поводите его… а то погибнет, — хрипел Мамед. — Братья, не дайте погибнуть коню.
— Полежи, полежи немного. Посмотрим за твоим Гарагулаком, — сказал старший дозора и накинул на коня попону.
* * *
А пустыня молчала.
«Почему они не стреляют? — думал Горелик. — А, понятно. Хотят обойтись без лишнего шума. Слышны ли отсюда выстрелы в Ортакую? Вряд ли? Значит, они не знают нашего расположения… Как бы то ни было, время работает на нас. А как там Айдогды? Только бы продержаться. Ведь в штабе ждут от нас донесений, и раз их нет, наши рано или поздно забеспокоятся, начнут разыскивать нас».
«Они хотят взять нас живыми, — думал в это же время Тахиров. — Но живым я им не дамся».
И тут на вершине бархана, прямо напротив того места, где залег Тахиров, показался человек. Это был
старик, и он был безоружен и не похож на басмача. Стащив с себя мохнатую шапку, он помахал ею.
— Эй, сынок, — сказал он дружелюбным голосом. — Давай поговорим.
— А кто ты?
— Я старейшина племени. Я туркмен, как и ты.
— Если ты старейшина и туркмен, что ты делаешь в этой банде басмачей?
— Мы не басмачи, сынок. Простые кочевники.
— А зачем стреляли в меня?
— Разве мы стреляли в тебя? Ты видел — одной пулей был убит твой конь. Разве у нас не было второй пули? Но мы не хотели твоей смерти. Нет у нас к тебе вражды — живи, наслаждайся жизнью. Тебе надо еще жениться, я вижу, надо оставить после себя потомство. Мы тебе зла не желаем…
— Зла не желаете, а посреди пустыни оставили меня без коня.
— Это чтобы ты не сообщил своим командирам о нас. Ты красный воин, мы — свободные люди пустыни. Мы только не хотим никому подчиняться, а сами никого не трогаем. Брось нам свое оружие и, клянусь кораном, мы не причиним вам зла, пойдем своей дорогой, а?
— Я вижу, яшули, ты хитрый старик. Хочешь ватой перерезать нам горло.
— Подумай еще немного, сынок. Ведь на этом свете лучше, чем на том. Зачем ты сам туда спешишь?
Гул самолета заглушил его слова. Горелик нацепил фуражку на ствол карабина и помахал ею, но в тот же момент она упала на песок, пробитая пулями.
Когда основные силы полка добрались до вала Оджарлы, басмачей там уже не было.
* * *
Мамед Широв не спал. В мозгу у него словно завелся пчелиный рой. Дз-з-з, д-з-з… Ты предатель, Мамед. Д-з-з… Трус… д-з-з…
— Не мучай себя, браток, — услышал он голос Горелика.
— Знал бы ты… знал бы мою вину. Ведь я…
— Я знаю, Мамед.
Сердце у Мамеда остановилось.
— Откуда?.. откуда знаешь?
— Когда ты… когда ты корчился на песке, я посмотрел тебе в глаза.
— Что мне теперь делать, скажи? Как жить?
— Отец говорил мне: «Только человек, потерявший совесть, может обмануть друга». Но разве ты такой? Нет, ты просто растерялся. Верно? Это может случиться с каждым. И все-таки я верил, что ты придешь к нам. И разве ты не пришел? Ты спас Айдогды и меня от верной смерти. Ты искупил свою вину. Спи, браток…

И только тут Мамед успокоился. Огромный улей в его голове утих. Только тут он почувствовал, как устал.
Через мгновение он уже спал…
Эскадрон выступил еще до рассвета. Словно боясь растаять с наступлением дня, грустно поблескивали в светлеющем небе звезды, вечные свидетели бесконечной реки по имени Время. Наступающий день все гасил и гасил звездный свет, расширяя горизонт, и, гордясь своим простором, пустыня на дальнем краю сливалась с небом.
Бескрайний, родной Каракум! Копыта коней топчут сейчас твой чистый, словно небо, песок. Понимаешь ли ты, что происходит, ощущаешь ли боль, томится ли твоя вечная душа? Или тебе это безразлично, и ты не вмешиваешься в этот спор, что ведут меж собою люди, и ты с равным вечности безразличием терпишь людскую несправедливость…
Взметая песок, примчался командир дозора.
— Приказано вашему эскадрону занять позиции на этом рубеже, — передал он комэску Атаеву. — Основной бой принял на себя второй эскадрон…
Зарядив карабин, Тахиров приготовился к бою. Сердце его билось рывками. Вот сейчас… сейчас покажется враг. Тогда он прицелится и, как учили на занятиях, плавно потянет спусковой крючок. И смертоносная пуля начнет свой неумолимый полет. «Пока я не убивал еще никого. Но враг должен быть уничтожен, к нему не может быть никакой жалости. Выстрел — и смерть. Каков же он будет, первый человек, которого я убью? Молодой или старик, вроде того яшули? Закоренелый преступник, убийца, чьи руки обагрены кровью жертв, или обманутый наемник, батрак, ничего не видевший в своей жизни? Но кто бы это ни был — это враг, и мой долг — убить его…»
Стрельба усилилась и резко оборвалась. Наступила тишина, такая неожиданная и огромная, словно небо внезапно опрокинулось на степь и разом приглушило все звуки.
Потом запели птицы — одна, другая… и вот уже звонкие птичьи голоса принялись кромсать на куски тяжелое покрывало тишины. Прямо перед глазами Тахирова на ветке саксаула как ни в чем не бывало вертелась и охорашивалась пеночка. Неужели кончился бой?
Так оно и было. Бой действительно кончился. Окруженные со всех сторон, басмачи предприняли отчаянную попытку прорваться и ринулись в атаку. Теперь те, кто остался в живых, молча сидели на склоне двугорбого холма; остальные нашли себе могилу и обрели вечный покой в песках пустыни. А только что насыпанный бугор — братская могила тех, кого сразила басмаческая пуля.
…Атаев, как всегда, говорил коротко:
— Вы отличились в этой операции. Даю вам рекомендации для вступления в партию. Держите.
— Я не достоин… не достоин стать коммунистом, товарищ комэск, — сказал Широв.
Атаев посмотрел на него внимательно.
— Мы оцениваем людей не по словам, а по поступкам, товарищ Широв. В том, что нам удалось окружить и ликвидировать эту банду, немало и вашей заслуги.
— Товарищ комэск, — обратился к Атаеву Горелик. — Разрешите… доложить. То, что наша разведка оказалась удачной, — простая случайность…
Тонкие брови комэска Атаева нахмурились, лицо потемнело.
— Выходит, вы заслуживаете не награды, а трибунала?
Никто не проронил ни слова. Молчание нарушил командир.
— Вы искупили свою вину. И тем, что выполнили задание, но еще больше тем, что не скрыли своего проступка и не побоялись открыто признаться в нем. Для этого вам потребовалось не меньше мужества, чем в бою. Вы наказаны достаточно вашей собственной совестью. Но рекомендации, которые я вам написал, оставлю пока у себя. А Тахирову рекомендацию дам.
* * *
В низеньком домике за лавкой, за тем же столом, за которым еще недавно сидел бывший батрак Гулджан, теперь сидел новый арчин.
Это была Эджегыз.
Сразу после выборов старосты Сарыбеков привел ее сюда и сказал:
— Ну вот, теперь здесь ты и будешь сидеть. Поняла?
— Я не буду арчином!
— Будешь или не будешь, — сердито сказал Сарыбеков, — меня не касается. Я выполняю приказ Поладова. Не хочешь быть арчином — разговаривай с ним.
Так Эджегыз стала арчином. Теперь она приходила сюда рано утром и сидела за столом до захода солнца, но люди, заглядывавшие в сельсовет, со всеми вопросами обращались только к секретарю.
Сейчас секретарь куда-то ушел, и Эджегыз осталась одна.
Маленькая тесная комнатка. В тех местах, где обвалилась штукатурка, из стены торчит гнилая солома. Печь давно потухла и уже успела остыть, из-за двери доносится тоскливый вой метели.
Рядом с печкой лежат дрова, но Эджегыз сидит не шевелясь. Нужно затопить печку. Нужно затопить…
Эджегыз поднялась, опершись руками за стол, словно выступая с докладом. И будто сон наяву, увидела она перед собою сотни глаз, прикованных к ней, услышала десятки голосов: «Говори, Эджегыз. Говори, арчин, мы слушаем тебя!»
Но что она могла им сказать?
Закрыв лицо руками, Эджегыз выбежала на улицу.
Ветер бил в стены хлопьями снега. Заполняя все пространство между небом и землей, пушистые снежные бабочки исполняли волшебный неистовый танец.
Ударяясь о пылающее лицо Эджегыз, бабочки таяли. Мети, белый снег, мети! Освежай, очищай эту жизнь, сделай белым бескрайний простор, укрась собою горные вершины.
Эх, быть бы мужчиной, чтобы сражаться, как Поладов, за справедливость, чтобы вымести из жизни всю мерзость, всю ложь и всю грязь. Но… будь она мужчиной, она не родила бы своих сыновей, своего Айдогды… Вчера принесли от него письмо. Скоро, скоро вернется он домой. Ее Айдогды теперь — мужественный боец, член партии.
Как Поладов…
Что же он скажет, когда увидит ее здесь… увидит, как сидит она, словно незваная гостья в этой комнатушке. «Зачем ты согласилась стать арчином, если ничего не можешь сделать» — так спросит Айдогды. «Почему я сижу, сложив руки? Это неправильно. Я должна работать. Надо решать дела, а не укрываться за яшмаком…»
Эджегыз вернулась в комнатку и подложила в печку дров.
А секретарь в это время сидел в доме Мурзебая — ведь из города приехал его старый приятель Гарахан.
— Ну, за встречу, — по-городскому сказал Гарахан и выстрелил в потолок пробкой от шампанского. Потом разлил по пиалам пенящийся напиток. Бывший Сахиб-мулла, а ныне Сахиб-учитель отвернулся.
— А лимонада у тебя нет?
— Э, я вижу, ты не отказался окончательно от старой морали, — засмеялся Гарахан. — Новое время — новые песни, почтенный, — вразумлял он своего бывшего учителя. — Все должно быть новое. Тельпек надо выбросить, а надеть фуражку, надо носить узкие брюки, надо разбить табакерку для наса и курить папиросы, а по утрам чистить зубы зубной щеткой… вот как надо теперь жить.
— Я вижу, ты не оставишь Сахиба в покое до тех пор, пока он не начнет пить с тобою водку, — засмеялся Худайберды, секретарь сельсовета.
Бывший мулла и так еле терпел поучения Гарахана, а уж допустить, чтобы над ним посмеивался безродный Худайберды, он не мог никак.
— Я скорее выпил бы водки и надел узкие штаны, — съязвил он, — чем ходить в подручных у женщины.
— А что, — скрывая обиду, рассмеялся Худайберды. — Я ведь теперь большой начальник. Эджегыз хотя и сверкает глазами, но молчит. Вот и получается, что я сам себе и арчин, и секретарь.
«А ведь не дурак, — подумал бывший мулла. — Совсем не глупо».
И он примирительно улыбнулся секретарю.
* * *
Когда Поладов открыл дверь, Эджегыз сидела за столом.
— Ну, здравствуйте, товарищ Дурдыева. — И, шагнув к ней, он протянул руку. — Я вижу, вы уже приступили к работе. Поздравляю.
Эджегыз резко поднялась, и стул за ней с грохотом упал. Опустив голову, она протянула Поладову руку. Сейчас его рука, твердая как камень коснется ее ладони…
Но ее рука повисла в воздухе. Эджегыз подняла глаза… Поладов стоял, упершись правой рукой в бок, лицо его было серьезно, и только глаза, цветом похожие на черную вишню, смеялись.
— Когда большевик протягивает руку человеку, он должен смотреть ему прямо в глаза, товарищ Дурдыева.
«Я не большевик. И не арчин. Оставьте меня в покое» — вот что хотела больше всего сказать в эту минуту Эджегыз, но сказала то, что неожиданно для нее самой вырвалось из сердца:
— Спасибо вам, товарищ Поладов. Спасибо за все.
— За что спасибо, товарищ Дурдыева?
— Больше всего — за Айдогды.
— Товарища Тахирова воспитала партия, а не я. И меня она воспитала. И вас тоже, товарищ Дурдыева, доверив вам этот участок борьбы. И кстати, советский работник не должен прикрывать рот яшмаком. «Платок молчания» — вредный пережиток прошлого.
— Я… — не могла прийти в себя от изумления Эджегыз, — я должна ходить без яшмака?
— А ты как думала? Ты являешься представителем Советской власти среди сельских тружеников. Ты должна говорить от имени всего трудового народа. Как же ты можешь это делать с закрытым ртом?
— Не выброшу яшмак, — сказал Эджегыз. — Я не смогу появиться на улице с открытым ртом.
— А я тебе приказываю — сейчас же порви и выбрось его!
— Не выброшу.
Поладов медленно потянул из кармана наган.
— Не выбросишь?
— Нет!
Лицо Эджегыз покраснело от гнева, губы были плотно сжаты.
Поладов положил наган на стол и посмотрел на Эджегыз.
— Это я принес тебе, — сказал он. — Ишь, какая ты… Упрямая. Но это ничего, это хорошо даже. Значит, я не ошибся, назначая тебя арчином. Возьми оружие. Да, а где твой секретарь, Худайберды?
— Ушел куда-то.
— Куда?
— Не знаю, — нехотя призналась Эджегыз. — Он не сказал.
— Значит, он уходит без твоего разрешения?
— Теперь этого не будет, — твердо пообещала Эджегыз.
— Может быть, он и газет тебе не читает?
— Теперь будет.
— А корреспонденцию — письма, инструкции, которые посылают в аул из райцентра, он читает тебе?
— Теперь будет читать.
— Ну молодец. Теперь ты говоришь правильно.
Он снял шинель, повесил ее на гвоздь и устало сел возле печки.
— Необходимо открыть в ауле ликбез… — он подбросил в печку дров. — И тебе пора учиться. Ты женщина упорная, настойчивая, обязательно нужно знать грамоту.
— Не выучиться мне уже…
— Не так уж это сложно, Эджегыз. Особенно если захотеть. Как говорит народ: если есть у тебя великая цель, то и гору превратишь в толокно. Ты посмотри, каким крепким казался старый мир. А мы его разрушили. Так? Еще через десять, самое большое через пятнадцать лет построим социализм. Все люди будут грамотными, равноправие повсюду, изобилие. Самые тяжелые работы будут за людей выполнять машины, а люди станут жить в домах, похожих на дворцы. И не останется среди нас ни одного тунеядца, каждый будет трудиться, не щадя своих сил, и будет каждый человек другому братом. А вражды между людьми не будет и в помине.
Словно сказочная мелодия, звучали в ушах Эджегыз эти невероятные, удивительные слова. И таким же удивительным был для нее сам Поладов. Она чувствовала, что он верит в каждое слово, которое произносит. Поразительно. Как же можно выучить такое количество людей? Где взять столько учителей, столько школ? В ауле грамотных можно по пальцам перечесть. А дворцы? Невозможно достать обыкновенных гвоздей. Как же будут строиться дворцы? А может быть, все, что рассказывал ей Поладов, просто сказка, красивая, но несбыточная мечта? Но тогда зачем эти сказки ей, матери взрослых сыновей?..
За дверью раздался шум.
— Шагайте живее, гады!
Первым, шатаясь, вошел Худайберды. За ним показался бывший мулла. Милиционер подтолкнул их и закрыл за собою дверь.
— Товарищ Поладов! По вашему указанию доставил… вот этих. — И он отдал честь.
— Где ты их нашел?
— Известно, где. В доме Мурзебая. Пили водку и орали.
— Врешь, — крикнул Сахиб. — Я не ты, водки не пью…
Поладов пристально посмотрел на него, и под этим взглядом бывший мулла осекся.
— Мы, между прочим, вызвали тебя не из-за того, что ты пьешь водку. — И глаза Поладова сверкнули огнем, не предвещавшим ничего хорошего. — Ты клевещешь на представителей народной власти и не согласен с постановлением о равенстве мужчин и женщин. Или это неправда?
Сахиб-мулла побледнел.
— Ошибиться может каждый, — сказал он, стараясь унять дрожь. — Могли допустить оплошность, товарищ Поладов. Немного у нас еще политических знаний… в этом все дело.
— Хорошо, что вы признаете это. Мало знаний? Выход есть. Как раз сейчас в Ашхабаде открываются курсы учителей. Вот мы тебя туда и направим. Сделаем из тебя человека на пользу трудящимся.
— Не мальчик я, чтобы идти в школу учиться…
— Не учиться, а перевоспитываться. А не хочешь — придется тогда отвечать за клевету.
— Нет, лучше, конечно, учиться, товарищ Поладов.
— Договорились. — Взгляд Поладова задержался теперь на секретаре. — Тебя я назначаю учителем. Будешь вести ликбез.
Худайберды закивал.
— И еще. Я требую, чтобы ты стал настоящим помощником товарищу Дурдыевой. Предупреждаю тебя в последний раз. И если узнаю, что ты снова начал вилять хвостом в пользу классового врага, — пощады не жди. Тот, кто не порвет окончательно и бесповоротно с тунеядствующими и враждебными пролетариату элементами, будет сброшен в мусорную яму истории. Заруби это себе на носу.
Поладов придвинул лежащий на столе наган к Эджегыз.
— Берегите, товарищ Дурдыева, революционное оружие. Будьте бдительны. Классовый враг еще не уничтожен окончательно. Он еще жив и, притаившись, ждет удобного момента.
Падавший из окна свет тускло поблескивал на стволе нагана.
— Бери, Эджегыз!
Но Эджегыз никак не могла решиться. Зачем ей оружие? Ведь она не собирается никого убивать. Да и как можно выстрелить в человека?
Похоже, что Поладов догадался о ее мыслях.
— А что ты сделаешь, если на тебя и твоих детей набросится враг? И тогда Эджегыз протянула руку к нагану.
— Давно бы так. Вот теперь ты тоже боец. — И он стал натягивать шинель, а когда он повернулся, Эджегыз увидела неумело поставленные заплатки и подумала, что Поладов, наверное, очень одинок.
* * *
Каждый раз, приезжая в районный центр, Тахиров останавливался у памятника Гинцбургу. И каждый раз он снова видел, как тот стоял под наведенными на него стволами ружей — непреклонный и гордый боец революции, умирающий с улыбкой победителя. «Он не боялся смерти, потому что постиг глубинный смысл жизни, — подумал однажды Айдогды. — Ведь двум смертям не бывать, и не прожитыми годами измеряется ценность жизни, в конце которой все равно стоит смерть, а тем, как и для чего ты жил». Лучше сгореть, осветив на мгновенье мир, как молния, чем долгую жизнь тлеть, как навоз. В подвиге — вот в чем высший смысл жизни.
Но разве в том, что предложили ему сегодня в райкоме, есть возможность для такого подвига?
Предложение Поладова прозвучало для него слишком неожиданно. После возвращения из армии он работал мирабом
[6], потом некоторое время руководил районной организацией Осоавиахима. Но милиция…
— Не нравится мне эта работа, — честно признался он.
— Ты все еще ненавидишь классового врага, товарищ Тахиров, или теперь уже нет?
— Какой тут может быть разговор, товарищ Поладов?
— А вот какой. Если ты не будешь бороться с врагом, я не буду, другой, пятый, кто же будет?
…Айдогды задумался, вспоминая этот разговор, и не заметил даже, как оказался у дверей райотдела милиции.
— Тахиров! Кого я вижу! Что привело тебя к нам?
И начальник милиции Сарыбеков с притворным дружелюбием поднял брови. Только в это мгновение по-настоящему понял Тахиров, почему именно он не хотел идти работать в милицию. Он не хотел подчиняться Сарыбекову. Он не любил его, не доверял ему, хотя для этого, казалось, не было причин — ведь тому, что Сарыбеков работал среди белых по поручению нашей разведки, поверили уже все, даже Поладов. Только не Айдогды. Возвращаясь мысленно в далекое уже сейчас детство, он снова и снова слышал голос Сарыбекова: «Такие не отрекаются от своих убеждений… Большевик до мозга костей».
Но разве это плохие слова? И разве не повторил бы их сейчас сам Айдогды? Да, повторил бы. Но не таким, нет, не таким тоном. Он произнес бы эти слова с восхищением, но не было восхищения в голосе Сарыбекова тогда, много лет назад. Только этого не доказать.
Сарыбеков пробежал глазами письмо, присланное из райкома, и с озадаченным видом почесал лоб.
— Жаль, что ты не пришел к нам хотя бы днем раньше. А на сегодня у нас полный штат. Все места заняты. Вот получим дополнительные штаты, и тогда — добро пожаловать в милицию.
Сарыбеков дружелюбно улыбался, при этом его маленькие усики смешно шевелились, но Айдогды был уверен, что начальник милиции в душе насмехается над ним.
— Я не напрашивался к вам на работу, — отрезал он. — Товарищ Поладов объяснил мне, что передовая классовой борьбы проходит сейчас здесь, и направил меня сюда, как коммуниста. Если у вас есть какие-нибудь вопросы — позвоните прямо ему.
Он видел, что каждое его слово попадало в Сарыбекова, как пуля. С перекошенным лицом тот поднял трубку и держал ее на весу, словно не зная, что с ней делать, потом положил ее на место.
— Я знаю тебя, Айдогды Тахиров. Поэтому, несмотря на отсутствие мест, беру тебя на работу под свою личную ответственность. Когда приедет проверяющий, придется что-нибудь придумать…
— Меня послала на э́ту работу партия. Разве ваш проверяющий стоит выше партии?
По тому, как желтым огнем сверкнули глаза Сарыбекова, Айдогды понял, что больше всего начальнику милиции хотелось бы крикнуть: «Вон отсюда!»
— Товарищ Тахиров! И тех людей, что приходят к нам с проверкой, их тоже присылает партия. Потому-то я и говорю о личной ответственности — ведь я нарушаю закон. А тех, кто нарушает закон, как ты знаешь, партия не гладит по голове. Понятно?
Сарыбеков уже успокоился. Он снова обрел важный вид и чинно сидел за огромным своим столом, похожий на каменное изваяние, — огромная фигура, маленькая сплюснутая голова и глаза, похожие на глаза змеи. От одного взгляда на него все переворачивалось в душе у Айдогды, и с каждой секундой все меньше и меньше хотелось ему работать под началом у такого человека.
— Если, принимая меня на работу, вы должны нарушить закон — не берите меня, Сарыбеков. Я…
— Товарищ Сарыбеков, — поправил его начальник милиции.
— Я, — закончил Айдогды, — я не согласен с нарушением закона и не…
— Согласен ты или нет — это не имеет сейчас никакого значения. Ты принят на работу. Сейчас я подпишу приказ о назначении тебя старшим милиционером, а через два часа ты должен отправиться в аул Арап-Кала. Там находится некий Бабакули Аширов, совершивший контрреволюционные действия против только что образованного в ауле колхоза. Ты арестуешь его и доставишь сюда. Понял? А теперь повтори приказ, товарищ старший милиционер Тахиров.
Пришлось повторить приказ, ведь став милиционером, Тахиров должен был подчиняться суровой дисциплине. И как бы он ни относился к Сарыбекову, теперь он должен будет обращаться к нему не иначе, чем «товарищ начальник милиции», и каждое его приказание выполнять немедленно и беспрекословно. И вот первое приказание — арестовать… но кого? Бабакули, друга детства, который вслед за ним вступил в комсомол, бедняка из бедняков. И он, выходит, пошел против колхоза?
Это было непонятно, но разве Айдогды не сталкивался уже и с более непонятным? В армии, например, командиром взвода был сын известного богача — он с детства порвал с семьей и геройски погиб в бою с басмачами. Басмача, зарубившего его, удалось взять в плен, и кем же он оказался? Батраком. И добро бы он был невеждой, тупым и забитым, не разбирающимся, что к чему. Так нет же — он был руководителем комсомольской ячейки в своем ауле, как некогда Айдогды в своем, но полюбил байскую дочь и потерял голову и волю. И кто знает, что случилось, что могло случиться с другом его детства Бабакули, — может, и он попал в чьи-то хитро расставленные сети?
Но кто же оказался председателем нового колхоза? Им оказался тоже старый знакомый — бывший батрак и бывший председатель сельсовета Гулджан. Вот уж кто никогда не вызывал ни доверия, ни симпатий Тахирова. Но сейчас он, ничего не скажешь, толково рассказывал Тахирову обо всем, что предшествовало бунту комсомольца Аширова:
— Сначала Бабакули вел себя нормально. Первым подал заявление в колхоз. Следом за ним вступили еще пятнадцать человек, решивших объединиться. Посевы мы обрабатывали сообща, а скот пока оставался в единоличном пользовании. Но вот приехал товарищ Сарыбеков и собрал нас. «Какое же это, — говорит, — коллективное хозяйство, когда у каждого свой скот?» Я понял его мысль и выступил тоже. Раз, говорю, объединили землю, значит, и скот надо объединять, и все остальное имущество. «Может, и кур будешь объединять», — закричал Бабакули. «Всех кур соберем на один большой двор» — так объяснил товарищ Сарыбеков. Тут уже начались всякие выкрики. Кто-то закричал, что, наверное, и жен надо обобществить, но кто это крикнул, заметить не удалось. А имущество решили обобществить. И только Бабакули выступил против. Сказал, что такой колхоз его не устраивает и что он из колхоза выходит. А за ним вышли из колхоза еще несколько комсомольцев. И мы решили дать урок изменникам колхозного дела. Постановили срубить у них все тутовые деревья, а если и после этого не поумнеют, не давать воды на их посевы…
Бабакули сидел на крыше своего дома, обняв винтовку.
— Эй, друг, — крикнул Тахиров. — Слезай!
Бабакули спустил с крыши лестницу и слез.
— Здравствуй, Айдогды. Я рад тебя видеть.
— Мне приказано арестовать тебя и доставить в райотдел милиции.
— За что ты хочешь арестовать меня?
— Так приказано.
— Но разве я неправ? И сам ты поступил бы иначе?
— Может быть, я поступил бы, как ты. Но я теперь служу в милиции и должен доставить тебя куда велено. Но потом я пойду в райком и выскажу там свое мнение коммуниста.
— Теперь будешь знать, как выступать против государства, — вставил свое слово Гулджан. — Будешь знать, как разваливать колхоз.
— Это такие, как ты, разваливают колхоз, байский лизоблюд, — сказал Бабакули. — Веди меня, Айдогды, а то сейчас не удержусь…
Так они и шли до самого города, два недавних друга — один впереди, другой с винтовкой сзади. И с каждым шагом все тяжелей была в руках эта винтовка.
Так они дошли до райкома. Там Тахиров чуть замешкался. Как он и ожидал, Поладов увидел его из окна и вышел навстречу.
— Ну что, приступил к работе? — непривычно теплым голосом спросил секретарь райкома. Давно уже не видел его Тахиров таким. И, уверенный в своей правоте, горячо заговорил:
— Вот, конвоирую руководителя комсомольской ячейки, который выступил против ошибок и самоуправства…
Поладов слушал его внимательно. А затем обратился к Бабакули:
— И ты считаешь себя комсомольцем?
— Я… — начал было арестованный, но Поладов не дал ему договорить, лицо его преобразилось и голос прозвенел презрением:
— Ты дезертир, предатель трудового дела. Из-за таких, как ты, байские прихвостни и разваливают колхозы. Увести его!
— А как же с тутовником? Неужели эти дураки вырубят деревья?
— Тех, кто выступает против колхоза, будем бить насмерть.
Поладов круто повернулся и ушел.
А Тахиров остался. Остался, застыв от изумления. Что же это выходит? Значит, Бабакули — преступник? И теперь его посадят в тюрьму и никто ему больше не сможет помочь?
Но тут подошел Лукманов.
— Аширов? Это куда тебя ведут?
Бабакули молчал, опустив голову. За него ответил Тахиров:
— Я арестовал его, товарищ Лукманов, согласно приказу.
Пришлось рассказать все еще раз. Лукманов покачал головой.
— Ничего не скажешь, наломали вы дров, товарищ Аширов. Нелегко мне будет защищать вас. Но если вы дадите слово, что впредь будете обдумывать подобные шаги, я отпущу вас домой.
— Я не имею права освобождать арестованного, товарищ Лукманов, — неуверенно сказал Айдогды.
— Доложишь начальнику милиции, что председатель райисполкома отменил его приказ.
* * *
Мурзебай крепко держал в руках председателя колхоза.
— Тебе следует порвать все связи с Гочаком, — сказал он Гулджану.
— Он родственник мне, Мурзебай… трудно будет сделать это.
— Разве ты видел, чтобы в летний зной вдруг зазеленели холмы, а, Гулджан?
— Нет, конечно… в зной и трава сохнет и все желтеет.
— Точно так же засохнет и погибнет в колхозном зное Гочак. Он сам вырыл себе могилу. Единоличник! Если ты не порвешь с ним как можно быстрее, предупреждаю, погибнешь вместе с ним. Скажут про тебя: вражеский прихвостень и вычеркнут из списков. И тогда тебе конец, даже я не смогу помочь.
Дрожа от страха, входил на следующий день Гулджан в кабинет Поладова. От волнения он едва шевелил языком.
— Значит, в вашем колхозе тоже есть кулаки?
— Есть… Один-единственный. Правда, он мне приходится родственником…
— Ну, так чем он занимается? Дезорганизацией работы? Распространяет вредную агитацию?
— Вот-вот… агитацию. Действует исподтишка. Мне угрожает. — Если будешь, говорит, служить преданно своему колхозу, убью, как муху. И поклялся хлебом и солью. Оружие у него…
Позвонив новому начальнику милиции Горелику, Поладов передал ему сведения о Гочаке, предупредив и об оружии.
А Гочак тем временем, словно почувствовав опасность, спал по ночам на крыше своего дома, чутко прислушиваясь к собачьему лаю. И все-таки он не заметил, кто и когда закопал какой-то сверток в самом углу двора. Только когда собака стала рыть лапами землю в этом углу, он побежал за лопатой и выкопал старую берданку, завернутую в кошму.
Но тут отчаянно залились лаем собаки и послышался конский топот. Едут… к нему! Гочак-мерген едва успел бросить берданку в колодец, как сильно забарабанили в ворота.
Милиционеры вошли во двор и направились прямо к яме.
— Что здесь было закопано?
— Это вы спросите у Гулджана.
— Двор-то не Гулджана, а ваш.
— Кто донес вам, что здесь яма, тот и должен знать, что в ней закопано. Вот и спрашивайте у того, кто донес.
— Обыскать весь двор, — приказал Горелик. Да, не ошибался, похоже, Поладов, когда предупреждал его, что Гочак — хитер и коварен. Ясно, что в яме было оружие, как ясно и то, что Гочак успел его перепрятать. Но как старый разбойник ухитрился узнать, что мы нагрянем к нему с обыском? И почему он не закопал яму? А, понятно — просто не успел. Следовательно, оружие где-то здесь.
Горелик отозвал в сторону Бабакули.
— Вы наблюдали за двором?
— Глаз не сводили.
— Выходил кто-нибудь за это время?..
— Никто. Кроме Меджек-хан…
— Что? Почему выпустили его? Ведь я приказал никого не выпускать. Теперь понятно — оружие увез ваш этот… хан.
— Была бы винтовка, мы бы увидели ее. А кроме того… Меджек-хан не такая. Она девушка гордая. Зачем ей винтовка — ее и так никто не осмелится тронуть.
— О какой девушке ты говоришь, товарищ Аширов?
— О Меджек-хан, начальник. Не девушка — огонь. Гочак-мерген всегда мечтал о сыне, а когда родилась дочь, назвал ее этим мужским именем. Меджек-хан выросла настоящим джигитом; она оправдывает свое имя — настоящий волк…
Он не успел договорить. В ворота на всем скаку влетел всадник.
— Э, шайтан… чуть не убила, — отпрянул в испуге Гулджан. А девушка, не слезая с коня, окинула взглядом полный незнакомых людей двор, затем с тревогой спросила Гочак-мергена:
— Что случилось, отец?
— Твой дядя Гулджан пришел к нам в гости, сынок. А для того, чтобы ему было не так страшно, пригласил с собой милицию. Дядя Гулджан видел, как мы с тобой вон в том углу закапывали оружие.
— Ах так! — И Меджек-хан с таким выражением взглянула на мгновенно побледневшего Гулджана, что тот отошел подальше.
— Товарищ начальник, — прошептал он на ухо Горелику и потянул его за рукав.
— В чем дело, председатель?
— Товарищ начальник, этого… эту Меджек-хан… ее нужно тоже арестовать. Она дочь кулака, такой же враждебный элемент, как и он сам. Оставить ее — нанесет большой вред.
Горелик увидел, что Гулджан весь трясется, и ему стало неприятно смотреть на Гулджана.
— О каком вреде вы говорите?
— О, она бешеная… может убить кого-нибудь. Активистов может убить, меня…
— Пока мы еще не нашли оружия, которое должны были найти. Для того чтобы арестовать человека, должны быть более веские основания, чем страх.
— Товарищ начальник, ничего нет, — доложил милиционер.
— А колодец проверили?

Милиционер замялся.
— Где веревка, — оживился вдруг Гулджан. — Давайте, я спущусь.
Гулджан пробыл в колодце довольно долго, а когда его вытащили, доложил бодрым голосом:
— Совсем пустой колодец. Ничего нет.
Что-то не понравилось в его голосе Горелику. Не обманывает ли? Но ведь он сам донес на Гочака, зачем ему врать? И все-таки здесь что-то не так. Но что? Горелик терялся в догадках. Как бы то ни было, надо сделать вид, что он ничего не подозревает. Спокойно! Спешка ни к чему хорошему не приведет. Надо действовать методично и обдуманно, чтобы развязать этот узел.
— Товарищ Тахиров! Обыщите конюшню.
У конюшни, под навесом, раскладывая клевер для своего коня, стояла Меджек-хан. Она с презрением посмотрела на него.
— Что забыли здесь?
— Мне приказано проверить конюшню, Меджек-хан, — как можно мягче сказал Тахиров.
— Ну что ж, ищи. Только там чисто. Даже навоза не найдешь.
— Не слишком ли остер твой язык, Меджек-хан?
— А по-твоему я должна радоваться, видя, как ты под навозом ищешь золото. Так, что ли?
— Ты знаешь, что мы ищем.
— Нет у нас никакого оружия. А было бы, не стали бы прятать.
— И я так думаю. Но я на службе. Приказывают искать — ищу. Ничего другого не остается.
Меджек-хан пристально посмотрела в глаза Айдогды, и от этого взгляда он поперхнулся.
— Я верю тебе, Меджек-хан, — тихо сказал он и, не входя в конюшню, повернул обратно.
— В конюшне оружия нет, — доложил он Горелику.
Но Горелик и не ожидал ничего другого. Кто же станет прятать винтовку в конюшне? Только последний дурак. Если в этом дворе и есть оружие, то оно, конечно, только в колодце. Непонятная история. По какой причине донес Гулджан? Может быть, тут замешана эта девушка? Впервые он видел девушку такой красоты и так непохожую на всех остальных. Словно не трогают ее никакие земные заботы, она носится на скакуне по степи, смотрит на всех свысока.
«Я должен арестовать Гочака. Но ведь оружия мы пока не нашли, значит, для ареста нет оснований. Не нравится мне этот Гулджан, скользкий какой-то… Надо поговорить с Поладовым. Высказать ему свои сомнения. Но поверит ли он? И все-таки — откуда Гулджан мог знать, в каком именно углу закопано оружие?»
— Я думаю, надо объяснить все председателю райисполкома, — словно в ответ на его мысли и сомнения сказал Тахиров.
Но придя на следующий день на работу, он узнал, что ночью Гочак-мергена все-таки арестовали.
— Поладов отчитал меня, — сказал Горелик, вызвав его в кабинет. — Хочешь, говорит, чтобы появились новые басмачи? И добавил, что змею лучше уничтожить, пока она не выползла из норы.
В тот же день к Поладову пришел Лукманов.
— За что арестовали Гочака?
— Это классовый враг.
— Пока что это только слова. А доказательства?
— В его дворе обнаружена яма, предназначенная для хранения оружия?
— А как можно определить, для чего вырыта яма?
— Гулджан, родственник Гочака, видел своими глазами.
— Что видел? Как закапывали оружие?
— Вот именно. И тотчас же доложил нам.
— Ну и где же оно?
Поладов побагровел.
— Гочака кто-то предупредил. Но это ничего не меняет.
— Это меняет абсолютно все, товарищ Поладов. Для того чтобы арестовать Гочака, нужно было как минимум найти это оружие. Но и после этого требовалось бы еще доказать, что это дело рук Гочака.
— Иными словами, мы должны к каждому классовому врагу подходить с полными и законными доказательствами вины?
— Именно так. И только так, товарищ Поладов.
— А если вина видна невооруженным глазом? Что ж, выходит, только потому, что враг пытается нас обвести вокруг пальца, мы не должны доверять нашим собственным людям?
— Это все тот же старый спор, — устало сказал Лукманов. — Мы должны полностью доказывать вину каждого человека, которого берем под стражу. Если мы с железной последовательностью не будем следовать принципам законности, то рано или поздно это беззаконие обратится против нас самих. Беззаконие — страшное оружие. Какое-то отступление от закона возможно только при наличии чрезвычайных обстоятельств. Сейчас таких обстоятельств нет, и нет у нас никакого права преследовать людей, поддаваясь только подозрениям.
— Мы ведем последний и решительный бой против старого мира. Разве это не чрезвычайные обстоятельства? Я поклялся бороться против баев, и я не успокоюсь, пока не выведу их всех до одного.
— Тебе известно, что Гочак никогда не был ни баем, ни богачом.
— Он волк в овечьей шкуре. Был разбойником, разбойником и остался. Сейчас мы наступили ему на хвост, а упустим — при первой же возможности схватится за оружие.
— Хотел бы — не стал бы ждать. Докажите, что вы правы, тогда и арестовывайте. А пока я требую его освобождения.
— Можешь на меня жаловаться, Лукманов, куда хочешь. Но отпустить Гочака я не позволю.
Этот разговор, так и оставшийся между ними, окончательно испортил их отношения.
* * *
По аулу шел человек, одетый в городской черный костюм, в шляпе, с ярко-желтым чемоданом в руке и с папиросой, лихо торчавшей изо рта. И только когда он подходил ближе, люди с изумлением узнавали в нем бывшего муллу Сахиба и по старой памяти вежливо здоровались с ним.
Поприветствовав толпу, собравшуюся возле магазина, бывший мулла остановился и поправил галстук.
— Со старым покончено, — заявил он ошеломленным односельчанам. — Теперь забудьте навсегда, что меня звали когда-то Сахиб-мулла. Теперь меня надо называть товарищ Мавыджаев. Я буду заведовать школой.
Достав из кармана пачку «Казбека», он открыл ее:
— Курите, не стесняйтесь.
Да, всего два каких-нибудь года провел бывший мулла на курсах учителей, а изменился настолько, словно в аул вместо него вернулся какой-то другой человек. Он не просто порвал со своим религиозным прошлым, он стал воинствующим безбожником. Никто, даже комсомольцы, не осмеливались сорвать флаги с могил, где похоронены святые. А Мавыджаев не побоялся.
— Не надо ничего бояться, — любил теперь повторять он. — Что такое грех? Пустое слово. Надо творить добро для народа, а если человек заблуждается и на том свете действительно существуют рай и ад, то и там все поступки людей будут взвешены на точных весах справедливости.
Новое здание школы находилось на южной стороне аула. И вскоре после ее открытия, погрузив весь свой скарб на телегу, завшколой перебрался в новое помещение. Прежний дом его возле старой мечети остался пустим; на полу валялись старые книги, тетради, рукописи…
— Смотрите, что я нашел в доме Сахиб-муллы. — И с этими словами Бабакули показал товарищам толстую рукопись в кожаном переплете.
— Что это?
— Махтумкули!
— Но ведь он буржуйский поэт, — сказал кто-то.
— Махтумкули не буржуй, — твердо возразил Бабакули. — Как тебе могла прийти в голову такая глупость? Разве буржуй стал бы страдальцем и борцом за справедливость? Подумай! Ведь в каждой его строчке слышится стон обездоленных.
Незаметно подошедший Мавыджаев выхватил книгу у него из рук.
— Это что такое? Похоже, что ты проповедуешь комсомольцам этого Махтумкули?
— Разве это запрещено?
— А еще комсомолец! Видно, что ты не читаешь газет. — И с этими словами бывший мулла достал из портфеля, с которым теперь не расставался, газету.
— Послушай, что здесь написано. Вот: «Махтумкули воспевал феодальный строй». Понял? И дальше: «Туркменская литература прошлого — это проповедь религии и патриархальщины». Понял? Это значит, что все старые поэты стояли за религиозные предрассудки и за старый строй. Читаю дальше: «Она, таким образом, была не только зеркалом, отражавшим проповедь мусульманства и борьбу между племенами, но и требовала соблюдения отживших прав, обычаев и правил жизни».
— Но ведь не могли же они в те времена быть безбожниками, — попробовал возразить Бабакули.
— Могли, не могли… Это нас не касается. Пусть даже и не могли, пусть даже они и не виноваты, все равно это — другая эпоха. Мы построим совсем другой мир. Новый! А все старое выбросим. Сожжем кибитки — построим дома из твердого кирпича, поломаем соху и мотыгу, будем пахать на тракторе, выбросим тельпеки, будем носить фуражки… ну и так далее. И ослов не надо будет разводить больше, да и лошадей тоже — все будут ездить в автомобилях…
Бывшего муллу слушали в почтительном молчании — от того, что он говорил, захватывало дух и кружилась голова.
— А теперь все за мной, — приказал Мавыджаев. — При вас буду уничтожать вредную литературу.
С этими словами он решительно зашагал к мечети.
Бабакули чувствовал себя обманутым, оскорбленным. С детства внушали ему благоговейное отношение к Махтумкули, с детства не слышал он ни разу, чтобы кто-нибудь осмеливался поносить великого страдальца, не раз бывал он свидетелем того, как прекращался самый яростный спор самых непримиримых односельчан, едва только ссылались на мнение Махтумкули. Как же так — веками был Махтумкули мудрецом, к которому народ прибегал в трудных случаях за советом, веками слыл лучшим, благороднейшим поэтом среди туркмен, и вот он уже «буржуй», и вот он уже не нужен, и бывший мулла хочет его уничтожить…
Что-то здесь было не так…
Бабакули побежал к Тахирову. Тот только что приехал из райцентра и расседлывал коня. Бабакули закричал еще издалека:
— Айдогды!.. Айдогды! Махтумкули хотят уничтожить!
Айдогды резко выпрямился:
— Какого Махтумкули? Откуда он?
— Сахиб-мулла… хочет бросить в огонь книгу Махтумкули…
Но что мог сказать своему старому другу Тахиров? Он только тяжело вздохнул и опустил голову. Если бы начальство приказало ему в эту минуту броситься в сабельную атаку на превосходящего его силой противника, он пошел бы на это не задумываясь. Но в вопросе о Махтумкули ему не дано познать истину. Может быть, ученые, объявившие великого туркмена «буржуем», увидели в его сочинениях то, что оказалось спрятанным от глаз непосвященных? Ведь пишут же в газетах, что старая литература не нужна новым людям, строящим новое общество, да и Сарыбеков, который теперь заведует районным отделом просвещения, любому и каждому тычет в нос ученой книгой, где Махтумкули причислялся к «представителям торговой буржуазии».
Во дворе старой мечети уже высились горою книги, обреченные на смерть. Мавыджаев бросил сверху книгу Махтумкули; упав на кучу других книг, она раскрылась.
С железными когтями хищник,
Мир, есть ли совесть у тебя? —
прочел Мавыджаев на раскрытой странице и почувствовал, что если сию же минуту, вот сейчас не подожжет костер, то в следующую у него уже не хватит на это сил. Дрожащими руками он плеснул из бидона керосин и зажег спичку.
— Эй, постой, — раздалось за его спиной, — погоди…
От неожиданности горящая спичка выпала из рук Мавыджаева, и тут же рвануло вверх чадящее керосиновое пламя.
— Погоди, товарищ Мавыджаев, — запыхавшись, крикнул Тахиров еще раз… но было уже поздно. Огонь охватывал все больше и больше книг, и они, словно испытывая боль, корчились и шевелились в пламени.
От нестерпимого жара Мавыджаев сделал шаг назад… потом еще… а потом повернулся и, опустив голову, побрел прочь. Он никак не мог забыть того ощущения, которое испытывал, когда нес к огню тяжелую книгу. До сих пор ему чудилось, что он ощущает биение в своей руке живого сердца. «А может, — мелькнула у него мысль, — а может, не надо было этого делать, не стоило уничтожать, сжигать. Зачем? Может, надо было просто оставить книги во дворе, пусть берут, кто захочет?» Но ведь он, Сахиб, во всеуслышанье обещал Сарыбекову, что сожжет все старые книги. Обмана Сарыбеков не простил бы. Запершись у себя в комнате, Мавыджаев до утра пил водку, но и сквозь черный водочный туман видел живые страницы книги с бессмертными словами, погибающие в жирном, чадном дыму.
* * *
При одной только мысли о том, что за ним кто-то может следить, Гарахан вмиг покрывался липким, противным потом. Везде ему мерещились наблюдающие за ним глаза. То мелькнул за тутовником в дальнем конце улицы Айдогды Тахиров — а ведь еще минуту назад его там не было. То вспоминалось, что
слишком часто попадались навстречу комсомольские патрули самообороны. И ночью так лаяли собаки… Может быть, те, кому положено, пронюхали о том, что к ним в дом должен был явиться человек, и уже устроили повсюду засады? Но ведь тот человек не пришел — отец сам отправился куда-то на встречу с ним.
И вот теперь Гарахан должен был передать знакомому чайханщику очередную порцию опиума, который принес с этой встречи отец. Две пачки «Казбека», заправленного вместо табака опиумом, лежали сейчас у Гарахана в портфеле.
Из помещения банка Гарахану хорошо была видна вся улица. Вон к Айдогды подошел какой-то человек и, сказав одно или два слова, тут же пошел дальше, не останавливаясь. Да, за ним следят. У него уже не было сомнений. Сейчас они схватят его, и тогда…
— Молодой человек, ваша очередь.
Гарахан вздрогнул, словно очнувшись от сна. Протянул документы маленькому человеку в очках, ослепительно сверкавших в маленьком окошечке кассы, расписался дрожащей рукой и взял, не считая, деньги.
Работник банка с изумлением посмотрел на него.
«Наверное, больной какой-то…»
«Пачки «Казбека» надо выбросить в туалет», — думал меж тем Гарахан. Но туалет оказался закрытым на ремонт. Гарахан чувствовал себя волком, попавшим в капкан. «Волк нередко перегрызает себе ногу и убегает на трех оставшихся. Что же делать? Если поймают меня, то и отец пропал, это ясно. Уж лучше бы пропал он один. Я должен продолжить наш род».
Но как предать родного отца?
А как провести много-много лет в тюрьме?
Гарахан не мог объяснить точно, куда он направился, выйдя из банка, и как оказался возле здания райкома. Но к кабинету Поладова он бросился, как человек, попавший в стремнину, бросается к спасительному берегу. Он уже не колебался, не оборачивался и не смотрел по сторонам, но ему все время казалось, что чей-то неумолимый глаз, словно острие кинжала, нацелен ему прямо в затылок. Не выдержав, у самого порога кабинета Поладова, Гарахан обернулся и увидел человека, так незаметно обменявшегося несколькими словами с Тахировым…
Кабинет Поладова был всегда открыт. Выходных дней Поладов не признавал и отдавал работе все свое время каждый день, с рассвета до полуночи.
Непослушными руками Гарахан расстегнул замки портфеля и положил на стол две пачки «Казбека».
— Товарищ Поладов. Вот здесь — опиум. Его передали моему отцу контрабандисты…
И с этими словами, словно из него вынули все кости, он провалился в кресло, стоявшее перед столом. Голова его опустилась на грудь, ноги отнялись, и весь он сгорбился, как столетний старик.
В черных глазах Поладова сверкнули и погасли искры. Сын Мурзебая! Что ж, все больше и больше становилось тех, кто с правильных, классовых позиций выступал против своих отцов. Даже в богатых семьях появлялись теперь трещины разлада. Могучий огонь революционной борьбы сжигал, превращал в пепел даже эти, глубоко спрятанные корни собственничества и тунеядства. И вот еще один тому пример.
Он поднял трубку телефона.
— Дайте мне милицию. Горелик? Есть важное дело. Да, зайдите ко мне.
Милиционеры, посланные для ареста Мурзебая, вернулись ни с чем. Его не оказалось дома, и никто не мог сказать, где он находится. Стало известно, что к Мурзебаю несколько раз приходил знаменитый Ярлык-кутила. Когда-то он сидел в тюрьме, потом бежал, много разбойничал. Убивал всегда одним и тем же способом — привязывал человека за шею к лошади и пускал ее вскачь. Милиция много раз выходила на его след, но ему всегда удавалось скрыться. Были все основания подозревать, что он отсиживается в известных только ему надежных убежищах. Одна из его явок, как выяснилось, и находилась в доме Мурзебая.
Вот тебе и человек, который клялся, что отрекается от своего богатства. «Да, непросто здесь все», — думал Горелик, просматривая донесения милиционеров. Ни Мурзебая, ни Ярлык-кутилы они не обнаружили. Похоже, что поспешили. И опиум надо было передать через Гарахана чайханщику, и понаблюдать надо было подольше за домом Мурзебая. А теперь ищи ветра в поле.
* * *
Тишина до звона в ушах. Ни травка не шелохнется, ни листик. Деревья, выстроившиеся вдоль арыка, недвижны, как на рисунке. И только когда дунет ветерок и тут же, словно играя, юркнет в самую гущу могучих вязов и стройных тополей — вздрогнут зеленые стебли, всколыхнется листва и затрепещут солнечные зайчики, рассыпая серебряные стружки на поверхности прозрачной воды…
Как приятно, как спокойно лежится в тени на краю арыка! Что-то невнятное лепечет вода, поет, поет свою песню, и под эти звуки душа Айдогды обретает покой. Наконец-то он может отдохнуть. Сегодня он может забыть обо всем на свете, словно нет уже ни преступников, ни злоумышленников, ни кулаков. Да, на сегодня он позабудет о плохом, будет, словно нет уже никаких в жизни дел, бездумно лежать в густой тени застывших от зноя деревьев и без конца слушать никогда не надоедающую мелодию бегущей воды.
И тут словно игла вонзилась в шею. Его укусил муравей. За что же ты меня так? Ах, да, все правильно — только сейчас заметил Айдогды, что лежал, растянувшись, прямо на муравьиной тропке. Что ж, передвинемся подальше, пусть муравьи бегут своей дорогой, муравьи, неутомимые работники, крохотные, храбрые существа, не знающие, что такое праздность.
Перевернувшись на живот, Айдогды стал наблюдать за муравьями. Вот если бы люди научились так работать. Ни секунды не оставались муравьи в покое, сновали во всех направлениях, постоянно находя себе работу. Неужели среди них совсем нет лодырей? Или любовь к порядку и работе заложена у них испокон веков в крови? Есть ли среди них преступники, которые ради корысти или ради славы готовы нарушить общий порядок, или это свойственно только людям?
А богатство? Знают ли муравьи такое понятие? А ведь именно ради богатства человек может пролить реки человеческой крови. Выходит, что в этом случае любой зверь выглядит благороднее иного человека, готового ради богатства на все, даже на преступление…
Опять он за свое! Преступления, преступления… Ну неужели и в редкие часы отдыха он не избавится от этих мыслей. Прочь, прочь… не мешайте человеку слушать чистый звук бегущей воды…
«Птицы поют… Слышишь трель? Это соловей, маленькая, неказистая птичка. Такой невзрачный, незаметный с виду, и такой знаменитый. Тебя воспевают поэты, о тебе говорят во все века влюбленные…»
Зачем он думает об этом, ведь он запретил же себе. Разве он сам кого-нибудь любит? А раз нет, то к чему же эти никчемные мысли?
Он ничего не хочет знать о любви. Ведь стоит только дать себе волю, и ты уже в плену у этих мыслей, и ты уже видишь огромные глаза, переливающиеся, словно алмазы, тысячей цветов, глаза, от которых нет спасения, которые, хочешь ты того или нет, неотрывно преследуют, неотступно глядят на тебя. И ты даже не можешь сказать точно, какого они цвета. Черные? Синие? Или зеленые?
В этих глазах все цвета мира слиты воедино.
А еще говорят, что колдовства не бывает. Но тот, кто сказал такое, видно, никогда не испытывал на себе волшебства такого взгляда, волшебства, которое подчиняет своей воле, которое делает тебя беззащитным перед их покоряющей и своевластной силой.
Что же ты будешь делать с силой этих глаз, Айдогды? Как быть с этой девушкой, перед которой хочется опуститься на колени?
В прошлом месяце это случилось, и случилось вот здесь, в этом самом месте, когда Айдогды поил из арыка своего коня. Он только помнит, как насторожился, услышав звук легких шагов. А когда поднял голову, увидел, что на противоположной стороне арыка, разглядывая его, стояла девушка в легком платье из кетени. Меджек-хан?
Девушка, не стесняясь и не отводя глаза в сторону, как это делали другие, смотрела на него, чуть улыбаясь. Как и ее отец, она смотрела прямо в глаза.
— Что случилось, Меджек-хан?
— Отец вернулся, Айдогды. Я знаю, ты защищал его. Никому не удалось услышать наше спасибо. Тебе, видно, придется.
Айдогды от изумления не нашелся что ответить. Он словно бы впервые увидел эту девушку, увидел в ярком солнечном свете, увидел совсем другими глазами.
— Почему ты молчишь, Айдогды? Ты стесняешься меня?
— Ах, знаешь… твои глаза… они, словно солнце…
Меджек-хан звонко рассмеялась.
— Ты милиционер или поэт?
— Увидев тебя, любой становится поэтом, поверь…
— Тогда от них будет некуда деться, Айдогды. Разве нужны сотни поэтов? Их должно быть совсем мало… один, может быть, два. Чтобы один был, как Махтумкули, а другой — наподобие Мятаджи.
— А такой, как Молланепес, не нужен?
— Сказал… Ведь то было во времена Тахира и Зохре. Разве в наше время можно встретить подобную любовь?
— Я думаю, можно.
— Нет, Айдогды. Такого уже не будет никогда.
И по лицу девушки пробежала тень.
Впервые разговаривал Айдогды со взрослой девушкой из аула, а чувствовал себя так, словно он был знаком с Меджек-хан давным-давно. А впрочем, разве это было не так?
Действительно, они знали друг друга с детства. Но сегодняшняя Меджек-хан была совсем непохожа на тогдашнюю. Маленькая Меджек-хан ничем не отличалась от аульных мальчишек — была такой же озорной, так же играла в альчики, боролась, устраивала собачьи бои, воровала яблоки из чужого сада… А эта…
Ничего не осталось в ней от той девчонки. Даже глаза и те совершенно другие. Словно по велению сказочного волшебника, превратилась она из сорванца в стройную, прекрасную девушку, настолько поражавшую глаз, что мало кто отваживался даже заговорить с нею. Лишь Гарахан, да и то в минуты полного опьянения, говорил о своих чувствах к Меджек-хан, но будь он даже трижды пьян, он не рискнул бы и намеком бросить тень на ее честь. Он знал, как и любой человек в ауле, что больше всего в жизни Гочак-мерген и его дочь ненавидят сплетни… И Гарахан молчал, живя несбыточной надеждой, что, может быть… когда-нибудь… случайно…
И Айдогды случайно встретил ее — да, здесь, и с того дня уже не случайно наведывался сюда, едва выдавался свободный день, вот как сегодня. Но девушка больше не появлялась. Как было бы хорошо, если бы она пришла. Хорошо? Нет, это слово ничего не выражает. Это было бы прекрасно. Он был бы счастлив… Но с какой стати ей приходить? Разве они назначали свидание?
Весело бегут по склонам горные ручьи, но как медленно, как печально течет вода в арыке. Надежда и ожиданье так же связаны между собой. Как долго тянется время и как быстро проходит.
Чего я жду здесь? Почему я решил, что она придет? Только потому, что она могла увидеть, как я проехал мимо их двора? Ах, если бы можно было самому прийти к ней. Но это невозможно. Это было бы нарушением приличий, и Гочак-мерген никогда бы этого не простил. Нельзя прийти к ним во двор без какого-нибудь повода… да и был бы повод — тоже нельзя.
Мать, наверное, заждалась уже. И плов, поди, стынет. Уйти? Нет, ни за что. Надо ждать. Надо верить, что она придет, и тогда она придет. Обязательно…
Почудилось ли ему, что снова слышит он знакомый шорох кетени?..
И снова, словно возникнув из воздуха, вся в сверкании, стояла перед ним на противоположной стороне арыка Меджек-хан. Он закрыл глаза и снова открыл их, но видение не исчезало. И сверкание — тоже. У Меджек-хан всегда было множество украшений, но раньше она никогда их не носила. Теперь же на ее груди, переливаясь драгоценными камнями и золотом, сияло бесценное, тончайшей работы украшение — гульяка; но блеск золота и камней не шел ни в какое сравнение с тем сиянием, которое исходило от нее самой и ее удивительных глаз.
Айдогды не мог оторвать от нее восхищенного взгляда.
— Как отец, Меджек-хан?
— Спасибо, Айдогды. Но что-то неладно с ним. Он и раньше был неразговорчив, а теперь, вернувшись, еще более замкнулся. Занят только работой, ни с кем не общается, ни до кого ему нет дела.
— Меджек-хан… может быть, нужно вам вступить в колхоз?
— Неужели ты думаешь, что отец хоть когда-нибудь согласится быть под началом такого ничтожества, как Гулджан?
— Разве дело в Гулджане? Сегодня он председатель, завтра..
— Ты его недооцениваешь. Он… жалкая тварь. Он осмеливается говорить, что моего отца отпустили неправильно и что его все равно раскулачат и сошлют.
— Мы не допустим этого. Скоро все изменится к лучшему.
— Хотела бы я поверить твоим словам.
Голос ее, доверчивый и нежный, заглушил на время все остальные звуки: журчание воды, шелест листьев, соловьиные трели. Казалось, в мире звучит только музыка ее слов. И даже после того, как она ушла, нежная мелодия долго еще звенела в душе Айдогды.
Вот бы жениться на ней, подумал он. Неужели возможно представить подобное счастье?
Тахиров, назначенный старшим группы из трех милиционеров и пяти человек из комсомольской группы самообороны, должен был перекрыть участок вдоль железной дороги.
— Если басмачи не превратились в птиц, — сказал на прощание Горелик, — они обязательно должны выйти на вас. И учтите, у них нет выбора. Или, повернув назад, они должны будут принять бой с красными эскадронами, или, и это скорее всего, они не пожалеют сил, чтобы смять вас и уйти через границу.
Тахиров оглядел местность и понял, что лучше всего организовать засады в трех местах с северной стороны железной дороги. Позиция на вершине барханов была более выгодной для наблюдений и для боя, чем железнодорожная насыпь. Одного из комсомольцев, Бекназара, самого молодого, подбородка которого еще не касалась бритва, он взял с собой, и вместе они быстро отрыли окоп, надежно прикрытый пышно разросшимися побегами саксаула.
— Товарищ Тахиров, — обратился вдруг к нему Бекназар, — а тебе приходилось самому убить человека?
— Может, кому-то и досталась моя пуля… А почему ты спрашиваешь?
— Мне кажется, что если убьешь человека, то что-то должно в тебе измениться… Что уже не будешь таким, как прежде.
— Что-то я тебя не пойму, Бекназар.
— Не знаю, как объяснить. Говорят, что потом этот человек будет тебя преследовать всю жизнь, будет тебе сниться. На железной дороге со мной работает мой земляк, который по закону кровной мести зарезал одного из родственников убийцы. И хотя с тех пор прошло уже тринадцать лет, тот человек, которого он зарезал, снится ему каждую ночь, так что он просыпается с криком и больше не может уснуть. Ему едва за тридцать, а усы и борода совсем седые и глаза желтые, словно он болен малярией. Вот почему я спрашиваю.
— Он, убив человека, пролил невинную кровь. А басмачи — это совсем другое. Они сами убийцы, и руки у них в крови. Это нечисть, от которой надо освободить землю, чтобы люди могли жить, не зная страха. Вот почему, если ты убьешь басмача, он не будет тебе сниться и тревожить твою память.
— Я тоже говорю себе так. Убеждаю себя, что они не люди. Но…
— Стоп. Хватит. Когда лежишь в окопе, должен думать только о том, как лучше выполнить боевую задачу. Понял?
— Понять-то понял… Только так уж у меня голова устроена: когда какая-нибудь мысль приходит, никак не могу от нее отделаться, мучаюсь до тех пор, пока сама не уйдет…
— Тогда лучше попробуй уснуть. Будем наблюдать по очереди.
— Мне как-то еще не хочется.
— Тогда я посплю. А ты, Бекназар, при малейшем шорохе буди меня сразу.
Тахиров уснул мгновенно, а когда проснулся, солнце уже клонилось к закату. Кругом царило такое спокойствие и тишина, что гудок паровоза, донесшийся издалека, выглядел неуместным и ненужным среди разомлевших от зноя барханов. И снова потекла ленивая череда минут — лишь кони изредка встряхивали в низине сбруей. Заржать они не могли — на морды у них были надеты торбы.
Но вот солнце село, и тут же на пустыню опрокинулся бездонный купол темноты. И засверкали, переливаясь, звезды из сокровенной глубины бездонного пространства. Стоило подуть ветерку, и безмолвная пустыня вмиг ожила, словно скрытый доселе от глаз невидимый мир на тысячу разных голосов приветствовал наступление ночи. Горьковатый запах высыхающих степных трав щекотал ноздри.
Тахиров растянулся на теплом еще, но уже начавшем остывать песке. Каждый раз, оказываясь в пустыне, он поражался безграничности Каракумов. Как просторен мир, но людям он тесен для жизни, и они враждуют между собой. Ведь еще великий Искандер Зулкарнейн из далекой Македонии говорил много веков назад, что этот мир слишком тесен даже для двух владык. Только разве может быть так, чтобы все это досталось кому-нибудь одному? Когда же земля обретет покой?
Вот звезды, словно прекрасные серебряные украшения, выполненные рукой волшебного мастера, который прикрепил их на грудь неба. Говорят, что пока свет самой близкой звезды дойдет до земли, проходит миллион поколений. А жизнь так коротка — всего каких-нибудь пятьдесят — шестьдесят лет. Как же надо прожить их, эти короткие годы? Неужели покорно дожидаясь неминуемой смерти? Или в беспечном разгуле? Или отдать их всецело грядущим поколениям и классовой борьбе?
Под светом звезд, словно огромные драконы, выставившие чудовищные гребни, лежали, развалясь, барханы. Тонкий звон, наполнявший воздух, говорил о жизни, кипевшей и бурлившей на вершинах этих бугров, на их склонах и в низинах между ними. Полная своих трагедий жизнь ночи, как отличаешься и вместе с тем как похожа ты на беспощадную жизнь дня. Ночью выходят на охоту змеи, ящерицы и вараны, и что из того, что тьма скрывает их? Все та же жизнь: змеи, заползая на ветки саксаула, подстерегают ночных птиц, а внизу ежи подстерегают змей. Ящерицы охотятся за насекомыми, но сами, в свою очередь, становятся добычей змей и варанов. Неужели и жизнь человека состоит только в том, чтобы не быть съеденным и, в свою очередь, проглотить более слабого? Неужели человек ничем не выделяется из природы и ничуть не лучше ни варана, ни змеи, он, способный восхититься стихами Махтумкули и понять звездную красоту бездонного неба…
Словно облако пыли, тянется по небу Млечный Путь. Когда-то, говорится в легендах, в незапамятные времена с одного края неба на другой, разбрызгивая свое белое молоко по Вселенной, пробежала белая верблюдица, и каждая капля молока превратилась в звезду. А каждая звезда огромней Солнца, и сама Вселенная огромна и бескрайна, и никто не знает, где начинается она, и где кончается, и имеет ли вообще начало и конец. И неизвестно, что означает эта простершаяся над всем миром таинственная звездная пустыня…
Безгранично и вечно небо; случайна и коротка жизнь человека; подобно искре рождается он в этот мир и падучею звездою уходит в глубины грешной земли, успев или не успев понять смысл своего появленья на свете в необъятном пространстве между небом и землей…
Бекназар проснулся и чихнул.
— Т-с-с-с!
— А? Что? Неужели и чихнуть нельзя?
— Нельзя. Ничего нельзя.
— Ладно. Теперь ты спи, товарищ Тахиров.
И Тахиров уснул, как провалился, а когда он проснулся, было уже совсем светло.
— Ну что?
— Все тихо, товарищ… — начал было Бекназар, но тут же, словно опровергая его слова, раздался выстрел.
— Вот оттуда, — возбужденно прошептал юноша, и его смуглое лицо заметно побледнело.
— Лежи и не шевелись.
Издалека до них доносились звуки перестрелки.
— Мы должны пойти к ним на помощь, товарищ Тахиров!
— Лежи. И на нашу долю хватит…
Целый день мог бы рассказывать Айдогды о тактике басмачей. Хотя главари банд не были похожи друг на друга, в своей тактике они пользовались похожими приемами, проверенными на практике. Один из них заключался в том, что предводители, курбаши, жертвовали своим отрядом и в завязавшихся перестрелках уходили в отрыв, полагая, что главное — это спасти свою голову и шкуру, тем более что на пощаду они рассчитывать не могли.
Сейчас могло случиться то же самое. Ведь ясно, что все пути для банды перекрыты. Первый выстрел скорее всего принадлежал дозорным. А перестрелка означала, что басмачи догадались о малочисленности заслона и решили принять бой. Может быть, действительно лучше было бы поспешить туда на помощь? Тогда оголится этот участок…
Басмачи появились там, где их не ждали. Умело используя складки местности, они проскользнули между барханами и на огромной скорости, стелясь над землей, стали уходить к границе.
— Огонь!
Слева и справа заклацали выстрелы. Один басмач упал, другой… Двое, не оборачиваясь, уходили все дальше и дальше. Тахиров вскочил.
— Охраняй это место. Я догоню их…
Басмачам осталось только перемахнуть через насыпь — и тогда между ними и спасительными горами была бы лишь узкая полоска степи. У Айдогды, пригнувшегося к шее коня, мелькнула мысль, что басмачам стоило бы, укрывшись за насыпью, заставить его спешиться и принять бой, но тут же он понял, что они не станут терять драгоценных минут: спасительные горы были так близки, а задержавшись и даже убив преследователя, они рисковали быть отрезанными…
Остановив на всем скаку коня, Айдогды задержал дыхание и потянул спусковой крючок карабина. Попал!
Но тут же он увидел, что попал всего лишь в коня. Бросив поводья, басмач ловко вскочил за спину своего сообщника. Непрерывно оглядываясь, он нахлестывал коня, изнемогающего под двойной ношей. Вот он обернулся еще раз…
Да это же Мурзебай! Все думали, что он давно уже в Иране, сидит в глубине своей лавки и торгует, а он, оказывается, занимается разбоем в Каракумах. Вот так, значит, распорядилась судьба. Что ж, это хорошо! Наконец-то Айдогды может встретиться с противником в чистом поле, лицом к лицу. Теперь уже Мурзебай не спрячется в шкуре овечки, не прикроется законом. Теперь все вопросы задаст винтовка, и на все ответит она же.
Обернувшись еще раз, Мурзебай вскинул винтовку, и фуражка слетела с головы Тахирова. Еще сантиметром ниже, и пуля попала бы в голову. Ну, держись, гад!
Несмотря на двойную ношу, конь басмачей не давал сократить расстояние. Похоже было, что ему неведома усталость. Словно птица, перелетел он через насыпь.
И беглецы исчезли, словно провалились под землю. На мгновение Тахиров растерялся, но топот копыт помог ему все понять. Широкий овраг тянулся в сторону гор.
Вперед!
Все-таки, видно, небезграничны были силы ахал-текинца. Расстояние стало сокращаться. Тахиров зорко смотрел за действиями Мурзебая, но тот больше не оборачивался. Он крепко вцепился в сидевшего впереди басмача и не пытался стрелять.
«Боится, как бы тот не столкнул его с коня», — понял Айдогды, и в то же мгновение, будто прочитав его мысли, басмач, что-то крикнув, ловко столкнул Мурзебая.
Мурзебай упал мягко, словно он ожидал, что будет сброшен, и мячиком откатился в сторону. Тахиров повернул коня, и в тот же момент конь взвился на дыбы и стал валиться. Тахиров едва успел высвободить ноги из стремян. Он упал на землю, не выпуская из рук карабина, а когда вскочил, увидел черный глаз винтовки, нацеленный ему прямо в лицо.
«Смерть».
Щелк… щелк!
Кривые зубы Мурзебая сверкнули в яростной гримасе. У него кончились патроны. Теперь уже он был во власти Тахирова. Тот поднял карабин… и отпрянул. Удар ножом пришелся по ложу карабина. Перенеся тяжесть тела на левую ногу, Тахиров правой ударил басмача в пах. Скорчившись и взвыв от боли, Мурзебай упал.
Тахиров сел на огромный валун. Пот лил с него градом. Достав платок, он стал медленными движениями вытирать шею и лицо. Мурзебай все еще корчился, держась за низ живота и тихонько подвывая, но Айдогды не испытывал к нему жалости. Гад ползучий. Нет, он не достоин сравнения даже со змеей. Змеиный яд помогает в различных болезнях, змеи пожирают вредных грызунов, значит, и от змей есть какой-то прок. А какой прок, что за польза от такого, как Мурзебай? Был кровососом, паразитом, таким и остался. Теперь ему не вывернуться.
Мурзебай притих. Теперь он вытянулся, словно жизнь уже покинула его, и лежал, не шевелясь. Тахиров ткнул его носком сапога в бок.
— Вставай, гад!
Медленно, словно он лежал на земле по своей воле, Мурзебай поднялся. Лицо его было искривлено гримасой боли, но смотрел он в глаза Тахирову без боязни.
— В сорочке ты, видно, родился, Айдогды, — сказал он. — Не кончились бы у меня патроны, ты сейчас трясся бы уже перед воротами ада.
Тахиров оттянул затвор.
— А у меня патроны не кончились. Посмотри внимательно. Этот патрон предназначен для тебя. В нем конец твоей грязной жизни.
— Не имеешь права! Сначала меня должны судить. И ты это знаешь.
— Знаю. Но и тебя я тоже знаю. Ты скользкая тварь. Предстанешь перед судом, глядишь, и выкрутишься… Вымолишь себе жизнь. Нет. Я сам буду тебя судить.
— Не имеешь права на самосуд! Пусть меня судят по закону. Или советских законов ты не признаешь?
— Вот теперь я узнаю тебя, Мурзебай. Теперь ты снова такой, каким я тебя знаю много лет. Теперь тебе нравятся, наверное, и Советская власть, и советский суд. Осталось, похоже, только принять тебя в партию и выбрать председателем сельсовета. Но ничего не получится. Другим ты уже не станешь. А вот прежним Мурзебаем ты еще можешь побыть несколько минут на этом свете, и попробуй за эти минуты доказать мне, что не заслужил этой пули. Не докажешь — она твоя, клянусь хлебом и солью.
— Хорошо, я согласен защищать себя согласно законам справедливости. Скажи, в чем я виноват?
— Тебя обвиняет вся твоя жизнь. Разве мало скопил ты богатств?
— Я отвечу тебе, Айдогды, а вернее, ты сам ответишь. Быть купцом — значит торговать. А торговать можно только тогда, когда имеешь прибыль. Но и торговать можно по-разному. Я торговал честно. Разве не одна цена была в моей лавке для богатого и бедняка? Разве обманул я хоть кого-нибудь, продавая за хороший тот товар, который был плох? Скажи?
— Хорошо. Не будем принимать во внимание, что ты был купцом. Пусть это будет делом прошлого. Но твой собственный сын…
Даже сам Тахиров не расслышал конца своей фразы — так вздрогнул внезапно мир от страшного грохота.
— Сель! — заорал Мурзебай. И изо всех сил помчался к холму посреди оврага. Айдогды двинулся следом за ним. До берегов было уже не добраться, но на вершине холма спасение еще было возможно. Когда оставалось всего два-три шага, волна ударила Тахирова и понесла, словно соломинку, и он бы погиб, если бы Мурзебай каким-то чудом не успел схватить его за ногу.
Бурлящая мутная вода с шумом заполняла широкий овраг. Ее уровень все поднимался, быстро затопляя холм, превратившийся в остров.
Островок исчез под бурным потоком, и вода достигла щиколоток.
— Ты умеешь плавать, Айдогды? Или мне придется спасать тебя еще раз?

— А зачем ты спасал меня?
— Сам не знаю. Но все-таки спас. Надеюсь, что ты отплатишь добром на добро.
— Что я для тебя могу сделать доброго? Боюсь, что немного.
— Поможешь мне добраться до границы. Я вывихнул ногу.
— Вот в чем дело! Ты плохо знаешь меня.
Вода заливала уже голенища сапог.
— Ну так что? Поплывем?
— Я не умею, — сказал Тахиров. — Придется тебе погибнуть вместе со мной.
Но вода перестала прибывать. Сель закончился так же внезапно, как и начался. Вода стала спадать, и через час по камням они добрались до края оврага.
— Ладно, Айдогды, — сказал Мурзебай. — Не хочешь мне помочь, не надо. Давай разойдемся. Я не видел тебя, ты меня. Прощай.
И, сильно хромая, он сделал несколько шагов в сторону близких уже гор.
— Стой, буду стрелять!
Мурзебай остановился.
— Что ты еще от меня хочешь?
— Я хочу, чтобы ты шел передо мной.
— Хочешь отплатить мне злом за добро?
— Я и так отплатил тебе в достаточной мере. Не пристрелил сразу.
— Отпусти меня, дорогой.
— Шагай, не разговаривай!
— Айдогды, у меня в кушаке спрятано целое богатство. Отпусти меня — и половина золота и камней твоя. До конца жизни не будешь знать, что такое нужда.
Тахиров ткнул ему в спину дуло карабина.
— Не разговаривай! Иди!
— За что ты так зол на меня? Тебе ведь я ничего плохого не делал.
— Ты враг народа. Молчи и иди без разговоров.
Но Мурзебай сел на землю.
— Не могу идти. Сил нет.
Айдогды связал его и взвалил на плечо, как мешок.
— Не будет тебе в жизни счастья, — хрипел Мурзебай. — Тому, кто платит злом за добро, аллах отомстит.
Через четверть километра Тахиров остановился, чтобы перевести дух. Мурзебай лежал на боку. По лицу его текли слезы. Что-то дрогнуло в душе у Тахирова.
— Мурзебай, послушай! Ты и в самом деле спас мне жизнь! И сделал это не раздумывая. И я бы рад тебе отплатить тем же. Поверь, я сделал бы это, будь ты только моим врагом. Но ты басмач, и если я отпущу тебя сейчас, это будет значить, что я нарушил присягу. Что я заодно с тобой. Что я предал родину.
Не раскрывая глаз, Мурзебай прохрипел:
— Не надо больше говорить со мной. Развяжи мне руки. Не прикасайся ко мне. Хоть на четвереньках, но сам пойду. Сам…
* * *
Долго еще будет Айдогды вспоминать те времена, когда начальником милиции был Костя Горелик. Вот уж с кем всегда можно было и поговорить, и посоветоваться, особенно если возникало какое-то недоразумение. Горелик любой вопрос понимал с полуслова, ему не надо было долго растолковывать, в чем суть дела, а главное, он всегда готов был тебе помочь.
Но хороших работников, наверное, не хватает в столице. И вот теперь снова во главе милиции района стоит товарищ Сарыбеков.
Для Тахирова не секрет, что против назначения Сарыбекова на эту должность протестовал предисполкома Лукманов. Но на вопрос Поладова, что он имеет против этой кандидатуры, ничего убедительного Лукманов сказать не мог. Не пользуется авторитетом? Что ж, поддержим. А в остальном — разве Сарыбеков не содействовал выполнению партийных постановлений на торговом фронте?
Действительно, никто не смог бы обвинить Сарыбекова в недостаточной активности — ни на торговом фронте, ни на каком-нибудь другом. С каждым годом становился он все более строг, даже безжалостен, с каждым годом все нетерпимей относился к любым, самым незначительным проступкам других. За малейшую ошибку увольнял он из торговли, и если не было законных причин для привлечения увольняемого к уголовной ответственности, то Сарыбеков переживал это, как свое упущение.
Были поначалу случаи, когда уличенные в нечестности торговцы пытались замять дело взяткой, но тут уже дело становилось и вовсе безнадежным: Сарыбеков преследовал таких неумолимо и неизменно добивался осуждения на долгий срок.
Тахирова Сарыбеков вызвал вскоре после своего назначения на пост начальника милиции.
— Вот предписание. Поедешь в аул и арестуешь Гочак-мергена.
— За что я должен его арестовать?
— Это не твоя забота. Милиционер должен выполнять приказ без рассуждений.
— А я считаю, что милиционер должен действовать сознательно. Разве я не должен быть убежден, что то, что я делаю, справедливо?
— Выходит, каждый милиционер имеет право сомневаться в справедливости приказа, который он получает от начальника?
— Сомневаться — это одно, а задумываться — другое.
— Приказ надо выполнять. А думать и сомневаться можешь в свободное от службы время. Если каждый начнет спорить, тогда дело не стронется с места и не останется времени для борьбы с классовым врагом. Выполняй приказание, товарищ Тахиров, и доложи об исполнении лично мне.
Солнце поднялось уже на высоту птичьего полета, когда Тахиров и еще один милиционер отправился в путь. Дышать было трудно, палящие лучи солнца впивались в тело невидимыми раскаленными иглами. Но Тахиров не чувствовал жары. Гочак-мерген… Меджек-хан… что сказать ей? Ничего он не сможет ей объяснить, да если бы ему даже было что-то известно, он тоже не имел бы права ничего объяснять.
Гочак-мерген поздоровался с Тахировым у ворот и сказал, по обыкновению глядя прямо в глаза:
— Что привело тебя к моему дому, Айдогды? Здоров ли ты, сынок, уж больно хмурое у тебя лицо…
Милиционер, ехавший следом, выдвинулся вперед.
— А ну, открывай ворота, дармоед-ишак! — закричал он грозно.
— Яшули, — с упреком сказал ему Тахиров, — яшули, ведите себя, пожалуйста, поприличней.
Ему была неприятна заносчивость напарника. Но тот был старше и по возрасту и по стажу работы в милиции, да и человек был уважаемый, даже симпатичный, а грубым он становился, как заметил Тахиров, только во время обысков и арестов.
Несмотря на тщательность обыска, ничего подозрительного, если не считать нескольких книг Махтумкули, обнаружить не удалось. Пустились в обратный путь, ведя перед собой Гочак-мергена. Отошли уже на приличное расстояние от аула, когда их нагнал всадник.
Это была Меджек-хан. Не обращая на Тахирова никакого внимания, она соскочила с коня и обняла отца.
— Прощай, — сказал Гочак-мерген. — Может, не увидимся больше.
— Я постою за тебя, отец. Не опозорю наш род, как эти рабы…
— За такие слова… — вскипел второй милиционер, но и его Меджек-хан не удостоила даже взглядом.
В тот же день Тахиров был вызван к начальнику.
— Ты, значит, считаешь, что к преступнику, распространяющему в народе вредные стихи байского подпевалы, надо относиться хорошо?
— Не хочу спорить о стихах Махтумкули, товарищ начальник. Но нигде не сказано, что читать эти книги — преступление. Поэтому я и подумал, что не следует брать книги Махтумкули как вещественное доказательство.
— Это хорошо, что ты не хочешь со мною спорить об этих стихах. Думаю, тебе известно, что вражеская пропаганда использует эти стихи для своих целей. А что касается самого Махтумкули…
Да, уж не первый раз понимал Тахиров, как сильно не хватает ему образования. Нет, не хватит у него знаний, чтобы спорить с Сарыбековым на эту тему. Если самые большие умы в Ашхабаде никак не могут договориться между собой по этому поводу, что может привести в защиту своей точки зрения он, рядовой милиционер?
И тут последовал новый удар.
— Я вызвал тебя не для разговоров на эту тему, а совсем для другого, товарищ Тахиров.
И Сарыбеков достал из ящика какие-то листки.
— Вот материал, поступивший от следователя по делу Мурзебая. Обвиняемый утверждает, что ты пытался, осуществляя самосуд, расправиться с ним и угрожал расстрелом.
— Если бы хотел, ничто мне не мешало бы это сделать. А теперь начинаю об этом жалеть.
— Вот даже как? Что ж, тогда садись и пиши объяснение.
— Никакого объяснения писать не буду.
— А я тебе приказываю!
— Не кричи, начальник. Писать ничего не буду. А Мурзебая, если еще когда-нибудь встречу…
— Очень может быть, что ты его встретишь. В тюрьме. Он сгниет там, но и ты не жди пощады, коли нарушил закон.
— Не пугай меня, начальник, законами. Нет такого закона, который освобождал бы от наказания врагов народа. Таких несправедливых законов быть не может.
— Не я издаю законы, Тахиров. Если закон кажется тебе несправедливым, обратись в соответствующие органы.
— Не приписывай мне, начальник, того, что я не говорил. Если бы я считал наши законы несправедливыми, я не служил бы им. Они справедливы. Но и к таким законам могут примазаться людишки, которым несправедливость, что мед для мухи.
Желтые глаза Сарыбекова пожелтели еще больше. Волосатые пальцы впились в край стола.
— Кроме тебя, Тахиров, есть еще много честных людей, служащих закону. Но никто из них не ведет себя так, как ты. Они преданы делу партии и правительства. Они приучают себя к беспрекословному подчинению старшим по работе. Они подчиняют свои желания общему делу, а ты… ты противопоставляешь себя всем.
Сарыбеков сделал паузу и приподнялся.
— И поэтому… товарищ Тахиров, ты уволен из милиции. За нарушение служебной дисциплины. Вопрос о передаче дела в суд мы с товарищами решим позднее. Иди сдай оружие.
— Я не тебе служу, Сарыбеков. Я служу народу. И ему я давал клятву бороться с его врагами до последнего дыхания.
И он вышел из кабинета, хлопнув дверью.
Всю ночь проходил он по улицам, не в силах сомкнуть глаз. «Успокойся, — говорил он сам себе. — Успокойся, Айдогды. Пусть разум твой немного прояснится. Разберись в себе. Ведь ты действительно хотел пристрелить Мурзебая. Хотел ведь? Хотел. Не сделал этого скорее случайно, чем сознательно. Значит, хотел нарушить закон. Допускал такую возможность. Но если я, работник милиции, допускаю для себя такую возможность, чего я могу требовать от других? Давал я клятву неуклонно служить закону? Давал. А сам чуть не нарушил его. Правда, пристрели я тогда Мурзебая, это было бы справедливо. И все-таки, если каждый начнет сам определять по своему разумению, что справедливо, а что нет, на земле наступит анархия. Значит, я допустил ошибку. Пусть за нее меня накажут. Но никто и никогда не заставит меня молчать из страха перед наказанием и тем более из страха перед Сарыбековым. Никто».
Ранним утром, измученный бессонной ночью, он явился в райком.
— Товарищ Поладов. Разрешите доложить. Со вчерашнего дня я уволен из милиции.
Но Поладов уже все знал.
— Значит, признал себя нарушителем закона? — сказал он, улыбаясь.
При виде этой улыбки у Тахирова отлегло от сердца.
— В чем виноват, готов держать ответ.
— А в чем считаешь себя виновным?
— Погорячился, товарищ Поладов.
— Считаешь, что человек должен быть спокойным?
— Наверное, должен. Тогда он сможет быть справедливым.
— А захочет ли такой человек расстаться ради справедливости со своим спокойствием?
Тахиров был в недоумении. Осуждает его Поладов или нет?
— Товарищ Поладов! Какой бы приказ ни отдала мне партия, клянусь его выполнить. Даю слово, что нарушений закона допускать больше не буду. Но работать с Сарыбековым тоже не могу.
— А если партия потребует от тебя именно этого?
Тахиров промолчал.
— Почему ты признался, что угрожал Мурзебаю?
— Неужели я из трусости должен отказываться от своих слов? Не только угрожал, но и готов был пристрелить его. Но не сделал этого сразу, а потом уже не мог. Ведь он был безоружен.
По лицу Поладова Тахиров понял, что его объяснение пришлось по душе секретарю райкома.
— Это хорошо, что ты не боишься говорить правду. И признавать свои ошибки тоже. Плохо, что тебе ничего не стоит оскорбить товарища. Вот и Сарыбекова ты тоже обидел ни за что.
— Товарищ Поладов! Если хотите сделать доброе дело, отпустите меня на учебу. Знаний не хватает.
— Понимаю тебя, товарищ Тахиров. И то, что тяжело тебе, тоже понимаю. Хорошо, что ты тянешься к учебе. При первой возможности удовлетворим твою просьбу. Но… не сейчас. Поработай еще немного. Сейчас мы не можем отпустить из района ни одного человека. Особенно такого опытного милиционера, как ты.
— Это приказ партии, товарищ Поладов?
— Да, Айдогды. И моя просьба тоже.
* * *
Каждый раз, приезжая по делам в Говшут, Тахиров останавливался у Бекназара. Вот и сегодня он привязал коня во дворе Бекназара и отправился искать человека, непрерывно тревожившего район своими жалобами на соседей.
Жалобщиком оказался благообразный старик. Но стоило заговорить с ним о соседях, как добродушное лицо старика исказилось злостью.
— Я пишу правду, — твердил он.
— Возможно, — сказал Тахиров как только мог миролюбиво. — Но согласитесь, яшули, что было бы лучше найти путь, как жить с соседями в мире и согласии. Разве не так?
Старик вздохнул.
— Почему ты не приезжал раньше? Может, мы и помирились бы тогда с соседями, ей-богу. Началось-то все с пустяков… сначала внуки подрались, потом дети стали косо поглядывать. И пошло все вкривь и вкось. До того дошло, что вчера уже за ножи схватились… чуть резню не устроили. А ведь когда-то дружили…
— Хотите, я поговорю с соседями, яшули? Пока дело еще не зашло слишком далеко?
— Помоги тебе в этом аллах, сынок…
Айдогды вернулся к Бекназару, но коня своего не нашел. Как это могло случиться? Плохо привязал его, что ли? Далеко не должен был уйти верный Сакарджа; дисциплинированный конь, вымуштрованный.
Едва Тахиров завернул за угол дома, он увидел своего коня: Сакарджа спокойно ходил по клеверу и щипал траву. Айдогды сердито шагнул вперед и только тогда увидел в высоком клевере девушку, которая поднялась ему навстречу.
— Вы извините… — сказал, растерявшись, Тахиров. — Я заплачу за все, что мой конь потоптал…
Девушка слушала его, улыбаясь. А может быть, и не слушала, а просто смотрела? Откуда у нее такое знакомое лицо? Словно с детства он знал ее, словно она всегда была где-то рядом…
— Пусть пасется. Не трогайте его.
— Как вас… Как тебя зовут?
— Айсолтан.
— А меня…
— …Айдогды, — закончила вместо него девушка.
— Ты знаешь меня?
— Кто же не знает тебя? Ты — Айдогды Тахиров.
Уж не смеется ли она? Нет, непохоже.
— Ну, таких, как я, много.
— Нет, — серьезно сказала девушка. — Таких, как ты, немного. А может быть, вообще на свете всего лишь один Айдогды Тахиров.
Так ему и запомнилась эта встреча. Цветущий клевер, Сакарджа, выгнувший длинную шею, Копетдаг, устремившийся в бесконечность чистого неба, и черные глаза девушки.
Завершив дела, Тахиров уехал из Говшута, но еще не раз возвращался он мыслями к поднявшейся к нему из клевера девушке, чей прямой взгляд мучительно напоминал ему Меджек-хан.
Где она сейчас, гордая Меджек-хан? Нет сомнения, что никогда она не простит ему арест отца. Прошел слух, что она ушла за границу. Может ли такое быть?
С гордой Меджек-хан может.
Чем же Айсолтан напоминает ее? А может быть, ему только показалось это? Ведь если вглядеться, они совсем непохожи. Меджек-хан вся резкая, а Айсолтан такая нежная, женственная. Наверное, тем они похожи, что смотрят обе прямо в глаза. Далеко не всегда приятно, когда так на тебя смотрят. Но у Айсолтан взгляд такой — всю бы жизнь не отводил глаз.
Каждую неделю все новые дела приводили Тахирова в Говшут. Все чаще заезжал он и к Бекназару, пока того не осенило.
— Вот и пришел конец твоей свободе, Айдогды, — сказал он. — Похоже, пора засылать сватов. А?
* * *
Ярлык-кутилу накрыли в доме одной лихой вдовушки, где он наслаждался жизнью, отлеживаясь после очередного дела и покуривая опиум. Убежище было настолько надежным, что он даже растерялся, когда за ним пришли.
Только один человек мог его выдать — Мурзебай.
— Дорого это обойдется доносчику, — взорвался Ярлык-кутила. — Привык Мурзебай сваливать свои грехи на невинных, чтобы живых свидетелей не оставалось. Вот и меня аллах покарал за то, что я помог ему оклеветать Гочак-мергена…
— Оклеветать? — как можно более равнодушно поинтересовался Тахиров, делая вид, что этот вопрос вовсе его не занимает.
— Как-то ночью мы перешли границу и постучались к Гочаку, но он не пустил нас. И тогда Мурзебай поклялся отомстить. «В тюрьме, — сказал, — сгною эту сволочь». Мне бы отговорить его, а я не стал. А теперь, выходит, и меня продал…
Так, помимо своей воли, Ярлык-кутила способствовал освобождению Гочак-мергена из тюрьмы. Старика выпустили через
несколько недель, но своей дочери он дома не застал. А через некоторое время он узнал, что она ушла за границу.
Тахиров в душе никогда не сомневался в невиновности Гочак-мергена. Но о словах Ярлык-кутилы по начальству не доложил, это сделали другие. Ему нестерпимо больно было вспоминать о последней встрече с Меджек-хан. Айдогды изо всех сил заставлял себя забыть о ней. Узнав, что она бежала за границу, он несколько суток не мог заснуть. Презрительный взгляд огромных искрометных глаз преследовал его. «Я могла тебя полюбить, а ты погубил моего отца. Погубил ни в чем не повинного человека. Не защитил его, зная, что он не виноват. Ты не достоин моей любви, не достоин называться мужчиной» — вот что говорил этот взгляд. Айдогды мысленно спорил, оправдывался.
Да, признавал он, в том, что случилось, есть и моя вина. Но человек сам должен бороться за себя. Зачем Гочак замкнулся в себе, зачем сторонился людей, отгородился от мира? Вокруг бушуют страсти, идет борьба, почему он в стороне от всех, почему стал отшельником в собственном дворе?
«Но отец невиновен. Ты знал это и должен был его защитить», — слышал он голос Меджек-хан.
«Защитил бы, если бы знал, что Мурзебай на него клевещет. Но ведь я верил в невиновность Гочака? Верил. Значит, должен был рискнуть. Но я смолчал. И теперь, когда Ярлык-кутила проговорился, тоже смолчал. Что происходит с тобой, Айдогды? Когда ты успел стать равнодушным? Ведь ты даже не подумал о человеке, томящемся безвинно в тюрьме.
Я не подумал о нем из-за Меджек-хан. Она покинула родину, поддалась обиде и стала изменницей. Ни с ней, ни с ее отцом я не желаю иметь ничего общего, они мне оба противны…»
Через несколько дней после ареста Ярлык-кутилы Тахирова вызвал к себе председатель райисполкома.
— Догадываешься, зачем я тебя вызвал?
— Нет, не догадываюсь.
— Никак не ожидал я от тебя такого поступка, товарищ Тахиров. Всегда считал тебя правдивым человеком.
Айдогды покраснел:
— Нигде не говорил я неправды, товарищ Лукманов.
— Неправды ты, может быть, и не говорил, но и правды не сказал тоже, хотя и знал ее.
Только теперь Тахиров понял, о чем идет речь. Он опустил голову.
— Да, я не доложил о словах, сказанных арестованным.
— А ведь из-за твоего молчания правда могла так и остаться нераскрытой. Сейчас Ярлык-кутила отказывается от показаний.
— Ну а если даже и отказывается, — жестко сказал Тахиров, — так ли это важно? Стоит ли вообще оправдывать таких людей, как Гочак? Разве они нужны нашему обществу? Ведь они только мешают нам поскорее покончить со старым миром.
Предисполкома с горечью покачал головой. Еще отчетливей обозначились на лбу его глубокие морщины.
— Очень огорчил ты меня своими словами, Айдогды. Очень. Ведь ты стоишь на страже закона. И при этом считаешь, что ради общественной пользы этот закон может быть вот так легко нарушен?
— А разве закон не призван защищать прежде всего интересы общества?
— Верно. Но он охраняет в такой же степени и права каждой отдельной личности.
— А людей, которые вредят обществу или мешают ему развиваться, — таких людей закон тоже должен оберегать?
— Но ведь надо еще доказать, что они вредят. А может быть, они просто ошибаются? Может, они еще не поняли, что такое социализм?
— Но товарищ Поладов говорит, что враждебные классы настолько коварны, что способны обойти любой закон.
— И все равно нельзя бороться против них, опираясь на беззаконие.
— Я, например, знаю много людей, которые живут не по средствам, но разоблачить их невозможно. Так они приспособились.
— Что ж, бывает и так. Новое общество строить нелегко. И новые законы издавать тоже. Борьба никогда не прекращается, меняется ее направление, ее фронт. И в этой борьбе, на этих фронтах партии так же, как на боевом фронте, нужны герои.
— Мне всегда казалось, — возразил недоверчиво Тахиров, — что герой — это воин, совершивший подвиг на поле брани.
— Это верно. Только с одной оговоркой. Люди не приходят к подвигу случайно. К подвигу их готовит вся предыдущая жизнь. И в этой нашей сегодняшней мирной жизни мы должны быть готовы к подвигам… Тем более что, возможно, нам скоро придется отстаивать свою свободу и в боях.
— Разве будет война?
— Думаю, рано или поздно воевать придется… с фашистами.
— А тут приезжал из Ашхабада лектор, так он говорил, что фашистов скоро раздавят сами германские рабочие. Это, мол, враг неопасный.
— Не так все просто, Айдогды. Ведь в самой Германии мерзость фашизма не видна так ясно, как нам здесь. Разве фашисты говорят о себе, что они злодеи и человеконенавистники? Представь себе на минуту, что ты — немецкий рабочий, живешь в Берлине. Гитлер говорит тебе: «Ты немец, ты представитель высшей расы и потому имеешь право господствовать над миром». Ты безработный, а он дает тебе работу. Он проклинает англо-американских капиталистов, как всемирных плутократов, и клянется вести с ними непримиримую борьбу, он объявляет себя защитником интересов рабочих. Если он говорит об этом каждый день по радио, если об этом каждый день пишут в газетах, рабочий может и поверить в то, что это правда. А если учесть, что каждого, кто хочет выступить против Гитлера, тут же обвиняют в предательстве интересов германского народа, то ты поймешь, насколько сложна в Германии обстановка.
Конечно, Тахиров каждый день читал газеты. И каждый день там или здесь ему встречалось слово «фашизм». Но до сегодняшнего дня он, да и он ли один, не задумывался всерьез о значении того, что происходило в Германии. Он знал, что фашизм глубоко враждебен всей нашей жизни, но фашисты были в Европе, а Европа была так далеко… Он ненавидел фашизм, но был уверен, что никогда с ним не встретится. А пока что у него было свое поле битвы. Он должен был как можно лучше выполнять свой служебный долг, быть в курсе всех дел своего района…
* * *
С наступлением вечера сумерки все больше и больше охватывали дома, и вот темнота поглотила все; даже мешок с мукой, стоящий в углу, и тот перестал быть виден. Надо было зажечь лампу, но Айсолтан все сидела, не двигаясь, в сгущающейся тьме, и ей казалось, что ни на что уже больше нет сил.
Как мучительна тревога ожидания! Все меньше и меньше людей проходит по улице, все беспокойней становится на душе. Каждая минута кажется часом, и с каждой минутой тело слабеет, словно из тебя по капле уходит жизнь.
Но Айсолтан была терпелива, как может быть терпелив только человек, с детства доверивший тайну сердца узорчатым переливам ковра.
В доме тьма хоть глаз выколи, только в окно чуть сочится бледный лунный свет, да тихо, чуть слышно, словно отвечая шороху опавших листьев, поскрипывает дверь.
Айсолтан не спит. Да ей и не уснуть. Она сидит, прислушиваясь к любому звуку, к каждому шороху — вот-вот раздадутся знакомые шаги. Вот так же Айсолтан скоротала прошлую ночь. Неужели придется прождать и эту? Неужели Айдогды снова отправился преследовать басмачей в пески, где каждая минута грозит перестрелкой и смертью? О, аллах, заступник праведных! Спаси и сохрани милого моего, отведи от него вражескую пулю!
Ведь ее Айдогды, работая милиционером, приносит людям пользу, днем и ночью оберегает людей от зла, жизнь его в постоянной опасности. Нелегка его жизнь и тяжел труд, а какова плата? Разве на эту плату можно жить? Только сводить концы с концами. Но Айдогды говорит, что работает не ради денег, что скоро все изменится. «Потерпи немного, — уверяет он, — и ты увидишь, как будет хорошо. Надо только дожить до социализма, и ты у меня ходить в шелках будешь. А пока надо потерпеть».
И разве она не терпит? Две подушки, две кошмы — вот все богатство новобрачных. Ах да, есть и третье: это газетная подшивка, висящая на стене; вон там, в лунном свете, виден ее край.
Конечно, Айсолтан хочет нарядно одеваться и носить украшения, хочет жить в достатке. Но она терпеливо будет ждать социализма. Ведь социализм уже недалеко. Говорят, еще лет пять-шесть, и он будет построен. А после этого все пойдет совершенно иначе: наступит изобилие, благодать, счастье… Правда, соседка утверждает, что будет война. Не сама соседка, понятно. Что она может знать? Но у нее муж бухгалтер, человек с таким хмурым лицом, словно ему на роду написано приносить людям дурные вести. Вот он-то и говорит про войну. Только на этот раз он просто выдумывает. Это Айдогды так сказал. Не будет, сказал он, никакой войны. И объяснил почему. Потому что наша страна самая сильная в мире. А какой дурак полезет воевать с сильным?
Айсолтан проснулась от звука знакомых шагов. Открыла глаза и тут же зажмурилась — так ярок был солнечный свет. Вскочила на ноги…
Когда Айдогды открыл дверь, Айсолтан уже стояла, улыбаясь, словно проснулась давным-давно. Если бы не воспитание, которое связывало ее сейчас по рукам и ногам, с какой радостью бросилась бы она в объятия мужа… Но она только стояла и ждала. Все, что она чувствовала, она хранила и будет хранить в своем сердце. Ничего! Главное, вернулся ее любимый, вернулся цел и невредим, не тронут вражеской пулей, такой же веселый и красивый, как всегда. Единственный в мире.
— Устал?
— Устал. Но сегодня мы отдохнем, Айсолтан. Спечем ишликли
[7], ладно? Я и мяса принес…
И протянул ей тяжелый сверток.
— Откуда это, Айдогды?
— Мать зарезала барана.
Она так ждала его, так тревожилась, а он…
— Искали в горах контрабандистов. По пути заглянул.
— Я не упрекаю тебя, Айдогды. И к матери надо не заглядывать по пути, а просто приезжать. Она ведь ждет тебя и волнуется еще больше, чем я…
«Мне показалось, — подумал Айдогды. — Конечно, показалось. Я знаю, она любит мою мать, как свою собственную».
— Я хотел, — начал он, но в это время с улицы закричали:
— Айдогды! Тахиров!
Что ж, служба есть служба. Надо собираться в путь. Опять ловить контрабандистов или преследовать басмачей.
— Жди меня, Айсолтан.
Еще долго стояла Айсолтан недвижимо, словно застыв. Видела ли она наяву Айдогды, или он только приснился ей, приснился и исчез? И снова неизвестно, когда он вернется, и вернется ли он вообще, и снова будет ждать она его долгими часами, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шагу, и повторять слова древнего заклинания: «О, аллах, верни его в дом живым и здоровым! А ты, пуля, ты, вражеская пуля, не ищи его, ты лети мимо. А ты, мой любимый, береги себя, не бросайся в огонь. Ты помни обо мне, ведь я жду тебя. Жду тебя… Жду».
* * *
Когда месяц спустя Тахирова вызвали в райком, он ни секунды не сомневался, что речь пойдет об учебе. Но вышло иначе.
Поладов сказал:
— По решению бюро мы перебрасываем тебя на хозяйственный фронт. С завтрашнего дня ты — заведующий овцеводческой фермой.
От неожиданности Айдогды растерялся.
— Товарищ Поладов… Вы же обещали послать меня на учебу.
— Надо потерпеть, товарищ Тахиров. Каждый работник на вес золота. Басмачество мы с твоей помощью истребили, теперь надо победить на фронте хозяйствования.
— Справлюсь ли я, товарищ Поладов?
— Справишься, Айдогды. Партия от тебя ждет помощи. А если так, то ты обязан справиться с любой работой. Положение из рук вон плохо. В течение трех лет колхоз не выполняет заданий по животноводству. Вот тебе первое задание — в этом году план должен быть выполнен во что бы то ни стало. Это — партийное задание. Мобилизуй людей, поговори с ними, подними молодежь. Словом, действуй. Нужна будет помощь — окажем. Хотя, повторяю, положение тяжелое.
Бесполезно спорить с Поладовым. Он требует невозможного, но разве с себя он требует меньше, чем с других?
Айдогды отпустил поводья. Каждый бархан, каждая гряда в этих местах были ему хорошо знакомы. По этим дорогам в детстве он возил чабанам еду, здесь же, в этих местах много лет спустя он преследовал басмачей. А теперь он едет для сражений на хозяйственном фронте, на который послал его товарищ Поладов. Казалось, только вчера Айдогды увидел его впервые, а теперь взглянул — Поладов уже седой. Сколько же ему лет? Совсем недавно, казалось, отмечали его тридцатилетие. «Когда же это было? До моего ухода в армию. Тогда все комсомольцы, сложившись, подарили ему настенные часы, а он стыдил их: «Не беру дорогих подарков». Значит, сейчас ему уже под сорок».
Впереди показался двугорбый холм… Значит, и чабанский кош
[8] неподалеку. Еще несколько минут пути…
Пересохшие губы Айдогды словно почувствовали тепло пиалы с зеленым чаем…
С громким лаем бросились к всаднику мохнатые волкодавы; только один, белый, бежавший впереди, не подавал голоса.
— Что, Акбай, не забыл еще меня?
Услышав свое имя, огромный белый пес остановился. Словно по команде, замолкли и остальные собаки.
Это была первая радость для Тахирова. Второй стала встреча с Бабакули, которого, как оказалось, тоже совсем недавно направили сюда из колхоза. Но больше радоваться было нечему. Кош чабанов был в самом плачевном состоянии, да и загон, построенный некогда еще Мурзебаем, еле держался. Но хуже всего было то, что колодец мог в любую минуту выйти из строя, и тогда беда.
Как говорил Поладов, до сих пор фермой заведовал Гарахан и вроде бы работал старательно, да только ничего у него не получилось.
Гарахан встретил Тахирова приветливо, не выказывая ни обиды, ни недовольства.
— Угощайся чаем, Айдогды. Устал, наверное, в дороге.
— Спасибо, Гарахан. Только давай сначала, пока не зашло солнце, пересчитаем овец.
— Куда торопиться? Чем хочешь отвечаю, все овцы на месте. Ни одна не пропала.
И действительно, не только ни одна овца не пропала, но еще шестьдесят две оказались лишними.
— Может быть, прибились из других отар, — предположил Гарахан.
— Не может этого быть, — уверенно сказал Бабакули.
— А ты почем знаешь?
— Сам вчера пересчитывал. Столько же было. По-моему, ты держишь здесь своих собственных овец.
Лицо Таракана вытянулось и побледнело. Дело оборачивалось нежелательным образом. Как же это он так оплошал? К приходу Бабакули вполне можно было отправить лишних овец обратно, да жаль было гнать их с такого прекрасного пастбища. Недооценил он опасность… Что же делать? Можно признать свое поражение и отдать овец колхозу, но так… просто, ни за что ни про что? С другой стороны, он готовился вступить в партию, договорился с самим Сарыбековым о рекомендации. «Человеку, который разоблачил родного отца, рекомендацию дам», — сказал ему Сарыбеков. А теперь? Как бы вместо вступления в партию не оказаться под следствием.
Тахиров смотрел на него и видел все его сомнения. Что скажет, чем попытается оправдаться Гарахан? Будет изворачиваться или честно признается в своей ошибке, если только это ошибка.

— Сам не понимаю, как все вышло, — выдавил наконец из себя Гарахан, так и не решивший, как поступить. — Никакой корысти у меня не было…
Не говоря ни слова, Тахиров пошел в загон и стал считать овец, заново обросших после осенней стрижки. В овчарне было чисто, хоть это хорошо.
— Айдогды! Хочу сказать тебе несколько слов.
Вид у Гарахана был подавленный.
— Что тут говорить? Разве можно что-нибудь добавить к тому, что и так очевидно?
— Я хочу честно признать свою вину. Я не должен был так поступать. В том, что здесь оказались лишние овцы, виноват только я.
— Хорошо, что ты в этом признаешься.
— Неужели из-за каких-то паршивых шестидесяти двух овец ты испортишь мне жизнь?
— Ты сам себе ее портишь, Гарахан. Никто не заставлял тебя пригонять своих овец в колхозное стадо.
— Признаю ошибку. Не предавай это дело гласности, Айдогды, а овцы пусть останутся колхозу. Клянусь, что больше не сойду с правильного пути.
— Не имею права покрывать твое преступление, Гарахан.
— Знаю, что не имеешь. Но пойми, я тоже человек. Ни перед кем не привык унижаться, а сейчас унижаюсь, прошу тебя, чтобы ты меня не губил. Какая польза тебе, если я попаду в тюрьму? Разве там мне место? Там я не стану лучше, не исправлюсь, наоборот, вполне могу стать настоящим преступником.
— Пойми меня, Гарахан. Если бы ты украл моих овец, я бы простил тебе это, клянусь жизнью. А вот скрыть твой проступок не могу.
На следующий день Гарахан собрался в аул. Он был один. Отары с рассветом ушли на пастбища и еще не вернулись к колодцу. Настроение было — хуже не придумаешь. Даже в глазах у Гарахана потемнело, когда он подошел к коню. Голова кружится, что ли?
Стало еще темней. Гарахан протер глаза и поднял голову. Южный край неба почернел, и оттуда с невероятной быстротой мчались невиданные, аспидные тучи. Словно густым дымом заволакивалось чистое минуту назад небо. Уж не буря ли? Не должно быть, сейчас ведь не зима. Странно.
А тьма, надвигающаяся с юга, приблизилась и заволокла уже солнце. Стояла жуткая тишина. Ни ветерка, ни шороха в траве. Мягкая пыль непроницаемой завесой закрыла весь мир.
В одно мгновение Гарахан оседлал коня! Овцы! Испугавшись, они могут отбиться от стада и погибнуть. Чабанов так мало, каждый человек неоценим. Скорее на помощь! И он поскакал к отаре, пасущейся севернее колодца. Там чабаном Бабакули, самый неопытный из всех, да и подпасок у него совсем мальчишка.
Силуэты барханов едва угадывались на расстоянии десяти шагов, словно тонули в темной воде. Гарахан старался не сбиться с хорошо известной ему тропы. Прошло около получаса: отара должна была находиться где-то совсем рядом. Он слез с лошади и нагнулся к самой земле, чтобы получше рассмотреть тропу. Нет, он не заблудился: перед ним простиралась полоса, густо помеченная овечьим пометом. Гарахан встревожился. Неужели отара не двинулась к колодцу?
— Бабакули! Ба-ба-ку-ли-и!
Гарахан кричал изо всех сил, кричал, пока не охрип. Но неподвижная стена мягкой темноты поглотила его голос. Тогда он снова сел на коня и погнал его вперед.
— Ба-ба-ку-ли-ии! Э-ге-ге-ее-ей!
Зловещая тишина была ему ответом. Горячая пыль забивала рот, глаза и нос. Только успевай отплевываться! Тьфу! Это не каракумский песок. Но тогда что же это, откуда взялась, откуда обрушилась на землю эта липкая нездешняя пыль?
Он не заметил, как исчезла тропа. Ехать дальше было опасно. Похоже, что и так он уже сбился с пути. Куда двигаться? Назад? Вправо, влево? Он уже жалел, что поддался доброму порыву. Ну, пропал бы десяток-другой овец, какая ему забота. Еще и на пользу ему, нельзя будет доказать, что вообще были лишние овцы.
Да, надо поворачивать, пока не поздно. Вроде бы здесь он проезжал только что… Только бы найти обратный путь, только бы не заблудиться в пустыне.
Эх, почему он не Тахиров? Была бы у него такая же биография, давно бы стал большим начальником, ведь теперь биография важнее всего. Это Айдогды, как дурак, ничем не может воспользоваться. А может, не хочет? Может, он не притворяется, когда говорит, что нет ничего ценнее честности?
Но куда карабкается конь? Что за незнакомый бархан? А где тропа? Двигаться бессмысленно, надо переждать здесь, пока хоть немного не прояснится. Гарахана бросило в пот. Неужели заблудился? Он привязал коня и сел на вершине бархана. По-прежнему вокруг было темно, как ночью.
Сколько так продолжалось? Он утратил представление о времени. Час прошел, два, три?
Но вот на черном небе появилось серое пятно. Быстро увеличиваясь в размерах, оно становилось все ярче, высвечивая силуэты барханов. И наконец превратилось в желтый круг, из которого вырвались первые солнечные лучи, мигом осветившие окрестность.
Теперь Гарахан мог оглядеться. Этих мест он не знал. Тот островерхий холм, похожий на папаху, он обязательно запомнил бы. Значит, он все-таки заблудился. Надо попробовать отыскать хоть какой-нибудь след.
Отъехав примерно на сотню шагов, он заметил широкую полосу. Следы овец! Здесь недавно прошла небольшая отара, голов, примерно, на сто. Это могла быть только часть общего стада, отбившаяся в темноте.
…Когда после двухдневных поисков чабаны обнаружили Гарахана, он лежал ничком у подножья холма. Он едва смог пошевелить запекшимися, потресканными губами:
— Овцы… там… — И уткнулся лбом в песок.
В ложбине, тесно прижавшись друг к другу, стояли отбившиеся овцы…
* * *
Тахиров седлал коня, когда к нему подошел Бабакули.
— Гарахан искупил свою вину. Как ты думаешь поступить?
— Ты прав, Бабакули. Но молчать я не буду.
— Выходит, что за добро ему отплатится злом?
— Для того чтобы ему не отплатили злом, я и скажу всю правду.
— Ты ведь знаешь Поладова. Когда речь идет о нарушении закона, он неумолим. Он не прощает таких проступков и не признает никаких смягчающих обстоятельств.
— И все-таки правда для меня дороже, чем все остальное. Я не буду ни лгать, ни замалчивать правду. И тебе не советую.
— Мы все просим тебя об этом. Все чабаны и подпаски.
Айдогды заколебался. Может быть, товарищи правы, ведь Гарахан действительно, рискуя жизнью, спас от гибели отбившуюся часть стада. Но какое же право мы имеем прощать или не прощать? Перед законом все равны.
— Я передам вашу просьбу суду, — сказал он наконец.
— Ты стал бездушным, Айдогды…
«В чем-то ты прав, — подумал Тахиров. — Я действительно стал бездушным. Я бездушен к преступникам. Иногда мне и самому жалко их, жалко всех, даже убийц, но я не позволяю себе жалости. Я должен быть беспощадным, иначе преступления никогда не исчезнут. Как хорошо, наверное, проявлять великодушие, как приятно, наверное, прощать грехи. Но приятно должно быть не мне. И не во мне дело, а в обществе, и только то хорошо для каждого, что хорошо для всех. Вот почему преступников нельзя жалеть».
— Зря ты так, — вслед уходящему Бабакули сказал Тахиров.
«Что поделаешь? — думал он дорогой. — Жаль, что ты не захотел меня понять. Раньше я бы мог, пожалуй, поступить так, чтобы действительно отплатить добром за добро, даже если бы при этом пришлось немного нарушить закон. Но теперь для меня это — самое страшное преступление, потому что в этом — корень всех остальных преступлений. При желании всегда можно найти причину для жалости. Сказать, к примеру: «Это мой закадычный друг. Давайте простим его на этот раз…» Или: «Хотя человек и нарушил закон, но сделал это он не по злому умыслу, а по незнанию, не будем его наказывать». Или: «Он искренне раскаивается в содеянном». Словом, всегда найдутся отговорки для того, кто хочет скрыть преступление. Но разве уклонение от закона не преступление? Значит, если хочешь быть великодушным, ты должен сам нарушить закон».
Барханы, барханы, барханы.
Что толку в правоте, если от нее так тяжело на душе. Многие, наверное, считают его законником, черствым, бессердечным человеком. Но не может все-таки быть, чтобы человек, который старается не отступать от закона, оказался неправ. Или все-таки может? Если бы он сам был судьей, он бы простил Гарахана. Он бы вынес приговор: «Да, виновен. Но вину свою искупил».
Но он не вынес бы приговора: «Нет, не виновен».
В этом все дело.
И никак иначе. Все должны быть равны перед законом. Кто бы ты ни был, хоть самый большой начальник, хоть брат родной, — подчиняйся закону. Иначе правды будет не сыскать. Откроется путь к полному беззаконию, каждый начнет толковать закон в свою пользу, и уже не будет ни правых, ни виноватых.
Вспомнился почему-то рассказ одного рабочего, сбежавшего из Германии. Он родился в одном из немецких аулов у подножья Копетдага, где его семья жила еще с царских времен. Самого его судьба мотала по всему свету, пока случайно не забросила в Германию. Там он и осел было на древней своей родине и жил себе ни шатко ни валко, пока к власти не пришли фашисты.
— Меня вызвали к какому-то небольшому начальнику, — рассказывал он. — И состоялся у нас такой разговор.
— Ты что молчишь, — спрашивает меня шарфюрер.
— Да так, — говорю. — Я и вообще молчун.
— Молчунов мы не любим, — сказал шарфюрер. — Придется тебе поговорить.
— Не понимаю.
— Ты выступишь на митинге, посвященном введению новых законов о чистоте расы, и расскажешь, как унижают нас, немцев, эти дикари там, в Азии, откуда ты сбежал.
— А нас там не унижают, — говорю. — Наоборот. Туркмены очень даже уважают немцев и ценят высоко их за хозяйственность…
— Меня не интересует, что думают о великом немецком народе представители низшей расы, — закричал шарфюрер.
— Почему низшая, — спрашиваю его. — Очень хорошие люди, смелые, правдивые…
— Она низшая раса
по закону, понял ты, олух? И если ты не усвоишь этого как можно быстрее, ты на своей шкуре поймешь, что такое быть низшей расой.
Значит, бывают и такие законы?
Но особенно поразило Тахирова то, что фашисты называют себя «социалистами» и «членами рабочей партии». Неужели у них там, в Германии, эта явная ложь может хоть кого-нибудь обмануть?
— У них и знамя красное. И есть даже газета, выпускаемая профсоюзом, на которой стоит лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Бесконечна степная дорога, бесконечны степные мысли. «Если паразиты и эксплуататоры вынуждены прикрываться нашим красным знаменем и лозунгами пролетариата, значит, дела у них совсем плохи. Конечно, кто-то может ошибиться и, не разобравшись, принять черное за белое. Но так долго длиться не может; рано или поздно немецкий народ разберется, что к чему…» Барханы, бесконечные барханы. Надо бы передохнуть немного и дать отдых коню, напоить его. Тахиров спешился и достал из хурджуна бурдюк с водой.
— Пей, Гарчгай.
Гарчгай облизнул пересохшие губы и начал медленно пить. Нельзя было не залюбоваться тем, как он это делал. «Прежний мой конь был тоже хорош, — подумал Тахиров, — но этот…»
Выпив половину бурдюка, Гарчгай оторвал губы от воды и отошел, тряхнув мордой. Конь мог бы выпить и целый бурдюк, и в два раза больше. Но вот удержался. Неужели он знает, что у меня с собой только один этот бурдюк? Или у этого коня есть совесть, как у человека? Или это всего лишь привычка, заставляющая животных экономно потреблять воду в дальней дороге?
Много коней было у Тахирова за последние годы, но такого, как Гарчгай, он еще не встречал. Умен, словно мудрец, застенчив, как девушка, и могуч, как сказочный богатырь.
Тахиров сидел на вершине бархана, а Гарчгай, не стреноженный, свободно пасся в ложбине. И снова потекли мысли, неостановимые, как песчинки, гонимые ветром по безграничным пескам. Вызывая жгучее чувство обиды, продолжал звучать в ушах голос Бабакули:
— Тебе твой авторитет дороже человеческой судьбы. Готов за ошибку человека под суд отдать.
«Конечно, я не хочу ошибаться. Но значит ли это, что мне безразлична при этом судьба человека? Может быть, все дело в том, что человек этот — Гарахан. Не верю я ему, — признался себе Тахиров. — А почему? Все кажется мне, что он такой же, каким был всегда, недаром он сын Мурзебая. Пусть не такой, каким был отец, но любит он только себя и свое, и любит больше, чем всех остальных. Ну а я, разве я не люблю себя и своих? Конечно, люблю. Но я ни за что не поступил бы так, как Гарахан».
Вытянув длинную шею, Гарчгай тихо заржал.
Какой конь! Вот кто вызывает к себе уважение верностью, умом, силой. Кем же надо быть, чтобы не любить такого друга. А прежний хозяин по любому поводу хлестал его плетью… Впрочем, той же плетью избивал он и жену. Что ж, суд воздал ему по заслугам. Как можно относиться к такому человеку? Можно ли не презирать его? Получается удивительно все же: человека презираешь, а животное любишь. Животное оказывается более благородным, чем человек. Увы, это так. Приходится признать, что есть люди хуже любого зверя. А если такой зверь возьмет в руки винтовку? А если подобные ему хищники придут к власти, завладеют самолетами и бомбами…
* * *
Ему редко снились сны, но в эту ночь приснился. Будто скачет он на коне по такыру, по безбрежной равнине растрескавшейся, безжизненной, твердой земле. И вдруг пропадает земля, и такыр становится гладким асфальтом. И не видно вокруг ничего живого — ни травинки, ни деревца, только асфальтовая равнина, на самом краю которой чернеют барханы. Тахиров гладит коня по шее, шепчет: «Гарчгай, дорогой, ну, еще немножко, еще чуть-чуть… доскачем до барханов, спасемся…» И вот уже близки барханы… Все ближе, ближе. Но почему и они блестят, отражая солнечные лучи? И они тоже одеты в асфальт? И весь Каракум тоже? И страшно становится Тахирову, и страшно становится коню, он весь дрожит и не хочет идти вперед. Тахиров оборачивается и видит: все односельчане скачут следом.
«Стойте! — кричит откуда-то взявшийся Гарахан. — Не верьте Айдогды. Впереди гибель».
«Только вперед, — отвечает на это Айдогды. — Нельзя заасфальтировать весь мир. Впереди — свобода. За мной, друзья!»
* * *
Уже много лет числился в отстающих аул Хиваабад. Сколько ни меняли председателей сельсовета, все без толку. Сельский актив разобщен, с утра до вечера дерут глотку склочники, все разбились на группы, а работать некому.

В тот первый день, когда стал он председателем сельсовета, Айдогды вернулся домой далеко за полночь, когда уже пропели и уснули полуночные петухи, но дети и Айсолтан не ложились, ожидая его возвращения. Тахиров остановился за кустами. Жена суетилась возле котла, и в воздухе пахло пловом. Откуда в доме рис и мясо, если утром не было денег даже на хлеб? Наверное, одолжила, чтобы отметить такой день. Со своего места он видел радостное лицо Айсолтан, и на сердце у него потеплело. Как мало радости дал он семье… а теперь и денег будет меньше, ведь зарплата у председателя аулсовета еще меньше, чем у милиционера. Ни на плов, ни на наряды в ближайшее время рассчитывать не приходится…
— Вы еще не спите, — укоризненно сказал он, появляясь из темноты.
— Все соседи приходили нас поздравить… И дети не захотели лечь, пока тебя не увидят. Вот и Оразджемал сидит. Глаза слипаются, а говорит: «Хочу поздравить папу…»
Да. Оразджемал и Курбанчик, как всегда, ждут его. А у него нет возможности порадовать их хоть чем-нибудь. Даже игрушек не купить, денег хватает разве что на дешевые конфеты, и то не всегда…
— Говорят, бывший председатель переезжает в Мяне, — робко начала Айсолтан. — Может быть, мы переедем в его дом?
— Нет, дорогая. Не получится. Его дом отдадим детскому саду. А нам пока придется пожить в этой комнате.
— Конечно… пока нам хватит… хватит и этой комнаты. Пока у нас ничего нет — ни мебели, ни… Но неужели так будет всегда?
— Ты должна понимать меня, Айсолтан.
— Разве я не понимаю. Но дети… им как объяснить?
Однажды Тахиров попробовал объяснить дочери положение в мире. Развернул на столе большую карту.
— Видишь этот красный остров? Это наша страна, Оразджемал. А кругом целый океан буржуйских государств. Они хотят нас уничтожить. Чтобы не допустить этого, нам приходится работать и меньше есть. Поняла?
— А почему соседи, папа, работают не больше тебя, а живут лучше?
— Потому что я большевик и должен сознательно ограничивать себя. Должен быть во всем примером.
— Если ты работаешь больше, а живешь хуже — это несправедливо, — сказала Оразджемал.
Ее слова поразили Айдогды. Ведь это и на самом деле несправедливо. Но ведь иначе нельзя, и они, его дети, поймут, что их отец не мог поступить иначе.
Да, в Конституции записано: «От каждого по способностям, каждому — по труду». Все верно. Но Поладов не устает повторять, что пока еще необходимы жертвы, и ради окончательной победы социализма и мировой революции придется немного потерпеть, и кому, как не большевикам, придется терпеть дольше других. Еще, еще немного.
Выйдя во двор, он увидел в самом углу огромную кучу саксаула.
— Откуда это? — спросил он у жены. — Я что-то не припомню, чтобы просил кого-нибудь привозить нам дрова.
— Вечно ты недоволен, Айдогды, — с горечью отозвалась Айсолтан. — Вот теперь тебе не нравится, что дрова привезли. А как жить без дров? Тем более что Гулджан говорит, полагается по закону. Разве и по закону нельзя жить?
Тахиров ничего не ответил. Положил на сачак
[9] недопитую пиалку чая, поднялся.
Двор Гулджана находился на самой окраине аула. Тахиров несколько раз стукнул кулаком в ветхие ворота, прежде чем раздались шаркающие шаги.
— Кто там? — сонным голосом спросил Гулджан.
— Давай открывай!
— А, это ты, Айдогды. Сердишься, что я привез в твой дом дрова?
— А кто тебя просил об этом? Я просил?
— Есть указание из района, чтобы в первую очередь обеспечить дровами учителей и работников аулсоветов.
— Я хочу видеть это указание.
— Обязательно сейчас тебе надо показывать его? До утра подождать не можешь?
— Показывай сейчас.
Ворота со скрипом отворились. Неужели это Гулджан? Он совсем одряхлел, превратился в старика с редкими седыми усами и жалкой бородой; только по воспаленным, слезящимся глазам можно было узнать былого Гулджана в человеке, стоявшем перед Тахировым с фонарем в руках.
— Я думал, ты будешь доволен, что у тебя есть теперь дрова, — сказал Гулджан.
— Я недоволен тем, что ты подхалимничаешь. Наверно, многие учителя еще не обеспечены дровами, а ты мне привозишь столько дров в первый же день.
— Верно, верно, подхалимничаю, — равнодушно согласился Гулджан. — Ты теперь начальник, дай, думаю, постараюсь для него. Ни у одного учителя не мерзнут дети, думаю, а у нового председателя мерзнут. Знаю, знаю… сам видел. И пожалел их. Тебя-то, Айдогды, мне совсем не жалко. Железный ты человек. О себе не думаешь, о детях своих не думаешь, тебе другое важнее всего. Жена твоя мучается. Терпеливая она у тебя, Айсолтан…
Гулджан говорил все это монотонным скрипучим голосом, словно разговаривал сам с собой. На Айдогды он и не взглянул. Затем прервал себя на полуслове.
— Вот. Бери ключи от конторы. Не буду служить у тебя.
Повернулся и пошел в дом, освещая себе дорогу фонарем, сгорбленный старик, ступающий нетвердо, как ребенок. А Тахиров остался стоять с ключами в руке.
Впервые он не знал, что делать. И впервые ему стало жалко Гулджана, и впервые он увидел, что и Гулджан, которого никто не уважал, которого никто в грош не ставил, может обидеться.
И ведь он был прав.
Может быть, действительно Айдогды — железный человек, неспособный никого пожалеть, даже собственных детей?
Гулджан ему сказал об этом. Гулджан, который давно уже спился, хотя по мере сил и выполняет свои обязанности сторожа при аулсовете. Любой, кому не лень, может небрежно подозвать его и угостить стаканом водки, и Гулджан никогда не откажется, выпьет, понюхает на закуску свою фуражку и молча выйдет на улицу. Никто не разговаривает с ним, и он ни с кем не разговаривает, разве что сам с собой. И только когда над ним начинают насмехаться, он, загадочно глядя полуслепыми глазами в лицо, бормочет:
— Веселись, браток. Посмотрим, что дальше будет.
И чаще всего у людей пропадает охота смеяться.
…Гулджан сидел в пустой, неприбранной комнате, невидящим взором глядя на коптящее пламя. Впервые в жизни посмел он обидеться, впервые осмелился высказать свою обиду тому, кто сильнее его, тому, от кого зависела его судьба. Да, пусть будет так. Пускай увольняют с должности сторожа, хотя без зарплаты ему не на что станет жить.
Все равно он не будет жалеть о сказанном. Впервые он мог с чистым сердцем сказать, что думал не о себе, впервые понял, как много значит, когда можешь позаботиться о ком-нибудь с чистой душой. Пусть сердится на него Тахиров, этот железный человек. «В его глазах я хуже пыли под ногами, но ни в чем он меня не сможет обвинить. Он слишком честный, а к остальным относится так, словно каждый вот-вот превратится в вора. А я разве украл что-нибудь? Вот привез Айсолтан дрова — как она обрадовалась, как обрадовались ребятишки. Благодарили. И никто надо мной не смеялся.
Значит, я все-таки нужен еще. Пусть только дрова привезу, а все равно нужен людям. Самому-то мне что надо? Ничего. Умру, наверное, скоро, зачем мне все? В гости позовут, угостят, и больше ничего не надо. А ведь раньше, когда я был председателем, я так не думал. Взятки мне давали. Хоть и сами были бедными, а думали, что председатель приходит за взятками. И давали. Один раз даже барана дали. Жирный был баран…»
Где все? Куда все делось?
Ничего нет.
«Хотя нет, неправда, — подумал Гулджан. — Сын у меня есть. Вырос, большой уже, скоро девятнадцать лет будет. Школу закончит в районном интернате. Недавно приезжал, все стыдил меня. «Отец, — говорит, — мне за тебя стыдно. У тебя такая хорошая биография. Зачем портишь?» Это мать его настраивает, чтобы я не пил. Еще сын сказал: «Зачем позволяешь себя унижать, отец? Ведь ты же один из самых первых советских работников».
Разве не правильно он говорил? Правильно. Одним из первых я представлял Советскую власть. Но разве я признаюсь когда-нибудь, что с самого первого дня был ставленником Мурзебая? До сих пор должен ему столько, что не отработать за жизнь.
Как так получилось, как вышло?
Вроде и занимал-то я у него немного. Только-только хватало, чтобы без мяса не сидеть. Даже не пил я тогда. Совсем не пил. Значит, за жирную баранину продал я душу подлому купцу, продал честь и совесть.
За овцу, которую я получал от Мурзебая раз в неделю. Овца — вот сколько я стою.
Почему так дешево оценил я себя и свою честь? Ведь зарплата у меня была. Маленькая, но была. Не меньше, чем у Айдогды. Разве ему не давал бы Мурзебай по овце каждую неделю? И по две овцы дал бы. И денег.
Только Айдогды не продается. Лучше умрет, а чести своей не продаст.
И я мог стать таким. Разве не мог? Мог. Даже голодать не пришлось бы. Тогда никто не посмел бы подзывать меня, как собаку, и поить водкой. И сыну не пришлось бы меня стыдиться. Он гордился бы мной, как будут гордиться отцом дети Айдогды.
Потерял я свою жизнь. Не вернуть потерянного, не начать сначала. А если бы можно было? Ни за что не стал бы пресмыкаться ни перед кем. Ходил бы по земле гордо, спокойно, как хозяин жизни. Как Айдогды».
* * *
Полгода спустя Тахирова избрали председателем колхоза, названного в честь революции «Ынкылап». И буквально на следующий же день из района прибыл к нему председатель районного Осоавиахима.
— Мы с тобой служили вместе в армии, — сказал он без долгих вступлений. — Ты был моим начальником, когда организовывался Осоавиахим, знаешь, что это такое, объяснять тебе ничего не надо. Оборону страны укреплять нужно, согласен? А у нас услышат «Осоавиахим» — и рот до ушей, будто я предлагаю песни петь. Соберут кое-как взносы, да и дело с концом. А стрелкового кружка ни одного нет. Может, люди и стрелять не умеют. Шутишь, что ли?
На ближайшем же заседании правления Тахиров задал внезапный вопрос:
— А как у нас дела с Осоавиахимом?
Все дружно засмеялись.
— Взносы собирает завуч школы Мамед Широв, — сказал наконец бухгалтер.
— Еще что-нибудь можете сказать об этой работе?
Никто ничего сказать не мог.
— Скажите Широву, чтобы зашел ко мне.
— У нас одно из лучших подразделений Осоавиахима, — докладывал Широв не без гордости. — В этом году, например, собрали взносов в два раза больше, чем полагалось по плану. Разве плохо?
Стараясь сдержать закипавший гнев, Тахиров спросил хрипло:
— Я хотел бы знать, что ты сделал для укрепления обороны страны. Если завтра нападет враг, ты от него будешь обороняться взносами, что ли?
— Но… ведь войны не будет. У нас теперь с Германией мирный договор, ты сам говорил, что это нам гарантирует мирную жизнь.
Да, говорил так Тахиров, и не только он. И все-таки неспокойно было на душе. Уже шла война в Европе, и Гитлер захватывал то одну страну, то другую. Нет, пожалуй, войны не избежать. Буржуи, капиталисты не примирятся с тем, что мы строим новую жизнь. Они с радостью задушили бы нас и нашу свободу, если бы смогли. Да, сейчас мир, но уже гибнут люди, и эта гроза не пройдет мимо нас.
— Думаю, — сказал Тахиров, — что нам с тобой еще придется взять в руки винтовку. И не только нам. Многим придется. Так что надо готовить бойцов, Мамед. Надо готовить народ.

 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Идет война народная.
Священная война.

Гарчгай грыз удила, рвался вперед. Здесь, на небольшом расстоянии, ущелье сжималось вдруг и сливалось с небом, и страшная пропасть, о которой в народе ходили легенды, была незаметна, словно хищник, притаившийся и приготовившийся к смертельному прыжку.
Место это было опасным и тем не менее всегда притягивало к себе, словно бросая вызов храбрецам. Что это была за тяга? Древние поверья утверждали, что в ущелье водятся горные феи, находились даже очевидцы, с трудом избежавшие гибели. Но Айдогды никогда не встречал здесь фей, а ведь и днем, и лунными ночами, и в кромешной тьме не раз и не два стоял он на краю этого бездонного провала, глядя вниз в непроглядную темь. И когда думал он о горных феях, то, закрывая глаза, неизменно видел прекрасное лицо волшебной красавицы, которое почему-то каждый раз было похоже на лицо Меджек-хан.
Но разве есть у него свободное время для каких-то там фантазий? Ведь после того как избрали его председателем колхоза, не то что лишней минуты — лишней секунды нет.
И все-таки он стоит здесь, и минута течет за минутой.
Может быть, его влечет здешний целебный воздух, вдохнув который, чувствуешь себя поздоровевшим и отдохнувшим. Или притягивает к себе дикая, не тронутая человеком природа, оставшаяся такой, какой она была при сотворении мира. Здесь все иное, чем внизу: и цветы иные, и травы, и пахнут они совсем иначе. Этот запах щекочет ноздри, он вызывает головокружение. Это и есть незабываемый образ родины, родного края, лучше которого нет на земле нигде: этот запах, да тень облаков над головой, да солнечное тепло, умеряемое горной прохладой.
В нескольких шагах от пропасти Тахиров спешился. Бескрайняя степь укрывалась в тумане. Безбрежный простор манил взмыть в небо и парить над этими горами, этой степью, подобно тому, как парит над ними орел.
Словно само время останавливало свой бег в этих местах, а тело становилось невесомым, и, отделившись от него и позабыв мелкую житейскую суету, душа поднималась на невообразимую высоту, откуда был виден весь мир отчетливо и ясно, и тогда все, что было, что предстояло еще человеку, приобретало глубинный, хотя и не до конца еще осознанный смысл.
Счастлив ли я? Не проходит ли моя жизнь безо всякого смысла? И в чем он, этот смысл, и как надо прожить эту, лишь однажды отпущенную нам для чего-то жизнь? Кто прав: тот, кто говорит о кратковременности этой земной жизни и стремится прожить ее среди возможных удовольствий и без
тягот, или тот, кто высшее наслаждение жизни полагает в борьбе? И тот, кто, не жалея себя, бьется за высокие идеалы, и тот, кто сражается за право угнетать целые народы, — приносят в этой борьбе немалые жертвы.
Так думал, стоя над пропастью, Тахиров. Только в этом месте мог он отрешиться от мелких повседневных забот, но стоило ему двинуться вниз, как все привычное, повседневное сразу вновь обретало свои законные права.
Он не поехал по дороге, решил спуститься с горы напрямую. Узкая тропинка, гладкие камни. Если заглядишься вниз, закружится голова. Он осторожно вел коня под уздцы и чувствовал, как дрожит натянутая узда.
Но что случилось? На полях никто не работает, вокруг аула ни души. Вон стоит недвижимо трактор. А где тракторист? И комбайн стоит, словно брошен, на желтеющем поле.
Что такое случилось? Что могло случиться? Он пришпорил коня.
Возле правления колхоза в молчании стояла толпа — почти все население аула. И трактористы, и комбайнеры — все, кому положено было в эту минуту работать в поле, стояли здесь. От толпы отделился Бабакули.
— Айдогды… товарищ Тахиров. Мы уже хотели начинать митинг. Ты как раз вовремя.
— Что еще за митинг?
— Война началась…
— Война?
«Как же так? Не может быть. Мы заключили с Германией мирный договор на десять лет. Еще совсем недавно наше правительство опровергло слухи о возможности войны с Германией, как провокационные», — заметались мысли.
— Германия вероломно напала на нас. По этому поводу и собрались люди.
Но трудно было в это поверить. Не провокация ли это, о возможности которой говорилось в правительственном заявлении? Не может Германия, которая заведомо слабее нас, нарушить договор и напасть…
— От кого ты услышал это известие, Бабакули?
— По радио выступал глава правительства.
— Ты слышал своими ушами?
— Да. И все слышали.
— Утром немцы уже бомбили Киев, — раздался из толпы голос Гарахана. Тахиров резко повернулся к нему.
— Как такое может быть? Представляешь, где граница, а где Киев?
— Так сказали по радио.
В ту ночь Тахиров не сомкнул глаз. Все было непонятно, все. Германия нарушила договор? На то они там, в Германии, и фашисты, чтобы не держать слова. Но тогда не нужно было им верить всерьез, надо было быть готовым к такому вероломству. Говорят, что нападение неожиданное, почему? Разве не знал никто, что фашисты самый наш заклятый враг? Почему тогда не ожидали? Да нет, конечно, ожидали. Недавно Тахиров проходил переподготовку, разве мало говорилось там об опасностях войны? Другое дело, что всерьез немцев никто не принимал. Куда им против Красной Армии! По общему мнению, если бы немцы, совсем потеряв разум, осмелились на нас напасть, война закончилась бы в первые несколько месяцев. Так, оно, наверное, и будет. До наступления зимы наши войска дойдут до самого Берлина. Ведь рабочий класс Германии сразу же поддержит нас. Разве не ждут они только подходящего момента, чтобы изнутри ударить по фашизму? Немецкий рабочий класс целиком поддерживает компартию; все немецкие рабочие понимают, на чьей стороне истина, так разве станут они поддерживать своего злейшего врага и стрелять в братьев по классу?
Надо спешить, пока война не закончилась.
На следующее утро, еще до восхода солнца он оседлал коня и поехал в Каахка. Он рассчитывал быть одним из первых, но перед зданием военного комиссариата уже гудела в нетерпении огромная толпа.
— Товарищ военком! Я опытный командир. Требую немедленной отправки на фронт, — крикнул кто-то.
— Я тоже командир! И я… и я, — раздались голоса.
Военком поднял руку, требуя тишины.
— Так как почти что все здесь командиры, — сказал он, — вам должны быть известны порядки. У нас существуют планы мобилизации. Вам всем надлежит отправиться по домам и ожидать повесток. Повторяю еще раз — каждый будет призван в свое время.
И потянулись дни… Двадцать третье июня… двадцать четвертое… двадцать пятое… Где-то на западе, за многие тысячи километров отсюда шли уже кровопролитные бои, гремели пушечные залпы, ползли танковые колонны, подминая под себя мирную землю, рушились под ударами бомб и пылали мирные города. Уже горе выпало на долю сотен тысяч ни в чем не повинных мирных людей, женщин, детей, стариков; защищая каждый клочок родной земли, поливая ее молодой, горячей кровью, падали, не отступая перед врагом, тысячи юношей в гимнастерках — герои первых дней войны. Уже прибалтийские республики были под фашистским сапогом, уже хозяйничали фашисты в Минске, уже к Ленинграду подбирался безжалостный и вероломный враг. Наши войска отступали, переходили в наступление и снова отступали, сражаясь за каждый город, за каждый поселок, за каждый дом… И все-таки вести были страшные, в них невозможно было сразу поверить.
Такой войны, пожалуй, не ждали…
* * *
Газета писала:
«В ответ на наглое нападение озверелых свор германского фашизма на нашу страну, комбайнеры Каахкинской МТС с утроенной энергией взялись за работу. Они обязались быстро и без потерь убрать урожай пшеницы. Все восемь комбайнов МТС, работающие на уборке пшеницы, перешли на круглосуточную работу…»
Так звучало сообщение Туркментага от 27 июня 1941 года, и так оно было на самом деле. Но Тахиров не мог успокоиться. На фронт, туда, где нужна помощь опытных командиров, хотел попасть он как можно быстрее, а за уборкой мог проследить и кто-нибудь другой. На улице райцентра он увидел первого раненого — сержанта, с забинтованным обрубком вместо правой руки.
— Как ты был ранен, брат? — спросил его Тахиров.
— На пути к фронту попали под бомбежку, — хмуро ответил сержант и отвернулся. Тахиров понял его: обидно выйти из строя, даже не увидев врага.
«Да, это уже какая-то другая война, — подумал он. — Каким бы храбрым ты ни был, каким бы умелым ни оказался, случайный осколок металла может вывести тебя из строя, ранить, убить. Для этого используется вся мощь промышленности, все достижения техники. Как же так? Как дошли до этого люди? Почему кучка негодяев может навязать всему миру убийство и разрушение? Почему, объединившись, все народы мира не положат этому конец — раз и навсегда? Наступит ли когда-нибудь такое время? Должно, обязательно должно наступить!»
Но чтобы наступило оно, враг должен быть разбит.
* * *
Наконец-то! Наконец-то дошла очередь и до Айдогды. Совинформбюро каждый день передавало сообщение о кровопролитных боях под Москвой, а в это время в маленьком городке на берегу Амударьи помкомвзвода Тахиров занимался со своими бойцами военной подготовкой. Среди солдат был и Бекназар Хакназаров. Немудрено, что Бекназар обрадовался, попав в его взвод; все-таки знакомое лицо, все будет полегче служить. Но служить под началом «знакомого лица» было вовсе не легко.
Через неделю после начала занятий Тахиров построил взвод.
— Рядовой Хакназаров. Три шага вперед!
Бекназар вышел из строя.
— Сегодня утром вы одевались ровно семь минут. Даю неделю срока — одеваться за три минуты.
Через неделю Тахиров разбудил его посреди ночи.
— Рядовой Хакназаров. Будем проводить с тобой дополнительные тренировки.
Бекназар, уставший за день, едва держался на ногах, глаза у него слипались.
— Товарищ сержант, нет сил. Все тело ломит. Давайте начнем завтра.
— Давай, рядовой Хакназаров, без разговоров. На войне будешь уставать еще больше. Кто тебе там даст поблажку?
Бекназар по команде то одевался, то раздевался, а помкомвзвода смотрел на часы. Хуже всего было с обмотками: раздеваясь, их надо было быстро скатать, а это никак не получалось. Наконец боец совсем обессилел.
— Ладно, — сказал Тахиров, захлопнув крышку карманных часов. — Не совсем то, что надо, но сдвиги есть. Придется мне еще позаниматься с тобою ночами. Ложись спать.
Бекназар залез на нары и заснул раньше, чем голова его коснулась подушки. Поутру он вспомнил слова Тахирова о том, что на фронте поблажек не будет. Да, там ждут их такие испытания, которые трудно даже вообразить. И голодным придется лежать в холодной воде под непрерывным обстрелом, и рыть окопы в твердой как камень земле, и резать колючую проволоку под настильным огнем пулеметов.
А пока по воскресеньям бойцы поднимались задолго до рассвета и за два с половиной часа в полной выкладке преодолевали марш-броском расстояние в шестнадцать километров до аула, а потом работали на полях до поздних сумерек. Последние дни мирного труда! Для многих — последние в жизни…
Возвращаясь, каждый боец брал с собою хворост для полковой кухни.
На тактических занятиях поблажек не давали. Их готовили к войне всерьез, и многим эта суровая учеба спасла впоследствии жизнь. За спиной — пудовый мешок, за плечами — винтовка, противогаз, на поясе — лопатка. За ночь надо пройти по пескам пятьдесят километров и с ходу атаковать позиции врага — пока еще условного.
— Война — это голод, — говорил солдатам комиссар. — Война — это прежде всего мученья, усталость, холод, а уж потом атака. До атаки надо еще дожить…
В день Красной Армии был зачитан приказ Наркома обороны, в котором говорилось, что наступивший год станет годом разгрома фашистской Германии… Настроение у бойцов поднялось. Долго ли будут их держать на учениях, так, глядишь, и война закончится без них?
Но скоро события пошли по-другому. Разгромленные под Москвой полчища снова двинулись на восток. Бои шли на Кавказе, враг бешено рвался за Волгу. Бойцы задавали вопросы, на которые Тахиров ответить не мог. На них отвечал работник штаба капитан Сарыбеков:
— Нас подвели союзники. Им выгоднее, чтобы мы обескровили себя в битвах с немцами. Все хитрят, выжидают…
И снова потянулись изнуряющие дни ожидания, и только к осени пронесся слух об отправке туркменских бригад на фронт. Тогда-то и встретил Тахиров своего бывшего командира, давшего когда-то ему рекомендацию в партию. Теперь Атаев был начальником оперативного отдела бригады.
— Снова придется нам повоевать вместе, — сказал Атаев. — Только немцы — это враг посерьезней басмачей. Будет нам с тобою нелегко…
19 августа бригада стала грузиться.
Посвист ветра и бескрайние пески Каракумов потянулись навстречу эшелонам. Только через Казахстан, вкруговую, можно было добраться до Волховского фронта. Потому что в отчаянных попытках переломить ход войны заняли фашисты Северный Кавказ, водрузив над Эльбрусом знамя со свастикой, и уже черпали котелками воду из Волги.

Прогрохотали под колесами поезда пролеты моста через Амударью. Прощай, туркменский край! Прощай, великая река! Недавно Тахирову довелось переплыть Амударью на лодке — с середины оба берега скорее угадывались, чем были видны, и всем сердцем почувствовал тогда он себя маленькой, но неотторжимой частью этой могучей реки и этих, не достижимых для взгляда берегов. Он почувствовал себя защитником всей земли, и всей воды, и воздуха над этой рекою, и ветра, что гонит тучи над родной степью, и понял, что нет такой силы, которая могла бы сокрушить этот край, пока жив в нем хотя бы один, способный носить оружие человек.
И он поклялся себе, что никогда не попробует этой воды фашистский солдат.
Бухара, Самарканд, Ташкент, бескрайние степи Казахстана… И вот уже к северу повернули поезда. И вот уже русская земля, покрытая снегом, и вот уже мелькают русские ели, не меняющие своего зеленого наряда даже зимой, и с каждой минутой все ближе и ближе война и фронт.
* * *
Станция Крестцы. Эшелон за эшелоном прибывал сюда, рота за ротой сходила по трапам из вагонов.
Моросил холодный дождь. Леса, кругом леса. Порывистый ветер срывает с деревьев мокрые желтые листья, и, кружась, словно нехотя, падают они на землю, устилая дорогу красновато-желтым, мокрым покрывалом. Под валенками хлюпает черная жижа. Снег, еще два дня назад лежавший сплошной белой пеленой, растаял вдруг под дыханием теплого ветра, и все вокруг утонуло в снежно-водяной каше.
Взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном двигались к линии фронта. И знамя бригады приближалось вместе с ними к передовой, еще не обстрелянное знамя, еще не пропахшее порохом войны, еще не овеянное славой… Долгий путь, который предстояло пройти до победы славному знамени 87-й бригады, тоже начинался здесь, под непрерывным дождем, в тишине, нарушаемой лишь мирным шагом проходящих подразделений…
Тахиров вытащил свои карманные часы. Всего двенадцать. Полдень, а так темно. А, это из-за туч: темные, тяжелые, мрачные, они словно поглотили солнце.
Как непохожи были эти тучи на облака, на которые так любил смотреть Тахиров в просторной степи. Сколько раз он любовался ими, стоя на вершине высокой горы: украшением неба, венцом высоких гор, благодетелями степей были там белые легкие облака.
Здесь же словно сама природа оплакивала землю, которую топтали вражеские сапоги, и даже слезы туч взывали к ненависти и мести.
Лес кончился, и потянулись деревни. Люди стояли по обеим сторонам длинной деревенской улицы, люди, чей жизненный уклад был уже затронут войной, кто чувствовал на своем лице ее огненное дыхание. Старики, женщины и дети стояли молча, провожая взглядом обожженные нездешним солнцем лица бойцов, прибывших издалека, чтобы заслонить собою страну от разрушения и смерти.
Взвод за взводом, рота за ротой проходят по холмам, меж которых тускло сверкает гладь Ильмень-озера.
— Дальше Ильменя немец не прошел, — сказал кто-то. Да, Ильмень-озеро, священное место для русского человека, такое же священное, как древний Новгород, в котором уже хозяйничают фашисты. Но только ли русское сердце обливается кровью при мысли о том, что в самом сердце русской земли, среди башен Новгородского кремля слышится лающий фашистский говор? Нет, то же чувствует и сердце туркмена, ибо то, что свято для России, свято и для него, и каждый будет считать эти леса, холмы и перелески порогом собственного дома, оставить который на поругание врагу равносильно измене.
И снова редеют леса. Артиллерийская канонада доносится сюда отзвуками близкого смертельного грома. Стройные сосны по обеим сторонам дороги истерзаны осколками. А вот и деревня, вернее, то, что от нее осталось, — кирпичные трубы, развалины, запах гари.
Здесь уже побывала война.
С каждым шагом все отчетливее и сильней грохот артиллерии, с каждым шагом все ближе война. Все чаще и чаще встречаются сгоревшие села, братские могилы, развалины, обрушившиеся окопы. Раздетые, сожженные леса, обрубки деревьев; словно птицы смерти, клекочут пулеметы, пробивающие недолговечную, неверную тишину.
Каждый хочет вернуться с войны живым, каждый хочет вернуться с победой и потому невольно думает о смерти. Каждый. И разве Тахиров сделан из другого материала? Нет, он такой же, и так же напряженно бьется в его груди сердце, когда он думает о жизни и смерти. «Айдогды, — говорит он себе, — ты вступаешь в смертельный бой! Ты и раньше воевал, но разве стоял перед тобой когда-нибудь такой враг, вооруженный до зубов могучей техникой, танками и самолетами, самонадеянный, коварный и сильный, считавший себя призванным повелевать миром, враг, убежденный в своем расовом превосходстве над тобой и тебе подобными, враг, не знающий ни снисхождения, ни жалости? Ты и только ты можешь остановить этого врага, стать на его пути, только ты можешь помешать ему, и тебя он захочет убить в первую очередь. Но ты не должен думать о гибели, нет. Ты должен ценить свою жизнь, потому что она нужна твоей родине, твоим детям, твоим друзьям, товарищам по великой и беспощадной битве. Твоя жизнь — это смерть для твоих врагов. Поэтому не надо думать о смерти, Айдогды. Все смертны, и жребий этот еще не миновал никого. Но как разнится жизнь от жизни, так и разнится от смерти смерть. Подумай о смерти, Айдогды, подумай о ней в последний раз и забудь навсегда, до того часа и той минуты, пока она сама не найдет тебя, и тогда постарайся отдать свою жизнь подороже. Как сказал некогда Поладов: «Лучше мгновенно сгореть в борьбе, чем сто лет прожить в тусклом ожидании смерти…»
* * *
В полной темноте стоит Тахиров, прислонившись грудью к мерзлой земле бруствера. Ну и погода в этих краях: позавчера шел дождь, вчера пошел снег, а ночью ударил вдруг такой мороз, что все живое попряталось или омертвело, и даже воздух словно закоченел, стал колючим и злым.
Вот она, передовая. До фашистских позиций рукой подать. Их скрывает густая темнота, но они совсем рядом — выйди из окопа, пробеги сто метров, и ты окажешься во вражеских траншеях.
У немцев тишина. И похоже, они не догадываются, что туркменская бригада под покровом ночи в это время заменила на передовой прежних защитников этих рубежей.
Еще темно, но рассвет уже близок. И скорее угадывается, чем видна, линия фронта, прочерченная кривыми зигзагами траншей. Пора. Тахиров крепко обнимает своего старого друга Мамеда Широва, который остается здесь, в боевом охранении вместе со своим отделением.
— До свиданья, брат Мамед. Держись. Держись крепко.
Им известно, что нет на фронте более ответственного и более опасного задания, чем держать боевое охранение. Тем более здесь, где немецкие позиции совсем рядом, много ближе, чем свои, до которых надо пробираться по неглубокому ходу сообщения, тянущемуся посреди ровного поля почти километр.
— Прощай, земляк. Мы не подведем.
Нелегко придется Мамеду, думал Тахиров, возвращаясь из боевого охранения по уже засыпанному снегом ходу сообщения. Надо что-то придумать, ведь днем пробраться тут почти невозможно, разве что ползком, а пока проползешь километр! И никак не выходили из головы последние слова Мамеда, сказанные на прощанье:
«Кто знает, друг, что ждет вас… Если что… напиши домой. Только сам напиши, своею рукой!»
Не должен был думать об этом Мамед. Не к месту такие слова.
Впереди ловко пробирался сержант Иван Бондарь. Парню всего двадцать, а за плечами уже четырнадцать месяцев войны — с самого первого дня. Это его дивизию сменили туркменские части, дивизию, численность которой едва ли превышала численность полка. И Бондарь должен был уйти с передовой, но сам подошел к своему командиру:
— Разрешите остаться, товарищ капитан?
— В чем дело, сержант?
— Да ведь они пока тут разберутся. Я ж тут пузом знаю каждую кочку — ну и ознакомлю, что к чему. Новички же…
Лучшим разведчиком дивизии был Бондарь, другого такого найдешь не скоро. Но не в тыл просился боец — на передовую, как отказать такому?
— А найдешь нас? — только и спросил начальник разведки.
Но согласие дал. И сержант Бондарь Иван остался на передовой. «Вводил в курс дела» — так он это называл.
И все-таки тревога не давала Тахирову покоя. Уж слишком выдвинуто было боевое охранение и слишком слабая была с ним связь — одна нитка провода.
— Товарищ лейтенант, — обратился Тахиров к командиру взвода, лейтенанту Егорову. — Трудно придется охранению, если немцы попробуют их отрезать.
— Не думаю, сержант. Вряд ли немцы обнаружили, что в боевом охранении новые люди. Ведут себя тихо — значит, считают, что все по-прежнему.
Логично рассуждал комвзвода, ничего не скажешь. До сих пор бойцы успешно удерживали позиции боевого охранения, несколько попыток окончились для немцев плачевно. А теперь там одно из лучших отделений, которым командует опытный сержант…
И все-таки неспокоен был Тахиров. Но фронт — это не место для долгих рассуждений.
Не подозревал Тахиров, что на войне тоже может быть уютно и тепло. Но именно таким был блиндаж, согретый чугунной печкой и освещенный светильником из снарядной гильзы.
Спать…
Откуда это поле, покрытое алыми маками? И этот простор, желтый простор дикого клевера, и это синее небо. И почему все в снегу, который падает на цветы, сверкая в ярких солнечных лучах? Снег, едва коснувшись земли, тает, превращается на глазах в пар, становится облаком и стремительно движется в сторону гор, и вот уже сверкают молнии, и могучий гром сотрясает горы, заставляя огромные камни стремительно нестись по склонам, а навстречу им, к верной гибели, беззвучно крича что-то, с винтовкой наперевес бежит Мамед Широв.
«Куда ты, Мамед», — хочет крикнуть Тахиров, но слова его тонут в новом, еще более чудовищном раскате грома.
Проснувшись, он вскочил на ноги. Земля тряслась, с потолка сыпалась земля. Лампа-гильза на столе подпрыгивала.
— Тахиров!
— Слушаю, товарищ лейтенант.
— Оставайся у телефона, а я пошлю помощь второму отделению, — крикнул Егоров и побежал по траншее, на которую дождем сыпались осколки снарядов и мин.
Атака! Но где немцы? Тахиров хотел потянуться за биноклем, и в это время в нескольких десятках метров поднялась волна атакующих немцев в белых халатах. Как могли они оказаться так близко? Но мысль эта мелькнула и пропала, некогда было сейчас думать, надо было стрелять. И как на учениях, Тахиров аккуратно прицелился и потянул спусковой крючок. Он успел заметить, что немец словно споткнулся о невидимое препятствие, а сам уже целился, так же отрешенно, в стремительно приближавшуюся фигуру с автоматом…
«Еще один…»
Немцы накатывали на траншею, словно не думая о смерти. А впрочем, выбора у них не было, как не было у них возможности укрыться в чистом поле.
Тахиров выстрелил, не целясь, и огромный немец, уже вскочивший на бруствер, выронил автомат и рухнул вниз. Бежавший за ним споткнулся и по инерции прыгнул в окоп. Тахиров ударил его прикладом винтовки — но это было все, что он мог сделать. Вот она, смерть!
В тот же миг он увидел бежавшего по траншее комбата с автоматом в руке. Успела помощь! Комбат привел с собой находившуюся в резерве роту автоматчиков, и атака была отбита.
Подробности утреннего боя стали известны позднее. Под покровом ночи немцы миновали боевое охранение и незаметно подобрались вплотную к нашим позициям, скопив значительные силы для внезапной атаки. Сначала наступление было предпринято на левом фланге, а когда на помощь левому флангу пришло подкрепление справа, немцы устремились удвоенными силами на оголившийся участок, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, опоздай комбат хоть на десять минут.
— Враг вполне реально мог прорвать фронт, — говорил на следующий день на партийном собрании майор Атаев. — Комбат Шияхметов, умело использовав находившуюся в резерве роту автоматчиков, сумел уничтожить нападающих, но вы, товарищ Егоров, поддались фактически на уловку врага и чуть было не допустили роковую оплошность.
— Лейтенант Егоров имеет отличные оценки по тактике, — заступился за комвзвода Шияхметов.
— Верю, товарищ капитан. Егоров действовал так, как его учили на занятиях. Но немцы тоже не дураки и, как мы видели, правильно учли эти чисто теоретические действия.
— Мы были уверены в боевом охранении, товарищ майор.
— Мы никогда не узнаем, что случилось с боевым охранением, — жестко сказал Атаев. — Все отделение во главе с сержантом Шировым погибло при атаке немецких автоматчиков. Эти бойцы искупили свою вину. Но с этого момента, — голос майора стал еще жестче, — с этого момента я требую, чтобы боевое охранение полностью выполняло свою задачу.
В тот же день по решению партийной организации командиром группы боевого охранения был назначен старший сержант Айдогды Тахиров.
* * *
Снег был глубок, и Бондарь только удивлялся, как это он ухитряется каждый раз ползать так быстро. Оказывается, правду говорят, что нужда заставит — всему научишься, и если не захочешь, чтобы нашла тебя вражеская пуля, то научишься ползать так, словно ты никогда в жизни не ходил выпрямившись. Бойцы посмеивались: «Смотри, Иван, не превратись в варана за время войны». И хотя Бондарь смеялся вместе со всеми, ползать он все-таки не любил. Лучше всего было двигаться перебежками, но командир разведки, отпуская его, взял с сержанта слово, что рисковать жизнью он не будет. «Ты, Иван, нужен мне до самого конца войны».
Потому и ползет Бондарь, таща за собою большую пустую канистру, ползет по глубокому рыхлому снегу, словно так и положено человеку ползать по родной земле.
А ползет он к роднику за водой. Какие бы ни были холода, бьет этот родник из-под земли и не замерзает. И что не менее удивительно — не течет никуда, тут же пропадает. Сколько себя помнит Бондарь, всегда бил этот прозрачный ключ. Но хотя сам он и родился здесь, и коров пас, и в школу ходил, ни он, никто другой в деревне не знал, что ключ-то не простой, а целебный. Это уж врачи в госпитале обнаружили. Вот и ползает сержант Бондарь по доброй воле каждую ночь к источнику за волшебной этой водой. Никто его об этом не просит, он сам надумал. И похвалы он никакой не ждет. Наоборот, командир роты ругается: «Ты кто, Иван, разведчик у меня или водонос?».
Ракета! Она взвилась, мертвенным белым светом осветив все вокруг, и Бондарь вжался в землю. Давно уже охотятся за ним фрицы, никак, поди, не могут понять, что это он ползает туда и обратно. Сколько осветительных ракет потратили, сколько снарядов, мин и пуль. Только напрасно стараются фашисты — им ли поймать разведчика, родившегося в этих местах. И снова ползет Бондарь к роднику, заставляя немцев ломать голову — из-за чего человек может рисковать жизнью. Не из-за воды же на самом деле, вон вокруг снега сколько, растопи и пей, да и Ловать под боком.
Пусть подумают фрицы перед смертью, авось поумнеют.
Да, никогда не замечал Бондарь, каким разным может быть снег. Лучше всего, конечно, когда он свежий и рыхлый — тогда ты не ползешь сквозь него, а словно плывешь. Одно удовольствие. Но беда, когда он замерзает, когда становится колючим и твердым, словно раскаленными иглами впивается в кожу. Сколько раз бегал здесь Иван до войны, и ни разу не пришло ему в голову лечь и проползти хоть десять метров. Сядет, бывало, на сани и мчится с высокого берега до самой реки, вздымая белые клубы снега. О лыжах только мечтать приходилось; попробовал, было, прокатиться на самоделках, да понял, что лучше пешком топать.
А какая красота была здесь летом! Как буйно росли цветы и травы! Никто в селе, даже учитель ботаники Иван Васильевич не мог назвать всех трав и цветов, даже столетняя бабка Михайлиха и та не знала.
Тахиров всегда сам следил за вылазками сержанта, чтобы в случае чего прикрыть его огнем. До чего же ему нравился Иван Бондарь! Эх, будь все бойцы такими, как он, и горя бы не знали. Можно было бы воевать. Настоящий джигит, прямо из сказки — хладнокровный, смелый, решительный и в то же время совсем не безрассудный. Последнюю корку хлеба переломит пополам, последнюю горстку махорки поделит. И все это — просто, словно так и надо, словно так на роду ему было написано по десять раз на дню рисковать собою. Пятнадцать месяцев воюет сержант Бондарь и ни одной награды не получил. И ничего, не обижается. Смеется. «До Берлина, — говорит, — еще далеко. Успею».
Таким людям, как Бондарь, Тахиров завидовал от всей души.
«Хорошо нас готовили к фронту, ничего не скажешь. Вроде бы все было предусмотрено. Только вот опыта войны никакая подготовка заменить не может. Надо самому все увидеть, пережить и прочувствовать, только тогда поймешь, что такое война. Но многие выбывают из строя на второй, на третий день. Раненые, убитые… Так и не успев понять, что же такое война, так и не успев убить ни одного врага, погибают бойцы. Как Мамед Широв. Часто в последнее время думал о нем Тахиров. Все вспоминал его последние слова. Как жаль, что погиб он, хороший мог боец получиться. Уже и опыт был, и службу знал, и с людьми находил общий язык. Что случилось тогда? Никто уже не узнает. Наверное, фашисты пронюхали все же о смене частей и воспользовались этим, ударили внезапно. Есть ли вина Мамеда в том, что захватили их немцы врасплох?
Только сам Мамед мог бы рассказать о том, первом и последнем в его жизни бое с фашистами. Мамед или кто-нибудь из тех десяти, что были вместе с ним. Но не расскажут они — все погибли, все до одного. Как сказал Атаев, смертью они искупили свою вину? Значит, были в чем-то виноваты? Хорошо еще, что не обвинили их в трусости. Есть люди, которые готовы даже мертвого судить, если, по их мнению, он не проявил достаточно героизма.
Вчера тяжелое ранение получил Ораз Ахмедов. Снайпер, да еще какой — из обычной винтовки стрелял без промаха, словно заговаривал свои пули. Уползал на рассвете, возвращался в темноте. Молча закоченевшими руками доставал гильзы. Одну, две, три. Сколько гильз — столько выстрелов, сколько выстрелов, столько подбитых фрицев. Теперь он надолго вышел из строя, а как оформлять на него наградной лист? Сарыбеков сказал: «Я этих его убитых немцев не видел. А гильзы любой может насобирать». Что ж, ему немцев с того света к наградному листу прикалывать?
Двадцать четыре гильзы остались в блиндаже у комбата.
Вот уже сорок дней воюет Тахиров. Много это или мало? Но разве в днях дело? За сорок дней не раз и не два стоял он, сняв ушанку, над свежей могилой бойца. Постоянный обстрел наносил большие потери, особенно новобранцам. Молодые парни, им бы жить да жить, пахать землю, возводить дома, обнимать жен. Но они ложатся в мерзлую землю на берегах Ловати, и только потому, что немцы решили завоевать себе побольше жизненного пространства.
С каждым днем ненависть к фашистам все больше овладевала бойцами. Проходил первый страх, появлялся первый опыт, и уже приходилось отказывать тем, кто сам просился в боевое охранение. Хотя и знали, что там опаснее всего и раненых оттуда приносят чаще. Тахиров вел записи: каждые три дня или убивали кого, или уносили в тыл с тяжелым ранением.
Почему не награждать медалью каждого, кто был здесь ранен?
Зазвонил телефон. Тахиров взял трубку, выслушал внимательно.
— Товарищи бойцы. Одному из нашего подразделения будет вручена медаль «За отвагу». Я хочу, чтобы вы сами решили, кого следует представить к этой награде.
Первым взял слово Чакан-ага, самый старший по возрасту. Старший — это значит лет сорок, но выглядел Чакан-ага совсем старым. Весь седой, и усы, и борода, и ежик на голове, словно из серебра. Из Кушки, самой южной точки страны был родом Чакан-ага, но холод любой переносил лучше всех, словно и не замечал его. «Это потому, что в детстве не знал я, что такое обувь, — объяснил он. — Чуть не до свадьбы ходил босым и снегом каждый день умывался».
Теперь он сказал:
— Думаю так. Пока из мужчин никто особо не отличился. Воевали, как и положено воевать. Но среди нас есть девушка. Она воюет наравне с нами. Она заслуживает медали.
Тахиров заметил, как вспыхнули щеки санитарки Соны. Молодец, Чакан-ага. Но Сона, хоть и обрадовалась похвале, да еще от такого уважаемого человека, как Чакан-ага, в поблажках не нуждается. Поэтому она говорит:
— За то, что сражаются наравне, медалей давать не надо. Каждый из нас мечтает о подвиге. И если бы спросили меня, то я бы назвала Рахима. Сама видела, как вчера во время атаки возле самого пулемета упала граната, а Рахим схватил ее и бросил обратно.
Тут уже покраснел Рахим. Кому не приятно, если похвалят. А если это делает такая девушка, как Сона… Строго держит себя Сона, никому не отдает предпочтения, не смотрит даже ни на кого. И на Рахима не смотрит, хотя он парень хоть куда — и красив, и смел. Могла бы и обратить внимание. А может быть, она скрывает свой интерес, подумал Тахиров. Может быть, суждено этим двоим именно здесь, среди огня и смерти найти свое счастье.
— Можно сказать?
Рахим встает — рот до ушей. Он уже получил свою награду — ласковый взгляд Соны. Он сейчас готов обнять весь свет, готов сразиться с целой немецкой ротой.
— Разве трудно бросить гранату, если она валяется рядом, — говорит он. — Это каждый бы сделал. А вот Чакан-ага выполз из траншеи и забросал гранатами немецкий пулемет.
— Похоже, придется поставить вопрос на голосование, — и мудрый Чакан-ага посмотрел на командира. — Есть среди нас один человек, который все о других хлопочет, а о себе никогда не вспомнит.
Не умеешь ты хитрить, Чакан-ага.
— Не будем, я думаю, голосовать, — сказал Тахиров. — Я думаю, все согласятся, что погибший вчера наш товарищ Мурад Аманов заслужил эту награду…
Переведенный из бригадной газеты на передовую Гарахан Мурзебаев не принимал участия в этом разговоре. Более того, всем своим видом он показывал, насколько равнодушно относится он ко всем медалям на свете. Он до сих пор не мог примириться с тем, что редакция направила его сюда, ведь, по его мнению, те, кто остались, не были ни на что пригодны. С другой стороны, он надеялся, что пребывание на передовой, особенно в боевом охранении, даст ему возможность свысока поглядывать на остальных сотрудников, как только он отсюда вернется. «Стихи, сложенные на передовой, стоят в десять раз больше безграмотных виршей, которые вы тут выдумываете» — так он сможет говорить отныне. Самым неприятным было для него то, что он попал под командование Тахирова. «Вот уж поистине судьба, и за тысячу километров от дома не могу оторваться от него».
И все-таки он не мог не высказать своего мнения.
— Аманов погиб, — сказал он. — А мертвому зачем награды. Надо живых награждать, чтобы воодушевлялись еще больше.
— У него есть сын. И у него есть жена. И они ждут вестей о нем. Пусть знают, как воевал их отец и муж.
— А я считаю, что награждать надо только живых, — упрямо сказал Гарахан. — У всех есть жены и дети тоже. А мертвому все равно.
— Но живым не все равно, — ответил хмуро Тахиров и подбросил дрова в печь. — И тем, кто остался, тоже не все равно. Подумай, и ты поймешь это, Гарахан.
* * *
Майор Хильгрубер достал из портфеля бутылку и поставил на стол.
— Вы, кажется, тоже воевали во Франции, гауптштурмфюрер? Надеюсь, эта бутылка «Наполеона» поможет нам вспомнить те прекрасные дни.
Командир батальона СС гауптштурмфюрер Шустер был не из тех, кого надо приглашать к коньяку дважды. Уже давно забыл он даже вкус настоящего коньяка.
— Благодарю за подарок, господин майор. — Рукой, чуть подрагивающей от нетерпения, он стал разливать вязкую темно-коричневую жидкость. — Франция… Разве такое можно забыть. Какие женщины, господин майор, не правда ли? Золотое время. Не посетуйте, что наливаю в стаканы, рюмок здесь не найти. Про́зит!
Стакан с коньяком почти утонул в его огромной ладони. Майор посмотрел на покрытые рыжеватыми волосками руки гауптштурмфюрера и вздрогнул: настоящие руки мясника.
— Прозит, гауптштурмфюрер.
Шустер не пил, а впитывал в себя содержимое стакана. С каждым глотком давно забытое ощущение огнем разливалось по телу.
Майор сделал небольшой глоток.
— Прекрасный напиток, не так ли?
Шустер кончиком языка облизал край стакана.
— Если бы вы знали, что нам тут приходится пить. Разрешите…
И он, не церемонясь, налил себе еще.
— Конечно, конечно.
Шустер вызывал в майоре Хильгрубере отвращение, которое надо было скрыть во что бы то ни стало.
Он бросил на гауптштурмфюрера изучающий взгляд. Могучие плечи, мощная шея, светлый бобрик прически. Настоящий ариец, ничего не скажешь. Он знал уже, что Шустер отличился в Белоруссии при проведении карательных операций по «умиротворению» края, именно там получил он железный крест первой степени.
А впрочем, майора Хильгрубера эти дела не касаются. Он не желает даже слышать об этом. Война в конце концов не обходится без жестокостей, и если кому-то положено выполнять грязную работу, то, конечно, разумней всего, чтобы этим занимались такие, как гауптштурмфюрер Шустер, способный выполнить любой приказ.
А он, майор Хильгрубер, интеллигент в четвертом поколении, полиглот и ценитель прекрасного?
Он тоже готов выполнить любой приказ. Но это будет
другой приказ. Что ж, люди СС выполняют свой долг перед фюрером, а если у них еще не выработались изящные манеры, пусть об этом печется их шеф рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Лицо Шустера постепенно наливалось кровью.
— Я так и не понял, г-господин майор, кой черт занес вас из Берлина в эту вонючую дыру?
— Мне нужна ваша помощь, гауптштурмфюрер.
— За бутылку такого коньяка, майор, я готов предоставить весь свой батальон в ваше полное распоряжение…
Тонко улыбнувшись, майор достал из портфеля вторую бутылку.
— Договорились, — сказал он.
* * *
Трудно представить, что стало бы с девяноста шестью тысячами немецких солдат, вот уже более года сидевших в «демянском котле», если бы отчаянным усилием генерал Зейдлиц не пробил из Старой Руссы узкую дорогу. Дорога эта, находившаяся под непрерывным артобстрелом Красной Армии, была той спасительной, хоть и часто прерывающейся артерией, которая не дала немецким дивизиям просто умереть с голоду, при том, что все конское поголовье давно уже нашло свой конец в полевых кухнях.
Дорога шла через районный центр Рамушево и потому носила название «рамушевский коридор», и вот в этот-то коридор и попал, в целях усиления позиции, особый батальон СС, которым командовал Шустер. И хотя, казалось бы, условия здесь были много тяжелее, чем в Белоруссии, у солдат, попавших на передовую, было отмечено повышенное настроение — и это несмотря на жестокие холода и плохое снабжение.
«Солдатам надоело воевать с бабами» — так объяснил этот поразительный факт командир второй роты штурмфюрер фон Викке.
Гюнтер фон Викке говорил, что взбредет в голову, и явно не боялся, что кто-нибудь из сослуживцев, как этого и следовало ожидать, донесет на него. Он не боялся. Службу он знал хорошо. Дважды уже был ранен, а от возможных неприятностей был огражден дядей-генералом.

Гауптштурмфюреру Шустеру не нравился Гюнтер фон Викке. Впрочем, ему вообще мало кто нравился, и меньше всего на его благосклонность могли рассчитывать так называемые интеллигенты, склонные корчить из себя великих умников. Для майора Хильгрубера, явно принадлежавшего к этим же умникам, гауптштурмфюрер временно сделал исключение как ввиду неисчерпаемых, похоже, запасов французского коньяка, так и потому, что майор привез хорошую новость: Шустеру доверено проведение важной операции, результатов которой с нетерпением ожидают в Берлине «на самом верху», как изволил выразиться майор. Прекрасно. Наконец-то можно сделать что-то такое, о чем заговорят наверху, пусть даже и не на самом. «Рыцарский крест»? А почему бы и нет? Итак?
— Господин гауптштурмфюрер. Что вам известно о частях, занимающих позицию севернее «коридора»?
— А… вы об этих… азиатах? Мы готовим против них операцию.
— Я хотел бы узнать, какими точными сведениями вы располагаете об этой части?
— Не понимаю вашего интереса к этим обезьянам, майор. Они прибыли на фронт чуть больше месяца назад в составе восемьдесят седьмой особой туркменской бригады. Бригада, как нам стало известно, формировалась где-то в глухой провинции Центральной Азии под названием Туркменистан. Трудно даже представить, что есть на земле такое место. Кроме того…
И Шустер продолжал свой короткий рассказ, передав майору все сведения, собранные о туркменской бригаде разведкой.
Сведений этих было, увы, совсем немного. К сожалению. Что касается местоположения Туркмении, то специалист-тюрколог, майор Хильгрубер, закончивший в свое время восточный факультет университета, мог бы сильно просветить гауптштурмфюрера Шустера, но стоило ли метать бисер перед такой свиньей?
Впрочем, и сам Хильгрубер начал заниматься проблемой Туркменистана совсем недавно, а если уж быть точным — восемь месяцев назад, когда начальником отдела «Иностранные армии Востока», к удивлению многих, был назначен незаметный доселе подполковник Рейнгард Гелен.
* * *
Подполковник Рейнгард Гелен согласился принять назначение на пост начальника отдела «Иностранные армии Востока» весной 1942 года, и уже через несколько недель сотрудники поняли, что спокойной жизни, которую они вели при предшественнике Гелена, полковнике Кинцеле, пришел конец.
Летом 1942 года майор Хильгрубер, считавшийся сотрудником четвертого сектора и занимавшийся на этом основании сбором разведданных по Балканам, был вызван к Гелену.
— Вы, оказывается, тюрколог, доктор Хильгрубер. Как получилось, что вы занимаетесь Балканами?
— Разве фюрер не сказал: «Азиаты будут уничтожены»?
— Вы плохо поняли, майор, о чем говорил фюрер. Они будут уничтожены. Но
пока, — он выдержал паузу, — пока этого еще не произошло, а потому вам, майор, придется с ними повозиться. Я поручаю вам внимательно изучить и систематизировать материалы, касающиеся Средней Азии.
Да, старому «архивариусу» Кинцелю и не снилось того, что задумал немногословный подполковник, впрочем, с 1 июня 1942 года уже полковник Гелен. С четкостью автомата и с помощью искусно подобранных сотрудников он запустил машину шпионажа, которая со временем оказалась не менее, а может, и более могущественной, чем все подразделения подобного рода, которые знала Германия. У полковника Гелена было много
идей, и одной из них была идея о создании вооруженных отрядов из представителей тех порабощенных народов, которые захотели бы с оружием в руках сражаться против своей родины.
25 ноября 1942 года доклад, содержащий все аспекты этого вопроса, был полностью разработан и подан высшему командованию абвера.
Ибо чем дальше отодвигались сроки «окончательной победы германского оружия», чем очевиднее затягивалась «молниеносная война», тем весомее становились доводы сторонников гибкой политики. И даже сам Адольф Гитлер, в июле 1941 года заявивший, что «железным законом должно быть следующее: никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев», и что «только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казах и не украинец», даже он все чаще принужден был закрывать глаза на то, что его же собственные подручные нарушают этот «железный закон».
Однако Гелена, когда он начал воплощать в жизнь задачи, столь перспективно выглядевшие на бумаге, ожидали некоторые сюрпризы. Если не считать ярых националистов, связавших свою судьбу с немецкой разведкой еще до войны, если не считать морально сломленных и разложившихся людей, чья ценность была весьма невысока, — то азиатов, согласных обратить оружие против родины, оказалось ничтожно мало. Погибая в концлагерях, под чудовищными пытками, люди предпочитали смерть и мучения и отвергали измену и предательство, несмотря ни на какие посулы; даже эмигранты, эти, казалось бы, естественные союзники рейха далеко не всегда соглашались работать на немцев.
Идея создания «Туркменского легиона» также принадлежала начальнику отдела «Иностранные армии Востока». Но что это был за «легион»! Майор Хильгрубер, непосредственно занимавшийся им, знал, что он состоит из разного рода эмигрантов, покинувших родину по тем
или иным причинам сразу после революции. Как боевая единица этот легион не был годен ни на что, его можно было использовать только для пропаганды — и именно эту задачу поставил начальник отдела перед майором, отправляя его на фронт.
— Вы должны выехать на участок, где расположена так называемая туркменская бригада. Это воинское подразделение еще не участвовало в серьезных боевых операциях и поэтому, как вы сами понимаете, является, возможно, одним из слабых звеньев на данном участке фронта. По договоренности с верховным командованием сухопутных сил на этом участке будет проведена специальная операция, цель которой захватить как можно больше пленных. Среди них вы должны найти нескольких или, на худой конец, одного авторитетного офицера или политработника, известного и пользующегося уважением в этом туркменском подразделении. Ваша задача: любыми методами вступить с ними в контакт и добиться их согласия на сотрудничество с нами. Вы поняли, господин майор?
— Так точно, господин полковник. Любыми методами.
— Вы плохо поняли, майор. Ударение на слове «сотрудничество». Если вам это удастся и тот, кого вы найдете, окажется таким, что его можно будет действительно выдать за представителя туркменского народа, организуйте его выступление по радио. Он должен обратиться к своим соотечественникам и как минимум деморализовать их. Понятно?
— Так точно, господин полковник. Один вопрос…
— Я слушаю вас.
— Он касается «железного закона фюрера».
Гелен нахмурился.
— Запомните, господин майор, в моем отделе имеют будущность только те сотрудники, которые способны читать между строк, проникнуться не только буквой, но и духом любого документа. Закон фюрера, гласящий, что низшим расам не следует доверять оружие, является, как вы понимаете, абсолютным принципом. Но для того чтобы воплотить дух этого принципа, для того чтобы увековечить его применение, мы можем в чисто тактических целях и на ограниченное время позволить себе отклониться от него, если это приблизит нашу окончательную победу. После того как цель будет достигнута, мы ни на волос не отклонимся от железного закона фюрера. Низшие расы снова вернутся в каменный век и забудут не только об оружии, но и о том, что на свете существует велосипед. Их уделом станет непрерывный труд, и работать они будут самыми примитивными орудиями. Но это в будущем. Сейчас же мы должны часть туземного населения поставить на службу рейху, и если возникнет необходимость, дать им оружие.
— До конца ли мы учитываем психологию этих народов, господин полковник? Ведь мы не скрывали и не скрываем, что считаем их низшей расой, неполноценными. Согласятся ли они с этой участью? Согласятся ли на таких условиях сотрудничать с нами?
— В этом вся трудность, господин майор. Именно поэтому мы вынуждены обещать им, после нашей окончательной победы разумеется, «национальную независимость».
— И мы выполним обещание?
— Нет, господин майор. Этого обещания мы не выполним. Мы обманем их. Но разве обман низшей расы противоречит нашей нордической морали? Нет. Моральные нормы присущи лишь отношениям полноценных людей.
* * *
Тишина. Давящая, тяжелая тишина, от которой звенит в ушах. Тишина такая, что даже заяц не выдержал, выскочил откуда-то из редких кустов и ошалело поскакал, петляя, к лесу. Заяц рисковал своей заячьей жизнью, но на этот раз никто не стрелял, хотя обычно не было недостатка в желающих поупражняться в стрельбе по живой мишени. Так, недавно досталось кабану, черной лохматой громадине, который вздумал перебежать на немецкую сторону; кабан остался лежать прямо посредине нейтральной полосы, а ночью Бондарь, уж неизвестно и как, ухитрился притащить его на кухню. Почему дикие животные не уходят отсюда, несмотря на грохот выстрелов и взрывов? Или и им присуще чувство своей земли, которую они не хотят покидать, несмотря на подстерегающую их гибель? Так или иначе достаточно было на передовой и зверей и птиц.
Тишина. Странная тишина, и она не нравится Тахирову. Он стоит и думает о зверях и птицах, об их жизни в этом выжженном и разоренном войною крае, но в то же время он всем своим существом врос в то, что происходит вокруг, и тишина эта, такая неестественная на войне, тревожит его все больше и больше. Что-то здесь неладно. Так тихо бывает перед бурей. Как любит говорить комбат, фашисты — вояки пунктуальные. В это время они обычно не давали головы поднять. Если они изменили своим правилам, этому есть какая-то причина. Что они задумали? Наступление?
— Товарищ сержант, вас к проводу.
Тахиров прошел в блиндаж и взял трубку.
— Слушаю.
— Это я, второй, — услышал он голос комбата. — Как обстановка?
— Без изменений, товарищ второй.
— У нас здесь был первый. Ему не нравится тишина. Что можете сказать?
Теперь Тахиров уже не сомневался, что со стороны немцев что-то затевается. Если Атаев, а он и был «первым», что-то почуял, — значит, надо ожидать событий. Будь он в блиндаже один, он поделился бы своими мыслями с командиром батальона, но в блиндаже отдыхали те, кому через час придется заменить на боевом посту товарищей, и при них выражать свои опасения Тахирову не следовало. Поэтому он ограничился тем, что повторил:
— Товарищ второй! У нас как всегда нормально.
Комбат помолчал.
— Может быть, сменить вас, а? Давненько вы там сидите.
Сменить? Честно говоря, Тахиров и сам не прочь был бы хоть немного отдохнуть в «тылу» — на передовой линии батальона, и дело было вовсе не в том, что здесь, в боевом охранении, люди рисковали больше всего. Надо было — и они исполняли свой долг, и, без сомнения, будут исполнять его сколько потребуется.
Но тут было и другое. И это другое высказал как-то невзначай Чакан-ага.
— Справедливость должна быть, — сказал он. И тут же, словно опасаясь, что его поймут неправильно, добавил: — Джигит, который боится смерти, достоин презрения. Есть люди, готовые пожертвовать собою для других в любую минуту. Вот Бондарь — такой человек. Я думаю, и все мы здесь такие. Но должна существовать справедливость…
Тахиров и сам знал, что бойцы устали от бесконечного напряжения. Надо что-то делать, какие-то изменения и правда нужны. Лучше бы всего, конечно, отдых.
Но говорить об этом сейчас, при бойцах, он не хотел и поэтому ответил комбату:
— Вас понял, товарищ второй. Доложу об этом завтра.
Но сидевший рядом Гарахан услыхал слова комбата и закричал:
— Хорошая новость! Комбат приказал нас заменить!
Теперь Тахирову не было смысла откладывать разговор.
— Товарищ второй, — сказал он в трубку. — Я сам здесь останусь еще немного, а бойцы сейчас решат. Разрешите позвонить вам через час и сообщить список тех, кто желает смениться.
— А сейчас, на месте не можете этого решить?
Тахиров обратился к бойцам:
— Кто из вас хочет смениться?
— А ты сам что решил? — спросил Чакан-ага.
— Я останусь здесь.
— Рахим, а ты как?
Рахим посмотрел на Сону и торжественно, словно клятву, произнес:
— Остаюсь.
— И я остаюсь, — сказал Чакан-ага.
Это и было то, что Чакан-ага называл справедливостью, — их давно пора было сменить, и им предложили смениться. А вот теперь они решили остаться — сами, потому что стыдно показать, что ты устал больше других, да война и не место для отдыха. И даже Гарахан, чье сердце сжималось от страха, не хотел в этом признаться. И ему потребовалось, может быть, самое большое мужество, чтобы скрыть постоянно терзавший его страх и на вопрос, что он решил, ответить: «Остаюсь».
* * *
«Война — мать всего сущего, а также всех нас, война нас создала, закалила и укрепила». Так писал Эрнст Юнгер, единственный писатель, которого признавал гауптштурмфюрер Шустер. Все остальные писатели были просто бабы, не имевшие о войне никакого представления и по одному этому не заслуживавшие никакого внимания. Но этот Юнгер — парень хоть куда. Он прав — лишь война способна решить мировые проблемы. Кто силен, тот и прав.
Подумав так, Шустер отложил книгу, потому что даже своего любимого Юнгера он не мог читать помногу.
Увидев на столе сочинения этого писаки, майор Хильгрубер улыбнулся краешком губ: чтение как раз для таких, как Шустер, и, небрежно отодвинув книгу на край стола, развернул карту:
— Ну, давайте поколдуем, господин гауптштурмфюрер.
От Шустера не ускользнуло пренебрежение, с которым майор посмотрел на его любимую книгу. Но виду он не подал.
— Смотрите, господин майор. Видите? Вот здесь, севернее деревни Вас-си-ли-щи? Здесь, у подножья высоты, где расположена наша передняя линия, находится выдвинутый вперед вражеский пост. Его охраняет примерно одно отделение. По нашему плану рота штурмфюрера фон Викке должна незаметно окружить этот пост и через радиоустановку предложить окруженным сдаться. Если большевики захотят спасти окруженных, им придется действовать, а для этого им необходимо вывести своих солдат в открытое поле. Видите, какая широкая здесь нейтральная полоса? Подразделения русских, идущие на помощь по голому полю, найдут здесь свою смерть. Мы надеемся существенно ослабить в этом месте русские позиции и тогда силами всего батальона ударить по ослабленному флангу.
Майору Хильгруберу план операции понравился. Недурно, совсем недурно. Кажется, этот бывший мясник превратился в профессионального солдата. Вот только психология… Сам-то Шустер, конечно, был уверен в своем плане.
— А вы учли, гауптштурмфюрер, что окруженные русские могут не захотеть сдаться в плен и продолжать сражаться, даже под угрозой смерти?
— В моем плане, господин майор, учтено все. Какими бы ни были фанатиками эти большевики, они же не полные идиоты. Как только они убедятся, что помощи ждать не приходится, они сдадутся. Тем более эти ваши туркмены.
Хильгрубер поморщился.
— Возможная недооценка действий противника — одна из самых тяжелых ошибок, не так ли, гауптштурмфюрер? Я нисколько не сомневаюсь в достоинствах вашего плана и не сказал бы ни слова, если бы… если бы мы вели с вами этот разговор не в России. Здесь всегда надо помнить о возможных случайностях. К примеру, о большевистских фанатиках. Один такой фанатик, лежащий у пулемета, может порой заменить целый взвод.
— Именно поэтому, господин майор, мы выделили для этой операции целую роту.
— Хорошо, — сказал майор. — Желаю успеха.
— Считайте, что они у нас в руках, — ответил Шустер.
* * *
Майор Хильгрубер наблюдал за ходом операции в бинокль. Все шло гладко, точно по плану. Роте эсэсовцев, одетых в маскировочные халаты, удалось без единого выстрела окружить боевое охранение. Любо-дорого было смотреть, как ловко провели этот маневр автоматчики, почти неразличимые на белом снегу.
Награды наградами, но на передовой штурмфюрер Гюнтер фон Викке оказался впервые. То, что было до сих пор, вся эта тяжелая и неблагодарная борьба с партизанами, с этими бандитами, не имеющими никакого представления о воинском искусстве, воспринималась как необходимая, хотя и неприятная ему, профессиональному военному, дань приказу фюрера об обеспечении порядка. Никакого удовольствия от вида сожженных сел и плачущих русских крестьянок он не получал.
А вот теперь — настоящее дело. Штурмфюреру было двадцать пять лет, и давно, давно уже он готовился к воинским подвигам, к борьбе с коварным и хитрым врагом, может быть, с того самого дня, когда дед-генерал взял его на руки и сказал: «Вот кому предназначено продлить славу знаменитого рода фон Викке. Я чувствую, что в нем течет кровь героя». И Гюнтер фон Викке поклялся не посрамить этого предсказания. Любимой его книгой были рассказы о подвигах Ганнибала и Александра Македонского, заветной мечтой — воинская слава.
Гюнтер фон Викке с малых лет проникся убеждением, что настоящим мужчиной, тем более настоящим немцем может стать лишь тот, кто проверил себя в огненном горниле войны. Поучения деда-генерала еще более укрепляли его в этой мысли. «В войнах решается судьба народов, — говорил старый пруссак. — Кто знаком с историей человечества, тот знает, что все великие имена — это имена полководцев, покорявших города и страны. Кто был Александр Македонский до того, как во главе своих железных фаланг завоевал большую часть мира? Ничтожный царек, о котором сейчас никто бы не вспомнил. Будь он жалким гуманистом, поддавайся он жалости, проповедуй он идеи мира, его имя так и осталось бы забытым навсегда, кануло бы в темные воды вечности. Война — естественное состояние человечества, а воин — венец творения и цвет нации».
Штурмфюрер лежал рядом с солдатами, разглядывая едва заметные очертания передового поста противника. Сколько раз за последние дни он рассматривал эти траншеи в бинокль. Ему казалось, что он стал даже узнавать в лицо некоторых красноармейцев. Правда, сверху, с наблюдательного пункта, все это выглядело несколько иначе. Там ровное снежное поле не казалось таким огромным, как теперь, когда его надо было преодолеть под пулями. Но что из того? Штурмфюрер фон Викке был наконец-то счастлив. Ибо для настоящего воина нет выше наслаждения, чем исполнять свой воинский долг.
И роковая минута приближалась. Сейчас… еще немного.
Секундная стрелка резво бежала по кругу. Сейчас. Сейчас он поднимет роту в атаку. И тут же без всякой связи штурмфюрер вспомнил, что десять — пятнадцать единиц запланировано «в расход». Почему он вдруг вспомнил об этом? И зачем? Не все ли равно, кого именно сразит вражеская пуля? И вдруг бессмысленным и глупым показалось ему и само это планирование, и этот глупый термин — «единица». Ведь таким образом предполагалось, что и он, потомственный аристократ, и какой-нибудь рядовой…
Секундная стрелка коснулась двенадцати. Штурмфюрер поднял ракетницу и нажал спусковой крючок…
* * *
Телефон молчал. Связь прервана. Что случилось? Разрывов никаких не было. Почему же нет связи?
Тахиров положил трубку подчеркнуто спокойно, хотя уже был почти уверен, что это не случайный обрыв. Случилось, наверное, то, чего надо было всегда опасаться: под покровом ночи немцы окружили боевое охранение и отрезали его от наших позиций. Теперь оставалось только ждать атаки. В лоб они атаковать не будут, не дураки под огнем идти через ровное поле. Значит, с флангов. Значит, маскируясь во впадинах, заползли слева и справа и перерезали телефонный провод.
Тахиров встал и, притворно потянувшись, вышел из землянки. Сейчас главное не показывать волнения и беспокойства. Все так же неторопливо он подошел к бойцам, охранявшим правый фланг: Гарахан, засунув руки в рукава шинели, как в муфту, и прижимая к себе автомат, стоял неподвижно, чутко прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Он мелко дрожал от холода. Тахиров ободряюще похлопал его по плечу — молодец, мог бы сказать он, хорошо стоишь на посту, а что до холода, то скоро, очень скоро здесь будет куда как жарко. Но ничего не сказал. Так и должен стоять на посту боец. «Все мы словно в одной лодке, плывущей по бурному морю. Живым можно остаться только думая обо всех, а не о себе».
Из темноты как всегда бесшумно появился Чакан-ага. Шепнул:
— Немцы в тылу.
— Занять круговую оборону, — так же шепотом ответил Тахиров.
Нет, недаром почти каждую ночь проводились учебные тревоги на случай неожиданного нападения противника. Сегодня отбоя не будет — это все поняли по тому, как Тахиров, обойдя каждого, крепко сжимал рукою плечо и уходил по траншее дальше. И по мертвой тишине вокруг, и по торжественному, суровому виду своего командира все поняли и почувствовали всем существом, что настал час испытания.
Красная ракета взвилась, осветив снежное поле, и одновременно с нею, словно из-под земли заговорил громкий жестяной голос:
— Вы окружены. Сдавайтесь. Обещаем вам свободу и хлеб.
И в ту же секунду Тахиров скорее почувствовал, чем увидел, что немцы поднялись в атаку.
— Огонь, — скомандовал он.
Траншеи хлестнули огнем. Немцы залегли. И снова закричал громкоговоритель.

«Странно, — подумал Тахиров. — Что бы это могло значить? Зачем они затеяли эту игру? Ведь не думают они, что мы поднимем руки и выйдем к ним сдаваться. Могли бы просто подавить нас огнем артиллерии. Вместо этого они кричат в свою трубу…»
Лейтенант Егоров, проснувшись от первых же выстрелов, схватился за бинокль. А, черт, не видно. Что там у них, в охранении?
— Телефонная связь прервана.
Егоров позвонил командиру роты:
— Разрешите двинуть взвод на помощь боевому охранению.
— Сначала узнай, что там у них.
И снова застыли черные тени в ночном полумраке. Тихо, словно их и не было, растаяли немецкие солдаты, только что шедшие в атаку, и снова жестяной голос предложил «свободу и хлеб».
Немцы были совсем близко. Сейчас они прижаты огнем к снегу, но рано или поздно непременно встанут, и тогда…
И вдруг перед глазами Тахирова встал, как живой, Мамед Широв, каким он был много лет назад, там, в песках Каракумов. «Жить хочется», — говорил он тогда.
Жить хочется…
«Да, — подумал Тахиров, он подумал так, словно речь шла не о нем, а о ком-то другом. — Хочется жить. Всем хочется. Но нужно воевать, словно смерти не существует. Воюют же немцы, те, что лежат сейчас на снегу, готовясь к атаке. Разве им не хочется жить? Но они хотят жить как господа, жить, как обещал им Гитлер, за счет того, что мы превратимся в рабов. А мы этого не хотим. И чтобы так не вышло, мы должны победить их. Победить во что бы то ни стало. Значит, мы должны их убивать, пока не останется ни одного. И думать нужно только об этом.
Эх, как было бы хорошо, как полегчало бы на душе, если бы еще наши подошли. Отбились бы от немцев. А без этого трудно надеяться на спасение».
Тахиров пробирался по траншее к ячейке, где стоял его «максим», но не успел — снова раздался лающий выкрик команды, и тут же в ответ из траншеи хлестнул оглушительный треск автоматов. Он остановился, прильнул к брустверу и, прицелившись, короткими очередями стал стрелять по серым теням. «Спокойно, целься внимательней. Вот так… И еще… вот так…»
И снова опустело безмолвное поле, словно и не оживало никогда. Лишь мертвые тени залегли на белом снегу.
Атака захлебнулась, но немцы подобрались почти вплотную. Тахиров слышал, как стонут их раненые. А, не нравится? Разве кто-нибудь звал вас сюда? Никакой жалости не было в сердце Тахирова. Никакой…
* * *
— Они окружены большими силами и отбили уже две атаки, — доложил командир роты Торгаев комбату Шияхметову, который пришел в его наблюдательный пункт.
— Что вами предпринято?
— Я послал на помощь два отделения, которые действуют самостоятельно. С ними лейтенант Егоров. Но двух отделений недостаточно, чтобы отбросить противника, товарищ капитан. У немцев там не менее двух взводов, а может быть, и целая рота.
«Если я отдам приказ вывести на помощь целую роту, я сделаю именно то, чего немцы ждут от меня, — думал комбат. — Но если я не сделаю этого, отделение не сможет отбиться: слишком мало людей. И все-таки я не пойду у немцев на поводу. Не стану играть по их правилам. Если два отделения смогут обойти немцев, те должны будут или обнаружить свои истинные намерения, или отойти. Держись, Тахиров, держись до последнего. Пока ты держишься, инициатива в наших руках. Тяжело тебе, сержант, знаю. Но это и есть война. И как бы ни было тяжело, надо держаться».
— Сколько еще сможет продержаться боевое охранение?
— Они будут держаться до последнего, товарищ капитан. Не отступят, пока не получат приказа.
— Связь восстановлена?
— Связи нет…
— Жаль. Надо бы передать Тахирову — действовать по обстановке. И если нет другого выхода — оставить позицию и пробиться сюда.
— Товарищ капитан! Разрешите передать ваше приказание Тахирову, — обратился к комбату Бондарь.
— Разрешаю, — сказал Шияхметов.
* * *
Уже не десять и не пятнадцать, а целых двадцать девять «единиц» можно было вычеркнуть из списка роты, и это не считая солдат с легкими ранениями, которые, согласно приказу фюрера, не имели права покидать поля боя. Но хотя «план расхода живой силы» был перевыполнен почти вдвое, задача, поставленная перед ротой штурмфюрера фон Викке, еще не была выполнена, и вражеский пост огрызался все тем же убийственно метким огнем. А за спиной по-прежнему хрипел этот идиотский громкоговоритель. И это в то время, когда на снегу остаются лучшие солдаты. Вместо того чтобы поддержать наступающую роту артиллерийским и минометным огнем…
«На войне может случиться всякое, — пришли ему в голову слова, сказанные однажды дедом. — В любой ситуации главное не растеряться и сохранить присутствие духа. И сохранить способность к разумным действиям, не поддаваясь панике».
Штурмфюрер фон Викке был убежден в полной разумности своих действий. Не прикажи он остановиться, он потерял бы вдвое больше солдат. Неужели они ошиблись, и в боевом охранении находится взвод, а то и два? Метко стреляют эти азиаты. Говорят, они прекрасные охотники. Не может быть, чтобы это были обычные регулярные части. Неужели командование все-таки неверно оценило противника? Для того чтобы захватить этот передовой пост большевиков с минимальными потерями, следовало, очевидно, перед первой атакой провести артподготовку. Значит, Шустер сознательно погнал его роту под пули этих дикарей. Проклятье!
Штурмфюрер решительно потянулся к телефону.
— Гауптштурмфюрер, прошу огневой поддержки. Иначе мы не продвинемся ни на шаг.
— Вы просто наложили в штаны, штурмфюрер, — зарычал в ответ Шустер. — Не можете одолеть десяток обезьян. Стыдитесь.
— Я рад был бы увидеть вас рядом с собой в эту минуту, господин гауптштурмфюрер. Прошу огневой поддержки.
И он бросил трубку.
«Сволочь», — подумал он с бессильной злобой.
* * *
Оледеневший снег острыми иглами впивался Бондарю в лицо, но сержант не замечал боли и остервенело вжимался в землю. Сейчас каждая секунда промедления могла стоить кому-то жизни. Он должен успеть, должен передать Тахирову решение комбата, и тогда хоть кто-то из десяти сможет спастись от смерти.
Горький, соленый пот ручьем льется по спине и лицу, заливает глаза. Теперь уже рядом, близко. Но близко не только наши, немцы тоже. Надо отдышаться перед последним броском. Немцы слева и чуть впереди. На Бондаре такой же, как у них, белый маскхалат, снятый с убитого эсэсовца; части вермахта таких халатов не получали. В руках у него трофейный немецкий автомат. Спокойно, Иван, все будет в порядке. Главное, не выдать себя случайным движением.
Прямо перед собой он увидел металлические коробки из-под лент. То, что надо! Он тащит за собой две коробки. Он подносчик патронов, ползет к пулеметчикам.
Один из лежащих впереди немцев обернулся и что-то крикнул, махнув рукой. Что он там кричит? Предостерегает, наверное. Бондарь, не отрываясь от земли, тоже махнул рукой, ладно, мол. Вскочил, пробежал несколько шагов и упал в ложбинку, и тут же пулеметная очередь вздыбила над его головой фонтанчики снега. «Молодцы, ребята». Еще немного, и снесли бы каску. Хорошо, что он здесь помнит каждую яму и каждый бугорок. Летом здесь течет ручей, сейчас его русло забито снегом. Он продвинется ручьем до самого бруствера, а уж там придется крикнуть…
И он снова пополз вперед, задыхаясь и хрипя.
Он упал в траншею одновременно с пулеметной очередью, срезавшей гребень из мерзлого грунта, и скорее почувствовал, чем увидел, наведенный на него автомат.
— Иван? — Тахиров не верил своим глазам. Еще мгновение, и он…
— Вам… — хрипел Бондарь, — вам… разрешено… по обстановке… можно еще пробиться.
— Ты принес нам приказ?
Бондарь вытирал с лица пот.
— Комбат сказал, пусть Тахиров действует по обстановке. А обстановка такая, что кругом фрицы. Но если ударить первыми, то можно еще… Понял? Принимай решение. И скорее.
Правильно говорит Бондарь, прорваться можно. Но есть раненые. С ними не пробиться. Не оставлять же их на верную смерть. Может, наши все-таки подоспеют? Да и можно ли оставлять такую позицию? Сколько уже фрицев положили навеки! Нет, он не уйдет отсюда. Их прислали для того, чтобы они остановили врага, и пока они живы, враг не пройдет.
— Отступать не будем.
Разделив бойцов на две группы, он отправил одну из них в блиндаж. Гарахан сел возле печки на корточки и стал греть руки.
— Тахиров сошел с ума, — сказал он. — Мы могли бы…
За долгие годы Гарахан уже понял, что самое безопасное для человека, это держать язык за зубами. И он привык к молчанию, привык к тому, что надо улавливать чужие мысли и поддакивать им, не высказывая, по возможности, своих. Но сейчас, когда возможность спастись мелькнула и исчезла, он забыл об осторожности.
— Какого черта нам торчать здесь? — Он обращался к тем, кто остался в живых после первой атаки немцев. — Вы же слышали, что сказал Бондарь, нам приказано выходить из окружения.
— Разрешено, а не приказано, — отозвался Рахим.
— Тахирову слава нужна. Вот он и геройствует… за наш счет.
— Ты думаешь, пули разбираются, кто герой, а кто трус?
Гарахан в отчаянии махнул рукой.
— Не знаешь ты его! А я знаю. Он из воды выберется сухим, и пули его не берут.
Рахим засмеялся.
Как ни злился Гарахан, он не мог смотреть на Рахима без восхищения. Ах, если бы и ему вот так, от всей души рассмеяться сейчас. Но он всю жизнь чего-то боялся, где же было набраться храбрости? Сил только и хватало на то, чтобы не обнаруживать холодно-отчаянного страха, который не отпускал его из своих тисков. Неужели он никогда так и не освободится от него? Никогда не сможет засмеяться в глаза смерти, вот как сейчас Рахим. А если… если попробовать… встать, выпрямиться… улыбнуться. Ведь он еще жив, и в руках у него автомат. И рядом его друзья. Рахим, Чакан-ага, сам Тахиров. Ну? Встань. Вот так. Теперь улыбнись. Вот так. Получилось?
— Вот теперь ты совсем иначе выглядишь, Гарахан, — не без удивления сказал Рахим. — Герой, да и только. Верно, Сона?
— А ты думал, только ты герой, — сказал ему в ответ Гарахан и засмеялся.
Он не боялся больше. Нет. Впервые за много лет он был совершенно счастлив.
* * *
Тахиров стоял, привалившись грудью к брустверу. Он весь превратился в слух. Сейчас ударит артиллерия. Наверное, уже поднимаются стволы пушек и минометов. Сейчас взорвется небо и осколки металла дождем посыпятся сверху.
«Почему комбат разрешил нам покинуть позицию, — вот над чем ломал он сейчас голову. — Неужели он не верил, что мы удержимся? Он же видел, что мы отбили две атаки. Может быть, просто хочет дать нам возможность спастись? Но не важнее ли, чтобы мы держались здесь, насколько это возможно? Он сказал, «действовать по обстановке». Хорошо. Так и будем действовать.
Опять эта тишина. Нет ничего хуже. Любой грохот лучше, чем тишина. Кажется, что серое небо, застыв, опускается все ниже и ниже. «Действовать по обстановке».
Разрывая тьму, взвилась красная ракета. Вздыбилась земля, пригибая людей, задыхающихся в пороховом дыму, перепахивая мерзлую землю и снег, посыпая смертоносным металлическим дождем…
То, что минометы и пушки замолкли, полуоглохший Тахиров скорее почувствовал, чем услышал. Добежав до блиндажа, он рванул дверь.
— Живы? Быстро по местам!
* * *
Штурмфюрер фон Викке мерз. Ему казалось, что артподготовка длится уже час. Идиоты, то не стреляют вообще, то поливают огнем бездыханные трупы. После такого обстрела там никого не останется в живых.
Внезапно наступившая тишина вернула его к жизни. Наконец-то можно подняться с этого проклятого снега.
— Солдаты фюрера, вперед!
Пропустив передовую цепь, штурмфюрер бросился следом. Вот он уже догнал солдат, вот он уже впереди. О, упоение боем, радость движения, близость победы. До бруствера оставалось не более тридцати метров. Когда-то юный Гюнтер пробегал стометровку за одиннадцать с половиной секунд… ему нужно было еще четыре, максимум пять секунд, чтобы добежать до финишной черты, но штурмфюрер так до нее и не добежал, потому что навстречу ему брызнули светящиеся огни, и музыкальный слух штурмфюрера безошибочно выделил из окружавших его звуков басовитое таканье «максима». И словно укрощенная этим звуком, сломалась и стала валиться цепь за спиной штурмфюрера.
Длинные упругие ноги спринтера неудержимо несли штурмфюрера вперед, туда, где, расцветая красными всполохами, уже поворачивалось навстречу ему тупое пулеметное рыльце.
— Вперед! Быстро!..
Серое небо взорвалось вдруг багровым пламенем, и мир, расколовшись на миллионы ярких осколков, опрокинулся и исчез, чтобы никогда больше не возрождаться…
* * *
Сона подбежала к Чакан-аге, неуклюже привалившемуся к стенке окопа. Он пытался перевязать ногу.
— Подождите… Я помогу…
— Помоги Рахиму, дочка. Он там лежит.
Рахим стоял на коленях, словно хотел боднуть головой мерзлую землю.
— Рахим! Что с тобой? — Сона просунула руки ему под мышки. Тяжелое тело Рахима, оседая, потянуло ее за собой.
— Рахим! Рахим-джан!
Сона приложила ухо к груди Рахима. Потом поцеловала мертвое лицо и заплакала.
* * *
С передовой казалось, что сама земля закипела, разбрызгивая огненные брызги на том месте, где должно было находиться боевое охранение. Уцелеть в таком аду можно было только случайно. Прощай, Тахиров. Теперь уже ничего нельзя сделать.
Рука с биноклем невольно повисла. Комбат Шияхметов скрипнул зубами. «Дошел ли до Тахирова Бондарь? Наверное, нет. Надо было приказать Тахирову отступление…»
А теперь уже и отступать некому.
Но когда немцы снова поднялись и снова залегли, Шияхметов понял вдруг, что больше всего в жизни он хотел бы сейчас обнять этого всегда собранного и немногословного сержанта. «Молодец, Тахиров. И все солдаты молодцы. Всех представлю к наградам». И, обращаясь к командиру роты, он прокричал:
— А? Каков твой Тахиров? Нет, ты только посмотри…
Пытаясь задержать группы, спешившие на помощь, немцы, уже не маскируя своих батарей, открыли огонь. Комбат закричал в телефон:
— Эй, боги войны! Спите, что ли? — И, обращаясь к командиру роты: — Двинь вперед еще отделение.
* * *
Если бы от прямого попадания мины «максим» не вышел из строя, Тахиров никогда не подпустил бы немцев к траншее. Но теперь он, оглушенный, лежал на земле. Сознание возвращалось медленно, и весь мир казался укутанным в вату. Звуки доносились откуда-то издалека. Он сел, потом с трудом поднялся и потряс головой.
Он был один.
У входа в блиндаж кто-то пытался приподняться. Ему показалось, что он слышит стон, но даже посмотреть, кто это стонет, не было ни сил, ни возможности.
— Рус, сдавайся… Рус, сдавайся…
Мир кружился, грозя опрокинуться. Главное было не поддаться этому кружению, главное было — устоять на ногах. В груди Тахирова что-то взмывало, словно птица, которая хотела вырваться на свободу. Лети, птица. Лети к вершинам Копетдага, лети к вершинам навеки свободных гор, над безграничной степью, под чистым небом. Лети к моему дому и скажи Айсолтан, что здесь, в последнем бою я думал о ней. Есть только любовь к своей родине, к своим родным, к небу и горам. И есть ненависть к тем, кто хочет отнять все это. И есть автомат и две гранаты. И есть руки, которые пока еще держат этот автомат. И есть фашисты.
Как их много! Ну ничего, сейчас будет чуть меньше. Очередь… ага… не нравится. Еще очередь… еще…
Только бы диск не кончился.
Диск кончился. Нужно было мгновение, чтобы заменить его, но мгновения не было. Вот они. Вот. Граната. Он швырнул. Вторая…
И темнота.
* * *
Лишь семь минут отделяло его от жизни. Сумей он продержаться эти семь минут, он дождался бы группы Торгаева, пришедшей к нему на помощь.
Семь минут на войне — время, равное вечности и небытию. По плану гауптштурмфюрера Шустера на операцию по захвату боевого охранения было отпущено десять минут. Но Тахиров, ничего не знавший об этом, продержался со своим отделением пятьдесят семь минут.
Когда группа Торгаева ворвалась в окопы боевого охранения, снег кругом был залит кровью. Всюду валялись трупы фашистов.
Насчитали их сорок девять…
Живых немцев видно не было.
* * *
Шустер был вне себя от гнева, отчаяния, растерянности.
И все-таки он старался держать себя в руках. Операция провалилась. Позорно провалилась, и скрыть это не удастся. Подумать только, отборная штурмовая рота, состоящая сплошь из опытных эсэсовцев, разгромлена почти полностью, и кем — ничтожной горсткой азиатов, только месяц назад прибывших на фронт! Одних похоронных извещений придется написать около пятидесяти. Хорошо еще, что среди убитых и сам Гюнтер фон Викке: то, что осталось от славного героя, подававшего столь большие надежды, лежит сейчас в холодном сарае.
Гауптштурмфюреру Шустеру едва ли не впервые придется объяснять причину столь вопиющей неудачи. А чем он может ее объяснить? Тем, что покойный штурмфюрер не выполнил своей задачи? Но берлинский дедушка с его связями в генеральном штабе не позволит опозорить внука. Чего доброго, добьется расследования…
Какая глупость! И ведь так славно все шло до сих пор. Он был на хорошем счету. Беспрекословно выполнял любые приказы, убивал, сжигал, уничтожал, разрушал. «Рыцарский крест»? Он уже почувствовал себя на допросе в гестапо, выругался, не жалея крепких слов для погибшего штурмфюрера. Недоносок… Так осрамиться. Если бы штурмфюрер остался жить, отвечать пришлось бы ему. А так с него и взятки гладки. «Погиб как герой». Идиот паршивый.
Гауптштурмфюрер с большим удовольствием выпил бы стакан русской водки. А еще лучше два стакана.
Вошел вылощенный, как всегда, майор Хильгрубер, но Шустер даже не посмотрел в его сторону. Майор сразу понял его состояние.
— Не огорчайтесь, дорогой гауптштурмфюрер, — сказал он. — Случайности неизбежны в любом деле.
— Случайности? — Шустер с надеждой посмотрел на майора. Он чувствовал себя, как человек, внезапно обнаруживший под руками спасательный круг в ту минуту, когда начал уже пускать пузыри. Стараясь не выдать себя, Шустер пробормотал: — Черт бы побрал все эти случайности. План операции был утвержден штабом корпуса, солдаты сражались безупречно…
— И все-таки? — протянул майор.
— Что все-таки?
— Я надеюсь, вы не будете отрицать, что фактически штурмовая рота не справилась с заданием?
Шустер потускнел на глазах, словно в самый последний момент у него отняли казавшийся столь надежным круг.
Майору Хильгруберу Шустер был пока еще нужен. От того, в каком свете предстанет в Берлине вся эта история, зависит и то, как будет выглядеть в Берлине сам майор. На Шустера ему было в высшей степени наплевать, но, хотел он этого или нет, сейчас интересы у них были общими. Поэтому он снова приблизил к гауптштурмфюреру спасательный круг.
— О том, что виною всему была трусость и неспособность командира второй роты, пожалуй, не напишешь, — как бы в раздумье проговорил он.
Шустер не понимал, куда клонит этот майор, которого он стал уже чуть-чуть опасаться, а значит, и ненавидеть.
— Среди нас, эсэсовцев, трусов нет, — сказал Шустер твердо. — Штурмфюрер фон Викке, погибший смертью героя, имел два «железных креста». Он сжег в Белоруссии двадцать две деревни. Уничтожил…
— Хватит, хватит… — замахал рукой Хильгрубер. — Вот видите. А я что говорю? Я ни на мгновение не сомневался, что храбрый штурмфюрер выполнил свой воинский долг и погиб как герой. Значит, виноват в неудаче не он, и не вы, а…
— Обстоятельства?
— Вот видите…
— Но… какие?
Шустер уже понял, что майор играет с ним. Что-то ему нужно. Надо быть начеку. И все-таки у эсэсовца словно огромный груз упал с плеч. Что ж, значит, он все-таки нужен, и нечего майору корчить из себя бог знает какого умника.
— Может быть, при составлении плана не были учтены полностью силы противника, гауптштурмфюрер? Целая рота эсэсовцев должна была овладеть передовым постом противника, задача вполне реальная, если считать, что против них сражалась какая-то горсточка азиатов. Но может быть, их там было не десять, а двадцать? Или пятьдесят?
— Я уверен, что их… что азиатов было не меньше батальона.
— Отлично, Шустер, превосходно. Батальон. Их было много…
— Я понял вас, господин майор. Надеюсь, вы не откажетесь подтвердить, что мы сражались против целого батальона?
— Это не потребуется, гауптштурмфюрер. А понадобится, да, конечно, могу подтвердить. Но главная наша победа будет не на этом участке фронта. Как там поживают наши пленные азиаты?
— Они под надежной охраной.
— Вот наши козыри, гауптштурмфюрер. Это
они все подтвердят.
— По-моему, господин майор, вы как-то всерьез относитесь к этим недочеловекам.
— Еще более серьезно к ним относятся в Берлине.
— Не может быть?!
— Уж поверьте мне. А вы все-таки действительно склонны недооценивать противника. Ну, не обижайтесь, мы же обо всем договорились, верно? Кстати, до вас добралась бригада агитаторов из отдела контрпропаганды?..
— А… такие же азиаты? Они были здесь.
— Похоже, что вы отнеслись к ним не слишком внимательно?
— Пустое дело. Они день и ночь галдели на своем дикарском наречии по громкоговорителю, но это не дало никаких результатов. Ни один солдат большевистской армии не бросил оружия и не перешел к нам добровольно.
— Вы убедились, Шустер, с каким противником имели дело?
Шустер уже давно все понял. Теперь он мог разговаривать с майором открыто.
— Не знаю, господин майор, что уж такое особенное вы нашли в этих своих азиатах, но мне они противны. Я не собираюсь, как вы понимаете, вмешиваться в ваши дела, но для меня все эти… народности на одно лицо. И отношусь я к ним, как к животным. Я сжег, дорогой майор, восемьдесят три деревни и два города и понял, что большевики понимают только один язык — язык силы. Большевик хорош только, когда он мертвый.
Майор посмотрел на гауптштурмфюрера.
— Я вижу, вы недооцениваете важность идеологической обработки противника, гауптштурмфюрер?
— Я солдат, — сказал Шустер. — Солдат фюрера. Я умру за него и за рейх, если потребуется. Но что такое большевик, я знаю в сто раз лучше, чем все штабные крысы, вместе взятые, не обижайтесь, к вам это не относится. И как солдат, я скажу, или мы уничтожим русских, или они нас.
— Я надеюсь, что в скором времени вы перемените свою точку зрения, гауптштурмфюрер, — примирительно сказал майор.
* * *
Крики, стоны… кошмарные сны. Что это с ним, где он? Тахиров застонал. Холодно. По снегу скрипят сапоги. Надо встать, встать. Он попробовал пошевелиться, но не смог. Ощущение было такое, словно его спеленали и втиснули в холодный узкий желоб, где не шевельнуть ни рукой, ни ногой. Кто связал его, кто спеленал? И откуда такой пронзительный холод?
Он открыл глаза. Вокруг была темнота. И тогда он все понял. Он в плену. И мысль эта, словно яд, на мгновенье парализовала измученное, застывшее тело. В плену! Почему судьба допустила это? Почему он не умер, не погиб в бою? Почему так безжалостна к нему судьба?
Он застонал. Сознание меркло, прояснялось, снова угасало. Разве он виноват? Он же бился до конца, до самого конца…
Но если он жив, разве бой кончился? Если бы его убили и он, как его товарищи, лежал бы сейчас в братской могиле и не знал, не чувствовал ничего, — да, тогда для него были бы окончены все бои. Но он еще жив, а пока он жив, он не перестанет бороться. «И смертью своей ты послужишь родине так же, как жизнью» — вспомнились ему однажды слышанные слова.
Спокойно, Айдогды. Ты боец. Тебе не хочется жить, ты в фашистском плену, ты унижен. Но ты не сломлен, нет. Ты уже доказал, что не боишься смерти. Тебе придется доказать это еще раз. Терпи, Айдогды.
Сознание снова меркнет, и сквозь наступающее забытье Тахиров призывает смерть. Он не стал бы роптать на нее. Наоборот, она показалась бы ему избавительницей.
* * *
Взрывная волна отбросила Гарахана, ударив головой о край окопа. Когда сознание вернулось к нему, он увидел Тахирова, бегущего по траншее, и застонал, не в силах даже крикнуть, но если бы он даже и крикнул, этот крик не был бы никем услышан. А потом в траншею посыпались немцы в белых халатах и с автоматами в руках, и Гарахан снова потерял сознание. Он успел только подумать, что даже перед смертью ничего не боится. Пусть стреляют в него, если хотят…
Сколько он так лежал, он не знал. Когда слух вернулся к нему, стрельба уже прекратилась. Немцы деловито бегали по траншее, громко переговариваясь. Еще немного, подумал Гарахан, еще немного потерпеть, и они уйдут… и в этот момент он застонал от мучительной боли: немецкий автоматчик, пробегая мимо, наступил ему на руку…
Сейчас это будет. Нажмет пальцем на спуск. Прощай, жизнь.
Гарахан стоял, шатаясь. Прямо в грудь ему уперлось дуло автомата. Потом оно дернулось, и он понял, что это означает: иди, иди туда…
И он пошел.
Он шел, как в тумане, оступался, падал и поднимался снова. Он ничего не чувствовал. Он даже не думал о том, что остался в живых. Все равно сейчас расстреляют. Его привели в просторный блиндаж. За столом сидел офицер в черной эсэсовской форме. Он поднял глаза. Он смотрел на Гарахана, как на муху. На его лице не отразилось никаких чувств. Он что-то сказал конвоиру и вышел. «Сейчас, — подумал Гарахан. — Сейчас будут пытать». Но ведь он ничего не знает. Лучше бы застрелили сразу. Лучше бы он умер, не приходя в сознание. А теперь…
Вошел элегантный офицер, но не в черной, а в зеленой форме. Долгим, внимательным взглядом посмотрел на Гарахана. Коротко сказал что-то конвойному. Тот четко повернулся и вышел, не взглянув на пленного.
В душе Гарахана шевельнулась сумасшедшая надежда. А вдруг не расстреляют. Да, да, это может быть. Он смотрел на зеленого. Культурный человек. В очках, золотая оправа. Неужели он будет бить?
Офицер не спускал с него глаз.
— Итак, — сказал он. — Итак… имя… фамилия… звание…
От неожиданности у Гарахана чуть не остановилось дыхание. Зеленый офицер говорил по-туркменски! Не чисто, конечно, но Гарахан его прекрасно понимал.
— Гарахан Мурзебаев… ефрейтор.
— Прекрасно… прекрасно, — мурлыкал офицер, одобрительно качая головой. — Значит, Гарахан Мурзебаев, ты решил, что самое лучшее для туркмена — это убивать немецких солдат. Да?
— Нет! Нет, господин офицер, я не убивал. Я… целился мимо…
— О! Даже так. Значит, ты не большевик, нет?
— Конечно нет, господин офицер. Мой отец ненавидел большевиков, и они посадили его в тюрьму.
— Даже так? Что ж, это еще лучше. Значит, ты не питаешь к нам ненависти? А может быть, ты искал способ, как перейти на нашу сторону? — Голос офицера вдруг стал жестким. — Не ври мне, Мурзебаев. Ты повинен в смерти
многих отборных солдат фюрера. Ты взят в плен с оружием в руках. Да за одно только это ты заслуживаешь расстрела. А теперь хитришь и думаешь обмануть меня. Но меня обмануть невозможно, запомни.
— Я… я притворился мертвым, господин офицер. Я вас не обманываю. И вообще… я говорю… я буду говорить только правду.
— Ну, это уже лучше. Если хочешь получить какие-то шансы на жизнь, ты должен будешь очень постараться. Очень, понял? А теперь, что ты можешь рассказать о старшем сержанте, вашем командире? Или он тоже, по-твоему, ненавидел большевиков?
— Его зовут Айдогды Тахиров. Мы с ним из одного аула. Но мы всегда враждовали. Он даже грозился меня убить.
— Ну-ну. Дальше…
И Гарахан торопливо стал рассказывать все, что он мог сейчас припомнить. Он видел, как немцы несли потерявшего сознание Тахирова. Значит, он для чего-то им нужен. Только бы этот офицер выслушал его…
— Значит, ты утверждаешь, что именно этот сержант давал клятву у знамени от имени всей бригады? А ты случайно не придумал все это, а?
— Клянусь жизнью, господин офицер!
На этот раз офицер взглянул на него почти благосклонно.
— Клянешься своей жизнью? Это очень правильно. Почаще думай о своей жизни, Мурзебаев, и тогда… может быть… — Он вызвал конвойного и сказал ему по-немецки: — Увести!
* * *
— Из Ашхабада приехал специальный корреспондент, — сказал капитан Сарыбеков, обращаясь к комбату Шияхметову. — Ему нужен материал о героизме наших бойцов. Можете показать ему нашу последнюю боевую сводку. Это был бы прекрасный материал — наше отделение разгромило целую роту эсэсовцев, которые оставили на поле боя сорок девять трупов. Да… прекрасный мог бы выйти материал… если бы не пятно… которое все портит. Так что лучше все же показать ему что-нибудь другое.
Комбат Шияхметов раньше не смог бы, наверное, объяснить и себе самому причину неприязни, которую всегда вызывал в нем капитан Сарыбеков. Нет, не смог бы. Да и кто бы смог? Капитан Сарыбеков не был трусом и всегда говорил людям в лицо то, что он о них думал. Да, такой человек заслуживает уважения.
Но теперь, услышав слово «пятно», Шияхметов понял, почему он все-таки не любит капитана Сарыбекова. Можно ли любить человека, который всегда ищет в людях «пятно», и самое большое удовольствие получает именно тогда, когда узнает, что подозреваемый им человек оказался небезупречным?
— Я попросил бы вас уточнить свою мысль, товарищ капитан, — сказал комбат. — О каком пятне вы говорите?
— Вы знаете, о каком. Я, конечно, не имею права вмешиваться в то, как вы составляете свои донесения. Но в таком принципиальном вопросе я молчать не буду. Ведь вместо того чтобы прямо осудить пропавшего без вести Тахирова, вы объявляете его героем.
— А вы, конечно, так не считаете, товарищ капитан?
— Вы должны отдавать отчет, товарищ майор, что старший сержант Тахиров находится в настоящий момент в немецком плену.
— Вы переходите все границы, товарищ капитан. Вы ведете себя недопустимо.
Но Сарыбеков был невозмутим. Не обращая внимания на гневный тон комбата, он спокойно ответил:
— Вы проявляете недопустимую доверчивость, товарищ майор. Не забывайте, мы на фронте. Людям надо верить, это бесспорно. Но верить им надо только, когда обстоятельства…
Комбат круто повернулся и вышел, не дослушав. Метель, что со свистом билась между закоченевших деревьев, охладила его пылающее лицо. Но Шияхметов даже не почувствовал холода. «Он ест фашистский хлеб» — эти слова не выходили у него из головы. Если Сарыбеков не верит Тахирову, отбившему с горсткой бойцов четыре атаки и уничтожившему около полусотни фашистов, то кому же он тогда верит? И тут он понял, что Сарыбеков не верит
никому. Потому он так и неуязвим. Он убежден, что человек плох, лжив и бесчестен, и требует доказательств, что это не так. С каким наслаждением он проверяет и перепроверяет анкеты тех, кого представляют к правительственным наградам, и как радуется он, когда находит у кого-либо в прошлом какое-либо «пятно». Откуда берутся подобные люди? Что движет ими?
Ответа на эти вопросы он найти не мог.
А Сарыбеков уже докладывал начальнику политотдела бригады:
— Товарищ подполковник. Разрешите изложить свою точку зрения на сводку о бое первого батальона тридцатого января.
— Излагайте. Только по возможности короче.
— По-моему, командир батальона майор Шияхметов допускает преступный либерализм в оценке событий. Я боюсь, что это может привести его к политическим ошибкам…
— Попрошу вас излагать факты. Если вы ими располагаете.
— Речь идет о пропавшем без вести старшем сержанте Тахирове. Нет сомнения, что он находится в плену у немцев. Возможно его использование фашистами против нас в целях пропаганды. А командир батальона вместо того, чтобы осудить Тахирова, собирается представить его к правительственной награде.
— Подтвердилось ли сообщение командира первого батальона о том, что немцы отступили, оставив на поле боя сорок девять трупов?
— Так точно, товарищ подполковник. Это установленный факт.
— Откуда, по-вашему, взялись эти трупы?
— Отделение Тахирова…
— Вот именно, капитан. Отделение Тахирова показало в этом бою образец выполнения воинского долга, своей самоотверженностью и героизмом сорвав замыслы фашистского командования. Какие у вас есть основания для выдвигаемых вами подозрений?
— Я хочу предотвратить возможную ошибку, товарищ подполковник. Если бы Тахиров не был жив, мы нашли бы его тело на месте боя. Но мы не нашли его, следовательно, он жив, и он в плену. А раз так, мы должны быть готовы, что немцы захотят использовать его в целях пропаганды.
Начальник политотдела посмотрел на Сарыбекова долгим взглядом.
— Есть ли на свете человек, которому вы доверяете, капитан?
Сарыбеков промолчал. Не дождавшись ответа, подполковник сказал:
— Вы свободны, товарищ капитан. Можете идти.
* * *
Майор Хильгрубер никогда всерьез не верил в бога. И все же он поблагодарил всевышнего за столь успешное начало дела. Этот старший сержант может оказаться ценнее, чем батальон обычных пленных. Для него же, майора Хильгрубера, это просто редчайшая удача.
Настроение у Хильгрубера так поднялось, что он готов был откровенничать даже с Шустером, хотя тому и было не до веселья.
— Выше нос, Шустер. Считайте, что вам повезло. Покойный штурмфюрер добыл для нас именно то, что требовалось. И если мы сумеем воспользоваться этим…
Гауптштурмфюрер Шустер не видел причины для ликования. Конечно, неплохо, если пленный азиат окажется чем-либо полезен. Но оптимизма Хильгрубера он не разделял.
— Он уже вам что-нибудь рассказал?
— Нет.
— Так чего же вы радуетесь?
— Я радуюсь всегда, Шустер, когда встречаюсь с трудной задачей и с достойным противником. Нам сейчас не нужны обыкновенные предатели, их у нас хватает. Нам нужен именно такой, убежденный большевик. Как этот старший сержант. Весь вопрос в том, чтобы склонить его на свою сторону. Такой человек принесет больше вреда противнику, чем весь ваш батальон.
— Не понимаю я вас, майор, — пробурчал Шустер.
Он и вправду не понимал. Предатель — он и есть предатель, все равно каков он был до предательства. Их еще можно использовать в качестве смертников, гнать перед цепью автоматчиков. В лучшем случае годятся в осведомители. Но чтобы от изменника была еще какая-либо польза, этого Шустер не представлял. Но это его не касалось. Если майор сумеет добиться своего, пусть, Шустеру это только на руку.
— Вы хоть допрашивали его?
— Нет еще. Пусть полежит и подумает.
— А вообще вам приходилось когда-нибудь допрашивать пленных большевиков?
— Вы на что-то намекаете, Шустер?
— Ни на что я не намекаю. А только я-то допрашивал этих недочеловеков. И не завидую вам.
— Представляю,
как вы их допрашивали.
— Да, — согласился Шустер. — Уж я с ними не любезничал.
Майор Хильгрубер не счел нужным объяснять гауптштурмфюреру СС свою теорию. Пришлось бы употреблять такие слова, как «гуманизм», «гуманистический метод», а это бесполезно: во-первых, Шустеру эти слова попросту непонятны, а во-вторых, фюрер уже давно объяснил, что гуманизм выброшен на свалку истории. У майора Хильгрубера и в мыслях не было сомневаться в правоте вождя германской нации. Но уточнять его мысль, делать ее оружием в своей работе он мог и должен был. Конечно, пресловутый гуманизм никому не нужен, если только не использовать его в отдельных случаях, как инструмент, служащий целям, которые требуется достигнуть. Все, что говорит фюрер, абсолютно верно, особенно если воспринимать его заявления в контексте всемирной истории. Хорошо изучивший историю доктор Хильгрубер понимал теорию расового превосходства так, что в каждую определенную историческую эпоху всегда были нации высшие и низшие. Во времена Древнего Рима германцы были низшими племенами, а латиняне высшими. Теперь все изменилось, и немцы стали высшей расой, а славяне, евреи и прочие меньшинства самой историей обречены на гибель.
Такая теория вроде бы не противоречила научным данным, а посему совесть человека с гуманитарным образованием, считал Хильгрубер, могла быть совершенно спокойна.
Что же касается поставленной перед ним задачи, то обостренное чутье совершенно справедливо подсказало майору, что пленный советский сержант как нельзя лучше подходит на роль «представителя туркменской нации». Гораздо больше, чем вся свора эмигрантского охвостья, которая претендовала на эту роль в берлинских кулуарах, готовая на все ради власти над своими соотечественниками.
Оставалось только уговорить Тахирова…
* * *
Немецкий солдат приволок Гарахана в подвал и, бросив на пол, ушел.
Гарахан стонал, и стонал непритворно. Немцы вовсе не проявили ни понимания, ни мягкости. Разве не могли они избить его только для виду? Нет, они старались вовсю, словно желая показать Гарахану, как мало они нуждаются в его услугах. Сволочи. Где-то в глубине души Гарахан еще надеялся, что ему — он и сам не знал как — удастся обмануть немцев. Лучше всего прикинуться этаким дурачком, проявляющим полное непонимание и покорность. Может быть, думал он, немцам понравится такая услужливость, и они оставят его в покое, направят на какие-нибудь нетяжелые работы, — а там будет видно. Но немцы обращались с ним так, словно он был сор под ногами, и с самого первого дня давали ясно понять, что он интересует их постольку, поскольку может помочь уговорить Тахирова. Вот, значит, как, и здесь Тахиров на первом месте. Это из-за него Гараханом пренебрегают.
Гарахан стонал. В этот момент он снова готов был пожалеть, что его не убили там, в траншее, рядом с Рахимом, Соной, Чакан-агой. Тогда он был бы героем, не попал бы в плен и не страдал бы сейчас. А все из-за стихов. Это из-за них он попал на передовую. Сарыбеков, прочитав, похвалил: «Теперь тебе надо побывать на передовой, пролить вражескую кровь, а затем уже вернуться в газету. Место мы тебе найдем…»
Честолюбие подвело. Зачем нужна была слава? Зачем он вообще взялся писать стихи? Если бы не эта глупость, сидел бы сейчас Гарахан в теплом блиндаже и правил бы ошибки наборщиков…
Что теперь вздыхать об этом…
С каким наслаждением избивали его немцы! Как смеялись они, когда увидели, как по разбитому лицу потекла кровь. Потом вошли в раж. Коваными сапогами били лежащего на полу и, наверное, забили бы до смерти, если бы их не остановил вошедший офицер, тот, в зеленом.
— Это для того, Гарахан Мурзебаев, — сказал он по-туркменски, — чтобы вы представляли, что вас ожидает, если будете плохо помогать нам…
Гарахан не в силах был даже посмотреть в сторону Тахирова. Как взглянуть в глаза человеку, которого ты согласился предать?
Тахиров подполз к нему.
— Больно?
Гарахан снова застонал.
— Ничего, брат. Держись. Будь мужественным, — говорил Тахиров. — Надо все вытерпеть и держаться.
Гарахан почувствовал, если сейчас он не скажет то, что задумал, он уже не сможет это сказать никогда. И, сдерживая стоны, он заговорил:
— Ничего не помню. Стрелял до последнего. Наверное, меня контузило. Потом пришел в себя, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Слышу голоса… Лейтенант Егоров говорит что-то про тебя. Не выстоял, говорит. Сдался врагу. Я хочу крикнуть — голоса нет. Встать хочу, пошевелиться — не могу. Тут наши… отступили… я попробовал ползти… немцы вернулись подбирать своих и меня… приволокли…
Тахиров уже не слушал. Ледяная рука сжала ему сердце. Лейтенант Егоров… комвзвода, неужели он так мог подумать?
— Этого не может быть, — вырвалось у Тахирова. — Вспомни! Тебе показалось? Ты, наверное, ослышался?
— Все, — хрипел Гарахан. — Умираю. Прощай, земляк…
Нет, не врет Гарахан. Зачем ему врать. Верно, наши были уже близко. Неужели они могли так подумать обо мне? И тут же, не щадя себя, Тахиров сказал: «Да. Могли. Ведь они рассчитывали на нас. Они верили, что мы скорее погибнем, чем сдадим позиции. И вот сдали, а сами не умерли. В плену. В плену и еще живы».
— Да, правильно все, — в отчаянье сказал Тахиров.
— Но мы… — слабым голосом простонал Гарахан, — ведь мы… ты и я… мы не сдавались… не поднимали руки…
«Не поднимали… — думал Тахиров. — Нет, не поднимали». Он помнил, как сжимал рукоятки «максима», он ощущал, как палец его нажимает на спуск автомата. Нет, Айдогды Тахиров не поднимал рук, они были заняты другим…
— Не повезло нам, столько немцев убили, а теперь все равно попадем в изменники родины.
— Хуже смерти такая судьба, — понурив голову, согласился Тахиров. Казалось, он совершенно сломлен.
Вся жизнь рушилась на глазах. Как же наказывает его несправедливая судьба! Всю жизнь бороться за справедливость, отдавать родине все свои силы и вот теперь не только оказаться в плену, но и прослыть изменником. Хуже уже ничего не может быть.
Но оказалось, что может быть и хуже. Через час Гарахана снова увели на допрос, а вернувшись, он тихо лег в своем углу и долгое время не шевелился.
— Что случилось, Гарахан? — спросил Тахиров.
Не говоря ни слова, Гарахан достал из-за голенища какую-то бумагу.
— Для нас с тобой все кончено, — сказал он и снова затих. Бумага лежала на полу, но у Тахирова не хватало решимости взять ее в руки.
— Что это, Гарахан?
— Это листовка, земляк. Про нас с тобой. Что мы добровольно… ты и я…
— Откуда они могли узнать, кто я такой? Ты говорил им что-нибудь?
— Им не надо говорить, Айдогды. Они сами все знают. Про меня… про тебя. Они даже знают, сколько у меня детей. Это страшные люди.
И он снова затих.
«Значит, немцы знают, кто я, — думал Тахиров. — Но откуда? Наверное, все-таки от Гарахана. Ведь его били. Может, он был без памяти… может, на минуту ослабел… Нет, не буду его осуждать. Ему тяжелее, чем мне. Выдержу ли я сам все пытки?»
— Привели меня на допрос, — всхлипнув, сказал Гарахан, — а там пытают какого-то парня. Партизана. Совсем молоденький. Не могу сказать, что с ним сделали. Хуже зверей. Я потерял сознание. Если бы не видел своими глазами, не поверил бы в такое. Меня в этот раз ничего не спрашивали… не били… но это было как в аду… страшнее…
— А тот парень просил пощады?
Гарахан задрожал, словно в лихорадке:
— Но разве у него такое положение, как у нас с тобой? Он погибнет как герой, а на память о нас останется вот эта листовка: «Старший сержант Айдогды Тахиров и ефрейтор Гарахан Мурзебаев добровольно перешли на сторону германской армии». Мы погибнем здесь в страшных мучениях, а там, дома, мои дети будут проклинать меня, считая подлым изменником. Нет… я не могу так… не могу с этим жить… смириться с этим не могу… не могу…
Гарахан словно лишился рассудка. В эту минуту он говорил действительно то, что думал и чувствовал.
— Гарахан! Опомнись. Возьми себя в руки.
— Если нет справедливости, какой смысл в нашем геройстве. Все равно мы уже предатели. Надо обмануть их, Айдогды. Согласиться с ними… сделать вид, что соглашаемся, а потом убежать…
— Подумай, что ты говоришь, брат. Сейчас самое главное — это выполнить свой долг перед самим собой. Быть честным до конца. Не поддаться на немецкие уловки.
— Нет, я не согласен. Не согласен на бессмысленную гибель. Если бы можно было защищаться… хотя бы сказать правду…
И снова вошел солдат в черной форме СС. Грубо толкая Гарахана, он повел его на новый допрос.
«Почему они допрашивают только Гарахана? Почему не трогают меня? Что задумали немцы? — думал Тахиров. — И что сделаю я, когда меня начнут пытать, когда начнут вот так издеваться надо мной? Терпеть унижения? Ждать, пока, ослабев от пыток, окажешься полностью в их руках? Или избавиться от этой кошмарной яви и умереть?»

Он начал снимать брючный ремень. Да, хорошо, так и надо поступить. Хорошо, что ремень не отняли, можно покончить с собой. Да, покончить… и что же? Чтобы могли сказать про меня — попал в плен и повесился? Повесился, потому что оказался предателем и совесть не выдержала. Выходит, я сам подтверждаю, что я трус и предатель?.. Да, самое простое было бы сейчас покончить с собой. Но не дождутся этого немцы. Ты боишься пыток, Айдогды? Боишься, что не выдержишь? Не спеши, умереть еще успеешь… успеешь. Ты хотел дезертировать, уклониться от последнего боя. Но ты солдат, Айдогды, и если тебе суждено умереть, ты должен умереть, как Гинцбург, презирая смерть, смеясь ей прямо в лицо.
Твой последний бой впереди!
* * *
Прошел еще день, пока Тахирова наконец вывели на допрос. В блиндаже было чисто и тепло. Осматриваясь, он пропустил момент, когда в блиндаже появился высокий сухощавый офицер в зеленой армейской форме.
— Господин Тахиров, — сказал он по-туркменски, но с довольно сильным акцентом, — рад познакомиться с вами. Меня зовут майор Хильгрубер. До войны я был доктором филологии. Надеюсь, что после окончания войны мне удастся снова вернуться к изучению поэтики великого Махтумкули.
Фашист — и вдруг говорит по-туркменски. Странно. Надо молчать. Не отвечать ему… Бороться… До конца… Они не сильнее меня…
— Чего вы от меня хотите? — спросил он напрямик.
— О, не нужно торопиться. Пока что я хотел только познакомиться с храбрым солдатом. Мы, немцы, умеем отдавать должное храбрецам. Сразу скажу, господин Тахиров, что отношусь к вам с большим уважением.
— Странно такое слышать от фашиста.
— Только, господин Тахиров, не надо всей этой идеологической чепухи. Фашисты, коммунисты… Есть только две разновидности людей — люди благородные и люди низкого происхождения. Храбрец — всегда благороден. Поверьте, я изучал историю туркмен и знаю, что среди них никогда не было недостатка в храбрецах. Но то, что продемонстрировали вы… Знаете ли вы, что в бою с вашим отделением мы потеряли почти половину роты? Видите, я от вас ничего не скрываю. Вы храбрец, господин Тахиров, и мы, люди благородного происхождения, высоко ценим вашу отвагу.
— А как вы относитесь к тем, кого вы пытаете… к детям и женщинам… к партизанам… Разве из-за своих зверств вы не утратили права на звание нормальных людей?
— К сожалению, господин Тахиров, во время войны случаются жертвы и среди мирного населения. Да, это печально. Что же касается пыток… да, тому, кто попадает в руки гестапо, не позавидуешь. Но и это приходится отнести за счет войны, которая, увы, может создать превратное мнение о тех прекрасных целях, которые преследует национал-социалистическое движение.
— Вы называете прекрасной целью установление «нового порядка»?
— Да, мир нуждается в новом порядке. — Майор Хильгрубер говорил задушевным голосом, со стороны могло показаться, будто беседуют два старинных приятеля. — Зло и несправедливость царствуют в мире. Люди недовольны жизнью. А в чем причина? Причина в людском эгоизме, он разобщает людей. А это в свою очередь ведет к ослаблению государства. Вот почему мы, национал-социалисты, за строгую дисциплину, преклонение перед железной волей великого вождя. Надо связать всех людей воедино. Общество должно работать, как хорошо выверенный механизм, каждая шестеренка должна выполнять работу, для которой предназначена. Рабочий — работай на заводе. Крестьянин — занимайся сельским хозяйством, заботься об урожае и не беспокойся об остальном, что тебя не касается… ну и так далее. И над всем обществом, над всеми людьми должен царить единый закон. Все обязаны подчиниться закону, а преступники будут безжалостно уничтожены.
— Но вы не спрашиваете у людей: нравится им ваш порядок или нет? Вот в чем дело. Каждый народ должен сам устанавливать свой уклад. А вы напали на нашу страну и теперь хотите, чтобы она приняла эти ваши порядки?
Нет, не ошибся майор Хильгрубер, выбрав Тахирова для обработки. Именно такой и нужен в качестве представителя туркменского народа.
— Вы правы, господин Тахиров. По-настоящему, нам нужно было бы мирным путем доказать преимущество национал-социалистического государства. Но теперь об этом поздно говорить. Мы были вынуждены начать эту войну. Когда мы победим, люди поймут, что мы желаем им только блага.
— Вы хотите превратить свободных людей в рабов.
— Вы идеалист, дорогой господин Тахиров. Но мне в вас это очень нравится. Вы именно такой человек, о встрече с которым я давно мечтал. Мне нравится, что вы думаете о других. Как вы считаете, что сейчас важнее всего?
— Чтобы люди снова могли жить свободно.
— Превосходно. Именно эти же цели преследует и туркестанский комитет. Таким образом, вам остается только связаться с ним и приложить свои силы для победы общего дела.
— Я никогда не слышал ни о каком туркестанском комитете.
— Не торопитесь. Такому человеку, как вы, найдется достойное место, поверьте. Работы у вас будет немало — ведь туркестанский комитет предназначен управлять Туркестаном после окончания войны. Подумайте над моим предложением, господин Тахиров. Такая возможность помочь своему народу предоставляется далеко не каждому…
Так закончился первый, но далеко не последний разговор майора Хильгрубера с Тахировым.
Хильгрубер не торопился. Он и не рассчитывал сразу же склонить Тахирова к сотрудничеству, а кроме того, он хотел получше к нему приглядеться. Он не разделял взгляды тех, кто полагал, что миром правит прежде всего страх. Да, используя страх, можно на какое-то время завоевать народ, но
держать его в страхе постоянно невозможно. Скорее наоборот, и история давала этому достаточно примеров; убить человека иногда оказывалось легче, чем заставить его покориться. Таков уж человек, и переделывать его майор Хильгрубер не хотел. Да и зачем? Ведь существовало множество иных путей использования людей в своих целях, и наиболее действенным майор Хильгрубер считал убеждение. Бескровный, самый гуманный путь. Кроме того, человек не запуганный, а убежденный, служит гораздо лучше.
Этих людей называют изменниками, ренегатами… Даже гауптштурмфюрер Шустер признался, что его тошнит от предателей. А вот майора Хильгрубера от них не тошнит. Борец, потерпевший поражение, может со временем снова выйти на ковер и победить. Но борец сломленный, потерявший веру в себя, еще до начала схватки обречен на поражение.
Его, Хильгрубера, задача — готовить из потерпевших поражение борцов предателей, которые не знают, что они предатели. Чем больше людей, служивших в Красной Армии,
сознательно перейдут на сторону Германии, тем слабее станет вражеский народ и тем скорее наступит победа.
* * *
Еще в первый день пребывания в штабе батальона Хильгрубер обратил внимание на рослую блондинку с нашивками шарфюрера СС, которая рассматривала его пристальным беззастенчивым взглядом.
— Что это за Венера? — спросил тогда же майор у Шустера.
— Шарфюрер Урсула Зиммель. Наша переводчица, — буркнул Шустер нехотя.
Сегодня Хильгрубер вызвал переводчицу к себе.
— Господин майор. Шарфюрер Зиммель прибыла в ваше распоряжение.
Снова этот беззастенчивый взгляд огромных голубых глаз. Словно ты выставлен голым на всеобщее обозрение.
— Садитесь, Урсула.
Из своих неиссякаемых запасов Хильгрубер уже достал бутылку «Наполеона», шоколад, конфеты. Разлил коньяк по стаканам.
— Ну, за знакомство, шарфюрер.
— За нашего фюрера, господин майор!
— Разумеется, разумеется… закусывайте.
— Я не ем сладкого, господин майор. Я считаю, что сладкое расслабляет истинного воина. Мы должны в этом брать пример с древних германцев.
От стакана коньяка лицо шарфюрера стало розоветь.
— Да садитесь же. За что вы получили этот «железный крест»?
— Одна из рот начала отступать. Русские могли захватить штаб батальона. Я легла за пулемет и начала стрелять по отступающим. Им ничего не оставалось делать, как проявить героизм и умереть от русских пуль, но штаб батальона был спасен.
— А солдаты не пристают к вам?
— Нет, господин майор. Они меня боятся. Правда, недавно один ефрейтор попытался полезть ко мне со всякими слащавыми глупостями, но я показала ему парабеллум, и он быстро успокоился.
— O! Вы настоящая арийка! Вы отрицаете любовь?
— Любовь? Это чувство знакомо только избранным натурам.
— Еще коньяку?
«Сумасбродная фанатичка, — решил майор. — Таких сейчас много. Обожают фюрера и готовы служить любому «настоящему арийцу». А впрочем, не мне исправлять нравы войск СС».
— А как вы относитесь к мужчинам?
— Мне нравятся мужчины, олицетворяющие собой высшую расу.
— Значит, мы может выпить с вами за любовь.
После второго стакана коньяка лицо Урсулы Зиммель пошло багровыми пятнами. Взор ее несколько затуманился, но по-прежнему был откровенен. Что ж, он вовсе не будет строить из себя монаха. Но прежде всего дело.
— Я рад буду познакомиться с вами поближе, шарфюрер, — многозначительно сказал Хильгрубер. — Я буду
очень рад, — повторил он. — Однако разрешите мне поговорить с вами о делах весьма важных. Садитесь, это не простой разговор. Не исключено, что поначалу он может показаться вам несколько странным, но… мы, немцы, судьбой обречены на мировое господство. А это хотя и почетная, но нелегкая миссия. И для достижения этой великой, поставленной перед нами фюрером цели, мы должны быть готовы на любые жертвы.
Шарфюрер Урсула была готова на любые жертвы.
— Нет, нет, — остановил ее Хильгрубер. — Не торопитесь, милая… сначала я хочу вам кое-что показать.
И он разложил на столе карту.
— Посмотрите. Вот Средняя Азия. Здесь живут азиаты — таджики, узбеки, туркмены. В скором времени наши войска дойдут до этих мест.
Урсула Зиммель смотрела на карту, тяжело навалившись на плечо майора.
— Там… живут… дикари?
Майор понял, что не следовало предлагать шарфюреру второй стакан коньяка. По крайней мере до окончательного разрешения интересовавшего его вопроса.
— Вообще-то у них древняя культура… впрочем, вам это неинтересно. Посмотрите лучше сюда — это страна туркмен. Какая просторная территория…
— Там, наверное, много змей?
— Змеи водятся везде, не только в пустыне. Но вам, милая, совершенно незачем думать о змеях. Ведь вы будете жить в роскошном дворце и…
— Говорите мне лучше «ты»…
— …ты будешь жить в роскошном дворце, а змей увидишь лишь в фильмах.
— И я… буду путешествовать по этой Азии, на чем там они путешествуют, на слонах?
— На верблюдах. Но ты не просто будешь путешествовать. Если ты захочешь, ты можешь прийти туда властительницей.
— Вы говорите это всерьез? О, это было бы прекрасно…
— Ты готова выполнить ответственное поручение фюрера?
— Ради фюрера я готова на все, господин майор.
— Значит, ты смогла бы стать женой хана?
— Чьей женой?
— В Азии ханом называют властителя. В данном случае речь идет о человеке, который, возможно, будет от имени фюрера управлять всей этой территорией.
— Но… где он… этот хан?
— Ты уже видела его.
— Не тот ли это… пленный, с которым вы вози… которым вы занимаетесь?
— Это именно он. Если он поведет себя умно, он может стать ханом Туркмении, а ты его ханшей.
Урсула Зиммель попыталась собрать воедино разбегающиеся мысли. Ханшей? А почему бы и нет? Ведь фюрер обещал, что каждый эсэсовец будет владеть частью этой огромной страны. Кому-то достанется город, кому-то несколько деревень. Почему бы ей не завладеть целой страной? Турк… менистан? Почему-то ей казалось, что там должны быть слоны. Или это в другом месте? Ей вспомнилась книга, которую она читала до войны. В ней описывалась жизнь в гареме. Какой-то азиат содержал в гареме двести женщин… да, кажется так…
— А гарем… — спросила она. — Гарем там будет?
— Вот это разговор, — одобрительно сказал Хильгрубер. — Захочешь, будет. Отберешь себе сколько угодно мужчин по своему вкусу.
— А этого… хана… я отправлю тогда чистить сортир…
— Да, конечно. Это уж как пожелаешь.
Хильгрубер не позволил себе засмеяться. В сущности, простая доверчивая девушка. Главное, чтобы она помогла выполнить ответственное и важное задание.
А Урсула уже неслась на волнах воображения. Гарем из лучших мужчин. О, это было бы великолепно. Фантастично. Такого нет ни у кого. А что? Ведь бывают вещи, которых вначале вообразить нельзя, а потом они оказываются возможными. Эльза, например, ее школьная подруга, глупая гусыня, вдруг взяла и вышла замуж за какого-то невообразимо древнего старика и теперь купается в роскоши. Она сама намекала, что у нее не переводятся молодые любовники из лучших семей. Эльза, конечно, привирает, она всегда привирала, но ведь Урсула ей не чета. Она уже год, как на фронте, и у нее «железный крест», да и вообще, разве можно сравнивать ее с Эльзой…
— Что я должна делать с этим… будущим ханом?
— Ты должна сделать все, чтобы он не захотел с тобой расстаться, — сказал майор. — А пока…
* * *
Встреча шарфюрера Урсулы Зиммель с «будущим ханом — президентом нового Туркменистана» состоялась на следующий день. Ожидая, когда к ней приведут пленного, она завела походный патефон и предалась мечтам. Она воображала, что живет в мраморном дворце и прогуливается под пальмами. Каждое утро она будет по нескольку часов лежать в ванне, наполненной шампанским.
Урсула выросла в бедной и большой семье. Ее отец, мелкий чиновник, был близким приятелем Генриха Гиммлера и одним из первых вступил в фашистскую партию. Он погиб в уличных боях тридцатого года, оставив семью на грани нищеты. Матери пришлось наниматься уборщицей в доме богатых эмигрантов, сбежавших из России во время революции. В этом доме, куда мать вскоре стала брать ее с собой, Урсула и научилась русскому языку. Способности, впрочем, у нее были неважные, из школы ее не исключали лишь потому, что она была дочерью «героя».
Иногда ей приходилось слышать разговоры о том, что существуют и иные идеи, кроме идей фюрера. Она стала сообщать об этих разговорах куда следует, ей нравилось, что люди, критиковавшие фюрера, исчезали после ее доносов неведомо куда. Это было правильно, считала она, ведь только фюрер дал молодежи ясные перспективы будущего и избавил от ужаса безработицы и безверия. Так она и сказала однокласснице, которая, встретив Урсулу в безлюдном месте, обозвала ее доносчицей.

— Если бы я сейчас пошла в гестапо, тебе не поздоровилось бы. Но я тебя прощаю. Когда ты поймешь, как велик фюрер, ты будешь мне благодарна.
С первых дней войны на Востоке она уже была на фронте, не в последнюю очередь благодаря знанию русского языка. И вот уже ее грудь украшает «железный крест», и офицеры батальона наперебой ухаживают за ней. А теперь в ее жизни намечается новый поворот — она станет правительницей огромной азиатской провинции. Наконец-то на ее билет в жизненной лотерее выпадет крупный выигрыш.
Когда привели Тахирова, Урсула заварила зеленый чай. Этому искусству ее обучил Хильгрубер.
Урсула была очень любезна.
— Господин майор скоро придет. Садитесь, выпейте чаю.
Чай оказался превосходным.
— Вы переводчица? — спросил Тахиров.
— Да, — сказала Урсула. К своему удивлению, она чувствовала себя не совсем уверенно. Как странно держится этот азиат. Словно он действительно хан, а не пленный большевик. Неужели он нисколько не боится? Ведь если он попадет в руки к Шустеру… — Жаль, что мне не довелось быть вашей переводчицей.
— Неужели вам нравится допрашивать людей, оказавшихся в плену?
Урсула предпочла не отвечать. Она улыбнулась с неуклюжим кокетством:
— О вас уже здесь ходят легенды, господин Тахиров. Многие уже завидуют вашему большому будущему.
— Я был без сознания, когда попал в плен. Если бы не это, пожалуй, мое будущее было бы неплохим.
— O! Все называют вас героем. Давайте выпьем за мужество.
Тахирову была ясна игра Хильгрубера, и он жалел эту девушку, которую майор так явно пытался использовать в собственных целях. Вроде бы умный человек этот майор, а так плохо разбирается в людях. Неужели он хоть на минуту поверил, что меня можно превратить в изменника? А может, он и на самом деле не так умен, как кажется. Тогда стоило бы рискнуть… да, все на свете отдал бы Тахиров, лишь бы ему хоть на минуту дали выступить по радио. Он улыбнулся про себя и поднял стакан с коньяком. Урсула прижалась к нему упругим плечом. Ей нравился этот азиат! Это было невероятно, но он нравился ей больше, чем Шустер, и даже больше, чем майор Хильгрубер…
— Да, господин Тахиров. Выпьем… за наше будущее. Женщины любят мужественных людей. Особенно когда к ним благосклонна судьба. Когда вы сделаетесь президентом Туркменистана, может быть, я стану вашей… вашей… — Она хотела сказать «вашей женой», но это у нее почему-то не получалось, и тогда она закончила: — Может, я стану вашим секретарем…
* * *
Превосходно! Хильгрубер потирал руки. Он был доволен, он был в прекрасном расположении духа. Все идет, как задумано. Урсула просто молодец. При встрече с ней Тахиров явно вспомнил о том, что жизнь прекрасна, и теперь он захочет жить. А когда он захочет жить…
— Итак, Гарахан Мурзебаев, я даю тебе ответственное поручение. Тахиров должен выступить по радио. Бери карандаш в руки и пиши: «Дорогие соотечественники…» Ну, что там у тебя?
— Господин офицер, было бы лучше написать: «Дорогие братья…»
— Молодец. Ну, пиши: «Дорогие братья. Я — старший сержант Айдогды Тахиров, которого вы знаете очень хорошо…»
— Господин офицер! Тахиров не скажет «очень хорошо»…
— Черт бы вас всех побрал. Ладно. Я продиктую тебе только смысл выступления. А ты подумай сам и напиши такой текст, чтобы
там поверили, что это говорит Тахиров.
— Понял, господин офицер, — покорно сказал Гарахан.
— Пиши дальше: «Вы знаете, что я всегда стремился к справедливости и истине. Теперь я убедился, что большевистские комиссары обманывали нас в отношении Германии. Непобедимая немецкая армия ведет войну за освобождение народов от большевистского гнета. Весь немецкий народ любит Гитлера и героически сражается под его мудрым руководством. Германская армия несет туркменскому народу самостоятельность, свободу, изобилие и счастье. Когда я поверил в это, я добровольно перешел на сторону немцев.
Братья! Не проливайте понапрасну свою кровь. Не помогайте этой войне, переходите на сторону Германии, и война для вас закончится. Здесь ждут вас свобода, безопасность, сытная еда и отдых…»
— Господин офицер… а кто это будет читать?
— Вот ты и будешь, Мурзебаев.
— Но… мой голос вовсе не похож на голос Тахирова.
— Не имеет значения. Ты прочитаешь это обращение в разгар боя, и никто не поймет, чей это голос…
* * *
Майор Шияхметов никогда не пил вина. Разве что в самых исключительных случаях, на свадьбе или в праздники мог он пригубить рюмку. Но сегодня он выпил стакан водки — и не праздник был тому виной.
Но и стакан водки не заглушил его душевной боли. Он не понимал ничего и отказался верить самому себе. Неужели он мог ошибиться? Эх, Тахиров, Тахиров! Как же так? Я-то думал, что знаю тебя, верил тебе больше, чем самому себе. И ошибся. Неужели Сарыбеков прав и никому нельзя доверять? Ведь если Тахиров стал предателем, кому тогда можно верить? Что должны были сделать с тобой немцы, чтобы поставить тебя на колени, толкнуть на измену и предательство?..
— Вы уже в курсе дела, товарищ майор?
«А, Сарыбеков. Тут как тут. Словно коршун над падалью. На твоем лице улыбка. Ты радуешься измене бойца, а у меня на душе непроглядная ночь…»
— Да, — ответил комбат коротко. — Я в курсе дела.
— Это произошло потому, товарищ майор, что вы ослабили бдительность. Моя вина в этом тоже есть. Потому и смогла случиться подобная история, которая теперь черным пятном легла на всю нашу бригаду…
Шияхметов все думал о Тахирове и о том, что с ним могло случиться там, в плену. В этот день комбат потерял свою несокрушимую веру в человека, и это ранило его больнее всего, а Сарыбекова заботила только бдительность.
— Мы должны были это предвидеть.
— Да разве такое, товарищ капитан, можно предвидеть?
— Не обязательно думать, что такой-то человек может оказаться предателем. Но исключать этого никогда нельзя.
— С людьми, с которыми живешь и умираешь, товарищ капитан, нельзя обращаться, держа за пазухой камень подозрения.
— И все-таки нужно быть настороже. Каков, однако, Тахиров! Ведь чтобы ввести нас в заблуждение, он всю жизнь рядился в обличье честного коммуниста. С басмачами воевал, на самый опасный участок фронта напросился…
— И даже пятьдесят фашистов отправил на тот свет, чтобы половчее нас обмануть…
— Товарищ майор, давайте договоримся сразу. Я не обвиняю вас лично в том, что предатель не был своевременно разоблачен. Уж больно хорошо он сумел замаскироваться. Но это должно послужить нам всем предостережением и уроком, и мы, невзирая на лица, должны усилить бдительность. Чтобы этот случай был последним.
— Значит, вы с самого начала считали Тахирова волком в овечьей шкуре, товарищ капитан?
— Во всяком случае, вы не можете припомнить, чтобы я его хоть раз похвалил, — резко сказал Сарыбеков.
«А кого ты вообще в жизни хоть раз похвалил?» — хотел спросить у него комбат. Но вместо этого сказал:
— Ладно, капитан. Твоя взяла. Надо всех подозревать, ты прав. Но скажи мне, почему ты молчал? Ведь ты земляк Тахирова. Почему ты никогда, ни единым словом не обмолвился мне о своих подозрениях? Скажи, капитан, почему?
Но капитан Сарыбеков ничего не ответил комбату. Он был прав и ни в какие споры с комбатом вступать не хотел. «Ищет, с кем разделить вину. Здесь я ему не компания», — подумал капитан. Его в это грязное дело никому замешать не удастся.
* * *
Теперь Тахирова ожидало испытание, самое тяжелое в жизни. Он, с детства ненавидевший ложь и притворство, должен натянуть на себя фальшивую маску, играть роль предателя. По силам ли ему эта роль? Выдержит ли он ее, не выдаст ли себя раньше времени?
Он обязан вынести все.
— Я проиграл, — сказал он майору Хильгруберу. — Ведь вы отняли у меня даже возможность умереть достойно.
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, господин Тахиров. Я не хочу проводить никаких аналогий, но наш фюрер начал восхождение к вершинам власти в чине ефрейтора, а вы — старший сержант… Так что вы можете начать все сначала, и платой за мужество вам будет выигранная жизнь.
— Спасибо, господин майор. Я верю, что смогу выиграть… потому и признал себя побежденным. Хотя это нелегко.
— Вы правильно поняли меня, господин Тахиров. Мужественный человек никогда не откажется от малейшей возможности продолжить борьбу. Вы никогда не пожалеете о своем решении. Глупо было бы уподобиться неразумным фанатикам, которые возможности жить предпочитают смерть, а с нею — мрак забвенья.
«…И ты это слушаешь, Айдогды? И ты молчишь? Судьба, судьба… как безжалостны твои удары. Вот я сижу, натянув на себя вонючую шкуру предателя, а напротив меня, улыбаясь, разглагольствует враг. А ты? Слушаешь его, отвечаешь что-то, киваешь головой. Ты согласен с ним? Почему ты не убьешь его? Почему ты не убьешь себя, не вырвешь из груди свое сердце? Я должен терпеть. Потерпи, сердце, потерпи. Другого выхода нет. Ты готово тоже обвинить меня в черном предательстве? Не спеши. Это и есть борьба. Тебе придется запастись терпением. Вместе со мной…»
* * *
Вести о последнем бое своего отделения настигли Ахмеда Оразова уже в полевом госпитале.
— Когда наши подоспели на помощь, на поле валялось сорок девять фашистских трупов, — рассказывал вновь поступивший в госпиталь боец.
— А Тахиров-то как? — жадно спросил Ахмед.
— Ни Тахирова, ни Мурзебаева так и не нашли. Пропали без вести.
— А может, они попали в плен? — спросил сосед Ахмеда.
— Ничего не известно. Никто ничего не знает.
Но уже через несколько дней писклявый сосед принес откуда-то дурную весть.
— Вот ты тут, приятель, все нахваливал нам своего Тахирова, превозносил его до небес. И такой он у тебя, и этакий. А он опозорил имя туркмена, понял? Выступил по радио, говорил, что признает свои ошибки, звал к себе кушать белый хлеб… Вот тебе и герой…
Ахмед рывком приподнялся на койке.
— Ты… ты… — голос его прерывался. — Благодари судьбу, что я тебя не могу увидеть. Свернул бы шею, как курице.
— Но, но, — сказал тонкоголосый и на всякий случай отсел подальше. — Не больно-то…
— Молчи. Что ты знаешь о Тахирове? Я делил с ним хлеб и соль, месяц жил в одном блиндаже, ты понял? Не на передовой даже, а в боевом охранении. Там день за год надо засчитывать. Там ничего нельзя скрыть, даже если и захочешь, кто какой есть, все видно словно на ладони.
Тонкоголосый сосед ответил со злостью:
— Опять завел свое. Сказано уже, Тахиров выступал по радио. Ты что же, заступаешься за предателя?
— Да если я вообще никогда больше ничего не увижу, и то буду видеть больше, чем ты. Всегда смогу отличить предателя от честного человека. И я тебе говорю снова. Тахиров не предатель! Я знаю его. И буду верить ему до самой смерти.
И, уронив голову на подушку, Ахмед натянул одеяло на голову.
* * *
— Шах! — сказал Хильгрубер.
Шустер вытер вспотевший лоб и сделал ответный ход.
— Я думал, мне конец, — признался он. — Теперь мой король спасся.
— Вы так считаете, гауптштурмфюрер?
— Да, господин майор. Этот ход был единственным, и я его не упустил.
— Это ошибка, гауптштурмфюрер. Мне нужно было оставить вам именно этот ход, и вы его сделали. Это мой метод, гауптштурмфюрер: я прижимаю противника в угол и оставляю ему один-единственный ход. Он делает этот ход, а затем… я выигрываю. Вот так!
— Мат? Черт побери…
— Не огорчайтесь, гауптштурмфюрер. Это всего лишь игра. Как и вся
наша жизнь, впрочем. Но и тут лучше выигрывать.
Шустер небрежно смел фигурки с доски и поднялся.
— На доске вы одержали победу, господин майор. А как идет ваша игра с пленным азиатом?
— Не беспокойтесь, Шустер. Все будет как надо. Сегодня мы дадим ему возможность выступить по радио.
Гауптштурмфюрер хрипло засмеялся.
— Единственный ход, а, майор? Но вы не знаете ни большевиков, ни азиатов. Этот пленный унтер-офицер обманет вас.
— Знаю, что обманет. Поэтому сегодня мы дадим ему откровенно высказаться перед отключенным микрофоном.
* * *
Капитан Сарыбеков, насупившись, сидел за столом. Он был очень недоволен и не собирался этого скрывать от сержанта, который стоял перед ним с рукой на перевязи.
Бондарь никак не мог понять, чего от него хочет Сарыбеков. Вроде бы они уже все выяснили. Неделю назад Сарыбеков обвинил Ивана Бондаря в дезертирстве. «Из части, в которой вы служили, товарищ сержант, — сказал он тогда, — пришло письмо. Вас там разыскивают». «Мой командир знает, что я остался здесь, — ответил Бондарь. — Он разрешил мне». — «Попрошу показать это разрешение?» — «Если говорить по правде, — признался Бондарь, — он разрешил мне остаться здесь на время. Сказал, чтобы я потом догнал свою часть». — «Значит, сержант, вы и есть дезертир». — «Но как я понял, дезертиры убегают с фронта, а я остался на передовой». — «Не имеет значения, где вы остались, — отрезал Сарыбеков. — Главное, что вы находитесь не там, где вам положено быть. А это и есть дезертирство…»
Дело могло кончиться плохо, если бы не комбриг. «Оставьте Бондаря в покое, — распорядился он. — Я сам напишу в его часть». Чем же теперь недоволен этот капитан?
— Я слышал, вы распространяете слухи о каких-то «подвигах» Тахирова. Так ли это?
— Я ничего не «распространяю», товарищ капитан. Я рассказываю то, что видел собственными глазами.
— Разве вам неизвестно, что Тахиров изменил Родине и перешел на сторону врага?
— Да, я слышал такие сплетни. Поэтому и говорю всюду, что это ложь, и рассказываю, как было на самом деле.
— Это называется агитацией в пользу противника. Вы понимаете?
— А как называется клевета на героя, товарищ капитан?
— Кто был на передовой в то время, слышал выступление этого «героя» по фашистскому радио.
— Я тоже собственными ушами слышал, товарищ капитан. Это выступал Гарахан Мурзебаев. Не только я, многие узнали его голос.
— Товарищ сержант, если вы считаете, что Тахирова обвиняют в измене неправильно, обратитесь письменно в соответствующие органы. Но лучше не суйте нос не в свое дело. Можете идти.
— Есть идти. Только если бы, товарищ капитан, каждый из бойцов воевал, как Тахиров, мы бы давно уже перешли немецкую границу.
— Стойте, сержант. Вы понимаете, что говорите?
— Так точно, понимаю.
— Много берете на себя. И я этого так не оставлю. А пока что запрещаю вам произносить имя Тахирова!
Не успел Бондарь выйти, как зазвонил телефон. Говорил комбат Шияхметов.
— Товарищ капитан. Выяснилось, что по фашистскому радио выступал Мурзебаев.
Но Сарыбеков уже был готов к этому.
— Вполне возможно, — сдержанно сказал он.
— Значит, необходимо немедленно пресечь клеветнические разговоры о Тахирове. Если мы не примем самых решительных мер, эта клевета может дойти до Туркменистана.
— А если мы сегодня оправдаем его, а завтра он все же выступит по фашистскому радио? Об этом вы подумали?
— Тахиров никогда не предаст Родину! Я готов за него поручиться.
— Я уже говорил вам в прошлый раз — в подобных случаях никто ни за кого ручаться не может. Вы рискуете, товарищ майор, и риск этот совершенно неоправдан.
— Речь идет о судьбе человека. О его имени. О его чести.
— Я все понимаю. Но сейчас решаются судьбы Родины, всего государства, всех нас. И каждый из нас прежде всего должен думать об интересах страны в целом. Да, при этом возможны и ошибки, а кто-то может оказаться жертвой. Допустим даже, что Тахирова действительно оклеветали и он честно погиб от руки фашистов. Но кто докажет при этом, что он не выдал военных секретов? Одним словом, как ни крутись, на войне без жертв не бывает. Пусть лучше погибнет невиновный, чем уцелеет виновный. Разберемся после победы.
— Это не партийная точка зрения, товарищ капитан.
«Странные люди, — подумал Сарыбеков. — Я их не понимаю. Защищать Тахирова… Разве можно рисковать своей репутацией ради какого-то старшего сержанта? А если он и впрямь окажется предателем? Сколько вреда причинит он нашей пропаганде! Нет, не надо думать об искрах, когда горит большой костер. И дело здесь вовсе не в моей неприязни к Тахирову. Да, могу признать, я не симпатизировал ему никогда, но разве о личных чувствах идет сейчас разговор? Есть объективные обстоятельства, и не в Тахирове дело, а в принципе, и окажись на месте Тахирова любой другой боец, я отнесся бы к нему точно так же…»
* * *
Майор Хильгрубер и впрямь проявил себя тонким психологом. Как он и ожидал, Тахиров не стал читать заранее написанный текст.
Но уже после первых же слов, произнесенных перед микрофоном, он уловил на лице майора довольную усмешку и понял, что микрофон отключен. У него хватило самообладания не показать этого, и он говорил о своей ненависти к фашизму до тех пор, пока своими словами не стер улыбку с лица майора и тот, криво усмехаясь, не прекратил эту, по его словам, «трагикомедию».
Да, Хильгрубер был прав, говоря, что не рассчитывает на быстрый успех, однако его насторожило и обеспокоило то, с какой яростной и нескрываемой ненавистью Тахиров говорил о фашизме. Что ж, подумал он, тем почетней будет победа над подобным противником. Что толку в человеке, который быстро отказывается от своих убеждений? Какую ценность могут иметь его слова? Как это русские называют изменников? Шкурниками, людьми, дрожащими за свою шкуру. Удивительно богатый язык. Так вот, ему, майору Хильгруберу, для осуществления задуманного, шкурник был ни к чему. Ему был нужен настоящий представитель туркменского народа, короче, вот этот старший сержант, именно он и никто другой. И он готов был ждать столько, сколько потребуют обстоятельства.
Кроме того, из Берлина сообщили, что в помощь ему направлен специальный сотрудник. С одной стороны, это было хорошо, так как показывало, насколько серьезна порученная ему задача. С другой стороны, это было напоминание, что время не ждет.
Вечером майор Хильгрубер сообщил об этом Шустеру.
— К нам из Берлина едет гость, господин гауптштурмфюрер. Вам, как хозяину, придется его встречать.
Шустер, успевший как следует подзаправиться спиртным, пробурчал что-то насчет кабинетных вояк.
— По указанию имперского министерства по делам Востока, дорогой гауптштурмфюрер, создано туркестанское правительство. Представитель его и прибудет вскоре к вам.
— Плевать я хотел на этих азиатов. А берлинские умники с таким же успехом могли бы прислать сюда парочку обезьян. Пользы было бы ровно столько же.
— Этот азиат, гауптштурмфюрер, состоит на службе великой Германии. Как и мы с вами, между прочим.
У Шустера было сильное желание сказать этому задаваке все, что он о нем думает. Строит из себя важную шишку, а сам не в состоянии справиться с каким-то недочеловеком. Слюнтяй несчастный. Непонятно, что нашла в нем Урсула. Может быть, она надеется, что майор поможет ей найти теплое местечко в Берлине?
— Я фронтовик, а не тыловая крыса. И вилять не собираюсь ни перед кем. Если хотите узнать правду, прислушайтесь к тому, что я вам скажу, не хотите — не надо. Ни черта вам не удастся вытянуть из этого азиата, пока вы не поймете, что все люди, все без исключения, но особенно те, кто стоит на низших ступенях развития, подчиняются только силе и ничего, кроме силы, не понимают.
«Значит ли это, гауптштурмфюрер, что вы тоже азиат, — подумал майор. — Ведь ничего, кроме грубой силы, и вы не признаете».
Но ничего не сказал.
«Сила, еще раз сила, одна только сила, — подумал он. — С такими людьми, как Шустер, трудно будет дойти до победы. Глупец! Он собирается править миром. А в мире живут два с половиной миллиарда человек, в то время как немцев только шестьдесят миллионов. И дважды глупец тот, кто в таком деле надеется обойтись только своими силами, без пособничества местного населения. Как ни крамольна эта мысль, приходится признать, что сама идея фюрера о безоговорочном превосходстве германской расы нуждается в некотором усовершенствовании».
Майор Хильгрубер считал, что древний принцип «разделяй и властвуй» до сих пор, несмотря на свой почтенный возраст, отнюдь не утратил своего значения…
* * *
Чего угодно ждал майор Хильгрубер от Берлина, но когда ему доложили, что прибыла какая-то азиатка, он опешил. Что за чушь? Здесь явно была ошибка, которая вполне возможна, когда дело касается столичных ведомств. Но ведь ему нужен умный националист, который мог бы затронуть слабую струну упрямого сержанта. А вместо этого…
Но еще больше он был поражен, когда в блиндаж вошла стройная женщина с огромными глазами на тонком смуглом лице.
— Хайль Гитлер, господин майор. Будем знакомы. Меня зовут Меджек-хан.
— Майор Хильгрубер…
— Признайтесь, вы не ожидали, что к вам пришлют женщину?
Майор замялся.
— Мне кажется, что в вашем имени есть какая-то тайна…
— Вы правы, господин майор. Мой отец был знаменитым аламан-баши, предводителем отряда отчаянных храбрецов. Несмотря на запрет русского царя, он совершал набеги на Иран. После революции товарищи моего отца по набегам стали контрабандистами. Они получали огромные барыши, но отец не захотел иметь с ними никаких дел. И вот тогда-то его арестовали, без всякой вины. Я уверена, что он погиб. Я была тогда двадцатилетней девушкой, и сердце мое не могло примириться с несправедливостью.
— Вы и сейчас, словно двадцатилетняя девушка, — галантно сказал майор.
— Мой отец хотел иметь сына-джигита, но аллах дал ему меня.
— А он, в свою очередь, дал вам мужское имя. Верно?
— Да. Он надеялся, что я заменю ему сына.
— Вы уже ознакомились со сведениями о пленном?
— В этом нет никакой необходимости, господин майор. С Айдогды… с Тахировым я знакома. Мы родились и выросли в одном ауле. Это — одна из причин моего появления здесь.
— Прекрасно! Значит, вы верите в возможность его перехода на сторону Германии?
— Иначе я не приехала бы сюда, господин майор.
— Тогда я искренне рад вашему приезду. Отдохните с дороги. У нас с вами будет много возможностей получше узнать друг друга.
Майору Хильгруберу было о чем подумать. То, что при упоминании имени Тахирова эта прелестная представительница туркестанского комитета запнулась и покраснела, говорило о том, что не одно только желание помочь Германии и фюреру привело ее сюда из Берлина. Что-то связывало их — эту красавицу и пленного сержанта. Иначе вряд ли она бросила бы Берлин. Но какова красота этой женщины! Многие мужчины сочли бы за честь добиться ее благосклонности даже в столице рейха, а она едет на передовую ради пленного. Попытки рассматривать историю человечества с точки зрения интимных отношений, конечно, весьма сомнительны, но отрицать роль чувства в исторических событиях никак нельзя.
А Меджек-хан переодевалась. Надела платье из кетени. Нацепила серебряные украшения. Руки ее дрожали, когда она прикалывала к груди «гульяка». Айдогды, Айдогды… Может ли быть такое? Сколько же ему сейчас? Тридцать пять, тридцать шесть. Целая жизнь позади. Он, наверное, женат… наверное, есть дети. Узнает ли он ее, вспомнит ли? Изменился ли он, или все такой же — прямой, открытый, честный? Поверит ли он ей? Он должен поверить ей, он должен, наконец, узнать правду и, узнав ее, присоединиться к тем, кто борется за истинную свободу Туркмении. Он должен это сделать для всего народа… и для нее…
Урсула вошла, не постучав. Две женщины оценивающе оглядели друг друга.
— Значит, вы и есть тот самый правительственный представитель? — Голос Урсулы яснее слов говорил, что она думает по этому поводу.
«Что с нее взять, — подумала Меджек-хан. — Здоровая молодая немочка, едва достигшая совершеннолетия, но уже считающая себя центром мироздания, тем более что носит военную форму и нацепила на грудь «железный крест». Как высокомерно держится. Как же, высшая раса!» Хотелось сказать этой девушке что-нибудь дерзкое, поставить ее на место… но она прибыла сюда не за тем, чтобы учить правилам хорошего тона военнослужащих СС. Поэтому она после некоторой паузы произнесла только:
— Меня зовут Меджек-хан.
— А перед вами шарфюрер Урсула Зиммель, награжденная «железным крестом» первой степени за особые заслуги.
— Насколько мне известно, шарфюрер — не самое высокое звание в войсках СС.
— Любой рядовой солдат арийской расы намного выше азиатского генерала. А я служу в войсках СС, и это означает, что я принадлежу к избранным арийцам.
— А вам известно, что древняя Ариана находилась как раз там, где моя родина, в Туркменистане. И туркмены, в том числе и я, являются арийцами в самом полном смысле этого слова.
— И вы впрямь считаете себя арийцами? — недоверчиво усмехнулась Урсула. — В самом деле?
— Мой череп обмерили в Берлинском центральном научно-исследовательском институте и выдали свидетельство о принадлежности к высшей расе.
Открыв дверь, Шустер удивленно уставился на Меджек-хан, а та сделала вид, что не замечает его. Наконец, когда зловещая тишина сгустилась до предела, она сказала:
— Шарфюрер, посмотрите, там, кажется, стоит какой-то господин.
«Господин?!»
Разъяренный Шустер шагнул вперед.
— Что это еще за чучело? — обратился он к Урсуле, кивнув в сторону гостьи.
— Она утверждает, что является правительственным посланцем.
— Она слепая, что ли? Не видит, кто вошел?
— Встать! — скомандовала Урсула. — Перед вами гауптштурмфюрер СС.
— Я не служу в армии и не обязана соблюдать ваши порядки.
Не владея собой, Шустер разразился грязной бранью.
— Я тебя заставлю встать, ты… Ты у меня запомнишь, как следует разговаривать с арийцем.
Меджек-хан не поднималась со стула и смотрела на Шустера с нескрываемой брезгливостью.
— Встать!!
— Вы просто идиот, гауптштурмфюрер.
Шустер схватился за пистолет, но тут между ним и Меджек-хан оказался майор Хильгрубер, уже с минуту не без удовольствия наблюдавший за этой сценой. «Да, Шустер никогда не сумеет разговаривать с азиатами. Тем более с азиатами, дорожащими своим достоинством. Но эта… назвать гауптштурмфюрера СС идиотом. Похоже, что им и впрямь неведом страх…»
Улыбаясь, он шагнул к Меджек-хан.
— Я вижу, знакомство состоялось. Разрешите представить вам нашего храброго гауптштурмфюрера Шустера. Это настоящий фронтовик.
Меджек-хан сухо сказала:
— Гауптштурмфюрер отменный собеседник, господин майор. Мы очень мило поговорили.
Шустер запихнул пистолет в кобуру, круто повернулся и вышел, бормоча ругательства.
— Пусть вас не удивляет некоторая грубость фронтовика, — с легкой иронией произнес майор, кивая на дверь, за которой исчез эсэсовец. — В боях с вашими соотечественниками он каждый день теряет своих товарищей.
— Значит, мои соотечественники доказали господину гауптштурмфюреру, что и на поле боя не уступают представителям германской нации.
— Мы вовсе не считаем всех азиатов людьми низшей расы, — примирительно сказал Хильгрубер. — Он поднял с пола удостоверение, оброненное Меджек-хан, и заинтересованно прочитал его. — Вот видите, — сказал он, — было бы в высшей степени несправедливо, если бы такая прелестная и мужественная женщина, как вы, оказались принадлежащей к низшей расе. И все-таки… вы оскорбили Шустера. А он не из тех, кто забывает обиды.
«А может, мы и впрямь недооцениваем этих людей, — думал Хильгрубер, расставшись с Меджек-хан. — Мы заставляем их служить нашим целям, и это, конечно, правильно. Весь вопрос в том, как. Нужны ли нам люди пришибленные, неполноценные, готовые по первому слову выполнить приказ, потому что служат из страха? Но ведь страх можем внушить не только мы, И тогда, значит, они предадут нас в любой момент? Приходится это признать. А каким образом они будут управлять народом? Сможет ли эффективно управлять народом существо, которое корчится от страха перед плеткой хозяина? Кто захочет подчиняться, скажем, какому-нибудь Гарахану? Особенно если речь идет о таком гордом народе, как туркмены. Они с презрением отвернулись бы от подобного правителя. А вот Тахирова не отвергли бы…»
— Господин Тахиров, позвольте сказать вам, что вы вызываете у меня чувство искреннего уважения, — сказал майор при очередной беседе. — Вы настоящий руководитель, сильная личность. Я подозреваю, что вы предпочли бы умереть стоя, чем жить на коленях… так, кажется, у вас говорят.
— И все-таки пытаетесь поставить меня на колени?
— Это вам так кажется. Я взываю к вашему здравому смыслу, стараюсь помочь вам.
— Не мне, а себе.
— И себе, — согласился майор. — Но и вам тоже. Я хочу поднять вас в полный рост, господин Тахиров. А вы имеете шансы подняться очень, очень высоко, можете мне поверить. Все зависит от вашего решения. Все в ваших руках. Даже при самых неблагоприятных обстоятельствах вы остаетесь хозяином собственной судьбы. Вы рождены не для повиновения. Вы достойны возглавить туркменский народ в борьбе за настоящую свободу, о которой он мечтал столько веков…
— Никакой свободы нельзя добиться ценой измены, господин майор. Изменник, в каком бы кресле он ни сидел, не в состоянии вызвать в человеке ничего, кроме глубокого презрения.
— Изменник, действующий из страха за собственную шкуру, и впрямь достоин презрения. Но умный человек может ошибаться, может и осознать свои заблуждения. Разве не переходили на службу Советской власти люди, дававшие воинскую присягу на верность царю? Разве вы называете их изменниками? Человек меняется, и его убеждения тоже. Но это не значит, что он изменник. Вы согласны?
— Согласен. Но ведь мои убеждения не переменились. А раз так, то перейди я на вашу сторону, для меня нашлось бы только одно слово — предатель.
— Подойдем к вопросу с другой стороны, — сказал Хильгрубер. — Во-первых, нам все равно придется кого-то ставить во главе туркменского правительства. Не согласитесь вы, согласится кто-то другой, так что отказываясь от сотрудничества со мной, вы тем самым наносите огромный вред своей родине. А во-вторых, подумайте, что будет с вами. Среди нас есть такие гуманисты, как я, но есть и такие, как Шустер. Неужели вам все равно, в чьи руки после нашей победы попадет Туркменистан?
— Белая свинья или черная — все одно свинья. Так говорит народная мудрость.
— Прощаю вам вашу грубость, господин Тахиров, принимая во внимание ваше положение. Еще раз предлагаю вам сотрудничество, поскольку, отдавая должное вашему мужеству, хочу спасти вас от мучительной и бессмысленной гибели. Упаси вас бог попасть в лапы нашего гестапо.
— Хотите сделать доброе дело?
— Хочу совместить доброе дело с выполнением служебного долга. В данном случае это возможно. Но время не ждет, господин Тахиров, и мои возможности оградить вас от Шустера и от гестапо далеко не безграничны.
— Тогда не теряйте времени понапрасну, господин майор. Я давал присягу и священную клятву на знамени от имени всех туркмен. И если вы можете понять, что это такое, вы не станете больше требовать от меня невозможного.
Неужели этот сержант ничего не понял? Майор Хильгрубер почувствовал, как отчаянье закрадывается в него.
— Послушайте, Тахиров. Разве должен мужественный человек подчиняться несправедливому приговору слепой и равнодушной судьбы? Вы же достойны более счастливого будущего. Разве вам не дорога жизнь, разве вам не хочется каждое утро видеть, как встает солнце? Смерть ваша может стать не только мучительной, но и бесславной: на родине вас будут считать предателем, а вы — вы будете мертвы и ничего не сможете сказать в свою защиту. Разве это не самое несправедливое из всего, что только может случиться с человеком? Не буду скрывать, такой вариант разрабатывается. Шустер предлагает устроить побег вашему однополчанину Мурзебаеву, заставить его для начала расстрелять собственноручно с десяток советских пленных, в том числе и вас, а затем инсценировать «геройский побег». Он даже готов пожертвовать одним из своих солдат в качестве «языка». И вот представьте себе картину: Мурзебаев с орденом на груди рассказывает односельчанам о вашем предательстве, и никто и никогда не сможет его опровергнуть. Представьте, каково придется вашей жене, вашим детям. Не доводите до этого, Тахиров. Пока что мне удается держать Шустера в узде. Но если вы не согласитесь войти в туркестанское правительство, я рано или поздно буду вынужден отступиться от вас.
— Хорошо, — сказал Тахиров. — Допустим, я согласился войти в это так называемое правительство. Но остаются еще миллионы солдат. Остается огромный мир, который сражается против Германии, остается большевизм. Как вы собираетесь справиться с этой силой?
«Большевизм, — подумал Хильгрубер. — Большевизм, марксизм, ленинизм. Что ж, этот фанатик задал неглупый вопрос, попал в точку. Что делать с идеями? С ними ничего поделать нельзя. Зато можно уничтожать людей, проповедующих эти идеи. Убивать, убивать, убивать, пока не уничтожишь всех до единого. В истории такие случаи бывали. Маздакиды, например, проповедовавшие всеобщее равенство, или Муканна, поднявший свое восстание под этим знаменем. Они были уничтожены, стерты с лица земли, а затем взялись за работу историки и замолчали, исказили память о них, а время доделало остальное».
— Большевизм не имеет поддержки в народе. Он держится только на штыках и рухнет, как только будет разбита Красная Армия. Германские войска уже вышли к Волге, господин Тахиров. На самой высокой вершине Кавказа Эльбрусе реет наше победное знамя. Последний день Красной Армии будет последним днем большевизма, и этот день, поверьте мне, не за горами.
— Борьба только начинается по-настоящему. Мне кажется, вы совсем не знаете страны, против которой начали войну.
— Глупости. Война может тянуться чуть дольше или чуть меньше, но исход предрешен. Польша, Франция, Югославия, Норвегия, Бельгия — все они повержены. Они тоже пытались сопротивляться, но оказались бессильны перед несокрушимой мощью нашего оружия и наших идей. Нам покорилась вся Европа.
— Покорилась ли?
— Та ее часть, что еще не покорилась, вынуждена будет выбирать между покорностью или уничтожением. Иного выхода нет. Миром правит сила. Так было и так будет всегда.
— А справедливость? Или вы не принимаете ее в расчет? Или считаете, что и ее можно уничтожить?
— Справедливость основана на добровольном признании более сильного правым. Если человек согласен признать себя слабейшим, никто не станет добиваться его уничтожения. Это и есть справедливость.
Майор говорил все это с нарастающим раздражением, он был недоволен собой. Особенно когда ему, подобно гауптштурмфюреру Шустеру, пришлось сослаться на право более сильного. И хотя, в отличие от Шустера, майор подразумевал под силой духовную мощь нации, все-таки он не мог не признать, что доводы его на этот раз звучали даже для него самого не слишком убедительно.
* * *
Открылась дверь, и перед Тахировым появилась Меджек-хан. Это было, конечно, в бреду, но бред был неотличим от яви. Она была одета в кетени, как тогда, в те далекие годы, и так же искрилась солнечным светом «гульяка» на ее груди.
Мог ли Айдогды не узнать эти глаза, которые безжалостно преследовали его до сих пор, хотел он этого или нет? И пусть это происходило помимо его воли, во сне, над которым у человека нет власти, — все равно ему каждый раз было стыдно перед женой за то ощущение радости, которое он испытывал.
Да, ему было стыдно перед Айсолтан, такой красивой, такой нежной, такой верной. Но разве он виноват? Он любил жену, а во сне видел другую женщину. И не раз он молча, без слов, просил у Айсолтан прощения за свой невольный грех, в котором не было его вины.
И вот опять перед ним эти глаза, которые укоряли, которые преследовали его полжизни, они снова перед ним, но в сновидение врываются и звуки, напоминающие, где он и что с ним, — немецкая речь, грохот орудий.
— Ты узнал меня, Айдогды?
Ее голос он узнал бы среди тысяч голосов, узнал бы на краю света. Так журчит арык возле родного дома, так поют соловьи на деревьях в родимом краю. Но невозможно перевести назад стрелки часов, и прошлое не вернешь обратно. Проснись от сна, который уже не снится тебе, и признай то, что видишь, явью. Нет, это не сон. Меджек-хан наяву стоит перед ним в туркменской одежде, нарядная и красивая как всегда, и только элегантные заграничные туфли, которых не могло быть у той, прежней Меджек-хан, выдают перемену.
— Ты узнал меня?
— Как ты здесь оказалась?
— Я приехала, чтобы спасти тебя. Нет, не думай, я не выполняю чью-то волю. Я сама по себе и приехала сюда по собственному желанию, случайно услыхав твое имя. У меня есть связи в туркестанском комитете, и я рассказала о тебе. И вот я здесь.
— Ты служишь немцам, Меджек-хан?
— Перед тобой я не стану кривить душой, Айдогды. В жизни не всегда выбираешь друзей и врагов. Но я всегда думаю о Туркмении. О ней я думала всегда, о ней и о тебе. Фашисты чудовищно сильны, не обманывай себя. Они победят в этой войне. Они победят Советский Союз, они поработят все народы. Ты помнишь слова Махтумкули: «Ящерица, собравшаяся проглотить солнце, не насытится проклятиями». У Германии ненасытные аппетиты, но я не хочу, чтобы немцы проглотили и Туркмению.
— Значит, немцы — твои враги?
— Нам нужна их помощь, чтобы добиться независимости нашей Туркмении. Поэтому комитет поддерживает с Берлином связь.
— И ты считаешь, что именно фашисты принесут туркменам свободу? Фашисты, которые убивают твоих братьев? Эх ты…
Он чуть было не сказал ей: «Эх ты, продажная шкура…». Но ведь это была она…
— Айдогды, я пришла сюда не для того, чтобы ругаться с тобой…
«Неужели она могла утратить свою правдивость и свою гордость, могла стать фашистским агентом? Но кто догадался подослать ее ко мне? Лишь тот, кто знает о нас двоих, кто знает о нашем прошлом, а в Германии таких людей быть не может».
— Я приехала, чтобы помочь тебе, Айдогды, чтобы спасти тебя.
— Спасти меня невозможно, Меджек-хан. Но себя ты можешь еще спасти.
— Что значит жизнь каждого из нас в отдельности? Мы должны думать о судьбе нашей Туркмении.
— Слышишь, Меджек-хан? Это грохочут наши пушки. Это сражаются твои братья-туркмены, это ведет бой туркменская бригада, которую народ послал на фронт. Неужели ты допускаешь мысль, что туркменский народ согласится принять фашистское рабство? Согласится жить, подчиняясь Хильгруберу или Шустеру? Я не верю, что ты можешь так думать.
— Сейчас настало самое благоприятное время, чтобы добиться наконец полной независимости туркмен. Независимости и от немцев и от русских.
— Ты не имеешь представления о сегодняшних туркменах. Весь народ от мала до велика поднялся на защиту родины. И нет никого, кто поддержал бы тебя.
— Идет война, и обстоятельства могут решительно перемениться. Один из руководителей Америки, вице-президент Трумен, сказал уже, что если начнут побеждать немцы, то надо помогать русским, и наоборот. Пусть, мол, проливают кровь и ослабляют друг друга, а потом придет очередь Америки. И англичане думают так же.
— Советский народ и не ждет помощи от буржуев. Мы собственными силами победим фашистов.
— Даже если ты прав, мы-то с тобой сейчас, во всяком случае, находимся в зависимости от них. И если мы хотим как-то бороться за наше будущее, надо объединить усилия и по возможности действовать вместе.
— Верно, что нам надо действовать сообща, чтобы нанести врагам как можно больший урон. Мы оба оказались в руках у фашистов, конечно, по разным причинам. Это и есть наша вина перед родиной, и ее мы должны искупить, пусть даже ценой жизни.
— Искупить вину? Но я ни в чем не виновата перед своей родиной.
— Ты покинула ее, Меджек-хан, а теперь находишься на стороне фашистов.
— Пока мы не завоюем настоящую независимость, у меня не повернется язык назвать своей родиной Туркменистан.
— У туркмен никогда не было своего государства, Меджек-хан. А теперь оно есть. Посмотри на карту, и ты увидишь его. Это государство называется Туркменская республика.
— А в ней, в той Туркменской республике, которую ты хочешь выдать мне за государство туркмен, запрещены книги Махтумкули. Какая там может быть свобода? Где уничтожают Махтумкули, там нет и не может быть родины для туркмена.
— Эти времена давно прошли, Меджек-хан. Да, было время, когда хотели и пытались его запретить, когда его осуждали, называя «знаменосцем феодализма». Было все это. Но ты-то вместо того, чтобы бороться против этих умников, предпочла сбежать с поля боя, покинула свою родину. Изменились времена, большевики защитили, отстояли нашего Махтумкули, и сейчас его снова читают в каждом доме, а те, кто пытается осудить великого поэта, не смеют поднять головы от стыда.
— Большевики погубили моего отца, лучшего и самого смелого в мире человека. И ты знаешь, что он был невиновен.
— Знаю, Меджек-хан, — как можно мягче сказал Тахиров. — Да, он был арестован незаконно. И это выяснилось. Не сразу, но выяснилось. Справедливость восторжествовала, и имя твоего отца, Гочак-мергена снова пользуется уважением в нашем краю.
— Какая от этого польза мертвому?
— О чем ты говоришь, Меджек-хан? Гочак-мерген жив и здоров. Он сейчас знаменитый тренер ахал-текинских скакунов, самый знаменитый тренер в республике.
Меджек-хан побледнела, словно получив смертельный удар. Все эти годы она жила в уверенности, что ее отца нет в живых, и эта уверенность питала ее ненависть к Советской власти.
Она долго молчала, опустив голову.
— А ведь я… справила по нему поминки, — произнесла она наконец. — Поминки… как и положено по обычаю. А он жив, жив… О, аллах, я отдала бы всю свою оставшуюся жизнь, чтобы хоть на мгновение увидеть его…
— Только его? А красные маковые поля у подножья Копетдага? А нежные тюльпаны на склонах гор, а серебристые песчаные акации на голых барханах…
— Я вернусь! — в отчаянье воскликнула Меджек-хан. — Я вернусь, пройду по маковым полям ранней весною, взберусь на склоны Копетдага, промчусь на тонкошеем коне по необъятным просторам степи…
Потом она заплакала.
Нестерпимая жалость пронзила сердце Тахирова. Перед ним был человек, вдруг осознавший, что сам загубил свою жизнь. Но разве только она, только одна Меджек-хан виновата в том, что оторвалась от родины, как лист отрывается от ветки? Разве нет в этом его вины, Тахирова? Ведь он мог тогда, рискуя собой, доказывать невиновность Гочак-мергена, его невиновность и свою правоту, и кто знает, может быть, и не ушла бы тогда Меджек-хан за границу. И разве она одна тогда ошиблась…
— Скалы Копетдага не слишком высоки для того, кто хочет вернуться домой, — тихо сказал он. — Но они слишком далеки отсюда. Мне уже не увидеть их. Но ты… ты должна их увидеть, Меджек-хан. Но для этого тебе придется искупить свою вину перед родиной…
— Я никогда и ни перед кем не унижалась, Айдогды. Ты это знаешь. Я никогда не перестану быть туркменкой… но просить прощения тоже не стану. Что сделано, то сделано. И все-таки жизнь еще возможна. Ты… и я… Пойдем со мною, и, клянусь, я пожертвую для тебя всем, даже самой жизнью. Я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы ты был счастлив.
— Счастье… Кто же отказывается от него, Меджек-хан? Тем более если о нем говорят человеку, стоящему над раскрытой могилой, на которой поставят черный камень клеветы. Но есть более высокое… не соизмеримое ни с чем. Даже со счастьем. Это совесть и долг… перед самим собой… перед нашим народом… перед его горами и небом… И пусть меня пытают, пусть замучают до смерти, пусть оклевещут навсегда… я чист… перед всем миром… я счастлив…
Горло Тахирова сжало словно железным обручем, и слова, которые произносил он, требовали от него нечеловеческих усилий. Что самое страшное — у него, который никогда, даже в детстве, не плакал, глаза наполнились слезами. Будь он один, он заплакал бы, как ребенок. Такого он еще не испытывал никогда.
Меджек-хан поднялась и пошла к выходу. У двери она остановилась. Не поднимая головы и не глядя на Тахирова, она сказала:
— Я думаю, что мы больше не увидимся, дорогой. Прощай. И прости меня… если можешь…
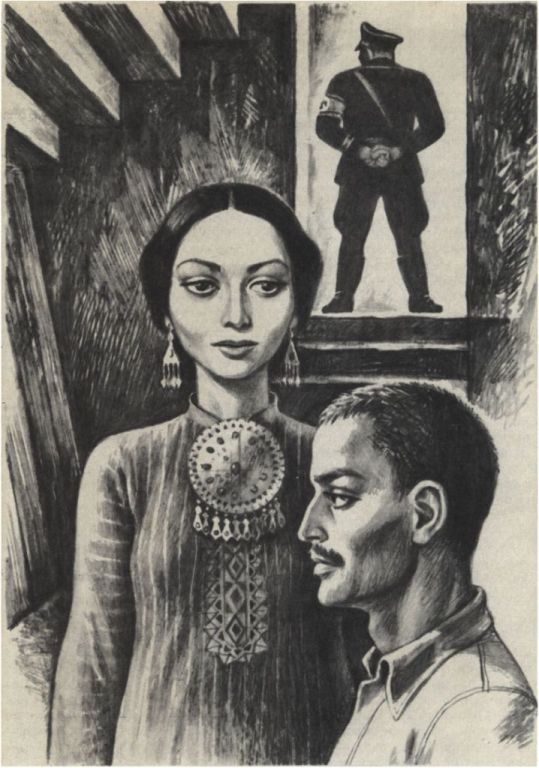
* * *
Проходя мимо Шустера, сторожившего за дверью, Меджек-хан сделала вид, что не заметила его. Шустер проводил ее долгим взглядом. «Ты тоже еще попадешь в мои руки, — подумал он. — И вот тогда…» Как и все последнее время, Шустер был пьян, и от алкоголя его ненависть пылала еще более сильным пламенем. Он был убежден, что дело пахнет изменой. Сначала этот либерал Хильгрубер, теперь азиатская девка. Он и не подумал скрывать от майора свои подозрения.
— Как вы объясните этот позорный факт, что у нее на руках удостоверение о принадлежности к высшей расе? — спрашивал он у Хильгрубера, надвигаясь на него вплотную.
— Временная приманка, не более того, — пояснял майор, брезгливо отодвигаясь. — Придет время, и она будет рада, если ее назначат на должность надзирательницы. Будет командовать тридцатью — сорока рабынями. Должен же кто-то объяснять им, чего от них хотят, на их собственном языке.
— Тогда к чему вся эта комедия? Представитель правительства, высшая раса… Я бы заставил ее уважать немецкий мундир.
— Должен напомнить вам, господин гауптштурмфюрер, что не я автор этой комедии. Я такой же солдат, как и вы, и выполняю здесь приказ командования. А вы вместо того чтобы помогать мне…
— Мешаю, вы хотите сказать? Да я из последних сил терплю ваши позорные выходки. Вы заставили шарфюрера СС кокетничать с пленным азиатским большевиком! Это унижение для всех арийцев.
— Это нужно было для дела, гауптштурмфюрер.
— Я вам не верю больше, господин майор. И не позволю, чтобы в расположении моего батальона творилось подобное. Мы ни на миллиметр не должны отклоняться от пути, который освещен идеями фюрера. Расовые законы — основа нашей политики в покоренных районах, и всякое нарушение их следует рассматривать как государственную измену.
«Идиот, — подумал про себя майор Хильгрубер. — Баранья голова. Тупая и бездарная тварь. Сразу видно, что всю жизнь проработал на бойне. И он еще разглагольствует о высшей и низшей расах».
Но вслух он сказал:
— Мы обязаны любыми путями добиваться победы над врагом, гауптштурмфюрер. Мы с вами делаем одно дело, и не из-за чего ссориться. Я предлагаю выпить вот эту бутылку коньяка за нашу скорейшую победу. За здоровье фюрера, Шустер!
Гауптштурмфюреру не оставалось ничего, как поднять свой стакан.
* * *
Ефрейтор Альберт Вайс был прирожденным канцеляристом. Он хорошо и быстро печатал на машинке и превосходно составлял сводки, из-за чего Шустер и держал его в штабе батальона. Поэтому за тот год, что Вайс провел на фронте, он еще не участвовал в «операциях» ни по поджогу деревень, ни по преследованию партизан, ни по «реквизациям». Но мысль о том, что рано или поздно делать это придется, не отпускала его ни на мгновение. Неужели он, сын потомственных интеллигентов и студент филологического факультета, станет расстреливать женщин, детей и стариков? Как он сможет после этого жить дальше?
— Что-то слишком нежно ты обращаешься с этим пленным азиатом, — сказала ему как-то Урсула.
— А ты хотела бы, чтобы я вцепился ему в волосы? — отпарировал Вайс. — Он не боится смерти и достоин уважения, хотя и воевал против нас.
— Животные не боятся смерти.
— А у людей должна быть совесть.
Урсула холодным взглядом скользнула по его лицу. Давно, давно уже был ей подозрителен этот недоучившийся студентик, эта канцелярская крыса. Надо понаблюдать за ним повнимательней. С этим парнем что-то не так. С самого момента прибытия на фронт ни разу не выстрелил, и в то время, как настоящие солдаты сражались с врагом, преспокойно отсиживался в штабе с книжкой в руках. Шарфюрер не поленилась проверить, что это за книга. Оказалось, что ефрейтор Вайс увлекается лирикой Гете. Разрешенный, но не слишком-то современный автор. Лирика! Шарфюрер фыркнула. В школе она чуть не провалилась из-за какого-то Льва Толстого; спасла ее лишь находчивость, с которой она задала учителю встречный вопрос: для чего вообще арийской девушке и активному члену гитлерюгенд надо читать писателя, принадлежащего к низшей расе? Перепуганный учитель поставил ей удовлетворительную оценку, но это его не спасло, и очень скоро он смог применить свои знания на чистке нужников в одном из концентрационных лагерей.
Своими подозрениями насчет ефрейтора Урсула не преминула поделиться с командиром батальона.
Дела в канцелярии как всегда были в идеальном порядке, и Шустер, который был неспособен связно написать и трех строк, остался доволен докладом Вайса. И все-таки мальчишку следовало подтянуть.
— Скажите мне, ефрейтор, есть у вас совесть?
Вайс похолодел. Если гауптштурмфюрер Шустер заговорил о совести, надо держать ухо востро.
— Не могу знать, господин гауптштурмфюрер. Насчет совести в уставе ничего не написано.
— Не увиливайте, ефрейтор Вайс. Есть у тебя, свинья ты этакая, совесть или нет?
— Полагаю, господин гауптштурмфюрер, что когда-то в прошлом у меня она была. Следовательно, вопрос сводится к тому, успел я потерять ее полностью или только частично.
— А разве ты не знал, каналья, что фюрер освободил нас навсегда от таких гнилых пережитков прошлого, как совесть и мораль?
— Я не думал, что эти слова фюрера следует понимать буквально.
— Именно так и только так их и следует понимать, ефрейтор Вайс. Только рабы не смеют откровенно выражать то, что они думают. Истинный ариец не стыдится своих мыслей и всегда выражает их прямо.
— Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер. После ваших разъяснений я осознал свою ошибку. Если какие-то остатки совести и есть еще во мне, считаю своим долгом освободиться от них как можно быстрее.
Шустер посмотрел на него с подозрением, но голос ефрейтора звучал искренно. Ничего, солдат из этого парня еще получится. А пока он нужен здесь, в канцелярии. Полный порядок! Ни одна бумажка не затеряется. Но мозги этому Вайсу время от времени надо вправлять, чтобы там не завелась какая-нибудь плесень. Он еще раз бросил взгляд на ефрейтора. Глупая рожа. Урсула невзлюбила его, но она и сама в последнее время проявила себя не с лучшей стороны.
Шустер ушел успокоенный.
А ефрейтор Вайс долго еще не мог прийти в себя. На этот раз пронесло, но впредь надо быть осторожней.
Правильно ли он разговаривал с Шустером? Может, надо было слегка поспорить с ним? Ефрейтор Вайс без труда мог бы сделать это, сославшись на другие речи фюрера. Он мог бы сказать, например, что совесть нужна для того, чтобы не допускать крамольных мыслей в отношении фюрера и Германии… да мало ли какую чушь мог бы сказать ефрейтор Вайс, прочитавший немало книг, где подобные бредни выдавались за последние достижения науки. Нет, это правильно, что он не стал возражать. Шустер книг не читал, да и вообще, возражения только обозлили бы его. А так он успокоился и, надо надеяться, в ближайшее время придираться не станет. Вот уж уверен в своем расовом превосходстве! Как тут было ефрейтору Вайсу не вспомнить один из разговоров с отцом, ученым-историком. «Мысль о принадлежности к господствующей расе многим немцам пришлась по душе. Это не очень-то хорошо нас характеризует. Возьми хоть нашего соседа Венцке. Всю жизнь проработал младшим бухгалтером в конторе по переработке отходов и не подозревал о своей избранности. Перебивался от зарплаты к зарплате, всегда просил взаймы, тянулся из последних сил. Такому самая дорога была в нацистскую партию, где он и стал активистом. Посмотри на него сейчас, на нашего господина Венцке. С тех пор как он осознал себя представителем высшей расы, его не узнать. Теперь он большой человек. Теперь он уже не спешит, как прежде, снять шляпу перед господином профессором, теперь шляпы снимают перед ним. А он отвечает легким кивком. Такие, как он, нужны фашистской партии, и таким, как он, нужен фашизм. Знаешь, что изрекла вчера фрау Венцке? «Скажите спасибо, профессор, что мы по-соседски покровительствуем вам. А то ведь, знаете, есть учреждения, где в истинно германском духе перевоспитывают тех, кто много о себе воображает». Вот так-то, сынок. И все же я уверен, что фашизм долго не протянет. Справедливость рано или поздно все равно окажется сильнее преступления».
Ефрейтору довелось присутствовать при допросе Тахирова. «Если уж подразделять людей на расы, то Шустера наверняка следовало бы отнести к низшей, по сравнению с этим пленным, — подумал тогда Альберт. — Интересно, как вел бы себя Шустер, если б он сам попал в плен? Держался бы спокойно и достойно, как Тахиров, или стал вымаливать себе жизнь, как тот, другой пленный? Нет, можно еще представить, что у Шустера хватило бы характера или глупости, чтобы и в плену оставаться верным фюреру. Но чтобы он вот так, не дрогнув, отстаивал правоту своих убеждений — такое и вообразить невозможно».
Ефрейтор Вайс вел Тахирова на допрос. У самого входа в блиндаж они наткнулись на Гарахана, сидевшего со щеткой над грудой офицерских сапог. Остановившись возле него, Альберт показал на свои сапоги, сплошь покрытые грязью. Гарахан, жалко улыбаясь, закивал:
— Да, да, господин офицер, сейчас буду чистить…
Тахиров презрительно сплюнул.
— Ты уже фашистские сапоги лижешь, Гарахан?
— Ты не плюйся, земляк! А не то…
— А не то что? Что ты можешь сделать? Прислуживаешь фашистам… хуже этого ничего сделать нельзя. Нравится тебе такая жизнь, Гарахан?
— Оставь меня в покое, — плачущим голосом взмолился тот. — Не терзай меня, не сыпь соль на раны. Противно мне все, сам знаешь. А что можно сделать? Разве есть другой выход?
— Есть, Гарахан. Мужественно посмотреть в глаза смерти.
— Ты не боишься умереть? Я — боюсь.
— Двум смертям не бывать. Умирать тоже надо достойно.
— Если бы на поле боя мне пробило грудь, я был бы счастлив умереть вместе с другими. Разве я трусил в бою, скажи? Но как только представлю, что меня начинают пытать, волосы встают дыбом, и ничего не могу с собою поделать…
— Возьми себя в руки, Гарахан. Ты уже ступил одной ногой в вонючее болото предательства. Если сделаешь еще шаг — назад пути не будет.
— Не верю я ни в какие болота. Не может быть, чтобы нельзя было что-то придумать. Надо выбраться отсюда любой ценой.
— Только не ценой предательства. Разве можно жить на свете, вылизывая фашистские сапоги?
— Ладно, Айдогды. Ты живи своим умом, а я проживу своим. Не надо издеваться надо мной, не надо учить меня. Мы теперь оба равны.
— Нет, мы с тобой не равны. Ты готов довольствоваться участью раба. А я — и прежде, и сейчас — свободный человек.
— Ты — свободный человек? — воскликнул Гарахан. — Да ты без пяти минут покойник. Жалкий труп. На твоей могиле вырастет желтая повилика клеветы, а люди тебя проклянут.
— Пусть будет так. И все равно я умру свободным. А справедливость рано или поздно все равно восторжествует.
— А если нет?
— А если нет, то и тогда я в тысячу раз счастливее тебя. Ведь я прожил всю жизнь человеком, открыто глядел в глаза людям, ничего не боялся, имел друзей, любил и был любим…
Войдя, Альберт первым делом прикрыл за собой дверь. Вид у него был озабоченный. Оглядевшись по сторонам, он подошел к Тахирову и сказал ему:
— Сталинград… Паулюс капут…
Альберт Вайс и сам себе не мог бы объяснить, зачем он сказал это пленному туркмену. Как бы то ни было, весть о капитуляции армии Паулюса под Сталинградом не должна была его радовать. Ведь он был немец, и те триста тысяч солдат были тоже немцами, чьими-то братьями, сыновьями, мужьями. Германия в трауре. Триста тысяч солдат попали в плен. Это ужасно… хотя, с другой стороны, для них самое страшное уже позади. А что ждет остальных, тех, кого самоубийца Гитлер приковал к своему кораблю смерти? Кому из них удастся выйти живым из этой адской мясорубки? Кто ответит за все, на чьей совести будут лежать миллионы жертв этой войны? И что в этой ситуации должен делать он, маленький безымянный винтик в гигантской машине уничтожения? Один непродуманный шаг, и ты обречен на позорную смерть. Один непродуманный шаг, и ты до конца своих дней не расстанешься с клеймом насильника и убийцы…
— Я слышала, как ты сообщил пленному о нашем трауре, — сказала ему Урсула. — Это предательство.
— А ты все подслушиваешь?
— В этом нет необходимости. Но я все знаю, все вижу и все слышу.
— Твоя бдительность достойна восхищения, Урсула.
— Да, я горжусь, что всегда настороже. Меня не проведешь.
— Что ж, тогда спеши к своему Шустеру и сообщи ему, что ты знаешь, видела и слышала. Может, тебя наградят еще одним «железным крестом», теперь уже за бдительность.
— Ты много себе позволяешь в последнее время, букашка. Я стремлюсь только к одному — быть максимально полезной нашему отечеству и нашей армии.
— Тут уж ты вне конкуренции. Недаром твой Шустер сказал как-то, что лучшей подстилки он в жизни не знал..
Лицо Урсулы исказилось от ярости.
— Ты еще пожалеешь об этих словах, ублюдок. Ты еще будешь лизать мне сапоги…
— Напрасно сердишься на меня, шарфюрер. Ведь я только передаю слова нашего командира батальона. Если задуматься, тут больше похвалы, чем порицания. Ведь услужая офицерам, ты поднимаешь их боевой дух. Этим могла бы гордиться любая арийская девушка. Разве не так?
— Ты… ты назвал меня подстилкой…
— Не я, а Шустер. У меня нет никаких оснований для таких заявлений. А тебе, шарфюрер, надо не злиться на меня, а гордиться такой высокой оценкой твоих личных качеств.
Урсула была ошеломлена этой наглостью. Она ожидала смущения, она ожидала страха, только не сопротивления. Неужели она ошиблась в этом тихоне? Что могло означать подобное нахальство? С этими мозгляками никогда и ни в чем нельзя быть увереной. А вдруг у Вайса какой-нибудь родственник в гестапо? Все может быть. Еще до отправления на фронт в батальоне появился вдруг такой же вот умник, пристававший ко всем со смелыми речами, а потом оказавшийся агентом гестапо. Неужели и этот паршивый ефрейтор той же породы? Очень может быть. Почитывает стишки, прикидывается интеллигентом, заводит разговоры о совести… о морали, не участвует в «акциях»… «Зачем надо было сжигать деревню, которая обеспечивала нас молоком, — высказался он как-то. — Ведь без молока питание солдат фюрера стало не таким полноценным»…
Уже тогда Урсула хотела донести на него. Один бог знает, почему удержалась. Может, потому, что сама с детства любила молоко?..
А зачем Вайс пытался сообщить пленному о катастрофе под Сталинградом? Теперь она уже склонна была усмотреть в этом часть хитроумного плана. Может, это была специально продуманная уловка, чтобы вызвать доверие этого будущего хана? Надо бы расспросить майора Хильгрубера. Но Хильгрубер не склонен разговаривать с ней о делах. Он любит, угощая ее шоколадом и коньяком, без устали говорить ей о мраморном совершенстве ее фигуры, о ее темпераменте и красоте… А Шустер сходит с ума от ревности.
И все-таки именно с Шустером решила она поговорить о ефрейторе Вайсе.
— Я думаю, что он агент, — заключила она свой рассказ.
Шустер вскочил с кровати.
— Агент? Чей?
— Гестапо.
— И ты молчала?
— Это мои предположения. Но думаю, что я не ошибаюсь.
Шустер кусал губы. Неужели и за ним установлена слежка? Или это провокация? Он подозрительно посмотрел на Урсулу. А может быть, она сама работает на гестапо?
Когда она ушла, Шустер решил: нечего паниковать раньше времени. Есть ли у гестапо основания не доверять ему? Хотя, конечно, гестапо имеет основания не доверять никому. А как бы поступил он сам? Так же. Тоже не доверял бы никому.
Но этот ефрейтор… А что он, собственно, может знать? О, Шустер умел прятать концы в воду. Слава богу, догадался своевременно переслать с надежными людьми все золото, которое сумел «организовать» во время «ликвидации партизанских семей» — никакому гестапо до этих ценностей не добраться. И все-таки надо проверить. Шустера не так-то легко провести, он сам проведет кого угодно. Он уже понял, что ему надо сделать. Он разыграет маленькую комедию, где героем будет ефрейтор Вайс, а независимым и незаинтересованным зрителем — майор Хильгрубер. Одним выстрелом убить двух зайцев и убедиться: работает ли ефрейтор на гестапо или этой дуре померещилось.
Началось все за бутылкой водки, которую гауптштурмфюрер распил вместе с майором, чьи запасы коньяка все-таки были исчерпаны. Поднимая стакан, Шустер сказал:
— Не хочу, чтобы вы считали меня интриганом, а потому говорю вам, господин майор, совершенно откровенно: вчера я отправил рапорт в штаб полка с просьбой избавить меня от вас.
— Чем я не угодил вам, гауптштурмфюрер? Или это очередная ваша шутка?
— Мне не до шуток, господин майор. Все дело в вашем азиате. Вы разлагаете мой батальон. Раньше солдаты не сомневались, что ведут борьбу с представителями низшей расы, с недочеловеками. Они верили в свое превосходство, и никакие лишения не пугали их. И вот приезжаете вы. И что же? Теперь мои отборные арийцы обязаны приветствовать азиатку, которую вы именуете представителем какого-то мифического правительства. А вы всячески обхаживаете пленного красноармейца, повинного в гибели полусотни моих солдат, вместо того чтобы вздернуть его на первом суку. Когда солдаты становятся очевидцами подобной мерзости, они теряют веру в непреложность идей, провозглашенных фюрером. И я, как командир, намерен пресечь это недопустимое положение всеми доступными мне методами.
Что-то в тоне гауптштурмфюрера встревожило майора.
— Не наломайте дров, гауптштурмфюрер. Плохо, когда офицер СС начинает руководствоваться не своим арийским умом, а чувствами. Что же касается разложения вашего батальона этим пленным туркменом — позвольте мне не поверить вам. Я считал и считаю войска СС более закаленными в идейном смысле, чем это можно подумать, судя по вашим речам.
— Вы так полагаете, — усмехнулся Шустер. — Что ж, проверим, ошибаюсь ли я.
И, открыв дверь, ведущую в канцелярию, крикнул:
— Ефрейтор Вайс! Ко мне!
Вайс тут же появился на пороге.
— У меня есть сведения, — не давая опомниться, жестко сказал ему Шустер, — что ты пытался заговорить с пленным азиатом. О чем?
Ответ прозвучал без промедления:
— О Сталинграде, господин гауптштурмфюрер.
— Кто тебя уполномочил сообщать ему подобные сведения? Понимаешь ли ты, что выдал врагу военную тайну?
— Никак нет, господин гауптштурмфюрер, не понимаю.
— Ты врешь, ефрейтор, — с угрозой произнес Шустер. — А разве тебе неизвестно, что немецкий солдат не должен врать?
— Значит, я поступил, как должно, не утаив от пленного правды. Мы достаточно сильны, чтобы пережить эту небольшую неприятность под Сталинградом.
— И поэтому ты решил пооткровенничать с этим недочеловеком. Или, может быть, ты не считаешь его таковым, а, ефрейтор Вайс?
— Я предпочел бы, господин гауптштурмфюрер, не считать его таковым. Иначе было бы вдвойне обидно; выходит, наша армия сдалась в плен недочеловекам…
— Я вижу, тебе пришелся по душе этот азиат, — медленно произнес Шустер и вытащил из кобуры пистолет. — А мне, ефрейтор Вайс, он очень не нравится. А поскольку я считаю, что мои солдаты должны разделять мнение своего командира, ты сейчас докажешь свою преданность фюреру тем, что будешь пытать пленного у меня на глазах. А потом, так уж и быть, можешь пристрелить его.
Майор Хильгрубер видел, как пленка бешенства подернула мутные глаза гауптштурмфюрера. «Этот идиот и впрямь может пристрелить Тахирова, а потом свалить все на своего ефрейтора», — подумал он.
— Может быть, вы разрешите ефрейтору доказать свою преданность идеям фюрера каким-нибудь другим путем? — сказал он, вставая.
«А, вот и еще один. Заступается за Вайса. Почему? Может быть, он знает, что тот работает на гестапо? Вполне возможно. Пусть они раскроют свои карты до конца. Заодно надо легонько поставить на место и господина майора. Пусть знает, кто хозяин в батальоне».
— Выполняйте приказ, ефрейтор Вайс. А вы, господин майор, сумеете оценить, какова дисциплина в моем батальоне.
Майор бросил взгляд на побледневшее лицо Вайса и увидел в нем отчаянье. Или решимость? Ясно было, что Шустер очень зол на ефрейтора, но за что? Может, парень приглянулся Урсуле Зиммель? Она была здесь же и не сводила с него глаз. Неужели этот щуплый солдат смог ее увлечь? Что-то непохоже.
Хильгруберу было жаль ефрейтора. Разумеется, о том, чтобы отдать Тахирова на растерзание, пока не могло быть и речи. Но Вайс-то этого не знает! И, судя по всему, вряд ли он сможет выполнить приказ Шустера. Ну а он, Хильгрубер, смог бы? Нет. Отдать подобный приказ — другое дело. Но самому пытать и расстреливать — ни за что.
— Господин майор, — взмолился Вайс, увидев тень сочувствия, промелькнувшую на лице Хильгрубера. — Я действительно не достоин чести совершить столь благородное дело. — И он выжал из себя нечто, напоминающее улыбку. — Дело в том, что я не переношу вида крови. Я в жизни даже курицы не зарезал, а уж о работе шкуродеров вообще не имею представления…
Бедный ефрейтор Вайс! Как он мог забыть, что именно «шкуродером» называли за глаза гауптштурмфюрера Шустера, намекая на его довоенную профессию и отдавая дань его всегдашней садистской жестокости. Глаза Шустера помутнели еще больше.
— Тебе придется стать шкуродером, ефрейтор Вайс.
— Фюрер послал меня на фронт солдатом, а не палачом, господин гауптштурмфюрер.
— Мне лучше знать, зачем тебя послали на фронт. И если я прикажу тебе пытать собственного отца, ты будешь пытать его, даю тебе слово.
«Я могу выиграть еще несколько минут жизни, — подумал Альберт Вайс. — Допустим, я соглашусь, останется несколько минут, пока не приведут этого красноармейца. А потом? Потом? Зачем мне эти жалкие мгновенья? Зачем?»
И, сорвав с плеча автомат, он направил его на гауптштурмфюрера. Но не успел нажать на спуск. В затылок ефрейтора Вайса Урсула выстрелила в упор. Он еще не упал, когда она засмеялась. О, это была прекрасная минута. Она вся дрожала от наслаждения. Она жалела только об одном. Она жалела о том, что ефрейтор Вайс уже мертв и она не может выстрелить ему в затылок еще раз…
Меджек-хан торопливо укладывала чемодан. Айдогды передали в руки Шустера, ей нечего было здесь делать. Теперь она жалела даже, что приехала сюда. Что толку в ее приезде, если она ничем не в состоянии помочь ему? Скорее в Берлин. Может быть, там можно будет добиться отмены приказа…
Майор Хильгрубер молча наблюдал за сборами. Потом сказал:
— И все же, Меджек-хан, я попрошу вас еще немного задержаться здесь.
— Ваши живодеры уже приступили к работе, господин майор. Не заставляйте меня при этом присутствовать.
— Я бы хотел, чтобы вы обратились с призывом к своим соотечественникам.
— С каким призывом, господин майор? С призывом подчиниться представителям высшей расы? С призывом перебежать к Шустеру?
— Один такой Шустер не должен заслонять от вас общность наших целей. Если вы в обиде на СС, приношу вам свои извинения.
— Мне не нужны ваши извинения, господин майор. Лучше объясните мне, почему вы отдали им Тахирова?
— Так решили в более высоких инстанциях. Мы в армии, идет война, и я вынужден подчиниться.
— А я — нет. И я уезжаю. Теперь я вижу, что нас, туркмен, просто обманывают.
— Вы устали, Меджек-хан. Вам нельзя ехать в таком состоянии. Я просто не отпущу вас. Успокойтесь, отдохните.
— Я хочу еще раз увидеть Тахирова.
— Не знаю, смогу ли я вам помочь. Теперь это полностью зависит от гауптштурмфюрера Шустера. Но я попробую…
«Зачем я поехала сюда? — тоскливо думала Меджек-хан. — Зачем? Да, я гонялась за миражом, обманывала себя, но все-таки оставалась для меня еще какая-то надежда, пусть призрачная, пусть неверная. Теперь я вижу, что никакой надежды нет. Словно сердце вырвали из груди — так холодно. А в эту минуту Шустер терзает Айдогды. Ничего он не добьется. Разве он знает, что такое настоящий мужчина? Он замучает Айдогды, вот и все. А я здесь, в нескольких шагах, я на свободе, могу идти куда хочу. Но куда мне теперь уйти от себя? Нет, лишь теперь я поняла: мне не вернуться домой, не собирать тюльпаны на горных склонах, не пробежать босыми ногами по мягкой траве, умытой утренней росой, не проскакать на гнедом коне по безбрежной равнине Ахала… Вы умерли, мои мечты, и теперь я, как птица, у которой перебиты крылья…»
Шустер был доволен. Наконец-то настал его час. Уж он заставит этого азиата покориться, говорить и делать все, что велят. В профессии шкуродера есть и свои положительные стороны. Во всяком случае, вида человеческой крови он не боится. И помощники у него все как на подбор.
…Через два часа, утирая со лба пот, Шустер вынужден был объявить перерыв.
Бесчувственное тело Тахирова неподвижно распростерлось на окровавленном полу. Сознание то исчезало, то вновь возвращалось, и тогда Айдогды казалось, что он находится в аду.
Эсэсовцы, аккуратно постелив бумагу, ели бутерброды и пили шнапс. Неужели это люди? Неужели каждого из них родила мать, они были маленькими, ходили в школу, читали книги? Самые чудовищные вещи они проделывали с равнодушием животных, не имеющих понятия о сострадании. Кажется, им было приятно, когда он стонал, и тогда они хохотали и обменивались шутками.
Сознание вспыхивало и снова меркло. Может ли человек привыкнуть к пыткам? Нет, не может, но есть предел выносливости, перейдя его, человек уходит в спасительную тьму забытья. Только не расслабляться, только не допустить ни на долю мгновенья жалости к истерзанному, окровавленному телу. Только не показывать фашистам, что ты больше не можешь. Ведь они ждут именно этой доли мгновения, чтобы удвоить, утроить муку и сломить твою волю. Нет. Нет. Нет. Нет. Темнота. Ночь. В мире наступит ночь, если они победят. Молчи. Терпи. Ты ведешь свой бой. Не поддавайся. Как возможно такое зверство в мире, где библиотеки полны книг, рассказывающих о величии человека? В небе летают самолеты, философы ломают головы над неразрешенными тайнами бытия, а здесь и везде, где черное пятно фашизма закрыло синее небо свободы, палачи пытают людей. Неужели века цивилизации прошли для человечества бесследно? Неужели человек бессилен против зла и угнетения? Надо вытерпеть все. И твое молчание будет самым сильным ответом и твоей победой…
* * *
С ужасом смотрела Меджек-хан на поседевшего Айдогды. Перед нею был человек, заглянувший в лицо смерти и бросивший ей вызов. Это был совсем другой человек, и только глаза у него были прежние.
— Я… я не могла уехать, не повидав тебя еще раз. Я должна вернуться, Айдогды, но… я не могу оставить тебя здесь. — Меджек-хан зажмурилась, но все равно перед глазами стояло изуродованное лицо Айдогды, и ее чувства прорвались в жарком и жалком шепоте: — А может, нам не надо прощаться, милый? Есть выход. Ты только помоги мне, только помоги… Я выкуплю тебя у них… я ведь богата, у меня есть деньги, золото, драгоценности. Не здесь, конечно, в Берлине… У меня есть связи. Я все отдам, и мы уедем с тобой, ты и я, уедем далеко-далеко от всех, от войны и от ужасов, уедем в Швейцарию. Там тоже горы… небо, синее, как у нас. Мне только бы добраться до Берлина. Но я не могу тебя здесь оставить, они замучают тебя, а если ты умрешь, мне тоже незачем жить. Обещай мне… обещай им… Ты должен на что-нибудь согласиться, хоть для вида, пока я съезжу в Берлин… или нет, я увезу тебя с собой, не дам тебя больше пытать… Ну, скажи хоть что-нибудь!
— Я… должен подумать, Меджек-хан, — прохрипел он. — Я не могу… вот так, сразу. Вчера я еще был большевиком, сражался с фашистами… А теперь Швейцария… небо…
«Мне жаль тебя, Меджек-хан. Ты совершила ошибку, и тебе не искупить ее. Ты похожа на орлицу, попавшую в клетку. Попала в клетку фашизма. Думаешь вырваться на свободу? Думаешь, выпустят тебя? Нет, Меджек-хан, так не бывает, свободу не выпросишь, ее можно только завоевать. Я обманываю тебя, Меджек-хан, прости. Мы не будем с тобою под синим швейцарским небом. Ты хочешь помочь мне? Я принимаю твою помощь. Для меня есть только одна дорога — к смерти. Все другие закрыты, потому что они ведут к предательству. Прости меня, Меджек-хан, но есть вещи более важные, чем наша жизнь. Ее ведь мы получили в дар от родины, и только родине она принадлежит. У меня остался только один шанс, только один. Я должен получить в свои руки микрофон. Хоть на минуту, но должен. И ты мне в этом поможешь. Я солдат, дорогая, и я буду биться с врагом до последнего. И если бы я мог встать из могилы и снова вступить в бой, я сделал бы это. Я буду сражаться за всех людей, и за тебя тоже, Меджек-хан. И если тебе суждено погибнуть вместе со мной, ну, что ж. Ведь смерти не избежать, а что может быть лучше, чем умереть ради нашей победы. Только бы хватило сил. Я не должен умереть сейчас. Не должен. Пока есть хотя бы один патрон… пока есть хотя бы один шанс… одно слово… пока я могу еще дышать, я буду сражаться с ними до последнего».
Майор Хильгрубер ожидал ее за дверью:
— Поздравляю вас с успехом, Меджек-хан!
— О чем вы говорите, господин майор?
— Разве вы не убедили Тахирова, что самое лучшее для него — это пойти с нами на соглашение, а затем уехать в Швейцарию?
— Неужели вы подслушивали?
— Вы не ошибаетесь. Этот разговор был слишком важен для меня, а впрочем, и для вас. Так что не бойтесь, кроме вас и меня, об этом никто не узнает. Но одно непременное условие: Тахиров должен выступить перед микрофоном. После этого можете забрать его в полное свое распоряжение и ехать с ним хоть на Северный полюс. Я готов оказать всяческое содействие.
— Не уверена, что он согласится. Вы видели, в каком он состоянии? Ему нужен отдых, нужно забыть весь этот ужас. Было бы лучше всего отправить его в Берлин под предлогом участия в туркестанском комитете.
— Извините, Меджек-хан, но только после его выступления перед русскими. Это имеет особо важное значение для меня лично. Прошу вас, попробуйте его уговорить.
— Хорошо, я попробую. Но где гарантия, что вы не обманете меня?
— Мне нет никакого смысла обманывать вас, Меджек-хан. Ведь, надеюсь, наши добрые отношения не прервутся и после того, как вы обоснуетесь в Швейцарии?
Меджек-хан задумалась. Она уже слышала в Берлине, что некоторые, даже высокопоставленные деятели тысячелетнего рейха так или иначе поддерживают тайную связь со Швейцарией. Знала она и о тех огромных суммах, которые тихо осели на зашифрованные счета в бездонных сейфах швейцарских банков. Может быть, Хильгрубер имел к этому какое-то отношение? Так или иначе, самым главным сейчас была ее решимость во что бы то ни стало и как можно скорей вырвать отсюда Айдогды.
Просьба майора Хильгрубера позволить ему еще раз поговорить с пленным без свидетелей отнюдь не привела Шустера в восторг.
— Вы уже говорили с ним, господин майор. Мне казалось, что вы ему сказали все, что могли. Чего вы хотите теперь?
— Того же, что и прежде. Добиться от него согласия на сотрудничество с нами.
— Я полагаю, господин майор, что такой сотрудник нам не нужен.
— Если вы еще раз приметесь за него, господин гауптштурмфюрер, он попросту будет ни на что не годен. Он уже и так еле дышит.
Шустер засмеялся.
— Вот и отлично. Пусть помучается еще немного. А когда он одумается и станет умолять нас, вы поняли, господин майор,
умолять о том, чтобы мы взяли его в услуженье, мы повесим его перед линией траншей вверх ногами.
— И тем самым в глазах русских сделаете из него героя.
— Мне наплевать на русских, господин майор. Я не боюсь их — ни живых, ни мертвых. Так что ничем не могу помочь вам. Весьма сожалею.
И Шустер повернулся к майору Хильгруберу спиной.
— Постойте, — сказал майор и поднял телефонную трубку. — Дайте мне штаб корпуса… — Господин генерал? Майор Хильгрубер. Да. Да, господин генерал. Прошу разрешить мне еще одну попытку. Под мою ответственность. Так точно, господин генерал, понимаю. Но на этот раз все будет как надо. Передаю трубку гауптштурмфюреру Шустеру.
Шустер взял трубку. Лицо его исказилось.
— Слушаюсь, господин генерал, — сказал он. На лбу его вздулись вены. Выйдя из блиндажа, он изо всех сил хлопнул дверью.
* * *
Майор Хильгрубер не сомневался, что
на этот раз он ведет беспроигрышную игру. Был ли риск? Да, считал он, риск был. В любом деле всегда есть риск, все дело в том, как сделать его минимальным. Может ли Тахиров обмануть его еще раз? Его — да. Но Меджек-хан он обманывать не станет. Ведь ей этот обман обойдется страшно дорого, намного дороже, чем Хильгруберу. Вот почему майор был так уверен в успехе. Ведь обманом заставить любящую женщину поплатиться жизнью было бы жестоко, а основные компоненты большевистской морали — человечность и честность.
Майор Хильгрубер имел возможность посмотреть на Тахирова после нескольких «сеансов», как называл допросы гауптштурмфюрер Шустер. Поэтому он вполне мог донять Тахирова, который решил прожить остаток своих дней в Швейцарии. Да, не исключено, что после встреч с Шустером Тахиров почувствовал вкус к жизни, особенно к жизни в Швейцарии, вдвоем с любимой женщиной.

Хильгрубер приказал привести Тахирова. Он заранее обдумал, что скажет. А скажет он следующее:
«Ваше будущее, господин Тахиров, в ваших собственных руках. Вот выбор: или тихая спокойная жизнь вдвоем с любящей вас прекрасной женщиной на берегу прекрасного озера. Или гауптштурмфюрер Шустер, с методами которого вы теперь хорошо знакомы. Право выбора я даю вам под свою ответственность. Надеюсь, вы не подведете ни меня, поручившегося за вас, ни вашего давнего друга, госпожу Меджек-хан. Я вручаю вам микрофон в полной уверенности, что вы выполните свой долг…»
Тахиров стоял у микрофона. Разбитое лицо его было спокойно, глаза закрыты. О чем думал он в эти мгновенья, во что вглядывался? Никто об этом не узнает. Никто и никогда. Он открыл глаза. Сделал шаг. Голос его был глух, но внятен, и говорил он медленно, словно хотел вслушаться в собственные слова и представить, как они слышатся тем, кто за сотню метров от него на свободной родной земле, в засыпанных снегом траншеях слушают его, сжимая оружие в руках.
— Братья, — начал он и замолчал. Грудь его вздымалась, и глаза глядели куда-то вдаль, словно стараясь разглядеть что-то за далеким сейчас горизонтом. — Братья! Я — старший сержант Айдогды Тахиров, — отчетливо выговорил он. — Вы узнали меня по голосу? Я Айдогды Тахиров. Соотечественники! Когда нашей бригаде вручали знамя, от вашего имени, от имени всех туркмен я дал клятву. Обещал не опозорить знамя. Теперь я обращаюсь к вам по немецкому радио. Слушайте меня! Слушайте меня, братья…
— Снова закаркал фашистский ворон. — Майор Шияхметов брезгливо поморщился. Что ж, пусть себе каркает, распространяя тошнотворные призывы фюрера. И вдруг он насторожился. Голос с нерусским акцентом произнес: «Внимание, внимание. Сейчас к вам с призывом обратится старший сержант Айдогды Тахиров». И тут же наступила необычная, неправдоподобная тишина. Все разговоры умолкли, люди замерли, словно застыли. А над притихшей землей разносился чужой, нерусский говор, произносивший немыслимые слова: «Вы хорошо знаете его. Вы знаете его голос. Слушайте. Он будет честно говорить с вами о том, что у него на душе».
«Это опять Гарахан», — подумал Шияхметов, и в этот же миг в репродукторе послышался знакомый голос:
— Братья! Я — старший сержант Айдогды Тахиров. Вы узнали меня по голосу?
Это говорил Тахиров! Словно съежилась от стыда земля, словно обрушилось небо. Не у одного Шияхметова сжалось от боли сердце, не только у него забилась мысль, нет, не может быть. Как же это? Разве может такое быть? А голос продолжал:
— Я Айдогды Тахиров. Соотечественники! Когда нашей бригаде вручали знамя, от вашего имени, от имени всех туркмен я дал клятву. Обещал не опозорить знамя.
Теперь я обращаюсь к вам по немецкому радио.
Слушайте меня!
Слушайте меня, братья! БЕЙТЕ ФАШИСТСКИХ ГАДОВ! ДЕРЖИТЕСЬ, БРАТЬЯ! НЕ ВЕРЬТЕ ИМ. ПОБЕ…
Что-то щелкнуло, и словно порыв ветра унес этот голос.
Еще долго мертвое молчание царило над полем. Еще крепче сжимали оружие руки. Говорить не хотелось, да и разве нужны сейчас были слова? Само бессмертие говорило только что с ними страстным голосом старшего сержанта Айдогды Тахирова, и те, кому довелось дожить до конца войны, запомнили эту минуту навсегда…
Наступило мертвое молчание. Тахиров стоял выпрямившись, с микрофоном в руках. Побелевший Хильгрубер дрожащими руками вытирал со лба пот под торжествующим и злобным взглядом гауптштурмфюрера Шустера.
Тахиров выпустил микрофон из рук и повернул изуродованное лицо к Меджек-хан. В глазах его была боль.
— Прости меня, — сказал он. — Но иначе я не мог.
Она посмотрела на Айдогды тем своим, давним, сверкающим, словно радуга, взглядом.
— Я чувствовала, что так будет, — ответила она необычно твердым голосом, словно человек, принявший решение. — Прощай, Айдогды.
И, неуловимым движением вытащив пистолет, она выстрелила себе в сердце.
— Надеюсь, майор, вы проявите такое же мужество, — с издевкой проговорил Шустер. — Или предпочтете дождаться трибунала? Арестовать его!
Хильгрубер медленно расстегнул кобуру и протянул Шустеру пистолет. Взгляд его остановился на Меджек-хан, потом на Тахирове.
— Я тоже это предчувствовал, господин Тахиров, — сказал он.
Из наградного листа:
«НАЙДЕННЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ТРУП ГЕРОЯ НОСИЛ СЛЕДЫ ЗВЕРСКИХ ПОПЫТОК: ВСЯ СПИНА В КРОВАВЫХ РУБЦАХ ОТ УДАРОВ ШОМПОЛОВ, РАНЫ РАЗВОРОЧЕНЫ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ, НА ЛИЦЕ КРОВОПОДТЕКИ И СИНЯКИ, НА ШЕЕ СЛЕДЫ ПАЛЬЦЕВ ОТ УДУШЕНИЯ; НОГИ СВЯЗАНЫ ВЕРЕВКОЙ».
Из письма М. И. Калинина 7 марта 1944 года вдове А. Тахирова:
«Уважаемая товарищ Тахирова! По сообщению военного командования, Ваш муж, старший сержант Тахиров, в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых…
Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу звания Героя Советского Союза для хранения как памяти о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом».



 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Мерген — меткий стрелок.
(обратно)
2
Поди сюда.
(обратно)
3
Хошачи — сборщики колосков.
(обратно)
4
Сачак — блюдо.
(обратно)
5
Альчики — бабки (игра).
(обратно)
6
Мираб — лицо, ответственное за пользование водой для полива.
(обратно)
7
Ишликли — лепешки с мясом.
(обратно)
8
Кош — войлочный домик.
(обратно)
9
Сачак — помост, накрытый ковром, на котором едят.
(обратно)
Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
*** Примечания ***



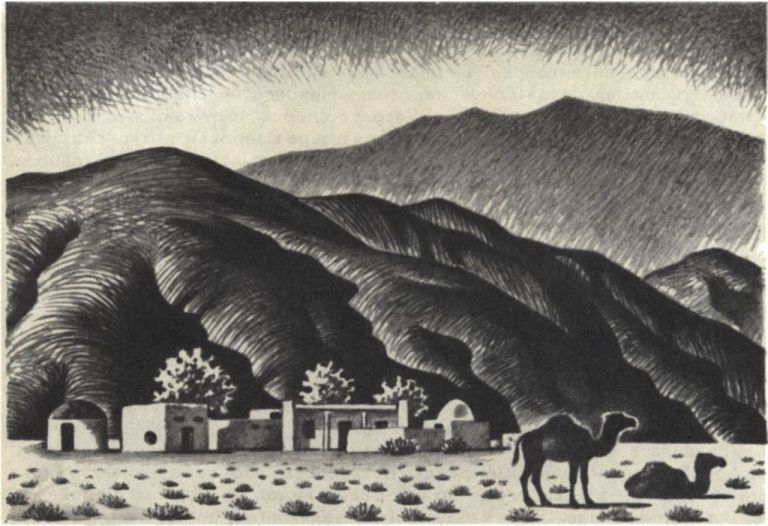 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 Ягненок… Куда же он подевался, куда исчез? Такой маленький, такой смешной, и такой шалун. Все другие жмутся к стаду, а этот норовит убежать туда, где цветы посвежее да травка посочней. А ведь Айдогды спас его от чабанского ножа раннею весною, когда двух-трехдневных ягнят забивали на каракуль. Усатый чабан уже протянул было волосатую руку, и вот тут Айдогды — сам не понимая почему, — заступился за малыша. Уж больно жалко было отдавать именно его: еле на ногах стоит и смотрит так, словно хочет сказать: защити меня, заступись…
Мальчик шел оврагом, широким, словно русло высохшей реки. Тускло поблескивают валуны, отражая утренний свет, изумрудными брызгами зеленеют сочные травы, замерли кусты. Ни звука.
Да, сейчас здесь покой и тишина. Но какой грохот стоит здесь раннею весной, когда обрушиваются с гор могучие потоки селя, мгновенно возникают ручьи и неукротимо несутся и бушуют, словно спеша насладиться жизнью.
Но где же ягненок? А вдруг он попал в лапы к барсу, спустившемуся с гор, или встретился с шакалом. Или с солдатами. Это еще хуже. Барс выходит на охоту лишь когда он голоден. А солдаты голодны всегда. Ночами лазят они по виноградникам и садам, опустошают курятники. Вот почему дядя Гочак, за свою храбрость прозванный Гочак-мерген[1], не раз и не два предупреждал подпасков, чтобы держались от солдат подальше.
Айдогды шел по оврагу долго и собрался уже поворачивать, когда в чаще раздались голоса. Первая мысль была — убежать. Но тут он словно услышал слова Гочак-мергена: «Никогда не спеши, особенно в опасности. От беды не убежишь, всегда сперва подумай…»
Он лег на землю и бесшумно пополз через заросли тамариска. Чем-то пахло таким… неприятным, чем солдаты смазывают свои сапоги. Айдогды осторожно выглянул из-за валуна и чуть не вскрикнул — прямо перед собой он увидел блестящее голенище. Просто рукой подать, так близко стоял этот человек. Айдогды узнал его. О, это был важный начальник, эбсир! Вот уж кто никогда не улыбался, вот кого боялись больше, чем любого солдата. Когда он с надменным видом шел по улице, казалось, будто он недоволен, что для него не расстелили ковер.
Голенище блеснуло и исчезло. И тогда стало видно солдат. Они стояли в строю у подножья холма. Эбсир, начальник, что-то крикнул и поднял руку, и тридцать винтовок, подчиняясь этому крику, стали медленно подниматься… подниматься… и Айдогды увидел: на вершине холма стояли двое. Двое пленников со связанными за спиной руками. Они еле стояли на ногах, поддерживая друг друга.
Раздалась короткая, как лай, команда, и винтовки недружно, вразнобой брызнули огнем. Айдогды показалось, что небо сейчас упадет на землю. Он закрыл глаза, но все равно видел этих двоих людей, что стояли, прижавшись друг к другу, и глядели перед собой бесстрашно и гордо. Неужели их могли убить? Ведь всякому, кто слушает сказочников, кто знает преданья о богатырях и героях, известно, что пули их не берут.
И он открыл глаза. Конечно! Так оно и было! Пленники были невредимы, а эбсир стоял, схватившись за грудь, словно пули, предназначавшиеся пленникам, попали в него самого. Так и должно было случиться, именно он должен сейчас упасть и издохнуть, как бешеная собака.
Но он не падает. Как же это? Он не падает, эбсир, не падает и не умирает. Он кричит на солдат, а они, тридцать человек, такие высокие и здоровые, стоят перед ним и молчат. Да ведь каждый из них может одной рукой взять тощего эбсира за шиворот и сбросить в овраг. Почему же никто этого не сделает? Почему они подчиняются ему так безропотно? Неужели бабушка верно говорит, что даже самый могучий богатырь становится слабее ягненка, когда стоит перед начальником…
А может быть, этот эбсир колдун? Или палач?
Каждую ночь бабушка рассказывает новую сказку, и почти в каждой — или колдун или палач. Но у бабушкиных палачей — усы до ушей, толстые, топором не отрубишь, а эбсир безус. И глаза у палачей красные, кровью налитые, а у эбсира — голубые, чистые.
Но бабушка рассказывала еще и о том, как все сторонятся палачей и какое одиночество ждет их. Их ждет всеобщее презрение и ненависть, с ними никто не дружит, в гости их не зовут, и никто к ним не ходит, и жениться они не могут, потому что кто же отдаст свою дочь замуж за палача, и вот, рассказывала бабушка, некоторые из них не выдерживают своего вечного одиночества и продают душу нечистой силе, только для того, чтобы быть похожими на обычных, на нормальных людей, И наверное, этот начальник, что кричит сейчас на солдат, он тоже такой и продал свою душу.
Эбсир выкрикнул короткое слово, и снова грянули, выплюнув огонь, винтовки. Гром выстрелов заставил содрогнуться горы, небо, почернев, упало на землю, и Айдогды видел и запомнил навсегда, как схватился за сердце, улыбнувшись, молодой пленник и упал.
Ягненок… Куда же он подевался, куда исчез? Такой маленький, такой смешной, и такой шалун. Все другие жмутся к стаду, а этот норовит убежать туда, где цветы посвежее да травка посочней. А ведь Айдогды спас его от чабанского ножа раннею весною, когда двух-трехдневных ягнят забивали на каракуль. Усатый чабан уже протянул было волосатую руку, и вот тут Айдогды — сам не понимая почему, — заступился за малыша. Уж больно жалко было отдавать именно его: еле на ногах стоит и смотрит так, словно хочет сказать: защити меня, заступись…
Мальчик шел оврагом, широким, словно русло высохшей реки. Тускло поблескивают валуны, отражая утренний свет, изумрудными брызгами зеленеют сочные травы, замерли кусты. Ни звука.
Да, сейчас здесь покой и тишина. Но какой грохот стоит здесь раннею весной, когда обрушиваются с гор могучие потоки селя, мгновенно возникают ручьи и неукротимо несутся и бушуют, словно спеша насладиться жизнью.
Но где же ягненок? А вдруг он попал в лапы к барсу, спустившемуся с гор, или встретился с шакалом. Или с солдатами. Это еще хуже. Барс выходит на охоту лишь когда он голоден. А солдаты голодны всегда. Ночами лазят они по виноградникам и садам, опустошают курятники. Вот почему дядя Гочак, за свою храбрость прозванный Гочак-мерген[1], не раз и не два предупреждал подпасков, чтобы держались от солдат подальше.
Айдогды шел по оврагу долго и собрался уже поворачивать, когда в чаще раздались голоса. Первая мысль была — убежать. Но тут он словно услышал слова Гочак-мергена: «Никогда не спеши, особенно в опасности. От беды не убежишь, всегда сперва подумай…»
Он лег на землю и бесшумно пополз через заросли тамариска. Чем-то пахло таким… неприятным, чем солдаты смазывают свои сапоги. Айдогды осторожно выглянул из-за валуна и чуть не вскрикнул — прямо перед собой он увидел блестящее голенище. Просто рукой подать, так близко стоял этот человек. Айдогды узнал его. О, это был важный начальник, эбсир! Вот уж кто никогда не улыбался, вот кого боялись больше, чем любого солдата. Когда он с надменным видом шел по улице, казалось, будто он недоволен, что для него не расстелили ковер.
Голенище блеснуло и исчезло. И тогда стало видно солдат. Они стояли в строю у подножья холма. Эбсир, начальник, что-то крикнул и поднял руку, и тридцать винтовок, подчиняясь этому крику, стали медленно подниматься… подниматься… и Айдогды увидел: на вершине холма стояли двое. Двое пленников со связанными за спиной руками. Они еле стояли на ногах, поддерживая друг друга.
Раздалась короткая, как лай, команда, и винтовки недружно, вразнобой брызнули огнем. Айдогды показалось, что небо сейчас упадет на землю. Он закрыл глаза, но все равно видел этих двоих людей, что стояли, прижавшись друг к другу, и глядели перед собой бесстрашно и гордо. Неужели их могли убить? Ведь всякому, кто слушает сказочников, кто знает преданья о богатырях и героях, известно, что пули их не берут.
И он открыл глаза. Конечно! Так оно и было! Пленники были невредимы, а эбсир стоял, схватившись за грудь, словно пули, предназначавшиеся пленникам, попали в него самого. Так и должно было случиться, именно он должен сейчас упасть и издохнуть, как бешеная собака.
Но он не падает. Как же это? Он не падает, эбсир, не падает и не умирает. Он кричит на солдат, а они, тридцать человек, такие высокие и здоровые, стоят перед ним и молчат. Да ведь каждый из них может одной рукой взять тощего эбсира за шиворот и сбросить в овраг. Почему же никто этого не сделает? Почему они подчиняются ему так безропотно? Неужели бабушка верно говорит, что даже самый могучий богатырь становится слабее ягненка, когда стоит перед начальником…
А может быть, этот эбсир колдун? Или палач?
Каждую ночь бабушка рассказывает новую сказку, и почти в каждой — или колдун или палач. Но у бабушкиных палачей — усы до ушей, толстые, топором не отрубишь, а эбсир безус. И глаза у палачей красные, кровью налитые, а у эбсира — голубые, чистые.
Но бабушка рассказывала еще и о том, как все сторонятся палачей и какое одиночество ждет их. Их ждет всеобщее презрение и ненависть, с ними никто не дружит, в гости их не зовут, и никто к ним не ходит, и жениться они не могут, потому что кто же отдаст свою дочь замуж за палача, и вот, рассказывала бабушка, некоторые из них не выдерживают своего вечного одиночества и продают душу нечистой силе, только для того, чтобы быть похожими на обычных, на нормальных людей, И наверное, этот начальник, что кричит сейчас на солдат, он тоже такой и продал свою душу.
Эбсир выкрикнул короткое слово, и снова грянули, выплюнув огонь, винтовки. Гром выстрелов заставил содрогнуться горы, небо, почернев, упало на землю, и Айдогды видел и запомнил навсегда, как схватился за сердце, улыбнувшись, молодой пленник и упал.
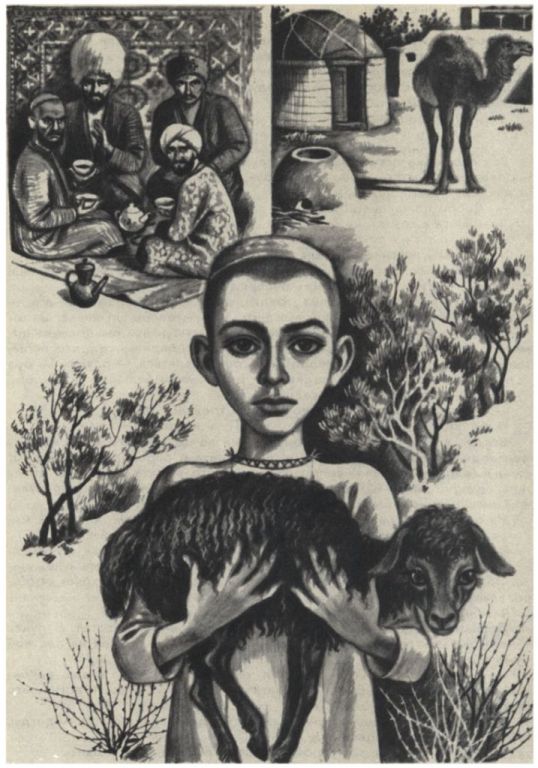







 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 Гарчгай грыз удила, рвался вперед. Здесь, на небольшом расстоянии, ущелье сжималось вдруг и сливалось с небом, и страшная пропасть, о которой в народе ходили легенды, была незаметна, словно хищник, притаившийся и приготовившийся к смертельному прыжку.
Место это было опасным и тем не менее всегда притягивало к себе, словно бросая вызов храбрецам. Что это была за тяга? Древние поверья утверждали, что в ущелье водятся горные феи, находились даже очевидцы, с трудом избежавшие гибели. Но Айдогды никогда не встречал здесь фей, а ведь и днем, и лунными ночами, и в кромешной тьме не раз и не два стоял он на краю этого бездонного провала, глядя вниз в непроглядную темь. И когда думал он о горных феях, то, закрывая глаза, неизменно видел прекрасное лицо волшебной красавицы, которое почему-то каждый раз было похоже на лицо Меджек-хан.
Но разве есть у него свободное время для каких-то там фантазий? Ведь после того как избрали его председателем колхоза, не то что лишней минуты — лишней секунды нет.
И все-таки он стоит здесь, и минута течет за минутой.
Может быть, его влечет здешний целебный воздух, вдохнув который, чувствуешь себя поздоровевшим и отдохнувшим. Или притягивает к себе дикая, не тронутая человеком природа, оставшаяся такой, какой она была при сотворении мира. Здесь все иное, чем внизу: и цветы иные, и травы, и пахнут они совсем иначе. Этот запах щекочет ноздри, он вызывает головокружение. Это и есть незабываемый образ родины, родного края, лучше которого нет на земле нигде: этот запах, да тень облаков над головой, да солнечное тепло, умеряемое горной прохладой.
В нескольких шагах от пропасти Тахиров спешился. Бескрайняя степь укрывалась в тумане. Безбрежный простор манил взмыть в небо и парить над этими горами, этой степью, подобно тому, как парит над ними орел.
Словно само время останавливало свой бег в этих местах, а тело становилось невесомым, и, отделившись от него и позабыв мелкую житейскую суету, душа поднималась на невообразимую высоту, откуда был виден весь мир отчетливо и ясно, и тогда все, что было, что предстояло еще человеку, приобретало глубинный, хотя и не до конца еще осознанный смысл.
Счастлив ли я? Не проходит ли моя жизнь безо всякого смысла? И в чем он, этот смысл, и как надо прожить эту, лишь однажды отпущенную нам для чего-то жизнь? Кто прав: тот, кто говорит о кратковременности этой земной жизни и стремится прожить ее среди возможных удовольствий и безтягот, или тот, кто высшее наслаждение жизни полагает в борьбе? И тот, кто, не жалея себя, бьется за высокие идеалы, и тот, кто сражается за право угнетать целые народы, — приносят в этой борьбе немалые жертвы.
Так думал, стоя над пропастью, Тахиров. Только в этом месте мог он отрешиться от мелких повседневных забот, но стоило ему двинуться вниз, как все привычное, повседневное сразу вновь обретало свои законные права.
Он не поехал по дороге, решил спуститься с горы напрямую. Узкая тропинка, гладкие камни. Если заглядишься вниз, закружится голова. Он осторожно вел коня под уздцы и чувствовал, как дрожит натянутая узда.
Но что случилось? На полях никто не работает, вокруг аула ни души. Вон стоит недвижимо трактор. А где тракторист? И комбайн стоит, словно брошен, на желтеющем поле.
Что такое случилось? Что могло случиться? Он пришпорил коня.
Возле правления колхоза в молчании стояла толпа — почти все население аула. И трактористы, и комбайнеры — все, кому положено было в эту минуту работать в поле, стояли здесь. От толпы отделился Бабакули.
— Айдогды… товарищ Тахиров. Мы уже хотели начинать митинг. Ты как раз вовремя.
— Что еще за митинг?
— Война началась…
— Война?
«Как же так? Не может быть. Мы заключили с Германией мирный договор на десять лет. Еще совсем недавно наше правительство опровергло слухи о возможности войны с Германией, как провокационные», — заметались мысли.
— Германия вероломно напала на нас. По этому поводу и собрались люди.
Но трудно было в это поверить. Не провокация ли это, о возможности которой говорилось в правительственном заявлении? Не может Германия, которая заведомо слабее нас, нарушить договор и напасть…
— От кого ты услышал это известие, Бабакули?
— По радио выступал глава правительства.
— Ты слышал своими ушами?
— Да. И все слышали.
— Утром немцы уже бомбили Киев, — раздался из толпы голос Гарахана. Тахиров резко повернулся к нему.
— Как такое может быть? Представляешь, где граница, а где Киев?
— Так сказали по радио.
В ту ночь Тахиров не сомкнул глаз. Все было непонятно, все. Германия нарушила договор? На то они там, в Германии, и фашисты, чтобы не держать слова. Но тогда не нужно было им верить всерьез, надо было быть готовым к такому вероломству. Говорят, что нападение неожиданное, почему? Разве не знал никто, что фашисты самый наш заклятый враг? Почему тогда не ожидали? Да нет, конечно, ожидали. Недавно Тахиров проходил переподготовку, разве мало говорилось там об опасностях войны? Другое дело, что всерьез немцев никто не принимал. Куда им против Красной Армии! По общему мнению, если бы немцы, совсем потеряв разум, осмелились на нас напасть, война закончилась бы в первые несколько месяцев. Так, оно, наверное, и будет. До наступления зимы наши войска дойдут до самого Берлина. Ведь рабочий класс Германии сразу же поддержит нас. Разве не ждут они только подходящего момента, чтобы изнутри ударить по фашизму? Немецкий рабочий класс целиком поддерживает компартию; все немецкие рабочие понимают, на чьей стороне истина, так разве станут они поддерживать своего злейшего врага и стрелять в братьев по классу?
Надо спешить, пока война не закончилась.
На следующее утро, еще до восхода солнца он оседлал коня и поехал в Каахка. Он рассчитывал быть одним из первых, но перед зданием военного комиссариата уже гудела в нетерпении огромная толпа.
— Товарищ военком! Я опытный командир. Требую немедленной отправки на фронт, — крикнул кто-то.
— Я тоже командир! И я… и я, — раздались голоса.
Военком поднял руку, требуя тишины.
— Так как почти что все здесь командиры, — сказал он, — вам должны быть известны порядки. У нас существуют планы мобилизации. Вам всем надлежит отправиться по домам и ожидать повесток. Повторяю еще раз — каждый будет призван в свое время.
И потянулись дни… Двадцать третье июня… двадцать четвертое… двадцать пятое… Где-то на западе, за многие тысячи километров отсюда шли уже кровопролитные бои, гремели пушечные залпы, ползли танковые колонны, подминая под себя мирную землю, рушились под ударами бомб и пылали мирные города. Уже горе выпало на долю сотен тысяч ни в чем не повинных мирных людей, женщин, детей, стариков; защищая каждый клочок родной земли, поливая ее молодой, горячей кровью, падали, не отступая перед врагом, тысячи юношей в гимнастерках — герои первых дней войны. Уже прибалтийские республики были под фашистским сапогом, уже хозяйничали фашисты в Минске, уже к Ленинграду подбирался безжалостный и вероломный враг. Наши войска отступали, переходили в наступление и снова отступали, сражаясь за каждый город, за каждый поселок, за каждый дом… И все-таки вести были страшные, в них невозможно было сразу поверить.
Такой войны, пожалуй, не ждали…
Гарчгай грыз удила, рвался вперед. Здесь, на небольшом расстоянии, ущелье сжималось вдруг и сливалось с небом, и страшная пропасть, о которой в народе ходили легенды, была незаметна, словно хищник, притаившийся и приготовившийся к смертельному прыжку.
Место это было опасным и тем не менее всегда притягивало к себе, словно бросая вызов храбрецам. Что это была за тяга? Древние поверья утверждали, что в ущелье водятся горные феи, находились даже очевидцы, с трудом избежавшие гибели. Но Айдогды никогда не встречал здесь фей, а ведь и днем, и лунными ночами, и в кромешной тьме не раз и не два стоял он на краю этого бездонного провала, глядя вниз в непроглядную темь. И когда думал он о горных феях, то, закрывая глаза, неизменно видел прекрасное лицо волшебной красавицы, которое почему-то каждый раз было похоже на лицо Меджек-хан.
Но разве есть у него свободное время для каких-то там фантазий? Ведь после того как избрали его председателем колхоза, не то что лишней минуты — лишней секунды нет.
И все-таки он стоит здесь, и минута течет за минутой.
Может быть, его влечет здешний целебный воздух, вдохнув который, чувствуешь себя поздоровевшим и отдохнувшим. Или притягивает к себе дикая, не тронутая человеком природа, оставшаяся такой, какой она была при сотворении мира. Здесь все иное, чем внизу: и цветы иные, и травы, и пахнут они совсем иначе. Этот запах щекочет ноздри, он вызывает головокружение. Это и есть незабываемый образ родины, родного края, лучше которого нет на земле нигде: этот запах, да тень облаков над головой, да солнечное тепло, умеряемое горной прохладой.
В нескольких шагах от пропасти Тахиров спешился. Бескрайняя степь укрывалась в тумане. Безбрежный простор манил взмыть в небо и парить над этими горами, этой степью, подобно тому, как парит над ними орел.
Словно само время останавливало свой бег в этих местах, а тело становилось невесомым, и, отделившись от него и позабыв мелкую житейскую суету, душа поднималась на невообразимую высоту, откуда был виден весь мир отчетливо и ясно, и тогда все, что было, что предстояло еще человеку, приобретало глубинный, хотя и не до конца еще осознанный смысл.
Счастлив ли я? Не проходит ли моя жизнь безо всякого смысла? И в чем он, этот смысл, и как надо прожить эту, лишь однажды отпущенную нам для чего-то жизнь? Кто прав: тот, кто говорит о кратковременности этой земной жизни и стремится прожить ее среди возможных удовольствий и безтягот, или тот, кто высшее наслаждение жизни полагает в борьбе? И тот, кто, не жалея себя, бьется за высокие идеалы, и тот, кто сражается за право угнетать целые народы, — приносят в этой борьбе немалые жертвы.
Так думал, стоя над пропастью, Тахиров. Только в этом месте мог он отрешиться от мелких повседневных забот, но стоило ему двинуться вниз, как все привычное, повседневное сразу вновь обретало свои законные права.
Он не поехал по дороге, решил спуститься с горы напрямую. Узкая тропинка, гладкие камни. Если заглядишься вниз, закружится голова. Он осторожно вел коня под уздцы и чувствовал, как дрожит натянутая узда.
Но что случилось? На полях никто не работает, вокруг аула ни души. Вон стоит недвижимо трактор. А где тракторист? И комбайн стоит, словно брошен, на желтеющем поле.
Что такое случилось? Что могло случиться? Он пришпорил коня.
Возле правления колхоза в молчании стояла толпа — почти все население аула. И трактористы, и комбайнеры — все, кому положено было в эту минуту работать в поле, стояли здесь. От толпы отделился Бабакули.
— Айдогды… товарищ Тахиров. Мы уже хотели начинать митинг. Ты как раз вовремя.
— Что еще за митинг?
— Война началась…
— Война?
«Как же так? Не может быть. Мы заключили с Германией мирный договор на десять лет. Еще совсем недавно наше правительство опровергло слухи о возможности войны с Германией, как провокационные», — заметались мысли.
— Германия вероломно напала на нас. По этому поводу и собрались люди.
Но трудно было в это поверить. Не провокация ли это, о возможности которой говорилось в правительственном заявлении? Не может Германия, которая заведомо слабее нас, нарушить договор и напасть…
— От кого ты услышал это известие, Бабакули?
— По радио выступал глава правительства.
— Ты слышал своими ушами?
— Да. И все слышали.
— Утром немцы уже бомбили Киев, — раздался из толпы голос Гарахана. Тахиров резко повернулся к нему.
— Как такое может быть? Представляешь, где граница, а где Киев?
— Так сказали по радио.
В ту ночь Тахиров не сомкнул глаз. Все было непонятно, все. Германия нарушила договор? На то они там, в Германии, и фашисты, чтобы не держать слова. Но тогда не нужно было им верить всерьез, надо было быть готовым к такому вероломству. Говорят, что нападение неожиданное, почему? Разве не знал никто, что фашисты самый наш заклятый враг? Почему тогда не ожидали? Да нет, конечно, ожидали. Недавно Тахиров проходил переподготовку, разве мало говорилось там об опасностях войны? Другое дело, что всерьез немцев никто не принимал. Куда им против Красной Армии! По общему мнению, если бы немцы, совсем потеряв разум, осмелились на нас напасть, война закончилась бы в первые несколько месяцев. Так, оно, наверное, и будет. До наступления зимы наши войска дойдут до самого Берлина. Ведь рабочий класс Германии сразу же поддержит нас. Разве не ждут они только подходящего момента, чтобы изнутри ударить по фашизму? Немецкий рабочий класс целиком поддерживает компартию; все немецкие рабочие понимают, на чьей стороне истина, так разве станут они поддерживать своего злейшего врага и стрелять в братьев по классу?
Надо спешить, пока война не закончилась.
На следующее утро, еще до восхода солнца он оседлал коня и поехал в Каахка. Он рассчитывал быть одним из первых, но перед зданием военного комиссариата уже гудела в нетерпении огромная толпа.
— Товарищ военком! Я опытный командир. Требую немедленной отправки на фронт, — крикнул кто-то.
— Я тоже командир! И я… и я, — раздались голоса.
Военком поднял руку, требуя тишины.
— Так как почти что все здесь командиры, — сказал он, — вам должны быть известны порядки. У нас существуют планы мобилизации. Вам всем надлежит отправиться по домам и ожидать повесток. Повторяю еще раз — каждый будет призван в свое время.
И потянулись дни… Двадцать третье июня… двадцать четвертое… двадцать пятое… Где-то на западе, за многие тысячи километров отсюда шли уже кровопролитные бои, гремели пушечные залпы, ползли танковые колонны, подминая под себя мирную землю, рушились под ударами бомб и пылали мирные города. Уже горе выпало на долю сотен тысяч ни в чем не повинных мирных людей, женщин, детей, стариков; защищая каждый клочок родной земли, поливая ее молодой, горячей кровью, падали, не отступая перед врагом, тысячи юношей в гимнастерках — герои первых дней войны. Уже прибалтийские республики были под фашистским сапогом, уже хозяйничали фашисты в Минске, уже к Ленинграду подбирался безжалостный и вероломный враг. Наши войска отступали, переходили в наступление и снова отступали, сражаясь за каждый город, за каждый поселок, за каждый дом… И все-таки вести были страшные, в них невозможно было сразу поверить.
Такой войны, пожалуй, не ждали…





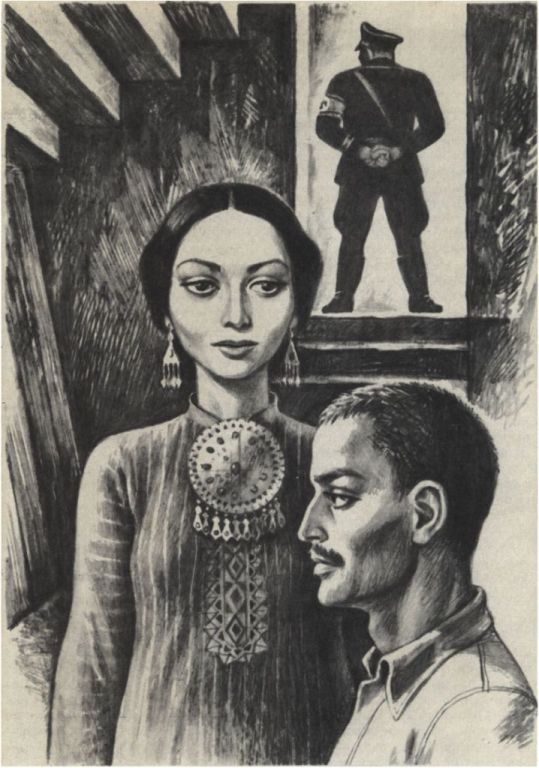




 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.