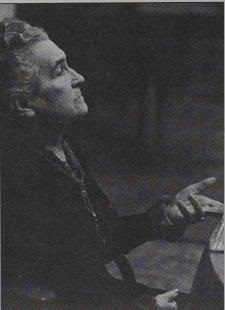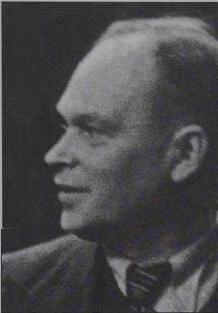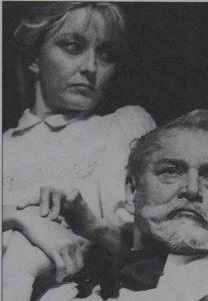Владлен Давыдов
Театр моей мечты
Мой друг Владлен
Далеко не у каждого человека есть страсть, тяга к самому интересному для него, тот фанатизм, без которого он не мыслит свою жизнь. Это большое человеческое счастье. Вот таким фанатом живет Владлен Давыдов. Где бы я его ни видел, на каких бы тусовках мы ни встречались, он неизменно был с фото- и киноаппаратом, и к тому же все-все записывал в дневник. Он хочет остановить мгновения жизни, которые улетают безвозвратно. А театральный мир тем более быстротекущ и неостановим. Все «как миг, как утренний туман». И влюбленный в театр Владлен жадно стремится передать этот неостановимый миг. Он сам влюбленно смотрит на пестрый мир театра, но ему хочется, чтобы и другие видели этот необозримый мир. Перед его глазами прошел долгий путь МХАТа. По существу, Владлен Давыдов был его Пименом, видел МХАТ и в период блистательного расцвета, и в сложные годы безвременья, и во время трагического раздела театра. И всю эту жизнь Владлен фиксировал, записывал, и в этом его заслуга не только перед МХАТом, но и перед всем театральным миром России.
Давыдов записывает историю театра через актеров этого театра, и его взгляд не бесстрастен, а освещен любовью, нежностью. Вот эта сердечность, это желание помочь, эта любовь к театру и к своим братьям-актерам делают книгу Владлена очень живой и теплой. И что самое главное, ему самому удалось сделать очень многое для театра, несмотря на разные сложности и обиды. Его видение МХАТа, может быть, самое объективное, и это потому, что Давыдов любит театр, а не себя в театре со всем актерским честолюбием. Давыдов чист и по мере сил объективен, как только можно в театре быть объективным.
Михаил Ульянов
Введение
Посвящаю моей жене Марго, сыну Андрею и внуку Феликсу
В последнее десятилетие XX века печаталось много мемуаров, воспоминаний, архивных (рассекреченных!) материалов, документов и т. д. Писали и военные, и артисты, и ученые, и бывшие высокие чиновники, и бывшие наши и не наши разведчики-шпионы… И в газетах, и в кино, и на телевидении происходило и происходит то же самое. Сейчас такое время, что люди переосмысливают все, что было в нашей жизни… И порой ругают прошлое.
До войны, в 20-е и 30-е годы, тоже много издавалось мемуаров, воспоминаний о революции и Гражданской войне. Писали известные люди, и великие артисты, и старые большевики. В серии «Жизнь замечательных людей» по инициативе М. Горького издавалось много биографических романов. Были изданы и такие книги, как «Десять дней, которые потрясли мир» Д. Рида, «Россия во мгле» Г. Уэллса и «Москва 1937 года» Л. Фейхтвангера. Печатались и протоколы политических процессов 1936, 1937 и 1938 годов. И все мы увлекались чтением этих книг и верили всему, что там было написано. А книгу Анри Барбюса «Сталин» мы даже изучали…
Конечно, мемуарная литература всегда меня глубоко интересовала. Первую книгу о театре я прочел, когда мне было тринадцать лет. Это была библия Художественного театра — «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславского. Потом были «Из прошлого» Вл.И. Немировича-Данченко, две книги Н.Д. Волкова о Мейерхольде, мемуары П.Н. Орленева, Н.Н. Ходотова, А.П. Ленского, Б.А. Горин-Горяинова, А.А. Мгеброва, Ю.М. Юрьева… Эти книги я больше всего любил и люблю. Да, пожалуй, и все те книги о театре, которые мне удавалось приобрести в те годы. По ним я познавал историю великого русского Театра.
И вот сейчас я тоже без конца читаю мемуары актеров, они разные, но они о времени, которое и я пережил. А теперь и мне предложили написать воспоминания. Я долго колебался.
Дело в том, что двадцать с лишним лет тому назад я уже начал писать свои воспоминания и даже заключил договор с издательским отделом ВТО. Я тогда к 80-летию моего любимого артиста Б.Г. Добронравова написал статью о нем в газету и сделал радиопередачу, потом пластинку. Позже подготовил сборник воспоминаний о нем, а затем и телефильм. Одним словом, все это вызвало интерес к тому, что я видел, знаю и о чем имею право рассказать. А тут еще появилась моя статья о Б.Н. Ливанове, которая вошла в сборник воспоминаний о нем.
Но тогда же, в конце 80-х годов, я вдруг понял, как все у всех стремительно меняется в понимании нашего прошлого и что нужны не просто легенды о прошлом, а нужны и факты… Я тогда не был к этому готов. Отказался от своего замысла и от договора… Тем более, что М.И. Царев, возглавлявший тогда ВТО, категорически отверг название моих воспоминаний — «Контрасты и парадоксы МХАТа». Я понял — не пора! Не пора писать такие воспоминания. Тем более, что я и тогда помнил спор двух истинно мхатовских людей, моих интеллигентнейших друзей — В.В. Шверубовича и В.Я. Виленкина.
Этот спор произошел в один из дней, когда в доме Шверубовича отмечалась очередная дата В.И. Качалова. Меня тогда удивило, что у этих двух, казалось бы, столь близких людей такие диаметрально противоположные взгляды на прошлое… В.Я. Виленкин утверждал (всегда!), что «цепь маленьких правд не составляет еще одну большую правду — истину». Так, по его словам, считал и Вл. И. Немирович-Данченко. А В.В. Шверубович утверждал: «Нет, надо говорить и печатать все, всю правду!» и приводил в пример Пушкина, когда тот писал «Я помню чудное мгновенье», а в это время был болен венерической болезнью… Я все-таки был на стороне В.Я. Виленкина, потому что считал и считаю (!), что нельзя тащить на сцену все, что бывает в жизни. Кстати, сам Вадим Васильевич в своих уникальных воспоминаниях тоже ведь кое о чем умолчал (и правильно сделал!). Смысл искусства (и воспоминаний!), мне кажется, заключается в том, чтобы художник (писатель и т. д.) не просто пересказывал натуралистически все, что он видит в жизни, а всегда имел бы «сверхзадачу» — для чего он пишет, отбирая факты и доводя их до обобщения, до символа, как говорил Вл. И. Немирович-Данченко. А иначе все это будет частными случаями или анекдотами.
Так вот, сейчас многие мемуары так и пишутся. Интересно это? Порой — да. Но ведь пройдет время, и эти мелкие, подчас пикантные фактики не дадут представления о том, почему же все-таки в это же время создавались замечательные произведения, а сейчас, когда объявлена в стране «полная свобода», в жизни подчас — те же мелкие факты и страстишки, а настоящего искусства ни в театре, ни в кино, ни в литературе, ни в живописи пока нет: идет в лучшем случае рассказ (и показ!) любви в постели и бесконечные северо-южные американские сериалы. Эдакий стриптиз…
Вот я все это написал и подумал: «Ну, а я-то что могу поведать миру?», как меня спрашивал В.Я. Виленкин. Да — что?
А я и сейчас нахожусь в сомнении — стоит ли мне это делать?…
И только потому, что я оказался самым старшим артистом («Мы не старые — мы старшие!» — говорила А.П. Зуева) в нынешнем Художественном театре им. Чехова, я считаю своим долгом все-таки написать о нашем «потерянном поколении» и о своей жизни и судьбе «в тех предлагаемых обстоятельствах», в которых мы жили и работали более 50 лет. Поэтому я назвал свои воспоминания — «Театр моей мечты».
Теперь о том, как я хочу об этом, рассказать.
Оказалось самым трудным именно это КАК. ЧТО — я знал всегда: это моя жизнь. Но КАК построить свой рассказ?
И вот однажды О.А. Радищева, ведущий научный сотрудник Музея МХАТ, мне посоветовала начать рассказ с моего дневника (она как раз его у меня видела). Она так и сказала: «Пишите "Дневник с комментариями"».
Я довольно долго читал эти свои дневники, которые начал писать с 1937 года, когда мне было тринадцать лет. Поначалу это были наивные записи о спектаклях, которые я тогда видел, и выписки из книг, которые я тогда читал — начиная с «Моей жизни в искусстве» К.С. Станиславского. Зачем, для чего я вел эти дневники? Я сам в первых своих записях определил их смысл и цель: «Пишу для нового поколения — облегчить им жизнь: отдать свой опыт, и наставления, и анализ…» Вот такие наивные и искренние желания вдохновляли меня тогда вести регулярные записи. Они мне помогали самому анализировать свои поступки, разбираться в своем характере и поведении. Эта смелая самооценка и критика других наедине со своей совестью были моим самовоспитанием и оберегали меня порой от ошибок и нечестных поступков. И еще мне хотелось сохранить, не потерять те прекрасные впечатления и счастливые мгновения, которые мне дарили жизнь и люди…
Вот с этих записей из дневников мне и хочется начать воспоминания, свою исповедь, свое покаяние, свое восхищение и разочарование всем, что сулила мне судьба… А, может быть, и в самом деле кому-то будет интересно все это прочитать и узнать, как и чем мы жили в проклятую теперь советскую эпоху.
Начало жизни
Мой дневник — о школе
Вот он просто так и начинался:
«1 ноября 1938 года
15 октября был на драмкружке. Читал Чехова «Размазня». Этюд «ловля рыбы» и массовый этюд — приход к больному товарищу…» «Не люблю насмешливой критики, а люблю товарищескую критику. Я часто ходил в МХАТ, и написал в «Пионерскую правду» о впечатлении, и с тех пор стал увлекаться театром, а потом постепенно захотел и сам играть…»
Когда я учился в шестом классе, мы решили организовать драмкружок. Директор школы Наум Минаевич Большун поддержал нас. Сначала кружок возглавил студент Глазуновского училища Владимир Алексеевич Голосницкий, потом его сменил Александр Аронов (он был после войны режиссером театра им. К.С. Станиславского. На юбилей М. Яншина он пригнал лошадь на пятый этаж Дома актера). Мы относились очень серьезно к работе в кружке, и у нас была замечательная творческая атмосфера. Сперва мы играли инсценировки чеховских рассказов и разные скетчи, а потом решили поставить пьесу А.Н. Островского «Без вины виноватые». Я там играл роль Незнамова. Мы несколько раз показывали этот спектакль в разных местах — в школах и клубах. Однажды даже в клубе в подвале дома на Смоленском бульваре, где я жил в детстве. Это для меня было большим событием: ведь пришли мои детские друзья, для них я был уже «артистом», и они гордились мною.
Репетировали мы всегда с радостью и дружно готовились к спектаклю. Ездили за костюмами, которые брали напрокат, тщательно гримировались, сами каждый раз обставляли заранее сцену. Конечно, я был самым активным — вроде бригадира и помрежа.
Одним словом, я с четырнадцати лет вовсю начал «играть». Теперь я, конечно, понимаю, что не надо было этого делать. Мы слишком примитивно и поверхностно, по-дилетантски понимали эту профессию. Да иначе это и не могло быть: главным-то для нас была учеба в школе, хотя порой одно другому очень мешало, и тогда нас директор на время «закрывал». Вот опять из дневника:
«…Мне временами жалко директора. Он слабохарактерный, доверяет ребятам. Меня из школы не выгоняет, почему-то церемонится с нами. «Ну как вы себя ведете?» — спрашивает как-то застенчиво. «Опять жалуются на тебя», — говорит он мне и водит пальцем по столу. Он говорит мне, что я умный и он не знает, что со мной делать — не подкопаешься… И снова разрешает нам заниматься в драмкружке».
Вот что у меня записано о руководителе драмкружка:
«Владимир Алексеевич человек лет 25–27. Лицо толстое. Пиджак, хотя и дешевенький, но аккуратный. Он себя считает за артиста. Рассказывает случаи с таинственностью, есть, как и у всех, сторона «своей жизни». Любит серьезно вести себя как режиссер: читка, показ как играть, как должен действовать герой. Говорит о Станиславском, о его «системе», как будто этого никто не знает. Рассказывает о случаях из жизни «знаменитостей». Вообще чувствуется, какая уже гнилая жизнь: резкие впечатления, рассказы о «гастролях», самомнение (не в большой степени — незаметно с первого разговора). Ребята им потрясены, считают (надо сказать правду) его очень хорошим, умным (в театральном деле), хорошим руководителем и, наконец, талантливым. Я не думаю, что наши ребята (да, из нашего класса было 12 человек из 16!) могут так играть… Ставили две пьесы, ребята заинтересовались и работали добросовестно, приходили без опозданий. Я с Вл. Алекс. тоже быстро сошелся. Все ребята ждали и стремились к дню, когда был кружок. Тут часто были дружеские беседы. Я ждал этого дня тоже с нетерпением, с тем, чтобы дать волю своим чувствам, там я мог себя чувствовать свободно. Я был старостой и «главным режиссером», правой рукой Вл. А. Я назначал даже на роли, т. к. знал, кому что подойдет (это неверно — по жизни нельзя судить о подходящности на роль, но я как-то чувствовал, представлял их). Я объявлял о дне занятий и вообще доставлял себе много удовольствия…»
Вспоминаю я школу всегда с благодарностью.
Я любил географию — это было что-то от Жюля Верна, и тоже каждый урок открывал для нас много интересного и романтичного. Но я никогда не понимал и не любил химию, все эти реакции, кислоты и щелочи. Восхищала меня только система Менделеева, рожденная им во сне, и учительница химии… Вот моя запись о ней в дневнике:
«Антонина Алексеевна небольшого роста. Лицом недурна, фигурой не вышла… Рассказывает хорошо. Когда урок отвечаешь и смотришь на ее ноги — молчит и только ресницами хлопает».
А математика меня просто угнетала, особенно тригонометрия, не понимал я, зачем мне она. Хотя геометрия (все эти катеты и гипотенузы, перпендикуляры и трапеции) мне нравилась — «дано и требуется доказать». Это на всю жизнь научило меня логически мыслить и рассуждать.
Преподавателем математики у нас был Борис Израилевич Бляшев. Вот и о нем такая запись:
«Небольшого роста, плечики дергает (чтоб не быть сутулым), в очках, лицо как у торговца газетами. Он хотел показать свою силу, но директор его не хочет слушать и выполнять его требования. В нашем классе он обнаружил «семь штук хулиганов», которых надо выгнать. Иногда не обращает внимания на шум, но обвиняет потом нас (Мишу Макарова, Володю Аронова и меня). Любит «острить», торжественен на контрольных, когда я засыпаюсь… Учитель старого режима («сиди тихо, будет и отлично»). Его не любит вся школа. Он груб (кретин)!!»
«Учительница по немецкому языку Елизавета Григорьевна Есинская. Уже пожилая, добродушная: «Ну, ребята, опять расшумелись», — любит это говорить и всем верит. На нее не злишься — сам виноват — она же старается. Очень аккуратная, а потому для нас — ехидная…»
С немецким языком у меня было сложно. Мы вдруг решили: «Зачем это нам учить фашистский язык?!» Я, правда, выучил стихотворение Генриха Гейне «Лорелея» и на всех экзаменах этим только и спасался. А другая учительница немецкого языка, которая со мной дополнительно занималась (за деньги) у себя дома, меня упрекала: «Есть учение ленинизм, а есть ленизм!» Но «Лорелея» меня всегда спасала…
Колоритной фигурой был учитель истории.
«Арнольд Эдуардович длинный (оглобля), в очках, волосы как у дирижера. Иногда становится в позу презрительно-надменную какого-нибудь исторического типа. Влюблен в историю. Хочет подражать историческим личностям (долдон!)»
Он заставлял, именно заставлял, нас зазубривать ленинское определение империализма: «Империализм есть высшая стадия капитализма…»
И полной противоположностью ему был учитель черчения Михаил Васильевич Постников.
«Настоящий гимназический учитель, «кондуит». Он как бы вымуштрован — ходит ровно, не качаясь. Следит за собой. Брюки всегда со складками, пиджак без пылинки, галстук как струна. На все смотрит критически (директора держит в своих руках, потому что «директор беспомощен»). Волосы прилизаны, словно у какого-нибудь счетовода или конторщика. Любит ухаживать за дамами. Строит из себя культурного начальника и любит, когда с ним советуются «по душам»: о директоре, о том, что нам (Аронову, Макарову и мне) делать, как поступить (чтобы нас не выгнали из школы). Смеется как-то лукаво, как бы боясь испортить прическу, оскаливает зубы и щурит глаза… Вытирает рукой пот у шеи и с бровей. Часто приходит «под шофе». «Ты лучше других и умней, — говорит он мне и добавляет: — По некоторым соображениям отпускаю вас всех». Или: "Так и быть, только из жалости ставлю «пос…» (т. е. тройку)"».
Но кто был у нас в школе самым верным другом, это Михаил Михайлович Моненко, швейцар, лет 40–45, который первый нас встречал у дверей школы и давал звонки с помощью большого колокольчика, с которым он всегда ходил по школе. Очень высокий, худой, длиннолицый, похожий на Николая Черкасова. Я его очень любил. Он жил в школе, в каморке под лестницей. Когда я опаздывал в школу или меня выгоняли из класса, я всегда приходил к нему в эту его келью. Вот что у меня о нем в дневнике:
«Знает всех по фамилии и родителей. Его уважают учителя. Он меня любит, и интересуется мной, и заступается за меня. Умный, знающий жизнь. С ним можно посоветоваться обо всем. Он знает всё, все школьные дела и что ты сделал. Говорит мне: "У вас в классе ребят много, но к тебе отношусь лучше, чем к другим. Я к тебе привязался…"»
У него в комнатушке была черная радиотарелка. Там я и слушал трансляцию торжественного вечера в честь 40-летия МХАТа. Все речи и поздравления: В.И. Качалов читал речь Вл. И. Немировича-Данченко, а Л.М.Леонидов огласил письмо-приветствие Сталину, который сидел тогда в ложе театра. На следующий день была напечатана в газетах большая фотография старейших артистов МХАТа во главе с Вл. И. Немировичем-Данченко вместе со Сталиным и со всеми членами Политбюро.
Сейчас, когда я все-таки «подвожу итоги» своей жизни, я вспоминаю людей, которые помогали мне жить «начисто», были для меня примером и поэтому остались в моей памяти, в моей душе навсегда. Таких людей, к счастью, было много. Порой это всего лишь мимолетные встречи или мои наблюдения, сравнения, размышления. Это ведь у всех людей так. И чем шире этот круг наблюдений и впечатлений, тем, мне кажется, интереснее и счастливее жизнь.
К сожалению, у нас не было семьи в традиционном понимании. Нет, у меня, конечно, была любящая мама, которая меня родила и своей добротой и лирикой согревала мою душу. Но с ней самой все было не так просто, ее судьба была трагична.
А в детстве я гордился и восхищался маминым двоюродным братом дядей Сашей Банниковым. Не только как руководителем громадной стройки, «завода заводов», но и как обаятельным, веселым человеком, восхищался его широтой и размахом. Это был для меня герой новой жизни, настоящий большевик из трудовой русской семьи. Его тяжелая болезнь (белокровие) и ранняя смерть меня потрясли. Мне тогда было восемь лет…
Настоящим же учителем и воспитателем моим в школе был Николай Федорович Шереметьевский. Он преподавал русский язык и литературу и одно время был нашим классным руководителем. О нем у меня в дневнике особые записи:
«Старый интеллигент. Высокий, широкоплечий, в очках, похожий на В.И. Качалова. Я в него влюблен, уважаю его. Он любит рассказывать о старом, об искусстве, о каком-нибудь слове. Задай ему вопрос, и он может отвечать на него целый урок, забыв об отвечающем ученике… Когда плохо знаешь урок, он сам за тебя рассказывает. Потом: «Ну, что же, садись. Что же ты плохо знаешь?» И ставит «посредственно». «Плохо» же ставит только за то, если сам скажешь: «Не выучил…» Он вызвал меня, а я не учил урока, и он сказал: «Ты сидишь и думаешь о МХАТе… Это хорошо, что ты стремишься стать актером, но надо учиться, а театр не уйдет, это все впереди. Ты думаешь, что актеру не надо быть образованным, это твоя коренная ошибка. Ты слабо учишься, тебе подсказывают. Актер должен быть культурным человеком. А то станешь, как Аркашка Счастливцев или актер без слов — подносы подавать… Надо окончить школу с честью, на «отлично» и «хорошо». Надо быть, как Качалов — он получил высшее образование. Вот он играет Юлия Цезаря, а потом — Вершинина. Надо знать историю, чтобы показать эпоху. Вот математика развивает логическую мысль. Литература дает воспитание и прививает вкус. Естественные науки дают понятия о строении окружающей жизни и жизни животных. Если ты будешь знать одно и не знать другое, то это не будет образование: ум плюс воля плюс чувство — вот это и есть гармония в человеке. А о подносе и о том, что из тебя не выйдет артист, я пошутил», — закончил Николай Федорович и улыбнулся своей прекрасной улыбкой.
Зная мою любовь к театру, он предложил мне написать сочинение на тему: «Театр и актеры в пьесах А.Н. Островского». Я написал. Он одобрил, сказал: «Оригинально» и даже предложил прочитать мое сочинение в классе…Я его очень люблю и уважаю. С ним можно посоветоваться обо всем, и он меня тоже уважает, считает умным и начитанным, всегда спрашивает мое мнение о чем-либо. В этом году я учился очень плохо. Самый неудачный год. Но Николай Федорович не советовал оставаться на второй год — «ничего не будешь делать» — это верно! Я люблю его больше всех учителей и даже родителей. Его я никогда не забуду!..»
Вот так: простой швейцар Михаил Михайлович и интеллигентнейший учитель Николай Федорович были моими самыми добрыми воспитателями в школе № 51.
Именно из-за них и драмкружка я так любил эту школу в Тружениковом переулке.
Кстати, там, на углу с Вражским переулком, стояла заброшенная церковь, превращенная в склад. Много позже я узнал, что в этой церкви венчались А.П. Чехов и О.Л. Книппер. Венчались они тайно и тут же уехали на кумыс в Уфу.
Когда мы жили в Большом Саввинском переулке, я ходил в школу по старинной Погодинской улице, где стоит знаменитый деревянный дом. Или шел по кривому Саввинскому переулку, где были текстильные фабрики, институт статистики и анатомичка, где всегда зверски лаяли собаки… Вообще, этот переулок был настоящей окраиной Москвы, а наш двухэтажный дом, похоже, был раньше домом свиданий или дешевенькой гостиницей. Мы жили на первом этаже в большой угловой комнате с тремя окнами. Наверное, тут была когда-то лавка. А продуктовый магазин напротив нашего дома старушки, жившие у нас на втором этаже (нянечки из клиник, которых было так много вокруг), называли по старинке: «У Ливерса». Так называлась одна из здешних текстильных фабрик — по имени ее хозяина Ливерса. Правда, теперь она была имени Свердлова…
Наша школа стандартная, четырехэтажная, кирпичная. Таких много построили в Москве в 30-е годы. Окна с одной стороны выходили на Москву-реку, вдали — здание Киевского вокзала; с другой — на переулок, где клуб «Каучук», в нем мы тоже выступали со своим драмкружком. А дальше — стадион «Красная Роза» и большое Девичье поле.
Любил я эти места и сейчас иногда посещаю. Они напоминают мне счастливые довоенные, наивные и примитивные годы жизни моего поколения, почти целиком погибшего в войну…
Моя судьба сулила мне иное. Театр, моя любовь к театру и преданность именно МХАТу спасали меня от многих несчастий и ошибок всю жизнь, а может быть, спасли и саму жизнь…
Эта страсть к театру была у меня как своего рода помешательство. В 1939—40–41 годах у меня, судя по дневниковым записям, была невероятная «деятельность» — драмкружок, посещение беспрерывное всех театров, и уж на уроки, конечно, не оставалось времени. А еще я много читал, и не только о театре. И ведь я не просто смотрел спектакли, я же еще о каждом писал свои впечатления и даже «рецензии» (кстати, подчас очень точные). Судя по записям, до 1938 года (видимо, начиная с 31—32-го гг.) я просмотрел 38 спектаклей. Конечно, много всякой ерунды, но, главное, в филиале МХАТа я дважды посмотрел «Платона Кречета», после чего и написал свое письмо. И «Мертвые души», где увидел весь цвет МХАТа. Плохо сейчас помню, но во 2-м МХАТе видел «Комика XVII столетия» и «В овраге».
А вот уже в 1938 году я просмотрел за год 25 спектаклей, из них во МХАТе — «Враги» и «Вишневый сад». И в них я увидел впервые уже тогда великих актеров О.Л. Книппер-Чехову, И.М. Москвина, В.И. Качалова, М.М. Тарханова, А.К. Тарасову, Б.Г. Добронравова, Л.М. Кореневу, Н.П. Хмелева, В.А. Орлова… И в театре им. Евг. Вахтангова — «Без вины виноватые». Этот спектакль так подействовал на меня, что мы решили в нашем драмкружке в школе поставить эту пьесу. Она была очень мне близка по моей семейной ситуации, а Владимир Москвин (сын И.М. Москвина) меня восхитил. И во многом именно его исполнение роли Незнамова повлияло на мое представление о ней. Хотя потом я увидел в этой роли В. Блюменталь-Тамарина, и он уже совсем перевернул своей неврастеничной трактовкой смысл роли Незнамова. Я даже попросил у него текст романса, который он пел в третьем акте. В этой сцене он взвинчивал себя так, что весь зал замирал…
Я рад, что мне удалось увидеть Блюменталь-Тамарина и в роли Кина («Кин — гений или беспутство»), и в роли Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых», где, кстати, текст от автора читала Ирина Федоровна Шаляпина (это действующее лицо было введено в спектакль Вл. И. Немировичем-Данченко в 1910 г).
Блюменталь-Тамарин — из последних гастролеров-неврастеников, вроде Павла Орленева, хотя театр у него назывался «Театр имени Павла Мочалова под руководством заслуженного артиста РСФСР В.А. Блюменталь-Тамарина».
Таким же последним гастролером был народный артист Азербайджанской, Армянской и Грузинской Советских Социалистических Республик Ваграм Папазян. Я видел его в «Отелло» в помещении Клуба МГУ на улице Герцена. Это, конечно, было своеобразное зрелище — сплошная экзотика во всем: в костюме, в речи, в игре… Он играл рычащего зверя, на непонятном языке…
Мои родители
1938, 1939 и 1940 годы явились кульминацией «моей жизни в искусстве» — все дневники тех лет наполнены фактами из этой моей жизни. А сороковые — роковые… Это десятилетие перевернуло всю мою жизнь, мою судьбу. Да, я думаю, и всей нашей страны, и не только нашей…
У меня была мечта стать артистом. Но порой казалось — она неосуществима. Существовала какая-то «цепная реакция» препятствий во всем, что было со мной в те годы. Казалось, вот-вот я близок к цели, и вдруг все рушилось. Я все время переживал эти «приливы и отливы» в моей судьбе (правда, переживаю и сейчас)…
16 января 1940 года мне исполнилось шестнадцать лет, и я пошел получать свой первый советский паспорт (тогда он еще не был «краснокожим»). Моя многострадальная мама дала мне свидетельство о моем рождении. Тогда я впервые увидел этот документ. В графе «отец» был прочерк, и он меня не столько удивил, сколько озадачил: какое же у меня будет отчество? Фамилия «Давыдов» мамина, как и имя, данное мне мамой в год и месяц смерти Владимира Ильича Ленина — ВладЛен.
А когда мне было одиннадцать, старуха-соседка в нашей небольшой коммунальной квартире сказала мне однажды на кухне: «Вот ты зовешь Семена Александровича
папой, но ведь он не родной твой отец…»
Тогда я не мог в это поверить — ведь мы последние пять лет живем все вместе! Я помнил, что когда мы жили еще вдвоем с мамой на «Уралмаше» под Свердловском, то отец приезжал к нам летом из Москвы, а некоторые его знакомые говорили даже, что я на него похож. А когда он в 1929 году окончил мединститут и стал врачом, то забрал нас в Москву. В 1930-м родился мой брат Шурик. Одним словом, у меня тогда не возникало вопроса, почему у него фамилия Мельников, а не такая, как у нас с мамой. Но все-таки сообщение злой старухи у меня тогда вызвало подозрительное отношение и к маме, и к отцу. С тех пор у меня пошатнулось доверие к ним — наша семья была разрушена…
И вот теперь, через пять лет, когда мне надо было получать паспорт, снова возник этот вопрос: кто мой отец, какое я должен вписать в свой паспорт отчество? Когда я пришел в домоуправление за справкой о прописке в нашей квартире в доме № 10 по Большой Дорогомиловской улице, то секретарь Иванова тоже была удивлена, увидев мое свидетельство о рождении. Хотя мы жили в этом доме всего два года, но она знала, что мой отец — Семен Александрович Мельников, и у нее не возникало никакого сомнения в том, что отчество у меня должно быть «Семенович»: «Ведь он воспитывает тебя давно…»
Потом у меня с мамой состоялся длинный разговор. Она мне рассказала историю своих взаимоотношений с моим родным отцом и отдала мне его фотографию с такой надписью: «Дорогому сыну Владе и другу Симе. Е. Куимов. 2/VI 1926 год». Так я впервые увидел своего родного отца, но пока только на фотографии…
А вся моя жизнь, и характер, и поведение, и даже увлечение театром были связаны с этой тайной, которая открылась мне в одиннадцать лет, но скрывалась от меня все эти годы…
Меня эта ложь, эта двусмысленность раздражали, и я искал гармонию и счастье не в семье, а на улице, во дворе, в школе и, наконец, в увлечении театром и кино. Это стало смыслом и целью всей моей жизни. И это спасло меня от многих ошибок.
Нет, я не могу сказать, что был лишен внимания и заботы дома. Мама меня, конечно, очень любила, и именно от нее я воспринял любовь к чтению и театру. Она, ее лирическая, трепетная и нежная душа влияла на мой характер, на восприятие жизни и людей. У нее была сложная жизнь и нервный характер, который ее и погубил…
Моя мама Серафима Лолиевна Давыдова родилась в 1898 году, в Вятской губернии, Орловском уезде, в деревне Давыдове. Я мало знаю о ее молодости, о ее семье. Сохранились только ее справки, анкеты, какие-то документы… Она умерла, когда мне было 17 лет, и я тогда, к сожалению, как и мы все, мало интересовался историей ее семьи, но все-таки кое-что знаю и помню по ее рассказам и рассказам ее родственников. Сохранились и кое-какие фотографии моего деда и бабушки. Знаю, что семья Давыдовых была очень большая — одиннадцать человек. У мамы было пять сестер и три брата. Все они жили в Вятке. Лолий Иванович Давыдов, мой дед, служил на Тихоокеанском флоте, на корабле «Кореец», механиком. Бабушка моя, Александра Петровна, рассказывала мне, что Николай И, когда еще не был коронован, посетил этот корабль и почему-то подарил деду… апельсин!.. Дед после службы на флоте с 1899 и до 1923 года (года своей смерти) работал на водокачке Вятка-1 — тоже механиком-машинистом. Тут у него заслуг особых не было, кроме рождения детей… Характер у него, по рассказам моей бабушки, был буйный, особенно когда пил… Имя его Лолий с латыни переводится как «куколь-чернуха»… Вот он, видать, это имя и оправдывал. На фотографиях он — или лихой моряк, или тихий старикан.
Бабушку я свою хорошо помню. Она была крупной, широколицей, с голубыми глазами — типично русской бабушкой с мягким характером и покорно-доброй. Дед, говорят, ее при загулах тиранил… Все, как у М. Горького в «Детстве» — особенно похоже в фильме, где играла бабушку Массалитинова.
Я в Вятке был дважды — совсем в детском возрасте и потом уже в 40–45 лет. Это удивительно милый городок, обаятельный и тихий. И вятичи гордятся своими земляками — В.М. и А.М. Васнецовыми, С.М. Кировым.
Потом, когда я познакомился со своим родным отцом, то узнал, что он тоже из Вятской губернии — Ефим Тарасович Куимов. «Мы — черемисы, это угро-финская ветвь, — говорил он мне, — а «Ефим» — от греческого «ефемос», то есть благочестивый, священный…» Но вот он это имя не очень оправдывал…
А город Вятка до 1780 года назывался Хлынов (у А.Н. Островского в «Горячем сердце» Хлынов — это разгульный, богатый купец). В 1934 году городу дали название Киров, в честь Сергея Мироновича, который в Вятке родился, а в 48 лет был убит в Ленинграде.
С семьей Куимовых я познакомился уже когда стал известным актером. Это были бородатые деды, наверное, в прошлом богатые деревенские труженики. Что касается самого Ефима Куимова, то он был по образованию агроном и до последних дней жизни занимался своим садом и огородом в Монино.
У него были два брата: Дмитрий — профессор-психиатр, Филипп — тоже профессор, но марксизма-ленинизма и экономики. А дети Ефима Тарасовича все были моложе меня: старший сын Денис (он впоследствии уехал в Израиль; вторая жена Е.Т. Куимова Мария Борисовна была еврейкой, и значит, он по матери — еврей), еще Ирина и Валерик, но дружил я только с Ритой — она была умной и доброй, и вот недавно умерла…
Ефим Тарасович учился вместе с моей мамой на рабфаке в Перми в 1921-23 годах. Там они и сошлись, а после окончания учебы приехали в Москву поступать, он — в Тимирязевскую академию, а мама — в Институт К. Либкнехта. И хотя у них родился я, но семейная жизнь не сложилась. Думаю, что виноват был, конечно, он, а мама была максималисткой, слишком ревнива… А вообще судить мне их нельзя, хотя жизнь моей мамы из-за него была изуродована — это-то я знаю. В Москве они разошлись. Все их рабфаковские друзья, которые тоже приехали в Москву учиться, осуждали их: «Жаль, такая красивая пара!» В самом деле, он был высокий, видный мужик, а она обаятельная, красивая женщина…
После того, как родители разошлись, в 1927 году мама уехала со мной на «Уралмаш» (это в шести километрах от Свердловска). Там мы прожили четыре года. Начальником строительства этого «гиганта первой пятилетки», «завода заводов» был двоюродный брат моей мамы Александр Петрович Банников, о котором я уже упоминал. Он-то и предложил маме в трудный момент ее жизни приехать на стройку, где она стала работать секретарем в правлении завода.
В начале этого строительства была легендарная «веревочка». Это когда зимой запряженная в сани лошадь прокладывала путь от Свердловска до строительства — шесть километров! — а за ней шли пешком первые строители завода во главе с начальником. Потом были вырыты землянки для рабочих и построены первые бревенчатые двухэтажные дома. В них жили немецкие инженеры с семьями и детьми, а в доме рядом мы с мамой и многие другие сотрудники завода. Эти дома и все строительство были в глухом лесу, куда потом протянули узкоколейку.
Я там пошел в детский сад, потом и в школу, в «нулевку». Но все свободное время я бродил по лесу — собирал и подснежники, и ягоды, и грибы… Единственное каменное здание было в центре — правление завода, куда я приходил к маме обедать, а потом и на репетиции их самодеятельности. Мама прекрасно пела, я и сейчас помню какие-то строчки из этих песен: «Мы на лодочке катались, золотистый-золотой, не гребли, а целовались. Не качай, брат, головой»; «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной Армии штыки, чай, найдутся. Без тебя большевики обойдутся». Или еще смешная песенка про «кирпичики»: «…и по камушку, по кирпичику разобрали мы этот завод…». И т. д. и т. п.
А зимой А.П. Банников порой брал гармошку, шел к рабочим и в теплой землянке при тусклом свете играл и пел вместе с рабочими русские широкие песни: «Ревела буря, гром гремел…». Ведь он был уралец, мужественный, сильный и умный большевик. И как нелепо, что за год до пуска завода он умер в Кремлевской больнице от белокровия — ему не было и сорока лет… Но я думаю, что если бы Банников не умер в 1932 году, то уж конечно в 1937-м был бы репрессирован — ведь он был ставленником наркома Серго Орджоникидзе. И бывал в Германии, и на строительстве у него работали немцы… Кстати, потом действительно там были аресты. Я помню, к нам, уже в Москве, приходил бывший главный инженер завода Герке и рассказывал об этом…
Вообще эти детские счастливые годы («Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»?) остались у меня в памяти на всю жизнь. Тогда я познавал все впервые — и природу, и людей. Помню, какое сильное впечатление произвела на меня немецкая семья, жившая в соседнем доме. У них были дети, и я с ними играл и на улице — в серсо, в лапту («штандер!»), и в их доме — в солдатики, в лото, на детском бильярде. У них я впервые увидел и попробовал такие фрукты, как гранаты. У них была собака, доберман, очень похожая на своего хозяина… Я потом часто замечал такое сходство хозяев и собак.
А еще с сыном А.П. Банникова Сашей (он ведь был мой старший троюродный брат) мы вместе ловили синиц, рыли землянки и строили в лесу шалаши… О нем, этом талантливом и невезучем человеке, которого я потом назвал «Князем Мышкиным», я расскажу особо.
Мои детские игры, друзья, книжки, которые мне приносила моя любимая мама, журналы «Мурзилка», «Затейник» — все тогда доставляло радость. Да, все мы родом из детства!
Но все это потом было испорчено тем, что сказала мне в Москве эта злодейка, старуха-соседка…
Когда мы переехали в Москву, то стали жить на Смоленском бульваре в громадном шестиэтажном доме. И тут вся моя жизнь проходила во дворе дома, на бульваре и в школе. Смоленский бульвар! Теперь от него осталось только название, а тогда это был настоящий широкий бульвар с вековыми липами. Зимой там можно было кататься на коньках и на лыжах. А летом он был наполнен жизнью — стояли лотки с газированной водой или с мороженым (тебе его тут же выдавали с двумя вафлями), а дальше палатки, где продавали ситро, морс, квас. И тут же китайцы крутили жужжалки, мячики на резинке, цветастые фонарики, веера… Тут же фотографии «за пять минут»; пряники, конфетки — леденцы, ириски… В школу я ходил по этому бульвару, и он был постоянным праздником в моей жизни. Сперва я учился в школе на Кропоткинской улице, в старинном особняке с чугунными лестницами, бывшей гимназии Поливанова. Там теперь музыкальная школа. Мы маршировали в большом зале и пели: «Есть у нас красный флаг, он на палке белой. Понесет его в руках тот, кто самый смелый!..» Через несколько десятилетий я познакомился в доме отдыха с автором этой песни. Им оказался очень милый, застенчивый человек — композитор З. Компанеец. Я при встрече с ним всегда начинал маршировать и петь эту его пионерскую песню, что вызывало у него радость и умиление…
Еще до приезда в Москву я был увлечен театром, и в Свердловске мама водила меня на оперные спектакли. Так я впервые был очарован и «Снегурочкой», которая на глазах у зрителей таяла, и «Сказкой о царе Салтане», и «Евгением Онегиным», где, к моему удивлению, убитый Ленский вдруг вставал и выходил кланяться публике… Ну, а «Кармен» я изображал дома, надев мамину шляпу.
Но главное, что началось у меня в Москве, это уже настоящее страстное увлечение театром. В своем дневнике я записывал все впечатления от спектаклей — я жил этим. Когда в 1935 году я дважды посмотрел во МХАТе спектакль «Платон Кречет» (билеты мне приносила, как всегда, моя добрая мама), то был настолько потрясен игрой артистов —
Добронравова, Грибкова и Топоркова, — что даже написал об этом письмо в «Пионерскую правду» (мама выписывала мне эту газету, и там часто печатали письма пионеров). Вот это письмо:
«Я два раза смотрел постановку «Платон Кречет» в филиале Художественного театра. Я очень рад, что в этом театре так хорошо играют артисты. Хочу их поблагодарить. Когда я вырасту, то буду артистом именно в этом театре.
Давыдов В., 5 класс "Г"»
И я, к моей большой радости, неожиданно получил ответ от И.Я. Судакова, режиссера этого спектакля:
«Дорогой тов. Давыдов! Благодарим Вас за хороший отзыв. Кончайте успешно школу и если действительно захотите в будущем быть актером — приходите экзаменоваться в наш театр.
Заслуженный деятель искусств И.Я. Судаков, декабрь 1935 г.»
Это стало целью всей моей жизни, — и я был верен этой своей «клятве»! Я начал ее осуществлять. Но как? Что для этого делать? Мне нужно было с кем-нибудь посоветоваться, а пока я без конца ходил во все театры и в кино. Там я находил идеальных героев. Горький сказал: «Героическое дело требует героического слова!» И там — в кино, в театре — это было.
Правда, первыми живыми героями для меня были герои Гражданской войны и старые большевики-подпольщики. С ними мы встречались в Доме пионеров. Приходили к нам и буденновцы-кавалеристы в синих галифе, в сапогах со шпорами, обязательно с шашкой и в буденновке, с буденновскими усами. Это были такие же герои, как в кинофильме «Чапаев», который мы знали наизусть. А старые большевики рассказывали (и показывали!), как они писали из тюрьмы письма молоком или как прятали в толстых книгах револьверы. Все это было и в фильмах о революционной борьбе. А потом — герои-летчики и челюскинцы…
Это была романтика, это, именно это (наглядное пособие!) воспитывало в нас веру и любовь к нашей советской стране. Особенно, конечно, кинофильмы. Они тогда назывались не «игровыми», как сейчас, а «художественными», и действовали на нас эмоционально, и западали в душу на всю жизнь. Мы непоколебимо верили в то, что видели, читали и слышали…
Да и вся моя жизнь, все мое воспитание было как бы уже запрограммировано, как и у всего нашего поколения. Сперва ясли, детский сад, потом школа, где нас принимали в октябрята, а потом летом в пионеры в лагерях, а когда я служил в армии — там в комсомол… И все это было подчинено общей идее, коллективизму и товариществу, вере в счастливое будущее. Порой это угнетало меня, и тогда перед строем «на линейке» в пионерлагере за непослушание у меня сняли пионерский галстук, и я даже заревел… Так бывало и в школе: за нарушение дисциплины меня часто наказывали — то из класса выставляли, а то вызывали родителей…
Семьи, семейного очага, семейных традиций, к сожалению, у нас не было; все было разрушено и подчинено одному: у родителей работе, службе, общественной жизни, а у детей учебе и общественным мероприятиям.
И только увлечение театром и кино спасало меня от общественного угнетения — я убегал с уроков в кино и на спектакли. Конечно, это мама меня пристрастила к театру, к кино, к литературе. Она приносила мне билеты в театр, на вечера в Дом актера, в ЦДРИ, в кино, приносила книги из библиотеки или давала деньги на покупку книг. Я уходил в школу, когда она еще спала, а она приходила с работы, когда уже спал я. Мы с ней виделись только в выходные дни. Тогда еще были сначала десятидневки, позже — пятидневки и шестидневки, дни недели еще не вернулись в нашу жизнь.
Я любил эти редкие дни и часы, когда мама бывала дома, а особенно, когда у нас собирались бывшие рабфаковцы и вспоминали свое прошлое, пели русские и революционные песни… У мамы был прекрасный голос, и учителя на рабфаке пророчили ей оперную карьеру. Но то ли у нее смелости для этого не хватало, то ли мое рождение помешало, только певицей она не стала. Она и высшее образование не закончила и уехала в 1927 году на работу на Уралмашстрой. А когда в 1931 году вернулась в Москву, то стала работать в ЦК ВКП/б/. Вот эта работа ее измотала и в конце концов погубила.
А мой «биологический» отец долго был для меня загадкой. Вернувшись в Москву, мама стала женой Семена Александровича Мельникова. Он еще на рабфаке был тайно влюблен в нее. Но, конечно, курносый, небольшого роста, в очках, с бритой головой, он не мог тогда победить высокого красавца Ефима… Его любовь к маме была благородной — он женился на женщине с чужим ребенком, сыном его соперника… Эта ситуация очень похожа на историю
любви Николая Рыбникова к Алле Ларионовой. Но с мамой она произошла на 30 лет раньше и окончилась трагично.
Мне и теперь не хочется копаться в их отношениях. Но все то, что происходило на моих глазах, вносило в мою душу смятение и раздвоенность. Однако любовь и уважение к маме во многом определили мой характер и взгляды на жизнь, мое мировоззрение и принципы. Именно поэтому я и выполнил ее предсмертную просьбу вступить «в нашу партию», в которую она сама вступила в 1919 году. А в 1941-м, в больнице, перед смертью, не знала, кому из коммунистов передать свой партбилет… Меня это тогда так же поразило, как потом при первой встрече с моим настоящим отцом Куимовым удивил его вопрос: «Владька, ты читал «Феноменологию духа» Гегеля?» Когда ответил, что нет и даже не знаю такой книги, он мне то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Тогда мне не о чем с тобой говорить»…
После смерти мамы у меня остался ее архив, и там было письмо Куимова и его автобиография. И сейчас, перечитывая все это, я вдруг понял их слепую веру и увлеченность марксистской философией и идеологией, которая врезалась в их светлые головы и души… Нет, они не делали на этом карьеры, они просто искренне верили в то, что им открыла новая идеология. И как же, наверное, было страшно расставаться со своими иллюзиями таким коммунистам перед расстрелом на Лубянке! А меня всегда поражала вера в эти идеалы у некоторых людей, которые просидели в тюрьме или лагере по 10–17 лет. Они были чище и честнее партийцев, которые нами руководили в те годы и которые так легко потом побросали свои партбилеты и из коммунистов превратились в капиталистов… Вот в чем трагедия нашей страны — ложь и перевертыши-карьеристы погубили ее и губят сейчас. И кто это остановит? Время? Новое поколение? Нет, это само не произойдет! Нет! Только законы и чистые, честные лидеры могут и должны совершить этот переворот, а не «перестройку»! Но таких людей пока нет, а во главе страны все еще стоят бывшие коммунисты, которые, видимо, никогда не были истинными коммунистами. Как обидно, как страшно это видеть к концу своей жизни… Обидно и за мою маму — она ведь верила в идеалы коммунизма как в христианские заповеди.
Ее имя — Серафима — на древнееврейском означает жгущая, огненная. Вот она так и сгорела в этой вере.
Она была вспыльчивой, но доброй — быстро остывала и просила прошения за свой взрыв… Ее жизнь со вторым мужем (моим отчимом) тоже не сложилась. Особенно последние годы их жизни были для семьи невыносимыми. Плохо, плохо все это было. Меня спасала только любовь к театру и мечта стать артистом.
А когда я впервые приехал в город Пермь с гастролями МХАТа и, выступая по телевидению, упомянул, что в этом городе в начале 20-х годов учились на рабфаке мои родители — и мама, и отец, и отчим, — то мне позвонила одна женщина и сказала, что она с ними училась на одном курсе… Вот она-то и повела меня по местам их юности — здание университета, где тогда был их рабфак, общежитие… Рассказала о романе мамы с моим отцом, вероятно, после чего и родился я… И все это, как и подаренные ею фотографии, было для меня очень волнительно. Я потом бродил по этим улицам и представлял, как это все у них тогда было… Поэтому для меня Пермь, как и Вятка, где родились мои мать и отец, стали такими близкими и дорогими.
Сейчас я перечитываю свои дневники и поражаюсь, сколько же во мне было энтузиазма и как это я успевал ходить в театры, на концерты, вечера и в музеи, читать книги о театре и пьесы, заниматься в драмкружке… а ведь надо было еще и учиться в школе. Школа была у меня на последнем месте.
Я посмотрел до 1940 года спектакли во всех московских театрах. И в каждом у меня были свои любимые артисты. Я писал им письма, а они отвечали мне и присылали свои фото с автографами. Мало того, я даже набрался храбрости и общался с некоторыми из них, это уже было высочайшее счастье для меня!
Вот такое письмо я написал И.М. Москвину:
«Дорогой Иван Михайлович!
Я к Вам обращаюсь с небольшой просьбой ответить мне на ряд вопросов, касающихся Вашей профессии. Вот эти вопросы, на которые я Вас очень прошу ответить. 1. Я сам хочу быть артистом и поэтому спрашиваю Вас, что для этого надо? 2. Какое образование надо для хорошего советского драматического артиста? 3. Куда мне направляться с мыслями об артисте после окончания учебы? 4. Нужны ли какие-либо иностранные языки? 5. Какие предметы необходимы артисту и что бы Вы мне посоветовали почитать из литературы, относящейся к этой профессии? (Нужна ли алгебра, геометрия артисту?)
Сейчас я читаю К Станиславского «Моя жизнь в искусстве», я хотел бы что-либо почитать о Вас (хотя бы Вашу подробную биографию, как Вы стали артистом, чтобы мне знать, как самому потом поступить с этим делом). Потом буду читать Чехова (я его читал, но мало), еще достал книгу И. Рапопорта «Работа актера». Читаю журналы «Новости искусства» и «Народное творчество», из газет — «Советское искусство».
Расскажите мне, пожалуйста, Иван Михайлович, вот что, например: ученик, который учится в 7 кл., захотел быть артистом, сколько он должен окончить классов, потом куда ему направиться и т. д., расскажите до того, пока он (тот, кто захотел быть артистом) не стал порядочным, хорошим артистом.
Вот все, что я хотел бы знать о будущем моем. Вот эта небольшая (а может быть и большая) моя просьба к Вам. Я прошу Вас, Иван Михайлович, если вам не трудно, ответьте мне, пожалуйста. До свидания, будьте здоровы.
Давыдов Владик. 9.01.38 г.».
И я получил ответ от Ивана Михайловича. Как же я был счастлив!
А на своей фотографии он написал: «Владику Давыдову на добрую память, с просьбой хорошо учиться».
И первый артист в моей жизни, с кем я познакомился и потом часто видел его и разговаривал с ним, был Иван Михайлович Москвин.
В 1938 году все газеты регулярно печатали статьи, посвященные предстоящему 40-летию МХАТа. Я их все, конечно, читал и вырезал (они до сих пор в моем архиве, как и программки спектаклей, которые я видел). А до этого, в 1937 году, от нашего Фрунзенского района был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР артист МХАТа И.М. Москвин. В школе мне поручили выпустить стенгазету, посвященную этому событию (она у меня хранится до сих пор!). Я уже наизусть знал биографию Ивана Михайловича и, конечно, видел его во всех ролях во МХАТе. Сейчас даже трудно себе представить, как проходили в то время все предвыборные собрания и митинги — это был один ликующий порыв! Я на некоторых побывал. Запомнился на всю жизнь митинг перед громадным зданием академии им. М.В. Фрунзе на Девичьем поле.
Холодный декабрьский вечер. Над многотысячной толпой стоял пар от дыхания людей. Луч прожектора высвечивал трибуну под вздыбленным уродливым танком — памятником с правой стороны этого здания. В микрофон гулким эхом катились речи ораторов. А когда начал выступать Москвин, вся эта масса людей замерла, и слышалось только ее дыхание, как храп лошадей… Речь Москвина была такой эмоциональной, такой патриотической, что все ликовали и глухо аплодировали своими варежками… Мне Москвин казался недосягаемым народным героем. И я гордился им, своей родиной, нашим народом!
А дальше… дальше была еще большая радость. В октябре 1938 года было собрание пионеров нашего района почему-то в… Планетарии. Я, конечно, был там. И вдруг приехал Москвин, рассказал о том, как он сорок лет тому назад стал артистом Художественного театра и прочитал рассказ Л.Н.Толстого о зеленой палочке и И.Ф. Горбунова «У пушки». Я подсел к нему поближе и начал задавать разные вопросы, а он охотно отвечал. У меня сохранилась записная книжка с его ответами. И вот с этого дня я уже перед каждым спектаклем, где играл Москвин, на правах «старого» знакомого подходил к его подъезду и провожал его до театра, а потом, после спектакля, назад до дома. В дневнике у меня подробно описаны все эти «встречи» и «проводы», а их было около тридцати.
Конечно, я теперь понимаю, что вопросы, которые я задавал ему, наивны. Но это были тогда для меня самые счастливые моменты. И после каждой такой мимолетной беседы я уходил домой окрыленный и тут же записывал свои впечатления и от спектакля, и от Москвина… Я видел его во всех ролях, которые он тогда играл — и в «На дне», и в «Вишневом саде», и в «Горячем сердце», и в «Смерти Пазухина». Меня восхищали противоположные его характеры: благостный, добрый Лука и разнузданный, пьяный ухарь-купец Хлынов, нескладный и смешной Епиходов и злой, остервенелый Порфирий Пазухин. Царя Федора я тогда еще не видел. Зато видел в концертах Фому Описки-на и гениально исполненного Москвиным «Мочалку» — Снегирева из «Братьев Карамазовых». После этой роли на гастролях в 1923 году в Америке его назвали «артист с Марса»!! А еще до этого, в 1906 году, в Австрии, после «Царя Федора», в газетах писали: «…Забудьте пятьдесят знаменитостей и запомните одно имя — Москвин!»
Меня больше всего покоряли простота Москвина и его неподдельное внимание ко мне и моим вопросам, то, как он серьезно и подробно мне рассказывал и о своей семье, и о том, как поступал в училище Малого театра, где читал героическую, пафосную «Песнь о вещем Олеге» — и его не приняли. И он решил поступать в Филармоническое училище, где уже читал просто басню «Осел и соловей», и его принял на свой курс Вл. И. Немирович-Данченко, а потом пригласил в создаваемый с К.С. Станиславским Художественно-Общедоступный театр и дал ему роль царя Федора, которая прославила Москвина… Иван Михайлович был удивительно доброй души человек. Когда я метался между школой, драмкружком и посещением театра, он мне строго сказал: «Главное — надо хорошо учиться».
Это он и на фотографии своей написал. А когда мы решили в драмкружке поставить «Без вины виноватые» Островского, и я получил роль Незнамова, то обратился к Ивану Михайловичу с просьбой: не мог бы его сын Владимир Иванович (он играл эту роль в театре им. Е. Вахтангова) помочь нам в работе, и Москвин дал мне его телефон, сказав: «Позвони ему, а я его попрошу об этом».
И попросил: Владимир Иванович пришел и очень нам помог.
Предвоенные годы и война
Да никакие это были не предвоенные годы! И в 1937 году, и в 1938-м на Дальнем Востоке шли войны с Японией. А осенью 1939 года началась финская война. Я в это время приехал в Ленинград и помню, как вдруг объявлялись воздушные тревоги, было и затемнение. Та война была тягучая и странная. Я, как и многие, думал, что это финны напали на нас. А много лет спустя, когда я жил в доме отдыха в Комарове под Ленинградом, мой друг писатель Даниил Гранин, который там жил на даче, предложил мне поехать прогуляться на машине по Финскому перешейку. Мы заехали куда-то за Зеленогорск. Вышли погулять по полю, и я увидел бетонные врытые в землю доты. И спросил Гранина:
— Я не понимаю, если финны нападали на нас, то зачем же они строили такие оборонительные сооружения?
— Как? А ты до сих пор считаешь, что это финны начали против нас войну?
— Да…
Я так думал, как и все мы тогда…
Получилось так, что и война 1941 года тоже застала меня в Ленинграде.
В 1939 году летом моя мама родила дочку Наташу. После этого она вскоре тяжело заболела, и муж перевел ее на инвалидность. Она ушла с работы, а дочь мой отчим отправил к своим родителям на Урал, туда же он отвез и десятилетнего сына Сашу. Мама осталась в Москве со мной, но время от времени муж ее отвозил в клинику на лечение. Они к тому времени уже разошлись… Когда же мама жила дома, то шила для участников финской войны ватники — стеганые куртки. Ее преследовали кошмары — ей все время казалось, что за ней следят и хотят арестовать. Она боялась выходить на улицу и показывала мне в окно на «топтунов», которые стояли вдоль нашей Дорогомиловской улицы. По центру ее тоже стояли — но уже милиционеры. Ведь по этой улице каждый вечер ездила кавалькада легковых автомашин во главе с «линкольном», набитым охраной, а за ним «линкольн», в котором сидел Сталин.
Мы, мальчишки, уже знали, что примерно в 9—10 часов вечера летом они едут на дачу, и выбегали на тротуар смотреть, как за машиной Сталина ехала машина Молотова, а потом Ворошилова, а потом Кагановича и т. д. «Топтуны» в тот момент вылезали из ворот и подъездов и отстраняли нас. Но это было всего две-три минуты, когда вся эта колонна съезжала у тогда еще узкого Бородинского моста и медленно поворачивала за угол Дорогомиловки, а уже потом срывалась с бешеной скоростью дальше. Вот за этот-то момент замедленного поворота мы успевали всех их разглядеть. Все они, кроме Сталина, сидели рядом с шоферами и хорошо были видны. А Сталин сидел в середине машины на откидном кресле и держал в зубах трубку. Мы порой развлекались тем, что здоровались с «топтунами», которых уже все знали, и было забавно смотреть, как они испуганно отворачивались от нас.
Мама мне показывала именно на этих «топтунов», стоящих у подъездов. Она почти 10 лет работала техническим секретарем в разных отделах ЦК ВКП/б/, знала всю эту систему. А в нашем доме в 1936—37 годах жили сотрудники КПК и ЦК, и поэтому в нем были частые аресты. Да и мы въехали в квартиру, в которой жил до ареста какой-то Иосифов, и еще долго раздавались звонки и его просили к телефону… И еще две-три квартиры при нас таким образом были «освобождены»… Помню, как неожиданно арестовали отца моего хорошего приятеля Володи Бирна. Нет, мы не перестали с ним общаться, но чувствовали себя беспомощно и странно… Так было и в школе, когда был арестован отец нашего одноклассника Славы Львова — военный педагог Академии им. Фрунзе… Может быть, поэтому у моей мамы и началась эта «мания преследования»?
Мама стала уходить из дома и скрываться у друзей. Потом неожиданно для всех уехала в Ленинград к двоюродной сестре Софье Петровне Банниковой. Это была зима 1940—41 годов.
Я остался совсем один. Что мне было делать? На что жить? Конечно, мне было уже не до учебы. Но театр я все-таки не забывал и все время ходил на спектакли. И вообще в эти два года, 1940-41, я совсем забросил учебу и интересовался только театром.
Вдруг 13 июня приносят мне телеграмму из Ленинграда: «Мать тяжело больна немедленно приезжай». Я тут же выехал в общем вагоне и 15-го утром был на 8-й Советской улице в доме Банниковых. Сразу побежал в больницу к маме. Ей в самом деле было очень плохо.
А 22 июня 1941 года началась война. В Ленинграде по радио начали часто объявлять: «Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Улицы пустели, из кинотеатров зрителей загоняли в подвалы, в бомбоубежища. Ловили шпионов-парашютистов. Во время тревог и в ночное время (белые ночи!) город казался мертвым. Длинные лунные тени от домов перекрывали проспекты и улицы. Вдруг с криками пробегали люди: «Держи! Лови! Останови!» Кого? За что? А мы стояли на крышах домов и ждали, когда упадут зажигательные бомбы, чтобы их тут же сбросить на землю. Наконец под утро нервный, тревожный метроном по радио затихал и раздавалось: «Отбой воздушной тревоги! Угроза воздушного нападения миновала! Отбой!»
Когда я пришел к маме в последний раз, она лежала в огромнейшей больничной палате Смольного монастыря, куда ее только что перевели. Палата была переполнена больными женщинами. Я с трудом нашел маму в этом хаосе кроватей.
Я долго сидел возле мамы. Надо было решать: смогу ли я и надо ли везти ее в Москву или хотя бы к сестре на 8-ю Советскую? Мои родственники категорически отвергли эти мысли и твердо и строго сказали, что я должен уезжать домой в Москву один. «Сейчас война, а у тебя все документы в Москве, тебя могут здесь принять за дезертира. А там твоя квартира, твои и мамины документы и все остальное. А маме ты помочь, как и мы, не сможешь».
То же самое со слезами говорила мама, но потом вдруг взяла меня за руки и сказала: «Владушка, милый, родной мой, прости меня за все, за все… Я хочу тебе только счастья! Поезжай домой. И только прошу тебя: вступи в нашу партию, вступи…»
От умирающей мамы услышать
такие слова? Что это? Это ведь не парторг мне говорил, не секретарь какой-нибудь, а родная, моя святая мама. Она же видела, знала: если бы она не заболела и не ушла из ЦК, не уехала из Москвы, ее, конечно, арестовали бы — ведь на нее был донос за то, что она якобы затеряла какую-то важную бумагу; она мне сама об этом говорила — каялась. Нет, всех этих людей, воспитанных советской властью и коммунистической партией, до сих пор понять невозможно. Это трагический парадокс XX века.
Ровно через месяц после начала войны, уже в Москве, 22 июля, ко мне пришел мой отчим, человек, который вел себя по отношению к маме не очень чутко. Он уже жил с другой женщиной (из-за этого у них с мамой тоже был конфликт). Так вот, он пришел и принес мне телеграмму из Ленинграда: «Сима умерла пятнадцатого, девятнадцатого были похороны». И все!.. Я стоял у окна своей комнаты и ревел… Вот так у этого окна стояла и моя мама… И в этот момент из черной тарелки репродуктора раздался сначала тревожный хрип, а потом таинственный голос: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Было еще светло, летний день продолжался. И вдруг послышался гул самолетов и началась пулеметная стрельба с крыш соседних домов. Мы сбежали во двор и залезли в траншею — узкую щель, накрытую досками и присыпанную землей с песком. Мы просидели в скрюченном положении всю ночь. А над головами, казалось, все взрывается и полыхает. Доски подпрыгивали и обсыпали нас песком.
Когда мы утром вылезли наружу, то увидели огромную воронку посреди Дорогомиловской улицы, разбитый угол дома и перепутанные провода троллейбусных линий. Под ногами хрустели стекла…
Это была первая, безалаберная бомбежка Москвы. Тогда одна из бомб попала в здание театра им. Вахтангова. Был убит дежуривший в театре артист В. Куза.
Мой отчим вскоре уехал на фронт с военным госпиталем ведь он был врач-невропатолог. Мамы не стало… Мне нужно было решать свою судьбу. Сперва я хотел, в порыве патриотизма, пойти работать на авиазавод № 22 — около нас, на Кутузовском, и отчим мне даже написал рекомендацию. Но потом какой-то случайный звонок моей соседке, у которой я сидел в гостях, решил мою судьбу иначе. Оказалось, ей звонил молодой человек, который откуда-то знал меня и попросил дать мне трубку. Мы с ним стали выяснять общих знакомых, разговорились. И он сказал, что работает радистом и киномехаником в Наркомате Военно-Морского Флота СССР и советует мне пойти работать именно туда, а не на завод. Кем? Как? Когда? Через несколько дней мы с ним встретились, и он повел меня с паспортом в громадный дом на Арбатской площади. Я был принят на должность телефонного монтера на 250 рублей в Узел связи НК ВМФ СССР.
Так началась в семнадцать лет моя трудовая жизнь…
Таких, как я, монтеров, там работало еще человек пять. Но все они оказались старше меня, я с ними был не на равных. Мой новый благодетель Саша Миков, который привел меня на эту работу, опекал меня и наставлял на путь истинный не только в телефонном деле, но и в отношениях с людьми. Он был на десять лет старше — лейтенант интендантской службы. Почти безграмотный, но добрый мужик-сибиряк, он учил меня быть «полезным и приятным человеком» на работе. Я тогда еще не подозревал, что он сыграет
решающую роль во всей моей жизни. Во всей жизни!!! Но до этого еще далеко — впереди годы войны.
Каждый день к 9-ти часам я являлся на работу (с противогазом и пропуском). Весь день бегал по вызовам по всем этажам и кабинетам, где надо было исправить телефон, отрегулировать диск, заменить аппарат, протянуть новую линию или прибить ее под самодельные скобки. А еще надо было каждый день проверять полевой телефон на башне, где стоял пулемет. Иногда с утра нас гнали на грузовике за кабелем в другое здание Генштаба, на Спартаковской. А по ночам почти регулярно объявлялись воздушные тревоги и шли налеты на Москву — надо было бежать на крышу дома, сбрасывать зажигалки на землю и засыпать их песком. Однажды я не услышал тревоги, проспал ее и прибежал в Наркомат не к 9-ти, а к 10-ти утра. Я решил, что в лучшем случае меня уволят с работы, в худшем — отдадут под военный трибунал. Но и тут меня спас случай. Оказывается, раз ночью была тревога, то на работу приходят не к 9-ти часам, а на час позднее — к 10-ти. Ура! Я спасен!
Война бушевала на всех фронтах. Был уже сдан Минск. Оттуда бежали — чуть не пешком — мхатовцы. Спас театр, конечно, И.М. Москвин. Он возглавил это бегство из горящего Минска, где МХАТ только что начал свои гастроли. Его за мужество назвали «маршал МХАТа», ему тогда было 67 лет, но он не покинул коллектив театра (хотя ему предлагали персональную машину для эвакуации) и доставил всех в Москву живыми и здоровыми. Конечно, там было много страха, и по дороге они хлебнули много горя. Но вспоминали потом и смешные ситуации. Например, как артиста В.А. Вербицкого, который ходил в берете, приняли за немецкого шпиона… И как Москвин звонил по телефону и объяснял, что это говорит народный артист Советского Союза, а Добронравов с грустным юмором добавлял: «Половины! Половины Советского Союза!»… Так почти пешком все добрались до Можайска, а уж потом на электричке до Москвы. Декорации многих спектаклей тогда сгорели, и легендарные «Дни Турбиных» поэтому не восстанавливали.
Конечно, всех потрясла речь Сталина 3 июля 1941 года: «…Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои…» Это было первое слово надежды за две недели войны. И то, что Сталин не уехал из Москвы, когда немцы стояли уже у самого города, вселяло в нас веру в победу.
Лето 1941 года было странное — в начале июня вдруг выпал снег… А зима началась в один день, 7 ноября, когда шли по Красной площади сразу на фронт колонны мимо Мавзолея, где стоял Сталин и говорил речь, — и в это время пошел снег, не мокрый и редкий, как до этого, а густой, плотный, как стена. И сразу ударил лютый мороз.
15 октября днем нас собрал начальник, подполковник Слиж, и объявил, что через три часа надо собраться в Наркомате с вещами: «Будет отъезд, когда и куда — неизвестно!»
Я помню хорошо эту ночь. Колеса машин шуршали по мокрым улицам. Была кромешная тьма, только узкие щели из фар машин освещали кружащийся сырой стеклянный снег. Люди бежали быстрей машин — молча, нервно, обгоняя друг друга — с узлами, чемоданами, колясками и даже с санками, набитыми горой вещей. Ни голосов, ни гудков, ни звуков радио — одно шуршание, шуршание колес, шуршание ног, шуршание ветра, шуршание снега.
Ночь мы просидели в Наркомате на своих вещах. Наконец началась погрузка в грузовики, а на Ярославском вокзале снова погрузка — в дачные вагоны. Вещи навалили до потолка, и нам, молодым, за то, что мы все это погрузили, разрешили залезть на вещи и там спать… Что это? Бред? Сон? Нет, это семнадцать лет, а впереди неизвестность!
Мы ехали долго, где-то стояли, опять ехали и за восемь дней доехали до Ульяновска. Опять разгрузка, опять по банке консервов, по селедке и по буханке черного хлеба. Разгрузили. Сами поехали на грузовиках со своими вещами… в библиотеку им. Гончарова. Разместились там — кто на полу, кто на столах. Началось расстройство желудка от воды, от селедки, от консервов и без горячего… Через два дня опять команда грузить все имущество, ящики, мешки, свои вещи на пароход «Спартак». Два дня и две ночи надрывались на этой погрузке. Нас, шесть человек, поместили пока в трюм. Потом нас разделили, двоих оставили в Ульяновске, а четверых отправили на этом пароходе со всем основным штатом Наркомата в Куйбышев. Плыли недолго вниз по Волге, до затона у реки Самарки. На этом пароходе мы прожили в жутком трюме всю злющую зиму, которая в Куйбышеве, как и в Москве, началась 7 ноября, когда проходил парад войск перед Дворцом культуры на площади Куйбышева.
Мороз был лютый, до 40 градусов. И самое страшное, что нам нужно было каждый день ходить через весь город во Дворец культуры им. Куйбышева. В центре его располагался зрительный зал, где работал все три сезона Большой театр. Справа в крыле Дворца поместили Наркомат ВМФ, а слева — Наркомат Обороны. Нам предстояло в своем крыле соорудить телефонную ручную станцию на сто номеров и по всему зданию протянуть телефонную линию. Сразу началась работа. День и ночь мы лазали по лестницам под потолок или ползали по полу — многие сотни метров проползли — и тянули телефонные кабели. Работали дружно, хотя все были очень разные. Васька — из крестьян, хитрый и ленивый. Володя — типичный москвич, но очень осторожный и скрытный. А третий — Ванька — долговязый, нечесаный, грубый и нечист на руку, таскал у нас вещи. У меня спер всю коллекцию монет и марок. Когда я увидел у него на груди медали из моей коллекции «За храбрость» и «1812 год» с профилем Наполеона, я чуть не убил его при всех ребятах. Он, конечно, вернул их мне тут же, но позже, когда уходил по призыву в армию, все-таки и эти, и другие вещи спер! Подлец! Москвича моего тоже, как и крестьянина, забрали. Остался я один на телефонной станции с четырьмя телефонистками (все жены больших начальников — ведь это же был «трудовой обязательный фронт»!)
Мне исполнилось в 1942 году уже восемнадцать лет, и меня вот-вот тоже должны были призвать в армию. Но тут мой начальник Саша Миков в интересах дела и моих предложил Главному Морскому начальнику оставить меня при телефонной станции и назначить ее начальником, как знающего всю технику. Для этого я должен написать заявление о добровольном зачислении в ряды Военно-Морского Флота. Начальство Наркомата предложит райвоенкомату направить меня в роту охраны Наркомата. Днем я буду служить на станции, а по вечерам и ночью стоять на посту или дежурить в казарме.
Вся эта операция была проделана так, как ее предложил Саша Миков. И он был доволен, и я. К сожалению, он скоро проштрафился, вернее, на него написала донос его новая жена, и его отправили на Волжскую флотилию на Сталинградский фронт. Это была осень 1942 года. Так мы расстались с моим другом и благодетелем. Правда, ненадолго.
Ну, а я стал в восемнадцать лет начальником телефонной станции НК ВМФ СССР. Четыре телефонистки и круглосуточное дежурство.
Конечно, я не забыл театр и свою мечту. Еще в октябре 1941 года моя дальняя родственница Афанасия Леонтьевна Хохлова, актриса Областного театра, очень внимательно отнеслась к моей мечте стать артистом и попросила подругу своей юности Софью Николаевну Гаррель, бывшую тогда замужем за В.Я. Станицыным, чтобы ее муж организовал мне экзамен в Художественном театре. Тогда в комиссию вошли: В.А. Орлов, И.М. Раевский, A.M. Карев, П.В. Лесли и Е.В. Калужский. Меня пригласил сначала для беседы Калужский и объяснил, что и как будет происходить. 9 октября 1941 года я пришел к служебному входу МХАТа. Меня проводили на четвертый этаж, в так называемый Зал КО (Зал комической оперы — это было помещение для Музыкальной студии Немировича-Данченко).
Сначала мне стали задавать вопросы: кто я? что я хочу? почему хочу идти именно в актеры? кто родители? Потом Калужский сказал:
— Ну, что вы нам можете прочитать? Стихи? Басню? Прозу?
— Да, могу и то, и то.
— Ну, начните с басни.
— «Две бочки ехали».
— Хорошо, а стихи?
— Монолог Чацкого и «Письмо к женщине» Есенина. И «Буревестник» Горького.
Начал все подряд читать. Остановили:
— Не волнуйтесь, не торопитесь. А «Письмо к женщине» вам в семнадцать лет лучше не читать…
…Закончилось мое чтение.
— Ну, посидите…
Начал Е.В. Калужский:
— Я скажу от всех. Данные у вас хорошие: рост, лицо, голос. О темпераменте пока трудно сказать. Но ведь у нас школы-то нет, а болтаться вам в театре не стоит — хорошего мало. Вот Василий Александрович Орлов, он преподает в ГИТИСе. Что он вам скажет?
В.А. Орлов помолчал и сказал:
— Запишите мой телефон и через неделю позвоните мне. Будет ясно, как сложится наша жизнь в институте. Звоните.
И еще раз на улице, стоя на лестнице первого подъезда, он повторил:
— Позвоните, позвоните мне!
И мы расстались.
А через неделю МХАТ эвакуировался в полном составе в Саратов, а я с Наркоматом — в Куйбышев…
Ничего тогда и не могло получиться, но главное произошло — я как бы перешел рубеж и обрел надежду на будущее: меня не отвергли и оценили мои данные, а Орлов вселил веру!..
А пока — эвакуация. Куйбышев. Наркомат. Служба в армии. Какой уж тут театр? Война! И когда, и как она кончится, и где я буду? Ведь служить-то мне еще три года, если останусь жив…
И началась тупая служба, когда серый старшина или мичман командуют тобой, как мальчишкой, и унижают, как хотят — какой уж тут артист?! Горько! Обидно! Безвыходное положение! Но ведь миллионам таких, как я, еще страшнее и опаснее на фронте, на войне. А я могу ходить в театр, читать, писать дневник.
Из дирекции Большого театра к нам в Наркомат обратились с просьбой провести для них три-четыре внутренних телефона. Подписали это письмо директор ГАБТа Я.Л. Леонтьев, главный администратор М.И. Лахман и директор касс Е.Л. Садовников. Одним словом, все начальство ГАБТа ждало ответа на свою просьбу. Мне дали команду, и я все это, конечно, сделал. Мне выдали постоянный служебный пропуск в Большой театр…
Нет, я должен был благодарить свою судьбу, что в такое время я не только жив, но могу ходить в великий Большой театр! Я тогда впервые пересмотрел все балеты и побывал на всех операх. В то время в Куйбышеве сосредоточился дипломатический корпус, и даже рядовые спектакли, а не только премьеры, превращались в красивое зрелище. Казалось, весь мир съезжался в Большой театр и на это время забывали о войне…
В Куйбышеве я познакомился с некоторыми артистами и музыкантами ГАБТа. Их приглашали в наш Наркомат на праздничные концерты, а я обычно вел эти концерты и читал патриотические стихи. Для меня это были самые счастливые дни. После концерта артистов приглашали на чай, а они звали и меня, хотя я был краснофлотцем и вроде бы не имел права сидеть за таким столом вместе с начальством. Но и солист оперы М. Сказин, и виолончелист В. Матковский, и особенно дирижер А.Ш. Мелик-Пашаев восхищались за столом моим чтением Есенина «с нервом». И уже на следующих вечерах они заказывали мне, что читать, и говорили моему начальству: «Это же талант, красавец, его надо сохранить, сберечь для сцены!» Но кому тогда, в войну, нужен был этот матросик?!
Однако меня эти встречи окрыляли и вселяли надежду на то, что я все-таки когда-нибудь осуществлю свою мечту. А то, что я получил в те годы в Большом театре, осталось в моей душе навсегда.
Но в конце концов мое начальство запретило мне появляться в театре, да еще в партере! Стали придираться: есть ли у меня увольнительная и на какие деньги я хожу в театр. Хотя у меня, как я уже говорил, был постоянный пропуск, да и все капельдинеры меня знали и даже любили — это ведь были члены семей артистов Большого театра. А балетные артисты тогда все жили в школе, куда я уже ходил к ним в гости и даже встречал с ними Новый, 1943 год.
А вот 1942 год мы встречали в своей «каюте», в трюме. Купили и выменяли на сахар селедку с картошкой и денатурат и закатили новогодний пир. И, конечно, отравились этим зельем.
Зато свое 18-летие я задумал отметить получше. Решил свою, вернее, мамину, меховую шубку продать на рынке и купить водки, картошки, бутылку подсолнечного масла, белого хлеба и малинового варенья… Нажарили картошки, нарезали колбасу и соленую капусту, которую мне принесли телефонистки. Но самый дорогой подарок мне сделал Сенька-заика — большую пачку махорки, которую я тогда полюбил. А Иван-вор напек для меня блинов… Сели за стол, налили, поздравили, выпили и… о ужас, картошка была испорчена… машинным маслом! Или мне подсунули такую бутылку на рынке, или те, кто жарили, перепутали бутылки. Пришлось довольствоваться капустой и колбасой, но с белым хлебом! Обидно было до слез!
Вообще же жизнь у нас была дружная, пока не забрали моих партнеров-монтеров в армию — всех в пехоту. У меня поэтому прибавилось дел, но я не унывал, а был увлечен своей работой. Ко мне многие обращались с разными просьбами, и меня это вдохновляло. У меня были хорошие отношения со всеми служащими в Наркомате и в Управлении связи, в Оперативном отделе, в Главном морском штабе, а позже и с прибывшими из Ленинграда сотрудниками Исторического отдела, и из Управления делами, и из Отдела снабжения. Я для многих тогда был полезен: накручивал на обмотанные асбестом трубы провода для отопления — вроде каминов. Из старых телефонных трубок сооружал своего рода радионаушники. Ведь тогда радио было самым важным и нужным предметом — это было все! А однажды случилось вот что. Я по утрам проверял телефоны во всех кабинетах высшего начальства. А это были адмиралы, вице- и контр-адмиралы — Рогов, Алафузов, Исаков и Старший морской начальник контр-адмирал М.М. Долинин. И вот у него на шкафу в кабинете стояли старинные бронзовые часы, которые не шли. А я как-то, дежуря в выходной день, решился их оживить. Что-то подкрутил, смазал, завел пружину, отрегулировал маятник, подложил под корпус какие-то картонки для равновесия, и… они пошли. После выходного рано утром раздался телефонный звонок у меня на станции, и дежурный по Управлению строго мне приказал:
— Вас требует к себе контр-адмирал!
Я понял, что контр-адмирал чем-то недоволен. Обычно он мне сам приказывал явиться к нему. Я явился. Он, не вставая из-за стола, строго спросил:
— Вы были в моем кабинете?
— Да!
— Вы ничего не брали у меня со стола?
— Нет!
В это время часы пробили девять ударов.
— Как? Часы идут? Кто их починил? Когда?
— Это я, товарищ контр-адмирал.
— Вы? Что — вы и это умеете?
— Не знаю, но вот получилось…
— Хорошо, у меня тогда будет к вам важное дело. Может быть, вы с ним справитесь. Когда я был военно-морским атташе в Англии, мне там подарили патефон, но он у меня перестал работать. Вы мне его не исправите? Но только вам надо прийти ко мне на квартиру.
— Хорошо. Когда прикажете?
— Это надо сделать, когда я буду дома…
Решили, что я приду в выходной день. Я щелкнул каблуками и вышел из кабинета. И думал только о том, чтобы до следующего выходного дня часы в его кабинете не остановились. Иначе позор! Крах моего авторитета!
Неделя была у меня очень трудной. Закончили строительство бомбоубежища во дворе Дворца культуры, и я должен был там наладить телефонную связь. Как и что там делать — я не представлял. А тут еще всю неделю начпродсклада капитан-интендант III ранга Коган требовал, чтобы я протянул телефонную линию на этот склад из его кабинета: «Это требование высшего начальства!» Ну я и тянул эту линию…
А как-то ночью пришел на нашу телефонную станцию, где я спал на длинном, как гроб, диване, дежурный офицер с двумя капитанами III ранга и сказал, что надо их срочно соединить с Москвой, но что я и телефонистка должны уйти из помещения станции, потому как у них, мол, секретный разговор. Я объяснил им как позвонить и вышел. Потом мне дежурный рассказал, что это были командиры подводных лодок, которые перегоняют с Балтики на Волжскую флотилию… Днем они плывут под водой, а ночью всплывают. С кем и о чем подводники говорили, я, конечно, так и не узнал, однако не думаю, что по открытой связи они вели очень секретные переговоры. Но сам факт с этими подводными лодками меня удивил.
Вообще в Наркомате я видел и узнал очень интересных людей. Конечно, морские офицеры особенно были красивы и элегантны, когда в 1943 году (после победы под Сталинградом) были введены погоны, а на рукавах остались золотые и серебряные лычки. Да не только внешне, но и по культуре — я бы даже сказал, по воспитанию — это были элитарные части. Я уже не говорю об интеллигентах из Исторического отдела. Особенно был прекрасен и обаятелен капитан I ранга Зайнчковский: «Я ведь второй раз надеваю погоны — через 25 лет». Да все они в этом управлении были для меня аристократами духа. И контр-адмирал Круглов, и полковник Данилов, и, конечно, контр-адмирал Долинин. Но особенно я подружился со Смеловым (если я, младший сержант, мог считать капитана II ранга своим другом). Мне тогда было девятнадцать лет, но он со мной очень серьезно вел беседы на разные темы — о политике, о войне, об истории, об экономике, о культуре, о литературе…
«Я вижу, что у вас нет глубоких знаний, — говорил он мне, — вы не умеете заниматься самовоспитанием, у вас нет воли для этого… Я дам вам список книг для обязательного прочтения. Эти книги должен знать каждый культурный человек, тем более, что вы хотите стать артистом, то есть воспитывать людей…»
Общение с подобными людьми, а потом (после войны) знакомство с нашим великим Адмиралом, блистательным наркомом Военно-Морского Флота СССР Николаем Герасимовичем Кузнецовым произвели на меня громадное впечатление, не меньшее, чем встреча с такими значительными личностями России, как В.И. Качалов и И.М. Москвин. Это элита нашей культуры. Мне повезло их видеть, знать и учиться у них всему.
А Смелов и позже писал мне назидательные письма в Москву…
Да, два года, прожитых мною в Куйбышеве, стали моими университетами. Ведь я впервые многое увидел и вошел в большой мир взрослой жизни. А главное — познакомился с интересными людьми и пересмотрел весь тогдашний репертуар Большого театра!
В Куйбышеве я не терял ни одного дня, ни одного часа. Дневник тех лет — свидетель всего, что я там делал, о чем думал, какие книги читал, где бывал, о чем мечтал.
А мечтал я по-прежнему о театре. И не только ходил в театры — Большой, Драматический, Оперетту. Ходил и в кино, и в музеи, а на Пасху в апреле 1943 года впервые был в церкви. Слушал божественное церковное пение таких великих певцов, как Михайлов и Козловский. Это тоже перевернуло мою душу и мысли. Эта весенняя ночь, пение, запах ладана, и мерцание свечек, и крестный ход… Я был в полном смятении… Мне открылся иной, великий, неизвестный мир и дух…
А через несколько дней я прочел в газете, что в эту пасхальную ночь в Москве умер Владимир Иванович Немирович-Данченко. И на следующий день было опубликовано постановление Правительства об увековечении его памяти, где был пункт о создании Школы-Студии Вл. И. Немировича-Данченко имени при МХАТ СССР им. Горького.
Вот! Вот воистину — это моя судьба! Воистину Христос Воскресе! Я должен, должен поехать в Москву — все узнать. Ведь меня экзаменовали В. Орлов, И. Раевский, А. Карев, все они — театральные педагоги и, конечно, будут в этой Школе-Студии преподавать. И когда я пришел домой к М.М. Долинину чинить его английский патефон, я решил обратиться к нему с просьбой разрешить мне поехать в Москву. Теперь этот ремонт приобретал для меня особый смысл: или я опозорюсь и тогда ни о какой поездке не будет и речи… или…
Итак, новое испытание судьбы!
Контр-адмирал Долинин как Старший морской начальник в Куйбышеве занимал большую квартиру в особняке, в центре города. Он жил с женой Варварой Александровной, дочкой Ирочкой, тещей и недавно родившимся сыном Мишей. Мне сразу предложили чаю с пирогом. Но я сказал, что сперва на этом большом столе надо постелить газеты и я займусь разбором патефона. Инструменты — отвертку, кусачки, пассатижи — я принес с собой. Нужно было очень осторожно и точно разобрать весь механизм и разложить его на столе. Схема патефона была приклеена к крышке изнутри. Когда я все развинтил, то увидел, что лопнула пружина. Что делать? Как ее восстановить? Я сказал об этом контр-адмиралу, но он тут же сходил в свой кабинет и вернулся со словами: «Вот запасная пружина — это же англичане!» Дело, казалось, само собой решилось — заменить пружину, и все! Но собрать заново весь механизм патефона оказалось труднее, чем развинтить — масса винтов, гаек, шурупов, прокладок и разных колец. Пружину я вставил легко, а дальше замучился. А все домашние окружили стол и от нетерпения давали разные советы. Они меня совсем запутали, и все-таки часа через два я закончил работу. Но не успел закрыть крышку патефона и только собрался его заводить, как маленькая Ирочка взяла откуда-то винт и показала мне: «А вот еще…» Патефон заведен, осталось положить пластинку и включить ход, а тут еще один винтик! Всех, конечно, этот винтик заинтересовал: «Откуда он? И будет ли работать патефон?» Я включил диск, опустил мембрану с иголкой на пластинку… раздался бодрый английский марш! Ура! Ура! Ну хорошо, а винт, винт-то откуда? И тут меня осенила гениальная мысль: «А это запасной винт, была же запасная пружина, вот и винт к ней запасной!» А что мне оставалось делать? Снова разбирать патефон и искать, куда ввинтить этот злосчастный маленький винтик? Ох, нет, этого испытания я уже не выдержу!
Убрали со стола все газеты, завели патефон, накрыли стол красивой скатертью и подали чай с пирожками и вареньем. О, какой это был вкусный чай! Выяснилось за чаем, что девичья фамилия жены контр-адмирала — Давыдова и что она была актрисой Драматического театра в Ленинграде. Я, конечно, рассказал им свою «творческую» биографию, рассказал и о том, что мечтаю хоть на три дня поехать в Москву — я ведь экзаменовался в МХАТ, а теперь там открывают Студию, и мне, конечно, надо появиться и напомнить о себе…
— Да, но вы же несете срочную службу, а сейчас идет война! — строго и резко заявил контр-адмирал.
Все примолкли и стали говорить о домашних делах… Я понял, что мне надо уходить, и начал собирать свои инструменты. И вдруг Варвара Александровна обратилась к мужу:
— Михаил Михайлович, а, может, все-таки отпустить его на два-три дня в Москву в командировку — ведь он москвич, там его квартира? Ведь неизвестно, что с ним будет дальше. Подумай. Он еще такой молодой и хороший парень. И к тому же он тоже Давыдов…
— Вот это-то и плохо. Могут подумать, что он родственник моей жены… Не знаю, не знаю…
На следующий день он вызвал меня в свой кабинет и приказал написать на его имя рапорт о необходимости привезти из Москвы запасной выпрямитель для телефонной станции…
Я написал. И поехал. И все привез. И получил от контр-адмирала благодарность.
А что в Москве?
В Москве была в разгаре весна. Перед Большим театром в сквере вовсю распустилась сирень. Работали МХАТ, его филиал, филиал Большого театра… Казалось, вот-вот кончится война.
Как только я получил этот прибор — выпрямитель, я, конечно, сразу побежал в МХАТ. Встретил В.А. Орлова. Разговор получился неконкретный.
Пока Школа-Студия не открыта, идет серьезная подготовка. Этим лично занимается Москвин, с ним целая комиссия. Дайте нам ваши координаты.
Потом Орлов сказал:
— Пойдемте со мной. Я иду в ГИТИС. Проводите меня. Ну, расскажите мне подробно о себе: кто ваши родители, чем вы сейчас занимаетесь? Возможно ли вас вызволить из армии — ведь война в самом разгаре? Это хорошо, что вы приехали сейчас в Москву. Но пока рано, и ничего еще не ясно. Но хорошо, хорошо…
Мы дошли до ГИТИСа, я увидел студентов, которые со смехом бежали по двору. Счастливцы!
Конечно, я поехал и к себе домой, на Дорогомиловскую, дом 10. Там жила Стася Марек.
Мы переехали в этот дом в октябре 1937 года. Я учился тогда в школе на Плющихе. А до этого — на Зубовской площади, в школе, которая располагалась в старой гимназии. Там был отлично оборудованный ботанический кабинет — с плакатами, чучелами птиц и животных. Мастерская по столярному труду и слесарному. Большой актовый зал, где висели портреты всех членов Политбюро. Мы как-то их и не замечали, и только когда был убит С.М. Киров, 1 декабря 1934 года, нам наша директриса «Мартьяниха», Екатерина Васильевна Мартьянова, показала его портрет. Она была довольно злой и страшной старухой, небольшого роста, в сером платье, с прямыми сальными седоватыми волосами. Речь ее была строгая и из-за редких зубов шипящая, как у змеи. Она могла схватить бегущего по лестнице школьника за руку или за ухо и так его крутануть, что невольно или вскрикнешь, или упадешь. И тут же: «Как твоя фамилия? Какой класс? Вызови завтра родителей, без них не приходи в школу!» Ее боялись. Но она как старая большевичка во всем районе была на почетном месте, и ее большой портрет был даже напечатан на обложке «Огонька».
А школа на Плющихе была и проще, и демократичней, без этой «образцовой» показухи. Потому переходить в другую школу я не хотел, хотя и тратил много времени на дорогу. Но все-таки во дворе дома успевал играть и в футбол, и в волейбол, и успел заметить очень милую и кокетливую девочку с красивыми глазами из нашего подъезда — Стасю. Нам было по тринадцать лет, и она тоже училась в седьмом классе, но в другой школе — рядом с нашим домом. Она жила на четвертом этаже, а я на пятом. Сначала мы как-то и не проявляли особого внимания друг к другу. Только через два-три года у нас появились общие интересы. Я не мог решить какую-то задачу по алгебре, и она мне предложила «решебник». Я и не знал, что есть книжки с ответами на все школьные математические задачи. Вот с этого «решебника» начались наши дружеские отношения.
Это была первая настоящая любовь. Мне казалось, что ближе, дороже, роднее человека нет и уже не будет. Вот эта доверчивость и преданность друг другу и есть любовь и настоящее счастье. Да еще в это время совсем распалась наша семья. Все время были неприятные конфликты и взаимные упреки. Мне хотелось уйти от нашего семейного разлада. И поэтому меня так тянуло в уютный, тихий и чистый дом Стаей. У нее была добрая мама Татьяна Александровна, которая с утра до ночи работала в райкоме. А ее отец, чех Иосиф Людвигович Марек, небольшого роста, очень мужественного вида, с низким резким голосом — инженер-путеец. Они довольно вежливо меня встречали у себя в доме, но как-то осторожно. И только иногда Татьяна Александровна в отсутствие мужа хлопотала, как курочка, угощая меня чаем, а то и обедом. Она, конечно, догадывалась, что у меня в семье что-то не то…
Началась война. В октябре произошла эвакуация. Почти все учреждения, заводы и институты и т. д. срочно отправлялись на восток. Я сомневался, уезжать ли из Москвы: здесь мой дом, все мое имущество, а главное — мои любимые книги о театре, которые так тщательно я собирал и хранил!.. Но Стася сказала: «Владик, ты не волнуйся, я перенесу все твои архивы и книги к себе домой. А ты должен ехать. Иначе ты будешь дезертиром из военного учреждения». Я ей сказал, куда примерно могут нас отправить — Ульяновск или Куйбышев. «Напиши куда-нибудь до востребования»…
Мы со слезами простились. На сколько? Надолго? Навсегда? Ничего не известно. Война!
…Я получил от Стаей письмо в Куйбышеве и узнал, что она с мамой эвакуировалась в Челябинскую область.
Так мы нашли друг друга. Писали часто и много. У меня сохранились все ее письма за эти два года нашей разлуки.
Мне стало известно, что Стася уехала учиться в мединститут в Алма-Ате. Но потом вдруг оказалась в Москве зимой 1943 года. И, конечно, я рвался в командировку в Москву в мае 1943-го еще и потому, что там находилась моя любимая Стасенька, которая все эти два года писала мне такие ласковые и дружественные письма — только они разгоняли тогда мои сомнения и хандру.
Как только я приехал в Москву и закончил все служебные дела, я поспешил в наш дом, чтобы встретиться с моей Стасей. В ожидании ее я спустился в домоуправление. Там по-прежнему работала секретарем пухленькая интеллигентная дама в пенсне. Именно она всегда выдавала мне всякие справки. Она знала всех и все, что происходило в нашем доме. Рассыпалась в комплиментах но поводу того, как я вырос, как похорошел, как мне идет морская форма, и как бы между прочим сообщила: «А Стасенька наша вышла замуж»… Я сразу как-то даже не понял. Или не расслышал? Но именно это ей, видимо, больше всего и понравилось в нашей встрече, ведь она знала, что я ждал здесь прихода Стаей (я при ней позвонил Стасе на работу и сказал, что приехал, что жду ее в конторе)… Я не смог скрыть своего потрясения и решил уйти и встретиться со Стасей во дворе…
Я стоял у подъезда и ждал. И вот из-за угла нашего длинного дома появилась моя, нет, неужели действительно уже не моя Стася?! Она шла как-то странно — не то вприпрыжку, не то спотыкаясь. А я стоял и смотрел на нее… И она смотрела на меня, видимо, пытаясь понять: почему я не иду, не бегу к ней… Стася, конечно, была в сомнении, знаю ли я все про нее или нет… Она остановилась, и тогда я пошел ей навстречу. И она пошла. Потом мы остановились оба и долго смотрели друг другу в глаза… Но не выдержали и бросились в объятья… Я и сейчас как бы заново переживаю эти минуты моего горя, обиды и недоумения. Мы не пошли домой, а долго бродили по набережной, потом сидели за домом на ступеньках метромоста. Я хотел все узнать, понять: как это, почему так вдруг и замуж? За кого? Кто он? Зачем он?
То было первое в моей жизни предательство, первая измена. Сейчас не хочется подробно вспоминать эту странную историю, тем более, что все это тогда не оборвалось, не кончились наши отношения — слишком чистыми и глубокими были у нас чувства друг к другу… Я читал ей «обличительные» стихи: «…Летел, дрожал, вот счастье, думал, близко!..А вы кого себе избрали?!» — или: «…Я не унижусь пред тобою…», «…Знай, мы чужие с этих пор!..» Да, весь гневный репертуар я тогда обрушил на мою милую изменницу!
Уезжал обратно в Куйбышев я с разбитой душой. «Отныне стану наслаждаться и в страсти стану клясться всем; со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем; начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил; иль женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил?.. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал; такой души ты знала ль цену? Ты знала — я тебя не знал». Эти строки Лермонтова с горечью прочитал Стасе на вокзале и уехал в Самару-городок!
Мне было тогда девятнадцать лет, и я еще не знал, что чем искреннее будут мои чувства, чем я преданнее буду относиться к любимым людям, тем буду уязвимее, тем коварнее для меня будут казаться предательства и неожиданнее измены. Но ведь и я сам потом, с годами, бывал не безгрешен…
Когда я стал старше и опытнее — а тем более сейчас, — я понял этот ее поступок. Но тогда я был в глубоком трансе и не мог простить этой «коварной измены»!
Но вот я снова в Куйбышеве. А в Москве я повидался с И.М. Москвиным, и он, как и в былые времена, пообщался со мной после спектакля и пожелал мне успехов. Я познакомился с новым директором МХАТа В.Е. Месхетели. Но Школа-Студия еще не была открыта, и все разговоры с В.А. Орловым, казалось, не приблизили меня к осуществлению моей мечты.
Однако я все делал, как мне советовал В.А. Орлов (он мой крестный отец!). Тогда, в мае 1943-го, еще было не ясно, когда и как будет открыта Школа-Студия МХАТ, да и будет ли она вообще открыта во время войны. В то время появился Указ о создании Суворовского училища — это понятно. Но так ли уж нужна театральная школа? Однако приказ Сталина… Одним словом, В.А. Орлов сказал, чтобы я ему позвонил, если смогу, в сентябре — октябре.
Я ему позвонил. Он сказал:
— Да, в октябре открывается Школа-Студия, это уже решено. Руководителем назначен Сахновский. Председателем приемной комиссии — Москвин. Экзамены начнутся в конце сентября. Надо бы вам попытаться еще раз приехать в Москву, чтобы окончательно решить вопрос о вашей демобилизации и о приеме. Вас должны хотя бы увидеть члены комиссии и новый директор МХАТа. А ведь в комиссии-то почти тридцать человек…
Опять проблема — как попасть в Москву? В мае была деловая командировка, а теперь что?
В моем дневнике обо всем этом периоде есть подробные записи.
1943 год: из дневника
«Этот год был переломным в Великой Отечественной войне. Сталинградское сражение стало кульминацией в войне, но перелом тогда еще не наступил. Перелом произошел во время Курской битвы!» — так сказал генерал армии Штеменко, когда он пришел как главный военный консультант на съемку фильма «Направление главного удара».
Но тогда-то все мы думали, что союзники вот-вот откроют второй фронт и что в 1943 году будет наконец Победа!
Сейчас, когда я перечитывал свои дневники тех далеких военных лет, то нашел там любопытные записи.
«22 февраля 1943 года, во Дворце культуры, где проходили спектакли эвакуированного в Куйбышев Большого театра, состоялся торжественный вечер по случаю 25-й годовщины Советской Армии с докладом и концертом. В зале было много военных и в старой, и в новой форме (тогда снова ввели погоны. — В.Д.). В президиуме — маршал Шапошников, Лозовский, контр-адмирал Крылов… Стоял почетный караул. Выступали ораторы, люди поздравляли друг друга — тогда только что завершилась Сталинградская битва. С особенным волнением слушали все генерала Чуйкова — героя Сталинграда. Неожиданными были его слова: «В Сталинграде пленных брали только тогда, когда уставали стрелять, бить и колоть… Было уничтожено 830 тысяч отборных, чистокровных арийских головорезов…». В антракте давали по две бутылки пива…»
И еще вот такая дневниковая запись:
«А на следующий день в правом крыле этого Дворца, где находился эвакуированный НК ВМФ, тоже был торжественный вечер, тоже большой концерт с участием М.П. Максаковой, балетных артистов Н. Капустиной, Б. Борисова, О. Моисеевой, Г. Кузнецовой и музыкантов А. Матковского, С. Купера и Б. Юртайкина. После концерта были танцы, самодеятельность.
Я читал стихи, но очень торопился и кричал. Многим понравилось, но я недоволен. Потом я «попал» на банкет. Опять читал — Гусева, Асеева, но все просили Есенина — его я читал хуже, да и не к месту он был. Я понравился нашему начальству — прокурору Шульцину, Яворскому, а артист Синицын даже сказал: «Когда-нибудь мы с тобой еще будем участвовать в одном концерте. Я буду заслуженным артистом, а ты актером». Было весело и шумно. Я не пил, т. к. и без того был весел и боялся за последствия. Потом все пели "Дубинушку"…»
Вот так у меня начались выступления с патриотическими стихами. Потом — в клубе Красной Армии, клубе Дзержинского, в спецшколе и даже на городском радио…
И тут же запись:
«Если я буду жив, то буду актером. Буду, буду, буду, буду — без института, но буду! Я уверен! Вот только пережить бы 1943 год!»
И еще:
«Часто, правда, я чувствую, что слишком стал «популярен». Все время на глазах у начальства… От таких людей стараются избавиться… Сегодня опять был очередной неприятный разговор — о незаконном питании в гражданской столовой и нарушении формы (в валенках!). А мне очень хочется есть, я вечером и утром просто не наедаюсь. Что делать?.. Но на фронте-то еще труднее…»
А вот запись о полковнике интендантской службы Смелове, из исторического отдела, который очень добр и внимателен ко мне:
«Он сказал мне: «Главное в жизни — «самоопределиться». Человек бывает по характеру "вода и камень"». Я с ним могу беседовать весь день и обо всем. Он слишком увлечен идеями и потому выглядит немного странным и смешным… Мы беседуем и о международном положении. Тем более сейчас все так интересно. Наше наступление у Харькова приостановили, но дела наши неплохи. Сегодня взяли г. Вязьму. Теперь силы равны. Мы сильны, как никогда — под Сталинградом какие богатыри, какая смелость! Об этом же потомки будут говорить, как мы говорим о Наполеоне, Петре I. Сталин действительно гений. Я иногда пытаюсь себе представить, как он работает, живет — ведь на его совести уже лежит будущее всего мира!.. Живем мы бедно, но будет время, когда все восстановится, улучшится. Главное — догнать Америку в технике, благоустройстве. Этого мы достигнем лет через 50. Мы еще слишком отсталы, неорганизованны, несознательны. Кончится война, и общая жизнь будет интересна, как никогда! Главное — дожить до этих дней. Доживу!!!»
Вот такие чувства, такие радужные мысли у меня были в 19 лет, в 1943 году.
А через неделю другая запись:
«На днях сдали Харьков, но это, по-моему, не есть поражение, а тактический маневр, выход из затруднительного положения. Уже пора бы немцам выдохнуться, а англичанам собраться с духом и силами. Наши резервы неиссякаемы, но терпение у всех когда-нибудь да иссякнет… Ну, где и когда в истории была еще такая война, так захватившая весь мир и народ всего мира?!»
Моя самарская подруга, девушка, которая явно «где-то» работала, предлагала мне подойти в театре «вон к тому высокому, евнухообразному мужчине и познакомиться с ним… Если ты согласишься с его предложением, то ты сможешь попасть в Москву и вообще…» Но я, конечно, понял,
кто этот человек, который всегда бывает при иностранцах на всех премьерах ГАБТа… Нет, нет, ни за что!! Она же мне однажды в конце мая «по секрету» сказала, что «не позднее 10 июня в Греции (!) будет открыт второй фронт!..»
А у меня по-прежнему шла служба — днем на телефонной станции, а ночью дежурство с винтовкой.
Весной нашу воинскую часть, где я проходил политическую и военную учебу, перевели жить в палатки на берегу Волги, которая обнимает, как рукой, город… Конечно, ночью мучительно хотелось спать Но лунные ночи на берегу Волги, гудение пароходов и далекие дружные голоса грузчиков: «Раз-два взяли! Раз-два дернем! Молодцы, подернем!» — и на душе делалось грустно оттого, что вот идет уже два года война, гибнут люди, но и радостно, что, вот, все-таки еще сильна Россия своим народом… А широченная Волга, а звездное небо… как много в этом вечной радостной красоты…
Есть в дневнике и очень грустные записи.
«Меня пригласили принять участие в концерте в Большом зале Госфилармонии. То ли я еще плохо освоил свою новую программу («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Жди меня» и стихи В. Гусева), то ли испугался большого зала… Но я волновался и несколько раз забывал и путал текст… А главное то, что я мало готовился, даже не представлял, как я буду читать. Мне было стыдно и обидно — ведь я мог прочесть блестяще и так опозорился. Этого вечера я не забуду, первый провал — это урок! Но теперь буду готовиться! Я не знал, куда спрятаться.
Везде, мне казалось, меня ругают, смеются… Шутка ли, две тысячи человек видели, как я провалился… Хотелось бы снова тут же выступить… Ах, как обидно, стыдно! И концерт-то в фонд Сталинграда… Правда, мне принесли благодарность от Фрунзенского райкома комсомола и были сильные аплодисменты («вас любят»), но я не удовлетворен и огорчен. А мой наставник Смелов мне сказал: «Я убедился, что вы большой лентяй, как все талантливые люди. Неужели вы не могли еще полчаса поучить текст? Не верю, что не смогли найти время!» Да, все они правы: я лентяй. Но я докажу обратное!..»
Смелов часто беседовал со мной. И говорил: «…Без мы дли жить невозможно; мыслить — это высшее, что есть в жизни, в природе. Человек выше всего, выше природы! Жизнь без мысли, без истории неинтересна. Во всем, что видишь, должно быть что-то поучительное, интересное». Он приводил слова Гоголя: «Дурак тот, кто стоял с дураком и ничему не научился»… Еще он говорил мне: «Без политических взглядов, без знания истории невозможно понять, ощутить настоящее, но «верха хуже невежества», как говорил Наполеон; хуже всего быть «огарком», т. е. недоучившимся. Счастье познается тогда, когда все больше и больше познаешь жизнь, природу…»
Но вот о театре он отзывался весьма странно, с раздражением. Я писал в дневнике:
«Театр — по его словам — это богема, чуть ли не яд. А жизнь актера он считает самой порочной. «Народный артист? Какой он, к черту, народный — он не живет с народом и не знает его, а только показывает, изображает…» Театр он считает «пирожным», актеров — «людьми наизнанку»: «Они односторонни, а это самое ужасное в жизни! История — вот сцена, это главное и основное. Народ, народ делает историю!» Он сам историк и много лет работает в историческом отделе, поэтому он и считает это в жизни главным…»
Но мне казалось и тогда, и особенно сейчас, что все-таки народ, страна, армия не может воевать без главнокомандующего, как и оркестр (народ с музыкальными инструментами!) не может играть без дирижера, как и актеры — без режиссера!.. Я это понял уже тогда.
У меня появились серьезные проблемы. Я несколько раз попадался в городе без увольнительной, за что меня должны были отправлять на городскую гауптвахту. Но тут спас меня командир нашей воинской части, хотя и обязан был доложить об этом нарушении контр-адмиралу Долинину.
А под Пасху я опять ушел без увольнительной в церковь и при входе дал старику три рубля и попросил помолиться за меня. Может быть, это спасло меня от больших неприятностей, а может быть, и то, что под 1 Мая я опять вел концерт и выступал на вечере в Наркомате и меня все одобряли…
А однажды мне поручили сделать доклад в нашем взводе о современной политике. Меня должны были принимать в комсомол. Я начитался цитат (в журнале) из книги Гитлера «Майн кампф» и вовсю цитировал их как пример фашистской идеологии… Смелов меня слушал и опять раскритиковал, правда, отметил, что ему понравилась «чистая, красивая русская речь», что «есть темперамент, но выступление было слишком внешним, театральным» и что «надо смотреть на жизнь, на людей, на искусство через учение Ленина — Сталина и изучать диалектический материализм по четвертой главе из «Краткого курса истории ВКП/б/»… И я тогда же ее прочитал, конечно, и мне было это очень интересно и полезно. В комсомол меня приняли после этого единогласно. Но билет в райкоме долго не выдавали — не было билетов…
В июне сообщили, что 6-го немцы бомбили Суздаль, а 7-го и 8-го — Горький. А в Куйбышеве 8-го вдруг стреляли, летали самолеты, а по радио говорили весь вечер о светомаскировке и воздушных тревогах… И мне было приказано с 11 июня жить не на телефонной станции, где я спал вместе с клопами на узком диване, как в гробу, а вернуться на казарменное положение. Это значило там дежурить, дневалить, ходить на военные учения и там же оставаться спать.
Дело в том, что в Большом театре 7, 9 и 12 июня шла премьера оперы «Кармен». Это уже была последняя премьера в Куйбышеве. Я, конечно, был на всех трех спектаклях. В эти дни в кассе театра происходили настоящие бои. Громадное окно кассы выходило прямо к нам на телефонную станцию, и мы были в курсе разговоров о том, кто пойдет или не пойдет на эти спектакли, кому какие билеты надо приготовить… 7-го был бесплатный просмотр, и на него дали билеты продавцам, сапожникам, фотографам, портным, зав. столовыми, магазинами, директорам разных предприятий, мелким начальникам и т. д. и т. п. А 9-го состоялась настоящая премьера, и тут публика была уже совсем другая — тут были «тузы», театралы, ценители искусства, партийные и государственные головы, ну и, конечно, весь дипломатический корпус, который еще оставался в Куйбышеве. И, как всегда, я долго готовился — брился, мылся, утюжился, чистился и т. п. Среди этой публики я ходил петухом, курил длинные папиросы, галантно раскланивался, интриговал агентов и иностранцев своим видом — они, как всегда, смотрели на меня с любопытством. И я знал, что многие интересуются мной… Недаром моя самарская подруга предлагала мне завербоваться в «сексоты»…
Так вот именно это мое посещение театра разозлило мелкое начальство, и меня вызвали к подполковнику интендантской службы Десятову. Он-то мне и выдал за то, что я часто хожу в Большой театр и «не чувствую военной службы»: «В театре все обращают на вас внимание — высокий, хорошо одетый, причесанный, чистый, сидит в партере, как представитель иностранной миссии…» Одним словом, мне дали понять, кто я и где должен служить. И я понимал это и покорно исполнял все свои обязанности и в воинской части, и на телефонной станции, где мне довольно часто приходилось дежурить по ночам за телефонисток. Это были разные телефонистки — и из местных, и из жен командиров и начальников. Они довольно часто менялись по различным причинам. Однажды я заметил, что у меня из ящика стола пропало 200 рублей, а потом сахар из моего пайка… Я был настолько поражен, что решил выяснить, кто это делает. Конечно, не пойман — не вор. Однако когда я пришел на станцию рано утром и обнаружил, что сахар мой почти весь исчез, дежурила жена капитана… И все-таки выяснилось, что именно она и таскала у меня, краснофлотца, сахар… Но не хочу об этом ужасе сейчас вспоминать.
А через неделю тот же начальник АХУ вызвал меня и приказал, нет, просто сказал, что я снова должен жить на телефонной станции. Видимо, потому, что всех так насторожило ожидание воздушных тревог.
Заведующая библиотекой Дворца культуры Виноградова попросила меня во всем Дворце восстановить внутреннюю телефонную связь (MB на 25 номеров), и я, конечно, за неделю все это сделал. Библиотека эта располагалась в том же здании, что и наша телефонная станция. И благодаря этому я за эти два года прочел книг (по списку, который мне написал Смелов) больше, чем за всю свою школьную жизнь. И эти книги (больше 30 названий), и все спектакли Большого театра (15 балетов и 10 опер), которые я видел впервые в своей жизни, не говоря о драматических спектаклях (их было 10) и 25 фильмах — вот это было действительно моим университетом культуры. Конечно, это не мешало моей службе, но я ведь еще и 15 раз принимал участие во всяких шефских художественных вечерах и читал там свой патриотический репертуар — и не только современных поэтов, но и Лермонтова, Грибоедова, М. Горького…
«7 июля. Среда
Ну, кажется, начались бои, которые нужно было ожидать. В день уничтожают 400–500 танков, 100–200 самолетов, 2–3 тысячи солдат… Это кошмар! Ужаснейшая бойня! Немец все же хочет, видимо, взять Москву — атакует под Орлом, Курском и Белгородом. Но эти бои идут не из-за городов, а кто выдержит сейчас, тот добьется потом успеха. Кажется, это последние жесточайшие атаки немцев. Как долго продлится это? Видимо, не так уж и долго, если такие потери. Но наши дерутся крепко!.. Трудно представить, когда же наступит или начнется конец… А здесь ничего не изменилось, все по-старому, только усиливают ПВО и ПВХО»…
«11 июля
Кончился сезон Большого театра. Слушал еще и еще раз «Пиковую даму» (мечтаю 5-ю картину сыграть и спеть…) и смотрел «Дон Кихота». Что я буду делать без театра… Кончил читать «Шагреневую кожу» — последняя глава произвела на меня потрясающее впечатление. Сколько глубоких мыслей и рассуждений о «мочь и желать», «знать» и т. п.».
«25 июля
Миша Лахман сказал, что после отпуска — в августе — Большой театр уедет в Москву… А я через день дежурю с 12 ч. ночи до 6 ч. утра во взводе, на берегу Волги, где наши палатки. "Волга, Волга — мать родная! Волга русская река!.."»
И вот 15 августа 1943 года на двух пароходах — «Калинин» и «Володарский» — уплывал из Куйбышева Большой театр… На палубах стояли артисты и все сотрудники театра, который доставлял жителям этого города так много утешения и радости почти два года. Отчалили пароходы, и на палубах запели «Прощай, любимый город»… До слез было трогательно это прощание. Доведется ли еще когда-нибудь увидеть спектакли этого великого театра?..
А через два месяца в помещение Дворца культуры въехал городской театр оперетты. И так же дирекция этого театра обратилась к нашему большому начальству с просьбой установить им несколько внутренних телефонов нашей станции. А контр-адмирал М.М. Долинин им ответил: «Обращайтесь к начальнику телефонной станции товарищу Давыдову — на его усмотрение». Мне это было лестно, конечно. И я все сделал, а в знак благодарности мне опять выдали служебный пропуск и сказали: «С нами вам будет веселее, чем с Большим театром!»
Но веселей уже было от ежедневных сообщений об успехах на фронтах и от трансляции по радио салютов из Москвы…
Для меня эти два года явились не только освоением неожиданной для меня профессии телефониста, но и годами воспитания характера, постоянного общения с новыми людьми, круглосуточной работой и службой. «Все это научило быть полезным и приятным человеком» — как не раз говорил мне мой старший друг и начальник Саша Миков. Ведь я впервые встретился с жизнью, и без помощи добрых людей не смог бы выдержать «один на один» в той жизни, а главное, в то время. И таких людей, слава богу, мне встречалось всегда много. Именно поэтому и я, конечно, старался быть для них не только приятным, но и полезным во всем и всегда.
А уж спектакли Большого театра были для меня (и остались на всю жизнь!) самым светлым и прекрасным духовным воспитателем. Это была моя «консерватория». Ведь я впервые тогда услышал великие музыкальные произведения, увидел блестящие спектакли с такими артистами, как В. В. Барсова, И.С. Козловский, М.Д. Михайлов, М.П. Максакова, Н.Д. Шпиллер, М.О. Рейзен, А.И. Батурин, С.М. Хромченко, Г.Ф. Большаков, Б.М. Евлахов, П.И. Селиванов. Настоящими потрясениями для меня в опере стали Максакова и Евлахов в «Кармен» и тот же Евлахов в «Пиковой даме» — Германн. Он буквально рвал страсти в этих ролях, хотя голос его был не высшего качества. Зато Г.Ф. Большаков сочетал в роли Германна и голос сильный, и сильные страсти. И еще я чуть не плакал от щемящей музыки Верди в «Травиате» и изумительной В.В. Барсовой в роли Виолетты. Все это было для меня открытиями, и впечатления мои были неповторимы! Такие же, как от спектаклей МХАТа.
Я впервые тогда увидел балет и был покорен О. Лепешинской, И. Тихомирновой, Н. Лопухиной, А. Радунским, А. Мессерером — и в «Дон Кихоте», и в «Бахчисарайском фонтане». Особенно меня восхищали в «Дон Кихоте» Лепешинская и Радунский, Мессерер и Тихомирнова. Это был какой-то музыкальный вихрь и высочайший артистизм. И еще одна незабываемая пара: Радунский — Дон Кихот и Авальяни — Санчо Панса.
А 23 ноября 1942 года исполнялась Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича, дирижировал А.Ш. Мелик-Пашаев. Это было, конечно, потрясением!.. У меня сохранилась программа этого концерта с уникальным предисловием самого Д.Д. Шостаковича, где маэстро рассказывает о том, как он работал над этой симфонией и что хотел в ней выразить. И тут же были напечатаны фамилии всех музыкантов оркестра Большого театра.
Мне очень нравилось, как Ю.Ф. Файер дирижировал на балетных спектаклях. Это был очень полный, обаятельный и какой-то игривый человек. Его обожали балетные, артисты за то, что он буквально «танцевал» вместе с ними.
А Александр Шамильевич Мелик-Пашаев был очень мягкий человек с какой-то всегда загадочной улыбкой и такой поэтичный и красивый за пультом, что казалось, будто он вместе с оркестром создавал музыку… И порой на него смотреть было не менее интересно, чем на сцену.
Я слышал, как великий бас М.Д. Михайлов исполнял Ивана Сусанина, а дирижировал не менее великий С.А. Самосуд, который был художественным руководителем Большого театра. Я, тогда еще вольнонаемный монтер, купил себе билет за 18 рублей и сидел в 8-м ряду партера. Больше всего мне понравилась сцена бала. Ну, и, конечно, финал — «Славься», о котором П.И. Чайковский сказал, что это место «архигениальное, стоящее наряду с высочайшими проявлениями творческого духа великих гениев». Этим спектаклем 25 декабря 1941 года Большой театр открыл свой сезон в г. Куйбышеве. А Ивана Сусанина пел еще М.О. Рейзен (в концертном исполнении). Замечательный бас, которому в 1938 году по случаю смерти Ф.И. Шаляпина подсунули на подпись газетную заметку, где он якобы осуждал его… Потом долго мучила совесть за это…
А в сентябре по радио из Москвы часто передавали записи концертов с участием Козловского, Барсовой, Качалова. Сейчас даже трудно себе представить, какую радость и надежду приносило это людям, измученным военным лихолетьем. И все музыкальные концерты, проходившие в Куйбышеве, тоже приносили надежду и радость: ведь исполнялись Четвертая и Шестая симфонии Чайковского, Первая симфония Шостаковича с дирижерами Мелик-Пашаевым и Штейнбергом. А в феврале 1942 года прозвучала торжественная увертюра Чайковского — «1812 год»… И все эти концерты были в фонд обороны.
И вот теперь Большой театр уехал. А в июне 1942-го через Куйбышев по Волге проплыл в Пермь МХАТ (а оттуда поездом в Свердловск). И в ноябре 1942 года он вернулся в Москву.
И наш Наркомат ВМФ из Куйбышева почти целиком вернулся в Москву, остались только Управление Главного Морского Начальника, Исторический отдел да кое-какие службы. Правда, у меня работы не убавилось. Контр-адмирал Долинин с лукавой улыбкой поздравил меня 30 сентября с получением звания младшего сержанта. Но меня не оставляла горячая мечта вернуться в Москву.
26 октября я послал В.А. Орлову фототелеграмму: «Поздравляю с 45-летием Вас и весь коллектив театра. Всеми мыслями я с вами. Хочется верить, что в 50-летие МХАТа буду, может быть (о, мечты!), и совсем близко»…
Контр-адмирал М.М. Долинин к 7-му ноября наградил меня «за отличное обеспечение телефонной связью» ценным подарком, а потом еще добавил: «Доложите о своих планах». Но план-то у меня был один — вернуться в Москву, где МХАТ. Контр-адмирал об этом, конечно, догадывался — ему сообщили, когда он ездил в Москву. А теперь мне необходимо было провести хотя бы несколько дней в столице: так мне сказал В.А. Орлов, когда я с ним говорил по телефону. Я набрался смелости и спросил контр-адмирала: «Не могли бы вы разрешить мне съездить в Москву?» И он неожиданно ответил: «Да. Но после праздников — вы должны участвовать в праздничном вечере и обеспечить работу радиолы. Ведь теперь артисты Большого театра уехали, и надо обходиться своими силами». Я все понял и постарался, но, видимо, не всем это понравилось, и после праздника, 9 ноября, контр-адмирал вдруг меня вызвал и заявил: «Я имею к вам личный разговор… Мне доложили, что вы ведете себя очень свободно, непринужденно с офицерами (тогда впервые появилось это слово — «офицеры»). Поймите, они старше вас. Если я вас подчинил непосредственно себе, это потому, что я вас ценю. Я сделал для вас много и намерен сделать еще… Поэтому мне неприятно это слышать. Я был удивлен, но лицу, которое мне это сказало, не могу не верить… Идите!» Ну, я ответил: «Слушаюсь!» — повернулся, лихо щелкнул каблуками и вышел из кабинета. Неужели теперь моя поездка в Москву не состоится?.. А «лицо», о котором говорил контр-адмирал, наверное, был уполномоченный Особого отдела НКВД; я с ним перед праздником часа три спорил «о жизни»…
Из дневника:
«Вот, я еще раз убедился, что мне надо молчать и больше думать, думать и молчать! А я не совсем точен и осторожен в высказывании своих чувств и мыслей. Так неужели моя поездка в Москву не состоится?»
Но доброта и внимание ко мне контр-адмирала М.М. Долинина были постоянны и беспредельны. После праздников он объявил мне, что я должен подать ему рапорт «о поездке в отпуск в Москву на пять дней». Я тут же подал рапорт, 11 ноября получил документы и собрался ехать. Перед отъездом контр-адмирал сказал: «Поручений у меня к вам нет, все дни — ваши. А потом и я поеду в Москву. Только будьте почтительны с офицерами… Мне будет неприятно, если в Москве мне скажут о вас плохое».
Я был удивлен и растроган. После этого он предложил мне свою машину — ехать на вокзал…
Я устроился на третьей полке. В купе ехали врачи — люди культурные и веселые. В два часа дня 13 ноября я был уже в Москве у Стаей, но — к ней приехал муж… Вечером поехал в Большой театр к администратору Михаилу Лахману. Он меня по-дружески встретил и предложил посмотреть «Дон Кихота», мой любимый балет. Но позже я очень огорчился: прозевал из-за спектакля салют в честь освобождения Житомира…
Конечно, главным в моей поездке было выяснить: примут ли меня в Школу-Студию МХАТ?
На следующий день позвонил В.А. Орлову, но не застал его. И тогда я пошел в МХАТ — к заведующему труппой Евгению Васильевичу Калужскому. Он сразу же убил во мне всякую надежду, заявив: «Ничего сейчас не выйдет с вами. Но вы еще молоды, через три года, после службы в армии, вам будет 23, еще не поздно поступать в Школу-Студию»…
Я ушел, повесив нос… Но возле театра встретил А.П. Кторова, и он надоумил меня обратиться прямо к директору театра В.Е. Месхетели. Однако его не оказалось на месте. Тогда я еще раз позвонил В.А. Орлову, и он назначил мне встречу на следующий день в четыре часа в ГИТИСе.
15 ноября с утра пошел в НК ВМФ к своему начальнику отделения связи — полковнику Слижу. Он радостно меня принял и сказал: «Я бы вас хоть сейчас взял к себе, но пока нет свободной штатной единицы».
В тот же день в четыре часа в ГИТИСе после урока ко мне вышел В.А. Орлов, и мы с ним медленно пошли по улицам и переулкам к его дому, на улицу Немировича-Данченко. Василий Александрович сразу принял в разговоре со мной деловой тон: «Где, как вы работаете сейчас, возможно ли «бегство» и через кого его можно осуществить?» Я все рассказал, объяснил, что мой самый главный начальник — адмирал Н.Г Кузнецов. Орлов обрадовался: «Я его знаю… Или, может, через Наркомат самолетостроения… Одним словом, думаю, что все будет хорошо… Эх, как бы мне хотелось затянуть вас к себе домой, но сегодня вечером я участвую в концерте в Доме актера. Давайте завтра в два часа встретимся в Школе-Студии».
Я чувствовал себя на вершине счастья!
! 6 ноября в 2 часа я был уже в Школе-Студии. Василий Александрович позвал меня в кабинет руководителя Студии и попросил что-нибудь ему почитать. Я решил начать с Маяковского. Потом прочитал монолог Чацкого, потом «Письмо к женщине» Есенина. Орлов сказал: «Так, ну, у вас есть все. Темперамент — это главное для актера, как вода для рыбы. Есть голос. Вот только вы торопитесь. Но это ничего, это наше дело — вас учить. Теперь еще — больше мужества, театр — это мужество. Чацкий должен быть тверже. А Маяковского — мужественнее, увесистее».
Орлов повел меня в кабинет директора МХАТа Владимира Евгеньевича Месхетели. Он: «А-а, это то, что вы говорили, тот, кто вам писал». Орлов: «Да, да, материал богатый, стоящий…» Беседа продолжалась недолго. Месхетели сказал, что позвонит наркому Кузнецову или его заместителям. «Если ничего не выйдет, обратимся к Швернику. Вы, Василий Александрович, запишите все-все подробно, и тогда начнем действовать»… Он выглядел очень приятным и добрым человеком, его мягкое рукопожатие сразу располагало к нему.
На этом закончилась встреча с директором МХАТа. Василий Александрович меня тут же «опросил», все записал и сделал несколько напутствий: «Внешность ваша сразу видна, а голос, речь, темперамент будут рассматривать, и задача ваша — показать их, как следует. Еще подучите басню. Значит, голос, речь, темперамент и мужество! Все. Прощайте. Ждите результатов!» И мы расстались.
Это все меня ошеломило. Я не верил всему, что случилось… Неужели все это реально? Неужели я могу учиться в Студии?! Ведь это были только мечты, а теперь принципиально все решено, осталось только… осуществить! О, я был больше, чем рад — я был счастлив!
А дальше у меня в дневнике записано:
«15 ноября
я пробрался (упросил!) на вечер Качалова, Москвина и Книппер-Чеховой в Дом актера. О вечере мне сказал В.А. Орлов. Что я испытал, трудно описать… Ведь еще недавно я был далеко-далеко, в Самаре и жил там только воспоминаниями и мечтами о МХАТе, а сейчас я сидел в любимом зале, среди «своих», видел великих актеров, любимых «стариков»… Качалов много читал из «Воскресения» — это было самым интересным. Он не казался старым — нет, он был свежим, приятным, могучим и простым, благородным и великолепным! Москвин Фому Опискина представил замечательно. Книппер-Чехова была мила и очень приятна. Все они почти не играли, и казалось, что ничего в их игре нет большого, великого. Но это и было великим — простота и обаяние. Таких оваций я еще не слышал… Это напоминало бурю — то затихавшую, то вновь бушевавшую. Но все это походило на прощание… Это были последние «старики» Художественного театра (еще Тарханов — и все). Они проходили в фойе через шеренгу бушующих зрителей… Качалов и здесь был великолепен — он почти с каждым мило раскланивался. А Москвин сказал: «Для таких зрителей хочется играть без конца. Спасибо, большое спасибо!» Все мы смотрели на них, словно прощаясь. Старались навсегда запомнить их облик… В этот вечер я забыл все — забыл Самару, войну, телефонную станцию и свою службу… В этот вечер, оказывается, было два салюта, а Житомир сдали…»
На телефонной станции без меня накопилось много дел: нужно было принять новую телефонистку, поменять несколько телефонов, зарядить аккумуляторы, проверить выпрямитель… Но я, конечно, был взбудоражен всеми событиями в Москве и решил 24-го позвонить В.А. Орлову. Он мне сказал: «Все очень хорошо. Месхетели говорил, и ему не отказали. Так что скоро, по-моему, даже очень скоро вы узнаете обо всем»…
Но этот разговор только усилил мое нетерпение. И вот запись дальше:
«26 ноября…
О, это число я запомню на всю жизнь! Утром матрос-шифровальщик мне многозначительно намекнул: «Есть телеграмма…» А днем капитан I ранта Круглов (замещавший Долинина, который был в Москве) уже официально сообщил мне о моей «демобилизации и откомандировании в распоряжение МХАТа!..» Он был удивлен и растерян и сказал: «До приезда контр-адмирала Долинина я делать ничего не буду. Из миллионов единицы в мире попадают в этот лучший театр на Земле!» Все было как во сне: ведь то, о чем я только мечтал, — осуществилось! И когда — в войну, во время моей службы! Это — счастье! Судьба! Я не знал, кого благодарить: видимо, это стечение обстоятельств и везение. Об этом своем счастье я побежал сообщить своим друзьям. Меня поздравляли. А Смелов, наоборот, охладил меня: "Свое мнение об этом факте я смогу вам сказать только лет через… 10!"»
Наконец 1 декабря контр-адмирал Долинин вернулся из Москвы и первым делом в 6 часов вечера вызвал меня. Предложил мне сесть. И спросил — доволен ли я? Я сказал, что, с одной стороны, конечно, очень и очень доволен — ведь осуществилась моя мечта, а с другой — такое отношение к себе я, наверно, не скоро увижу. «И вам за все, за все очень благодарен!» — «Да, да, я доволен за вас, правда, я не думал, что мы так скоро расстанемся… Но как это случилось — сам нарком в военное время вас демобилизовал?» Говорил он все это довольно сухо… Я оказался в весьма неловком положении. Наконец Долинин перешел к делу. «Приказ есть приказ, и я подчиняюсь. Кому вы думаете сдать свои дела?» — «Михаилу Гришину». — «Ну вот, наши мнения сошлись. Сдавайте. Все!»
Два дня я сдавал дела, а в это время пришла повторная телеграмма. Долинин ответил: «4 декабря 1943 года Давыдов едет в Москву»…
«3 декабря
Сегодня и вчера проделал такую работу, какую вряд ли делал за месяц: сдал все имущество и аппаратуру телефонной станции, получил документы, аттестаты, направление, билет на поезд, собрал все свои вещи. Всех обошел — попрощался. Никого, кажется, не обидел — все помогают и радуются за меня. А Смелов сказал: «От души желаю полного успеха, счастья, прошу писать мне и… если можно, поспособствовать перевести меня в Москву — ведь у вас, оказывается, такие большие знакомства». Конечно, я зашел к Долинину на квартиру попрощаться. И его жена, Варвара Александровна Давыдова, сказала мне: «Вы самый счастливый человек в мире!» А он ей заметил: «Напрасно ты радуешься, а я так совсем не рад…»
А один полковник на прощание сказал: "Желаю счастья и удачи! У вас есть умение общежития, подход к людям, актерское обхождение — вы умеете красиво сказать и услужить"».
Я в Москве!
…Итак, я в Москве, я свободен, я принят в Студию любимейшего театра! Все бытовые мелочи меня пока не волновали. Хотя дел было много: и получение паспорта и военного билета, и хлопоты о возвращении хотя бы одной комнаты в квартире, где я жил до эвакуации.
А это оказалось самым трудным делом. Ведь дом был ведомственный, и в обе наши комнаты вселились чиновники этого ведомства — Комиссии партийного контроля: в одну — некто Бодунов, в другую — Коган. И начались мои бесконечные хождения по всем этажам этого громадного учреждения (в здании, где тогда находилась Комиссия партконтроля при ЦК ВКП/б/, позже был Госплан, а теперь помещается Государственная Дума). Ну, а пока я жил на кухне нашей квартиры… Правда, в этот период мне очень помогали Стася и ее мама — Татьяна Александровна. Целый месяц я добивался своих прав, и только благодаря решению военного прокурора мне удалось с помощью милиции выселить одного госконтролера из моей комнаты.
Но главное — я ходил на занятия в Школу-Студию, с 9 часов утра и порой до позднего вечера. И тут начались другие проблемы и появились дурные мысли. Я ведь пришел в Студию через два месяца после начала занятий, когда все уже как-то освоились. А я был «новичок». И вдруг сразу с утра запеть, затанцевать, придумывать и делать этюды… Я и стеснялся, и не мог по разным причинам — и от недоедания, и от недосыпания. Кроме того, пошли разговоры, что после первого курса будут «неталантливых» отчислять. Вот и начались у меня сомнения и волнения. Я вдруг потерял веру в себя и уверенность, а без этого, конечно, в нашей профессии работать нельзя. А тут еще беседы В.Г. Сахновского о воспитании и самовоспитании личности, и слова Н.П. Хмелева о том, что «не секрет, что только наиболее талантливые и интересные индивидуальности, конечно, будут приняты в Художественный театр — ведь именно для этого была создана эта студия в такое тяжелое время». Одним словом, я вдруг почувствовал, что нахожусь под топором судьбы.
И, пожалуй, только весной неожиданное предложение сниматься на «Мосфильме» в роли Незнамова вселило в меня уверенность. Роль-то эту я ведь с успехом играл еще до Студии, в школьном драмкружке!
Так заканчивался I курс. Отметок нам еще не ставили, а по всем предметам у меня в студенческой книжке стояли зачеты.
Летом всех студентов послали на «трудовой фронт» в подсобное хозяйство театра — в Пестово, и
меня сделали… бригадиром! Мы целый месяц жили коммуной и подружились. Все эти события меня как-то приободрили.
А потом мне дали «премию» — путевку на две недели в Дом отдыха «Поленово». И тут все очень одобрили мои фотопробы на роль Незнамова — поздравляли, желали… Особенно меня тогда порадовало одобрение такого «важного художника», как Борис Карпов. Ведь его четкая подпись стояла на всех его рисунках — портретах И. Сталина… Карпов был небольшого роста, очень аккуратный, четкий человек с черненькой бородкой (как у «инженера Гарина»), азартный игрок в карточную «спекуляцию». Он всех научил играть в эту примитивную игру по копейке и почти всегда выигрывал.
Конечно, первый год в Студии стал переломным в моей жизни по всем линиям. Перемены были во всем — надо было думать, где достать деньги, как питаться, как себя обслуживать — стирать белье (самым трудным оказалось стирать простыни), «отоваривать» карточки, платить за квартиру и т. д. В общем, абсолютно самостоятельная студенческая жизнь. Но главное — уроки в Студии, занятия трудные и интересные. Все эти вечера и капустники, встречи с В.И. Качаловым, О.Л. Книппер-Чеховой, М.М. Тархановым, с Б. Пастернаком, А. Ахматовой и молодым, еще совсем не известным Св. Рихтером. И ночные дежурства в театре. Помню таинственный полутемный зрительный зал, открытый занавес и на сцене стоял один фонарь — лампочка, как маяк… какие-то странные звуки в мертвой тишине зрительного зала… казалось, сюда приходили души и тени всех великих артистов и тех зрителей, которые здесь бывали… И вдруг какая-то крыса пробегала через всю сцену…
А война все еще продолжалась. Но почти все театры уже возвратились в Москву. Шли концерты А.Н. Вертинского (правда, без единой афиши), и мы переписывали его репертуар и восхищались его необычным жанром. Отмечались торжественные даты, и мы выпускали свою стенгазету «Студиец», а я был главным редактором и уже собирал архив Студии и вел по-прежнему свой дневник.
«Начало 1944 г.
25 января
Уже конец января, скоро зачеты!.. А я все не могу прийти в себя… Я еще не привык к занятиям по 8 уроков, да еще и дома… Читать не успеваю, хотя хочу и надо.
Дело доходит до того, что я ощущаю свою неспособность и боюсь тянуться в хвосте. Неужели я бездарен?! Все это заставляет меня задуматься — не ошибка ли моя мечта о театре, не поверхностное ли это увлечение, которое не придает силы, а только сталкивает с неуспехами. Неужели между моими способностями и желаниями есть непреодолимая пропасть?! Этюды у меня не выходят — на ум не идет фантазия и делаю все как-то невыразительно. Что это такое? А силы, темперамент, желание играть, жить страстями и т. п. — все это во мне есть… А может, я просто бездарен?.. Нет, видимо, на эти мои мысли и чувства действуют неуспехи, обуза других предметов… Меня занимают французский язык, музграмота, танцы (тут я слаб). Мне кажется, невозможно удачно заниматься мастерством актера без полного освобождения мыслей и тела от других, угнетающих дум и забот!
4 февраля
1-го был просмотр мастерства актера. Все волновались (были Месхетели, Сахновский, Орлов, Раевский, Кнебель и др.). И всё делали хуже… Я был тоже недоволен собой. Была какая-то спешка. Все делалось как-то вслепую. 3-го делали просмотр только для Хмелева. И опять я все делал хуже, все это не то… Было какое-то неудовлетворение от всего. Много было раздумий. Я все больше и больше теряю веру в себя, в свой талант (есть ли он у меня?)… Мне кажется, что меня считают неталантливым и я кандидат на выгон… Тем более, по остальным предметам я отстал, а они не менее важны. По-моему, у меня неверный метод работы — я не вдумчив, поэтому мне ближе метод Краева (от техники — к душе, а не наоборот, как у Кнебель)… Я потерял нить… Надо, хочу поговорить обо всем с Орловым… На днях было (почему-то) закрытое комсомольское собрание с Месхетели, Хмелевым и Прудкиным. Месхетели говорил о том, что Студия для МХАТа имеет историческое значение и поэтому так важно воспитание и т. п. Хмелев сказал, что Студии придается большое значение, и к нам будут прикреплены большие мастера, и не секрет, что самые талантливые из нас будут приняты в театр, и что Студия готовит только для МХАТа, и неизвестно, будет ли она расширяться…
Мне очень понравилось это собрание. Оно вселило уверенность и силы. Самое главное, надо самому работать над собой… Утром я самостоятельно занимаюсь дикцией. Голос стал тверже. Пою лучше. Движения развивают тело и укрепляют фигуру. Танцы постигну! Музграмоту выучу, как и французский. Остальное — надо больше и шире читать. Главное — время: через месяц-два я выйду в «свои» по знаниям, и тогда мне будет легче мыслить, рассуждать, творить. Итак, только заниматься серьезно, упорно, и это придаст мне былую уверенность и силы!
19 марта
Каждый понедельник ВТ. Сахновский проводит беседы с нами. Он много говорит о том, каким должен быть актер (внешне — прост, вежлив и т. п., внутренне — содержателен и интересен; т. е. быть личностью, индивидуальностью!). Мне он очень нравится. Он умен, образован и мало театрален, хотя и играет непосредственного человека. Играет он тонко, хотя и заметно. Он остроумен, верней, в нем много ума и юмора… Я был в ВТО на беседе о его работе режиссера — это еще интереснее. Его мысли о действии, об образе спектакля… «Многообразие единства или единство многообразия — вот это и есть искусство». «Когда нет единства, нет и главного, а есть только частности, а это и есть «натурализм»!». В.А. Орлов добр и приятен, но я убедился, что он много говорит, обещает, но мало выполняет. Почему? Не знаю. Но я его люблю. Странно все-таки, как это он меня все же вытянул в Студию. Ведь никого больше из армии не вытянули (Женю Жарова, Алексея Аджубея, Сергея Булгакова), им все обещают…
…Люблю лекции П.А. Маркова. Они интересны по содержанию и особенно приятны для слуха — он так красиво говорит. Какой-то мягкий тон, нарастающий, и голос (немного в нос) мягкий и уютный. Его все любят. После лекций всегда с ним беседуют — это еще интересней!
12 марта была встреча с В.И. Качаловым, а 16-го мы (я, Фрид и Франке) относили ему домой письмо из Студии. Он торопился — вечером уезжал в Ленинград, но принял нас приятно, а мою фамилию почему-то уже знал… Мы ушли от него «на седьмом небе»…
19 марта был вечер-встреча с Б.Л. Пастернаком в Студии. Он — оригинальнейшая личность. Немного смешон, но смешон мудро, я никогда не забуду его внешнего облика, манеры говорить (кидать мысли, бросать их, возвращаться к ним и т. д.).
2 апреля
В Студии О.Л. Книппер-Чехова. Она очень кокетливая пожилая женщина — да, но не старуха… Очень мне понравились ее записи о К.С. Станиславском. Мне кажется, что только теперь я ощутил К.С. как большого, интеллигентного актера. Это был гений!.. Потом О.Л. читала и опять кокетничала… Правда, мне очень понравился рассказ «Шуточка» — вот тут я понял, как Чехов мягок и настроенчат. Я полюбил и «Три сестры» — все это, как хорошие духи и цветы… так все тонко, ароматно. Именно в этот вечер я все это ощутил…
9 апреля
Вечер М.М. Тарханова (никто не выступал — боялись, т. к. О.Л. недавно сказала Виктору Франке: «Надо жизнь наблюдать, у нее учиться, а не фантазировать!..»). Вот Тарханов — полная противоположность всем. Он рассказывал очень ярко и красочно о прошлом — о Рязани, об антрепренере Синельникове («честен был»), о Мамонте Дальском, о Степане Кузнецове. Я все это себе ярко представил…
11 мая
…Пошел как-то в баню, мылся… холодной водой — горячей нет (да — война!), денег нет — все деньги ушли на костюм (мне запретили ходить в матросской форме и дали талон на материал). Сегодня отнес шить, но мало материалу — обманули меня в магазине жулики! Я всю жизнь мучился и буду мучиться — все коротко, всего не хватает. Вот такая жизнь. Хочу поесть мяса, масла, а ничего этого не ем, а дома вообще ничего нет… Обеды стали скверные (говорят, Розенталь — директор мхатовской столовой — обедает только в ЦДРИ, поэтому здесь и стали обеды плохие). В воскресенье некоторые ребята дают мне свои талоны на обед — сами обедают дома — вот живу!
13 мая
Было общее собрание всей студии. Выступил В.Е. Месхетели. Он сказал очень умно, сильно и темпераментно».
Второй курс для нас начался с работы над отрывками и сценами (со словами уже!). Теперь нас всех рассыпали по разным работам с разными режиссерами-педагогами. Мы с Ритой Юрге делали. у A.M. Карева отрывок из романа Тургенева «Рудин». А И.М. Раевский дал мне и Леночке Хромовой сцену из «Преступления и наказания»: Соня читает Раскольникову «Воскрешение Лазаря». Трудились мы, конечно, с самозабвением, и это был наш первый успех — как, впрочем, у всех работ нашего курса. Конечно, все с волнением смотрели друг на друга на показах и экзаменах. Хотя появились уже первые огорчения и плохие отметки. Но в конце учебного года, в мае 1945, великая Победа заслонила все наши неприятности и обиды.
Рядом с нами появились новые студенты — второго набора, потом третьего, а мы стали «старшими» и явно избалованными и успехом, и вниманием — ведь мы были первыми…
Ну, а уже на третьем курсе начались у нас и большие работы, и большие успехи. П.А. Марков назвал наш курс — «Победители» (в это время в театре шли репетиции спектакля «Победители»). Конечно, всех не только в Студии, но и в театре (ведь из театра многие приходили на наши вечера-капустники и на экзамены) очаровали Володя Трошин (в «Любовном зелье») и Валя Калинина (в «Норе»)… И не только она, а все наши девушки — Рита Юрге, Луиза Кошукова, Тина Ростовцева, Маргарита Анастасьева… Все они были красивы, молоды и чисты. А Таня Гулевич и Юра Касперович имели особый успех еще и в капустниках. Ну и, конечно, всегда всех смешил Михаил Пуговкин (В.Г. Сахновский говорил, что его лицо очень похоже на лицо Льва Толстого, которого Сахновский видел и знал в юности). Очень яркой во всех работах была Женя Ханаева, а загадочно-значительный Володя Дружников был, как и Володя Трошин, неотразим в пении. Да и всех, буквально всех хвалили и одобряли после экзаменов третьего года. Особым уважением на курсе пользовались Миша Курц и Оля Фрид — они были старше нас и мудрее. Наш лидер Виктор Франке в окружении своих поклонниц возглавлял подготовку к «умственным» экзаменам и при этом по-настоящему увлекал их своими интеллектуальными беседами. Паша Самарин, кроме всего, был талантливым художником и по моим просьбам рисовал замечательные дружеские шаржи для стенгазеты. В разных работах были интересны тонкий лирик Толя Вербицкий и Ваня Тарханов, добрейшей души человек…
И вообще, нашему курсу после таких дипломных спектаклей, как «Бесприданница», «Модная лавка», «Мещане» и «Молодая гвардия», предсказывали большое и счастливое будущее. И уже в театре поговаривали, кто какие роли может играть из репертуара и кто кого из пятидесятилетних актеров может в будущем заменить… О, это было счастливое время надежд…
О нашей Школе-Студии
Теперь я хотел бы вернуться немного назад и рассказать, как создавалось это уникальное учебное заведение.
1943 год. От Москвы до фронта меньше трехсот километров. До Дня Победы еще два года. А в Москве летом можно было увидеть небольшие листки с объявлениями о приеме в Школу-Студию. Было подано более тысячи заявлений. После собеседований, которые проводились актерами и режиссерами театра, было допущено к первому туру триста человек. Заключительный тур под председательством директора МХАТа Ивана Михайловича Москвина проходил в нижнем фойе театра. Присутствовала почти вся труппа МХАТа. Было принято восемнадцать человек. Потом добавили еще двенадцать. На постановочное отделение приняли семнадцать студентов.
20 октября 1943 года состоялось торжественное открытие Школы-Студии имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. Так она именовалась вначале, а потом к словам «Школа-Студия» прибавилось ВУЗ. На открытие пришли: И.М. Москвин, Н.П. Хмелев, М.И. Прудкин, художественный руководитель Школы-Студии В.Г. Сахновский, В.А. Орлов, П.А. Марков, В.Я. Виленкин, И.Я. Гремиславский, артисты театра и, конечно, все педагоги Студии. В.Г. Сахновский произнес большую речь. Поздравив всех принятых, он сказал о том, что Школа-Студия была задумана Владимиром Ивановичем для продолжения и обновления жизни МХАТа.
27 октября 1943 года исполнялось сорок пять лет со дня основания Московского Художественного театра. Как всегда, в этот день шел спектакль «Царь Федор Иоаннович». Царя Федора со дня открытия играл И.М. Москвин, и он пригласил студентов на генеральную репетицию. Это было началом нашей жизни и учебы рядом с МХАТом… А в Студии уже висело громадное расписание уроков и лекций.
По мастерству актера было составлено три группы. Занятия с одной вели опытный педагог И.М. Раевский и азартная О.А. Якубовская. С другой группой занимались педагог высшего класса М.О. Кнебель и молчаливая В.А. Вронская. С третьей работали специалисты по «методу физических действий» — громкий и напористый A.M. Карев и тихий, но значительный Г.А. Герасимов. Правда, на втором курсе, когда начиналась работа над ролями и сценами, все эти группы перемешались. Ненужное соревнование между «переживальщиками» (группа М.О. Кнебель) и «представляльщиками» (группа A.M. Карева) прекратилось. Все остальные («прикладные») предметы вели лучшие мастера: гордая и умная Е.Ф. Сарычева — дикцию; театрально-агрессивная, бывшая солистка Большого театра, жена писателя Пантелеймона Романова А.П. Шаломытова — танцы; спокойный и умный И.С. Иванов — движение; добрая и какая-то домашняя Е.Ф. Pay — тоже дикцию. Были, конечно, и другие предметы, но о них немного позже.
Это было самое счастливое время для всех нас. Вся атмосфера Студии была наполнена ежедневным, ежечасным постижением смысла актерской профессии. Это было не только на занятиях по мастерству актера, но и на всех уроках и лекциях. Какими интересными и неповторимыми были лекции выдающегося ученого профессора Алексея Карповича Дживелегова об итальянском Возрождении и Шекспире! Он сам был похож на человека Ренессанса и своим темпераментом, и своей бородкой, и своим обаянием. И совсем иными были характер и лекции громогласного и театрального Леонида Петровича Гроссмана о Пушкине, о Толстом, о Достоевском. Эти лекции были для нас откровением, ярким «театром представления».
Лекции Абрама Марковича Эфроса по русскому искусству были скорее похожи на критический разбор передвижников, а его обрубленное квадратной бородкой лицо таило в себе иронию. Но когда он доходил до «Мира искусства», то становился совсем другим человеком…
Занятия по политучебе проводил милейший, интеллигентнейший человек — В.А. Емельянов. Он как будто стеснялся делать нам замечания, когда мы уж очень шумно вели себя на его занятиях, и продолжал чопорно свою лекцию. И вдруг он неожиданно ушел из Студии, кажется в ГИТИС, так как выяснилось, что он беспартийный и не имел права преподавать марксизм-ленинизм… И вот при встрече он мне сказал: «Я так к вам привык и полюбил вас, что не мог первое время в ГИТИСе читать свои лекции — мне чего-то не хватало. Я долго не мог понять — чего? А потом вдруг понял: мне не хватало вашего постоянного шума — он у меня снимал волнение и ответственность. И вдруг теперь на моих лекциях абсолютная тишина — мне это сперва мешало!»
А один профессор кричал на нас: «Разбойнички, я вас обломаю!» Он же однажды заявил: «Кем был бы у нас в стране Добролюбов? Он был бы членом Политбюро!!»
На лекциях известного профессора политэкономии Черномордика мы тоже вели себя шумно. И вдруг однажды он сказал: «Дорогие студийцы, вам предоставлена возможность во время войны осуществить свою мечту и стать артистами, а мой сын вашего возраста, танкист, погиб на фронте…» Нас это потрясло.
В нашей Студии, как и во всех школах и институтах (еще до войны), были занятия и по военному делу. Вел их некто Б.А. Марков. Когда он болел, мы имели возможность послушать лекции врача МХАТа А.Л. Иверова по санитарному делу, которые он читал для наших студенток.
Иверов был человеком с особым, своеобразным юмором. О его лекциях в Студии ходили легенды. А высказывания его студенты записывали. Вот некоторые из них.
— Человек состоит из костей… и воды!
— При холоде человеческий организм вырабатывает гусиную кожу…
— Кох — еврей. Был казнен и выслан. А если мы с вами будем посмотреть в микроскоп, то мы увидим, как палочки Коха бегают по полю зрения.
— А болезни мы называем по тому, кто их первый предложил.
— Некоторые актеры имеют те или иные зубы и в них микробы. Полезны они для нас? Нет! Такие актеры называются бациллоносителями.
— Поцелуй — это входные ворота для сифилиса. Но я должен вам не только как врач, но и как гражданин сказать: целоваться нужно и очень полезно.
— Глаз устроен более интимно, чем ухо. Попадет в глаз маленькая соринка, и человек просто не может усидеть…
— А в ухе вырабатывается сера-смазка. И, как говорится, не подмажешь — не подъедешь…
Когда мы стали артистами МХАТа и порой обращались к нему как к врачу, заведующему медицинской частью театра, то по-настоящему оценили его и как доктора, и как человека, который верно служит Художественному театру. Когда актер болел и, казалось, не мог играть, то, чтобы спасти спектакль, Иверов давал больному какие-то порошки. И актер оживал и играл спектакль, но на следующий день скисал… У Иверова была привычка — уходящему из его кабинета больному он говорил: «У меня к вам большая просьба — не болейте!»
Уникальными были лекции Сергея Николаевича Тройницкого по истории материальной культуры. Сергей Николаевич только что вернулся из ссылки, где пробыл пять лет по обвинению в продаже картин из «Эрмитажа». А он как раз возражал против их продажи! Так вот, этот удивительный человек тихо-тихо хриплым голосом рассказывал нам почти детективные и романтические истории, одушевляя мир вещей, попыхивая трубкой…
Мы очень любили лекции Павла Александровича Маркова по истории Художественного театра. Это была какая-то сказка, легенда! А потом, когда мы видели на сцене Москвина, Качалова, Книппер-Чехову, Тарханова, Добронравова, Хмелева, эта история оживала и потрясала нас.
Эти профессора были учеными высшего класса, элитой нашей культуры. И мы бесконечно благодарны им всю жизнь. Как и Василию Григорьевичу Сахновскому, который стал не просто руководителем Школы-Студии, но и нашим духовным воспитателем. Он был высокообразованной, интереснейшей личностью. Стремился к тому, чтобы Студия воспитывала не только профессиональных актеров, но и образованных, интеллигентных людей. По понедельникам он устраивал необычные собеседования. Это был разговор обо всем на свете: о театре, о литературе, об истории, о музыке. Своим вопросом Сахновский иной раз так мог «разложить» наши вкусы, что не оставалось никаких сомнений в наших ошибках и заблуждениях. Это он заложил духовные основы Школы-Студии.
Не менее важной в создании Студии и в нашем духовном воспитании стала роль Виталия Яковлевича Виленкина. Он был нашим верным другом с первых дней учебы. А со второго года вел курс стилистики, прививая нам любовь к стихам. Влияние и советы Виталия Яковлевича для нас были решающими. Это он был инициатором встреч с О.Л. Книппер-Чеховой, Б.Л. Пастернаком, А.А. Ахматовой, И.Г. Эренбургом, В.И. Качаловым. Каким странным и даже наивным казался тогда нам великий Пастернак! А величественная Анна Ахматова с царственной и несколько надменной манерой читать стихи представлялась нам богиней, спустившейся на землю, чтобы нести людям духовную красоту. Илья Эренбург во время войны своей непреклонной верой в победу вселял в народ оптимизм. Его статьи в газетах ждали не меньше, чем фронтовые сводки, которые читал легендарный Ю. Левитан. Недаром говорили, что Гитлер обещал их обоих повесить на Красной площади, когда займет Москву. И вот Эренбург пришел к нам в Студию. Мрачное лицо, взъерошенные волосы, монотонная речь… Но сколько ума, иронии и оригинальности, парадоксальных мыслей! Он начал свою беседу с того, что в Художественном театре он не был лет тридцать и что единственный театр, который он любит и признает, это театр Мейерхольда… Так мог позволить себе говорить только Эренбург: ведь Мейерхольд был уже расстрелян.
А какими разными были вечера О.Л. Книппер-Чеховой и М.М. Тарханова! Это был живой, великий МХАТ! Но самым первым и близким другом нашего курса стал Василий Иванович Качалов. Он приходил к нам и на наши экзамены, и на наши капустники.
И он же благословил всех, кто был принят в Художественный театр в 1947 году. Когда Качалов умер, гроб с его телом сначала поставили на ночь в Школу, а потом утром перенесли в театр…
В Школе-Студии была особая атмосфера, которая создавалась благодаря близости к театру. Это ощущение, что рядом стоит великан, не давило, а вдохновляло. Хочется вспомнить педантичного, но милого нашего декана, работавшего еще со Станиславским, Вацлава Викентьевича Протасевича, который был всегда рядом с нами, но больше всего любил ходить на уроки танцев. И, конечно, красивую и добрую Наталью Григорьевну Колотову, нашего завуча и верного друга.
Да все, все, не исключая уборщиц, относились к нам как к родным и близким. Это была одна семья — дружная и счастливая. Это был наш Лицей.
Я помню, с какой тревожной радостью я каждое утро рвался в Студию. На улице еще темно. В комнате холодно. Вскакиваешь с кровати в последний момент. На кухне бросаешь в кастрюлю твердый брикет пшенной каши — наспех варишь ее. Пьешь черный, как вар, фруктовый чай. Иногда не успеваешь побриться и бегом, с боем врываешься в вагон метро. Через двадцать минут я уже в Студии. С утра тишина. Коридоры пусты. До обеда в трех аудиториях идут занятия по мастерству актера. Потом обед в столовой на первом этаже по талонам. А потом Студия снова наполняется радостным шумом и возбуждением. У кого-то занятия по голосу, у кого-то уроки движения или танца, а потом опять все вместе в большой аудитории собираются на общие лекции. И так до вечера. Вечером, усталые и притихшие, одни бегут по затемненным улицам домой, другие в театры смотреть что-то новое, «не наше», а если подошла твоя очередь, ты получаешь пропуск в «наш» театр — стоять в бельэтаже, с правой стороны. А энтузиасты остаются еще в Студии готовить очередной вечер или капустник… И так каждый день.
Вот это радостное чувство от почти круглосуточной жизни в искусстве и давала нам наша Студия.
Да, в 43-м, 44-м и 45-м годах еще шла война. Мы слушали и читали ежедневные сводки Информбюро. Мы этим жили, как и все, и конечно, понимали, что нам наша жизнь дана как бы в кредит…
Когда я потом что-то удачно играл в кино или в театре, то считал, что постепенно возвращаю этот кредит, и до сих пор так думаю.
Рядом с нами все четыре года шли занятия студентов Постановочного отделения Школы-Студии. Многие из них были старше нас, но это не мешало нам дружить и называть их просто — «постановщики», а им нас — «актерщики»… Они были и нашими первыми зрителями, и первыми помощниками при постановке сперва отдельных отрывков и сцен, а потом и спектаклей.
Руководителем и основателем этого уникального отделения был большой художник, «человек театра», Иван Яковлевич Гремиславский. А после его смерти отделение — возглавил Вадим Васильевич Шверубович, сын В.И. Качалова, один из самых удивительных людей Художественного театра. Человек легендарной биографии и качаловского обаяния…».
Конечно, главным предметом для нас всегда было мастерство актера. Но и на других занятиях мы что-то открывали для себя важное и неожиданное. Так, на занятиях по голосу (преподаватели Н.М. Куприянова и Д.Б. Белявская) «открылись» голоса у В. Трошина, В. Дружникова и Е. Ханаевой. А на уроках французского языка у милой и не по возрасту наивной А.П. Орановской разыгрывались целые сценки, которые потом включались в наши капустники. И даже на уроках манер, которые преподавала нам без всякой программы княгиня Е.Г. Волконская, не обходилось без юмора. То вдруг М. Пуговкин появлялся во фраке, с цилиндром на голове и в… валенках. То у меня из-под манишки вылезала тельняшка. И, кажется, мы сыграли все роли из репертуара МХАТа, делая гримы на уроках легендарного мастера-художника М.Г. Фалеева. А ведь он начинал работать гримером со дня основания театра, еще мальчиком. Конечно, мы изображали наших педагогов в капустниках, на которые приходил буквально весь театр. Да и в Пестове, куда нас послали летом «на картошку» («трудовой фронт»), мы устроили вечер-капустник. А на наших вечерах бывали и Святослав Рихтер, и Наум Штаркман, и Владимир Солоухин, и Александр Гинзбург (Галич) — тогда тоже еще молодые и неизвестные.
Многие тогда приходили в Студию на вечера из других институтов. А однажды на репетицию «Бесприданницы» к нам неожиданно пришел Дж. Пристли. Розовощекий, с трубкой в зубах. Он явно нас не понимал, как и мы его… Но ему было все интересно в нашей Студии.
Заканчивался второй год учебы. Начались уже не зачеты, а экзамены. Первые огорчения, первые успехи, первые отличники и чеховские стипендиаты (Маргарита Анастасьева и Владимир Трошин). Жизнь была еще голодной и холодной. Получали мы стипендию сначала сто сорок пять рублей, потом сто шестьдесят пять. Продовольственные карточки не всегда удавалось отоварить. Зато в столовой театра добрые официантки порой давали вторую тарелку щей. Кое-кого соблазняли съемками в кино, но это было нам категорически запрещено («вас могут там испортить») и даже потом, в театре, не всегда разрешалось. Поэтому ушли из Студии Владимир Дружников и Михаил Пуговкин.
Появились новые преподаватели: Н.М. Гершензон (иногда ее заменял муж А.Д. Чегодаев) читала лекции по истории изобразительного искусства. Интеллигентнейший артист Всеволод Алексеевич Вербицкий занимался с нами декламацией — учил читать стихи. Это он открыл неизвестных нам тогда поэтов М. Кузмина и Н. Гумилева. Это он вместе с В.Я. Виленкиным пригласил в Студию А.А. Ахматову.
Наступил 1945 год. Год радости и печали. 9 Мая — День Победы! Такого ликования и единения всех людей нельзя было себе представить. Днем в театре стихийно собрался весь коллектив. О.Л. Книппер-Чехова и Н.П. Хмелев со слезами радости поздравили всех с победой… Долго не расходились. А вечером во время салюта был прерван спектакль, и все зрители вышли на улицу, поздравляя друг друга. Сколько было улыбок, слез, поцелуев, объятий, надежд!..
Но этот год принес и много трагедий для МХАТа. Еще в феврале умер В.Г. Сахновский, человек, который создал Студии репутацию театрального лицея, а, может быть, даже театрального университета. В ноябре на генеральной репетиции в гриме и костюме Ивана Грозного умер Н.П. Хмелев. Ему было сорок четыре года. А потом умер И.М. Москвин — великий артист, который ввел нас в Школу-Студию. Это были тяжелейшие потери для театра и для нас. Ушли из жизни наши руководители, которые создавали и опекали Студию. А с ними ушла и мечта о Студийном театре…
Особенно ясно мы это поняли, когда уже на последнем курсе к нам пришли директор В.Е. Месхетели и парторг М.И. Прудкин, устроили комсомольское собрание (а мы, конечно, почти все были комсомольцами) и запретили нам даже думать об этом. Было сказано, что нашу судьбу будет решать дирекция театра, а не мы сами. Так была убита раз и навсегда идея Немировича-Данченко о Студии-Театре, а ведь название-то было дано не зря — «Школа-Студия».
Художественным руководителем МХАТа был назначен Михаил Николаевич Кедров. Руководителем Школы-Студии стал Вениамин Захарович Радомысленский. Помню, как он пришел к нам в первый раз в форме морского офицера. Ему было тридцать шесть лет. Он оказался прекрасным организатором и очень много сделал и для студентов — недаром его называли «папа Веня». Начался последний этап нашей учебы. Готовились выпускные спектакли: «Молодая гвардия», «Мещане», «Бесприданница», «Модная лавка» И. Крылова. Тогда же нас заняли в массовой сцене первого акта спектакля «Идеальный муж» в постановке В.Я. Станицына. Это был наш первый выход на сцену МХАТа.
После окончания Школы-Студии в 1947 году из первого выпуска шестнадцать человек было принято в МХАТ Тогда в труппе было сто шестьдесят артистов. Поэтому особым приказом Комитета по делам искусств в театре была создана «студийная группа». И хотя нас заняли только в народных сценах, но мы были счастливы, что вошли в этот Храм — мечту нашей жизни… Предполагалось, что руководителем «студийной группы» будет Вадим Васильевич Шверубович — верный ученик К.С. Станиславского, друг Л.А. Сулержицкого. Думаю, что он сделал бы все, чтобы не распалась связь поколений Художественного театра. Но судьба сулила нам иное… Те же люди в руководстве театра убили и эту идею.
Как только мы пришли в театр, по решению М.Н. Кедрова нас заставили каждое утро заниматься под руководством А. Зиньковского освоением «метода физических действий». Этот фанатик уверял нас, что если мы освоим «простейшие физические действия», то сыграть «Гамлета» для нас будет «раз плюнуть»…
В 1949 году В.Я. Станицын и С.К. Блинников с И.М. Раевским поставили при участии мастеров «второго поколения» артистов театра два молодежных спектакля — «Домби и сын» и «Мещане», где прекрасно сыграли свои первые роли В. Калинина, М. Юрьева, Е. Ханаева, Л. Кошукова, М. Анастасьева, К. Ростовцева, А. Вербицкий, И. Тарханов, Ю. Ларионов. Е. Хромова блеснула в «Дяде Ване» в роли Сони, а В. Трошин был обаятельным лейтенантом Масленниковым в «Днях и ночах» К. Симонова. И, конечно, надо было бы нам самим продолжить работу над своими, молодежными спектаклями. Но тогда всякий эксперимент в театре был невозможен, а слово это считалось преступным. Требовалось играть роли и ставить спектакли сразу на уровне «великого МХАТа» — «театра-вышки». И, конечно, ни о каком Студийном театре («театр в театре»?!) не могло быть и речи.
Я помню, как М.Н. Кедров говорил, что секретарь ЦК Г.М. Маленков сказал ему: «Зачем вы тратите свои силы и время на молодых актеров? Вам надо ставить спектакли с выдающимися мастерами!»
И хотя нашими однокурсниками, да и пришедшими из Студии позднее, было все-таки сыграно много удачных ролей и в театре, и в кино, но считается, что «третьего поколения» артистов МХАТа не получилось, что это — «потерянное поколение» в театре. Мне, конечно, трудно анализировать свою судьбу и судьбу всех моих товарищей, пришедших в МХАТ из Школы-Студии. Но в год, когда мы пришли в Художественный театр, В.И. Качалов нас приветствовал и писал: «Наблюдая четыре года за жизнью и ростом наших студийцев, я теперь с уверенностью и удовлетворением могу сказать, что они не обманули наших ожиданий. Студия воспитала для Художественного театра талантливых, широко образованных актеров… Будучи председателем Государственной экзаменационной комиссии я с радостью подписал дипломы — путевки в жизнь моим дорогим молодым друзьям…»
Так почему же в театре это поколение стало «потерянным»?…
Может быть, виной всему был тогдашний репертуар МХАТа — «Зеленая улица», «Вторая любовь», «Заговор обреченных», «Потерянный дом», «Головин», «Сердце не прощает»?..
Еще в сентябре 1942 года Н.П. Хмелев говорил: «Прав Владимир Иванович, что на «втором поколении» Художественного театра лежит теперь крупнейшая ответственность и задача — продолжение генеральной линии искусства Художественного театра и воспитание следующего поколения актеров, которое должно будет вести Художественный театр. Надо смотреть прямо и смело в будущее. Никогда и никто нам не простит, если мы честно, добросовестно и, может быть, талантливо проживем свою жизнь в искусстве, не думая о будущем Художественного театра…»
К сожалению, опасения великого Хмелева оказались не напрасными…
Вводы и выводы, или
Случайности и необходимости
Как я уже упоминал, когда нас приняли в 1947 году в Художественный театр, то старались занимать главным образом в народных сценах. Актеры постарше, которые были заняты в этих сценах, конечно, обрадовались: они надеялись, что теперь-то уж не будут бессловесными статистами, а получат наконец настоящие роли. Их надежды не оправдались. Многие из них так и умерли, не произнеся на сцене ни одного слова…
А Виктор Яковлевич Станицын относился внимательно и даже с любовью к нашей Студии и, когда в 1945 он начал работать над пьесой Оскара Уайльда «Идеальный муж», то занял в первом действии этого спектакля, в сцене гостей, как я уже рассказывал, весь наш предвыпускной курс. И репетировал с нами очень тщательно. Он предложил нам взять для себя тексты из разных пьес Оскара Уайльда, чтобы мы не были безмолвными гостями, а вели между собой беседы при открытии занавеса… Я всегда с радостью вспоминаю, как Виктор Яковлевич сказал мне на первой репетиции в филиале МХАТа: «Ну, Владлен, иди первый на сцену!»… Как это можно забыть, когда я вышел на ту самую сцену, на которой когда-то впервые увидел Б.Г. Добронравова в роли Платона Кречета в 1935 году!.. Прошло ровно 10 лет!
А в 1945-м, после премьеры, В.Я. Станицын поздравил нас всех, а мне на программке написал: «Владлена поздравляю с первой "фрачной ролью"!» Действительно, это оказалась не последняя моя «фрачная роль» в «Идеальном муже».
Спектакль имел большой успех. Он был в репертуаре МХАТа 36 лет и прошел 1164 раза! Я играл в нем потом и эпизодическую роль мистера Монфорда, и одну из главных — лорда Горинга, а затем и главную — сэра Роберта Чилтерна, этого «идеального мужа».
Ну, а мою первую роль (уже со словами) я сыграл тоже на сцене филиала в пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и тоже в постановке В.Я. Станицына. Это была роль «Апреля».
Роль «Апреля» — «голубая», спектакль был детский, играли мы его по утрам. Помню, подбежали к рампе дети, и девочка лет 9-ти кричала: «Апрель! Браво! Спасибо!»… Это искреннее признание меня тронуло…
В «Двенадцати месяцах» играли прекрасные актеры — В.В. Готовцев, В.Д. Бендина, Е.Н. Морес, С.Н. Гаррель, Г.П Конский, А.П. Георгиевская. И бессловесных «Месяцев» играли интересные актеры, среди них — три-четыре «студийца».
Моей партнершей была И.П. Гошева, с нею мы подружились. A.M. Комолова играла роль «Января» — это был задорный, звонкий, обаятельный «Месяц»… Рядом с ней «Февраль» — нервно-раздраженный, резкий Н.А. Шавыкин. Два контрастных образа… И мудрый, старый «Декабрь» — В.Н. Муравьев…
Вот в такой компании я оказался на сцене, играя свою первую роль.
Собственно, это было мое первое знакомство с актерским коллективом. После дневного спектакля все мы шли на основную сцену. Шли по улице Пушкинской до угла Столешникова переулка, где разместился небольшой магазинчик «Пиво — воды». Заходили в него. Один заказывал: «Круписто», — что означало кружку пива и сто грамм водки. Другой: «Круписто и ножик», — он доставал из старенькой брезентовой военной планшетки две четвертушки черного хлеба, нарезал ломтиками и потом их намазывал горчицей с перцем. А третий сказал однажды: «Я не буду закусывать, у меня дома грибочки есть», — а жил он на Таганке… Я, глядя на этот «пир», очень, помню, удивлялся. Сам я тогда стеснялся выпивать и заказывал себе только морс…
С тех пор прошли годы. За 35 лет я сыграл на сцене Московского Художественного театра 61 роль. Из них половину даже вспоминать не хочется, но за 20–25 ролей мне не стыдно. Это было творчество. Работа над этими ролями оказалась чрезвычайно интересной и, как это всегда бывает, именно их положительно оценили и мои коллеги, и зрители. И сейчас, когда я читаю список сыгранных мною в МХАТе ролей, то с горечью думаю о том, что сегодня в театре нет ни таких ролей, ни таких пьес. Я жил на сцене в мире А. Чехова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, М. Горького, М. Булгакова, Б. Шоу, О. Уайльда… Бесконечная глубина жизненных проблем затрагивалась в этих произведениях. Выразить чувства и мысли этих гигантов — самое большое счастье нашей актерской профессии. Счастье — прожить жизни различных персонажей в разных жанрах: в драме, в трагедии, в комедии на сцене Художественного театра.
Конечно, я не уверен, что мои чувства всегда совпадали с чувствами зрителей. Но я сейчас говорю о своей профессии изнутри, о самом процессе работы: сегодня ты играешь лорда, завтра царя или босяка из «На дне», а потом мыслителя Ивана Карамазова…
Так сложилась моя жизнь в театре, что сразу же начались бесконечные вводы в старые спектакли. Иногда наспех, даже срочно… Замечательный актер С.В.Лукьянов говорил об этом: «Быть дублером в старых спектаклях неинтересно — ведь елку уже разобрали, игрушки сняты…» А мне приходилось играть «разобранную елку» бесконечно, но я был рад. Это была полезная работа.
Так, вскоре после моего прихода в театр, в 1948 году мне дали роль Чарльза в давно идущем спектакле «Школа злословия» Шеридана. Ее прекрасно играл П.В. Массальский. Но… по не зависящим от меня причинам сыграть Чарльза мне не дали. Я репетировал эту роль почему-то не с режиссером, а с актером, играющим в этом спектакле… слугу. Человек он был остроумный, писал злые эпиграммы. Правда, ярый пропагандист идей главного режиссера МХАТа М.Н. Кедрова. Потом несколько репетиций со мной провел режиссер этого спектакля Н.М. Горчаков; в основном, они свелись к долгим беседам в ложе дирекции, где Горчаков мне старательно объяснял, что такое, на его взгляд, английская аристократия — они, мол, по утрам ездят на лошади и проч., советовал почитать книгу Андре Моруа «Карьера Дизраэли». Видимо, ему хотелось усложнить последний этап моей работы над этой ролью. Но неожиданно, с подачи М.И. Прудкина, который играл в этом спектакле роль Джозефа, на роль его брата Чарльза ввели актера Звенигорского… Я понял, что в 24 года вводиться в спектакль, где актеры вдвое старше меня, нереально. Тем более, что директора театра B.C. Месхетели, который дал мне эту роль, только что из МХАТа убрали…
С волнением вспоминаю я роль Данзаса в пьесе М.А. Булгакова «Последние дни (Пушкин)». Процесс работы под руководством В.Я. Станицына, как всегда, был интересен: и не только его беседы, но и рекомендованные им книги о смерти Пушкина. Погрузиться в атмосферу последних дней жизни нашего великого поэта невероятно интересно. Спектакль был прекрасно сделан и режиссером, и художником П. В. Вильямсом.
Это был последний спектакль, выпущенный под руководством Вл. И. Немировича-Данченко. Он рассказывал о последних днях жизни Пушкина, а самого Пушкина на сцене не было… Спектакль-прощание. С Пушкиным и Немировичем-Данченко…
Тот же В.Я. Станицын в 1953 году дал мне роль Керкера в «Домби и сын» по Диккенсу. Это так называемая отрицательная роль. Я с невероятным увлечением и темпераментом игран этого злодея.
Но, конечно, самым большим для меня счастьем было получить роль «От автора» в спектакле «Воскресение». Это случилось следующим образом. Замечательная артистка Вера Дмитриевна Бендина как-то увидела, как я вел концерт и сказала мне: «Вы должны играть роль «От Автора» в «Воскресении». Выучите несколько монологов и покажите Раевскому». Этот спектакль был поставлен в 1930 году Немировичем-Данченко, но одним из режиссеров остался Раевский. Вот ему я и показал подготовленные монологи. Он посмотрел и заявил: «Роль твоя. Будем работать!»
Создателем и гениальным исполнителем этой роли был В.И. Качалов — мой учитель. Так что на меня легла громадная ответственность, хотя я, конечно, и не думал, что буду на уровне качаловского создания. Но, когда я сыграл эту роль, сын В.И. Качалова В.В. Шверубович сказал мне: «Единственный, кто имеет право достойно исполнять эту роль после отца, это вы, Владлен…» Шел 1956 год, прошло 8 лет после смерти В.И. Качалова…
Конечно, я много раз видел В.И. Качалова в этой роли. И восхищался им. Сам же я в этом спектакле сначала был занят, что называется, «насквозь», начиная с первой картины «Суд», где стоял жандармом около арестованных; потом был лакеем в картине «У графини»; и, наконец, в последней картине «Этап» шел в колонне ссыльных. Но, конечно, исполнение роли «От автора» было для меня большим счастьем. Я до сих пор в концертах исполняю отрывки из этой роли.
Вл. И. Немирович-Данченко в 20-е годы работал в Голливуде. Там ему предложили сценарий по «Анне Карениной» Л.Н. Толстого. Но американцы считали, что Анна не должна бросаться под поезд, хотели счастливого конца: мол, царь вмешивается в семейную драму, и Анна получает развод… Немирович-Данченко, конечно, от этой пошлости отказался. Когда он начал работать над «Воскресением» в театре, то захотел совместить театр и кино. Не получилось. Но от его замысла осталась одна деталь в декорации: когда открывался занавес с чайкой, то на фоне белого экрана стоял исполнитель роли «От автора» в синем костюме, с карандашом в руке и начинал произносить первые слова романа: «Как ни старались люди… изуродовать ту землю, на которой они жались… весна была весною даже и в городе… Но люди не переставали обманывать и мучить себя и друг друга… Люди считали священным и важным… то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом…»
И тут же, в этом же сезоне 1956-57 годов, В.Я. Станицын дал мне роль лорда Горинга в своем спектакле «Идеальный муж». Эту роль я играл 15 лет, пока не пришел Ефремов со своими артистами — тогда лорда Горинга пожелал сыграть Михаил Козаков. А мне В.Я. Станицын предложил в этом спектакле главную роль — идеального мужа, Роберта Чилтерна. И я сыграл, и играл эту роль 10 лет.
Да, введут тебя, может быть, и случайно, но театру это необходимо, а тебе необходимо достойно сыграть роль, чтобы удержать ее за собой.
Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей и режиссеров, с которыми работал в театре. Это, конечно, прежде всего В.Я. Станицын и И.М. Раевский, Б.Н.Ливанов и Г.Г. Конский, а также мои однокурсники И. Тарханов и В. Монюков.
Григорий Григорьевич Конский был очень интересным человеком. Он обладал особым, булгаковским юмором, недаром он был так близок с М.А. Булгаковым. Надо сказать, что булгаковский, то есть ироничный и резкий, юмор проявлялся и в остротах Ливанова, и у Станицына. К примеру, после спектакля «Ученик дьявола», поставленного Григорием Григорьевичем, Ливанов стал называть меня «учеником дьявола Конского». В то же время у «стариков» первого поколения — у Качалова, Москвина и особенно Книппер-Чеховой — юмор был мягкий, лирический — чеховский юмор, в нем чувствовалось обаяние, интеллигентность самого Антона Павловича.
С Конским я подружился еще на «Двенадцати месяцах», в антрактах и перерывах мы с ним постоянно беседовали. Был он очень
театрален. В молодости служил репортером, анонсировал фильмы. Он невероятно любил кино, поэтому во время заграничных гастролей тратил на него почти все свои суточные. Я очень любил беседы с ним. Видимо, и я ему нравился, поэтому он меня расспрашивал о моих планах, о съемках в кино, любил мои смешные рассказы и нередко говорил: «Ты, Владлен, очень похож на меня, но только ты красивый и без моей лошадиной челюсти». И обязательно добавлял: «Вообще я люблю игру твоего ума…»
В работе с Конским над ролью лорда Горинга в «Идеальном муже» я впервые обрел на сцене полную свободу. Хотя в театре до того проработал уже 9 лет. Впрочем, возможно, мне помогло еще и то, что в мае 1956 года меня сделали руководителем гастролей на Украине, где я и сыграл эту роль. Впервые тогда я не чувствовал пристрастной строгости экзаменаторов, я был полностью раскован и отвечал только перед публикой, которая к тому времени уже знала меня как известного киноактера (но об этом позже).
Именно после моей удачи в «Идеальном муже» (сам Конский исполнял роль отца лорда Горинга — лорда Кавершема), решив поставить в 1957 году пьесу Бернарда Шоу «Ученик дьявола», Григорий Григорьевич дал мне главную роль — Ричарда. К сожалению, только теперь я понимаю, что играл эту роль неправильно — получился какой-то театральный, нежизненный образ. Может быть, потому, что нам тогда не удалось разгадать тайну этой парадоксальной пьесы Б. Шоу.
В этом спектакле я играл вместе с моей однокурсницей Маргаритой Юрьевой, а Пастора играл только что пришедший в МХАТ из театра им. Вахтангова С.В. Лукьянов. Это был мужественный актер, очень самолюбивый и гордый. Однажды на этом спектакле в последнем действии ему стало плохо с сердцем, он упал и не доиграл спектакль. Закрыли занавес, вызвали дежурного врача, хотели отправить его на «скорой помощи» в больницу. Но он сел в свою машину и решил ехать домой. Я сел рядом с ним, но он разозлился и сказал: «Нечего меня оберегать. Я без тебя доеду!» — и я вышел из машины… Незадолго до того произошла неприятная для него и довольно странная история. Он сыграл в новой постановке «Вишневого сада» роль Лопахина. Спектакль был включен в репертуар гастролей в 1958 году в Лондоне и Париже. И вдруг Сергей Владимирович узнает, что почему-то его «там» (в КГБ) исключили из списков едущих на гастроли. Он сел в машину и помчался на Лубянку. И «там» ему сказали, что они к нему не имеют претензий и что это решение самого МХАТа… После этого визита Лукьянов, разумеется, был внесен во все нужные списки. Очень жаль, что этот великолепный актер недолго пробыл в МХАТе. В 1963 году он вернулся в Вахтанговский театр, а уже в 1965-м внезапно умер после своего выступления на собрании.
Когда А.И. Степанова потребовала снять меня с роли Лакея (ее раздражали аплодисменты, которыми встречали меня мои «кинопоклонницы» — я к тому времени был уже известным киноактером), мне дали роль Секретаря суда там же, в «Воскресении». Мне очень нравилась эта маленькая роль — ведь именно секретарь объяснял, что Катюшу Маслову осудили неправильно. Он говорил одному из присяжных: «Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Ей предстояло одно из двух: или почти оправдание, или каторга. Середины нет. Вот если бы вы к словам «да, виновна» прибавили «но без намерения лишить жизни», то Маслова была бы оправдана!» На это старшина присяжных отвечал: «Но ведь мы все так решили!» и добавлял: «Да, решили, но не подумали…»
Но вторая «маленькая роль» меня тогда угнетала и утомляла. Гениальная пьеса А.Н. Островского, гениальный спектакль К.С. Станиславского — «Горячее сердце». В одной из картин я играл одного из мешан. Мы стояли в толпе перед крыльцом Градобоева, которого после М.М.Тарханова играл М.М. Яншин. Градобоев объяснял, обращаясь к собравшимся: «До Бога высоко, до царя далеко, а я близко. Как мне вас судить: по душе или по закону?..» Кричал: «Сидоренко, вынеси законы! Законов вон у меня сколько!..» Мещане хором в ужасе отвечали: «Нет, нет, помилуй Бог, суди нас по душе…» Потом нас переодевали для ролей лакеев в сцене «На даче Хлынова», которого после И.М. Москвина играл А.Н. Грибов. И вот в сцене «В лесу» Хлынова развлекали тем, что нас, лакеев, переодевали в разные театральные костюмы и мы должны были изображать разбойников. Эти «разбойники» поймали приказчика Наркиса, напоили его, и он в ужасе спрашивал: «Вы разбойники? Грабите? Ну что ж, наш народ простой, смирный, можно его грабить, он смирный…» Так вот, в этой сцене участвовала… «Лошадь». И хотя в программке не было написано, кто «исполнители роли Лошади», но за кулисами был вывешен состав исполнителей. «Лошадь»: голова — А. Покровский, туловище — В.Давыдов (дважды лауреат Сталинской премии. —
В.Д.) — хвост — В. Трошин (лауреат Сталинской премии. —
В.Д.)… Конечно, у многих такая «демократичность» и верность завету Станиславского «нет маленьких ролей» вызывали радостную улыбку удовлетворения… Надо сказать, что нашелся в театре один «сердобольный» человек, который посоветовал мне: «Это же не только ваше унижение, но и оскорбление имени товарища Сталина. Ты напиши ему об этом. Пусть он узнает, как издеваются над известным киноартистом, он же видел тебя в кино». Но, конечно, я этого не сделал. А, как позже выяснилось, именно этот «советчик» написал донос на артиста Юрия Эрнестовича Кольцова, который был арестован в 1937 году…
Конечно, все эти годы я играл в спектаклях и на современную тему. Это и инсценировка романа «От всего сердца» — «Вторая любовь» Елизара Мальцева (Пупко), за которую я получил вторую Сталинскую премию. Играл там фронтовика, вернувшегося в родной колхоз, где у него возник с женой-звеньевой конфликт… из-за трактора. Это и «Заговор обреченных» Н. Вирты, и «Разлом» Б. Лавренева, и злосчастная «Зеленая улица» А. Сурова, куда меня ввели на роль передовика, машиниста Алексея, главного героя пьесы. Это и «Ангел-хранитель из Небраски» Д. Якобсона, после премьеры которого даже не открыли занавес, потому что не было аплодисментов (спектакль прошел 17 раз…). Это и «Чужая тень» К. Симонова, и «Залп "Авроры"» М. Большинцова и М. Чиаурели — там я играл белого полковника вместе с М. Болдуманом, и «Забытый друг» А. Салынского, и «Третья Патетическая» Н. Погодина, где мы с Ю. Пузыревым играли соратников Ленина. И «Все остается людям» С. Алешина — тут я сыграл уже отрицательную роль Морозова. К сожалению, в инсценировке романа моего друга Даниила Гранина «Иду на грозу» не удалась мне роль Тулина. Сыграл я и роль эсэсовца Гислинга в пьесе А. Арбузова «Ночная исповедь». Кстати, сыграл ее потому, что уж очень тяготился этой ролью Борис Александрович Смирнов, говорил: «Ну как же, вот я играю Ленина и вдруг должен играть роль эсэсовца…»
До прихода в театр Ефремова я еще играл свои любимые роли.
Прежде всего, это Иван Карамазов в спектакле «Братья Карамазовы». Работа над этой ролью была для меня мучительной не только из-за сложности образа, созданного Достоевским. Несмотря на многочисленные интереснейшие репетиции с Б.Н. Ливановым — автором инсценировки и режиссером-постановщиком, мне так и не удалось сыграть с первым составом: на роль Ивана вместо меня неожиданно ввели другого артиста. Здесь, как и в «Школе злословия», возникла проблема возрастной несовместимости… Кстати, этот актер, как и Б. Смирнов, первый исполнитель роли Ивана, играл в театре Ленина… Я решил, что уже никогда не дадут мне играть Ивана Карамазова. Но в 1966 году, через шесть лет после премьеры, я все же окунулся в бездонный мир Федора Михайловича Достоевского.
В сцене с братом Алешей Иван резко заявлял: «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, а я мира, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять!» И дальше был душераздирающий монолог Ивана о растерзанном псами мальчике… Когда я с гневом произносил этот монолог, то всегда думал о безвинно осужденных, замученных и расстрелянных в нашей стране во времена «культа личности», перед которыми вина тоже не искуплена, а «она должна быть искуплена, иначе не может быть гармонии…»
В каждой роли я пытался выразить то, что меня волновало, то, что я находил, «открывал» в своей душе и в своей жизни. В каждой! Всегда!.. А если не находил — тогда я просто произносил слова роли, «играл», не испытывая от этого радости, просто «работал». Это было мне не интересно, а порой мучительно — так было во «Второй любви», так было и в 10-ой картине «Братьев Карамазовых». Я все
изображал, насильно повторяя рисунок роли первого исполнителя. Меня на это тянул и Ливанов. Ужасно стыдно и противно! Зато в сцене «Суда», которую я мало репетировал, я в сумасшедшем монологе Ивана Карамазова отводил свою душу и был свободен, как птица в полете…
Так же свободно и с увлечением я репетировал и играл Николая I в «Медной бабушке» и мою последнюю любимую роль австрийского императора Иосифа II в «Амадее», которого я играю почти 20 лет!
И до сих пор крайне неприятно вспоминать, как в 1961 году был введен на роль Барона в спектакль «На дне». Эту роль мне дали потому, что в одном из студийных капустников я пародировал В.И. Качалова-Барона. И Василий Иванович даже просил меня показать ему эту пародию, когда я пришел к нему. И одобрил мою смелость… Но в роли я не нашел ничего своего, а так всегда и играл пародию. Стыдно.
Зато радостной была для меня и моих товарищей работа с нашим однокурсником, режиссером Виктором Монюковым. Он ставил спектакль по пьесе чехословацкого драматурга Павла Когоута. Эту пьесу принес в театр я. А мне ее дат сам автор, с которым я познакомился на съемках в Чехословакии. Пьеса первоначально называлась «Третья сестра». Для МХАТа, где постоянно в репертуаре присутствовали «Три сестры», такое название было невозможным. И я, с согласия автора, предложил назвать пьесу «Дом, где мы родились». Так она и известна зрителям. Ее перевел В. Савицкий. Монюков удачно распределил роли. Началась интересная, дружная работа. Декорации были сделаны художником Э. Стенбергом, музыку написал композитор Э. Колмановский, а текст песен — поэт Ю. Айхенвальд.
Почти во всех ролях этого спектакля были заняты актеры нашего поколения. Вместе с нами в нем участвовали В.Я. Станицын, А.П. Зуева и И.П. Гошева.
Надо сказать, работа то и дело осложнялась целым рядом политических недоразумений. И виной тому было так называемое «неправильное поведение» автора пьесы Павла Когоута.
Вдруг начались непонятные препятствия. Директор театра А.В. Солодовников, поддерживавший эту нашу работу, намекнул, что дело не в самой пьесе, а в ее авторе. Эти сведения он получил в чехословацком посольстве в Москве. Но мы продолжали работать. И в конце сезона, летом 1962 года, решили показать спектакль заместителю министра культуры СССР Кузнецову. Но тут получилась целая детективная история, и в конце концов только случайность помогла нам заполучить замминистра на показ: за день до его отъезда в отпуск на приеме в английском посольстве я успел договориться с ним. Он пришел, посмотрел, одобрил и поддержал нас.
Пьеса П. Когоута была необычной, в какой-то степени даже новаторской. Там была роль «От автора» — он выходил на сцену и в паузах исполнял короткие куплеты, поясняющие ситуацию. Дело в том, что у всех трех сестер были разные отцы, которые появлялись по ходу пьесы. У старшей сестры Либуше (Кира Головко) отец простой рабочий, пожилой добрый человек. У средней сестры Павлы (Маргарита Анастасьева) отец оказался буржуазным дельцом и карьеристом. У младшей, Петры (Нина Гуляева) отец коммунист, парторг — его играл я. Все эти отцы представляли как бы разные этапы истории Чехословакии. И — как правда и сама совесть — появлялась на сцене за тюлем мать этих сестер; ее играла очаровательная Ирина Гошева. Там был, конечно, и добрый дядя — его играл обаятельный, с ямочками на щеках В.Я. Станицын. Была и злодейка — домохозяйка, которую играла А.П. Зуева.
Спектакль всегда шел с громадным успехом. И удивлял этим в театре наших врагов, и радовал друзей…
После премьеры мой друг режиссер Виктор Монюков подарил мне книгу Вл. И. Немировича-Данченко «Дни и годы» с такой надписью:
«Дорогой Владик! Два года совместной работы открыли для меня доселе невиданные грани и качества твоей натуры — артистические и человеческие. Ты один из лучших исполнителей и спаситель этого спектакля, ты был и внутри, и снаружи, и «между». Внутри — комиссар; снаружи — полпред; «между» — амортизатор… Но к тому же ты открылся мне как
летописец «наших дней и годов». Чтобы ты практиковался в этой области — прими на память обо мне и о наших днях и годах эту книгу как учебное пособие. Твой Виктор. 21.12.62».
В этой пьесе были такие слова: «Правда всегда побеждает, только надо ей немного помочь…» Мы были счастливы, что наша правда победила не только посольских недругов Павла Когоута, но и зрителей.
Были разные рецензии на этот спектакль. К сожалению, корифей театральной критики Ю. Юзовский написал довольно злую рецензию под названием «Всем сестрам по серьгам», иронизируя в основном над пьесой П. Когоута. Павел мне сказал, что еще когда Юзовский был в Праге, у них состоялся бурный принципиальный спор об этой пьесе. Павел Когоут был сложной, противоречивой личностью. Кстати, в некоторых пьесах отрицательным персонажам он давал имена своих недоброжелательных критиков…
Спектакль «Дом, где мы родились» шел в течение шести сезонов с неубывающим успехом. И был снят после известных политических потрясений в Чехословакии в 1968 году. Павел Когоут был активным участником этих событий, подписал знаменитый манифест «2000 слов». Вскоре он эмигрировал в Австрию.
Мой однокурсник Иван Тарханов в эти же годы поставил пьесу Ибсена «Кукольный дом». В ней играли две самые талантливые наши однокурсницы: Валентина Калинина — Нора и Евгения Ханаева — фру Линне. Мне было интересно сыграть Крогстада не только как характерный образ, но и оправдать этого несчастного человека, который совершил преступление ради детей. Спектакль был одобрен В.Я. Станицыным; он нас поздравил с успехом, а мне сказал: «Ты сыграл эту роль как настоящий мастер».
В этом спектакле трагическую роль доктора Ранка играл удивительный актер Ю.Э. Кольцов (я о нем уже упоминал). У него всегда в глазах таилась какая-то грусть — и в жизни, и на сцене. Он страдал болезнью Паркинсона, у него была поэтому несколько затруднена речь. Но во всех ролях, которые он сыграл, вернувшись после ареста и ссылки в 1956 году в МХАТ, он был необычен и интересен. Особенно неожиданно он сыграл роль Михалевича в «Дворянском гнезде». У него это был восторженный идеалист-фанатик. И каждый раз его уход со сцены сопровождался аплодисментами зала. С таким же успехом он прочел для всей труппы фельетон А.П. Чехова «В Москве»: «Я московский Гамлет…» — в юбилейные дни писателя в 1960 году. Я его однажды спросил: знает ли он причину своего ареста? «Да, мне показали мое «дело» и даже посоветовали подать в суд на этого подлеца, но я отказался, ведь я знал его как приличного человека». Он как-то тихо и незаметно ушел из жизни, так же, как и в 1937 году из МХАТа…
Похожая судьба была и у М.М. Названова, и у З.Г. Тобольцева (Цильмана). Последний мне сказал: «Когда мне объявили приговор — десять лет тюрьмы, то я обрадовался». — «Почему, Зяма?» — «А я был рад, что не двадцать пять»… А у трех директоров МХАТа в те страшные годы судьба оказалась более трагичной — их расстреляли… Режиссер Л.В. Варпаховский, который вернулся из многолетней ссылки, рассказывал страшные истории из этой «жизни»…
Очень интересной оказалась для меня работа с этим режиссером. Он сперва поставил в МХАТе пьесу М.Ф. Шатрова «Шестое июля», а потом — «Дни Турбиных» М.А. Булгакова.
В «Шестом июля» интереснейшее сценическое решение было предложено художником В.Я. Ворошиловым (потом он почему-то долгие годы был ведущим программы «Что? Где? Когда?»). У меня роль Подвойского была небольшая. Но Варпаховский объяснял актерам, участвовавшим в спектакле, что, мол, тут ролей нет, а «важно успеть попасть на свой номер», потому что сценический круг вращался, меняя картины, и надо было успеть в свою декорацию…
Вторая работа Варпаховского в МХАТе, «Дни Турбиных», смогла состояться, потому что в театре решили не возобновлять старый спектакль, а поставить новый. Правда, М.М. Яншин, как первый исполнитель роли Лариосика, уже поставил в пику МХАТу этот спектакль, но… на сцене Театра им. Станиславского.
Когда началась эта работа, то Л.В. Варпаховский сказал всем участникам: «Мне здесь делать нечего, роли хорошие, давайте просто сами работайте»… Обычно он приходил, раскладывал бумаги, в которых расписывал мизансцены. И вот однажды он эти бумаги забыл дома. Растерялся и… отменил репетицию…
Спектакль не имел такого успеха, как тот, что был поставлен И.Я. Судаковым в 1926 году. Но драматургия его столь обаятельна, что интерес к спектаклю все-таки был, и на сцене МХАТа он прошел более 600 раз. (Правда, судаковская постановка «Дней Турбиных» за 15 лет, с перерывами в 1–2 года, прошла около тысячи раз и, если бы декорации спектакля не сгорели в первые дни войны на гастролях в Минске, то шел бы и дальше с тем же наверняка успехом).
На роль Алексея Турбина был назначен Олег Стриженов, на роль Елены — Татьяна Доронина. Но по каким-то причинам они эти роли так и не играли. Вообще же спектакль целиком состоял из актеров нашего, третьего поколения. Я с интересом работал над образом полковника Тальберга. Роль мерзкая и резко отрицательная, но я всегда старался оправдать персонажи, которые играл. Мне и в Тальберге хотелось найти свою правду. Мне рассказывали, что, когда спектакль смотрел «примкнувший» член Политбюро ЦК КПСС Шепилов, то он все время спрашивал: «А кто играет Тальберга?» Он не узнал меня, хотя я изменил внешность только тем, что наклеил усы и надел пенсне… После премьеры позвонил мне Л.В. Варпаховский, мы поздравили друг друга. Он заявил: «Вас я особенно поздравляю: мне говорят, что вы играете в этом спектакле первым номером». Я спросил: «Это хорошо или плохо?» И услышал в ответ: «Для спектакля — плохо, а для вас хорошо»… Вот, бывает и так…
О чем я вспоминаю только с радостью — это, конечно, о ролях в чеховских пьесах. Особенно любил и люблю «Три сестры» — «евангелие русской жизни», — так я называю эту пьесу. Там, у Чехова — все о нашей жизни: и о неудачной любви, и о несчастливых судьбах, и о красоте русской природы, и о нелепостях русской действительности. А еще о вере в то, что люди, которые будут жить после нас, помянут нас добрым словом… и что счастье будет, если не у нас, то у наших далеких потомков, а мы должны только работать и работать… Да все там есть, чем мы сейчас живем. И хотя этой пьесе уже 100 лет, но зрители по-прежнему с напряженным вниманием следят за развитием сюжета и вслушиваются в поэтический текст Чехова…
Когда в 1957 году было решено спектакль, поставленный Вл. И. Немировичем-Данченко, «омолодить», то предполагалось, что мне дадут роль Соленого, потому что И.М. Раевский, увидев меня в роли Тальберга, сказал: «Все-таки ты наиболее интересен в характерных ролях».
Однако Соленого я так и не сыграл. Дело в том, что этот молодежный состав готовился для заграничных гастролей, куда я не попал (тогда я был еще «невыездной»).
Но об этом дальше. Ну, а по возвращении из-за рубежа И.М. Раевский мне заявил следующее: «Все! Я решил, что ты все-таки должен играть Вершинина!»… Я довольно долго репетировал с ним эту роль. И только через 10 лет, в 1968 году, опять же перед гастролями театра (в Японии) я сыграл в «Трех сестрах», но уже роль… Кулыгина. А Вершинина стал играть Леонид Губанов… Роль Кулыгина, видимо, была моей удачей. Меня все поздравляли, а В.Я. Виленкин даже сказал мне: «Вы выиграли сто тысяч, это ваше настоящее создание, и хорошо, что вы сыграли эту роль, а не Вершинина, в которой вы были бы просто еще одним красивым военным и только…»
Я играл эту роль с упоением — я очень ее любил. Особенно когда Машу играла Татьяна Доронина. Она была одной из самых моих любимых партнерш. Когда она в 4-м акте, только что простившись с Вершининым, рыдала, на сцену выходил я — Кулыгин и утешал ее, говорил: «…Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было… Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова, ни намека…» А она смотрела на меня такими зареванными, страдающими глазами, что и я не мог сдержать слез…
С радостью я играл с Татьяной Дорониной — Настенкой и в пьесе М. Горького «На дне» (хотя и считаю роль Барона неудавшейся).
В 1983 году в чеховской «Чайке», поставленной О. Ефремовым, я так же неожиданно получил роль старика Сорина; это произошло после смерти исполнителя этой роли А.А. Попова.
Но вовсе полной неожиданностью стало для меня предложение О. Ефремова через 9 лет сыграть в его «Чайке»… доктора Дорна. Он мне сказал тогда: «Ведь эта роль тебе «влиста», тебе ничего не надо играть. Как говорил Станиславский, бывает полное совпадение актера с ролью…» (Кстати, хочу пояснить читателю: профессиональное актерское выражение «влиста» как раз и означает такое полное совпадение. —
В.Д.)
Роль Дорна я играю до сих пор. Но если в первый раз, когда я играл, меня смущало, что ему 55 лет, а мне 45, то теперь меня смущает, что мне 79 лет, а Дорну по-прежнему 55…
В свое время я сказал Олегу Ефремову: «Не лучше ли мне опять играть Сорина вместе со Славой Невинным?» Но этот мой вопрос так и повис в воздухе.
Когда Художественный театр после смерти Ефремова в 2000 году возглавил Олег Табаков, он заявил, что «Чайка» в постановке Ефремова, как один из его лучших чеховских спектаклей, должна остаться на сцене МХАТа, но… в обновленном составе. Мне он сказал: «Ты должен играть Дорна, ты хорошо играешь и хорошо выглядишь». И по-прежнему Слава Невинный играет Сорина, а я — Дорна. Аркадину же стала играть Ирина Мирошниченко, мою партнершу Полину Андреевну — Наталья Егорова, а Треплева — Евгений Миронов. Да и на остальные роли были введены новые исполнители.
Однажды в 1969 году, когда я играл Дорна в «Чайке», поставленной Б.Н. Ливановым, мне в антракте стало плохо с сердцем. Наш актер Николай Алексеев, игравший в этом спектакле роль Медведенко, решил мне помочь и дал таблетку нитроглицерина, который я никогда не принимал. И вдруг мне стало так плохо, что я не смог выйти на сцену и играть 4-й акт. А Галикс Колчицкий, игравший Сорина, позвонил ко мне домой и решил «подготовить» мою жену Марго «к самому худшему варианту»… Вызвали врача, мне вкатили какой-то укол, но на сцену врач меня не пустил. Я лежал на диване и услышал, что 4-й акт начали… Потом меня на «скорой» повезли в больницу, но я потребовал, чтобы отвезли домой. Когда кончился спектакль, мне позвонил Коля Алексеев и сообщил (чтоб я не волновался!), что финальный текст Дорна — «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился…» — сказал он, Коля, в роли Медведенко… Я на это ему ответил: «Ах, вот зачем ты мне дал нитроглицерин!»…
И еще об одной роли в чеховском спектакле.
В 1955 году на гастролях в Греции, в городе Салоники, мы играли пьесу А.П. Чехова «Дядя Ваня». Олег Ефремов — Астрова, я — Серебрякова. Надо сказать, что об этой роли я мечтал еще в то время, когда в МХАТе шел «Дядя Ваня» в постановке М.Н. Кедрова. Но тогда мне сказали, что я слишком молод. И вот теперь в ефремовской постановке я уже семь лет играл Серебрякова.
Перед началом гастролей Ефремов собрал всех исполнителей и сказал: «Нам надо учесть, что в связи с тем, как Владлен трактует Серебрякова, акценты в этом спектакле изменились…» Да, я стремился, играя Серебрякова, если и не оправдать его, то во всяком случае, отстаивать его правоту. Правда, в тексте А.П. Чехова уже в 1-м акте Серебрякова осуждают за то, что он «пишет и говорит об искусстве, ничего не понимая в искусстве». Но ведь это слова дяди Вани, которому Астров говорит: «Ну, ты, кажется, завидуешь?» И Войницкий (дядя Ваня) отвечает: «Да, завидую! А какой успех у женщин! Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха!..» Поэтому на репетициях Олег Николаевич мне говорил: «А ты играй Василия Ивановича Качалова. И грим сделай такой…»
В Салониках на спектакле «Дядя Ваня» О. Ефремов мне сказал: «Зайди ко мне в антракте». И в присутствии директора театра и заведующей труппой спросил меня: «Ты играл роль Вершинина в прежней постановке «Трех сестер»?» Я ответил: «Нет. Я довольно долго репетировал с Иосифом Моисеевичем Раевским, но сыграть мне так и не дали». «Как только вернемся в Москву, я буду начинать новую постановку «Трех сестер», — сказал Ефремов. — Я хочу, чтобы в моем спектакле ты сыграл Вершинина». На это я ему ответил: «Знаешь, Олег, когда в сороковом году Немирович-Данченко выпустил свой легендарный спектакль «Три сестры», то он буквально за две недели до премьеры отстранил от этой роли шестидесятипятилетнего великого Василия Качалова и передал ее сорокадвухлетнему Болдуману, который ее репетировал вместе с Качаловым. Хотя Качалов за два года до этого сыграл Чацкого в «Горе от ума»… Но это была гастроль для великого артиста, сделанная для него тем же Немировичем-Данченко. А мне, Олег, сейчас семьдесят один год, поздно мне играть Вершинина. Но я очень люблю эту пьесу и готов в ней сыграть любую роль. Даже роль Ферапонта»… И он мне дал Ферапонта…
Я задумал сыграть эту роль не так, как ее всегда играли — древний, глухой старик… Мне хотелось показать бывшего солдата, с Георгиевским крестом и со своим философским взглядом на жизнь. Помните, как Андрей после своего длинного монолога — мечты о Москве спрашивал Ферапонта: «А ты бывал в Москве?», и тот отвечал: «Не-е-ет, не был!.. Не привел Бог!»? Мой Ферапонт отвечал с ужасом и мелко-мелко крестился… Так мною была решена моя последняя роль в чеховских пьесах.
Правда, еще раньше, в 1987 году, я сыграл Лебедева в пьесе А.П. Чехова «Иванов» в постановке Ефремова. Это тоже был ввод. А в 1976 году, когда Ефремов начинал эту работу, то сказал мне: «Вот, ты хотел получить роль Лебедева, но ведь ты сейчас получил роль «Двоеточия» в «Дачниках» Горького…» И это единственная роль в пьесах М. Горького, которую я после серьезной работы с режиссером В.Н. Солюком сыграл тогда на премьере, а не как ввод. И снова мне говорили в театре, что «не ожидали», что я
так сыграю эту роль… Наверное, не зря М.Н. Кедров говорил: «А ведь вы, Владлен, еще не до конца раскрылись как актер…» Думаю, это потому, что я редко играл хорошие роли в
премьерах, а в основном это были
вводы в старые спектакли.
Мне довелось играть во всех пьесах М. Горького, которые шли на сценах МХАТа в эти годы. Это и Николай Скроботов в пьесе «Враги», где его реплику: «Вместо лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" надо произносить: "Культурные люди всех стран, соединяйтесь!"» — всегда принимали под аплодисменты.
Но больше всего я любил играть Ивана Коломийцева в пьесе «Последние» в постановке Ефремова. И хотя это тоже был ввод, но до этого я долго репетировал со всеми исполнителями и сыграл сразу после премьеры. В этой роли я был абсолютно свободен и с радостью импровизировал и даже хулиганил… Конечно, М. Горький, как и А.П. Чехов, великий драматург русского театра. Они как драматурги состоялись именно в Художественном театре, при самом активном участии Вл. И. Немировича-Данченко — оба это признавали. А.П. Чехов подарил Вл. И. Немировичу-Данченко медальон с такой надписью: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо». А М. Горький на экземпляре своей пьесы «На дне» написал Немировичу-Данченко: «Половиною успеха этой пьесы я обязан Вам — товарищ».
Первая «заграница»
Моя первая «заграница» была в 1947 году, когда я после окончания Школы-Студии получил путевку в дом отдыха «Рабис» в Дзинтари на Рижском взморье. Я влюбился в Ригу, особенно в старую Ригу… И фантазировал, какая тут была раньше жизнь. Остатки ее я еще застал — в Майори было частное кафе, где обаятельная мадам Моника пекла вкусные пирожки и пирожные. Здесь легко можно было представить Ригу до войны. Ведь в 1940 году, после «добровольного присоединения» Латвии к СССР, туда ездили наши артисты, как за границу. А еще раньше, в 1930-е годы Василий Иванович Качалов играл в Русском театре в Кемери Несчастливцева в «Лесе», и у меня есть его фотографии в этой роли и открытки, где он запечатлен абсолютным иностранцем, и даже с усиками… Я покупал такие фотографии на рынке в Риге.
Так получилось, что наш благодетель директор МХАТа В.Е. Месхетели не только предоставил нам с Юрой Ларионовым (тогда он был еще Касперович) путевки в дом отдыха «Рабис», но и после этого устроил нас на питание в Майори, в доме отдыха «Чайка», и поселил рядом на даче.
На этой даче у нас с Юрой были две комнатки с балконом на втором этаже. А внизу, под окнами, у хозяев стояла корова в хлеву. Она с раннего утра мычала, и немецкая овчарка, которая охраняла дом, тут же начинала рычать и лаять… Так повторялось каждое утро, и мы ужасно не высыпались. Ведь мы ложились поздно, а уже в пять часов утра начинался этот дикий «концерт». Тогда мы стали принимать снотворные таблетки, но и это не помогло. И мы решили, что лучше давать снотворное собаке… Теперь она уже не лаяла, а тихо скулила по утрам, и мы нормально спали.
Мы с Юрой часто приходили к Месхетели на дачу, где он жил со своей семьей — женой, балериной Большого театра, Ядвигой Сангович и маленьким сыном. Там же, на этой даче жила секретарь Немировича-Данченко Ольга Сергеевна Бокшанская (родная сестра Елены Сергеевны Булгаковой) умнейшая женщина. То, что она видела и рассказывала о жизни театра за почти тридцатилетнее свое служение в нем, было не менее интересно, чем книги о МХАТе. А еще в том же домике жил знаменитый художник театра Владимир Владимирович Дмитриев со своей красивой женой Мариной.
И беседы после ужина во дворе этой дачи были первыми откровениями о таинственной тогда для нас жизни МХАТа. То, как Месхетели и все остальные относились к нашей Школе-Студии и к нам, первым студийцам, делало нас счастливыми. Вот это отношение — не покровительственное, но внимательное и заботливое — окрыляло нас всех в студийные годы. А в 1951 году, когда у нас с Марго родился сын Андрей, В.Е. Месхетели прислал нам трогательную телеграмму.
С Юрой мы тогда совершали интереснейшие экскурсии по Риге. Залезали в заброшенные лютеранские башни и оттуда осматривали весь город. А однажды нашли там целый клад — пачку довоенных латвийских денег.
И вообще, все здесь напоминало о прошлом, как и в Ленинграде — он ведь тоже, по сути, европейский город… Но Рига — это была моя первая встреча с Европой. И так случилось, что и на следующий год я приехал в Ригу — на съемки своего первого фильма «Встреча на Эльбе». Съемки шли в старом городе, у Домского собора, на разрушенной площади. А в 1950 году мы с Марго поехали в дом отдыха «Рабис», а потом жили на даче у моего двоюродного брата Леонида Семеновича Баранова, который тогда работал в редакции «Правды». Это были счастливые дни нашего медового месяца. В это же время в Майори снимал дачу Александр Николаевич Вертинский с семьей — своей шикарной женой Лидией Владимировной, тещей и двумя чудными дочками: Марьяной (тогда она еще звалась Бибой) и Настенькой. Александр Николаевич там в Летнем концертном зале давал свои концерты, и на них впервые были его девочки.
А потом он пригласил нас с Марго на день рождения Марьяны — ей исполнилось семь лет… Это был незабываемый день. Я впервые увидел тогда Александра Николаевича в семейной обстановке. До этого я был его гостем только в ресторане гостиницы «Астория» и здесь, в Майори, в ресторанах «Лидо» и «Корсо» — после его концертов.
Дома он был такой же обаятельный, как на сцене, но еще и бесконечно интересный рассказчик: говорил о своем друге Шаляпине, об Иване Бунине, о Сергее Рахманинове, о Шанхае, о Париже и о встрече там с палачом, и обо всех, обо всем, что он видел в своих странствиях, а если не видел, то знал или фантазировал… Ведь он объехал весь мир со своими оригинальными «ариэтками» и был для русских эмигрантов той грустной радостью, которая вызывала у них слезы о потерянной навсегда Родине…
В «Корсо» однажды произошел смешной случай. В этом громадном зале на эстраде выступал тогда, в 1950 году, эстрадный оркестр из Львова под управлением Филиппа Кеслера — он играл на скрипке и вел программу, объявлял номера. И у него была такая скверная из-за его странных зубов (хотя он был… дантист!) дикция, что иногда было непонятно, что он объявляет. Хорошо, что пел в его оркестре не он сам, а Николай Щербаков. И вот, увидев, что в зале за одним из столов сидит Вертинский со своей компанией (мы с Марго и Юра), он вдруг объявил:
— В шэсть находящегося в нашэм зале корифэя гудской эстрадэ Александра Вегтинского исполняем его пэсню…
А когда Коля Щербаков запел, Александр Николаевич, не меняя выражения лица, наливая вино в бокалы, зло процедил:
— Болван — это же Лещенко!
Потом Филипп Кеслер, видимо, ожидая похвалы, подошел к нашему столу, и Александр Николаевич ему резко сказал:
— Я послал вашему оркестру шампанское. Выпейте за здоровье Лещенко!
У Александра Николаевича было великолепное чувство юмора. И он любил рассказывать всякие истории и про себя, и про своих друзей.
— Александр Николаевич, а почему у вас сегодня нет Брохеса?
— А у Мишки семейная радость — к его даме приехал муж.
А про Ливанова он иронически говорил:
— У Борьки Ливанова небольшой роман — он влюблен в себя и пользуется взаимностью…
Порой в таких застольях, когда Александр Николаевич очень уж увлекался в своих рассказах или повторялся, Миша Брохес тихо говорил нам:
— Старик свистит…
Но их творческая связь была уникальна, и любовь и преданность Брохеса Вертинскому была удивительна. Видимо, Вертинский стал для Миши его вторым «я». Наверное, именно поэтому после смерти Александра Николаевича он так часто в кругу поклонников Вертинского напевал его песенки… тихо и слегка грассируя…
И вообще, все эти застольные встречи были так же неповторимы, как концерты Вертинского, а я бывал на его концертах раз десять и знал его репертуар наизусть — ведь еще в Студии в 1944 году мы переписывали его тексты. А я даже (это без слуха-то!) иногда для себя пел и «Желтый ангел», и «Матросы», и «Прощальный ужин». И, что было странным даже для меня самого, попадал в их мелодию. Должно быть, так врезались они мне в душу. Недаром мой товарищ по Студии Костя Градополов мне говорил:
— Владлен, у тебя есть слух, но только ты им редко пользуешься…
А вот в случае с песнями Вертинского я, видимо, все-таки «пользовался» своим слухом…
И еще об А.Н. Вертинском.
Мы с Марго и в Москве ходили на его концерты и бывали в его гостеприимном доме. А когда у нас родился сын Андрей, Александр Николаевич прислал в подарок для него пеленки и ползунки. А потом подарил нам свою фотографию с такой надписью:
«Владлену Давыдову — моему юному другу. Желаю Вам, дорогой Владлен — простого человеческого счастья. У вас хорошая жена Маргоша, чудесный сын Андрей и все впереди. А это уже очень много — молодость! Вы — талантливый молодой актер, и все зависит от Вас самого. На нашей чудесной Родине — будущие люди — коммунизма должны быть прекрасными и светлыми! Будьте таким! Ваш всегда Александр Вертинский».
Ну, а первая настоящая заграничная поездка у меня была в 1955 году. После моего участия в двух фильмах, где я играл наших советских офицеров («Встреча на Эльбе» и «Застава в горах»), меня в театре почти всегда включали во вес военно-шефские концерты. И в 1955 году весь МХАТ уехал на гастроли в Свердловск, а я попал в такую же военно-шефскую бригаду в Прибалтике, и меня уже сделали бригадиром. Мы объехали все военные базы и части, начиная с Латвии и кончая Порткала-Удд, где после войны на территории Финляндии была военно-морская база наших войск. Эту территорию финны называли «самым длинным тоннелем в Европе», так как поезда по ней неслись с плотно зашторенными окнами…
Тогда я впервые увидел каменную красоту Финляндии и ее неожиданные озера. И было непонятно, зачем зашторивать окна в поездах — ведь, кроме этой красоты, ничего в них нельзя было увидеть…
— Наша задача — как можно глубже уйти под камни, — говорили нам военные, перед которыми мы тогда выступали.
А Марго ездила с МХАТом на гастроли в Свердловск.
После успешной поездки в Прибалтику нас направили в ГДР — тоже на шефские концерты по «частям Военной группировки советских войск в ГДР». Бригаду эту подкрепили такими артистами, как Майя Плисецкая, Ирина Масленникова, Надежда Капустина, Борис Борисов, Александр Бегак и Алик Плисецкий — из Большого театра. А из мхатовцев поехали В.Д. Бендина, И.П. Гошева, M B. Анастасьева, Т.П. Махова, С.Г. Яров, М.П. Щербинина и мхатовский квартет из вокальной части театра с концертмейстером Евгенией Смирновой. Наша актриса Татьяна Махова хорошо знала немецкий язык и была в этой поездке просто незаменима — ведь у нас были концерты и для немцев.
Мы с Марго там играли сцену из «Правда хорошо, а счастье лучше». Ее тогда играли многие молодые артисты. Режиссером у нас был Владимир Петрович Баталов (отец известного киноартиста Алексея и брат знаменитого Николая Баталова). Владимир Петрович порой очень увлекался этой своей ролью и был не только строг, но и очень требователен; пожалуй, только со мной, как с бригадиром, он был доверительно либерален.
Эта поездка перевернула все мое представление о побежденной Германии. Мы тогда объехали всю советскую оккупационную зону, которая в 1949 году стала называться ГДР. После войны прошло 10 лет. У нас в стране еще оставались «послевоенные трудности». Вот почему одним из самых сильных впечатлений для меня оказалось посещение военторга в Вюнсдорфе, где находилась наша постоянная база. Такого обилия товаров, даже в хозяйственных отделах, не говоря уже о мануфактуре, я еще никогда не видел. А Марго мне сказала:
— Ты пойди в город и там зайди в магазин — упадешь в обморок…
Конечно, было обидно и стыдно за то, что мы живем хуже немцев, которых победили в 1945 году. Почему? В чем дело? За что этот позор? Когда я вернулся из ГДР в Москву и появился в театре, одетый с ног до головы во все «заграничное», Б. Ливанов сказал:
— Вы посмотрите, как разгромленные немцы одели Давыдова, который играл в кино советского офицера-победителя!..
Это был грустный юмор. А мы с Марго, действительно, смогли купить много вещей, так как у нас было еще несколько платных концертов и для немцев, и для фирмы «Висмут».
Нашу программу в воинских частях принимали всегда с восторгом. Она действительно была и разнообразна, и интересна. Мы тогда побывали в таких городах, как Дрезден, Потсдам, Карл-Маркс-Штадт (бывший Хемниц) и попутно побывали в парке Сан-Суси и в Веймаре с его уникальными Хаус-Музеями Гёте и Шиллера. Ужасное впечатление на меня произвел мертвый Цвингер — дворцовый ансамбль, где прежде была знаменитая Дрезденская галерея. Сокровища Дрезденской галереи я увидел в мае в Москве, их тогда перед возвращением немцам показали в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. И «Мадонна» Рафаэля ошеломила всех своей божественной чистотой и воздушностью…
А теперь разрушенная красота Дрездена наводила на грустные размышления. Такие же разрушения я увидел в 1948 году в Кенигсберге во время съемок «Встречи на Эльбе». Но вид разбитого Дрезденского театра с его оголенным залом забыть я до сих пор не могу. И хотя прошло десять лет после той жуткой американской бомбежки, но следы оставались. Вокруг Берлина тогда не было еще глухой бетонной стены, переезды из зоны в зону были связаны с тщательной проверкой на всех дорогах.
Наши концерты имели большой успех и у немцев. Татьяна Махова перед каждым номером на немецком языке объясняла смысл драматических сцен. И, что меня тогда буквально потрясло, — это то, как восторженно принимали немцы нашу талантливейшую актрису Веру Дмитриевну Бендину, когда она читала монолог Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя. Ну, а о вокальных номерах и о выступлении прима-балерины Майи Плисецкой я уж и не говорю — они везде проходили на «ура».
И вот, когда мы были на юге ГДР, ночью мне позвонили и приказали (!) немедленно приехать в Берлин. Что такое? Почему? Зачем? У нас ведь другой маршрут. Но когда мы срочно примчались через всю Германию в Берлин, то узнали, что сюда из Женевы приехали Н.С. Хрущев и Н.А. Булганин со своей свитой. И мы приняли участие в концерте в Вюнсдорфе, где Хрущев и Булганин устроили прием для командующих нашими войсками.
В большом зале за столами сидело множество военных в самых высоких чинах. Нами распоряжался заместитель командующего по политчасти. Вел этот концерт В. Баталов. Через два-три номера, когда он объявил меня, я вышел на эстраду и… раздалась буря аплодисментов. Я возгордился — вот, мол, как меня знают и встречают военные! Но… Только я хотел объявить стихи о солдате «с девочкой немецкой на руках», как увидел испуганное лицо генерала, который махал мне руками, чтобы я ушел со сцены. В чем дело? Что такое? И вдруг я все понял: из-за стола перед сценой встал Н.С. Хрущев и собрался произносить речь — это. ему были адресованы бурные аплодисменты возбужденного зала…
Я впервые тогда услышал «живую» речь Хрущева. Он говорил громко, резко, откровенно рассказывал, что было на переговорах в Женеве и что СССР выиграл от восстановления отношений с Югославией Тито. «Разве это не победа, что все армии Югославии будут теперь с нами, а не против нас?»
После приема в Вюнсдорфе нашу бригаду снова отвезли в Берлин. Там в нашем посольстве готовился новый прием — с участием руководителей партии и правительства ГДР. Ну, и почти всю нашу бригаду посол ТА. Пушкин пригласил для выступления. Мы приехали на Унтер ден Линден в наше посольство, построенное на месте резиденции Гитлера, которая была разгромлена до основания в 1945 году.
Концерт прошел прекрасно. Потом нас пригласили в зал, где стояли столы с закусками и винами. Тут вскоре появились Хрущев, Булганин и вся их свита и, конечно, командующий советскими войсками, находящимися на территории ГДР, маршал А. Гречко. Он особенно тепло благодарил всю нашу бригаду и бригадира и сказал:
— Мы хотим сделать вам ценные подарки.
Опекавший нас генерал повел меня на склад военторга, и я по списку выбрал для всей бригады подарки — кому часы, кому парфюмерию и т. п. Все были довольны. Только М. Плисецкая пожаловалась, что у нее часы не ходят, и попросила их обменять, но «на такие, как у Масленниковой»… На это мне потом генерал сказал:
— Масленниковой часы подарил лично сам Гречко. А я всем часы дал новенькие…
Одним словом, Гречко был очень добр и внимателен ко всем нам. А Н.А. Булганин, поздоровавшись со мной, представил меня Хрущеву, который удивил меня своим вопросом:
— А где мы с вами еще встречались? Знакомое у вас лицо…
На это Булганин ему сказал:
— На
Эльбе, на Эльбе вы с ним встречались!
— А я на Эльбе не был.
— Да нет в кино, в фильме…
Мне было приятно, что Булганин меня помнил по этому фильму, ведь он прошел по экранам уже пять лет назад. Но тут, наверное, сказалось влияние его дочери Веры и жены, которая приглашала меня с выступлениями в школу, где она директорствовала, а Вера училась. Это была особенная школа, для детей советской элиты. А Вера была моей поклонницей. После этого выступления наш артист А., у которого там училась дочь, сказал мне: «Не упускайте шанса, это ведь дочь Булганина». Но я не интересовался такими «шансами», хотя их у меня было в ту пору очень много…
После беседы с Хрущевым Гречко пригласил нас в отдельную комнату, где был накрыт шикарный стол и за ним сидели Отто Гротеволь, Вальтер Ульбрихт, Отто Нушке и, конечно, Хрущев, Булганин, Гречко, Пушкин и нас. артистов, было пять человек.
Я впервые сидел за таким столом и в таком обществе. И потому с интересом следил за всеми и слушал внимательно все речи. Меня тогда поразило, как Хрущев их комментировал, а Булганина все время поддевал репликами: «Ты же говорил, что после Женевы бросишь курить, а сам и куришь, и пьешь еще больше». А Булганин явно был уже пьяненький и все время бросал многозначительные взгляды на наших актрис… И два их порученца тоже ухаживали за нашими дамами еще на приеме в Вюнсдорфе. И когда один из них очень уж был мил с Марго, она ему сказала: У меня ведь муж есть.
А он ответил:
— Он же далеко.
— Да нет, вот он, садит за тем столом…
И тогда этот порученец Булганина быстро отсел от нее за другой стол…
Ну, а тут, в этой интимной компании за овальным столом я тоже обмишурился. Я, конечно, хорошо выпил и осмелел. Вокруг стола все время ходил какой-то небольшого росточка шустрый человек и наклонялся то к Хрущеву, то к Гречко. И когда он проходил мимо меня, я обратился к нему с вопросом:
— Нельзя ли тут достать покурить?
А он довольно зло ответил:
— Я этим не заведую!
Я позже спросил у Гречко:
— А кто этот человек?
— О-о, это генерал армии Серов, начальник КГБ.
Эту глупую историю я рассказал в театре и забыл про нее. А Николай Озеров меня вдруг спрашивает:
— Владлен, что такое, у меня на тренировке по теннису про тебя все спрашивает генерал Серов — кто ты да что ты?
Один раз он мне это сказал, потом еще… И я уже стал волноваться: действительно, что этому кагебешнику надо от меня? И наконец попросил Колю узнать у этого Серова, в чем дело. Коля расхохотался:
— Да ничего он не спрашивает, это я тебя разыгрываю. Извини, не думал, что ты мне поверишь. Ведь ты же сам рассказал, как просил у него закурить в посольстве…
Потом я был еще несколько раз и в Западной, и в Восточной Германии. Но об этом позднее.
«Без женщин жить нельзя на свете… нет!»
С детских лет я был влюбчивым мальчиком — и во дворе, и в школе, и в пионерлагере, и на даче, и даже в детском саду я влюблялся в какую-нибудь, как мне казалось, красивую девочку… И теперь с радостной грустью вспоминаю многих героинь моих детских влюбленностей… Они даже и не знали об этом — ведь я не объяснялся им в любви. Но у меня везде всегда была «дама сердца». Это было похоже на игру, но она увлекала и вызывала желание тоже понравиться и следить за своим поведением и своим внешним видом.
И порой я совершал ошибки и делал глупости, как все мы в юные годы… Но мне тогда почему-то нравились дамы старше меня. Может быть, потому, Что я в 17 лет потерял свою любимую, самую красивую женщину — маму… И мне всегда нравились женщины, похожие на нее. Она ведь была для меня и любящей мамой, и эталоном женской красоты, живой Венерой Тициана или «Ани» Ренуара.
И, как я теперь понимаю, в моей судьбе огромную роль сыграли именно женщины, начиная, конечно, с моей незабвенной и несчастной мамы. Они часто влияли на мою судьбу и даже, пожалуй, на всю мою жизнь…
Нет, конечно, и мои друзья, и многие другие люди, с которыми меня сводила жизнь, влияли на мою судьбу не меньше, и я им за это бесконечно благодарен. И всегда помню о них.
Но вспоминать и писать о женщинах, тем более о своих влюбленностях, труднее всего. Ведь тогда (если честно писать) надо и себя вывернуть наизнанку. А стоит ли, и зачем эти исповеди, эти поздние покаяния? Ведь и при жизни Пушкина его «Донжуанский список» не был опубликован. Но ведь он вел его. Значит, ему это надо было.
А вот писать с таким натурализмом и даже героизмом, как сейчас иногда пишут свои воспоминания на эту тему, мне кажется, и не надо.
Правда, я, как и все люди, а особенно мужчины, грешен, грешен, и мне нет оправдания. Бывают мимолетные романы, но бывают и романы с серьезными намерениями, которые столь же серьезно влияют порой на всю жизнь. «Любовь, только любовь, а не германская философия может объяснить нам, что делается в мире», — так сказано у Оскара Уайльда в «Идеальном муже»…
И вот, наконец, моя Маргарита…
Маргарита Анастасьева — моя Марго, — конечно, одна из прекрасных актрис нашего первого выпуска Школы-Студии. Мы вместе были на курсе М.О. Кнебель с 1943 года.
Время было тогда трудное, война в самом разгаре. Мария Осиповна создавала на занятиях какую-то домашнюю, добрую атмосферу — она старалась не учить, а осторожно, бережно вселяла в нас веру в себя, воспитывала в каждом из нас художника, сохраняя неповторимую индивидуальность.
На втором курсе другой педагог, Георгий Авдеевич Герасимов, работал с нами иначе. Он дал Марго в «Бесприданнице» роль Ларисы, а мне — Паратова. И это сразу же обязало нас стать достойными такой работы. Но для меня она оказалась мучительной по двум причинам. Во-первых, у меня тогда с Марго отношения были не совсем доброжелательными… Мы скорее не принимали, не признавали друг друга. А во-вторых, Герасимов почему-то всю нашу работу сводил к «простейшим физическим действиям» и объяснял наше поведение на… тараканах! Да, да: «Вот вылез из щели таракан… Что он делает? Поводит усиками — это он так ориентируется, а уж потом начинает действовать…» Меня злило это и удивляло: я же видел в кино, как в «Бесприданнице» играл эту роль шикарный А.П. Кторов, и вдруг все сводится к тараканам… Такими были занятия по освоению «метода физических действий».
Дальше наши творческие пути с Марго разошлись. У меня были другие партнерши — Валя Калинина в «Норе», Луиза Кошукова в «Каменном госте». И Рита Юрьева и Валя Калинина в выпускном спектакле «Бесприданница», где я играл все того же Паратова.
Но в жизни мы с Марго до сей поры остаемся «партнерами» — больше 50-ти лет.
Когда Марго случайно узнала, что Ю.М.Лужков семейным парам, которые прожили вместе 50 лет (золотой юбилей!) приказал выдать 3000 рублей, она пошла за справкой в ЗАГС, чтобы подтвердить наш с ней союз. Ей сказали, что получать эти 3000 рублей надо в собесе. И она, радостная, пришла в собес. Ей указали кабинет № 13, где выдают деньги. Сидят там в очередь люди разных возрастов, и все с печальными лицами. На двери написано: «Выдача погребальных»… Я бы назвал этот кабинет — «Любовь до гроба».
Много в нашей жизни с Марго было и смешного, и грустного, а такое было впервые. Но ведь мы актеры, и нас в таких случаях спасает юмор.
Я попросил Марго продолжить мои воспоминания и написать немного о себе.
Сама о себе
О себе — значит, и кое-что о нас. Ведь мы женаты (де-юре) уже 53 года. А знакомы почти 60 лет! Да! И это факт!
Что было? Много чего было.
Начнем вспоминать.
У нас общий временной фон, на котором проходили наше детство, юность — всевозможные лишения, трудности, война… Затем прекрасные студийные годы и, наконец, наша общая жизнь в любимом МХАТе.
Наша семейная жизнь начиналась буквально с нуля — оба бедные студенты, одна маленькая комната, один шкаф, одна тахта… Но мы молоды, нам всегда говорили, что мы очень красивая пара.
И началась наша трудная семейная жизнь. Два актера в одной берлоге. Кто кого? В результате — редкий случай в актерской жизни — прожили вот уже 53 года.
Как нам это удалось?
А вот удалось!
Владлену 25 лет — разгар его славы. Только что вышел его фильм «Встреча на Эльбе», от поклонниц нет отбоя. По улице мы ходили «под охраной» множества девиц. Жили на пятом этаже, без лифта, все стены лестничной клетки были исписаны любовными посланиями. А во дворе, под окнами, когда мы были дома, устанавливалось дежурство поклонниц. Были поклонницы и «высокопоставленные» — «правительственные» дочери, со всеми благами жизни. Так, одна из них, пока мы шли по улице, медленно ехала вдоль тротуара на черном «ЗИСе» и, открыв дверцу машины, предлагала сесть в нее. Но напрасно. Бесконечное множество телефонных звонков и писем. Писали и на театр, и домой. А некоторые просто так: «Москва, Кремль, Давыдову». Одно забавное письмо: «Москва. Малый Художественный театр. Давыдову».
В 1951 году родился наш сын Андрей. Особенно «сладкой» жизни у него не было. Мы безумно были заняты в театре. Владлен к тому же много снимался в кино. И наш любимый мальчик прозябал с какими-то бесконечно сменяющими друг друга домработницами. Когда его спрашивали: «Где мама и папа?», он отвечал: «Мама тю-тю и папа тютю».
Наконец в 1954 году при содействии Е.А. Фурцевой мы получили двухкомнатную квартиру, и назревающий бытовой кризис разрешился. Ведь мы до этого жили втроем и с домработницей в 16-метровой комнате.
Хотя мы с Владленом вместе проработали в нашем любимом театре столько лет, судьбы творческие у нас совершенно разные.
У меня вот какая.
Воистину «пути Господни неисповедимы»… В детстве, в те времена, когда в 1932 году арестовали и на моих глазах увели папу, а в 1937 году его расстреляли (о чем мы тогда еще не знали), я с упоением и восторгом пела на сцене Большого театра, выступая с пионерским хором перед товарищем Сталиным: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Я свято в это верила.
Потом было страшное военное время. Мы с мамой его пережили в Москве, никуда не уезжая.
Весной 1943 года, окончив экстерном 10-й класс, я мечтала поступить только в МХАТ, но Студии при театре тогда еще не было. И вот что произошло: можно сказать — чудо, перст судьбы. Однажды летом, проходя по проезду Художественного театра (Камергерский переулок), мимо любимого МХАТа, я вдруг увидела в витрине, где обычно вывешивают актерские фотографии, как какой-то человек по ту сторону стекла прикреплял афишу… И — о счастье! — это оказалось объявление об открытии Школы-Студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе и о первом наборе на актерский факультет — со всеми подробностями: куда и когда идти и какие документы сдавать. Радости моей не было предела. Судьба была решена.
Экзамен мы сдавали в нижнем фойе МХАТа перед всей труппой. Интерес в театре к этому событию был огромный. В приемной комиссии были Книппер-Чехова, Качалов, Тарханов, присутствовали Тарасова, Андровская, Зуева и т. д. Возглавлял комиссию Иван Михайлович Москвин, он тогда был директором театра. Как ни странно, самое счастливое событие в моей жизни — по эмоциональному накалу, по сгустку радости, — это был момент, когда после нескольких томительных дней ожидания после экзамена я увидела в самом начале списка принятых на актерский факультет свою фамилию — Анастасьева… Я летела по улице домой, как птица, чтобы сообщить эту радостную новость.
Оканчивать Студию было грустно, тайком я даже плакала. Сдавали экзамены очень торжественно, диплом подписывал В.И. Качалов — у меня диплом № 1!
По окончании Студии вместе с группой молодых актеров я была принята в МХАТ. Я скрыла, что отец был арестован, в анкете написала «умер». Первый раз в своей жизни я так крупно соврала и, как оказалось, поступила правильно: в правительственный театр меня с такими «данными» не взяли бы.
Мой отец Виктор Феликсович Анастасьев был арестован в декабре 1932 года. И нас с мамой Анной Робертовной Грегер, как членов семьи «врага народа», должны были в течение 10-дней выслать из Москвы. Но благодаря отчаянной смелости Бориса Леонидовича Пастернака нас не тронули. Он пошел на Лубянку и заявил: «Арестуйте меня, но оставьте их в Москве».
А в 1957 году, когда я уже 10 лет была актрисой МХАТа, мы с мамой получили бумаги о реабилитации отца. Потом, в 1994 году, мы узнали, что он был расстрелян в 1937 году, а не умер после болезни в 1939-м, как нам сообщили раньше.
В театре моя счастливая актерская пора началась с пьес, где главным героем был Владимир Ильич Ленин. Началась моя «Лениниана». Меня занимали в современных пьесах как обаятельную и, посмею сказать, красивую молодую актрису, и я как бы оживляла несовершенно написанные роли — «Залп "Авроры"», «Заговор обреченных», «Третья Патетическая»… Наиболее удачной и принесшей мне большой успех была роль Маши в пьесе Николая Погодина «Кремлевские куранты». С этим спектаклем я объездила многие страны. В то время мне крайне везло. Повезло, я считаю, еще и в том, что наши зарубежные гастроли проходили вскоре после победы в Великой Отечественной войне. Нас всюду принимали как победителей, буквально носили на руках. Триумф! Успех! Настроение потрясающее!
Мы отправились на гастроли в нашем, советском вагоне. На границе в Чопе поменяли колеса под другие, «западные» рельсы. И с ним, с этим вагоном, не расставались до конца гастролей. Нас повезли по всем «демократическим странам». Как сказал Александр Николаевич Вертинский, с которым мы очень были дружны, «вас повезут по задворкам Европы». Но тогда нам так не казалось. Мы впервые увидели другие страны — Румынию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию и необыкновенную по природной красоте страну Югославию. Как меняются времена! И что происходит сейчас в той же Югославии? Сколько зла…
Но тогда… Молодость! Весна, переходящая в цветущее лето, недавняя победа над фашизмом. Любимый театр! Любимая роль! Сплошное доброжелательство со стороны и населения, и театральной публики. Все было наполнено великим Добром и Любовью.
Это было прекрасно и запомнилось на всю жизнь. Спасибо судьбе!
Позднее с «Кремлевскими курантами» я побывала в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.
Но жизнь человеческая похожа на небо, на котором постоянно одни облака сменяются другими, то солнце, то дождь, а то и что похуже — всякое бывает. И вот в начале уже 70-х годов мы похоронили почти всех своих учителей, великих режиссеров, прекрасных актеров МХАТа — своих доброжелателей. Спасибо им за все хорошее, что они сделали для нас! Спасибо Михаилу Николаевичу Кедрову и Борису Николаевичу Ливанову. Я особенно много работала именно с ними.
И вот пришел в театр Олег Николаевич Ефремов. Для многих из нашего поколения (к которому и он сам принадлежал), и для меня в частности, началось совсем другое время — «другая эпоха». Я «сыграла на ноль», как в той детской игре, где вышибаешь шарик и в зависимости оттого, в какую лунку, на какую цифру этот шарик попадет, ты или идешь вперед, дальше, или скатываешься вниз на ноль. Было время подумать… И я вдруг поняла — как страшно получается!
Детство мое прошло в эпоху Сталина. Юность съел Гитлер. Актерская зрелость пришлась на время Ефремова. И дожила до развала Советского Союза… Вот так судьба!
…Начались стрессовые ситуации. Куда-то меня начали из труппы переводить… Надо было писать какие-то заявления, и все «по собственному желанию». Нервы стали сдавать. Как следствие, началась серия разных операций — щитовидка, глаза и т. д. Я, как могла, боролась. Продолжала что-то доказывать, что-то доигрывать… Кстати, самой «долгоиграющей» ролью у меня оказалась роль Души Света в «Синей птице» Метерлинка. Эту светлую роль я играла 30 лет и всегда с удовольствием.
Символически на моем последнем спектакле кончилась буквально последняя капля грима. Все! Последний монолог Души Света: «Прощайте! Прощайте! Не плачьте, дорогие дети. У меня нет голоса, как у Воды. У меня есть только мое сияние. Его человек не слышит, но я не покину человека до конца его дней. Помните, что это я говорю с вами — в каждом Лунном Луче; в каждой Звездочке, которая вам улыбается; в каждой занимающейся Заре; в каждой Лампе, в каждом Добром и Светлом движении вашей Души!»…
…И все-таки я считаю, что мне во многом очень и очень повезло. В театре я сыграла 26 ролей. В 1967 году получила звание заслуженной артистки РСФСР. Проработала 39 лет (мне «злодейски» не дали доработать всего один год до «круглой» даты — 40 лет, до прибавки к пенсии, ну, что было, то было!).
В моей театральной судьбе было несколько замечательных и любимых ролей — три Елены.
Первая. «Чужая тень» Константина Симонова. Роль Лены — моя первая весьма приличная роль (кстати, в пьесе незримо как действующее лицо — в разговоре по телефону — присутствовал Сталин).
Вторая. «Мещане» М. Горького. Роль Елены. Это был наш выпускной спектакль в 1947 году. Потом мы его несколько лет успешно играли на сцене филиала МХАТа и на гастролях во многих городах Союза.
Третья. «Дядя Ваня» А.П. Чехова — тоже роль Елены. Это уже настоящая, «классическая» классика. С этой ролью я побывала на гастролях в Лондоне и Париже в 1958 году. Играла с успехом. Моя молодость и красота — мне было 33 года — сильно помогали мне. У меня сохранилась рецензия от 27 июня 1958 года во французской газете:
«…Может быть, потому, что мое место оказалось возле самой сцены и мне удалось глубоко проникнуть во внутренний мир персонажей Чехова, спектакль «Дядя Ваня» в постановке Кедрова взволновал меня еще больше, чем «Три сестры». По поводу «Дяди Вани» Горький говорил о вторжении красоты в нищенскую духовную жизнь людей. Здесь — это Елена Андреевна, явившаяся, чтобы потрясти, перевернуть тусклое течение жизни дяди Вани и доктора Астрова. Играет ее М. Анастасьева, и, когда она на сцене, не хочется смотреть на других. Вообразите смесь Ингрид Бергман и Мишель Морган! Нет, лучше!.. Улыбка, взгляд, линии тела, нежность, сдержанность. Красота, однако, бесполезная, безотчетно разрушающая, евангельски мягко посеявшая катастрофу…»
Опять спасибо судьбе!
По-моему, интересно вспомнить вот что еще. За эти многие или немногие годы (уж не знаю, как лучше сказать) довольно часто приходилось играть на сцене Художественного театра перед членами правительства. Мы узнавали, что кто-то должен приехать, по присутствию в театре во всех местах — и за кулисами, и на сцене — военной охраны. Перед выходом у нас проверяли бутафорское оружие, с которым мы играли в наших революционных пьесах. Перед кем я только не играла! Перед Сталиным — не один раз играла. Перед Молотовым — играла. Перед Кагановичем — играла. Перед Косыгиным — играла. Перед Хрущевым, Булганиным — играла. Перед Брежневым — играла. Перед Андроповым (когда он был послом в Венгрии) — играла. Перед Иосифом Броз Тито (в Югославии) — играла… Часто вела правительственные концерты в Большом театре и даже Кремле… И вот теперь я спрашиваю себя: «Ну и что?»
А вот что. «Суета сует — все суета и томление духа», — сказал Екклезиаст.
Теперь и вовсе настало время не мое. Не мой театр. Когда я прохожу мимо той витрины, где когда-то вывешивали объявление о наборе учащихся в Студию, я отворачиваюсь. Все прошло, все не то и я, разумеется, не та. Театр — наш Храм — со всех сторон теснят рестораны, американская реклама — «Мальборо», «Кока-Кола» и прочая ерунда… все не то. И если позволить себе жестоко сострить, то последние годы можно назвать не «моя жизнь в искусстве», а «моя смерть в искусстве» — это черный юмор моего дорогого Владлена.
Но мы стараемся никогда не унывать. Жить надо ради прекрасного! У нас в доме, в нашей общей жизни, при довольно сложном и не очень устроенном быте, в основном царит «жизнь человеческого духа». И в этом наше спасение.
И вот опять черный юмор моего дорогого Владлена: «Мой дом — моя крепость. Моя жена — крепостная актриса».
Вот так мы и живем.
…Хочу рассказать об одном событии в моей жизни. Несколько последних лет я работала над архивом моего деда Феликса Михайловича Блуменфельда — профессора, заслуженного деятеля искусств, композитора, пианиста и известного педагога, ученика и друга Римского-Корсакова, Стасова, Дягилева, Шаляпина, Балакирева, Скрябина. Жившего во времена «могучей кучки». Не буду подробно здесь обо всем писать, так как вышла уже написанная мной книга под названием «Век любви и печали». Благодаря оставшемуся после деда архиву я приобщилась к целому пласту нашей культуры. Воскресив на фоне русской истории память о своем великом деде, вспомнив и папу, и маму, я исполнила свой святой долг.
Кстати, хочу сказать об удивительной «связи времен». Мой дедушка Феликс Михайлович Блуменфельд прославился вместе со всей русской культурой во время знаменитых Дягилевских сезонах, когда летом 1908 года в Париже, в Гранд-Опера он дирижировал оперой Мусоргского «Борис Годунов» (заглавную роль Бориса исполнял великий Шаляпин). И вот, ровно через 50 лет, в 1958 году, в такие же летние дни в Париже, в театре имени Сары Бернар на Театральном Фестивале Наций успешно проходят гастроли МХАТа с чеховскими спектаклями. А мне на этом фестивале выпала честь играть в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» великолепную, мою любимую роль Елены Андреевны. И я благодарна судьбе, что не посрамила память о своем великом деде.
Ему было тогда только 45 лет… А мне — 33 года. …На фотографии почти столетней давности его рукой написано: «Все надо пережить, что б ни было. Творец незримый ведет нас к лучшему пути стезей непостижимой…»
Мой любимый, неповторимый МХАТ
Мертвые, о которых помнят, живут так же, как если бы они не умирали…
Морис Метерлинк, «Синяя птица»
Легендарный Качалов
А теперь я хочу рассказать о моем любимом старом МХАТе, который я еще застал. И начну с моего кумира, великого Василия Ивановича Качалова.
Каждое время, каждая эпоха рождает своих героев, свои идеи и представления о жизни. И актер, как всякий художник, чувствующий свое время и сумевший ярко и эмоционально выразить дух его, остается в истории. Так были кумирами публики В. Каратыгин и П. Мочалов, В. Комиссаржевская и М. Ермолова, Н. Ходотов и П. Орленев, Ю. Юрьев и А. Южин. Не говоря о М. Щепкине и К. Станиславском… Но творчество актера, его создания уходят из жизни вместе с ним. Остаются только портреты, противоречивые рецензии и легенды.
Василий Иванович Качалов почти не снимался в кино, а его радиозаписи были порой несовершенны, не всегда удачны, и по ним судить о его великом искусстве очень трудно. Остаются книги и воспоминания людей, которые видели его на сцене и знали в жизни.
…Впервые я увидел В.И. Качалова в Доме Союзов в концерте. На сцене белого Колонного зала стоял высокий, стройный человек в черном костюме. Он читал Маяковского, потом сцену «На дне» — один и за Сатина, и за Барона. Его голос, благородство и обаяние покорили меня на всю жизнь.
Удивительным, неповторимым явлением в русском и мировом театре был Василий Иванович Качалов. Сама природа создала его для театра. Он не мог быть никем иным, кроме артиста. У него для этого были идеальные данные, и внешние, и внутренние. И была исключительно счастливая судьба.
Я хотел как можно больше узнать о нем и прочитал много статей, старых рецензий и книг. И вот что я узнал.
Любовь к театру появилась у него очень рано. Еще мальчиком, побывав в театре на опере «Демон», он надевал старую отцовскую рясу (отец его был священником) и, взобравшись на шкаф, изображал Демона: «Я тот, кого никто не любит и все живущее клянет…»
А позже гимназист Вася Шверубович с первого своего появления на любительской сцене завоевал симпатии зрителей в роли Хлестакова и сделался кумиром Большой улицы и сквера «Телятник» в городе Вильно. И конечно же, он решил стать актером.
В двадцать два года, после большого успеха в студенческом спектакле (в роли Несчастливцева), поставленном знаменитым актером В.Н. Давыдовым, который, кстати, и благословил его на сцену, Шверубович ушел с четвертого курса юридического факультета Петербургского университета и, по совету друзей, поступил в театр Суворина. Перед тем, как подписывать контракт, А. Суворин спросил его:
— Шверубович? Вы еврей?
— Нет.
— Почему же у вас такая фамилия? Тяжелая фамилия, для театра не годится. Перемените.
На столе лежала суворинская газета «Новое время», на первой странице был некролог — «Василий Иванович Качалов……. Так родилось новое театральное имя. Но истинное рождение великого артиста В.И. Качалова состоялось позднее.
Через год его работы в театре Суворин спросил:
— Что же это вы, Качалов, ничего не играете?
— Не дают.
— А вы требуйте. Надо требовать.
Но требовать Василий Иванович никогда не умел и не хотел. Летом он опять играл большие роли в любительских спектаклях, а потом был приглашен на гастроли в Харьков и Полтаву с актером Александрийского театра В. Долматовым.
В старину острили, что провинциальный актер состоит из души, тела и цилиндра. Василий Иванович вспоминал: «…купил, себе цилиндр… И вот, сменив очки на пенсне (как у Долматова. —
В.Д.), в клетчатых штанах, цилиндре и огненно-рыжем пальто явился я… в труппу Бородая». Это было в 1897 году. Качалов получил приглашение антрепренера Бородая играть в театрах Казани и Саратова. За один сезон он сыграл более ста (!) ролей. К концу третьего сезона он уже — премьер театра, и его имя известно во всей российской провинции.
И вдруг в январе 1900 года В.И. Качалов получает телеграмму из театрального бюро: «Предлагается служба в Художественном театре. Сообщите крайние условия»… Надо сказать, что это был всего лишь второй сезон Художественного театра, в провинции о нем знали еще очень мало и считали его «любительщиной». Бородай прямо заявил:
— Вы там погибнете, а я из вас через год российскую знаменитость сделаю!
Качалов колебался. Но тут один старый актер сказал:
— Художественный театр — это, конечно, вздор. Но… Москва! Увидит тебя Корш и возьмет к себе, а то еще, чем черт не шутит, возьмут тебя на императорскую сцену, в Малый театр. Поезжай. Только смотри, не продешеви.
В конце февраля 1900 года В.И. Качалов приехал в Москву. В Художественно-Общедоступном театре ему устроили что-то вроде дебюта «без публики». Он показал две роли, которые с успехом играл в провинции, — Грозного и Годунова из «Смерти Иоанна Грозного». Но уже на репетициях был ошеломлен какой-то новой правдой этого театра. И растерялся. А после дебюта, на который пришла, конечно, вся труппа, все работники и друзья театра, за кулисами «Эрмитажа» с ним долго беседовал К.С. Станиславский. Василий Иванович потом вспоминал:
— Смысл его слов был такой, что дебют показал, насколько мы чужие друг другу люди. И в заключение он сказал мне: «В том виде, какой вы сейчас из себя представляете как актер, к сожалению, мы воспользоваться вами не можем. Но мне лично будет очень жаль, если вы от нас уйдете, потому что у вас исключительные данные и, может быть, со временем вы сделаетесь нашим актером»… Мое актерское самолюбие говорило мне: конечно, надо бежать и искать, «где оскорбленному есть чувству уголок». Но какое-то актерское любопытство удерживало меня и приковывало к этому театру…
Прошло несколько месяцев. Качалов приходил раньше всех на репетиции «Снегурочки», хотя не был занят в них, и уходил позже всех. Прислушивался. Хотел понять секрет этого театра.
И однажды Станиславский предложил ему приготовить роль Берендея, которая ни у кого не получалась. Качалов приготовил. Показал. И Станиславский воскликнул:
— Это чудо! Вы — наш! Вы все поняли, поняли самое главное, самую суть нашего театра! Ура!
Он крепко обнял Качалова и поцеловал.
С этого дня начался блистательный путь В.И. Качалова в Художественном театре.
Видимо, подобно тому, как встреча К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко была закономерностью, так встреча В.И. Качалова с Художественным театром оказалась необходимостью. Театру с его революционными идеями, с его современным репертуаром нужен был новый, мыслящий, интеллигентный артист, который мог бы выражать на сцене идеи этого театра. У Качалова было все для того, чтобы стать таким артистом. И он им стал! Все победы, все высшие достижения Художественного театра связаны с его именем.
«Может быть, со времени Мочалова не было у московского зрителя такого любимца, как Качалов… В «Берендее» он очаровал зрителей своим голосом: слушали и не могли наслушаться… И не столько потому, что так мелодичен и сердечен был этот незнакомый баритон, что так изящно звучали слова. Сразу повеяло от всего образа такой благородной красотой, такой тонкой прелестью. В антракте после первой качаловской сцены все спрашивали: «Откуда взялся он? Где откопали этот клад?!..» (Коля-Коль. «Одесские новости»).
Потом был Тузенбах в «Трех сестрах». А.П. Чехов сказал Качалову:
— Чудесно, чудесно играете Тузенбаха… чудесно же… А какой вы еще будете большой актер… Очень, очень большой!..
О Тузенбахе писали:
«Никогда, может быть, первый герой Художественного театра и первый герой симпатий и восторгов театральной публики г. Качалов не был так художественно закончен и так глубоко лиричен…» (Н. Эфрос. «Солнце России»)
Или еще:
«Г. Качалов дает в высшей степени художественную фигуру, отделанную до мельчайших деталей, вплоть до дерганья головой несколько вбок и чуть-чуть заметного заикания». (Авель. «Родная земля»).
О его Бароне «На дне» М. Горький говорил:
— Ничего подобного я не писал. Это гораздо больше. Я об этом и не мечтал. Я думал, что это «никакая роль». Качалов ее выдвинул, и развил, и объяснил великолепно.
«Это был шедевр, блестящий шедевр», — писали газеты.
«Барон в олицетворении г. Качалова — сценический шедевр…» («Одесский листок»).
О Пете Трофимове из «Вишневого сада»:
«И снова удивителен «вечно неузнаваемый» Качалов…» «Единственный театр, понявший душу, сущность Чехова… И Качалов — блистательный выразитель этой чеховской сущности»…
И вдруг — «Бранд» Г. Ибсена — героический образ, бунтарь.
«Качалов имел успех, редкий и в Художественном театре. Качалов в Бранде велик».
«С редкой проникновенностью, граничащей с гениальностью, играет он эту роль…»
Об Иваре Карено из пьесы Кнута Гамсуна «У врат царства» писали:
«Героем, великим человеком с гениальной мыслью и стальной волей, когда нужно отстаивать свою правду, — таким сыграл его Качалов». («Русские ведомости»).
О его Пер Басте («У жизни в лапах» К. Гамсуна):
«Господи, Боже мой, сколько обаяния отпущено природой Качалову!..» «Он играл увлекательно, живописно, театрально и эффектно, как и подобает играть в день ретеатрализации театра…» «Особенно радовал найденный им экзотизм, театральное хладнокровие — почти хладнокровие кинематографических американцев…»
О «Юлии Цезаре»:
«Художественной победой надо считать исполнение г. Качаловым роли Цезаря…»
Вл. И. Немирович-Данченко говорил потом, что он просто
заставил Качалова прославиться в этой роли, которую Василий Иванович считал (после сыгранных им главных ролей) менее интересной.
И тут же — Чацкий.
«Москвичи совершили революцию над пьесой: они разбили вдребезги все традиции, все ожидания публики и критиков».
«Качалов открыл в роли Чацкого ту человечность, ту поэтичность, тот нежный лиризм, которых до него тщательно избегали на всех сценах «первые любовники»…»
«Кажется, что воскрес Бестужев, или Лунин, или, может быть, Чаадаев, с которого, говорят, Грибоедов и писал Чацкого. Он кажется близким, и понятным, и своим…»
А позднее, через восемь лет после премьеры, напишут:
«Качалов играет его теперь в очках. В гриме — под Грибоедова».
«Грим артиста оригинален: Чацкий все время в очках, под Грибоедова, и похож на юного философа, только что оторвавшегося от лекций западных мудрецов…»
Спектакль Вл. И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы» не только перевернул все постановочные традиции, но и дал простор искусству таких актеров, как Леонидов, Москвин и Качалов, которые потрясали зрителей.
Он шел два вечера. Во втором у Качалова было три сцены. Одна из них — «Черт. Кошмар Ивана Карамазова» — стала вершиной актерского искусства. «Знаете ли вы, что это такое — полчаса провести актеру одному на сцене, на почти темной сцене и не позволить все это время никому в зале кашлянуть, или отвести глаза, или оторваться на миг мыслью?..» — так писали тогда рецензенты.
На сцене стул, диван, стол. На столе свечка. Сидит Иван Карамазов и разговаривает с чертом… Качалов играл эту сцену один…
И, наконец, в 1911 году «Гамлет» в постановке Гордона Крэга.
«Бледное, чеканное лицо, обрамленное длинными волосами. Лицо аскета и философа…» «Мы видели Гамлета в каком-то новом исполнении, благородном и вдумчивом. Артист так воплотился в свою роль, что трудно отделить его от нее… Гамлет — Качалов держит зрителей под впечатлением нарастающего ужаса, приковывает внимание, заставляет с жутким чувством следить за каждым своим движением, словом до последней сцены поединка, убийства Клавдия и своей смерти».
«Прекрасное лицо… очаровательный голос. И тоска, такая глубокая, безысходная тоска…Такое отчаяние одиночества…Тонкая грусть и тонкий грим…» «В передаче мирового противоречия В. Качалов был трагичен. Мы действительно видели «героя», разгадывающего загадки сфинкса».
В 1940-х годах я пересмотрел Качалова во всех ролях, которые он тогда играл в Художественном театре. Это и Гаев в «Вишневом саде» — большой, легкомысленный шалун, и беспокойный и глупый либерал Захар Бардин во «Врагах», и донкихотствующий Ивар Карено в «У врат царства», и, наконец, Барон в «На дне» и «От автора» в «Воскресении». Две последние роли я особенно любил и видел много раз. Два контрастных образа. Один — невероятно острый по характерности и трагически жалкий. Другой — глубокий, благородный мыслитель, проповедник добра и любви к людям, иногда ироничный и суровый и всегда обаятельный. В роли «От автора» Качалов был в синей тужурке без грима (пожалуй, в единственной роли) и оказывался совсем рядом с публикой, даже выходил в зал и стоял спиной к рампе… Один на один со зрительным залом… Эта роль была торжеством гения Качалова…
…И каким же надо было обладать обаянием и духовным богатством, чтобы пленять зрителя в роли Чацкого в шестьдесят три года!.. Это будет его последняя роль.
Старался я попасть и на все его концерты, которые были в 1940 — 41 годах и в Центральном Доме работников искусств, и в Доме актера, и в Художественном театре. В концертах я любил смотреть сцены из «Гамлета» и «Юлия Цезаря», но особенно восторгался гениальным исполнением Ивана Карамазова. Когда я впервые увидел сцену разговора Ивана с чертом, то понял, что такое фантасмагорический реализм Достоевского. Было жутко оттого, что Иван беседует с чертом, которого мы, зрители, не видим, а он, Иван, видит и разговаривает с ним, а тот ему отвечает… Чудо, рожденное искусством, происходило прямо на глазах у зрителей… Это было потрясающее, незабываемое, ни с чем не сравнимое впечатление.
Концерты Качалова в те годы всегда проходили с триумфом — зал вставал, когда он появлялся на сцене. Это был действительно праздник искусства. Программы его вечеров и концертов были очень интересны и разнообразны. Тут были и сцены из «Бориса Годунова», «Царя Федора», из «Гамлета», «Юлия Цезаря» и «Ричарда III», сцены из Чехова, Горького, Л. Толстого, Островского и Достоевского… Стихи Пушкина и Маяковского, Лермонтова и Есенина, Некрасова и Блока, Багрицкого и Ахматовой… Огромный мир своей души открывал людям Качалов, мир, который вмещал в себя таких авторов! Вот уж когда, по словам К. С. Станиславского, действительно был «актер — единственный царь и владыка сцены».
Каждый день я старался прочитать что-нибудь новое о Василии Ивановиче, собирал книги о нем, его фотографии. А мечтал о большем. О том, чтобы познакомиться с ним, поговорить, соприкоснуться с его неповторимой личностью. Вот почему мне никогда не забыть дня, когда осуществилось мое заветное желание.
Нашу Студию от театра отделял небольшой темный коридорчик, восемь с половиной ступенек и тяжелая железная дверь…
И первый, кто пришел к нам из-за этой двери, был В.И. Качалов. Мы пригласили Василия Ивановича на встречу со студентами нашей новорожденной Студии, и он охотно согласился. Мы заранее подготовили комнату, в которой будет происходить встреча. Когда он появился внизу, то вся лестница до этого этажа была заполнена восторженно аплодирующими студентами…
Василий Иванович вошел. Снял пенсне. Протер стекла. Сел. Многие из нас тогда впервые увидели Качалова в жизни, да еще так близко — совсем рядом. Он тоже стал рассматривать нас. Была томительная пауза. Наконец Василий Иванович улыбнулся и сказал:
— Ну, давайте знакомиться.
Он попросил всех назвать свои имена и фамилии. Потом спросил:
— Кто из вас самый старший, а кто в семнадцать лет расцвел прелестно?
И все это сразу внесло какую-то неподдельную человеческую простоту. Мы почувствовали, что к нам пришел не великий артист удивлять нас своим искусством, а человек, которому действительно интересно познакомиться со своими младшими товарищами.
В тот день он много читал — Маяковского, Есенина, Блока, Пушкина, Лермонтова… А перед уходом («Чтобы проверить свою память — раньше она у меня была прекрасная») безошибочно назвал наши имена и фамилии… Всех нас тогда покорили его искусство и обаяние личности.
На память об этой встрече мы сфотографировались с ним. С этого дня у нас в Художественном театре появился добрый и искренний друг.
Потом Василий Иванович не раз приходил к нам в Студию и не только читал стихи, монологи, а иногда и целые сцены из «Царя Федора», «Юлия Цезаря», «Трех сестер» и «Леса», но и бывал на наших вечерах — капустниках. После одного капустника сказал:
— Это хорошо, что вы имитируете разных людей, это развивает наблюдательность и характерность. Только это надо делать, по-моему, еще острее.
И очень удивился, когда узнал, что одному нашему студенту сделали замечание за то, что он в капустнике позволил себе показать довольно похоже и остроумно одну актрису Малого театра…
Встречи с ним были для нас, студентов, откровениями. Мы не только с восторгом слушали его — мы сами ему читали, а он внимательно слушал нас. Он смотрел на нас не просто как на восторженных зрителей, а как на своих товарищей по искусству. «Хочу верить, — написал Качалов на своей фотографии, — мои юные друзья, что наша Школа-Студия поможет вам стать сильными в искусстве и счастливыми в жизни…»
Когда мне в Студии в «Бесприданнице» дали роль Паратова, Василий Иванович сказал:
— Я работал над этой ролью с Константином Сергеевичем Станиславским. Правда, меня тянуло больше к Карандышеву… Константин Сергеевич говорил мне, что в роли Паратова надо поверить в свое обаяние, в свои силы и всемогущество…
И добавил:
— Надо, чтобы вас поощрили, подбодрили в этой работе — иначе ничего не выйдет…
…В июле 1944 года В.Я. Виленкин, близкий друг Качалова, передал мне предложение Василия Ивановича работать у него секретарем. Я испугался. Смогу ли я? Ведь это ответственно, хотя невероятно интересно и почетно. Несколько дней я боялся ему позвонить, чтобы выразить свою благодарность и узнать, что и как я должен делать. Наконец решился. В трубке раздался какой-то шамкающий, шепелявый голос. Я понял, что это «игра», но попросил к телефону Василия Ивановича, назвал себя. И тотчас услышал голос Качалова:
— Здравствуйте. Простите, это я так скрываюсь от назойливых звонков сумасшедшей поклонницы…
С особым волнением подходил я к дому 17 в Брюсовском переулке. Стеклянная дверь подъезда с металлической ручкой. Поднялся на третий этаж. Дощечка — «В.И. Качалов». Позвонил. Открыла пожилая женщина. Позднее я узнал, что это была его сестра. Из дверей комнаты вышла такса, за ней Василий Иванович в домашней куртке.
Простой, обаятельный, как и на сцене, — никакого «величия». Улыбаясь, широким жестом пригласил меня в комнату. Это был и кабинет его, и спальня, и что-то вроде гостиной. Синяя комната с двумя окнами в переулок. Между ними секретер. Справа диван с высокой спинкой, а слева низкое кресло и зеркальный шкаф. У двери стояла железная печка-буржуйка (ведь еще шла война). А рядом застекленные полки с книгами. На стенах — фотографии и картины.
Над диваном висела большая фотография К.С. Станиславского с такой надписью: «Милому Василию Ивановичу Качалову… Счастливец! Вам дано высшее, что природа способна дать артисту: сценическое обаяние. Оно проявляется и в Вашем таланте, и в уме, и во всей Вашей личности. С этим волшебным даром Вы побеждаете людей всего мира и в том числе меня, искренно любящего друга и сотрудника. К.С. Станиславский. 1937. 18.V.».
Удивительная это была комната! Сколько раз я потом в ней бывал, и всегда испытывал какое-то таинственное волнение…
Мы условились, что я буду ему иногда звонить и выполнять кое-какие его поручения.
С этого дня я часто стал бывать у Василия Ивановича. Это были и короткие встречи, и многочасовые беседы. Все эти встречи дали мне возможность познать благородство его души, и редчайшую доброту, и деликатность. Скольким людям он помогал, откликался на самые неожиданные просьбы! И делал он это всегда щедро, но чрезвычайно незаметно, чтобы «не обидеть человека своей добротой»… Он был удивительно скромен и, если и говорил о себе, то прикрывался иронией или юмором, который он так любил…
Он довольно часто давал мне деньги — как бы за то, что я его секретарь. Я ему говорил:
— Ведь вы мне уже давали деньги. Хватит.
А он отвечал:
— Это вам аванс. Отработаете. Если не мне, то Художественному театру.
Наверное, за эту доброту его в театре называли «Христос Иванович». Рассказывают, один артист в буфете Дома актера попросил:
— Вася! Дай мне десять рублей!
Качалов поискал в бумажнике и ответил:
— У меня нет десяти рублей. Ты не обидишься, если я дам тебе двадцать пять?..
Про Василия Ивановича в театре ходило много легенд. К примеру, такая. Решил Станиславский заняться со «стариками» этюдами:
— А то все заштамповались!
И предложил:
— Вот лопнул банк! Как вы будете реагировать? Стали «старики» принимать разные трагические позы, один Качалов спокойно сидел и красиво курил…
— А вы почему не участвуете? — спросил его Станиславский.
— А у меня деньги в другом банке!..
Я спросил его однажды:
— А как вы, Василий Иванович, работаете над ролями?
— Я вынашиваю в себе одну, основную мысль в роли, которая меня особенно заденет, и когда захочется ее сказать — перехожу к тексту.
— А какая роль для вас была самой трудной?
— Пожалуй, «От автора» в «Воскресении» — своей необычностью и вторым актом, когда я был на сцене один почти полчаса… Это для меня — как два «Гамлета». Так я отсчитываю роли по физической трудности.
В последние годы он подолгу болел. Однажды, когда я его спросил о здоровье, он неожиданно ответил своим бархатным голосом:
— Говённо, да, да, говённо. Здоровья уже нет, а есть немного сил…
Я уже не часто встречался с Василием Ивановичем, и играл он теперь мало: в ноябре 1946-го в последний раз «От автора» в «Воскресении» и Барона в «На дне».
Новый, 1947 год, он, как это стало обычным в последнее время, встречал у О.Л. Книппер-Чеховой.
В апреле 1947 года начались госэкзамены первого выпуска Школы-Студии. Василий Иванович был председателем госкомиссии и присутствовал на наших экзаменах. У многих из нас в дипломе стоит подпись В.И. Качалова. А после его смерти в нашей Студии была учреждена стипендия имени Качалова.
В последний раз я встретил Василия Ивановича в октябре 1947 года на улице Герцена (ныне Б. Никитская). Его многие узнавали, здоровались или просто оборачивались, любуясь им. Да и нельзя было не восхищаться. Шел высокий, красивый человек в сером пальто, широкополой шляпе, с бамбуковой тростью. Человек, в котором действительно было «все прекрасно»…
Второго октября 1947 года он сыграл Гаева в «Вишневом саде» — спектакль давался в честь 70-летия М.М. Тарханова. 27 октября, в день рождения МХАТа, раздавал значки «Чайка» и приветствовал нас, только что принятых во МХАТ из Школы-Студии, а вечером играл роль Захара Бардина во «Врагах». А второго ноября лег в больницу, где у него обнаружили рак. В больницу он взял с собой тетрадку с любимыми стихами.
— Любопытства нет, но и страха смерти нет тоже, — сказал он жене и сыну за три дня до конца.
Последним его посетил сын — Вадим Васильевич был у отца за двадцать минут до его смерти…
В.И. Качалов почти пятьдесят лет был кумиром нескольких поколений зрителей. Менялись вкусы, моды, менялись течения, направления и стили в искусстве, гремели войны и революции, свершались научные и технические открытия — а любовь, уважение и преклонение перед В.И. Качаловым оставались неизменными. В чем же был секрет этого невероятного полувекового успеха артиста у зрителей?
Конечно, не только в том, что он был, как писали о нем, «крупнейший артист мира» с гениальным сценическим обаянием. А еще и в том, что он был человеком громадной духовной культуры и благородной, неповторимой личностью. Был великим примером гармонии артиста-гражданина, истинным представителем передовой русской интеллигенции. Смотрел на свою профессию как на высокую миссию служения. И мог бы повторить вслед за Станиславским: Художественный театр — это мое «гражданское служение России».
В 1975 году МХАТ торжественно отметил столетие В.И. Качалова. Я принял самое активное участие в подготовке этого юбилейного вечера. И когда вскоре сыграл роль Николая I в пьесе Л. Зорина «Медная бабушка», то В.Я. Виленкин подарил мне небольшую статуэтку Николая I из слоновой кости, которую в свое время подарил ему Василий Иванович. И тогда же Вадим Васильевич, сын Качалова, решил отметить мое участие в юбилейном вечере отца серебряным портсигаром, который поднесли Качалову те участники трехлетних зарубежных гастролей в так называемой «Качаловской группе», кто в 1922 году не вернулся в Россию. А также он подарил мне мундштуки Василия Ивановича и милую ему пепельницу — птичку… Я свято храню все эти вещи, как, впрочем, и все, что связано с именем В.И. Качалова — его фотографии в жизни и во всех ролях, книги и альбомы о нем. У меня есть еще один подарок от Вадима Васильевича — фарфоровая статуэтка Качалова, выполненная по рисунку Кукрыниксов…
В мае 1940 года В.И. Качалов написал мне такое письмо:
«…Имейте терпение, не торопитесь, тов. Владик, с мечтой о сцене. Очень советую пока не пытаться осуществлять как-нибудь эту мечту. Пусть она подольше остается «мечтой». Кончайте среднюю школу, поступайте в ВУЗ (не театральный и не технический) — стремитесь к общему образованию и подольше не думайте о специальном. Чем шире будет база Вашего образования, тем устойчивее, крепче и интереснее, содержательней будет та настройка, которая явится вашей специальностью. Может быть, через 5—6—10 лет, по мере Вашего общего развития и роста всех Ваших сил (и духовных и физических), мечта о сцене заменится другими мечтами. А если уже останетесь ей верны, то, конечно, чем Вы будете более зрелым, взрослым, сильным человеком, тем Вам легче будет осуществить мечту.
Учитесь, расширяйте кругозор, развивайте в себе всякие и все силы. А там видно будет, к чему Вас больше всего потянет. С приветом В. Качалов».
Но я не прислушался к этому совету. И все-таки теперь понимаю, что это был мудрый совет. Я уже пятьдесят шесть лет актер и вижу, как важно заранее себя испытать и подготовить к этой сложной и непредсказуемой профессии…
А самое дорогое для меня — фотография В.И. Качалова с такой надписью:
«Милому, талантливому Владлену Давыдову — с любовью и благословением — Василий Качалов».
Я храню эту фотографию, как икону, как завещание…
Последний царь Федор
Бориса Георгиевича Добронравова я впервые увидел в 1935 году в спектакле «Платон Кречет». Впечатление было такое сильное, что я даже написал восторженное письмо, которое попало в МХАТ. Мне было тогда одиннадцать лет, я учился в пятом классе.
В те далекие тридцатые годы моя жизнь состояла из учебы в школе и посещения театров. Школа давала знания, воспитывала и учила понимать окружающую жизнь. А театр уносил в идеальный и прекрасный мир вымысла и фантазии. Телевидение тогда еще только рождалось, и как чудо можно было увидеть где-нибудь в клубе маленьких человечков на экране размером с папиросную коробку. Кино? Кино я очень любил. Но его герои все-таки жили только на мертвом, бледном полотне, зажигался свет — и ты снова оказывался в холодном и голом зале… А театр своим теплом и близостью сцены был мне дороже. Театр — это целый мир живых героев, вместе с которыми живет и дышит весь зрительный зал; это неповторимые переживания; это события, происходящие каждый раз прямо на твоих глазах; это особенный, свежий и таинственный запах со сцены, когда распахивается занавес; это возбужденный гул зрителей, гуляющих по фойе во время антрактов; это ожидание новых спектаклей с любимыми артистами; это постоянные театральные споры и постоянное ожидание чуда…
Нет! Театр я любил всегда больше всего на свете, театром я жил и мечтал только о театре…
Моими кумирами были И.М. Москвин, В.И. Качалов и Б. Г. Добронравов. Этих великих и очень разных артистов я видел по многу раз во всех ролях, которые они тогда играли. И если Москвин и Качалов были чудесное и неповторимое прошлое Художественного театра, то Добронравов был героем настоящего.
Хирург Платон Кречет был первым современным положительным героем, которого я увидел на сцене. Умный, красивый, суровый и сдержанный, даже чуть грубоватый, но именно этим и обаятельный. Таким я представлял себе своего родного отца, которого тогда еще не видел.
И вдруг — приказчик Курослепова Наркис в «Горячем сердце» Островского — жуткое, безудержное хамство и свинство, смешной и страшный.
А потом поручик Михаил Яровой в «Любови Яровой» Тренева — метавшийся по сцене безрукий офицер в черной форме батальона смерти, резкий, нервозный, с испуганными глазами.
И тут же совсем другой белый офицер — капитан Виктор Мышлаевский в «Днях Турбиных» Булгакова. Своим озорным и буйным нравом будоражил весь турбинский дом, и, казалось, нет силы, которая могла бы его утихомирить…
Главное, что всегда покоряло в Добронравове, это его ошеломляющая простота и предельная искренность. Казалось, что выходит на сцену не артист, а какой-то свой, близкий человек. Он ничего не «играл», а очень просто и буднично, не пытаясь ничем поразить и удивить, начинал свою роль. Но сразу этот высокий, обаятельный человек с прекрасным русским лицом приковывал к себе наше внимание. И чем спокойнее и как бы небрежнее было у него начало, тем сильнее и неожиданнее — взрывы его пламенного темперамента.
Так было и с Лопахиным в «Вишневом саде». Первые два акта у него почти проходные, и только в финале второго действия тревожно повисала фраза:
— Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом! Думайте!
Его Лопахин был деловит, элегантен и застенчив, знал свое место в этом доме. Он и позже, когда сделался хозяином имения, не стал купцом-хамом. В третьем действии он был лишь резок и несколько развязен, да и то только потому, что немного подвыпил. Свой монолог он начинал как-то вяло, нехотя, но — вдруг: «Я купил!»… Как взрыв. И дальше темперамент его все нарастал и нарастал… И так же неожиданно обрывался… Он подходил к креслу, где сидела Раневская, наклонялся к ней и — на фоне печального вальса, — тихо и нежно растягивая слова, говорил:
— До-ро-гая моя, отчего, отчего вы меня не послушали?… Бе-е-дна-ая вы моя, хорошая вы моя, не-е-е вернешь уж теперь… Эх, как бы поско-о-рее все это прошло-о-о-о…
И опять как вопль раненого зверя:
— Как-нибудь бы изменилась, кончилась бы вот эта наша нескладная, несчастливая жизнь!..
А потом еще громче и злее:
— Музыканты! Играйте отчетливо! Пускай все, как я желаю, за все могу заплатить!..
Он швырял об пол тарелку и начинал дико, неистово хохотать…
Волновали не только взрывы его темперамента, но и трогали до слез вот эти неожиданные и резкие переходы к тихому и предельно искреннему разговору.
Я очень любил Добронравова, и мне так хотелось узнать его поближе, познакомиться с ним…
Весной 1940 года я пошел еще раз смотреть «Дни Турбиных» в филиале МХАТа, а после спектакля решил подойти к Борису Георгиевичу и попросить его подписать фотографию. Он оказался в жизни таким же простым, как и на сцене. Мы шли к его дому и разговаривали. Он искоса поглядывал на меня и лукаво, загадочно улыбался.
И потом, когда я встречался с ним, то часто замечал на себе этот внимательный и веселый взгляд — значит, он был в хорошем настроении. А иногда он был мрачен и неразговорчив и смотрел куда-то в сторону.
Порой меня поражали его прямота и откровенность в разговорах со мной — о театре, об актерах, о своих ролях, о жизни. Сейчас же, перечитывая свои дневниковые записи, я понимаю, что Борис Георгиевич в этих разговорах отводил душу — ведь беседы с 16-17-летним юношей ни к чему не обязывали, а мою преданность ему он, конечно, чувствовал.
Какое жуткое ощущение неудовлетворенности и одиночества в театре часто проскальзывало в его словах! Тогда меня это удивляло: ведь это были годы его творческого расцвета, признания и успеха. Он много играл, был народным артистом Советского Союза, а мне говорил:
— Моя лучшая роль? Тихон в «Грозе», но это было пять лет назад, и спектакль этот уже два года не идет…
Или:
— Ноздрева я сыграл, когда заболел Ливанов. Он хорош в этой роли, а мне она не нужна.
А вот еще:
— Что буду играть нового? В кино ничего не буду, а в театре не дают, оскорбляют, черти…
В начале июня 1940 года, когда я приехал на каникулы к родственникам в Ленинград, там гастролировал МХАТ. И вот тогда я особенно часто встречался с Б.Г. Добронравовым.
Однажды я увидел его у гостиницы «Европейская». Он стоял мрачный и грыз семечки. На мой вопрос: «Как вы себя чувствуете?» — ответил:
— Устал. Много и часто здесь играю. Сегодня первый день свободен. Никуда идти не хочется.
Мы вышли к Невскому проспекту. Он шел молча и думал о чем-то. Затем сел в трамвай и поехал в парк на Острова, а я пошел смотреть «Маскарад» в Александрийский театр.
Тогда же в Ленинграде в театре на Литейном проспекте я увидел Б.Г. Добронравова в «Женитьбе Белугина». Это был так называемый выездной спектакль. В дневнике я тогда записал: «…Как-то все уж очень быстро происходило на сцене, и все играли примитивно и несерьезно — на публику… Только Добронравов был все равно лучше всех — простота его и обаяние покоряли. Успех был колоссальный…»
После этого спектакля я встретил Бориса Георгиевича и спросил его, почему этот спектакль не идет на сцене МХАТа?
Он ответил:
— Мы многое сократили. Кое-что у актеров не получилось. Немирович-Данченко посмотрел и сказал, что надо работать и менять состав, а это значит, спектакль не пойдет. Но мы его уже пять лет играем в разных городах, и всегда вот с таким успехом. А вчера успех был еще больше.
Борис Георгиевич был явно в хорошем настроении: по дороге шутил, с юмором «показывал» Немировича-Данченко, рассказывал, как когда-то имитировал товарищей по театру… Мы шли по пустынному и прекрасному городу в эту белую ночь, разговаривали и не заметили, как пришли к «Европейской». Я еще раз поблагодарил его за спектакль и, счастливый, пошел домой.
Не менее приятной и интересной была еще одна встреча с Борисом Георгиевичем в ленинградском кафе «Норд». Мы сидели в этом уютном помещении на Невском и, не торопясь, беседовали. Я сказал Борису Георгиевичу, что в Москве успел посмотреть премьеру «Трех сестер» и мне понравился спектакль, а Ливанов в нем просто неузнаваем.
— Да, — ответил он, — но большое дело — чувство меры… Я вот не люблю клеить носы и стараюсь играть без грима. Зачем делать уродов, зачем менять голос? Главное — донести смысл и внутреннее содержание роли. А старый спектакль «Три сестры» мне больше нравился. Теперь только Еланская играет лучше всех. Ну, а когда старое закроешь, то новое кажется лучше…
Подошла официантка. Борис Георгиевич в упор посмотрел на нее своими веселыми глазами и попросил принести кофе с вареньем и печеньем… Я сказал, что по его совету посмотрел в Малом театре Остужева в «Уриэле Акоста», а здесь хочу посмотреть в конце июня Николая Симонова в «Макбете».
— А я не успею, двадцать первого сразу после окончания спектакля еду «Стрелой» в Москву.
Мы заговорили о Сергее Есенине.
— Да, мне тоже нравится, здорово чувствует деревню… и с нервом он, — сказал как-то задумчиво Борис Георгиевич.
Я старался говорить умно и красиво, но робел, и поэтому получалось все нескладно и, вероятно, смешно.
— Борис Георгиевич, я давно мечтаю стать актером, но не знаю, смогу ли?
— Ну, а что же, у вас рост, хорошая фигура, лицо, голос… Все это для сиены большое дело. Вот у актера Н. тоже есть все, ему бы души… тогда бы он был настоящий артист! Я видел здесь у Радлова «Гамлета». Дудников хорошо играет, но только немного холодно… Мало у кого теперь душа есть. Вот Остужев — замечательный артист! Как он играет Отелло!.. Такие артисты уже вымирают, мало их осталось. А его шестнадцать лет держали, не давали играть, черти! Я вот в театре двадцать пять лет, стар уже стал, а что хотел, так и не сыграл…
— А вы бы, как Павел Орленев, стали гастролером и играли бы что хотели.
— Не-е-т, теперь так нельзя. Если бы можно было, то я бы давно ушел из театра. А потом, я по административной части не умею руководить. Да и не могу я все-таки без нашего театра…
В том же году я встретился с Добронравовым осенью в Москве. И записал в дневнике:
«…8 сентября днем поехал к МХАТу. В трамвае увидел О.Л. Книппер-Чехову. Она поразила меня тем, что очень свежо и молодо выглядела и даже на ходу спрыгнула из вагона…
У театра встретил Добронравова — он выходил с Ливановым. Они попрощались и разошлись в разные стороны…»
Борис Георгиевич был мрачен и говорил нехотя:
— Отдыхал у себя на даче, но мало и плохо — всего один месяц. Играл — нужно было подзаработать, чтобы достроить дачу…
Он действительно скверно выглядел.
— Больше трех лет не дают ролей… «Земля» — что это за роль?! Вот, может быть, «Дядю Ваню» буду репетировать…
В октябре 1940 года в Москве прошел слух, что Добронравов будет играть царя Федора. Это было неожиданно и интересно.
— Да, буду, — сказал он мне сухо, — в конце ноября или в начале декабря. Вот дирекция дала мне роль.
Конечно, я знал, что спектаклем «Царь Федор Иоаннович» 14 октября 1898 года открылся Художественно-Общедоступный театр. Что 24-летний И.М. Москвин наутро после исполнения этой роли проснулся знаменитым, а потом был признан великим артистом не только в России, но и в Европе и Америке, где его назвали «артистом с Марса». Знал я и то, что на гастролях в Америке в 1922—24 годах эту роль в очередь с Москвиным играл Качалов.
В 1935 году «Царь Федор» после четырехлетнего перерыва был тщательно восстановлен с новым, молодым составом исполнителей. На это ушло сто двадцать репетиций, восемь из которых провел Вл. И. Немирович-Данченко. Роль царя Федора стал играть 34-летний Н.П. Хмелев. Москвин играл ее уже очень редко, а Качалов после 1928 года перестал совсем.
В 1939 году я впервые увидел Н.П. Хмелева в роли царя Федора. В его детской улыбке, в порывистых беспомощных движениях, в нервозном темпераменте, в надтреснутом голосе и увлажненных глазах чувствовалась трагическая обреченность царя. Это был грустный и болезненный образ.
А вот теперь роль царя Федора готовит мой любимый артист — Добронравов! Как он его сыграет? Что скажет нового?
20 ноября 1940 года в филиале МХАТа спектакль «Царь Федор Иоаннович» шел в 727-й раз. В этот вечер Добронравов впервые сыграл роль царя Федора. За полтора месяца у него было всего одиннадцать репетиций, но он давно и хорошо знал этот спектакль и сыграл замечательно. Его царь Федор оказался для многих неожиданным. А в протоколе спектакля в этот вечер было записано: «Спектакль смотрел Владимир Иванович (Немирович-Данченко. —
В.Д.), по окончании он беседовал с Б.Г.Добронравовым и дал свои указания». Немирович-Данченко тогда сказал, что царя Федора надо играть не юродивым, а сумасшедшим, безумным…
На этом спектакле присутствовало много актеров МХАТа и других театров — С.Я. Лемешев, М.О. Рейзен… Вл. И. Немирович-Данченко не только смотрел спектакль, но и, выйдя на сцену в конце, поздравил Добронравова. Успех был огромный, бесконечный…
25 ноября я пошел второй раз смотреть Бориса Георгиевича, и он мне еще больше понравился. Потом пошел еще раз, третьего декабря — но играл Хмелев, так как Добронравов заболел. И я опять увидел разницу между этими интересными Федорами — между скульптурно четким, рационально-трагическим образом Хмелева и пламенно-мятущимся, стихийно-трагическим — Добронравова…
После того, как Добронравов с таким успехом сыграл царя Федора, все думали, и он сам, вероятно, что теперь ему дадут или Ричарда III, или Гамлета, или Макбета (об этом говорили в театре), или Отелло, о котором он так мечтал. Но… хотя «Гамлета» в МХАТе и собирались ставить, эту роль хотели дать Хмелеву или Ливанову… В «Дяде Ване» Добронравов мечтал о Войницком, а его намечали на Астрова…
Борис Георгиевич мне рассказывал и даже «показывал» в лицах свой разговор на эту тему с Вл.И. Немировичем-Данченко и В.Г. Сахновским, продолжавшийся у них более часа. Настроение у Добронравова не улучшилось, а пожалуй, ухудшилось:
— Когда был жив Станиславский, мне еще давали роли, а теперь…
Но зимой начались разговоры о «Дяде Ване», и Добронравов говорил:
— Да, Дядю Ваню, наверно, буду репетировать, но когда — неизвестно!
— Репетиции начались, но идут слабо. Артисты не ходят. Хмелев болен. И я потихоньку болею — то ангины, то почки…
— Да, репетируем с Литовцевой понемногу, но вот когда сыграем — не представляю…
И дальше из моего дневника:
«12/VI/1941 года
Встретил Бориса Георгиевича случайно у метро «Охотный ряд». Он возвращался усталый, запыленный, с дачи из Валентиновки. На пиджаке у него был орден…
— Вот надеваю орден, чтобы быстрей везде пропускали и иногда — на концерты… Да, измотался. Семья давно уже на даче, дочка там. Она у меня перешла во второй класс… Я спросил его, когда он теперь будет играть Федора.
— Двадцатого июня в последний раз и после спектакля поеду в Минск. Там начинаются гастроли МХАТа.
— Вера Николаевна Попова сказала, что вы в Федоре напомнили ей Павла Орленева, который тоже ведь играл эту роль.
— Да, мне говорили об этом.
Борис Георгиевич попрощался, сказал, что зайдет на полчаса домой и — в театр, играть «Дни Турбиных».
Через десять дней началась война.
Вновь Б.Г.Добронравова я увидел только в декабре 1943-го. И первый спектакль, который я пошел смотреть в возвратившийся из эвакуации МХАТ, был «Царь Федор Иоаннович» с Добронравовым.
Подойти к Борису Георгиевичу после спектакля я теперь почему-то постеснялся, но однажды случайно встретился с ним в коридоре нашей Студии, через который артисты театра часто проходили в столовую. Он узнал меня, поздоровался, поздравил с поступлением в Студию и сказал:
— Ну, теперь вам легче будет в театр ходить… Потом я его видел в спектакле «Русские люди». Играл он хорошо, но роль ему явно была не по душе — без взлетов!
В начале ноября 1945 года, после того как Хмелев умер на сцене, репетируя Ивана Грозного, я встретил Бориса Георгиевича у театра — он был явно в смятении. Я спросил:
— Кто же теперь будет репетировать эту роль? Вы, вероятно?
— Не-ет! Я не буду. Боюсь. Помрешь еще, пожалуй, так же…
16 апреля 1946 года Б.Г. Добронравову исполнилось пятьдесят лет. В это время в театре снова шли репетиции «Дяди Вани». Сперва с И.Я. Судаковым и Н.Н.Литовцевой, а потом с М.Н. Кедровым, который почти всех исполнителей, кроме Добронравова, заменил.
В начале июня 1947 года, когда у нас на курсе начались выпускные экзамены, главный режиссер МХАТа М.Н. Кедров пригласил нас на генеральную репетицию «Дяди Вани». Какое было счастье увидеть Добронравова в роли, о которой он так давно мечтал!
Несколько раз я смотрел этот спектакль, и каждый раз Борис Георгиевич играл своего Войницкого с исключительным подъемом и вдохновением. Казалось, он вкладывал всего себя, всю свою душу в эту роль. «Пропала жизнь!» — как итог, как свершившийся факт произносил эти слова Добронравов. Да, это было настоящее, как теперь говорят — исповедальное исполнение роли. Невольно вспоминались последние десять лет жизни Добронравова, все наши разговоры с ним и его статья «Вынужденное бездействие». Ведь за эти годы он сыграл всего три роли: в 1940-м ввелся в «Царя Федора», в 43-м сыграл в «Русских людях» капитана Сафонова и вот теперь, после многолетних репетиций — свою последнюю роль… Он успеет сыграть ее всего сорок раз… Какая трагическая судьба великого артиста!
…Какая-то стихийная сила толкнула и привела Добронравова в Художественный театр в 1915 году! Хотя он уже был студентом физико-математического факультета Московского университета. И та же таинственная сила все время удерживала его в этом театре.
В 1919 году он ушел из МХАТа и поехал на зимний сезон в Уфу, а на летний — на Кавказ. Там он играл большие роли. Но через год вернулся в Художественный театр, где по-прежнему стал играть слуг и выходить в народных сценах.
Он было увлекся модными тогда идеями Пролеткульта, но внешние приемы в искусстве были ему всегда чужды, и он остался верен Художественному театру.
В 1922—24 годах МХАТ гастролировал в Америке. И хотя Добронравов был тогда занят во всех спектаклях, однако это по-прежнему были только народные сцены да лакеи. Но однажды во время гастролей ему неожиданно довелось сыграть Петю Трофимова в «Вишневом саде», потом срочно Медведева в «На дне», Красильникова и Голубя-сына в «Царе Федоре» и даже Алешу в «Братьях Карамазовых». Вот тогда в театре поверили в него! И хотя в начале 1924 года Вл. И.Немирович-Данченко писал из Москвы в Америку, что, мол, Добронравову и еще нескольким молодым артистам в будущем «с сожалением не видит никакого дела» в Художественном театре, Добронравов все-таки в Америке не остался.
В конце этих двухлетних гастролей несколько молодых актеров МХАТа решили не возвращаться на Родину. Уговаривали и Добронравова:
— Ну кому ты там будешь нужен, в Москве?
Дело дошло до скандала и даже до драки… Но Добронравов вернулся с театром в Москву. Поэтому слова Мышлаевского в «Днях Турбиных» о загранице: «Я не поеду, буду здесь, в России. И будь с ней что будет!» — произносил с каким-то особым азартом и вызовом. А через десять лет он стал одним из ведущих и знаменитых артистов МХАТа. И слова К.С. Станиславского: «Впереди огромная работа», сказанные им некогда Добронравову, полностью оправдались.
Во время войны Борис Георгиевич оказался на Урале, оторванным от Художественного театра. С успехом играл как гастролер в Нижнетагильском театре царя Федора, но «рвался всей душой к театру», который «являлся для него на протяжении всей его сознательной жизни самым ценным и дорогим». Так он тогда писал И.М. Москвину в Саратов, где находился МХАТ.
И после войны, хотя в МХАТе у него не было настоящей интересной работы и его звали в другие театры, Добронравов все-таки из МХАТа не ушел. Он изредка снимается в кино, много выступает в концертах, часто по ночам записывается на радио, а дома самостоятельно репетирует роль Отелло.
А в Художественном театре в конце 40-х годов ставят такие одиозные спектакли, как «Алмазы», «Хлеб наш насущный» и «Зеленая улица»…
Добронравов был не удовлетворен не только собой, но и своей судьбой в театре. И, наверное, вслед за Л.М. Леонидовым он мог бы сказать о себе: «…Трагедия трагика…»
Да, Добронравов в Художественном театре мог и должен был играть больше. У него все для этого имелось — огромный талант, силы и желание. Он всегда производил впечатление человека, который считает: все, что он делает, для него не самое главное — он готов на большее: «Я никогда не считаю роль окончательно готовой… Ни одна роль не дала мне полного удовлетворения (это относится и к наиболее удавшимся ролям — Тихона и Федора). В лучшем случае меня удовлетворяли отдельные места», — писал он о себе. Может быть, поэтому он бывал порой так скрытен, замкнут и резок. Прикрываясь грубостью и даже подчас цинизмом, он скрывал свои лучшие мысли и чувства. Как бы присматривался, примерялся к чему-то значительному, а все остальное ему казалось мелким и ненужным, на что не стоило тратить силы. Он и сидел-то в свободное время на стуле в театральном буфете как-то расслабленно, лениво, не выплескивая себя в праздных разговорах, а как бы готовясь к чему-то большему. И только на сцене раскрывал свою душу…
Возможно, поэтому он так мечтал сыграть Отелло, где его увлекала не только трагедия ревности, а и трагедия доверчивости…
Б.Г.Добронравов был одним из последних могикан прекрасного и неповторимого МХАТа.
Исполнение им в эти годы таких ролей, как царь Федор и дядя Ваня, стало выдающимся событием. Выше этих трагических взлетов в театре «переживания», театре «психологического реализма», каковым был МХАТ, больше уже никто не поднимался. «Да, я последний в роде, последний я…» — мог бы про себя сказать Добронравов.
В начале марта 1948 года Добронравов тяжело заболел. Он возвращался с дочерью Леной из кинотеатра «Повторный», где они смотрели фильм «Цирк», и на улице Станиславского ему стало плохо с сердцем. Лена испугалась, побежала за врачом, а Борис Георгиевич на какой-то машине с трудом вернулся домой — на улицу Немировича-Данченко…
Когда по окончании Школы-Студии я был принят в Художественный театр, я стал встречаться с Борисом Георгиевичем — он после болезни иногда днем приходил в театр. Сидел мрачный и задумчивый, один у окна в буфете или за кулисами, предаваясь своей постоянной страсти — игре в шахматы, но уже не так бурно, как раньше, когда он пугал партнеров своим напором и темпераментом.
…Весной 1949 года, увидев меня в буфете, Борис Георгиевич сказал:
— Я хотел тебе позвонить. Мы с Леночкой смотрели фильм «Встреча на Эльбе» с твоим участием. Ты хорошо играешь и Леночке очень понравился. Она просила меня достать твою фотографию. Подари ей. Только напиши что-нибудь хорошее.
Я принес свою фотографию и хотел было написать Лене пожелание успехов в жизни и в учебе, но Борис Георгиевич возразил:
— Нет, про учебу не надо писать, она у меня и так отличница.
В ту же весну я встретился с ним на концерте в Политехническом музее. Он читал рассказ Горького «Емельян Пиляй». Я видел, как он волновался, когда читал, — торопился на другой концерт. Потом за кулисами попросил меня выступить в школе, где училась Лена, на утреннике по случаю окончания учебного года.
Я хорошо помню этот день. Было очень жарко. Борис Георгиевич тоже сидел на сцене. Обливался потом, но сидел. Потом выступил. Он смущался и не мог скрыть своего счастья — ведь его Леночка кончала школу с золотой медалью. Он любил свою дочь больше всего на свете.
…27 октября 1949 года днем в нижнем фойе МХАТа, как всегда в этот день, собралась вся труппа, чтобы отметить пятьдесят первую годовщину театра. О.Л. Книппер-Чехова и М.Н. Кедров поздравили всех собравшихся, особенно «круглых» юбиляров и тех, кому вручались значки «Чайка». Потом актеры долго не уходили из театра, а сидели в фойе, в буфете, за кулисами и, возбужденные, разговаривали, шутили, смеялись. Ведь они так редко собирались все вместе.
Этот день всегда бывал радостным и немного грустным — вспоминали прошлое театра, его создателей и тех, кого уже нет. Так было — в те годы…
А вечером в этот день неизменно шел спектакль «Царь Федор Иоаннович».
Впервые мне удалось попасть на такое торжество в 1940 году. Тогда Вл. И. Немирович-Данченко и И.М. Москвин поздравили всех и стали вручать значки «Чайка». Все это происходило очень по-мхатовски — тепло и просто. Владимир Иванович поприветствовал всех награжденных и сказал, что значок «Чайка» был утвержден в правительстве как своеобразный орден МХАТа. Каждому, кто выходил на сцену получать «Чайку», он говорил теплые слова, шутил и дружески пожимал руку. Потом был концерт с участием Марины Семеновой, Сергея Лемешева, Владимира Хенкина. Больше всех веселился, хохотал и реагировал на юмор Добронравов. Я впервые увидел и услышал, как он заразительно смеется — «по-добронравовски» — до слез. Так же открыто и прямо он высказывал свое мнение, порой даже резко.
Тогда, в 40-м, Добронравов только начинал репетировать роль царя Федора. А теперь, 27 октября 1949 года, вечером, на основной сцене МХАТа он играл ее уже в 166-й раз. В этот вечер спектакль «Царь Федор» шел с подъемом — в зале было много друзей театра, молодежи, студентов, которые так любили Добронравова. Было заметно, что Борис Георгиевич волнуется: теперь, после болезни, он очень редко играл, всего два раза в месяц — один раз дядю Ваню и один раз царя Федора.
Когда к 50-летию МХАТа в октябре 1948 года шли репетиции «Царя Федора», так как спектакль полтора года не шел, то стали обновляться и народные сцены. Меня заняли в трех картинах:
«Примирение» (2-я картина) — выходил в Шуйских, про которых Клешнин говорит: «Ишь, как идут! И шеи-то не гнутся!»;
«Сад Шуйских» (3-я картина) — выходил в гостях Шуйских;
«Перед Архангельским собором» (8-я, финальная картина) — стоял всю картину в рындах.
Для меня теперь каждый спектакль «Царя Федора» стал особенной радостью — ведь я находился на сцене рядом с моим кумиром Б. Г. Добронравовым и видел близко-близко, как он играет царя Федора. Особенно мне запомнился последний — трагический спектакль…
Он неровно играл эту роль. У него вообще не было одинаково сыгранных спектаклей. Но он был истинный ученик К.С. Станиславского и его завет о «сквозном действии» и «сверхзадаче» свято выполнял. И всегда «шел от себя», поэтому в зависимости от настроения и самочувствия у него менялись краски и приспособления, и эти постоянные импровизации делали его исполнение живым и органичным.
Вероятно, «сквозное действие» Федора в спектаклях МХАТа было у всех исполнителей этой роли одно: «всех согласить, все сгладить» — иначе «что с землею будет?!» Но играли эту роль, конечно, каждый по-своему, и у каждого была своя «сверхзадача».
Царь Федор Добронравова был высок и строен и скорее похож на старшего сына Ивана Грозного, на репинского Ивана — бледное, нервное лицо с громадными глазами. Он стремительно вбегал на сцену со словами: «Стремянный! Отчего конь подо мной вздыбился?» И сразу какая-то волна тревоги и недоброго предчувствия проносилась по залу… Но это лишь одно мгновение — Федор быстро успокаивается, и мы видим, что он добрый и даже не по-царски общительный и простой человек. Он с радостью готовится примирить давнишних врагов — правителя царства Бориса Годунова и верховного воеводу князя Ивана Петровича Шуйского. И не может скрыть своего счастья, когда это примирение наконец состоялось. В умилении сжимая руки на груди, он восклицает: «…это в целой жизни мой лучший день!..» Но его поспешный уход в конце первого действия кажется каким-то странным — когда его окружили ползающие на коленях выборные люди, а он мягким, нерешительным жестом защищается от них и быстро исчезает в низкой нише двери… И дальше эта странность, это предчувствие беды становится все тревожнее…
Во второй картине, в сцене «Примирение», когда он близко подошел к Шуйским, я заметил, как у него на лбу из-под парика выступили капельки пота… Он всегда эту роль играл с полной отдачей и со всем темпераментом, какой у него был, не жалея своего сердца. А с этим спектаклем у него была связана вся жизнь. Когда-то, много лет назад, молодой актер Борис Добронравов выходил в народной сцене, играл стремянного, стоял в рындах, потом сыграл Голубя-сына, потом Красильникова, потом Клешнина и мечтал о царе Федоре… Ведь с этим же спектаклем была связана и вся история Художественного театра, так же как с пьесами Чехова и Горького. Все гастроли по стране и за рубежом начинались всегда «Царем Федором». В этот вечер спектакль шел уже в 920-й раз.
После антракта и «Сада Шуйских» началась четвертая картина — «Отставка».
Покои царя. Раннее тихое утро. Вдали временами слышны глухие удары колокола. Федору приснился вещий сон — примирение было ложным… И внутреннее беспокойство, которое Федор все время пытается скрыть, вдруг прорвалось в неожиданном крике: «Я царь или не царь? Царь иль не царь?» Но он тут же сникает и даже как-то стесняется своей несдержанности. И снова хочет помирить опять поссорившихся Годунова и Шуйского. Но это ему не удается: уходит Шуйский, а потом и Борис. Федор остается один с Ириной: «…на Бога надеюсь я. Он не оставит нас!» — убежденно произносит он. Федор знает: «Когда меж тем, что бело иль черно, избрать я должен — я не обманусь», потому что: «…тут по совести приходится лишь делать». И остается один с этой верой. Но один он бессилен что-либо решить.
Всегда после «Сада» я оставался на сцене и из-за кулис смотрел эту картину. Но на этот раз помощник режиссера Р.К. Таманцева почему-то мне не разрешила стоять в кулисе. Я ушел на четвертый этаж переодеваться. А когда спустился в актерское фойе, встретил Бориса Георгиевича — он шел, тяжело дыша, со сцены в свою комнату. Кивком головы со всеми поздоровался и закрыл за собой дверь. Разговоры в фойе притихли.
После второго антракта Борис Георгиевич, сосредоточенный, снова прошел мимо нас — играть шестую картину, «Святой». Картина эта большая и очень трудная для Федора.
Измученный, отчаявшийся, с заломленными за головой руками, сидит он над кипою бумаг в ожидании Шуйского, за которым дважды посылал. Вот наконец Шуйский приходит и сознается: «Да! Сегодня брата я твоего признал царем!» Федор растерян, он не ожидал такого прямого ответа. Но он и теперь не берет Шуйского под стражу, как того требует Клешнин, а тихо на ухо говорит Шуйскому: «Все на себя беру я, на себя!.. Да ну, иди ж, иди! Разделай, что ты сделал!» — и плечом вытесняет его из комнаты…
До жути ровно и спокойно произносил Федор этот приговор самому себе. Слова Шуйского: «Нет, он святой!.. Я вижу, простота твоя от Бога» — были точным определением того образа, который создавал Добронравов, — образа человека не от мира сего. Поэтому так неожиданен был буквально через мгновенье гнев Федора, когда он узнает о новом заговоре Шуйских, о том, что они хотят разлучить его с Ириной: «Под стражу их! В тюрьму! Пусть посидят в тюрьме», — прижимаясь к Ирине, повторяет неистовый Федор, боясь остановиться, боясь снова простить Шуйского. Эта пронзительная сцена была переломной у Федора — Добронравова.
Больше всего я любил, как Добронравов играл финальную 8-ю картину — «Перед Архангельским собором». Я всегда видел ее целиком, поскольку все время стоял на сцене в рындах.
Для Добронравова она была главной. Казалось, он весь спектакль шел и готовился к ней, ради нее играл эту роль. Это было видно и по тому, как он распределял свои силы в спектакле, и по тому, как он ее играл. Он часто повторял:
— Мои любимые роли те, которые дают возможность выразить сильные, трепетные чувства, страсти, в которых можно проявить нерв, темперамент.
Именно в этой картине и происходила подлинная трагедия царя Федора.
Во всю сцену — громадная стена Архангельского собора. Из храма доносится пение — идет панихида по Ивану Грозному. Трезвон во все колокола — выходит царь Федор в полном царском облачении, с тяжелым посохом в руке. У него усталый вид и грустный взгляд. Он опускается на колени, липом к собору и молится:
— Царь-батюшка! Наставь меня! Вдохни в меня твоей частицу силы и быть царем меня ты научи!.. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их, не слушаться!..
И когда он говорит Борису: «От нынешнего дня я буду царь!», — то видно, что это не прежний добрый Федор, а грозный царь. Но видно и то, чего стоит Федору это преображение, это насилие над собой, над своей природой. На глазах у зрителей происходила эта трагическая борьба с самим собой. Он то сдерживал себя, то вдруг в нем прорывалась отцовская кровь, и он швырял в Туренина свой тяжелый посох, когда тот сообщал, что Шуйский «сею ночью петлей удавился»:
— Лже-о-о-ошь! Не удавился — удавлен он! Ты удавил его!
И тут Добронравов с невероятным, потрясающим темпераментом, какой был у этого великого артиста, взывал:
— Па-ла-а-чей-й! Поставить плаху здесь, перед крыльцом! Здесь передо мной! Сейчас!!!
По-разному играли эту картину исполнители роли Федора. Н.П. Хмелев — лаконично и строго. Когда играл И.М. Москвин, было страшно за его Федора — так трепетно-беспомощны были взрывы его темперамента. Когда же играл Добронравов, то было страшно за окружающих — что он с ними может сейчас сотворить… У его Федора темперамент взрывается, «как Божий гнев». И, казалось, нет силы, которая бы могла его остановить. Только прочитав сообщение о смерти Дмитрия, он наконец осознает всю трагичность своего положения и от горя плачет, плачет, как ребенок… Ведь Дмитрий был его последней надеждой. А теперь он сломлен окончательно, он готов уйти от мира:
— В нем правды нет! <…> Мне страшно в нем… Арина! Спаси меня, Арина!..
Добро и зло несовместимы — он это понял и сдался:
— Не вмешаюся боле я ни во что!
Борис его победил.
Своими резкими переходами от светлой радости к смятению, от тихого, благостного покоя и святой доброты к бешеным взрывам гнева и от них — к беспомощной растерянности и слезам — Добронравов ошеломлял и держал зрительный зал в постоянном напряжении. Может быть, именно так он воплощал совет, который ему дал Вл. И. Немирович-Данченко.
Говорят, самым простым и правдивым — самым «мхатовским» — артистом в первом поколении был В.Ф. Грибунин. А среди артистов второго поколения МХАТа таким был, конечно, Добронравов. У него было абсолютное чувство правды, как бывает абсолютный слух у музыканта. «Я не приемлю «представления», — писал он в автобиографии. — Мне нужна внутренняя правда, для меня важно переживание». Поэтому он жил на сцене, жил органично и просто, как в жизни. Это была жизнь огромного, протестующего, любящего и мятущегося человеческого духа. Жизнь, прожитая на наших глазах. Духовная жизнь бесконечно богатой русской души. Именно в этом и было неотразимое обаяние Добронравова. Наверно, именно такие взлеты бывали у великих русских трагиков — П. Мочалова, П. Самойлова, П. Орленева, М. Дальского, Л. Леонидова и А. Остужева.
Финал спектакля был печальным. «…Хан идет. Чрез несколько часов его полки Москву обложат», — сообщает царю Борис Годунов. Начинается тревога — звон труб и колоколов. Все убегают. На ступеньках собора остаются только Федор с Ириной и нищие. Из собора опять доносится грустное пение. Скорбные, страдальческие, полные слез глаза Федора смотрят в зал. Его сломило трагическое чувство беспомощности, невозможности что-либо изменить не только в делах государства, но и в своей судьбе. Ведь он «последний в роде», и венец наследный некому будет передать, а это значит, на Руси начнутся «разрухи, смуты, разоренье царству…» Вот что тревожило Федора с первого его выхода, когда конь под ним вздыбился…
Добронравов тихо, медленно, без интонаций произносил свой финальный монолог:
Бездетны мы с тобой, Арина, стали!
Моей виной лишились брата мы!
Князей варяжских царствующей ветви
Последний я потомок. Род мой вместе
Со мной умрет… Моею,
Моей виной случилось все! А я —
Хотел добра, Арина! Я хотел
Всех согласить, все сгладить — Боже, Боже!
За что поставил Ты меня царем?
В этих строках Москвин делал ударение на слове «царем». А Хмелев — на слове «меня».
Добронравов же переставлял слова в последней строчке и делал ударение на «за что?» и поэтому произносил их дважды — ему было важно не «меня», а «за что?»:
За что меня поставил Ты царем?
За что?..
Пение хора в соборе продолжается… Медленно идет занавес.
Как самозабвенно всегда играл Добронравов эту роль! Это было настоящее потрясение! Успех всегда был громадный, всегда, на всех спектаклях, кроме последнего…
Обычно, когда Добронравов приходил со сцены после 6-й картины, для нас это было как бы сигналом идти переодеваться и готовиться к финалу спектакля. Но на этот раз Борис Георгиевич не пришел в свою комнату. Мы
долго ждали его прихода и не могли понять, почему его нет. Вдруг мимо нас через фойе пробежал костюмер Илья Александрович:
— Добронравову плохо!..
Сыграв 6-ю картину — «Святой», — Борис Георгиевич сказал помрежу:
— Больше я при таких свечах играть не буду.
Свечи все время гасли, так как работали от батарейки. Борис Георгиевич направился к тяжелой железной двери, ведущей со сцены за кулисы. Он открыл эту дверь. Готовящиеся выйти на сцену актрисы М.В. Анастасьева и М.П. Щербинина увидели, как Добронравов прислонился спиной к косяку двери и, съехав по нему вниз, рухнул на пол… М.П. Болдуман, исполнявший роль Бориса Годунова, шел в этот момент на сцену играть следующую картину и тоже видел, как все это произошло, и услышал только последний хриплый выдох Добронравова… Побежали за доктором, но было уже поздно — Борис Георгиевич Добронравов умер. Умер на сцене. Его отнесли в аванложу и положили на кожаный черный диван, на котором четыре года назад в гриме и костюме Ивана Грозного умер Н.П. Хмелев.
Режиссер П.В. Лесли объявил публике, что из-за сердечного приступа Добронравова спектакль продолжаться не может…
Больше трагедия «Царь Федор Иоаннович» в МХАТе не шла. Это было последнее исполнение спектакля, которым в 1898 году 14 октября открылся Художественный театр. С этим спектаклем была связана целая эпоха в истории МХАТа и всего русского театра.
…Мы выходили из театра молча. Во дворе были открыты ворота на улицу, где стояла толпа оцепеневших зрителей. Они не хотели уходить, они не хотели верить, что больше никогда не увидят артиста, который только что потряс их своей игрой… С ревом промчалась «скорая помощь», увозя из Художественного театра последнего царя Федора.
В.Л. Ершов
До войны и в Москве, и в Ленинграде я часто видел В.Л.Ершова не только на сцене, но и в жизни — когда он шел, очень высокий, стройный, с тростью в одной руке и с перчаткой в другой… Это была незабываемая картина! Я помню, когда по Невскому проспекту шли актеры Художественного театра, то выше всех был Кондратьев, а монументальней всех возвышался над прохожими, конечно, Ершов. О ролях я не говорю, на сцене он был еще более величествен: и в Нехлюдове, и в Великатове. У него были маленькие, почти детские руки, но он очень любил на сцене иногда шикнуть, стягивая элегантную перчатку с каждого пальца, или сделать рукой какой-то небрежный аристократический жест…
Конечно, после Качалова он был в Художественном театре самый благородный человек, рыцарь и джентльмен. Он и еще, разумеется, Болдуман.
Ершов с Массальским были верные друзья, и всегда на улице на них все обращали внимание: это шли гвардейцы Художественного театра. Все знали, что они живут в одном доме на улице Кирова и знали их «пешеходный маршрут» домой. Знали их «заходы» после спектакля или репетиции. Это «Под шарами», «У тети Кати», «Библиотека» и, конечно, «Савой» — у стойки (под конфетку коньяк и еще коньяк, а то «осталась закуска»).
Я играл вместе с Ершовым, и это была большая радость и на сцене, и за кулисами. Он всегда был одинаково доброжелателен.
В 1948 году мне дали роль Чарльза в «Школе злословия». Режиссером был почему-то артист Л.Ф. Еремеев. А когда потом пришел Владимир Львович, он очень внимательно смотрел на меня и как партнер, и как старший мастер, который хочет мне помочь. Конечно, он понимал, что положение у меня (да и у него) сложное, так как эту роль великолепно играл его друг Паша Массальский. И В.Л. Ершов вдруг мне сказал после просмотра: «Вам рано играть эту роль — тогда надо будет менять весь состав…» И он оказался, как всегда, мудр и прав…
И все-таки я с ним встретился еще несколько раз в работе — и тоже по вводу.
Это было в 1956 году — МХАТ впервые (после Парижа 1937 г.) выехал на гастроли в Европу… А меня в Москве вводили в Горинга в «Идеальном муже». Я репетировал с Ершовым. Он деликатно учил меня носить фрак, держать цилиндр, сидеть, обращаться с моноклем и т. п. — хотел, чтобы я сыграл эту роль хорошо. После репетиций в Москве (в фойе) у меня было 2–3 репетиции уже на сцене, но не в Москве, а в Запорожье. Я был окрылен поддержкой Ершова и ситуацией, когда я «выручаю» театр, а потом еще тем, что я был назначен руководителем этих гастролей и мог сказать, как говорил Кторов: «Если это плохо, играйте сами!» А когда я вышел на сцену, то в зале раздались аплодисменты (в то время я был еще известным киноактером). Это дало мне абсолютную свободу на сцене (впервые за 10 лет работы в Художественном театре!). Я сыграл с большим успехом. Все меня поздравляли, а В.Я. Виленкин прислал телеграмму из Москвы.
После этого в номере у Владимира Львовича мои старшие товарищи (Ершов, Гаррель, Пилявская, Строева, Конский) устроили мне «прием». Я был как бы принят и признан коренными мхатовцами… А Владимир Львович предложил с ним даже выпить на «ты»… «В.И. Качалов примерно в таком же возрасте предложил мне перейти с ним на «ты», теперь я хочу это сделать…» (Ершову тогда было 60 лет, мне 32 года). Мы гуляли всю ночь, была весна, май… Украина… все цвело во всех садах и парках…Наутро я пошел на рынок и увидел в окне второго этажа — Ершов на подушке дышал утренним воздухом… Увидев меня, он на всю улицу крикнул: «Владлен, ты помнишь, что мы с тобой на «ты»»?!!
Там же, в Запорожье, некоторые наши артисты «развязали» и развязались: один бегал и кричал, что он «партизан в лесах Украины», другой заявлял, что он «не может пить этот химический кефир-ацидофилин»… Надо было что-то делать, чтобы остановить пьянство. И я решил так: собрал все руководство гастролей — Г.Г. Конского как художественного руководителя гастролей, А.А. Андерса — партсекретаря, Г.А. Заявлина — представителя дирекции и В.Л. Ершова как старейшего. Вызвали всех провинившихся. И — начался «спектакль»…
Начал, конечно, Андерс, потом — Конский. Они говорили о значении первых гастролей в Запорожье и т. д. Я не знал, что говорить, но как руководитель должен был проштрафившихся «строго осудить». Ершов и Блинников молчали (уж кто-кто, а они сами были в этом деле не святыми). Когда все «начальство» выдохлось, Ершов очень серьезно сказал: «Увольнять не надо. Надо помиловать». Ну, мы так и решили: не увольнять, не высылать в Москву, а объявить выговор, о котором потом сообщить в Москву. «Ты знаешь, почему я не стал алкоголиком? Никогда не надо опохмеляться», — сказал мне Владимир Львович после этого собрания.
И еще о гастролях на Украине. В 1956 году в Днепропетровске была жуткая жара. Я встретил Ершова около гостиницы. Он был рад со мной пообщаться, так как в Кривом Роге, где мы были до этого, я много играл и не успевал даже поговорить с ним. А тут мы долго разговаривали в тени деревьев у гостиницы… Он делился со мной «опытом»: «Я вон на той стороне, в подвальчике, спасаюсь от жары. Там дают коньяк с холодным шампанским». Потом как-то позвал меня к себе в номер. Я пришел. Он сидел за круглым столом в пижаме и раскладывал пасьянс — в очках. Своей маленькой рукой с перстнем на мизинце какими-то резкими и элегантными движениями вытаскивал из колоды карты… На столе стояла бутылка коньяка, стопка серебряных рюмочек, которые вкладывались друг в друга, как матрешки. Когда я вошел, он отложил карты, снял очки и предложил мне рюмку. Мы долго с ним «обо всем» беседовали. Тогда в газетах только что сообщили о самоубийстве писателя А.А. Фадеева. И Ершов с горечью говорил: «Зачем же о нем пишут? Он ведь был для нас настоящим большевиком. Он верил Сталину, а о нем говорят, вот я прочитал в «Советской России», что, мол, это был совсем не тот коммунист… А ведь первыми коммунистами были мы, дворяне, декабристы…»
Потом мы общались с Владимиром Львовичем осенью на гастролях в Архангельске. Там мы отмечали его 60-летие. Это был настоящий русский стол со стерляжьей ухой, черной икрой, водкой, коньяком. «Я решил, чтобы потом вспоминали Архангельск не как «доска, треска и тоска»…» Один артист среднего возраста вдруг насторожился, услышав, что мы с Ершовым на «ты». И обратился к нему: «Вы что, с Владленом на «ты»? И я хочу с вами перейти на «ты»! На это Владимир Львович коротко ответил: «Рано!»
В 1961 году мы встретились в спектакле «На дне», он — Сатин, я — Барон. Режиссер И.М. Раевский дал мне эту роль. Он всегда окрылял меня своим полным доверием. А в создании образа Барона очень мне помог, конечно, Владимир Львович. Я очень люблю его в роли Сатина. А как партнер, особенно в 4-м акте, он был такой интересный, так поддерживал меня, что я всегда шел на этот спектакль с радостью. Я почему-то очень ярко представлял, как играл Сатина Станиславский — ведь Ершов был так на него похож. Последний раз я с ним играл в этом спектакле на гастролях в Ленинграде. Его привозили в театр уже совсем больного, и мы с ним возвращались на машине в гостиницу. Потом он уехал в Москву, мы с ним по-дружески простились: «Все! Еду сразу в больницу… Прощай, мой друг!..» Но мы с ним еще раз (последний) увиделись, когда я наконец с его разрешения приехал к нему в Кунцевскую больницу. Это был май 1964 года. Театр уехал на гастроли в Лондон. А в Москве продолжался сезон. Мне позвонил наш театральный доктор Иверов и сказал: «Владимир Львович просил передать, что тридцатого мая вы можете навестить его вместе со мной!» Театр дал машину, и мы с Иверовым отправились в Кунцевскую больницу.
У ворот нас остановили и потребовали пропуска, но Иверов вышел из машины, распахнул свой плащ, под которым виднелся белый халат, и сказал: «Я — главный врач Художественного театра, еду с заслуженным артистом Давыдовым к народному артисту СССР Ершову!» «Проезжайте», — последовало короткое распоряжение. Мы подъехали к громадному зданию. Разделись. Нас спросили: «А к какому больному вы идете?» Иверов почему-то очень гордо ответил своим писклявым голосом: «К безнадежному!» Я ахнул от этой «искренности»…
Мы поднялись на лифте на 6-й этаж и вошли в небольшую палату. Владимир Львович лежал на высокой кровати и читал маленькую книжечку Вадима Андреева «Детство». Когда мы вошли, он приподнялся на подушке, протянул мне руку и первое, что спросил: «Ты помнишь, что мы с тобой на «ты»»? — «Да, да, конечно, Володя». А Иверов стоял спиной к нам и смотрел в окно…
Мы говорили о том, как «наших» в Лондоне посадили на военный аэродром, а не на городской. «Я очень за них волновался, — говорил Ершов, — но я уверен, что прием будет у зрителей, как в прошлый раз, в пятьдесят восьмом году, отличный. Театр тогда имел феноменальный успех, я это видел сам…» Он стал меня расспрашивать о моей жизни и утешать, что вот, я опять не поехал на гастроли с театром за границу: «Ну, ты еще молодой, у тебя все еще впереди. А вот я уже отсюда могу поехать только на кладбище…» Иверов вдруг обернулся и стал подробно объяснять, что делают врачи, чтобы он выздоровел. Но Владимир Львович очень просто сказал ему на это: «Я все понимаю…»
Перед нашим уходом он еще раз мне сказал, чтобы я не переживал: «Зато твоя Марго опять поехала…» Он снова приподнялся на подушке, притянул меня за руку, трижды поцеловал и махнул рукой, не то благословляя, не то прощаясь…
Через неделю, 7 июня 1964 года, он умер. Это была еще одна смерть в Художественном театре, которая меня потрясла до глубины души. Из старшего поколения театра почти никого не было на похоронах, так как театр все еще был на гастролях в Лондоне. И верный друг Ершова П.В. Массальский был далеко от него; он прислал из Лондона его жене Анечке Комоловой телеграмму с соболезнованиями.
Я не мог сдержать слез, когда говорил слова прощания, а потом ушел из зала и ревел, как мальчишка, так мне было горько видеть Владимира Львовича в гробу и прощаться с ним — удивительно добрым, благородным человеком, великолепным, истинно мхатовским артистом, интеллигентом. Я вспоминал его рассказы о том, как он на спор (на дюжину шампанского) поступал в Художественный театр. Он вообще любил с юмором и добродушно рассказывать о себе смешные истории. Например, как однажды женщина на улице вдруг обернулась к нему и воскликнула: «Господи, а я думала, вы на лошади!»
А еще я вспоминал рассказ моих коллег по театру. В 41-м году, когда немцы подошли вплотную к Москве и перепуганные актеры за кулисами обсуждали это, Ершов заявил твердо и решительно: «При немцах играть не будем!»
Незадолго до смерти он сказал мне: «Вот, Владлен, не успел постареть, а уже умираю!»
Он и в самом деле не успел постареть…
А.П. Зуева
Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.
Б. Пастернак «Актриса»
«…Родилась я в селе Спасском Тульской губернии. Мой отец был гравером на знаменитых самоварных заводах. Я окончила прогимназию и очень любила играть в любительских спектаклях…»
Именно поэтому она поступила в Москве сперва в «Школу трех Николаев» (частная школа драматического искусства под руководством Николая Афанасьевича Подгорного, Николая Григорьевича Александрова и Николая Осиповича Массалитинова), а потом во 2-ю Студию МХТа. Там играла в знаменитом спектакле «Зеленое кольцо», и в 1924 году ее вместе с остальными участниками спектакля (А. Тарасовой, Н. Хмелевым, К. Еланской, И. Судаковым, О. Андровской, Н. Баталовым, В. Вербицким) приняли во МХАТ.
Так сложилась актерская судьба Анастасии Платоновны Зуевой, что она с молодых лет стала играть характерные роли в пьесах Островского, Гоголя, Толстого, Горького. Это были свахи, знахарки, кухарки, няньки, приживалки, торговки, крестьянки, матушки, тетушки, старушки, монашки, кумушки, ключницы… Все эти Улиты, Мавры, Марьи, Матрены, Анфисы… И уже в молодости Зуева старалась, чтобы они были не только немолодыми, но и непохожими друг на друга. Пожалуй, лишь голос она так и не смогла изменить. Но в каждой роли находила интересную характерность, яркий грим, порой гротесковость…
В прелестной Коробочке (один из ее шедевров) у Зуевой не только грим был сложный, она даже руки делала беленькими и пухленькими. А в роли крестьянки Матрены в «Воскресении», напротив, на каждый сустав наклеивала гуммозу и замазывала морилкой, отчего руки казались корявыми, как лапки у курицы…
В этой драматической сцене, получив деньги от князя Нехлюдова, она вдруг словно просыпалась и радостно вопила ему вслед: «Ах ты мой брильянтовый!»…
А у ее Улиты в «Лесе» были громадные уши и озорные, жуликоватые глаза (ключница ведь!).
В каждой роли у нее были яркие сцены. В «Талантах и поклонниках» в финальной картине на вокзале ее Домна Пантелеевна все боялась опоздать на поезд, и вдруг в самый последний момент у нее рассыпалась связка баранок. Она их в панике собирала и с криками под аплодисменты убегала со сцены…
И совсем другой выглядела добрая, милая, трогательная нянька Анфиса из «Трех сестер». Однажды, когда спектакль возобновляли, актриса очень уж старалась сыграть старость и дряхлость Анфисы. Режиссер В.Я. Станицын спросил у нее:
— Настя, сколько тебе лет?
— Ну-у восемьдесят, а что?
— Так ведь и Анфисе восемьдесят, зачем ты ее играешь такой дряхлой?
А в жизни Анастасия Платоновна иногда говорила нам обиженно и с укоризной:
— Мы не старые, мы — старшие…
Она была дотошной не только в творчестве, но и в жизни. Ее все волновало: и шум за кулисами, и атмосфера, и неудачи и успехи театра, в котором, как она говорила, «не работала, а служила искусству и людям».
Во время войны Зуева была непременной участницей фронтовых бригад, а когда война кончилась — военно-шефских концертов. Если приезжала к морякам, ей надо было осмотреть весь корабль. А на Камской ГЭС все спрашивала:
— А атом? Где здесь атом?
Особенно она переживала неудачи театра.
— Ну что вы там на своих собраниях все говорите? Вы, партийцы, почему не спасаете театр?
У нее была добрая душа. Она многим помогала, приносила из кремлевской аптеки редкие лекарства. Мне на своей фотографии написала: «Доброта души — то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею».
В последние годы Анастасия Платоновна часто болела и подолгу лежала в больнице. Помню, в 1983 году мы приехали к ней в Кунцевскую больницу. У входа встретили композитора Г. Свиридова.
— Вы к кому идете? — спросил он.
— К Зуевой.
— Ну тогда передайте ей привет и поблагодарите за смелую статью о современном МХАТе в «Огоньке».
Мы, конечно, все передали Анастасии Платоновне, а она на это с горечью ответила:
— Вот из-за этой-то статьи я и попала в больницу.
В статье Анастасия Платоновна откровенно высказала свое мнение о положении дел в Художественном театре.
Конечно, она, как и некоторые ее соратники, понимала, что и на их совести лежит ответственность за все, что происходит с театром. Но эти великие артисты второго поколения порой любили больше себя в искусстве, чем искусство в себе, забывая о предостережении основателей театра.
А.П. Зуева была откровеннее и простодушнее многих. Однажды я спросил ее:
— Почему вы не были на вечере Ангелины Осиповны Степановой, когда ей дали Звезду Героя Социалистического Труда?
Она искренне ответила:
— Владленушка, я боялась умереть от зависти…
А чему было завидовать ей, уникальной русской актрисе, которой посвятил такие прекрасные стихи Борис Пастернак?
Меняются репертуары,
Стареет жизни ералаш.
Нельзя привыкнуть только к дару,
Когда он так велик, как Ваш…
И как прекрасно, что внучка Анастасии Платоновны Лена так чтит память своей добрейшей бабушки, неповторимой, поистине великой русской актрисы. Она отмечает ее даты, собирает в своем хлебосольном доме, под чудесным портретом Анастасии Платоновны, ее друзей.
Контрасты и парадоксы Бориса Ливанова
Какое блестящее созвездие неповторимых индивидуальностей было во втором поколении артистов МХАТа. И при этом ведь каждый из них не терял собственной глубины и яркости! В юности, когда я с восторгом смотрел спектакли МХАТа, я еще не понимал, в чем их главный секрет. Но став артистом и проработав в этом театре много лет, понял, что МХАТ достигал вершин только тогда, когда эти артисты были вместе, когда в жизни и на сцене их вдохновляла одна идея. И все несчастья театра начались именно тогда, когда этого не стало…
Бориса Николаевича Ливанова я впервые увидел в 1936 году в «Дубровском». Как раз в это время в школе мы «проходили» Пушкина. И поэтому всем классом пошли смотреть фильм. Впечатление было незабываемое — мы увидели живых персонажей пушкинского романа. Все, конечно, были влюблены в Дубровского, и нам не хотелось верить, что это играют артисты. Так и остался в памяти на долгие годы образ смелого, обаятельного героя.
Потом я увидел Ливанова на сцене и был поражен размахом таланта этого артиста. И ведь действительно создания его были порой полюсными: благородный и горячий Кассио в «Отелло» и тут же «земноводная личность» Аполлос из Унтиловска; или доверчивый и радостный казах Кимбаев в «Страхе» и «женоненавистник» Кавалер Ди Риппафрата в «Хозяйке гостиницы»; очаровательный соблазнитель Бондезен («У врат царства») был так не похож на шумного и веселого Швандю в «Любови Яровой»; и уж совсем был неожиданным после романтического красавца Чацкого — курносый, с низким лбом, мрачный Соленый (он был неожиданностью даже для Вл. И. Немировича-Данченко)…
Бесконечное количество раз видел я его Ноздрева, и в театре, и в концертах. Такого осатанелого темперамента и вихря неожиданных (именно неожиданных!) красок на сцене я просто не мог себе представить. Вот уж поистине вся гоголевская Русь с ее ярмарочной пестротой и цыганским озорством оживала у вас на глазах! И еще за кулисами, когда Борис Николаевич только делал ноздревский грим, он вызывал восхищение чертовской смелостью своего создания.
Да, смелость, да, контрасты, причем не только характеров, но и жанров. Драма — Соленый, комедия — Ноздрев, трагедия — работа над Гамлетом…
Это не просто смелость артиста и яркость грима — нет! — это было внутреннее ощущение характера и подлинное перевоплощение. Поэтому самые гиперболические краски были всегда оправданны и убедительны.
Борис Николаевич часто и настойчиво говорил:
— Нехарактерных ролей нет, все роли характерные. Характеры, образы, а не амплуа — вот что самое интересное на сцене!
Познакомился я с Борисом Николаевичем в 1944 году. Тогда я учился в Школе-Студии и еще ходил в военной форме — морской. И вот однажды, когда я сидел в литературной части театра у Виталия Яковлевича Виленкина, к нему зашел Ливанов. Увидел меня в форме и воскликнул: «Это что, в студии уже готовят мне дублера в «Курсантах» — молодого Рыбакова?!»
После такого знакомства Борис Николаевич всегда приветливо улыбался, когда я с ним здоровался при встречах.
В те годы я видел Ливанова на репетициях «Гамлета» с верхнего яруса, куда тайком иногда проникал. Ему было сорок лет, и он был прекрасен.
Потом он пригласил меня на запись в свою радиопостановку…
Потом в 1954 году на гастролях во Львове мы отмечали его 50-летие…
Потом… много было потом…
Когда его большая и стройная фигура стремительно появлялась в фойе театра, то все Ждали от него чего-то неожиданного и интересного. Но совсем иным он бывал за кулисами, перед выходом на сцену — собранный, сосредоточенный и даже чужой и далекий — весь в образе.
Мне нравилось наблюдать, как Борис Николаевич по-разному готовился к своим ролям. Он не всегда сам гримировался, но всегда сам находил грим для своих образов. К одной роли он готовился сосредоточенно, серьезно, ни с кем не общаясь, а к другой — как-то весело, игриво и озорно, искоса поглядывая через зеркало на вошедшего к нему в артистическую комнату и как бы ожидая от него чего-то… Но всегда он был не будничный, а торжественно-тревожный, с волнением и подъемом, ожидая «упоения в бою», зная, что вот сейчас он выйдет на сцену и будет на глазах у зрителей делать что-то интересное — творить, играть, увлекать своим темпераментом и обаянием зрительный зал. Он все роли играл с творческим азартом и упоением.
И режиссурой занимался с азартом. И оставался таким же максималистом, как и в актерском искусстве.
Сложная и долгая работа шла над спектаклем «Братья Карамазовы» по Достоевскому. Ливанов — автор инсценировки — вместе с П.А. и В.П. Марковыми был режиссером-постановщиком и исполнителем роли Дмитрия Карамазова.
Работа началась в трудный период жизни Ливанова во МХАТе. Перед зарубежными гастролями Бориса Николаевича сразу заменили в двух чеховских ролях — Соленого и Астрова. Он оказался почти в полной изоляции… В это же время актеров, которых он назначил на ответственные роли Федора Павловича Смердякова и отца Зосимы, собирались перевести на пенсию… Работа осложнялась гастролями театра в Лондоне, Париже и Японии, хотя сам Ливанов в них не участвовал.
Репетиции начинались в конце 1957 года, а премьера состоялась только в апреле 1960-го. Всего 324 репетиции. На многих я присутствовал, так как вместе с Б.А. Смирновым был назначен на роль Ивана Карамазова.
Три режиссера дополняли друг друга. Борис Николаевич был неисчерпаем. Рассказывал, спорил, показывал, шутил, подсказывал, рисовал, импровизировал… Сколько он создал образов, как увлеченно и влюбленно — и в актеров, и во все роли — работал. На наших глазах лепил образ Федора Павловича и М.И. Прудкину, вначале сомневавшемуся, подходит ли он, помог создать одну из лучших ролей в спектакле. Такая же вдохновенная работа шла с В.В. Грибковым, который сыграл свой последний шедевр — Смердякова…
Сам Борис Николаевич как актер, исполнитель главной роли, работал с волнением и, казалось, торопился — ведь в свое время Л.М. Леонидов в этом возрасте (пятидесяти четырех лет) уже перестал играть Дмитрия Карамазова, а он только начинал репетировать…
Самое сильное впечатление на меня произвел показ всего спектакля в верхнем фойе театра. В двух метрах от зрителей происходили трагические события романа Достоевского. Все актеры играли без грима и театральных костюмов и «спрятаться», как говорится, было не за что. Борис Николаевич своей искренностью и темпераментом увлек всех — и исполнителей, и зрителей. Его Митя с распахнутой душой был особенно трогателен в сцене с Алешей в беседке. А в картине допроса Ливанов своим негодующим и страстным темпераментом потряс всех до слез. Ошеломил и Грибков своим Смердяковым — с его жуткой логикой и леденящим душу покоем убийцы. Блеснул своим виртуозным мастерством Прудкин в роли Федора Павловича. Впечатление усиливалось еще и тем, что весь спектакль прошел как бы на одном дыхании — между картинами почти не было перерывов, которые потом так затягивали этот большой спектакль (ведь было 12 картин в 4-х действиях).
Через пять лет после премьеры Борис Николаевич решил ввести на роли Дмитрия и Ивана новых исполнителей. Конечно, он не без боли расставался со своей любимой ролью Дмитрия, на которую вводил Льва Золотухина. А для меня работа над образом Ивана Карамазова была необычайно интересной и трудной — ведь гений Достоевского бесконечен, как мир, а требования Ливанова были порой невыполнимы. Я записывал на полях текста своей роли замечания и высказывания Бориса Николаевича во время репетиций и вместе с его рисунками Ивана Карамазова храню эти записи в своем архиве. Вот часть их:
«Критики Достоевского умирают каждую эпоху, а Достоевский живет и нуждается в новой критике…» «Сверхзадача Ивана Карамазова — все осознать, все объяснить…»
«Ивана мучает парадокс: мир ужасен, а жить хочется! Вот зерно образа».
«Владик, дорогой, ищи в себе Ивана — ты близок по своей химии к этой роли. Воспитывай, утверждай в роли жесткость, точность. Мысль, а не чувство на первом месте. У Ивана мысль перерождается в страсть».
«Обаяние Ивана — в отсутствии обаяния…»
Но работа над этой ролью была мучительной. Вернее, не работа, а то, что происходило вокруг этой роли… И хотя и я, и Лева Золотухин были назначены на роли Ивана и Дмитрия во втором составе с самого начала, но сыграть нам их дат и, как я уже говорил, только через 6 лет после премьеры — в 1966 году.
13 января 1966 года весь день в театре шло перевыборное партсобрание. В перерыве все с нетерпением ждали результатов голосования: кто будет секретарем, снова Губанов или Степанова? А. К. Тарасова, как это иногда с ней бывало, в каком-то радостном возбуждении во время перерыва вдруг стала рассказывать, как играл Л.М. Леонидов роль Дмитрия Карамазова: «Он уже за кулисами в первой картине что-то бросал и кричал, а потом стремительно выходил на сцену, в фуражке, и, чеканя текст, как-то особенно, по-военному, говорил Алеше: «Велел кланяться и раскланяться!» — и резко уходил… Я всегда смотрела, мне это много давало… А «Мокрое»! У него что-то не выходило с Германовой — Грушенькой, когда она лежит… Немирович-Данченко прогарцевал на сцену, сел рядом с Германовой и показал Леонидову, как Митя смотрит на Грушеньку… — «Вот так два года мог бы смотреть на нее»… Рассказывал Москвин, что у Немировича-Данченко пятнадцать лет был роман с Германовой. Он каждое слово ей сделал — так он с ней работал. Она была очаровательна в Грушеньке и прекрасно играла… Да и все они были взвинчены до предела. Качалов в сцене суда падал в обморок! Но патологии, натурализма не было. Они все были увлечены, и все прекрасно играли: и Москвин — «Мочалку», и Леонидов — Митю, и Лужский — отца, и Качалов — Ивана, и Коренева — Лизу (ее этот негодяй Булгаков в романе изобразил ужасно…). Леонидов «допрос» играл страшно: глаза навыкате и этот вопль: «Узко-о!», когда на него надели не его рубаху… Элеонора Дузе в Америке смотрела этот спектакль в двадцать третьем году и очень хвалила. Однажды Леонидов на репетиции в этой сцене попросил стул, чтобы не качался, а ему опять дали, который качался, и он его швырнул в кулисы так, что все шарахнулись, но никто его не записал в протокол и никуда не вызывал…»
Алла Константиновна показала, как Леонидов, сидя верхом на стуле, два раза левой рукой махал, показывая, как он убил отца… Она была так хороша, когда рассказывала, вдохновенна, красива и молода! И так играла все это, с таким нервом, что я сразу представил, как играл эту роль Леонидов…
«Леонидов играл эту роль гениально! Он говорил, что ему дали эту роль «только потому, что Карамазовых было три брата»… Он ведь выгнал Немировича-Данченко из своего дома, когда они из-за чего-то поругались…»
И дальше совершенно неожиданно она вдруг сказала мне: «Вы с Левой Золотухиным подходите — у него и у вас, Владлен, что-то есть для этих ролей, вы можете их хорошо сыграть. Ох, какие это роли!..»
Тут сидел и Б.Я. Петкер и рассказывал, как в 1941 году умер Леонидов и они ездили за его прахом и когда всыпали пепел в урну, а она оказалась мала, то A.M. Карев вдруг голосом Леонидова закричал: «Узко!!» Это было страшно!!
…23 января 1966 года сыграли наконец «Братьев Карамазовых». Я был невероятно увлечен работой. Бросил курить и совсем не пил. Для меня эта работа была последней надеждой — или я артист и могу эту роль сыграть, как я ее чувствую, и меня признают, или я думаю о себе неверно — я только знаю КАК, но не умею… Одним словом, это моя последняя ставка. Я работал с остервенением и даже во сне репетировал роль.
Однажды во время репетиции наш замечательный артист и добрейший человек Владимир Алексеевич Попов спросил меня:
— Ну, как ваш Иван? Вы еще не овладели ролью? А потом он влезет в вас и овладеет вами — это ведь Достоевский!
Ливанов меня немного сбил в пятой картине («Столичный город») и просто оседлал в десятой картине («У Смердякова»), но в сцене «Суда» я сам примерялся и распределялся и мало репетировал, и он меня не трогал. И вышло то, о чем я мечтал, — меня признали, и именно в сцене «Суда!! Я рад, я счастлив, я горд, я воспрял духом, верой в себя — артиста! Значит, я могу, значит, я не бездарен! Артистки Т. Михеева и Е. Строева (они были заняты в сцене «Суда») меня очень хвалили и даже сказали: «Мы решили, что вы должны играть царя Федора». В мае П.А. Марков снова посмотрел нас в «Братьях Карамазовых» и сказал мне: «"Суд" и "У Смердякова" — вот это настоящее, а пятая картина («Столичный город». —
В.Д.) с Алешей пока неглубоко». Да, это было верно.
А когда мы уже начали с Л. Золотухиным играть, Ливанов приходил на спектакли и приносил нам листки бумаги, исписанные в темноте его крупным, размашистым почерком, с замечаниями и пожеланиями. И снова говорил о Достоевском, о смысле нашей профессии:
— Кедров считает, что главное в нашем искусстве — тонкости, а я считаю — сложности.
Или:
— Константин Сергеевич говорил, что каждый спектакль надо играть как первый, а я думаю, что каждый спектакль надо играть как последний в своей жизни!..
И действительно, Ливанов весь, до конца отдавался всему, что он делал в жизни и на сцене. Так он и с нами репетировал. Я не помню ни одной вялой и скучной репетиции. Порой он давил своим темпераментом, своей безбрежной фантазией и требовательностью — вот сейчас же сделать все то, о чем говорит. Но зато если что-то удавалось — искренне радовался и ликовал. И если уж он был в чем-то твердо уверен, спорить с ним было бесполезно.
В 1956 году с режиссером И.М. Раевским я довольно долго работал над ролью «От автора» в спектакле «Воскресение». На одну из репетиций, которая проходила уже на сцене, мы решили пригласить Ливанова, правда, опасались, что он не придет, так как репетиция начиналась рано утром. Но Борис Николаевич пришел и, внимательно просмотрев всю репетицию, сказал:
— Только создатель этой роли Василий Иванович Качалов имел право говорить от имени такого автора, как Лев Толстой. Конечно, ты, как и все мы, находишься под обаянием этого великого артиста, но тебе надо найти свое решение, а не подражать ему. Ты имеешь право говорить от театра, от автора инсценировки, но ты должен быть не комментатором, а посредником между театром и современным зрителем, который знает тебя. Эта позиция сразу даст тебе свободу и полное право вмешиваться во все происходящее на сцене.
Внимание и поддержка Бориса Николаевича в этой сложной работе были для меня тогда решающими. Такое не забывается никогда!
…Вечером мне дали роль Дорна в «Чайке» и сказали, что завтра репетиция с Ливановым и послезавтра днем репетиция, а вечером надо играть. Наутро, после того как всю ночь учил текст, я пришел на репетицию с твердым намерением отказаться от роли. Но Борис Николаевич меня переубедил, и не словами, а работой. А потом, когда я уже сыграл эту роль, он мне сказал:
— Да, времени у нас было очень мало, но ведь ты всей своей жизнью готовился к этой роли…
Он умел поддержать в человеке веру в себя. Помню, как в 1968 году он радовался новому составу «Трех сестер». Я записал тогда его слова:
— Я очень доволен этим прогоном, это ваша победа, молодцы! Когда мы готовили этот спектакль с Немировичем-Данченко, никто из «стариков» не верил, что мы сыграем — это нормально! Но если вы сами взволнованы чеховским содержанием, это волнует невероятно! То, что вы делаете, — это не копия, это новые индивидуальности, а значит, новые человеки… Сегодня вы прошли «огонь, воду, медные трубы и волчьи зубы»… Поздравляю и желаю…
Мне он тогда сказал:
— То, как ты играешь роль Кулыгина, это твое большое приобретение, и можешь положить его в свою копилочку.
Тут хочу сделать небольшое отступление. В 1956 году на гастроли в странах народной демократии МХАТ привез спектакль «Три сестры», который играли исполнители с 1940 года. И поэтому в одной из газет появилась рецензия: «После XX съезда в Советском Союзе изменилось все, кроме состава «Трех сестер» во МХАТе».
Конечно, после такой рецензии везти в этом составе «Трех сестер» в Лондон и Париж в 1958 году было стыдно. И директор театра А. В. Солодовников по предложению режиссера этого спектакля И.М. Раевского назначил молодой состав исполнителей.
Но через 10 лет другой режиссер, К.А. Ушаков, перед гастролями в Японии назначил в «Трех сестрах» еще более молодой состав исполнителей. Правда, и в этот раз не обошлось без протеста некоторых (не всех) «стариков».
Выступления, высказывания, замечания Бориса Николаевича всегда были яркими, образными и страстными, а остроты — неотразимыми. У него был острый глаз художника.
Когда он приходил на какое-нибудь совещание или собрание, то сейчас же вынимал из кармана ручку, чистые листки бумаги и начинал незаметно кого-нибудь рисовать. При этом всегда слышал и видел все, что происходило вокруг, и время от времени вставлял точные и остроумные реплики. Шаржи его были не всегда дружескими, но всегда удивительно точно раскрывали сущность человека. Он почти никогда не показывал эти свои рисунки. Рисовал он не только шаржи. Часто делал наброски и эскизы для своих ролей, и не только для грима и костюма, а выражал в них характер и суть образа, как это было с Соленым, когда его собственный рисунок помог ему окончательно найти решение этого оригинального образа.
В Художественном театре всегда были артисты, которые умели тонко и остроумно имитировать, «показывать» разных людей. Таким своеобразным талантом обладали В.В. Лужский и Б.Г. Добронравов, который любил в своих рассказах-импровизациях «разоблачать», как он говорил, людей. В наше время мне довелось видеть «показы»-импровизации П.В. Массальского и Ливанова. Борис Николаевич, когда говорил о каком-нибудь интересном человеке, всегда слегка «показывал» его — намеком, деликатно, как бы между прочим, с юмором, двумя-тремя штрихами выражая его сущность так же, как он это делал в своих рисунках.
Борис Николаевич как-то рассказывал, что художники Кукрыниксы, увидев его шаржи, опубликованные впервые в «Огоньке», очень его хвалили и шутя предложили даже с ним объединиться. Но Ливанов им ответил:
— Это опасно — тогда наш общий псевдоним станет вызывать у всех сомнение: «Кукрыниксы — Ли?».
В свободное время Борис Николаевич любил прогуливаться по улице Горького (ныне Тверская), «под липами» у своего дома, на котором теперь установлена мемориальная доска с его профилем. Встречая на этих прогулках знакомых (особенно в последние годы жизни), он обязательно беседовал с ними: шутил, расспрашивал о театре, о новостях, острил… Об очень худощавом человеке он сказал:
— Про него не скажешь «тело-сложение», а скорее «тело-вычитание».
Когда знакомил кого-нибудь с женой, обычно представлял:
— Это моя половина, моя
лучшая половина.
Говорят, министр культуры СССР Е.А. Фурцева как-то сказала:
— Борис Николаевич, пить надо меньше!
Ливанов тут же уточнил:
— Простите, меньше кого?
Все знали, что Екатерина Алексеевна была пьющей дамой.
Ему как-то позвонили из театра.
— Борис Николаевич, завтра вас вызывают в Художественную часть.
Он ответил:
— Как это художественная
часть может вызывать к себе художественное
целое!
М.Н. Кедров возобновлял спектакль М. Горького «Враги», а Ливанов только что поставил горьковского «Егора Булычева». Перед генеральной репетицией «Врагов» Борис Николаевич в шутку на ходу бросил:
— Иду смотреть своих «врагов» в гримах и костюмах…
На все события Ливанов быстро реагировал и всегда имел свое определенное мнение.
Одно время шел странный диспут в печати: нужен ли нам профессиональный театр или можно обойтись самодеятельностью. На это Борис Николаевич сказал Е.А. Фурцевой:
— Почему возникает такой вопрос? Когда вам необходимо, вы же обращаетесь к профессиональному врачу и даже к профессору, а не к самодеятельному лекарю или знахарю.
В театре на собрании кто-то возмущался, почему дирекция и бухгалтерия получают квартальные премии больше, чем актеры.
Ливанов тут же парировал:
— Но и за высокие удои молока премии получают ведь не коровы, а доярки.
Эту шутку один киноактер даже включил в свой концертный репертуар.
Однажды Е.А. Фурцева после коллегии сказала:
— Борис Николаевич, в «Пари Матч» напечатали вашу фотографию на похоронах Пастернака. Зачем же вы пошли туда?
На это Борис Николаевич довольно резко ответил:
— Меня просили написать, просили выступить на похоронах, но я отказался, а вот не пойти на похороны моего друга Бориса Пастернака я не мог!
Тогда Фурцева тут же спросила директора А. В. Солодовникова:
— А что, фамилия Пастернака по-прежнему красуется на афише «Марии Стюарт»? (Б.Л. был переводчиком этой пьесы Шиллера. —
В.Д.).
— Нет-нет, Екатерина Алексеевна, мы ее убрали! — поспешно ответил тот.
Кстати, Н.С. Хрущев в эти же годы критиковал репертуар театра:
— Как ни придешь в МХАТ, там ведут на казнь Марию Стюарт. Думаю, старик Шекспир не обидится, если его пьесу будут пореже играть.
О Ливанове, как и о многих ушедших из жизни великих актерах, сейчас рассказывают разные пикантные истории, не всегда правдивые и часто даже оскорбительные. Но я пишу только о том, чему сам был свидетель или что получил из первых рук.
С Б.Н. Ливановым действительно связано много смешных случаев. Кроме того, он был автором многочисленных острот и анекдотов. И конечно, во хмелю бывал неуемным — только его умная, властная и красивая жена Евгения Казимировна умела привести его в себя: недаром он ее побаивался…
Он стал «невыездным» после того, как «проштрафился» на гастролях в Югославии. Однажды, войдя в раж, он заявил послу СССР Фирюбину:
— Говно ты, а не посол, а я — Ливанов!
Так вот, в дни его опалы, трудное для него время, он часто приходил в наш дом (с моей женой Марго Анастасьевой он играл в «Кремлевских курантах»). И что-то вдруг обиделся на меня:
— Все-таки ты меня мало любишь!
На что я ему сказал:
— Но я не подписал письмо против вас, как ваши друзья!
— Как? Какое письмо? Когда?
Я-то думал, он знает о письме с осуждением его поведения во время гастролей в Югославии, которое отправили в ЦК КПСС его товарищи…
Ливанов бывал разным в разные моменты. Почему-то чаще всего поводы к остротам давал ему актер В. Белокуров. «Таких не бывает», — говорил о нем Борис Николаевич. Однажды, увидев Белокурова в свитере с поперечными цветными полосами на груди, он сразу сказал:
— Это у него линии налива.
И тут же добавил:
— У него на дверях такая надпись: «Профессор — инженер человеческих душ. Ежедневный прием от 300 до 500 грамм»…
Но иногда Ливанов вдруг терял чувство юмора, если это касалось его самого. Я как-то сказал:
— Борис Николаевич, Санаев очень смешно вас «показывает».
И вдруг он резко оборвал меня:
— Ты ему передай, что если он еще будет меня «показывать», то я ему такое покажу!..
И еще раз он так же удивил меня. Я ему рассказал о смешном разговоре, который состоялся у нас с администратором во время концерта на Владимирской горке.
— Благодарю вас за спектакль «Чайка», который поставил Ливанов, — сказала мне эта дама. — Мне очень понравился ваш гинеколог доктор Дорн. Я бы вот хотела еще посмотреть «Братья Казимировы»…
Я надеялся, что остроумец Борис Николаевич по достоинству оценит оговорку администраторши. Ведь отчество его жены было Казимировна. Но он вдруг как-то надулся и с горечью сказал:
— Не смешно! Ты умный человек, а выдумываешь такие глупости!
— Но у меня же есть свидетель — Галя Попова. Она была рядом с нами и слышала и оценила это.
Но Борис Николаевич все-таки не поверил и обиделся… на меня. То ли он боялся, что это дойдет до Евгении Казимировны, то ли от большой к ней любви?
Ливанов ездил в Киев на Дни украинской драматургии на русской сцене. Я спросил его:
— Ну, как вы съездили?
Он ответил:
— В поезде с женой, в гостинице с женой, на телевидение — тоже с женой… Это — как «Три дня из жизни Ивана Денисовича».
А после двух-трехдневного загула с друзьями он говорил, отправляясь домой:
— Иду сдаваться, как фельдмаршал Паулюс после поражения под Сталинградом.
В довоенные годы М.Н. Кедров под руководством Станиславского работал над спектаклем «Тартюф» по пьесе Мольера. После смерти Константина Сергеевича он самостоятельно завершил эту постановку. В работе участвовали и несколько ассистентов режиссера, в том числе одна актриса, которая не отличалась красотой и была уже давно не среднего возраста. И вдруг выяснилось, что она беременна, хотя никто не знал, была ли она замужем. Тогда Борис Ливанов в шутку сказал: «А она забеременела от магического "если бы…", ведь она так увлечена теорией Станиславского».
Мне очень дороги фотографии Ливанова с его автографами.
Среди них есть такие: «Маргоше и Владлену — моим любимым молодым друзьям, с пожеланием им счастья на сцене и в жизни»; «Эта карточка ужасна. Я ничего не имею общего с ней»; «Владлену — Борис».
А на своей фотографии в роли Рыбакова, когда эту роль сыграл Лев Золотухин, он написал: «От Золотухина на память о Ливанове». И еще: «… на память о Ливанове, которому очень трудно быть артистом».
В 1961 году мы были на гастролях в Киеве. После шефского концерта на конфетной фабрике нас всех пригласили в цехи посмотреть производство. Я снял этот концерт и экскурсию на кинопленку. Нам всем раздали белые халаты и шапочки. С каким юмором надевал на себя все это Борис Николаевич и сколько было острот на тему поваров и гинекологов, пока мы ходили по цехам! Причем в его импровизациях все это были почему-то — главный повар, главный кондитер, главный гинеколог… Как-то он сказал:
— Соленого я играл как главную роль…
В этом признании, по-моему, весь Ливанов! Да, для него все, что он делал, было главным. Он не мог делать ничего вполсилы и безответственно. Он говорил полушутя:
— Ты думаешь, Ливанову все легко? Не-е-е-ет, Ливановым быть о-о-очень трудно!
Перед гастролями театра в Лондон весной 1970 года мы встретились с Ливановым на примерке у легендарного портного И.С. Затирко. Этого замечательного мастера мы оба очень любили и уважали, но он был известен не только своим мастерством и мудростью, а еще и тем, что шил бесконечно долго. Мы волновались, потому что вот-вот должны были уезжать. Нервничал и Затирко и отвечал, как всегда, по-своему логично:
— И знаете, и у вас бывает и много репетиций, и не всегда и не все получается в срок.
А на доводы супруги Ливанова Евгении Казимировны, что, мол, у Бориса Николаевича перед гастролями голова болит и от других забот, он сказал:
— И для вас у Ливанова главное голова, а для меня у него главное плечи.
Борис Николаевич был общительным человеком, всегда завладевал вниманием окружающих. Он заполнял собой всю сцену, всегда был центром, где бы ни находился и что бы ни делал. В компании, за столом, когда Борис Николаевич бывал в ударе, он буквально был неиссякаем — его фантазия и юмор били фонтаном. Говорят, он и в молодости был таким же, как… нет, не в старости, у него не было старости!., каким мы его знали последние тридцать лет его жизни. Он мог до глубокой ночи с юношеским увлечением, с невероятной энергией и темпераментом рассказывать обо всем: о будущих своих ролях, о задуманном спектакле… Потом вдруг с юмором говорил:
— Что это все — про меня да про меня? Давайте поговорим про вас. Вы меня видели в новом спектакле?..
И снова начинались бесконечные разговоры о театре, о кино, обо всем новом, что было вокруг
М.Н. Кедров как-то сказал, что играть на сцене можно только от избытка сил, а не от недостачи их. У Ливанова всегда был такой избыток сил. Поэтому утром (как бы поздно он ни вернулся накануне домой после дружеского застолья или со съемок) он, чисто выбритый, подтянутый, энергичной походкой входил в театр, готовый работать, репетировать, спорить, доказывать, создавать свои ливановские, всегда неожиданные шедевры…
После ухода из театра директора А. В. Солодовникова наша многоречивая Коллегия была заменена художественным руководством в составе трех человек: М.Н. Кедров, Б.Н.Ливанов и В.Я. Станицын. Но и это руководство не сумело вывести театр из того тупика, о котором в 1942 году писал Вл.И. Немирович-Данченко и предупреждал еще раньше К.С. Станиславский. Почему? Главная причина, как мне кажется, была в том, что авторитет каждого из этих трех руководителей был слишком велик, и это им мешало признать авторитет друг друга. Это были люди противоположных характеров и темпераментов, и они по-разному понимали смысл деятельности Художественного театра. Работать с ними всегда было интересно. Большие художники, они разными путями пытались идти к одной цели в искусстве. Но руководить театром каждый из них хотел отдельно. И, может быть, каждый имел на это право, но не мог — по многим причинам.
Мы часто спорили с Борисом Николаевичем о театре, о его будущем. Как-то я его спросил:
— Ну, почему у вас, хотя бы у двух «стариков», нет единого мнения?
Он ответил мне:
— А почему у вас, у двух молодых, бывает три разных мнения?
— Да потому что нашим театром руководят три разных человека! — не растерялся я.
Думаю, что именно это разъединяло МХАТ и вело его к дальнейшему кризису. Тем более, что противопоставление К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в театре продолжало существовать.
В конце декабря 1969 — начале января 1970 года на заседаниях Художественного совета театра шло бурное обсуждение пьесы Э. Радзинского «О женщине».
Пьеса эта ставилась в филиале МХАТа и сперва называлась «Чуть-чуть о женщине». Над ней долго работал Л. Хейфец, но потом пригласили более спокойного режиссера — Б.А. Львова-Анохина.
Обсуждали спектакль на художественном совете не один раз, и даже с участием министра культуры Е.А. Фурцевой. Во время одного из таких обсуждений неожиданно умер ее заместитель Тарасов, но и тогда заседание в театре продолжилось…
На последнем таком обсуждении после просмотра в филиале МХАТа спор шел уже не столько об этом спектакле, сколько вообще о будущих путях развития Художественного театра. Пришли почти все «старики». Активно защищала спектакль А.И. Степанова и даже воскликнула:
— Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
М.М. Яншин, как всегда, говорил очень зло. У него в такие моменты глаза делались, как у рака… А.К. Тарасова пламенно и красиво, но непримиримо осудила и пьесу, и исполнительницу главной роли Татьяну Доронину. (Кстати, говорят, именно Тарасова была против приема в МХАТ Т.Дорониной после окончания ею Школы-Студии в 1956 году. А слово Тарасовой было решающим как председателя Государственной экзаменационной комиссии). Очень горячо (по-ленински!) защищал и спектакль, и «выдающуюся актрису Доронину» Б.А. Смирнов. Что-то пытались говорить и мы, «молодые» члены Худсовета. Но, как всегда, М.И. Прудкин знал, чем можно напугать руководителей советской культуры и искусства, — он назвал спектакль «декадентским», а это было самое опасное обвинение! И потребовал, чтобы «куратор этого спектакля объяснил, как он такое допустил в Художественном театре?!»…
Куратором был — и все это знали — Б.Н. Ливанов. Таков оказался ядовитый укус «этого Яго» (так Ливанов называл Прудкина)! И, как выяснилось летом того же 1970 года, на обсуждении-то был только первый удар по Ливанову…
На гастролях в Японии я купил магнитофон «Sony» и взял его на это обсуждение, словно предчувствуя, что это будет историческое заседание (и, как потом оказалось, последнее заседание Худсовета театра). К сожалению, запись у меня была тусклая, но страстную речь Ливанова я записал полностью; впрочем, он всегда выступал очень темпераментно и даже художественно! Он сказал тогда:
— Поднят вопрос: где же сейчас Художественный театр? А Художественный театр вот он такой и есть, в котором мы сейчас служим. Значит, в этом и надо разобраться.
Я сорок пять лет в Художественном театре. Как мне известно, я тоже ученик Станиславского и Немировича-Данченко. Мои сорок пять лет ничем не отличаются от сорока пяти лет других моих товарищей, которые имеют другое представление о смысле деятельности Художественного театра. Что делать, вопрос чрезвычайно серьезный.
Я лично глубоко убежден, что Художественный театр — это не сохранение давних традиций, это прежде всего развитие принципов искусства Художественного театра. Если вы внимательно прочитаете сейчас все литературное наследство, оставшееся нам в завещаниях, то вы увидите, что там ничего не завещано догматического. Константин Сергеевич безмерно боялся, чтобы его система не превратилась в догму… Во что она в значительной мере превращена в театре. Это имеет место, и могу это подробнейшим образом показать. На эту тему я могу сделать — абсолютно точно и ответственно, — по крайней мере, три доклада…
Теперь перехожу к этому опусу. Жанр этой пьесы чрезвычайно причудлив и оригинален. Я его приветствую всячески. Я считаю, что и Константин Сергеевич, и Владимир Иванович искали подобного рода изменения не только лишь в огромных задачах и смысле деятельности Художественного театра, но и видели смысл в поисках жанров, в поиске выражения этих жанров. И это касалось не только технологии актерского искусства театра, это касалось целого комплекса выразительных средств театра: режиссуры, трактовки пьес, понимания идей, заложенных в этих пьесах, понимания эмоциональных смыслов, понимания поэтики и эстетики произведения, которое ставит Художественный театр в том или ином случае…
В какое время мы живем? Во-первых, представление о Вселенной безмерно расширило нашу жизнь. Такого представления, которое сейчас у нас с вами о Вселенной, не было. До наших дней вообще никто себе не мог представить реальность того нереального, что стало реальным… Искусство Художественного театра обязано идти не в сторону буквального, тончайшего выражения «живое, органическое пребывание актера на сцене» — этого недостаточно! Это, товарищи, называл Станиславский «правденкой», с этим боролся и Владимир Иванович, когда они были живы и максимально деятельны в театре. Это все вследствие их заветов дает мне право так широко и обширно ставить эти вопросы…
Тут Тарасова встала и сказала:
— Извините, я ухожу. Иду играть «правденку».
В результате к единому мнению так и не пришли, но спектакль прошел 78 раз.
К сожалению, все эти заседания не привели, да и не могли, конечно, уже привести, к единству «стариков» второго поколения артистов МХАТа. Атак как и в нашем, третьем поколении, тоже, естественно, не было единства, а у молодых режиссеров театра не было лидера, то возглавить Художественный театр в 1970 году был призван О.Н. Ефремов, создавший в 1956 году театр-студию «Современник».
Последней постановкой Ливанова в МХАТе, его лебединой песней была чеховская «Чайка», которую он поставил к 70-летию театра. А его последней работой в кино стал фильм «Степень риска». Там снимался и Иннокентий Смоктуновский. Мы ждали и волновались: кто же будет победителем в этом дуэте? Боялись: а вдруг Борис Николаевич покажется театральным, старомодным в сравнении с ультрасовременным Смоктуновским? Но Ливанов был прекрасен и современен в роли хирурга Седова. Очень строгое, лаконичное, скупое исполнение. Только мысль. Но такое содержание, такой масштаб личности, что невозможно было оторваться от этого интереснейшего человека.
И сам Борис Николаевич Ливанов был именно такой личностью. Когда он вернулся из туристической поездки по Италии, я спросил, что его там больше всего поразило.
— Искусство! Искусство на каждом шагу, даже на улице… Я знал об этом, но не представлял, что его так много… — И он начал с неистовым увлечением рассказывать обо всем, что там увидел. А видеть он умел много и то, что не каждому дано увидеть, — это тоже особый талант. Поэтому так бесконечно интересно было разговаривать с ним на любую тему, так увлекательно было ходить с ним по музеям и выставкам. Он находил в давно известном неожиданные повороты и детали, открывал парадоксальные точки зрения.
Помню, однажды Б.Л. Пастернак сказал про Ливанова:
— Борис прекрасен, как античная, высеченная из мрамора колонна, которая несет на себе не менее прекрасное произведение искусства.
Думается, в нем, как и во всяком большом художнике, были и диалектические противоречия, и недостатки. Но он всегда был честным и порядочным человеком, какие бы субъективные чувства его ни обуревали. Он был гневным, неуемным и в то же время легко ранимым. Конечно, он, как и всякий артист, любил успех, иногда слишком увлекался им и был излишне самолюбив и мнителен, но мне всегда казалось, что это у него от боязни потерять веру в себя… Поэтому он иногда казался человеком с большим самомнением и ревниво относящимся к чужому успеху. Но те, кто знал его близко, понимали, что это не так. Он был человеком часто сомневающимся, но внешне абсолютно уверенным в себе. Он предъявлял большие требования ко всем, кто занимался искусством; и имел на это право. У него всегда были грандиозные планы и мечты, которые не всегда удавалось осуществить. Так, ему не удалось поставить и сыграть Короля Лира, хотя он все время пытался это сделать и дважды распределял роли. Он хотел продлить жизнь спектаклю «Братья Карамазовы», ввести новых молодых исполнителей, в том числе на роль Дмитрия — Евгения Киндинова, на Смердякова — Алексея Бозунова, а меня — на роль Федора Павловича. Он никогда нигде не преподавал и в шутку говорил:
— Я сам — студия, могу сразу все предметы преподавать.
И в самом деле, большинство из нас учились у него — полной самоотдаче, ответственности за свою работу, глубине постижения характеров, яркости и смелости воплощения образов и многому, многому другому; чему надо было учиться у этого неповторимого художника…
О Борисе Николаевиче, о его характере и творчестве всегда было много разных мнений и при его жизни. Одни им восхищались, другие ругали. Так было, кстати, и когда он репетировал Гамлета с Немировичем-Данченко. Но спектакль не состоялся: умер Владимир Иванович, а вскоре и второй режиссер «Гамлета» В.Г. Сахновский, и поэтому работа прекратилась. А жаль! Было бы очень интересно увидеть Ливанова в роли принца Гамлета — ведь он так страстно и темпераментно играл своего Чацкого!
Кстати, мне хочется опровергнуть легенду, которую кто-то выдумал и распространяет ее, смакуя. Так, режиссер М.Г. Розовский с телеэкрана поведал, будто бы Ливанов на приеме в Кремле спросил Сталина: «Как мне сейчас играть Гамлета?» На что вождь якобы ответил: «Если не знаете, то зачем играть Гамлета?..» И, дескать, это и явилось запретом на постановку «Гамлета» в Художественном театре… Но, во-первых, кто, кроме самого Ливанова или… Сталина, мог передать этот разговор? А во-вторых, всем, кто интересуется историей МХАТа, известно, что спектакль не был поставлен из-за смерти обоих режиссеров, хотя художником В. Дмитриевым уже был создан уникальный макет декорации. Обо всем этом можно подробно узнать, прочитав замечательную книгу «Незавершенные режиссерские работы Немировича-Данченко».
Да, Ливанов был сложной, противоречивой личностью, и личностью огромного таланта и масштаба. Конечно, приход О.Н. Ефремова в 1970 году в Художественный театр на должность главного режиссера для Бориса Николаевича был страшным ударом, а главное — полной неожиданностью. Ведь его старые друзья и товарищи, когда он был на гастролях сперва в Лондоне с «Чайкой», а потом в Киеве, собрались на квартире М.М. Яншина и решили призвать на власть над ними О. Ефремова. Почти никто из них не видел его спектаклей в «Современнике», но они решили, что смогут управлять им, как это всегда в театре делал М.И. Прудкин.
Ливанов не мог перенести этого их тайного заговора. И даже Е.А. Фурцева на сборе труппы, когда представляли О.Н. Ефремова коллективу театра, сказала Яншину:
— А почему вы не пригласили Ливанова? Он тоже член коллектива!
Яншин, как всегда, надулся и резко отвечал, что с Ливановым об этом говорить было невозможно:
— Вы же знаете его характер!
Словом, после этого два года, до самой смерти, Ливанов больше ни разу не появлялся в театре! Он часами гулял возле своего дома на улице Горького и всем, кого встречал, объяснял, что не желает работать «в филиале «Современника», где сидит этот хунвейбин».
У Ливанова в кабинете висел портрет Станиславского с надписью:
«Милому и любимому артисту, хорошему человеку. Кому много дано, с того много и спросится <…> Вы один из тех, о котором я думаю, когда мне мерещится судьба театра в небывало прекрасных условиях для его расцвета — в нашей стране.
Любящий и надеющийся на Вас. К. Станиславский. 8 июля 1936 г.»
И Борис Николаевич был уверен, что он, Ливанов, по завещанию Станиславского должен возглавить МХАТ. Он даже иногда полушутя говорил своему другу Прудкину:
— Марк, сделай меня главным!
Но «друг» Прудкин первый предал его и был главным инициатором приглашения Олега Ефремова…
Перед открытием сезона 1972-73 годов Ливанов написал такое письмо всем участникам спектакля «Чайка», который он смотрел в конце сезона 1971-72-го:
«Дорогая Ангелина Осиповна, дорогие друзья! В прошлом сезоне я смотрел последний спектакль «Чайка». Конец сезона, все устали. Но спектакль прошел стройно, четко, точно по партитуре действия. Все образы были живые, чувства — верные и яркие. Все было драматически поэтично. «Чайка» — не бытовая пьеса, и в этом смысле — единственная из всех пьес Чехова. Поэтому ее особенно трудно играть. Она очень сложна своим контрапунктом, полифоничностью. Вы помните, как горячо принимал зритель спектакль? А в зале была духота нестерпимая. Спасибо Вам за этот спектакль!.. Поздравляю Вас с началом театрального сезона и в Вашем лице поздравляю весь театр. Желаю Вам здоровья, успехов! Ваш Борис Ливанов. 31 августа 1972 года».
Через три недели, 22 сентября, Борис Николаевич после тяжелой болезни умер. Ему было 68 лет.
И вот в МХАТе, где он не появлялся два года, 25 сентября театр прощался со своим великим артистом Борисом Ливановым… В гробу лежал изможденный, потухший Прометей…
Борис Николаевич как-то сказал мне:
— Ведь когда я умру, ты же будешь больше всех плакать у моего гроба…
Он был прав…
Самые верные друзья
Сейчас, когда я вспоминаю всю свою жизнь, я благодарен судьбе, которая подарила мне счастье видеть, знать и даже дружить с такими великолепными мхатовцами, как Вадим Васильевич Шверубович и Виталий Яковлевич Виленкин. Они тоже были друзьями почти 50 лет, хотя и были такими разными не только по возрасту, но и по характеру и даже по взглядам на жизнь. Очень разными! Но в самом главном они были едины — в своей любви и преданности Художественному театру. Оба мне интересны и дороги своими высокими человеческими качествами, наконец, своей духовностью и добротой. Они преподавали в Школе-Студии и стояли у ее истоков. От них, через них для меня, для всех нас продолжалась духовная связь с первыми, великими мхатовцами — основателями Театра. Это именно так, и это буквально — ведь это они ввели меня в дома Качалова и Книппер-Чеховой. От них, «из первых рук» мы получали
представление о таких личностях, как Станиславский и Немирович-Данченко, Москвин и Леонидов… Именно они олицетворяли для меня понятие «русская интеллигенция».
Но это я сейчас нахожу такие высокие слова, когда эти прекрасные люди уже давно ушли от нас в мир иной… А тогда я вовсе не анализировал, почему меня так тянуло к ним. Я просто знал, что они есть где-то совсем рядом, и моя жизнь в МХАТе делалась от этого такой интересной и значительной…
С Виталием Яковлевичем я общался постоянно — или по телефону, или летом через письма, или у него дома в Курсовом переулке. Я всегда с ним советовался и обменивался мнениями по всем делам, и театральным, и житейским. Его мнение для меня всегда было очень важным, а иногда и решающим — особенно при моей работе над ролями. Я часто записывал в дневнике смысл и содержание наших разговоров, а кроме этого, у меня осталось несколько десятков его писем за 50 лет нашей дружбы.
С Вадимом Васильевичем мы не были такими близкими друзьями, хотя больше 20 лет жили в одном доме, наши подъезды были рядом. Последние годы его жизни, когда он болел, мы только обменивались письмами. А до этого два раза в год Вадим Васильевич и его верная подруга и жена Леля Дмитраш обязательно приглашали нас с Марго и своих друзей к себе в гости отмечать дни памяти Василия Ивановича. Несколько раз нам довелось побывать у них на даче, на Николиной горе.
Все эти застолья в качаловском доме были не только необыкновенно вкусными, но, главное, всегда необыкновенно интересными. Ведь сюда все приходили как на встречу со старым, но вечно прекрасным МХАТом. Сколько же было интересных воспоминаний и рассказов о людях театра, о прошлой жизни! О повседневной жизни почти не говорили, — разве уж только в это время происходило что-то особенное, что всех волновало.
Именно в доме Шверубовича я впервые услышал рассказы о том, как веселились в свое время мхатовские «старики», об их досуге… Конечно, самым интересным были их «путешествия» из Москвы в Петербург. Обычно собирались в доме друга Художественного театра, мецената Н.Л. Тарасова. В одной комнате — гостиной — на столе лежало железнодорожное расписание остановок от Москвы до Петербурга — это был «поезд». А в другой накрыт стол — это «станционный буфет». И вот, по расписанию, на «остановках», бежали в эту комнату, быстро пили, ели (остановки-то короткие, несколько минут!) и переходили опять в гостиную — до следующей «остановки»; беседовали, курили, шутили… И так, точно по расписанию «ехали» всю ночь до Петербурга и обратно… а с утра — кофе, чай… а кое-кто и не «доезжал»…
Еще Вадим Васильевич как-то рассказал, что была такая сцена-шутка. Иван Михайлович Москвин хорошо знал церковную службу (он с детских лет пел в церковном хоре). Однажды он, когда все сидели в гостиной, уложил в соседней комнате жену Качалова Нину Николаевну Литовцеву и стал как бы править службу — «панихиду» по умершей. Когда закончил, то предложил всем прощаться с «покойной»… Но Василий Иванович почему-то отказался… Тогда Нина Николаевна обиделась на него, встала и очень серьезно сказала: «Я вам этого, Василий Иванович, никогда не прощу!»
И, конечно, юмор и шутки перемежались прекрасным пением того же Москвина в паре с Фаиной Васильевной Шевченко — у нее был красивый голос, да и сама она была Кустодиевская роскошная красавица и обаятельная актриса.
У Вадима Васильевича Шверубовича была очень интересная судьба. То, что он в 1919 году, во время Гражданской войны пошел в Добровольческую армию Деникина, мучило его, вероятно, всю жизнь. Он решил искупить свою вину и хотел поехать в Испанию защищать с оружием Испанскую Республику. Но… Но его спросили: «А на чьей стороне вы хотите воевать?..» Не было доверия к нему у властей. Видимо, поэтому он в 1937 году не ездил с МХАТом на гастроли в Париж, хотя был зам. зав. постановочной частью в театре…
Но в 1941 году, как только началась Великая Отечественная война, Вадим Васильевич тут же записался в ополчение и отправился на фронт. Ему было ровно 40 лет.
Эта его героическо-трагическая эпопея описана им в повести «Путь на Родину», а кроме того, он жестко и откровенно рассказывал своим друзьям о всей нелепости и бездарности этой акции с ополчением. Туда шли добровольно, в порыве патриотических чувств, люди, не державшие никогда в руках оружия, совершенно далекие от военной службы…
Я хорошо помню эти рассказы Вадима Васильевича о четырех военных годах, о том, как он попал с такими же ополченцами в окружение, а потом в плен; как он решил побриться, сидя в гуще пленных на земле, и как этим вызвал интерес к себе немецких вояк и какой-то офицер, потрясенный такой чрезмерной аккуратностью, взял его к себе в денщики; и как однажды, когда он решил, что по доносу его расстреляют, он попросился в сортир, чтобы выбросить оставшуюся у него листовку, а по дороге думал, как ему перед смертью сказать: «Да здравствует Сталин!» — по-немецки или по-русски… И как он бежал из плена в Италию и там стал партизаном, перекрасив свои светлые волосы в черный цвет… А потом в Италию вошли американцы и взяли его, чтобы он определял национальность освобожденных пленных (ведь он знал европейские языки — английский, немецкий, польский и немного итальянский). И американцы предлагали ему уехать с ними в США, но он решил, конечно, ехать только домой в Россию, где его ждали родители. Но тут сперва были допросы, потом Лубянка… И его спасло от Сибири только имя отца — великого русского артиста Качалова. Вадим Васильевич рассказывал мне все это подробно и давал читать свою повесть и записи о войне. А сначала дал мне рукопись своей уникальной книги «О людях, о театре и о себе». Она сперва называлась «Повесть о театре» и пролежала в издательстве «Искусство» несколько лет. И вдруг совершенно неожиданный случай помог ее выходу в свет.
А было это так. Однажды мы с Марго получили приглашение в Кремль на прием по случаю какого-то торжественного события. Мы стояли у стола вдали от начальства вместе с актрисой Жанной Болотовой и Арамом Хачатуряном. Вдруг Хачатуряна пригласили к столу президиума, а потом он позвал туда нас. Так мы очутились рядом с министром культуры СССР П.Н. Демичевым и зав. отделом культуры ЦК КПСС В.Ф. Шауро. Тут кипели свои страсти. Софья Головкина жаловалась Демичеву на то, что вот, мол, раньше, при министре Фурцевой, ее хореографическое училище регулярно посылали в Париж, а теперь… Тут же солист военного ансамбля Вадим Русланов с огорчением говорил Шауро о том, что их руководитель генерал Александров почему-то до сих пор не Герой Социалистического Труда… Все это меня вдохновило, и я решил тоже обратиться к Шауро с вопросом: почему он не был на 100-летии В.И. Качалова в МХАТе? Он ответил, что приглашение ему прислали, но его не было в Москве. «А как прошел этот вечер? Я знаю, что вы в нем участвовали». Я рассказал о программе и что, конечно, самым интересным была радиозапись воспоминаний сына Качалова — Шверубовича (он, к сожалению, в больнице).
— А почему у него фамилия такая? Он что?..
— Это настоящая фамилия Василия Ивановича Качалова. Он — сын православного священника из Вильнюса…
— И что же это за воспоминания?
— А они уже несколько лет лежат в издательстве «Искусство», но их не печатают, хотя отрывки из них уже напечатаны в «Новом мире» и были одобрены Константином Симоновым.
— Хорошо, я выясню, в чем дело, и вам дня через два позвоню. Нет-нет, телефон мне ваш дадут…
И действительно дня через два раздался звонок:
— С вами сейчас будет говорить товарищ Шауро…
— Добрый день, Владлен Семенович, это говорит Василий Филимонович. Я навел справки. Да, есть такая рукопись в редакции. А это он сам написал? Да? Ну, кое-что, конечно, надо доработать. Но передайте товарищу Шверубовичу, что его воспоминания будут изданы или в конце этого года, или в начале следующего. Всего хорошего.
Этот разговор меня ошеломил. Как? Вот так просто — один человек может все сразу решить? Что-то не верится. И поэтому я ничего не сказал Вадиму Васильевичу.
А когда его книга была действительно опубликована (не в начале следующего года — тогда шел очередной съезд КПСС, а только в конце), я рассказал всю эту историю Виталию Яковлевичу. Ну, а он, в свою очередь, рассказал все Вадиму Васильевичу, и поэтому я получил от него в подарок эту книгу с дорогой для меня надписью: «Дорогой Владик! Вам, кому я обязан радостью появления этой книги, дарю ее с любовью и глубокой благодарностью. Вадим Шверубович. 18.Х.76».
А потом он подарил мне и продолжение этих воспоминаний в рукописи с такой надписью:
«Дорогому Владлену, моему другу и благодетелю, человеку, которого я люблю, уважаю и которому я бесконечно благодарен. Спасибо! В. Шверубович».
Я хотел дать почитать рукопись моему новому «другу» Шауро, но Виталий Яковлевич сказал:
— Ни в коем случае, Влад, этого делать нельзя! После этого ее никогда не издадут!
— Почему?
— А там Вадим пишет страшные вещи — о крахе мифа о Художественном театре!
Последние годы Вадим Васильевич тяжело болел, и наша связь была только через письма. Вот некоторые из них я и хочу здесь привести. Хотя они очень субъективные и сугубо личные. Но так как он в споре с В.Я. Виленкиным утверждал однажды, что печатать надо все, всю правду, то я, следуя его принципу, это и делаю. Конечно, я понимаю, что он писал мне, будучи очень больным и в довольно тяжком настроении (что на него было так не похоже!). Он для меня был образцом настоящего мужества и джентльменства, примером честности и прямоты, но не всегда был объективен в оценке людей и событий. В этих письмах, мне кажется, проявляются все черты его характера…
Письмо из больницы от 25 февраля 1975 года — сразу после юбилейного вечера В.И. Качалова:
«Дорогой, бесценный друг нашего дома, нашей семьи, нашей Фамилии Владик!
Я не знаю, как вас благодарить за вчерашний вечер… Весь день сегодня слушаю восторги — и от Лели, которая рассказала мне все по минутам, и от Маши, и от Аси [1] (по телефону), и, наконец, от моих врачей. Ясно, что все было организовано так высококлассно, как это можете сделать только Вы, Вашими умными, талантливыми, и, главное, любящими руками. Спасибо Вам, дорогой человек/ Ваш всегда Вадим»
10 августа 1975 года Вадиму Васильевичу исполнилось 74 года. Он, к сожалению, все еще болел, и мы, его друзья, как могли, старались его подбодрить. И время от времени писали ему письма и ждали ответов, беспокоясь за его здоровье. А я в это время готовил сборник воспоминаний о Б.Г. Добронравове и очень хотел, чтобы Шверубович для этого сборника написал свои воспоминания…
«10.10.75.
Дорогой Владик!
Ни одной минуты я не думал, что Вы забыли меня. Я очень верю в Вашу дружбу и любовь ко всем нам и сам очень Вас люблю.
Да и не имел я оснований так думать, ведь мне несколько раз передавали Ваши приветы и телеграмму. Очень хочется повидаться и безумно хочется «на воле»…
…Ведь Вы подумайте, какая нелепость: 14 (четырнадцать) месяцев с небольшими перерывами (но тоже с постоянными посещениями врачей, поликлиники и исследованиями) я сижу в больницах, — в четырех. А сейчас нахожусь в таком же состоянии, в каком был в начале сентября 74-го года. В одной больнице меня «вылечивай» от полиартрита, но зато отравили организм, в другой добились полной анемии, в третьей, борясь с анемией, влили восемь порций крови от желтушечного донора, или доноров…Вот теперь в четвертой больнице третий месяц лечат от желтухи. Если бы жить оставалось еще лет 5–6, то еще ничего, но когда знаешь, что это последние годы, вернее, месяцы жизни, такая берет злость на медицину, что грызть хочется врачей. Полиартрит мой такой же, как был год тому назад, болят колени, плечи, кисти, локти. Глупо все это очень. Вы пишете насчет Добронравова. Нет, сейчас ничего не могу написать, очень уж нетворческое состояние. Очень рад, что Вам понравилась Одесса, я ее очень люблю. А вот Зосе Пилявской она совсем не понравилась, странно… Маша мне сказала, что Боря [2] смотрел «Заседание парткома» и ему очень понравился спектакль, пришел в восторге от него.
Господи, как хочется хоть несколько месяцев перед смертью пожить нормальной жизнью! Спасибо Вам за письмо, не забывайте и впредь
Привет сердечный Маргоше и Андрею.
Ваш Вадим»
Вот как раз в эти дни (27 июля 1976 г.) была подписана к печати его книга, но Вадим Васильевич этого еще не знал, а я ему не писал об этом, боясь «сглазить».
На какое-то время он вышел из больницы и переехал на дачу, на Николину гору. А мы с Марго и Андреем поехали отдыхать в пансионат «Прейла» на Куршской косе в Литве. И там я получил от него письмо:
«16. VII. 76.
Дорогой Владик!
Очень было приятно получить Ваше письмо, да еще такое интересное…
…Обо мне и говорить неохота — совсем инвалидом стал, болят кости и суставы, не могу почти совсем ходить.
Даже писать больно. Это особенно все противно на Ник. Горе, где я всегда был очень активен физически — колол дрова, копался в земле, гулял… Никто из тех, кто был мне приятным гостем, не приехал ко мне — ни Зося, ни Виталий, ни Вы. Живет у нас Т.С. Петрова, но от нее, так же, как и от нашей тбилисской родственницы К.М. Левистамм, радости мало. Одна полуглухая и очень глупая (Т.С.), другая тоже глупая, не глухая, а наоборот, очень говорливая, хорошо слышит и глушит, оглушает своих собеседников… Боря все время ездит в Москву, никак не разделается с ГИТИСом, да и всякие литературные дела есть.
От Зоей знаю, что очень неважно обстоят дела с Мишей Яншиным — водянка, пролежни. Кремлевские врачи, по словам Зоей, отказываются его лечить и предлагают Нонне [3] звать к нему знахарей, хоть гомеопатов. Ужасно это грустно, очень, очень его жалко. Жалко и Ношу — ведь в Мише вся ее жизнь. Зося на днях уезжает в Болшево, с большим трудом получила туда путевку в отдельную комнату. Виталий в Москве, еще не освободился от Студии, да и от Анны Яковлевны [4] он уехать не может. Грустная и одинокая у него старость.
В Студии в сентябре будет новый набор на режиссерский факультет — этот выпуск весь хорошо распределен.
Во МХАТе (по слухам) еще полная неясность с ремонтом (реконструкцией) основной сцены — м.б. еще будете и дальше играть на трех сценах. Ну, вот, в общем, и все, что могу Вам рассказать о нашей жизни.
Крепко Вас обнимаю и благодарю за хорошее отношение, привет Маргоше и Андрею. Леля тоже вас всех сердечно приветствует. Ваш Вадим.
P.S. Отправляю письмо с большим сомнением — уж очень короткий адрес или м.б. Вам туда можно писать вообще без адреса — Литва, Давыдову».
Как и в прошлом году, Вадим Васильевич летом жил на даче на Николиной горе.
4 июля 1977 года Толя Вербицкий — наш однокурсник, красивый и обаятельный, с нежной, ранимой душой — покончил жизнь самоубийством: принял снотворное и открыл на кухне газ… Он тяжело болел, ему предстояла новая операция. Настроение у него было жуткое еще и оттого, что в театре у него не было настоящей работы в репертуаре О.Н. Ефремова.
Кончился сезон. Толя в последний момент отказался ехать на концерты с женой — Луизой Кошуковой — и остался в Москве один…
И вот… Такой конец. В феврале ему исполнился 51 год…
«7.7.77
Дорогой Владик!
…Мне как-то легче жить и переносить свою старость, ощущая возле себя умного и доброго молодого друга.
Скоро приедет Леля на свой короткий отпуск… Очень надеюсь на эти несколько дней с Лелей — у нее для меня исключительное свойство — придавать мне энергию и бодрость. Может быть, под ее влиянием я выполню задание Студии и напишу заказанную мне статью. А пока ничего не делаю, не только не пишу, но даже мало читаю — все больше дремлю или сплю. Самое стариковское занятие. Да это и неудивительно — через месяц мне пойдет 77-ой год. Это, как мне писал когда-то отец, «уже не старость, а дряхлость». Писал он мне это, когда ему исполнилось 50 лет. Потом сам сознавался, что это было глупо. А теперь я пережил его почти на три года!
Очень меня огорчило сообщение о самоубийстве Толи Вербицкого. Симпатичный был парень… А где теперь будут проходить гражданские панихиды? Я все надеялся, что меня поставят в Нижнем фойе, а теперь? В Филиале?
Это не важно, конечно, но хотелось бы все-таки уехать в крематорий из родного Театра. То, что Вы пишете о «просцениуме» нового здания МХАТ, мне кажется, не страшно — мы играли наши спектакли в зданиях такого рода. Но вот полное отсутствие занавеса — это катастрофа… Но я думаю, что это не так, и занавес повесить можно. Особенно для юбилейного спектакля, хотя бы ради «Чайки». Ну, поживем — увидим.
Очень хочется, чтобы Вы, когда будете в Москве, побывали у нас на Ник. Горе, очень будем рады Вам все.
Привет Вам от Аси.
Крепко Вас обнимаю.
Ваш Вадим»
Подводя итоги сезона, я написал Вадиму Васильевичу, сообщил, как идет работа над «Царем Федором»; мне хотелось привлечь к ней Вадима Васильевича хотя бы как консультанта. В 1962 году я затеял в МХАТе возобновление «Царя Федора» к 100-летию К.С. Станиславского, но члены нашей Коллегии не одобрили исполнение роли царя Федора Б.А. Смирновым, и эта моя мечта не осуществилась. Теперь же я надеялся, что при поддержке И.М. Смоктуновского (не в качестве исполнителя этой роли, а в качестве режиссера, о чем он сам так мечтал!), да с молодым актером в главной роли (у нас был выбор их 4-х молодых актеров!) удастся этот спектакль осуществить, и не так, как в Малом театре у Б.В. Равенских. И О.Н. Ефремов, казалось нам, отнесся к этой работе доброжелательно, и даже была подключена к ней режиссер Роза Абрамовна Сирота, только что ушедшая от Товстоногова и принятая в МХАТ
«Ник. Гора. 26.VII.79 г.
Дорогой Владик!
Спасибо Вам за большое, интересное и умное письмо! Спасибо Вам вообще, что не забываете меня. Вы один у меня остались моей связью с МХАТом. Книгу Кедрова прочту обязательно, спасибо за совет. Насчет писания моего…не знаю, наверное, ничего больше не напишу. Вкус к этому делу пропал абсолютно. С нетерпением буду ждать Ваших статей в «Театре». Живу очень тихо, никто у меня не бывает… Интересно, какие эскизы делает Френкель для «Царя Федора»? Я не могу себе представить, как можно решать этот спектакль в современном оформлении, без занавеса, в двух актах и т. п. Но главное, конечно, это Федор — Смоктуновский!.. Ведь я его в Малом видел, не может быть, что он может стать совершенно уж другим. Извините за резкость!
У нас здесь очень хорошо — Леля сделала ремонт дачи, все чисто и уютно. Живем дружно и складно. Смешат и радуют нас наши псы. Очень бы хотелось, чтобы Вы навестили нас, жалко, если не удастся.
Большой привет Маргоше и Андрею.
Вас крепко обнимаю.
Ваш Вадим».
Конечно, Вадим Васильевич всегда был предельно субъективным человеком в оценке событий в жизни и в театре, в оценке людей. Ну, а теперь, в период его тяжелой затянувшейся болезни, его оценки событий в МХАТе стали еще обостреннее.
Деятельность О.Н. Ефремова за 10 лет руководства МХАТом тогда не давала надежды на возрождение театра. А уж тем более потом, в последние годы его правления, когда ушли из жизни почти все «старики» второго поколения (кроме М.И. Прудкина, который вместе с А.И. Степановой и С.С. Пилявской позже, в 1987 году, активно участвовал в разделе МХАТа). Вина Ефремова, повлекшая окончательную гибель МХАТа, состояла в том, что он так и не сумел не только возродить МХАТ (как можно возродить то, что давно погибло?), он не сумел спасти, сохранить, то хорошее, что в МХАТе все-таки еще оставалось.
…И вот последнее письмо Вадима Васильевича Шверубовича (печатается с сокращениями) — его ответ на самое подробное послание, где я написал о том, что после неожиданного резкого разговора с Ефремовым у меня вдруг подскочило давление и я не смог даже играть спектакль — меня заменил дублер. А через несколько дней меня положили в Боткинскую больницу, где лечили почти два месяца, потом я попал в санаторий (на «реабилитацию»), а после этого два месяца, во время отпуска в театре, отдыхал на Куршской косе в Прейле…
«7.II.81. Дорогой, милый Владик!
Спасибо Вам за такое большое и такое интересное письмо. Я бы даже сказал — трагическое письмо… Что за «беседа» с Олегом, которая Вас так потрясла? Неужели Вам давно не ясно было… Неужели не ясно всем — талантлив он или нет (вероятно, очень), — но он безнравственный!..
Ведь если бы не он, еще можно было спасти это чудо от Кедрово — Станицынского гнилья, ведь Коле Хмелеву было так мало лет, ведь мог же народиться такой Хмелев, да и Ливанов с годами стал бы мудрее — все бы лучше, чем допустить полную гибель, которую создал Олег…
Расписался я вовсю, «развлечетесь» моими соплями… Извините!
Желаю Вам поправиться, подумайте обо мне (вернее, о Вас. Ив.). 12-го февраля (это день рождения В.И. Качалова. — В.Д.). Мы все отменили — Вы больны, Виталий в отъезде, Зося больна. Помянем одни.
Крепко Вас целую и надеюсь скоро увидеться.
Ваш Вадим Шверубович»
На Куршской косе я получил письмо от Виталия Яковлевича Виленкина… 13 июня В.В. Шверубович умер, не дожив около двух месяцев до своего восьмидесятилетия.
«26. VI. 1981 г.
Владик, милый, я только сейчас вот могу, наконец, Вам хоть что-то написать.
О похоронах — вкратце. В фойе Филиала. Было очень много народу, но актеров мало. Масса цветов. Чаусов — от Министерства культуры, в основном, вполне достойно произнес то, что я написал в некрологе. Хорошо говорили Степанова и Алексеев. Потом я пытался что-то выдавить из себя (кажется, удалось хоть обойтись без «фраз»). И от учеников — Алик Мелик-Пашаев, — достойно. Хорошо, по-человечески проявил себя постановочный факультет. И руководители, и студенты. Пришло много бывших наших учеников. Много было московских стариков из интеллигенции, даже Катя Шпаро — подруга Вадима Васильевича с 5-ти лет, племянница Н.А.Смирновой и Н.Е. Эфроса — пришла (подошла ко мне в крематории). Многие искренно плакали. Все вообще было не казенно, душевно. В крематории последнее «Прости» сказал его ученик М. Кунин. Маша держалась хорошо, но лица на ней не было. В крематорий не смогла войти. Они с Борей тут же уехали на дачу, к своей дочери Оле, — в сопровождении Владика Заманского. Леля все еще в больнице. Я чувствую, что кое-кто ее осуждает («Не так уж она больна», не была и на похоронах своей матери и т. п. — Зося). А я считаю подобные осуждения бессердечными. Есть люди, которые знают пределы своих сил. Леля сделала для Димы с_т_о_л_ь_к_о за всю жизнь и за последние 8 лет особенно, — что, ей-богу, не нам ее судить, смогла или не смогла… Да еще после инфаркта, после тяжелой операции. Значит, почувствовала, что не по ее силам, не выдержит — вот и все…
Теперь идут хлопоты о разрешении захоронить урну на Новодевичьем — это взяла на себя Пилявская, т. е. она ходит к Эдельману (один из заместителей директора МХАТа. — В.Д.), а тот действительно хлопочет (это о_ч_е_н_ь трудно, даже урну). Некролог мой в «Советской культуре» Вы, наверное, читали. Он несколько сокращен…
Да, панихиду вел Ефремов — вполне достойно, но бездушно.
А я, по правде сказать, до сих пор не могу реально осознать случившееся. Придавило. К кому я теперь пойду?
Вот и все пока, Владик, дорогой.
Обнимаю Вас и целую.
Ваш В.Я.»
Так я узнал о прощании с Вадимом Васильевичем — последним «рыцарем» Художественного театра, последней его совестью…
А теперь вот я перечитываю письма Виталия Яковлевича Виленкина ко мне с 1946 года. Мне они дороги его дружеским вниманием ко мне и его добротой в самые нелегкие моменты моей жизни. И когда я болел, и когда хандрил и терял веру в себя, и в годы учебы в Школе-Студии, да и потом, в трудные годы жизни в Художественном театре… И, казалось бы, две-три строчки, написанные им как бы между прочим, вроде бы и не специально в педагогическо-воспитательных целях, так поднимали мой дух и веру в себя, что я возрождался и вдохновлялся. То он
писал, что «Вас полюбили и Василий Иванович, и Ольга Леонардовна, и Нина Николаевна», то о том, что «Василий Иванович всегда спрашивает о Вашем здоровье и самочувствии. Он чувствует себя прилично, но предается грустным мыслям, как всегда в последнее время…» А под новый, 1947 год, когда я еще находился в Боткинской больнице, он писал мне:
«Встречу (новый год) дома, а потом заеду к Ольге Леонардовне, где будут и Качаловы. Непременно — особо — буду думать о Вас и желать Вам здоровья, мысленно, со всей силой моего хорошего отношения к Вам».
Эти письма мне приносили в больницу или Оля Фрид, или мой верный студийный друг Миша Курц, или моя поклонница и добрый друг Елизавета Петровна Асланова — племянница Вл. И. Немировича-Данченко. Она мне тогда, кстати, подарила полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского 1886 года издания.
Конечно, дружеское отношение Виталия Яковлевича поддерживало меня всю жизнь, а уж в годы учебы и моей затянувшейся болезни тем более. Он знал, как я волнуюсь за И.С, которой я помогал готовиться к поступлению в Школу-Студию летом 1945 года, и написал мне 30 декабря о ней:
«В студии идут зачеты, пока только на младших курсах. Меня очень порадовала интересующая Вас особа — была очень мила, изящна, грациозна, легка на экзамене по танцу и вполне удовлетворительно сдала дикцию».
Да и потом, когда я после всех лечений, консультаций знаменитых профессоров, санаториев, в которые меня посылал Василий Иванович, наконец выздоровел и был принят в Художественный театр, Виталий Яковлевич по-прежнему поддерживал во мне бодрый дух и веру в себя:
«Все-таки, что ни говорите, а Вам здорово повезло в смысле начала артистической жизни. Кто-то сказал очень верно: все равно, где именно молодой актер родится, важно, чтобы он родился, а не остался в проекте. Думаю, что и в МХАТе Вам дадут ход, унывать и роптать рано».
Но, пожалуй, все-таки самые интересные письма и разговоры с Виталием Яковлевичем были потом. Его мысли, его мнения и высказывания оказались мудрыми и прозорливо-пророческими. Он написал ведь очень много книг и статей и не только о Художественном театре, но почти не писал о современном МХАТе. А вот у меня именно об этом было с ним много бесед. Так много, «что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить…» (как сказал в 4-м действии Серебряков дяде Ване после того, как «много пережил и столько передумал»…) И вот письмо из Гурзуфа от 23 июля 1956 года.
«…До меня доходили хвалебные отзывы по поводу Горинга, и весьма неожиданные (Блинников!.. Пилявская, еще кто-то…). Я порадовался за Вас. Вообще этот год не пропал для Вас даром, это хорошо, даже очень! Ужас положения мхатовской «молодежи» (да, к сожалению, уже в кавычках, ведь это все люди под 30 и за 30) в том, что она довольна, как бы ни фрондировала на словах, а главное — самодовольна, заразилась этим ядом умирающего, когда-то могучего организма».
«Буду, очевидно, в какой-то мере участвовать в делах «ночного театра» [5]. Он вызывает большой интерес и сочувствие молодежи, по-моему, любой, кроме мхатовской (за исключением нескольких лиц). Люди из разных театров и школ готовы работать по ночам, пока еще в экспериментальном порядке… Всем хочется настоящего в искусстве. То, что Вы мне писали о соединении Ефремова с МХАТом, я считаю абсолютно ненужным, бесцельным. Никакого противопоставления нового дела настоящему (т. е. подлинному) МХАТу, но никаких соприкосновений — пока! Только так может возникнуть что-то новое и ценное для данной школы искусства. Так мне кажется…»
А в июне 1958 года Виталий Яковлевич тяжело заболел и попал в больницу, но писал мне оттуда. Одно его письмо было довольно резкое и строгое, но для меня оно тогда было очень важным и нужным. Хочу привести выдержки из него.
«25 июня 1958 г.
…Так вот, дорогой мой Владик, несколько мыслей, которые давно уже где-то зреют. Примите их без всяких экивоков, попросту; если ошибаюсь, не будем больше и говорить об этом.
Что-то мне за последнее время (скажем, ряд месяцев) кажется, что вкралась какая-то неправильность в Ваше отношение к своей судьбе в театре, к ролям, к тому, ради чего артист к этим ролям стремится и ради чего их играет. И т. д. «Это что-то новое у тебя, Захар». Правда, раньше этого как будто не было или я не замечал. Сейчас объясню, о чем речь. О недовольстве, о неудовлетворенности. У Вас это уже переходит в хроническую форму. В этом надо непременно разобраться и попробовать с этим побороться.
У Вас отравлена радость сцены, радость творчества. Надо, по-моему, прежде всего вглядеться в себя. Не из скромности, не по прописанной морали, а даже эгоистически: ведь Вам же от этого плохо, а театр и не замечает ваших переживаний, да и неблагополучие в театре дошло уже до таких степеней, и это так много людей устраивает (и внутри и вне театра), что, перенося вину на театр, Вы рискуете остаться в тупике. Так вот, давайте разберемся. В личной Вашей, давыдовской, театральной судьбе. (Конечно, только слегка затронем ее.)
Количество ролей за последнее время? Мало, конечно, но не так уж мало. По содержанию, по качеству — тут пожаловаться не можете: «От автора»! Ричард! Даже Горинг!.. Теперь вот роль в юбилейной, современной пьесе [6]. Я ее плохо помню, но, очевидно, схематичная, раз Вы о ней так говорите; однако не безнадежная ведь? Иначе Вы бы от нее отказались, я Вас знаю достаточно. Владык, я скажу сразу и прямо: принимая второстепенное за главное, Вы порой недооцениваете и сами роли, и то, что они поручены Вам. Отношение «дирекции — администрации» вдруг может своим хамством или близорукостью заслонить для Вас все («Ученик дьявола»). Несправедливость в оценке Вас по сравнению с другими иногда так Вас задевает, что Вы перестаете думать о себе как о художнике. Уж на что всегда был обижен, обойден ролями, оплеван в смысле наград Л.М. Леонидов — он жил этим, реагировал бурно, у него рвалось сердце. Но художником он от этого быть не переставал, и н_е м_о_г перестать — он им все равно б_ы_л. Вот один пример, показывающий, что у Вас (конечно, не только у Вас лично — у многих) что-то з_д_е_с_ь именно неблагополучно. Вы получили «От автора» и срочно, без достаточного руководства вошли в «Воскресение». Как это все было, мы оба с Вами достаточно хорошо помним. Для меня лично это было радостное событие, потому что это был созданный В_а_м_и в труднейших условиях талантливый эскиз роли, о сложности которой можно сказать только одно: неимоверная! И что же, надо признать: эскиз остался, он технически усовершенствовался, наверное (последних спектаклей не видел), но с_о_з_д_а_н_и_я Давыдова в масштабе одного из ведущих (м_ы_с_л_ь_ю, а не жалованьем ведущих) артистов театра, каким только и могло быть новое рождение этой роли, — нет.
А «Ученик»? (спектакль «Ученик дьявола». — В.Д.) Задайте-ка себе вопрос: есть рост, есть новые задачи, каждый спектакль дает радость новых находок? И т. д. И т. д. Я не видел. Может быть, все это и есть. А думается — пет, играете так, как повелось, благо успех есть.
А из 4-го акта «Мужа» (спектакль «Идеальный муж». — В Д.) изгнали водевильную пошловатость, которой у Вас не меньше, чем у Массальского? Поработали?
А новая роль? Почему не побороться с автором, углубить, осмыслить то, что есть? Тем более, что поработать с Кедровым (если он еще вообще теплится) Вам стоит — он здорово уводит от «представления», а у Вас оно остается, по-моему, все-таки главной опасностью.
Нет, Влад! Так нельзя и не стоит. Надо отдохнуть как следует и бодро, с верой приниматься за большие работы х_у_д_о_ж_н_и_к_а МХАТ: одно довершать, другое создавать заново.
Не сердитесь! Писал любя.
Ваш Виленкин».
Да, это письмо было во многом справедливо и заставило меня серьезно задуматься над тем, что я сделал за эти 10 лет работы в театре.
А фрагменты из «Воскресения» («От автора») я читаю до сих пор на всех своих выступлениях, и успех всегда (текста Л. Толстого, конечно!) огромный… И благодарю Виталия Яковлевича — ведь я с ним начинал работать над этой ролью…
И вся моя творческая жизнь неразрывно связана с В.Я. Виленкиным. Мне было интересно знать его мнение об истории МХАТа, о спектаклях других театров и, конечно, нашего. Его оценки были всегда принципиальны, хотя порой и субъективны. Аргументированные, очень интересные и поучительные. Вот, например, он восторгался спектаклем Театра на Таганке «А зори здесь тихие…», а в «Гамлете» Высоцкого не принимал: «Он очень талантлив. Но не имеет права на этот текст — он его пробалтывает. Л.М. Леонидов говорил, что Гамлета должен играть сам Б. Пастернак, переводчик пьесы. А Немирович-Данченко говорил, что именно ради этого перевода надо брать эту пьесу…»
Интересное у него было впечатление от спектакля «Уходя, оглянись»: «На первом месте — Миша Ефремов, хотя я не люблю «детей» на сцене, но тут я поражен. Он органичен на сцене, как собака…»
И очень хвалил спектакль «Заседание парткома», хотя от пьесы был не в восторге, но: «Очень хороший спектакль, очень хорошо сделан — умно, крепко режиссерски, и видно, что поработано с каждым актером и что-то дано, исходя из индивидуальности. И сам очень хорошо играет. Хотя это мура, но он (О.Н. Ефремов. —
В.Д.) очень хороший актер».
А вот от спектакля «Сладкоголосая птица юности» — «…в полном, абсолютном недоумении… Это непристойный, неприятный спектакль. Не может быть, чтобы так было у автора… А.И. Степанова очень хорошо играет первый акт… Но про что это? А Массальский не знает, что он играет»…
Не принял Виталий Яковлевич и спектакль О. Ефремова «Иванов» со Смоктуновским в главной роли, который его поразил когда-то в кинофильме «Солдаты» и в спектакле «Идиот»: «… Скучно он играет и бессмысленно — это катастрофа. Хочется, чтобы все это скорее кончилось…»
Очень интересно было мне его мнение о А.Я. Таирове, которого Виленкин знал: «Очень талантливый режиссер, делал чудеса со сценой — у него был культ пластики, движения, речи. Он был великий мастер света и народных сцен. С Мейерхольдом они были страшные враги, ненавидели друг друга. Наверное, из-за того, что у них было много общего. Но у Таирова, при его уме, были неумные спектакли — театр ради театра. А у Мейерхольда была всегда точная идея, мысль…» Я спрашивал:
— А Вахтангов?
Виталий Яковлевич отвечал:
— Это другое. Трудно судить, что было бы дальше. Но «Принцесса Турандот» — это блестящая работа… Немирович-Данченко сказал: «На «Турандот» театр построить нельзя, это не может быть платформой»…
— А Любимов?
— Ну, это все от Мейерхольда. Только вот «Зори» — это меня потрясло, и я ему даже написал письмо. Правда, он на собрании сказал: «Вот Виленкин хорошо написал, но мало»…
— А вы читали в «Правде» статью о Любимове, о его работе над «Пиковой дамой»? — спросил я.
— Да. У меня двойственное впечатление от этой статьи. Почему Мейерхольду было можно по-своему ставить «Пиковую даму»? А Немировичу-Данченко — «Кармен» как «Карменситу и солдата»? Да и сам тон статьи что-то напоминает…
Все эти разговоры были у него дома 20 марта 1978 года. А на прощание он мне сказал слова, над которыми я всерьез задумался:
— Удивительно ваше уникальное отношение к Ефремову и, главное, ведь без взаимности. Не надо этого сближения. Он страшный человек и по природе своей предатель. Он всех предавал жестоко и подло. И Вас предаст и продаст… запомните это и не обижайтесь на меня. Но я J должен был вам это сказать.
Но это еще ничего. А порой у нас были такие беседы, после которых я готов был уйти из «театра моей мечты» — ведь не о таком театре я мечтал и не такой был Художественный театр, когда я его полюбил и стал его рабом…
Однако когда М.И. Царев в 1951 году приглашал меня вместе с К.А. Зубовым в Малый театр на роли Незнамова и Чацкого, я все-таки не смог изменить своей мечте — Художественному театру. Хотя тогда я играл только вводы на мелкие рольки и репетировал нелюбимую роль во «Второй любви».
Виталий Яковлевич часто, утешая меня, говорил: «Владик, Художественного театра давно нет… Осталось только помещение, где когда-то был великий Театр-Храм…»
Он и не верил в его возрождение, не верил в его внутренние силы и не верил, что Ефремов сумеет реанимировать этот театр: «Зря он пошел туда. Он окончательно его угробит и себя вместе с ним».
Мы с ним постоянно обменивались мнениями обо всех театральных событиях тех лет. У меня сохранились записи бесед с ним примерно за 20 лет — и по телефону, и у него дома, и в театре, и в Музее МХАТ…
Вот некоторые из них.
1 марта 1971 года
«Смотрел «А зори здесь тихие» — шок, потрясение. Еще есть Театр! Никогда так не относился к Ю. Любимову, но вдруг откровение! И радость, и зависть, и желание с ним говорить. Это искусство без ложных приемов. Ревет весь зал, и я с ним. Удивительно! Только бы не было антракта! Захватывает. Заставляет умиляться, благодарить!» «Ну, а сегодня честно и кратко о «Дульсинее»., Странное впечатление. Напрасно Ефремов пошел в Художественный театр — это трагическая ошибка! Ничего он не сделает, и себя погубит, и свои силы — это безнадежно! Пока он сам не вышел на сцену.
Ну, 1 акт — любопытно, но скучно, во 2-м акте — мечтал об антракте. И вдруг он вышел и… наплевать на все эти маски, на художника и на всех, кто плохо играет… Но вышел солист не по этому хору! В 3-м акте — хотя это 60–70 % того, что он может, но что уже делает — это смело, замечательно, честно до отчаяния!!! Он не совместим с нынешним Художественным театром. То, что он хочет, ищет — это совсем не то, что делают все. А он ищет последней, предельной простоты. Он, видимо, не умеет с этими актерами работать…»
Апрель 1972 года
«Зря Ефремов, пусть даже это в газете от 1 апреля, написал статью про свою пробу на роль Деточкина (ее потом ведь сыграл Смоктуновский!). «Волк в овечьей (шкуре» — так ему сказали про эту его пробу».
28 ноября 1972 года
«Сегодня в студии на зачете слушал Вашего сына. Он сделал успехи. И дикционно, и голос — хорошо. Я был рад за Андрея — он показал кое-что, и это существенно… Это Пушкин — его выбор… Он молодой, не струсил, был свободен, читал с увлечением. Это его серьезная и хорошая работа… На кафедре его очень хвалили В.З., Фрид, Морес, Женя Радомысленский. Сейчас это очень важно!»
10 марта 1973 года (после 1 000 спектакля «Идеальный муж»; Виленкин был переводчиком пьесы).
«Я ваш курс обожал, не знал, что бы еще для вас сделать. Поэтому мне так еще дорог этот спектакль. И тогда я говорил только о Школе-Студии и надо мной даже смеялись и О.Л., и В.И. А для меня это была надежда, какая-то весна Художественного театра».
29 мая 1976 года. Запись в моем дневнике
«Вчера звонил В.Я. из больницы. О Ефремове сказал: "Я не понимаю, что с ним случилось. Он окружил себя такими холуями, как Привальцев, Монастырский, Горюнов… У него нет друзей — он их предал. Он каждого третьего выжмет, как лимон, и выкинет. И вы ему теперь тоже больше не нужны… У него нет ничего и никого, для него не существуют ни дети, ни родители, ни жена, ни друзья. Я сомневаюсь, что он — человек!". "Но ведь, Виталий Яковлевич, вы были так ослеплены им…" "Да, я много для него сделал, но он тогда был другой. Владик, он был неповторимым, замечательным, выдающимся артистом. Он был единственным в своем роде, неповторимым режиссером — выше Гоги и Эфроса, им это и не снилось — то, что он знал и любил. Но все это было. Он все это предал. Он задушил, пропил свой необыкновенный талант. Я для него укор, это то, во что он веровал, но предал. И когда он меня видит, то он это вспоминает и ему бывает страшно. Он стал циником, он переродился, он живет для себя, а ведь в нем было главное — он горел делом! Он стал сумасшедший и злой. Но он не был таким раньше — это в последние 10 лет он стал таким. Я не понимаю, что с ним случилось…"»
24 июня 1982 года. Еще из дневника
«В.Я. — о нашем поколении: «Беда в том, что у вас не было лидера. Не было драматургии, на которой вы бы могли сказать свое слово. Человеческий материал оказался еще хуже, чем у второго поколения. Вас быстро развратили и разобщили. И меня вы предали и забыли, как только в 1947 году пришли в театр, а ведь у нас были общие планы…»
Май 1986 года
«А чего Вы удивляетесь, что так поступил Ефремов с Маргошей? Кедров так же перевел М.О. Кнебель на пенсию — она узнала об этом, когда пришла в кассу за зарплатой. Так ведь было сделано и с В.А. Вербицким при А.К. Тарасовой…»
1 июля 1987 года
«У Пушкина в 3-м томе — «Как с древа сорвался предатель-ученик»… Это мой Вам ответ на то, надо ли Вам участвовать в прославлении Ефремова в телефильме. Вот сейчас же, как положите трубку, прочтите…»
1978 год. Мой рассказ Виталию Яковлевичу
«На гастролях в Свердловске Ефремов сказал мне: «Вот у Шиловского играть в его телепередаче я отказался, а у Пчелкина — буду, парторга. Это надо: там посмотрят и скажут: «Он парторга играет, значит, он наш!» А я под это дело поставлю "Утиную охоту".»
21 ноября 1986 года. Виталий Яковлевич:
«Да, зря они — Гельман, Смелянский и Шатров — затеяли это. Они неправильно его направляют. Ведь он неглупый человек, как он не понимает, что и в Союзе (театральных деятелей. — В.Д.), и в театре они не того добиваются, что надо.
А в Ефремове ведь были несомненные качества —! талант актера, редкостные режиссерские дарования — особенные! Но он оказался слабым человеком. Лесть, фимиам и дары с верхов власти его погубили и испортили. Может быть, я преувеличивал в нем его качества. А вот Шверубович не принимал его в корне… Ясно только одно: меняются люди, меняются вкусы…»
1994 год
«Как был прав Станиславский, когда говорил: «Смотрите, когда кончится Художественный театр, то кончится «театр переживания» и во всем мире!» Говорил он об этом, как об огне, который погаснет».
Очень огорчала Виталия Яковлевича современная театральная критика. Но… «Один талантливый критик за все советское время — Павел Александрович Марков!»
Конечно, у П.А. Маркова, Н. Эфроса и у самого В.Я. Виленкина были самые интересные статьи и книги о Художественном театре. Мне всегда было интересно читать и слушать Павла Александровича. Вот его мнение о С.М. Михоэлсе: «Светлая голова. Он был, конечно, убит специально в Минске. Из Америки в 1943 году он привез 3 миллиона долларов, но вернулся мрачный и сказал, что «там зреет новый фашизм». Однажды мы с ним зашли наспех ко мне выпить «на посошок». Он стал играть с моей собакой. Я ему сказал: «Укусит!» «Нет, меня все собаки любят…» Но она его укусила… Утром он мне звонит и говорит: «Дворянин Марков затащил к себе бедного жида и спустил на него свою собаку…»
10 января 1981 года. Игорь Кваша сказал:
«Виталий Яковлевич сделал Олега Ефремова. Он его образовал. Он давал ему список — что ему надо прочесть… Если бы не было Виталия Яковлевича, то не было бы и «Современника». Он все нам объяснял. Он говорил, кому и как писать, и написал творческую программу театра…»
29 декабря 1981 года. «В.Я. Виленкин после спектакля «Так победим!»:
«Замечательно, очень хорошо говорит Андрей (А. Давыдов. — В.Д.) по-английски, ему веришь. Он единственный в этой сцене («иностранных корреспондентов») — настоящий. У него редкостные способности к языку. Он абсолютно владеет интонацией английского языка, произношением таких звуков, которые нам не свойственно произносить. Я давно и всегда это говорил. И какую бы он мог сделать прекрасную карьеру с такими способностями!.. Зря!..»
23 апреля 1988 года.
«Мне позвонила Ф.Г Раневская и сказала: «Я вернула аванс за свою книгу воспоминаний, так как почувствовала себя как в бане, голой, и меня показывают экскурсантам…»
…У Ефремова — разделение, а это — избавление от ненужных ему людей, и это ускорит развал Художественного театра. У Немировича-Данченко план разделения театра: основная сцена это 100 % МХАТ, а филиал отдать всей недовольной части труппы. И там брать новых режиссеров или своих авторов для нового театра.
…Владик, будьте осторожны с Ефремовым, чтобы он не обвел вас вокруг пальца. Но ведь вас и не обведешь, я это знаю…»
16 сентября 1979 года. В.Я. Виленкин о Ефремове:
«Но чтобы больше о нем никогда не говорить, он для меня перечеркнут на веки веков среди человечества, к сожалению!..»
22 ноября 1974 года
«Главный могильщик МХАТа М.Н. Кедров — я согласен в этом с П.А. Марковым. «Глубокая разведка» — это по-настоящему хорошая и единственная его режиссерская работа. «В людях» — это не очень удалось, т. к. слаба линия автобиографии. А «Плоды просвещения» — это коршевский спектакль. «Тартюф»?
Нет. В чем-то «Дни и ночи»… А в «Дяде Ване» потрясающе играл Добронравов!»
21 апреля 1974 года. И снова о Ефремове:
«К вам, Владик, у него двойственное отношение — и привязанность, и благодарность: вы же его годами готовили к Художественному театру. Но он по своей природе — предатель».
26 декабря 1978 года
«Чем больше думаю об этом спектакле («Утиная охота». В.Д.), тем мне тяжелее. Ощущение бессмысленного саморазоблачения и самое трагическое, когда он вдруг обнаруживает отсутствие духа. Ощущение конца его актерского дела. Он ведь мечтал об этой роли. Сыграл роль не равнодушно. Но! Нельзя сыграть главную роль и поставить спектакль, и спектакль не поставлен по сути. Ведь даже Константину Сергеевичу не удавалось играть и ставить одновременно. Он звал или Немировича-Данченко, или А.А. Санина. А почему же артист с искривленным самомнением может себе это позволить?»
12 марта 1978 года
«Недавно видел по телевидению кинофильм «Без вины виноватые». Все играют — именно играют. Надо было вам сниматься в Незнамове. Ваша кинопроба — это высший класс!»
16 февраля 1984 года
— Виталий Яковлевич, мне сейчас звонил Анатолий Смелянский и сказал, что хотят свалить Ефремова. Зайцев (министр культуры РСФСР. - В.Д.) предлагает возглавить МХАТ А.А. Гончарову. И что сегодня в 21.30. хотят в театре собраться в кабинете Ефремова…
— Если о Ефремове не вставал вопрос все эти годы, хотя о нем все было известно, то теперь я не верю, что его снимут. Тут вопрос может быть о директоре, который полный бездельник, а не о Ефремове…
3 декабря 1995 года. Запись в моем дневнике.
«И.Н. Соловьева дважды выступала перед началом спектаклей «Борис Годунов» с приветствием в честь 25-летия Ефремова в МХАТе. А после второго спектакля от имени театра Ефремову (в костюме и гриме Годунова) Борис Щербаков вручал адрес и вдруг предложил стоящим на сцене участникам спектакля: «На колени перед Олегом Николаевичем!» «Нет, нет, не надо», — говорил Ефремов. Но все (кроме Жаркова и И. Васильева) стали… А Ф.И. Шаляпина в свое время осуждали за то, что он стал на сцене на колени перед царем. Шаляпин оправдывался тем, что весь хор стал и он не мог один стоять и тоже опустился на колени…»
В 96-м году в Доме Станиславского мы отмечали 85-летие В.Я. Виленкина. Он прекрасно выглядел, был бодр, вспоминал свой первый приход во МХАТ и первую встречу с Константином Сергеевичем Станиславским именно в этом доме — Станиславский тогда пригласил его на беседу…
А через год Виталия Яковлевича не стало.
Он был одним из последних, кто знал МХАТ в пору его творческого расцвета, любил его и служил ему — преданно и верно.
Н.П. Ларин и Н.В. Остроухов
Какие разные, какие непохожие были всегда артисты Художественного театра! Недаром К.С. Станиславский говорил: «Мы не нанимаем своих артистов, а коллекционируем…»
И какая же это была прекрасная коллекция! Ведь каждый актер, в большой или в маленькой роли, но обязательно блеснул! Что было еще одним доказательством слов того же К.С. Станиславского: «Нет маленьких ролей…»
Вот таким талантливым артистом на маленькие роли был Николай Павлович Ларин.
Он пришел в МХАТ в 1925 году вместе со своим другом и однокашником П.В. Массальским. Но как резко разошлись их судьбы в театре! Как жестока актерская профессия! Я видел Ларина во всех его маленьких ролях. И всегда это были маленькие, сверкающие мгновенно бриллианты! Это и на минуту входящий перед скачками в конюшню тренер Корд, который говорил Вронскому с безукоризненным английским акцентом: «Не говорите громко, лошадь волнуется…» («Анна Каренина»). Это и артельщик, сидящий на сцене бесконечно долго, почти без слов («Я от Бурдье») — «Плоды просвещения». И пьяный мещанин в сцене с Градобоевым в «Горячем сердце». И старательный и подобострастный председатель домкома в «Кремлевских курантах»… Он играл в сцене «Суда» в «Воскресении» малюсенькую роль коридорного Симона Картинкина. Когда его допрашивали, то председатель суда говорил: «Симон Картинкин, встаньте!», а когда его допрос заканчивался, ему говорили: «Картинкин, сядьте!» И на это он отвечал: «Ничего, ничего, я постою…» И так несколько раз…
Вл. И. Немирович-Данченко в 1940 году, вручая ему за выслугу лет значок «Чайка», сказал: «Пять с плюсом вам за одного вашего Картинкина!»
А на заграничных гастролях его почти всегда отмечали в рецензиях наряду с исполнителями центральных ролей.
Он был удивительно обаятельный, какой-то весь складный, небольшого роста и уютный. Он двумя-тремя штрихами умел «показывать» разных людей и разыгрывал смешные сценки (например, как разгневанный актер, недовольный своей зарплатой, шел к директору требовать повышения и как он, подойдя уже к двери, робко открывал ее и на вопрос: «Что вам?» — вкрадчиво отвечал: «Нет, нет, убавьте мне, пожалуйста, зарплату»…) И вообще порой за кулисами актеры, почти не играющие на сцене ролей, устраивали целые спектакли. К сожалению, Николай Павлович как-то незаметно ушел из театра и так же незаметно — из жизни.
Таким же скромным, но талантливым актером был мой друг Николай Владимирович Остроухов. Он боготворил музыку П.И. Чайковского. Дома ставил пластинки с его симфониями и дирижировал. А за кулисами кого он только не изображал — и Качалова, и его жену, и еврейского вундеркинда-пианиста, и пианистку театра Кипервар, и бывшую помощницу директора Животову, которая солидно сидела в президиуме собрания, но когда вставала со стула, то ее не видно было из-за стола…
И вот Остроухову предложили сыграть роль Чичикова, а он испугался и… не сыграл… А за кулисами он был талантлив и интересен. Что это? Почему? Может быть, он слишком мало и редко играл на сцене и потерял веру в себя? Вероятно, поэтому Коля Остроухов спился и умер…
А сколько таких неродившихся и погубленных актеров было в Художественном театре! Это всегда был великий, но и жестокий театр! А как хочется вспомнить всех, кого я видел, знал, с кем общался и на сцене, и в жизни… Я однажды подсчитал — это больше ста артистов всех поколений…
И.М. Раевский
Так получилось, что когда я впервые увидел в Художественном театре «Дни Турбиных», то Лариосика играл И.М. Раевский. Он мне очень понравился. Потом я много раз видел этот легендарный спектакль с участием М.М. Яншина и, конечно, понял, что Иосиф Моисеевич повторял рисунок роли, созданной М.М. Яншиным. Но первое впечатление все-таки было незабываемым.
У Иосифа Моисеевича был особый талант: когда он выручал спектакль и, срочно (порой даже очень срочно) вводился на какую-нибудь роль, иногда даже большую и ответственную, то делал он это с блеском. Я несколько раз участвовал с ним в таких спектаклях. Он редко потом играл эти роли, а верней, не играл до следующего такого «пожарного» случая. Так вот, когда он «выручал», то буквально «ничего не играл», а только очень точно и четко говорил текст. И это сразу всех настораживало, и партнеров на сцене и зрителей. Почему? Да потому, что в «старом» спектакле вдруг очень ясно начинала звучать мысль в роли, которую он «выручал». Мысль, острота которой порой уходит у первого исполнителя… Конечно, он это делал только в «своих» спектаклях, то есть в тех, где он был режиссером и которые хорошо знал. Так было и в «На дне» (Коростылев), и в «Трех сестрах» (то Чебутыкин, то Ферапонт), и в «Воскресении» (пожалуй, все роли в сцене «Суд»), и в «Разломе» (то Успенский, то контр-адмирал, а то и сам Берсеньев)…
Почему я с этого начал рассказ о своем учителе? Мне кажется, что Иосиф Моисеевич в работе с актерами как режиссер и со студентами как один из лучших педагогов по мастерству актера начинал всегда именно с этого — мысль! Мысль! Точная, ясная и определенная. От этого — от мысли — идет и фантазия, и темперамент, и то, что в результате остается в памяти у зрителей. Не «играние образа», не «играние самочувствия или настроения», не «играние слов» а именно мысль, которая выражается не только в словах, но и в действии. Это главное.
Так было у меня в работе над сценой из «Преступления и наказания» на третьем курсе Школы-Студии в 1946 году. Когда мы кончали второй курс, то нас собрали наши педагоги по мастерству актера и спрашивали у каждого: «Что бы вы хотели сыграть?» Я сказал, что хочу играть «Записки сумасшедшего» Гоголя или Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского. И вот мы получили с Еленой Хромовой возможность работать над образами Достоевского. Она — Соня Мармеладова, я — Раскольников. Сцена из IV части, когда Соня читает Раскольникову «Воскрешение Лазаря» из Евангелия.
Работа шла так. Ровно в девять часов утра во второй аудитории второго этажа Школы-Студии открывалась дверь и входил элегантно одетый, в крахмальной рубашке, чисто выбритый и наодеколоненный Иосиф Моисеевич Раевский. Мы вставали — он садился. Усаживал нас за стол напротив себя. Долго загадочно молчал. Потом мы читали текст сцены, а он слушал нас, шевеля губами — не то повторяя за нами текст, не то что-то жуя (через много лет он сказал мне, что жевал чай…). Кончив читать, мы долго ждали, что он скажет. Но Иосиф Моисеевич молчал, потом в каком-то отрешенном раздумье говорил:
— Ну, давайте еще раз сначала…
Мы снова читали, а он снова через паузу говорил:
— Ну, вот теперь вы поняли, о чем вы говорите в этой сцене?
И начинал задавать нам вопросы:
— А зачем Раскольников пришел к Соне? А почему она ему стала все это читать? А почему он слушал и поклонился ей в ноги? А что значит — «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился»?..
И начинался разбор всего романа Достоевского — не только его сюжета, но и философии, идеи, смысла всех образов и т. д. и т. п. После такой беседы мы снова начинали читать эту сцену. Иосиф Моисеевич, собственно, сам старался нам ничего не рассказывать, а только задавал вопросы, чтобы расшевелить нашу фантазию. И так длилось много дней, а он все время усаживал нас за стол напротив себя и не выпускал нас на сцену, и не давал нам ничего «играть». И только после того, как мы уже были переполнены мыслями и от фантазии чувствами, он нас «отпускал», и мы тут же давали волю своим молодым темпераментам, наслаждаясь и купаясь в своих переживаниях… Но! Вот тут-то он снова нас сажал за стол и просил повторить сцену. А мы, уже выпустив пар, как-то свободно и безответственно и уже «не стараясь» проходили всю сцену — «только по мысли».
— Вот! Вот что должно быть в этой сцене — вы поняли? Ничего не надо «играть» и не надо «стараться». Они все это говорят и делают, утомленные своими переживаниями и измученные своими беспокойными мыслями… А не то что это бодрые, активные молодые люди…
Он придавал особое значение «второму плану» роли.
Он не любил праздной, ненужной и отвлекающей от работы болтовни. Только если что-то уже получилось или, наоборот, что-то застопорилось и наступал «зажим», «тупик» в репетиции — он начинал говорить на «посторонние» темы, чтобы шуткой или веселым рассказом вывести актеров из этого «тупика». А потом опять продолжалась репетиция.
Он никогда не насиловал актера и не зажимал его своей волей. Наоборот, он умел создавать на репетиции легкую, веселую атмосферу, полную товарищеского доверия и творческой свободы. Он не «учил», не требовал, а подводил актера к тому, чтобы тог именно сам начинал жить мыслями и чувствами роли и сознательно начинал бы действовать. Он не любил употреблять всякие «профессионально-технические» термины в работе. Но если актер или студент делал все-таки не то, что надо, и не понимал своих ошибок, то Иосиф Моисеевич «показывал», конечно, утрируя, что верно, а что неверно тот делает. И это помогало ощутить «зерно» роли.
Я однажды спросил Иосифа Моисеевича:
— А как вы работали с Кторовым и Степановой над «Милым лжецом»?
Он ответил мне:
— Как? Очень просто. Они мне играли, а я им говорил или показывал, что у них вышло, а что не вышло и почему. Я был для них зеркалом.
Конечно, он преуменьшал свое участие в создании этого спектакля, который вернул престиж Художественному театру в 60-е годы.
Это было высшее мастерство актерского искусства! Это была лучшая режиссерская работа И.М. Раевского!
Я очень любил работать с Иосифом Моисеевичем именно потому, что он давал максимальную свободу актерам. Так было и в Школе-Студии, и в театре.
В Художественном театре долгие годы шли спектакли, поставленные Станиславским и Немировичем-Данченко. Иосиф Моисеевич как второй режиссер этих спектаклей не только доверял мне ответственные роли (в «На дне» — Барона, в «Воскресении» — «От автора», в «Трех сестрах» — Кулыгина), но и бережно, неназойливо вводил меня на эти роли, которые были созданы такими великими актерами, как В.И. Качалов и В.А. Орлов. И если мне удавалось сделать что-то свое и не провалиться, то это, конечно, заслуга Иосифа Моисеевича. Что касается «Трех сестер», то мне, собственно, сперва была дана роль Вершинина (правда, еще раньше меня намечали на роль Соленого), но я ее так и не сыграл, хотя несколько репетиций с Иосифом Моисеевичем у меня было…
Через несколько лет, перед гастролями в Японию в 1968 году, когда готовился новый (уже третий) составов «Трех сестер», мне неожиданно дали роль Кулыгина. Я был несколько удивлен. Но Иосиф Моисеевич сказан мне:
— Я увидел тебя в роли Тальберга («Дни Турбиных». —
В.Д.) и понял окончательно, что ты все-таки интереснее в характерных ролях. Ты в них абсолютно свободен и находишь свою яркость и остроту. Поэтому я решил дать тебе роль Кулыгина…
Работа над этой ролью для меня была одной из самых интересных и радостных в Художественном театре. Тем более, что ее одобрил создатель роли В.А. Орлов. Они с А.Н. Грибовым приходили на наши репетиции и давали советы. Они очень хотели продлить жизнь гениальному спектаклю Немировича-Данченко.
Доброжелательность и педагогический такт И.М. Раевского всегда вселяли в актера веру в себя и окрыляли. Мне кажется, именно поэтому в работе с ним у меня были наиболее удачные роли. Вплоть до его последнего спектакля «Обратный счет», который он поставил на сцене МХАТа в 1970 году. В этом спектакле победила острота мысли, выявленная режиссером. А ведь это было очень трудно сделать в такой многословной пьесе с ее парадоксальными афоризмами и афористичными парадоксами, с ее длинными диалогами и рассуждениями об атомной бомбе. Но тут вновь блеснул своим виртуозным мастерством А.П. Кторов в роли Эйнштейна. И вообще спектакль вызвал интерес. Кстати, это был первый спектакль, который выпускал как главный режиссер МХАТа О.Н. Ефремов. Он придал спектаклю большую четкость и действенность.
Раевский был удивительно общительным и обаятельным человеком. Умел находить общий язык с любой аудиторией — и в среде студентов, и в доме таких людей, как В.И. Качалов или О.Л. Книппер-Чехова. Я не раз видел, как он остроумно и умело «вел» застолье. Он вносил в это «дело» атмосферу веселья и непринужденности, находя для каждого из присутствующих слова острого юмора и доброго серьеза. И с участием Иосифа Моисеевича застолья превращались из простого питья и еды в своего рода «симпозиумы» и «коллоквиумы»… Он умел своей импровизационной «режиссурой» превращать такие вечера во что-то осмысленное, поучительное и интересное.
Однажды Иосиф Моисеевич пригласил меня на обед, который они с Павлом Александровичем Марковым устраивали каждый четверг. Обед этот был в ресторане «Гранд-Отель». Он меня предупредил:
— Никаких разговоров о делах театра мы не ведем. Это просто обед…
Для меня это был урок умения интересно беседовать за столом, вкусно поесть и умело пить… Это был незабываемый, радостный, умный и вкусный обед. А разговоры были обо всем — о «стариках» театра, как они жили, как они умели работать и веселиться, о «прежних» спектаклях, и не только Художественного театра, о новостях литературы и о многом, многом таком, что будило мысли и облагораживало душу…
И.М. Раевский был «человеком театра». Он не только был профессором ГИТИСа и режиссером в МХАТе, но и ездил часто от ВТО в провинцию на консультации и делился опытом мхатовца с молодыми актерами Белоруссии и Северной Осетии, Литвы и Украины. Ставил в Канаде «Три сестры», а до войны режиссировал в Минске в период подготовки Декады белорусского искусства… И каждый вечер он приходил на «свои» спектакли или бывал на спектаклях других театров, или в Доме актера, или в ЦДРИ. Он всегда представлял МХАТ на торжественных вечерах или юбилеях, и не просто сидел, а обязательно умно и с юмором выступал. Его так и называли — «вездесущий Раевский».
Он был не только в курсе всех театральных событий, но и знал все то, что происходило в нашей литературе и искусстве. Много читал и классиков, и все, что появлялось нового в журналах.
Круг его друзей и интересов был широк и разнообразен. Поэтому он был так интересен и нам, его ученикам. Думаю, то, что ему выпало счастье заниматься режиссурой под руководством Вл. И. Немировича-Данченко и Л.М. Леонидова, дружить с В.И. Качаловым, О.Л. Книппер-Чеховой, П.А. Марковым и работать со всеми корифеями великого МХАТа, сделало Иосифа Моисеевича одним из самых лучших театральных педагогов. Именно в этой области, мне кажется, проявлялись его артистизм и интеллигентность. А все, кто его видел на сцене, помнят, каким он был ярким характерным и комедийным актером, сыгравшим много ролей за почти пятьдесят лет работы в МХАТе.
…Днем 23 октября 1972 года Иосиф Моисеевич, как всегда, пришел в театр на репетицию и увидел в траурной рамке сообщение о смерти Б.Н. Ливанова…
Ему стало плохо с сердцем и пришлось уйти домой. Вечером он не смог прийти на спектакль «Три сестры», где должен был играть роль Ферапонта. Вызвали другого исполнителя. В антракте мы позвонили Раевскому, и приехавший к нему брат сообщил нам печальную весть — Иосиф Моисеевич только что скончался…
А на сцене МХАТа шел последний акт спектакля «Три сестры». И звучали слова:
— …Они уходят от нас, один ушел совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить… Надо жить…
— …Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас… Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!..
Мое рождение в кино
Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в ментах.
А.П. Чехов «Чайка»
Г.В. Александров
Имена Г.В. Александрова и Л.П. Орловой в истории советского кино неразрывны. Когда я в детстве бесконечное количество раз смотрел фильм «Веселые ребята», то не знал, естественно, кто такой Александров: я видел только артистов Л. Орлову и Л. Утесова. Тогда я думал: артисты играют, а оператор снимает. И всё! Это потом я узнал, что в кино главный человек — режиссер.
Впервые я столкнулся с режиссером кино в 1944 году, когда мне предложили на «Мосфильме» пробоваться на роль Незнамова в кинофильме «Без вины виноватые». Началось все с фотопробы, а уж потом, когда была кинопроба, я попал в руки режиссера, вернее, второго режиссера — Левкоева. Постановщик — известный режиссер В.М. Петров, его фильмы «Гроза» и «Петр I» знали все.
Левкоев напоминал спортивного тренера:
— Не торопи текст. Ты его знаешь? Не махай руками. Не крути головой!
Это, конечно, были нужные указания, так как роль Незнамова я несколько раз играл в школьном драмкружке и был признанным «артистом» (к сожалению!). Проба понравилась В.М. Петрову, и он сделал со мной еще одну — последний монолог Незнамова. После этого меня утвердили на роль, хотя претендентов было несколько — В. Кенигсон, Д. Павлов, Ю. Любимов и кто-то еще. Но мне сниматься директор МХАТа В.Е. Месхетели не разрешил:
— Мы вас демобилизовали для театра, а не для кино. Оно вас испортит, и вы зазнаетесь.
И хотя А.К. Тарасова — она играла главную роль — хотела, чтобы я с ней снимался («О, оказывается, ты похож на меня больше, чем мой сын»), и я с ней даже репетировал на ее квартире, но… снимался в фильме мой друг Володя Дружников, который ради этого ушел из Школы-Студии МХАТа.
Но после несостоявшегося дебюта в кино я стал на «Мосфильме» «популярным» артистом. Меня начали приглашать на кинопробы почти во все фильмы. Как потом я понял, это было очень важно: все кинопробы видел тогдашний худрук студии Г.В.Александров. Это была еще и моя вторая школа, как я называл ее — Школа-Киностудия… Кроме того, за кинопробы платили, как за съемочный день. И для меня это была серьезная добавка к стипендии.
Режиссер по подбору актеров, знаменитая «снайперша» в этом деле Валентина Владимировна Кузнецова (незадолго до этого она пригласила меня на съемки и озвучание второй серии кинофильма «Иван Грозный» С.М. Эйзенштейна. Я там снимался опричником в массовке, а на озвучании в тонстудии видел самого Эйзенштейна — взъерошенного, темпераментного, искрометного) — так вот, она решила сделать мои фотопробы сразу на три роли в фильме «Встреча на Эльбе»: немецкого учителя Курта
Дитриха, американского офицера Джеймса Хилла и советского полковника Кузьмина.
Меня долго не вызывали на «Мосфильм»: Григорий Васильевич Александров уехал из Москвы на выбор натуры. Да и мне так было лучше — я вовсю репетировал свою первую роль во МХАТе — Апреля в сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев».
Но наконец позвонили и попросили приехать для кинопробы на роль Курта Дитриха. Сценарий я уже, конечно, прочитал и стал учить текст, где у Курта с отцом Отто Дитрихом намечался довольно острый конфликт. Партнером моим был известный артист и режиссер Юрий Ильич Юровский из Рижского театра русской драмы. Я волновался при встрече с таким большим актером. Но он оказался доброжелательным, интеллигентным человеком, поэтому съемка прошла легко и быстро.
Григорий Васильевич на съемке как-то загадочно улыбался и подбадривал меня:
— Все хорошо, не волнуйтесь, Владик…
Но почему-то долго не было ответа: как принята проба, буду ли я сниматься? А вместо этого пришла просьба от Григория Васильевича приехать на «Мосфильм» и «поговорить». Я с волнением ехал и гадал: что значит «поговорить»? О чем? О пробе? О роли? О начале съемок?
Приехал на «Мосфильм», нашел комнату «Режиссер Г.В. Александров». Григорий Васильевич, как всегда, был приветлив и обаятелен:
— Владик, проба получилась хорошая, но у меня сомнение — не очень вы похожи на немца. Фотопроба на роль американского офицера мне нравится, но и тут, Владик, ваше русское лицо и милая улыбка. Одним словом, мне бы хотелось попробовать вас на другую роль.
У меня замерло сердце — на какую «другую роль»? Я хорошо знал сценарий, там было только четыре русских роли — генерала, полковника, капитана и сержанта. Кого же? Непонятно.
Григорий Васильевич лукаво улыбался:
— Давайте сделаем с вами пробу на роль нашего советского офицера, коменданта Кузьмина!
— Но ведь он полковник, а мне всего двадцать четыре года.
— А у меня есть план — пусть оба офицера станут майорами, это будет интересней, перспективней. Они должны были выиграть войну, а теперь должны выиграть мир!..
Через неделю была назначена кинопроба, но до этого на квартире у Григория Васильевича (он тогда жил на улице Немировича-Данченко в хорошо знакомом мне доме, где жили многие знаменитые мхатовцы), мы репетировали две сцены. Одну — с Любовью Петровной Орловой.
— Это она предложила сделать вас обоих майорами, а не полковниками, разжаловать, так сказать, вас… — весело сообщил мне Александров.
Проба была для меня, конечно, очень и очень ответственной. Потом еще одна. Долго и тщательно устанавливал свет Эдуард Казимирович Тиссэ — оператор, снимавший еще с С.М. Эйзенштейном легендарный «Броненосец «Потемкин»». И он, и вся группа с интересом, но как-то настороженно следили за нашими репетициями с Григорием Васильевичем, а потом и за съемкой. Было еще несколько вариантов с разными партнерами. Меня ободряла и поддерживала доброжелательность Григория Васильевича. Позже он мне говорил, что тоже волновался, как воспримут его вариант с «разжалованием» героя.
Я был утвержден на роль Кузьмина. Больше всех радовалась В.В. Кузнецова — ведь она первая предложила сделать фотопробу. Эту фотографию Я.М. Толчана я храню как самую дорогую — она была счастливым началом моей кинокарьеры.
Весну 1948 года, весну, когда я сыграл первую роль на сцене МХАТа и был утвержден на главную роль в картину знаменитого режиссера Г.В. Александрова, я вспоминаю как счастливую сказку, каждой весной…
Я радовался, но недолго — впереди были ответственные съемки сразу на натуре. Я заключил первый договор в кино, и мы всей группой отправились поездом в город Калининград (бывший Кенигсберг).
Мы попали в страшный город — разрушенный, но утопающий в зелени. Трава пробивалась на мостовых, на тротуарах. На стенах домов росли кустики и деревья. Стояли белые ночи, и тени через скелеты домов и разинутые глазницы-окна ложились на мостовые, как жуткие негативы…
Поселили в гостинице рядом с Домом офицеров. В номере нас было четверо: Эраст Павлович Гарин, Борис Андреев, Геннадий Юдин (потом на его место приехал Иван Любезнов — он был утвержден на роль Курта Дитриха). Впервые я попал в такую компанию. Надо сказать, все они относились ко мне как-то бережно и со вниманием — ведь я играл героя фильма и снимался каждый день, как и Борис Андреев, исполнявший роль моего адъютанта сержанта Егоркина. Из всех нас только Э. Гарин снимался редко, поэтому у него был своеобразный «режим»… Он часто приходил в номер поздно, нетрезвый, и тихо, не раздеваясь, бухался в кровать… Утром просыпался, вытаскивал из-под кровати большой, чемодан, открывал его, доставал зубную щетку и задавал сам себе почти гамлетовский вопрос: «Почистить, что ли, для смеха зубы?» Был он обычно задумчиво-молчаливый, с блуждающим, отсутствующим взглядом. Его явно мучили безделье и нелепая, ничтожная для такого великого артиста роль, которую он согласился играть.
У меня было много сцен «на натуре», трудно было сразу «войти» в роль. Александров это понимал, и когда мой главный партнер Названов — Хилл очень уж беспардонно вел себя в кадре, многозначительно и деликатно говорил:
— Ну, эти крупные планы мы доснимем в павильоне в Москве.
Конечно, М.М. Названов как опытный партнер не всегда был деликатен. Ему хотелось перекрыть меня своей игрой или даже повернуть спиной к аппарату.
Григорий Васильевич видел это и после съемки говорил мне:
— Я ничего не могу с ним сделать, но на монтаже мы все исправим и уравновесим.
Это был единственный партнер, который относился ко мне свысока. Зато Борис Андреев оказался невероятно внимателен:
— Владленушка, не робей! Ты наш герой, и от тебя во многом зависит успех картины!
Как я ему был благодарен за братскую поддержку! Мы с ним подружились на съемках. Спасибо ему, этому поистине великому русскому актеру — богатырю с детской душой и нежным сердцем!
Всегда был вежлив и корректен народный артист Юрий Ильич Юровский. В нем все чувствовали доброжелательность и аккуратность.
Но, конечно, самым большим счастьем для меня стали встречи в жизни и в кадре с Любовью Петровной Орловой. У нас с ней были три сцены. Мы предварительно подробно все репетировали до съемок. В этом нам помогала специально приглашенная режиссер И.С. Вульф. Потом, в павильоне, более точно и определенно мы проходили каждую сцену с Григорием Васильевичем. Он своим обаянием, которое на меня невольно действовало (я восхищался им!), вдохновлял меня, а его постоянное внимание и доверие окрыляли. Недаром он как-то сказал мне:
— Владик, вы мне напоминаете моего пса Дугласа. Вы, как и он, растете не по дням, а по часам…
А я действительно тщательно разработал всю роль. Сейчас просматриваю записи на полях сценария, что и как хотел в каждой сцене сыграть, вспоминаю, с каким увлечением работал над ролью, и понимаю, как много мне дал и многому научил Григорий Васильевич. Он был моим первым учителем в кино и таким же идеалом, как В.И. Качалов.
Сниматься во время летнего отпуска в театре для меня не представляло никаких сложностей. Но когда начался сезон (мой второй сезон во МХАТе!), возникли осложнения. Нас, принятых из Студии молодых артистов, сразу заняли почти во всех народных сценах. Поэтому мне приходилось каждый день отпрашиваться то от массовой сцены (за тюлем) в «Последних днях», то от жандарма с шашкой в сцене суда из «Воскресения», то от гостя в «Идеальном муже» или лакея и «лошади» в «Горячем сердце», рынды и сторонника Шуйских из «Царя Федора», опричника в «Трудных годах»… Единственная роль не мешала моим съемкам — Апрель, потому что спектакль «Двенадцать месяцев» шел в воскресенье по утрам, а в этот день съемок обычно на «Мосфильме» не бывало. В театре к моей работе в кино относились с иронией, тем более что поначалу директор В. Е. Месхетели вообще не разрешил мне сниматься — опять по тем же причинам:
— Вам надо сперва сыграть в театре. Вот мы хотим дать вам роль Чарльза в «Школе злословия». А кино вас испортит.
Но на этот раз я был более настойчив. Такую роль и у такого режиссера я терять не хотел. Я рассказал об этом отказе моим друзьям — семье Яковлевых. Михаил Данилович Яковлев был в то время заместителем заведующего одного из отделов ЦК партии. Он сказал:
— Владик, в такой картине надо сниматься обязательно! Я постараюсь тебе помочь!
И действительно, через два дня позвонил и сказал, чтобы я соединился с председателем Комитета по делам искусств П.И. Лебедевым.
Соединили меня не сразу, а подробно расспрашивали — кто, зачем, по какому вопросу. Разговор с товарищем Лебедевым был какой-то неприятный:
— А что вы хотите? Чтобы я разрешил вам сниматься в кино? А что за роль? А почему вам не разрешают в театре? Но что я могу сделать? Я могу дать указание директору МХАТа товарищу Месхетели, но ведь вам работать в театре у этого директора… Что же вы, каждый раз будете обращаться ко мне?
— Да нет, я прошу только один раз…
Разрешение от Месхетели было получено, однако после этого прежнее его доброе ко мне отношение изменилось.
В Калининграде я снимался «вслепую», то есть ни разу не видел себя на экране. Григорий Васильевич говорил:
— Пока и не надо, это не главные сцены.
А жаль! Зато потом он же настаивал, чтобы я вместе с ним смотрел все сцены и сам мне деликатно объяснял, что у меня получилось, что не получилось и почему. Это были наглядные уроки и отличная школа блестящего Мастера кино. Иногда во время просмотров и Э.К. Тиссэ давал мне советы:
— Владик, видите, вы тут вышли из света? А тут не встали на точку…
Так, шаг за шагом, я постигал профессию киноактера. И в этом мне помогал прежде всего Григорий Васильевич, который верил в меня. А в остальном никаких проблем не было: грим — просто тон, костюм военный, и всё! В.В. Кузнецова тоже меня поддерживала и делала это незаметно. Да и вся группа всячески шла навстречу.
Когда начались съемки в павильоне в Москве, я уже обрел уверенность и «вошел» в роль. У нас с Григорием Васильевичем установилось взаимопонимание без слов. Стоило ему сделать определенный жест, и я все понимал. Конечно, в Москве мы более подробно и глубоко разбирали каждую сцену, каждое слово. Кое-что из этого согласовывалось с Министерством иностранных дел, а не только с авторами сценария братьями Тур и Л.Р. Шейниным. К фильму было особое внимание в разных инстанциях, а уж на «Мосфильме» — в особенности. Потому что Александров впервые снимал не музыкальную комедию, а сугубо политический фильм.
Я был на одном из первых обсуждений нашего материала худсоветом «Мосфильма». Помню, забился в угол в последнем ряду в небольшом просмотровом зале. Волновался так, что меня трясло: в зале сидели те, кто сейчас будут обсуждать и решать… Мне натурные съемки понравились. Э.К. Тиссэ снял разрушенный город как жуткий памятник войны. (Я потом думал, что руины Сталинграда надо было бы оставить как памятник, а город строить рядом.) Что касается моих сцен, моей игры, то я, увидев свои промахи и недостатки, очень расстроился.
Началось обсуждение не то вяло, не то осторожно. Об актерах говорили мало. И только режиссер А. Медведкин в пух и прах разгромил «главного героя фильма Давыдова, который меня не убедил. Эту роль, пока не поздно, надо передать такому актеру, как Николай Крючков или Хохряков!» Вот таков был его окончательный приговор. Что я пережил в тот момент, не хочу даже вспоминать… Это было последнее выступление, и, казалось, на этом все и кончится. Но тут встал Г.В. Александров и, как всегда улыбаясь, как-то вкрадчиво, полушепотом поблагодарил всех «за полезное обсуждение» и добавил:
— Что касается главного героя, которого у нас играет молодой артист Владлен Давыдов… кстати, он сидит здесь в зале…
Тут все стали крутить головами, желая увидеть, как я прореагировал на речь Медведкина и вообще, жив ли еще?..
Александров продолжал:
— Так вот, я в нем уверен, он талантливый актер Художественного театра и сыграет роль хорошо. Мы хотим, чтобы это был молодой офицер сталинской эпохи. Тем более, что все главные сцены у него еще впереди, мы будем снимать их теперь уже в павильоне.
На этом обсуждение, ставшее судилищем, закончилось, меня начали искать, но я убежал первым и уехал домой.
Не успел войти в квартиру, раздался телефонный звонок:
— Владик, что же вы так внезапно ушли, не поговорив со мной? Сейчас за вами приедет шофер и привезет вас к нам домой. Мы ждем вас с Любовью Петровной. Все будет хорошо. Попьем чаю, поговорим.
Его ласковый, дружеский тон тронул меня, и я только сумел сказать:
— Спасибо. Приеду.
Это был один из тех разговоров, которые случались у нас обычно перед съемкой и на репетициях. Александров ни слова не говорил об обсуждении, а только о том хорошем, что было у меня в отснятом материале и что надо еще сыграть, чтобы роль вышла многогранной, крупной. Как всегда после таких встреч, я ушел окрыленный, дома схватил сценарий и стал записывать мысли, которые родились в результате этой беседы.
Съемки в Москве шли почти круглосуточно. Я ни о чем, кроме роли, не мог и думать. Это было самое счастливое время. Ко мне в группе стали относиться более бережно. Я это почувствовал. Особенно Любовь Петровна. В перерывах приглашала в свой «фургон», который стоял тут же, в павильоне, и угощала чаем или кофе. Лучшей партнерши в кино я не мог себе и представить. Она была не суперзвезда, а добрая, красивая, простая женщина — товарищ по работе. Меня это восхищало. И потом, когда я бывал у них в гостях в Москве или на даче во Внукове, она была такой же внимательной, милой хозяйкой и очаровательной женщиной. А то, что они с Григорием Васильевичем обращались друг к другу на «вы», вносило какую-то особую уважительность в их отношения. Меня это всегда поражало и восхищало. Красота отношений была очевидна и в их искусстве — несколько приукрашенном и немного выдуманном, идеализированном. Но мне это нравилось и в работе сними, и в их фильмах, кроме разве что самых последних…
После смерти Сталина, мне кажется, они растерялись, а после XX съезда и вовсе утратили чувство реальности. Мне было обидно и горько за них. Но перелом наших представлений о прожитой жизни потряс тогда всех, всю страну, а не только их.
А мне иногда хочется вернуться в то время и в те места, где я был молод и счастлив, мечтал, влюблялся и ошибался…
Может быть, именно поэтому я и решил попытаться все восстановить в памяти. Часто мысленно возвращаюсь к местам моей молодости — на Арбат, Плющиху, Кропоткинскую. Для меня всегда было особенно дорого не только мое, но наше общее ушедшее прошлое. Именно поэтому я люблю музеи. И был счастлив в Музее МХАТа, где меня окружало прекрасное прошлое этого театра.
Но, к сожалению, и тут Чехов прав:
«…То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, — придет время, — будет забыто или будет казаться неважным. И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным… И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной…»
Да, да, именно такие мысли у меня возникали, когда я захотел снова увидеть Самару через 25 лет или Калининград через 10–15 лет.
А тогда, спустя три года после войны, этот прусский город был мертвым. В его трагическом пейзаже было что-то таинственное и притягивающее. Я бродил по его пустынным улицам, заглядывал в его разрушенные дома и особняки со следами былого величия и красоты. Полуразрушенная башня в королевском замке и могила Иммануила Канта в храме без потолка и стен. А кругом буйная зелень, цветущие липы и сирень. И ободранные, худые и испуганные немцы, которые еще не успели уехать в Германию. Я запомнил личико одной немецкой беленькой девочки: «Мария Тереза Анна фон Люцковски», — назвала она себя с гордостью. Где-то она сейчас? Ей ведь тоже уже лет за шестьдесят, наверно. Их собрали тогда во дворе тюрьмы, где мы снимали сцену освобождения. Тюрьма была громадная и мало пострадавшая от войны. Потом мы снимали сцену «черного рынка» на площади, где стоял изуродованный памятник Бисмарку с пробитой головой. Там в съемках участвовали пленные немцы, одетые в гражданские костюмы или в форму американской армии. Меня удивило, как многие из них были элегантны и породисты. Они радостно и весело «играли» массовую сцену, казалось, им это нравится.
И совсем страшное впечатление. Однажды у меня заболел зуб, и я обратился к врачу-немцу, участвовавшему в наших съемках. Он пригласил в свой «кабинет» — грязную комнату в полуразрушенном доме. Когда я увидел, как он моет инструменты в тазу, тут же «выздоровел» и убежал.
Конечно, все, что я увидел в этом городе через десять-пятнадцать лет, ничем не напоминало о прошлом. Опасно возвращаться к местам прошлого: в молодости все воспринимается по-другому. Особенно бывает грустно встречаться с друзьями юности и с теми, в кого ты в юности был влюблен. А уж встречи с былыми кинозвездами — действительно, настоящий киношок! Съемки фильма «Встреча на Эльбе» были завершены к концу 1948 года. Г. В. Александров собрал съемочную группу и показал целиком смонтированный фильм. Он просидел не одну неделю с монтажницей Е.М. Ладыженской и сделал фильм, несколько измененный в сравнении со съемками и сценарием. Григорий Васильевич считал (как и С.М. Эйзенштейн), что самое интересное занятие — монтировать фильм. У него в квартире на стене висел белый квадрат-экран, и он мысленно монтировал на нем фильмы.
Я смотрел свою первую кинокартину с невероятным волнением — ведь у меня была главная роль! Но то, что увидел, несколько меня удивило: каких-то сцен не было, хотя их снимали, а другие вдруг стали главными. Особенно неожиданна была сцена в американском клубе, где пели и танцевали буги-вуги:
Если атомом азота
Можно целый мир взорвать,
К чему бороться?
Все продается…
Э. Гарин тоже выделывал на эстраде какие-то трюки; его ботинки оказались прикреплены к полу, и он чуть не падал с эстрады.
Известный эстрадный артист Иван Байда скрючивался кренделем, и его голова оказывалась сзади между ног. Все происходило под дикую музыку Д.Д. Шостаковича, которую с блеском исполнял пианист экстра-класса Александр Цфасман в невероятном темпе. Фильм строился на резких контрастах: хоровая песня о мире и грустно-лирическая «Тоска по Родине» в исполнении великой Н.А. Обуховой — и дикий джаз…
Музыка, написанная для фильма Д.Д. Шостаковичем, очень органично сочеталась с V симфонией Бетховена в сцене открытия памятника Генриху Гейне.
Позже, на банкете в Доме актера, где собрались участники фильма, когда я поздоровался с Шостаковичем, Григорий Васильевич, улыбаясь, сказал:
— Владик, вы сейчас пожали руку обыкновенного гения…
Александров гордился тем, что пригласил на картину Шостаковича, которого вместе с С. Прокофьевым, А. Хачатуряном и рядом других композиторов только что подвергли уничтожающей критике за формализм в музыке в постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» от 10 февраля 1948 года…
Да, фильм, вернее, моя роль несколько изменилась после монтажа. Было жаль некоторых сцен, когда, казалось, мне удалось внести какие-то теплые, человеческие черты в довольно официальную роль советского коменданта.
Через неделю после просмотра, в январе 1949 года, вдруг возникла необходимость в некоторых досъемках и пересъемках. Но этими мелкими изменениями дело не ограничилось. В газетах началась кампания по борьбе с космополитизмом. Каждый день приносил новые «разоблачения» деятелей литературы, кино и других видов искусства. Начался настоящий шабаш по уничтожению «врагов» советского искусства. Судьба фильма была под угрозой: Александрова тоже кое-кто обвинял в низкопоклонстве перед Западом и Америкой.
Как на эти события реагировал Григорий Васильевич, я не знал, но понял это, когда через два месяца вновь увидел наш фильм, в котором пришлось сделать купюры. А в конце февраля Григорий Васильевич позвонил мне и сообщил радостную весть:
— Владик, двадцать третьего февраля, в День Красной Армии, картину посмотрели члены Политбюро. Она принята, будет отпечатана самым большим тиражом и выйдет на экраны всех кинотеатров страны десятого марта! Поздравляю! Скоро вы станете самым известным артистом Советского Союза!.. О подробностях просмотра — при встрече, пока только скажу, что вы и Любовь Петровна понравились Иосифу Виссарионовичу и он просил вас поздравить…
Григорий Васильевич, как известно, любил преувеличивать, но то, что фильм приняли на самом высоком уровне, было фактом, и это нас радовало. А для меня это стало лучшим подарком к 25-летию. Жаль, что всего этого уже не увидел мой кумир Василий Иванович Качалов.
«Встреча на Эльбе» имела ошеломляющий успех. Фильм шел сразу во всех кинотеатрах. Москва была увешана не только афишами, но и громадными нашими фотографиями. Мы ездили по большим кинотеатрам и выступали перед показом, а иногда и после, и видели, какой восторг вызывал фильм. Я не верил своим глазам и ушам: неужели это я, неужели это не сон?! Ничего подобного я не мог себе представить. Меня поздравляли, всюду приглашали, узнавали. Я получал на адрес МХАТа каждый день по 10–15 писем. Некоторые писали просто: «Москва, В. Давыдову — майору Кузьмину». И письма находили меня. Рецензии во всех (во всех!) газетах были только хвалебные, и все признавали «удачное исполнение главной роли молодым артистом В. Давыдовым». Однажды, когда мы ехали с Григорием Васильевичем и Любовью Орловой после выступления из кинотеатра «Победа», Александров в присущей ему торжественной манере радостно сказал:
— Владик, мы с вами едем из «Победы», в «Победе» с победой!
Да, это было именно так! Эту победу создал, конечно, великий и мудрый талант — Г.В. Александров. Это была высшая точка в его судьбе: серьезный, политизированный и актуальный фильм, красиво и умно сделанный художественный плакат. Была ли в нем неправда? Думаю, что нет. Была конъюнктура. Ведь в фильме в некоторых сценах я говорил просто лозунгами, утверждал политические принципы тех лет — в самом начале «холодной войны». И то, что все это с экрана произносил не убеленный сединами солидный полковник, а молодой, интеллигентный, обаятельный и искренний советский офицер, воспринималось зрителями с большим интересом. Ему верили, он был идеальным героем, воином Советской Армии-победительницы. Таким и хотели люди видеть героя после этой кошмарной войны. Говорят, маршал Жуков собрал всех советских комендантов в Германии и показал наш фильм как наглядный пример того, каким должен быть советский комендант.
Меня все поздравляли, а Борис Андреев весело предупредил:
— Ну, Владленушка, держись — успех у тебя будет страшный!
А Фаина Георгиевна Раневская, поздравляя меня, сказала:
— Владлен, у вас преступная красота. Это опасно для женщины.
Я был счастлив и горд тем, что оправдал свою демобилизацию в разгар войны. Об этом мне сказал, когда мы с ним познакомились, адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов, который в ноябре 1943 года подписал приказ о моей демобилизации. Я всегда помнил об этом и рад, что смог вернуть долг, когда снимался в фильмах о войне: «За нами Москва» и «Освобождение», где сыграл роль маршала К.К. Рокоссовского.
Фильм «Встреча на Эльбе» прошел во всех странах народной демократии — в Чехословакии, Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, Албании и ГДР. Я об этом узнавал, получая оттуда письма. А однажды вдруг получил письмо из США. При моей любви к архивам и реликвиям эти письма я сохранил. В них много наивного, но они искренние и выражают то, чем мы все тогда жили, во что верили. Это трогательные документы нашей истории.
А через год фильм получил Сталинскую премию 1-й степени.
Но самым дорогим признанием моей работы было мнение товарищей-однокурсников, которых я пригласил на просмотр. Они не ожидали такого успеха. Я ведь и в театре никому не говорил, в какой роли снимаюсь. Поэтому для коллег мой взлет был неожиданным. Все меня поздравляли, даже мой кумир Борис Георгиевич Добронравов, который при этом добавил:
— Теперь ты заломи самую большую ставку, в пятьсот рублей. Сколько ты получал? Двести? Это мало!
Конечно, было бы хорошо, если бы и в театре мне дали хорошую роль. И Евгений Васильевич Калужский, заведующий труппой, написал мне на своей фотографии: «Желаю Вам такого же успеха, как во «Встрече на Эльбе», и в театре…» Но работа над Чарльзом в «Школе злословия», как я уже рассказывал, дальше показа не пошла. А режиссер Горчаков так же коварно поступил со мной и потом, когда распределял роли в пьесе «Юпитер смеется». Обещал дать главную роль и даже поздравлял, а дал ее другому артисту, меня же и во второй состав не назначил… Подобные вольты были присущи и другим режиссерам.
После обвального успеха, который я стойко перенес, мое тщеславие было полностью удовлетворено. Моя кинокарьера началась с самой высокой точки. Киноуспех перевернул мою жизнь, но только не в театре, где я по-прежнему играл роль Апреля и все, все бессловесные роли.
Но я стойко терпел все в своем любимом до самозабвения Театре. Кстати, это меня и спасло от зазнайства и от загулов — театр держал меня в строгом режиме.
Артист Леонид Еремеев написал мне: «В своей блистательной карьере ты избери дорогу тружеников — не подражай плохой манере, как это сделал Вова Дружников».
А когда я через год сыграл в театре первую (человеческую!) роль — Марко Пино в пьесе Н. Вирты «Заговор обреченных», тот же Еремеев написал: «Держите в Марке Пино марку кино!» — и подарил книжечку «Шумовое оформление спектакля» с надписью: «Дорогой Владик! Главное — оформиться, а шумы сделают другие. Сторонник Вашего оформления Л. Еремеев».
Мне присылали из отдела вырезок «Мосгорсправки» рецензии из всех газет страны. Но, к сожалению, они были до смешного одинаковы. В основном перепечатывались рецензии М. Чиаурели, Вс. Пудовкина, М. Долгополова. А издатель «Ежегодника МХАТа» А.Бродский сказал: «Вам театр должен быть благодарен за то, что вы так его прославили своим успехом!»
Успех фильма у зрителей, действительно, был большой. Видимо, поэтому подробных, профессиональных критических статей и не было, а те, что появлялись, звучали как передовицы центральных газет. Но, вероятно, с этим художественно-публицистическим фильмом и не могло случиться иначе. Тема борьбы за мир была тогда главной. И я, конечно, в это искренне верил, так же думал и потому убежденно произносил все слова и монологи.
Успех был еще и потому, что в фильме участвовали прекрасные актеры. Не говоря о Любови Орловой, там снимались Фаина Раневская, Рина Зеленая, Лидия Сухаревская, Борис Андреев, Иван Любезнов, Владимир Владиславский, Андрей Файт, Эраст Гарин, Виктор Кулаков. А в крошечных эпизодах — когда-то игравший Городничего в Театре имени Вс. Мейерхольда Петр Старковский, корифей Камерного театра Сергей Ценин, эстрадный король Иван Байда и русский негр Вейланд Родд… И, конечно, исполнители центральных ролей Юрий Юровский, Михаил Названов и Геннадий Юдин.
Съемочная группа состояла из первоклассных мастеров: классик оператор Э.К. Тиссэ; известный художник А.А. Уткин; режиссер Н.Н. Арманд (племянник Инессы Арманд); директор И.В. Вакар — спокойный и затаенный — и его жена, ассистент режиссера В.В. Кузнецова — сама энергия и буря; гримерша, очаровательная Вера Рудина; звукооператор В.Н. Минервин… да все, все. И даже тихий человек, пиротехник и «взрыватель» И.В. Суворов работал с энтузиазмом.
И, конечно, музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича вносила в картину глубину и увеличивала ее масштаб. Только такой великий композитор мог создать для одного фильма три совершенно разных по жанру музыкальных произведения — хоровое («Песня о мире»), лирическое (песня «Тоска по Родине»), джазовое («Буги-вуги»).
А грудной тембр голоса неповторимой Н.А. Обуховой в «Тоске по Родине» был такой ласковый!
Разнообразие жанров и актерских индивидуальностей делало фильм особенно интересным и ярким. Григорий Васильевич был великим Мастером кино, владевшим всеми приемами киноискусства в совершенстве.
Поэтому и сейчас, через пятьдесят с лишним лет, лента вызывает интерес не только как документ эпохи.
Я счастлив, что мне довелось участвовать в таком фильме и никогда не изменю своего мнения о нем, как бы ни иронизировал и ни осуждал меня за это мой бывший товарищ по партии, а теперь — господин А.М. Смелянский…
Прошло больше пятидесяти лет со дня премьеры кинофильма «Встреча на Эльбе». И вот однажды неожиданно для меня один из моих любимых артистов рассказал мне, как он впервые увидел этот фильм. Ему было тогда 13 лет. Это — Валентин Гафт.
А в июне 2002 года Гафт позвонил мне и прочитал стихи о тех своих ранних впечатлениях. Я всегда восхищаюсь и его актерскими созданиями, и его стихами. Но сперва я насторожился — у Валентина Гафта удивительный талант на эпиграммы, он «разоблачает» людей, как это делал в рисунках Борис Ливанов. И я был тем более растроган, когда услышал:
Ты промелькнул у «Метрополя»,
Как в сказке, как в кусочке сна.
Короткий кадр — остатки роли —
Лицо, затылок, плащ, спина…
Тебя увидел я живого —
Что, раздвоенье? Кто ж из вас?
Иду, беру билет и снова
Смотрю кино в десятый раз!
Любил в кино — войну и стрельбы.
Игру не называл игрой.
Но вот в кино «Встреча на Эльбе»
Уж очень был хорош герой:
Длиннющий, словно на ходулях,
Как д'Артаньян, как Робин Гуд!
С таким лицом перевернули б
Мы мир, не то что Голливуд!
Ты мой герой, мое начало,
Как сладкий плод, тебя вкусил!
Тебя благословил Качалов,
А ты меня благословил!
И.А. Пырьев
В начале марта 1949 года на экраны всей страны вышел фильм «Встреча на Эльбе». А в конце марта мне позвонил ассистент И.А. Пырьева и сказал, что Иван Александрович приглашает меня сниматься в его новом фильме «Веселая ярмарка». Сценарий пока есть только литературный, автор Н. Погодин. Это музыкальная комедия. «А пока Пырьев просит вас приехать на «Мосфильм» для беседы».
Сценарий я прочел, но роль мне не понравилась, вернее, ее там почти не было. Я решил отказаться. Но мне все говорили: «Как?! Это же Пырьев! Какой он сделал замечательный фильм «Сказание о земле Сибирской»! Нет, нет, не надо отказываться!» Ну, хорошо. Я приехал на беседу с Пырьевым. Он был очень внимателен и любезен: «Вот-вот мы закончим режиссерский сценарий, там роль будет ярче и больше. А пока сделаем фотопробу и заключим договорчик».
И действительно, в апреле Пырьев сделал фотопробу и заключил договор. Обещал, что ставка у меня будет уже не 200 рублей за съемочный день, а 250! (А во МХАТе я тогда получал 850 рублей в месяц.)
Я подписал договор и должен был ездить в Сокольники, на Буденновский ипподром, тренироваться, осваивать верховую езду для съемок сцен на скачках. Я посещал эти тренировки до отъезда с театром на гастроли в Ленинград. Но не мог понять: почему такая спешка была с договором, если съемки будут только в июле? Зачем Пырьев это сделал, я понял много позже.
В Ленинграде в мае 1949 года меня пригласили на «Ленфильм» на пробу в кинофильм «Белинский». Режиссер Г. Козинцев предложил мне роль И.С. Тургенева. Но я попросил загримировать меня и на Белинского. Когда были готовы фото на обе роли, то и Козинцев, и оператор Москвин явно были поражены моей пробой на Белинского. Москвин все ходил вокруг меня, внимательно рассматривая… Потом сказал: «Ничего, рост я уберу, будем снимать!» И в этот же раз я увидел там, в гримерной, Иру Радченко, увидел ее в зеркало. Она сидела ко мне спиной, но в зеркале встретились наши взгляды… Я спросил гримера: «Кто это?» — «Ирина Радченко, будет сниматься в кинофильме «Звезда» у Иванова. Он хотел и вас снимать, без пробы, в роли Травкина»… Тут в гримерную вошел русопятистый мужчина и стал давать указания гримеру, а потом повернулся ко мне. Пристально посмотрел. Гример сказал: «Это Давыдов». — «Да, да, я вижу. Вы к кому пришли?» — «К Козинцеву, на пробу». — «Ну, они только еще готовятся снимать, а мы вот-вот начнем. Вы читали «Звезду» Казакевича? Нет? Жаль. Там есть роль для вас. Летом вы свободны?» — «Да нет, вот Пырьев мне предложил сниматься у него…» — «О-о, нет, с-Пырьевым лучше не сталкиваться. Значит, не получится. А у Козинцева что вам предлагают?» — «Тургенева. Но я хочу Белинского». — «Они хотят на эту роль Павла Кадочникова». За ним пришли, и А. Иванов (это был он) вместе с И. Радченко отправился в павильон на съемку пробы…
В Ленинграде гастроли шли месяц, на трех сценах. И все это время я был занят исключительно в народных сценах — изображал гостя в «Идеальном муже», мещан и лакеев в «Горячем сердце»… А между тем, весь Ленинград (впрочем, как и Москва) был заклеен фоторекламой фильма «Встреча на Эльбе», где я играл главную роль… Жил я в «Астории» с Юрой Ларионовым, чуть ли не на чердаке… Там же, в № 215, жил А.Н. Вертинский. И после концерта он и наши «старики» собирались в сквере напротив Исаакия и чуть ли не всю ночь «общались» — рассказывали всякие истории и анекдоты. Были тихие белые ночи, цвела сирень, и только громкий смех вдруг нарушал эту тишину… Потом все затихали, но кто-то рассказывал новую историю, и снова раздавался громкий гогот… Вот тогда я и познакомился с Вертинским.
Он пригласил меня на свой концерт в Аничковом саду (в оркестровую яму), а потом позвал в ресторан всех нас, кто был на концерте, — меня, Юрия Ларионова, Игоря Владимирова, Николая Остроухова…
Это был незабываемый вечер…
Когда я вернулся из Ленинграда в Москву, мне снова позвонили от Пырьева и пригласили на «Мосфильм» для разговора. Я приехал. Пырьев мне дал уже режиссерский сценарий и сказал, что будет кинопроба с партнершей. Я ему предложил Ирину Скобцеву, он сказал: «Вызовем, посмотрим!» И действительно, ее сняли на фото (у меня оно есть). И когда я приехал еще раз, уже на репетицию, он мне сказал: «Девочка хорошая, красивая, женись на ней, а снимать будем тебя с другой актрисой, Кларой Лучко. Скобцева-то не актриса, учится в МГУ, вот пусть и учится там».
Пробы были долгие, разные. Он собирал всех актеров. Там я увидел и начало романа Лукьянова с Лучко: он хорохорился, острил, что-то болтал на украинском языке. Клара стеснялась, краснела и волновалась. (Ей был 21 год, Лукьянову — 38, Пырьеву — 48, Ладыниной — 41, мне — 26,)
Клара была на экране чрезвычайно эффектной, и Пырьев считал, что мы очень подходим друг другу — молодые, высокие, стройные и красивые. Мы были утверждены на роли Даши и Николая. И тут я узнал от Пырьева, что подписанный мною раньше контракт — фикция, он и не нужен вовсе, что только теперь я подпишу настоящий контракт. Тут же нам было объявлено, что все участники фильма должны ехать на все лето на Кубань. Я сказал, что могу ехать только на время отпуска, что должен получить от театра разрешение на съемки и еще должен буду съездить на кинопробу на «Ленфильм». «Ну, это будет сделано…» — ответили мне.
Тогда я даже не предполагал, в какую рабскую зависимость от Пырьева попадаю.
Я подписал с директором фильма Глебом Кузнецовым договор, получил суточные, железнодорожный билет до станции Кавказская (город Кропоткин). И, как обещал, сообщил на «Ленфильм» в группу «Белинский» адрес съемок на Кубани.
Сейчас я уже не помню, какая была дорога, но помню, что в этом же купе ехали С. Лукьянов, А. Петров и Ю. Любимов. Все они были старше меня, а я еще был с ними мало знаком, в разговорах не участвовал, да и настроение у меня было какое-то тревожное. То ли я устал от карусели, в которую попал после успеха «Встречи на Эльбе», то ли от униженного положения в театре и особенно на гастролях в Ленинграде. Во всем этом хаосе хотелось разобраться. А ехал я сниматься в фильме, мне чуждом, и в роли, далекой от меня и мне совсем неинтересной… Но ехал — колеса стучали, а мысли, как и пейзажи в окне, мелькали и сливались в сплошную неразбериху…
Приехали в жаркий и пыльный город Кропоткин. Долго грузились в фургон и отправились в ордена Ленина совхоз «Кубань». Это несколько десятков километров в сплошной пыли, которая при каждой остановке или повороте накрывала наш фургон.
В совхозе были школа, столовая, клуб, почта, правление и небольшая гостиница. Меня поселили с С. Лукьяновым на втором этаже в малюсеньком номерке. Рядом — Клара Лучко и Катя Савина. Внизу — А. Петров с Ю. Любимовым, к которому потом приехала с четырехмесячным сыном Никитой жена Ольга, бывшая балерина.
Первое, что потребовал Пырьев, — чтобы я шел на конюшню, чистить, кормить лошадей и ездить верхом. Но я тут не очень был смел, хотя потом во всех сценах на скачках снимался сам, без дублера, и это было видно на крупных планах. Только это было потом, а сначала я ежедневно тренировался до изнеможения. Так требовал Пырьев.
День у него начинался с того, что он сам будил артистов, которые жили в школе. Делал он это так. Подходил, например, к кровати спящего баяниста, наклонялся к нему и кричал: «На съемку!» Тот в страхе вскакивал с постели и, увидев Пырьева, снова падал на постель… А в наши номера он тоже иногда приходил рано утром перед съемкой и стучал в дверь своей бамбуковой палкой так, что, казалось, тарахтел пулемет… Все это ему доставляло удовольствие. Так же, как и игра в подкидного дурака вечером после съемки. Обычно я играл с Ю. Любимовым, а Пырьев с А. Петровым. Играли «на интерес» — проигравшие должны были выбежать из хаты на улицу и громко прокричать: «Я (такой-то) дурак, играть в карты не умею, научите меня играть!» И вот первую партию проиграли Пырьев с Петровым… «Ну, Иван Александрович, надо бежать». — «Нет, почему же с первого раза, надо до трех». — «Хорошо, до трех раз». Играем еще — опять они проиграли. Потом проиграли мы. «Ну, Владлен, давайте с Юркой бегите!» — «Мы же договорились до трех раз». Играем дальше — они проиграли в третий раз. «Иван Александрович, все, три раза…» — «Нет, надо подряд три раза». — «Такого уговора не было. Бегите!» — «Хорошо». Они с Петровым выходят на улицу. Тихая кубанская звездная ночь. Он наспех пробалтывает: «Я, Иван-дурак, в карты играть не умею, научите меня играть». — «Нет, так дело не пойдет, надо громко, четко». — «Все, все, ребята, хватит дурака валять!» Обычно на этом игра и кончалась…
Иван Александрович страшно злился, когда проигрывал, и без конца курил — ни вина, ни водки он не пил. А мы обычно во время игры поедали роскошные арбузы и дыни.
С таким же азартом он играл в шахматы с Андреем Фроловым, его вторым режиссером, когда нельзя было снимать из-за погоды. И порой, как Ноздрев, вдруг незаметно скидывал или, наоборот, ставил себе проигранные фигуры. И начинал спорить и доказывать, что эта фигура у него была, а вот той не было…
Он не привык проигрывать ни в чем. И как-то в тоске сказал: «Меня, Владлен, уже ничем не удивишь. Мне ничего не надо, у меня все есть: я — народный СССР, у меня два ордена Ленина, пять Сталинских премий, я депутат Верховного Совета… Что мне еще надо?» — «А еще есть высшая награда». — «Какая еще?» — «Похороны за счет государства». — «Ах ты, мать твою перемать!..» Но ему нравились такие диалоги.
Когда мы снимали в станице Курганной на элеваторе сцену ярмарки, то там на трибуне стоял громадный портрет Сталина — во весь рост. Много народа сгонялось по воскресеньям из всех ближних совхозов. Бутафорские палатки и магазинчики ломились от разных товаров, навалом лежали овощи и фрукты, крутилась карусель, в репродукторах звучала музыка Дунаевского… Пырьев это обожал. Он упивался этим шумом, музыкой, этой разноцветной толпой.
Эти съемки с массовкой были только по воскресеньям и, кроме того, они были режимными, потому что нужное освещение было только во второй половине дня. Однажды я сказал Пырьеву во время перерыва, что «ведь нигде таких колхозов и ярмарок нет, да и таких, как я, колхозников-коневодов я тоже не видел», он мне ответил так: «Ты ничего не понимаешь! Там, наверху, любят такие фильмы. Мы показываем такую жизнь, какая будет, какая должна быть в будущем. И если раньше колхозным героем был Николай Крючков, то теперь я взял тебя — таким должен быть теперь герой, образованным и культурным… Ведь и Александров тебя взял в свой фильм «Встреча на Эльбе» на роль такого офицера, каких у нас еще очень мало. Это идеал для подражания».
Мы ведь в те годы все жили для будущего: «Не я, так хоть потомки потомков моих…» «Для нас счастья нет, не может быть», — так говорил герой пьесы Чехова еще в начале XX века.
Думаю, что Пырьев был одним из тех, кто в искусстве сознательно изображал это идеальное будущее, а не лакировал настоящее. И весь свой необузданный темперамент и неуправляемый характер проявлял в работе над своими талантливыми фильмами.
Работать с ним было нелегко, ох, как нелегко. Во всяком случае, меня и Юру Любимова он доводил чуть ли не до слез своими криками и оскорбительным тоном, своими насмешками и ерничеством. Однажды в поле на съемке он задел за живое С. Лукьянова своим хамским тоном, и тогда Сергей слез с лошади, подошел к Пырьеву, схватил его за грудки и сказал: «Если ты еще будешь так со мной работать, я тебя убью!..» И после этого сам хотел уйти со съемки, но Пырьев побежал за ним, и они помирились…
Ну, а мы с Юрой злились на него и терпели, только иногда Юра тихо мне говорил: «Если эта сволочь еще раз закричит на нас, я уйду со съемки». Но — не мог, так как у него тоже был подписан договор, а, кроме этого, с ним приехала его семья.
А почему, собственно, Пырьев кричал и вел себя так деспотично? Да просто потому, что считал, что ему «все дозволено», что он гений и снайпер в киноискусстве…
После вежливого, интеллигентного и благородного Г.В. Александрова мне казалось, что я попал в чистилище или даже сразу в ад… За что? Почему? Пырьев унижал и оскорблял людей независимо от их возраста и положения. Самого старого киноактера он называл не иначе как «Полкан», за его преданность и покорность. И однажды, когда этот услужливый человек привел на съемку цыгана и сказал: «Иван Александрович, что же за ярмарка без цыган? Вот, я привел вам цыгана», — Пырьев ему ответил через мегафон на всю ярмарку: «Уберите немедленно со съемки цыгана и Полкана!»
А когда во время съемки он увидел, что его администратор очень уж расхвастался перед девчатами из массовки, то он тоже громко назвал его по имени и приказал: «Ну-ка, возьми вон лопату и подсыпь в кадр говна!»
Да и с Мариной Алексеевной
Ладыниной, которая, как всегда, играла в фильме главную роль, он был не очень-то вежлив. Она не хотела ходить с портфелем: «Ваня, ну какая председательница будет ходить по ярмарке с портфелем?» — «Мариночка, а я прошу, возьми портфельчик.» — «Ваня, я…» — «Я говорю, возьми портфельчик!» — «Но я лучше…» Все замерли: что будет?! «А я говорю: возьми портфельчик!!!» — И он стукнул своей бамбуковой палкой о землю так, что она у него вырвалась из руки и полетела над головами. И Марина Алексеевна взяла портфель со словами: «Ну вот, он всегда так — настоит на своем…»
А со мной он поступил довольно жестоко. Я был явно не его артист и человек не из его теста. Это я понял еще в Москве, когда он обманул меня с этим первым неофициальным, можно сказать, фиктивным договором, чтобы связать мне руки, если я, не дай Бог, попаду в Ленинграде на «Ленфильм». Это еще было бы ничего, но он все сделал, чтобы я не смог поехать на «Ленфильм», как обещал. Хотя у меня были свободные дни и даже недели, так как роль-то была мизерной…
Я ждал от Козинцева телеграмму — приглашение на кинопробу, как мы условились еще в июне. Но телеграммы все не было. Я стал ходить почти каждый день на почту, так как и писем я не получал. Меня это удивляло. А оказалось, всю почту на мое имя Пырьев приказал передавать ему! И только случайно я сам сумел на почте получить письмо из Ленинграда от режиссера Кошеверовой. Она писала, что Козинцев удивлен тем, что «Вы, молодой актер, так относитесь к приглашению на съемки, что даже не считаете нужным ответить на это приглашение…» И тут я понял все коварство Пырьева, из-за которого я потерял возможность работать с таким режиссером, как Г.М. Козинцев. Мало того, он не пустил меня в Москву к началу сезона и испортил мне отношения с театром. А билет на поезд я мог получить только от директора. Да и до станции доехать можно было только на машине, которой тоже распоряжался Пырьев. Так что я жил под домашним арестом.
А в театре мне долго не могли простить опоздания к началу сезона… И потом неоднократно не давали согласия на мою работу в кино.
Конечно, Пырьев был типичным порождением сталинской эпохи. Недаром рабочие в киногруппе называли его «фюрером», тем более что на съемке этого фильма он отрастил усы. Другие же называли его «Лысенко в киноискусстве». Он окружал себя людьми, которые позволяли ему издеваться над собой и унижать себя. Иногда вдруг решал быть демократичным или милостиво сделать доброе дело, чем удивлял всех… Однажды, во время вынужденных перерывов на натуре, когда долго не было солнца, он общался со всеми и с удовольствием слушал рассказы Ю. Любимова об А.П. Довженко, у которого тот снимался в фильме «Мичурин». А мы, тоже слушавшие эти рассказы, вдруг в какой-то момент увидели вместо Довженко… Пырьева, но как бы пародию на Довженко… Хотя, конечно, сам Александр Петрович не был так груб и жесток, как Пырьев. Говорили, что, когда Довженко умер в 1956 году, его вдова Ю.И. Солнцева не подпустила Пырьева к гробу. Пырьев тогда был директором «Мосфильма». И тогда, в 55 лет, он вступил в партию. Он же был и одним из организаторов Союза кинематографистов.
После смерти Сталина Пырьев уже не снимал музыкальные комедии. В 1954 году он снял последний фильм с Ладыниной — «Испытание верности». А потом переключился на произведения Достоевского: 1958 год — «Идиот», 1960 год — «Белые ночи», 1969 год — «Братья Карамазовы» (с великолепным ансамблем актеров и с молодой женой Лионеллой Скирдой в роли Грушеньки). Именно здесь М.И. Прудкин запечатлел образ Федора Павловича, созданный им под руководством и по рисунку Б.Н. Ливанова в спектакле Художественного театра. А между этими фильмами снял две неинтересных картины: в 1961 году — «Наш общий друг» и в 1964-м — «Свет далекой звезды» по роману А. Чаковского. После этого современных фильмов Пырьев больше не снимал.
Он умер во время съемок «Братьев Карамазовых». Фильм закончили два выдающихся наших актера, исполнители главных ролей К. Лавров и М. Ульянов.
Но если Пырьев в 50-е годы сумел как-то перестроиться на новый жанр в своих фильмах, уйдя от современных тем в мир Достоевского, то другому нашему великому комедиографу Г.В. Александрову это не удалось. Хотя после успеха публицистического фильма «Встреча на Эльбе» он уже не возвращался к музыкальным комедиям, но все, что он снимал в последние годы, не имело успеха — его время кончилось, он иссяк…
И вообще, в 50-е годы в кинематограф ворвалось новое поколение режиссеров, сценаристов, операторов и, конечно, актеров. Появилось очень много фильмов, и много талантливых. Так родилось второе поколение советских мастеров кино.
На станции Курганная была водокачка, где паровозы всегда набирали воду. Однажды — это было в октябре — около станции Курганная остановился странный поезд — всего несколько вагонов. Из одного из них вышел… Сталин. Это было как явление Христа народу… Потом было много всяких восторгов и очевидцы показывали место у водокачки, где он прохаживался. Наверное, он ехал в Сочи…
И когда я как-то оказался с Пырьевым в баньке рядом с этой водокачкой, то, конечно, у нас с ним пошел разговор сперва о Сталине, который был совсем недавно здесь, рядом… О том, что Сталин любит его, Пырьева, фильмы… Это был уже не взбалмошный режиссер, не «фюрер», а голый мужчина И.А. Пырьев, простой и веселый. Я увидел у него на спине большой шрам. «Да, это на фронте меня полоснуло. Я мальчишкой, еще в Первую мировую войну убежал на фронт… У меня ведь есть Георгиевский крест». Он начал рассказывать, что родом он из Сибири (а Марина Алексеевна говорила мне потом, что он татарин), что жизнь его терла и бросала из стороны в сторону…
Он редко бывал таким демократичным, а со мной вообще, пожалуй, в первый и в последний раз. Он мне много сделал гадостей. Его злило, что я из другого теста, что я не колхозный богатырь и что удачно снялся у его соперника Г.В. Александрова. Мне порой даже казалось, что он из ревности хочет уничтожить этот успех. А меня все его подначки, оскорбительная ирония зажимали и тоже злили.
Он обманывал меня: мало того, что прятал мои письма — он так и не установил мне ставку, обговоренную при заключении первого договора. Да и сам этот договор, как я уже говорил, был настоящей филькиной грамотой. И потом, когда он вдруг стал директором «Мосфильма», он опять сделал так, чтобы в кинофильме «Застава в горах» я получал заниженную ставку.
Что это? Самодурство? Ненависть? Месть? За что? Почему?
Его так же злила и раздражала интеллигентность и воспитанность Юрия Любимова, который тоже не хотел подчиняться его деспотизму и хамству.
Такое его поведение и отношение к людям на съемках фильма «Свет далекой звезды» в г. Горьком и вызвало возмущение, и именно тогда появилась довольно резкая статья о нем в «Известиях». Да и вообще, в юнце жизни он вдруг оказался для близких людей другим человеком… Недаром он неожиданно перестал снимать музыкальные комедии и обратился к трагическим героям Достоевского. Конечно, в его характере всегда были черты достоевщины…
Но его лучшие фильмы стали классикой и вошли в золотой фонд советского кино.
К.К. Юдин
Константин Константинович Юдин был третьим режиссером, с которым мне предстояло работать в кино. Как он работает, какой он человек? Этого я не знал и перед встречей с ним очень волновался. Надо сказать, что когда Юдин предложил мне пробоваться на главную роль в фильме «Застава в горах», я уже был утвержден на роль в фильме М. Калатозова о Дзержинском. Но мне очень понравился сценарий М.Д. Вольпина и Н.Р. Эрдмана «На далекой заставе» (так он первоначально назывался), а после встречи с К.К. Юдиным я понял, что это именно тот режиссер, который может и хочет помочь мне вернуть чуть было не потерянную веру в себя как актера кино.
Правда, первый разговор был у нас очень коротким и сдержанным. На кинопробе Юдин тоже был немногословен. Но когда я был утвержден на роль начальника заставы старшего лейтенанта Лунина, Константин Константинович, как мне показалось, стал добрее и разговорчивее.
К.К. Юдин тогда только что одержал победу своим фильмом «Смелые люди», который он снимал на Северном Кавказе. И я думал, что фильм о заставе в горах он будет снимать там же, в кавказских горах, где красивая природа и мягкий климат. Но Юдин был истинный реалист. Он сказал мне:
— Я хочу сделать фильм о смелых пограничниках, охраняющих нашу государственную границу в труднейших условиях, а не на курорте. Поэтому всю натуру мы будем снимать в Средней Азии, в предгорьях Памира и на реке Амударье. Кроме этого, — добавил он уже с юмором, — у вас будут еще и свои трудности: Вы должны будете после майора сыграть старшего лейтенанта, а ведь это нелегко…
…Самолетом из Москвы в Душанбе (тогда это был город Сталинабад) мы летели восемнадцать часов с тремя пересадками. Сейчас за это время самолет совершает перелет из Москвы до Кубы…
В семидесяти километрах от Душанбе, в городе Нуреке, на скалистом берегу мутной и бурной горной реки Вахш построили декорацию пограничной заставы (теперь на этом месте построена Нурекская ГЭС). К нашей киногруппе прикомандировали пограничников во главе с офицером, который стал у нас ежедневным и ежечасным консультантом. Ведь фильм снимался не столько о жизни, сколько о службе пограничников.
Съемки начались в самое жаркое время — в начале июля. Работать было тяжело: сниматься приходилось в военной форме, в полном боевом снаряжении, на взмыленных лошадях, которые обалдевали от долгого стояния на солнце, где бывало до плюс шестидесяти градусов по Цельсию… А мне нужно было еще ежедневно тренироваться в верховой езде. Правда, в «Кубанских казаках» я, хоть и с трудом, но освоил это дело, но там седло и посадка были казачьи, а тут требовалось в кавалерийском седле держать спину прямо и уметь рубить шашкой… В общем, трудностей актерам хватало, но мы все были тогда молоды, да и снимались не каждый день, а вот Константину Константиновичу было 56 лет, и он вместе с оператором Т.П. Лебешевым ежедневно сидел у аппарата.
Солнце обжигало. Жара утомляла. Только ночью становилось прохладно. Спали мы на улице, но под накомарником — иначе москиты не давали покоя. И еще одна неожиданная трудность — «афганец». Этот ветер с юга, со стороны Афганистана поднимал и приносил пыль, похожую на туман. И несколько дней эта завеса пыли стояла в воздухе — дышать было тяжело, снимать невозможно. А через месяц у нас начались изнуряющие болезни — дизентерия и малярия. Я заболел амебной дизентерией. Две недели пролежал в больнице в Душанбе и собирался уехать долечиваться в Москву. Но врачи мне объяснили, что это заболевание надо лечить там, где ты заболел, и что в Москве не знают, как оно лечится. Я остался. Кстати, говорят, что Жерар Филип на съемках в Мексике заболел такой же болезнью, но решил уехать лечиться домой, в Париж и там, к сожалению, умер.
Вдруг ко мне в больницу приехал черный от загара и высохший от жары Константин Константинович и долго со мной беседовал по душам. Он рассказал, что с фильмом возникли неожиданные осложнения. Оказалось, что сценарий «На далекой заставе», опубликованный в журнале «Искусство кино» № 5 за 1952 год, был подвергнут разгромной критике, поэтому от Юдина требуют прекратить съемки и немедленно возвратиться в Москву для переработки сценария. Константин Константинович сказал мне, что в Москву не полетит и съемки не прекратит, потому что фильм тогда наверняка закроют. И очень просил меня ехать не в Москву, а в Нурек на съемки. Он так искренне и дружески говорил со мной, обещал, что ко мне на съемку в Нурек возьмут врача и медсестру и будут там продолжать лечение и уколы… Я понял: продолжение съемок — для него тоже вопрос жизни…
И я поехал в Нурек на съемки. За время болезни я страшно похудел, от слабости меня качало, я еле ходил, а через неделю пришлось сниматься в сцене, которая в сценарии выглядит так: «… Лунин на коне отдает приказ: «Застава, смирно! Слушай мою команду!..» И Лунин со своим отрядом карьером скачет из ворот заставы»…
Это были трудные для меня съемки. Но это были и трудные дни в жизни Юдина…
К нам на съемку из Москвы приехал редактор фильма Г.Б. Марьямов, приехали и авторы сценария, талантливые и обаятельные люди — М. Вольпин и Н. Эрдман. У них с Юдиным началась, как говорится, работа без отрыва от производства. Выяснилось, что среди замечаний много таких, которые в процессе съемок были уже учтены. Таким образом, дальновидность Юдина, решившегося не прекращать съемки, была подтверждена жизнью. Но в то время это был действительно смелый поступок.
Потом съемки шли в горах, где мы жили в палатках. Ночью спали в теплых спальных мешках и все-таки мерзли, а отогревались только днем на съемке — на солнце…
Потом отправились в самую жаркую точку нашей тогдашней страны — город Термез, где снимали сцену боя на реке Амударье. Здесь были уже настоящая граница и настоящие заставы.
А в декабре — съемки и озвучание в Москве, запись шумов и чудесной музыки А.Э. Спадавеккиа.
И когда, казалось, в январе 1953 года подошел конец всем трудностям и тревогам, мне вдруг была вручена розовая бумажка, на которой за подписью начальника производства «Мосфильма» и директора картины Н. Владимирова было напечатано: «В соответствии с пунктом 8 заключенного с Вами договора от 25 июня 1952 года — договор с Вами пролонгирован до 1 апреля 1953 года».
И начались досъемки, пересъемки, озвучание, переозвучание…
В те годы на «Мосфильме» снималось картин очень мало, а требования в период малокартинья были очень высокие и строгие. К.К. Юдин своей твердостью, принципиальностью и терпением вызывал тогда особое уважение. Это был честный художник, смелый и прямой человек, мужественно перенесший все трудности, связанные с работой над фильмом, и физические, и моральные. У него был добрый русский характер — сочетание лукавого юмора с твердостью и решительностью натуры, горячего темперамента с выдержкой и умом.
Обычно он очень быстро находил общий язык с простыми людьми, потому что сам был простой русский человек. Константин Константинович любил работу, жизнь, природу, любил людей и всегда с интересом общался с ними. А особенно любил детей и животных…
На отдыхе, дома он был веселым человеком с лирической душой. Но был нетерпим ко всякого рода недисциплинированности и нечестности — становился с такими людьми резок и официален до предела.
В нашей картине большую роль играли лошади. Одним из главных героев был конь Орлик. Константин Константинович с большим уважением относился к тренерам этого Орлика (вернее, Орликов — в фильме снимались целых три, так как одна лошадь, конечно, всего, что было написано в сценарии, не сумела бы сделать). А тренеры, замечательные цирковые артисты из группы Алибеков, снимались у Юдина еще в «Смелых людях» и так же, как там, делали головокружительные трюки на лошадях и с лошадьми. Это были артисты мирового класса.
Режиссер К.К. Юдин, по-моему, очень любил актеров, хотя бывал с ними строг и очень требователен. И они его уважали за точность и ясность требований, замыслов, за знание жизни, интересные, живые репетиции и съемки.
В работе со мной над ролью старшего лейтенанта Лунина Юдин стремился, чтобы не было повторения того, что было уже сделано мною в первой кинороли. Но главное, он хотел, чтобы в характере Лунина проявились черты настоящего товарища и даже друга солдат: его демократизм и доброта, мужественность и строгость. В этом он видел правду и красоту современного героя.
«Застава в горах» в те годы пользовалась большим успехом у широкой публики, особенно у молодежи — ведь это был фильм приключенческий. Он шел долго, и не только в нашей стране, но и за рубежом — в странах Восточной Европы и в Китае. У меня сохранились письма из Китая с восторженными отзывами и даже с фотографиями китайских пионеров и почему-то с бумажными деньгами, со значками Мао и с портретами его и Чжуде на шелковых листах… Одно письмо начиналось так: «Дорогой товарищ Давыдов и дорогое Гурзо» А подпись была: «Товоя Люба».
Но особенный успех наш фильм имел у пограничников. Его даже показывали молодым солдатам как своего рода наглядное пособие. На многочисленных встречах с пограничниками нам выражали благодарность за создание этого фильма.
От командования пограничных войск К.К. Юдин и многие участники фильма получили награды и ценные подарки. Мне лично вручили значок «Отличный пограничник» и именные карманные часы.
Не многие фильмы выдерживают испытание временем, их ценность с годами порой резко снижается.
Но чем режиссер больше связан с жизнью, со своим временем и чем правдивее и искреннее выражает его в своих фильмах, тем, мне кажется, эти фильмы интереснее для зрителей через многие и многие годы. Пусть даже приемы этого режиссера кажутся порой устаревшими, наивными и даже примитивными. До зрителя все равно доходит с экрана дыхание эпохи, и он смотрит такие фильмы как документ духовной жизни того времени.
По телевидению иногда показывают фильмы К.К. Юдина — «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Близнецы», «Смелые люди» — и их интересно смотреть, вероятно, именно по этим причинам…
Но когда я после долгого перерыва увидел фильм «Застава в горах», он произвел на меня самое неожиданное и даже страшное впечатление. Так похоже это оказалось на то, что совсем недавно происходило в Афганистане. И вот ведь — фильм-то этот снимался в 1952 году именно на нашей границе с Афганистаном! Но тогда это была всего лишь фантазия сценаристов Вольпина и Эрдмана, и все считали, что это приключенческий фильм, не более… Как все-таки непредсказуема жизнь. И вовсе не всегда история один раз происходит как трагедия, а повторяется как фарс. С этим фильмом все вышло как раз наоборот.
Уже почти никого не осталось из создателей фильма. Поэтому я считаю своим долгом вспомнить их на этих страницах. А особенно — прекрасного человека и замечательного режиссера Константина Константиновича Юдина.
Забытый герой нашего времени
Какое это было огромное счастье — в 30-е годы впервые, именно впервые, увидеть на белом экране «Путевку в жизнь» — с неотразимым Николаем Баталовым, «Чапаева» — с замечательным Борисом Бабочкиным, «Юность Максима» — с обаятельным Борисом Чирковым, «Петра I» — с безумно темпераментным Николаем Симоновым, «Дубровского» — с романтическим Борисом Ливановым, «Великого гражданина» — с великолепным Николаем Боголюбовым… Ну почему же теперь нет таких фильмов и таких актеров!
Эти впечатления остались на всю жизнь, как первая любовь, как все, что человек в юности познает впервые.
И ведь действительно, какие все это великие артисты и какие неповторимые личности! Сколько благородных чувств и мыслей каждый из них внес в нашу жизнь! С ними связана, в сущности, вся биография нашего поколения…
И, конечно, не меньшим счастьем для меня было впоследствии познакомиться с ними, а кое с кем потом даже по-настоящему дружить.
В те далекие, счастливые и сложные 30-е, предвоенные годы каждый день мы становились свидетелями событий, которые вызывали гордость за нашу страну, за наши успехи. Ведь тогда все было впервые — впервые утверждался новый социальный строй, закладывался фундамент нашей экономики, крепло наше мировоззрение и вера в победу социализма. Именно эта вера придавала нам силы и объединяла нас всех, помогала преодолевать все трудности и лишения. Поэтому и хотелось скорее увидеть плоды этих усилий, живое воплощение своих идеалов. И, пожалуй, именно в кино и театре они были выражены наиболее зримо. Как же можно все это забыть?
В Москве, в нашем громадном доме на Смоленском бульваре, на чердаках ночевали стаи беспризорников, которые днем промышляли на Смоленском рынке. Потом в фильме «Путевка в жизнь» мы увидели коренные перемены в судьбах таких ребят.
В Хамовническом Доме пионеров на Новодевичьем поле в дни 15-летия Октября мы слушали рассказы старых большевиков. Потом с волнением смотрели прекрасные фильмы о большевике Максиме.
К нам приходили герои Гражданской войны — кавалеристы Первой Конной — в красивой сине-голубой форме, при боевых орденах, звеня шпорами… А потом мы без конца бегали на «Чапаева» и знали его наизусть.
Навсегда осталось в памяти раннее, еще темное декабрьское утро, когда мы пришли в школу и нам показали портрет С.М. Кирова в траурной рамке, и мы плакали от ощущения неожиданного и непонятного еще горя… Но образ этого человека стал для нас особенно дорогим и близким после фильма «Великий гражданин».
…А сколько волнений и радости было, когда мы встречали героев Арктики — челюскинцев и первых полярных летчиков. Поэтому, наверно, мы так полюбили песню из фильма «Семеро смелых»:
Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена!
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна…
Буря, ветер, ураганы,
Ты не страшен, океан,
Молодые капитаны
Поведут наш караван…
Все эти фильмы для нас были не просто интересными: в них мы видели знакомых и дорогих нам героев.
И одним из любимых киноактеров того времени для меня был Николай Иванович Боголюбов.
Все его герои — люди одной биографии, биографии большевика, революционера, борца, строителя нового, гражданина, живущего интересами своего народа.
Его творческая биография началась в Театре имени Мейерхольда. Там в спектакле «Командарм-2» Н. Боголюбов потряс зрителей могучим образом вожака-партизана Чуба. А в «Последнем, решительном» его старшина Бушуев — один из тех двадцати семи матросов, которые как бы предвосхитили подвиг героев Брестской крепости, — был трагическим героем. Но Боголюбов играл не смерть, а сопротивление смерти, не гибель, а жестокую борьбу за жизнь… Так тогда писали о нем.
После этого, в 1933 году, первая роль в кино — в картине Б. Барнета «Окраина». Затем он снялся в фильме Ф. Эрмлера «Крестьяне». В фильме С. Герасимова «Семеро смелых» его Илья Летников, немногословный и мужественный начальник арктической зимовки, был действительно «первый среди равных» в этой великолепной семерке полярников.
Всех своих героев в кино Н.И. Боголюбов почти всегда играл без грима. Не каждый актер может позволить себе это. Николай Иванович с первого же появления на экране внушал полное доверие. В нем, в его созданиях зрители видели свой идеал — положительного советского героя, героя, прошедшего все этапы истории нашей страны. Положительного не потому, что актер произносил «правильные» слова. Нет, всей своей мощной личностью, своим огромным обаянием, своей мужественной красотой, абсолютной верой в то, что он говорил и делал, Николай Иванович Боголюбов убеждал нас в духовной красоте, благородстве, нравственной силе, мужестве своего героя. И было бесконечно интересно смотреть на этого умного, энергичного человека с доброй и открытой улыбкой.
Именно эти качества так покоряли в его Петре Шахове — этом поистине Великом гражданине Страны Советов. Много лет прошло, и многое теперь кажется устаревшим и даже странным в этом фильме, но Петр Шахов Боголюбова останется навсегда как прекрасный образец положительного героя, героя цельного и гармоничного. Потому что это был не выдуманный персонаж, а образ, взятый из жизни, во многом похожий на Сергея Мироновича Кирова. «Кировское мироощущение, его страстная влюбленность в жизнь, неукротимое желание творчества, созидания стали для меня фундаментом работы над ролью», — писал Боголюбов в сборнике «Образ моего современника».
Такой же значительной и крупной личностью был в исполнении Боголюбова генерал-полковник Муравьев в спектакле МХАТа «Победители». Этот спектакль о героях Великой Отечественной войны вышел вскоре после Победы, поэтому слова генерала Муравьева: «Нам ведь не только войну, нам еще и
мир нужно выиграть!» — вызывали у зрителей особое чувство. И Боголюбов их так произносил, что не было сомнений: мир будет нами выигран!
Популярность и известность Боголюбова были поистине всенародными. Его любили, им гордились, с его именем связана целая эпоха в кино и в театре. Кто-то сказал, что героическое дело требует и героического слова. Боголюбов сказал это слово.
Когда он выходил на концертную эстраду и сразу начинал читать своим глуховатым и душевным голосом монолог Шахова «Кто вы такие, сидящие здесь?», зрители не могли оставаться равнодушными: ведь эти слова касались именно их. А когда он в концерте играл своего лирического матроса Рыбакова из «Кремлевских курантов» и говорил: «Вчера я видел Ленина», — зрители верили каждому его слову: таким искренним и убедительным был Боголюбов. Эти концерты, эти его всегда вдохновенные выступления во время Великой Отечественной войны на фронте и в госпиталях, на заводах и в колхозах воодушевляли людей в те трудные годы.
В чем же секрет такого всенародного успеха популярного актера? Я окончательно понял это, когда узнал его как человека.
С Николаем Ивановичем я познакомился при необычных обстоятельствах.
Летом 44-го года нас, студентов Школы-Студии, после первого курса направили на полевые работы в подсобное хозяйство при доме отдыха МХАТа — в Пестово. Там отдыхали артисты театра. И вот однажды, в выходной день, когда мы купались на Пестовском водохранилище, то увидели вдали пароход, с которого в рупор кто-то кричал: «Мы за Бо-го-лю-бо-вы-ым-м-м! По-зо-ви-те Бо-го-лю-бо-ва-а-а!!!» Я побежал его искать. Нашел, и мы пошли с ним к берегу. Но пароход был такой большой, что к маленькой пристани подойти не мог. Что делать? Лодки нет. А на палубе сотни людей ждут обещанной встречи с Боголюбовым. И вот Николай Иванович решительно разделся и, держа в одной руке свои веши, поплыл к пароходу…
Но оказалось, что, раздеваясь, он уронил в воду часы. Один наш студент долго нырял и все-таки нашел их. Мы вручили их Боголюбову и с тех пор стали с ним знакомы.
Потом мы встретились с Николаем Ивановичем в Москве. Я ходил тогда в морской форме, так как недавно демобилизовался, и мне нечего было больше носить. И Николай Иванович тут же решил порекомендовать меня режиссеру К.К. Юдину, который готовился снимать фильм «Близнецы», где были роли моряков. И вот с запиской Николая Ивановича я впервые отправился на киностудию «Мосфильм». И хотя сняться мне тогда не пришлось, но своим крестным отцом в кинематографии я все-таки считаю Боголюбова — ведь это он меня впервые направил на «Мосфильм».
После того как я стал артистом МХАТа, мы с Николаем Ивановичем по-настоящему подружились. Часто встречались в театре и на репетициях, участвовали в одних концертах, бывали друг у друга дома. Более доброжелательного и верного товарища трудно себе представить. Он и в жизни был такой же простой и обаятельный, мужественный и цельный, как и его герои. Поэтому и на сцене, и на экране он
был, а не казался таким! Именно в этом секрет его постоянного, неизменного зрительского успеха.
В юности Николай Иванович мечтал стать учителем. Октябрьская революция и служба в Красной Армии изменили его судьбу. Он участвовал в армейской самодеятельности и, демобилизовавшись, вернулся в свой родной город Рязань и поступил в городской театр. Там он переиграл массу характерных ролей в классическом репертуаре. А в 1922 году с путевкой Рязанского отдела народного образования поехал в Москву учиться в Центральном техникуме театрального искусства (потом это стал ГИТИС, а теперь РАТИ). Оттуда попал в театральную мастерскую В.Э. Мейерхольда, а потом, в 1923 году, был принят в театр его имени. В 1938 году, когда этот театр неожиданно был закрыт, он пришел в Художественный театр.
Еще будучи актером Театра им. Мейерхольда, в течение шести лет Николай Иванович руководил красноармейской художественной самодеятельностью: ставил спектакли, инсценировки, объединял выступления драматического, музыкального и спортивного кружков, что было в ту пору очень модно. Получал письма военкоров, славших материал для обозрений на внутренние темы. Он постоянно был с красноармейцами — и на службе, и в часы досуга. Играл с ними в волейбол, метал диск, толкал ядро. Кончил кавалерийскую школу. Вот откуда у него отличная спортивная закалка и здоровый дух.
Но когда его перевели на пенсию — начались болезни. В последние годы его жизни я часто бывал у него на Кутузовском проспекте.
…Ему трудно ходить — болят ноги. Он не может читать — болят глаза. Но он ни на что не жалуется и ни о чем не просит — он мужественный человек! Лицо его по-прежнему прекрасно, только волосы на голове стали белые, как снег, и торчат ежиком…
В одно из моих посещений мы долго вспоминали с ним былые годы. Он с подъемом прочел знаменитый монолог Шахова из «Великого гражданина». Потом мы вспоминали, как нас вместе принимали в партию в 1950 году, как зарождалось содружество МХАТа с коллективом завода «Красный пролетарий», как мы выступали перед моряками в Ленинграде, в Риге, в Одессе. Вспоминали бесконечные встречи со зрителями во многих уголках нашей страны, вспоминали наших общих друзей и многое, многое другое, что было за тридцать пять лет нашего знакомства…
Я передал Николаю Ивановичу привет от актрисы нашего театра С.С. Пилявской.
— Я рад, что она меня помнит… Спасибо, — ответил он.
— Она мне сказала, что вы ей спасли жизнь во время автомобильной катастрофы.
— Да. Это было в сорок пятом году. Когда мы ехали на концерт. Я тогда сломал себе ногу.
…Однажды, когда я пришел к Боголюбову, мне открыл дверь незнакомый молодой человек небольшого роста. Я спросил Николая Ивановича:
— Кто это?
— Это бывший беспризорник Коля. Он для меня как сын. Вот, приехал теперь меня навестить…
В 1941 году двенадцатилетний Коля Жуков, бежавший от немцев из родного Мариуполя, оказался на одном пароходе с Боголюбовым, который направлялся на съемки фильма «Оборона Царицына», где играл Ворошилова. Боголюбов защитил маленького «зайца», взял его с собой в эвакуацию, хотел устроить учиться. Но когда Николай Иванович опять уехал на съемки, Коля бежал на фронт. Там в 1942 году он стал «сыном полка» и прошел с Советской Армией от Сталинграда до Берлина…
К сожалению, Николай Иванович в конце жизни был забыт не только зрителями (ведь его старые фильмы уже не шли ни в кинотеатрах, ни на телеэкране, а в театре он уже двадцать лет не работал). Он был забыт и коллегами по театру и кино.
Жена и сын его Юра (красивый, добрый парень и хороший артист) умерли раньше него. Из родных у Николая Ивановича остались невестка Галя — она с утра до ночи работала монтажницей на «Мосфильме» — и внук Алеша, который, придя из школы, бежал в столовую за котлетами и кефиром для больного деда…
Когда умер сын, Николай Иванович попросил меня:
— Пусть его похоронят на Новодевичьем кладбище — там же похоронят и меня.
Я обратился за советом и помощью в этом деле к Борису Андрееву — доброму и верному другу.
— Хорошо, пойдем с тобой, Владленушка, в Моссовет.
Нас принял заместитель председателя Моссовета (его фамилию я не помню). Борис изложил просьбу «великого гражданина и артиста». На это зампред сказал нам так:
— Передайте товарищу Боголюбову, что мы похороним его сына на Кунцевском кладбище (это филиал Новодевичьего —
В.Д.), а когда Николай Иванович умрет, то его похоронят, конечно, на Новодевичьем, и тогда прах его сына мы перенесем к нему…
Страшно было это слушать. Невозможно было это сказать Николаю Ивановичу. Он лежал лицом к стенке, слушал радио… и ни с кем не разговаривал…
…1980 год. Прощание с Н.И. Боголюбовым проходило в филиале МХАТа. Я позвонил Б.Ф.Андрееву, но его не оказалось в Москве. Тогда я позвонил Н.А. Крючкову (ведь они вместе снимались в фильме «Окраина»!) и сказал ему о похоронах Боголюбова. Он ответил мне:
— Сейчас идет пленум Союза кинематографистов, я сижу в президиуме, и неудобно будет уходить. Если бы я сидел где-то в задних рядах — другое дело!
Тогда я обратился к киношному начальству. Обещали прийти на похороны. Но пришел… шофер, который принес венок от кинематографистов… Вот и все.
А похоронили Николая Ивановича на Кунцевском кладбище в могилу сына. Значит, не зря он перед смертью мне жаловался, что он не «народный артист СССР» и советовался, а не могут ли ему хотя бы теперь дать это звание… Ведь у него было шесть Сталинских премий!
В.В. Дружников
Владимир Дружников. Это имя в свое время гремело по стране, его фильмы шли с колоссальным успехом. Он стал одним из любимейших артистов нашего послевоенного кино.
Мне хочется рассказать о Володе Дружникове, о моем друге, о моем сокурснике, с которым мы вместе начинали в Школе-Студии МХАТа.
Он был первым из студентов, с кем я познакомился в Студии.
Мы с ним стояли в коридоре и читали расписание лекций и семинаров. И — познакомились.
Интересна история его поступления в Школу-Студию. Володя уже был актером Центрального детского театра. И никуда поступать не собирался. Поступал его товарищ по театру и, отправляясь на экзамен, попросил Володю подыграть ему в сцене из спектакля «Русские люди». Комиссия посмотрела их, и Н.П. Хмелев сказал:
— Вот этого черного, черного… Вот только этого я бы принял в Студию.
И Володя (уже актер!) все-таки пошел в студенты. Пошел, потому что все тянулись к Художественному театру.
Мы с ним в один день были приняты в Студию. Хотя он был в другой группе. Но на гуманитарных — как говорил руководитель нашей студии Сахновский, «на умственных» — предметах мы всегда сидели рядом.
Он часто бывал у меня дома, я жил один, у меня была комната на Дорогомиловской улице. Он, Михаил Пуговкин, Михаил Курц, Андрей Баратов и я — вот наша компания, мы дружили, вместе проводили выходные дни, спорили, обсуждали наши успехи и неуспехи…
После окончания первого курса, летом 1944-го года нас, как я уже рассказывал, послали на «трудовой фронт» в Пестово. Мы отправились туда всем нашим курсом, и постановочное отделение, и актерское.
Жили мы все в общежитии. У нас были дежурные, и вообще такая пионерско-лагерная жизнь. Я был бригадиром. Кого-то посылали полоть картошку, морковь, капусту, кого-то — на ягоды. Конечно, на черную смородину, на бруснику и вообще в сад мы отправляли наших девочек. А Володя и Толя Сахновский, как самые старшие и здоровые, направлялись рубить, пилить, колоть дрова для кухни.
В Пестове в это же время отдыхали актеры Художественного театра Яншин, Грибов, Боголюбов, Ершов, Массальский, художник театра В. Дмитриев. Они участвовали во всех наших веселых затеях, играли с нами в волейбол. Помню, Грибов устроил однажды «приз своего портрета»: он был судья, судил нашу игру.
Мы с Володей всегда играли в одной команде. И всегда почему-то спорили: то не так подал, то не так ударил… Но я очень его любил и уважал — ему было двадцать два года, мне — двадцать.
…Так получилось, что сниматься в кино в роли Незнамова, на которую я был приглашен, мне не разрешили, а уходить из Студии я не хотел. Тогда на эту роль пригласили Володю Дружникова. И он ушел из Студии, стал киноартистом.
И вот мой друг снимается в моей роли. Я, конечно, очень переживал. Не то чтобы завидовал, нет. Тут было больше, чем зависть, тут было горе. Горе оттого, что вот, у меня не состоялось то, что могло состояться. Ну, а когда вышел фильм, то, конечно, тем более…
Я поздравил Володю. Сказал:
— Володя, ты замечательно сыграл эту роль, я бы ее так не сыграл.
Мы были очень разные. Я весь такой увлеченный, всегда возбужденный, что-то все придумывал, играл в капустниках, был редактором стенгазеты. А Володя наоборот, он и в волейбол-то играл слишком спокойно. Темноволосый, с красивыми, широко поставленными глазами, громадным лбом… Нейтральный, сдержанный, скрытный. Он сыграл Незнамова, на мой взгляд, замечательно, потому что у него был второй план, он обладал скрытым, внутренним сильным темпераментом.
Надо сказать, что и в следующий фильм, в котором снялся Володя Дружников, поначалу приглашали меня. Я тогда был в Ленинграде, меня с моим другом Михаилом Курцем послали вести запись — шел набор студентов на следующий курс, на приемные экзамены приехала дирекция. Вдруг в гостиницу «Европейская», где все мы жили, пришла телеграмма: «Давыдову. Вы утверждены на роль Данилы «Каменный цветок» съемка Чехословакии оплата кронах срочно приезжайте на съемку». Ее увидел директор МХАТа Месхетели и сказал мне:
— Когда у вас кончится этот роман с кино? Неужели вы не понимаете, что это очень серьезное решение — со второго курса уйти в кино? Пуговкину мы это не разрешили, и он ушел из Студии. Дружников ушел из-за этого…
И я опять вынужден был отказаться. И опять снимался Володя Дружников…
Я смотрел этот фильм, переживал, но уже меньше. Я тогда подумал: «Ну, если меня зовут, когда я еще студент, то, наверное, позовут и когда стану актером». Так оно и получилось. По окончании Студии я был приглашен Г.В. Александровым на главную роль в фильм «Встреча на Эльбе».
Мы с Володей общались, часто встречались, я знал его семью, очаровательную жену Нину — замечательная она актриса была, но свою жизнь посвятила Володе. У них родилась чудная дочка — Наташа.
Вдруг он мне звонит и говорит:
— Володя (он меня звал Володей, говорил, что Владлен — таких имен нет в православных святцах. —
В.Д.), ну, Володя, как теперь в Художественный театр поступать? Надо экзаменоваться? Надо что-то читать? Что надо приготовить?
Я ему:
— Володя, о чем ты говоришь, какие подготовки, какие экзамены? Ты знаменитый актер, талантливый, признанный. Ты и в Студии был одним из самых одаренных. Какие могут быть экзамены? Поговори с Ливановым, он член Коллегии, там и Тарасова, а ты с ней снимался, там и Орлов, а он знает тебя по Студии, и Кедров…
Не знаю, обращался ли к ним Дружников, он — человек самолюбивый. Во всяком случае, в Художественный театр он не пришел, а поступил в Театр киноактера. К сожалению, этот театр, хотя актеры там были замечательные, был для них лишь, так сказать, формой существования. Театра же как такового не было. И Володя, конечно, скучал там. Он приходил иногда на мои спектакли, говорил мне какие-то добрые слова…
Когда мне исполнилось шестьдесят лет, он пришел в Дом актера, где я отмечал юбилей, поздравил меня, был очень мил, добр ко мне, вспоминал прошлое. А в январе 1994-го, на мое семидесятилетие, я пригласил его в МХАТ, в Музей. Он мне тогда ответил:
— Володя, я не смогу к тебе прийти, умерла Нина, и я остался один, мне очень трудно, тяжело. Извини…
Его жена умерла 19 октября 1992 года. А через три недели после нашего с ним телефонного разговора умер Володя. Это было 20 февраля 1994 года. Ушел один из моих близких, добрых друзей, один из самых замечательных актеров нашего кино, который долгое время украшал наш кинематограф.
Везде, где он снимался, он играл прекрасно — художника в «Попрыгунье», летчика Нестерова, Соленого в «Трех сестрах» у Самсонова. Кстати, картина Самсонова была спорной, но Дружников сыграл замечательно — как Ливанов в свое время в театре.
Володя был похож на актера Шарля Буайе. Помню, мы смотрели фильм «Газовый свет» еще студентами, и все говорили «Володя, вот ты на него очень похож». Такие же глаза, такой же пронзительный взгляд, и красивое лицо, и голос…
Дружников прекрасно пел. Когда он пел в Студии на экзаменах (особенно «Элегию» Массне), мы все шли его слушать. Потом он замечательно читал рассказ Чехова «Шампанское» и стихи читал великолепно… Вообще, он был артист в самом высоком понимании этой профессии. Но, несмотря на его всесоюзную славу, не реализовались его возможности ни в кино, ни, тем более, в театре. Тогда сложно было их реализовать, после войны долго было малокартинье. В 50-е годы на «Мосфильме» снималось пять-шесть картин в год. Но тем не менее он снимался.
И еще — дубляж. Он делал это виртуозно. Экстракласс! В «Фантомасе», например. И как бы он ни менял свой голос, я всегда узнавал его неповторимые интонации в любом фильме, который он озвучивал.
Но кино, вернее, кинослава, его во многом и погубила. Говорят, он порой много шумно «гулял» и это вредило его таланту и работе. Как все-таки трудно переживать славу, не поддаваясь слабостям…
Я думаю, что Владимир Дружников мог бы занять самое почетное место в МХАТе — еще Н.П. Хмелев видел в нем своего преемника; они даже чем-то похожи были…
«Vive la France!»
Начало марта 1953 года. Начало весны. Начало оттепели… Это мы поняли, узнали только потом — через год, через два.
А тогда первые дни марта были для нас самыми трагическими после войны. Я родился в 1924 году, в январе, когда умер Ленин. Я даже 5 дней жил при нем. Мои родители, искренние коммунисты, в память вождя дали мне это имя — Влад-Лен…
Начиная со 2 марта газеты выходили с тревожными, почти траурными сообщениями, передачи по радио шли как бы притихшие (телевидение тогда еще не вошло так широко в наши дома).
И наконец 5 марта… Он умер, Он ушел от нас, Он оставил нас… «Сталин — это Ленин сегодня»… А кто же теперь, сегодня нам заменит и Ленина, и Сталина?! Горе, искреннее горе охватило всех нас, всю страну… Вот недавно на весь мир показывали по TV, что творилось в Северной Корее в связи со смертью Ким Ир Сена. И мы увидели себя, увидели эти рыдания, эти вопли и истерики. У нас был сделан фильм о похоронах Сталина тремя режиссерами — Александровым, Герасимовым и Чиаурели. Но его тогда не выпустили на экраны, так как там во всех кадрах был Берия… (Потом, в 1969-ом, перед съемками «Освобождения» мы с Юрием Озеровым увидели этот фильм.) Каждая (почти каждая!) семья пережила эти дни как свое личное горе. И даже те, у кого в семье был кто-то репрессирован, были убиты горем.
В этот день, 5 марта 1953 года, в МХАТе в Верхнем фойе был назначен показ нового молодого состава в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». У Марго Анастасьевой (она играла Сюзанну) нервы не выдержали, она разрыдалась и не смогла играть роль, о которой мечтала. А ведь у нее был репрессирован отец, когда ей было восемь лет…
Да нет, о чем вообще тогда можно было думать? Ведь умер Вождь, Отец, Спаситель России, Европы, всего мира! Ведь мы считали, что Он непогрешим. Горе, горе во всей Европе, нет, пожалуй, и во всем мире.
И только потом вдруг у нас была напечатана во всех газетах речь президента США генерала Эйзенхауэра о том, что умер злодей XX века.
Но постепенно (пока неофициально!) началась полусвободная жизнь, лед тронулся, началась «оттепель» — как говорил Илья Эренбург… К нам стали приезжать с Запада не только фильмы, но и ансамбли, спектакли и даже киноделегации, и нас тоже стали направлять за рубеж. Так, были проведены Неделя французского фильма в СССР, а
потом — Неделя советского кино во Франции. Французы привезли не только прекрасные, изящные фильмы — «Большие маневры», «Мари-Октябрь», «Папа, мама, служанка и я», но и своих замечательных актеров и режиссеров — Даниэль Дарье, Дани Робен, Николь Курсель, Жерара Филипа, Рене Клера…
А в ответ в ноябре 1955 года во Францию поехала наша делегация из семнадцати человек во главе с В.Н. Суриным. В нее входили замечательные актрисы, молодые и красивые Л. Целиковская, В. Калинина, А. Ларионова, Э. Быстрицкая; наши великие актеры Н. Черкасов и А. Хорава, режиссеры Ю. Райзман, С. Васильев, М. Трояновский, оператор Н. Шеленков, два журналиста, один чиновник, а из молодых актеров С. Бондарчук и В. Давыдов.
Перед отъездом нас пригласили в какую-то комиссию, где мы прослушали инструкцию, как надо вести себя за границей, и даже подписали ее, как присягу.
А потом в Министерстве культуры была беседа с заместителем министра Кафтановым и Суриным, которые давали нам советы, как ходить по Парижу — вместе, но не табуном… Надо налаживать отношения с французами, но не попадаться на провокации — ведь подбрасывают деньги, листовки. Наблюдают за тем, что советские люди покупают в магазинах. «Вам выдадут на руки тридцать процентов суточных и будут там кормить… Надо держаться с достоинством, Париж — это большие соблазны, — уточнил Кафтанов. — Не надо покупать никаких безделушек, верней, не надо набрасываться…» Н.К. Черкасов на это ехидно заметил: «Не на что покупать и набрасываться, но я — член парламента, и мне стыдно не давать на чай». А Кафтанов продолжал: «Говорят, что у нас нет хороших фильмов, но ведь были. Ясно, что у нас есть недостатки, но надо давать достойный ответ. Можно и поспорить… Никаких орденов и медалей не надо надевать»… Одним словом, получалось, что мы едем на какое-то важное задание.
Во Францию мы добирались так: сперва самолетом в Варшаву и Берлин, а из Берлина поездом в Париж. То ли не было точек прямого авиа- и железнодорожного сообщения с Парижем, то ли надо было соблюсти протокол и заехать в дружеские страны.
Как только взлетел наш самолет, Николай Константинович Черкасов начал рассказывать, показывать, шутить и острить… До этого я был как-то во время гастролей МХАТа в Ленинграде приглашен к нему в дом на обед вместе с Л.П. Орловой и Г.В. Александровым, но тогда он был не то что официален (он официален никогда не был даже в официальной обстановке), а просто не так вдохновенно артистичен.
И вот с первых часов полета он стал душой и кумиром нашей молодежной компании, а пожалуй, и всей делегации. Он был тогда единственным международно известным актером, который бывал постоянно на всех фестивалях и даже в правительственных делегациях как депутат Верховного Совета РСФСР.
Первая посадка была в Минске, потом в Варшаве и, наконец, в Берлине. Там мы пробыли довольно долго, и было решено на обратном пути провести Неделю фильмов и в ГДР.
В Париже на перроне вокзала Сен-Лазар нас очень радостно и дружески приветливо встречали Ив Монтан, Жерар Филип, Симона Синьоре. И с первого же дня, с первого часа мы были окружены таким вниманием и на таком высоком уровне, что сразу почувствовали: они действительно в восторге от встречи, которая им была оказана раньше в нашей стране. Их Неделя прошла с триумфом; конечно, героем был несравненный и всеми любимый Жерар Филип. Он был олицетворением французского духа, изящества, юности, обаяния этой великой нации. Теперь нам предстояло завоевать симпатии французского зрителя. У нас, конечно, героями были Черкасов и Бондарчук, который вернулся в Москву раньше нас, но два фильма с его участием имели успех — «Попрыгунья» и «Неоконченная повесть».
У Черкасова фильмов не было, но его отлично знали по старым работам с С. Эйзенштейном («Александр Невский» и «Иван Грозный») и восторженно встречали его выступления, когда он рассказывал и показывал, как играет Дон Кихота в фильме, который снимает режиссер Г. Козинцев. Он был неиссякаем и бесконечно прекрасен; его обаяние, темперамент, его пафос, эксцентричность, его голос трибуна ошеломили зрителей.
Конечно, особый успех выпал на долю наших очаровательных актрис. Людмила Целиковская блистала в «Попрыгунье», изнеженно-женственная Валентина Калинина — в фильме Райзмана «Урок жизни». Элина Быстрицкая была эффектна в фильме «Неоконченная повесть» — французам чем-то оказалась близка ее красота. Ну, а Алла Ларионова, как и я, была в делегации без фильма, но ее чисто русская красота и шарм стали для французов олицетворением славянской Мадонны. Кроме того, тогда только что нашумела скандальная история, в которой назывались имена известных актрис, в том числе и Аллы Ларионовой. Актрису Добронравову даже запретили снимать ее в роли Дездемоны. Поэтому приезд Ларионовой во Францию в составе такой делегации был оценен как доказательство «оттепели»…
Акакий Хорава поражал зрителей мощью своего трагического темперамента в фильме «Георгий Саакадзе».
И в газетах писали о том, что с советских экранов исчезло лицо человека с усами и его заменили красивые лица молодых актеров и актрис. И фотография Сталина из фильма, помещенная в газете, была перечеркнута крест-накрест…
Итак, на нас смотрели не только как на представителей советского кино, но и как на живых людей, вырвавшихся из «тотального государства». И для многих явилось откровением, что мы нормальные люди, хотя и недостаточно осведомленные о положении в своей стране. Сейчас-то я понимаю, как был наивен наш оптимизм. И как был, вероятно, смешон и наивен я сам в споре с месье Френе, одним из «людей денег», которые устроили нам прием в ресторане «Георг IV». Этот сильный и энергичный француз, похожий на бывшего боксера, очень активно мне доказывал, что в России нет свободы, а я, напрягая все свои знания по политэкономии, доказывал ему обратное. И только его вопрос: «А откуда же сейчас у вас освобождают людей, если у вас была свобода?» — меня обезоружил, и я понял, что они знают о нас больше, чем мы о себе…
И действительно, нам внушали и мы считали, что живем в самой свободной стране, где нет эксплуатации и безработицы. Но мы (я во всяком случае) не знали и не представляли, что миллионы (миллионы!) наших людей были репрессированы. И вот только теперь, после смерти Сталина, оставшихся в живых освобождают и реабилитируют…
Вот прошло сорок лет, и мое сознание, мое представление о нашей жизни во многом (не во всем!) изменились. А тогда, тогда я только не мог примириться с тем, что во Франции, как и в Германии (даже в Восточной), где я до того побывал, жизнь богаче, вернее, уровень жизни намного выше нашего.
С Н.К. Черкасовым мы подружились. Нас поселили в Париже в гостинице «Рояль Монсо», на шестом этаже. В один из первых дней утром я увидел под дверью моего номера несколько конвертов. В самом большом конверте была программа нашего пребывания, в другом — приглашения на разные приемы, а в небольшом — оказалась листовка на русском языке. В ней была просьба ко мне «оказать помощь в освобождении России»; перечислялись наши города, где проходят демонстрации и восстания… Внизу стояли три буквы: НТС. Я прочел все это, и меня охватил страх. Почему именно мне прислали? Чем я дал повод к такому призыву? Значит, кто-то следит за нами, за мной? Я быстро оделся и решил постучаться в номер напротив — к Черкасову.
На мой стук ответил сонный голос Николая Константиновича:
— Кто это?
— Это я, Владлен.
— А-а, сейчас.
Дверь открылась. Я вошел и показал листовку. Николай Константинович протянул мне такую же:
— Вот, не могу найти очки, чтобы прочитать.
Я начал ему читать.
— Нет, нет, не надо! Пойдем в ванную…
В ванной он открыл кран и стал спускать воду в унитазе:
— Теперь читай.
Я прочел все до конца.
— Так. Это интересно. Значит, они просят нас им помочь? Хорошо. Пойдем к Сурину.
Мы спустились на второй этаж в апартаменты руководства делегации. В громадном номере Сурина находились Райзман, Васильев и Брянцев. Николай Константинович обратился сразу ко всем:
— Вот, товарищи, к нам с Владленом обратились за помощью русские люди. Я думаю, надо им помочь. Может быть, мы с ним что-нибудь им почитаем, расскажем о нашей работе и жизни?
Все замерли, как в финальной сцене из «Ревизора»… Сурин прервал паузу и очень осторожно начал говорить:
— Николай Константинович, вы внимательно прочитали эту листовку?
— Да, вот Владлен мне ее прочел.
— Ну, а вы поняли, кто это пишет? Вы знаете, что это за подпись — НТС?
— Нет, я не знаю, но как артист, наконец, как депутат русского народа, я считаю своим долгом помочь этим русским людям в Париже.
Наступила опять пауза. Все четыре наших деятеля буквально обалдели и с ужасом смотрели на Черкасова… Что делать, что ответить ему?.. Но тут не выдержал уже Николай Константинович и сказал:
— Ну, если и вы все получили такие листовки, то я спокойно могу наши с Владленом уничтожить. — И обе листовки театрально разорвал и бросил в урну.
Все облегченно вздохнули и захохотали:
— Да, вы великий артист, Николай Константинович!..
Конечно, такой розыгрыш мог позволить себе только Черкасов.
Он вообще был инициатором во всех делах. На катере он первый начинал петь, в Бордо в Шато Марго он дегустировал вина и, угадав марку и год (!) вина, был посвящен в командоры Ордена Медока. В Монте-Карло он смело проиграл в казино десять франков, а увидев стоящий у подъезда экипаж, обратился к лошади, как Дон Кихот к Россинанту… А в Сан-Тропе на вилле у Рене Клера он решил «прорепетировать» сцену Дон Кихота со львом, обращаясь к громадному хозяйскому псу… Он был неутомим в своих шутках и розыгрышах. Он всегда был такой: и когда в 1959 году мы отдыхали вместе в Карловых Варах, где он отмечал свое 56-летие, и когда мы с ним в Москве были в гостях у физика Я.Л. Альперта, где Николай Константинович был в ударе и бесконечно импровизировал…
Я не знал другого артиста, который был бы так прекрасен в любом обществе. Пожалуй, только Борис Ливанов, но он все-таки порой слишком давил своим неуемным темпераментом. А Николай Константинович был весьма деликатен в своей активности. Но вернемся во Францию.
Конечно, главным на этой Неделе советского кино был показ фильмов. Но встречи с кинематографистами и людьми искусства были не менее важны — ведь впервые появилась возможность такого свободного общения. Это был взаимный интерес. Многие годы мир был разделен. С какой жадностью набрасывались на нас с расспросами русские эмигранты! Ко мне подошла женщина и с виноватым видом сказала:
— Я узнала, что вы артист Художественного театра. Вы меня, конечно, не знаете, но я тоже актриса Художественного театра, меня зовут Мария Крыжановская. Мой муж скульптор Аркадий Бессмертный. Как вы думаете, если мы вернемся в Россию, он сможет получить мастерскую?
Однажды в холле гостиницы ко мне обратился высокий седой мужчина в светлом пальто в обтяжку:
— Скажите, вы Черкасов?
— Нет.
— Мне сказали, что Черкасов — высокий, интересный мужчина и что он депутат.
— А что вас интересует, может быть, я могу быть вам полезен?
— Дело в том, что я давно хочу вернуться в Россию, на родину. Я могу быть полезен ей. У меня есть интересные материалы о немецком шпионаже при русском дворе. Кроме того, я перекладываю музыку Бетховена для балалайки…
— А вы что, музыкант?
— Нет, я князь. Оболенский. И хотел бы, чтобы господин Черкасов как депутат ускорил получение визы…
По-моему, он приехал потом в Россию, и в газете печатались его воспоминания.
На одном из приемов ко мне обратилась интересная немолодая женщина на костылях:
— Не могли бы вы выполнить мою небольшую просьбу — передать Галине Сергеевне Улановой нашу книжку? И мне бы хотелось подарить ее и вам, чтобы ее увидели в Художественном театре. Вот она — «Ларионов и Гончарова»…
Особенно оживленно проходили встречи в актерском профсоюзном клубе. Председателем этого клуба была Габи Марлей — французская Яблочкина. Были дружеские тосты, шутки… Тут было много русских — сестры Кедровы, Виктор Новский, приглашавший нас в свой ресторан «Этуаль де Моску».
Меня посадили за стол с Симоной Синьоре, а Ива Монтана — с Аллой Ларионовой. И хотя вовсю старался переводить наши разговоры сотрудник посольства, но у актеров свой язык, и они понимают друг друга без перевода… Я не могу сказать, что мы подружились, но Ив Монтан пригласил нас к себе в дом на площади Дофин, а Жерар Филип — на свой день рождения 4 декабря. И был очень обижен, когда в этот вечер мы пошли в гости «к своему коммунистическому режиссеру Луи де Кену», а не к нему…
Жерар Филип был очарователен — он с невероятным любопытством расспрашивал Черкасова: как это актер мог стать депутатом парламента? Во Франции это казалось невозможным. (А через тридцать пять лет Ив Монтан собирался выставить свою кандидатуру на выборах даже в президенты Франции.)
Шикарный прием был устроен в Министерском дворце на пляс де ля Конкорд. Там мы познакомились с сестрами Поляковыми, Одри и Мариной (Влади). Марина была семнадцатилетней прелестной актрисой — «колдунья» с широким славянским лицом. Очень робкая и застенчивая, и около нас ходил, бросая дерзкие взгляды, ее молодой муж, актер Робер Оссейн…
Моей «дамой» в поездке была Алла Ларионова — мы, как я уже говорил, оба были без фильмов, и у нас была особая программа — более свободная.
Но однажды вечером вся делегация собиралась ехать на стадион (в Москве французскую делегацию тоже возили на футбол, а Жерар Филип тогда даже вышел на поле и сделал первый удар). Так вот, в этот вечер Николь Курсель, которая еще в Москве в фильме «Папа, мама, служанка и я» покорила всех зрителей своей молодостью и красотой, предложила мне поехать с ней посмотреть «королевский Париж». Естественно, я спросил главу нашей делегации В.Н. Сурина, могу ли совершить эту экскурсию.
— Да, конечно, Николь давно ждет этого.
И вот после обеда она подъехала на своей шикарной машине к отелю «Рояль Монсо». Мы заехали за ее, как она мне сказала, «братом», который хочет сделать репортаж в один «очень престижный и дорогой журнал», и за переводчицей. Сумерки быстро сгущались над декабрьским Парижем. На улицах начиналось праздничное предрождественское оживление. Мы ехали медленно, останавливаясь то у магазинов на рю Риволи, то на набережной возле букинистов, то просто садились на скамейку, чтобы попозировать для фото на фоне церкви Святого Якоба. Конечно, эта экскурсия сопровождалась разговорами и объяснениями, которые нам переводили. Все это было мило и весело.
Перед нашим отъездом из Парижа Николь на перроне вручила мне пачку фотографий и вскочила на площадку вагона, чтобы меня поцеловать. Не знаю, успел ли снять этот момент ее «брат», но она, видимо, достигла цели — провожающие заулыбались:
— О-о-о, лямур, лямур…
История эта имела продолжение в Москве.
А пока после Парижа мы побывали в Бордо, потом была великолепная поездка по Лазурному берегу Франции — Ницца, Монте-Карло, Канны, Сан-Поль-де-Ване, Сан-Тропе — на виллу Рене Клера… И опять встречи, приемы, беседы, экскурсии в музеи, на катере, посещение казино и фестивального каннского кинозала, выставки цветов, аквариума в Монте-Карло, винных погребов в Жиронде и Провансе…
Одним словом, все было как в сказке. Потом за сорок лет я побывал в разных странах и в разных городах Европы, Канады, Северной и Южной Америки, в Марокко и Японии и еще несколько раз в Париже. Но эта первая поездка, это мое первое впечатление от Парижа, от Франции, от французов остались на всю жизнь, как первая любовь!
Я стал собирать книги о Париже, путеводители и карты… Разглядывая их, я вновь и вновь возвращался в мой любимый город. У себя дома я повесил карту — «Центр Парижа с птичьего полета», где были изображены не только улицы, но и дома этого волшебного города. И романы В. Гюго, Стендаля, Мопассана, А. Доде «ожили» для меня.
О нашей успешной поездке и о такой представительной делегации писали много добрых слов во французской и нашей прессе. Писали о фильмах, о наших встречах и о каждом из нас. Казалось бы, и дальше моя жизнь будет столь же интересной и счастливой. Но! Но!
После Франции наша делегация поехала в ГДР — Берлин, Эрфурт.
К сожалению, нас с В. Калининой дирекция МХАТа попросила срочно вернуться в театр. Валентина должна была репетировать роль в пьесе Лилиан Хеллман «Осенний сад», а я — в пьесе Бернарда Шоу «Ученик дьявола».
Когда в середине декабря вся делегации вернулась в Москву, Люся Целиковская с многозначительной фразой — «Вот тебе от Николь» — передала мне журнал «Пари матч» с репортажем о нашей экскурсии.
В канун Нового года мне позвонили из «Вечерней Москвы» журналисты Адов и Шевцов:
— Мы хотим с вами побеседовать о поездке во Францию. Мы знаем, как вы интересно рассказывали об этом в Доме актера и в зале МИДа.
Приехали ко мне домой. Я разложил все фотографии, газеты и журналы и довольно подробно обо всем рассказал. Они выбрали одну из фотографий, где мы с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре.
— Мы вам, конечно, ее вернем.
И уехали. Через неделю позвонили.
— Вот-вот, в начале — середине января пойдет этот материал. Сообщим.
Но в середине января раздался звонок и довольно строгий голос произнес:
— Попросите к телефону товарища Давыдова.
— Я слушаю.
— Это говорят из секретариата министра культуры товарища Михайлова. Он просит вас прийти к нему в понедельник к десяти часам по адресу: улица Куйбышева, дом семь, второй этаж.
По многозначительному тону Целиковской, когда она передавала мне «Пари матч», я уже почувствовал — что-то не так. А теперь понял: кто-то что-то «доложил» министру обо мне.
Собираясь к министру, я взял с собой все материалы о нашей поездке: газеты, фотографии.
Министр со своей вечной полуулыбкой встретил меня вежливым вопросом:
— Ну, как вы съездили во Францию?
— Очень хорошо. Я думаю, вам уже рассказали, с каким успехом прошла эта первая «Неделя советского кино».
— Да-а, мне доложили подробно обо всем…
В это время (видимо, тоже к 10 часам!) вошли в кабинет министра С.И. Юткевич и И.А. Пырьев. Поздоровались с министром. Кивнули мне. Сели за длинный стол. Министр взял в руки журнал «Пари матч» и бросил перед ними на стол:
— Вот, посмотрите. Полюбуйтесь, что там написано о советском артисте Давыдове.
Юткевич взял журнал, открыл его и бегло стал переводить текст под фотографиями: «Ну что ж, это естественно, желтая пресса…» Пырьев с жадным интересом стал листать журнал, чмокая и ехидно крякая: «Вот! Вот попался, съездил в Париж!»
У меня, конечно, был подробный перевод и все фотографии — целиком, а не смонтированные, как в журнале; я их взял с собой. Но ждал, что будет дальше, кто начнет что-то говорить. Министр, уже обращаясь не ко мне, произнес:
— Придется наказать Давыдова. За неправильное поведение за границей объявить выговор!
Пауза. Посетители министра молчат. Ждут.
— А в чем заключается мое неправильное поведение? Что я сделал? В чем провинился? Наоборот, обо мне писали, как о «советском Жераре Филипе», сообщали, что я играю в МХАТе, что снимаюсь в кино в главных ролях…
— Да, да, советский. «Советский Дон Жуан!» И вот эти сомнительные фотографии. Что это?
— «Советский Дон Жуан» — потому что я сказал им, что играл в Студии свою первую роль Дон Жуана в «Каменном госте». А фотографии эти смонтированы. Вот у меня оригиналы, и на фото не только я с Курсель, но вот тут видны переводчица и толпы людей. Вот, посмотрите.
Они все трое, как бы нехотя, но с интересом стали рассматривать все фотографии.
— А переводчица была наша? Советская? Нет? Ну, вот видите!
Они просматривали фотографии, а я ждал, что же после этого скажет министр.
— Ну, все равно я вам объявляю выговор, а вы напишите мне объяснительную записку, как попались на эту провокацию. Все, забирайте свои фотографии. До свидания.
Конечно, я написал «объяснительную записку». Конечно, я позвонил в «Вечерку» и рассказал об этой беседе, чтобы не «подставить» журналистов. И стал ждать, как же это все отразится на моей жизни, на моей карьере в театре и в кино… Тут необходимо сделать маленькое отступление. В МХАТе с 1952 года появился освобожденный секретарь парткома Н.К. Сапетов. (М.Н. Кедров все спрашивал: «А от чего он освобожденный?») Так вот этот секретарь имел очень большое влияние на всю жизнь и работу МХАТа. Он держал в руках даже директора театра. Однажды наш старейший актер, всеми уважаемый Владимир Александрович Попов рассказал мне, как на встрече в ЦДРИ расцеловался с приехавшим из Болгарии бывшим артистом Художественного театра Н.О. Массалитиновым, с которым он вместе был еще в Первой Студии. Сапетов до такой степени испугал его строгим вопросом: «Это зачем же вы целуетесь с изменником Родины?» — что Владимир Александрович, как он впоследствии признался, «чуть было не описался от страха».
Вот этот самый Сапетов вскоре вызвал меня в партком и сказал:
— Есть решение секретаря горкома партии Пахомова о том, что ты будешь пять лет «невыездной».
А министр? Что же министр? Через месяц мне сказали:
— Министру не до вас, он не знает, останется ли он сам министром. Идет Двадцатый съезд партии. Там такое происходит…
Так XX съезд КПСС спас и меня. Спас от выговора министра «за неправильное поведение за границей».
Что касается Сапетова, то через несколько лет он был переведен в ВТО, и во МХАТе, как сказал один остроумный артист, кончилась «сапетская власть».
А как я вновь стал «выездным» и когда — это особая тема, не менее мелодраматичная…
«Пять лет будешь невыездной!»
Однажды, а в кино бывает всегда «однажды», мне позвонили с киностудии имени Горького и сказали, что, вот, приехал чехословацкий режиссер и ему нужен актер на роль советского летчика. Роль небольшая, но он хочет, конечно, познакомиться с актером и сделать фотографию.
— Когда бы вы могли приехать?
— А что за сценарий, что за роль? Кто режиссер, когда съемки, где?
— Съемки летом пятьдесят девятого года в Праге, режиссер Ченек Дуба, сценарий Павла Когоута о чехословацких летчиках, которых советский летчик учит летать на советских самолетах ТУ-104. Вот и все.
Я заволновался от всех этих сообщений. Прежде всего — Прага! Я много слышал от Марго об этом чудесном городе, о чехословацких друзьях. Потом, знаменитая киностудия «Баррандов», где А. Птушко снимал в 1946 году «Каменный цветок», и мне тогда в театре не разрешили там сниматься, а снялся в этой роли В. Дружников… И уж самое интересное — познакомиться с Павлом Когоутом, автором пьесы «Такая любовь», которая с шумным успехом шла в студенческом театре МГУ. Пьеса необычная, верней, непривычная, но острая и увлекательная.
— Да, хорошо! Я приеду в понедельник.
Ехать на киностудию Горького крайне неудобно. Я был на ней раза два всего. Ехал долго. И по дороге вдруг вспомнил о том, что после моей истории 1956 года с «Пари матч» некто В.И. Пахомов, тогдашний секретарь МГК, грозно заявил: «Давыдов пять лет не поедет за границу!» Меня всегда удивляло, почему довольно серые люди, непрофессионалы решают не только нашу творческую, но и человеческую судьбу? Что это? Партийная власть? Пролетарская совесть? Почему таких «городничих» ставят во главе творческих и научных учреждений? Видимо, романтика пролетарской революции и Гражданской войны, когда Чапаев побеждал белых, хотя «академиев не кончал», оправдывала такие решения Сталина. Потом, много лет спустя, когда я и все мы всё больше и больше узнавали о нашем прошлом и теряли оптимизм (а «оптимизм — это недостаточная осведомленность»), я понял, что вся политика Сталина была построена на том, чтобы не было в стране «инакомыслящих». «Кадры решают все!» — этот сталинский лозунг осуществлялся своеобразно. Какие кадры? Ведь были уничтожены наиболее яркие, умные и образованные соратники Сталина, и он набирал себе серых, раболепных людей.
Нет, когда я ехал на киностудию, так широко я не размышлял — это уже потом появились у меня такие обобщения. А тогда я только сомневался, выпустят ли меня за границу?
Никакого режиссера на студии не было, а просто меня загримировали, сделали фото, выписали талон на оплату за фотопробу — и все! Но тут же в гримерной я получил еще одну информацию: на эту роль, вернее на этот эпизодический персонаж, пробовался уже Володя Дружников! Как? Опять он предо мной?! Так зачем же мне снова сталкиваться с моим другом? «Нет, я не хочу, — думал я, — вот и разрешились сами собой все мои сомнения». И обратно со студии я ехал, уже не мечтая ни о какой Праге.
Я уже смирился с этой мыслью. Я всегда утешался так — или кино, или театр. А в это время в театре я репетировал в спектакле М.Н. Кедрова «Третья Патетическая» одну из центральных ролей, с психологией и политикой. И дело шло уже к премьере. Так что было не до кино.
И вдруг — ох, уж это «вдруг»! — вдруг звонок со студии: «Приехал Ченек Дуба и хочет с вами познакомиться — ему очень понравилась ваша фотография. Когда вы сможете приехать? Мы пришлем за вами машину…»
Судя по такому вниманию, я понял, что режиссер хочет, чтобы я у него снимался. Я приехал — вернее, меня привезли — на студию. Ченек Дуба неплохо говорил по-русски, и мы сразу нашли с ним общий язык. Это был милый, небольшого роста мужчина с приятной улыбкой.
— Да, да, я вас знаю давно. Вы у нас в Чехословакии известный и очень любимый артист. Если вы сможете приехать к нам на съемки, мы будем рады с вами работать. Роль небольшая, но для нас очень важная — это символ советского летчика, друга наших летчиков. Все съемки — дня три-четыре, на аэродроме. Мы вам хорошо заплатим. Вы не были в Праге? Ну вот, мы вам ее покажем. Поместим в лучшей гостинице «Алькрон». Съемки будут в июле или августе пятьдесят девятого года. Вы согласны? Вот ваши фотографии. У вас умные, красивые глаза…
Я сказал, что мне надо подумать, узнать в театре, не будет ли в это время гастролей.
— Хорошо. Когда вы это выясните? Через три дня? Вам позвонят. Ждем.
— А что мой друг Володя Дружников? Отпал?
— Да. Он хороший артист, его тоже знают у нас и любят, но…
Мы попрощались, но тут выяснилось, что Ченек Дуба живет в том же доме на улице Чайковского, где и я. Там живет его друг, чехословацкий журналист, и он остановился у него на 2–3 дня. И мы поехали домой вместе. По дороге он рассказывал мне про сценарий, про артистов, которые у него будут сниматься, — Валентина Кочиркова, Владимир Раж, Иосиф Бек… Одним словом, все известные актеры театра и кино. Рассказал и про Павла Когоута. Он 1928 года рождения. Жена его Аня — болгарка. Трое детей — Андрей, Катя и Тереза. Когоут — это по-чешски петух. Павел очень популярен. Выступает регулярно по радио в диалоге с режиссером Бурианом — это две позиции в искусстве и в политике. Все эти рассказы еще больше распалили мой интерес к Павлу Когоуту, но я сомневался — смогу ли поехать, дадут ли мне заграничный паспорт? Ведь Пахомов строго заявил: «Пять лет невыездной!» А его не обойдешь: выездные дела утверждает горком!
И тогда я решил обойти этого «городничего» так: написал заявление в наш местком, чтобы мне дали путевку на июль в Карловы Вары, а не в Трусковец, куда я ежегодно ездил на лечение. Я решил, что уж в Карловы Вары-то меня отпустят, а потом я на неделю останусь в Праге на съемки.
Путевку мне, конечно, дали, и я сообщил об этом Ченеку Дубе. И он, и я были этому рады. Но, как потом выяснилось, это было еще не все…
В Карловых Варах фестиваля в это время не было, но общество собралось очень интересное. Врач у меня был немолодой уже человек из русских эмигрантов, довольно строгий, чтобы не сказать обозленный на всех этих «больных» из России, которые приезжают по обменным профсоюзным путевкам (чехи получали путевки на советские черноморские курорты, а наши — в Карловы Вары). «Так вот, эти профсоюзные обманщики все здоровы и приезжают к нам пить пиво и гулять! — с раздражением объяснил мне мой врач. — Я рад, что хоть вы у меня настоящий больной, и я с удовольствием буду вас лечить!»
Ну, а из настоящих больных кроме меня там были Н.К. Черкасов с женой Ниной Николаевной, Б.А. Бабочкин, тоже с женой, А.Л. Габрилович с женой, поэт А.А. Тарковский с женой (я тогда не знал, что это отец будущего великого кинорежиссера Андрея Тарковского), поэт С.П. Щипачев, генерал армии Д.Д. Лелюшенко — освободитель Праги, и еще много других личностей, которые населяли наш санаторий «Империал». О каждом из них хочется сказать подробнее — ведь я с ними каждый день встречался и в столовой, и на источниках, и на процедурах — да везде. А вниз, к источникам, «на водопой», приходили и из «Ричмонда» — это «аристократы», и среди них А.Н. Косыгин с женой, член ЦК Компартии Албании Энвер Ходжа с охраной и с женой.
Энвер Ходжа — высокий и красивый — выступал как гусь и крутил головой на вытянутой шее, радуясь и улыбаясь, что его узнают… А Алексей Николаевич Косыгин, стесняясь всей этой свободной обстановки, вежливо здоровался, отвечая на приветствия, и тоже пил карлсбадскую воду. Однажды его жена меня ему представила: «Это наш мхатовский артист Владлен Давыдов». Я был польщен, что не только Энвера Ходжу здесь узнают, но и меня…
А как-то Косыгин, попивая водичку из простого стакана, сказал мне: «Что-то в МХАТе давно нет интересных спектаклей, классику ставят неинтересно». Я расхрабрился и сказал: «А классику, вот, например, «Ревизора», надо ставить, как современные пьесы, чтобы были не куклы заштампованные, а живые люди, и в современных костюмах. Вот тогда все это будет острее восприниматься!» На это Косыгин, закончив пить и стряхнув капли из своего стакана, ответил: «О-о, какие у вас страшные мысли, товарищ Давыдов!» — и отошел от меня вместе с женой. Больше общения у меня с ним не было, и я не успел ему объяснить, что это — не политика, а прием в работе.
Зато общение с Николаем Константиновичем Черкасовым у меня было очень дружеское — ведь мы с ним еще в Париже жили рядом и подружились по-настоящему.
А Степан Щипачев был тихий и лирический седой красавец. Почему-то все время мне при встречах говорил: «Вам надо играть «Янки при дворе короля Артура»». Я не знал тогда, что это за книга. «А я вам дам в Москве — почитайте…»
Очень яркой фигурой был генерал Лелюшенко. В гражданском костюме он, видимо, чувствовал себя неловко и ходил на своих кривых ногах, как бы стесняясь — боком и застенчиво улыбаясь. Но его рассказ о том, как поймали генерала Власова, тогда был откровением — ведь об этом еще не писали. Теперь об этом, конечно, все знают: как в автоколонне один из власовцев за обещание сохранить ему жизнь указал, в какой машине прячется генерал Власов в шинели рядового солдата…
Но, пожалуй, самым интересным для меня открытием был Борис Андреевич Бабочкин. Я, конечно, как и все зрители «Чапаева», был покорен всепобеждающим обаянием героя, образ которого создал этот великий русский артист. Именно к Б.А. Бабочкину точно подходит это определение — Великий Русский Артист! В театре я его видел только в «Дачниках» М. Горького в роли Власа в 1940 году, когда Большой Драматический театр приезжал на декаду ленинградских театров в Москву и в мае играл на сцене Малого театра. Его Влас был похож на молодого Горького, а темперамент и обаяние Бабочкина вызывали восторг зрителей. Потом были еще и фильмы. Я ему тогда послал письмо и фото, которое он мне, подписав, возвратил. Но лично я его не знал и даже никогда в жизни не видел.
И вот теперь, почти каждый день, когда я с ним встречался в санатории, он отпускал в мой адрес какую-нибудь реплику с «подначкой». Мне это нравилось, и я нет-нет, да и отвечал ему — с уважением, конечно, — тем же. Обычно это было в мужском обществе, на процедурах или на подводном массаже (тогда он с гордостью говорил: «Они плывут-с»). Когда мне делали массаж, он проводил пальцем по моим ребрам и говорил: «Нет, на шашлык на ребрышках не годится мало мяса!» А однажды я вошел в процедурный зал и увидел, как он лежал на столе, весь завернутый в одеяла и простыни, крутил своей седой головой, и, казалось, хотел вылезти из этого кокона. И вот тут уж моя фантазия заработала: «Что, Чапай, попал в руки чехам?! Это тебе не белогвардейцы, не вырвешься от них!» «А я, а я тебе… — хотел он что-то сказать, но от обиды не нашелся и только добавил: — Вот вырвусь, отвечу тебе, Владлен!» И так частенько у нас бывали легкие пикировки. Я не мог понять его: то ли от симпатии ко мне, то ли от ревности, но он довольно часто, как стрелой, язвительно подкалывал меня. Его жена при этом всегда говорила: «Это он шутит, Владлен, вы ему нравитесь, он любит ваш юмор». А мне было приятно, что вот, любимый герой нашей юности со мной «на равных», и шутит, и острит… И вообще мне нравилось, как он размашисто ходит, как жестикулирует прямыми ладонями, как безапелляционно высказывает свое мнение короткими рублеными фразами. Он ходил как бы над всеми. Словно на воздушной подушке была вся его легкая фигура.
Но вот чем меня окончательно покорил Борис Андреевич, так это своим искренним ко мне вниманием. Дело в том, что о моем приглашении сниматься у Ченека Дуба то ли чехи сообщили в Комитет по кинематографии в Москву, то ли со студии Горького, но почему-то из Москвы пришла мне телеграмма: «Вопрос о ваших съемках на «Баррандов-студии» в Праге отпал», — и подпись: не то Попов, не то Козлов, не помню уж сейчас. Я показал эту телеграмму Б.А. Бабочкину. «Что?! Кто этот Козлов? Я его не знаю, а артиста Давыдова знают все! Пошли ты этого Козлова к… и снимайся. Я тебе разрешаю! Всё!!»
И потом он несколько раз до моего отъезда в Прагу, встречая меня, повторял: «Так и скажи там, кто тебе разрешил сниматься у наших друзей-чехов!» И говорил он это всегда не то шутя, не то серьезно — очень уж это было легко сказано.
Я, конечно, поехал, верней, за мной прислали машину из Праги. Две недели я гулял по Праге и немного снимался, а главное, познакомился и подружился с Павлом Когоутом и с его женой Анечкой — красивой, чернобровой болгаркой. Они приходили на аэродром на съемки, а потом мы ходили в «мой ресторан «Олимпия», как говорил Павел, и пили, и ели, и говорили, говорили обо всем. Я узнал, что отец Павла был директором выставки чешского стекла в Москве в 50-е годы, и что Павел полюбил Москву, русских, и что он, как и его отец, стал коммунистом. Он водил меня по «златой Праге», познакомил с милым художником Право-Славиком. И вообще, все эти дни были «красивыми и радостными», как сказал Павел.
Вернулся я в Москву, не думая о последствиях моей «самоволки». Я привез из Праги обещание Павла Когоута передать мне для постановки его новую пьесу, которую переведет и привезет его друг Владимир Савицкий. И это было самое главное (хотя, конечно, на заработанные там деньги я привез подарки, а себе купил кинокамеру и красивую шубу…). А как я снялся, увидел много позже — достойно!
Через год пьеса Павла Когоута «Третья сестра» была у меня в руках. Это особая глава не только в моей жизни, но и в жизни МХАТа. Это будет и счастливая, и грустная глава с драматическим концом.
А эту главу мне хочется закончить все-таки воспоминанием о Борисе Бабочкине — артисте с азартным темпераментом и ухарским характером. Я видел его во всех ролях последних десятилетий его жизни — и в «Тенях», и в «Иванове», и в «Дачниках» — уже в роли Суслова, где он перещеголял всех остротой исполнения этого «русского обывателя»… Но совсем другим, мудрым и добрым, он оказался в телеспектакле «Плотницкие рассказы». И еще помню его неожиданный рассказ о китайском характере в период, когда произошли события на острове Даманском. Он в Доме актера рассказывал, как жил в 20-е годы в Харбине.
А потом мы с ним встретились в Доме актера, когда там принимали американских астронавтов. Мы сидели в первом ряду. Борис Андреевич комментировал весь концерт. Когда объявили, к примеру, что Штоколов будет исполнять романс «Гори, гори, моя звезда», то Бабочкин мне сказал: «Это же слова Колчака». И я тут же добавил: «А музыка Буденного»… Что тут с ним было! Он захлебнулся от смеха и убежал за кулисы…
Кстати, на этой встрече я передал космонавту А. Леонову значок нашего театра — «Чайку» — и сказал ему: «Если полетите на Луну, оставьте там этот значок — ведь МХАТ вряд ли полетит туда на гастроли»…
Я часто вспоминаю Бориса Андреевича, этого азартного, обаятельного человека и артиста. Вспоминаю, с какой досадой, даже горечью он говорил, а в 50-е годы даже писал о том, что прервалось, остановилось развитие искусства Художественного театра, потому что не дают ходу молодежи. А сам он был неугомонный, всегда с молодым задором и отвечал на все вопросы сразу — резко, наотмашь. Он и умер-то тоже сразу, на ходу — в машине, когда ехал из Малого театра домой…
Удивительная, яркая личность!
И я всегда буду помнить, что именно с его легкой руки я снова стал «выездным».
Г.Л. Рошаль, Владимир Чеботарев, Игорь Усов и Юрий Озеров
Всех режиссеров, с которыми мне было интересно работать, я вспоминаю с благодарностью. Все они были разные, конечно. Григорий Львович Рошаль предложил мне роль Телегина в своем фильме по роману А.Н. Толстого «Хождение по мукам», но я сказал, что мне бы хотелось сыграть офицера Рощина. «Нет, на Рощина уже утвержден Николай Гриценко… А давайте-ка мы сделаем творческий обмен — Вадима Медведева с роли Бессонова переведем на Телегина, а вам предложим Бессонова и сделаем кинопробу. Для вас эта роль в кино неожиданная, но ведь в МХАТе, как мне известно, вы играете не только героев…»
Одним словом, меня эта перестановка заинтересовала, и я согласился. Григорий Львович с увлечением и азартом стал со мной работать, и даже написал несколько стихотворных строк «под Бессонова». Он вообще был всегда на съемках какой-то возбужденно-восторженный и шумный. Говорят, поэтому СМ. Эйзенштейн сказал о нем: «Вулкан, извергающий вату». По-моему, сам Эйзенштейн по характеру был такой же активно-громкий вулкан, но извергающий лаву…
В кино я снимался редко, по разным причинам: сковывал театр, а главное, на рубеже 50—60-х годов в кино началась «новая волна» и пришли новые режиссеры, новые актеры, новые герои, а я все-таки был «дооттепельным» артистом… Кстати, Ю.Я. Райзман об этом говорил так: «Не надо часто мелькать на экране. Снимать фильмы и сниматься артистам надо раз в два-три года…»
Так вот, через три года после съемок в фильме Г.Л. Рошаля «Сестры» меня пригласил Владимир Чеботарев сниматься в его фильме «Человек-амфибия» в непонятной роли журналиста Ольсена, которого нет в фантастическом романе Беляева. Надо сказать, что в кино у меня возникло «скользящее» амплуа. Так, после фильма «Сестры» я получал разные письма. Одно письмо от школьницы меня озадачило. Она писала, что роль Бессонова, после моих положительных киногероев, хоть ей и понравилась, но только она не поняла, что это — роль положительная или отрицательная? Я ей ответил: «Спросите это у вашей учительницы по литературе». А она снова написала мне: учительница ей сказала, что, мол, Давыдов играл эту роль, вот пусть он за это и отвечает…
Ну, а фильм Чеботарева «Человек-амфибия» имел феноменальный успех. В нем, кроме злодея, которого играл Михаил Козаков, все образы были «положительные», а уж у Владимира Коренева после его фантастической роли Ихтиандра и популярность была фантастическая, как в свое время у Тарзана. Конечно, громадная работа режиссера В. Чеботарева и оператора Э. Розовского (одни его подводные съемки чего стоят!) решила успех фильма. Но и актеры собрались интересные. И очаровательная Настенька Вертинская (это ее вторая роль в кино, она только окончила школу, ей было всего 16 лет, и она старательно училась плавать). И великий Николай Симонов, похожий на льва. И экзотический артист Смирани — отец героини… А уж заводная музыка Андрея Петрова в этом фильме прославилась, как в свое время музыка И. Дунаевского в кино.
И еще одного режиссера «Ленфильма» я постоянно вспоминаю с благодарностью — ведь его фильм «Табачный капитан» регулярно показывают по всем телеканалам. Это Игорь Усов, который мне неожиданно предложил сыграть в этой музыкальной комедии роль Петра I. Я как-то сомневался: похож ли я на Петра I? Да и как сниматься в такой роли на «Ленфильме», где этот образ был создан гениальным артистом Николаем Константиновичем Симоновым?! Но обе проблемы были решены просто. Первую решил гример. Он сказал мне перед пробой: «Вам надо обрить полголовы, и тогда я сделаю абсолютно похожий на Петра грим». Я ему ответил: «Вот когда меня утвердят на эту роль, я буду готов всю голову обрить, а пока нет. Ведь в кино бывает так: одному артисту для роли побрили голову, а снимается в этой роли другой, которому ее не брили. И вообще, у меня есть примета: снимается тот, кто пробуется последним».
Но я был утвержден на роль Петра I и побрил полголовы…
Что же касается второй проблемы, то право сниматься в этой роли на «Ленфильме» я получил от самого Н.К. Симонова. На съемках фильма «Человек-амфибия» мы подружились. Он ценил мое восхищение и восторженное отношение к нему. Когда я позвонил Николаю Константиновичу и сказал, что без его благословения боюсь сниматься в роли Петра I на «Ленфильме», где во всех коридорах висят его фотографии в этой роли, он ответил: «Я не только разрешаю, но и желаю тебе успеха!» Меня, конечно, это вдохновило.
Работа в фильме Игоря Усова была и интересной, и радостной. Мы, актеры, собрались перед первой съемкой и договорились, что надо всем играть с юмором и шутя, а не серьезно — иначе получится глупо и пошло. А ведь актеров Игорь Усов собрал на редкость ярких и талантливых: Сергей Филиппов — артист иронического юмора; Людмила Гурченко — актриса экстравагантного дарования; как она была изящна и прекрасна в сценах с артистом острого юмора Георгием Вициным; актриса Марина Полицеймако в паре с кинодебютантом Владимиром Кривоносом создали сатирический дуэт; всегда легкий и добрый артист Николай Трофимов и здесь блеснул своим мастерством. На фоне условных декораций всеми была найдена и мера условности исполнения ролей…
А о моем друге режиссере Юрии Николаевиче Озерове я вспоминаю не только с благодарностью, но с уважением за его титанический труд в создании шестисерийной киноэпопеи «Освобождение». Наверно, именно его русский патриотизм и мастерство вдохновляли Озерова в содружестве с выдающимся оператором, бывшим танкистом Игорем Слабневичем на создание этого памятника Советской Армии-победительнице. Ведь и все члены группы во главе с Озеровым, который начал войну рядовым, а закончил майором, были участниками Великой Отечественной войны: и сценарист — писатель Юрий Бондарев, и художник А. Мягков. И в каждом кадре, в каждой
сцене это видно. А масштаб сцен с участием сотен танков, самолетов, артиллерии и, конечно, солдат, снятых как в документальном кино, потрясает зрителей. Такого в художественных фильмах о войне еще не было.
И обязательно надо сказать о великолепном актерском ансамбле, который собрал Юрий Николаевич. Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Михаил Ножкин, Всеволод Санаев, Бухути Закариадзе и очаровательная Лариса Голубкина… Этот список можно продолжить.
И все мы, такие разные, с увлечением работали на этой картине — настоящем памятнике одной из самых героических страниц нашей истории.
Встречи в Матвеевском
Зимой 1981 года у меня оказалось несколько дней, свободных от работы в театре. И я решил поехать на неделю в Дом ветеранов кино в Матвеевское.
В те годы там всегда было интересное кинообщество: профессор истории кино и обаятельнейшая личность С.В. Комаров, Е.И. Габрилович, А.Г. Зархи, С.И. Юткевич…
В столовой я оказался за одним столом с писателем Я. Варшавским и оператором-документалистом С. Коганом. И сразу начались разговоры, воспоминания о прошлом…
Яков Варшавский рассказал, как ему в 1957 году позвонил из «Вечерней Москвы» Н. Адов и предложил написать статью о необычном событии в МХАТе: 34-летняя актриса «со стороны» Анна Андреева (Бабахан) будет играть в спектакле «Анна Каренина» главную роль!
В этой роли в 1937 году прославилась А.К. Тарасова. Тогда все Политбюро во главе со Сталиным смотрело этот спектакль, и на следующий день газета «Правда» напечатала об этом событии Правительственное сообщение ТАСС. А через неделю А.К. Тарасова, ее партнер Н.П. Хмелев и еще Б.Г. Добронравов получили звание народных артистов СССР, а МХАТ СССР им. Горького — орден Ленина. Тарасова потом двадцать лет играла эту роль. А в 1953 году (в пятьдесят пять лет!) снялась в этом спектакле на «Мосфильме» с Массальским в роли Вронского.
И вот теперь Варшавскому предложили: сегодня посмотрите, напишите, а завтра будет в газете. Он посмотрел, и ему очень и очень понравилась Андреева — своей молодостью, легким темпераментом. Он об этом и написал.
Конечно, это событие всех в МХАТе взволновало. И особенно А.К. Тарасову. Я видел, я знаю, как она возмущалась. А технические работники театра подарили А. Андреевой в день ее дебюта чайный сервиз… Что это было? Вызов постаревшей Тарасовой. Или просто симпатия к молодой актрисе?
А дальше Я. Варшавский рассказал, как Андреева пригласила его на сотое представление, а потом и на банкет в какой-то особняк. Но ему и спектакль, и Андреева на этот раз совсем не понравились: «Уже не было этой взволнованности, нерва, трогательности». На банкете она ему рассказала о себе: она играла в разных городах, выступала с двумя братьями и в цирке — они се подбрасывали. Но мечтала об Анне Карениной. И вот приехала в Москву, в МХАТ. Долго тянули, но потом П.В. Массальский взялся за эту работу, и она сыграла. А.К. Тарасова больше всего сердилась за это на Массальского… Андреева же в МХАТе за десять лет сыграла еще несколько ролей. И ушла из театра.
Не менее интересным был рассказ Соломона Когана о съемке исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ему с группой сказали (для конспирации!), что парад начнется в 10 часов утра, а он начался в 9 часов! Когда Коган услышал по радио начало трансляции парада, он сломя голову помчался на Красную площадь и успел снять только общий план, а главное — речь И.В. Сталина — не снял… Что делать?! Его вызвали на «беседу» на Лубянку… Он объяснил, почему это произошло. Было принято решение: просить товарища Сталина повторить свою речь для съемки. Для этого в одном из дворцов Кремля была построена декорация — фрагмент Мавзолея. И Сталин снова произнес свою историческую речь — без бумажки! — почти слово в слово, как она уже была напечатана во всех газетах. Теперь об этом уже все знают и приводят доказательство: вот, мол, на площади-то был страшный мороз, а когда Сталин говорит, то пар изо рта у него не идет… А у меня другой довод — на параде он был в шапке, а в кино в фуражке…
Много было в Матвеевском и других встреч. Но вот о встречах и беседах с С.И. Юткевичем хочу рассказать подробно.
Разговоры с С.И. Юткевичем
Через несколько дней в этом Доме ветеранов кино я встретил жену С.И. Юткевича Елену Михайловну Ильюшенко. Она мне сказала, что Юткевич лежит здесь с гипертоническим кризом (у него было четыре инфаркта!). И добавила:
— Сергей Иосифович просит вас зайти к нему после ужина.
После ужина стук в дверь:
— Сергей Иосифович вас ждет. Мы живем в тридцать третьем номере.
Я пошел и просидел с ним с семи до девяти часов вечера!
Он лежал и читал французский журнал «Экспресс». Снял очки и задал мне вопрос:
— Я слышал, что и у вас в МХАТе запретили пьесу о Ленине, а у меня — фильм «Ленин в Польше»…
И я подробно, со слов Р.А. Сироты, рассказал ему всю историю с пьесой Шатрова и спектаклем Ефремова. И высказал свое мнение:
— Как говорил Сталин, одна ошибка — это одна ошибка, две ошибки — это две ошибки, а три — это уже политическая линия. Думаю, тут дело не в пьесе и не в Шатрове, а в политике: брожение в Польше, угрозы Рейгана, атомная бомба в Китае…
— Да, но вот «Гнездо глухаря» — страшная пьеса, но она идет.
— Это пьеса социально-нравственная, а не политическая, и там нет такой роли…
— Ну, а почему же тогда закрыли «Прощание с Матерой» у Климова? Посмотрели Сизов (директор «Мосфильма». —
В.Д.), Ермаш (председатель Госкомитета СССР по кинематографии. —
В.Д.), и оба заявили, что этот фильм никто не должен видеть. А ведь у Климова уже положили на полку «Агонию»… «Матеру» Климов дал слово закончить после смерти Ларисы Шепитько (трагически погибшая жена Э. Климова, замечательный кинорежиссер. —
В.Д.). Сизов и Ермаш долго отговаривали его от этого. «Тогда я покончу жизнь самоубийством», — сказал Климов. Но эти двое все равно продолжали его уговаривать: «Выздоровеет автор Распутин (его избили из-за джинсов хулиганы. —
В.Д.), вы вместе с ним внесете в фильм все поправки. А постановочные и вы, и группа получите полностью»…
Знаете, у нас с Габриловичем в сценарий «Ленин в Польше» сотрудники Института марксизма-ленинизма внесли три поправки. Но мы все-таки сняли все, что считали нужным. Егоров из ИМЭЛ сказал: «Дайте почитать сценарий, а фильм мы смотреть не будем». Ну, в сценарии мы изменили имя Инессы Арманд, а речь Ленина на французском языке оставили. Он произнес ее на похоронах Лафаргов, она — об азиатской и европейской революциях. Я записал ее в Париже на французском — ее, кстати, бесплатно прочитал французский актер. В Москве Каюров выучил ее наизусть, и я снял два дубля — он произносит ее блестяще. В сценарии, как понимаете, это Егорова не смутило. А в фильме у меня идут титры на фоне зонтиков толпы, слушающей Ленина. И Сизов с Ермашом испугались этого текста, который слушают тысячи людей, как испугался его Жорес и не опубликовал в «Юманите» семьдесят лет назад…
У Ленина был страстный роман с Арманд. Это узнала Крупская и сказала ему: «Ты можешь поступать, как хочешь, я тебя понимаю и прощаю». Он ответил: «Дай мне подумать двадцать четыре часа». И через сутки сказал: «Нет, я буду с тобой». И Арманд уехала в Швейцарию по поручению Ленина…
У меня была снята сцена: вечер на Монмартре, на фоне Сакре Кер, Инесса Арманд разговаривает с русским рабочим, которого она учила французскому языку. Он объяснялся ей в любви по-французски. Она отвечала: «Я ценю ваши успехи во французском языке, но я люблю другого человека, и он меня любит, поэтому я не могу любить вас…» И эту сцену мне тоже запретили…
И еще один разговор с Сергеем Иосифовичем. Он произошел там же — в Доме ветеранов кино в Матвеевском.
— Я старше вас на двадцать лет — это целая эпоха, — говорил мне С.И. Юткевич. — Я видел все революции. Я слышал Блока. Я дружил с Маяковским. Павел Арманд, племянник Инессы Арманд, написал мне для фильма «Человек с ружьем» песню «Тучи над городом…» Я сделал пять фильмов о Ленине. Неужели мой последний фильм («Ленин в Польше». —
В.Д.) никто не увидит и не поговорит о нем со мной?!
Когда не хотели выпускать мой фильм о Маяковском, я написал письмо Брежневу — и его все-таки выпустили, хотя он и шел где-то по задворкам.
— А фильм о Свердлове?
— Я впервые сделал тогда такой ход — начал со смерти Свердлова и все повел от конца к началу. Сталин посмотрел и сказал: «По этому фильму будут изучать историю партии». Поэтому все расписал по главам — «Свердлов в Н. Новгороде» и так далее. Я перемонтировал…
А знаете, в Париже был поставлен «Борис Годунов». Так там на сцене — огромный прозрачный церковный купол, а в нем помещен оркестр, артисты же играют на авансцене. Так что художника Китаева, который сделал для вас макет к «Царю Федору» в виде шапки Мономаха, опередили. А сейчас там идет спектакль, где слева — Ленин в Горках, а справа — Сталин, и все названы по фамилиям — Троцкий, Зиновьев и так далее. Это называется «политическая трагедия»… А вот у нас даже такие невинные веши, как в моем фильме, не разрешают.
— Сергей Иосифович, я все-таки думаю, что это временно. Видимо, власть считает, что сейчас главное — единство в стране, и чтоб не было никакого брожения и самостоятельного размышления по поводу основных идей и линий. Ну представьте, что было бы, если б люди стали всерьез размышлять над тем, что написал, например, Солженицын. Остановилась бы вся работа, всё и вся было бы поставлено под сомнение (я имею в виду «завоевания» идеологические). Как сейчас, к примеру, в Польше: там компартия потеряла не только авторитет, но и власть. Так что, видимо, наши руководители стремятся отвлекать народ от таких опасных для них тем: мол, сейчас надо молча строить будущее и выиграть время для роста экономики. Это главное. И все, что этому, на их взгляд, мешает, они просто сметают. Ведь что говорят наши идеологи? А то, что критиковать недостатки надо, но только так, чтобы это помогало главному — успехам в экономике. А все эти дискуссии, интеллигентские сомнения — разве они этому помогают?.. Я уверен, что так не должно быть. Мне обидно творчество по указке, потому что моя жизнь тогда делается ненужной или прикладной, а не творчески самостоятельной… Жуткое время! И актеров-личностей от этого нет…
— Да… Знаете ли, Владлен, я тоже очень любил Смоктуновского в «Идиоте». Но посмотрел «Царя Федора» и разочаровался в нем.
Тогда я рассказал о Григории Григорьевиче Конском, человеке очень возбудимом, который часто просыпался ночью, мучился бессонницей и просил жену: «Талочка, найди мне «точку»!» Она начинала тихонько ему говорить: «Ты талант, ты режиссер, ты же профессор, ты недооцененный…» Он успокаивался: «Всё, всё… я понял, да, да, все хорошо. Я засыпаю…» И засыпал…
Сергей Иосифович хохотал… Он живо меня слушал, его острые глазки без ресниц цепко ухватывали все, что я говорил, и он шел за мной, ловил мои слова и мысли на ходу… Меня потрясло — 77-летний больной человек благодарил меня за то, что ему «было так безумно интересно со мной говорить»… Но он явно устал от разговора…
На следующий день он опять лежал (поднялось давление). А я пришел ему показать, как Райзман говорил по-французски с Рене Клером (он вообще любил мои рассказы, а про Райзмана особенно…). Сергей Иосифович заканчивал телефонный разговор о том, как перемонтировать какие-то сцены. Потом я стал рассказывать ему биографию и историю Ирины Скобцевой. Она его, видимо, чем-то заинтриговала, хотя он считал ее холодной и бездушной. Говорил о ней и ее муже С. Бондарчуке:
— Они очень подходят друг другу — оба деловые и расчетливые.
Подумав, продолжал:
— Но она — трудяга. Мы как-то ехали в машине в Быстрицу, ее укачало, но потом она сразу же привела себя в порядок и снималась… На роль Дездемоны в «Отелло» я выбрал Добронравову, она была прелестна. А Скобцеву по фото я выбрал на Бианку. Но перед самым отъездом на съемки меня вызвали в партком «Мосфильма» и заявили: «Кого вы собираетесь снимать? Добронравову? Она же была в компании, которая ездила к Александрову (министр культуры СССР. —
В.Д.) на дачу, на его оргии…»
И пришлось брать на эту роль Скобцеву. А когда она приехала с Бондарчуком в одном купе, я понял, что у них уже роман…
Фильм у нас обругали, особенно непримиримы были Захава и Львов-Анохин. А за границей его признали лучшей экранизацией «Отелло». К сожалению, я потерял — оставил в редакции журнала «Искусство кино» — прекрасное письмо Лоуренса Оливье об этом фильме. А Пикассо, этот гений, меня поцеловал после просмотра «Отелло». Фильму дали массу премий — в Каннах, в Токио, в Сирии, в Финляндии, в Мексике…
Я еще до войны хотел снимать этот фильм, в сороковом, с Виктором Бубновым. Потом предложил Охлопкову у него в Театре Маяковского поставить со Свердлиным. Но Охлопков что-то вдруг стал тянуть — то, мол, нет Яго, то еще что-нибудь. На самом же деле он в это время решил ставить в театре «Гамлета». А так как был он заместителем министра культуры, то вызвал меня вдруг и предложил сделать фильм «Отелло». Я пригласил на эту роль Поля Робсона. Он ответил, что польщен и так далее, но правительство Америки не дает ему паспорт…
До этого мне наш посол во Франции Виноградов предложил пост советника по культуре в Париже на два года. Меня вызвали в ЦК, но я отказался, сказал, что как режиссер буду более полезен и для посла — ведь у меня будут развязаны руки. Виноградов обиделся. А меня не выпустили ни в Париж (он, мол, друг Пикассо!), ни в Лондон уже с «Отелло», не хотели пускать и в Италию, сказали, что я там «не так выступил»… А я там и не был… Тогда я пошел в ЦК партии к Поликарпову и рассказал ему, что это все идет от Виноградова, и сказал: «Дядя Митя, что это?»
И все было решено — я поехал в Италию!
А потом я собирался ставить «Идиота» по сценарию Ивана Пырьева. Но министр культуры Михайлов разрешил ставить только одну серию, и я отказался. А Пырьев согласился…
Вообще меня высокое начальство очень и давно не любит. Я в тридцать первом году, после «Встречного», вступал в партию. Был кандидатом до тридцать третьего года. А во время чистки меня вызвали и сказали, что я обманул партию, скрыв свое происхождение, так как мой отец в Петербургском справочнике за тысяча девятьсот семнадцатый год именуется надворным советником. Я уточнил: «Нет, он был коллежским советником» (это выше!). — «Нет, надворным».
И меня исключили. И только в тридцать девятом году, после того, как на экраны вышел мой фильм «Человек с ружьем», я был принят в партию.
А в сорок девятом году опять началось — я попал в космополиты…
А вот Пырьев всегда был для них «свой». И Бондарчук — тоже. А в чем его секрет? Сергей Иосифович улыбнулся:
— Я прочитал — опять «не в нашем» журнале — о том, как про одного французского коммуниста сказал другой, бывший французский коммунист: «Кинозвезды ограничивают себя в питании, чтобы держать линию, а член партии держит ее линию, чтобы не потерять питание»…
И еще: в санатории «Сосны» я слышал разговор двух советских начальников: «Да, понизили его, но от корыта-то не отстранили…»
— Нам не разрешили снимать Ленина в гольфах. Хотя есть такая фотография. А он был обыкновенным человеком. «Но гениальным мыслителем и вождем», — возражали нам.
— А мебельный фабрикант Шмит еще до революции оставил свое состояние большевистской партии. Но его дочь (мать оператора Андриканиса и бабушка актрисы МХАТа Тани Лавровой. —
В.Д.) начала это оспаривать. И, кроме того, в эмиграции долго шла борьба за это наследство между большевиками и меньшевиками (Мартов и др.). И вообще, в эмиграции шли тогда страшные склоки.
Знаете, Владлен, когда шестнадцать лет назад я перенес первый инфаркт, лечившая меня польская врачиха, с которой я говорил только по-французски, сказала мне: «Пан Юткевич, теперь вы, как Эолова арфа, будете откликаться на любое дуновение ветерка…»
Мой последний разговор с С.И. Юткевичем состоялся на улице. Он мне поведал — со слов какого-то генерала, — что в октябре 1941 года вся Москва была заминирована и люди, оставленные для того, чтобы при появлении немцев взорвать Москву, должны были сделать это без всякого приказа. И что когда немецкие разведчики вышли на окраину Москвы, где не увидели ни танков, ни пехоты, они решили, что это ловушка… и ушли назад. А уж только потом были подтянуты к Москве наши части, и танки, и пехота…
Конечно, С.И. Юткевич — один из самых умных, культурных и интеллигентных людей нашего времени в кино.
«Сталин — это Ленин сегодня»
История происходит один раз как трагедия, а другой — как фарс, а я думаю, иногда даже как трагифарс…
Я одно время увлекался книгами об условных рефлексах академика И.П. Павлова. Мой отчим (он был невропатологом) приводил мне пример о рефлексах: если спящему человеку положить на тело холодный компресс и сказать: «Это кипяток», — то у него на этом месте возникнет покраснение, как от ожога. Думаю, нечто подобное происходит порой и в политике, когда целый народ живет как во сне, в эйфории. В этот период народу можно внушить что угодно, так как его разум заторможен, как при гипнозе. Так в Германии Гитлер, а у нас Сталин внушали массам свои идеи. А если находились люди, которые призывали к разуму и пытались «разбудить» других, то их просто уничтожали. Некоторые «во сне» доходили до фанатизма, и это уже был психоз, а не «условный рефлекс». У Льва Толстого в «Воскресении» есть сцена в суде, где товарищ прокурора Бреве произносит свою, казалось бы, нелепую речь — обвинение проститутки Катюши в том, что она обладает «…умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко — богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни…» И, конечно, тут же возникают ассоциации…
Как только стали в России уничтожать церкви и религию, а «без веры жить нельзя», так нам с детских лет начали прививать любовь и уважение к Ленину и Сталину. И вместо «За веру, царя и Отечество!» появился в войну лозунг — «За Родину, за Сталина — вперед!»
Васька Пепел, вор в «На дне» Горького, говорит страннику Луке:
— Старик, зачем ты все врешь?.. Слушай, старик, Бог есть? И тот отвечает:
— Коли веришь, есть; не веришь, нет… Во что веришь, то и есть…
А у Чехова в «Чайке» Нина говорит уж совсем определенно:
— Умей нести свой крест и веруй.
Так вот и мы жили, страдали и верили, что «мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков…» — так говаривал чеховский Вершинин, и так думали мы.
И, конечно, вся советская эпоха и вся наша вера в счастливое будущее и в победу коммунизма — это из области «загадочной русской души» и великий парадокс, «русское чудо» XX века.
С детства я видел в кино и на сцене Ленина и Сталина. Великий артист Борис Щукин и в кинофильмах Михаила Ромма, и в вахтанговском театре в «Человеке с ружьем» был удивительно обаятелен, и такой простой и чудаковатый, что им нельзя было не восхищаться. Это, кстати, Горький, после того, как увидел Щукина в «Егоре Булычеве», сказал, что он должен играть Ленина…
Правда, потом Ленина играли в каждом театре и в каждой республике, к даже во Вьетнаме, куда ездил наш гример делать вьетнамскому артисту грим Ленина.
С детских лет образ Ленина ассоциировался у нас с добрым дедушкой или обаятельным кудрявым мальчиком. Ни у кого и в мыслях не было сомнения в его гениальности и святости.
В 1955 году, когда произошли перемены не только в стране, но и в МХАТе, директором театра стал А.В. Солодовников. А при нем — Коллегия и новый завлит — Е.Д. Сурков. Оба они были довольно известными театральными деятелями и сразу внесли оживление во все сферы МХАТа и прежде всего в репертуар.
Были снова приглашены в театр П.А. Марков и М.О. Кнебель, которые ушли в годы правления М.Н. Кедрова. Вот они-то и решили воссоздать в новой редакции пьесу Н. Погодина «Кремлевские куранты». На роль В.И. Ленина был приглашен Б.А. Смирнов, а на роль И.В. Сталина — Алексей Головин, он уже играл Сталина в спектакле «Юность вождя» в Театре им. Станиславского. Правда, в процессе репетиций Солодовников вдруг предложил Смирнову на неделю «заболеть». Сначала это вызвало общее недоумение, но позже все поняли, что Е.Д. Сурков по каким-то своим «каналам» узнал о готовящихся больших переменах, которые вот-вот произойдут на XX съезде КПСС. И поэтому было решено заранее изъять роль Сталина из спектакля, а его текст в сцене «Кабинет Ленина» передать эксперту, которого играл только что вернувшийся в МХАТ после реабилитации Ю.Э. Кольцов…
А ведь до этого в спектакле «Залп "Авроры"» Сталин даже в мизансцене на лестнице был поставлен на ступеньку выше Ленина… И вообще, в этой пьесе М. Чиаурели и М. Большинцова роль Сталина была ведущей, и он возглавлял всю Октябрьскую революцию… Но это было еще до смерти Сталина. А после его смерти, когда на сцене появлялся В. Квачадзе в роли Сталина, то весь зал молча вставал, а потом вдруг начинал долго аплодировать…
Итак, роль Ленина в «Кремлевских курантах» репетировал Б.А. Смирнов. Этот замечательный артист ленинградской школы был милым человеком, позволявшим себе некоторые алкогольные, скажем так, ошибки… Но после того, как его пригласили в МХАТ для исполнения роли Ленина, эти «ошибки» его сократились, а потом и совсем исчезли. Он вступил в партию, получил звание народного артиста СССР. А уж когда получил Ленинскую премию, то сделался совершенно другим человеком. Стал председателем товарищеского суда в МХАТе. Однажды на собрании его не выдвинули в президиум, и, говорят, он был очень удивлен:
— Меня не выбрали, хотя я играю Ленина…
И вообще казалось, что хоть Ленин умер, но исполнитель его роли-то жив… Как-то раз на репетиции «Третьей Патетической», где я был его партнером, Борис Смирнов нервничал и злился и никак не мог освоить текст. Я ему сказал:
— Боря, что ты переживаешь? Все будет прекрасно — ты же уже играл эту роль. Загримируешься, наденешь галстук в горошек, выйдешь на сцену и… будет опять овация. И я бы мог сыграть эту роль в таком гриме, если бы у меня ноги были короче…
Боже мой! Что было с Борисом Александровичем! Он бросил роль. Стал на меня кричать:
— Как ты можешь так кощунствовать, Владлен? Ты мне больше не друг! — И он убежал с репетиции, а за ним побежала его жена Милица Гавриловна…
Недели две мы с ним не разговаривали. И только потом, когда на спектакле я его поздравил и извинился, мы опять стали друзьями. А когда он получил за исполнение этой роли Ленинскую премию, то решил посоветоваться со мной — как и где устроить банкет. Сперва он хотел позвать весь МХАТ в буфет нижнего фойе театра. Потом как-то «постеснялся своей купеческой замашки» и сказал:
— Я подумал и решил купить шампанского и пригласить после спектакля всех участников в фойе за кулисами.
Но прошло еще какое-то время… Он после спектакля торопился на поезд в Ленинград на съемку вместе с женой и гримером. Я понял, что он едет сниматься в роли Ленина, и опять сострил:
— Увозите Ленина в Разлив?..
Но он уже не обиделся, а только сказал мне:
— Я вернусь через неделю и хочу пригласить тебя и Юру Пузырева (он тоже был его ближайшим партнером в этом спектакле. —
В.Д.) на обед ко мне домой… И обед состоялся.
Так закончились его донкихотские мечты о банкете… Вообще же Борис Александрович был добрейший и милейший и даже наивнейший человек. Перед гастролями МХАТа в США в 1965 году я встретил его около театра. Мы разговорились.
— Вот, Боря. Как прекрасно, что ты едешь в Америку играть Ленина. Это историческое событие. И ведь сам Ленин там не бывал. А ты играл его роль только в Европе.
— Да, да, но я боюсь туда ехать.
— Почему, Боря?
— Но ведь ты знаешь. Там убили Кеннеди…
Пауза. Я не знал, что на это сказать. И вдруг мне пришла идея. Я решил ему подыграть:
— Ну и что же? Ну, выстрелят в тебя в роли Ленина, ну, убьют тебя, но зато эта трагедия останется в истории. А тебя в гриме и костюме Ленина в цинковом гробу самолетом отправят в Москву. Похороны будут на Красной площади. Все Политбюро на трибуне Мавзолея… Траурный марш. Салют. Речи… Съемки телевидения на весь мир…
Борис Александрович слушал молча этот мой трагическо-героический вариант убийства Ленина в Америке. А я со страхом ждал, как он будет на него реагировать — опять обидится, рассердится? Но после паузы Боря с милой своей, извиняющейся улыбкой как-то игриво взглянул на меня и, толкнув меня плечом (так он и на сцене в роли Ленина делал), сказал:
— Владлен, дорогой, я еще пожить хочу!..
В Америку он с «Кремлевскими курантами» поехал и вернулся живым. Я его с этим поздравил, а он мне ответил:
— Но все-таки там была, как считали в театре, провокация. В финале спектакля должна была звучать музыка «Интернационала», а ее долго не давали: кто-то отключил радиозапись. Была пауза, но потом включили…
Я любил Бориса Александровича и как человека, и как актера, начиная с его ролей в Москве в Театре им. Пушкина — в «Тенях», поставленных А.Д. Диким, и особенно в главной роли в «Иванове», в постановке М.О. Кнебель, по совету которой он и был приглашен в МХАТ на роль Ленина в 1955 году. А потом я был на всех репетициях «Братьев Карамазовых» Б.Н. Ливанова, где Смирнов играл роль Ивана Карамазова, а я был его дублером в этой роли и видел весь процесс его работы. У него была своеобразная манера игры. Мне показалось, что она чем-то была похожа на манеру игры Н.К. Симонова — неврастеничная и взрывная, с резкими жестами и такой же нервной рваной речью. Это очень было заразительно. И даже когда Смирнов выступал на собраниях, я не мог его слушать и выходил из зала… Так на меня действовали его нервные и эмоциональные речи…
Финал его жизни в МХАТе был грустный. С приходом Ефремова он не сыграл уже ни одной новой роли. А когда умер, на гражданской панихиде в филиале МХАТа Ефремов сказал, что его исполнение роли Ленина было эталоном…
С единственным и незаменимым исполнителем в течение многих лет роли Сталина Михаилом Георгиевичем Геловани я познакомился только в 1950 году, хотя, когда я пришел после окончания Студии в театр, он еще работал в МХАТе и играл роль Сталина в первой редакции «Кремлевских курантов». Больше он никаких ролей в МХАТе не играл.
В 1950 году он получил четвертую Сталинскую премию за участие в фильме «Падение Берлина». А я получил в этот год тоже Сталинскую премию за участие в фильме «Встреча на Эльбе». По какому-то неписаному правилу лауреаты должны были выступать в разных клубах. И вот меня пригласили в клуб МВД на улице Дзержинского. Туда же приехали еще лауреаты: Б.Ф. Андреев и М.Г. Геловани. Небольшой зал небольшого клуба был переполнен. Первым пошел на сцену, конечно, Геловани. Я не слышал, что он говорил, но его зал встретил… стоя. Потом он пришел в комнату около сцены, где мы сидели за шикарно накрытым столом. А на сцену пошел Борис Андреев. Геловани подошел к столу и предложил мне выпить с ним коньяку, но я сказал, что перед выступлением пить не буду.
— Ну, а я выпью! — Он налил целый фужер коньяку и выпил. Закурил. И сказал мне:
— Извините, что я выпил один. Но у меня сегодня необычайное событие — я получил самую дорогую из всех четырех Сталинских премий. Почему? Сейчас я вам, дорогой мой новый друг, расскажу. — И он налил в фужер еще коньяку и, немного отпив, рассказал мне о своих переживаниях:
— Я три года не снимался в кино в роли Сталина. А играл эту роль Алексей Денисович Дикий — в «Александре Матросове», и в «Третьем ударе», и в «Сталинградской битве». Последний фильм снимал мой родственник Владимир Михайлович Петров.
Геловани еще отпил коньяку.
— И я понял, что уж если Петров меня не снимает в этой роли, значит, это уже идет решение сверху. Когда мой друг Михаил Эдишерович Чиаурели после «Клятвы» начал готовиться к съемкам своего нового фильма «Падение Берлина», я ждал, пригласит ли он меня в этот фильм?
Геловани допил коньяк и продолжал:
— У меня было тяжелое ожидание… В столе у меня лежал револьвер, и если бы Чиаурели не пригласил меня, то я готов был застрелиться… Ведь это был бы для меня конец… Значит, сам Иосиф Виссарионович не хочет, чтобы я играл его… Вот поэтому эта Сталинская премия для меня самая дорогая… Меня Чиаурели взял с собой на дачу к Сталину после просмотра фильма. При входе меня первый встретил Лаврентий Берия и сказал: «Благодари меня — это я все сделал и спас тебя». Вот такая была со мной история…
Я был ошеломлен его откровенностью и самим рассказом. Борис Андреев закончил выступление, мне надо было идти на сцену. Геловани мне сказал:
— Идите на сцену, а я вас подожду здесь.
Меня очень взволновал его рассказ, но я еще и за себя волновался и после всех выступал как-то без радости…
Когда я вернулся со сцены, то в комнате уже никого не было, а на столе стояла бутылка из-под коньяка и шампанское, которое я никогда не пью… Мне дали машину, и я уехал домой.
Потом я долго не встречался с Геловани. Только однажды произошел пикантный случай, когда я с театральной делегацией от ВТО приехал в Ростов-на-Дону на открытие Дома актера. В гостинице мне сказали, что я буду жить в номере вместе с Геловани. Я ответил, что очень этому рад. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это не Михаил Георгиевич, а его… жена — певица (!). Конечно, мне дали другой номер. А вот весной в 1956 году я случайно встретил Геловани у служебного входа в Театр киноактера на улице Воровского. Он выходил из театра, а я шел на примерку к портному И.С. Затирке. Геловани радостно со мной поздоровался и смущенно сказал:
— Вот, пришел за зарплатой. Ничего не играю, а занимаюсь только общественной работой.
Я осторожно стал говорить ему, что, вот, все мы потрясены письмом о «культе личности», которое нам зачитали на закрытом партсобрании… Он мне на это деликатно ответил со сталинским акцентом:
— Есть такая пословица: не верь написанному!
А зимой в том же 1956 году, 21 декабря (в день рождения Сталина), он в возрасте 63-х лет неожиданно умер… Что это? Роковое совпадение? В год XX съезда КПСС и в день рождения развенчанного вождя, роль которого он играл тринадцать лет…
Потом говорили, что это Берия был против того, чтобы Геловани играл в «Падении Берлина». Но сам-то Берия сказал Геловани, что он его спас… Вот так!
А в 1968 году, когда я снимался в фильме Юрия Озерова «Освобождение», где играл роль Рокоссовского, я познакомился и даже подружился с другим исполнителем роли Сталина — с Бухути Александровичем Закариадзе. У меня была с ним только одна-единственная сцена в серии «Направление главного удара».
…Кабинет Сталина. Идет обсуждение, где наносить главный удар в летней кампании 1944 года. Это была, пожалуй, самая драматическая, кульминационная сцена, и не только в этой серии. Сперва мы в комнате, где отдыхали артисты (Боголюбов — Ворошилов, Шукшин — Конев, Ульянов — Жуков, Буренков — Василевский и, конечно, Закариадзе — Сталин), почитали эту сцену. Текст был только у меня, Ульянова и Буренкова. Боголюбов вообще ничего не говорил и лежал на диване. Потом все куда-то до съемки разошлись, и мы остались с Бухути вдвоем. Он стал рассказывать мне, что вчера на съемке у него был конфликт с Ульяновым и Озеровым, который его обидел тем, что вдруг сказал ему: «Раз вы меня не понимаете, надо пригласить на съемку переводчика».
— А Ульянов мне говорит, что «вы же не Сталин, а Бухути». А сам так разговаривает, как Жуков бы не мог говорить со Сталиным.
Одним словом, Бухути был обижен:
— Я же снимаюсь не из-за денег, я свои деньги доплачиваю в гостинице «Россия» за люкс, и там я устроил банкет. Я очень уважаю и Юрия Николаевича, и Михаила Александровича, а они вот так со мной… А я же готовлюсь к съемкам, вот в самолете учил текст и проверял, как надо говорить по-русски слова, а мне предлагают переводчика…
Тут нас позвали в павильон, в «кабинет Сталина». Пришел на съемку главный консультант фильма генерал армии Штеменко. Он обошел весь «кабинет» и сказал:
— Да, да, все точно. Много было в этом кабинете разных событий и переживаний…
Свет был поставлен и требовались репетиции, так как снималась длинная панорама — 150 метров. Игорь Слабневич, оператор, не мучил нас, а очень быстро проехал с актерами всю панораму. Прошли несколько раз сцену с текстом. Начали снимать. Первый дубль. Сцена длинная. Сталин недоволен предложением Рокоссовского наносить главный удар через Полесские болота на Бобруйск и отправляет его:
— Пойдите в другую комнату и продумайте получше свои предложения.
Рокоссовский в своих мемуарах писал, что Сталин его выгонял «подумать» три раза! Это же не школьника выгоняют из класса — это Сталин выгоняет маршала!..
А пока продолжается совещание, и Жуков поддерживает предложение Рокоссовского.
После доклада Жукова Сталин говорит:
— А теперь пригласите Рокоссовского. — И встает маршалу навстречу со словами: — Так где же вы будете наносить главный удар, товарищ Рокоссовский?
От этого ответа зависело не только направление главного удара в последний год войны, но и судьба самого Рокоссовского! И Рокоссовский опять тверд в своем решении и повторяет тот же ответ! Тогда Сталин, через паузу, отходя к своему креслу, говорит:
— Настойчивость командующего фронтом доказывает, что операция хорошо подготовлена. Давайте вашу карту, товарищ Рокоссовский!
И подписывает: «Утверждаю. И. Сталин». И все!
Но эту сцену снимали очень-очень долго — дублей шесть-семь! Дело в том, что Бухути, видимо, как всегда, волновался так, что путал текст и плохо выговаривал слова, хотя ему в конце концов написали текст на столе крупными буквами. Вместо слов «тщательно подготовлена» он говорил «чачельно приготовлена»…
— Да нет, Бухути Александрович, не чачельно, а тщательно, и подготовлена, а не приготовлена, приготовлено бывает сациви, — вежливо поправлял его на третьем дубле режиссер Ю. Озеров. Еще из-за света что-то не получилось, а потом и еще что-то…
Наконец Бухути решил говорить не «подготовлена», а «продумана». И все идет хорошо… 100 метров… 120 метров…
Прекрасно идет сцена, все довольны… 140 метров… И вдруг в финале Бухути говорит: «Давайте вашу карту, товарищ Жуков», а не «товарищ Рокоссовский»… А ведь это панорама 150 метров!.. Тут уже у всех начался нервный злой смех.
Мне было до слез жалко Бухути; он, добродушный, милый человек, чуть не плакал… Но как-то все-таки сняли эту сцену. Была уже ночь, и мы пошли с ним по длинным коридорам «Мосфильма» разгримировываться и переодеваться. И вдруг встретили Н. Засухина в гриме Ленина (он уже тогда и в МХАТе играл Ленина). Он шел на съемку. Я с восторгом заявил:
— Вот, наконец-то вы снова встретились! Ах, жаль, нет фотоаппарата!
Мы пошли дальше. Проходя мимо зала, где собралось много солдат, участвовавших в массовке, мы услышали, как офицер, увидевший «живого Сталина», вдруг дал команду:
— Смирно! Товарищу Сталину ура!
И весь зал прокричал трижды:
— Ура! Ура! Ура!
На это Бухути смущенно сказал мне:
— А вчера одна простая женщина, когда увидела меня в этом гриме, то упала передо мной на колени со словами «Как нам не хватает вас сейчас, товарищ Сталин!»
…Когда мы уже разгримировались и переодевались, Бухути Александрович рассказал мне о том, как съемки шли в Кремле и во время перерыва он собрался в гриме пойти на обед. (Ведь его грим делался несколько часов, и он поэтому весь день, а порой и ночью, не разгримировывался…) По дороге его встретил, по выражению Бухути, какой-то секретарь и сказал ему:
— Товарищ Закариадзе, давайте поедем с вами на моей машине на Арбат. Там в переулке живет Хрущев. Вы сядете впереди, и когда Хрущев выйдет из подъезда и пойдет в пивную, то вы только высуньтесь из машины и поманите его пальчиком к себе… Вот так. И мы уедем!
— Но я, конечно, не поехал, а пошел в в столовую обедать.
Можно себе представить, какой переполох был, когда он в гриме Сталина шел по Кремлю.
Потом с Бухути Александровичем мы встречались редко. Он был занят в сценах, где я не участвовал. Но когда он приезжал в Москву, то мы иногда с ним разговаривали по телефону. А однажды рано кончилась съемка и до отлета в Тбилиси он вместе со своим грузинским другом заехал ко мне домой. Мы, как всегда, дружески беседовали за рюмкой чачи. Бухути интересно и с юмором рассказывал разные истории, которые с ним происходили во время съемок «Освобождения». У него было обаятельная детская душа, вкусная улыбка и неторопливая, мягкая речь.
Он рассказал, как попал в этот фильм. Дело в том, что пробовался на роль Сталина его брат — знаменитый после фильма «Отец солдата» Серго Закариадзе. Но после пробы все увидели, что его лицо трудно загримировать для роли Сталина. Тогда кто-то посоветовал пригласить на пробу его брата — артиста того же тбилисского театра им. Руставели, Бухути. Позвонили ему, и он согласился приехать при условии, что телеграмма с вызовом на пробы будет не от «Мосфильма», а от другой киностудии и не на эту роль:
— Чтобы не узнал об этом брат Серго.
Так и сделали. Бухути приехал на «Мосфильм», проба оказалась удачной, и его утвердили на роль.
— Когда я вернулся в Тбилиси, пришел в театр и проходил мимо Серго, то он плюнул мне в лицо и отвернулся от меня. Значит, он уже узнал, зачем я ездил в Москву. Да, вот это, как у вас говорится, шерше ля фам: жены наши обменялись новостями…
Рассказывал все это Бухути, улыбаясь, с длинными паузами, как бы снова проживая все эти события. И еще один рассказ наивностью и искренностью его натуры меня восхитил.
— На съемках «Освобождения» я подружился с Муссолини. Да, да, с Муссолини, которого играл итальянский артист Ивво Гаррани. Я пригласил его в Грузию. Показал ему свою родину. И он был очень, очень доволен и обещал меня пригласить в Италию: «Я тебе покажу Рим, Венецию, мы с тобой поедем в Париж, потом в Мадрид. Ты увидишь, как там на арене быка дразнят красной тряпкой» — «Ну-у, как это?» — «Да, корриду. Я пришлю тебе приглашение». И он прислал мне визов. Нет, не визу, а визов. Я пошел с этой бумагой куда надо. Мне сказали: «Бухути, надо тебе идти више, да, више, к начальству». Я пошел више, и там мне говорят: «Слушай, Бухути, зачем тебе ехать в Италию, ты же грузин — воздержись!» Ну, вот я и воздержался, не поехал…
Рассказывал он с грустным юмором и иронией, понимая всю нелепость этой истории… Но ведь все это было еще до перестройки, и тогда даже на премьеру фильма «Освобождение» в нашей стране, и уж тем более за рубеж не приглашали ни Бухути Закариадзе, ни не менее замечательного немецкого актера Фрица Дица — ведь они играли Сталина и Гитлера…
В последний раз мы встретились с Бухути в Тбилиси. Я приехал на несколько дней для съемки в фильме «Семнадцать мгновений весны» — там мы снимались с Р.Я. Пляттом в сцене «Швейцария». Я тут же позвонил Бухути. Мы договорились встретиться. «Только после съемки», — предупредил я, так как знал, что наша встреча может «затянуться», а я приехал все-таки сниматься. Но после этого разговора у меня состоялась встреча с Валико Квачадзе, который когда-то играл у нас в театре роль Сталина в спектакле «Залп "Авроры"». И хотя он потом играл и другие роли, например, в спектакле М.Н. Кедрова «Зимняя сказка» (ее актеры у нас называли «Зимняя спячка»: репетиции этой пьесы В. Шекспира шли несколько лет), но карьера В. Квачадзе в МХАТе оборвалась после XX съезда партии. Хотя он был хороший артист и загадочный мужчина и имел большой успех у женщин…
Так вот, после съемки Валико пригласил меня, Ростислава Яновича Плятта и Славу Тихонова в какой-то уютный ресторан на горе, в отдельную комнату. Это был удивительно веселый и интересный вечер. Все мы актеры, и от рассказов друг друга завелись и были в ударе. Но, конечно, лидером был неутомимый рассказчик и юморист Плятт. А главное, пили мы осторожно и мало: ведь утром опять должна была быть съемка. Но все равно от этой дружеской атмосферы рождалось особое вдохновение, похожее на опьянение. Незабываемый, счастливый вечер, и мы благодарили за это Валико — он умел «гулять»…
Ну, а с Бухути мы все-таки встретились. Правда, он был какой-то грустный, озабоченный. Я спросил, как в Грузии его принимали после роли Сталина?
— Одни хвалили — шестьдесят процентов, а другие, сорок процентов, ругали, говорили: «Бухути, зачем ты это сделал?!»
И еще, еще о его обидах, о квартирных делах и о многом другом… Когда я уже лег спать, ко мне в номер кто-то постучал…
— Кто это?
— Это я, Бухути, открой мне, Владлен.
Я открыл. И Бухути, извиняясь, деликатно попросил у меня 25 рублей до утра:
— Я рядом в номере играю в карты с Валико, и я проигрался в пух и прах, мне надо срочно двадцать пять рублей…
Я знал еще в Москве, что Валико — азартный игрок, и конечно, тут же дал Бухути «до утра» 25 рублей, чтобы он отыгрался.
Утром рано раздался телефонный звонок:
— Это я, Бухути. Владлен, пойдем хаши есть. Я сейчас зайду за тобой. И мне надо кое-что тебе отдать.
— Какую кашу? Я еще сплю, сейчас шесть часов утра!
— Нет, Владлен, сейчас у нас уже восемь часов. Это в Москве шесть часов. И не кашу, а хаши, хаши.
— Хорошо, приходи, но только через полчаса — я встану, побреюсь, помоюсь…
И он пришел, пришел, конечно, раньше и принес мне мои же 25 рублей — свернутую в трубочку и еще влажную банкноту.
— Вот тебе с благодарностью. Эту бумажку я держал все время в руке, и она принесла мне счастье, я не только отыгрался, но и кое-что выиграл… Пойдем завтракать в лучший ресторан Тбилиси.
Мы пошли по проспекту Руставели, зашли в фотоателье и снялись на память.
Ресторан, конечно, был еще закрыт. Но Бухути открыли дверь, накрыли стол, принесли эту «кашу» — хаши, вино и коньяк.
Я сказал:
— В семь часов утра я еще никогда не пил.
— Но сейчас ведь у нас уже девять часов утра…
Это была последняя наша встреча с Бухути Александровичем Закариадзе — замечательно добрым и чистым человеком. Потом я получил от него письмо с нашей утренней фотографией и с такой надписью: «На память Владлену от Бухути. Тбилиси 1969 г.»
Самое удивительное, что, когда я был с МХАТом на гастролях в Берлине, то встретился с артистом Фрицем Дицем, который играл другого «злодея XX века» — Гитлера. Он оказался тоже удивительно обаятельным и добрым человеком. Пригласил меня к себе домой, а я пришел к нему вместе с Женей Евстигнеевым, который очень захотел с ним познакомиться. Он нас вместе со своей женой доброй
Мартой замечательно встретил. И позвал корреспондентку журнала — она нам переводила, фотографировала нас и потом написала статью об этой дружеской встрече. А Фриц, как бы оправдываясь, рассказал нам, как и почему он решил сниматься в роли Гитлера, «этого злодея всех времен, этого негодяя, который стал позором для Германии».
— Я сперва отказался, ведь я — коммунист и всю войну был в эмиграции в Швейцарии. Но потом я пошел на это, как на партийное задание, и решил сниматься в роли Гитлера…
Фриц Диц, конечно, потрясающе, со всем своим темпераментом сыграл эту роль, не утрируя, а с таким же дьявольским обаянием, какое было у самого Гитлера. Жаль только, что его почему-то утрированно озвучивал наш Карапетян…
Конечно, знакомство и дружеские отношения с этими разными артистами — с Валико Квачадзе. Б.А. Смирновым, Б.А. Закариадзе. М.П. Геловани и Фрицем Диком — очень много значили в моей жизни. Я увидел, как эти роли влияли на их характеры и судьбы. Ведь их жизни и судьбы были связаны с валетами и падениями их героев. Они как бы на себе испытали и пережили разное отношение и к Ленину, и к Сталину, да и к Гитлеру… Страшные парадоксы были в невероятном XX веке!
Да и все мы по-своему пережили это трагическое время и все его психологические и физические «перегрузки», и «невесомости», и «вхождение в плотные слои атмосферы»… И все это происходило со всей нашей страной, с нашим народом, и с Художественным театром, и с советским кинематографом. А дело было в том. что «мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе!»… Это написал в своем «Слове к товарищу Сталину» известный поэт Михаил Исаковский, а потом к этим стихам А. Свешников написал еще и музыку.
Воистину — «Не сотвори себе кумира, и всякого подобия…»
М.Э. Чиаурели
В марте 1965 года в Тбилиси я снимался в фильме «Чрезвычайное поручение» в роли Степана Шаумяна.
Когда мне ночью в Москве позвонили с предложением сыграть эту роль, я решил, что это розыгрыш:
— Ведь Шаумян был армянином.
— Да, у него были черные волосы, но глаза голубые.
— Похож ли я?
— Мы купили ваше фото и загримировали вас — похож!
Но я все же сомневался, лететь ли мне в Тбилиси, и почему в Тбилиси, если это «Арменфильм»?
— Вышлите мне деньги и телеграмму с вызовом на съемки.
— Да мы не успеем!
— Тогда позвоните через два-три дня — я дам ответ. Кстати, почему вы звоните из Тбилиси, а не из Еревана?
— Мы тут снимаем натуру.
— Хорошо. Звоните…
Позвонили.
Я прилетел в Тбилиси. Гримировали меня часа четыре — я терпеливо сидел в кресле. Подходили режиссеры, оператор, что-то говорили по-армянски и уходили. Так было раза три. Потом опять подошли, пошумели-пошумели и вдруг радостно закричали:
— Похож! Похож!
И повели меня в павильон.
Снимался долго, утомительно, с утра до ночи — три дня. К вечеру уставал так, что не мог стоять. Уходил во двор киностудии и ложился на скамейку, на час-два между сменами. И однажды увидел М.Э. Чиаурели. Он распростер объятья:
— Дорогой мой друг Владлен! Милый мой! Здравствуй, душа моя!
Пиджак на нем висел — он похудел, постарел. На пиджаке была как-то боком пришпилена, словно булавка, колодка двух орденов Ленина.
Мы обнялись, стали вспоминать прошлое: как он хотел снимать фильм «Евгений Онегин», а меня пригласить на главную роль; как это почему-то не сложилось…
Потом были общие слова: как живешь, что делаешь, что играешь в театре и в кино?
Он отвечал мне как-то неопределенно.
Попозже, во время дневного перерыва, я иду по коридору и вижу на одной из дверей студии надпись: «Режиссер-постановщик М.Э. Чиаурели».
Но я сам видел: в коридоре на одной из дверей висела табличка: «Иные нынче времена» — кинокомедия. Режиссер-постановщик — народный артист СССР М.Э. Чиаурели». Какой парадокс! Александров и Пырьев начинали с кинокомедий, а он — сам Чиаурели, бог и гроза, автор эпических фильмов о Сталине — заканчивает комедией… да еще под названием «Иные нынче времена»…
Поездки. Встречи. Друзья
О городах людях
Профессия актера кино и театра открыла для меня всю нашу страну и почти весь мир. И как турист, и как участник гастролей Художественного театра я побывал почти во всех странах Европы и даже дважды в Японии и не однажды в Америке. А вот как киноартист, участник киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение», где я сыграл роль маршала Рокоссовского, я побывал на международных премьерах и в Канаде, и в Бразилии, и на Кубе, и в Марокко, и в Голландии, и в Лондоне.
И все-таки моей первой любовью была и остается Франция, Париж, где мне посчастливилось побывать пять раз. Правда, моя первая поездка во Францию с киноделегацией в 1955 году закончилась приговором: «Невыездной!» (Об этом я написал отдельно.) И второй раз я побывал в Париже только через 15 лет, а потом еще через 10… Есть на эту тему анекдот. Когда в 25 лет молодой человек побывал в Париже, то восхитился тем, «какие там очаровательные женщины»! Потом, побывав в Париже в 50 лет, воскликнул: «О-о, какая чудесная французская кухня!» А уже в 75 лет его там восхитили «отапливающиеся ватерклозеты»… А меня и в первый, и в последний раз восхищали музей Родена, легендарный Монмартр, конечно, импрессионисты и Лувр. Дыхание поэзии и истории завораживает на всех улицах, и только новый район города — «Дефанс» — не имеет ничего общего с моим любимым Парижем.
Конечно, и Лондон, в котором я побывал несколько раз, не меньше, чем Париж, напоминает о великих событиях европейской истории. В Лондоне на премьеру «Освобождения» пришла (вернее, ее привезли в кресле) сестра Локкарта — это уж совсем живая свидетельница.
И встречи с русскими эмигрантами — то в небольшом ресторанчике «Арбат» в Париже, то в ресторане «Этуаль де Моску» с Виктором Новским или с Аликом Московичем, то в магазине «Имка-Пресс» с потомками Н. Струве, а то просто с благородным седым господином — шофером такси, у которого, как и у всех эмигрантов, удивительно красивая, благородная, чистая русская речь, не говоря уже о вежливости и элегантных манерах. И каждый раз это живое дыхание Серебряного века России меня волнует, как волнует мир песен А.Н. Вертинского
Сейчас уже нет строгого подхода ко всем, кто едет за рубеж, и не нужны характеристики — ручательства «треугольника». Но тогда, лет 35 тому назад, беседы и инструкции, «как вести себя советскому человеку за границей», были вроде какого-то экзамена. Приходилось отвечать на демагогические вопросы и подписывать какие-то почти клятвенные обещания. А то еще нужны были справки о здоровье с печатью и даже справка из психиатрического диспансера о том, что я не состою там на учете… Однажды я пришел в такой диспансер, а там весь коридор был забит посетителями. Я торопился и попросил разрешения пройти без очереди, и кто-то согласился, а кто-то набросился на меня с воплями… И я в сердцах сказал: «Да тут из здорового человека могут сделать больного!» На что один из агрессивных «очередистов» мне бросил: «А если ты здоровый, то зачем сюда пришел?!» Ну, как говорится, крыть было нечем… Однако справку я все-таки получил. Этой справки мне хватило лет на 20.
Надо сказать, что фильм «Освобождение» тогда, в 70-е годы, везде проходил с громадным успехом. И я благодарен прежде всего моему другу, замечательному режиссеру Юрию Озерову, что он включал меня почти во все такие премьерные поездки. Артистов — исполнителей главных исторических ролей, Сталина и Гитлера, брать на премьеры считалось бы грубейшей политической ошибкой, герой фильма Николай Олялин был тогда почему-то вообще невыездной, а Ульянов — исполнитель роли маршала Жукова — почти никогда не мог оторваться от театра. Дальше шел, конечно, Рокоссовский. Вот я и ездил с Ю. Озеровым и Ларисой Голубкиной по всем загранпремьерам.
Однажды, весной 1971 г., мне совершенно неожиданно позвонили из Госкино с предложением поехать в Марокко в качестве руководителя делегации, т. к. никто из участников «Освобождения» поехать не мог. Я испугался: как — руководителем делегации?! А каков ее состав? И смогу ли я исполнять эту «роль»? Но меня успокоили: «Делегация небольшая, вы и актриса Людмила Максакова, там будет и фильм с ее участием — «Конец "Сатурна"». Вас встретит и будет там сопровождать представитель «Совэкспорт-фильма» — так что не волнуйтесь». Я согласился. И, как всегда, стал готовиться к поездке: достал из своего архива путеводители, карты городов — Рабата, Марракеша, Касабланки и даже Танжера. А потом вспомнил, что Игорь Константинович Алексеев (сын К.С. Станиславского), с которым у нас дружеские отношения, долго жил в Марокко. Он мне говорил, что у него там даже была земля и он занимался сельским хозяйством со своей женой — внучкой Льва Толстого. Я позвонил ему, и мы с ним встретились в МХАТе. Дежурная открыла нам гримерную К.С. Станиславского, и Игорь Константинович сел на диванчик точно в такой же позе, как К.С. на картине художника Ульянова, и был он в этот момент безумно похож на своего гениального отца… Он принес мне свой марокканский архив — карты, путеводители и справочники. А главное, показал мне на карте, где у него была земля. И назвал фамилии своих знакомых, которым хотел бы передать приветы, — это Петя Шереметев и балерина Старк.
Конечно, мне и самому было интересно встретиться с одним из последних Шереметевых и его женой Левшиной (по Левшинскому переулку я ходил в школу). И эта встреча состоялась с помощью корреспондента «Правды», который мне сказал: «Я давно хотел с ним встретиться, но не было повода, а вот теперь есть». Адрес Шереметева ему был известен, я позвонил Петру Петровичу, и он назначил день и час встречи.
Он жил в центре Рабата, в большом доме, на первом этаже. Нас с корреспондентом встретила жена Петра Петровича — милая русская женщина. «Муж сейчас придет…» А пока я рассматривал большую комнату, довольно пустынную. По стенам висели фотографии и репродукции картин. Я впервые увидел фотографию Николая II — в егерской поддевке, на охоте. И его репинский портрет. Вообще же в комнате — никакой роскоши: все очень просто, немного патриархально, с русским духом от лампадок и икон.
Пришел Петр Петрович — небольшого роста, коренастый, с низким голосом и какой-то особой дикцией и манерой говорить. Мы преподнесли хозяевам русские сувениры. Сели за чайный стол с электросамоваром. Я передал приветы от Игоря Константиновича. «Балерина Старк очень плоха, и с ней трудно связаться», — сказал, слегка картавя, Петр Петрович. Я упомянул, что мы прилетели в Рабат с Шереметьевского аэродрома. «Нет, наше имение было не там, в другом месте». «В вашем имении Михайловском теперь Дом отдыха, — сказал мой корреспондент. — Вот, можете приехать туда отдохнуть». — «Не-ет, не хочу, так как боюсь, что мой отдых может неожиданно затянуться… Вот моя жена была несколько дней в Москве и хочет еще поехать…»
Разговор получился не очень интересный, и мы вскоре откланялись.
В Рабате состоялся прием у советского посла Паламарчука. Он на рыбалке наловил больше всех рыбы и должен был поэтому пригласить всех участников рыбалки — брата короля Марокко, послов США и Франции, ну, и нас с Людой Максаковой. Гости устроились за двумя круглыми столами. Людмила сидела между послами и блестяще переводила то с английского, то с французского и, конечно, очаровала всех. Они с трудом поверили, что она не переводчица, а актриса знаменитого театра им. Евг. Вахтангова…
Удивительно экзотическое впечатление производил рабатский базар (и такой же потом в Танжере), где шныряли воришки и нахально лазали по моим карманам, но денег там не было… А сопровождавший нас продюсер подарил мне настоящую красную феску с кисточкой. Но мне хотелось скорее поехать в Марракеш. Неподалеку от него находилась земля, принадлежавшая когда-то Игорю Константиновичу, — он даже отметил мне это место на карте.
Но сначала мы заехали в Касабланку — город с современными высокими белыми домами, роскошными гостиницами и красивыми садиками около домов. Ну, а Марракеш — это опять арабская экзотика и даже езда на верблюде… Дорога туда была пустынная, а земля почему-то красная. И вот у того места, где на моей карте стоял крестик, я попросил остановиться. Вышел из машины и в железную баночку из-под леденцов насыпал этой красной земли, чтобы привезти ее в подарок Игорю Константиновичу. И как я был счастлив, когда потом в Москве увидел, сколько радости ему доставил не только приветами от друзей, но и привезенной мною его землей. А мне в Рабате молодой марокканец подарил кинжал. «Это как другу вам, — сказал он мне. — Я учился в Москве, во ВГИКе, у Владимира Вячеславовича Белокурова…»
После Марокко на меня большое впечатление произвели Бразилия и, конечно, Рио-де-Жанейро! Как с юмором сказал мне Олег Стриженов: «Владлен, Остап Бендер только мечтал попасть в Рио-де-Жанейро, а ты там был две недели, счастливец!» Да. Это город-карнавал, необыкновенное, яркое зрелище. А такой широкой набережной с роскошными пляжами и отелями прямо на берегу я нигде не видел.
Мне очень хотелось посмотреть новую столицу Бразилии — но это оказался мертвый каменный город в пустыне, правда, с оригинальной декоративно-тетральной архитектурой О. Нимейера. Почему? Зачем? Зато в центре страны. Как не похож этот холодный город на красавец Рио с его белым Христом, что стоит, распростерши руки, на высокой горе…
Нашу делегацию во главе с Ю.Н. Озеровым в Бразилии принимала фирма «Коламбия-пикчерз». Это была одна из самых незабываемых поездок, потому что наш фильм «Освобождение» произвел у тамошних (бразильских) зрителей переворот в их представлении о Второй мировой войне. Кстати сказать, даже в США далеко не вся молодежь знает, кто с кем воевал…
Пожалуй, только одно событие несколько омрачило наше пребывание в Бразилии. Молодой сотрудник посольства, который был у нас переводчиком, вдруг пропал. Потом выяснилось, что он сидел в полицейском участке за какие-то провинности. А нам как раз надо было идти на самый важный прием — к хозяевам фирмы, которые и пригласили нас на премьеру фильма! И нашим переводчиком стал посол — Сергей Сергеевич Михайлов. Глава фирмы был просто потрясен: «Меня впервые переводил посол такой великой державы!» С.С. Михайлов, прекрасный, обаятельный человек, был очень добр и внимателен к нашей делегации.
А перед отъездом в Бразилию я зашел к знаменитому портному Исааку Соломоновичу Затирке — он наконец закончил шить мне новый костюм. Когда он узнал, куда мы опять с Юрием Озеровым едем, он меня усадил у стола и сказал: «Мадлена (так он меня почему-то называл), я хочу вам рассказать грустную историю из моей жизни…» И стал подробно рассказывать, как в 1909 году он из Луцка приехал в Одессу, а его брат с родителями уехал в Бразилию. Они много лет ничего не знали друг о друге. И вот в Одессе кто-то получил письмо из Бразилии, где просили узнать у соседей Затирки — не тот ли это Затирка, у которого брат живет в Сан-Паулу? Так они с братом стали переписываться. И однажды брат решил навестить Исаака Соломоновича в Москве. Он приехал. Они встретились через 60 лет после расставания. Исаак Соломонович сказал брату, что работает художником на «Мосфильме», и повел его в Дом кино. Но там при входе контролерша вдруг останавливает их и говорит: «Исаак Соломонович, я распорола свою шубу. Что мне с ней делать?» Брат удивился: «Что это она спрашивает тебя, Исаак?» — «Ох, не обращай внимания. Это глупая женщина. А вон идет знаменитый режиссер Райзман — сын портного…» И вдруг Ю.Я. Райзман подходит и спрашивает: «Исаак Соломонович, когда мне наконец прийти на примерку?» — «Приходите в понедельник, или нет, лучше позвоните в среду». Брат опять спрашивает: «Что это они? Ты кем работаешь?..» — «Вот, Мадлена, вы понимаете, что я не мог сказать брату, что я простой портняжка. А он ведь богатый человек!» — сказал со слезами Исаак Соломонович. И попросил меня в Бразилии навестить его брата и посмотреть, как он там живет: «Ведь там уже больше тридцати Затирок…» Потом он пояснил мне: «Я ни самолетом, ни пароходом ехать не могу — сердце». И вдруг спросил с надеждой: «А сухопутным путем туда ехать можно?» Ну, что я мог на это ответить…
Конечно, в Сан-Паулу мы с Юрой Озеровым сходили в дом его брата, познакомились с его семьей, но брат почему-то не стал с нами встречаться, ушел из дома… Боялся, что ли? Это был 1971 год.
А вот на Кубе мы были окружены дружеским вниманием. К нам там были внимательны не только посольские товарищи, но и сами кубинцы, и кубинские власти — Рауль Кастро и министр Гевара. Рауль Кастро сказал: «Мы показываем ваш фильм нашим воинам как учебное пособие». Слышать это, конечно, было приятно. Но нас тогда просто поразила жуткая нищета этой красивой страны.
А они часто повторяли слово «революсьон» и с гордостью показывали казарму, со штурма которой началась их героическая революция.
Но самое сильное и незабываемое впечатление на меня произвел дом Э. Хемингуэя, в котором теперь музей. Казалось, хозяин только что вышел из этого дома. Светлая гостиная с креслами и широкими диванами. Столовая с длинным столом и массой бутылок. Спальная комната с большой кроватью-тахтой, и тут же — высокая конторка, за которой рано утром, стоя, работал Хемингуэй. И масса книг, книги и на этажерке, и даже… в уборной.
Нам позволили подняться по лесенке на невысокую башенку — место уединения хозяина. Здесь было множество фотографий женщин — на стенах, на столе… но больше всего фотографий актрисы Ингрид Бергман.
Я храню факсимильный автограф великого писателя и большой листок кокосового дерева, на котором написал: «Дом Хемингуэя. Куба. 6 ноября 1970 г.».
С неизменным успехом прошел показ фильма «Освобождение» и в Канаде — в Оттаве, Торонто и Монреале. Там я впервые увидел фильм «Крестный отец» с великим Марлоном Брандо. В Канаду мы поехали с актрисой Ириной Купченко под руководством украинского «писменника» Василя Большака. И, видимо, это «руководство» было не случайным, так как в Канаде мы побывали в двух разных украинских общинах — «Тарас Шевченко» и «Киев». Они явно соперничали. Но принимали нас в обоих «лагерях» с радостью и общались с Ириной Купченко и Василем Большаком на своем родном языке. Ну и, конечно, фильм о Великой Отечественной войне их взволновал до слез.
В 1958 году МХАТ под руководством директора А.В. Солодовникова выехал на гастроли в Лондон и Париж. Это были первые после Парижа в 1937 году гастроли в капстраны. В Лондоне МХАТ вообще побывал впервые за всю свою 60-летнюю историю.
После триумфальных гастролей «Большого балета» англичане с громадным интересом ждали Художественный театр. Прием был восторженный.
Позже, по окончании всех этих зарубежных гастролей, в фойе МХАТа устроили выставку. Висела карта мира, на которой стрелками были указаны страны и города, где побывал Художественный театр. А в окнах-витринах, выходящих на улицу, появились фотографии. На одной из них возле могилы Карла Маркса (посещение его могилы с цветами было для советских людей священным долгом!) среди всех участников лондонских гастролей я вдруг увидел незнакомое лицо с явно нарисованными усами и бородой… Что это? Кто это? Потом мне объяснили, что это — «сопровождающее лицо» театра. Это был «куратор» МХАТа, которого на фото так «замаскировали». Кстати, однажды он организовал для всего МХАТа лекцию — «Бдительность — наше оружие». Перед началом этого мероприятия я подошел к нему и спросил:
— Как же так, мы всегда везде объявляем, что мы за разоружение, и вдруг «Бдительность — наше оружие». Как это понимать?
Я спросил, конечно, как бы наивно и с юмором. Но ответ был вполне серьезный:
— Товарищ Давыдов, это вопрос непростой. Как бы это вам объяснить? Это ведь не в прямом смысле, а в переносном…
— А-а… тогда понятно…
В 1965 году я с туристской группой кинематографистов поехал в Швецию, Данию и Норвегию.
В Швеции переводчица, молодая шведка, рассказала о конфликте со своим отцом, коммунистом-капиталистом, по поводу XX съезда КПСС. А она — социалистка и считает, что можно построить социализм даже с королем во главе. «Ведь не надо будет тратить миллионы на выборы президента…» Меня тогда очень удивило, что коммунист у них занимается бизнесом — владеет предприятием по производству сантехники…
А в Гетеборге я познакомился с главным режиссером городского театра, где идут и драмы, и оперетты, и даже балет. Его фамилия была Габай. «Да, да, я из тех самых Габаев — караимов, владельцев табачной фирмы в Крыму».
Не меньшей неожиданностью было узнать, что владелицей пивных заводов в Копенгагене была мать нашего царя Николая II императрица Мария Федоровна, которая уехала из России еще до революции и умерла в Копенгагене в 1928 году. Ее отпевали в соборе Александра Невского, который построен на средства царской семьи Российской Империи.
Ну, а в Норвегии больше всего мне понравились фиорды во Фламе и, конечно, вилла Грига в Бергене и его «сарай» — уединенный домик вдали от роскошной виллы. Там были только рояль, столик, кресло, диван и полное одиночество…
И вообще вся Скандинавия произвела на меня огромное впечатление своей таинственной природой и тишиной.
В 1970 году наша страна «и все прогрессивное человечество» отмечали 100-летие В.И.Ленина. И МХАТ готовился к майским гастролям в Лондоне с «Чайкой» в постановке Б. Ливанова и пьесой о Ленине. Режиссеру Л.В. Варпаховскому было предложено сделать гастрольный вариант его спектакля по пьесе Шатрова «Шестое июля», где роль Ленина была главной. Он сделал оригинальное решение этой пьесы. Как вдруг пришло распоряжение из Министерства культуры исключить «Шестое июля» из гастрольной поездки. Что такое? Почему? А как же 100-летие Ленина?.. Было предложено вместо пьесы Шатрова взять пьесу Погодина «Третья Патетическая» в постановке М.Н. Кедрова.
Потом выяснилось: М. Шатрова обвинили в том, что он в своей новой пьесе о Ленине слова Троцкого вставил в роль… Ф. Дзержинского! Это недопустимо! И началась кампания против Шатрова. В прежние времена его бы арестовали как «врага народа». Но, кажется, он отделался «малой кровью»…
Марго тоже была занята в этом спектакле — так мы с ней поехали в капстрану вместе…
А перед этими гастролями мне позвонили из Госкино и попросили вписать в свой загранпаспорт сына представителя «Совэкспортфильма» в Лондоне Юрия Хаджаева. Заверили, что это будет официально оформлено, а в Лондоне Хаджаев встретит нас. Я, конечно, согласился. Так я познакомился в Лондоне с Юрием Хаджаевым, а он потом познакомил нас с Марго с Дмитрием Темкиным — композитором и одним из создателей советского кинофильма «Чайковский». Знакомство это состоялось в небольшом французском ресторане. Темкин прекрасно говорил по-русски и рассказал, что был одним из соавторов знаменитого фильма «Большой вальс». Потом он вспоминал свою молодость, учебу в Петербургской консерватории и своего любимого учителя: «Феликс Михайлович Блуменфельд был для меня как отец…» Тут Марго не выдержала и сказала: «Феликс Михайлович — мой дедушка». Темкин буквально онемел… Мы пригласили его на спектакль «Третья Патетическая». Он смотрел его со слезами: «Нэпманский герой Гвоздилин — это я, моя биография». Он совсем растрогался и пригласил после спектакля в полинезийский ресторан в «Хилтон-отеле» не только нас с Марго, но и исполнителя роли Гвоздилина В.В. Белокурова и еще И.М. Раевского и Б.Н. Ливанова…
Но, конечно, поездки по нашей стране были для меня не менее интересны, чем зарубежные гастроли и кинопремьеры. Их было много — это и гастроли, и концерты, и съемки… А еще были многочисленные так называемые встречи со зрителями. Ведь артистов кино зрители хотят непременно увидеть «живьем». И об этих встречах я писал в своем дневнике. Кое-какие записи хочу воспроизвести.
«30 января 1967 г. в 4 часа утра я приехал в Муром. Вокзал в боярском стиле. Мороз. Спал плохо. Часа два. Сосед — полковник авиации, но его лица я так и не увидел — в вагоне не было света. Душный мягкий спальный вагон. Две проводницы и четыре пассажира… В номере холод, но дали электрическую плитку и подогрели чай.
Поехал в автобусе на выступление. У старушки спросил: «Что здесь за завод?» — «Секретное предприятие здесь с войны, но говорить вам не буду: может, вы — шпион…» Но сказала, что в городе было 28 церквей, а осталось 4. «Здесь две. За рекой одна, а в другой военные… Два монастыря. В Троицком, женском — склад, а другой работает, но закрыт… Благовещенский, мужской…» Днем у меня встреча со зрителями в Доме культуры — с кинороликами. Когда я вышел на сцену, то увидел, что народу немного. Начал говорить и вдруг услышал — оркестр играет… похоронный марш. Ушел со сцены. Во время показа кинороликов оркестр замолкает. Снова вышел на сцену — снова похоронный марш… Наконец кончилось мое выстуапение, и я узнал от администратора, что у директора Дома культуры умер племянник 22 лет от токсического гриппа. Местный оркестр отказался на морозе (-34 градуса) играть «Похоронный марш» — замерзают губы… И вот наверху в ДК репетирует самодеятельный оркестр, а когда идут кинофрагменты, музыканты входят в зал смотреть кино. Потом опять идут репетировать… Так я впервые в жизни выступал под похоронный марш».
«После репетиции в театре меня повезли на выступление в г. Серпухов. Я надеялся во время пути отдохнуть. Но администраторша, видимо, считала своим долгом занять меня разговорами: "У нас народ любит искусство, особенно — танцевать. И у нас сегодня был объявлен вечер танцев, но в связи с эпидемией гриппа мы решили устроить встречу с вами…"»
«В подмосковном городке на стене клуба висело такое объявление: «Вечер молодежи; В первом отделении — врач-венеролог, лекция «Половые отношения и здоровье». Во втором — встреча с любимым киноартистом». Зал был набит битком, жара и духота невыносимые — потому что потом будут еще и танцы…»
…После выхода на экраны фильмов, где я снимался, меня постоянно приглашали на концерты и торжественные вечера. Я очень любил эти выступления — ведь я тогда перезнакомился со всеми знаменитыми артистами. Это и Марк Бернес, и Аркадий Райкин, и Клавдия Шульженко, и Петр Алейников — артист беспредельного обаяния. Когда он приезжал на концерт, то всегда спрашивал: «А какая здесь аудитория? Ах, студенты? Тогда объявите, что я буду читать «Ленин и печник»» Приезжает на другой концерт, и тот же вопрос: «А какая здесь аудитория? Ах, здесь научный мир? Тогда — «Ленин и печник»…» И так на всех концертах, и всегда имел сногсшибательный успех!.. — Он меня часто спрашивал:
— Ну, Владлен, как там у вас в вашем элеваторе — в МХАТе?
— Почему в «элеваторе», Петр Мартынович?
— Так ведь там у вас все ищут в ролях зерна…
Помню, как я удивлялся, что великий наш тенор И.С. Козловский очень долго капризничал пред выходом на сцену: когда ему выступать — ДО меня или ПОСЛЕ. Потом, много лет спустя, я у него спросил, почему он это делал. И он ответил: «Это я себя просто разогревал — готовился к выступлению…»
Много, очень много у меня было интересных встреч на таких выступлениях.
По случаю 50-летия Бурятии по всему краю проходили многочисленные концерты. И вот Зою Федорову, Петра Глебова и нас с Марго посадили в одну машину и повезли в самые отдаленные клубы. Ехали мы очень долго. Петр Глебов рассказывал о том, как он попал на роль Григория Мелехова в фильме С.А. Герасимова «Тихий Дон», где сперва начал сниматься в этой роли другой артист. А Зоя Федорова рассказала о своей дочери. Когда Зою арестовали в 1945 году «за связь с иностранцем», ее маленькую дочку Вику взяла к себе сестра Зои, которую девочка и считала своей матерью. И только через 11 лет Зоя увидела свою дочь и страшно волновалась, поймет ли Вика, что она ее настоящая мать… Зоя со слезами рассказывала и то, как она разыскала отца Вики. Он ведь был военно-морским атташе в американском посольстве в Москве, а теперь жил, конечно, в США. И вот Зоя нашла его через переводчицу «Интуриста», которая работала с американскими туристами. Правда, потом эту переводчицу уволили с работы… А Вику отец пригласил к себе в США, и там она вышла замуж за американского летчика,
Зоя, конечно, обожала свою красавицу Вику, которая тоже стала киноактрисой.
Потом Зоя рассказала, как они с Лидией Руслановой в тюрьме собирали в течение года корочки от сыра и делали из них свечку, которую зажигали в день рождения Вики… А я вспомнил, как на каком-то концерте я встретился с Руслановой (после ее реабилитации), и она мне вдруг сказала: «Вся наша женская тюрьма во Владимире была влюблена в тебя после «Встречи на Эльбе». Мы все удивлялись, откуда взялся такой артист…»
И еще был со мной курьезный случай в Большом театре после дневного концерта, на котором я читал стихи. После выступления я хотел купить программку этого концерта, а их не оказалось. Но одна контролерша вдруг говорит: «Ой, ой, я сейчас пойду и принесу вам, я вас узнала!» Я ей говорю: «Да, я вот сейчас на сцене читал стихи». — «Нет, я не была в зале». И я возгордился, что меня узнают и помнят еще по кино… Но она неожиданно меня спросила: «Вы в Колонном зале Дома Союзов на елке Деда Мороза не играли?» Вот уж этого я никак не ожидал и довольно резко ответил: «Нет! Пока еще не играл!» А потом вспомнил, что этого Деда Мороза там сейчас, в школьные каникулы, изображает Виктор Бубнов, который еще во время съемок на Кубани мне хвастался: «Владлен, я так на тебя похож, и под это дело у меня столько романов!..» Вот, а теперь оказалось, что я на него похож…
Еще интересная запись в моем дневнике:
18 февраля, вторник, 1964 год. Вечер в ЦДРИ, посвященный 90-летию Вс. Мейерхольда
М.И. Царев — председатель. Участвуют П.А. Марков, В.С.Давыдов (читал письма), Н.В. Петров — рассказывал о том, что мейерхольдовская постановка «Маскарада» в Александрийском театре стоила 300 тысяч золотом! И готовил он ее пять лет, а поставил за две недели, в феврале 17-го года…
М.М. Штраух рассказал, как К. Варламов, это «дитя природы», играя в «Дон Жуане», не знал никогда текста и злился при этом на Мейерхольда…
Л.В. Варпаховский сказал: «Я продолжу рассказ о Варламове, как Мейерхольд его успокоил. Он в этом спектакле поставил везде ширмы, и там сидели арапчата с текстом…» Варпаховскому долго аплодировали, а он стоял лицом к портрету Мейерхольда и молчал.
С.И. Юткевич тоже интересно говорил. А И.Г. Эренбурга встретили бурей аплодисментов (В.Я. Виленкин и В.В. Шверубович даже встали). Он рассказал, как С.М. Эйзенштейн героически спас архив Мейерхольда, прятал его у себя на даче на чердаке… Дальше Эренбург интересно говорил о том, что «в театре должен быть театр! Как измерить степень условности? Пьет из чашки актер — что он пьет? Есть ли там что-то? Как это решать? Мы восхищаемся Жаном Виляром, но ведь все это уже было у Мейерхольда. В нем были благородство и доброта, а это может быть только у истинного таланта, хотя он был и колючим…» И в заключение Эренбург сказал: «Надо не только реабилитировать честных людей, но судить тех, кто их судил!»
«У Мейерхольда не было своего автора (как у МХАТа — Чехов и Горький). Маяковский умер, а с Всеволодом Вишневским они, как дети, разругались. У театра Мейерхольда не было и своего помещения. Вот это все и мешало Мастеру создавать свой театр», — сказал М.М. Штраух».
…В 1979 г. я приехал на съемки фильма «Алые погоны» на Украину. Там я оказался в Могилев-Подольске, и меня пригласили местные власти на обед с рыбой и горилкой. Было это неподалеку от этнографического музея. Я случайно узнал, что в одной из хат там находится музей Шолом-Алейхема. Я, конечно, захотел его посмотреть, но второй секретарь райкома (по пропаганде) стал меня отговаривать: «Да там ничего нет интересного, связанного с Шолом-Алейхемом!» — «Нет, я все-таки хочу посмотреть, ведь я еще в юности увлекался его рассказами и хорошо знаю его биографию!» И мы пошли. Действительно, хата небольшая, три комнатки и кухня. Бедно обставлена. «Ну вот, я вам говорил, тут все вещи не Шолом-Алейхема, а какого-то Рабиновича — вот и его диплом…» Я разозлился и сказал: «Так ведь настоящая-то фамилия Шолом-Алейхема — Рабинович!» — «Ой, ой, а я не знал! Только вы там за столом не говорите об этом, а то меня взгреют…»
7 октября 1969 г.
Торжественный вечер в Доме актера, посвященный 50-летию советского театра. После вечера прием в кабинете А.М. Эскина. Е.А. Фурцева говорила здесь умно и пламенно. Все к ней подлизываются. Фотограф плакал от умиления: «Какая она умная женщина, она похожа на Анатолия Васильевича Луначарского!» Он снимает и плачет, во рту окурок потухшей сигареты, весь обвешан фотоаппаратами и обсыпан пеплом… Встает ногами на стулья, на диван. Блиц у него работает невпопад, но он снимает, снимает и плачет…
Фурцева сказала: «Вот, в Лондон просят опять МХАТ. Мы предлагаем театр Вахтангова или театр Моссовета, но они говорят — нет, это второй сорт…» А рядом стоят Р. Плятт и В. Спектор. Плятт с иронией на это говорит: "Я этого у нас в театре Моссовета не скажу…"»
18 августа в дом отдыха «Комарово» приехал Игорь Константинович Алексеев. Сразу сказал мне: «Ведь мы с тобой на «ты», да? Давай выпьем… кефир!» Ему сейчас, в 1972 г., 78 лет, а мне 48! Я спросил его, были ли романы у Константина Сергеевича. «В каком смысле это понимать?» — «А вот, с Айседорой Дункан». — «Ну, она хотела голая ему станцевать, а он сказал: "Я позову сейчас жену…"» — «А пил Константин Сергеевич?» — «Нет, только пригубливал вино или шампанское, а водку и коньяк — никогда». — «А курил он?» — «Да, до болезни тифом в 1910 году».
Игорь Константинович занимался в Первой Студии. В 1922 г. уехал с К.С. Станиславским, сестрой, гувернанткой и горничной на гастроли в Америку. Надо сказать, в «Летописи К.С.» об этом почему-то не написано. В 1924 г. Игорь заболел туберкулезом и на три года остался за границей лечиться. «Мне делали вдувания. Отец присылал деньги. И еще были деньги, полученные за книгу отца «Моя жизнь в искусстве», изданную в Америке. Я прожил в Швейцарии до 1930 г., а потом уехал в Париж. Женился там на внучке Льва Николаевича Толстого — дочери Михаила Львовича. В 1936 г. уехал в Марокко. В 1948 г. вернулся в Москву… На похороны отца приехать не смог — была уже война… — И неожиданно прерывает рассказ вопросом: «Владлен, как ты обходишься с чаевыми в столовой и с горничной? — «Платить неудобно — я шоколадкой…» — «За границей платят всем.» — «А как правильно: плотят или платят?» — «Не знаю. За границей я хорошо знал русский язык, а здесь говорят все по-разному…»
Внук Игоря Константиновича Миша поступил на постановочное отделение в Школе-Студии. Второй его внук, Максим, мечтает о балете… Я обратился к Леве Голованову (из ансамбля Игоря Моисеева), чтобы он посмотрел и дал совет ему. И вдруг Игорь Константинович сказал: «А я хотел бы сняться в кино, какого-нибудь иностранца сыграть или аристократа…»
Кстати, когда Игорь Константинович вернулся в Москву, администратор нашего театра сказал: "Сын Станиславского приехал из Марокко, и такая оказалась с его пропиской морока…"
Ю.Б. Левитан
Конечно, годы Великой Отечественной войны для нашего поколения трагические и святые годы. И как бы сейчас всякие «историки» вроде В. Суворова ни пытались унизить величие Победы, «разоблачить» даже маршала Жукова, но все равно в мировой истории подвиг России в этой войне останется в веках, а все эти «клеветники России» будут прокляты и забыты.
Всю войну тыл и фронт поистине были едины. «Посредником», связующим это единство, были сводки Совинформбюро, которые читал по радио Юрий Левитан. Его голос, как и короткие горячие очерки Ильи Эренбурга, вселял бодрость и оптимизм — веру в Победу!
С Юрием Борисовичем Левитаном я познакомился на озвучании кинофильма «Встреча на Эльбе» в конце 1948 года, и с тех пор мы с ним очень часто встречались не только в Серебряном бору, где и он жил на даче, но, главным образом, на многих торжествах, связанных с историей Великой Отечественной войны. А порой и на радио. Я с интересом смотрел, как он читал тексты в микрофон, приложив левую руку к уху. И всегда невольно вздрагивал от его голоса, вспоминая войну…
Юрий Борисович был добрым и обаятельным человеком с легким юмором.
Раньше на радио — в конце 40-х и даже в 50-х годах — приходилось и нам, артистам, читать «живьем», то есть не в записи. Меня это страшно сковывало: я боялся ошибиться — ведь исправить ошибку было невозможно. И вот однажды Юрий Борисович мне рассказал об одной своей ошибке.
У него был такой текст: «Соединенные Штаты Америки строят свои военные базы по периметру Советского Союза». А он прочитал: «…по примеру Советского Союза». Он, правда, перечитал потом эту фразу правильно, но ведь «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь»…
Конечно, если бы такую ошибку сделал кто-то другой, то даже невозможно представить, что бы с ним было… Ну, а великого Левитана только отстранили на некоторое время от эфира.
Мы вместе участвовали в торжественном вечере в честь 40-летия победы под Москвой, и Юрий Борисович мне подарил программку с такой надписью: «Сердечному человеку — другу — обаятельному, талантливому, доброжелательному человеку — Владлену — на добрую память. Ю.Левитан. 12.1.81 г.».
И я, конечно, тоже ему написал слова уважения и любви…
Умер он внезапно, а его ждали в Белгороде на очередное торжество, связанное с первым салютом, который, как известно, был дан в 1943 году в честь освобождения этого города.
Прошло много лет, звучат в эфире другие голоса, но голос Юрия Левитана — неповторим.
Великий лицедей Смоктуновский
О Смоктуновском много написано статей и книг. И сам он много рассказывал и писал… Его видели, знают и помнят миллионы людей не только у нас, но и за рубежом.
У каждого свой Смоктуновский. Вот и я хочу рассказать о своем Смоктуновском и о том, что знаю о нем только я.
…1956 год. Сергей Лукьянов только что поступил во МХАТ, и мы с ним вместе репетировали в «Ученике дьявола» Б. Шоу. На репетициях он рассказывал об очень талантливом артисте в Театре киноактера, который за кулисами разыгрывал разные сценки.
— Вот бы его пригласить во МХАТ! — сказал Лукьянов.
— А как его фамилия? Сколько ему лет?
— Имя у него редкое — Иннокентий, а фамилия Смоктуновский, ему лет тридцать…
Но Смоктуновского тогда никто в руководстве МХАТа не знал, а из киноартистов хотели пригласить Сергея Бондарчука и очень хотел прийти во МХАТ Владимир Дружников. Правда, ни тот, ни другой по разным причинам в Художественный театр не пришли. А приняты были Ю.Э. Кольцов и М.М. Названов, которые работали в МХАТе до их ареста.
Однако фамилию Смоктуновского я запомнил — тем более что через год В.Я. Виленкин мне с восторгом рассказывал об удивительно талантливом артисте, который ему очень понравился в кинофильме «Солдаты», а потом покорил всех своим Мышкиным в «Идиоте» у Товстоногова (я уже упоминал об этом).
Конечно, и мне хотелось увидеть его, но говорили, что он уходит из БДТ и будет только сниматься в кино. Так я в те годы и не увидел Смоктуновского на сцене.
А в кино? В кино я старался не пропускать ни одного фильма с его участием. И действительно он был какой-то необычный на экране — уж очень раскованный, особенно в «Ночном госте», а в фильме-опере «Моцарт и Сальери» просто гениально играл Моцарта (ну, пел, конечно, не он…). В «Девяти днях одного года» он солировал и был наисовременнейшим героем. А потом — «Гамлет». Сцена с флейтой ошеломляла зрителей. Казалось, это была высшая простота и свобода. И вдруг — «Берегись автомобиля», смелая пародия на своего Мышкина, и тут же непонятный (тогда) Ленин («На одной планете»), казалось, снятый на негативной пленке, не отпечатанной на позитивную…
Одним словом, для меня он все время был каким-то загадочным и непонятным актером. И мне, как и в юные годы, когда я хотел разгадать секрет личности моих любимых И.М. Москвина, В.И. Качалова и Б.Г. Добронравова, хотелось «разгадать», узнать поближе Смоктуновского.
И произошло это неожиданно и случайно. В 1967 году летом я отдыхал в доме отдыха ВТО «Комарово» под Ленинградом. Там в основном были артисты ленинградских театров. Все они были для меня интересны, потому что были какие-то совсем другие — не похожие на московских артистов. С ними было интересно общаться. И конечно, центром этих общений был Г.А. Товстоногов, который приехал в «Комарово» со своими соавторами по подготовке спектакля к 50-летию Октября — «Правда, только, правда, — ничего, кроме правды»…
И вот однажды, когда вся наша актерская компания, как всегда, собралась на площадке перед входом в корпус, у калитки появился Смоктуновский. Георгий Александрович первый увидел его и как бы самому себе сказал: «Приехал, видимо, о чем-то просить…» И действительно, Смоктуновский, в меру вежливо поздоровавшись во всеми, поулыбавшись и постоявши молча, обратился к Товстоногову: «Я хочу поговорить с вами…» Они тут же отошли от нашей компании, и Георгий Александрович, обняв Смоктуновского за плечи, повел его гулять по сосновой аллее. Гуляли они недолго и вернулись к нам на площадку. Смоктуновский улыбался и был явно доволен. Я стоял в стороне и слушал рассказы о ленинградских делах. И узнал, что, когда театр Товстоногова стал готовиться к гастролям в Лондоне, Смоктуновский был приглашен снова играть Мышкина. До этого он уже шесть лет не работал в БДТ.
Георгий Александрович спросил меня:
— Владлен, а вы не видели наш спектакль «Идиот» в новой редакции и в новом составе?
— Нет, я не видел и в старой редакции.
— Ну вот приходите. Кеша, когда у нас идет «Идиот»? Пригласите Владлена…
— Да, да, конечно, — любезно согласился Смоктуновский.
— Спасибо. Но как же это сделать? Когда?
— А вот вам Кеша все расскажет. Вы знакомы с ним? Нет? Ну так вот — познакомьтесь…
29 июля я приехал из Комарова в Ленинград на спектакль «Идиот». Я так точно называю этот день, потому что сохранил программку спектакля. Я любил БДТ и видел там в те годы, как и в «Современнике», почти все спектакли. Это были самые интересные театры.
Но спектакль «Идиот» с участием Смоктуновского был сенсацией.
Я тогда только что был введен на роль Ивана Карамазова в спектакле Б.Н. Ливанова «Братья Карамазовы» и еще не мог найти «своего» Ивана…
Какой же это был разный Достоевский! Если спектакль Б.Н. Ливанова с первой же картины и до последней был весь на взвинченных нервах, то спектакль Г.А.
Товстоногова втягивал вас в философию Достоевского постепенно и держал до конца спектакля. И я думаю, что в этом главная заслуга была именно Смоктуновского — его ошеломляющая, доверительная простота, его «здесь, сегодня, сейчас». Рождающиеся на ваших глазах мысли завораживали. Судя по рассказам, как он играл эту роль в первом варианте (в 1957 г.), он всех покорил своей душевной простотой, даже наивностью и божественной
чистотой, но я теперь увидел не только это, а именно божественную
мудрость. И я как актер вполне мог понять, в чем была разница в его исполнении. Ведь, когда он впервые сыграл эту роль, он был неизвестным актером, он был в «невесомости» и потому ничем не рисковал и был свободен, как птица. А вернувшись к этой роли через 10 лет уже известным актером, он как бы «вошел в плотные слои атмосферы», когда все ждали от него чуда, ожившей легенды. И если раньше он потрясал своей искренностью и тем, что
жил на сцене, то теперь восхищал артистизмом и изящным исполнением своего шедевра. Думаю, что разница еще была в том, что первый спектакль (в 3-х актах) был для нас, для нашего времени, а второй (в 2-х актах) — все-таки в расчете на иностранцев. Об этом говорит и вся новая редакция возобновленного спектакля. Но все равно: — пусть я не увидел в Мышкине Смоктуновского Христа — я увидел апостола… Для меня это было одно из самых, самых незабываемых впечатлений в моей жизни.
…После спектакля, конечно, нужно было пойти к нему за кулисы и поблагодарить, но мне хотелось остаться со своими мыслями и чувствами наедине и не расплескать их в словесах… Я ехал обратно в Комарово в пустой электричке, и мне казалось, что от волнения стук моего сердца сливается со стуком колес мчащегося с бешеной скоростью вагона… В эту ночь я был взбудоражен мыслями о Достоевском, о Смоктуновском, о нашем театре, о профессии актера. Я был раздавлен всеми этими размышлениями. Я понял, что неверно играю Ивана Карамазова. И как жаль, что в 1965 году так и не состоялся приход Г.А. Товстоногова в Художественный театр! А ведь в конце 1965 года был момент, когда, казалось, он вот-вот придет.
Одним словом, Смоктуновский перевернул тогда мою душу. Я хотел познакомиться с ним, ближе рассмотреть его и поговорить.
И опять нас свел случай. Осенью 1967 года меня пригласили принять участие в Днях Российского искусства и литературы на Украине — по случаю 50-летия Великой Октябрьской революции. И там я встретился со Смоктуновским второй раз. Еще в поезде начались наши разговоры и взаимные вопросы обо всем — о жизни, о театре, о ролях, о кино… В Киеве наши номера были рядом, мы выступали вместе. Он познакомил меня с Виктором Платоновичем Некрасовым, который пригласил нас на обед в ресторан «Днепр». Там уже сидела его мама — он ухаживал за ней с трогательной нежностью и любовью. Обед был и вкусный, и невероятно интересный. Говорили о том, что началась настоящая травля Некрасова в печати. Потом мы пошли к нему домой, на Крещатик, 15, и увидели там во всю стену карту его любимого Парижа «с птичьего полета». Кто бы мог подумать, что именно в Париже он проживет последние годы и будет похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-буа.
«Турист с тросточкой» — эта статейка зло и опасно критиковала путевые заметки В.П. Некрасова об Италии. Но меня больше интересовала его публикация в «Новом мире» — «Дом Турбиных», тем более что в МХАТе в это время репетировалась пьеса М. Булгакова «Дни Турбиных» в постановке Л.В. Варпаховского. Я пригласил Виктора Платоновича на наш спектакль. И потом в феврале 1968 года он прислал мне открытку:
«В первых числах марта буду в Москве — на недельку вырвался. Конечно же, хочу посмотреть Турбиных. Посодействуйте! Позвоню Вам числа 1-2-3. Жму руку. В. Некрасов».
Он был невероятно интересный собеседник и к Смоктуновскому относился как к брату. Ведь они оба были фронтовики и вместе работали над фильмом «Солдаты» по сценарию Некрасова, Виктор Платонович был человеком с доброй душой. Когда я уезжал из Киева, он принес мне на прощанье торт «Киевский»… Мне рассказывали, как он в Ялте бережно купал в море свою маму — уже совсем немощную старушку. И уехал он за границу только после ее смерти.
Конечно, дружба В. Некрасова с И. Смоктуновским имела для них обоих огромное значение. Это было видно по тому, как они друг с другом общались. И мне показалось даже, что они чем-то похожи друг на друга — своей лирикой, натуральностью и простотой.
Там же в Киеве я рассказал Иннокентию о своей мечте — возобновить в МХАТе «Царя Федора» и спросил его: хотел бы он сыграть эту роль? Он сказал, что это и его мечта и что один его поклонник даже подарил ему книгу о постановке этой пьесы в МХАТе с пожеланиями, чтобы он сыграл царя Федора…
Одним словом, нашим мечтам и фантазиям не было предела. Мы буквально вцепились друг в друга… Обменялись адресами и телефонами. Я обещал поговорить в театре о нашей идее и потом позвонить ему. Он сказал мне на прощанье: «Я ведь в БДТ не работаю — я свободный человек и буду сам решать свою судьбу». Как только я вернулся в Москву, я пошел к директору нашего театра К.А. Ушакову и все ему рассказал. Он мне ответил: «Владлен, подожди ты с царем — нам надо сейчас разобраться с пятидесятилетием Октябрьской революции». Я ему на это сказал: «А ведь было бы хорошо к семидесятилетию МХАТа возобновить спектакль, которым открывался театр». — «Вот после ноября и поговорим». Но я не стал ждать, а пошел к М.Н. Кедрову. Он, казалось, с интересом отнесся к этой идее и сказал лишь: «А он актер-то нашей школы? Я его никогда не видел на сцене, а только в кино по телевидению Моцарта…» Я стал ему рассказывать, как Смоктуновский играет Мышкина, и доказывать, что он-то и есть истинный мхатовский артист. «А как это проверить?» — «А вот он приедет скоро на съемки фильма «Чайковский», и я вас с ним познакомлю».
Но получилось так, что Кедров был занят работой по выпуску спектакля «Дым отечества». А потом театр готовился «Врагами» отметить 100-летие М. Горького, а потом готовился к гастролям в Японии, и начались разные вводы, и Кедров опять был занят — теперь работой по своему «Ревизору». А у нас с Кешей велась весь 1968 год переписка. Когда он приезжал в Москву, то или звонил мне, или заходил к нам и даже как-то ночевал у нас. И мы все фантазировали и мечтали… Но я боялся, что опять, как и в 1962 и в 1966 году, эту мою идею в театре убьют. В 1962 году весь театр готовился к 100-летию К.С. Станиславского, и мы с Б.А. Смирновым показали режиссеру спектакля «Царь Федор» В.А. Орлову финальную сцену — в надежде, что ее включат в юбилейный вечер. И В.А. Орлов увлекся этой работой, но когда показали ее Коллегии театра, то старики прикрыли ее — мол, Смирнов не может играть эту роль (!). Потом в 1966 году опять началась было работа с молодыми актерами, но и эта работа дальше разговоров с В.А. Орловым не пошла. А так хотелось, чтобы после интересного спектакля Л.Е. Хейфеца «Смерть Иоанна Грозного» в МХАТе пошел снова «Царь Федор Иоаннович»…
Я все-таки свел Смоктуновского и с Кедровым, и с Ушаковым. М.Н. Кедров после беседы с ним сказал мне: «Да, на этом инструменте очень интересно сыграть эту роль… А пойдет ли он? Я ведь смогу только руководить работой — начну, дам задание, потом приду только на несколько репетиций и на выпуск…» Потом у них была еще встреча, и Кедров сделал вывод: «По-моему, он не переедет в Москву. У него в Ленинграде квартира, машина, дача. Не выйдет из этой затеи ничего…» От Ушакова я услышал: «Пусть они договорятся с Кедровым о работе». А Кеша мне после всех этих бесед сказал: «У нас с Кедровым была интересная беседа — мы понимаем друг друга. А Ушаков говорил со мной, как с сыном… Так что я понял — все это серьезно…» Когда на коллегии Министерства культуры обсуждались планы МХАТа и Малого театра и Б.А. Равенских вдруг заявил, что хочет ставить «Царя Федора», Кедров встрепенулся и сказал: «Как так? Мы хотим в МХАТе возобновить наш исторический спектакль». «А кто у вас Федор?» — спросил Равенских. «Как кто? Смоктуновский — я уже начал с ним работу — беседовал…» — «А-а, ну, тогда не может быть двух мнений — мой учитель Кедров должен в МХАТе ставить "Царя Федора"…»
Но Кедров, кроме беседы со Смоктуновским, так ничего больше и не успел сделать, а начал работу над возобновлением своего спектакля «Третья Патетическая» к 100-летию В.И. Ленина для гастролей в Лондоне. И, к несчастью, в апреле 1970 года его разбил паралич и ни о каком «Федоре» с ним не могло быть уже и речи…
Так закончился первый роман МХАТа со Смоктуновским. Через 10 лет начался второй.
Я был страшно огорчен, что не удалось (в который уже раз!) возобновить «Царя Федора». Но эти два-три года подружили нас с Кешей.
Когда Смоктуновский еще жил в Ленинграде и приезжал в Москву только на съемки, то он приходил к нам домой и, если не заставал нас, писал записки на каких-то обрывках и оставлял в дверях. Кое-какие письма и записки у меня сохранились. Вот первое письмо после нашего разговора в Киеве от 10 января 1968 года.
«Владлен, дорогой!
Я не давал о себе знать по двум простым причинам. Приехав в Ленинград — я «постарался», слег — всякие ангины и гриппы, которые меня время от времени мучают. Это во-первых. Во-вторых же, я не подозревал степени серьезности, а еще вернее — степени желания этого мероприятия и все надеялся побывать в Москве и выяснить эту самую степень. Но теперь, получив твое коротенькое письмо, я и рад, и сразу же, как видишь, отвечаю тебе.
Я хочу! И надеюсь оправдать в будущем и твою заботу обо всем этом, так же как и внимание администрации, если таковое последует, — своей работой и жизнью в театре и тебе преданностью и дружбой, мой друг. Но это все лирические отступления. Несмотря на все свое (кажущееся) легкомыслие, я', как это ни странно, довольно серьезный человек. И потому… Разумеется, никаких условий я ставить театру не могу да и не хочу. Но мне в силу серьезности шага хотелось бы выяснить ряд совершенно необходимых вопросов. В чем, надеюсь, мне дирекция отказать не сможет. Я говорю о выяснении лишь. Их, этих вопросов, у меня три. При встрече или по телефону я тебе их и выложу, и посоветуюсь, не перегибаю ли я палки и в этом (выяснении). Я ведь уже однажды разговаривал с директором Вашего театра — это еще до выхода «Гамлета», и, не скрою от тебя, я был поражен не несерьезностью вопросов, а вялостью и обещаниями всего в будущем и ничего в реальном — теперь. В Москве я собираюсь побывать до конца января, и первый звонок и визит тебе и к тебе. Хоть это и звучит и выглядит несколько навязчиво. С Новым годом тебя, Владлен, и пусть он будет добрым к тебе и твоей семье, а главное ко всем нам (я о войне).
Обнимаю тебя. Иннокентий».
Когда он приехал в Москву, то позвонил и пришел к нам. Познакомился с моей женой Марго и с сыном Андреем. И, конечно, опять мы говорили. Говорили о театре, о «Федоре»… А потом опять письмо — от 13 февраля 1968 года.
«…Здесь в Ленинграде снимается Ливанов Б.Н. и я ему сказал о моих потугах в МХАТ. По его первой реакции понял, что этого делать было нельзя. Но потом он обмяк и говорил, что это, пожалуй, хорошо и что он возобновит и поставит заново «Федора», и это уже я, сам того не желая, по-моему, что называется, навел косу на камень. Я имею в виду то, что это же самое хотел сделать Кедров. Вот всем этим я и расстроен, и подавлен. Хорошо, если Ушакову не разрешат ни ставить, ни приглашать меня, а если разрешат и то и другое, боюсь, как бы не сочли, что я подливаю маслица в огонь отношений между Кедровым, Станицыным и Ливановым. А я так далек от всяких интриг и сплетен, что сейчас даже хочу, чтобы ничего не вышло. Обнимаю вас всех. Ваш Иннокентий».
Потом, уже весной, он снова, как всегда, неожиданно приехал на съемки в Москву и, не застав нас дома, написал на куске сценария и оставил в дверях записку.
Мы, видимо, в это время были в отъезде. А Иннокентий 23 апреля посмотрел в МХАТе «Братьев Карамазовых». И до этого разговаривал, наверное, и с Кедровым, и с Ушаковым и поэтому прислал мне 7 мая из Ленинграда довольно нервное письмо:
«Здравствуй, дорогой друг!
Я чувствую себя ужасной свиньей, что последний раз не смог повидать тебя в яви. Было мало времени, и уставал я порядком и все же мог, да и должен был бы найти эти полчаса и повидать тебя и излить тебе все то, что я так не по-умному и едва ли по-честному нудил тебе по телефону. Ну, здесь, наверное, есть оправдывающие меня обстоятельства — уж очень в недобрый час я, наверное, увидел «Ваших» Братьев Карамазовых. А может быть, меня занесло на долгом безделии и я возомнил, что все не так, как нужно, видите ли, и что есть совсем другие, иные, высшие измерения. И вот с «высоты их-то» я и позволил себе этакое безответственное «ФЭ». Если я посмотрю во второй раз, я даже наверное посмотрю, но лишь из-за тебя, т. к. убежден, что моя «диверсия» по телефону не прошла мимо тебя, я, может быть, убежусь в своей наглости в осуждении этого спектакля и в своей косности уже и потому, что каждый мнит себя чем-то такое со стороны, да еще катя в карете прошлого.
А вот ты войди сам да и попробуй, да еще если тебя заставляют вывихивать суставы. Вот тогда и поговорим и о вкусах, и о такте… Это я все, наверное, потому, что не нашел минуты зайти к тебе после спектакля (хотя бы).
Настроение у меня просто гадкое, и твоя открытка, как солнечный зайчик. Спасибо. Хотя не могу не усмотреть в ней какой-то дежурности, извини. Ну, да это не важно. Ты есть, я тебя знаю и люблю тебя и твою взрослую детскость в поступках и привычках. Буду в Москве где-то в 14–15 числах. Буду у вас, даже если буду валиться с ног от усталости и от режиссерского примитива. Обязательно хочу говорить с К.А. Ушаковым. Что-то уж пора решать — уж очень все затянулось, и от этого не может дышаться легче. Это время у меня — время многих, слишком многих нерешенных и просто противных — «как», «зачем» и «почему». А это и без того слабые нервы не делает здоровее. Будь здоров, целуй Маргрет. Я был ужасно глуп в наигрыше по телефону. Пусть она будет добрее и простит меня за нелепости на проводе. Да, чуть не забыл, а это едва ли не главное. Сегодня репетирую «Идиота» — спектакль будет идти в мае — нужно, говорят, разредить запись на этот спектакль. Ваш театр, судя по этой репетиции, совсем не хуже этого. А этот отнюдь не лучше Вашего по актерским выявлениям. Они во многом спорят. И Ваш Достоевский столь же «театрален», как и наш — доморощенный. Увы. И.».
И действительно тогда в МХАТе все были заняты подготовкой к гастролям в Японии и вопрос о приглашении Смоктуновского затягивался.
Потом я снимался на «Ленфильме», и мы с Кешей встретились в Ленинграде. Он пригласил меня к себе на Московский проспект, 75, на обед. И познакомил со своей хлопотливой и умной женой, милой Соломкой. Рядом были их дети — молчаливый сын Филипп 12 лет и четырехлетняя Маша — милая девочка с тревожными глазками… Кеша рассказывал, как он у себя в доме принимал Б.Н. Ливанова, когда тот приезжал на съемки фильма «Степень риска», и очень смешно «показывал» Бориса Николаевича, которого он тоже полюбил со всеми его неожиданностями…
В октябре 1971 года И.М. Смоктуновский был приглашен в Малый театр. Вскоре он с семьей приехал в Москву и начал репетировать «Царя Федора» в постановке Б.И. Равенских.
Я, конечно, был страшно огорчен тем, что эта работа опять не состоялась в Художественном театре. Но наши отношения с Иннокентием остались дружескими.
Он давно (еще до перехода в Малый театр) обещал мне прийти в нашу Школу-Студию на встречу со студентами. И вот 8 февраля 1971 года состоялась эта интересная встреча. Пожалуй, даже в своей книге потом он не был так откровенен и прост. (Я записал всю эту встречу на магнитофон.) Было такое впечатление, будто он хотел вывернуть себя наизнанку и рассказать студентам все обо всей своей жизни и обо всех своих сомнениях и переживаниях. С болью и горечью он говорил о тех мытарствах и унижениях, которые пережил, пытаясь поступить в какой-нибудь театр, когда приехал в Москву в 1955 году. Казалось, он и через 17 лет не мог забыть и простить тех, кто не оценил его тогда, кто «проглядел» его талант…
— Но, с другой стороны, я готов сейчас отдать все миражное, завоеванное за то, чтобы поменяться с вами местами — вернуть молодость… Я бы, наверное, тогда сделал значительно меньше ошибок и исключил бы целый ряд людей, которых не надо было к себе допускать…
Пусть вас не удивляет, что я буду больше говорить о своих недостатках. Что могло бы быть, «если бы»… Но я не собираюсь вас учить. Каждый должен идти своим путём. У меня есть одно достоинство — я вижу людей «со стороны», но в этом и мой недостаток — я совершенно не вижу себя «со стороны». Для этого мне нужен друг или режиссер, которому я верю, чтобы знать, куда я иду. Поэтому я всю жизнь ищу единомышленников и потому я бродил из театра в театр…
Видно было, как Смоктуновский волновался, просил разрешить ему курить и все время откашливался…
— Я ведь только что вернулся из ЮАР — там же плюс тридцать два градуса, а в Москве сейчас двадцать градусов мороза… Вы не были в Африке? О-о, это незабываемо — пустыня между Каиром и Александрией! Это вроде все одинаково — пески, но впечатление ошарашивающее, пустыня подавляет своим могуществом, что-то несказанное в ней есть…
Конечно, всех интересовало его начало — как все-таки он стал Смоктуновским?.. Теперь об этом много уже написано, да и он сам написал подробно обо всем.
О своей пробе на Фарбера в «Солдатах» он сказал так:
— То ли литературный материал Виктора Некрасова был удивительный, то ли желание доказать, что в кино я все-таки что-то могу, но у меня была минута самозабвения. У меня всегда получалось, когда я безответственно и бесстыдно все делал. Меня все тогда хвалили и готовы были сказать: «Это ведь не хроникальный фильм, а художественный…» Но на второй пробе я уже не смог это повторить. То ли уж меня захвалили, то ли начал «мастерить»… Я и сейчас часто зажимаюсь, как только услышу слово «Мотор!» — тут же начинается трясучка…
— А что вам нужно, чтобы не было этого? — задали ему вопрос.
— В кино мало репетиций, почти не бывает. Мы ведь в жизни не думаем о словах, а говорим мысли. А в кино мы все время думаем «как?» — вот и получаются у нас часто эти «каки»… А порой зажимаемся, так как не знаем толком, кого мы играем… Когда я работал с Львом Кулиджановым над Порфирием в «Преступлении и наказании», если бы меня снимали, как говорит моя дочка Маша, «скрытной» камерой, то все было бы отлично, но как только начинает крутиться эта дурочка-камера после команды «Мотор!», все получается не так…
— Но бывали ли вы все-таки счастливы во время творчества?
— Да! Это было однажды, но ушло, как синяя птица… Когда я начал репетировать с Товстоноговым Мышкина, он пришел и сказал мне: «Вот-вот, все хорошо — не надо играть патологию. Он здоров». Я Георгия Александровича люблю очень, потому что я ему обязан многим — едва ли не всем. Он мой крестный отец, и если я достиг чего-то, то благодаря работе с ним. Он удивительно талантливый, тонко чувствующий человек. Когда актер «пошел», он очень точно подсказывает, куда же ты должен дальше идти, и там мне так удобно, как в теплой ванне — славно… Но первые четыре месяца в работе над Мышкиным для меня были мучительно трудными…
Из двухсот спектаклей «Идиота» было, пожалуй, только семь-десять-двенадцать, когда я был совершенно безответственен. Я был Мышкин, но я еще помню, и как я владел зрительным залом, — это и было счастье, это было мало, но это было… Это было, когда я был здоров, немножечко влюблен, когда меня никто не обижал, когда было все хорошо…
Замечательно он рассказывал о «Гамлете».
— Когда мне предложили сниматься в «Гамлете», то я до этого не читал пьесу, а только дважды видел в театре спектакль. Я взял два перевода пьесы — Лозинского и Пастернака и поехал на лето в Дом творчества композиторов под Ленинградом. Там я заперся в своей комнате и стал вслух читать роль Гамлета. Но это было так громко и, видимо, так страшно, что когда я открыл дверь, то увидел людей с испуганными глазами. А директор Дома все меня потом спрашивал о моем здоровье… А мне хотелось найти грань нормального с аномалией и провести ее где-то в Шекспире. Я попросил своих друзей отвести меня в больницу для душевнобольных… Привели в кабинет профессора больного — человека с озабоченным лицом, умные глаза. Это был главный инженер одного радиозавода в Ленинграде. Он вошел, осмотрелся. Бегло взглянул на меня и больше в мою сторону не смотрел. Профессор его спросил: «Как вы себя чувствуете?» — «А почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я жаловался на здоровье?» И еще профессор задал ему несколько вопросов, на которые больной отвечал очень спокойно: «Вы что, демонстрируете меня этому человеку? Как вам не стыдно так издеваться надо мной?..»
Когда он уходил из комнаты, то взглянул на меня с видом — «вот как я им вмазал!». А я подумал — вот, вот как надо на грани сверхнормального поведения отвечать Розенкранцу и Гильденстерну. Вот тогда они и увидят, что Гамлет сошел с ума… Но, к сожалению, эта сцена была уже снята. А монолог «Быть или не быть»? О чем он? О чем хотел сказать Шекспир? Поэтому надо было создать условия, чтобы каждый зритель по-своему в этой хрупкой, хрустальной, тонкой мысли выявил бы что-то для себя, для своего миро- ощущения. И как это снято в фильме? Там на берегу — волны, камни, глыбы, хмурое небо, несутся низко облака, — то есть сделано все, чтобы не слушались мысли этого монолога… И если бы провести конкурс, чтобы эта мысль не слушалась, то за такое вот решение была бы первая премия — Гран-при. Я сейчас обрушиваю свой гнев на бедного Григория Михайловича — ну, да ничего, он выдержит — я-то выдержал…
Помню, было предложено два-три варианта, так как я своим интуитивным началом чувствовал, что это очень главное место. Его надо делать бережно и точно. Как-то мы бродили по городу — нам для съемки нужны были низкие облака, быстро мчащиеся, а была замечательная ясная погода. Мы ходили по музеям. И вдруг набрели на маленький дворик с длинной анфиладой арок. Я сказал Козинцеву: «Вот, вот, Григорий Михайлович. Было бы хорошо прийти сюда ночью — ведь Гамлет не спит. Перед боем никто не спит, кроме Наполеона». И вот на экране темнота и только непонятные звуки, и вдруг очень, очень далеко какой-то маленький огонек вместе со звуком приближается, и в это время четко:
— Быть или не быть? — вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться…
Так идет Гамлет и освещает себе дорогу маленькой горящей плошкой. И дальше идут слова о самоубийстве… А Гамлет снова уходит во тьму. Но! Все это ушло в область мечты. И вот, друзья мои, если ты уж очень веришь, что ты прав, — нужно настаивать, нужно бороться!
— А как вы относитесь к фильму «Чайковский»?
— Пожалуй, там единственное, что было хорошо, — я не декларировал, что уж он очень гениален. Я был прост. И очень был удачный грим… Кстати, я был одним из инициаторов, чтобы Майя Плисецкая играла Дезире, чтобы она и танцевала, и пела. Этот эпизод был рожден, извините за нескромность, мной.
И Смоктуновский стал рассказывать и опять показывать и играть, как Чайковский замышлял «Лебединое озеро» и как это надо было бы снимать… Но и это не было снято так, как видел сцену Смоктуновский.
— Но это все из цикла — какой я хороший и какое у меня было дурное окружение… Нет! Просто я хочу сказать, что только в театре актеры имеют возможность работать и репетировать так, чтобы выявлять самые высокие чувства и мысли…
26 мая 1973 года утром в Малом театре была генеральная репетиция спектакля «Царь Федор Иоаннович». (Когда в журнале «Театральная жизнь» в № 4 за 1996 г. были опубликованы фрагменты из моих воспоминаний, мне позвонила актриса Малого театра К.Ф. Роек (жена актера Малого театра В.Д. Доронина) и рассказала, что главный режиссер Малого театра Б.И. Равенских включил в репертуар пьесу «Царь Федор Иоаннович» для Доронина. Когда же И.М. Смоктуновский был приглашен в Малый театр на роль царя Федора, то он узнал об этом, позвонил Виталию Дмитриевичу и сказал, что готов репетировать эту роль вместе с ним. Но Доронин, естественно, отказался.) Я помню эту дату, так как сохранил и эту программку. Кеша умолял меня не ходить: «Прошу совсем не смотреть. Это позор!..» Но все-таки дал мне билет в 3-й ряд. Я взял с собой магнитофон и записал для него весь спектакль.
Мне трудно было воспринимать этот спектакль, — ведь я много раз видел «Царя Федора» в Художественном театре, а потом и сам был в нем занят. Это был великий спектакль с великими артистами в роли царя Федора. Правда, И.М. Москвина я видел в этой роли уже только в день его 70-летия (этим спектаклем открывался МХАТ — значит, он играл царя Федора 46 лет), потом я видел в этой роли Н.П. Хмелева, когда ему было 39 лет, и, наконец, видел последнего царя Федора — Бориса Добронравова, который потрясал зрителей. Он впервые сыграл эту роль, когда ему было 44 года. А в 53 года умер на сцене, не доиграв спектакль… И больше «Царь Федор» (с 1949 г.) не шел в Художественном театре… Я знал наизусть многие сцены, помнил весь спектакль, хотя прошло с тех пор 25 лет. Поэтому все во мне протестовало и против декораций, и против музыки, и против некоторых исполнителей. А Смоктуновский? Видимо, он еще не освоил всю роль, а тот рисунок, который я увидел, меня не убедил, так как в отличие от князя Мышкина в царе Федоре были не святость, не блаженность, а болезненность и даже клиническая патология… Не знаю, кто там виноват — режиссер или сам Смоктуновский, но ведь это не может потрясать и увлекать. Думаю, что за те три года, что он играл эту роль, наверняка многое изменилось. Я все хотел пойти еще раз посмотреть, но Кеша говорил: «Не надо, не пора…» Он не покорил зрителей царем Федором, как когда-то князем Мышкиным…
А в 1976 году О.Н. Ефремов пригласил Смоктуновского в МХАТ, где он и работал до конца своих дней — 18 лет. В нашем театре он сыграл 13 ролей. Это были самые разные роли у разных режиссеров, а не только в спектаклях Ефремова. Я, конечно, все его работы видел, а в трех чеховских спектаклях был его партнером. И поэтому наблюдал его исполнение, так сказать, «вблизи». Видел, как он работал, видел его на репетициях, на заседаниях и собраниях, видел, как он серьезно и ответственно представлял Художественный театр, когда бывал на пресс-конференциях, на гастролях…
Все это был разный Смоктуновский, и таким же разным он был в своих ролях. Он каждый раз видел их как бы «изнутри». Думаю, что это было по наитию, и порой он не знал, чем это кончится и что из этого получится… Он был и в жизни, и на сцене, и в кино лицедеем, как в старину называли актеров, к его искусству, мне кажется, очень подходило это понятие. Но он был, конечно, великий лицедей!
Как я уже говорил, мы с ним вместе играли в чеховских спектаклях: в «Иванове» — он Иванова, а я — Лебедева, в «Чайке» я был Сорин, а он — Дорн, в «Дяде Ване» он — Войницкий, а я — Серебряков. Он уже давно прекрасно играл в этих спектаклях, а я был введен на роли позже и не сразу ими овладел. Поэтому для меня так важна была поддержка партнеров. Разные актеры относятся к своим партнерам по-разному. Например, вахтанговский артист Н.С. Плотников говорил: «Мне партнер не нужен — он мне мешает…» Я не знаю, как относился Смоктуновский к вопросу о партнерстве. Но в «Чайке» в сцене Сорина и Дорна во втором акте он всегда охотно шел на импровизации с партнером. А вот, скажем, в третьем акте «Дяди Вани» в драматической сцене он так захлебывался своим темпераментом, что ему партнер, мне казалось, мешал… И он сам потом мне не раз говорил: «Меня так захолонуло, что я не мог себя сдержать и даже говорить…» Но играть с ним всегда было интересно, его личность вносила особую атмосферу в каждый спектакль. Правда, иногда он приходил на спектакль весь измочаленный и выжатый, как лимон, после съемок и потом говорил: «Я сегодня играл ужа-саа-юще плохо!» Да и вообще я не знаю, был ли он когда-нибудь какой-нибудь своей ролью доволен. Правда, не знаю и того, насколько это было искренне…. Но я еще в юности, помню, где-то прочитал, как великий трагик Дэвид Гаррик сказал, когда его очень хвалили за исполнение какой-то роли: «Вам это нравится? Что вы! Если бы вы видели, как я вижу эту роль и как я хотел ее сыграть, то вам бы тоже не понравилось мое исполнение…» Может быть, и Смоктуновский всегда так думал?
Когда он переехал в Москву в 1971 году, как это ни парадоксально, но мы с ним стали встречаться реже, даже когда он перешел в МХАТ. Пожалуй, только на гастролях мы возрождали нашу дружбу. Нас обычно помещали в одну артистическую комнату, и наши номера бывали рядом. Мы часто вместе бродили по Парижу, Лондону (который он очень любил), по Праге и Варшаве, Вене и Зальцбургу. Я помню, как мы с ним, Ефремовым и Марго провели невероятно интересную ночь в парижском ресторане «Арбат», где слушали эмигрантские песни. А в Зальцбурге внук и внучка знаменитого мхатовца А.А. Стаховича — Надя и Михаил Стаховичи пригласили нас в свой загородный дом, и мы ахали и охали от красоты и простоты этого дома — «прямо на природе», и Кеша шепнул Марго: «Они даже не понимают, как они хорошо живут». В такие моменты, когда он был свободен от забот и работ, он был прекрасен. А в Варшаве мы с ним были в гостях у родственников моей жены. Там он выдавал себя за «простого электрика» и валял дурака, и ему это нравилось, особенно когда ему перед уходом сказали: «Как вы похожи на артиста Смоктуновского…» Часто он и по телефону, когда звонил нам, менял голос и кого-то изображал. Я, конечно, сразу узнавал его, но поддерживал его розыгрыши. Ему очень нравилось это лицедейство в жизни.
Но я всегда старался не обременять его своим вниманием — дорожил нашей дружбой «на расстоянии». Думаю, что он это понимал и всегда откликался на мои редкие просьбы порепетировать с ним какую-нибудь сцену или посоветоваться по житейским делам. И охотно выслушивал мое мнение о его исполнении. Помню, когда он репетировал в «Чайке», я спросил у него: «Как тебе Дорн?» Он весьма вяло ответил: «Какая-то пока мне непонятная роль…» «Как? — удивился я. — Да это же замечательная роль! Я ее с радостью всегда играл в «Чайке» у Ливанова. Дорн, как и Чехов, доктор, и он ведь, как лицо «От автора» в спектакле «Воскресение», — между сценой и зрителями, с иронией комментирует все события». И как я был рад, когда на следующей репетиции Смоктуновский именно так стал говорить об этой роли…
Он был верующим человеком — носил православный крест, который однажды, как он рассказывал, соскочил с его шеи и утонул, когда он нырнул купаясь… Думаю, что он искренне всегда стремился делать добро, — ведь у него было такое трудное начало жизни и актерской карьеры.
В 1979 году Смоктуновский вновь увлекся вместе со мной идеей постановки «Царя Федора». Теперь у него, конечно, были другие стимулы — реваншистские… Он хотел воплотить
свое понимание и представление об этой роли и пьесе. Он изредка ездил в провинцию играть царя Федора. Однажды он мне рассказал, как приехал в Одессу и, увидев спектакль, хотел отказаться его играть и уехать, но потом решил взяться там за режиссуру и только после этого согласился играть. Это его вдохновило, и он решил взяться за это дело и в МХАТе. Я был счастлив. Это было замечательное время. Ефремов с готовностью согласился включить эту работу в план. Нами были предложены состав исполнителей, художник, композитор. А потом по просьбе Смоктуновского была приглашена в МХАТ в качестве режиссера Роза Абрамовна Сирота. Иннокентий очень высоко ценил ее педагогический талант и говорил, что он с ней работал и над князем Мышкиным, и над Гамлетом. И вообще считал, что после работы с ней в него поверили все его партнеры в «Идиоте», хотя до этого убеждали Товстоногова, что он ошибается в Смоктуновском и Мышкина должен репетировать другой актер.
Так вот, в 1979 году было решено начать нашу работу. К.А. Ушаковым был подписан приказ за № 327 от 27 октября 1979 г.: «Объявляется представленное режиссурой и одобренное Президиумом Художественного Совета распределение ролей по пьесе А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Режиссура — Р.А. Сирота, И.М. Смоктуновский, B.C. Давыдов. Художник и композитор будут объявлены дополнительно».
На главную роль были назначены три молодых артиста, чтобы после предварительной работы решить, кто из них будет играть. Художником сперва хотели пригласить И. Глазунова, но потом пригласили М. Френкеля. А композитором думали пригласить Б. Тищенко. Но макет, который предоставил художник Френкель, был не принят всеми во главе с О. Ефремовым. Тогда был приглашен художник М. Китаев, и он сделал великолепный макет. Вся декорация была сделана на кругу под большим церковным куполом. (Когда-то художник В. Дмитриев сделал по такому же принципу макет для «Гамлета» в МХАТе.) Прекрасные были 100 эскизов костюмов художника Н. Фрайзберга.
Работа была очень интересной. Иннокентий и Сирота дополняли друг друга, хотя порой у них были конфликты самолюбий… Роза Абрамовна все время говорила о мыслях, о содержании пьесы и ролей, а Иннокентий Михайлович — о чувствах, об эмоциях и о красках. Но они взвалили на себя невероятный груз. Надо было выбрать исполнителей из трех Федоров, из пяти Ирин, из трех Годуновых и т. д. Смоктуновский пытался доказать, что только такой демократической, студийной работой можно открыть лучших исполнителей. Но такое соревнование почему-то не вдохновляло актеров, а лишь расхолаживало. А представление Смоктуновского о роли царя Федора, которую он сам уже сыграл, скорее, сковывало актеров, а не раскрывало их индивидуальностей. Поэтому исполнители Федора или зажимались, или копировали Смоктуновского.
Что касается меня, то я режиссурой не занимался. Был счастлив, что наконец идет работа, и хотел, конечно, сыграть любую роль в моей любимой пьесе. Я вел дневник репетиций — подробно записывал процесс работы. Однажды Смоктуновский мне сказал на репетиции: «Я бы тебя в театре нигде не занимал, а держал только за то, что у тебя рождаются гениальные идеи… Иногда ты говоришь глупости, но тут же вдруг такое скажешь, что думаешь, — откуда это у него?!» (Эту запись я нашел в своем дневнике репетиций от 16.1.81 г.)
К сожалению, в феврале 1981 года я тяжело заболел и выбыл надолго из этой работы. В финале ее не участвовал, но на показе О.Н. Ефремову 11 июня присутствовал и, конечно, вел запись: «В Москве жара +32 градуса! Духота. Ветра нет. Подошвы прилипают к асфальту… От показа впечатление странное. Пьесу я хорошо знаю, но ничего не понял, и мне было скучно».
Вывод был один — завершать работу должен О.Н. Ефремов, иначе спектакль не выйдет. Конечно, нужно было еще многое сделать и, главное, решить основной состав исполнителей. И хотя работа, казалось, шла давно, но она беспрерывно останавливалась — то забирали исполнителей на другие репетиции, то Смоктуновский надолго уходил в работу над «Чайкой»…
Что касается Ефремова, он был занят после «Чайки» уже другой работой. И соревноваться с Малым театром, где по-прежнему шел этот спектакль, никто не хотел. Да и Смоктуновский как-то уже охладел…
Одним словом, работу тихо-тихо отложили, а так как я уехал на три месяца сперва в санаторий, а потом в дом отдыха, то формулировки решения руководства о спектакле не знал. А когда потом спросил об этом, то Кеша мне сказал: «Нет достойного исполнителя главной роли… А я уже стар — мне пятьдесят шесть лет. Поздно играть эту роль…» Но впереди у него было много ролей в театре и в кино. А моя мечта — возобновить «Царя Федора Иоанновича» в Московском Художественном театре была окончательно похоронена… Видимо, какой-то рок висел над этим святым мхатовским спектаклем…
Еще в 1979 году вышла книга И.М. Смоктуновского «Время добрых надежд». Эта книга — исповедь, о которой он говорил, что был в ней предельно искренен и правдив. «Нет, была там одна ложь. У меня было название — «Бремя добрых надежд», но в редакции мне предложили букву «Б» исправить на «В», и я почему-то согласился…»
Он подарил мне тогда эту книгу с неожиданной для меня надписью: «Человеку, без которого я не изведал бы глубин «Федора», — Владлену с нежной признательностью. Иннокентий. Сентябрь, 1979».
Женя Евстигнеев
В 1992 году 1 марта в Доме Станиславского наш Музей проводил вечер, посвященный 90-летию Алексея Николаевича Грибова. Мы пригласили, конечно, и Е.А. Евстигнеева принять в нем участие. В этот вечер на сцене МХАТа шел премьерный спектакль «Артель-Арт» С. Юрского «Игроки XXI», где блистательно играл свою последнюю роль Евстигнеев. Но все-таки он обещал перед спектаклем приехать на этот вечер:
— Грибов для меня всегда был примером и эталоном…
Но Женя не смог приехать. А на следующий день он улетел в Лондон, где ему пятого марта должны были делать сложную операцию на сердце.
— Влад, ничего не успеваю. — И он подробно стал объяснять мне, для чего нужна эта операция и как ее будут делать.
— Да-а, это очень сложно… Значит, мы теперь не скоро с тобой выпьем?
— Почему? Десятого марта я выпишусь. Через три дня после такой операции Таривердиев уже пил коньячок…
Он сказал, что едет с женой Ирой, что она будет рядом с ним, что все это организовал Николай Губенко и все оплачивает Комитет культуры («У меня таких денег нет»), что пятнадцатого марта он должен вернуться в Москву, а двадцать второго марта снова должен играть «Игроков» и отменять спектакль нельзя — все билеты проданы до апреля. А они теперь дорогие…
По тому, как Женя подробно мне все это рассказывал, чувствовалось, что он хоть и волнуется, но уверен, что все будет так, как он говорит. Он всегда был оптимистом, всегда верил, что все будет хорошо…
…Так получилось, что его первой ролью в МХАТе в сезон 1956–1957 годов должна была быть роль адвоката Хоукинса в «Ученике дьявола». Роль эта заключалась в том, что в 1-м акте этот адвокат читает завещание со своими комментариями. И вот, когда мы уже закончили работу «за столом» и начали «ходить», режиссер показал всем актерам, занятым в этой картине, мизансцены и сказал:
— Ну, а теперь будем их
оборганичивать…
Мне показался довольно странным такой метод работы. А Женя вдруг сразу сыграл всю роль «одним махом» — с какими-то ужимками и фортелями. Меня тогда поразила эта его «виртуозность». Но он, к сожалению, не играл эту роль в спектакле — он уже был в команде Олега Ефремова, с которым они создавали будущий «Современник». Меня Олег тоже приглашал в свою команду, но я никогда не мог и не хотел уходить из Художественного театра — даже в кино.
Я видел Евстигнеева почти во всех его ролях в этом театре. Это была прекрасная пора юности «Современника», пора всеобщей любви к нему К сожалению, в тогдашнем МХАТе мало кто смотрел его спектакли. Поэтому, когда я хвалил в нашем театре спектакли «Современника», мне A. К. Тарасова однажды сказала:
— Раз тебе так нравится этот театр, так и иди туда.
На что я ответил ей:
— Да, меня приглашал Олег Ефремов, но я хочу, чтобы и у нас в театре было так же интересно жить и работать.
Конечно, роль МХАТа в жизни «Современника» все же была очень важна. Ведь наш директор А.В. Солодовников не только предложил им это название, но и предоставлял сцену нашего филиала для их спектаклей и так же, как B.З. Радомысленский, поддерживал театр-студию Олега Ефремова в его трудные периоды.
И хотя мои друзья из «Современника» почти презирали тогдашний МХАТ, я со многими из них дружил и часто общался. И, конечно, смотрел тогда все их новые спектакли.
И какая была радость, когда Ефремов и Евстигнеев в 1970 году пришли в МХАТ! Сколько было надежд и разных планов!.. Появилась вера, что наконец состоится наше «третье поколение» артистов в Художественном театре!
Когда-нибудь историк театра подробно исследует и объективно оценит, что дала МХАТу эта «подсадка», это «скрещивание»… Это серьезная тема. Я об этом обязательно напишу. Но сейчас хочу вспомнить, как Евстигнеев тогда искренне поддерживал своего друга и учителя Олега Ефремова, которого оставшиеся современниковцы обвиняли в предательстве…
В те годы в нашем театре было много собраний и споров. Женя тогда почти слепо верил, что они с Ефремовым спасут МХАТ. Он активно доказывал — и не на словах, а на деле — необходимость обновления, осовременивания мхатовского искусства.
Его дебютом на сцене Художественного театра стали две крайне противоположные роли, которые он с блеском сыграл. Это Петр Хромов — азартный, «заводной» и честный парень в «Сталеварах» и мудро-загадочный старикан Адамыч в «Старом Новом годе» М. Рощина. Они так и остались его вершинами в этом театре. Он тогда еще продолжал играть свои коронные роли в «Современнике» — короля в «Голом короле» и Сатина в «На дне». Кстати, о «На дне». В МХАТе Евстигнеев так и не встретился на сцене с его «стариками». А вот в «Современнике» как-то вместо заболевшего И. Кваши Луку срочно сыграл А.Н. Грибов. Я, конечно, побежал на этот спектакль. Грибов страшно волновался — ведь он спектакля не видел. А репетиций почти не было. И как же оказалось интересно следить за этим «слиянием» двух «систем» — старой мхатовской и новой современниковской… Женя потом рассказывал, как все они в первый момент никак не могли уловить грибовскую манеру игры, но потом очень оценили этот «урок» великого артиста. Да и Грибов, конечно, увидел много нового в этом свежем и интересном прочтении старой пьесы М. Горького.
…Когда А.Н. Грибов тяжело заболел и уже не мог играть свою коронную роль Чебутыкина в «Трех сестрах», он решил передать ее Евстигнееву. (В свое время М.М. Яншин так же передал Евгению Леонову свою коронную роль Лариосика в «Днях Турбиных».) И хотя Алексею Николаевичу было трудно и ходить, и говорить, он все-таки приезжал на репетиции в театр и довел эту работу в 1976 году до конца. А когда у Евстигнеева в Доме актера в январе 1977 года был творческий вечер, который я вел, Алексей Николаевич передал мне записку для Жени (я ее сохранил):
«Дорогой Женя! Очень огорчен, что болезнь моя не позволяет мне сегодня быть на вашем вечере. Я всегда вспоминаю нашу работу, когда я испытывал удовлетворение от общения с тобой. Только помни, что в сутках всего 24 часа. Желаю тебе всего самого доброго в нашем прекрасном Московском Художественном театре. Обнимаю. А. Грибов».
Когда мы были с МХАТом в Чеховские дни в Ялте в апреле 1987 года, я подарил Жене нашу с ним фотографию и написал:
Конечно, мы дружили и до Ялты,
Но если б только, Женя, знал ты,
Как дороги мне эти дни общенья,
Что пролетели, какмгновенья!
Осталось мало нам таких мгновений —
Не забывай об этом, мой Евгений!
Всегда твой Владлен.
Евстигнеев всегда много снимался в кино. Именно кино принесло ему всеобщую любовь и известность. Однажды он мне предложил выступить на его творческом вечере:
— Одно отделение ты со своими роликами, а другое я с тобой и со своими роликами…
— А как это будет?
— Очень просто: ты будешь задавать мне вопросы, а я отвечать на них…
Он отобрал фрагменты из своих фильмов, в том числе из не вышедшего тогда «Скверного анекдота». Это получилась увлекательная встреча. Я получил удовольствие не меньшее, чем зрители. Мы договорились с Женей, что я буду задавать ему неожиданные и только трудные вопросы, а не те, что бывали в записках зрителей — про жену и детей. Так вот, ответы Евстигнеева были, как и его роли, непредсказуемыми, лаконичными и мудрыми. Мне всегда было интересно понять: откуда все-таки у него такая мудрость, помимо его великого таланта?
Однажды нас с ним пригласили на очередную творческую встречу в Горький, на его родину. Он поехать из-за съемок не смог и сказал мне:
— Влад, навести там мою маму. Передай привет. Скажи, что скоро добьюсь, чтобы ей дали приличное жилье. Расскажи ей про меня. Я ведь, ты знаешь, писать письма не умею. Я вот напишу: «Здравствуй, мама!» — а что и как дальше писать — не знаю…
Я, конечно, навестил его маму где-то на окраине города. И когда я увидел ее, понял, откуда мудрость и доброта у ее сына — Жени Евстигнеева…
Его интуиция была порой гениальна. Про него один мой друг сказал, что он «ноздрей слышит» (это из «На дне»). Вероятно, именно о таких актерах говорил К.С. Станиславский, что им его «система» не нужна — они сами и есть эта «система». И мне кажется, что талант Евстигнеева расцвел именно в работе с такими истинно мхатовскими режиссерами, как О. Ефремов и Г. Волчек. В их спектаклях у него всегда была «сверхзадача» и «сквозное действие». Это то, что завещал актерам Станиславский.
Думаю, что именно этим и, конечно, гражданственностью и правдой побеждали тогда спектакли «Современника». И именно это в 50-е годы стал утрачивать в своих спектаклях МХАТ, хотя в его труппе были великие актеры — ученики Станиславского…
А искусственная «подсадка» из «Современника» не спасла этот великий театр и не вернула ему былой славы. Хотя и были отдельные взлеты и в «Последних», и в «Валентине», и в «Старом Новом годе», и в «Заседании парткома», и, конечно, в замечательном «Соло для часов с боем»… Думаю, что Евстигнеев стал это со временем понимать, но ушел из театра только после его разделения, которое тоже не возродило театр и не вернуло ему прежнего лидерства.
Я об этом так определенно говорю только потому, что в 1981 году у нас с Женей было много разговоров и споров на эту тему, когда мы с ним целый месяц были на «реабилитации» в санатории в Переделкине.
…Зимой 1981 года Женя поехал в Архангельск играть в местном театре, как гастролер, в спектакле «Заседание парткома».
— На аэродроме в Москве мне стало как-то тяжело на сердце, — рассказывал он потом, — а когда прилетел в Архангельск, то еще пытался репетировать, но с трудом. Вызвали врача и тут же уложили на носилки и на «неотложке» увезли в больницу…
В то же время и я попал в Боткинскую больницу после гипертонического криза. Узнав о том, что у Жени инфаркт и он лежит в больнице, я написал ему в Архангельск письмо. А потом Женю в сопровождении врача привезли в Москву и долечивали в Боткинской больнице, где мы и оказались вместе. Но до этого я получил от него трогательный ответ на мое письмо. Вот он:
«Здравствуй, дорогой Влад!
Я был очень тронут твоей реакцией на мои «перебои» в сердце. (Как-нибудь потом расскажу.) Видимо, надо было пережить этот момент, чтобы узнать, кто и как к тебе…
Получил твое письмо и рад, что ты шутишь, — не знаю уж, как там на самом деле, но понимаю, что в нашем положении хныкать нельзя… А пофилософствовать бы можно; но только я не умею, тем более на бумаге. А мыслей разных хоть отбавляй. Почему я не родился писателем или по крайней мере графоманом? Я бы тебе такого написал, и, что самое главное, ты бы меня понял. И думаю, что уж сейчас буду жить иначе совсем, а то опять назад поворачиваю — никуда ты не денешься. А будешь делать то, что ты и делал… Только хотелось бы все-таки как-то иначе — потише, поскромнее, понежнее…
Немного о себе — в основном, лежу. Вот сейчас первый раз сижу и пишу тебе письмо. Сижу, а это значит, скоро встану и буду ходить вокруг кровати (она все-таки длинная). Потом до окна — а это уже метра четыре.
Дорогой! Все хорошо. Будем держать хвост морковкой. Хочу скорее приехать в Москву и тебя увидеть. Может быть, следует нам вместе куда-то махнуть в санаторий — правда, у нас в разных местах болит. Ну, еще поговорим. Работать, если начну, наверно, не сразу. Буду отдыхать. Хватит. Я немного испугался, а у меня еще Маша есть. Да и вообще хватит!
Ну, родной, до свидания.
Пиши. Целую.
Твой Женя.
19/11-81 г.
Привет Маргоше и Андрею.
Да, чуть не забыл — рощу бороду — по-моему, ужасно, чем-то похож на лесовика».
Как он умел слушать и порой по-детски, почти наивно, не боясь показаться «необразованным», удивляться каким-то давно известным истинам и воспринимать их как неожиданное открытие!.. Что это было — «подыгрывание» рассказчику или от простоты душевной? И вообще он умел радоваться жизни и восхищаться успехами своих товарищей.
— Блеск! Здорово! Очень хорошо! Все нормально! — говорил он мне после премьеры «Амадея». И при этом загадочно улыбался, как бы стесняясь своего мнения…
Но уж если что не нравилось, то мог «раздолбать».
Были ли у него недостатки? Да, как у всех нас, были и слабости, и ошибки. Но он редко «распахивал» свою душу. Был довольно скрытным человеком, верней, немногословным в своих чувствах и мыслях, зато твердым в принципах и верным другом. Я в этом убеждался неоднократно.
Вероятно, он чувствовал, что в МХАТе в тех ролях, которые он в последние годы получал и играл, он ничего особенно нового сделать не смог. Хотя это всегда было высочайшее мастерство. Может быть, поэтому ему захотелось сыграть еще одну чеховскую роль — Фирса в «Вишневом саде» в театре Леонида Трушкина.
В 1988 году Евстигнеев ушел на пенсию… И в МХАТе играл только свои старые роли.
Но, конечно, он по-прежнему много снимался в кино, где создал еще один образ в фильме «Ночные забавы». Но, к сожалению, не успел закончить свою последнюю работу в кинофильме «Ермак» над ролью Ивана Грозного…
…Конечно, Е.А. Евстигнеев был великий актер современности. А современность наша была разная — это и первая «оттепель» 60-х годов, и безвременье «застоя», и смутное время «перестройки» и «гласности»… Но Евстигнеев во все эти времена на сцене и с экрана говорил правду и, как все великие актеры, был впереди своего времени.
Два скульптора
У меня был троюродный брат, Саша. Его отец Александр Петрович Банников приходился моей маме двоюродным братом.
Я познакомился с этим моим братом на Уралмаш-строе, где его отец был начальником строительства «завода заводов», а моя мама работала в управлении секретарем. Мне исполнилось пять лет, ему одиннадцать. Он был выдумщиком и заводилой. Мне он нравился, я подчинялся ему во всех играх и гордился, что у меня такой брат.
Потом я встретился с ним в 1936 году в Ленинграде, когда приехал в гости к маминой двоюродной сестре, а его родной тете, у которой он тогда жил. Ему был уже восемнадцать лет. И его никак не удавалось никому направить на путь праведный. То он преподавал рисование в школе, то — танцы и приходил домой с этих «уроков» довольно поздно. Мы с ним в то время мало общались — я был еще мальчишка, а он уже мужчина.
Затем я снова с ним встретился в Ленинграде в 1941 году накануне войны у наших родственников. Он к тому времени стал профессиональным скульптором и все дни пропадал на работе — на реставрации Зимнего дворца. Я приходил смотреть, как он восстанавливал лепные украшения на окнах и скульптурах. Началась война, а он с утра до вечера продолжал заниматься этой работой на высоких лесах вокруг дворца… Потом его забрали в армию, в строительный батальон.
В следующий раз мы увиделись уже в 1943 году в Москве, когда он неожиданно появился в военной форме лейтенанта на Дорогомиловской, где я тогда жил. Приходил ко мне уставший, голодный и молчаливый. Угощать его, кроме чая, мне было нечем. Я был студентом и тоже голодал. Потом он пропал — куда-то его послали не то что-то строить, не то что-то рыть…
И я вновь встретился с ним только в 1952 году в Киеве, где он, демобилизовавшись после ранения, жил с пианисткой — красивой и доброй еврейкой Любой. Она была и старше, и выше его ростом, и крупнее. Он же совсем невысокого роста, худощавый, молчаливый и тихий, как князь Мышкин. Саша успешно занимался скульптурным делом и имел с приятелем мастерскую около дома на Малой Житомирской. Жена Люба его очень любила и гордилась им. Он делал прекрасные надгробия и хорошо зарабатывал. Но пил…
А когда выпивал, становился разговорчивым и назойливо жаловался на судьбу. Ему хотелось вырваться из этих надгробий и создать что-то «большое и серьезное», как он говорил. Но он был самоучкой. И в Союз художников его не принимали.
В 1952 году я уже был известным киноактером и даже дважды лауреатом Сталинских премий. И напарник посоветовал Саше: «Сделай бюст своего знаменитого брата!» Я вскоре уехал из Киева, но идея сделать мой бюст засела у Саши в голове. И он перед отъездом попросил, чтобы я прислал ему побольше своих фотографий: «Да, да, побольше и в разных ракурсах. Я делаю надгробные бюсты по фотографиям покойников, и все довольны…» Я, конечно, несколько опешил: «Я ведь еще живой!» — «Но ты же уезжаешь!» Против такого аргумента возразить было нечего, и я отправил ему свои фотографии. И стал ждать, что же будет дальше.
Прошло несколько месяцев, и я получил письмо с фотографиями вылепленного им бюста. Саша просил меня ответить, нравится ли мне его работа и не смогли бы я приехать в Киев попозировать или, если я не возражаю, то он сам мог бы приехать с работой ко мне в Москву, чтобы ее закончить «по оригиналу»… Я понял, что для него сейчас самое главное в жизни — экзамен на профессионализм. И написал, что в Киев приехать не смогу, а если он сумеет приехать на несколько дней в Москву, буду ждать.
Я не очень-то представлял, как он сможет привезти свою работу в Москву. А он приехал и привез бюст в 1,5 размера… Мы жили тогда напротив Киевского вокзала, на Дорогомиловской улице в шестнадцатиметровой комнате — я, моя жена Марго, двухлетний сын Андрей и домработница Валя. И вот в эту комнату он привез мой бюст и поставил на стол. День-два он что-то «уточнял», а потом спросил: нет ли у меня знакомого скульптора-профессионала?
Я тогда после киноуспеха часто бывал в ресторане Дома актера, а там был постоянный посетитель Виктор Михайлович Шишков — высокий, благородного вида человек с интеллигентным красивым лицом. Он был довольно преуспевающим скульптором и даже вроде каким-то начальником в Союзе художников. Человек он был общительный и загульный — многие его знали, многие были его «друзьями». Я позвонил ему и объяснил свою просьбу. Он ответил:
— Понял. Давайте адрес, я приеду.
Я сказал брату:
— Надо его хорошо встретить — он пьет только коньяк…
Мы встретили Виктора Михайловича на самом высоком уровне — с коньяком и кофием… Он долго молча рассматривал со всех сторон сперва меня, потом бюст. Выпил рюмку, другую. Потом снял пиджак, засучил рукава, попросил дать ему фартук, взял в руку инструмент, взглянул на Сашку и сказал:
— Щеки-то у него должны быть параллельными. Можно, я их срежу?
— Ну конечно.
Он еще что-то поправил, выпил снова и сказал:
— Дело у твоего брата пойдет, он талантливый, если он по фотографиям сумел сделать почти всю работу!
Тут, конечно, выпить пришлось уже всем да и еще открыть новую бутылку…
Вернулась после репетиции Марго и пришла в ужас — комната была вся в табачном дыму, перемешавшемся с запахом сырой глины и коньяка. Саша стал извиняться перед ней и благодарить Виктора Михайловича и меня… Мы отправились провожать Шишкова, посадили его в такси, а Саша пошел на Киевский вокзал за билетом. Дело было сделано! Через два дня я провожал счастливого Сашу и помогал ему нести «себя»…
Через полгода Саша написал мне, что он продал бюст за 15 000 рублей. И что его взяли на какую-то выставку. Он был счастлив и подал заявление о приеме в Союз художников.
Прошло года три. Саша уже имел собственную мастерскую, но ему нужен был новый успех. Я посоветовал ему сделать бюст народной артистки, лауреата многих Сталинских премий, депутата Верховного Совета СССР, директора МХАТа Аллы Константиновны Тарасовой. К тому же она еще и киевлянка. Я прислал ему ее многочисленные фотографии, которые она мне с удовольствием дала: «Ведь это твой брат и живет в моем родном Киеве!»
Работал он в этот раз долго. Звонил мне, писал письма с вопросами: какой ему сделать бюст — оригинальный, классический, бытовой? Ну, что я мог ему посоветовать? Тарасова — великая актриса, с драматическим темпераментом, женщина с порывами и очень красивая…
Одним словом, он наконец прислал мне фотографии этой своей работы. И просил их показать Тарасовой. И если она их одобрит, то он так же, как и раньше, приедет в Москву, чтобы закончить ее бюст.
Она одобрила. И он приехал. Тогда, в 1957 году, мы жили уже в большой двухкомнатной квартире на улице Чайковского, около площади Восстания. Он опять хотел сначала показать свою работу Виктору Михайловичу Шишкову, который тогда уже стал не только скульптором, но и чиновником. Я боялся, что он не отзовется на нашу просьбу и не приедет. Но когда он узнал, чей бюст Саша ваяет, он тут же приехал, благо его мастерская была через дорогу — на углу площади Восстания. Приехал, посмотрел, ничего не трогал, только посоветовал, в какой материал надо бы перевести эту «серьезную работу».
Теперь нужно было показать этот бюст самому оригиналу — А.К. Тарасовой. Как она отнесется к нему? Я позвонил ей, узнал, когда она смогла бы посмотреть работу Саши.
— А где это? У тебя дома? Как он привез это к тебе домой?
Мы договорились, когда я заеду за ней. Приготовили для нее чай, кофе и торт. Она приехала, стремительно вошла в комнату, где стоял ее бюст, и вдруг вскрикнула с радостным восторгом:
— Ой, ой, как мне нравится, как я похожа! Да, я такой была молодой!
Меня поразил и удивил ее непосредственный восторг. Она растаяла, села пить с нами чай, стала рассказывать, какой у нее успех в роли Марии Стюарт и как она возмущена, что дали играть в МХАТе Анну Каренину какой-то опереточной актрисе «со стороны» да еще пишут такие восторженные заметки!
— Если ей дадут роль Нины в «Чайке», я уйду из театра!
Ну, тут мы решили перевести разговор на ее бюст.
— Да, мне очень нравится! И я хочу, чтобы на моей могиле был поставлен этот бюст!
Кстати сказать, родственники этого ее пожелания не выполнили. На могиле А.К. Тарасовой стоит памятник, который они заказали было модному в то время ленинградскому скульптору М. Аникушину. Он же перепоручил заказ своей жене. Памятник, на мой взгляд, неудачный: то ли это Комиссаржевская, то ли Коркошко, то ли еще кто-нибудь из актрис, но только не Тарасова. Он стоит на ее могиле на Введенском кладбище. Тут родственники выполнили волю Аллы Константиновны: похоронили ее не на престижном полуправительственном Новодевичьем, как настаивала министр культуры СССР Фурцева, а на Введенском, рядом с родней.
Одним словом, Саша был счастлив и бесконечно благодарил Аллу Константиновну. Мы отвезли ее домой и позвонили В.М. Шишкову. Рассказали ему все. Он заявил, что мы должны немедленно прийти к нему в мастерскую.
— Я жду вас, чтобы отметить это событие!
Мы запаслись коньяком и лимонами и явились к мэтру, чтобы его благодарить за поддержку и этой Сашиной работы. Опять все было радостно и приятно. Виктор Михайлович разоткровенничался и объяснил, почему он пригласил нас в мастерскую:
— Хочу показать вам свою работу. Вот она!
Он снял покрывало со своей новой работы. Это был бюст Маленкова.
— Я решаю его образ как ученика Ленина. Вот его левая рука на томике Ленина, а правой он держится за отворот френча. В этом жесте — покой и воля!
Мы молчали. Он предложил выпить и обсудить его работу, и Сашину, и все, что сказала Тарасова. Потом уж совсем разоткровенничался и рассказал нам довольно невеселую историю.
…Он делал по заказу Центрального дома Советской Армии бюст… Л.П. Берии. Получил задаток. Потом работу приняли, но с ним не успели расплатиться.
— В это время Берию арестовали. Тянули мне с оплатой. Я звонил в бухгалтерию. Мне сказали, мол, подождите немного… Потом Берию расстреляли… Но работу-то я сделал и ее приняли! Мне бухгалтер говорит: «Да что же вы не понимаете, чем это пахнет для меня, если я вам заплачу за «врага народа» — за эту вашу работу?!» И тогда директор составил такой акт: «Работа закончена, принята и за ненадобностью уничтожена»! Мне заплатили. Ну, теперь уж я делаю этот бюст «верного ленинца»!
Но в конце 1957 года В.М. Шишков и эту работу не знал, куда девать… Однако и это еще не все. Не менее трагикомичная история произошла еще и позже.
Прошло пять лет. В Москву из Праги приехал на юбилейный спектакль автор пьесы «Дом, где мы родились» Павел Когоут. После спектакля мы отправились в ресторан Дома актера. И там-то я снова встретился с Виктором Михайловичем Шишковым. Он за это время постарел, поседел, но бодрился и гордился своими успехами. Он сидел в ресторане в окружении грузин, которые не то его угощали, не то сами угощались за его счет. Увидев нашу актерскую компанию, он предложил всем ехать в его новую (большую!) мастерскую у Смоленской площади во дворе огромного дома.
Грузины прихватили свои бутылки. Поехали. Приехали. Пили, смотрели новые работы хозяина: Юрий Олеша, еще какие-то знаменитости… В самом центре мастерской стояла накрытая скульптура, круглая и большая, как спина слона.
— Ну, а что же это? Что? Маэстро, покажи нам! — настаивали гости-грузины.
Виктор Михайлович скинул сырое полотнище, и открылась огромная голова… Хрущева! Ну, что тут произошло с пьяными грузинами!.. Никто такого не ожидал. Они схватили бутылки и стали — нет, не поливать! — а бить их об эту голову…
Когоут мне тихо сказал:
— Владлен, нам лучше уйти. Проводи меня до гостиницы.
И мы сбежали. И долго ловили на улице такси… А компания продолжала кричать, но уже во дворе…
И это еще не конец истории с нашим другом — скульптором В.М. Шишковым.
Года через два-три я встретил его в пельменной около МХАТа. Он, оказывается, жил рядом с театром в доме № 1 на третьем этаже. Был он абсолютно трезвый, мрачный и вяло жевал посиневшие пельмени… Следы былой красоты и величия еще сохранились в его облике. Ясно, что первый вопрос к нему у меня был:
— Как дела? Кого ваяете?
— Все, теперь я делаю скульптуры только покойников! Вот сделал Свердлова — в метро стоит, моя работа. Сделал Жуковского. Сейчас получил новый заказ, но это живой деятель — я отказался… А как ваш брат?
— Не знаю. Давно его не видел. Но у него молодая красивая жена, сын хочет быть художником… Бюст Тарасовой стоит в Киеве в школе, где она училась. А мой бюст был на выставке в Воронцовском дворце в Крыму. Саша мне прислал фотографию с выставки. Стоит пока там. А Саша, говорят, опять делает над фобия и спивается…
Саша был человеком своеобразным. Он вдруг пропадал куда-то, и ни слуху ни духу о нем долго не было. Потом вдруг появлялся… Иногда неожиданно звонил мне. Потом опять пропадал на годы. Однажды он ко мне зашел, когда ехал в Свердловск. Он решил делать бюст своего отца — основателя «завода заводов» — УЗТМ имени Орджоникидзе.
В 1978 году я был с МХАТом на гастролях в Свердловске. Нас принимал у себя в кабинете первый секретарь обкома КПСС Б.Н. Ельцин. И я спросил его:
— Как и где решили установить памятник Александру Петровичу Банникову?
Ельцин как-то зло и неохотно ответил — вроде того, что, мол, ваш братец подвел нас… В общем, памятник не состоится. Почему? Я так и не понял. А Саша опять пропал…
Когда же я через десять лет приехал в Киев на гастроли с МХАТом и хотел найти брата, то мне сказали, что скульптор Александр Александрович Банников, кажется, умер. А потом я получил телеграмму из Ленинграда от наших родственников с сообщением о его смерти… И все!
Но вот в 2001 году мы снова были на гастролях, уже теперь в Екатеринбурге, и я съездил на Уралмаш и увидел, что перед правлением завода на площади стоит обелиск с изображением А.П. Банникова! А кто автор, я не узнал, но, конечно, не Саша Банников…
Неожиданная встреча
Летом 1979 года после серьезной операции, сделанной Марго, мы с ней решили поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий. Заместитель директора театра Виктор Лазаревич Эдельман (который «все может!») предложил нам купить путевки в санаторий Госплана «Вороново». Путевки были очень дорогие, и мы решили, что, значит, это очень хороший санаторий!
Рано утром 16 июля мы сели в такси и поехали к зданию Госплана на Охотном ряду — теперь там Дума. А оттуда на автобусе — прямо в санаторий.
Еще когда мы ехали в такси и остановились перед светофором у метро «Проспект Маркса», Марго вдруг прочитала вслух:
— Метро имени В.И. Ленина. Как? Ведь было имени Кагановича?
— Ну что ты, это было уже давно.
— А где сейчас Каганович?
— Этого никто не знает, — ответил я ей.
И вот мы приехали в санаторий «Вороново». Это огромное серое модерновое здание, похожее на наш новый МХАТ, который я называю «МХАТ-хаузен». А это здание вдобавок извивается, как дракон. Я назвал его «Линия Маннергейма» — его строили финны.
У входа лежал громадный черный пес, а вокруг него бегали пять-шесть собак помельче. Вдруг к дверям подошел большой конь с бельмом на правом глазу, постоял и пошел в лес…
Нам дали небольшую уютную комнату с балконом над входом и с видом на лес. Солнце с трех часов, но его сейчас совсем нет.
В столовой у нас оказались милые соседи, которые нам сразу же сообщили, что видели здесь… Л.М. Кагановича!
И действительно, вечером у входа мы повстречали Кагановича, я поздоровался с ним, он подал свою громадную ладонь со словами:
— А-а, Художественный театр!
И добавил, что он тут живет с дочерью Маей, которая приезжает на субботу и воскресенье.
— Я тут на все лето, впервые за двадцать лет на воздухе. Дачи ведь у меня нет…
— А почему?
— Ну, так вот получилось…
Потом мы с ним здоровались, когда приходили в столовую, — он сидел один за столом при входе.
В пятницу вечером на ужине появилась Мая, и они усадили меня рядом для разговора. Мая, конечно, меня помнила и по фильмам, и по спектаклям. Подошла Марго, и мы отправились гулять по громадному холлу на втором этаже. Марго с Маей, а я с Лазарем Моисеевичем. Мне, конечно, было интересно с ним поговорить о многом…
Перед сном я каждый раз подробно записывал эти разговоры. Марго уж умоляла:
— Ну, гаси же наконец свет, ты мне мешаешь спать, уже двенадцать часов!..
А я боялся забыть подробности наших бесед.
За эти годы меня несколько раз просили дать их для печати. Но мне казалось, что при жизни этого человека опубликовывать наши беседы нельзя… И вот теперь я достал эти мои записи…
22 июля, 1979 год. Санаторий «Вороново». Первый разговор с Л.М. Кагановичем и его дочерью Маей
«Разговор начался об артисте Михаиле Боярском.
— Он не имел отношения к Боярскому из ЦК РАБИС? — спросил Каганович. — Я его знал хорошо.
— Нет. Он сын артиста. А тот был директором МХАТа… А знаете, у меня есть в архиве газета 1938 года, где на одной странице вы сняты на юбилее МХАТа вместе со Сталиным, а на обороте — вы с братом Михаилом Моисеевичем встречаете Раскову, Гризодубову и Осипенко…
— Да, когда мы приходили в МХАТ, Немирович-Данченко всегда встречал папу в ложе, — сказала Мая.
— А вы откуда родом, Лазарь Моисеевич?
— Я из Радомышльской волости. Из нашей семьи два брата — министры Союза Советских Социалистических Республик, я и Миша. Я самый младший из пяти братьев. Все коммунисты. Миша с 1905 года, и сестра тоже. А семеро братьев и сестер умерли… Я в 1925 году был генеральным секретарем Украинской партии большевиков. Бывал в Могилеве-Подольском. Это на границе с Бессарабией. Там еще мост был взорван. Был и в Киеве.
Мая:
— У нас есть фото, где мы на вокзале с мамой в 1925 году… Ну, мне пора на автобус, а то без места останусь…
— А что, Мая с дочкой живет?
— Да. А сын у нее кандидат экономических наук.
— А он член партии?
Громадная пауза.
— Нет. Он не вступил. Не захотел всего рассказывать…
— А как его фамилия? Каганович?
— Нет. Минервин. Фамилия отца его. Он архитектор. Но он повел себя не как должно, и они расстались… А Мая готовила в 1957 году кандидатскую диссертацию и имела уже два отзыва — академика Грабаря и Жолтовского… но не дали ей защититься…
И он повел меня к себе в номер 440-люкс.
Мы стали говорить о том, где в Кремле жил Сталин.
— С 1918 по 22-й годы — направо, в двухэтажном доме у Троицких ворот. Потом в Потешном дворце… Он сломан? Нет?.. Я давно не был в Кремле. А я жил напротив Оружейной палаты, во дворике. Потом Сталин жил там, где сейчас Совет Министров, там был его кабинет. А сейчас вряд ли кто там сидит. И библиотека его цела. А второй кабинет Сталина был в ЦК. Во время войны бомба попала в здание Арсенала на территории Кремля, и там были сильные разрушения… (После небольшой паузы.) Я вам сказал, что внук мой — не в партии, а Мая тридцать пять лет в партии — она вступала в кандидаты в 42-м году…
— Сколько ей лет?
— Это ее секрет.
— А вы в партии?
Громадная пауза. Голову опустил и с трудом ответил:
— Нет. Ни я, ни Молотов, ни Маленков пока не восстановлены в партии…
Говорили о войне. Я сказал:
— Как же так можно было не подготовиться?!
Он возразил категорически:
— Мы не могли позволить, чтобы нас обвинили в подготовке к войне, мы же страна социализма!
— Но ведь в боксе каждый ждет удара и готов его отразить.
— Война не бокс, но мы готовились: пятилетки, коллективизация — без этого мы бы не победили.
— Мне нравятся «Воспоминания» Жукова и Штеменко. Штеменко однажды у нас на съемке «Освобождения» сказал о кабинете Сталина: «Я здесь много пережил хороших и плохих моментов».
— Ну, Штеменко не часто там бывал… Но военные более объективно пишут о Сталине. Хотя все-таки Сталин не только подписывал приказы о готовых операциях. Он был не царь, он сам был стратег, и еще в Гражданскую войну известны его операции. Так что это неверно. Вот вы почитайте роман Стаднюка «Война», там о начале войны не все, но верно написано.
— А вы с какого года в партии?
— Я с 1911 года, а Молотов с 1906 года. Нас всего человек десять осталось с таким стажем…»
«…У него глаза ясные, цвета морской гальки, серо-зелено-карие. Лицо свежее, почти без морщин — только на лбу одна. Лысоват. Волосы обсыпаны сединой, как и брови, и усы, которые он часто разглаживает, когда собирается что-то умное сказать, лукаво улыбаясь… Но впечатление такое, что он не умен, вернее, не гибкого ума — все, что он говорит, очень упрощенно и очень уж элементарно. Что — он таким стал к старости (ему, вероятно, лет восемьдесят пять, хотя на вид лет шестьдесят пять-семьдесят) или всегда был таким? Может, Сталин специально окружал себя подобными примитивными людьми? Тогда страшно! Особенно когда он сказал:
— Мы стали такими всепрощающими, а некоторые дети все предают… Надо было до третьего колена всех убрать!
Я спросил его:
— А вы пишете воспоминания?
— Нет. Нету возможности. Некому не только помочь написать, но и просто, подобрать материал — цифры, факты. Ведь во время войны, например, миллионы вагонов по железной дороге шли на фронт с востока, но и на восток везли все, что нужно. Этого немцы не могли предвидеть. Об этом по памяти писать невозможно, да и несерьезно. А потом — что писать? Для кого писать?
— Для истории.
— Для истории? Ведь сейчас растут дети и внуки — как им все это рассказать? Я человек, который глубоко верит в коммунизм, и я не могу о Сталине так писать… Ведь Робеспьера сместила не оппозиция, а «болото»… Надо же понимать, какие силы и когда берут верх. Вот Бланки это сказал, нет, не Бланки, а Бабеф… Так что очень трудно писать о больших делах только по памяти, и надо знать, для кого писать. Если это прочтут через двести-триста лет — другое дело…
— Адмирал Кузнецов, который дважды пострадал, написал три книги, но сказал мне, что без архивов это невозможно сделать.
— Ну, разве он пострадал? У него была хорошая судьба. А вот я работал в разных учреждениях, и весь мой архив разбросан, и собрать его трудно.
Марго в это время гуляла с Маей, и она рассказывала:
— У меня сыну тридцать восемь лет и дочери двадцать четыре года, есть уже внуки — правнуки Лазаря Моисеевича.
Потом мы спустились в холл на первом этаже. Марго ушла к себе. Мы сели. Лазарь Моисеевич сказал, что видел меня в «Последних»:
— Вы замечательно играете. Вам надо что-то крупное, монументальное создать. Вот вы Рокоссовского прекрасно сыграли, и во «Встрече на Эльбе» я помню вас — это было серьезно. Вам надо найти автора и с ним о чем-то большом сказать. Вы в расцвете сил! А вот в библиотеке ЦК работает Давыдова — это ваша родственница?
— Нет. Моя мама тоже работала в ЦК, но была техническим секретарем и секретарем-машинисткой в отделе у Поспелова, у Александрова, у Лычева в Управлении делами, у секретаря парткома ЦК Холина (мама его звала «мистер Холин» — он был очень строг и горд).
Заговорили об актерах. Каганович рассказал:
— Мы однажды много говорили о театре с Пляттом, Борисом Смирновым, Степаном Щипачевым и Раневской. Плятт не очень, а Смирнов мне очень понравился. Он Ленина лучше всех играет. А вот у Щукина был не тот консультант, и он ему не так, как надо, подсказал… Я не буду говорить его фамилию.
— Лазарь Моисеевич, все-таки вы должны писать. Что-то вспомнили — тут же запишите. Ведь самое интересное — взаимоотношения людей, их характеры. Я помню, как Новый год с 1956 на 1957-й мы с Марго встречали в Кремле. Вели концерт. Как все было интересно. Говорил с вами, с Молотовым. Там и с Рокоссовским познакомился. Был Ив Монтан и очень возмущался, что первая скрипка мира Давид Ойстрах играл, а люди пили, ели и даже сидели спиной к сцене.
— Да, это нехорошо. Но эта программа была задумана без нас, не мы решали.
Он спрашивал о Прудкине, Степановой, Петкере:
— Сколько им лет? Как они? А как принимают теперь Чехова? А где говорят о мафии?.. Надо этот спектакль посмотреть («Мы, нижеподписавшиеся». — В.Д.)
Потом сказал мне:
— Я помню вашу королеву Марго в «Кремлевских курантах» и в «Провинциалке» с Пляттом, она там играла».
23 июля
«Сегодня опять у входа бродил конь Васька, так как его хозяин-лесник, говорят, болен, или запил, или лежит в больнице… И опять гулял Л.М. Каганович… Они даже чем-то похожи: конь-битюг, статный, широкий, с крупными неподкованными ногами, с бельмом на глазу, с широким крупом… и Лазарь Моисеевич, такой же весь приземистый и квадратный, с крупным лицом, большими руками и ногами — и тоже гуляет у входа…
После обеда мы с Марго гуляли с Лазарем Моисеевичем, а конь бродил рядом — его все кормил и-хлебом и сахаром, а одна старушка хотела прогнать, и черная большая собака Машка пыталась его укусить сзади, так как он бродил по тому месту, где она обычно лежит. Потом коня кто-то шуганул — он мотнул головой, нехотя вышел на газон, согнул шею дугой, опустил голову и поскакал в лес. С Кагановичем говорили о кино.
Марго спросила:
— А правда, что Сталин любил кино «Большой вальс» и часто его смотрел?
— Да, он очень любил кино. Мы долго заседали, работали, потом шли ужинать и там продолжали что-то обсуждать, а после шли смотреть кино. А потом опять, в двенадцать или в час ночи, шли работать. Это неверно, что Чаковский пишет о Сталине, будто он рационален. Нет! Сталин был очень эмоционален, но умел скрывать это…
Пошли тучи. Вдруг стало темно…
— А вы помните прием писателей под Москвой, в Семеновском? Марго вела там концерт и рассказывала, какая тогда была гроза!
— Да, это было важное совещание с работниками литературы. Тогда досталось старой поэтессе, говорят, она была любовницей Фадеева. Как ее фамилия? На «г»… Забыл. (Алигер. — В.Д.)
— Совещание-то важное, но каким тоном велся разговор и зачем так ругали Константина Симонова? Он сейчас, говорят, очень болен — рак…
— Он, Симонов, остановился тогда. Надо было его подтолкнуть. А сейчас он стал писателем факта. Недавно я прочел в «Литературной газете» о литературе факта и художественной литературе.
— Я за литературу факта, а не за выдумки.
— Я здесь много читаю. И меня, и Молотова спасло то, что мы не теряем своей идеи, жизненной позиции…
Тут я спросил Лазаря Моисеевича:
— Скажите, как вы пережили 1957 год? Вот я был очень известным актером, меня все радостно встречали после «Встречи на Эльбе», но потом меня стали забывать, и я стал таким артистом, каких у нас тысячи. Я не огорчался, так как у меня был МХАТ. Это меня и спасало. А вы?
Лазарь Моисеевич задумался и ответил не сразу:
— Да, я тогда упал с двадцать пятого этажа… Но ведь я раньше тут уже был — внизу, и ведь жил! Я и стал жить — искать силы духа. Как и раньше, в марксизме-ленинизме. Это наука, которая освещает все — историю, политику, экономику и современные события в мире. И я вижу не внешнюю сторону сегодняшнего дня, а причины, породившие эти события. Вот моя идея! И надо время от времени стряхивать с себя пыль — откуда она только берется? Как на костюме. Надо быть самому себе прокурором, чтобы не попасть к настоящему прокурору… Я большевик и всегда останусь им, я верю в коммунизм и думаю, что надо хоть на один шаг к нему приблизить жизнь своим трудом, а потом, лет через двести-триста, это учтется… Ведь родится ребенок — кусок мяса, а из него надо сделать человека, воспитать его. Так и коммунизм… Как один одессит заканчивал все свои речи: «Вот в этом весь соль!» Карл Маркс сказал о коммунизме в «Критике Готской программы». Почитайте…
…И Лазарь Моисеевич начал говорить цитатами и общими формулировками о социализме — «от каждого и каждому» и т. д. Стало страшно от этого примитива. Я попытался его перебивать: да, это все так, но очень уж трудная жизнь и люди живут вовсе не в одинаковых условиях, существует социальное неравенство, резкие материальные контрасты… Но он не слушал и продолжал говорить:
— Да, равенства не может и не должно быть при социализме. Об этом сказал Маркс. А Ленин писал «Великий почин» не только о субботниках, вы перечтите внимательно…
И мы пошли с Марго за огурцами, а он — делать массаж ног и рук, у него радикулит и еще что-то…
— Вот, хожу без палки. Такого массажиста не было у меня и в те времена…»
27 июля
«Лазарь Моисеевич шел вечером усталый и мрачный. И за столом сидит, опустив голову в тарелку, старается никого не видеть…»
28 июля
«Приехала из Москвы Мая, привезла для Марго пластырь от радикулита. Я с ней общался.
— Папа очень расстроен. Он разговаривал с каким-то журналистом, и тот что-то такое ему сказал, отчего папа скис… Ему трудно ходить в столовую. Когда я приезжаю, то ношу ему завтрак в номер. Ему так тяжко все время быть на людях! А он хочет в театр… Мне это трудно: и билеты покупать в кассе, и в гардеробе пальто сдавать, и еще такси вызывать… Я как-то обратилась за билетами в МХАТ, в дирекцию, а со мной ваш Эдельман так нехорошо поговорил. Правда, билеты дал, но очень плохие места… А ведь папе восемьдесят шесть лет! Да, кстати, село, о котором он вам говорил, под Радомышлем, называлось Каганович. Там мама родилась.
— А был еще город Каганович у Каширы.
— Да? Я этого не знала».
31 июля
«Днем я познакомил сына Андрея с Кагановичем, и мы прогуливались втроем. Лазарь Моисеевич говорил:
— Мне понравилось здесь ваше вчерашнее выступление с фрагментами из фильмов. Но я очень волновался за вас перед началом… Сперва беспокоился, придет ли народ — ведь здесь такие люди. Потом волновался, как вы выступите… Но все хорошо, поздравляю вас с успехом! Вы молодец! Очень мне понравилось, когда вы сказали, что указ об открытии Школы-Студии МХАТ подписал товарищ Сталин, Эго верно. Но мне не понравилось, что вы себя ускромнили. Зачем? Зачем так много говорили о своих творческих неудачах и о Дружникове? Не надо! Вы — совсем другой, и вы имеете право о себе говорить по-другому! И еще мне не понравилось, как вы сказали, что Сталин «вИгоняет Рокоссовского» — это неверно! Сталин мог сказать: «Вийдите в другую комнату и подумайте», — а не «вИгонять»… В этой сцене в «Освобождении» переборщил Озеров или сам Рокоссовский. Я хорошо знаю Сталина. Он так не мог сделать. Он говорил тихо и очень спокойно, но это было страшнее, чем крик… Крик — это слабость, а не сила. Потом, вы должны были Бессонова сделать отрицательным, а то вы очень красивый и хороший — правы девочки, что задали вам такой вопрос. У Алексея Толстого об этом написано иначе. И хорошо, что вы играли его не под Блока. Это, скорее, Андрей… этот… Бе… Бе… Белый. И правильно, что вам не дали роль Рощина — он наш враг. А то Ножкин хвалился, что играл эту роль, а чем тут можно хвалиться?! У вас все фильмы в вашей программе хорошо подобраны».
«Я рассказал анекдот про Сталина:
— Сталин хотел закурить, но ни одна спичка не зажглась. «Вызовите ко мне для разговора министра легкой промышленности». Пришел. «Не в службу, а в дружбу, дайте мне прикурить». У того тоже не зажглась ни одна спичка. «Ну, вот мы с вами и поговорили…»
Стали говорить о Б. Закариадзе. Я сказал:
— Сталина он, по-моему, играл хорошо.
Лазарь Моисеевич согласился:
— Да.
И тут же стал возражать:
— Но он у него очень старый. Сталин тогда таким не был. Вот в кинохронике, вы же его видели, он не такой!..
Я согласился:
— Об этом и Штеменко ему сказал: «Вы не обидитесь, товарищ Закариадзе? Вы играете Сталина дряхлым, а он был орел!» «Спасибо, что вы мне это сказали, но я уже сыграл свою роль», — ответил ему Закариадзе.
Потом я рассказал Лазарю Моисеевичу о Н.К. Симонове:
— Когда его хотели уволить за то, что он сорвал спектакль в театре, он только сказал: «Мне это очень неприятно, так как товарищ Сталин, когда об этом узнает, очень расстроится — ведь мой портрет в роли Петра Первого стоит у него на столе».
Лазарь Моисеевич очень хохотал и спросил:
— Это правда? Очень остро! Не уволили его?
А я опять стал настаивать, что ему надо писать воспоминания:
— Пусть это будут даже отдельные эпизоды, потом они сложатся в книгу. Надо, чтобы кто-нибудь помог. Ведь Брежнев, конечно, не сам писал свои книги, а кто-то за него.
— Да, наверно, и не один человек… А у меня нет никого. Мне надо все самому делать — даже просто писать на бумаге. Это очень трудно. Надо ведь уметь, а то напишешь ерунду какую-нибудь. У меня, конечно, есть возможность ходить в библиотеку Ленина, там есть абонемент у меня, но это все не то…
Стали говорит о возобновлении «Царя Федора Иоанновича» в МХАТе.
— Вы должны играть Бориса. Это сильная личность и прогрессивная, он начал то, что сделал потом Петр Первый. А как у вас сейчас в театре? Как вы относитесь к. современной эволюции? Как ваши «старики»?
— Да их уж нет почти, а тем, кто остался, уже под восемьдесят.
— Значит, инфаркты им уже не страшны… Я видел Массальского, очень похудел, это что — нарочно?
— Нарочно так не худеют.
Майя спросила:
— А где Вербицкий? Такой красивый, я его часто встречала. Папа, помнишь, он играл в «Княжне Мери».
— Он умер, покончил жизнь самоубийством. Это был очень порядочный человек, мой друг и однокурсник…
— Я встречался с режиссером Александровым, когда он снимал доклад товарища Сталина в Кремле в 1936 году. Мне было поручено этим заниматься, — сказал Лазарь Моисеевич после паузы.
— Александров говорил что ему Ворошилов давал сигнал, когда снимать, а когда не надо… А интересно, что было в письме, которое перед смертью написал в ЦК партии Фадеев? — спросил я.
— Я думаю, что он покончил с собой по личным мотивам, а не из-за политики. Он ведь пил очень.
— Да, и Шолохов пил и пьет, но он же не стреляется, как Фадеев или как Орджоникидзе. Орджоникидзе ведь тоже застрелился, а об этом не писали тогда, а сказали — от сердца умер…
Лазарь Моисеевич задумался. Уставился в пол. И ничего мне не ответил…»
«У него громадные ботинки, голос, как у Боголюбова, и анекдотически еврейская речь — с неверными ударениями, как у Эдельмана».
2 августа
«Я спросил Кагановича про «Дом на набережной» Юрия Трифонова.
— Вычитали?
— Нет, — ответил он. — Это плохое произведение… А вам надо что-то крупное сыграть, значительное.
— Вот буду в «Царе Федоре» Шуйского репетировать.
— А это интересная роль. Этот — с большой бородой? Хорошо!.. Я вас называю Давыдов, как в «Поднятой целине» у Шолохова…
Я спросил:
— Правда ли, что у Сталина случился удар в 1943 году?
— Нет, он всю войну был здоров!
— А как Сталин вел себя в первые дни войны? Говорят, он очень растерялся.
— Почему? Кто это знает?
— Я читал у Жукова, у Кузнецова, у Штеменко.
— Он не растерялся, а сомневался. Он не хотел верить, что это большая война. Думал: может быть, это маневр, провокация, может быть, Гитлер предъявит ультиматум, потом пойдет на переговоры со своими условиями.
— То есть как сейчас Китай начал агрессию против Вьетнама?
— Да, именно так!..
— Но что-то он долго пребывал в сомнениях, почти две недели… и двадцать седьмого июня уже взяли Минск, а он выступил только третьего июля… Где у него находился кабинет? В метро «Кировская»?
— Да, там был штаб. А потом сделали бомбоубежище в Кремле, под его домом, где был сквер. Там мы и работали…»
«Встретились с Лазарем Моисеевичем в столовой.
— Хочу с вами попрощаться, — сказал он. —Уезжаю в Москву. Скоро День железнодорожника, меня в этот день всегда поздравляют. Ведь я во время войны руководил всем железнодорожным транспортом».
С.Т. Рихтер
Однажды мы с Игорем Квашой пришли к Виталию Яковлевичу Виленкину на день рождения и встретили там Святослава Теофиловича Рихтера. Произошла очень занятная беседа. Мне надо было идти на спектакль «Мы, нижеподписавшиеся». Святослав Теофилович спрашивает:
— С кем и зачем подписавшиеся?
— Да вот мы вместе с Калягиным. Он играл по телевидению тетку Чарлея. Вы его не видели?
— Нет, я не хочу заболеть раком и не смотрю совершенно телевизор. А это кто — Конягин или, я ошибаюсь, Конякин — новый артист у вас?
— Да, он пришел в МХАТ вместе с Ефремовым.
— А-а… Виталий Яковлевич, это тот Ефремов, который уснул у вас тут за столом? Разве он работает еще в МХАТе?
Тут Кваша не выдержал:
— Влад, ты что, не видишь, что Святослав Теофилович разыгрывает нас, шутит?..
Да, видимо, он любил вдруг задавать наивные вопросы на полном серьезе… Это его развлекало. Так я познакомился с Рихтером.
4 октября 1985 года на площади Пушкина случайно встретил С.Т. Рихтера. Подошел к нему, поздоровался, рассказал о памятной доске Ф.М. Блуменфельду, установленной на его доме в Крыму, в Ботаническом саду. (Феликс Михайлович Блуменфельд (1863–1932) — известный композитор, дирижер и педагог — дедушка моей жены Маргариты Анастасьевой, дядя Генриха Густавовича Нейгауза, который был учителем Святослава Рихтера.)
— Да, да, припоминаю… это было в июне. Если бы я точно знал, конечно, прислал бы на открытие телеграмму.
Я сказал, что сегодня в МХАТе был сбор труппы и что я наконец сделал телефильм о Б. Добронравове.
— Первый спектакль, который я увидел в Художественном театре, — ответил Рихтер, — была «Любовь Яровая» с Поповой и Добронравовым. Я тогда начал плакать, как только открылся занавес, — такой на меня пахнуло жизнью, той жизнью, которая шла, когда мне было всего четыре года. Я вдруг почувствовал себя опять четырехлетним…
— Вы часто бывали в МХАТе?
— Нет, нечасто. Василия Ивановича Качалова видел только в концерте, в «Эгмонте». На спектакль «У врат царства» не смог попасть. Но кое-что я все-таки посмотрел. Это какое-то особое искусство, которое шло от жизни, поднималось на огромную высоту и благодаря этому снова возвращалось в жизнь, вызывая высокие чувства и ассоциации. Театр подвижников. Знаете ли, совершенно противоположным было первое впечатление от Большого театра, от оперы. Ну а балет совсем не люблю. Мне все кажется не так, не то, не музыкально и не интересно.
— Даже «Ромео и Джульетта»?
— Даже «Ромео». Вот только «Жизель» с Улановой да в Будапеште балет Бартока и абстрактный балет в Париже — и все! Мне кажется, все балеты ниже музыки. Не знаю, возможно, если бы я увидел Нижинского в балете Стравинского, то изменил бы свое мнение…
— Может быть, это потому, что вы сами музыкант такого масштаба…
— Нет, нет. Я люблю и небольшие произведения. Если они меня чем-то взволнуют.
— Конечно, все дело в таланте создателей.
Заговорили о Сальери, о том, что Смоктуновский сыграл его в кино как явного злодея, а ведь в жизни девяносто процентов людей — Сальери. Среди актеров — все девяносто девять, но никто этого не показывает, даже наоборот.
— Да, безусловно. Вот в Венгрии есть гений — Барток. А рядом с ним жили образованные и умные другие композиторы. Но не гении.
Я рассказал о Доме Чехова в Ялте и о майоре немецкой армии Бааке, который жил в Доме и этим спас его во время войны…
— Как вы думаете, Святослав Теофилович, стоит ли поискать этого майора? Он сейчас живет в ГДР.
— Да, пожалуй. Не все же немцы были фашистами. Майор оказал Дому Чехова такую услугу, что неплохо бы его поблагодарить.
Когда я сказал, что перехожу в Музей МХАТ, Рихтер опечалился:
— Ой, как грустно.
— Десять лет назад мне то же сказал Вадим Васильевич Шверубович: «Рано, Владик, это же ссылка». Теперь мне уже шестьдесят, и я согласился.
— А мне восьмой десяток. Это много…
— Я помню вас в Школе-Студии. Вы приходили к нам в бархатной курточке, такой молодой…
— Мне тогда было больше двадцати лет.
— Хочу написать сценарий о Немировиче-Данченко. Мне кажется, он недооценен.
— Ну что вы! Разве?
— Я говорю не о наградах, а о месте в истории. Ведь он сделал не меньше, чем Станиславский, но его считают Сальери при Моцарте — Станиславском. А это не так. Немирович-Данченко был гений ума, а Станиславский — гений интуиции.
Мы дошли по Большой Бронной до его дома. Он казался похудевшим. Небритый. В пальто типа шинели, в кепочке набекрень, сдвинутой на глаза. Когда прощались, снял кепку. Передал привет Маргоше…
Мое открытие Америки
Давно я мечтал посмотреть Америку. Еще мальчиком, конечно, читал чудесные книги Марка Твена и Джека Лондона, а потом и гигантские тома Драйзера…
Все эти книги вызывали не только интерес к далекой заокеанской загадочной стране. Моя фантазия уносила меня туда. А до войны еще вышла оригинальная книга И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка», полная легкой иронии и юмора, она еще больше распалила мой интерес. Впечатления М. Горького и С. Есенина будили классовую неприязнь к «городу желтого дьявола» и железным джунглям, где «человек человеку — волк». Но воспоминания В.В. Шверубовича о гастролях Художественного театра в Америке в 1922–1924 годах говорили иное… Одним словом, мне очень, очень хотелось посмотреть Америку. На гастроли с МХАТом я не попал, как ни старался убедить руководителей театра. Но у них довод был один. «Влад, в Москве надо репетировать «Шестое июля», где ты занят!» — так мне сказал наш новый (не освобожденный!) партсекретарь Леонид Губанов. И хотя он тоже был занят в этом спектакле в роли Дзержинского, поехал в Америку играть Петю Трофимова…
Но наступили иные времена в нашей стране и в нашем театре.
В 1982 году Олег Табаков принес в театр пьесу Петера Шеффера «Амадей» в переводе Майи Гордеевой, с которой мы подружились. А несколько лет спустя, когда я был уже не только артист, но и директор Музея МХАТа, она предложила мне поехать с ней в Америку, чтобы там вместе с известным театральным деятелем Эдит Марксон создать выставку «Мир Станиславского». «В Америке после гастролей МХАТа снова появился интерес к "системе Станиславского"», — сказала мне Майя Ивановна. И мы поехали: она — как переводчица и подруга Эдит Марксон, а я — как хранитель истории МХАТа и как артист — ученик учеников Станиславского.
Это был май 1988 года — уже вспыхнула горбачевская перестройка. И к Горбачеву, и к нашей стране в Америке возникли интерес и любопытство. Вот в этот момент мы туда и приехали — были в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне. И везде, везде нас не только вежливо, но даже по-дружески встречали и принимали. И расспрашивали не только о театральной истории, но и о «Горби» и его «перестройке»… Мы с Майей побывали в многочисленных музеях и в национальных библиотеках в каждом городе. Меня, конечно, ошеломил Нью-Йорк своей смелой высотой, очаровал изящный Вашингтон, а Бостон покорил своим интеллектуальным разнообразием. Я сразу полюбил эту страну XXI века! С бизнесменами мы не встречались и в магазины не ходили — не хотелось высчитывать и рассчитывать наши мизерные доллары, хотя, конечно, изобилие и яркость сытых витрин интриговали. Но мы стремились как можно больше увидеть в театрах и музеях. И вот Бродвей, «Фантом оперы» — яркий, эмоциональный, со страстной музыкой, вдохновенно поставленный режиссером спектакль, который меня восхитил. А потом был еще и знаменитый мюзикл «Кошки». Одним словом, все эти впечатления за неделю вскружили мне голову, и мне захотелось еще раз побывать в такой Америке.
И я побывал еще и еще раз и объехал 15 штатов с востока на запад, с севера на юг. Побывал и на конференции «МХАТ вчера, сегодня и завтра» с О. Ефремовым и А. Смелянским. Я был, конечно, «МХАТ вчера»… Ну, а потом еще приезжал с выставкой «Жизнь и творчество К.С. Станиславского». Тогда я уже пробыл в Америке около 20 недель, и в Москве даже интересовались, не остался ли я там «насовсем». А Смоктуновский полушутя спрашивал Марго: «Не соблазнила ли его там негритянка?»
Эта самая продолжительная поездка по Америке с показом выставки в разных школах, лицеях и университетах дала мне возможность общаться с молодежью и интеллигенцией. Оказалось, почти во всех лицеях и университетах не только занимаются спортом, но и изучают литературу, драматургию, даже играют свои спектакли. И я не только возил выставку и рассказывал историю Художественного театра, но дважды даже участвовал в спектаклях. Оба раза это был «Вишневый сад» Чехова, который очень даже близок и интересен американцам (крах, разорение дворянства и победа делового человека — купца Лопахина, ну и, конечно, юмор, юмор, который американцы так любят). В одном спектакле, в элитарной школе Сент-Пол, мой сын Андрей, приглашенный вместе со мной, играл (конечно, на английском языке, которым он отлично владеет) Яшу, а мне предложили сыграть Прохожего («стренжера»). И если Андрей не только знал английский язык, но и играл в мхатовском спектакле Ефремова, то я-то и не играл этой роли, и не знал языка… Но я решил взять «формой», то есть надел на голое до пояса тело плащ, который на словах «Выдь на Волгу!..» распахивал… и публика ахала… А в другом спектакле, в Луизиане, в университете, куда я приехал с выставкой К.С. и с лекциями, мне неожиданно предложили сыграть Фирса. Как? Я же не знаю языка! «Ну, мы вам поможем. Напишем английский текст русскими буквами». Я не сразу, но согласился… Если в том спектакле, где я играл Прохожего, Фирса играл молодой негр (мне он тогда очень понравился, он на репетиции играл дряхлого старика, запудрив свои черные курчавые волосы, а в перерывах вдруг выдавал джазовые куплеты и чечетку!), то тут Раневскую играла молодая красивая негритянка, и потом в местной газете писали, как о сенсации, что белый человек целует руку черной женщине… Этот белый человек был я — Фирс. И если там, где Фирса играл негр, мне казалось, что это очень символично для Америки: слуга-негр брошен, забыт белыми хозяевами, то тут, в этом спектакле, смысл был совсем иной: белый слуга у черной хозяйки…
Ну, все равно это было интересно не только мне. А вот как мне-то играть, не зная языка? Однажды ночью я проснулся в ужасе от мысли: а вдруг я забуду на сцене слова, ведь ни один суфлер мне не поможет! Что же делать? До премьеры осталось несколько дней… Отказаться? И вдруг я вспомнил, как С.С. Пилявская с возмущением (как всегда!) рассказывала, как Олег Табаков был срочно введен в спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» на роль Мамаева и спасался тем, что у него был разложен текст роли по всей комнате — на столе, на комоде, на диване и т. п. И я решил спастись его способом. Я попросил дать мне большой русский поднос и на него положил полузаученный мною текст. А как быть в сцене на прогулке? Там я попросил дать мне щетку не с ручкой, а плоскую, и наклеил текст на нее. А еще я положил его в шляпу, которую всякий раз снимал, когда крестился. Ну, а как же быть с последним актом, когда все уезжают и в темноте входит Фирс со своим последним монологом? Как тут-то себя подстраховать? И опять (ночью!) мне пришла идея: а надо, как и шумы отъезда и забивания окон, записать весь монолог Фирса на аудио. Ведь бывает же в кино — лицо героя, а за кадром звучит его голос, его мысли…
Так и было сделано, и эффект превзошел все ожидания, успех был необычайный — ведь звучал голос умирающего Фирса как бы уже с того света… «Вот что значит артист МХАТа, вот что значит система Станиславского!» — говорили мне наивные и восхищенные коллеги — «любители драматического искусства»… Так я там сыграл Фирса на английском языке…
Ну, а все-таки, что же меня поразило, понравилось и не понравилось в Америке?
Начну с хорошего. Очень мне понравились люди, с которыми я там общался. Прежде всего наши эмигранты, ставшие американцами. Они и помогали, и советовали, и с интересом относились к нам; у них сразу возникала ностальгия от наших рассказов, и они гордились тем, что происходят из России…
А сами американцы занимались с нами, как дети с новыми игрушками, которые они тут же и бросают… Но одна встреча была для меня неожиданной и очень волнительной.
Эдит Марксон, которая очень много делала для сближения театральных деятелей России и Америки, спросила меня: «Не хотели бы вы встретиться со Стеллой Адлер? Ведь она так много сделала в Америке для проведения в жизнь системы Станиславского. Ее ученики — Марлон Брандо и де Ниро…» Я обрадовался и сказал: «Конечно!»
И вот в доме известного композитора была устроена эта встреча. В большой комнате, вроде зала, сидели несколько человек и о чем-то тихо разговаривали. Когда я вошел, то увидел — в центре этой комнаты спиной к входу сидела на кушетке женщина. «Это Стелла, — сказала Эдит Марксон, — пойдемте к ней, я вас представлю…» И я увидел элегантную даму, не очень старую, но с весьма рискованным декольте. Я поцеловал ее мягкую душистую руку и сказал: «Я все знаю о вас, ведь я — директор Музея МХАТ». Она обрадовалась и тут же стала говорить о своей театральной школе и своих учениках… Потом добавила, что и о нашем Музее многое слышала и хотела бы подарить ему свое фото.
Через несколько дней Эдит Марксон мне сказала, что хочет меня представить жене Сороса, а его самого, к сожалению, в Нью-Йорке сейчас нет. «Но и эта встреча будет для вас интересной». Жена Сороса была очень внимательна и добра к нам, угощала кофе и сказала, что Стелла Адлер просила передать мне ее большой портрет. На портрете она была, конечно, еще молодой, но с такими же открытыми плечами…
…И природа в Америке, как и у нас, была красивой, яркой и разнообразной. И Ниагара завораживала и притягивала к себе. И Голливуд, эта «фабрика грез», был интересен и строго деловит, а вся территория киностудии «Парамаунт» была в декорациях на темы боевиков. А какие там в горах дачи знаменитых артистов! А легендарный зал, где проходит церемония вручения «Оскара», и «дорожка звезд» с отпечатками их рук и ног! Я почувствовал себя в сказочном мире великого кино!
Такое же незабываемое впечатление у меня осталось от посещения Сальвадора Дали в Санкт-Петербурге во Флориде. Какой размах, какая фантазия у этого неповторимого художника!
Но самое главное впечатление от Америки то, что она действительно и небоскребная — в Нью-Йорке, в Чикаго, в Лос-Анджелесе, — и одноэтажная (и одинаковая) во всей провинции. Учебные заведения там — это школы-интернаты, правда, с прекрасным оборудованием и ухоженными парками. И совсем иные — университеты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне. Более строгая и деловая обстановка, другой ритм.
Мне предложили в Бостоне вести курс драматического искусства, но я, конечно, отказался из-за незнания языка и потому, что не мог это совместить с работой в МХАТе и в Музее. А вот О. Табаков и А. Смелянский, который с невероятной быстротой изучил английский язык, организовали в Бостоне театральную школу.
А теперь и в нашей Школе-Студии в Москве открыт курс для американских студентов.
Последний раз я был в Нью-Йорке с гастролями МХАТа. Мы играли «Три сестры», только что поставленные Олегом Ефремовым. Играли не на Бродвее, а в Бруклине. Спектакль проходил с нарастающим успехом. Но Нью-Йорк меня в этот раз разочаровал. Город, так восхитивший меня 10 лет назад, теперь показался мне холодным и злым. А в магазинах на Бродвее (в этот раз у нас все-таки были доллары, хоть и небольшие) я чувствовал все время, что меня хотят обмануть, что, кстати, два раза и произошло… И вообще, видимо, интерес к России уже остыл, а приезжающие в большом количестве так называемые новые русские стали вызывать у американцев порой брезгливое отношение… Мы это временами чувствовали.
Нет, Америка, конечно, — великая страна, богатая, сытая и эгоистичная.
И только трагедия 11 сентября 2001 года, кажется, потрясла Америку. Но надолго ли? Ведь у многих здесь на первом месте деловой расчет и бдительная законопослушность, а эмоции быстро проходят и забываются.
Гибель мечты
Как это было
Мне выпало великое счастье в жизни — я застал расцвет Художественного театра в 30-е годы. Я видел все его легендарные спектакли тех лет. Видел великих артистов — основателей этого Театра и всех актеров второго поколения в их лучших ролях.
Я мечтал стать артистом этого Театра, и я им стал и даже играл вместе с моими кумирами. Но, к сожалению, я застал и начало его гибели. Это трагическая гибель, и она требует глубокого исторического анализа. Я же только свидетель, на моих глазах, на глазах нашего поколения разрушался этот Храм. Поэтому заканчивать свои воспоминания о моем любимом Театре я решил фактами, которые, как мне кажется, и были ступенями в его падении и разрушении. Конечно, это только часть причин.
Отдав этому Театру 55 лет своей жизни, я переживаю его трагедию как крах своей мечты, своего идеала в искусстве… Но я «видел небо»!..
…7 августа 1938 года умер Константин Сергеевич Станиславский. Владимир Иванович Немирович-Данченко узнал о его смерти, возвращаясь из-за границы, и сразу с вокзала поехал на Новодевичье кладбище на похороны. В конце своего прощального слова он сказал: «…Клянемся относиться к театру с той глубокой и священной жертвенностью, с какой относился Станиславский!» «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» — повторили стоящие у могилы Станиславского артисты театра…
27 октября 1938 года было торжественно отмечено 40-летие МХАТа. Театр получил после ордена Ленина вторую награду — орден Трудового Красного Знамени. И, конечно, были щедро даны ордена и звания артистам и работникам театра. Квартиры и денежные премии…
22 июня 1941 году началась Великая Отечественная война.
А 24 июля 1942 году Вл.И. Немирович-Данченко из Тбилиси, где он находился в эвакуации, отправил письмо коллективу МХАТа:
«<…> МХАТ подходит вплотную к тому тупику, в какой естественным историческим путем попадает всякое художественное учреждение, когда его искусство окрепло и завоевало всеобщее признание, но когда оно уже не только не перемалывает свои недостатки, но еще укрепляет их, а кое-где даже обращает их в «священные традиции». И замыкается в себе и живет инерцией.
Мне, волнующемуся в театральной атмосфере более 60 лет, так хорошо знакома и так мною изучена эта картина оскудения театра.
<…> Всем моим опытом, всей оставшейся во мне энергией я хочу отвести от МХАТа этот удар».
Вл.И. Немирович-Данченко в сентябре 1942 года вернулся в Москву из эвакуации. И сразу продолжил работу над «Гамлетом». Руководил репетициями готовящихся спектаклей — «Последние дни» М. Булгакова, «Русские люди» К. Симонова — и беседовал с исполнителями. «Я только этим и занят: что будет с МХАТом дальше? Что будет с моим уходом? Вот-вот-вот я уйду, от возраста никак не скроешься… Кто будет вести дальше это искусство? Потому что люди могут стареть, а искусство стареть не смеет».
Поэтому Владимир Иванович у себя на квартире устраивает совещания по организации Школы-Студии при МХАТе. Говорит о необходимости воспитывать актеров, «ответственных в своем поведении и творчестве». В совещаниях принимают участие Н.П. Хмелев, В.Г. Сахновский, В.Я. Виленкин и, конечно, И.М. Москвин.
На следующий день после смерти Вл.И. Немировича-Данченко, 26 апреля, в «Правде» было опубликовано постановление Совнаркома СССР об увековечении его памяти, где был пункт и о создании Школы-Студии при МХАТе.
20 октября 1943 году на основании Постановления Совнаркома СССР была открыта Школа-Студия имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького.
В 1945—1946-м ушли из жизни директор театра И.М. Москвин, худрук театра Н.П. Хмелев и первый руководитель Школы-Студии В.Г Сахновский.
В 1946 году главным режиссером был назначен М.Н. Кедров.
В 1947 году из первого выпуска Школы-Студии в МХАТ были приняты 16 молодых артистов и была создана в театре «Студийная группа».
В 1948 году было торжественно отмечено 50-летие МХАТа. Опять посыпался град наград, званий, орденов и житейских благ. К этой дате М.Н. Кедровым был выпущен спектакль «Зеленая улица» по пьесе А. Сурова.
В 1949 году 10 февраля в театре состоялось
открытое партийное собрание. Мы, тогда только что принятые в труппу, могли присутствовать на этом страшном собрании… Обсуждалась статья, напечатанная в «Правде», — «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».
Тогда почти каждый день в каждой газете «разоблачались» эти критики.
И вот на это собрание пришли секретарь правления Союза писателей А.В. Софронов, А.А. Суров — автор пьесы «Зеленая улица». После Софронова, осветившего задачи разгрома антипатриотической группы театральных критиков, мешавших развитию советского искусства, в прениях выступили ведущие артисты МХАТа. А.Н. Грибов от имени парторганизации театра сказал, что статья в «Правде» взволновала коллектив и заставила его задуматься «над идейным содержанием… искусства Художественного театра» и т. д. Потом с речами выступили И.Я. Судаков, Н.М. Горчаков и А.А. Суров, который, разоблачая «этих критиков», привел ошеломивший всех довод: «…Они собирались в ресторане «Арагви», но не пили… (!!!)» Потом — конечно, единогласно — была принята резолюция, в которой «отражается мнение всего коллектива»:
«…Партсобрание подчеркивает, что «деятельность этих безродных космополитов была глубоко враждебной и антипатриотической». Партсобрание с возмущением отмечает, что на протяжении многих лет Художественный театр подвергался атакам со стороны антипатриотической критики, пытавшейся подорвать доверие к театру в его работе над советской драматургией…»
А 10 апреля 1949 года за спектакль «Зеленая улица»
A. Сурова была присуждена Сталинская премия 1-й степени М.Н. Кедрову, Б.Н. Ливанову, А.К. Тарасовой, В.А. Орлову, Н.И. Боголюбову, С.К. Блинникову, М.И. Прудкину, B. И. Макарову и художнику Б.И. Волкову. И летом противник этого спектакля директор МХАТа им. М. Горького В.Е. Месхетели, интеллигентный, по-настоящему театральный человек, был снят и заменен ничего из себя не представлявшим Б.А. Флягиным.
Ну, а 21 декабря, «в этот торжественный, праздничный для советского народа день, когда весь прогрессивный мир вместе с Советской страной отмечал 70-летие любимого своего вождя и гениального учителя И.В. Сталина, в зрительном зале собрался весь коллектив Московского Художественного театра… Коллектив театра обратился с приветствием к И.В. Сталину».
А вечером состоялась премьера пьесы К.М. Симонова «Чужая тень» в постановке М.Н. Кедрова, за которую в 1950 г. тоже была дана Сталинская премия.
17 мая 1949 года В.Я. Станицын поставил первый молодежный спектакль «Домби и сын» по роману Ч. Диккенса (пьеса Н. Венкстерн).
29 декабря 1949 года под руководством М.Н. Кедрова режиссеры С.К. Блинников и И.М. Раевский поставили второй спектакль с участием молодежи — «Мещане» М. Горького. Эти спектакли шли многие годы с большим успехом.
В 1950 году В.Я. Станицын поставил еще «Разлом» Б. Лавренева и «Вторую любовь» по роману Е. Мальцева (Е. Пупко) «От всего сердца», где тоже почти все роли играли молодые актеры.
Но потом уже таких спектаклей не было.
С 1950 года МХАТ во главе с новым директором Б.А. Флягиным и новым секретарем парткома стал выполнять данные на партийном собрании «обещания». И регулярно получал каждый год Сталинские премии вплоть до смерти И.В. Сталина…
Конечно, среди этого потока премий только спектакль М.Н. Кедрова «Плоды просвещения» был действительно взлетом мхатовского искусства. Сразу же после этого спектакля Кедров решил не терять надежды на получение следующей премии и поставил спектакль не столько про В.И. Ленина, сколько про роль товарища Сталина в организации Октябрьской революции — «Залп "Авроры"», но вдохновитель и автор этой премии, не посмотрев этого спектакля… умер.
6 декабря 1951 года и.о. директора МХАТа была назначена А.К. Тарасова.
К сожалению, руководство М.Н. Кедрова и А.К. Тарасовой не внесло в работу и жизнь Художественного театра никакого изменения.
Это был, пожалуй, самый неудачный период в истории МХАТа. Репертуар в основном состоял из слабых пьес, таких, как «Алмазы», «Зеленая улица», «Ангел-хранитель из Небраски», «Сердце не прощает», «Хлеб наш насущный» и т. д. и т. п. А из классики только «Дядя Ваня», «Мещане», «Плоды просвещения», «Поздняя любовь», «Домби и сын». Проблема смены поколений и новой режиссуры так и не была решена. И только с приходом нового руководства и директора А.В. Солодовникова начались попытки эти проблемы решить.
Конечно, М.Н. Кедров, считая себя единственным и последним наследником Станиславского и его теории так называемого метода физических действий, сковал творческую инициативу в театре, а как руководитель в силу своего инертного характера разобщил весь коллектив театра. Как теоретик и пропагандист этого метода, он активно внедрял его принципы в наше профессиональное сознание. Многие из нас благодарны ему за это. И конечно, О.Н. Ефремов как режиссер работал на основе этих принципов. Хотя сам М.Н. в силу своей мнительности превращал работу над спектаклем с актерами в скучные лекции. Так, работа над спектаклем «Зимняя сказка» шла почти пять лет! (Один артист даже сказал, что за эти годы его дочь окончила мединститут и стала врачом…)
Что касается директорства А.К. Тарасовой, то она, конечно, тоже не обладала организаторскими способностями и была актрисой, играющей роль директора.
Через 8 лет правления М.Н. Кедрова, в 1954 году, во МХАТе снова возник кризис. И теперь не только внутри театра — резко упал зрительский интерес. Тогда А.К. Тарасова как директор решила провести несколько совещаний с ведущими артистами. На них присутствовал, как она сказала, «цвет театра». Алла Константиновна сразу заявила, что с М.Н. Кедровым невозможно решить ни одного вопроса: «Он обвиняет меня в «судаковщине» — то есть в излишней торопливости… Казалось бы, главный режиссер должен подчиняться директору, но на деле этого нет… Нужно определить обязанности каждого…»
Всего состоялось три заседания. На них присутствовали A.К. Тарасова, М.Н. Кедров, О.Н. Андровская, К.Н. Еланская, В.Л. Ершов, Б.Н. Ливанов, В.Я. Станицын, В.О. Топорков, М.М. Яншин, А.Н. Грибов, Ф.В. Шевченко, С.К. Блинников, Н.И. Боголюбов, М.П. Болдуман, Н.М. Горчаков, B.В. Готовцев, А.В. Жильцов, А.П. Зуева, А.М. Комиссаров, Л.М. Коренева, И.М. Кудрявцев, П.В. Массальский, Б.Я. Петкер, В.Н. Попова, М.И. Прудкин, А.И. Степанова, В.А. Орлов, Г.Г. Конский, И.М. Раевский, Ю.Л. Леонидов плюс секретарь парткома Н.К. Сапетов.
Выступил с горечью и слезами М.М. Яншин; «по-партийному», «как коммунисты» — И.М. Кудрявцев и Б.Я. Петкер. А.Н. Грибов сказал: «Давайте не лгать друг другу! Надо прямо сказать, что М.Н. Кедров и А.К. Тарасова руководить театром не могут и не должны». И даже М.И. Прудкин, который в 1946 году был инициатором назначения М.Н. Кедрова, заявил: «Кедров говорил о помощи — ерунда, пробовали помогать, он никакой помощи не признает. Кедров должен быть отстранен от руководства. У нас сейчас получилось двоевластие — директор и главный режиссер… И, конечно, необходим Худсовет в театре…» И неожиданно прямо добавил: «Я утверждаю, что работа с молодежью в Художественном театре — это фикция! Существование особой, «Студийной группы» создает некую кастовость. Это вредное явление, антагонизм молодежи против стариков». И Тарасова подхватила: «"Студийная группа" — какое-то инородное тело в театре… вся труппа возмущена. Получается, все мы — один театр, а они — другой!»
И еще, и еще многие артисты выступали — и Ливанов, и Станицын… Андровская сказала: «Мир борется за дружбу, а у нас в театре идет «холодная война»…» Как всегда, долго говорил М.Н. Кедров — о трудности, сложности должности главного режиссера, установленной государством. В.В. Готовцев, один из старейших актеров театра, сказал: «Я нахожусь под впечатлением от гастролей «Комеди Франсез», праздничное настроение идет со сцены…» «Да уж, это не катакомбы», — добавила Л.М. Коренева, имея в виду спектакль «За власть Советов!», недавно выпущенный под руководством Кедрова. А Готовцев продолжал: «Только Кедров может поставить «Дважды два — четыре» так, что все-таки можно смотреть. Или всю таблицу умножения! А? Вот чудодей! Честное слово, но… администратор вы плохой! Вы, оба руководителя, похожи на щенков, вы оторвались от масс, перестали признавать тех, кто сейчас здесь сидит…»
И еще много было выступлений о том, что это руководство не годится. А потом В.А. Орлов прочитал письмо О.Л. Книппер-Чеховой «к данному собранию»:
«Дорогие товарищи! Я уже давно чувствую и знаю обо всем, происходящем в театре. Понимаю, как трудно взяться за восстановление прежней атмосферы МХАТа. Очевидно, надо хорошо раскопать, взрыхлить и освежить почву, понять, пересмотреть и отобрать крепкие, свежие корни, создать молодые ростки для дальнейшей жизни театра. Во главе хорошо бы стоять человеку, знающему и любящему и театр, и актера. Человеку с горизонтом и планом, умеющему объединить всех в одно целое.
Попасть в Художественный театр люди уже не стремятся так, как это было прежде. Надо мужественно говорить о недостатках своего любимого дела. Вспомните Константина Сергеевича и Владимира Ивановича, как они это умели. Пусть не сразу все станет вновь благополучным и радостным. Не бойтесь, дорогие товарищи, сообща строить и исправлять свой Дом Искусства. Я верю, что в Художественном театре найдутся здоровые силы, любящие сердца, организаторские таланты, найдутся люди, которые смогут отделить наши подлинные славные традиции от пустого самодовольства. Верю, что вы сможете пережить этот трудный момент в жизни театра, «желаю делу нашему успеха», — как говорится в «Юлии Цезаре».
Ваша Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.
20/IV-1954 г.».
…Через год — в апреле 1955 года — вместо беспомощного руководства Министерством культуры СССР во МХАТе был создан Президиум Художественного совета МХАТа, во главе с новым директором театра А. В. Солодовниковым. В него вошли: А.К. Тарасова, М.Н. Кедров, В.Я. Станицын, Б.Н. Ливанов, П.А. Марков, В.А. Орлов, B.C. Давыдов.
Спустя полгода работа театра с новым руководством обсуждалась на коллегии Министерства культуры. Я был на этой коллегии и успел кое-что записать. Хочу привести здесь эти свои записи.
«
А.В. СОЛОДОВНИКОВ: Не сразу мы выйдем из этой болезни.
А.К. ТАРАСОВА: Главное — трудно с репертуаром…
Н.П. ОХЛОПКОВ: Не согласен с планами репертуара МХАТа. Главное не во внутренних делах, а в том, чтобы смелее ставить пьесы и ярко их ставить, а у вас всего два режиссера — Кедров и Станицын. У вас все великолепно преподают, но не умеют ставить и забыли наследие Станиславского и Немировича-Данченко как режиссеров. Кедров каждый день проводит семинары, но почему он один? Ну, и будут только маленькие «Кедрики» вокруг. А сейчас эпоха громадных тем и масштаба Шекспира.
П.А. МАРКОВ: Много интересного сказал Охлопков, но не во всем я с ним согласен. Репертуар у нас не мелких идей, а больших тем. Да, молодежь у нас не росла, но среди них есть талантливые актеры. Да, я согласен, режиссура у нас довольно слабая.
Н.Ф. ПОГОДИН: Главное — репертуар, и репертуар современный! Я не писал 17 лет, хотя я могу и хочу писать.
А.В. ЖИЛЬЦОВ: Трудно говорить без боли о прошлом, обо всей этой бесплановости, неорганизованности…
М.Н. КЕДРОВ: Силы есть, но у нас у всех разное понимание путей достижения целей. Все 35 лет я слышу, что Художественный театр умирает, умер и т. д. Главное — репертуар. В этом просим нам помочь. Проблема молодежи и репертуар — вот то, что сейчас должно стать главным в работе театра. Н.П. Охлопков прав: режиссеров у нас просто нет.
Б.Н. ЛИВАНОВ: Все дело в том, что театр в ужасном положении. Кедров как режиссер одарен, но он наплодил фарисеев, которые стерильны от способностей к режиссуре. Но у нас есть и силы, и другие режиссеры. И еще — репертуар. А разве классика — это не современный репертуар?
Н.А. МИХАЙЛОВ, министр культуры СССР: Дело очень серьезное. Но, по-моему, в театре еще не все благополучно. Театр любят и сейчас, но его мало критиковали. Еще причина — творческая активность была слаба и мало выдвигали молодежь. Была и неправильная ориентация на пьесы… Обидно, что пустует зал. Спорить надо, но не отпевать театр, а помогать. Мы руководство театра во всем поддержим, мы в вас верим. И в деньгах поможем. И нельзя откладывать работу на два периода, нет. Первый период надо исключить. Пополнение должно идти на ходу. У нас много трудностей, но надо спокойно справиться с ними.
Репертуар — это надо продумать.
Об актерах. Это ясно — таких ярких актеров нигде нет.
О плане. Сами его вырабатывайте, решите — мы примем.
Сроки? Сколько надо».
Со времени этого совещания прошло 8 лет. В апреле 1963 года состоялось совещание уже у нового министра культуры СССР — Е.А. Фурцевой. Снова привожу свою запись.
«
Е.А. ФУРЦЕВА: Руководство театра много заседает, но результаты плохие, положение очень тяжелое: два года на основной сцене нет новых спектаклей. А за последнее время мы к вам проявили внимание.
В.О. ТОПОРКОВ: Старое руководство оказалось не на высоте. За год не было новых спектаклей. Так уже было. Причины в руководстве. Но что сделать, мы не знаем…
ФУРЦЕВА: Вы что хотите? Главного режиссера или что-то другое? Но ведь извне нет.
ТОПОРКОВ: Надо назначить людей, ответственных за дело, а то сейчас никто ни за что не отвечает.
В.А. ОРЛОВ: Мы все попадаем в тяжелое положение, так как привыкаем быть без руководства. С нами никто не встречался — ни заведующий частями, ни председатель Коллегии. А сейчас никто ни во что не верит. Мы боролись с Кедровым, потом — с другими, а сейчас… коллегиальное руководство. А может быть, главный режиссер со стороны-то и наведет порядок? Выхода мы не знаем. Коллегия? Если из тех же лиц, то в них веры уже нет. Коллегия должна быть ответственна. Но пусть ее возглавит директор.
Б.Я. ПЕТКЕР: Сейчас самое важное — организовать художественное управление. Вот заведующий литературной частью — он, может быть, должен стать и заместителем директора. М.Н. Кедров — большой художник. Но у него есть и свои недостатки. Он должен быть членом Коллегии.
Н.Г. ЧЕРНОВ: Почему одни и те же лица входят в руководство? Вот и режиссеры не выращены, и актеры. Значит, надо других людей.
ТОПОРКОВ: Может быть, Кедров и Станицын, эти двое…
К.Н. ЕЛАНСКАЯ: Да, двое. Но и они-то друг от друга отскакивают. Михаил Николаевич беспартийный, а Станицын-то партийный, а на него не воздействовали. Почему? Если бы они взялись двое, то смогли бы руководить. И, конечно, режиссеры…
ФУРЦЕВА: Но ведь уже были в руководстве режиссеры!
А.Н. ПОКРОВСКИЙ: Надо решить, какие функции у Коллегии. Коллегия занималась всеми вопросами, а это неверно. У нас не используются люди годами. Определение качества работы, организация всей работы: качество пьес, направление, глубина — это М.Н., и он может это решать. Организационная сторона? Богомолов, он зарекомендовал себя хорошо. Он должен быть в Коллегии. Очень хорошо, если будет Станицын и если они объединятся.
Г.Г. КОНСКИЙ: Наиболее целесообразно поставить во главе театра Станицына и Кедрова, но надо с ними поговорить. При них должны быть заведующие частями. Богомолов — не в коллегии, а просто как режиссер должен работать. У нас в Коллегии не было ответственности ни перед министерством, ни перед труппой, а двое обязаны взяться за театр, и они должны объединиться.
М.В. АНАСТАСЬЕВА: Двое — это раскол…
ФУРЦЕВА: Ваше решение?»
В итоге решение было такое: назначить новое руководство в составе четырех человек — Кедров, Станицын, Ливанов и Богомолов. Председатель — директор театра.
В результате вместо интеллигентного А.В. Солодовникова, который был директором 8 лет, назначили Б.В. Покаржевского.
На другой день после этого совещания М.И. Прудкин резюмировал:
— Сейчас полная реакция и все вернулось к временам Сапетова. Теперь будут во главе всего стоять Станицын и Радомысленский. Они будут заправлять. Возьмут своего зав. труппой. Только теперь будет страшнее, чем раньше, так как во главе будет Покаржевский. Он председатель и директор. Мы думали, что он будет помогать, а не возглавлять. А это — «сапетовка» и полная реакция.
А В.Я. Виленкин сказал мне:
— Поздравляю вас, Владик. Наконец вы сможете заняться творчеством и не будете себя дергать на все эти заседания. Конечно, это более реакционное руководство, чем было. Любое руководство, где есть Кедров и Станицын, реакционное. Что касается Богомолова, то он будет главный. Да, все кончится «негром»… Я верю только в два варианта: кто-то со стороны, кого поддержит молодая часть, или три человека из молодых и талантливых, которые смогли бы взяться за дело.
Но и то, и другое нереально!
В 1965 году в МХАТе после очередной отставки директора (на этот раз Б.В. Покаржевского), не было ни нового директора, ни художественного руководства. А.К. Тарасова однажды на Худсовете театра говорила: «Надо нам обсудить, как дальше работать… А то придет Товстоногов и меня сразу на пенсию…»
Может быть, именно эти слова вдохновили меня на дерзкий поступок. Я узнал, что Г.А. Товстоногов живет в гостинице «Москва», в № 926. 30 ноября 1965 года я звонил ему весь вечер и только в 11 часов дозвонился:
— Георгий Александрович, это говорит артист МХАТа Владлен Давыдов. Я бы хотел с вами поговорить об очень важном деле.
— Владлен, я готов с вами поговорить, но дело в том, что я сегодня «Стрелой» возвращаюсь в Ленинград.
После спектакля «Шестое июля» мы с В.Н. Муравьевым на каком-то «газике» помчались на вокзал, к 8-му вагону.
Времени до отхода «Стрелы» всего 20 минут. Мы быстро изложили суть дела: в МХАТе сейчас полный развал, нет даже директора… На это он нам сказал:
— Да, я готов возглавить МХАТ, но без всякой коллегии «стариков». Только моя полная власть. Мне пятьдесят лет, и я бороться или экзаменоваться не могу и не хочу. Со мной говорила об этом Фурцева, и в ЦК партии предлагали мне «попробовать», но я отказался! Завтра в Ленинградском обкоме я буду резко говорить и решать свою дальнейшую работу, так как у меня конфликт из-за спектакля. Позвоните мне пятого декабря — у меня уже все решится…
Поезд тронулся, Георгий Александрович помахал нам рукой и уехал…
На следующий день в театре все уже знали о нашей беседе с Товстоноговым. И я уже в открытую стал со всеми советоваться. Но «середняк» наш как-то колебался, а М.М. Яншин позвал меня 2 декабря к себе на обед. Конечно, мы говорили с ним о театре и о Товстоногове. Он высказался «за», говорил, что готов ввести его в театр и помогать. И почему-то вспомнил, как в конце 20-х — начале 30-х годов РАПП (Авербах, Киршон, Либединский) настраивал молодежь МХАТа скинуть «стариков». А Фадеев поддержал тогда Яншина, сказав, что «это же нелепость»…
Позвонил я, конечно, и Виталию Яковлевичу. Он мне сказал одно:
— Не надо никуда ходить, а все делать надо в открытую, и самое важное, чтобы Грибов, Степанова и Тарасова были «за»…
Я понимал, что это риск на всю жизнь, но терять уже нечего, а выиграют от этого все — МХАТ! Правда, глаз и тон Товстоногова меня очень насторожили и даже испугали. О, это, может быть, страшный ход… Но это лучше, чем сладкое гниение в течение 40 лет, и когда оно кончится — никто не знает…
На репетиции Б.Н. Ливанов мне вдруг зло сказал:
— Хлопочете за Товстоногова?
— А чего вы его боитесь?
— Мы — боимся?! Это он должен нас бояться!
А П.В. Массальский прямо мне заявил, что он уже не верит во внутренние силы и поэтому думает так же, как и я.
Вечером на «Анне Карениной» я говорил с Б.Я. Петкером; он, как хамелеон, но говорил о высоких принципах… Сказал, что против Ливанова, но за Товстоногова…
И вся наша затея кончилась после разговора по телефону 6 декабря с Товстоноговым. Он сказал, что у него все выяснилось и он остается в Ленинграде — в БДТ. И только спросил меня:
— А как «старики»? Ну вот, я же вам говорил. А интересно — как Яншин? Как Прудкин?
— С Прудкиным я не говорил, а Яншин — «за»…
В конце декабря 1965 году Е.А. Фурцева назначила в МХАТ опять нового директора — Константина Алексеевича Ушакова, который пробыл на этом посту дольше всех — 17 лет. Власть в театре стабилизировалась, но все проблемы с репертуаром, труппой, режиссурой и художественным руководством остались. И снова начались советы, собрания, дебаты…
А 30 июня 1968 года Ушаков издал приказ № 186:
«…Художественное руководство… учитывая исторический опыт — в свое время по предложению Вл. И.Немировича-Данченко к активному участию в руководстве театром и разработке его репертуарной линии были привлечены молодые актеры и режиссеры… Опираясь на этот опыт, приказываю: создать Комиссию… для анализа современного этапа развития искусства Художественного театра… анализа современной репертуарной линии, анализа состояния труппы… предложений по форме художественного управления…»
И вот мы, «одиннадцать разгневанных» (уже не молодых) мужчин, начали заседать, спорить… А Ушаков нас подгонял и подбадривал:
— Я говорил с Демичевым (секретарь ЦК КПСС. —
В.Д.) и сказал об этой вашей Комиссии. А он одобрил: «Да, это верно, и «старики» пусть посмотрят».
События тогда в театре происходили такие, что было не до комиссии. Шла активная подготовка к 70-летию театра, потом готовились к ответственным гастролям в Японии — менялись составы исполнителей и шли репетиции. Потом надвигалось на всю страну, а значит, и на МХАТ 100-летие В.И. Ленина…
Одним словом, все наши мнения и решения были никому не нужны. И «бархатная» революция в МХАТе не состоялась. Но при активном участии М.П. Прудкина и М.М. Яншина произошел переворот… «Старики» собрались на квартире у Яншина и сговорились позвать О.Н. Ефремова править МХАТом.
«Старики» были не столько за Ефремова, сколько против Ливанова. Какие парадоксы преподносит порой жизнь.
Когда решался вопрос о назначении Олега Ефремова главным режиссером МХАТа, Б.Н. Ливанов читал по радио «Песнь о вещем Олеге»:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам…
Приход Олега Ефремова в МХАТ
7 сентября 1970 года состоялась его «коронация». Вот моя
магнитофонная запись этого исторического события в жизни МХАТа.
Сперва выступила министр культуры СССР Е.А. Фурцева и после перебранки с М.М. Яншиным («Почему вы летом не пригласили на ваше сборище Ливанова?!») представила нового главного режиссера Художественного театра О.Н. Ефремова. Такой же овацией, стоя, в Большом театре приветствовали И.В. Сталина в феврале 1946 года. Потом Фурцева прочла письмо от коллектива «Современника»: «Мы отдали вам самое дорогое, что имели… Олега Николаевича…» — и опять овация и треск кинокамер…
В ответном слове Ефремов сказал, что он еще многого не знает и надо разобраться, а программы у него нет. «Сезон очень ответственный в преддверии XXIV съезда партии, Художественный театр мимо этого пройти не может». И предложил начать сезон с чтения пьесы своего любимого драматурга Александра Володина «Дульсинея Тобосская». «А потом мы еще будем много обо всем говорить, пока же я благодарю Художественный театр, «стариков» Художественного театра. Почему мы встречались со «стариками»? Потому что именно они для нас с юных лет и представляли Художественный театр».
После этого, как всегда, восторженно и пламенно («Апассионария наша!») выступила А.К. Тарасова: «Я в программе этих выступлений не состою… Но я считаю, дорогие мои товарищи, что сегодня исторический день для нашего всеми любимого Художественного театра. В наш коллектив, в нашу семью входит Олег Николаевич Ефремов. Ему 43 года, и это прекрасно! Это расцвет. Вспомним, что нашим вожаком был Н.П. Хмелев — ему тогда было 42 года! И то, что мы, старшее поколение, все сразу выставили именно эту фамилию, этого человека, я считаю, правильно!.. Мне хочется его поздравить с такой большой честью — быть руководителем Московского Художественного театра… Ведь вы входите в этот театр с таким чудным букетом роз, и замечательно, что ваш театр «Современник» сделал это…»
Олег, правда, тут же заметил: «Но эти розы колются!»
И Тарасова закончила свою восторженную речь так: «Екатерина Алексеевна (Фурцева. —
В.Д.) правильно сказала, что Художественный театр должен быть вышкой, а сейчас он не вышка, и правильно, что нас ругают на заседаниях, и многие лучше нас. Но подняться гораздо труднее, чем упасть… Я очень рада, что встречаю здесь этого худенького молодого человека, но я знаю, что он очень крепкий, и хорошо, что он будет руководить один… С сегодняшнего дня он не просто Олег Ефремов, а для всех нас абсолютно — Олег Николаевич… Счастливого вам творческого пути, дорогой Олег Николаевич!»
К.А. Ушаков: «Дальше слово предоставляется секретарю партийной организации, народной артистке Советского Союза Ангелине Иосифовне Степановой».
A.M. Степанова: «Партийное бюро Московского Художественного театра приветствует ваш приход, Олег Николаевич, в наш театр… В партбюро единогласно проголосовали за вашу кандидатуру…» А дальше был набор официальных партийных слов и призывов.
Потом: «Слово предоставляется Марку Исааковичу Прудкину».
М.И. Прудкин: «Товарищи! Я хочу сказать два слова. Наши товарищи Виктор Яковлевич Станицын, Михаил Николаевич Кедров передают эстафету руководства своему ученику. Я считаю, что это акт высокой мудрости и высокой гражданственности! И я думаю, мы должны по достоинству оценить этот шаг. Хочу вспомнить слова Константина Сергеевича Станиславского, которые он сказал на десятилетии Второй Студии: «Пускай мудрая старость направляет бодрость и силу молодости, и пусть бодрость и сила поддерживают старость!» И за это мы должны вынести им благодарность и оценить их мужество по достоинству!»
Опять овация!
Е.А. Фурцева встала: «Я благодарю, что напомнили. Предлагаю от имени всего коллектива направить сегодня телеграмму Михаилу Николаевичу Кедрову». (Кедрова не было на собрании, его в апреле разбил паралич.)
В заключение пламенно выступил К.А. Ушаков: «Вы все не думайте, что вот пришел главный режиссер и через месяц-два-три все будет правильно. Нет, это большой труд всего коллектива. Надо, чтобы сразу Олега Николаевича не нагружали какими-то посторонними работами или какими-то вещами, которые мешали бы ему познакомиться… А главное — сплочение коллектива, нам правильно здесь это сказали, и тогда мы, поняете (он всегда говорил так: «поняете». —
В.Д.) достигнем вершин… А теперь двадцать минут перерыв, и в нижнем фойе Олег Николаевич будет читать пьесу Александра Володина».
…Пьесу прочитали. Обсудили и были в восторге от чтения Олега Николаевича, а не от пьесы…
На этом «исторический день» был закончен. Все разошлись возбужденные и озадаченные: «Что это — большое счастье или большое несчастье?» — как сказал Нехлюдов в «Воскресении».
Какие это были радостные дни, недели, месяцы, полные надежд и мечтаний о возрождении Художественного театра! Но… Через два года А.К. Тарасова сказала А.П. Зуевой про Ефремова: «Мы ошиблись». А через несколько лет умерли почти все «старики», кроме Прудкина, Степановой и Пилявской.
…И вот прошло 30 лет со дня «коронации» и 15 — со дня разделения МХАТа. Я вспомнил магическое «если бы» Станиславского. Так вот, «если бы» не Ефремов О.Н., а Ливанов Б.Н. возглавил тогда МХАТ? Что было бы? «…Если бы знать».
…Когда в 1970 году Ефремов пришел в МХАТ, говорили, что он шел с условием сократить труппу МХАТа на 50 % и взять в МХАТ
целиком весь «Современник». Но этого не произошло, потому что почти весь «Современник» отказался идти в МХАТ (а Ефремова там на собрании даже назвали предателем!).
Так что проблема труппы МХАТа долгое время висела на шее Ефремова. Но ее решить было сложно: ведь МХАТ тогда в течение шести лет работая на трех (!) сценах, а по средам еще и на сцене Малого театра. И только в 1977 году основная сцена МХАТа была закрыта (на 10 лет!) на капитальный ремонт — остались филиал и театр на Тверском бульваре.
Страшно было перед самым этим капитальным ремонтом приходить в знаменитое Нижнее фойе театра. Особенно вечером — зима, голые, холодные стены, с которых сняты и валяются на полу портреты всех артистов, начиная с К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко… Мрачные, дырявые окна… И вдруг то там, то тут бегло потрескивают квадратные плиты паркетного пола… Казалось, что кто-то то ли ходит, то ли быстро пробегает по этому пустынному фойе театра…
Грустно было все это видеть… Я видел Форумо-Ромо, видел в Крыму остатки разрушенного Херсонеса, разрушенный храм Христа Спасителя, а вот теперь и разрушенный Театр моей мечты…
И вот через 10 лет Ефремов снова решил заняться реформированием труппы. План у него был такой. Он вроде его согласовал даже с Е.К. Лигачевым, членом Политбюро КПСС, который, кстати, был за простое сокращение труппы: мы, мол, в Агропроме сократили чуть ли не тысячи человек… Кстати, ведь и само назначение Ефремова было согласовано с высшими органами партийного руководства: «О.Н. Ефремов утвержден в должности главного режиссера МХАТ СССР по постановлению Секретариата ЦК КПСС от 19 августа 1970 г. за № СТ 105/15 С по предложению Министерства культуры…» («НГ» 30 октября 1998 г.)… Но Ефремов говорил, что не хочет быть палачом, хотя его оруженосцы и придумывали разные варианты по сортировке актеров.
Но 26 ноября 1986 года В.Я. Виленкин об этом сказал: «У Ефремова не разделение, а избавление от не нужных ему людей. Это ускорит развал Художественного театра. У Немировича-Данченко был такой план разделения театра: основная сцена — это на сто процентов МХАТ, а филиал отдать недовольной части труппы. И там брать новых режиссеров и своих авторов для нового театра. Или взять в филиал главного режиссера, но со своими идеями…»
В конце концов Олег Ефремов решил так: вот кончится ремонт основной сцены, и тогда он возьмет тех актеров, которые пойдут на договорный эксперимент, а остальным будет передан филиал во главе с режиссером В.Н. Шкловским. Вроде бы гуманно и логично, вот только как делить труппу?
Ефремов, конечно, знал, кого он хочет взять с собой на основную сиену. Существовал даже некий список, и один из ефремовских холуев обзванивал этих людей… Но решили все делать «демократично» — через собрание, через голосование. «В порядке эксперимента, — как пишет А. Смелянский, — а не как в 30-е годы, когда закрыли сверху три театра, но актеров направили в другие театры "для усиления их труппы"…» И все это, может быть, и состоялось бы, но… Выяснилось, что филиал-то закрывается на капитальный ремонт, а театр на Тверском бульваре отдается театру «Дружба народов» под руководством Е.Р. Симонова… Этого, конечно, не мог не знать Ефремов.
Вот это сообщение и взорвало тех, кто во главе с Татьяной Дорониной до этого голосовал против разделения МХАТа. Накалились страсти — было сочинено письмо против Ефремова и против разделения…
В разгар споров было партсобрание творческого цеха. Я не был на нем, но утром 21 ноября 1986 мне позвонила С.С. Пилявская (она тоже не была: болеет, давление поднялось, лежит) и рассказала о вчерашнем партсобрании, а ей рассказала жена Мариса Лиепы, а той — Юрий Леонидов… Собрание было весьма бурным, выступили Степанова, Калиновская, Леонидов… Итоги голосования таковы: 12 — «за» разделение, а 30 — «против». Но сказали: «Это еще не все, завтра будет общее собрание всей труппы, там будет молодежь, а она вся за разделение…» Результат голосования на собрании труппы: — 50 — «за» и 158 «против».
Затем вновь состоялось бурное собрание, на этот раз в присутствии министра культуры РСФСР Е.А. Зайцева. И только когда было официально заявлено, что вместо филиала будет передан при разделении театр на Тверском бульваре, казалось, страсти улеглись… Но по какому принципу и кто мог решать судьбу актеров, не поговорив с каждым из них?
Дележ ведь был механический и предельно жестокий. Это было просто уничтожение (не сокращение же!) половины труппы. При этом активно или пассивно участвовали секретарь парткома А.И. Степанова и «старый большевик-подпольщик» М.И. Прудкин.
Не хочу я вспоминать, а тем более подробно писать об этой безнравственной акции. Нет, театры оба остались, спектакли шли, актеры играли, но уже ничего от
Художественного театра не осталось — а в историческом здании после 10-летней реконструкции была уничтожена даже вся закулисная атмосфера…
Мне было обидно, что многие мои товарищи и все однокурсники не вернулись на основную сцену, где мы начинали в 1947 году вместе нашу творческую жизнь. Да и такие легендарные спектакли К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, как «Синяя птица», «На дне», «Мертвые души», «Три сестры», надо было сохранить на исторической сцене МХАТа… Но Ефремов решил от них избавиться.
Ну, а я? Я был уже с 1985 года вне театра — состоял директором Музея МХАТ и в театре был только «на разовых». А Марго была до этого переведена Ефремовым на пенсию.
Что же дало это разделение? Не знаю. Лучшие спектакли Ефремова был созданы им
до разделения, и большая труппа не мешала этому. А после разделения, кроме ежегодных гастролей, ничего интересного не произошло, и даже то, как отмечалось 100-летие МХАТа, вызвало недоумение —
на исторической сцене шло массовое пьянство… Хотя до этого, в 1997 г., 100-летие «Славянского базара» Смелянский организовал почему-то как торжественный международный форум. Я его поэтому и назвал «Смелянский базар»…
Тогда же я доказал, что днем открытия МХАТа надо считать не 27 октября, а 26-е, так как к датам XIX века надо прибавлять не 13, а 12 дней по новому стилю. Театр ведь был открыт 14 октября 1898 года. И в газете «Вечерний клуб» на первой полосе громадными буквами был анонс: «Владлен Давыдов приблизил на один день 100-летие Художественного театра!» Хотя в МХАТ им. М. Горького на Тверском бульваре 100-летие отмечалось все-таки 27 октября.
Итоги и выводы
«Кризис! Кризис МХАТа!» — об этом многие годы сперва говорили тихо и писали осторожно, а потом уже кричали и злорадствовали…
И внутри театра, конечно, это видели и понимали, но ничего сами сделать не могли, а искали спасения в новой дирекции — как когда-то К.С. Станиславский обратился к властям с просьбой прислать в Художественный театр «красного директора» — партийца… Хотя тогда и он, и Вл.И. Немирович-Данченко еще работали в театре и поставили в те годы свои блестящие спектакли «Женитьба Фигаро», «Горячее сердце», «Воскресение», «Мертвые души», «Три сестры»…
И, чтобы избежать кризиса, а верней, чтобы о нем не думать и не говорить, правительство и партия стали оберегать МХАТ, объявив его «вышкой» театрального искусства. И стали буквально заваливать его орденами и званиями. Особенно же в этом преуспели в не совсем юбилейную дату 40-летия МХАТа в 1938 году, когда на торжества явилось все Политбюро во главе со Сталиным. Задолго до этой даты во всех газетах и по радио (телевидения тогда еще не было) много и подробно писали об истории МХАТа и его современной жизни. Юбилей был превращен во всенародное торжество и демонстрацию всенародной любви к МХАТу…
А в газетах тогда появлялись такие сообщения: «В селе Алексеевке Курской области колхозу присвоено имя К.С. Станиславского»… Или: «Родился мальчик, ему дали имя — МХАТ Владимирович»… Или объявление в «Известиях»: «Павел Григорьевич Сопляков поменял фамилию на Станиславский»…
А было и такое: «В с. Михайлове открылся Колхозный Художественный театр, худруком назначен артист МХАТ тов. С.Н. Сверчков».
И еще: «Второй год существует самодеятельный драмколлектив в МХАТе. В него входят рабочие сцены, осветители, гримеры, служащие. Под руководством К.М. Бабанина и Н.Ф. Титушина поставлен спектакль «Шестеро любимых» А. Арбузова, который играли перед рабочими театра и в клубе завода «Красный богатырь» (подшефный завод). Теперь готовят пьесу О. Прута "Я вас люблю"…»
В ГИТИСе руководили курсами и преподавали артисты МХАТа Л.М. Леонидов, Н.М. Горчаков, М.М. Тарханов, В.А. Орлов, И.М. Раевский, A.M. Карев. Во многих домах и дворцах культуры руководителями драматических коллективов были артисты МХАТа. И даже артисты вспомогательного состава вели драмкружки в клубах и школах…
Но ведь тогда (в 30-е годы вплоть до 1943-го) многие спектакли Художественного театра действительно были настоящим явлением русского театрального искусства и на его сцене блистали великолепные актеры.
Так в чем же дело? Почему в 1942 г. Вл.И. Немирович-Данченко в письме коллективу МХАТа писал о его тупике? Да потому, что, я думаю, театр поменялся ролями с партией и правительством. Если раньше партийные вожди создавали из МХАТа «вышку», то после войны МХАТ на эту самую «вышку» стал поднимать все идеи и дела партии и правительства в своих спектаклях…
Сначала все делалось искренне, но потом, поняв, за что дают Сталинские премии, награды и звания, начали борьбу за всевозможные блага: «И как один умрем в борьбе за это!» Но умирали-то не соревнующиеся, а сам театр, его высокие художественные принципы и традиции.
И последнее. Все, что происходило со МХАТом и во МХАТе, — вина не только самих мхатовцев, но и властей, которые им руководили.
17 декабря 1991 г. Запись в дневнике:
«В этот день на Правлении Олег Николаевич объявил о своем уходе из худруков. Как? Что? «Нет, нет, не могу справиться с труппой, устал — все отказываются от работы». Выяснилось, что в разгар работы над постановкой «Горя от ума» и Шкаликов-Молчалин, и Колтаков-Чацкий уехали в Лондон, а Кеша Смоктуновский — в США».
26 декабря 1991 г. Из протокола собрания труппы и зав. цехами. Нижнее фойе театра
«О.Н. ЕФРЕМОВ (в красной рубахе, расстегнутой, навыпуск, в черном свитере под рубахой. В очках, когда читает, а то снимает очки и подносит бумагу близко к глазам):
— Если выбирать стиль собрания, то он может быть серьезным, а может быть веселым. Вчера мы заседали серьезно на Правлении театра, и мне поручили сообщить, о чем была речь. По Москве слухи, что Ефремов подает в отставку. Отставка — это модное слово, вот президент подал в отставку. А чтобы смешно вам было, то да, был дней 10 назад на Правлении разговор — я попросил отставку. Никаких заявлений в министерство я не делал. Наш театр живет по своему уставу, я избираем Советом театра, как и Правление, но высший орган — Совет театра. Театр находится в таком состоянии, но я винил в этом себя — я чувствую некую свою отсталость. Дела очень и очень серьезны. Я надел красную рубаху — я за революцию, она дала много: льготы, дачи. Я это сделал, чтобы не ходить с красным флагом. Да, наше контрреволюционное правительство исключило культуру. Кто будет руководить? Кто будет давать советы? Хотя можно предположить по тем делам, которые делает контрреволюционное правительство. Президент сказал на Верховном Совете РСФСР, что пусть культура потерпит. Сложные времена наступают.
Теперь фондов не будет да еще цены будут отпущены. Сколько будет стоить каждый спектакль? А наш художник Б.А. Мессерер не идет на компромиссы — давай мне настоящий паркет! Почему мы сегодня в этом фойе? А чтобы на нас смотрели основатели театра.
За 70 лет Художественный театр превратили в государственное учреждение. Истинные «художники» сопротивлялись, как могли, как и сейчас сопротивляются. Но у нас запас прочности иссяк. Может быть, все дело во мне.
Дела в театре очень плохи по сути. И что нас ждет, что грядет? Я попытаюсь искупить свою вину, буду играть и ставить. Но беспрерывную боль испытывать за то, что идет умирание, — это непереносимо. Вчера на Правлении решили «да», по уставу я заявляю эту отставку. И Правление, которое мы выбирали, тоже идет в отставку и предлагает одно: объявить в театре чрезвычайное положение («О Господи!» — в рядах). И предлагает создать три комитета, которые проанализируют ситуацию по всем разделам. И через месяц-полтора вынесет на собрание свои предложения, так как театр в таком виде существовать не может. Театр будет продолжать работать, но если мы все вместе не примем участия и не поймем, что грядет, ничего не выйдет! Вы не понимаете, что вопрос сверхсерьезный. Сейчас выясняется кризис структуры. Может быть, через месяц кое-кто поймет, что нет искусства Художественного театра. Совет театра принимает предложение Правления: или порвать Устав, по которому МХАТ переходит на договорный принцип, и поручить чиновникам все решать, или через месяц все будет ясно, как нам существовать дальше. Итак, давайте голосовать. (Встал, начал считать.)
ГОЛОС: Надо считать, кто «против»!
ЕФРЕМОВ: Нет, я сам хочу сосчитать. Кто «за»? (Считает.) 40 «за»! Кто «против»? (Тишина, все замерли и смотрят вокруг — никто.) Всё!»
«Наш Олег Николаевич»
За 56 лет моей работы и жизни в Художественном театре 30 лет прошли при власти О.Н.Ефремова. Писать о нем и вспоминать, анализировать этот период довольно трудно. О нем — при его жизни — были написаны сотни статей, рецензий и тома книг. Там отображена вся его деятельность, оценены спектакли, описаны актерские работы, характер, даже «история Болезни». Вносить в это многословие еще и свои слова довольно трудно. А потому действительно «большое видится на расстояньи»…
Но почему-то все ждут и от меня каких-то воспоминаний «изнутри».
Из «нутри» чего — театра? Моей души?
Но ведь внутри каждого организма, и человеческого и театрального, так много всего — и хорошего, и плохого. И у меня, как у всех, кто пришел во МХАТ в 1947 году, было много и радостей, и огорчений, и обид, и даже оскорблений. Но все перебарывала любовь и преданность этому великому Храму, да, да, именно Храму, который мы несли в своей душе — с детских лет, как мечту о «синей птице».
Меня все время преследует судьба храма Христа Спасителя. Храм этот воздвигался в честь победы России над Наполеоном несколько десятилетий. В него вложено много сил человеческих, золота, труда великих художников. Он вмещал в себя всю духовную красоту православия. Но простоял меньше ста лет. Пришли люди, которым эта красота мешала, даже раздражала. Они его в два счета уничтожили. И взамен хотели построить громадное сооружение — Дворец Советов с Лениным на вершине. Но не успели, не смогли: Вторая мировая война помешала, не до дворцов тогда было, Россию надо было спасать. И осталась яма, котлован, бездна, пропасть, которую природа беспрерывно заполняла: летом — дождевой водой, зимой — сугробами снега.
После XX съезда КПСС, после «оттепели» решили здесь соорудить плавательный бассейн с платным входом и при наличии справки от врача. Плавали москвичи в этой купели несколько десятилетий, пока не всплыла у них совесть при воспоминании о том, что же здесь было до этой мутной воды.
И произошло самое большое чудо в эпоху «перестройки». Пожалуй, это было ее символом. «Перестроили» бассейн! Восстановили не за три десятилетия, а за три года храм Христа Спасителя!
Мне это в какой-то степени напоминает вторую половину столетней истории Художественного театра, его судьбу, его «эволюционно-революционную» историю. Конечно, Олег Ефремов участвовал в мхатовской истории в период, если можно так сказать, создания «бассейна с мутной водой», а разрушался этот Храм не только 30 лет при нем, но и довольно задолго до него.
Кто же и когда сумеет (и сумеет ли?) возродить этот великий Храм? Разрушенный, разделенный Храм — Храм нашей русской театральной культуры. Храм «жизни человеческого духа»…
С Олегом Николаевичем, Олегом Ефремовым, за 55 лет общения у нас были своеобразные отношения. Порой о них можно было судить по тому, как он на репетиции, на собрании, «за столом» обращался ко мне. Таких градаций и ступеней было несколько. Первая, самая опасная: «Давыдов!» Чуть-чуть менее строгая: «Владлен Семенович!» Потом почти дружеская: «Владлен!» или «Влад!» А вот если «Владик» — это значило: он вспомнил, что мы с ним учились в нашей любимой Школе-Студии. Ну, а если совсем тепло, «Владюня», — это означало, что он меня просто любит.
В 1984 году мне исполнилось 60 лет. Моя теща Анна Робертовна Анастасьева работала концертмейстером в Центральном детском театре в то время, когда Олег Ефремов играл там. Она попросила: «Владик, пригласите к себе надень рождения Олега». Он приехал с бутылкой коньяка. За столом взял слово. И сказал:
— Я немного моложе тебя. Ты идешь впереди меня на три года. Ты всегда впереди меня. Ты вперед успел Марго схватить. Ты же отбил ее у меня. Ты успел впереди меня кинославу завоевать. Ты успел впереди определиться и сейчас. Ты такой впереди идущий. И через три года мне, например, не будет места в Музее или еще где-то. И я все думаю, едрена мать, как же мне быть? Ты занимаешь все места. Но я, несмотря на то, что ты губишь мою будущую жизнь, тем не менее люблю тебя, понимаешь?! В наше время, когда никто никого не любит, я, Владик, тебя люблю! Ты это знаешь. Поэтому, Владик, любовь моя, я тебя целую! И не сомневаюсь, что если мы погибнем, то вместе! Но, может быть, и здесь ты будешь впереди на три года!
Все, конечно, обалдели. А он меня поцеловал и выпил за мое здоровье.
И тут же вдруг сказал:
— Мои студенты очень довольны твоей беседой с ними о прошлом МХАТа — спасибо!..
Да, наверное, со многими людьми, которые считали Олега своим другом, у него были своеобразные отношения.
Он, конечно, был «продуктом нашей эпохи», как сказал о нем его бывший друг, наставник и учитель Виталий Яковлевич Виленкин. Но ведь и эпоха-то была непростая. Сам Олег говорил, что если бы не пошел в актеры, то стал бы хулиганом и растворился в той среде, которая его окружала в ссыльном лагере, где отец работал экономистом и где началась его жизнь «в людях». Но он вернулся с родителями в Москву и поступил в 1945 году вместе со своим приятелем Сашей Калужским в Школу-Студию МХАТ. Это его спасло, как он говорил. А затем Ефремова хватило, чтоб преодолеть обиду на тех, кто после окончания учебы не взял его во МХАТ. А ведь в 1949 году председателем Государственной экзаменационной комиссии был любимый артист Ефремова — Борис Добронравов, который подписал ему диплом. Но в театр его не приняли.
22 ноября 1974 года В.Я. Виленкин впервые рассказал мне: «Дело в том, что в 1949 году после окончания Школы-Студии МХАТ Олега Ефремова не взяли не только в МХАТ, но и ни в один театр… Я умолял Ольгу Ивановну Пыжову (она в 1948–1950 годы была худруком Центрального детского театра) взять его к себе. Она не сразу согласилась. Но я ей сказал: «Это для меня сейчас самое важное в моей жизни». Она его взяла и потом была им очень довольна».
Именно в этом театре за 5 лет раскрылся талант Ефремова и как актера, и как интересного режиссера. Именно там зародилась идея создания нового театра… Поэтому В.Я. Виленкин в 1970 г. был (как и весь «Современник») против перехода Ефремова в МХАТ. Такого же мнения был тогда B.C. Розов. А вот П.А. Марков был «за»! Конечно, В.Я. очень переживал за все, что тогда происходило в «Современнике» и в МХАТе. Он старался в те годы смотреть все спектакли, поставленные в МХАТе, и не только Ефремовым.
Ефремов был не просто талантливым актером, современным режиссером, но и театральным деятелем, именно — деятелем. Не зря на последнем съезде ВТО он выступил с предложением переименовать ВТО в СТД — Союз театральных деятелей! Олег как-то сказал, что если бы он не был актером и режиссером, то стал бы политическим деятелем и стоял бы сейчас на трибуне Мавзолея.
Энергия, а главное, талант и деловые качества организатора — театрального деятеля помогли О.Н. Ефремову осуществить смелую акцию: создать (впервые в советское время «снизу») театр «Современник» — дерзкий вызов не принявшему его МХАТу. Даже в самый пик всеобщего признания и успеха «Современника» Олег не мог этого забыть и простить «неразумным хазарам»! И хотел «отмстить» этим самым «хазарам». Он фанатически верил, что «Карфаген будет разрушен»!
11 июня 1988 года на собрании труппы МХАТа он говорил: «У меня было желание разрушить старый, неинтеллигентный, махровый Художественный театр — надо было его разрушить. Один человек, вы его знаете, говорил мне: «Не ходи туда, у них один талант остался — сжирать главных режиссеров!» А другая говорила: "Иди, иди, ты просто разрушишь Художественный театр, и это останется в истории"…»
О.Н. Ефремов пошел во МХАТ. Он верил в свою звезду, верил, что «въедет в этот театр на белом коне».
Существует легенда, будто одна из жен Олега Николаевича, утешая его, когда он не был принят в МХАТ, предсказала ему: «Ничего, Олежка, ты еще въедешь в этот театр на белом коне». И вот, видимо, в подтверждение этого предсказания Олег Николаевич в «Чайке» выпускал в первом акте на сцену белую лошадь. У Нины Заречной там такие слова: «Я гнала лошадь, гнала…» Правда, не ясно было, как она ее гнала — в коляске или верхом? Но лошадь появлялась на сцене и медленно проходила на заднем плане. И продолжалось это до тех пор, пока не появилась такая «Служебная записка»:
«Зав. Режиссерским управлением тов. Е.И. Прудкиной. В спектакле «Чайка» используется белая лошадь из Московского ипподрома. Эта лошадь специально была приучена к сцене для спектаклей ГАБТ СССР. Попытки приучить какую-нибудь лошадь из имеющихся на ипподроме специально для МХАТа пока успехом не увенчались. Так как лошадь была приучена для ГАБТа, то он пользуется преимуществом права использования ее в спектаклях. Лошадь используется в следующих спектаклях ГАБТ:
1. «Дон Кихот»
2. «Иван Сусанин»
3. «Князь Игорь»
4. «Борис Годунов».
Прошу Вас не назначать сп. «Чайка» в дни проведения вышеперечисленных спектаклей ГАБТа (кроме «Бориса Годунова», где возможна перебежка). А в репертуаре декабря уже есть совпадение проведения спектаклей «Чайка» и «Дон Кихот». Зав. постановочной частью В.Ю. Ефимов. 6 ноября 1980 г.».
Кстати, В.Ю. Ефимов после такой «Служебной записки» в 1987 году был назначен директором-распорядителем, а потом и директором МХАТа. Но, учитывая его особую заботу о ГАБТе, в начале XXI века все-таки воспользовались его советом и сделали «перебежку», но не белой лошади, а ему: из директора МХАТа — в замдиректора ГАБТа.
А если серьезно, то о «перестройке» и «гласности» МХАТ в пьесах Гельмана начал говорить со сцены раньше, чем М.С. Горбачев с трибуны, — «Заседание парткома», «Обратная связь», «Мы, нижеподписавшиеся»…
Когда же в стране началась «перестройка», то в театрах, и в том числе в МХАТе, наступил «застой»… Что говорить, о чем говорить, с кем и с чем бороться? Съезды народных депутатов, показываемые по телевидению, стали самыми сенсационными зрелищами, которые затмили не только театр, но и футбол, и хоккей. И даже такой театральный лидер, как Олег Ефремов, растерялся и начал метаться между трагедией и комедией в стихах («Борис Годунов» и «Горе от ума»), потому что современные драматурги безмолвствовали.
А тут еще в 1987 году в жизни МХАТа произошли два важнейших события. После десяти лет была наконец завершена реконструкция исторического здания МХАТа в Камергерском переулке. И это явилось для Ефремова поводом, чтобы разделить труппу театра. Таким образом, на девяностом году жизни театра в Москве появилось два МХАТа…
Что дало это разделение, которое так активно помогали осуществлять Ефремову его единомышленники? Об этом будут судить историки театра.
Незадолго до своей смерти, уже очень больной, Олег Ефремов решил сделать «обход» дома № 3 «А» по Камергерскому переулку. Здание это еще в 1938 году было передано МХАТу. Пошел по всем этажам здания сверху вниз, начав с четвертого, где одна половина была занята бухгалтерией театра и еще какими-то службами, а вторая — архивами Музея МХАТа.
Олег Николаевич почему-то решил, что «тут надо сделать буфет-кафе».
Спустились на третий этаж — целиком помещение Музея. Здесь большой читальный зал с библиотекой. Рядом — самые ценные архивы и фонды, кабинеты научных сотрудников, директора и бухгалтерия. Ефремов зашел в мой кабинет, повздыхал: «Какой у тебя большой кабинет, больше моего…» Посидел. Хотя дышал тяжело, но курил, курил…
Пошли на второй этаж. Там в семи залах была выставка к 100-летию МХАТа. «А что же история МХАТа у тебя кончается в 1970 году?» — «Нет, с 70-го года выставка в боковом фойе театра, а здесь будет постоянная историческая экспозиция — "Золотой век Художественного театра (1898–1948)"».
Зашли и на другую половину второго этажа — там театр сдал помещение какой-то рекламной фирме. Но Олег и туда заглянул. Посидел. Покурил. Спросил, на какой срок сданы эти комнаты. Что-то проворчал и загадочно сказал, уходя: «Ну, работайте, работайте…» — и мы спустились на первый этаж. Там — учебная сцена и зрительный зал Школы-Студии. О.Н. сказал: «Здесь я хочу сделать варьете… А тут рядом, в подвале, ресторан "Сережа"»…
Он очень устал. Строго посмотрел на меня: «Ну, Владлен, мы еще с тобой обо всем поговорим и будем решать…» И ушел. Что и как решать, я так и не понял. Видимо, уже тогда у директора МХАТа В.Ю. Ефимова были планы отобрать у Музея помещение на втором этаже. Что и было сделано, но уже после смерти О.Н. Ефремова.
Нет, не могу, не хочу я
всего писать, что у меня связано с Олегом Ефремовым. Много, очень много было разного. А вот проходят годы, и плохое, обиды начинают забываться. Порой его даже жалко.
1993 год, В.Я. Виленкин:
— Да, я тоже понял, что его (Ефремова. —
В.Д.) запои, как вы их называете, «отъезды в розлив», бывают или перед тем, как он собирается осуществить что-то неожиданное, или уже после совершения этого…
А когда я у Ефремова спросил: «Олег, почему ты в отпуске снимаешься, ездишь куда-то, а не отдыхаешь?» — он ответил: «А иначе я сопьюсь от безделья…»
В разные периоды жизни к нему по-разному относились друзья и враги — так же, как и он к ним. В.З. Радомысленский на его 50-летии сказал: «Если бы Константин Сергеевич был жив, он был бы бесконечно доволен и счастлив творческим сотрудничеством с Олегом Николаевичем Ефремовым». А В.Я. Виленкин сперва гордился и вдохновил его на создание «Современника», но потом резко изменил мнение и отношение к нему. Об отношении всех его друзей не берусь судить, но вот то, что по радио сказал A.M. Смелянский, меня страшно удивило: «…И при Станиславском не было такой прекрасной труппы, какую создал во МХАТе Ефремов…»
Может быть, поэтому О.Н. Ефремова похоронили рядом с могилой К.С. Станиславского?..
Мечты о прошлом
Это одно из удачных назначений Ефремова (редких!): вас — на должность директора Музея МХАТ. Это очень и очень важно сейчас для Музея, а главное, ваши знания и ваше влияние дадут на много лет жизнь Музею — двинут и разовьют его жизнь!
В.Я. Виленкин
Музей должен оживить и повлиять на работу в театре.
О.Н. Ефремов
Когда Олег Ефремов в 1985 году предложил мне стать директором Музея МХАТа, оставаясь актером в театре, я с радостью принял это предложение. «Ведь ты можешь там сделать новую историческую экспозицию, какую хочешь», — сказал он мне тогда. И действительно, предстоял капитальный ремонт здания 3 «А», где находился Музей, и старую экспозицию, которую в 1947 г. открывал В.И. Качалов, должны были разобрать.
Я любил эту экспозицию, созданную под руководством Николая Дмитриевича Телешова, и часто ее посещал — это наглядное пособие по истории Художественного театpa. Она была очень информативной и интеллигентной. Но я помню, что она была, как все экспозиции во всех музеях. Я же мечтал, после того как увидел в Стратфорде-на-Эйвоне шекспировскую выставку, сделать именно
театральный музей — яркий, образный и живой. Да, да, именно
живой, чтобы он эмоционально воздействовал на посетителей, как спектакли, о которых он рассказывает. С такими мечтами я и пришел в Музей.
Но предстояло Преодолеть много препятствий и трудностей, о которых я и не знал. За всю — тогда 60-летнюю — историю Музея это был самый нелегкий со времен войны период. Ведь надо было не только «до основания» разобрать всю экспозицию, но собрать-сложить весь архив, все огромные уникальные его фонды и вывезти их на время ремонта. Но куда? Как все это сделать? При тогдашнем заместителе директора — бывшем полковнике юстиции, который привык не работать, а наблюдать и вести «дела», — это было невозможно. Это я понял сразу и поставил условие при своем назначении на должность директора Музея: мне нужен другой зам. Однако заменить его оказалось почти невозможно. Я полтора года из-за этого не приступал к работе в Музее. Никто, никто не мог это сделать тогда — даже министр культуры, который меня назначал директором Музея МХАТа! А я уже нашел себе заместителя по «общим вопросам» — бывшего заместителя директора Госцирка В.В.Горского… Пришлось мне искать обходные пути, чтобы его назначить. И я сперва сделал его заведующим Домом-музеем К.С. Станиславского. Но через три месяца раздался грозный звонок из Министерства культуры: «Как вы могли назначить в Дом Станиславского взяточника?!» (Дело в том, что Горский был ложно обвинен в даче взятки своему директору Колеватову, сидел в тюрьме, но был досрочно освобожден.) Тогда я собрал коллектив Музея и решил под протокол обсудить: «Как работает товарищ Горский?» И, конечно, деловые качества Горского, его обаяние, а главное, театральное образование (ведь у него был диплом театроведческого отделения ГИТИСа!) — все это было по достоинству оценено, и мы приняли резолюцию: ходатайствовать перед прокуратурой о снятии с тов. Горского судимости. И это удалось. Но все равно пришлось снять его с должности заведующего Домом-музеем Станиславского и перевести в научные сотрудники. «Вот это грамотно сделано!» — сказали мне в Министерстве культуры. А потом пришлось использовать всякие юридические фокусы, чтобы его все-таки назначить моим заместителем. Одним словом, все получилось, как я хотел, В.В. Горский стал моим замом и прекрасно организовал и осуществил переезд всего Музея на время ремонта в найденное им помещение в Козицком переулке, а не в Орехово-Борисово, как предлагало нам министерство.
Переезд все равно оказался мучительным к трудным — ведь научными сотрудниками Музея были только женщины. Но благодаря их преданности и энтузиазму он все-таки состоялся. А часть материалов Музея перенесли в Дом-музей Станиславского, где в крохотной комнате я сделал и себе временный кабинет.
Ремонт шел три года, потом нужно было все материалы возвратить на новое-старое место…
И все эти три года я усиленно готовил план и сценарий новой исторической экспозиции. Это была самая интересная работа — я с головой окунулся в удивительную историю и в уникальные архивы и фонды Музея МХАТа.
А до этого мне предложили сделать выставку «Жизнь и творчество Станиславского» для поездки в Стокгольм на форум о творчестве К.С. вместе с А.И.Степановой, О.Н. Ефремовым и А.В. Эфросом. Это была для меня генеральная репетиция, и я вместе с научными сотрудниками сделал 21 стенд и повез на этот форум. Потом эта удачная, хотя и «старомодная» выставка (так мне сказала одна известная театроведка) побывала в Париже, Лондоне, Софии, Берлине, Дублине и даже 5 месяцев — в 15 штатах. Америки.
Ну, а я, хотя меня В.В. Горский неожиданно покинул, продолжал готовиться к новой постоянной большой исторической экспозиции. Мой новый молодой, энергичный зам. Валерий Анфимов мне здорово помогал. Денег на эту экспозицию, даже на подготовку с художниками макетов, Министерство, конечно, не дало. И мы решили семь залов Музея, где должна разместиться экспозиция, пока сдавать и на эти деньги сделать семь макетов. Причем каждый из них был показан, и обсужден, и одобрен Научным советом Музея во главе с В.Я. Виленкиным. Потом пришли два тогдашних заместителя министра культуры — М.Е. Швыдкой и К.А. Щербаков, а потом и новый министр Н.Л. Дементьева. Казалось, все шло по правилам, и замечательные макеты моих друзей, молодых талантливых художников В. Вильчес-Ногеро и О. Кирюхиной были всеми одобрены, а Зураб Церетели даже сказал, что это — «уже настоящее произведение искусства». Но денег все равно не давали, хотя и было постановление правительства о подготовке празднования 100-летия МХАТа, а там пункты — о создании постоянной исторической экспозиции в Музее, о подготовке телефильмов и т. д.
Тем не менее на обсуждении в юбилейной комиссии у опять (!) нового министра культуры Е. Сидорова вопрос о деньгах тоже не был решен. А на мою заявку о шести телевизионных передачах к юбилею МХАТа, которую принял О. Попцов, М.Е. Швыдкой возразил, что этого не будет, так как A.M. Смелянский будет делать 20 авторских передач о МХАТе.
Так окончательно покончили с моими планами и музейными мечтами. В семи залах нашего Музея к 100-летию была организована временная выставка (без моего участия!). Наши уникальные макеты сложили в кладовку и коридоры Музея. А 21 стенд моей выставки перенесли в Дом-музей К.С. Станиславского, где они удачно размещены на первом этаже.
Но мне-то хотелось сделать оригинальную постоянную экспозицию по истории МХАТа — «Золотой век Художественного театра. 1898–1943 гг.» — Этот период в истории театра связан с основателями МХАТа К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Может быть, именно это и вызывало сомнения у начальства, а у Ефремова — откровенный протест: «Что же, на этом кончается история МХАТа?!»
«Да,
великая его история кончается, как и сам МХАТ, а новейшей и новой истории будет посвящена выставка в боковом фойе театра», — ответил я. Но, как показало время, в Музее пока нет никакой экспозиции, а в фойе театра осталась только выставка, связанная с работой О.Н. Ефремова во МХАТе.
А я-то мечтал сделать экспозицию — как настоящий спектакль, как бы оживляя историю МХАТа. И это в макетах было видно и всем (и даже Ефремову!) нравилось…
ПЕРВЫЙ ЗАЛ. В зале полутьма. Во всю стену — фрагмент (конечно, уменьшенный) декорации финала спектакля «Царь Федор Иоаннович» — «Архангельский собор». Этим спектаклем открылся 14 (26 октября) 1898 года Московский Художественно-Общедоступный театр. Горит лампада над входом в собор. Звучит колокол, и доносится пение из собора. Голос великого Москвина — царя Федора: «Царь-батюшка! Ты, стольким покаяньем, раскаяньем и мукой искупивший свои грехи! Ты, с Богом ныне сущий! Ты царствовать умел! Наставь меня! Вдохни в меня твоей частицу силы! И быть царем меня ты научи!!!» Рядом на стенде — фотографии исполнителей и сцен из спектакля. Эскизы декорации и костюмов А. Симова. И фотографии всей труппы театра. А на другой стороне зала — фрагмент декораций «Чайки», и звучит монолог Нины: «Люди, львы, орлы и куропатки… Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно…» Этот спектакль стал символом Художественного театра, его эмблемой.
ВТОРОЙ ЗАЛ. Опять полутьма, и только лампа над нарами из спектакля «На дне». Сперва звуки шарманки, а потом пение — «Солнце всходит и заходит. А в тюрьме моей темно…». И, конечно, запись фрагмента сцены из 4-го акта — разговор Сатина и Барона (в исполнении В.И. Качалова!).
И в этом же зале «черный бархат» из гениального спектакля К.С. Станиславского «Синяя птица». И тоже музыка — знаменитый марш Ильи Саца (ведь он тоже стал символом театра) — «Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей…» И отрывок из монолога Света.
По этому принципу оформлены и другие залы. Конечно, с научно и исторически обоснованной концепцией всего пути МХАТа, вплоть до последних спектаклей Вл.И. Немировича-Данченко — «Три сестры» (1940 г.) и «Последние дни» М. Булгакова (1943 г.). А в конце последнего зала — большой письменный стол. На нем телефон, курительная трубка и под стеклом — постановления о закрытии МХАТа-2, театра им. Вс. Мейерхольда, статья «Сумбур вместо музыки» и другие «постановления по искусству».
Вот этот стол тоже вызывал сомнения: «Как это оправдать?» А никак! Это символ того времени, когда тов. Сталин был главным режиссером всей нашей жизни. Но все это осталось в макетах и в моих мечтах… Ну, а что же я успел сделать в Музее МХАТ за 15 лет?
Пожалуй, самой важной своей работой я считаю оформление Нижнего фойе Художественного театра. Мне хотелось не столько восстановить фотопортреты артистов и деятелей МХАТа, сколько внести новые детали, выбрать такие фотографии, где каждый смотрит как бы на нас (в объектив) и спрашивает: «Ну, вы, нынешние, ну-тко?!» А под портретом три-четыре фотографии в ролях, или сиены из спектаклей, или эскизы декораций. Ведь в этой галерее не только артисты, но и режиссеры, и драматурги, и художники, и сотрудники МХАТа за всю его историю. Это — «золотой фонд» Художественного театра.
Помню, во время этой работы в Нижнем фойе подошел ко мне М.И. Прудкин и спросил:
— А почему нету моего портрета?
Я ответил, что О.Н. Ефремов предложил выставлять портреты только тех народных артистов
СССР, которые умерли.
— Ну, а где и какой будет мой портрет… потом?
Я ему показал его портрет. Он одобрил его и сказал мне:
— А ты помнишь, Владлен, раньше, когда были похороны и выносили гроб из первого подъезда театра, то в это время из раскрытых дверей звучала пронзительная музыка Сапа к «Гамлету» — «марш Фортинбраса». Ты помнишь эти звуки фанфар? Вот, надо это восстановить! А еще, помнишь, когда мы гастролировали в Вене, на Бург-театре висел флаг этого театра с черной траурной лентой — тогда у них умер старейший артист. Надо бы сделать и флаг МХАТа…
На все это я ему сказал не без грустного юмора:
— Сделаем, все сделаем, Марк Исаакович, не беспокойтесь.
И он тоже не без юмора сказал:
— Спасибо, Владлен, ведь я знаю, как ты любишь Художественный театр и его историю…
Жизнь в Музее была активной. Ведь ВСЕ издания о МХАТе готовились на основе его архивов, а их было немало. И последний двухтомник к 100-летию МХАТа сделан И.Н. Соловьевой и A.M. Смелянским целиком на материалах Музея.
А мы успели выпустить к 75-летию Музея МХАТа свой небольшой альбом, а потом еще и альбом о выставке к 100-летию МХАТа.
У нас постоянно проводились разные юбилейные вечера и выставки, лекции и экскурсии в Доме-музее К.С. Станиславского и в Музее-квартире Вл.И. Немировича-Данченко.
Снимались телепередачи и фильмы о МХАТе, его истории и артистах.
Мне удалось сделать к 100-летию МХАТа телефильм «Если бы знать…» и множество коротких телепередач — «штрихов к портретам» великих артистов нашего театра.
Да и все научные сотрудники вели большую ежедневную работу и подготовку ко всем мероприятиям Музея. Одна выдающаяся работа — трехтомник О.А. Радищевой «История театральных отношений» — уже говорит об уровне и масштабе научных сотрудников Музея МХАТ.
Она же вместе с Е.А. Шингаревой в свое время сделала сборник воспоминаний об А.К.Тарасовой. А теперь вот выпушен протокол репетиций О.Н. Ефремова по работе над пьесой «Сирано де Бержерак», записанный Т.Л. Ждановой. Готовится сборник рецензий на спектакли МХАТа за всю его историю. В работе над ним участвуют все научные сотрудники Музея — М.Н. Бубнова, Т.П. Полканова, В.Я. Кузина (главный хранитель Музея) — во главе с О.А. Радищевой. И конечно, экспозиционно-выставочный отдел (раньше во главе с Л.Н. Носовой, а теперь с О.Д. Полозковой) готовит и юбилейные выставки, и постоянную экспозицию по истории МХАТа.
Конечно, и я, и мои друзья недоумевали: как это и почему меня отстранили от руководства Музеем? Но, видимо, как и в разделе МХАТа, так и в «выкорчевывании» меня из Музея проявил активность A.M. Смелянский. Он пугал меня «возрастным цензом». Да и вообще за 20 лет он весьма активно исполнял роль М.И. Прудкина в МХАТе. Думаю, что и после этих моих воспоминаний он продолжит свою активность.
Я был увлечен своей работой в Музее, и поэтому мне было так тяжело покидать его после смерти О.Н. Ефремова в 2000 году, тем более что это произошло совершенно неожиданно. Вряд ли это было справедливо — ведь, кроме всего, я только что получил Государственную премию Российской Федерации «За сохранение и пропаганду наследия К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко», и министр культуры РФ М.Е. Швыдкой поздравлял меня с этой премией. Правда, через два года он же подписал приказ о моем увольнении из Музея «по собственному желанию» с благодарностью за 15-летнюю работу и о переводе меня снова в артисты…
После большого ремонта дома № 3 «А» директорский кабинет в Музее я обставил по своему вкусу, и это был не просто кабинет, а еще один из небольших залов Музея. Я поставил в нем мебель карельской березы, описанную М. Булгаковым в «Театральном романе». Разделил кабинет занавесом и в другой половине поставил старинную мебель из красного дерева со стеклянными шкафчиками, а в них разместил мои сувениры — фарфоровые статуэтки Станиславского, Немировича-Данченко, Качалова, Москвина по рисункам-шаржам Кукрыниксов и разные другие реликвии — мундштуки и пепельницу В.И. Качалова, книги с автографами. А в другом шкафу — другие сувениры: модель машины «Волга», подаренная мне в г. Горьком, модели «Мерседеса» и «Роллс-Ройса», подаренные в Чикаго, когда я там был с выставкой К.С. И вообще я там выставил массу дорогих мне вещей. И главное богатство — это множество фотографий В.И. Качалова, перенесенных из его артистической комнаты, — целая галерея его портретов разных лет и фотографий всех моих любимых артистов и друзей, тех, с кем было для меня счастьем встретиться в моей теперь уже долгой и сумбурной жизни. Они со мной больше 60 лет — сперва висели у меня в доме, а потом — в кабинете Музея. А когда меня «выкорчевали» из Музея, то их без меня сняли и сложили на стеллажи в архивное помещение…
Каково же было мое огорчение — нет, горе! — когда я вошел в кабинет — уже после своего увольнения — и увидел черные шкафы из кабинета О.Н. Ефремова… А где же стол, диван, кресла и шкаф из солнечной карельской березы?! Где весь этот гарнитур А.А. Стаховича, который я собирал по всему театру, когда произошло злосчастное и нелепое разделение МХАТа в 1987 году и за реставрацию и сохранность которого мне написал слова благодарности его внук Миша Стахович? Куда его вывезли? Куда дели из моих шкафов весь мой уникальный архив, собранный мной за 60 лет?! Когда я увидел его в коридоре, в пыльных коробках, я не мог сдержать слез…
Я ушел из Музея и не мог туда долго ходить и даже думать обо всем этом. И дело не во мне, не в моих архивах и вещах, а в том, что этим разорением убили, уничтожили мое святое прошлое. Ведь на стенах кабинета со мной была часть Художественного театра — все эти фотографии с автографами Вл.И. Немировича-Данченко, В.И. Качалова, И.М. Москвина, Б.Г. Добронравова, Б.Н. Ливанова, Н.П. Хмелева, О.Л. Книппер-Чеховой и многих других замечательных артистов… Я все время, каждый день был с этими людьми — смотрел на них, думал о них… Да, вся эта стена из фотографий, которую я называл «стеной счастья», стала для меня «стеной плача»… А фотография нашего курса? А фотографии труппы МХАТа в в 1928 и в 1948 годах?.. А большие портреты Немировича-Данченко работы художника Б. Иогансона и Станиславского, написанный артистом А. Гейротом?.. А уникальный фотопортрет А.П. Чехова, а фотопортреты М. Булгакова и Б. Ливанова, а портрет В.Я. Виленкина, а гипсовый бюст А.А. Стаховича?! Ничего этого не осталось в кабинете, а все убрано — с глаз долой — на полки в хранилище архивов Музея… И все!.. Где та аура, о которой говорили мне друзья и ради которой приходили в этот кабинет «посидеть в старом Художественном театре»?!
Так был уже и в Музее убит «театр моей мечты».
Я хожу по фойе — театра, где давно уже нет когда-то здесь стоявших бюстов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (а их уродливая новая скульптура стоит в коридоре рядом).
Я смотрю на портреты великих артистов, которых я знал и видел на этой святой сцене Театра-Храма. Уже никого (!) из них нет — все ушли из жизни… Но они остались в моей душе. Из-за них я пошел и в Музей МХАТа — чтобы увековечить их память в нашей исторической экспозиции. Я помню их «лица, голоса и сколько (их) было»… И они смотрят на меня, на нас… Но…
«Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся!» — говорит Вершинин в последнем действии «Трех сестер».
О, мечты! Что они в сравнении с действительностью?!..
Иллюстрации

Михаил Ульянов — Жуков и я — Рокоссовский в фильме Ю. Озерова «Освобождение»

Мой дед Лолий Иванович Давыдов — моряк Тихоокеанского флота

Мама Серафима Лолиевна была для меня воплощением любви и нежности

Фото отца, Ефима Тарасовича Куимова, я увидел раньше, чем его самого

Эту фотографию Вл. И.Немирович-Данченко подписал по моей просьбе в 1940 году

И.М. Москвин — первый артист в моей жизни, с которым я познакомился лично

Руководитель Школы-Студии МХАТ В.З. Радомысленский и администратор В.М. Федорова (в центре) со студентами. Слева направо: А. Вербицкий, М. Пуговкин, М. Юрьева, М. Воловикова, И. Скобцева и я
МОИ МХАТОВСКИЕ КУМИРЫ
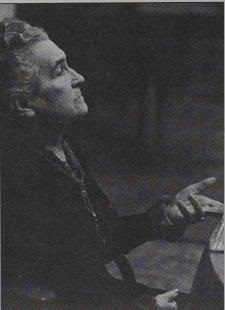
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова

Анастасия Платоновна Зуева

Борис Георгиевич Добронравов (в роли царя Федора)

Василий Иванович Качалов

Борис Николаевич Ливанов (в роли Дмитрия Карамазова)

Михаил Николаевич Кедров
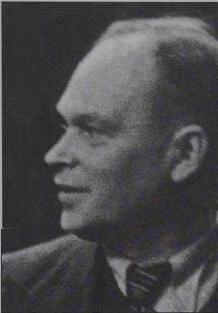
Виктор Яковлевич Станицын
ВО МХАТЕ Я СЛУЖУ УЖЕ ОКОЛО 60 ЛЕТ

Моя первая роль — Апрель («Двенадцать месяцев» С.Маршака)

Тальберг («Дни Турбиных» М.Булгакова)

В «Горячем сердце» А.Н.Островского я играл… туловище Лошади. Ее голова — А.Покровский, хвост — В.Трошин

Иван Карамазов («Братья Карамазовы» Ф. Достоевского). С М.И. Прудкиным
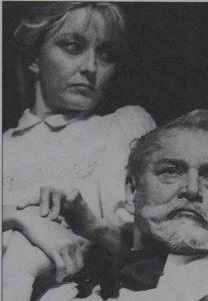
Сорин («Чайка» А.Чехова). С А.Вертинской

Барон («На дне» М. Горького). С В.Ершовым
КИНО — МОЯ ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

Григорий Александров — мой крестный отец в кино.

Я был счастлив сниматься вместе с Л. Орловой в его фильме «Встреча на Эльбе» в роли майора Кузьмина

Николай («Кубанские казаки», реж. И. Пырьев). С К. Лучко и С. Лукьяновым

Петр I («Табачный капитан», реж. И. Усов). Слева направо: П. Крымов, А. Давыдов, Н. Трофимов

Бессонов («Сестры», реж. Г. Рошаль). С Р. Нифонтовой

Сотрудник Даллеса («Семнадцать мгновений весны», реж. Т. Лиознова).С Р. Пляттом
ДРУЖБОЙ С НИМИ Я ГОРЖУСЬ ПО СЕЙ ДЕНЬ

Иннокентий Смоктуновский

Евгений Евстигнеев

Александр Вертинский
СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

С Жераром Филипом

С Николь Курсель. Из-за этой роковой красавицы я на 5 лет стал «невыездным»

Слева направо: Симона Синьоре, Ив Монтан, Юрий Тимошенко, Надежда Обухова, я, Николай Петров

Во время войны я был краснофлотцем

Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов. Это он демобилизовал меня в суровое военное время, чтобы я смог поступить в Школу-Студию МХАТ

И став артистом, я не утратил связи с флотом. С моряками крейсера «Адмирал Ушаков»
МЫ ПОСВЯТИЛИ СЕБЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ

Моя жена Маргарита Анастасьева — заслуженная артистка РСФСР


Сыну Андрею мы с детства прививали любовь к нашей профессии. Сегодня он — заслуженный артист РФ
ОНИ ОЛИЦЕТВОРЯЛИ ДЛЯ МЕНЯ ВЕЛИКИЙ МХАТ

С дорогим учителем и другом В.Я. Виленкиным

В.В. Шверубович — сын В.И. Качалова

С И.К. Алексеевым, сыном К.С. Станиславского (слева — мой Андрей)

С артистами театра после вручения нам значков «Чайка»

Я хотел воссоздать историю МХАТа в экспозиции «Золотой век Художественного театра». Но это осталось лишь в макетах и моих мечтах

Олег Ефремов и Анатолий Смелянский

Роль императора Иосифа II в спектакле «Амадей» П. Шеффера я играю и сегодня
Примечания
1
Маша — дочь В.В., Ася — домработница и преданный друг семьи Шверубовичей.
(обратно)
2
Боря — Борис Любимов, муж Маши Шверубович, театровед, профессор ГИТИСа.
(обратно)
3
Нонна — жена М.М. Яншина, актриса Театра им. Станиславского
(обратно)
4
Анна Яковлевна — сестра В.Я. Виленкина.
(обратно)
5
Речь идет о создании будущего театра «Современник».
(обратно)
6
Пьеса Н.Ф. Погодина «Третья Патетическая»
(обратно)
Оглавление
Мой друг Владлен
Введение
Начало жизни
Мой дневник — о школе
Мои родители
Предвоенные годы и война
1943 год: из дневника
Я в Москве!
О нашей Школе-Студии
Вводы и выводы, или
Случайности и необходимости
Первая «заграница»
«Без женщин жить нельзя на свете… нет!»
Сама о себе
Мой любимый, неповторимый МХАТ
Легендарный Качалов
Последний царь Федор
В.Л. Ершов
А.П. Зуева
Контрасты и парадоксы Бориса Ливанова
Самые верные друзья
Н.П. Ларин и Н.В. Остроухов
И.М. Раевский
Мое рождение в кино
Г.В. Александров
И.А. Пырьев
К.К. Юдин
Забытый герой нашего времени
В.В. Дружников
«Vive la France!»
«Пять лет будешь невыездной!»
Г.Л. Рошаль, Владимир Чеботарев, Игорь Усов и Юрий Озеров
Встречи в Матвеевском
Разговоры с С.И. Юткевичем
«Сталин — это Ленин сегодня»
М.Э. Чиаурели
Поездки. Встречи. Друзья
О городах людях
Ю.Б. Левитан
Великий лицедей Смоктуновский
Женя Евстигнеев
Два скульптора
Неожиданная встреча
С.Т. Рихтер
Мое открытие Америки
Гибель мечты
Как это было
Приход Олега Ефремова в МХАТ
Итоги и выводы
«Наш Олег Николаевич»
Мечты о прошлом
Иллюстрации
*** Примечания ***