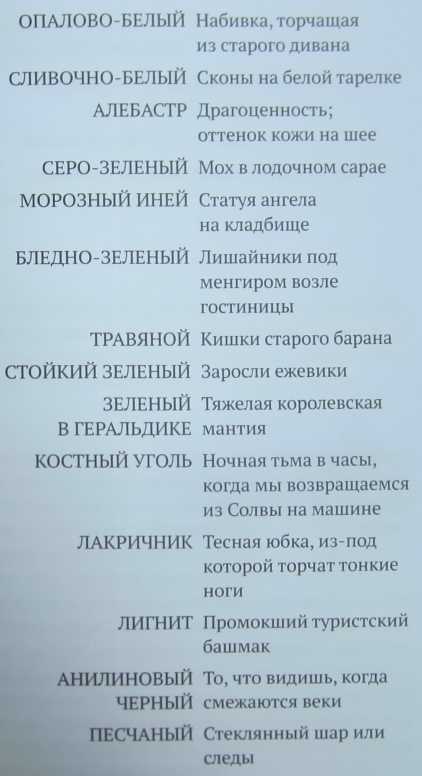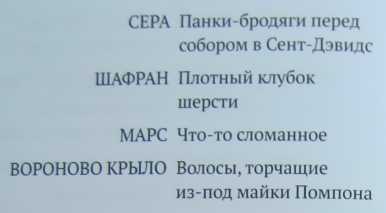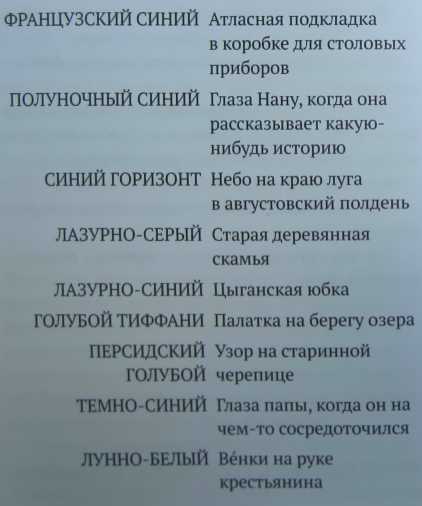Ложка
Дани Эрикур
В память о Венди, Жане и Давиде
Посвящается Саре и Сэму

Вот так достигла я его,
Взбираясь медленно,
Вцепляясь в ветки, что растут
Меж мною и блаженством.
Эмили Дикинсон
Я тотчас ее забрал.
Андре Бретон. Безумная любовь
Предисловие
Мой дед-англичанин любит говорить, что все маленькие истории нашей жизни порождает Большая История. Моя бабушка-валлийка возражает, что дело обстоит ровно наоборот — Историю с большой буквы составляет совокупность наших маленьких историй.
— Где же тогда родятся маленькие истории? — уточняет он ворчливо.
— У богатых — на простынях, в россыпях жемчуга и на столовом серебре. У таких, как мы, — в грязи, капусте и на гальке, — отвечает она.
I
УЭЛЬС
Rigor mortis[1]
Впервые эта ложка попадается мне на глаза в ночь смерти отца.
Я присаживаюсь на краешек его кровати. Мое тело коченеет. По углам комнаты, погрузившись в раздумья, сидят мама, дед, бабушка, двое моих братьев, наш лабрадор и доктор Эймер. Все вместе мы неуловимо напоминаем картину «Смерть Германика», хотя римской тоги ни на ком нет и вроде бы никого пока не отравили.
В комнате стоит тишина, больше похожая на неумолчный шум, который обволакивает со всех сторон, когда задерживаешь дыхание под водой. Гул тишины изредка прерывается скрежетом зубов моего брата Ала — тот всегда грызет ногти и кожу вокруг них, если сильно волнуется.
Pallor mortis
[2], констатировал доктор, накрывая папино бледное лицо простыней. Констатировал на латыни, чтобы дистанцироваться от произошедшего. «Док Эймер прячется за своей эрудицией», — сказал бы отец. При взгляде на простыню мне чудится, будто его ноги шевелятся. На маму я стараюсь вообще не смотреть. Картинка перед глазами плывет.
Мысли ускользают в недавнее прошлое. Два, а может, три часа назад я хлопнула кухонной дверью. Две, а может, десять минут назад в мою комнату вбежала Нану:
— Серен, идем скорее!
— Что случилось?
— Ох, дорогая… Твой папа…
«Бедная старенькая Нану, — подумала я в тот миг. — Совсем запыхалась, поднимаясь по лестнице».
Из-под простыни виднеется полосатая пижама. Серая полоска, синяя полоска, серая полоска… Цвета сливаются, картинка перед глазами плывет. Пальцы инстинктивно проверяют, на месте ли веки. Все хорошо. Все ужасно.
Дэй, мой другой брат, опускается на корточки и гладит собаку, шепча ей на ухо:
— Красавица, да, ты красавица.
Лабрадор постанывает от удовольствия. Эта ночь абсурдна. Прищуриваюсь и вижу, как мать ласково водит пальцами по отцовской груди, закрытой простыней. Неужели мама забыла, что папа мертв? Нет, из ее рта вырывается беззвучный всхлип. Крик ошеломления. Мы здесь все ошеломлены.
Особенно отец. Под простыней.
Завтра у меня переэкзаменовка по истории. Интересно, смерть близкого родственника — уважительная причина для пропуска экзамена? Поверх отцовского тела лежит льняная простыня. Белая, с розоватым оттенком? В полумраке не разберешь. Льняная, лен, льнуть, ленточка, ленивый, линейка… Может, я схожу с ума? Нет, просто отвлекаюсь.
Я склонна отвлекаться. Мама говорит, в моей речи слишком много вводных предложений, папа говорит… говорил в шутку, что, если я хочу, чтобы собеседник успевал следить за моей мыслью, мне нужно делать сноски.
Мама прячет край полосатой пижамы под простыню — должно быть, догадалась, что это зрелище причиняет мне боль.
Надавливаю большими пальцами на веки, отвлекающие мысли превращаются в тонкие нити. Чувствую покалывание. Снова открыв глаза, натыкаюсь взглядом на столик, на который отец поставил свою последнюю чашку чая. И тут я замечаю ее.
Ложку.
— Откуда взялась эта ложка?
Вся семья поднимает головы. Точнее, вся семья кроме Ала, обкусывающего ногти, и отца (по понятной причине).
— Откуда взялась эта ложка? — повторяю вопрос.
— Не знаю, Серен, любовь моя, по-моему, она была в нашем доме всегда, — вымученно улыбается мама.
От этой улыбки у меня внутри все сжимается. Уношу ложку к себе и рисую ее до самого утра.
Рисование помогает мне не отвлекаться. Точнее, не отвлекаться ни на что, кроме рисования. Возможно, мама права, возможно, эта ложка была у меня перед глазами на протяжении всей моей жизни. Хотя мне и кажется, будто я увидела ее только сегодня, я не могу отделаться от ощущения дежавю. У нас, в гостинице «Красноклювые клушицы», сотни столовых приборов, а значит, эта ложка, мелькавшая среди другой посуды, день за днем появлявшаяся на обеденных столах, в кухонной раковине, в банках с мукой или рисом, запросто могла ускользнуть от моего взора.
Я вдруг осознаю, что мы живем в окружении вещей, до которых нам нет дела, пока они не исчезнут, не сломаются или не предстанут перед нами в новом свете.
На восходе, когда раздаются первые телефонные трели, возвещающие о том, что пришла пора выслушивать соболезнования и готовить все необходимое для прощальной церемонии, я убираю карандаши, разглядываю ложку при утреннем свете и вздыхаю: «Какая она красивая, твердая и загадочная — полная противоположность нашей жизни».
Анатомия ложки
Нынешним утром моим родным некогда искать ответ на вопрос, откуда эта ложка взялась в нашем доме.
Несмотря на громкие телефонные звонки, над гостиницей властвует оцепенение, а постояльцы ведут себя точно стадо зомби, подхвативших заразный вирус. Их восклицания: «О, какая утрата!», скорбные вздохи, цоканье языком и беспрестанные предложения попить чая выводят меня из себя. Вооружившись «Большой энциклопедией» и несколькими листками бумаги, я запираюсь в малой гостиной и пишу объявление.
ВНИМАНИЕ, НАЙДЕНА РЕДКАЯ ЛОЖКА!
МЕТАЛЛ: ЦЕЛЬНОЕ СЕРЕБРО (ВИДНЫ КЛЕЙМА)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: НЕИЗВЕСТНО
РАЗМЕР: 7,4 ДЮЙМА
ВЕС: 0,12 ФУНТА
УКРАШЕНИЕ НА ЧЕРЕНКЕ: ДВЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ВЕТВИ ЕЖЕВИКИ
УКРАШЕНИЕ НА КОНЦЕ ЧЕРЕНКА: МОНОГРАММА В&В, СТАРЫЙ СТРАННИК, ДВЕ БОРЗЫЕ (ИЛИ ДВЕ ЯЩЕРИЦЫ?)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К СЕРЕН МАДЛЕН ЛЬЮИС-ДЖОНС ГОСТИНИЦА «КРАСНОКЛЮВЫЕ КЛУШИЦЫ»
Где его разместить, я не знаю. Большинство здешних обитателей прикрепляют свои «куплю-продам-потеряно-найдено» к доске объявлений на стене магазинчика в Сент-Дэвидсон-Си. Судя по их содержанию, в нашей округе полно колясок, меламиновых подносов и складных столиков. Каждое новое объявление будоражит воображение кассирш. «Ты читала? Уилсоны продают свой диван. Разводятся, как пить дать!»
Учитывая изящный вид ложки, было бы уместно сообщить о ней в узкопрофильный журнал, но я никогда не слышала о существовании журнала, посвященного антикварному серебру.
Размышляю об этом, сидя на диване. Дверь гостиной отворяется, входит мой дед, которого я с детства зову Помпоном, и устраивается рядышком. Пробежавшись взглядом по моему тексту, он качает головой:
— Будь осторожна, Серен! А вдруг кто-то не тот увидит наш номер телефона и решит, что ты предлагаешь что-нибудь непристойное?
— А если опубликовать объявление в специализированном журнале?
— Ну, среди его читателей тоже отыщутся странные личности, — пожимает плечами дед. — Знаешь, те, кто усматривает непристойности даже в самом невинном наборе слов.
Из-за двери доносится голос Нану, которая по-валлийски кричит в трубку телефона, что людей нельзя принимать за идиотов и что кремация не может стоить так дорого. Дедушка вздыхает и задремывает.
Идея возбудить нездоровый интерес у какой-нибудь кассирши или местного извращенца меня мало вдохновляет, так что я передумываю оповещать мир о своей находке. К тому же внутренний голос подсказывает, что ложка еще раскроет мне множество секретов.
Строго говоря, ее нельзя отнести ни к одному из типов, перечисленных в «Большой энциклопедии». При длине ровно семь целых четыре десятых дюйма она явно не предназначена для помешивания чая или кофе. Однако незадолго до своей кончины отец принес ее к себе в комнату вместе с чашкой чая. Для меня остается загадкой, почему человек, известный своим прагматизмом, так поступил. Обращаюсь с этим вопросом к бабушке, и она отвечает, что одним из признаков инсульта является спутанность сознания. В то же время, если верить маме, в часы, предшествовавшие смерти, с отцом все было нормально.
— Не считая того, что Питер слегка подмерзал, с ним все было нормально, — повторяет мама.
Не считая того, что он слегка подмерзал? Э-э… Она это серьезно?
Неспециалист, взглянув на мою находку, сказал бы, что перед нами столовая или десертная ложка, и попал бы пальцем в небо. Объем столовой ложки равен объему трех чайных, десертной — двух чайных. В эту помещается ровно две с половиной чайные ложки. Я точно знаю, проверила на примере сахара.
«Большая энциклопедия» утверждает, что ложка состоит из кончика, черпала, перемычки, черенка и… конца. При всей банальности своего названия, последняя из частей особенно привлекает мое внимание, потому что именно на конце ложки изображены мужчина, два животных, поднявшихся на задние лапы, и две латинские буквы «В». Человек стар и худ, звери не демонстрируют ему ни дружелюбия, ни привязанности. Скажем так, они просто сосуществуют с ним в одной плоскости. От двух букв «В», венчающих эту сцену, отходят ветви ежевики, которые спускаются по черенку в направлении черпала. Делаю несколько эскизов, но мне не удается воспроизвести непринужденные позы зверей. Трудно изобразить живое существо, когда не знаешь, ящерица это или борзая.
Помпон просыпается, бросает взгляд на мои рисунки и просит отпереть шкафчик, в котором хранятся лучшие крепкие напитки из нашей коллекции. Я отказываюсь. Дедушка не брал в рот ни капли спиртного три года два месяца и семнадцать дней, однако смерть зятя, по-видимому, ослабила его самоконтроль. Пытаюсь урезонить деда, но он меня не слушает. Быстро оглядевшись по сторонам, Помпон встает и уверенным шагом приближается к заветному шкафчику. Дедушка прекрасно знает, где Нану прячет ключ — в нише за узким деревянным козырьком.
Вина в бутылках со старинными этикетками, янтарный виски, прозрачный джин, золотистый коньяк… Для бывшего алкоголика этот шкафчик — настоящий ад. Для человека, который вот-вот сорвется, — рай.
— Помпон, может, прогуляемся?
Сосредоточенно пыхтя, дед переставляет бутылки, тянет руку к дальней стенке шкафчика и, к моему удивлению, извлекает оттуда алюминиевую чашу.
— Ага, мне все-таки не померещилось! Гляди, тот же странник, что и на ложке…
В самом деле, на чаше выгравирован человек, опирающийся на палку. При некоторых отличиях от персонажа, изображенного на ложке, нельзя не заметить, что они похожи, будто кровные родственники. С делано равнодушным видом рассматривая содержимое буфета, дед рассказывает, что это бургундская чаша для дегустации, преподнесенная нашей гостинице несколько лет назад при заказе крупной партии вина.
— Я предпочел бы, чтобы нам подарили ящик «Кот-де-Бон», а не эту финтифлюшку, — хмыкает Помпон. — Но сейчас речь не о том. Очень может быть, что ложка и чаша произведены в одних и тех же краях. Думаю, этот тип — какой-нибудь тамошний святой или заступник.
Он закрывает шкафчик, держа в руках одного лодовый виски. Надо срочно переключить мысли деда на что-то другое.
— А что тогда означают две буквы «В»?
— Bed & Breakfast
[3]
— Думаешь? Но зачем французам гравировать английскую аббревиатуру на столовых приборах?
— Ну-у… чтобы шагать в ногу со временем.
Дедушка распахивает дверь и застывает, будто поражаясь, что уже зашел так далеко. «Не надо, — безмолвно умоляю я, — пожалуйста». Он дергает плечом и спешит прочь, чтобы спокойно напиться.
Seren ei eini yn anhrefn[4]
После папиной смерти бабушка перестает говорить по-английски. Даже самые безобидные фразы, такие как: «Передай, пожалуйста, соль» или «У нас осталось два свободных номера с видом на сад», она произносит на валлийском.
Когда Нану заявляет: «Мае’г haf yn teimlo fel gaeaf eleni» («Лето в этом году больше напоминает зиму»), Ал разражается слезами, потому что не понимает бабушку и теперь думает, будто потерял ее. Мы снова сидим за столом. Последние два дня мама носит желтый свитер, слишком теплый для нынешнего времени года, и готовит по ночам сытные зимние кушанья. Мы только и делаем, что едим, однако никто уже давно не чувствует голода. Я проверяю, как из-за ложки меняются ощущения от того или иного продукта, но, увы, хотя она и придает экзотическую нотку шоколадному заварному крему или сливочному маслу, основной вкус блюд никуда не девается, так что крапивный суп как был, так и остался противным.
Отодвигаю тарелку с супом и глажу брата по руке. Нану хватает его за другую руку и объясняет, на сей раз по-английски, что валлийский лучше всех прочих языков передает ощущение утраты. У эскимосов для выражения эмоций есть снег, у японцев — мечи, у валлийцев — меланхолия.
— Ты только послушай, — увещевает Нану. — Tristwch — печаль. Cwynfan — рыдание, всегда в единственном числе. Oemad — рыдания, всегда во множественном. Galar — траур. Dagrau — слезы тоски. Trymfryd — глухая тяжелая печаль. А как тебе самое красивое слово — hiraeth? Грусть из-за расставания, тоска по прошлому, печаль от нехватки чего-то или кого-то, кого, возможно, ты даже не знал, ностальгия, смутное желание…
— Мама, да перестань уже! — не выдерживает моя мать, стоящая перед духовкой. — Когда я умру, ты тоже будешь вести такие разговоры?!
Я бросаю на нее быстрый взгляд, потрясенная мыслью, что и мама может умереть раньше бабушки. Нет, это совершенно не в порядке вещей.
Нану замолкает и внимательно слушает Ала, прилежно повторяющего урок, — tristwch, galar, cwynfan и так далее. Внезапно посреди этого речитатива я улавливаю слово crachach. Оно не имеет отношения к скорби, точнее, если и имеет, то очень косвенное. Так валлийские националисты именуют своих англизировавшихся сограждан. Именно ради того, чтобы никто не посмел назвать меня crachach, Нану с детства занимается со мной валлийским. Звезд с неба я, конечно, не хватаю, но кое-каких успехов достигла. А еще я изучаю французский, правда, сама не знаю зачем.
Нану и Помпон — мамины родители. Она валлийка, он англичанин. То же самое, только в прошедшем времени, можно сказать о моих бабушке и дедушке с отцовской стороны — она была валлийкой, он англичанином. Однако на этом сходство между родителями моих родителей заканчивается. Нану из Северного Уэльса, она дочь и внучка шахтера. Бабушка по отцовской линии была южанкой, дочерью и внучкой нотариуса. Помпон — самопровозглашенный социалист, который любит говорить, что Бог и королевская власть прокляты. Дед по отцовской линии был солдатом, и точка. В довершение упомяну, что Помпон обосновался в Уэльсе ad infinitum
[5] а бабушка с папиной стороны, стопроцентная crachach, предпочла жить и умереть в Оксфорде. В 1969 году ее затоптало на лугу коровье стадо. В семье говорят, что мой отец унаследовал ее улыбку, а я — ноги.
Я, разумеется, предпочла бы улыбку.
Мама потеряла голову от папиной улыбки на джазовом фестивале в Бристоле. Оркестр заиграл какую-то усыпляющую композицию. Придавленная тяжестью материнства (за ее спиной, обтянутой тканью битниковской расцветки, ерзал Дэй, а в утробе сосал большие пальцы Ал), мама принялась считать зрителей в красном, чтобы не заснуть прямо во время концерта. Мой будущий отец, одетый в синюю рубашку (кстати, он был старше мамы на двадцать три года, но в то время находился в добром здравии и выглядел молодцом), поймал ее взгляд и улыбнулся. Под воздействием этой улыбки у матери отошли воды. Через два часа она разрешилась от бремени. Мой будущий отец присутствовал при этом событии. Отец Ала в то время ловил рыбу в открытом море. Отец Дэя давно не давал о себе знать.
Иногда я думаю, что, если бы джазмены грянули бодрую, воодушевляющую мелодию, Ал не появился бы на свет раньше срока, а я вообще не родилась бы. Жизнь висит на волоске. Точнее, в моем случае — на ноте.
Ноги, которые я унаследовала от бабушки, — типично валлийские. Все прочее тоже. Если бы проводился конкурс на звание обладательницы самого валлийского телосложения, я непременно выиграла бы первый приз. Шея у меня длинная. Грудь маленькая. Ягодицы плоские, вытянутые. Бедра пухлые. Икры крепкие. Стопы короткие. Дэй в шутку зовет меня Хоббитом.
«Ты такая хорошенькая», — повторяет мама, но я-то знаю, что у меня грушевидное телосложение и что мне лучше совершенствоваться в валлийском, французском и в рисовании, чем возлагать какие-то надежды на свою красоту.
Более того, глядя на маму, которая действительно хороша собой даже в этом желтом свитере, я понимаю, что красота не властна над жизнью и тем более над ее хаосом. От разводов и вдовства не застрахуешься даже при самой миловидной внешности.
Неожиданно поток моих мыслей прерывает голос Ала, который отчетливо произносит свою первую фразу на валлийском:
— Мае ser yn cael eu geni о anhrefn!
Из хаоса рождаются звезды.
Гостиница «Красноклювые клушицы»
Большая Пембрукширская туристическая тропа длиной свыше трехсот километров проходит прямо над нашим домом. Именно благодаря ей гостиница рискует взорваться от наплыва клиентов в период с июня по сентябрь и никогда полностью не пустует в остальные месяцы. В детстве каждое лето приносило мне новый поток приятелей, говоривших преимущественно с английским акцентом. В дождливые дни всегда было с кем сразиться в «Монополию» в игровой комнате. Я не жалела об отъезде этих ребят, ведь из года в год они возвращались, будто приливы на море.
Чаще всего у нас останавливаются давние постояльцы — «Д. П.» на семейном жаргоне. Мы делим их на три категории: семьи — Д. П., почти-пары — Д. П. и одиночки — Д. П.
При первом визите стандартная будущая семья — Д. П. заселяется в гостиницу как молодая супружеская чета. Через год эта же чета появляется с ребенком, через два — с двумя, и так далее. Настает срок, и они приезжают со своими внуками. Семьи — Д. П. оставляют в гостевой книге записи о том, как чудесно провели здесь время. Цитата из Уильяма Блейка: «В песчинке целый мир узреть… И вечность в миге скоротечном!» — повторяется в ней раз тридцать, хотя гуляют наши гости вовсе не по песчаному берегу, а по галечным пляжам, туристической тропе и возле местных менгиров. Отец собирал им корзинки для пикника — термос с чаем, бананы или яблоки, свои фирменные сэндвичи с яйцом и креветками. Вечерами эти постояльцы ужинают в большой столовой, пока их младшие развлекаются в игровой, а старшие поддают в «Питейной норе» — баре на первом этаже, где пахнет пивом и дождем.
Представители второй категории Д. П., почти-пары, каждый год наведываются в сопровождении нового друга или подруги — полагаю, наша гостиница служит им неким полигоном для проверки отношений на прочность. В первый же вечер они спешат записать в гостевую книгу какую-нибудь трогательную фразу наподобие: «Любовь — это… твое тепло под пембрукширским дождем». Стоит ли уточнять, что почти-пары — Д. П. крайне редко переходят в категорию семей — Д. П.? Едва они, понурив головы, отправляются восвояси, мы с Дэем хватаем гостевую книгу и переформулируем их идиллические высказывания: «
Любовь Скука смертная — это… сидеть у камина рядом с Брэдом в морозный день;
любовь вонь изо рта — это… ее улыбка, когда она просыпается в гостинице „Красноклювые клушицы";
любовь умора — это… наши занятия тайцзи на пляже;
любовь-крах иллюзий — это… когда тебя рвет пембрукширскими моллюсками».
Наконец, есть одиночки — Д. П., которые приезжают зимой, чтобы править свой роман, изучать колонии красноклювых клушиц или заниматься оригами. Они поздно встают, часами бродят вдоль берега и предпочитают столовой «Питейную нору». Данный тип постояльцев нравился отцу больше всего, потому что болтают они мало, а пьют много.
У человека, чья жизнь с младенчества связана с гостиницей, формируется множество полезных навыков — например, становиться невидимым (если поутру хочешь избежать словоохотливых постояльцев), бронировать номера, застилать кровати, готовить яичницу-болтунью, с первого взгляда выявлять туристов, которым лучше отказать в размещении, принимать двух-трех французских клиентов в год и с пониманием относиться к Д. П., которые приезжают с питомцами — собаками, кошками, морскими свинками, золотыми рыбками или канарейками. Да-да, в нашей гостинице разрешено проживание с домашними животными — по мнению Нану, это лучший способ не сталкиваться со свиньями (под свиньями она подразумевает постояльцев, а не животных).
В августе мама иногда отправляет нас ночевать в палатке или к соседям, чтобы освободить наши комнаты для клиентов. В детстве эта перемена мест меня очень развлекала, но с подросткового возраста я терпеть не могу, когда мне велят уступить свою комнату чужим людям.
Вот почему я хлопнула дверью в ту ночь. Нет, не буду думать об этом.
Случается, какая-нибудь бестактная постоялица осведомляется у моей мамы: «Кейт, как вам удается вести жизнь нормальной семьи?» В ответ мама недовольно морщится, словно бы нормальность — это позорное пятно, которое надо немедленно стереть с полотна семейного бытия. Она никому не рассказывает о нашем надежном способе связи — отдельной телефонной линии.
Дэй, Ал и я спим на верхнем этаже. Двери наших комнат ведут в коридор, где на красной табуретке стоит серый телефон.
Один его звонок означает: «Все за стол!» Два звонка: «А ну, хватит шуметь!» Три звонка: «Вы кому-то нужны, спускайтесь!»
Это не столько диалог, сколько секретный шифр. Отец составил его, заботясь о спокойствии клиентов и о том, чтобы мама не надрывала голос.
В ту ночь Нану могла позвонить и положить трубку после трех гудков, но поступила иначе.
Моя семидесятитрехлетняя бабушка, страдающая хроническим артрозом пальцев ног, предпочла посреди ночи подняться на пятый этаж. Я полюбопытствовала, почему она не позвонила по телефону.
— Когда? — уточнила Нану.
— Позавчера ночью…
— Другая ситуация, — ответила она по-валлийски, а затем добавила: — О, дорогая, в тот момент я и сама не понимала, кто кому нужен.
Кстати, это интересный вопрос. Кто кому был нужен? Я ей? Она мне? Мы маме? Отцу, само собой, уже никто не был нужен. Есть и второй вопрос без ответа — для чего кто-то был кому-то нужен?..
Если мне суждено управлять гостиницей, я тоже стану пользоваться телефонным шифром. Впрочем, такая работа вряд ли мне подойдет: людей я не очень люблю, дисциплинированностью не отличаюсь. При этом обожаю слушать, как хлопают двери, когда их энергично распахивают веселые дети, как завывает вода в трубах, когда кто-то набирает ванну, как звякают приборы в столовой, когда постояльцы принимаются за еду, как ночами воцаряется глухая тишина, когда в стенах нашего дома спят сразу три десятка людей.
До недавних пор я засыпала, мысленно паря с этажа на этаж. Вот прерывисто похрапывают братья в соседних комнатах, вот размеренно дышат родители в своей спальне на первом этаже, вот галдят клушицы, гнездящиеся под крышей, вот не смолкают шорохи в закутках возле лестницы, где дремлют кошки, собаки и колония муравьев. Затем я пролетала над галечными пляжами и обрывистыми скалами вокруг гостиницы, такими же несураз ными к обнадеживающими, как она сама.
Обнадеживавшими. В прошедшем времени.
Вид, который ему уже не откроется
Спустя несколько часов после публикации некролога в «Таймс» британские Д. П. откликаются на скорбное известие общим факсимильным посланием.
Глядя на слова: «От лица всех нас», которыми их представитель начал письмо, мы не сразу догадываемся, кто нам его отправил.
— Чертов напыщенный бумагомарака, — ворчит Помпон, протягивая мне листок.
Читаю: «Ужасная утрата… бесконечная скорбь… глубокое сочувствие… приедут многие…» И главное: «Мы закажем памятную табличку с его именем».
Табличка будет прикреплена к скамейке с видом на море, расположенной в полукилометре от гостиницы в сторону Сол вы. «Питер любил эту скамью и открывающийся с нее вид, не так ли?» — уточняет адресант. Другими словами, Д. П. хотят обессмертить моего отца на скамейке, на которую он уже никогда не сядет.
Учитывая, что скамьи на Большой Пембрук-ширской туристической тропе стоят примерно через каждые два километра, всего таких скамей должно быть за сотню. Поскольку на большинстве из них уже есть памятные доски, получается, что отрезок дороги от Сент-Догмаэлс на севере до Амро-та на юге буквально напичкан воспоминаниями о разных людях.
Ожидая, пока Д. П. пришлют нам на одобрение факс с текстом для таблички, Дэй приносит из холла путеводитель и зачитывает вслух отрывки из него. Если верить написанному, первые памятные доски на скамьях посвящались «благодетелям, которые помогли сделать эту тропу одной из самых чистых и ухоженных в Великобритании». Следующими появились мемориальные доски, прославляющие местных знаменитостей — четверых актеров, двух художников, автора детских книг и нескольких героев Первой мировой войны. Теперь, по-видимому, настало время глубоко личных табличек. Только на участке тропы вблизи нашего дома я насчитала дюжину таких. Рай и небеса — вот их лейтмотив: «Квини, ты обожала этот райский уголок»; «Сей небесный вид был любимым у Мартина Лоу»; «Отсюда Бет наблюдала за парящими птицами, а теперь ее душа тоже вознеслась на небо». Подчас трудно понять, о людях или о спаниелях тут говорится.
По прикидкам Дэя, ежегодно Пембрукширской тропой проходит несколько тысяч туристов.
— Но, Серен, не все они будут отдыхать на скамье имени Питера.
Брат знает, что меня коробит. Сколько незнакомцев в мокрых ботинках и с рюкзаками за плечами прочтут подпись на табличке, понятия не имея, кем был мой отец?
— Думаю, Питера позабавила бы инициатива наших Д. П., — встревает в беседу мама. — Я сейчас поднимусь туда минут на пятнадцать. Хочешь со мной, Серен?
Качаю головой. Мне ни к чему сидеть на скамье, которая вскоре будет носить имя отца, ни к чему лицезреть вид, который ему уже не откроется.
Иду по тропе в противоположную сторону, прихватив мешок яблок для диких пони, которые прячутся в зарослях кустарника вдоль обрыва. Пони застенчивы, но обычно принимают еду, которую я им кидаю.
Миную мегалиты, затем три информационных знака. К сожалению, иностранные путешественники, которые не владеют ни валлийским, ни английским, упускают важные сведения.
В результате эти люди рвут цветы, топчут вереск, приближаются к гнездам клушиц на опасное расстояние и не ведают, что совершили восхождение не менее грандиозное, чем на Эверест.
Взбираясь на гору, я вдруг осознаю, что взбираюсь на гору. Еще я понимаю, что ничего не чувствую. Совершенно ничего привычного.
От этой мысли у меня перехватывает дыхание.
Останавливаюсь на полпути, чтобы отследить свои ощущения. Поднялся ветер, вереск царапает мне лодыжки, облака мчатся к горизонту. В нескольких десятках метров под моими ногами море наносит скалам мощные удары сверкающими мечами волн.
Говоря на языке анатомии, моя проблема размещается между горлом и плавающими ребрами. Легкие раздавлены неким инородным телом, я их больше не чувствую.
Пожалуй, я могу нарисовать это инородное тело.
Оно представляет собой холм.
Не цветущий холм, вдохновляющий пуститься в пляс, как делают герои сериала «Маленький домик в прериях», а склизкую черную насыпь. Она подчиняет мое тело себе. Эта насыпь чем-то напоминает терриконы шлака, которые можно увидеть в горнодобывающих краях к северу от Суонси.
Террикон находится у меня между ребрами, на месте легких, возле сердца. Которого я тоже больше не чувствую.
Продолжаю шагать вверх, к зарослям.
Дикие пони жуют яблоки и смотрят на меня влажными глазами, в глубине которых я читаю вопрос: «А не здесь ли находится рай?»
МАЕ CYFANSWM Y CODI A’R GOSTWNG AR HYD
Y LLWYBR YN 35,000 ROEDFEDD, UWCH NAG EVEREST!
СОВОКУПНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ НА ТРОПЕ СОСТАВЛЯЕТ 35 000 ФУТОВ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСОТА ЭВЕРЕСТА!
PARCHWCH YR AMGYLCHEDD — PEIDIWCH
A PHIGO BLODAU GWYLLT — PEIDIWCH AMHARU AR
YR ADAR SY’N NYTHU — CADWCH EICH Cl AR DENNYN!
HE ШУМИТЕ — HE РВИТЕ ЦВЕТЫ — HE МЕШАЙТЕ
ГНЕЗДУЮЩИМСЯ ПТИЦАМ — НЕ СПУСКАЙТЕ СОБАК С ПОВОДКОВ!
МАЕ TRAEAN O’R PARAU О FRAIN COESGOCH SY’N NYTHU YM MHRUDAIN YN SIR BENFRO!
ТРЕТЬ ГНЕЗДУЮЩИХСЯ ПАР КРАСНОКЛЮВЫХ КЛУШИЦ ВСЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБИТАЕТ В ПЕМБРУКШИРЕ!
Морской ветер развевает его кудри
Ал сидит на гостиничном крыльце. Ветер развевает кудри моего брата, отчего он напоминает певца на конверте пластинки с фолк-музыкой. Хотя на дворе лето, Ал одет в свое любимое пальто, которое носил еще наш дед Помпон и которое остается одновременно старомодным и авангардным, что, по мнению Нану, делает его поистине шикарным. Брат откусывает кончик ногтя и протягивает мне листок бумаги — Д. П. прислали текст, который будет выгравирован на мемориальной табличке:
«В песчинке целый мир узреть…
И вечность в миге скоротечном!»
В память о Питере Льюисе (1920–1985)
Читаю текст вслух, затем делаю вид, что меня сейчас стошнит.
— Разве плохо сказано? — беспокоится брат.
— Очень… обычно.
Ал с тревогой приподнимает брови.
— Но, знаешь, на памятных табличках такое и пишут.
Он грызет мизинец и левым носком выводит на гравии рваные круги.
— Почему твоего отца хотят бросить в воду?
— В смысле?
— Мама говорит, в субботу его бросят в воду.
— Ал, в воду бросят не Питера, а его мелкие… остатки. Его тело сожгут, пепел соберут и развеют над водой. Как мертвые листья.
— В три раза больше…
— Что в три раза больше, Ал?
— Плохого. Сожгут, соберут, развеют.
Судя по тому, как он впивается зубами в палец, Ал на грани припадка. Я улыбаюсь, желая убедить брата, что ничего дурного не происходит.
Это не смешно, — кривится он.
— Окей, это не смешно-смешно.
— Жечь запрещено! Питер всегда твердит…
— Всегда твердил. Теперь о моем отце нужно говорить в прошедшем времени.
— Осторожно с огнем! Никаких свечей в номерах! Выключи газ! Не играй со спичками, не играй со спичками, не играй со спичками!
— Окей, окей, Ал.
— Окей. Окей. Окей.
— Да.
Помолчав, большой маленький брат хватает меня в охапку и крепко обнимает. Террикон в моей груди подрастает сантиметра на три и больно давит на ребра.
— Спасибо, Ал, — произношу я, уткнувшись носом в шершавый воротник его пальто. — Понимаешь, просто Питера больше нигде нет.
— Ни на земле, ни в воде, ни в огне?
— Вот-вот.
— А где же он тогда?
Клубок событий
Хозяйственный магазин в Салве забит покупателями. Стоя посреди этого царства рыболовных крючков, собачьих поводков, разноцветных пуговиц и катушек, я со сдержанной улыбкой принимаю соболезнования. Кассирша, известная любительница сплетен, смотрит на пакет синих свечек, который я кладу перед ней, и участливо осведомляется: «Ну как дела?» Неопределенно пожимаю плечами и не вступаю в разговор.
Вернувшись в «вольво», отодвигаю сиденье и взгромождаю ноги на руль. Синие свечи лежат у меня на коленях. Накрапывает дождик. Ребята из колледжа спрятались за одной из припаркованных машин и нюхают клей. Я достаю из сумки ложку и верчу ее в руках. Пытаюсь глубоко вдохнуть, но террикон больно упирается мне в ключицу.
За похоронной суматохой и душевными потрясениями последних дней мы начисто позабыли о моем дне рождения. Телефон, не умолкая, трезвонил на протяжении двух суток. Заслышав очередную резкую трель, Ал кричал, что трубку нужно снимать после третьего гудка — видимо, решил, что мой отец продолжает отправлять нам шифровки даже с того света. Только часа в три пополудни, во время не помню которого по счету звонка, нам удалось вспомнить, что сегодня за день.
— Привет, солнце! Ну как вы там, празднуете? — услышала я в трубке радостный голос, принадлежавший отцу Ала — тот звонил из Нью-Йорка.
Я плюхнулась на стул. Помехи в трубке звучали в такт биению моего сердца — тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук… Что ему ответить? Привет, Ник! Постояльцы передвигаются на цыпочках и переговариваются шепотом. Нану декламирует оды на валлийском. Папины приятели слоняются перед гостиницей. Мама составляет меню на следующие четыре сезона и беспрестанно пьет имбирный чай. Помпон, который не прикасался к спиртному три года два месяца и семнадцать дней, не вылезает из «Питейной норы». Еще у меня между ребер появился террикон шлака, а мой отец мертв. Так о каком празднике ты говоришь?..
Предположив, что не расслышал ответ из-за помех на телефонной линии между Пембрукширом и Нью-Йорком, отец Ала задал другой вопрос:
— Расскажи, как ты себя чувствуешь?
— Окей.
Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук…
— Тебе исполняется восемнадцать — и это просто «окей»?
Мама взяла трубку, чтобы сообщить Нику о папиной смерти. Услышав голос своего бывшего, она всхлипнула, затем хмыкнула, шмыгнула носом, посмотрела на календарь и охнула:
— Какой кошмар, я совсем забыла!
Она тотчас передала телефон Алу, который прижал трубку к уху и молчал, но, похоже, был рад услышать голос своего отца.
— Дорогая, с днем рождения тебя, несмотря ни на что, — улыбнулась мама, после чего подхватила меня под локоть, подвела к Д. П., которые мирно дремали в гостиной, и провозгласила: — Друзья, внимание! Моей дочери сегодня восемнадцать!
Казалось, Принц поцеловал Спящую красавицу. Оцепеневшее королевство очнулось, со всех сторон посыпались поцелуи, объятия, аплодисменты. В разгар поздравительных речей мама вручила мне ключи от «вольво» и велела ехать в Солву за свечами.
— Проверь, чтобы в упаковке было восемнадцать штук! Если нет, возьми две. Или три.
Она забыла, в честь кого мы устраиваем праздник.
Шорох пачки синих свечей, скользнувшей под сиденье, возвращает меня в настоящее. Один из ню-хателей клея вырывает у другого полиэтиленовый пакет, желая тоже погрузить в него свое прыщавое лицо. Сегодня день сплошного идиотизма.
Осторожно переключаю «вольво» на задний ход, и тут в окно машины стучится миссис Ллевеллин, моя преподавательница французского. Дождавшись, когда я опущу стекло, она начинает диалог на французском — отчетливо, громко и с безупречной интонацией:
— Добрый день, Серен! Прекрасная погода, не правда ли?
— Великолепная, мадам.
— Я ищу хозяйственный магазин. Он где-то здесь, неподалеку?
Миссис Ллевеллин ходит в эту лавку с незапамятных времен, но я киваю, чтобы ей подыграть.
— Как называется сей предмет, дорогая? — спрашивает она по-французски.
— Ложка.
— Отлично, Серен, превосходное произношение!
— Лягушатницы! — комментирует нашу светскую беседу любитель клея.
— Анархия! — поддакивает его приятель.
Моя учительница едва заметно хмурится, затем вглядывается в ложку и вздыхает:
— Когда я смотрю на старые вещи, на душе становится печально…
Голова миссис Ллевеллин подрагивает, будто она боится сама стать забытой и никому не нужной вещью. Пожилая дама отходит от машины, прижимая к груди сетку с продуктами.
— Мадам Ллевеллин… Так вы не в курсе?
Она медленно оборачивается.
— Что случилось, Серен?
— Я… мой… — Не могу вспомнить ни одного французского слова, связанного с темой смерти. — Э-э, мне сегодня восемнадцать.
Морщинистое лицо дамы расцветает.
— Ох, Серен, как летит время! Поздравляю тебя с днем рождения, дорогая! Будь счастлива!
Попойка субботним вечером
Этим утром мы развеиваем над Атлантикой папин прах. Табличка от Д. П. прикручена к скамейке, мы поем Cwm Rhondda
[6] и устраиваем долгий пикник на утесе. Присутствуют мои дед и бабушка, друзья и соседи, человек тридцать Д. П. и отец Дэя. Отец Ала застрял в аэропорту Ньюарка из-за перебоев с электроэнергией. Спустя четыре часа поминок соседи, напевшись и наевшись, разбредаются по домам. Кажется, проводы моего отца в мир иной их растрогали. Меня это дико раздражает. Д. П. решают, что пора возвращаться в гостиницу. «Питер был бы рад, что мы надрались в стельку, разве нет?»
Он был бы рад, если бы мы пошли спать.
Без четверти час ночи. Я прошмыгнула в кухню и сижу на собачьей подстилке в закутке между двумя желтыми пластиковыми шкафами. В руке у меня ложка, в груди террикон шлака. Дед и бабушка моют посуду. Иногда жизнь больше похожа на комедийный сериал, чем на реальность.
— Поскорее бы они убирались. Они меня бесят, — ворчит Нану по-валлийски.
Дед, официально заявивший на пикнике, что снова начинает пить, миролюбиво отвечает, что поминки — это традиция и что скорбящих людей выгонять нельзя. Нану забирает у него бокал с виски и, всхлипывая, говорит, что тоже хочет напиться.
— Не плачь. Не грусти, — умоляет Помпон.
— Я не грущу, а сержусь.
— Иногда это одно и то же, — шепчет он, прижимая ее к себе.
Мне становится неловко, я ощущаю желание покашлять. Внизу, в «Питейной норе», кто-то включает пластинку группы «Супертрэмп»: «Hide in your Shell, Heaven or Hell, was the journey cold…»
[7] Отец ненавидел «Супертрэмп».
— Пусть она выставит их за дверь, черт побери! — восклицает Нану, перекрикивая музыку.
— Она не может. Это генетика. Так проявляются ее английская флегматичность и самоконтроль, — отвечает дед, заливая слезы новым бокалом виски.
— Какой самокат-тролль? — раздается голос Ала.
Откуда он тут взялся? Должно быть, притаился на кухне раньше меня. Ал всегда прячется от тех, кто что-то отмечает. Он повторяет вопрос, Помпон начинает путано объяснять, что такое самоконтроль, а Нану перебивает его, говоря, что нам наплевать, нам совершенно наплевать, но, черт побери, пусть кто-нибудь выставит их вон, пусть идут плакать к себе домой, пусть не мешают нам думать о своем, черт побери. Ал отгрызает кусочек ногтя.
В кухню заходит одна из наших Д. П. В руке дама держит гигантский букет лилий, ей нужна ваза. Зачем столько цветов? Гостиница превращается в тропическую оранжерею. Нану выдает Д. П. пустую консервную банку и корчит рожицу Помпону, когда дама наполняет банку водой и ставит в нее лилии.
— Ваша внучка меня тревожит, — признается Д. П. шепотом.
Ее грудь вздымается от волнения. Смерть моего отца подпитывает ее жизнь. Еще там, на утесе, когда все пели гимн, ее голос звучал очень уж надрывно.
На смену року в исполнении «Супертрэмп» пришла традиционная валлийская мелодия для флейты. Кельтскую музыку отец тоже на дух не переносил. Он слушал исключительно джаз.
Ал, перебирая в голове обрывки предыдущего разговора, с гордостью заявляет, что его отец не англичанин, а американец!
— Это, конечно, совсем другое дело, — еле слышно бурчит Нану.
По мнению неуемной Д. П., я веду себя подозрительно нормально. Она уточняет у Нану и Помпона, не заметили ли они, что я почти все время сонная, и утверждает, что мое поведение указывает на непринятие действительности, а это может вылиться в нервное расстройство, в психоз… Мысленно сплевываю, вспоминая, как прошлым летом эта змеюка подарила мне серебряную брошь. Сейчас так бы и засадила ту брошку прямо ей в висок!
— Какое дело? Какое дело? — не отстает от бабушки Ал.
Тем временем противная тетка распаляется все больше:
— Бедняжка Серен! Осталась без отца за три дня до восемнадцатилетия! По-моему, в траурном зале она даже не подошла взглянуть на него!
— Она его уже видела, — злится Нану.
— Какое дело? — злится Ал.
Я с наслаждением фантазирую, будто слышу треск, с которым булавка протыкает клиновидную кость нашей Д. П. Тут на пороге появляется мама с подносом пустых бокалов.
— Мы говорили о вашей дочери, — тотчас подлетает к ней тетка-трещотка. — Вам не кажется, что она на грани нервного срыва?
— Кто, Серен? Нет.
Да здравствует моя чудесная мама! Она наливает стакан воды и протягивает его Алу:
— Сынок, попей, ты весь красный! А ты, Серен, оставь уже эту ложку и помоги мне, будь так добра.
Прячу ложку в карман и выбираюсь из своего укрытия. Прохожу мимо Д. П., не произнося ни слова. Вспоминаю, как папа упрекал меня в том, что я увиливаю от открытой конфронтации, и повторял: «Учись постоять за себя».
Мама улыбается мне, и у меня внутри снова все сжимается. Если бы я не боялась стереть улыбку с ее губ, то сказала бы, что наша Д. П. права: я на грани нервного срыва и не чувствую почти ничего, кроме террикона шлака в груди.
Но я молчу — наверное, во всем виноваты мои английские гены.
Валлийско-французский словарик, полезный в трагических обстоятельствах

Искусство внимания
На прием я записана на половину четвертого. Директор опаздывает, а я прибыла заранее. Секретарша с глазами более непроницаемыми, чем окно катафалка, велит ждать молча — наверное, на моем лице написано, что я могу в любую минуту впасть в истерику. На стене висит плакат с надписью черным шрифтом, размер которого уменьшается от буквы к букве: «ИСКУССТВО внимания!» Секретарша кладет на стол папку и запускает текстовый процессор. Мой взгляд не отрывается от таблички на двери: «Питер Хопкинс, директор».
Что я здесь делаю?
Дело было в четверг, в районе полуночи. Звонок серого телефона на красной табуретке почти не удивил меня — этот звук то и дело раздается в нашем доме. Я рисовала ложку, засыпанную сухими лепестками. Безжизненные букеты стояли по всей гостинице, и ни у кого не поднималась рука их выбросить.
После четвертого гудка я подошла и сняла трубку.
— Я в кухне. Приходи сюда, дорогая.
— Мама?
— Мама, любовь моя, а кого ты надеялась услышать? Так ты спустишься?
Я поспешила вниз. В тускло освещенной кухне мама разогревала молоко для какао и прихлебывала имбирный чай.
— Серен Мадлен Льюис-Джонс, нам нужно действовать!
Когда меня называют полным именем, это предвещает либо что-то прекрасное, либо что-то ужасное. Учитывая события последних
дней, я приготовилась к худшему.
Окно Катафалка печатает какое-то письмо, поедая изюм. Я достаю блокнот и составляю валлийско-французский словарик. Окно Катафалка не поднимает головы. Я рисую движущиеся фигурки и подписываю на двух языках: «Прыгайте… шагайте… верьте…» Повелительное наклонение придает мне храбрости. «Ешьте… спите…» А временами даже дарует утешение. Зря я не взяла с собой ложку.
В приемную входят студенты. Три без умолку болтающие девушки и вызывающе красивый парень. Девушки в стоптанных резиновых сапогах и джинсовых комбинезонах. Их глаза вспыхивают, а густые косы начинают трястись, когда они обращаются к Окну Катафалка. Одна садится к стене и утыкается носом в альбом для рисования. Вырез ее кружевной блузки слегка порван. Парень с любопытством смотрит на стул. Меня потрясает энергичность этих молодых людей и подавляет их статус художников. Чувствую себя мошенницей.
Как свидетельствует салфетка, размалеванная моей детской рукой и преданно хранимая моей матерью, рисовать я начала в восемь месяцев и не бросила это занятие в возрасте, когда подростки переключаются на другие забавы, такие как регби, рыбалка и секс. Рисование на занудных уроках помогает скоротать время, создание портретов близких укрепляет мою привязанность к ним, оттачивание навыка штриховки на пляже дает повод не плюхаться в ледяную воду вместе с остальными валлийками грушевидного телосложения. При этом я никогда не коллекционировала свои рисунки. Я их заканчиваю и теряю. Несколько лет назад отец вручил мне три картонные папки разного размера, помеченные элегантной этикеткой «Собственность Серен Мадлен Льюис-Джонс». Вскоре я благополучно о них забыла, потому что никогда не относилась к живописи всерьез и не планировала становиться художницей. Размышляя на эту тему, я вдруг поймала себя на мысли, что лист для рисования подобен сумке кенгуру. Я раскрываю эту сумку, залезаю внутрь и прячусь от посторонних взглядов.
— Куда вы? Он вас сейчас примет! — окликает меня Окно Катафалка, когда я уже дохожу до конца коридора.
Делаю вид, будто не слышу, но тут меня догоняет сам директор:
— Простите, что заставил вас ждать, юная леди. Выпьете чая? Шейла, принесите нам, пожалуйста, две чашки чая и печенье.
Его шотландский акцент меня удивляет. Что делает шотландец в Уэльсе? Директор проводит меня в свой кабинет, затворяет дверь и кивает на стул.
— Присаживайтесь. Вы принесли свои работы?
Во время того ночного разговора в кухне мама предложила мне создать портфолио, в котором будут представлены мои лучшие рисунки.
— В противном случае у них не будет основания тебя принять. Они и так сделали нам одолжение, согласившись побеседовать с тобой сейчас, когда истекли все сроки подачи…
— Они — это кто?
— Уэльская академия искусств!
— Нет.
— Нет?
— Нет, спасибо, я не хочу ни показывать свои рисунки, ни беседовать с кем-то из Уэльской академии искусств.
Мама посмотрела на меня с таинственной улыбкой. «Она что, с ума сходит?» — испугалась я.
— К сентябрю у тебя появится желание заниматься.
— Живописью?
— А какие еще варианты у тебя есть?
Нет у меня никаких вариантов. Нет и не было.
— Серен, на протяжении одиннадцати дней я просыпаюсь и мечтаю о том, чтобы зарыться головой в подушки и вообще не вставать с постели. Я понимаю, что смогу научиться жить без твоего отца, но не знаю, как это сделать.
Представив себе мамину голову, со всех сторон зажатую подушками, я содрогнулась. Мама шумно высморкалась и продолжила:
— Отчаяние не будет длиться вечно, Серен. Жди, и оно тебя покинет, а пока соберись и сходи на это дурацкое собеседование. Мир нуждается в искусстве — и в твоем тоже!
— Когда сделаны эти?
Директор кивает на семь рисунков мини-цикла «Ложка во всех ракурсах». Он уже изучил содержимое трех папок, которые вчера чудесным образом отыскались под кроватью Ала.
— Э-э, несколько дней назад.
Собеседник кладет листы на стол и берется за чашку.
— В каких музеях вы побывали в этом году? Много ли интересных выставок посетили?
— Не очень.
— А читать любите? Какую книгу вы прочли последней?
Вроде бы я и вправду что-то читала… Где-то на улице урчат машины, застрявшие в пробке, завывает сирена скорой помощи. Я угощаюсь печеньем, вазочку с которым ко мне пододвигает мистер Хопкинс.
— Скажите, юная леди, творчество какого художника вдохновляет вас больше всего?
— Я очень люблю Моне.
— Прекрасно. Моне, не Мане?
— Обоих.
Директор улыбается и прочищает горло.
— Во всем этом, — он широким жестом обводит папки с моими работами, — не чувствуется вашей вовлеченности. Тогда как вот это, — указывает на рисунки ложки, — выглядит обещающе.
Гадаю, как мне теперь быть — встать и уйти или же продолжить беседу вопросом? Отец говорил, вопросы не бывают лишними, если мы задаем их при помощи правильных слов. Как назло, мне на ум не приходит ни одного, да к тому же террикон больно давит на нижнюю половину живота. Выдержав долгую паузу, мистер Хопкинс выдвигает ящик стола, извлекает из него тонкую книжицу и протягивает ее мне. Беру, читаю название: «Воспоминания коллекционера». Директор позволяет мне забрать книгу с собой или подразумевает, что я буду читать ее прямо здесь и сейчас? Неожиданно дверь кабинета распахивается, на пороге появляется студентка в джинсовом комбинезоне и нарушает тишину:
— Мистер Хопкинс! Грейс и Хайвуд выступает во дворе. Придете посмотреть?
Директор вздыхает, возвращает мне рисунки и встает. Мы вместе выходим в коридор.
— Возьмите книгу. Автор, конечно, чокнутый, но отнюдь не дурак.
Он устремляется прочь, а я растерянно замираю на месте.
— Так что мне делать-то? — выпаливаю в отчаянии.
Эхо директорского голоса, овеянного шотландскими туманами, гулко разносится по коридору:
— Сейчас лето, мисс. Потеряйтесь.
6 августа 1985 г.
Мисс Джонс!
Позвольте уточнить, что я имел в виду, когда при расставании предложил Вам потеряться. Не подумайте, что я желаю, чтобы Вы потерялись навсегда. Я говорил об удовольствии от бесцельных блужданий, которое испытывает молодой разум, пока он еще обладает определенной пластичностью.
Творческая деятельность, бесспорно, требует стабильности. Вирджиния Вулф была права — человеку искусства непременно нужна своя комната. Именно по этой причине мы предоставляем нашим студентам пространство, время и средства, необходимые им в рамках профессионального развития. Тем не менее открытия и новые впечатления также служат для него важной подпиткой. Не потому, что отрыв от корней является синонимом творчества (убеждение, которого я не разделяю), а потому, что Неизвестное помогает нам открывать глаза и смаргивать пыль, которая в них осела. Делакруа, Гоген, Матисс, Клее, Байрон, Д. Г. Лоуренс, Бах — все они знали толк в том, как потеряться, чтобы взглянуть на свое творчество и душу под новым углом зрения.
Эта дождливая страна стала колыбелью для множества творцов, сердца которых тяготели к приключениям. Вспомним принца Мэдога ап Оуайна Гвинеда, который открыл Америку примерно на триста лет раньше, чем X. К., и сочинил песни, звучащие в тех краях по сей день. Вспомним сильную духом писательницу Джин Рис, урожденную Эллу Гвендолин Рис Уильямс. Вашего вольнодумца, математика, философа, логика и моралиста Бертрана Рассела, который ценил чайники также высоко, как вы — ложки. Музыканта Джона Кейла, принца «Белеет Андеграунд». Если бы Кейл не заблудился однажды в нью-йоркском метро, смог бы он петь о чем-то помимо удушливого сланца и черных рудниковых долин? Потерявшись волею случая, Ваши соотечественники пережили приключение, потому что каждый из них стремился к некоей цели, имел перед внутренним взором некий невидимый рисунок (простите мне сей умышленный каламбур).
Выражаю Вам свои искренние соболезнования.
Когда в сентябре академия вновь распахнет свои двери, мы будем счастливы видеть Вас в числе наших студентов.
Будьте любезны подтвердить свое согласие ответным письмом или факсом, а также постарайтесь изучить творчество вышеперечисленных деятелей искусства до начала учебного года.
С наилучшими пожеланиями,
Питер Хопкинс, директор Уэльской академии искусств
Ночная прогулка
Прочитав письмо директора, я выхожу из дома и направляюсь к скамье, на которой Д. П. увековечили память о моем отце. Ложку беру с собой, потому что она придает мне храбрости, без которой не обойтись, если хочешь прогуляться по большой туристической тропе глубокой ночью. По итогам своей экспедиции я делаю три вывода.
1. Ночью дикие пони выбираются из чащи и приближаются к обрыву на опасное расстояние, чтобы полакомиться маленькими алыми цветами, пробившимися сквозь камни. Радостное чавканье смешивается с грохотом волн, ударяющихся о скалы.
Вывод: пони предпочитают быструю смерть на сытый желудок медленной смерти на голодный желудок.
2. Появление ложки — единственное интересное событие за последние несколько недель.
Вывод: я рискую потеряться, пока разведываю, откуда она взялась.
3. Мне становится плохо, когда я слишком близко подбираюсь к террикону — моему собственному нагромождению сланца, моему личному руднику.
Вывод: сама толком не пойму.
К сожалению, в нашу эпоху одноразовой посуды и складных столиков искусство изготовления ложек переживает упадок. Однако вдумчивый коллекционер, которого мало заботят модные веяния и перемены ценностей, продолжает исследовать ложки, эти инструменты прошлого, и через них познает мир. Если же наш коллекционер задается вопросами о будущем, его интерес непременно связан с поиском утерянных объектов.
Вне зависимости от метода, изготовителя и периода создания, любопытных каждый по-своему, внешний вид любой старинной ложки может стать для нас уроком Истории с большой буквы «И», Географии с большой буквы «Г» и Социологии с большой буквы «С». Задумаемся над ключевой ролью так называемой региональной ложки. Тысячи ложек несут отпечаток той или иной территории, тем самым превращаясь в серебряную память о целом крае с его уникальными традициями (см. гл. 8 «Ливанские ложки и празднества стран Средиземноморья»).
Кстати, почему бы не включить ложковедение в перечень школьных предметов? На таких уроках ученики знакомились бы с нравами и обычаями, о которых не сказано ни слова в общеизвестной справочной литературе. К примеру, ложки, украшенные гербами, были типичны для Франции; цветочные мотивы и завитки характерны для голландских и швейцарских ложек, а на английских миниатюрных ложках в старину часто изображались кошки и собаки (данная разновидность ложек, да простит читатель это отступление, является любимейшей у автора сего скромного произведения).
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
II
ФРАНЦИЯ
Отряд, шагом марш!
От качки у меня ноет сердце. Не обращая внимания на очередь пассажиров, выстроившуюся перед кафетерием, я бросаюсь на палубу парома. Из толстой трубы поднимается тошнотворный запах жареной еды. От взгляда на пластиковый стаканчик, перекатывающийся по палубе от скамейки к скамейке, дурнота только усиливается.
Когда Нану предупреждала меня, что погода во время рейса будет кошмарной, мама сухо возразила, что прогнозы сбываются редко. Разумеется, в первую очередь она имела в виду погоду в нашей семье, на которую нежданно-негаданно, ex inspe-rato, накатило цунами. «А ты все равно выйди на палубу и смотри на горизонт», — шепнула мне бабушка.
Прислоняюсь к мокрым перилам, повернувшись лицом туда, где, по идее, должен находиться континент. Сколько еще до него плыть? Меня мучает изжога, а горизонт почему-то зеленеет. Компания молодежи останавливается рядом со мной, рассаживается на влажных скамьях и веселится, словно принимает солнечную ванну. Слышу французскую речь и пытаюсь что-нибудь разобрать, но качка мешает сосредоточиться. Две пожилые англичанки в штормовках цвета хаки достают термос. Снимаю капюшон куртки и опускаюсь прямо на палубу. Можно было бы полистать дорожный атлас, изданный еще в шестидесятые годы, или почитать «Воспоминания коллекционера», но я лишь сворачиваюсь в клубок и замираю. Мне кажется, в такой позе я менее несчастна.
Когда мы были маленькими, папа возил нас на своем шлюпе «Поцелуй меня, Кейт» на остров Рэмси. «Отряд, шагом марш!» — выкрикивал отец, и мы шлепали по холодной воде к суденышку, которым он безмерно дорожил. Во время этих вылазок я чувствовала себя жалкой. Дэй, уже тогда отлично ходивший под парусом, высмеивал мою «хоббичью неуклюжесть», хотя вообще-то хоббиты были существами ловкими, если верить Толкиену. Ал, уже тогда умевший вязать морские узлы и предпочитавший, чтобы его ни о чем не спрашивали, забирался в середину шлюпа и сидел там, теребя в пальцах нейлоновую бечевку. Я путала канаты, называла правый борт левым и терпеть не могла, когда отец восторженно вскрикивал: «П-па-аваро-от!»
Когда мы доплывали до острова и съедали бутерброды, отец принимался нас рисовать. На его набросках появлялись и облепленные моллюсками парусники, то высоко взмывающие над волнами, то наполовину ушедшие под воду. «Мятежный», «Унылый», «Спокойный» — выводил папа красивым почерком. Точность его рисунков меня завораживала, но не избавляла от страха перед обратной дорогой. Возвращаться было во сто крат хуже, чем плыть в ту сторону. «Все дело в скорости ветра», — повторял Дэй с умным видом. По щекам хлестали соленые брызги, ноги от ледяной грязной воды сводило судорогами, ссутулившийся Ал рядом со мной не переставая вязал узлы… В такие минуты меня охватывало всеобъемлющее отчаяние. Едва «Кейт» пришвартовывалась к берегу, я спешила вверх по склону обратно в гостиницу, ощущая собственную никчемность. Мне казалось, я не оправдала ни одного ожидания своих близких. Возможно, так оно и было на самом деле…
Хватаю полиэтиленовый пакет. Меня рвет. Никто из пассажиров не приближается ко мне и не предлагает помощь.
Вплоть до сегодняшнего дня, если я простужалась или меня тошнило, окружающие реагировали совсем иначе. Даже в школе, в этой зоне всеобщего равнодушия, учителя давали аспирин, когда у меня подскакивала температура. А уж в гостинице малейшее недомогание становилось предметом всеобщего внимания. Например, когда на Рождество я переела коньячного масла и у меня случилась печеночная колика, Помпон следил, чтобы я не запачкала волосы, пока извергала ужин в туалете на первом этаже (добежать к себе я, увы, не успела). Затем Нану протерла мне затылок одеколоном, а мама дала ложку «Нукс вомики» — гомеопатического средства на основе семян рвотного ореха. Меня тотчас вырвало еще три раза, что, по маминому мнению, указывало на эффективность лечения. Ал не отходил от меня, пока я не заснула, окутанная всеобщей заботой и любовью.
Голова кружится уже не так сильно. Хватаюсь за перила, поднимаюсь и иду выкинуть пакет в урну.
Вернувшись, пытаюсь собрать свои вещи, разбросанные вокруг скамеек, между которыми сидела. Оттираю пятна рвоты с обложки «Воспоминаний коллекционера» и прячу в рюкзак атлас, паспорт и пузырек с «Нукс вомикой», которую забыла принять. Ложка, переливающаяся в каплях морской воды, так и просится на новый рисунок.
Едва я кладу на колени блокнот, к борту подлетает толпа пассажиров. Все со счастливыми лицами тычут пальцами туда, где виднеется земля.
Приподнятое настроение
Состояние радости, при котором голова проясняется, глаза блестят, плечи расправляются, а грудь словно заполняется веселыми пузырьками, англичане именуют high spirits
[8]. Насколько мне известно, ни в валлийском, ни во французском аналога этому выражению нет. Как бы то ни было, а паром я покидаю именно в high spirits.
Лица английских водителей напрягаются: правостороннее движение — это вам не шуточки.
Вспоминаю, как мама наставляла меня при прощании:
— Ищи указатели на Париж и ни в коем случае не смотри на британские автомобили. Всегда следуй за местными!
— Машина, за которой она поедет, не обязательно будет держать курс на Париж, — резонно заметил Дэй.
А дедушка добавил:
— Франция стала левацкой, но продолжает ездить по правой стороне.
— Да замолчите вы, наконец!
Раздражение в мамином голосе свидетельствовало о ее тревоге. Я стала успокаивать маму, клясться, что вернусь домой при малейшем затруднении, однако это лишь удвоило ее недовольство.
— Не волнуйся обо мне, — решительно отозвалась мама. — Я тебе запрещаю беспокоиться за меня!
Вспомнив этот разговор, я расчувствовалась.
Пристраиваюсь позади зарегистрированного во Франции «Рено 14», чтобы вырулить из порта и въехать на национальную автостраду. Под треугольным знаком висит табличка с надписью по-английски: KEEP THE RIGHT. Держите правого. Кого правого? Я понимаю, что имеется в виду: «Держитесь правее», но иногда неточность перевода позволяет взглянуть на знакомые вещи под совершенно иным углом зрения. Кроме того, на треугольнике в красной рамке изображены две стрелки — одна указывает вверх, другая вниз. Интересная метафора жизни.
Теряю «рено» из виду. Придется соображать самой, не полагаясь на других водителей. Напоминаю себе главное и единственное правило: руль должен всегда находиться с неправильной стороны дороги. Так я сформулировала его для себя и проговорила вслух. Я сейчас многое проговариваю вслух.
При виде указателя с надписью «ПАРИЖ» мое настроение поднимается выше прежней отметки: по крайней мере, я двигаюсь в нужном направлении. К четырем часам заселюсь на молодежную турбазу, рекомендованную одной из наших Д. П. Завтра посмотрю Париж, после чего отправлюсь в Бургундию, в городок Бон. Постукиваю по рулю «вольво», поздравляя его, и вдруг вспоминаю, что бак нужно заправить.
На первой бензоколонке, которая попадается мне на пути, дизель не продают. На следующей тоже. Настроение ухудшается. Начинает темнеть, никаких указателей со словом «ПАРИЖ» я больше не встречаю. «Вольво» потряхивает.
Машина уже старая, без запаса топлива ее оставлять нельзя. Красная лампочка моргает все чаще и чаще. Помпон говорит, когда топливо в баке почти на нуле, нужно заглушить мотор во время спуска и сохранять оптимизм.
Я глушу мотор.
Мы бесшумно скользим по плохо освещенной заправке, оформленной в красных тонах. Дизеля нет и в помине. Из лавки выходит человек лет ста.
— Добрый день, месье. Мне нужен дизель для…
— Дизель, газойль — одно и то же, — отзывается старик, дрожащей рукой снимая с крюка заправочный пистолет.
Заглядываю в окно магазинчика. Увы, его полки пусты, а мне бы не помешала современная карта автомобильных дорог. Пописать мне тоже не помешало бы. Вручаю заправщику двадцать франков и спрашиваю, далеко ли отсюда до Парижа.
— До Парижа? — повторяет он.
Я киваю, он тоже кивает, затем погружается в раздумья, и я уже раскаиваюсь, что задала этот вопрос, потому что терпеть нет сил — мочевой пузырь вот-вот лопнет. Наконец собеседник понимающе подмигивает и указывает подбородком на неприметную узкую дверь, отчетливо произнося:
— Wateur clausettes
[9]
— О да, спасибо, спасибо.
Трясущийся старик ожидает меня возле машины. На его лице то же выражение, с каким мы дома смотрим на людей, которые отправляются в поход по Пембрукширской тропе без какой-либо подготовки.
— Я вам бесконечно признательна, месье.
Миссис Ллевеллин была бы мной горда — я только что употребила фразу из «Перечня лучших французских оборотов», висящего на ее холодильнике. В упомянутый перечень вошли такие фразы и выражения: я вам бесконечно признательна; обвалять в муке; ни Ева, ни Адам; стать козой; нечто незавершенное; ожидание вопреки всему; лето умирает.
— Доброго пути, мадемуазель, — говорит заправщик. — Париж — это за нами, далеко, это далеко.
Глядя в зеркало заднего вида, я слежу, как он шаткой походкой возвращается в лавку, и желаю лишь одного: пусть кто-нибудь уложит его в постель и нальет чашку хорошего чая.
Подвиг моего большого маленького брата
Мы с Дэем считаем несправедливым, что нашего брата назвали Алом.
На кельтском имя Дэй означает «сверкать», а Серен — «звезда», тогда как Ал, сокращение от Алед, — это всего лишь «потомок», то есть тот, кем, вообще-то, является каждый из нас.
Катя по ночной дороге, я размышляю о своем большом маленьком брате и о рисунках, которые лежали под его кроватью. То, что Ал их сберег, неудивительно, потому что он коллекционирует разные вещи, главным образом желтые. Удивительно, что он помнил о тайнике. А еще его признание: «Питер велел мне их сохранить!»
У Ала имеется задержка развития, в суть которой я до сих пор по-хорошему не вникла. Если коротко, лет двенадцать назад его мозг перестал взрослеть. Физически Ал отличается от других девятнадцатилетних парней разве что худобой, не более того. Ал очень добрый, очень милый и… не такой, как все. Мама говорит, что он простой.
Случается, Ал сутки напролет пребывает в каком-то лихорадочном возбуждении. В другие дни из брата и слова не вытянешь, как будто его блокированный мозг заблокировался еще сильнее. Д. П. его сторонятся или смотрят на него сочувственно, словно всеведущие врачи. Дэя это жутко бесит.
— Да в самом же деле, Ал у нас не дурак! — сердится он.
Хотя между собой мы часто говорим, что Ал у нас дурак.
Тем поразительнее, что отец поручил ему хранить мои рисунки и что Ал об этом не забыл. Судя по бездарности некоторых набросков, он собирал коллекцию на протяжении последних шести лет.
Чтобы составить портфолио для Уэльской академии искусств, я переворошила все стопки журналов в гостиной, перерыла все кухонные ящики и изучила содержимое всех корзин, стоявших под лестницей. Ал безмолвно наблюдал за мной. Он уже несколько дней отказывался говорить из-за того, что Нану перешла на валлийский, а постояльцы передвигались по гостинице крадучись. Когда я с тоской решила, что никакого портфолио мне не видать, Ал вдруг схватил меня за руку и повел наверх, к себе в комнату. Там он опустился на пол и залез под кровать, издавая резкие вскрики, похожие на тетеревиные. «Припадок», — предположила
я и схватила носок, чтобы просунуть его между зубами брата. Я попыталась вытянуть Ала из-под кровати, чтобы затолкнуть иосок ему в рот, но брат отбивался, заползая все дальше. Спустя несколько секунд он задергал ногами и, к моему изумлению, выпинал из-под кровати три картонные папки. После этого выполз наружу, встал в центре комнаты и выпрямился, такой худой и высокий:
— Питер велел мне их сохранить!
К нам присоединились мама, Помпон, Нану и даже Дэй. Все вместе они долго перебирали рисунки, восхищаясь каждым и расхваливая Ала. С тех пор, как папа умер, столько людей еще ни разу не улыбались в нашем доме одновременно. Дедушка заявил, что мой большой маленький брат совершил настоящий подвиг. Мама отдала должное мне — как-никак автором этих рисунков являюсь я, — но вместо того, чтобы меня поздравить, стала восхищаться папиной дальновидностью: «Серен, ты хоть понимаешь, каким даром предвидения обладал Питер?! Он так хорошо тебя знал, любовь моя!»
Вспоминая этот эпизод, я жалею, что не поблагодарила Ала. В тот момент положение казалось мне чересчур странным, но теперь, колеся по черной дороге, мне очень хочется сказать брату, какой же он умница.
На департаментской трассе 408
— Гостиница «Красноклювые клушицы», добрый вечер!
— Дэй? Это Серен.
— Привет, Хоббит, ты уже в Париже?
— Кажется, я прозевала развилку.
— Пф-ф, ну и дела. И где ты сейчас?
Засовываю в щель для монет пятый франк.
— Дэй, можешь позвать к телефону Ала?
Связь прерывается. Быстро опускаю в приемник еще три монеты и снова набираю номер.
— Дэй?
— К вашим услугам.
— Передай маме, что я в порядке, все отлично, я мало что успела увидеть, ведь уже ночь, но пейзажи вокруг красивые, очень французские; слушай, Ал уже спит? Как у вас вообще дела?
— Да нормально, Серен. С утра никаких новостей.
Он иронично хмыкает. Я догадываюсь, что скоро связь опять прервется и мне не удастся поговорить с Алом.
— Дай, дай, дай! — раздается восклицание. — Серен?
Поразительно, но, стоит Алу взять трубку, качество соединения вдруг становится отличным, будто бы я опустила в приемник мешок монет.
— Ку-ку, Ал, у тебя все хорошо?
— Да.
— Спасибо за рисунки.
— Ал, ты меня слышишь?
Видимо, брат кивает — он всегда так делает, разговаривая по телефону.
— Ты умница, Ал, УМНИЦА!
Он смеется.
— Ладно, Ал, я поехала, окей.
— Куда?
Пи-пи-пи-и-и-и-и… Несколько минут держу трубку возле уха, прижавшись лбом к стеклянной стенке телефонной будки на департаментской трассе 408. Мимо на полной скорости мчатся два грузовика, проезжает зерноуборочный комбайн, проносятся две-три машины, фары которых слепят мне глаза. В Уэльсе автомобилисты уменьшают яркость фар, когда видят у дороги пешехода. Здешние водители, похоже, так не делают.
Зрение затуманивается от теплых слез. Сую руку в карман своей трикотажной спортивной кофты и нащупываю ложку.
Мне нужно поесть. Нужно попасть туда, где есть люди. Нужно решить, где я буду ночевать.
Мимолетная мысль
«Он так хорошо тебя знал, любовь моя». Я не могу полностью согласиться с мамой. Знал ли меня мой отец?
Чтобы узнать кого-то по-настоящему, семнадцати лет и трехсот шестидесяти трех дней не хватит.
Он узнал бы меня куда лучше лет через двадцать, ну или хотя бы через пять.
Ложка — это не какая-нибудь там безделица. Будучи используемой в приготовлении еды, румян для Клеопатры или алхимических порошков, за долгие века ложка приобрела четкие признаки атрибута власти.
Уже во времена Древнего Рима материал, из которого была сделана та или иная ложка, красноречивее слов указывал на степень могущества руки, ее сжимающей. У бедняков были деревянные ложки, у обеспеченных людей оловянные, у правящих классов серебряные (иногда даже золотые). Отсюда пошло выражение «родиться с серебряной ложкой в рту».
В Средние века ценность ложки возросла. Монархи и суверены, военные и религиозные чины, любые другие уважающие себя люди — каждая из этих персон обладала своей ложкой. Более эстетичная, чем генеалогическое древо, ложка подтверждает происхождение своего владельца, содержит упоминания важных дат, геральдические элементы и тайные символы. Украшенная чеканкой, гравировкой, росписью (см. главу «Хохломские ложки»), ложка является идеальной хранительницей памяти об исторических событиях. Нелишним будет вспомнить о том, что после коронации каждого британского монарха следовало помазание, для которого применялась специальная ложка.
Сочетание сакрализации и функциональности ложки усилило интерес к ней золотых и серебряных дел мастеров. Подпись создателя, пусть даже полустертая, присутствует на каждой серебряной ложке. Коллекционеры, скорее доставайте лупы и изучайте свои ложки в мельчайших подробностях! Какому событию посвящена гравировка на этой ручке, какое клеймо поддается дешифровке, что символизирует этот вензель? Следом доставайте весы и выясняйте точный вес вашей находки! Каковы ее анатомические особенности? В чем еще заключается ее полезность? Ответы на эти вопросы подарят вам необычайные открытия.
Ложки — это свидетельницы. Одни увековечивают победы, другие служат напоминанием о заслугах и славе, третьи чтят память о людях, сыгравших важную роль в жизни общества. Ищите ложку! Ищите ложку!
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
За рулем «вольво»
Папа оставил «вольво» мне в наследство, сам о том не подозревая. Это была его машина, я была его дочерью, следовательно, после его смерти, моего восемнадцатилетия и принятия решения поехать во Францию «вольво» перешел в мое распоряжение. Мама назвала машину загробным подарком от отца. Забавно слышать такое из уст вдовы.
— Бери «вольво», считай его загробным подарком от отца! Питер поддержал бы меня.
Я в этом не уверена. Папа никогда не хотел учить меня вождению: по его словам, мне не хватало фокуса.
Врубаю воображаемый автомобильный радиоприемник и громко-громко подпеваю «Кэтрин энд зе Уэйвз»: Walkin on sunshine, baby, Oww! Say, say it, Owww!
[10]
Настоящего радиоприемника в «вольво» нет. Дело в том, что в восьмидесятом году мы с Дэем попали в аварию. Мне было тринадцать. Дэй вел машину и переключался с одной радиостанции на другую. Отвлекшись, он крутнул руль слишком сильно, и машина поехала прямо в заграждение вдоль сельхозугодий. Собака, сидевшая у меня на коленях, выскочила в открытое окно, пролетела метров десять и грохнулась оземь. Машина угодила в канаву, рядом с которой протекал ручей. Выбравшись наружу, Дэй поспешил к воде с криками, что будет ловить плотву. Собака не переставала лаять, а я чувствовала себя так, словно мой мозг заледенел. Каждый переживает шок по-своему.
Примчавшись на место происшествия, отец провел ладонями по моим плечам и бокам, словно удостоверяясь, что ни одна часть меня не осталась в машине. Нет, не буду думать об этом.
Всю дорогу до дома папа не выпускал мою руку из своей. Он не разжимал пальцев, даже когда переключал скорость. Нет, не буду думать об этом.
На следующий день отец снял радиоприемники со всех наших машин, чтобы такого больше не повторилось.
Вокруг непроглядная тьма, но меня это не пугает. Фары «вольво» освещают извилистое шоссе, пролегающее через лес. Тут и там мелькают указатели с прелестными названиями деревушек. Я громко выкрикиваю их. Если повезет, дорога приведет меня прямо в Бон — сердце Бургундии, по мнению Помпона. «Походи по тамошним погребкам, покажи ложку местным жителям и, пожалуйста, привези с собой хотя бы ящик красного», — попросил меня дед перед расставанием.
Пока что мой путь пролегает по малообжитым краям, и щит с надписью «БОН» мне еще не попадался. В открытое окно машины влетает терпкий теплый аромат. Глаза уже устали, но останавливаться я не хочу. В планах — рулить всю ночь и встретить первый в моей жизни рассвет на французской земле.
Однако, едва свет фар выхватывает из темноты щит с надписью «ФЕРМА И КЕМПИНГ», я, не раздумывая, сворачиваю туда, куда указывает стрелка. Чувствую себя как в те мгновения, когда мама сердито кричит: «Серен, ложись уже спать, в конце-то концов!»
Террикон давит мне на почки
Сна ни в одном глазу. Стоит мне растянуться на коврике-пенке, террикон тотчас давит на почки.
Вход в палатку прикрыт неплотно, и в лунном свете я вижу двух канадок, велосипеды и большое здание фермы на дальнем конце поля. Если не получается уснуть, все равно нужно лежать, чтобы отдыхало тело. Этот совет Нану дает тем, кто страдает от морской бессонницы — расстройства, вызванного избытком йода в воздухе. Помпон рекомендует повторять грубые слова.
Папа сидел в кухне и читал. Иногда какая-нибудь мысль настигает меня спонтанно. Мозг — тоже в некотором роде террикон, он живет своей собственной жизнью.
Террикон пульсирует. Нейроны мечутся. Тут слишком жарко. Мама говорит, надо представить себе мозг в образе резвой собачки. Чтобы она успокоилась, нужно дать ей «кость» в виде положительных мыслей.
Переворачиваюсь набок и перебираю в уме коллекции Ала. Желтые предметы. Крылья стрекоз. Мертвые осы. Фигурки зверей из дутого стекла. Все, что быстро крутится, например волчки, фишки, грампластинки. Сломанные и неровные перья. Кривые ветки…
Ал всегда забрасывает свои коллекции внезапно, без очевидной причины, и мы не знаем, где он их прячет. Это оборачивается проблемами. Однажды клиент, неожиданно потерявший ключи от своей машины, отказался платить за постой, а клиентка, наткнувшаяся на изуродованных стрекоз, пожаловалась в Общество защиты животных. Отцу было нехорошо не из-за йода, а из-за ноющей челюсти. Челюсть всегда ныла в сырую погоду, то есть 81,3 % года — относительная влажность воздуха в Пембрукшире составляет 81,3 %, потому-то у нас так хорошо растут рододендроны.
Зажигалки. Серые камешки толщиной менее трех миллиметров. Белые камешки толщиной более пяти миллиметров, испачканные смолой. Желтоватые матовые стекляшки. Неисправные электрические провода. Кроличьи лапы (всего две, с барахолки). Красная солома (и желтая, конечно). Мертвые или живые божьи коровки. Сперва живые, но вскоре увядшие Эндимионы. Чехлы от зонтиков. Иссушенные бледно-розовые крабы. Английские булавки. Бумажные полотенца с геометрическим рисунком. Порванные поводки. Красные и желтые пластиковые бечевки. Собачьи галеты в виде косточек (эту коллекцию Ал съел). Ключи. Новые ластики. Яичная скорлупа. Серьги…
Допиваю воду в бутылке. Ночью меня будет мучить жажда.
Сожалеет ли мама, что спала в те ночи? Если бы все можно было предугадать, стала бы она коротать время в кухне вместе с мужем? А я? Спускалась бы я составить родителям компанию вместо того, чтобы с наушниками от плеера в ушах крутиться в постели при работающих на полную мощность батареях? Просто быть рядом с папой и ощущать, как проходит ночь. Показывать ему свои рисунки. Интересоваться, о чем он думает, поднимаясь вечерами на утес.
Начинается дождь. По пембрукширским меркам это и не дождь, а так, легкая морось. Догадываюсь, что он очень теплый.
Раньше я считала, что отец ходит ночами в кухню, чтобы почитать в тишине. Теперь у меня появились другие предположения — возможно, он готовил свои замечательные бутерброды с яйцом и креветками. Возможно, ночь за ночью он разглядывал ложку, спрашивая себя, откуда она взялась, черт побери. У моего отца была своя безмолвная жизнь.
В Пембрукшире дождь не оказывает особого влияния на жизни людей. Фраза «Дождь идет» звучит там так же обыденно, как пауза в конце предложения.
Во Франции все иначе, и потому сам факт, что здесь тоже бывает дождь, успокаивает меня и дарит долгожданный сон.
Знакомство с аборигенами
На рассвете меня будят жужжащие мухи. В поле, весьма помпезно названном «Кемпинг», маленький мальчик играет со щенком. Прячу лицо в глубь спального мешка.
Зря я это сделала: спустя несколько минут мальчик отпускает щенка, тот влетает ко мне в палатку и принимается жевать мои волосы. Нехотя высовываю голову и по-французски желаю мальчику доброго утра. Тот не реагирует. Наверное, деревенский дурачок.
— Надо пойти и заплатить моей матери, — вдруг произносит он строго.
Киваю и начинаю выпутываться из спального мешка.
— Надо пойти и заплатить моей матери, — повторяет мальчик громче.
Французские слова приходят мне на ум с превеликим трудом.
— А где… найти… вашу… твою… маму… подскажи, пожалуйста.
Он скрещивает руки на груди и ждет. Я выхожу, щенок остается в палатке — думаю, собрался пописать на мой спальник. Мне хочется есть. Этот мальчик меня раздражает. Он что, решил — я улизну отсюда, не расплатившись?
Его мать, сидящая в конторе, которая примыкает к ферме, тарахтит как пулемет, не замечая, что я мотаю головой в знак непонимания. Улыбаюсь, желая доказать ей, что от меня не исходит ни малейшей угрозы. Дама размахивает перед моим носом табличкой с цифрами и схематическими рисунками — палатка, две палатки и так далее. Я говорю, что заплачу по тарифу «Одна палатка», но собеседница стучит пальцем по табличке и что-то брюзжит. Мальчик забавляется, дергая дверную ручку, чем действует мне на нервы. У меня на душе становится тоскливо, я недоумеваю, почему мы с этими людьми не способны понять друг друга, ведь, казалось бы, нас разделяет всего лишь пролив Ла-Манш, а не бездонная пропасть? Достаю банкноту. Фермерша оживленно машет рукой, я вручаю ей деньги, и она прячет их в карман. Мальчик оставляет дверь в покое, кивком приглашает меня возвращаться вслед за ним на поле. Придя в палатку, обнаруживаю на спальном мешке грязь, слюни и жеваную ежевику. Похоже, щенка вырвало.
Мальчик снова ершится передо мной — руки скрещены на груди, во взгляде вызов. Глупый щенок лижет пальцы моих ног, а я не знаю, можно ли вытащить из багажника канистру с водой и плитку, чтобы вскипятить чай или хотя бы почистить зубы.
Отъехав от злополучной фермы-кемпинга на десять километров, я встречаю дорожный указатель с надписью «АВАЛОН». Авалон упоминается во многих валлийских мифах. Именно в Авалоне был выкован Экскалибур, меч короля Артура. При виде знакомого названия вдали от дома я тотчас начинаю чувствовать себя увереннее. Предвкушаю, как зайду в уютную пекарню и полакомлюсь прелестными французскими булочками с шоколадом, которые значатся в меню воображаемых кафе миссис Ллевеллин. Предвкушаю теплую встречу с приветливыми и обходительными французами.
Спустя четверть часа доезжаю до указателя «Авалон» с красной каймой. Стало быть, я на месте. Авалон окутан светом, всюду внушительные каменные дома, каждый из которых дышит историей, тут и там пестреют герани и петунии, подтверждающие великолепие местного климата. Пятеро ребят гоняют в футбол на маленькой площади, залитой солнцем. Я во Франции, и это великолепно!
Нарезаю три круга по городку. Если не считать юных футболистов, он выглядит безлюдным. Пекарня закрыта. Кафе на рынке тоже. Двадцать пять минут третьего. Если верить дорожному атласу, до ближайшего нормально населенного города час езды. Решаю припарковаться возле площади и поразмыслить.
Когда я роюсь в багажнике «вольво» в поисках пакета с хлебом, в бампер врезается футбольный мяч. С ужасом думаю, что на меня напали (все-таки утреннее знакомство с аборигенами выбило меня из равновесия).
Мне не впервой уворачиваться от летящего мяча. Дома, стоит мне прийти на пляж и устроиться с альбомом для рисования на коленях, я тотчас становлюсь мишенью какого-нибудь игруна. «Никогда не показывай свой страх» — девиз моей матери. «Сторонись идиотов» — девиз Помпона. «Остерегайся голых мужчин в кустах» — девиз Нану. «Не обращай внимания на приставал» — мой девиз на пляже Солвы.
Мяч бьет меня по ногам, я поднимаю голову и озираюсь со взглядом убийцы, жестокого и неумолимого. Этакого Стива Маккуина из фильма «Вздымающийся ад». Пятеро футболистов хихикают. Один приближается к «вольво» и стирает пыль с наклеек на заднем окне.
— Почему на твоей машине наклейка с драконом?
— Это символ моей страны, — отвечаю я не без гордости.
Завороженные маленькие французы обступают меня. Чувствую себя Джейн, высадившейся в джунглях. Или наоборот — матерью Тарзана, выставленной на показ в Британском музее.
Ребята рассказывают, что они двоюродные братья, каждое лето приезжают в Авалон на каникулы. Мой сомнительный французский их совершенно устраивает, между нами устанавливается своего рода языковая гармония. Уточняю у ребят, не нарушу ли я каких-нибудь запретов, если достану плитку и погрею себе еды. Они заверяют, что нет, и я со спокойной совестью вынимаю из багажника плитку, разжигаю ее и разогреваю одну из банок с консервами, которые прихватила из дома. Всего у меня при себе шесть банок, в основном с запеченной фасолью и куриным супом. Когда содержимое кастрюльки закипает, детвора морщит носы.
Вскоре мои новые знакомые опять стучат по мячу и вопят, а я беру ложку и с наслаждением поедаю фасоль.
Благодаря ложке мой первый завтрак во Франции приобретает неповторимый вкус.
Не впечатлил
Мои новые друзья предлагают съездить на озеро. Вернее, распихивая друг дружку, забираются в «вольво» и уверяют меня, что им разрешено делать все что угодно, пока они находятся на территории между озером, домом и площадью, где мы встретились. А еще, кстати, им запрещено садиться в машины к незнакомцам.
Стоп, но ведь мы толком и не знакомы! Если ребята хотят, чтобы я отвезла их на озеро, первым делом они должны попросить разрешения у родителей.
Мальчишки глазеют на меня с восхищением и уважением. Какие они потрясающие, в Уэльсе ни один парень на меня так не смотрел! Старший, по имени Пьер, пристегивается ремнем в знак повиновения и предлагает поехать за полотенцами и отпроситься у дедушки с бабушкой на озеро.
До их дома двадцать минут езды. Дети поясняют, что добираются в деревню автостопом; я никак не комментирую это, полагая, что, скорее всего, у них просто нет выбора. Готовлюсь увидеть ферму, на которой живут добрые крестьяне, небогатые, в запачканной одежде и очень трудолюбивые.
Бело-серый особняк стоит посреди огромного парка. Рыжая кошка спит на капоте «мазерати», припаркованной перед крыльцом. Пьер предлагает мне громко посигналить и обещает, что кто-нибудь точно выйдет. Я отказываюсь. Мальчик обреченно вылезает из машины и убегает в дом.
Несмотря на открытые окна, в раскаленном «вольво» нечем дышать. Мои бедра прилипают к сиденью, и, стоит шевельнуться, раздается чпокающий звук. Ребята затевают спор из-за пакетика мятных конфет «Поло», который откопали на заднем сиденье (он там давно валяется). Ожидаю увидеть разъяренную аристократку, которая вырвет у меня своих внучат и выставит вон. Пусть я хоть трижды самая миролюбивая представительница Уэльса, этим детям нечего делать в моем автомобиле.
Наконец на крыльце снова появляется Пьер, навьюченный полотенцами, пляжным зонтиком и мячом. Следом за Пьером из дома выходит пожилая дама, сухопарая и элегантная (должно быть, его бабушка), точно английская королева без шляпки. Дама машет нам рукой, но я не понимаю, что она хочет сказать. Пьер хлопает дверцей.
— Едем, Леон!
Я уже запуталась, которого из них зовут Леоном.
Едва я включаю первую передачу, в зеркале заднего вида показывается лицо какого-то парня. Секунду спустя я вижу, что из одежды на нем только белая набедренная повязка. В голове тотчас возникает идея для нового рисунка — «Греческий бог из Авалона».
— Это Эдуард, — вздыхает Пьер. — Поехали скорее, пока он не пристал к нам со своей болтовней.
Греческий бог приближается к моей дверце, заглядывает в окно и выпрямляется, смеясь.
— Ха-ха, окей, англичанка!
Он намекает на руль с правой стороны. Дымчато-голубые глаза парня пристально вглядываются в мои.
Hello. Where are you from?
[11]
— Из Пембрукшира. Я валлийка, — бормочу в ответ. Как глупо.
— Я тоже галл!
[12]
Собственная шутка необычайно его забавляет. Я сдержанно улыбаюсь. Он всматривается в мое лицо, смекает, что острота меня не впечатлила. Пьер с досадой поторапливает меня:
— Ну поехали уже!
— Бабушка в курсе? — осведомляется греческий бог.
— Угу.
— Тогда до скорого свидания, — прощается он, снова заглядывая в мои глаза.
Хочется уткнуться носом в какой-нибудь журнал, но его нет под рукой. К тому же я сейчас за рулем.
— Пока! — отзываюсь я с восходящей интонацией, как учила миссис Ллевеллин, и давлю на педаль акселератора. Машина трогается с места так резко, что гравий брызгами разлетается из-под колес. Дети радостно галдят. Эдуард, чье лицо вновь предстает передо мной в зеркале заднего вида, величественно приподнимает брови.
Мы катим по извилистой дороге, впереди неспешно едет трактор. Обгонять его я не рискую, а спрашивать детей, свободна ли дорога, кажется мне неразумным. Поэтому я просто беседую с Пьером, ведя машину со скоростью десять миль в час.
— Эдуард — твой старший брат?
— Нет, кузен. Моего брата зовут Франсуа. Он тоже занудный.
— А у меня двое старших братьев…
Ребята тотчас интересуются, такие же Дэй и Ал занудные, как Эдуард и Франсуа, или нет. Отвечая на вопросы, я вдруг понимаю, что очень-очень люблю своих братьев. Сглатываю ком в горле.
На берегу озера людно. Бесшабашные дети, пухлые женщины, мокрые собаки, автодома. Урна, извергающая пивные бутылки. Все точь-в-точь как на пляже в Солве.
— Это голландцы, — морщится Пьер. — Поехали на другую сторону.
Следуя указаниям ребят, выруливаю на узкую грязную дорогу, затем продираюсь сквозь заросли колючих кустов и выезжаю на луг. Когда мы добираемся до противоположного берега озера, «вольво» напоминает внедорожник, участвующий в авторалли. Мои новые друзья забывают обо мне и несутся к воде.
Надеюсь, они умеют плавать.
Ног у ложки нет, и все же она передвигается по свету. Удовлетворяя свою ненасытную страсть к коллекционированию, однажды я приобрел в Бирмингеме ложки для пряностей, сделанные в Исламабаде. В другой раз в Кракове наткнулся на кохлеары
[13] произведенные в Турине.
Смело берусь утверждать, что перемещение ложек по миру связано с войнами, колонизацией и кровопролитными расхищениями. В то же время ложки могут менять местонахождение, будучи преподнесенными в дар или в знак помолвки, а также символически передавая адресату какую-то важную весть. Следовательно, появление ложки вдали от места ее изготовления никогда не бывает случайным. Если на конце ложки имеется гравировка, хорошее увеличительное стекло быстро выявит ее содержание — заверение в дружбе, вирши с соболезнованиями или признание в любви.
Дорогие читатели, внимательно изучайте свои ложки, ведь, как сказал император Август, в каждой ложке заключена тайна!
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
Воздействие дикорастущих грибов на французскую аристократию
На берегу озера появляется компания парней во главе с Эдуардом. Я в это время делаю набросок с весьма печальным названием «После пикника». На рисунке в сумеречном свете мерцают огрызок яблока, ложка и скомканный бумажный платок. Вода в озере мягко шелестит, а голландцы на том берегу разбрелись по своим автодомам и глупеют перед телевизорами.
Четверо парней прислоняют велосипеды к дереву и, горланя, принимаются разводить костер. Я уже скучаю по маленькому Пьеру и его кузенам, которых не так давно увез домой молчаливый дедушка. Эдуард вздыхает, жалуясь на однообразие деревенской жизни, я поддакиваю, что в Пембрукшире та же беда. Он спрашивает, сколько мне лет, и сообщает в ответ, что им всем тоже по восемнадцать и только Франсуа, его кузену-тихоне, уже девятнадцать. Эдуард рассказывает, кто из них кому кем приходится, называет имена своих любимых певцов, много раз просит меня повторить его фамилию, Брак-де-ла-Перьер, потому что у меня «славненький» акцент. Наконец Эдуард предлагает устроить полуночное купание, я отшучиваюсь, говоря, что еще не полночь. Франсуа смеется впервые за все время, остальные шепчут, что я не настоящая англичанка, и, плутовато улыбаясь, хлопают меня по плечу. Может, я не в своем уме, раз торчу посреди леса в компании этих четырех придурков? («Остерегайся голых мужчин в кустах».) В худшем случае просто убегу, залезу в «вольво» и запрусь изнутри. Главное, чтобы там было не слишком жарко, иначе потеряю сознание.
Купаются все, кроме меня и Франсуа. Он с удрученным видом сидит на корточках возле озера. Возможно, парень страдает тем же синдромом периодической немоты, что и Ал. Подкидываю в костер хвороста, чтобы отогнать комаров. Эдуард выходит из воды и тотчас зовет меня поваляться в палатке. На случай, если я чего-то не пойму, он повторяет свое предложение по-английски. Видимо, забыл, что «Voulez-vous coucher avec moi?»
[14] — самое известное в мире выражение на французском.
Я не против заняться любовью, но я все-таки не Гвен Томас и не Шинейд Эванс. Они-то непременно бросились бы в палатку по первому зову греческого бога из Авалона. Более того, эта идея пришла бы им в голову еще раньше, чем ему. Я ничего не отвечаю Эдуарду («Сторонись идиотов»), и он совершенно спокойно прекращает свои подкаты. Видимо, здесь так принято. Эдуард возвращается к воде, и другие парни освистывают его.
Неожиданно у меня внутри все переворачивается. Где ложка?!
Делаю глубокий, но осторожный вдох (террикон ведь никуда не делся), включаю фонарик и ищу под кустами. Медленно шагаю по траве, надеясь, что почувствую ложку под босыми ногами. Перетряхиваю полотенца. Роюсь в салоне «вольво».
— Я потеряла свою ложку! — говорю парням, когда они выбираются на берег.
Мои новые знакомые ссорятся из-за полотенец и орут друг на друга, как команда регбистов после матча. Их безразличие к ложке меня ранит, но не удивляет.
Ехали бы они уже домой. Тушу костер песком и, зевая, растягиваюсь на траве.
— Серен, ты когда-нибудь пробовала?.. — Один из кузенов с гордым видом достает из кармана кулек с чем-то серым сушеным внутри.
Каждый из парней съедает по кусочку, я отказываюсь. Да, я пробовала грибы. Роясь в карманах пальто, забытого на гостиничной стойке, Дэй нашел пакетик псилоцибиновых грибов. Мы помчались на берег, чтобы продегустировать их. Вскоре Дэй начал кругами бегать по пляжу. Он носился так несколько часов подряд. Я вернулась в гостиницу, исполняя движения танца пого. Мама списала мое поведение на предменструальный синдром. Папа молча буравил меня взглядом, это было ужасно.
Эдуард спрашивает, можно ли им половить кайф в моей палатке — он, видите ли, боится утонуть.
Мы забираемся в палатку, которая внезапно становится очень тесной, садимся и ждем, когда грибы подействуют на парней. Я прикрепляю фонарик к главной дуге палатки, его свет делает наши лица зелеными, Эдуард корчит рожи и сдавленно вскрикивает, его спутники ухмыляются, точно в фильме ужасов. Мои мысли только о ложке. Кто-то гладит меня по коленке. Отодвигаюсь и размышляю: если я потеряла ложку, потеряла ли я вместе с ней и цель своей поездки? Франсуа шепчет, что в палатке слишком душно, после чего целует меня в обе щеки и исчезает в ночи.
Чтобы отвлечься от раздумий о ложке, я тоже вылезаю наружу. Мне хочется увидеть, какого цвета звезды — синие с металлическим отливом, серебристо-белые или платиново-белые? Какого оттенка была папина кожа, когда док Эймер произнес свое «pallor mortis»? Бледность — это не цвет, а состояние.
Давным-давно я нашла в гараже каталог с образцами красок марки «Грин и сыновья». Помню, как наслаждалась ассоциациями, которые вызывали у меня названия. Там были десятки оттенков синего, желтого, красного и всего семь оттенков серого и четыре черного. Я пришла к выводу, что при оформлении интерьеров принято делать акцент на ярких и чистых тонах, а из печальных темных оттенков выбирают между анилином, вороновым крылом и лакричником. За ужином я поделилась этой теорией с семьей. «В оттенке воронова крыла нет ничего печального», — возразил мне отец. Я так и не сказала ему, что забрала тот каталог. Если я правильно понимаю, он его искал.
Легкий бриз кружит озерную гладь в танце. Голландцы на том берегу спят. Трое кузенов, примостившихся у меня в ногах, глупо хихикают. Мечтаю, чтобы скорее наступил рассвет. Я найду ложку и продолжу путь.
Французы замолчали. Видимо, уснули-таки. Я как можно тише уползаю в палатку и забираюсь в спальный мешок.
Трое парней безвольно сидят на траве, их глаза в отблесках зеленого света кажутся стеклянными. Из полуоткрытых ртов текут слюни. Со стороны их кайф смотрится как-то не очень.
Спрашиваю, все ли с ними в порядке. Они моргают и мямлят: «Угу».
Каждый раз, когда я просыпаюсь и поглядываю на парней, они по-прежнему отрешенно сидят на земле, разинув рты. Их подбородки блестят от слюны.
Незадолго до рассвета они крадучись уходят от моей палатки по одному. «Вуе-bуе
[15]», — шепчу я, и Эдуард бормочет что-то в ответ так неразборчиво, словно только что вернулся от зубного.
Оттенки / образы № 1
 I
I
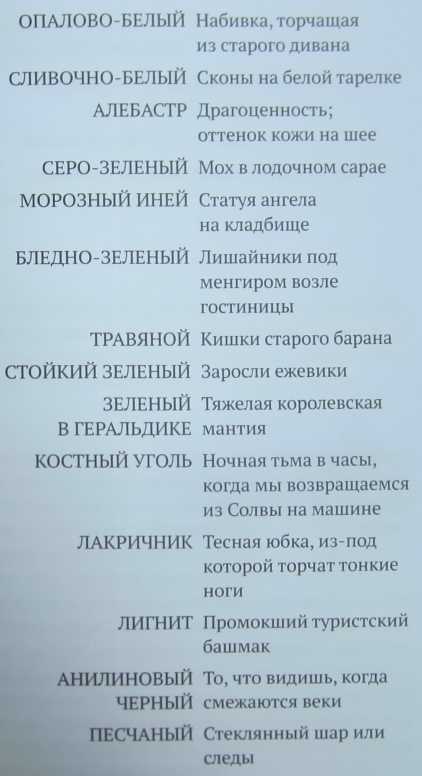
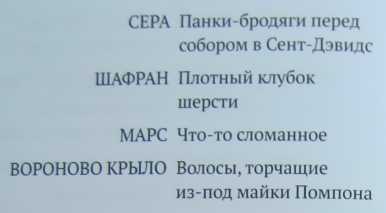
Иногда художники рисуют свои сновидения
Над рассветным озером поднимается молочно-белый пар. Деловито гудят насекомые. Я писаю за кустом и скольжу взглядом по земле, надеясь отыскать в траве свою потерю. На душе скверно.
Усевшись перед палаткой, рисую туман и навеваемые им образы, как делал Дэвид Джонс. Принц выхватывает меч из дымных ножен. Полупрозрачная дама подплывает к берегу. Единорог, бык, остромордая собака с длинными лапами… У нас в гостинице есть книга о Дэвиде Джонсе. Говорят, этот художник и поэт, дальний родственник Нану, мог бы стать валлийским Уильямом Блейком. Его акварели пестрят изображениями животных, деревьев и химерических персонажей. Джонс рисовал свои сновидения. В детстве я часами рассматривала каждую страницу той книги, стремясь воссоздать его сны. И почему я не рассказала об этом мистеру Хопкинсу на собеседовании?
Туман рассеивается, солнце касается моих пальцев ног. Появляется Франсуа, немногословный кузен Эдуарда. Сегодня он выглядит менее угрюмым, чем накануне.
— Привет, Серен, хорошо поспала?
— Угу.
(Обожаю говорить: «Угу», как они.)
— Я всю ночь не смыкал глаз, грибы в этот раз на меня странно подействовали! О, а ты красиво рисуешь.
— Угу. Ньзнаю.
(Обожаю говорить: «Ньзнаю», как они.)
Он садится на корточки и с задумчивым видом проводит пальцем по очертаниям плывущей дамы.
— Так и не нашла свою ложку?
Меня трогает, что Франсуа об этом помнит. Славный парень. Он обходит мой бивак по кругу и шарит руками в траве, а затем предлагает собрать палатку:
— Очень может быть, что ложка скользнула под днище.
Вытаскиваем колышки, и палатка мягким облаком опускается на землю. Едва мы сдвигаем ее, нашим взорам предстает ложка, вдавленная в примятую траву.
— Аллилуйя! — сдержанно улыбается Франсуа.
Он прижимает меня к себе и целует. Французский поцелуй более жадный, чем английский, и целоваться, чувствуя на губах тающий на солнце туман, очень романтично. Когда мы отстраняемся друг от друга, Франсуа всматривается в гравировку на ложке и заявляет, что изображенные на ее черенке животные — это собаки. Подобные ложки, правда менее изысканные, имеются в поместье его семьи.
Мы снимаем джинсы и футболки и идем купаться в нижнем белье. Франсуа снова меня целует, в воде это доставляет уже меньше удовольствия. Он делает подводное сальто назад, затем с криком выныривает, и мы плывем к другому берегу, но быстро разворачиваемся, потому что от голода у нас обоих начинает колоть в боку.
Я помню, что перед моим отъездом мама распихала по всем углам багажника пачки с печеньем. Там есть «Кастард Криме», «Чоклат Дайджестивз» и «Джинджернатс»
[16]. Франсуа пробует все три сорта и признается, что французские сладости ему нравятся больше. Тем не менее мы уминаем целую упаковку шоколадного печенья, пока играем во французско-валлийский словарь.
— Добрый вечер! — начинает он.
— Nos da, — отвечаю я.
— Гриб?
— Madarchen.
— Красивый?
— Gian.
— Как «план»?
— Нет, glan!
— Так, ладно. Парень?
— Bachgen.
— Девушка?
— Geneth.
— Братья и сестры?
— Brodyr a chwiorydd.
— Семья?
Мое горло сжимается, глаза слезятся. Франсуа бесстрастно наблюдает за мной. Я всхлипываю, но упрямо прошу его произнести новые французские слова для перевода. Франсуа на ум ничего не приходит, мои слезы сбили его настрой. Шутливо тыкаю его кулаком в бок, чтобы вернуть беседу в прежнее русло, и он предлагает другой вариант игры:
Ты говоришь слова по-валлийски, а я перевожу их на французский!
Мне нужны нейтральные слова. Выбрать такие сложно, большинство слов вызывает в памяти какие-нибудь воспоминания, а воспоминания — эмоции. Или напоминают об их отсутствии. Собираюсь с духом и включаюсь в игру, произнося слова botwm, dwr, sbigoglys, то есть «кнопка», «вода», «шпинат», а поскольку Франсуа не говорит на валлийском, он придумывает всякую тарабарщину, звучащую на французский манер, — «бьяфон», «лорьяжик» и «рюпэ». Мне смешно. Мы снова сушим мои слезы водой.
— Задержись на несколько дней. Ты можешь поставить палатку у нас в саду, — предлагает он.
— Угу. Ньзнаю.
— Я показал бы тебе наше столовое серебро.
— Спасибо… Ньзнаю.
По-моему, я еще не в достаточной мере потерялась во Франции. Чтобы не слишком обижать приятеля отказом, дарю ему рисунок с плывущей дамой.
Франсуа просит высадить его в километре от поместья. Достает велосипед из багажника и мнется возле моей дверцы. Когда я включаю заднюю передачу, демонстрируя намерение ехать дальше, он бормочет:
— Бон — это на юге. — А затем: — Серен, ты очень glan!
— Браво, — отвечаю я. Как дура.
Он машет рукой, заглядывая в зеркало заднего вида, и кричит мне вслед:
— Сегодня воскресенье, в Боне будет блошиный рынок, ты его не пропустишь, покажи там эту лож…
[…] потому что, как бы удивительно это ни звучало, ложка лучше любого другого предмета воплощает в себе принципы инь и ян, anima и animus. Вдумайтесь, ее женственные изгибы намекают на плодовитость, на способность к восприятию и созиданию, к милосердному сочувствию, тогда как ее функция, в той же степени соответствующая мужской природе, указывает на удобство применения, практическую пользу и, следовательно, на эффективность. Можем ли мы утверждать, что ложка имеет женскую душу и мужское предназначение?
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
Заниматься любовью тридцать первого декабря
В дороге я решаю не думать ни о своих слезах, ни о Франсуа. Целоваться с ним, конечно, было приятно, приятнее, чем с Мэлори, но не настолько, чтобы провести в Авалоне весь остаток лета.
С Мэлори мы даже раздеться не успели. Хотя на южном берегу моей страны снег — редкий гость, тот вечер был снежным и ветреным. По пляжу разлетался мокрый ледяной песок. Мы могли бы уединиться в гостиничном номере, но почему-то пляж показался нам самым подходящим местом. Мне хотелось сделать «это» в кинематографичной обстановке.
Мы не учились в одном классе, а просто ездили на одном автобусе. Еще иногда Мэлори вместе с родителями заглядывал в «Питейную нору». Меня очень привлекал его скучающий вид.
Тридцать первого декабря их семья была в нашей гостинице. Все вокруг напились и желали друг ДРУГУ несбыточных вещей. Мэлори, разумеется, скучал, и я улучила минутку, чтобы поделиться с ним секретом: мне нужно потерять девственность, пока не исполнилось восемнадцать.
— Почему?
— Есть ритуалы, которые следует совершить в строго определенном возрасте — например, получить в подарок котенка в три года или впервые напиться в тринадцать.
Я произнесла эти слова уверенным тоном, не признавшись Мэлори, что цитирую реплику из фильма «Пустоши».
В «Пустошах» девушка по имени Холли сбегает из дома в компании отщепенца, который ведет себя с ней доброжелательно, в отличие от вечно сердитого отца (мать Холли умерла). В процессе своего путешествия главные герои убивают кучу народа. Парня зовут Кит. Он невероятно безалаберен. В одном из эпизодов Кит и Холли занимаются любовью, и это не выглядит ни романтично, ни драматично — скорее, они просто проводят время вдвоем.
Фильм меня поразил. Я понимала, что едва ли встречу в Пембрукшире столь же сумасшедшего и красивого персонажа, как Кит, но сексуальная сцена намекала, что я могу пережить подобное с кем-нибудь из местных парней. Я много думала об этом. Мне хотелось потерять девственность иначе.
В конце концов все произошло как в кино, разве что на пляже было слишком холодно и мы не стали раздеваться.
Останавливаюсь возле бакалейной лавки в Отёне — бывшей галло-римской столице, побратиме британского Стивениджа. Так сказано на щите при въезде в город. Ничего, что напомнило бы о Риме, я тут не замечаю, зато серые многоэтажки и впрямь будят воспоминания об Англии. Купив почтовую открытку, марку и чипсы, паркую машину около водохранилища с бетонными стенами. Во вкусе французских чипсов не ощущается ничего, кроме соли. По глади водохранилища снуют парусные лодки с мальчишками на борту. Ловлю себя на мысли, что не хотела бы очутиться на их месте.
Наколесившись по улицам и нарушив десяток правил дорожного движения, снова оказываюсь на въезде в город. «Видимо, правостороннее вождение плохо сказывается на моей ориентации в пространстве», — говорю себе, когда на очередном повороте передо мной неожиданно возникают два огромных террикона.
Я потрясена. Такое чувство, будто на полной скорости проехала по ухабам. А ведь мне удавалось игнорировать свой террикон целых три дня. Ну, по крайней мере, считать, что я его игнорирую. Да, время от времени он меня угнетает, и все же, анатомически говоря, мы с терриконом сосуществуем, я с ним свыклась. Привычка смягчает воздействие. Думаю, похожие ощущения испытывает человек, проведший несколько дней без пищи, — он просто перестает чувствовать голод.
Два отёнских террикона вздымаются к небу. Их склоны высотой сто с лишним метров покрыты пятнами зеленой растительности. Выхожу из «вольво» и приближаюсь к информационному щиту, изрядно траченному временем.
ОТВАЛЫ ЛЕ ТЕЛО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕС ДЛЯ НАТУРАЛИСТОВ ПО ПРИЧИНЕ БОЛЬШОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФЛОРЫ. КРОМЕ ТОГО, НА ИХ ТЕРРИТОРИИ ОБИТАЕТ ВНУШИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ПТИЦ, АМФИБИЙ И БАБОЧЕК. ПОСЛЕДНИХ ПРИВЛЕКАЕТ СЮДА НАЛИЧИЕ РЯДА РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРХИДЕЙ (СЕРНА-LANTHERA DAMASONIUM), КОТОРЫЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ.
Было бы здорово, если бы однажды мой собственный террикон отдал себя в распоряжение флоры и фауны. Пусть бы он привлекал лягушек, орхидеи и бабочек.
А пока этого не случилось, террикон разбухает и дрожит в резонансе с двумя кратерами, которые открываются моему взору. Мне вдруг хочется стукнуться грудью о платан, чтобы это прекратилось. Игнорировать. Уклоняться от столкновения. Уж это я умею.
Снова нахожу дорогу на юг, снова еду мимо серых зданий, водохранилища и лодок, наконец выскабливая себя из этого города.
Вид на бесконечно простирающиеся поля люцерны дарует мне облегчение.
Famous last words[17]
Последние слова моего отца были адресованы маме. Родители лежали в постели. Папа читал книгу, мама — газету. На его прикроватной тумбочке стояла чашка чая, на ее — чашка травяного отвара.
Какими были последние папины слова, адресованные мне, я не помню. Моими могли бы стать: «Доброй ночи, папа». И зачем только я так взъелась на него из-за необходимости освободить комнату для очередных Д. П.? В отличие от слов, последний свой жест в присутствии отца мне сложно забыть: я громко хлопнула кухонной дверью и, обиженная, удалилась к себе.
Папа жаловался, что у него мерзнут ноги.
«Я неуклонно приближаюсь к возрасту, когда приходится спать в носках», — сказал он маме, а она рассмеялась и провела пальцами ноги по его голени. Когда мама рассказывает об этом, у нее краснеют глаза и ее печаль омрачает каждый коридор и закоулок гостиницы. Даже цветы и листья в саду никнут к земле, а рододендроны бледнеют, демонстрируя пример растительной pallor mortis.
Холодность папиных ног настолько удивила маму, что она решила принести ему грелку. Когда мама поделилась идеей с отцом, тот ничего не ответил. Почему не ответил? На этот счет у меня есть три версии:
1. Он ненавидел пустые реплики из разряда: «Давай, это как раз то, что мне сейчас нужно».
2. Его рот был занят чаем.
3. Он был слишком напуган, чтобы говорить.
Наши грелки лежат в ящике кухонного буфета. Летом ими редко пользуются, но зимой каждый постоялец укладывается спать в постель, где их уже ждет горяченная грелка. На то, чтобы вскипятить воду для одной грелки, уходит минуты три. Затем воду нужно осторожно перелить в грелку через горлышко, аккуратно завинтить колпачок (кстати, они вечно теряются), выключить в кухне свет, запереть дверь и подняться по лестнице. Соответственно, мама отлучилась из спальни минут на шесть-семь. Когда она вернулась, папа уже был мертв.
«Я неуклонно приближаюсь к возрасту, когда приходится спать в носках». Мой отец, который предпочитал промолчать, чем сказать что-то плохое, не подозревал, что эта фраза станет последней в его жизни.
Нужно следить за тем, что говоришь. Смерть может настигнуть тебя в любой миг, и тот, кто продолжит жить, навсегда запомнит твои прощальные слова.
Блуждаю взглядом по дорожному атласу, но, поскольку я так и не разобралась, где нахожусь, толку от него никакого нет.
Примерно через тридцать миль пути замечаю на орешине объявление, написанное от руки: «БЛОШИНЫЙ РЫНОК!» Стрелка предлагает повернуть на развилке вправо. На следующей развилке вижу новое объявление: «БЛОШИНЫЙ РЫНОК В УШО-НЕ!» Дорога поднимается в гору, по обеим сторонам зеленеют поля и высятся холмы. Похоже на север моей страны. Я на разные лады повторяю вслух название населенного пункта: У-шон, Уш-шо-он, Ушо-н-н… Увлеченно играю в «Животное — Растение — Минерал», придумывая, что же за зверь такой этот Ушон.
На холме несколько каменных домов, часовня и желтый почтовый ящик. Стрелки указывают путь к барахолке и автостоянке. Паркую «вольво» возле «Ситроена 2 CV». Перед выходом из машины составляю список фраз, которые уместно произнести перед самой смертью.
Снаружи пахнет жареной едой и медом.
Фразы, которые уместно произнести перед самой смертью
— НУ, МНЕ ПОРА.
— КАКОЕ МИЛОЕ МЕСТЕЧКО!
— ЖИТЬ — ВОТ ЧТО СЛОЖНЕЕ ВСЕГО.
— МОЕ СЕРДЦЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, МОИ АТОМЫ ОСТАЮТСЯ.
— ЖИВЫМ ВАМ МЕНЯ НЕ ВЗЯТЬ,УБЛЮДКИ! (НАПРИМЕР, НА ВОЙНЕ.)
— Я ВИЖУ ЯРКИЙ СВЕТ…
- Я НЕУКЛОННО ПРИБЛИЖАЮСЬ К ВОЗРАСТУ, КОГДА ПРИХОДИ
ТСЯ СПАТЬ В НОСКАX
— АЛЛО!
— Я ВСЕ ЗНАЮ.
— Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ.
— Я ВАС ПРОЩАЮ.
— ПРИНЕСИТЕ МНЕ ШАМПАНСКОГО (ИЛИ ЧАЯ, ПИВА, ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА…).
— ЛИБО ВЫ СНИМЕТЕ ЭТОТ ГОБЕЛЕН, ЛИБО Я УМРУ. (КАЖЕТСЯ, ТАКИМИ БЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ОСКАРА УАЙЛЬДА.)
— Я НАРИСУЮ ТВОЙ ПОРТРЕТ, ПОТОМУ что ты БЫЛА АНГЕЛОМ (УИЛЬЯМ БЛЕЙК).
— ЭТО БЫЛО ИДЕАЛЬНО.
— ЭТО БЫЛО СТРАННО.
— Я В ПОРЯДКЕ, А ТЫ?
— ВСЕГДА МЕЧТАЛ ИСЧЕЗНУТЬ НОЧЬЮ.
— Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
По мнению осла, мед не имеет вкуса
Блошиный рынок раскинулся в саду ресторана «У Стефана» — оттуда-то и чадит жареным. Робея перед толпой незнакомых людей, первым делом я заглядываю на соседнюю лужайку, где мирно щиплют траву ослики. Они не обращают на меня внимания. Прохожу в сад, прислоняюсь спиной к балюстраде и озираюсь по сторонам. Торговля идет в неторопливом послеполуденном ритме, все важные сделки уже состоялись утром. Однако я не теряю надежды встретить специалиста по ложкам.
Отступаю от балюстрады, достаю ложку и вслед за зеваками иду от прилавка к прилавку, за которыми журчит французская речь. Старинные инструменты, приданое для новорожденного, варенье, орехи, сабо, открытки, кофейные чашки, лампы, журналы, корзины и зеркала в ротанговых рамах, книги, колбасы, свинцовые и пластмассовые солдатики… Старые вещи вдруг кажутся мне уродливыми и бестолковыми. Зачем копить всякую рухлядь? Чтобы после твоей смерти кто-нибудь за бесценок распродавал ее на барахолке? Убираю ложку в сумку и уныло вдыхаю едкий запах, подавленная тщетностью жизни.
— Ну и? Вы бер-р-р-рете или вы не бер-р-р-рете?
Устремляю взгляд на прилавок, заставленный сырами, и мотаю головой, как идиотка. Продавец выдает раздраженный монолог из невнятных звуков, в потоке которых я все же улавливаю слова «коза» и «иностранка». Окружающие хмыкают: вероятно, он отпустил какую-то местную шуточку. Ничего смешного.
Возвращаюсь в поле, где стоит мой «вольво». Моя машина, мой остров, мой континент. Седовласый мужчина грузит козлы в свой «Ситроен 2 CV». На траве — дюжина банок с медом разной плотности, от совсем жидкого до совсем густого. Двенадцать оттенков янтаря.
Мужчина улыбается мне. Я вежливо его приветствую. Солнечные лучи бросают блики на золотистый мед и прозрачное стекло. Торговец берет три банки и аккуратно ставит их в багажник. Сажусь на корточки, чтобы ему помочь, и протягиваю две банки. Наклоняется и выпрямляется он, наклоняюсь и выпрямляюсь я — кажется, мы исполняем какой-то народный танец. Но вот торговец закрывает багажник и встает к нему спиной.
— Любите мед?
Грубоватый голос контрастирует с мягкостью жестов. Чутье подсказывает мне, что этот человек живет один и дни напролет разговаривает только с пчелами. Отвечаю утвердительно.
— Однако вы его не купили.
— Да… простите.
Готовлюсь, что он тоже станет меня бранить, как продавец сыров. Но торговец-пчеловод загадочно подмигивает, вновь открывает багажник, достает чистые деревянные ложки и свежий хлеб и устраивает настоящий медовый пир. Вдоволь налакомившись, прошу продать мне мед. Пчеловод отказывается. Тогда я говорю, что куплю баночку меда в подарок брату, и, если не заплачу за покупку, это уже не будет подарком.
— Ваш брат любит мед?
Киваю. Из еды Ал предпочитает лимонный заварной крем, но вранье не всегда является ложью. Пчеловод интересуется, сколько моему брату лет.
— Девятнадцать. Правда, умом он… не такой взрослый.
— Тогда преподнесите ему вот это. Вересковый мед помогает расти.
Поблагодарив и расплатившись, я наконец решаюсь задать ему вопрос о ложке. Пчеловод принимает ее из моих рук, разглядывает и заявляет, что странник, изображенный на конце ложки, — паломник.
— А это саламандры.
— Ой, а я думала, собаки.
— Нет. Са-ла-мандры. Говорят, они отравляют воду и вызывают гниль у плодов.
Я сомневаюсь, что эти дальние родственники драконов могут причинить такой вред, но из робости не решаюсь возражать. Пчеловод проводит пальцем по переплетенным буквам.
— Два имени на букву «Б»… На вашем месте я поспрашивал бы местную аристократию.
— Аристократию?
— Ну да. У простого народа не было столового серебра.
Его версия кажется мне более правдоподобной, чем предложенная Помпоном расшифровка «Bed & Breakfast». Пчеловод добавляет, что, раз на ложке выгравирован старый пилигрим, ее вряд ли изготовили в Боне, потому что бонцы охотнее изобразили бы Деву Марию.
— Однако в нескольких километрах отсюда расположены деревни, через которые пролегали паломнические маршруты…
Мой собеседник умолкает и, щурясь, вглядывается в сумерки. На дороге появляется тот неприятный продавец сыров, нагруженный корзинами.
— Эй, брат, не хочешь отведать «Тысячу цветов»? — окликает его пчеловод.
— Каждому свое! — отзывается тот невпопад.
— По мнению осла, мед не имеет вкуса, — шепчет мне мой новый друг.
Камень, который раскачивается
Проснувшись, я чувствую, что сильно отекла. Пространство внутри палатки ярко-желтое, от жары нечем дышать. Подползаю к молнии, быстро расстегиваю ее и жадно втягиваю носом воздух. Два часа дня. Пчеловод, должно быть, уже на рынке.
Моя палатка стоит в нескольких метрах от небольшого каменного дома, прилегающего к гранитной скале, которая является стеной его кухни. Одно окно дома выходит на пруд, другое на опушку леса, где поставлены десять ульев. Вторая пчелиная семья обитает в нескольких километрах отсюда — там, где в изобилии растет вереск. Третья гнездится в расщелине мифического валуна Ла-Пьер-Ки-Круль
[18] — Камня, который раскачивается. Мне нравится, как раскатисто звучат на французском слова «вереск», «расщелина», «раскачивается». «Раскачивается» в данном случае расшифровывается как «трясется и падает» (такое значение это слово имеет в старофранцузском). Историю камня пчеловод поведал мне вчера вечером. По легенде, камень, рядом с которым теперь живут его пчелы, непрерывно раскачивался и мог упасть в любую секунду, но этого так и не произошло. Я невольно сравниваю себя с ним, ведь и сама постоянно ищу равновесие.
Вчера, после того как мы разгрузили мед и установили под яблоней мою палатку, пчеловод стал делать омлет с луком. Пока он готовился, гостеприимный хозяин выставил на стол колбасу трех сортов и ветчину малинового цвета с белой каймой. «Приступаем к четырехчасовому морвандио, и не важно, что мы едим его в восемь вечера!» — подмигнул мне пчеловод. Я предположила, что он шутит, но смысл остроты до меня не дошел. Тогда собеседник объяснил: в начале века по воскресеньям шахтеры вместе с семьями отправлялись после обедни в деревню Морван подышать свежим воздухом. Одна предприимчивая фермерша, проживавшая неподалеку от Ушона, надумала превратить свою кухню в трактир, где подавался омлет с вяленым окороком, колбасой и зеленью. Эту идею быстро подхватили другие местные жительницы. Сформировалась традиция устраивать перекус в четыре часа пополудни, чтобы шахтеры успевали вернуться домой, а фермерши — подоить коров до наступления темноты. Так и появилось в здешних краях выражение «четырехчасовое морвандио».
Пчеловод говорил медленно, зычно, его произношение было далеко от классического французского. Если я что-то не понимала, он излагал свою мысль другими словами. Когда я сообщила, что моя бабушка из шахтерской семьи, пчеловод ответил, что догадался об этом, потому что у потомков шахтеров черные глаза и грусть в голосе. Затем посоветовал не цепляться за грусть, чтобы та не стала моим образом жизни. При этих его словах на стол запрыгнула серая кошка и ухватила кусок колбасы.
Когда омлет был съеден, мы снова стали дегустировать мед и болтать обо всем подряд. Пчеловод обмолвился, что продавец сыров приходится ему братом и что они в ссоре из-за одной ситуации, связанной с дележкой наследства. То, что у пчеловода сложные отношения с братом, меня огорчило. Когда я сказала ему об этом, собеседник напомнил мне, что ни братьев, ни сестер, ни родителей мы не выбираем.
Кошка, лежавшая на столе, наблюдала за нами. Мне показалось, что ее глаза чернее моих.
То ли мед подействовал на меня как крепкий алкоголь, то ли я просто намолчалась по пути из Авалона, — я и сама не заметила, как выложила пчеловоду всю подноготную своей жизни. Рассказала о трех моряках-рыболовах, ставших мамиными мужьями, о простоте Ала, о ландшафтах вокруг гостиницы, о визитах Д. П., о телефонном шифре, о политических воззрениях моих дедушек и бабушек… Я тараторила без передышки, фразы сами соскакивали с губ. Пчеловод иногда кивал, но по большей части просто слушал мои излияния.
Заведя речь о событиях дней, предшествовавших моему знакомству с ложкой, я вдруг почувствовала, что слова иссякли, а внутри все онемело. Замолчал даже мой террикон, продрогший на краю своей собственной пропасти.
Пчеловод проводил меня до палатки. Перед тем как пожелать спокойной ночи, он сказал, что, хотя мне и предстоит обследовать весьма обширную территорию, он верит, что поиски приведут меня к разгадке. «Мы выбираем свой маршрут, но не командуем ветром», — добавил он.
Понять бы, какой смысл у этой фразы — положительный или отрицательный?..
Серая кошка лежит на крыльце в лучах солнца. Перешагиваю через нее, отворяю дверь, вхожу в дом, кладу полотенце и несессер на скамью. Кухня наводнена желтым светом. Пчеловод оставил на столе тарелку, нож, ложку, миску, большую буханку хлеба, масло, пакет молока и три кувшинчика меда. Невольно чувствую себя Златовлаской.
Вымыв посуду, я еще долго стою у раковины и смотрю в пустоту. Начинает дребезжать холодильник. За окном жужжат пчелы. Я могла бы дождаться пчеловода. Могла бы помогать ему собирать мед и продавать его на рынках. Жила бы себе в палатке под яблоней и никому не мешала, и тогда точно не пропустила бы момент, когда захочется возобновить поиски хозяев ложки, пойти учиться живописи или стать управляющей гостиницы.
Холодильник внезапно замолкает, сквозь тишину проступают другие звуки: тиканье часов, скрип деревьев, пронзительный крик хищной птицы. Сажусь за стол, опускаю голову на руки и чувствую, как из глаз без всякой причины текут слезы. Вскоре я вспоминаю о том, что должна принять душ.
Покончив с гигиеническими процедурами, беру из сумки почтовую открытку и сочиняю письмо маме. Стараюсь писать убористо, ведь у меня к ней столько вопросов. Затем, вспомнив, как пчеловод восхищался рисунком «Принц выхватывает меч из дымных ножен», вырываю листок с ним из блокнота и прислоняю его к одному из кувшинчиков, стоящих на столе.
Дворники автомобиля прижимают к стеклу большой коричневый конверт, на котором по правилам французской орфографии выведено мое имя: Seгеппе.
Внутри лежат список замков и схема региона с дюжиной крестиков.
Очевидно, пчеловод не советует мне посвящать жизнь заботе о пчелах.
Замки на букву «Б», в которых, возможно, вы что-нибудь узнаете насчет ложки
Замок Маргариты Бургундской
Замок Бисси-сюр-Фле
Замок Борпер-ан-Бресс
Замок Берз-ле-Шатель
Замок Брансьон
Замок Бурдон-Мотт
Замок Браньи
Замок Брале
Замок Брей
Замок Бонне-де-Жу
Замок Барне
Замок Брандон
Замок Бальре
Счастливого пути!
Задавать вопросы самой себе
Я отъезжаю от дома пчеловода и вскоре оказываюсь на узкой асфальтированной дороге. Впереди неторопливо движется трактор, так что я успеваю смотреть на лес за окном и любоваться переходами оттенков зеленого и коричневого. Время от времени поглядываю на схему, составленную пчеловодом, правда, скорее для удовольствия, чем по необходимости, ведь путь тут всего один.
На выезде из леса на меня со всех сторон льется свет. Проезжаю через две заброшенные деревушки. Похоже, здешние земли, как и некоторые уголки Уэльса, страдают от запустения. Ловлю себя на мысли, что охотно умяла бы четырехчасовое морвандио. А еще мне нужен почтовый ящик, чтобы отправить открытку маме. Разглядываю недвижимые облака на ярко-голубом небе и гадаю, к какой погоде готовиться — к похолоданию, зною или дождю? Все вокруг кажется мне чужим и непонятным.
Наконец впереди маячит развилка. Справа начинается аллея, окаймленная платанами, слева продолжается проезжая дорога. Указателей нет. Судя по схеме, слева замков больше. Поворачиваю налево. Через десять минут я оказываюсь в очередной деревушке. На площади желтый почтовый ящик и кафе с террасой, одна половина которой сейчас находится в тени, а другая на солнце.
Дама, которая подает меню, не отходит от моего столика, пока я таращусь на названия блюд, размышляя, соленого мне хочется или сладкого, а еще о том, хватит ли в моем кошельке франков, чтобы расплатиться.
Вздохнув, дама сообщает, что кухня закрыта, и приносит мне сырную тарелку. Три ломтика твердого белого сыра, по квадратику голубоватого и кремово-желтого. Поломав голову, существует ли какой-нибудь порядок дегустации, и так ничего и не решив, я съедаю сначала весь белый сыр, потом два цветных кусочка и завершаю трапезу пятью ломтями хлеба из розовой пластиковой корзинки. Достаю блокнот и делаю наброски местного пейзажа. Солнце печет, обжигая пальцы моих ног через сандалии.
Открытку решаю не отправлять. У мамы точно есть дела поважнее, чем отвечать на мои путаные вопросы. Убираю блокнот, кладу перед собой открытку и вычеркиваю из текста все лишнее.
Дорогая мамочка!
В моем возрасте ты уже была совладелицей «Красноклювых клушиц» и матерью Дэя. Беременеть мне не хочется, но я ведь должна что-то сделать со своей жизнью, разве нет?
Я все думаю, почему ты говорила, что папа хорошо меня знал? Я его по-хорошему не знала. Я знала о его страсти к лодкам, о его последовательности в отношениях с Алом, его нетерпении в беседах с некоторыми Д. П., его шутливости в разговорах с Дэем, его неприязни к консерваторам и правительству в целом, его недомогании из-за ноющей челюсти, его любви к диаграммам, окаменелостям и плеядам… но я ничего не знала о-нем. Например, о чем он думал, каждый вечер поднимаясь на утес?Почему он говорил, что я все испортила?
И почему ты выбрала его? Нет, правда, мам, почему ты влюбилась в англичанина настолько старше себя, что он не мог не умереть первым?
Последний вопрос: ты считаешь, папа поддержал бы меня в стремлении учиться живописи? Именно ради этого он и велел Алу хранить мои рисунки? Я бы очень хотела знать.
Люблю тебя. Скучаю по тебе. Поездка проходит прекрасно.
Целую,
Серен
— Туристка, — констатирует официантка, забирая мою тарелку.
Поднимаю карандаш.
— Угу. Подскажите, пожалуйста, как называется этот населенный пункт?
— Этот? Шарремуа. Желает ли она десерт? Странное построение фразы. Кто такая «она»? Видимо, я, ведь других посетителей на террасе нет.
Похоже, при обращении к иностранцам здешние жители используют местоимения третьего лица. У нас так делают только в хосписах и домах престарелых. Помпон даже просит застрелить его, если однажды медицинская сестра обратится к нему не на «вы» и не на «ты», а в третьем лице, на что Нану обычно отвечает, что, случись такое, она застрелит не Помпона, а эту медсестру.
Когда официантка приносит карту десертов, я снова долго изучаю выцветшие фотографии сладких блюд и подписи под ними. Наконец выбираю пирог, дама кивает и удаляется, однако спустя несколько минут возвращается не с куском пирога, а с выскобленным лимоном, наполненным твердым белым мороженым, и заявляет, что в такую погоду, как сегодня, нужно есть холодное.
Людям непременно хочется, чтобы другие поступали по их указке. А чего хочется мне?
Кстати, кому я задаю этот вопрос?
Есть ли смысл задавать вопросы самой себе, если на ум приходят исключительно те вопросы, ответы на которые никак не найти? Мои раздумья прерывает официантка, несущая добавку мороженого. Жаль, что мне не хватает словарного запаса и уверенности в себе, чтобы отказаться.
Мир не желает нам зла
На выезде из Шармуа замечаю указатель:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
УШОНА ЛА-ПЬЕР-КИ-КРУЛЬ, 3 КМ →
Получается, я битый час катаюсь по кругу. Но ведь дорога из Ушона, которая привела меня сюда, дальше непременно должна привести куда-то еще.
В голове рождается идея нового рисунка. Тотчас вынимаю блокнот, кладу его на капот «вольво», раскалившийся на послеполуденном солнце, и набрасываю контуры черного столба, на котором висят семь стрелок, указующих в разных направлениях: «Потеряться», «Заблудиться», «Обмануться», «Заплутать», «Попасться», «Пойти по ложному пути», «Lost»
[19].
Будь рядом со мной Дэй, он непременно процитировал бы свой любимый отрывок из «Сияния» Стивена Кинга: «Жизнь — тяжелая штука, Дэнни. Мир не желает нам зла, но и добра он нам тоже не желает. Ему все равно, что с нами происходит».
Эта фраза неизменно вызывала у нас смех.
Поднимаясь на холм к Ла-Пьер-Ки-Круль, «вольво» трижды кашляет. Машина вообще кажется мне более напряженной, чем обычно. Встав на обочине, открываю капот, хотя понятия не имею, что надо делать.
Еду по дороге, вдоль которой растут вековые дубы. Простирающиеся позади них поля сверкают в предвечернем свете, можно разглядеть каждую травинку по отдельности. По глади пруда пробегает ветерок, принося пьянящий аромат цветов и хвои. Вслух восторгаюсь местными красотами и добавляю, что приехала сюда не зря. Когда что-нибудь говоришь, и неважно, вслух или про себя, ты всегда обращаешься к кому-то.
Дорога петляет через лес. Кроны деревьев мягко шелестят. В этих краях темнота спускается с небес. У нас дома она поднимается от земли.
Проезжая часть сужается, и мне открывается вид на огромные каменные глыбы далеко внизу. Такое ощущение, будто их разбросали негодующие великаны. Пепельный хаос вокруг «Красноклювых клушиц» производит похожее впечатление: на его фоне чувствуешь себя песчинкой.
Посреди этого хаоса, чудом удерживая хрупкое равновесие, высится знаменитый камень. Он и вправду выглядит так, будто вот-вот сорвется со своей гранитной подставки. Пчел не видно — думаю, они сейчас отдыхают. Вспоминаю рассказ пчеловода о том, что в давние времена женихи подводили к этому камню своих будущих невест и задавали ему вопрос об их невинности. Тем же способом мужчины постарше проверяли верность жен. Стоило камню хоть немного накрениться в присутствии девушки или женщины, она становилась изгоем. Но однажды Ла-Пьер-Ки-Круль опрокинули, и злополучный камень застыл навсегда.
Перенести образ камня на бумагу мне не удается, получается какая-то серая клякса. Карандашу в моей руке не передать ни массивность камня, ни силу, которая притягивает его к земле. Меняю сюжет и перспективу, рисую молодую крестьянку, которую камень пощадил пятьсот лет тому назад. Облегчение на лицах родителей в тот миг, когда камень не дрогнул.
Смотрю на силуэты, которые возникают между деревьями в лучах заходящего солнца, и притворяюсь, будто боюсь их. Окажись здесь Ал, он с воплями помчался бы исследовать новые земли. Я поплелась бы за ним. Мама крикнула бы:
«Осторожнее!» Папа сказал бы: «Не беспокойся».
Мне становится до дрожи одиноко.
Иду к неподвижному камню и прислоняюсь к нему. На мгновение мне чудится, что он начинает колебаться. Возможно, он и в самом деле живой. Возможно, он знает, что я занималась любовью с Мэлори.
Наступает ночь.
Очередное обещание, данное маме, нарушено: ночевать мне сегодня негде. До дома пчеловода километра два-три, но, если я останусь в Ушоне, моя поездка так и не продолжится.
Я качусь
Отец приобрел «вольво» в шестьдесят седьмом. В том же году родилась я, а шведский журнал «Текникенс вэрлд» присвоил «Вольво 145» звание «Машины года». Не знаю, есть ли связь между этими тремя событиями, но совпадение и вправду любопытное.
Размышляя о «Текникенс вэрлд», вспоминаю, как в пять лет пошла одна в гараж, который служит нам еще и ангаром для лодок. Я искала какие-нибудь журналы, чтобы повырезать из них картинки. На стеллаже лежали кипы журналов мореходной тематики, ни один из них меня не вдохновил. Я прошлась вокруг корпуса лодки, над лакировкой которой старательно трудился мой отец. Он был настолько поглощен своим занятием, что даже не поднял головы, а может, вообще не заметил, что я нарушила его уединение.
В памяти мелькают стоп-кадры: я провожу пальцем по пыльной стене гаража, разглядываю висящие на гвоздях плоскогубцы, корабельные, складные и канцелярские ножи. Помню, как понюхала пустую банку из-под краски, а затем стала ощупывать стопку парусов, уложенную на чемодан. Ткань оказалась жесткой, но я решила, что на красивые накидки для кукол она сгодится…
Увидев изрезанные паруса, папа вспылил и отшлепал меня — первый и единственный раз за всю мою жизнь. Это печальное событие отбило у меня интерес к швейному ремеслу. Возможно, моя судьба сложилась бы иначе, если бы отец похвалил накидки, которые я смастерила для кукол, и поинтересовался, как именно я их сшила. Возможно, я стала бы уэльской Вивьен Вествуд.
Но вернемся к «Вольво 145». Этот автомобиль является одним из предметов, связывающих меня с отцом, и дело не в том, что папа уступил его мне, скоропостижно скончавшись, а в одной беседе, которая состоялась у нас, когда мне исполнилось тринадцать. Дело было в субботу, а суббота в нашей семье издавна является днем полезных домашних дел. Моя обязанность — протирать пыль с этажерок и пылесосить песок, попавший в дом на подошвах Д. П. Ал аккуратно складывает туристические брошюры, Дэй моет собак и три наши машины. Итак, в ту субботу за завтраком Дэй высказал свое мнение о девушках — дескать, они вечно все забывают, спортсменок среди них днем с огнем не сыщешь, а еще они одержимы своей анатомией. Дедушка засмеялся, очевидно соглашаясь с ним. Тогда мама ледяным тоном предложила Дэю для разнообразия заняться «гребаными женскими делами» и почувствовать себя «в женской шкуре».
Дэй пошел пылесосить вместо меня, я же отправилась мыть машины. Вооружилась ведром воды и тряпкой и, насупившись, притащилась в гараж. Отец уже вовсю трудился — обновлял лаковое покрытие лодки (он делал это дважды в год). Я остановилась возле «вольво» и принялась вяло протирать его дверцы.
— Серен, не халтурь, пожалуйста, а работай как следует! — выговорил мне папа.
Я равнодушно пожала плечами. Он кивнул на число 145 на машине и осведомился, известно ли мне, что оно означает. Я опять пожала плечами.
— Перестань пожимать плечами, Серен! Четверка обозначает количество цилиндров, пятерка — дверей. Двигатель такой же, что и у сто сорок четвертой, но, поскольку это спортивный пикап, модели присвоили номер сто сорок пять. И кстати, ты обращала внимание, что машина формой похожа на кирпич?
— Э-э…
— Какие ассоциации у тебя вызывает кирпич? Вспомни сказку «Три поросенка».
— Дом?
— А еще это первая машина с ремнями для пассажиров на заднем сиденье. Скандинавские инженеры сделали ставку на безопасность. Вот посмотри…
Мы заглянули под машину, чтобы полюбоваться стальным днищем, затем подняли капот, чтобы восхититься двигателем.
— Это исключительный автомобиль, — подытожил папа, опуская капот. — По латыни volvo означает «я качусь».
— Ты разве говоришь на латыни?
— Nullus!
[20]
Когда отец смеялся, ямочка на его подбородке углублялась. За это мама в шутку называла его Кирком (Дугласом).
Что касается Дэя, мамины нравоучения никак не повлияли на его мужской шовинизм. Умерить гонор ему помогли… прыщи. За одну ночь у брата сломался голос и появились прыщи! Почувствовав себя уродцем, он был вынужден вспомнить о скромности и мягкости — отныне именно эти свойства характера помогали ему очаровывать девушек, анатомией которых он сам стал одержим.
Крезо
Уличные фонари освещают мой путь по бульвару, по обеим сторонам которого темнеют унылые здания. Следую за табличками с надписью «ЦЕНТР ГОРОДА». Три тонированные машины обгоняют меня, громко сигналя. Вот вам и доказательство, что во Франции тоже есть козлы.
Похоже, я, сама того не заметив, выехала на окраину. Меня занесло в промзону, где на указателях одни только буквы с цифрами: «С1 — С2 — СЗ/ В11 — F17». Еду в обратную сторону и наконец попадаю в ту часть города, которую можно назвать центром. Паркую «вольво» на пустынной стоянке и иду на свет фонарей торговой улицы. Ночь принадлежит мне.
На углу перед кафетерием курит и пьет пиво молодежь. Впереди в гору уходит широкая безлюдная улица. В окнах солидных высоких домов показывают театр теней. Следующая улица ведет в никуда. Поворачиваю в другую сторону, блуждаю вдоль темных витрин. Боясь, что меня примут за проститутку, напускаю на себя задумчивый вид. Впрочем, вокруг все равно никого нет, так что я зря стараюсь. В конце улицы располагается площадь, автобусная остановка и китайский ресторан без единого посетителя. В Уэльсе китайские рестораны никогда не пустуют по ночам. Ограничения на продажу спиртного вынуждают людей напиваться в стельку до одиннадцати часов. После этого они забегают купить порцию чоп суи
[21] навынос. Затем их рвет на тротуар.
Несколько минут спустя я чувствую себя ужасно одиноко.
Плюхнувшись на скамейку, чтобы поразмыслить над своими дальнейшими планами, замечаю неоновую вывеску кинотеатра. Настроение сразу поднимается, ведь я не видела ни одного фильма на французском! Лишь бы не эротику крутили.
Если верить картинке на афише, идет социальная комедия. А если дословно перевести название, это документальный фильм о дикой природе. Наверное, на сеансе меня ждет этакий французский эквивалент Монти Пайтона.
В очереди семеро человек, двое из них дети. Старательно запоминаю, что они говорят, наклоняясь к окошечку кассы: «Билетик на „И слоны бывают неверны", пожалуйста!» Кассирша похожа на высушенную игуану. Я слово в слово повторяю только что заученную фразу, дама кривит лицо и переспрашивает. Можно подумать, сейчас будут еще какие-то сеансы! Вместе с билетом я хочу приобрести пакетик засахаренного арахиса, но когда Игуана Сушеная называет цену, передумываю и прошу стаканчик мороженого.
И вот я уже сижу в центре зрительного зала, окруженная пустыми бархатными креслами. Просто чудесно. Нану с детства запрещает мне садиться в кино рядом с незнакомцами — она убеждена, что кинотеатры буквально кишат извращенцами. Кончик ложки вонзается в шоколадное мороженое. Свет гаснет, звучит музыка, на экране появляется изображение. С первых же секунд семеро зрителей над чем-то смеются.
Субтитров нет. Эх, и почему я об этом не подумала?
Минут десять я старательно вслушиваюсь в диалоги, а затем бросаю эту затею и просто таращусь на экран. Актеры симпатичные и выглядят как истинные французы. Их теплые голоса ласкают мой слух: «Он-он-р-р-ри-и-м-мю-у, шннаапава, тан тэ, тан тэ, р-р-рна…»
И вдруг что-то происходит. По моему бедру бегут мурашки, нога вздрагивает. Сперва мне кажется, что это неуемный террикон продолжает захватывать мое тело. На огромном экране герои фильма играют в теннис. Один из зрителей громогласно хохочет. Снова бегут мурашки, на сей раз в районе ягодиц. Я словно примерзаю к сиденью. В кресле за моей спиной кто-то есть, и этот кто-то поглаживает меня, просунув пальцы в щель между спинкой и сиденьем.
Оборачиваюсь, поднимаю ложку и с размаху ударяю ею о подлокотник. Незнакомец вскрикивает. И убегает. Вместе со своей спутницей.
То, что какой-то извращенец (а тем более в компании) посмел ко мне приставать, приводит меня в ступор. До конца фильма я сижу не шелохнувшись.
Яркий свет дарует мне освобождение. Зрители удовлетворенно потягиваются и встают. Игуана Сушеная выметает из-под кресел обертки и прочий мусор.
Снаружи прохладно.
Пора возвращаться домой.
Мои попытки потеряться становятся слишком опасными.
Кемпинг на канале
Уговариваю себя повременить со звонком в гостиницу до утра. Что толку поднимать переполох среди домочадцев, которые все равно ничем мне не помогут?
Спать в машине на обочине дороги рискованно — а вдруг тот извращенец меня выследит? Завожу мотор и уезжаю прочь из этого злосчастного Крезо. Спустя полчаса пути сворачиваю к каналу, возле которого виднеются очертания палаток и автодомов. Гравийная дорожка заканчивается, свет фар падает на телефонную будку, на которой висит табличка: «КЕМПИНГ НА КАНАЛЕ — МЫ РАДЫ НАТУРИСТАМ СО ВСЕГО СВЕТА!» Фу-ух, наконец-то окажусь среди мирно настроенных людей, любящих природу.
Зажигаю лампочку в багажнике, достаю палатку и торопливо ее собираю. В голове, будто мантра, звучит фраза: «Завтра я вернусь домой, завтра я вернусь домо-ой!» Открываю банку сардин и зачем-то их пересчитываю. Услышав за спиной чье-то покашливание, дергаюсь и едва не роняю содержимое консервной банки на траву.
Разворачиваюсь и обмираю. Передо мной стоит волосатый детина, он приветливо улыбается и по-английски спрашивает, не нужна ли мне помощь. Лунный свет отражается от его белого живота. Одежды на великане нет. Два извращенца за один день — это уже чересчур. Я вскрикиваю так громко, точно вот-вот впаду в истерику. Голый здоровяк отступает, подняв руки. В ту же секунду распахиваются двери соседнего автодома, на порог выбегают двое людей лет пятидесяти. Они тоже голые! О-ох… И как только меня угораздило перепутать слова «натурист» (он же «нудист») и «натуралист»?!
В уэльском поселке Кюнфиг есть нудистский пляж. По ошибке туда не забредешь, в округе висит множество объявлений с указанием, для кого он предназначен (никогда не понимала, в чем истинная цель этих объявлений — защитить нас от нудистов или нудистов от нас). Я там ни разу не была. Хотя местные считают мою мать эксцентричной особой, мы — самая обыкновенная семья.
Прошу прощения у владельцев автодома за то, что нарушила их покой. Поднимаю голову и, глядя великану в глаза, спрашиваю:
— Are you English?
[22]
— Немец. Хочешь курнуть? А то видок у тебя какой-то зачуханный.
Немец по имени Утц из Кёльна подводит меня к костру и знакомит со своими друзьями — Ниной, Адельгейд и Вернером. Им лет по тридцать. Нина убирает посуду и приглашает меня посидеть у костра. Вернер наливает мне стакан теплого белого вина. Адельгейд спрашивает, не хочу ли я поесть. У них есть цыпленок, персики и кукурузные хлопья. То, что я одета, а они голые, кажется, никого не смущает. Когда Утц встает на колени и свет костра падает на его пах, я отвожу взгляд.
Обе немки пританцовывают перед огнем. Однажды я тоже буду танцевать, как они. Звуки панк-рока перекрывают наши голоса. Допиваю третью порцию теплого вина. Ich vil nicht… romanze… Ich ich vil… na vas vohlha ha oh oh oh… deine hose ist ol, dein rotesss haar ist so kurz…
[23] Адельгейд вращает запястьями и неистово трясет плечами. Нина покачивает бедрами и просит Утца убрать остатки цыпленка и хлопьев. Ее большая грудь бросает вызов силе тяжести. Я хотела бы, чтобы плясуньи на мгновение остановились: мне никогда не доводилось рисовать обнаженные тела.
Причин дал Вернера мирно свисает между бедер, когда он мельчит кусочек коричневого гашиша и вмешивает его в голландский табак. Адельгейд проводит рукой по животу Вернера, прижимается ртом к скрученному косяку и с удовольствием затягивается. Когда косяк доходит до меня, я тоже делаю вдох и чувствую, как наркотический дым заполняет пространство вокруг террикона. Нина и Адельгейд уходят помочить ноги в воде, Утц прищуривается, как Джеймс Дин, и приглашает меня поехать вместе с ними на юг собирать виноград. Я отвечаю, что решила прервать свое путешествие, и он понимающе кивает. «Выкусите, фрицы», как любит повторять мой дед, осушая бокал. Что бы он сказал, если бы увидел меня здесь — единственную одетую женщину на берегу канала в компании двух волосатых голых немцев? Картина «Завтрак на траве», только наоборот. (Мане? Моне?)
Я смеюсь, Вернер смеется, Нина и Адельгейд смеются, я смеюсь, Вернер смеется, Нина и Адельгейд смеются… Кто-то делает музыку погромче. Голоса «Флитвуд Мак» восхитительны. And the songbirds keep singing…
[24] Я слышу, как мой голос повторяет слова песни, чувствую, что становлюсь Стиви Никс. Like never before, like never before…
[25] Вот интересно, кому бы я спела I love you, I love you, I love you
[26] с такой интонацией? Утц наблюдает за мной, положив подбородок на кулак. Я краснею, он улыбается, бормочет: «Cool»
[27]. Понятия не имею, о чем он. Утц лениво потягивает косяк и закрывает глаза.
Луч луны освещает мой путь к телефонной будке.
В руке у меня горсть желтых монет. Луч луны проникает в будку вслед за мной и падает на прорезь для монет, зрительно увеличивая ее. Набираю номер и слушаю гудки. Сейчас мама возьмет трубку, развеет все мои сомнения, даст ценные советы и скажет, чтобы я немедленно возвращалась в Пембрукшир. Или отправлялась на юг с немецкими хиппи. Или начала исследовать бургундские замки на букву «Б».
Мне все не отвечают и не отвечают. Длинный гудок прозвучал уже раз шестнадцать. Кто сейчас за стойкой? Двадцать, двадцать один, двадцать два… Сокрушенно вешаю трубку. Наркотический оптимизм выветривается.
Придя в кемпинг, отупело брожу среди палаток, не в силах отыскать свою или ту, в которой ночуют мои новые знакомые. Неожиданно меня осеняет: на звонок никто не ответил, потому что в гостинице произошла трагедия!
Почему-то на ум приходит цитата из Шекспира, правда несколько адаптированная к моей собственной жизни: «Не все спокойно в королевстве „Красноклювых клушиц"».
В воображении успел прокрутиться целый кинофильм. Итак, прошлой ночью на пороге гостиницы появился неизвестный. Моей измученной матери недостало проницательности, той легендарной проницательности, которая в первые секунды знакомства позволяет ей чуять потенциально опасных людей и с деланым сожалением сообщать им, что свободных номеров сейчас нет. Как назло, прошлой ночью мама «пустила козла в огород» и поселила его в моей комнате номер двадцать три, расположенной в мансарде и отделанной филенкой от пола до потолка. Пока все мирно спали, «козел» пил пиво бутылку за бутылкой и курил сигарету за сигаретой (курение запрещено во всех номерах за исключением семнадцатого и восемнадцатого, в которых имеются балконы). Пепел падал на одеяло, окурки летели на ковер. Когда «козел» в несвежей майке и грязных трусах заснул, красный огонек на конце сигареты, зажатой в его пальцах, указывал на филенчатый потолок.
Мои дед, бабушка, мама и двое братьев сгорели заживо. Смерть наступила быстро, никто из них не мучился.
Похоже, у меня начинается паническая атака. Надо окунуть голову в воду.
Освеженный прохладной водой канала мозг рождает новую гениальную идею — прежде чем заочно хоронить родных, возможно, стоит еще раз позвонить домой.
— Гостиница «Красноклювые клушицы».
— Алло, алло, Дэй? Как ты, как мама, как Нану, как там Ал, Ал, а как Помпон?
— Да нормально все. Серен, ты знаешь, сколько сейчас времени?
Поднимаю взгляд и смотрю на огромные звезды, озаренные лунными отблесками. Кажется, я схожу с ума.
— Ау, Хоббит, ты меня слышишь?
— Передай трубку маме.
— Не могу, она взяла отгул.
— Какой отгул?
— Мама говорит, что надо больше наслаждаться жизнью. Она решила ежемесячно…
Лихорадочно кидаю в приемник еще несколько монет.
— …На всякие там экскурсии, выставки, походы по магазинам.
— А гостиницей кто занимается?
— Дед, бабушка, Ал…
— Ал? Что ты мелешь?
Слышу, как Дэй смеется.
— Так ты где, Серензо?
Слово «Серензо» в устах брата дает мне понять, что он любит меня и очень скучает.
— В районе Авалона. Нет, Крезо. Завтра еду домой.
— Уже? Бы-ыстро малышка наигралась!
Пи-пи-пи-и-и-и… Связь прерывается, короткие гудки больно колют ухо. Между урнами у входа в кемпинг шныряет какой-то зверек. Я не двигаюсь и почти не дышу, так что он меня не замечает.
Меня вдруг настигает мысль: если бы гостиница и в самом деле сгорела, я стала бы единственной из семьи, кто уцелел! Благодаря мобилизующей силе ложки я не задохнулась бы в собственной постели, и — хотя я совершенно не желаю близким смерти — случись такой пожар взаправду, можно было бы считать, что ложка спасла мне жизнь.
Дэй прав, только бестолковая малявка сдалась бы так быстро из-за какого-то жалкого извращенца в кинотеатре.
[...] именно ложка будоражила изобретательные умы представителей палеолита. Долгое время ложки изготавливали из наиболее распространенных материалов соответствующей эпохи (кость, рог, дерево), но в XV в. ложка сделала выбор в пользу серебра и связала свою судьбу с вилкой. Они образовали дуэт под названием «пара столовых приборов». Чтобы быть вправе так именоваться, ложке и вилке следовало иметь идентичное оформление и носить подпись мастера, сделанную в один и тот же день.
В XVIII в. возможности сервировки стола расширяются благодаря коллекциям из двенадцати или двадцати четырех пар приборов. С появлением в XIX в. комплектов марки «Менажер», отвечающих кулинарным изыскам своего времени и ставших бесценными в глазах молодых невест, воображение мастеров разгорается с новой силой.
Особенно утонченными можно смело назвать работы французских мастеров. При Наполеоне III они создают необычайное множество подлинных шедевров. Приревновав к успеху французов, их европейские соперники тоже включаются в игру, каждый мастер стремится разработать собственную таксономию ложек на все случаи жизни. Отметим, что ни одна страна не увлекалась придумыванием новых разновидностей ложек так самозабвенно, как Великобритания в Викторианскую эпоху. Именно тогда появляется ложка для сыра Стилтон, ложка для холодца, ложка для грейпфрута и несравненная чайная ложка, которую британцы обожают по сей день.
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
Бедная Маргарита
Сверившись с атласом, схемой и заметками пчеловода, решаю начать с замка Маргариты Бургундской, расположенного в коммуне Куш. На повороте «вольво» злобно рычит, и я останавливаюсь на несколько минут, чтобы успокоить мотор. Мне и самой сейчас не очень: видимо, вчерашний гашиш боком выходит.
Подъезжаю к бывшей резиденции Маргариты. Башни цитадели воплощают сдержанность и спокойствие. Мое настроение поднимается. Предвкушаю знакомство с бытом милой одинокой аристократки, влюбленной в столовые приборы и гербы. Фантазирую, что она угостит меня чаем и булочками с шоколадом.
При виде стоянки перед замком мое настроение резко падает. Четыре автобуса, дюжина машин, два автодома и толпа скаутов в плащах, пластмассовых шлемах и с мечами в руках. Трое запыхавшихся вожатых пытаются построить мальчишек в колонну, но у них ничего не получается: стоит угомонить одних, другие отбегают и принимаются тыкать друг дружку мечами в живот. За окном мини-фургона я вижу двух стариков, которые с отсутствующим видом жуют пирожные. Эта сцена перебивает мне аппетит.
В арке ворот стоит застекленная будка. Билетерша сообщает, что вход платный. Я решаю, что не готова терпеть убытки только ради того, чтобы осмотреть башню и донжон, к тому же мой кошелек остался в машине. Объясняю даме цель визита, но она не слушает и переводит взгляд на группу из десяти пожилых людей за моей спиной, больше напоминающих зомби.
Приходит экскурсовод. Прямая юбка, мясистые икры, стрижка каре. При ее появлении скауты чудесным образом превращаются в агнцев, преданно следующих за пастухом. С таким лицом, словно сейчас поведет их ко рвам, дама кивает на плакат и говорит таинственным тоном:
— Юные рыцари, посмотрите внимательно на гербы Маргариты Бургундской! Когда экскурсия подойдет к концу, вы мне скажете, сколько раз они нам встретились…
Поднимаю голову и разглядываю три герба. Два — в желто-красную полоску, усеяны синими крестиками. На третьем изображена коронованная дама с детским лицом. Первые два герба поддерживают (или стискивают?) ее с обеих сторон. Ее мизинчик, цепляясь за пустоту, кричит о потребности своей хозяйки ухватиться за что угодно, пусть даже за воздух, потому что Вселенная стремится ее поглотить. Бедная Маргарита. Увы, ни латинских букв «В», ни каких-либо зверей на гербах нет. Здесь о происхождении ложки я ничего не узнаю.
Следующий замок на «Б» находится километрах в двадцати от Маргаритиного. «Вольво» спокойно едет по дороге между золотистыми виноградниками. На душе у меня легко и весело — вероятно, по той причине, что я не Маргарита Бургундская и что почти все мои близкие живы.
Замок Бурдон-Мотт пестрит объявлениями о продаже. Судя по тому, как выцвели буквы, эти листовки висят тут уже не первый год.
Отыскать замок Брале мне не удается, но, подъехав к парку, посреди которого стоит новый пансионат для престарелых, я прихожу к выводу, что замок, скорее всего, снесли.
Часом позже я вижу указатель с надписью «Бисси-сюр-Фле» и знак «Осторожно, дети». Подруливаю к замку по единственной проезжей дороге. Здание несколько накренилось, но выглядит прочным. На территории, которая, по-видимому, когда-то являлась огромным винодельческим хозяйством, стоят покосившиеся домики.
Припарковав «вольво» у стены, достаю из сумки ложку. На улице невыносимая жара, с первого же моего шага над гравийной дорожкой поднимается пыль. На высоких железных воротах две таблички: «ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ» и «ЗЛАЯ СОБАКА». В раздумьях топчусь перед воротами. Дверного звонка нигде не видно, но ставни на некоторых окнах открыты, а раз это резиденция, внутри наверняка находится какой-нибудь резидент.
Через пять минут к воротам, колотя хвостом, выбегает злая собака. Это золотистый ретривер, его шкура более светлая и однотонная, чем у уэльских ретриверов. Он просовывает нос-картошину через решетку ворот, я выставляю ладонь тыльной стороной и не смотрю новому знакомцу в глаза (так меня учил Дэй). Ретривер принимает грустный вид. Я глажу его, шепчу, что он славный, спрашиваю: «У вас дома сейчас еще кто-нибудь есть?», затем ухожу в тенек и жду.
Пес лает — хочет, чтобы я помогла ему выбраться из заточения. На ступеньках замка появляется дама лет сорока, на ней бежевый твинсет, и это в такую-то жару! Вид у нее менее приветливый, чем у ретривера.
— Что вам угодно?
— Добрый день, мадам…
На лице дамы недовольство — возможно, я отвлекла ее от важного дела. Протягиваю руку с ложкой через прутья решетки, улыбаюсь и мысленно декларирую: «Я человек, я пришла с миром».
— Мы ничего не покупаем, тем более у gitans
[28].
Понятия не имею, про каких gitans она говорит, но этот ее тон выражает раздражение — по крайней мере, в Пембрукшире он выразил бы именно его.
Я заверяю, что продавать мне нечего, и снова машу ложкой.
— Вы не встречали подобные?
Она мотает головой. Не встречала, значит. Эх, плюнуть бы на нее сверху вниз и крикнуть: «Ах ты гадюка в твинсете!» Молча разворачиваюсь и иду к машине.
Ретривер поскуливает — видимо, жалеет, что я ухожу.
Есть, рисовать и быть цыганкой
Сижу на тропинке, прислонившись спиной к дереву, и медленно жую кукурузные хлопья из пакетика, который откопала под пассажирским сиденьем «вольво». Грубость Гадюки в Твинсете меня ранила. Похоже, местные жители куда менее вежливы, чем уэльсцы. Пчеловод был исключением, которое лишь подтверждает правило. Разглядываю ложку, удрученная несправедливым обхождением, как сказала бы миссис Ллевеллин. Или разочарованная поворотом событий. Даже цветовое сочетание янтарных полей и кремовых облаков меня не умиротворяет.
На лугу пасутся девять коров, еле переставляющих ноги от жары. Они ходят так медленно, что я без труда могла бы их нарисовать. Мне нужно попасть в какой-нибудь город, потому что «вольво» требует горючего, да и мои собственные запасы провизии на исходе. Травлю себе душу, мечтая о клубничных шербетах Нану. Противно гудят мухи. Беру французско-английский словарь, ищу в нем слово gitans. Цыгане? То, что меня приняли за цыганку, мигом поднимает мне настроение. Вытаскиваю карандаш. Тени, свет, коровы, трава…
На проезжую часть выкатывается трактор. Я уже собираюсь переставить машину, но водитель трактора мотает головой, затем с довольной улыбкой машет мне рукой, глушит мотор, выходит из кабины и здоровается очень громким голосом. Должно быть, он глухой. У такого и дорогу-то не спросишь. Впрочем, это не мешает нам сидеть бок о бок и созерцать идиллический пейзаж вокруг. Тракторист достает из кармана сверток с ветчиной, угощает меня. Это замечательно. Я была бы рада ему сказать, что за три минуты он сумел очистить мою душу от злобы на Гадюку в Твинсете и восстановить мое положительное мнение о французах, но кричать что-то не хочется.
Сообщаю собеседнику, что мне нужен газойль (пользуюсь языком жестов, чтобы бедняга не напрягал слух).
— САЖАНГУ! — восклицает он. — НАПРАВО, ПОТОМ ВСЕ ВРЕМЯ ПРЯМО!
С этими словами он забирается обратно в кабину трактора и дает задний ход, чтобы освободить мне путь.
Держу курс на Сажангу. Там я раздобуду дизель и разживусь порцией мороженого.
Через несколько километров вижу знак с надписью «СЕН-ЖАНГУ». Вот, значит, куда мне надо!
Информационный щит у подножия холма сообщает, что это средневековый городок. Рядом со щитом висит знак «Осторожно, дети».
Еду вдоль каменных валов к историческому центру. Останавливаюсь около донжона, спрашиваю даму в цветастой блузке, есть ли поблизости заправка. Дама указывает в ту сторону, где дорога уходит вверх. Благодарю за подсказку и краем глаза замечаю булочную. Я не премину ее посетить, как только заполню бак горючим.
На выезде из городка, там, где уже начинаются виноградники, стоит будка и два насоса. На бетонном бортике одного из насосов сидит подросток с журналом в руках. Завидев меня, паренек нехотя встает и берет заправочный пистолет.
Пока он заливает газойль в бак «вольво», я завороженно глазею на ровные ряды виноградников. Цитируя мистера Хопкинса, можно сказать, что моему взору явился невидимый рисунок.
Заправщик вешает пистолет на крюк, говорит, что я должна заплатить за топливо «вон в том сарае», и направляется к будке. Протягиваю руку, чтобы вытащить из бардачка кошелек… но его там нет.
Паренек снова вздыхает, выходит из будки, велит мне припарковаться в конце заправки и заполняет бак другого автомобиля.
Напрасно я вытряхиваю на сиденья «вольво» содержимое рюкзака, спального мешка и сумки с палаткой, напрасно перекладываю с места на место блокноты, «Воспоминания коллекционера», полотенца и коробку салфеток, напрасно обшариваю каждый уголок чемодана — кошелька нет и в помине, черт побери!
В голове полнейшая чехарда. Я потеряла кошелек, когда ставила палатку в нудистском кемпинге? Уронила в канал, обкурившись шведского гашиша? Или кошелек стянул извращенец из кино, который был вовсе не извращенцем, а вором? Чувствую себя униженной — я-то возомнила, что он хотел полапать меня, а его, выходит, интересовал мой кошелек… Денег у меня больше нет, документов нет, в груди все сжимается, я вот-вот завою от отчаяния.
Внезапно меня осеняет: Нану уговорила меня спрятать пятидесятифунтовую банкноту в носок и наказала всегда держать паспорт под сиденьем!
Ощупываю пространство под пассажирским сиденьем и натыкаюсь на мягкую картонную обложку паспорта. Роюсь в куче одежды, вываленной из чемодана, и нахожу носки, в один из которых засунула банкноту. Нану, я тебя люблю!
Принимать фунты заправщик, конечно же, отказывается, но отпускает меня в банк у подножия холма, взяв обещание вернуться.
Работница крохотного банковского отделения с одной-единственной кассой любезно обменивает мои фунты на франки, и я снова отправляюсь в сторону автосервиса. Когда отдам деньги за горючее, у меня останется всего двенадцать франков, но любой путешественник, даже если он потерялся, обязан расплачиваться по своим долгам.
Парень на заправке уже и забыл обо мне.
Плачу за бензин (глупо, да?), и я свободна. Сейчас вернусь в центр городка, куплю мороженое и подумаю, что делать дальше.
До булочной остается ехать метров пятьдесят, как вдруг «вольво» начинает икать, трястись, из-под капота идет густой черный дым…
И моя машина останавливается.
Скользкий пол
Моя пол в вестибюле, коридорах или туалетах нашей гостиницы, в соответствующих местах мы непременно размещаем таблички, на которых изображен падающий человечек. Рисунок очерчен черным треугольником. Две волнистые линии под ногами человечка обозначают воду. «ОСТОРОЖНО!» — написано на табличках красными буквами. «СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ!» — написано черными.
Ставить таблички нас обязует страховая компания. Если они стоят, где надо, и кто-то вдруг поскользнулся и получил травму или умер, нашей вины в том не будет, поскольку человек был предупрежден. Страховка покроет все убытки.
Эта схема всегда казалась мне подозрительной.
Если человек умирает у меня на глазах, проблема не в том, был он предупрежден или нет. Проблема в том, что он умирает.
Когда «вольво» ломается, я чувствую себя человечком с одной из тех табличек — без рук, без ног, без лица, падающим спиной назад. Прямо в бездну.
Не раздумывая, выставляю руку в окно и машу, чтобы едущий за мной автомобилист шел на обгон.
Он аккуратно объезжает «вольво», не сигналя, и паркуется метрах в десяти. Выходит из машины, смоля сигарету. Здоровенный такой детина. Знаком советует выжать сцепление, просовывает руки и голову в окошко «вольво», крутит руль, выводит автомобиль на обочину и… покидает меня.
Головокружительное падение человечка на скользком полу все не кончается. Чувствую себя камнем, который раскачивается. Одна, за границей, языка почти не знаю, на местности не ориентируюсь, денег в обрез, машина дымится… Жизнь не подготовила меня к таким сложностям. Похоже, начинается приступ паники. Вылезаю из машины, сажусь на обочину, скрючившись, и слушаю лихорадочное биение сердца. Террикон цементирует ребра. Семенящая по тротуару дама бросает на меня опасливый взгляд. До этой минуты собственные попытки потеряться меня забавляли и развлекали… Мимо проходит еще одна дама. Эта и вовсе отводит взор. Мне одиноко и страшно.
Страх расползается по всему телу.
Во время панической атаки надо либо погрузить голову в воду, либо подышать в бумажный пакет. Ни воды, ни пакета у меня под рукой нет, так что я прижимаю к носу футболку и принимаюсь энергично вдыхать и выдыхать. От футболки разит потом, но спустя несколько секунд мне уже становится легче. Тут-то меня настигает первое откровение сегодняшнего дня: чтобы получить помощь, о ней необходимо попросить.
Братство
На первый взгляд кажется, что в булочной пусто.
Протягиваю пятифранковую банкноту хозяйке, срывающимся голосом спрашиваю, есть ли в кафе телефон. Она отвечает, что телефон есть, но он сломался, и предлагает позвонить с почты, которая, правда, сейчас закрыта… Взглянув на мое перекошенное лицо, дама предлагает стакан воды. Осушив его залпом, я вдруг замечаю, что во втором зале кафе сидит компания азиатов.
На полу лежит мальчик, вокруг него скачет некрасивая маленькая собака. Когда она набрасывается на мальчугана, я замираю от ужаса — мне кажется, сейчас собака его загрызет.
Перед азиатами стоит представительная дама лет сорока. Она что-то оживленно говорит и так же оживленно жестикулирует. Все смеются, и мне вдруг очень хочется узнать, что их так развеселило, ведь сама я в данный момент не вижу ни малейшего повода для смеха.
— Это «Эколь Колетт», — поясняет хозяйка булочной. — Школа для беженцев. Иди поговори с той дамой, мадам Баске. Она милая.
Хм… Я что, приобрела статус беженки?
Ученики старательно произносят названия цифр по-французски… Три… четыре… пять… шесть… семь… восемь… девять…
— Десять! — восклицаю я, не в силах промолчать. Видя улыбки на их лицах, добавляю: — Добрый день, меня зовут Серен. Я потерялась.
Ill
БАЛЬРЕ
Владеть замком нельзя
Услышав мое признание, новые знакомые дружно начинают обо мне заботиться. Вьетнамцы (а это именно они) пододвигают мне стул и предлагают пепси. Низким, почти баритональным голосом Колетт (преподавательница) велит мне рассказать обо всем, точно им больше нечем заняться, кроме как слушать историю моих злоключений.
Когда я заканчиваю свое повествование, Колетт уверенно обещает, что автослесарь, к которому она сама регулярно обращается за помощью, отремонтирует мою машину. Затем добавляет, что живет в замке на букву «Б», и предлагает мне там погостить, пока я не «обернусь с делами».
— Э-э… С какими делами я должна обернуться?
— Пока не дождешься, что машину починят, или пока родители тебя не репатриируют!
Ее улыбка мне чем-то знакома.
Вскоре я сажусь в «ситроен» Колетт, хотя не знаю о ней ровным счетом ничего (ни Евы, ни Адама, как гласит одно из любимых выражений миссис Ллевеллин). Вьетнамцы невозмутимо смотрят нам вслед, страшненький песик, который, как выяснилось, является питомцем Колетт, мечется по машине и заливается отчаянным лаем.
— С Юпитером нет никакого сладу, но мы его любим. Ты голодна? Пьер приготовит нам поесть.
Запутавшись в именах, недоуменно кошусь на нее.
— Юпитер — это наш пес. Пьер — это мой муж. Его мы тоже любим!
Колетт поворачивает налево и выезжает на дорогу, по обеим сторонам которой растет орешник.
— Вы владельцы замка? — любопытствую я, гордясь своим словарным запасом.
— Владельцы — это громко сказано, — смеется она. — Замок Бальре, построенный в четырнадцатом веке, перешел во владение моей семьи, Баске, в тысяча восемьсот семьдесят втором году. Я говорю «перешел во владение», но на самом деле владеть замком нельзя. Скажем так, мы — его временные хранители.
Юпитер залезает мне на колени и высовывает мордочку в приоткрытое окно. Я крепко держу песика, боясь, как бы он не попытался выскочить наружу.
— Виноградников на территории поместья было мало, но мой прапрадед, потомок дальнего родственника короля Франциска Первого, не растерялся и сумел заработать состояние… Знаешь на чем? На сливовой наливке! Это был золотой век в истории семьи. Увы, впоследствии имение лишь плавно приходило в упадок.
Голубые глаза Колетт сверкают. Откинув со лба прядь коротких волос, она продолжает рассказ. Темп ее речи очень быстрый, но я почти все понимаю.
Ее прадед умер во время Первой мировой от подагры, а дед в результате Второй мировой «сломался». Я хотела бы уточнить смысл этого выражения, но не осмеливаюсь перебивать собеседницу. Ее бабушка, сильная духом женщина, расстается с частью поместья и в шестидесятые годы выходит замуж за какого-то жюрасьена
[29]. (Хм, еще одно незнакомое словцо.) Замок превратился в дом отдыха для «целой кучи кузенов, которые старели, беднели, делали не пойми что». На долю секунды Колетт тормозит перед знаком «СТОП», затем разгоняется и мчит в сторону холма.
— Три года тому назад, когда мама захотела перебраться в замок и провести тут остаток дней, мы с Пьером решили покинуть Шалон и покончить с delabrement в Бальре.
— Delabrement? Что означает это слово?
— Деградация, обветшание. Противоположность положительной эволюции.
Пытаюсь представить себе цвет этого словосочетания. Можно ли сказать, что судьба моей матери противоположна положительной эволюции? Слабоумный сын, не определившаяся со своим будущим дочь, двое ненадежных бывших супругов, мертвый третий муж. И в то время как дела становятся все хуже, мама решает устраивать себе ежемесячные уик-энды, словно бы гостиница, дело всей ее жизни, ее страсть, ее дом, стала тюрьмой. От печальных дум и поворотов петляющей в гору дороги меня начинает подташнивать, но, к счастью, машина наконец взбирается на вершину холма, и Колетт выключает двигатель.
— Добро пожаловать в Бальре, Серен!
Выйдя из автомобиля, она указывает на внушительное строение у подножия холма, окруженное старыми домами. Мне тут же хочется нарисовать его.
— Мы все живем на втором этаже. Видишь башню с круглым окном? Тебя мы поселим там.
— Спасибо.
— За зеленой дверью на первом этаже — «Эколь Колетт». Правда, сейчас каникулы, школа закрыта. Я преподаю латынь и французский. Мой муж занимается исследованиями. Его кабинет на последнем этаже, окна выходят на поля. А вон тот амбар тебе видно? В нем мы устраиваем маленький музей, чтобы замок не покрылся коростой. Ты понимаешь, что такое короста? Не путай с хлебной коркой. Или со старой каргой. Короче говоря, ты можешь помочь Пьеру все рассортировать. Так, что же я забыла… А, вот: видишь домик во дворе?
Поднимаюсь на цыпочки и отыскиваю взглядом маленький дом с красной крышей.
— Вот уже несколько месяцев мы сдаем его одному журналисту. Ты с ним еще встретишься. Мне кажется, зря он тут поселился: в городе ему было
бы лучше.
Мы снова садимся в машину и едем через каштановый лес. Кроны деревьев заслоняют имение Бальре.
— Предупреждаю, наш замок довольно безыскусный. В скольких ты уже успела побывать?
— Ваш — пятый.
— Надеюсь, здесь тебе будет хорошо!
Hiraeth — уэльское чувство
Решающий миг настал, а я почему-то стесняюсь достать ложку и положить ее на стол.
За окном вечереет, но хозяева пока не зажигают свет. Все вплоть до корзинки с хлебом имеет торжественный вид. Предки Колетт, застывшие в рамах своих портретов на стенах столовой, кажется, совершенно равнодушны к судьбе старой ложки.
Если раньше она принадлежала Бальре, я хочу сегодня же от нее избавиться. Если она из другого места, хочу продолжить путешествие, пускай даже без «вольво». Душу охватывает hiraeth, этот хмурый прибой, бьющийся о берега моей родины.
Колетт хлопочет в кухне, а месье Куртуа (ее муж, Пьер № 2, по моей классификации) водит пальцем по прожилкам на деревянной столешнице. Он постарше жены, невысокий, сухощавый, не особенно разговорчивый, но, по-моему, чрезвычайно добродушный человек.
Ходики на стене отстукивают «тик-так», но как-то своеобразно. «Тик» раздается громко и победоносно, «так» — приглушенно и с усилием, будто I бы часовой механизм гребет против течения. Юпитер, ворча, запрыгивает на колени ко мне, затем к пожилой даме. Та не реагирует. Удивительно, но она вся какая-то серая. Единственное пятнышко цвета в ее облике — это помада на ввалившихся губах. Ногти на тонких пальцах царапают потертую бархатную обивку кресла, точно птичьи коготки.
Месье Куртуа наконец зажигает свет и ставит на стол четыре рюмки. Входит Колетт, в ее руках бутылка без этикетки.
— Наливка, — весело возвещает Колетт.
Ямочка на ее подбородке углубляется.
Бесцветная жидкость перетекает в рюмки. Пожилая дама отворачивается и смачивает наливкой губы. Пьер и Колетт чокаются со мной. Напиток крепкий, я делаю судорожный вдох и ощущаю мощный удар по террикону в груди. Хозяева замка улыбаются мне. Принимаю это за знак, что настало время продемонстрировать им предмет, который я так боюсь положить на стол.
Хочу понять
Едва мои собеседники видят ложку, их безмятежность куда-то улетучивается.
— Это же она! — восклицает Колетт.
— Ох ты, и правда, — подтверждает Пьер.
— Ох ты, — вторит пожилая дама.
Их энтузиазм греет мое сердце. Остатки hiraeth, не утонувшие в рюмке наливки, развеиваются в воздухе.
Пьер склоняется над ложкой, Колетт вручает ему лупу и отлучается в гостиную. Вскоре она возвращается, неся коробку, обтянутую зеленой кожей, и возбужденно рассказывает:
— В фамильном комплекте столовых приборов было тринадцать ложек, но, как видишь, Серен, осталось двенадцать…
— Одну украли, — добавляет Пьер.
— Да, украли!
Я провожу пальцами по двенадцати ложкам, лежащим в коробке на атласной подкладке. Двенадцать точно таких же ложек, что и моя, только поменьше размером и не такие поцарапанные, ведь они не соприкасались с множеством других столовых приборов в нашей гостинице.
Воры проникли в замок Бальре в 1967 году (я родилась в том же году, но, полагаю, это всего лишь случайное совпадение). Они умыкнули несколько серебряных и хрустальных сервизов, три картины, два бронзовых бюста и телевизор.
— А твои родители в это время мирно спали в своей постели, — вздыхает Пьер, глядя на супругу.
— А мои родители в это время мирно спали в своей постели, — грустным эхом отзывается та.
Перевожу взгляд на пожилую даму, ожидая, что она тоже что-нибудь скажет. Но дама чешет пса за ухом и смотрит в пустоту.
По словам Пьера и Колетт, когда владельцы замка составляли перечень украденных вещей, в подвале они наткнулись на эту коробку с серебряными ложками. Внутри параллельно друг другу лежали двенадцать маленьких ложек, а перпендикулярная прорезь для тринадцатой, более вместительной, пустовала. Хозяева решили, что воры не успели забрать с собой эту коробку, потому что им помешал собачий лай, бой часов или плач ребенка, — другими словами, они испугались и поспешили скрыться, прихватив всего одну ложку из этого комплекта.
Колетт уходит к себе в комнату и приносит скатерть и простыню.
— Свой герб мои предки вышивали везде, где только можно! Монограмма означает «Баске и Бальре». Паломник изображается в знак уважения к традициям гостеприимства департамента Соны и Луары. А огненные саламандры указывают на родство семьи с Франциском Первым. Идиоты, они все мечтали о
бессмертии!
— Считалось, что саламандре под силу возрождаться в огне, — поясняет Пьер и смущенно декламирует: — Ее глаза освещают ночь, точно два солнца…
— Который час? Не пора ли нам ужинать? — перебивает его жена.
Уминая пирог с начинкой из баклажанов и фиников, мы строим фантастические гипотезы по поводу ложки. Может быть, один из грабителей влюбился в англичанку и подарил ложку ей, англичанка осталась без денег, продала ложку старьевщику, тот перепродал ее кому-то из наших Д. П., эти Д. П. забыли ее в номере. А может, воры целенаправленно сбывали краденое в Англию, ложка оказалась в Лондоне, побывала у антикваров, старьевщиков, коллекционеров, посетителей воскресных распродаж и наконец очутилась в гостинице «Красноклювые клушицы» вместе с очередной партией посуды, купленной со скидкой.
— Увы, правду мы вряд ли узнаем, — печально констатирует Пьер.
Террикон пульсирует возле моего солнечного сплетения.
— Да, правду о том, какие приключения выпали на долю этой ложки, мы вряд ли узнаем, — кивает Колетт. — Однако для чего ее использовали, нам и так ясно. Кстати, Серен, ты в курсе, что это ложка для сливок?! Завтра поедим творогу со сливками, чтобы отпраздновать.
— Что отпраздновать?
Мы вздрагиваем и смущаемся — за разговорами мы совсем забыли о пожилой даме.
— Ее возвращение, мама, — отвечает Колетт.
Ее возвращение. Ложка лежит в центре стола, такая элегантная на лакированной орешине. Пришло время ей занять место рядом со своими двенадцатью сестрами.
Пьер складывает салфетку, Колетт уносит сырную тарелку в кухню. Они дают мне побыть одной, осмыслить услышанное. Если бы действие происходило в кинофильме, героиня поднесла бы ложку к губам и поцеловала ее на прощание.
Это не фильм.
Бережно кладу ложку на атласную зеленую подкладку, словно возвращая в гнездо птенца, выпавшего из него восемнадцать лет назад. Я уже тяну пальцы к крышке, собираясь закрыть коробку, и тут пожилая дама принимается кричать: — Нет! Нет! Нет!
Умиротворения как не бывало. Юпитер лает, Колетт подбегает к взволнованной матери и берет ее за руку, Пьер ловит пса, который мечется от кресла к креслу, Колетт шепчет «ш-ш-ш», Пьер говорит Юпитеру: «Замолчи! Да боже мой!», а мать Колетт встает из-за стола, вскидывает руку и, направив указательный палец в потолок, точно какая-нибудь суфражистка, восклицает:
— Колетт! Этой ложке здесь делать нечего!
Все (и даже пес) разом умолкают. Пьер и Колетт с тревогой переглядываются. В тишине отчетливо слышны сильные «тик» и слабые «так», издаваемые часовым механизмом. Мать Колетт не садится, ее губы упрямо сжаты. Тик… так… Не отводя взора от матери, Колетт вполголоса обращается ко мне:
— Серен, спрячь ложку, please
[30].
Улыбаюсь краешками губ и выполняю просьбу.
— Мадлен, все хорошо, — шепчет Пьер.
Даму зовут Мадлен?
Как меня?
Она бросает в мою сторону изучающий взгляд. Юпитер тоже не сводит с меня сердитых глаз. Мне становится не по себе. Торопливо убираю ложку в карман.
— Хорошо, — говорит Мадлен, — я пошла спать.
Потоки воздуха
Разглядывая стены своей комнаты, кое-где обнаруживаю остатки позолоты. Кремово-белые стены башни скруглены, недалеко от окна (тоже круглого) стоит кровать, застеленная тяжелым одеялом. Откидываю его, ложусь в постель и укрываюсь. Вышитые на пододеяльнике буквы и паломник совсем близко от моей щеки. Саламандр на постельном белье нет — полагаю, хозяева сочли, что изображения этих созданий не будут способствовать крепкому сну.
Через окно в комнату сочится ночной свет. Подложив под голову подушку, больше похожую на шейный валик, перевожу взгляд на окно и замечаю ветви раскидистой ивы. Листья шелестят, точно вода, перешептывающаяся с камешками на берегу реки.
Итак, я обнаружила точку, из которой ложка начала свое странствие.
Мистер Хопкинс не объяснил, что должно произойти после того, как искатель приключений достигнет «некоей цели» или узрит «невидимый рисунок» наяву. В голове полнейший сумбур. Крик старой дамы меня напугал, я впервые ночую в старинном замке, «вольво» сломан, в комнате духота, террикон затвердевает и каменеет. Такое чувство, будто течение жизни резко ускорилось. Как же хочется спать…
Мысленным взором окидываю помещения замка и рисую в воображении его план. Моя комната примыкает к небольшой библиотеке, от пола до потолка забитой книгами, за библиотекой располагается столовая. На противоположных концах столовой — арки, одна ведет в гостиную, через которую можно выйти наружу, другая в кухню, за которой находятся санузел (его стены оклеены поблекшими небесно-голубыми обоями) и спальня супругов Баске-Куртуа (на стенах — обои королевского синего оттенка). В отличие от гостиницы «Красноклювые клушицы», тут нет ни одного коридора, комнаты проходные. Этим вечером ложка выглядит какой-то потускневшей. Знание того, что она родом из этого замка, не проливает света на ее жизнь. На мою, впрочем, тоже. Наверное, я никогда не выясню, какой путь проделала ложка, чтобы из бургундского замка оказаться у изголовья моего отца, умершего в Пембрукшире.
Продолжаю составлять план замка. Меблировка гостиной — просторного прямоугольного помещения, в котором поместилось бы штук двадцать диванов и три вместительных шкафа, — включает диван (шафраново-желтого оттенка), рояль (сверкающий черный), аквариум (в нем плавает бойцовая рыбка), четыре низких широких кресла (коричневые, потертые) и внушительный радиоприемник на ножках. На стенах десяток картин, в основном мрачные пейзажи. Севернее гостиной располагается комната пожилой дамы. Ее всплеск безумной ярости меня тревожит. Из-за чего она так разнервничалась?
Продолжаю составлять план замка. Входная дверь высокая, тяжелая. Рядом с ней начинается каменная лестница, ведущая на второй этаж. На полу куча обуви, на вешалке куртки и кардиганы. Летняя кухня, холодный сухой подвал, учебный класс, увешанный табличками с латинскими изречениями. Как сказать на латыни «в сущности, мы никогда не узнаем»? Над потолком моей комнаты еще два этажа башни, состояние тамошних помещений плачевное, если не считать отремонтированного кабинета месье Куртуа. Насколько я поняла, он работает там каждый день.
Откидываю одеяло, но неприятные ощущения в груди никуда не деваются. Если бы действие происходило в кинофильме, героиня стала бы задыхаться. Однако это не фильм. Чувствую, как террикон разбухает. Или оседает.
Трудно описать неуловимое словами.
Из-за двери доносится ласковый шепот. Узнаю голос Колетт.
— Идем, мама, надо поспать…
По полу столовой ступают две пары ног. Шаги Колетт ровные и уверенные. Шаги Мадлен слабые, точно у больного ребенка.
Часом (а может, минутой) позже я просыпаюсь оттого, что придавленные тяжелым одеялом ноги затекли, а взмокшие волосы прилипли к набитому перьями валику. Хочется пить. Вечером месье Кур-туа сказал, что я могу чувствовать себя в замке как дома, но дома у меня есть умывальник прямо в спальне. Радует, что здесь до кухни всего шагов двадцать и не нужно спускаться на три этажа, как в нашей гостинице.
Где тут выключатель? Наугад бреду по комнатам. Заслышав голос Колетт, которая спрашивает, все ли со мной в порядке, вздрагиваю и отскакиваю назад. Колетт смеется и зажигает лампу.
— Прости, Серен, я не хотела тебя напугать. Графин с водой в холодильнике.
Спустя полминуты я со стаканом в руках сажусь за кухонный стол рядом с Колетт и жадно пью воду.
— Мне хватает нескольких часов сна, — рассказывает собеседница. — Обычно я читаю, но сегодня слишком душно. Не стесняйся создать поток воздуха в своей комнате.
— Поток воздуха?
Она машет рукой, указывая то на дверь, то на окно. Похоже на упражнение из гимнастики тайцзи. Догадываюсь, что Колетт имеет в виду сквозняк.
— Надеюсь, тебя разбудили не ночные блуждания Мадлен. Она опять пыталась выйти во двор.
— Глубокой ночью?
— Глубокой ночью. Так что, видишь, от моей бессонницы есть какой-то прок.
Мимо окна пролетает сова. Мы слушаем, как затихает биение ее крыльев.
— Завтра можешь позвонить родителям, если захочешь.
— Маме.
— Прошу прощения?
У меня осталась одна мама. Отец умер.
— Ох… Соболезную тебе, Серен.
Киваю и мелкими глотками смакую ледяную воду. Удивительно, какая приятная прохлада царит в этой кухне. Должно быть, дело в толщине стен.
Из поселка доносится пение петуха. Колетт объясняет, что он поет, когда ему вздумается, и положиться на него нельзя.
— Мой отец тоже почил. Знаешь такое слово? Папе было семьдесят. Он скончался скоропостижно, и это очень хорошо.
— Да, — отзываюсь я, а сама думаю: «Нет».
— Мадлен еще не была больна, хотя болезнь наверняка уже тогда гнездилась в ее мозгу…
Как и болезнь, которая наверняка уже тогда гнездилась в мозгу моего отца.
Прерывая молчание, сообщаю, что мое второе имя — тоже Мадлен.
— Серен Мадлен Льюис-Джонс, — повторяет за мной Колетт. — Очень красиво.
Она добавляет, что однажды они с Пьером посетят Уэльс, потому что на природе исследования ее мужа всегда идут продуктивнее. Я уже и забыла, уточняла ли она, что именно изучает месье Куртуа, а переспрашивать как-то невежливо.
Подхожу к раковине и собираюсь сполоснуть стакан, но Колетт возражает и говорит, что мытье посуды подождет до утра. Она желает мне спокойной ночи и добавляет, что, если погода будет хорошей, мы пойдем собирать mures
[31].
— Что такое mures?
— У этого слова два значения — состояние и ягода. Ягоды тебе понравятся, поверь.
Вернувшись к себе, распахиваю дверь и окно. В комнату влетает поток воздуха с ароматом книг и лугов. Я прислушиваюсь, проверяя, не вышла ли пожилая дама снова на прогулку, но быстро задремываю и просыпаюсь вскоре после рассвета, разбуженная кукареканьем.
На этот раз петух не перепутал время.
Причуды Пьера
Мы собираем mures (это ежевика, что же еще), пока солнце не нагрело ягоды и не испортило их вкус. Добрый месье Куртуа предлагает есть, сколько моей душе угодно.
Едва мы возвращаемся в замок, он тотчас принимается колдовать над тестом для будущего пирога. Колетт ведет меня в столовую, я завтракаю чаем с бутербродами. Колетт интересуется, насколько заваренный ею чай похож на тот, что пьют в Великобритании (кажется, она намеренно не произносит слово «Англия»). Кривлю душой и расхваливаю ее чай, который на самом деле совершенно пресен.
В кухне Пьер раскатывает тесто и разговаривает с ягодами ежевики. Он рассказывает им, что они прекрасны, вдоволь напитались дождем и солнцем и имеют восхитительный вкус.
— Он всегда так делает, — хихикает Колетт. — Даже когда разделывает баранью ногу, непременно ведет с ней задушевные беседы.
В столовую медленно входит Мадлен. Усаживается за стол, берет ломоть хлеба, намазывает на него масло и варенье. Она разговаривает сама с собой, правда еле слышно.
Пытаюсь завязать разговор при помощи одной из фраз, которым меня научила миссис Ллевеллин:
— У этого варенья райский вкус, не так ли, мадам? Она не обращает на меня внимания. Колетт подмигивает мне.
— Мама, Серен обращается к тебе.
— Кто такая Серен?
Не дожидаясь ответа, дама с бутербродом в руке удаляется в гостиную. Гордый Пьер выбегает из кухни, демонстрирует нам с Колетт готовый к выпечке ежевичный пирог и просит жену поставить его в духовку, после чего зовет меня познакомиться с петухом, чье кукареканье я слышала несколько раз за ночь. Неожиданно из гостиной доносится английская речь.
— Это же «Властелин колец»! — изумляюсь я.
— Мадлен часто слушает Би-би-си, — кивает Пьер. — По-английски она не говорит, но звуки этого языка ее успокаивают.
Держа спину ровно, пожилая дама сидит в кресле и, кажется, внимательно слушает инсценировку. Пока Гэндальф объясняет Пиппину, в чем заключается сила палантиров, я бесшумно зашнуровываю кеды.
Сегодня, кажется, вторник. По вторникам Помпон и Ал плюхаются на раскуроченный диван в игровой комнате и включают радио на полную громкость. Ал наблюдает за Помпоном и смеется, когда тот смеется, или закрывает глаза, когда тот закрывает глаза.
— Серен! — вдруг произносит Мадлен, перекрикивая голос волшебника.
Я вздрагиваю от неожиданности.
— Да, мадам?
— Не доверяй петуху, он fourbe
[32].
— Fourbe? — повторяю я. — Простите, что означает это слово?
Мадлен кривит лицо и машет руками. Я растерянно таращусь на нее. Пьер заявляет, что скоро я сама все пойму.
— Сможешь быстро отскочить, если понадобится?
— Угу.
— Отлично.
Наказы по проводам
— Гостиница «Красноклювые клушицы», добрый день…
— Привет, Нану, можешь записать этот номер и перезвонить мне?
— Погоди, дорогая, я уже третий день не могу найти очки…
— Тогда позови скорее маму, пожалуйста.
— Говори номер, Серен!
Голос Помпона звучит, словно приказ военного командира. Диктую ему номер, кладу трубку и жду, присев на подлокотник кресла. Наконец телефон звонит.
— Серен?
— Привет, Помпон, как там у вас дела?
— Я уже тридцать два часа не брал в рот ни капли спиртного, но стараюсь не унывать. Откуда ты звонишь?
— Вообще-то это вы мне звоните! Я в одном бургундском замке…
Рассказываю деду, что работаю за еду и кров, — Ты уверена, что поступаешь правильно? Не позволяй себя эксплуатировать!
— Ну что ты, все просто супер. Дай, пожалуйста, трубку маме, пока мы не наговорили на целое состояние.
Жизнь в гостинице идет своим чередом. Кричит детвора, шаркает старичок, галдят чайки… Наконец трубка телефона прижимается к уху моей матери.
— Добрый день, звездочка моя.
— «Вольво» сломался, а я потеряла кошелек.
— Вот дерьмо.
— Не беспокойся, автослесарь на станции техобслуживания обещал, что все починит.
— Это старая машина, Серен…
— Но отремонтировать ее можно. Он так сказал.
— Не факт, что это правда. — Что на нее нашло? — Перевести тебе денег, дорогая?
В холле слышен мальчишеский голос. Мама говорит парнишке, что на улице дождливо, но он может выйти на улицу поиграть, если хочет.
— Мама, как ты там?
— Примерно так же, как и «вольво», но, думаю, я сумею себя отремонтировать.
— Я тебя люблю, мама.
Мама улыбается.
— И я тебя люблю, Серен, звездочка моя.
Семейная фотография
Спустя несколько недель после смерти отца мама перекрасила холл на первом этаже в голубой цвет. Такого в моем альбоме с оттенками не было. Я назвала бы его «предгрозовой голубой».
— Мне необходим голубой, — сказала мама, хотя ее цвет — желтый.
Мама желтая, Дэй каштановый, Ал темно-зеленый, кое-кто из Д. П. красный и так далее. Эту игру придумал папа. Я приходила в восторг, когда мы выясняли, что видим одних и тех же людей одинаково.
Выкрасив холл, два комода, этажерки, стул, чемодан и шесть дверей в предгрозовой голубой, мама выбрала десяток снимков нашей семьи в полном составе, то есть сделанных до того, как смерть отняла у нас моего отца. Сперва мама тщательно обдумывала, какие фотографии и куда поместит, а затем вбила в стены десять гвоздей где попало и развесила на них полароидные карточки. Мама наделена врожденным чувством свободы.
В тот день я как раз получила водительские права.
— Умница, Серен, звездочка моя! С первой попытки! — похвалила она, когда я вернулась из автошколы. — Смотри, как этот голубой фон их оживляет.
Она имела в виду фото на стенах — мама способна выразить тысячу мыслей одновременно.
Фотографии были взяты из нашего семейного альбома, липкие уголки на страницах которого давно высохли и отклеились. Я видела эти снимки много раз. Однако на фоне предгрозового голубого они и вправду выглядели поразительно.
Еще одна фотокарточка стояла на комоде, прислоненная к лампе. Мама полагает, снимок сделан отцом Ала. Один-два раза в год она обязательно старалась устроить встречу троих отцов своих троих детей. Поводом обычно оказывался какой-нибудь семейный праздник. Отец Ала работал в американской рыболовецкой компании, отец Дэя служил в торговом флоте, так что договориться о дате торжества было проблематично. Увы, если мы будем еще организовывать подобные мероприятия, один из участников уже не сможет на них присутствовать.
На этом снимке мне лет шесть-семь.
Мы стоим на гостиничном крыльце. Фотография сделана не мимоходом, мы выстроились там специально для того, чтобы сняться на память. Погода прекрасная, наши волосы танцуют на легком ветру. Взрослые смеются, мой отец только что отпустил какую-то шутку. Должно быть, он моргнул в тот миг, когда щелкнул объектив фотоаппарата. С закрытыми глазами и широкой улыбкой папа похож на веселого слепца. Мама в летнем платье положила голову на его правое плечо. Она очаровательна.
Справа от мамы Ник, отец Дэя. Он носит щегольские усы, темные очки и рубашку с короткими рукавами, выставляя напоказ татуировки. Хотя мама положила свою ладонь на его, она отдает явное предпочтение моему папе.
Ал, Дэй и я одеты в футболки разных расцветок, но с одинаковым рисунком. Ник всегда привозил нам по футболке, в тот раз — с изображением пышноусого моряка.
Дэй в красной футболке стоит впереди своего отца, взгляд направлен в сторону, левая пятка упирается в правую голень. Брат хмурится — его явно оторвали от интересного занятия, и он не может дождаться, когда эта фотопытка закончится.
Худенький напряженный Ал в зеленой футболке сосредоточенно смотрит в объектив. Похоже, никто ему не подсказал, что надо улыбнуться.
На мне желтая футболка и голубая юбка. Светлые волосы заведены за уши, ноги босые, руки раскинуты, а рот широко разинут — я что-то весело кричу фотографу.
Такое ощущение, что я лечу.
Думая о снимке, напоминаю себе, что и в тот памятный момент могло произойти все что угодно, а я и не подозревала об этом.
Поблекшие чернильные линии
За завтраком Мадлен спрашивает у меня, который час. Это наш первый диалог за несколько дней. Пожилая дама не в ладах со временем. Она то и дело взглядывает на наручные часы или крутит кольцо с бриллиантами на безымянном пальце. Хотя суставы Мадлен скрючены артрозом, ее руки по-прежнему красивы.
— Куда вы идете? — любопытствует она, когда мы с Пьером встаем из-за стола.
— В музей! — отвечает ей зять.
Алу точно понравился бы этот мини-музей со множеством этажерок и полочек, на которых разложены ключи (в последовательности от самых больших до самых крошечных), старинные карты, диковинные птичьи яйца, змеиная кожа, печати и всевозможные сельскохозяйственные орудия. Пьер говорит, что задумал устроить музей именно ради того, чтобы «защитить хлам Бальре». Выкинуть эти вещи у него рука не поднимается.
Вспоминаю, как однажды отец захотел выбросить старый диван из игровой. Ободранная белая кожаная обивка, сломанные пружины, вонь от въевшейся кошачьей (впрочем, детской тоже) мочи — все это вызывало у папы отторжение. Узнав о его планах, я рассердилась и закричала:
— Да ведь диван стоит в гостинице уже лет тридцать!
— Успокойся, Серен.
Успокоиться я не могла.
— Ты разве забыл? Если что-то потерялось, мы приходим к дивану, роемся в его недрах и непременно находим пропажу! И ты хочешь выкинуть такой бесценный диван?!
Серен, смени тон. Это всего лишь диван.
— Моя серьга, твоя шариковая ручка, очки Нану, пачка мятной жвачки, помада…
— Ладно, ладно, уговорила! Казнь откладывается! — крикнул папа и хлопнул ладонью по спинке дивана. — В чем-то ты права — даже если мы не обнаруживаем в диване то, что пропало, там все равно что-нибудь да отыскивается.
Мы с Пьером протираем стены музея белым уксусом — таким способом здесь борются с плесенью. В Уэльсе для этого используют хлорку. Убрав уксус и тряпки, Пьер кивает на корзину с голубоватыми бутылочками и протягивает мне маленький ершик.
— Ты чисти бутылки,
я протру гильзы. Они со Второй мировой. Свидетели мрачной эпохи…
Пока он роется в коробке, заполненной патронами и старыми пулями, я окунаю бутылочки в ведро и наблюдаю, как вода проникает в них через узкие горлышки. Помпон часто разглагольствует о войне — главным образом когда пьет виски. Папа в двадцатилетием возрасте состоял в бригаде Особой воздушной службы, но, к большому сожалению моих братьев, никогда не рассказывал о том периоде своей жизни. Пьер сообщает, что в 1941 году отец Колетт попал в плен к немцам.
— Четыре года он был подневольным работником — сначала трудился на сталелитейном производстве, затем на заводе «Фольксваген» в Вольфсбурге. После войны его тошнило всякий раз, когда он видел «жука».
Собеседник достает из коробки по одной гильзе, чистит каждую и убирает обратно. Мне он их не показывает — «от греха подальше», по его же собственному выражению. Я вытаскиваю ершик из очередной бутылки, подношу ее к глазам и любуюсь голубоватым стеклом, на котором играют блики света, льющегося в помещение через окно. Пьер улыбается.
— Ты художница, Серен. Цвет будоражит твою фантазию.
Почувствовав, что краснею, я снова окунаю бутылочку в воду. Пьер тактично меняет тему.
— Мой отец был в рядах Сопротивления. Слышала это слово?
Я проходила тему Сопротивления на уроках миссис Ллевеллин. В голове тотчас возникает образ человека, похожего на Пьера, только более хмурого. Представляю себе, как он скрывается в лесу и крушит вражеские позиции ударами самодельных гранат.
— В этих краях Сопротивление вело крайне активную деятельность, — продолжает Пьер. — В Козьем ущелье, на холме, располагалась база сопротивленцев. Ты знала, что Бальре был оккупирован немцами? Это произошло в сорок первом году. Как раз в тот период прокладывалась демаркационная линия, обозначавшая неустойчивую границу между занятой немцами и свободной Францией. Сам замок попал на немецкую территорию, а его сад — на французскую. Где-то тут была схема…
Открыв стеклянную крышку ящика-витрины со старыми картами, он вытаскивает тонкий листок в желтом пластиковом конверте. Судя по почерку, этот план составлял человек скрупулезный и решительный. Поблекшими чернильными линиями обозначены проезжие тракты, железные дороги, незастроенные земли и дюжина деревень. Узнаю названия Сен-Жангу, Сенниси, южнее вижу Бальре и выцветшую красную черту. Демаркационная линия.
— Почерк Мадлен, — бормочет Пьер, выравнивая три заржавевшие коробочки на этажерке.
Похоже, он взволнован.
— Сколько ей тогда было?
— Двадцать один год. Она ездила на велосипеде по близлежащим деревням и передавала сведения нашим. Секретные документы прятала в носки. Ее мать, бабушка Колетт, была весьма culottee, она…
— Что такое culottee?
— Дерзкая и бесстрашная. Несмотря на присутствие немцев, она помогала участникам Сопротивления и скрывала подпольщиков.
Задумчиво блуждаю взглядом по старому листку. Неожиданно Пьер заявляет, что хочет увидеть мои рисунки.
— Да они совсем неинтересные…
— Я не торговец произведениями искусства, Серен.
Точно бумажную салфетку
За время путешествия мой блокнот истрепался и начал распадаться. Пьер предлагает отделить листки друг от друга и устроить в гостиной выставку. Расстановка занимает минут пятнадцать, на помощь нам приходит даже Мадлен: взяв рисунок из рук Колетт, она передает его мне, а я прислоняю его к фарфоровой статуэтке или обложке толстой книги. Впрочем, спустя пару минут пожилая дама забывает о нас и включает Би-би-си.
Итак, импровизированная галерея со всеми стоп-кадрами моей поездки готова. Из динамика радиоприемника звучит классический концерт, Колетт и Пьер внимательно изучают каждый рисунок.
«Паром и дамы в куртках цвета хаки», «Ложка и огрызок яблока», «Трясущийся старик», «Развороченные урны у озера», «Поднятая рука Франсуа», «Дом пчеловода», «Ложка, освещенная солнечным лучом», «Семь дорожных указателей», «Невинная девушка перед Ла-Пьер-Ки-Круль», «Невозмутимые коровы», «Ряды виноградников», «Вид с холма на извилистую дорогу до Бальре», «Руки Мадлен», «Двор, умытый солнцем», «Вид из моей комнаты»…
— Просто чудо, — говорит Колетт.
— Чудо, — вторит ей муж.
— Самая настоящая история.
— История чего, если не секрет?
Этот вопрос я задаю еле слышно, мне непривычно с кем-то обсуждать свои рисунки. Помедлив, Колетт отвечает:
— Поездки, страны, лета…
— Взгляда, — подхватывает Пьер.
— Который час? — нервничает Мадлен, сидящая на диване.
Унюхав запах чего-то горелого, Пьер и Колетт убегают в кухню, а я тем временем пытаюсь оценить свои рисунки объективно. Безусловно, все они о чем-то повествуют, но, по-моему, чем дольше длится путешествие, тем более посредственными становятся мои работы. Чем сильнее я теряюсь, тем больше утрачиваю ловкость штриха.
Неожиданно я чувствую, что пожилая дама стоит за моей спиной, и мне становится не по себе. Мадлен подносит руку к каждому листку — такое ощущение, что она хочет схватить его и порвать. Дойдя до «Ложки и огрызка яблока», дама застывает.
— Прошу к столу! — кричит Пьер.
Мадлен хватает рисунок, несколько раз складывает его и прячет в рукав своей блузки, точно бумажную салфетку.
Потребность в искусстве
Пока Баске-Куртуа отдыхают, я валяюсь под деревьями в саду и составляю письмо маме. Жара подавляет все живое. Молчат даже сверчки.
Дорогая мамочка!
Надеюсь, у тебя все хорошо. Я путешествую по Франции только девять дней, а ощущение, будто уже…
Пальцы воняют белым уксусом, с каждой новой выведенной строчкой запах усиливается. Из домика во дворе замка доносится стук — кто-то с ожесточением ударяет пальцами по металлическим клавишам. Щелк, щелк, щелк-щелк-щелк… Пьер считает, что их арендатор в душе поэт. Я его еще ни разу не видела, но этот стук слышу ежедневно. Вероятно, у журналиста прилив вдохновения. Будь я журналисткой, могла бы устроить расследование и узнать историю странствия ложки, могла бы написать об этом рассказ. Счастлив тот, кто, подобно ложке, совершил приятную поездку…
С грустью думаю о том, что моими стараниями заварилась настоящая каша — мама теперь проводит уик-энды в одиночестве, за стойкой администратора в гостинице вечно никого нет, а тут, в Бальре, Мадлен приходит в бешенство при одном только взгляде на привезенную мной ложку. Возможно, она подобна тем ракушкам или насекомым, которых беспечные люди забирают домой, тогда как те играют жизненно важную роль в своей экосистеме. Возможно, ложка играла жизненно важную роль в экосистеме гостиницы «Красноклювые клушицы» и, увезя ее оттуда, я нарушила метафизическое равновесие.
Трудно составлять письмо, когда думаешь о чем-то другом.
Мама, хочу задать тебе такой вопрос: не находишь ли ты, что твоя жизнь противоположна положительной эволюции?
Еще хочу сообщить, что понемногу знакомлюсь с творчеством живописцев…
Пасущиеся в поле коровы ложатся на траву. Кажется, это означает, что приближается ненастье. Петух, путающий день с ночью, надрывно кукарекает. Журналист барабанит по клавишам. От моих пальцев разит уксусом, террикон давит на ребра… щелк-щелк-щелк, щелк, щелк, щелк, щ-щелк-щелк-щелк, щелк, щелк, щелк-к-к-к…
Золотисто-зеленый скарабей зарывается в траву.
Поднимаю голову, отклеивая щеку от листка бумаги. На нем остается вмятина, по строчкам расплываются капли слюны. Убираю блокнот в карман и медленно иду в сторону поселка. Мне нужно к одному пожилому господину — мы договорились, что я приведу в порядок его ньюфаундленда. Колетт объяснила, что мне предстоит вымыть пса в ванне, перетащить на кухонный стол и высушить феном. Эта местная традиция вызывает у меня улыбку. У нас в гостинице собак моют из поливочного шланга, после чего загоняют в гараж сохнуть. Как бы то ни было, а владелец ньюфаундленда посулил мне за труд три франка. Пьер говорит, это эксплуатация, но, как возражает Колетт, каждый заработанный су есть шаг к свободе.
Дорогая мамочка!
Надеюсь, у тебя все хорошо. Я путешествую по Франции только девять дней, а ощущение, будто уже лет пять. Работаю тут за кров и еду, и мне это безумно нравится! По утрам я помогаю Пьеру в мини-музее или в огороде, днем выполняю мелкие поручения за деньги — коплю на оплату ремонта «вольво».
Мама, хочу задать тебе такой вопрос: не находишь ли ты, что твоя жизнь — в целом, не только на нынешнем этапе — противоположна положительной эволюции?
Еще хочу сообщить, что понемногу знакомлюсь с творчеством живописцев, которых перечислил мистер Хопкинс. Колетт и Пьер положили на мой ночной столик стопку художественных альбомов, и я листаю их перед сном. Засыпание в окружении шедевров мировой живописи должно благотворно воздействовать на дух художника. Моя ночная близость с Делакруа, Пикассо, Вермеером и Ван Гогом благотворно воздействует на мой дух, но вот мое «художество» от этого почему-то совершенно не улучшается.
Понимаешь, я все меньше рисую как будущая студентка Уэльской академии искусств и все больше — как бесталанная второгодница. Уже начинаю сомневаться в том, стоит ли ехать в Кардифф. А ты как считаешь?
(См. постскриптум.)
А вообще тут поразительно красиво. Мне бы очень хотелось, чтобы однажды мы приехали сюда в отпуск. Хм, только сейчас сообразила, что мы ни разу в жизни не ездили в отпуск и при этом проводили все свое время с отпускниками!
Ответ можешь прислать по адресу: владельцам замка Бальре, Этринъи, ФРАНЦИЯ.
А можешь и позвонить, но я понимаю, что это дорогое удовольствие.
Люблю вас,
СЕРЕН
Р. S. Помнишь, ты говорила, что мир нуждается в искусстве? Учитывая, насколько талантливы были мэтры прежних времен, ты точно уверена, что мир нуждается в юных живописцах?
Кивок как обязательство
Каждый раз, когда я ступаю на двор замка, меня поражает его монументальность. Такое ощущение, будто здешние камни, растения, воздетые к небу стены, даже гравий, который мешает ходить животным и ездить велосипедистам, — все это призывает устроить минуту молчания.
По двору мечутся тени тяжелых туч, которые, похоже, все-таки пройдут стороной. Направляясь к крыльцу, боковым зрением замечаю, что на ступеньках домика сидит молодой человек с сигаретой в зубах. При виде меня он жмурится, точно ослепленный солнцем, хотя солнца на небе нет и в помине.
Парень как парень, худой, всклокоченный. Судя по тому, что на нем теплый пуловер, чувствует он себя неважно. Я прибавляю шаг, но тут молодой человек встает и машет мне рукой, точно моряк на океанском просторе.
— Привет. Ты англичанка?
Кажется, он не может отличить валлийку от англичанки. Подхожу к крыльцу. Вблизи парень остается таким же обычным, как при взгляде издалека. Внезапно с его лицом происходит что-то необъяснимое, и он будто освещается изнутри.
За время своего путешествия я пришла к выводу, что французы напрасно пытаются вести себя нахальнее, чем англосаксы. Большинство людей, с которыми я успела познакомиться за эти дни, обладают теми же изъянами, что и жители других стран: прыщами, пигментными пятнами, залысинами, двойными подбородками. Аристократов из Авалона, пожалуй, можно назвать чуть более привлекательными, а человек, которого я вижу перед собой в эту минуту, вдохновил бы Эль Греко. Вылитый Христос на Кресте, истощенный и блаженный, или святой Себастьян, спокойный, несмотря на пронзившие его плоть стрелы.
— Hi!
[33]
— Добрый вечер, месье.
— Ты, кажется, англичанка?
— Валлийка.
— О, прошу прощения.
Сияние в глубине глаз делает его облик необычным. Нану сказала бы, что к людям со слишком блестящими глазами нужно относиться с опаской. Я хочу скрыться за дверью замка и рассказать Пьеру и Колетт о том, как нелегко было управиться с ньюфаундлендом, который перепугался грозы. Еще хочу узнать, справедливо ли вознаграждение, которое уплатил мне владелец собаки — по-моему, он обвалял меня в муке, как сказала бы миссис Ллевеллин. Однако по неведомой причине мои типично валлийские ноги не слушаются хозяйку, а глаза отказываются отрываться от глаз журналиста. Похоже, что-то подобное творится и с ним, потому что звук его пишущей машинки умолк.
Он бросает сигарету, протягивает мне руку и представляется:
— Пьер Онфре.
Его ладонь излучает приятную прохладу. Моя влажная и теплая, в трещинах от уксуса, размякшая от шампуня, в огромном количестве вылитого на ньюфаундленда.
Пьер № 3 лет на тридцать моложе второго и на пятнадцать старше первого.
— What’s your name?
[34]
— Серен.
— How unusual
[35].
To, что он говорит на моем родном языке, выводит меня из душевного равновесия. Задаю первый вопрос, который приходит в голову:
— А почему ты тепло одет? Болеешь?
— Не в том дело. Просто в домике очень свежо.
С этими словами он снимает пуловер. Я испытываю некоторую неловкость. Из-под пуловера показывается футболка с изображением участников панк-группы «Клэш» — Пол Симонон крушит стену ударами электрогитары. У Дэя тоже такая есть.
— Серен, — он ставит ударение в моем имени правильно, — я сочинил письмо одной английской преподавательнице университета. Проверишь текст?
Учитывая его уровень английского, он наверняка написал это письмо в десять раз лучше, чем могла бы я.
— Разумеется, я тебе заплачу.
Не уточняя, какую сумму он мне обещает, я коротко киваю.
— Это означает «да»?
Все то же сияние в глубине глаз. Бросаю взгляд на воображаемые часы на запястье, словно опаздываю на важную встречу, и смеюсь. Журналист тоже смеется, и это выглядит очень мило.
Поднимаясь по ступеням замка, я думаю о кивках, которыми пембрукширцы обмениваются на рынках, в портах и на полях. У нас в стране люди просто так кивать не станут. Кивок означает то же самое, что и рукопожатие или подпись на документе в присутствии нотариуса. Даже кивок человека, покачивающегося на виселице, являет собой обязательство. Мой кивок тоже недвусмысленно означал согласие, и потому то, что журналист им не удовлетворился и задал свой банальный вопрос, меня уязвляет.
Разные интонации
В гостиной на втором этаже атмосфера примерно как в городе, только что пережившем бомбардировку. Сама я в таком месте, конечно, не бывала, но когда Помпон напивается, он мысленно переносится в Лондон времен «Блица» и громко делится впечатлениями.
Мадлен сидит на полу, ее лицо перекошено от негодования. В руках она держит рисунок — если не ошибаюсь, это «Ложка, освещенная солнечным лучом». Вокруг разбросаны другие листки.
Пьер, сидящий на желтом диване, болтает ногой и делает вид, будто расслаблен. Колетт, спина которой напряжена, как у моей мамы в безрадостные дни, стоит у окна, облокотившись на подоконник. Я медлю на пороге, гадая, войти мне или выйти.
— Ты входишь или выходишь? — вдруг вопрошает Мадлен.
Я вздрагиваю, не понимая, ко мне ли она обращается. Пожилая дама пытается встать, Пьер спешит ей помочь, а Колетт приближается ко мне и шепчет:
— У нас тут такая каша заварилась, пока тебя не было… Главное, что твои рисунки невредимы. Правда, один из них мама отказывается отдавать.
Прищурившись, я вижу, что скрюченные пальцы Мадлен действительно сжимают рисунок ложки, освещенной солнечным лучом. Бормочу, что волноваться не из-за чего и что этот рисунок мне вовсе не дорог… Так оно на самом деле и есть, потому что изображение луча лишено всякого света и скорее напоминает колонию личинок.
За ужином Мадлен роняет кусочки хлеба в свой суп и не сводит взгляда с помятого рисунка, лежащего рядом с ее тарелкой. Колетт поджимает губы и скрывается в кухне. Пьер любопытствует, сколько мне заплатил владелец собаки. Я быстро доедаю суп и достаю деньги.
— Да он тебя в муке обвалял! — негодует Пьер.
В столовую возвращается Колетт с покрасневшими глазами и возмущенно заявляет, что мы должны отправиться к хозяину ньюфаундленда и потребовать от него объяснений. Подозреваю, ее гнев вызван не только моими проблемами. Мадлен потерянно стоит в дверях.
— Мама, ты уже собралась ложиться?
— Кого ты называешь мамой?
Колетт вздыхает и ведет Мадлен в ванную.
Желая разрядить обстановку, я рассказываю Пьеру о просьбе журналиста, он рассеянно кивает и кричит Юпитеру:
— Прекрати скулить, я выпущу тебя через тридцать секунд! Что за пес!
Кладу мятый рисунок на комод и иду мыть посуду. Впервые за всю свою жизнь я оказываюсь в кухне одна. А вот мой отец провел там много одиноких ночей…
Когда я прихожу в гостиную пожелать доброй ночи, Пьер сидит рядом с Колетт и держит ее руку в своих. Во второй раз за вечер задаюсь вопросом, как мне быть: исчезнуть или примоститься на диване рядом с ними?
— Посиди с нами, Серен, — говорит Пьер. — Мы как раз собираемся выпить травяного чая.
С облегчением плюхаюсь на диван, и мы дружно перемываем косточки скупердяю — владельцу ньюфаундленда. Спать никто не хочет, и мы сражаемся в «Монополию». Я покупаю четыре вокзала и побеждаю. Пока мы играем, Юпитер то и дело ворчит.
По мнению Колетт, Мадлен испугала новизна, которую привнесли мои рисунки, расставленные по этажеркам. Пожилая дама соотносит свою жизнь с тем, что привычно, ей важно находиться в окружении знакомых предметов.
Я разделяю стремление соотносить жизнь с тем, что привычно (я и сама больше не люблю неожиданности), но вот вопрос — на самом ли деле мои рисунки создали для Мадлен новизну? Возможно, они напомнили ей о ложке. Возможно, она узнала ее, потому что не раз накрывала стол к торжеству и раскладывала возле тарелок ложки из этого набора. Возможно, ложку подарили Мадлен на восемнадцатилетие и она страшно огорчилась, потому что надеялась получить кольцо с изумрудами. Возможно, в детстве ее больно ударили ложкой по пальцам за какую-нибудь шалость (в Британии эта традиция была широко распространена). От размышлений меня отвлекают хлопки ставен на окнах первого этажа. Пьер вылетает за порог, встревоженный Юпитер мчится следом.
— Это ветер! — кричит Пьер.
Сегодня вечером он много кричит.
На мой вопрос о том, не били ли раньше маленьких французов ложками по рукам, Колетт не отвечает. Я молча складываю «Монополию» и уже хочу шепотом пожелать спокойной ночи, как вдруг Колетт говорит:
— Прости, Серен. Сегодня у меня совсем паршиво на душе. Мама была таким потрясающим человеком, прежде чем эта пелена заволокла ее разум. Мне больно видеть, как она утрачивает свою сущность.
Я не знаю, как реагировать. Боюсь что-нибудь ляпнуть и стать причиной того, что у Колетт в груди тоже появится террикон.
— Nihil lacrima citius arescit. Тут латинисты совершенно неправы, — заявляет она.
— Nihil lacri?..
— «Ничто не сохнет так быстро, как слезы». Что за глупость! — Колетт фыркает и добавляет убежденным тоном: — Надо регулярно взывать к сущности больного человека. Я стараюсь напоминать себе об этом каждый день, даже если Мадлен уже забыла.
Мне вдруг становится любопытно, какова продолжительность жизни слезы… бойцовая рыбка разрывает на части пластиковую водоросль. Оторванный фрагмент поднимается к поверхности воды.
— А ты, Серен, как себя чувствуешь? — неожиданно спрашивает Колетт.
— Хорошо.
— Я имела в виду, как ты себя чувствуешь после смерти отца?
Сложно сказать. Я не понимаю, что делать дальше. Я хочу узнать эпопею странствий ложки. Хочу решить, стоит ли ехать на учебу в Кардифф. На этот счет меня мучают сомнения, ведь рисую я с каждым днем все хуже. А по ночам толком не сплю, ведь у меня в животе террикон. Точнее, не в животе, а в груди. На месте сердца, если говорить языком анатомии.
Обо всем этом я предпочитаю не распространяться и потому уклончиво отвечаю:
— Нормально, да, нормально. Спокойной ночи.
Лежа в постели, я слушаю, как за окном мечется ветер, и размышляю над интонационными различиями в речи представителей разных культур. Когда на уроках французского миссис Ллевеллин велела мне читать вслух отрывки из «Маленького принца» и «Славы моего отца», в каждом предложении она обращала мое внимание на смысловое ударение. «Интонация передает намерение и помогает избежать культурных противоречий», — повторяла учительница.
Нынешним вечером Колетт сделала акцент на словах «ты себя чувствуешь»: «Как
ты себя чувствуешь после смерти отца?»
Выходит, для французов крайне важна способность точно передавать свои чувства.
Американец (отец Ала) сделал бы акцент на слове «смерть»: «Как ты себя чувствуешь после
смерти отца?» Для американцев характерно драматичное отношение к жизни.
Неожиданно я осознаю, что мне хочется сделать акцент на слове «отец»: «Как ты себя чувствуешь после смерти
отца?»
Это меняет все.
Ясность
Ночь покачивается.
Из гостиной слышны неуверенные шаги Мадлен, затем шорох — дама пытается открыть дверь, ведущую на лестницу.
Мгновением позже раздается ласковый голос Колетт:
Идем, мамочка, я помогу тебе вернуться в свою комнату, еще ночь.
— Вот как? Еще ночь?
— Да, мама, ночь, время отдыхать.
— Вот как? Отдыхать?
На моем ночном столике лежит рисунок, взятый, скомканный и забытый Мадлен. Ясность, которая появляется в голове посреди ночи, подтверждает, что Мадлен выбрала этот рисунок, как и «Ложку и огрызок яблока» до него. Дама буквально охотится на портреты ложки, но почему она так поступает, я не знаю. Думаю, сама Мадлен тоже этого не понимает («Вот как? Еще ночь?»).
Безумно жаль, что единственный человек, который мог что-то вспомнить о ложке, потерял память. Умеет жизнь шутки шутить.
Странная или смешная?
В десять часов мы прекращаем сбор винограда, потому что начинается град. На землю падают градины величиной с крупные ягоды черной смородины. Колетт уходить не хочет, она явно из числа тех женщин, которых не остановит ничто, ледяные шарики уж точно.
— Эх, а я только успел втянуться в работу… — досадует Пьер № 3, несясь к сарайчику.
Он присоединился к нам на рассвете, хотя его об этом не просили. Мне кажется, ему скучно за пишущей машинкой.
Сарайчик виноградаря пропах уксусом и сахаром. В округе этого человека называют Блаженным, потому что его виноград созревает на три недели раньше, чем у соседей. Судя по
выражению его лица, он совсем этому не рад. Будь он уэльсцем, непременно исполнил бы какой-нибудь душераздирающий гимн, а друзья-теноры вторили бы ему, создавая возвышенную гармонию. Здесь вместо пения мужчины едят колбасу и пьют вино, а их жены смахивают градины со своих цветастых блузок и смеются. Трое ребят, которые с поразительной легкостью размахивали садовыми ножами, кидаются друг в друга сеном, а Юпитер лает просто ради того, чтобы лишний раз пошуметь.
Чувствую покалывание между бровями. Кеды отяжелели от грязи, мокрая футболка стала прозрачной, грудь набухла. Шмыгаю к двери и прислоняюсь к стене. Пелена града над виноградниками могла бы быть дождем над океаном. Меня знобит.
— Судя по виду, ты замерзаешь. Выпей.
Пьер № 3 протягивает мне толстостенный стакан с красным вином. Я вежливо отказываюсь. Он щурится и зажигает сигарету.
— You’re a funny girl
[36] Серен.
Что означает эта фраза из уст француза? Какая я девушка: смешная, удивительная или странная?
Принимаю стакан и отважно выпиваю вино одним махом. Пьер улыбается и говорит, что возвращается работать.
— Будет время — заходи ко мне прочитать текст письма, хорошо?
Он не бежит, но идет широким шагом. Вскоре Пьер спускается с холма и исчезает из виду.
Когда я возвращаюсь в Бальре, выпитое вино вдруг отягчает мне веки и я засыпаю на диване рядом с Мадлен, которая слушает воскресный повтор радиоспектакля «Властелин колец». Должно быть, в Великобритании сейчас одиннадцать утра.
Мне снится, будто Гэндальф стоит на вершине террикона и выкрикивает что-то неразборчивое, а Пьер Онфре в лохмотьях, словно сошедший с картины «Воскрешение Христа», надевает кольцо всевластия на мой палец, который превращается в скрюченный артритом указательный палец Мадлен.
В следующем сновидении я вместе с немецкими туристами топчу виноград в большом пластиковом тазу. Я голая, но мне на это плевать. От солнца меня защищает соломенная шляпа.
Би-би-си замолчало. Мадлен напевает, постукивая по паркету ногами в лодочках кремового цвета.
— Прежде у меня были очень красивые ноги, — замечает она.
Я дрожу и ужасно хочу пить, но вежливо возражаю, что они по-прежнему красивые.
— Спасибо.
— А цвет ваших туфель просто восхитителен. Миссис Ллевеллин была бы в восторге от моего комплимента.
— Ты очень плохо выглядишь, дочка.
Пожилая дама принимает меня за Колетт? Или она просто так выразилась? Это не имеет значения, я должна воспользоваться моментом и задать вопрос, который меня волнует.
— Мадлен, почему вы закричали, когда я хотела вернуть ложку? И почему вы уносите мои рисунки?
— Колетт, иди скорее сюда! У девочки температура.
Одиннадцатая ночь
Замок спит. На иве сидят два соловья, один заводит песню, другой подхватывает. Вслушиваюсь в их крещендо, слова, паузы, ожидание ответа.
Я чувствую дикую слабость, как бывало после отвратительных школьных соревнований по кроссу, но температура уже в норме. Вдыхаемый воздух ударяется о террикон, который никуда не делся и ни капли не размяк на фоне сегодняшнего недомогания.
На ночном столике альбом флорентийских репродукций, голубая пиала с виноградом, большой стакан воды и ложка, лежащая на розовой салфетке.
В голове мелькает размытый образ Мадлен: она сидит на краю постели и полирует ложку краем юбки, бормоча что-то о снеге и луне.
Сон как рукой снимает. Сажусь и рисую соловья, сидящего на ложке, которая лежит поперек миски.
Глаза болят от света. Гашу лампу и в темноте поедаю сладкий черный виноград.
Что такое sabbatical[37]?
Колетт считает, мне нужно провести в постели еще один день.
— Optimum medicamentum quies est, Серен. Отдых — лучшее лекарство!
Завтракая холодным ягодным супом, я прошу Пьера № 2 сходить к Пьеру № 3 и принести мне письмо для вычитки, чтобы я не умерла со скуки, валяясь в кровати.
Он выполняет мою просьбу и вскоре возвращается с листочком, вложенным в элегантную подставку для тостов. Я со смехом разворачиваю листок и вижу, что письмо адресовано некоей Вере Лоу, доктору социологических наук, работающей в Манчестерском университете.
Как я и думала, журналист отменно владеет английской грамматикой. Моя редактура минимальна — исправляю последнюю букву в слове phenomenology
[38] и три ошибки в согласовании, а также подчеркиваю слово sabbatical, которого прежде нигде не встречала.
Из текста я узнаю, что Пьер № 3 написал статью «Оперение кайенских колибри, или Почему политика нормализации, блестки и пиромания нам не страшны».
Надеюсь, он переделает заголовок.
Статья опирается на открытия Веры Лоу, автора диссертации «Положительное воздействие появления экзотических птиц на жизнь манчестерского рабочего класса во время рецессии 1956 года». Еще одно длиннющее название. Журналист надеется, что Вера Лоу, с 1967 года не выпустившая ни одной публикации, согласится с ним встретиться.
Письмо содержит краткую автобиографию. Родился в Лионе в 1961 году, так-так… ага, ему двадцать четыре, то есть на шесть лет больше, чем мне. Получил высшее образование в сфере политологии, время от времени пишет статьи в «Либерасьон», две его исследовательские работы, «Акты мятежа в центре Нантского товарищества» и «Музыкальная контркультура на фоне кризиса просвещенческого и политического нарциссизма», были опубликованы в «Прогресс», а в настоящее время он находится в sabbatical и пишет третью работу — про кайенских колибри. Его послужной список впечатляет и пугает одновременно — судя по всему, в моем возрасте Пьер Онфре уже знал, кем хочет стать.
В гостиной зажигается ослепительно яркий свет. Колетт подбегает ко мне и прижимает к моему уху телефонную трубку.
— Привет, Серен, звездочка моя!
— Мама?
— Как ты там, родная? Колетт сказала, ты лежишь с высокой температурой.
— Вы с ней говорили?!
— Да, и она показалась мне очаровательной.
— Когда? Как? Почему?
— Ты что, в полицию работать устроилась? Вчера. По ее словам, повода для беспокойства нет, но…
— Ты разговаривала с ней по-французски?
— Э-э, скажем так: мы нашли общий язык.
Радостный смех. Я счастлива, что мама и Колетт понравились друг другу. Люблю строить мосты между нациями.
— Мам, что такое sabbatical?
— Красивое слово, правда? Это академический отпуск. Перерыв по собственному желанию.
— Перерыв? В чем?
— Ну, например, в работе.
— Так у меня сейчас sabbatical?
— У тебя каникулы. Хотя и sabbatical тоже, ведь ты на время рассталась со своей обычной жизнью.
— Хм…
— Смысл в том, что во время такого перерыва человек старается что-то предпринять. Допустим, написать роман, выучить китайский, пересмотреть свою жизнь и прочее в этом духе.
— Пересмотреть свою жизнь?
— Да. Я теперь и сама беру sabbatical — гуляю, хожу в музеи, подвожу итоги…
— Да, да, знаю.
— Иногда просто сижу одна в своей комнате и читаю…
— Я еще раз перекрасила холл в более чистый голубой цвет, так интереснее смотрится. Алло, Серен, ты меня слышишь?
— М-м-м-х.
— Ты плачешь, родная?
— Почти.
— Ох, сердечко мое.
Секунд десять мама молчит.
— Тебе лучше?
Глупо качаю головой. Словно услышав это, мама говорит, что любит меня, что они все по мне скучают и что дела у них идут отлично. Еще она советует мне побольше бывать на воздухе в хорошую погоду.
— Не валяйся в постели дни напролет, иначе твои биоритмы собьются!
Дно воздуха
Встречая меня на крыльце домика, Пьер Онфре спрашивает, здорова ли я. Отвечаю утвердительно и сообщаю, что внесла правки в его письмо. Разговариваем мы, как обычно, по-английски. Я добавляю, что не уверена в правильности написания слова phenomenology — по-моему, оно должно заканчиваться на букву «У».
— Как и многие другие вещи, — отзывается он. Смотрю на него с недоумением.
— Это каламбур. Y как why?
[39]
Пытаюсь посмеяться, но голос звучит фальшиво. Собеседник уходит в дом, оставляя дверь распахнутой. Я стою снаружи, он находится внутри. Полистав увесистый словарь Харрапа, Пьер кивает:
— Phenomenology. У на конце. Хочешь кофе?
— Нет, спасибо, я не пью кофе.
— А бокал вина?
Не обращая внимания на иронию в его голосе, я спрашиваю, чему посвящена статья — политике или орнитологии.
— Птицы, кайенские колибри — это метафора!
— Метафора чего?
— Изменения парадигмы.
Смотрю на него с еще большим недоумением.
— Рассвет, зима, пригород Манчестера, — монотонно, будто читая прогноз погоды, поясняет журналист. — Человек отправляется на свою нудную работу. Несясь по улице, чтобы успеть на автобус, краем глаза наш герой замечает экзотическую птицу! Это кайенская колибри. На крыше остановки сидит еще одна колибри. И тут мир словно замирает! Человек начинает думать по-другому, он восстает против эксплуатации своего труда, признает посредственность своего начальника. Он прекращает капитуляцию! В этом, Серен, и состоит главная мысль: нечто новое появляется в нашей жизни, и мы вдруг ставим все под сомнение…
Он умолкает, переводя дух, а я уточняю:
— Это хорошо или плохо?
— Что именно?
— То, что мы ставим все под сомнение.
— Не просто хорошо, а великолепно! По мнению доктора Лоу, появление колибри в Манчестере изменило поведение сотен рабочих. Вместо того чтобы пресмыкаться перед шефами, они устроили забастовку и…
— А кто такие пироманы, о которых говорится в статье?
— Политики. Хозяева предприятий. Телевидение. Кюре. Они сжигают нашу способность к размышлению и транжирят наши деньги. Кстати о деньгах… — Пьер достает из кармана десятифранковую банкноту и протягивает ее мне. — Спасибо за редактуру.
Я твердо отказываюсь. Он, кажется, все понимает. Приятно, что не нужно отстаивать свое решение.
Молчание затягивается. Я заглядываю внутрь дома.
— Зайдешь в гости?
Если не считать тарелок в раковине и ротангового кресла в углу, вся жизнь обитателя этого дома, похоже, сосредоточена вокруг письменного стола. На нем чашки, документы, книги и, конечно, шумная пишущая машинка. Журналист кивает на ванную, но я туда не захожу (терпеть не могу, когда кто-то осматривает мой собственный санузел, и стараюсь без крайней надобности не заглядывать в чужие). Перевожу взгляд на стремянку, приставленную к отверстию в потолке.
Пьер садится за стол, закуривает сигарету и надевает на нос очки. А они ему идут.
— Можешь подняться, если хочешь.
Взбираюсь по ступенькам и жалею, что надела юбку. Мне неловко от мысли, что журналист поднимет голову и заметит, что у меня пухлые бедра. Покосившись на него, вижу, что он склонился над пишущей машинкой. Останавливаюсь на четвертой ступеньке — отсюда чердак уже хорошо просматривается. Обведя взором белую мансарду и потолочное окошко, я вдруг ощущаю непреодолимое желание лечь в постель. Спускаюсь обратно и выхожу на порог.
— Оттуда открывается незабываемый вид на звезды, — произносит Пьер.
Он на что-то намекает?
Я уже стою на пороге, как вдруг Пьер встает из-за стола и протягивает мне книжицу в бордовой обложке. Стихи Артюра Рембо.
— Ты читала? Очень красивые стихи. Позволь подарить тебе эту книгу.
Пьер снимает очки — похоже, хочет продолжить разговор. Так мы и беседуем — он в доме, я на крыльце.
— Месье Куртуа говорил, что ты рисуешь, — произносит он, выдыхая сигаретный дым в сторону стремянки.
— Если честно, скорее нет, чем да. Рисую все меньше и меньше.
— Я тоже пишу все хуже и хуже. Это скверно. Чувствую легкую дрожь.
— Дно воздуха свежее, — шепчет Пьер по-французски. — Тебе знакомо это выражение?
— Нет.
— The air’s bottom is fresh, — переводит он.
Я хихикаю. Но вообще-то, ничего смешного тут нет.
— Это означает, что холод проникает в помещение… в воздухе становится свежо, — говорит он, подбирая слова.
— Да-да, поняла.
— А ты бы как это назвала?
Миссис Ллевеллин спешит мне на помощь.
— Лето умирает.
Пьер приподнимает брови, пораженный моим словарным запасом.
Гулять и блуждать — разные вещи
Поздняя ночь, а я не сплю. Мои биоритмы и вправду сбились. Включаю ночник и пробегаю взглядом по странице «Воспоминаний коллекционера»: «В последней главе автор постарается дать определение искусству коллекционирования…»
Выключаю свет. Я слишком утомлена, чтобы следовать за извилистой мыслью чокнутого полковника.
Дерьмо, шлюха, срань, ублюдок, хрень, дубина… Нет, дедушкин метод тоже не действует.
Снова зажигаю лампу и наугад открываю сборник Рембо. Стихотворение «Морской пейзаж». Одиннадцать коротких фраз и десятки незнакомых слов. Читаю текст вполголоса — сделать так мне порекомендовал Пьер Куртуа, когда увидел книгу в моих руках. «Этот способ поможет тебе без всяких словарей ощутить смысл текста», — пояснил он. Увы, смысла я не улавливаю, однако кое-какие ощущения у меня появляются.
Мне приятно шептать слово «ежевика». «Стволы» и «дамбы» тоже. Мне даже нравится выдыхать слово «Рембо». Интересно, что бы я почувствовала, если бы поцеловала Пьера Онфре?
Моя история с ложкой перекликается с его метафорой о кайенских колибри. Стоило мне увидеть ложку, и мир изменился. Правда, я не ставлю под сомнение абсолютно все.
И ложка не является метафорой.
Террикон тоже. Чтобы выдерживать его вес, мне приходится укладывать подушку-валик вдоль позвоночника. Снова гашу свет. Луна наводняет комнату рваными отблесками.
Без четверти час ночи слышу нетвердые шаги Мадлен в гостиной — похоже, дама опять хочет отворить дверь на лестницу. Секунду спустя раздается поступь Колетт. Осознание очевидного вдруг вырывает меня из дремоты. Каждую ночь — каждую ночь! — Мадлен выбирается из уютной постели и пытается выйти во двор. Что же так ее туда манит? Едва ли это Пьер Онфре…
Строго говоря, Мадлен не страдает лунатизмом. По мнению Пьера Куртуа, ночью она пребывает в другом измерении, нежели днем, ее мозг проживает свое настоящее, не такое, как у нас. Мадлен то погружается в небытие, то возвращается в наше время, и тогда ее речь обретает ясность. «Но вот вопрос, Серен, — что мы понимаем под ясностью?» — развел руками Пьер Куртуа в конце того разговора.
Возможно, то настоящее, которое Мадлен проживает во дворе, как-то перекликается с ее настойчивым интересом к ложке.
И что из этого следует?
Я снова в тупике. Связь между серебряным столовым прибором и прогулками пожилой дамы окутана тайной.
В замке воцаряется безмолвие. Кажется, что и мебель погружается в сон.
Представляю себе дамбу, над которой кружат вихри света, и, поскольку сон ко мне так и не спешит, рисую в полумраке.
Одиночество — это мятый помидор
Сквозь полудрему слышу, как Колетт стучится в дверь и громко сообщает, что уходит собирать виноград. Затем добавляет, что звонил автослесарь из Сенниси. По его словам, починка машины задерживается, потому что «те дураки из „Вольво Стокгольм" прислали Б-двадцать-три-что-то-там вместо Б-двадцать-семь-что-то-там, и заказ надо делать заново».
Соскакиваю с кровати. Карандаши, ложка и томик стихов падают на пол. Спросонок не соображаю, чем я должна заняться — отправиться на виноградник вместе Колетт, смотаться в авторемонтную мастерскую или позвонить в «Вольво Стокгольм»? Кстати, который теперь час? Приоткрываю дверь.
Завидев мою растрепанную голову, Колетт прыскает со смеху, щупает мне лоб и говорит, что Пьер работает у себя в кабинете, Мадлен завтракает, погода великолепная, в общем — non festinet, то есть — можно никуда не торопиться, Серен!
Поскольку она не зовет меня с собой, я подхватываю чашку с остатками неважнецкого чая, спускаюсь в гостиную и сажусь на диван, чтобы неспешно прийти в себя. Я не ранняя пташка.
Голос ведущего Би-би-си, рассказывающий о способах профилактики ржавчины на розовых кустах, выдергивает меня из смутного сновидения. Мадлен сидит рядом со мной, ее веки прикрыты. Сегодня на ней бледно-голубые лодочки. Я вдруг ощущаю, что не могу повернуть голову, — вероятно, заснула в неудобной позе. Откашливаюсь, чтобы Мадлен заметила мое присутствие. При всей его глупости, данный метод заявлять о себе работает отлично. Наши Д. П. регулярно им пользуются, если Нану дремлет за стойкой администратора.
Пожилая дама открывает глаза. Пелена рассеянности исчезла, ее взгляд обескураживающе ясный.
— Ты не могла бы показать мне ложку? — просит Мадлен.
Убегаю к себе в комнату. Когда я возвращаюсь с ложкой, Мадлен уже выключила Би-би-си и ее взгляд снова помутнел. Мои ноги подкашиваются от разочарования. Какое же это мучение — находиться совсем рядом с чем-то и ничего не понимать ни о природе этой вещи, ни о пути, который она проделала, чтобы оказаться здесь!
Все же я протягиваю Мадлен ложку, и дама принимает ее с кривоватой улыбкой. Я и сама вся какая-то искривленная из-за шейного спазма. Чувствую себя Франкенштейном.
— Я повторяю одно и то же раз двадцать — сперва «молоко», затем «вода», затем «суп». «Молоко. Вода. Суп», — вдруг скандирует пожилая дама, стуча ложкой по колену.
Вероятно, это местная считалка.
Когда Мадлен закрывает глаза и начинает похрапывать, я опять иду к себе и приношу в гостиную набросок дамбы, над которой кружат вихри света. Получилось что-то абстракционистское — наверное, потому, что рисунок создавался глубокой ночью. Усевшись на пол, беру чистый лист и усеиваю его темными штрихами. Результат получается не ахти, но благодаря тому, что я отвлеклась, боль в шее отступает.
Минут через двадцать Мадлен просыпается, рассеянно смотрит на часы, делает вид, будто ест что-то с ложки, и нервно повторяет речитатив о полнолунии, молоке и супе. Лишь бы только это не переросло в припадок…
Наконец она кладет ложку и молча удаляется к себе, не замечая меня.
Может, все-таки пойти помочь Колетт или подняться на верхний этаж к Пьеру № 2? Я, кстати, до сих пор не знаю, какими исследованиями он занимается. Поскольку вслух об этом не говорят и он никогда не приглашал меня побывать в кабинете, полагаю, это что-то секретное. Возможно, он математик. Или поэт. Или просто сидит там и ничего не делает, а почему бы нет? Рисую в воображении залитую солнцем комнату и удобное глубокое кресло, в котором муж Колетт сидит и терпеливо (он терпелив по натуре) ничего не делает.
На одном из окон первого этажа лежит конверт. Мамин почерк. Внутри репродукция классической картины. Иду во двор и сажусь в беседку. Кто-то оставил на столе полную миску крупной черной вишни.
Серен, любовь моя!
Эту красивую открытку я купила в Лондоне, в Британском музее. Ездила туда в прошлое воскресенье. Твой отец пришел бы в восторг от полотен Тернера, его корабли в штормовых водах просто потрясающие! Потом в одном шикарном кафе я пила чай со сконами в компании мистера Хопкинса, директора Уэльской академии искусств. Это было непривычно и забавно.
Теперь к твоим вопросам. Нет, я не считаю, что моя жизнь «противоположна положительной эволюции». Я предпочла бы, чтобы Питер был со мной еще много лет, я предпочла бы, чтобы мы старели вместе, но, даже если это кажется бессмысленным, сейчас я каждый день стараюсь отвлекать себя и не приближаться к скользким склонам.
Нуждается ли мир в юных живописцах? Да. Их исчезновение было бы противоположно положительной эволюции. Твой талант и твое будущее?
Никаких преград нет, звездочка моя. Ты можешь заняться не искусством, а наукой, можешь взять академический отпуск на пять лет, можешь стать почтовой служащей, фермершей, инженером — выбор за тобой. Не позволяй ничьим словам быть важнее твоих собственных переживаний и желаний. Главное, постарайся заниматься тем, что приносит тебе радость.
В то же время, Серен, мне кажется, что отрицать свой талант и уклоняться от учебы в Академии искусств было бы проявлением заносчивости с твоей стороны. Тебе надо посвятить живописи какую-то часть своей жизни, а уж потом решить, быть художницей или нет. Кстати, директор как раз интересовался, не передумала ли ты насчет поступления. Я позволила себе ответить, что ты сомневаешься. Он сказал (со своим красивым шотландским акцентом), что это превосходная новость.
Что бы с тобой ни происходило и какие бы вопросы ты ни задавала, я тебя люблю.
М.
Моя мать и ее непоколебимая вера в нашу свободную волю. На самом-то деле свободная воля — понятие иллюзорное и неудобное.
В пиале, наполненной вишневыми косточками, мне видится нечто незавершенное. Смысл выражений из списка миссис Ллевеллин раскрывается здесь передо мной в полной мере. Пишущая машинка Пьера Онфре воодушевляется. Пишет он пусть и не очень красиво, зато много.
У всех свои дела, а я никуда не вписываюсь. Я не читала Вирджинию Вулф и Джин Рис. Мама пила чай с господином Хопкинсом. Я не слушала И. С. Баха. Не узрела свой «невидимый рисунок». Прошлым летом Помпон признался мне, что на протяжении пятнадцати лет коллекционировал бутылки из-под выпитого им спиртного. Однажды ночью в пьяном оцепенении он подсчитал общее количество своих «трупов» и записал его на клочке бумаги. На рассвете взглянул на эту запись и решил вступить в общество анонимных алкоголиков. Вот бы мне понять, не образуют ли мои недостигнутые цели такой же штабель «трупов» за моей спиной.
Помаявшись бездельем, иду в огород. Соберу помидоры и приготовлю для хозяев замка вкусный салат. Иногда нужно довольствоваться простыми целями.
Помидоры попадали на грядку и перемялись.
Град. О нем я и не подумала.
Одиночество — это мятый помидор.
Ложка олицетворяет человека и его способность жить в обществе лучше, чем любая другая домашняя утварь. В то время как нож режет и, следовательно, может ранить, в то время как вилка колется и, следовательно, может изуродовать, ложка вмещает, объединяет и переносит, точно безопасное чрево морского млекопитающего или пространство собора. Ложка, гуманистическое и очеловечившееся изобретение, связует пользу с эстетикой, иначе она не была бы ложкой. В этом своем проявлении она напоминает нам о двойственной природе человека, дух которого стремится возвыситься, а тело занято поглощением.
Не будем же забывать, дорогие читатели: между пищей и ртом находится ложка.
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
Чтобы увидеть кабана, нужно не шуметь
Когда Пьер Онфре не может писать, он читает. Сейчас он сидит в саду за столом, накрытым скатертью с кроваво-красной вышивкой.
— Когда мне не пишется, я читаю, — говорит он. — Романы, газеты, главное — никаких статей. Посидишь со мной?
Смотрю в небо и фантазирую, на что похожи проплывающие по нему облака. Пьер курит и листает журнал «Хара-Кири». Время от времени он хохочет или издает непонятные звуки. Мне никак не сосредоточиться. Он косится на меня и предлагает:
— Сходим в лес? Тут слишком душно.
Чтобы избежать прогулки наедине, я иду к соседу за ньюфаундлендом. Едва мы оказываемся в лесу, пес начинает носиться между деревьями и спустя три минуты скрывается из виду. С досадой слушаю треск ветвей под его лапами. А вдруг он не вернется? Пьер насмешливо изрекает, что ньюфаундленд может умчаться в Марсель.
— Почему в Марсель?
— Потому что это далеко.
— Почему тогда не в Индию? Или в Австралию? Он хмыкает:
— Как скажешь, Серен. Он может и до луны добежать.
Мне хочется возразить, что добежать до луны нельзя, но я догадываюсь, что собеседник все равно выкрутится и оставит последнее слово за собой. Он меня раздражает. Солнце слепит глаза.
Пес мелькает впереди, тычется мордой под куст и роет землю. Мы направляемся к нему по тропе, заросшей ежевикой и папоротником. Журналист сутулится и закрывает лицо руками. В лесу он выглядит каким-то потерянным, словно его тело не создано для прогулок.
— Я очень люблю природу, но почти ничего о ней не знаю. — Он фыркает. — Например, как называется это дерево?
От жары мне лень думать и отвечать. Ньюфаундленд петляет в густой листве. От него противно пахнет — видимо, вляпался во что-то тухлое. Сомневаюсь, что хозяин пса заплатит мне, если я снова вымою его питомца. Протягиваю фляжку воды Пьеру, который продолжает разговор на волнующую его тему:
— Это идиотизм, но, если я знаю названия предметов, мне спокойнее на душе.
— Потому что ты журналист.
— А журналисты должны знать названия?
— Да.
(Или нет?)
— Возможно, ты права.
— Месье Куртуа говорит, что ты поэт под маской журналиста.
— Правда, что ли? — веселится Пьер.
Тропа прерывается, и некоторое время мы продираемся через заросли ежевики, которая цепляется за рубашку моего спутника и царапает его икры. Но вот тропа снова маячит далеко впереди, еле заметная между деревьями и валунами. К столбу одного из деревьев криво прибита стрелка, указывающая путь к Козьему ущелью.
— Если тут все верно написано, мы находимся натропе, которой пользовались участники Сопротивления, — размышляю вслух.
Пьер бросает на меня удивленный взгляд. Я не без гордости спрашиваю, известно ли ему, что мать Мадлен помогала Сопротивлению. Он бледнеет.
— Но почему об этом нигде не сказано? Ни одной памятной таблички в поселке… А ведь это часть Истории с большой буквы «И»…
— Моя бабушка считает, что большую историю порождают маленькие.
— Я не согласен.
— Я тоже.
Устремляюсь вдаль по тропе.
— В любом случае, — кричит он мне вслед, — если обитатели Бальре участвовали в Сопротивлении, это важный исторический факт, который заслуживает…
— Скорее всего, это не факт, а лишь легенда.
Минуты три спустя Пьер догоняет меня, часто дыша.
— Сегодня тут должно пройти стадо кабанов, но, учитывая, сколько от нас шума, мы вряд ли их встретим.
Отвечаю, что, вообще-то, это он шумит и распугивает кабанов своими криками. Затем я смеюсь — похоже, журналисту здесь и впрямь не по себе. А мне бы очень хотелось взглянуть на кабана. Издалека.
Дойдя до прогалины, поросшей странными кустами с трубчатыми стеблями, мы садимся на землю перевести дух. Пьер интересуется, знаю ли я, как называются эти кусты.
— Блик-блик.
— Нет, это звучит слишком по-английски! Фух, я совсем притомился, давай лучше говорить по-французски, хорошо?
— Ага. Бликё-бликё-бликё.
Пьер смеется, отламывает стебель и вглядывается в пустоту внутри него.
— Я все же не считаю себя поэтом. Мне нравится описывать факты.
— Ты мог бы описывать их поэтично.
— Попробую.
А он красивый, когда улыбается.
На вершине ньюфаундленд подскакивает к нам и с лаем устремляется вниз.
— Глупоногая псина! — морщится Пьер.
Непонимающе смотрю на него и вздыхаю.
— Это непереводимое выражение, Серен. Оно означает, что… пес глупый.
— А ноги тут при чем?
— Ну, это всего лишь образ…
— Глупых ног.
— Скажем иначе, псу не хватает остроты ума, сойдет?
— Сойдет.
Он смахивает веточки с моей футболки. Отодвигаюсь и заполняю повисшую паузу рассказом о четырех собаках, живущих у нас в гостинице. Их воспитывает мой брат, и три из них очень умны, а вот о четвертой, большой таксе, такого не скажешь.
— А что с ней не так? — любопытствует Пьер.
— Все время куда-то убегает. Дэй называет ее своим величайшим педагогическим провалом.
Раскаленный воздух пеленой нависает над крышами Бальре. Я вижу, как она движется. Жаль, у меня нет при себе блокнота и карандашей.
Журналист зажигает сигарету и внезапно сообщает, что сбежал из Лиона из-за любовного разочарования.
— Она сказала, что мои статьи навевают на нее тоску. Тогда-то я и решил написать что-нибудь оптимистическое.
— О кайенских колибри?
— Колибри, Вера Лоу и так далее. Но процесс застопорился. Работы о пироманах и продажных политиках удались мне куда лучше. Слушай, Серен, а у тебя в Уэльсе есть парень?
— Не то чтобы. Спускаемся?
— Спускаемся.
Послезавтра мы были свободны
Мы с Колетт приезжаем в Сен-Жангу и заходим в кафе, где нас уже дожидаются вьетнамцы. Через неделю в языковой школе начнется учебный год, и Колетт хочет пригласить на занятия новых беженцев. Я скептически уточняю у нее, уверена ли она, что латынь им чем-то поможет. Колетт отвечает, что человек должен быть честолюбивым. Хм, интересно, она имеет в виду людей в лодках
[40] или меня?
Они сидят в дальнем зале кафе, прилежно открыв тетради. Мне становится не по себе. Да, моя жизнь не идеальна, но, по крайней мере, я не потеряла все, что имела, как эти люди.
Пока Колетт тестирует будущих студентов, я предлагаю остальным повторить спряжение глагола «быть» в настоящем времени. Они вежливо отказываются. Те, кто постарше, хотят проговорить формы этого глагола в прошедшем времени, те, кто помоложе, — в будущем. Учитывая мытарства их прошлого и сомнения насчет будущего, я опасаюсь, что эти грамматические формы повергнут всех присутствующих в уныние, но в конце концов упражнение выливается в такой причудливый текст: вчера я буду рыболовом; сегодня я был ребенком; через год мы свободны; сейчас ты будешь молодым; в прошлом году мы являемся президентом Миттераном; послезавтра мы были красивыми… Мы спрягаем, мечтаем и наполняем кафе своим возможным счастьем.
На обратном пути я спрашиваю у Колетт, заметила ли она интерес Мадлен к ложке.
— Этому наверняка есть простое объяснение, — отзывается Колетт. — Маме свойственно путать времена, она хорошо поладила бы с вьетнамцами, с которыми ты сегодня спрягала глагол «быть». Но, видишь ли, путаница в маминой голове всегда основана на цепочке логических выводов, которые, увы, нам недоступны.
По шоссе едут велосипедисты — маленькие, щуплые, с чрезвычайно мускулистыми икрами. Мы обгоняем их. Юпитер ворчит у меня на коленях.
— Ты не могла бы спросить у нее, почему ложка так ее интересует?
Колетт отвечает, что это ничего не даст — вопросы только встревожат Мадлен.
— Из-за ее болезни я утратила надежду узнать многое о самой себе. Tempon servire
[41], — заключает латинистка.
Машина заезжает в арку двора. Пьер № 3 меряет шагами гравийную дорожку перед крыльцом замка. Едва я открываю дверь, Юпитер с громким лаем вылетает наружу.
Пьер протягивает мне письмо с шотландским штемпелем. Лицо журналиста перекошено от досады.
Уважаемый мистер Онфре!
Университет Манчестера сообщил мне о Вашем письме. Я не могу ответить на Ваши вопросы, потому что уже давно отошла от академической жизни, предпочтя предсказуемым парадигмам социологии напряженное ожидание орнитологии.
Буду благодарна, если Вы больше не станете мне писать, поскольку я живу на маленьком острове, населенном экзотическими птицами, и, если я буду отвлекаться, это губительно скажется на состоянии неподвижности, необходимой для наблюдения за ними.
С наилучшими пожеланиями,
доктор В. Лоу
Образ Веры Лоу, превратившейся в насест для птиц на пустынном острове, на несколько секунд завладевает моим разумом. Пьер с обиженным видом смотрит на огромные горшки с геранями за моей спиной.
— Что ты собираешься делать? — спрашиваю его.
— Сожгу рукопись, вернусь в Лион и займусь настоящей журналистикой, — отвечает он.
— В Лион? А когда?
Мой голос звучит пронзительно. Руки прикладывают упавший лепесток к живому цветку герани.
— Завтра с утра пораньше. Тут мне что-то совсем не пишется. Только и делаю, что в окно глазею.
— Так закрой ставни!
Он улыбается. Если бы мои грудные мышцы не были парализованы терриконом, сердце подскочило бы к горлу.
— Серен, э-э, я подумал… А ты не хочешь поехать со мной? Ты могла бы рисовать портреты людей, у которых я беру интервью.
— Портреты я плоховато рисую.
— Может, возьмешь на год академический отпуск? В Лионе две реки и два холма. Художникам там нравится.
Мысленно рисую наш портрет на городском мосту. На мне комбинезон художника, у Пьера на голове красный берет.
— Мне нужно остаться здесь. Из-за ложки.
— Что за ложка?
Окно на третьем этаже распахивается, Колетт выглядывает и кричит, что «вольво» починили.
— Завтра мастер пригонит твою машину сюда! Здорово, правда?
Я могу только кивнуть.
— Отличная новость! — восклицает Пьер с преувеличенным энтузиазмом, затем проводит рукой перед лицом, словно человек, который не может решить, ехать ему на подошедшем автобусе или дождаться следующего. Он уже приближает свои губы к моим, но в последнюю секунду передумывает и чмокает меня в обе щеки.
— Счастливого пути, — лепечу я.
Вот вам непреложный факт: люди уходят из моей жизни. А я не способна ни последовать за ними, ни помешать им уйти.
В ее глазах
Колетт помогает матери принять ванну, а я валяюсь на диване и кляну себя за идиотизм — вместо того, чтобы отправиться в Лион вместе с мужчиной, который хотел меня поцеловать, я остаюсь в Бальре, теша себя надеждой, что найду объяснение тому, как старая серебряная ложка оказалась у изголовья моего покойного отца.
Вспоминаю выражение глаз Пьера в тот миг, когда он разглядывал герань, и ощущение его губ на своих щеках. Прокручиваю эту сцену в памяти раз за разом и забываю даже свое имя.
— Серен!
Колетт выходит в полутемную гостиную и смотрит на меня с нежностью.
— Сходи в кабинет к Пьеру, поговори с ним. Это тебя отвлечет.
Вслед за Колетт появляется Мадлен с мокрой головой и в халате. Вид у пожилой дамы такой же разбитый, как у меня. Я желаю ей доброй ночи, но сегодня она меня не узнает.
Идя на звук возвышенных скрипичных пассажей, я как можно тише взбираюсь по ступеням башни. Дохожу до нужной двери и замираю, стесняясь постучаться.
— Входи, Серен! — восклицает Пьер, перекрикивая музыку.
Открываю дверь и в первые секунды словно ничего не вижу — кажется, пространство состоит лишь из звуков какой-то необычайно грустной мелодии. Затем оно обретает черты помещения, напоминающего мою комнату — закругленного, прохладного и темного. Только потом мой взгляд фокусируется на месье Куртуа, который стоит посреди комнаты с серебряным шейкером в руке.
— Хочешь мартини?
Он наклоняется над проигрывателем, чтобы убавить звук, но вдруг передумывает и увеличивает громкость.
— Послушай вот это. Иоганн Себастьян Бах, Концерт для двух скрипок ре минор!
Пьер качает головой в ритме музыки, подходит к столу и готовит мне мартини. Я сажусь в потертое бархатное кресло.
Комната обставлена в высшей степени сдержанно: фотография ночного неба на стене, проигрыватель, два кресла и стол со множеством ящиков (такой подошел бы капитану корабля). На столе зубоврачебная лампа-лупа, стопка разноцветных бумаг, изрезанные листки, согнутые листки, три почти сложенные коробочки.
Из увиденного я делаю вывод, что в этом кабинете муж Колетт складывает оригами, пьет мартини и слушает классическую музыку.
С разницей в триста семьдесят тысяч лет
Террикон наполняется звуками. Скрипки издают финальные аккорды, взлеты радости сменяются потоками страдания. Звукосниматель несколько раз бесшумно проезжает по поверхности пластинки и автоматически поднимается. Музыка звучит в моей голове даже в тишине. Меня знобит.
— В этом произведении много человеческого и много Божественного, — говорит Пьер. — Оно великолепно, правда?
— Да.
На самом деле я не знаю, может ли что-то настолько исполненное отчаяния считаться великолепным.
Пьер бросает оливку в мой бокал с мартини, и мы чокаемся. Он радуется, что «вольво» наконец починили.
— Неисправная машина — всегда источник проблем, а ты ведь наверняка спешишь вернуться домой!
Он добавляет, что поиск места, из которого началось путешествие ложки, был нелегким, и поздравляет меня с успешным завершением этого важного дела.
Отвечаю, что мне и вправду пора возвращаться в Пембрукшир. Мой голос сипнет. Пьер № 2 пока не знает, что Пьер № 3 тоже собрался покинуть замок и что моя цель не достигнута, ведь я хочу проследить путь, который проделала ложка.
— Серен, ты можешь снова приехать в Бальре, если захочешь. Если сейчас тебя тянет уехать, уезжай. И не забывай, что человеку необходимо время от времени прислоняться к стволу векового дерева и мечтать.
Обдумываю слова Пьера, а он тем временем достает из ящика стола две бумажные коробочки и распаковывает их так аккуратно, будто обрывает листья с артишока. Затем зажигает лампу-лупу.
В первой коробочке лежит серый камень с оттиском папоротника. Во второй — черный камень с оттиском папоротника.
Мой отец иногда приносил с прогулок окаменелости; Раньше они меня не интересовали — я предпочитаю живые вещи. Но сегодня… один взгляд на тонкие веточки и листики все меняет. В оттисках на этих камнях жизнь остановилась и в то же время продолжается. Рассматривая два папоротника, я не могу не заметить, насколько они схожи между собой.
— Этому камню четыреста тысяч лет, — шепчет Пьер, — он из Китая или, возможно, из Ладакха. А этому тридцать тысяч лет.
— Вы коллекционируете окаменелости?
— Я их изучаю. Коллекцию собрала Мадлен. Вот этот она отыскала в нескольких километрах от Бальре.
Мне трудно представить себе Мадлен в красивых лодочках, изучающую леса и пастбища департамента Соны и Луары.
— Серен…
— Да?
— Эти две окаменелости и-ден-тич-ны!
Слова Пьера производят на меня впечатление, сама не знаю почему.
— Просто поразительно, что два абсолютно одинаковых папоротника могли существовать на двух разных континентах, да еще с разницей во времени в триста семьдесят тысяч лет. Я работаю над тем, чтобы разгадать эту тайну.
Вздохнув, Пьер бережно складывает окаменелости в коробки и убирает их обратно в стол. Словно услышав мой беззвучный вопрос, он одаривает меня улыбкой, грустной и радостной, как только что прослушанный скрипичный концерт.
— Нет, Серен, конечно же, я не сумею ее разгадать. Но размышлять над разгадкой чрезвычайно увлекательно.
В последней главе автор постарается дать определение искусству коллекционирования. Если кто-нибудь заявляет при мне, что хочет стать коллекционером, я непременно предупреждаю этого человека: «Не путайте коллекционирование с собирательством!» Стремление к собирательству заложено в наших генах и является таким же инстинктивным, как стремление шотландской овчарки собирать овец в стадо.
Коллекционирование — это в своем роде искусство… Коллекционер является антиподом собирателя. В то время как последний накапливает и складирует, первый должен охотиться, отличать, проводить отбор и, следовательно, исключать. Да, дорогие читатели, способность к дискриминации находится у коллекционера на первом месте, особенно если речь идет о коллекционере ложек! Почему, спросите вы? Пока другие коллекционеры выискивают редкие объекты вроде африканских масок, карфагенских монет или эскимосских ножей, коллекционер ложек сосредоточивает внимание на тривиальных предметах домашней утвари. Следовательно, наше с вами искусство заключается в том, чтобы ограничиться тематикой, материалом, эпохой и т. п. Поверьте, по мере разрастания вашей коллекции вы высоко оцените этот подход. Будьте честны перед собой и не мечитесь из стороны в сторону. Коллекционер, который внезапно меняет тему и рамки своей коллекции, совершает деонтологическую ошибку и становится посмешищем.
В заключение я хотел бы добавить следующее. Если жизнь позволяет вам
не коллекционировать, если в ней есть любовь, движение, восторг, человеческое тепло — не тратьте время на охоту за редкими предметами. Делитесь своими сокровищами. Предлагайте, теряйте, оставляйте и распахивайте двери.
Полковник Монтгомери Филиппе.
Воспоминания коллекционера
Война
Во сне я вижу папин каталог с образцами красок, который забрала полистать и не вернула. Достаю из него пачку бумаги фирмы «ОКБ», на каждом листке стоит название оттенка и его изображение. Даже во сне я понимаю, что прежние ассоциации с теми или иными цветами уступили место новым. Французский синий стал оттенком атласа, выстилающего дно коробки для столовых приборов. Голубой Тиффани — цветом палатки на берегу озера. Костный уголь теперь навевает воспоминания об угольных полосах на рельсах железной дороги, а марс — о ржавой гильзе… Глухой стук двери на втором этаже грубо вырывает меня из сновидения.
Прислушиваюсь.
Щелкает задвижка, на лестнице раздается шарканье Мадлен, каменные ступени поглощают шелест ее шагов. Мысленным взором вижу, как неуверенно она спускается, цепляясь рукой за протянутый вдоль стены трос, двигаясь на свет маленьких ламп, которые не выключают по ночам именно для того, чтобы пожилая дама могла совершать свои вылазки. Вот-вот раздадутся уверенные шаги Колетт, которая поспешит на помощь матери. Прислушиваюсь дальше. Шаги Колетт не раздаются.
Приближаюсь к входной двери, захватив с собой шаль на случай, если Мадлен станет подмерзать. Под ногами каменный пол, тут и там светятся лампы, приотворенная дверь окутана полумраком, за нею виднеется двор, утопающий в лунном свете. Мадлен застыла на песчаниковой скамье, ее голова с тонкими седыми волосами словно обрамлена горшками с геранью, висящими на стене. Не знаю, как поступить. Даже если пожилая дама не страдает лунатизмом, лучше будить ее плавно, чтобы ненароком не вызвать сердечный приступ или инсульт.
Накидываю шаль на ее сухонькие плечи и сажусь рядом.
На ночном небе переливаются звезды. Будь я порешительнее, пошла бы сейчас к Пьеру Онфре и пригласила полюбоваться звездами вместе с нами.
— Он красивый.
Я вздрагиваю. О ком она говорит и что имеет в виду? Мадлен все-таки еще что-то соображает или ее мозг совсем затуманился? Полупрозрачный палец моей собеседницы указывает на маленький дом.
— После войны он долгие годы стоял разрушенным.
— А сколько вам было лет во время войны?
Мадлен напрягается. Я и забыла, что вопросы ее пугают. Она крутит кольцо на пальце и пытается повертеть часы на руке, но их там нет, ведь сейчас ночь. Перевожу взгляд на ее голые ноги, и внутри все сжимается. Решаю зайти с другой стороны:
— Должно быть, война — это так страшно и тяжело…
— Что ты, деточка, война — это чудесно.
Молчание.
Искоса смотрю на Мадлен. Взгляд у
нее осмысленный.
— Моя мать так боится немцев, что отправляет меня спать в подвал, — неожиданно заявляет пожилая дама.
То, что она строит фразу в настоящем времени, сбивает меня с толку, но так мне легче понимать французский.
— Они… ужинают на втором этаже… еду им подают наши матери и бабушки… мы лежим на влажных матрасах… в подвале… мои младшие сестры, я, кузины, подруги из деревни… банки, свечи… столовое серебро… покрывала. В первую ночь нам страшно, но потом весело. Мир без матерей… и без мужей.
Я слушаю, как она то выпаливает слова, то спотыкается о тишину. Во время каждой паузы мне кажется, что Мадлен погрузилась в небытие, но она топает ногой и упрямо возвращается к рассказу.
— Нынче утром немцы чертят карты и вкапывают столбы для… линии… я проехала по лугам и по дороге на велосипеде с письмами… я спрятала их в носки… для жителей деревень… на той стороне, я сказала: «Гутен Таг», они сказали: «Бонжур», я чувствовала письма… Я сказала: «Гутен Таг», они сказали: «Бонжур». Моя матушка хитра, она прячет письма в моих носках, а своих дочерей… в подвале замка… и на чердаке, на чердаке маленького дома, она прячет подпольщиков, тех, кого приводят участники Сопротивления… участники Сопротивления приводят подпольщиков и в эту ночь, я иду спать в подвал вместе с сестрами, другие женщины не спят, потому что… участники Сопротивления хорошо выглядят… лес охраняет их секреты. Они приводят подпольщиков… Если немцы их обнаружат, в подвал замка они уже не полезут, говорит моя мать. И наоборот. Один или два… семья… дети… всего одна ночь. Участники Сопротивления хорошо выглядят, женщины Бальре влюбляются в них одна за другой… Они сами под них стелются, говорит моя мать, ты на такое не пойдешь, правда ведь? Мамочка, бояться нужно не немцев и не участников Сопротивления…
Мадлен умолкает, задерживая дыхание. Она встает, проходит несколько метров и застывает. Мне хочется узнать, что было дальше, но Мадлен противится, когда я пытаюсь вернуть ее к скамье. Сила пожилой дамы меня удивляет. Мы стоим посреди двора и не двигаемся с места.
Неожиданно меня осеняет: раз Мадлен любит Би-би-си, надо заговорить с ней на английском, причем с британским акцентом. Я начинаю с того, что первым приходит в голову, — со своих новых цветовых ассоциаций, навеянных недавним сновидением:
— Платиново-белый — оттенок окаменелого лишайника. Опалово-белый — оттенок плесени на стене. Сливочно-белый — ваши элегантные туфли…
Услышав английскую речь, Мадлен возвращается к скамейке и садится.
— Я раскладывала окаменелости у себя в комнате, — заявляет она.
Грамматический переход к прошедшему времени заставляет меня сосредоточиться еще больше.
— Было полнолуние, снег шел… уже шесть дней, соседи… кричали, чтобы мы спустились, потом уже никто не кричал, потому что все оккупировала Германия. Они кричали… раненый человек… парашютист. Два английских бойца принесли его, они исчезли. Он тоже был англичанином. Очень молодой… неудачное… приземление в лесу возле Козьего ущелья. Соседи разместили его в маленьком доме. На чердак поднимать не стали, он был слишком слаб. Говорили, туда немцы не войдут. Говорили, потому что надеялись… говорили, потому что… потому что…
Мадлен умолкает, оторопело уставившись на свое голое запястье. Это невыносимо. Я снова мысленно открываю свою картотеку оттенков и говорю по-английски:
— Алебастр напоминает мох в лесу. Шафрановый — как баночка меда.
Пожилая дама качает головой.
— Сера — кончик бабочкиного хоботка…
Мадлен закрывает глаза:
— Его рот был в крови, нижнюю челюсть увело… влево. Нога вывихнута в колене… в лодыжке… плечо тоже свисало вперед, перед рассветом пришел костоправ, перед рассветом костоправ сказал, что челюсть заживает долго… англичанину будет плохо, когда он очнется. Мы… мы… смотрели, как моя мать моет его… четыре или пять женщин вокруг кровати… Луизе, нет, Сюзанне пришла мысль приложить к его челюсти тряпку со снегом. Всю ночь англичанин бредил, и днем, и следующей ночью, мы боялись, что у него воспаление легких, боялись, что он повредил голову и уже никогда не выздоровеет…
Молчание. Мадлен снова погрузилась в небытие?
— Черный лакричник — цвет спящего ежа. Серозеленый — лестница, ведущая к свету. Стойкий зеленый — цвет лунного камня на…
Пожилая дама перебивает меня:
— Мы считали, что он пришел освободить Францию от серо-зеленых, мы боялись, что он скоро умрет и никто даже не узнает его имени, но в конце концов он очнулся и сказал нам… спасибо… Спасибо… Еще восемь дней он провел в постели, потом открыл глаза, его лихорадило, он плакал, тетя и мама ухаживали за ним с утра до вечера. По ночам… я. Рядом с ним была я.
Мадлен делает глубокий вдох и задерживает дыхание так надолго, что мне делается тревожно. Я уже открываю рот, чтобы снова перевоплотиться в диктора Би-би-си, но она кладет морщинистую руку поверх моей, словно говоря: «Подожди, сейчас».
И я жду. Мадлен прерывает длинную паузу и снова говорит. Глаголы в ее речи снова звучат в настоящем времени:
— Нам всем хочется его накормить… еды мало, но соседки приносят вишню, суп, сало, всякие компоты и… настой бузины. Каждая надеется, что другие женщины отнесутся к ее… мужу так же… там, где он теперь. Они путают англичанина с мужем, братом, сыном. Я — нет. Я… я его кормлю ради него. Чтобы он,
он окреп и заговорил. В сундуке есть коробка. Столовое серебро… элегантнее. Чтобы… есть.
Чувствую, как террикон холодит мне спину под лопатками. О чем она говорит? Какая коробка? Какой сундук?
— Было трудно, — шелестит она. — Чтобы он окреп, я просовывала между его губами лоскут, смоченный молоком, было трудно, я просовывала между его зубами жеваный хлеб… было трудно, его челюсть… сопротивлялась. Потом я решила кормить его из чего-то… красивого, не из мятой тряпки. Серебряная ложка… из коробки… достаточно большая, чтобы в нее поместилось молоко, достаточно тонкая, чтобы проскользнуть между его зубами.
Он пил медленно.
Я подносила ложку к его губам раз двадцать. Сперва молоко, потом вода, потом суп. Молоко. Вода. Суп. Молоко. Вода. Суп.
Однажды ночью он схватился за ручку этой ложки так, словно бы она его спасла… Нет, не «словно бы» — спасла на самом деле.
Террикон высасывает весь воздух из моих легких. Сосредоточиваю внимание на звездах, на геранях, на полосках своей пижамы.
— Спустя какое-то время его челюсти могут нормально открываться, он встает с постели и ходит по дому, прихрамывая, но за едой все продолжает пользоваться этой ложкой. Мы говорим на разных языках… мы шутим, что, видимо, ложка улучшает вкус пищи, мы рассматриваем гравировку и монограмму, я говорю названия по-французски: паломник, саламандра… Англичанин учит меня своим словам… рисует… мы повторяем имена, имена на французском, на английском, французском, английском. Наша любовь началась с обмена словами… самолет, улитка, замок, summer, boat, снег, война, fossil
[42], moon, свекла, красивая… Ты тоже beautiful, говорит англичанин, are you married?
[43] А я ему, да, да, у меня есть муж.
В моей голове складывается образ, и террикон засыпает его черной землей.
— Двенадцать дней спустя бойцы Сопротивления появились поздно ночью, англичанин ушел с ними… Я больше не называла его англичанином, я звала его по имени, так, как он его произносил, с ударением на первый слог — Пи-и-тер. Я обожала повторять это слово.
Словно удар по затылку.
— Мадлен. Этот человек, его звали Питером…
— Он унес ложку. Он унес ее тайком, хотя она и так должна была достаться ему.
Мы молчим, пока тишину не нарушает свист соловьев, а луна не начинает пропадать с небосклона. Мой мозг будто оледенел, как после той автокатастрофы, в которую попали мы с Дэем. Террикон пульсирует, перед фонарем вьется ночной мотылек. Незадолго до рассвета мы медленно взбираемся по ступеням замка, я шагаю впереди Мадлен. Оказавшись в доме, она проходит до конца гостиной и останавливается у двери своей комнаты.
Дама облегченно вздыхает, видя свою постель, роняет шаль на пол, садится на кровать и укрывает ноги розовым одеялом. Поднимает голову и ловит мой взгляд, продолжая вспоминать. Я стою в дверном проеме.
— После войны мой муж принял ее как свою.
— Как свою?
— Колетт. У других женщин в нашем поселке тоже родились малыши. Мужья отнеслись к этому по-разному. Мой муж был хорошим человеком и ни словом меня не упрекнул. Я хочу спать.
— Да, Мадлен. Bye-bye
[44].
— Bye-bye.
Почему ты никогда не рассказывал нам об этом?
Почему ты дал мне имя Мадлен?
Почему ты меня оставил?
Битва с кустами
Медленно спускаюсь по замковой лестнице.
Сосед, обвалявший меня в муке, сгребает листву на дорожке перед своим домом. Ньюфаундленд радуется мне, а его хозяин замечает, что сегодня будет погожий денек, просто великолепный для сентября.
Ноги сами несут меня в другую сторону, и вот я уже проворно взбираюсь по старой секретной тропе, ведущей к Козьему ущелью. Ветви хлещут по лицу, царапают руки и ноги. Подбираю с земли палку и решительно их отодвигаю.
Добираюсь до прогалины, густо заросшей кустарником с мясистыми листьями и полыми стеблями, и останавливаюсь, опершись на палку, будто старый паломник на посох.
Делаю вдох, террикон сжимается. Делаю выдох, террикон расширяется.
Рука поднимает палку и заносит ее над первым попавшимся кустом. На это не требуется большого усилия, нужно всего лишь замахнуться и ударить. С каждым движением я отсекаю по стеблю и добавляю по детали в мозаику, которая складывается в голове.
Питер, мой будущий отец, прыгает с парашютом. Повалено пять кустов.
Питер целует и обнимает Мадлен, брюхатит ее и ворует ложку.
Уничтожена дюжина кустов.
Заурядный парашютист живет дерьмовой жизнью моряка-рыболова, пока спустя пару десятков лет не встречает мою будущую мать. Рассказал ли он ей о чем-нибудь? Нет, он предпочел мечтать о Мадлен на утесе, прижав задницу к полусгнившей скамье и устремив взгляд в пустоту.
Кустов двадцать канули в небытие.
Он предпочел умереть. Хотя должен был жить.
Я устроила в этой прогалине настоящую сечу. Не выстоял ни один куст.
Слагаю оружие, сажусь на землю, устланную обрывками листьев и веток.
И рыдаю.
Точнее, так: рыдаю, сажусь и слагаю оружие.
Террикон, маленький холмик рядом со мной, тоже рыдает.
Слезы наконец находят свой естественный ритм — я то успокаиваюсь, то, пораженная новой мыслью, начинаю плакать сильнее, то снова успокаиваюсь, и так далее.
Наконец они всасываются в пустоту и перестают течь даже внутри. Начинает припекать, я ощущаю, как прогалина расширяется от солнечного тепла. Ошметки листьев и веток жухнут, уцелевшие наливаются силой.
Покинувший мое тело террикон оседает на травянистый бугорок и протяжно вздыхает.
Возможно, когда-нибудь над ним будут порхать бабочки. Возможно, когда-нибудь на нем вырастут дикие орхидеи. Возможно, когда-нибудь он станет окаменелостью.
Из хаоса рождаются звезды?
Наши похожие улыбки
Автослесарь и Колетт беседуют, стоя возле «вольво». Кузов машины блестит, вид у нее отменный. Автослесарь с довольным лицом достает ключи, удивляется, почему у меня зеленый подбородок, и хвалит «вольво», называя его хорошим старым драндулетом. Я догадываюсь, что должна расплатиться за ремонт, и говорю, что сейчас схожу за деньгами, но Колетт бросает взгляд на мои исцарапанные руки и растрепанные волосы, в которых застряли веточки, и решительно останавливает меня:
— Иди скорее под навес, Серен, посиди в теньке. Там она оставила чай и пиалу со сливами.
Смакуя терпкий чай, обвожу взглядом двор. Ставни домика закрыты. Изнутри слышен лихорадочный стук пишущей машинки. Автослесарь уходит, а Колетт устремляется ко мне.
— Серен, что с тобой? Ты чем-то расстроена?
Я осведомляюсь, известно ли ей, что ее отец, вероятно, не был ей родным. От ответа на такой прямой вопрос трудно уйти. Колетт рассказывает, что родители сообщили ей об этом, когда ей было десять лет, и что ее приемный отец был очень добрым человеком.
— Конечно, мне хотелось познакомиться со своим биологическим отцом. Но я уже изучила латынь, это помогло мне постичь разницу между важным и существенным.
Она пододвигает ко мне пиалу со сливами.
Колетт, я думаю, что ложка исчезла не во время ограбления. А еще я думаю, что твоим отцом был мой отец. Именно он унес ложку.
Собеседница щурится и закусывает губу. Ее сознанию, перегруженному латынью, трудно понять мои слова.
Покатав в пальцах сливу, Колетт прерывисто выдыхает. Мои слова добрались до ее сознания. Мы смеемся. Иногда невозможно подобрать правильные фразы, и тогда на помощь приходит дыхание.
Решив прервать этот запутанный разговор, мы с Колетт идем в сад послушать, как Пьер читает Мадлен газету.
Оба дремлют. Мадлен — выдвинув подбородок вперед, Пьер — повернув голову набок.
Мы устраиваемся на теплой траве. Колетт шепотом просит меня рассказать о моем отце. Вероятно, ее отце. Вероятно, нашем отце.
— Что именно?
— То, что тебе придет в голову.
— То, что мне придет в голову.
Она кивает и с жаром спрашивает:
— Он был красивый?
— Очень красивый… И веселый. Не любил длинных речей. Словом, был лаконичен.
— Вот как? А латынь он любил?
— Он любил лодки, окаменелости, острова. Любил рисовать. Морские узоры, карты, узлы. Двигатели. Он любил мою мать. Очень любил. Они были отличной парой.
— Чудесно.
— Люди его ценили.
Колетт улыбается, ее глаза краснеют.
— Каждый вечер он поднимался на утес над гостиницей, чтобы посмотреть на море.
— А если шел дождь?
— Тем более…
Я смеюсь сквозь слезы, Колетт протягивает мне бумажный платочек.
— Когда он улыбался, у него на подбородке появлялась такая же ямочка, как у тебя.
— Как у Кирка Дугласа.
— Точно.
Three little birds[45]
В восемь вечера подхожу к домику, где живет Пьер Онфре, и стучусь в окно. Он выглядывает наружу. Волосы всклокочены, глаза красные от усталости.
— Серен?
— Ты разве не уехал?
Он недоуменно приподнимает брови и зажигает сигарету.
Я трясу ключами от «вольво» и говорю:
— Машину отремонтировали. Не хочешь покататься?
Педали «вольво» живо реагируют на нажатие, автомобиль совсем как новый. Мы катим через леса, через виноградники, за нашей спиной садится солнце, по расстилающемуся впереди асфальту проносятся вечерние миражи. Первые несколько километров пути я наслаждаюсь тем, что могу уверенно вести машину и свободно дышать без всякого террикона в груди. Моя грусть никуда не делась, но, странное дело, я чувствую себя отдохнувшей и полной сил.
Прежде чем отправиться к Пьеру, я заглянула в комнату Мадлен. Она лежала в постели, устремив взгляд в окно. Когда я положила ложку на ночной столик, пожилая дама улыбнулась мне, хотя ее сознание было затуманено. Мадлен забыла о ложке, но я считаю, что поступила правильно. Возможно, вскоре ложка снова окажется в той коробке вместе с остальными столовыми приборами. Еще одна необыкновенная судьба, которая, подобно многим, закончится в безвестности.
— Я целый день сочинял революционные стихи и, кажется, совсем опьянел от этого занятия! — восклицает Пьер.
Он поднимает стекло со своей стороны, чтобы воздух не врывался в наш разговор. Пьер выглядит сейчас таким счастливым, что, пожалуй, уже не смог бы позировать в образе мученика живописцу эпохи Ренессанса.
Я рассказываю ему, что чувствую себя так, будто только что проснулась. Пьер берет меня за руку и приникает губами к моим, все еще зеленоватым после битвы с кустами в той прогалине.
— Что я буду делать без тебя? — говорит он.
Ночью мы ставим «вольво» на дороге и перебираемся через стену заброшенного имения. Пьер несет покрывало, я — печенье, которое обнаружила в багажнике.
Растянувшись на траве, мы даем названия звездам, а затем долго занимаемся любовью. Все происходит совсем не так, как в фильме «Бесплодные земли».
Незадолго до рассвета я вижу, как звезды гаснут одна задругой, вижу стаю скворцов в предутренней дымке.
Вижу росу на голой спине спящего Пьера. Провожу по ней пальцем, рисуя цветок, и устремляюсь к развалинам. В прежние времена замок, вероятно, был красивым — его остов из золотистых камней рождает в моей голове образ чарующего одинокого мира. Трава подстрижена, а это означает, что о территории заботятся. А может, ее даже любят.
Через семь дней откроются двери Уэльской академии искусств. Я знаю, откуда взялась ложка и какой путь она проделала. «Вольво» отремонтирован. Террикон развеялся. У меня есть сводная сестра, есть та, которая, скажем так, могла бы быть моей мачехой. Вожу пальцами ног по росистой траве и гадаю, что мне дальше делать. Пора бы решить.
Мама предложила бы мне выйти из дома и подумать на свежем воздухе, но я и так уже на свежем воздухе. Пьер Куртуа посоветовал бы посидеть под деревом, но я чересчур возбуждена, чтобы просто сидеть. Пчеловод напомнил бы, что человеку не следует цепляться за грусть. Ал не сказал бы ничего, он не беспокоится о будущем. «Вчера ты красивая. Сегодня ты будешь свободна. Завтра ты была президентом Миттераном», — продекламировали бы люди в лодках. Дэй рекомендовал бы мне плотно позавтракать, Мадлен — испытать любовь (я так думаю), Колетт — ответить, что подтолкнуло меня задать этот вопрос. И на латыни, пожалуйста.
А что сказал бы мне ты, папа?
Пытаюсь представить себе его лицо и его точку зрения. Делаю вид, будто слышу его голос.
Пускай всего на долю секунды, но отец обретает свой голос.
Невидимый, недосягаемый, он поет регги, тогда как мой земной отец любил джаз. Don’t worry, ‘bout a thing, cos every little thing, gonna be alright…
[46]
Я слышу его пение и смеюсь.
Мое внимание переключается на луговое разнотравье.
Все эти оттенки зеленого и черного с вкраплениями синего…
Оттенки / образы № 2
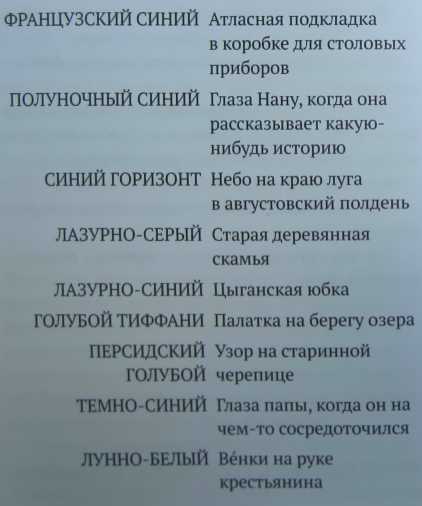


Благодарности
Благодарю Сандрин Элишаль и Филиппа Ларю за доверие и советы, Изабель Фори и Мари-Хосе Адифэ за пристанища среди лесов, Стефана Доннелли, моего валлийского рецензента, Франсуа «Перитис-симуса» Хакера, Майкла Кэша, который отправил меня в Пембрукшир, и Люси Аду Джонс — первую Нану.
Спасибо также Николь Альбине, Николь Бальвэ, Альбе-Гайе Беллуджи, Лорану Бенеги, Сильвии Фейтель, Вероник Хакер, Карин Ле Бейл, Филиппин Леруа-Больё, Флорану Массо, Клоду Перрону, Вероник Пулен, Мелиссе Тэквей, Сьюзан Видлер, Лоик Венсан и Сандрин Венсан.
Выражаю признательность всей команде «Издательства Лианы Леви», особенно Лиане Леви и Сандрин Палюссьер. Спасибо, что отворили дверь и шли рядом со мной.
Спасибо Эрвэ Якубовичу. Если бы не твое терпение и твое нетерпение, если бы не твои подбадривания, «Ложка», вероятно, так и осталась бы лежать в ящике стола.

Примечания
1
Трупное окоченение
(лат.). — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)
2
Трупная бледность
(лат.).
(обратно)
3
Номер плюс завтрак (англ.).
(обратно)
4
Звезда, рожденная в хаосе (валлийск.).
(обратно)
5
Навеки (лат.).
(обратно)
6
Мелодия литургического гимна, на которую положены стихи на английском и валлийском языках.
(обратно)
7
«Спрячься в своей скорлупе, рай или ад, было холодно в пути…»
(англ.).
(обратно)
8
Приподнятое настроение
(англ.).
(обратно)
9
Туалет (англ., искаж.).
(обратно)
10
Шагаю по солнечному свету, o-o! Говорю это, говорю это, о-о!
(англ.)
(обратно)
11
Привет. Ты откуда?
(англ.)
(обратно)
12
Языковая игра, построенная на схожести звучания французских слов «валлиец» (galloise) и «галл» (gaulois).
(обратно)
13
Кохлеар — маленькая ложка с заостренным кончиком.
(обратно)
14
Хочешь со мной переспать?
(фр.)
(обратно)
15
Пока (англ.).
(обратно)
16
Custard Creams — марка печенья в виде сандвичей с начинкой из заварного крема. Chocolate Digestives — марка песочного печенья в шоколадной глазури. Gingemuts — марка печенья с имбирем и орехом.
(обратно)
17
Знаменитые последние слова (англ.).
(обратно)
18
La Pierre Qui Croule (фр.).
(обратно)
19
Потерянный, потерявший (англ.).
(обратно)
20
Здесь: Нет.
(обратно)
21
Сытное китайское блюдо из мяса, яиц и овощей.
(обратно)
22
Вы англичанин? (англ.)
(обратно)
23
Я не хочу… романтики… Я, я хочу… ну, чего ж еще… ха, о-о-о… у тебя классные штаны, твои рыжие волосы такие короткие… (иском.
нем.)
(обратно)
24
И певчие птицы поют… (англ.)
(обратно)
25
Как никогда прежде, как никогда прежде…
(англ.)
(обратно)
26
Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя (англ.).
(обратно)
27
Английское слово cool имеет несколько значений, в частности — «прохладный» и «крутой».
(обратно)
28
Цыгане (фр.).
(обратно)
29
Житель бургундского департамента Юра
(фр. Juras-sien).
(обратно)
30
Пожалуйста (англ
(обратно)
31
Существительное mure переводится с французского как «ежевика, шелковица», прилагательное mure — «зрелый, поспевший».
(обратно)
32
Обманщик, хитрец (фр.).
(обратно)
33
Привет!
(англ.)
(обратно)
34
Как тебя зовут?
(англ.)
(обратно)
35
Как необычно
(англ.).
(обратно)
36
Смешная ты девушка (англ.).
(обратно)
37
Одно из значений английского существительного sabbatical — отпуск продолжительностью до одного года, обычно предоставляемый преподавателю колледжа или университета для научной работы, учебы или отдыха. Прилагательное sabbatical может переводиться как «совершающийся по субботам».
(обратно)
38
Феноменология
(англ.).
(обратно)
39
Буква «Y» в английском алфавите и слово why (почему) читаются одинаково.
(обратно)
40
Выражение «люди в лодках»
(англ, boat people) использовалось для обозначения вьетнамских беженцев, покидавших свою страну водным путем.
(обратно)
41
Время упущено (лат.).
(обратно)
42
Summer — лето; boat — лодка; fossil — окаменелость; moon — луна.
(обратно)
43
До свидания
(англ.).
(обратно)
44
До свидания (англ.).
(обратно)
45
Досл.: три птички (англ.). Также There little birds — название песни Боба Марли, отрывок из которой цитируется далее по тексту.
(обратно)
46
Не беспокойся ни о чем, потому что все будет отлично…
(англ.)
(обратно)
Оглавление
Ложка
Дани Эрикур
Предисловие
I
УЭЛЬС
Rigor mortis[1]
Анатомия ложки
Seren ei eini yn anhrefn[4]
Гостиница «Красноклювые клушицы»
Вид, который ему уже не откроется
Морской ветер развевает его кудри
Клубок событий
Попойка субботним вечером
Искусство внимания
Ночная прогулка
II
ФРАНЦИЯ
Отряд, шагом марш!
Приподнятое настроение
Подвиг моего большого маленького брата
На департаментской трассе 408
Мимолетная мысль
За рулем «вольво»
Террикон давит мне на почки
Знакомство с аборигенами
Не впечатлил
Воздействие дикорастущих грибов на французскую аристократию
Оттенки / образы № 1
Иногда художники рисуют свои сновидения
Заниматься любовью тридцать первого декабря
Famous last words[17]
Фразы, которые уместно произнести перед самой смертью
По мнению осла, мед не имеет вкуса
Камень, который раскачивается
Замки на букву «Б», в которых, возможно, вы что-нибудь узнаете насчет ложки
Задавать вопросы самой себе
Мир не желает нам зла
Я качусь
Крезо
Кемпинг на канале
Бедная Маргарита
Есть, рисовать и быть цыганкой
Скользкий пол
Братство
Ill
БАЛЬРЕ
Владеть замком нельзя
Hiraeth — уэльское чувство
Хочу понять
Потоки воздуха
Причуды Пьера
Наказы по проводам
Семейная фотография
Поблекшие чернильные линии
Точно бумажную салфетку
Потребность в искусстве
Кивок как обязательство
Разные интонации
Ясность
Странная или смешная?
Одиннадцатая ночь
Что такое sabbatical[37]?
Дно воздуха
Гулять и блуждать — разные вещи
Одиночество — это мятый помидор
Чтобы увидеть кабана, нужно не шуметь
Послезавтра мы были свободны
В ее глазах
С разницей в триста семьдесят тысяч лет
Война
Битва с кустами
Наши похожие улыбки
Three little birds[45]
Оттенки / образы № 2
Благодарности
*** Примечания ***



 I
I