Янтарное побережье


Два города

Города-побратимы Ленинград и Гданьск объединяет многое. Оба крупные порты на Балтийском море: один — на берегу Финского залива, другой — на южном побережье Балтийского моря, которое еще в древности называли Янтарным. Оба города испытали ужасы войны, оба руками поляков и русских подняты из руин. Ленинград — один из самых прекрасных городов мира. Гданьск — один из красивейших городов Польши. Город тысячелетних традиций, восхищающий красотой возрожденных архитектурных памятников, он сегодня является крупнейшим промышленным и культурным центром народной Польши.
Сотрудничество Гданьска и Ленинграда охватывает много областей. На наших верфях строятся суда по заказу СССР, в Гданьске и Гдыне мы часто видим флаги вашей страны и встречаем советских моряков. Ученые проводят совместные исследования и обмениваются опытом во многих, и не только связанных с морем, научных областях. Для польских студентов широко открыты двери ленинградских вузов. И в Ленинграде, и в Гданьске активно действуют общества дружбы.
Уже много лет нас связывают узы братства. Мы помним ленинский Декрет о мире, который имел решающее значение для обретения Польшей государственности, национального самосознания и объединения нашей страны после 130-летнего рабства. В самом конце второй мировой войны за освобождение Гданьска отдали свою жизнь десятки тысяч советских солдат. Мы также помним о помощи в восстановлении наших городов и не забываем, что благодаря помощи вашего народа удалось спасти от голодной смерти многих поляков. Хотя и вам в то время было нелегко.
 Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.
Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.
Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.
Анджей Твердохлиб
Перевод Е. Невякина.
Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.
Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.
Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.
Анджей Твердохлиб
Перевод Е. Невякина.
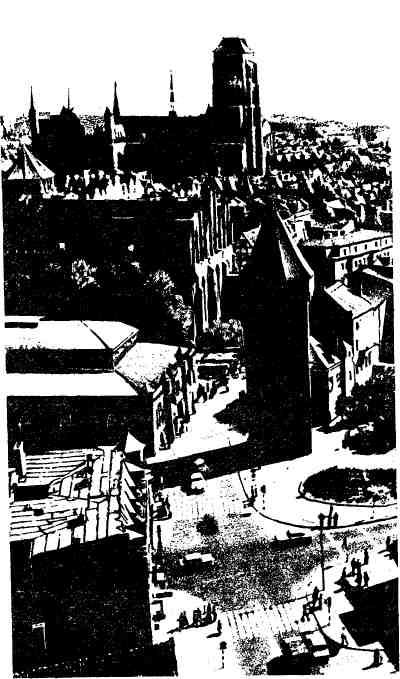
Ярослав Ивашкевич
Ода Гданьску
I
Меж заливных лугов и гор,
Меж склонов и песчаных мелей,
Где тополя
Легки, стройны
И где поля
Печальны и скудны,
Лужайки оникса желтей,
Из царства цапель,
Камышей,
Где гуще зелень,
Из мира топей и трясин
Вдруг вышла и во мгле повисла,
Синее, чем рассвета синь, —
Висла.
Неся с собою песнь и труд,
Гнев городов и говор сел,
И жар хлебов, и отблеск руд,
И слезы, хлынувшие в дол,
С собою звон и дым неся,
Косы бренчанье на лугу,
Она живет и дышит вся
И крутит барки на бегу,
Как стаю рыб, она несет
Без счету лодки, тащит плот
И медлит у твоих ворот,
О город!.. Мощь в тебе и зло.
Не золотой ли это ключ,
Журавль
[1] упавший на Жулавы
[2]?
Ты башнями коснулся туч,
О Гданьск кровавый!
Стоишь, как страж,
Чужой, а все же наш,
И рослый и великий.
Замшелый твой собор
Вздымает мачты-пики.
Не это ль твой убор,
Над Вислою
Бессонной?
Да, Гданьск, на суше, на морях
Ты возвышаешься в веках.
II
На нашей крови эти стены
Воздвиг ты, город несравненный.
Скажи нам, где же перемены?
О Гданьск, отъятый в трудный час,
Твой лик свинцовый мерк и гас,
Отгородился ты от нас.
Журавль на каменном пороге
И башен ярус многорогий
На дали смотрит, на разлоги.
Но песни из души летят
На юг — от моря до Карпат.
О Гданьск, не ты ли песням рад?
Ты внемлешь трубам в медном звоне,
Считаешь валуны на склоне,
Ты слышишь — бьют копытом кони.
Нас видит Август
[4] с вышины,
Сердца к нему устремлены,
И славит старца плеск волны.
III
Вон Шопенгауэр
[5] глядит в окно — та дама,
Что плачет в горести, вздыхает тяжело.
Ведь войско прусское в любимый Гданьск вошло!
Пропал покой: вся жизнь — теперь не жизнь, а драма.
Дом полон сундуков, стенаний полон дом,
И Артур крошечный расплакался у нянек.
А песня вольности… Она ушла, как странник,
Благословенный друг, даривший всех добром.
Но жизнь течет, течет… Мы знаем, что со сроком
Вода взбунтуется и учинит мятеж,
Плотина затрещит, и волны хлынут в брешь.
Ты устье Вислы, Гданьск, соединишь с истоком.
IV
Не разделять — объединять ты должен.
Склони свой лоб, чтоб королевской птице,
Которая свила гнездо на башнях
[6],
К нам, в небо польское, взлететь с победой.
О, это все не болтовня, не басни —
Движенье жизни, вечное движенье,
Подмоет берег и река и море,
Будь там хоть башня, хоть костел, хоть крепость.
Гданьск, ты не бойся: отпирай ворота.
Вон сотни барок. Прибывают с хлебом.
Дай руку. Вся она в перстнях. Приснились
Сны золотые. С нами будь, о боже.
Перевод С. Свяцкого.

Войцех Жукровский
Гданьск
Гданьск… Словно басом прогудел колокол. Стоит закрыть глаза, и перед взором возникает густеющая вода, зубчатый, вытянутый вперед профиль Журавля, оконца хлебных амбаров, каменные домики — весь их облик говорит о богатстве и мастеровитости владельцев.
Медный отсвет пробегает по глади Вислы, Мотлавы
[7], Радуни
[8]. Может, это отражение порталов гдездненского собора? Запечатленное в бронзе мгновение… Это святой Войцех
[9] на дарованной ему Болеславом Храбрым
[10] ладье подплывает к причалу дозорной башни на Балтийском побережье, и ему открывается польский славянский город Гданьск. Urbs Gyddanyzc, как вывел в тысячном году на пергаменте искусною чередой букв летописец.
Вот юные руки извлекли из песка почернелый, опаленный огнем деревянный брус. Что это? Еще одно напоминание о тысяча девятьсот сорок пятом? А может, остатки пепелищ времен короля Локетека
[11], когда семьсот лет назад воины-грабители Тевтонского ордена сожгли Гданьск, а славянское его население истребили? Каждый уголок повествует здесь о вчерашнем и о завтрашнем дне. Вот раздавшаяся вширь громада — это собор Девы Марии. Лапа в железной перчатке — рука крестоносца — давила на него, не дозволяла башням подниматься выше башен орденского замка, который сторожил с высоты окрестность, всем своим видом напоминая горожанам о покорности. Но чувства у тех были совсем другие, при первой же возможности они забрасывали весы и локоть и брались за топор да за меч. Скинули в конце концов ненавистное иго. И первым делом разобрали замок врага по кирпичику, раскидали по камешку, по щепке. А башню собора надстроили, вскинули шпиль к облакам, чтоб его издали видел путник, поспешающий к Гданьску. И тогда вновь свела судьба гданьщан всех сословий с польским королем и польской землею. Нет, не судьба. В этом слове фатализм истории, нет человеческой воли. А жители Гданьска выбирали, они сознательно связали свою жизнь и жизнь своих детей с присутствием Польши в устье Вислы.
Были тут у белых орлов
[12] свои гнездовья: на воротах, на башнях, на стенах. Силком их туда никто не водворял. Сами горожане ваяли их из камня, выковывали из железа. Как символ. Памятуя, кому они обязаны и процветанием и свободой, потому что и то и другое могла гарантировать лишь Речь Посполитая, ибо источником их могущества была хлебная Польша: барки с зерном, идущие вниз по Висле, посредничество в торговле между Краковом, Сандомежем, Варшавой, Плоцком, Торунью, между всем югом и всей Балтикой.
Никогда гданьщанин не отождествлял себя с пруссаком. Даже в эпоху разделов город не предал Польшу. Даже жившие в Гданьске немцы писали по-немецки о том, сколь благотворны связи Гданьска с куцым после всех разделов «Королевством польским»
[13].
Сопротивлялся Гданьск и жадюге Фридриху Великому, которого доводило до исступления плывущее мимо носа богатство. Так хотелось ему дорваться до обширных складов, до кованых сундуков, где дремали золотые дукаты и ценимые ничуть не меньше их долговые обязательства с привешенными к ним печатями… Хотелось завладеть этими деньгами и вырвать вдобавок кус земли из беспомощного тела Речи Посполитой, сформировать из рослых жителей поморских деревень еще один доблестный полк, чтоб, подчиняясь палочной дисциплине и лающему голосу фельдфебеля, охранял добытое грабежом имущество.
Свыше двадцати лет длилась прусская блокада Гданьска
[14]. Посты вокруг города. Фриц сжимал кольцо. Более двадцати лет сопротивления! Наконец при втором разделе Польши Пруссия заглотила и эту добычу.
С какой легкостью в наше время кое-кто дал убедить себя в том, что у Гданьска, того давнего, которого пожары войны превратили в груду обугленных развалин, что у него было иное, немецкое обличье. Забыли, что на пейзаж Гданьска, этого польского ганзейского города, так же как и любого балтийского порта, повлияли фламандцы, валлоны, французы, датчане, даже шотландцы и англичане, ну, и, разумеется, немцы. Не умаляю их заслуг. Однако город по своему духу прусским никогда не был. Кроме короткой эпохи гитлеровского безумия. Но ренегаты, кощунственно поднявшие руку на Польшу, исчезли, ушли в небытие…
Все лучшее в старом Гданьске, все, из чего складывается неповторимый его облик, возвели, взлелеяли польские руки. Гданьские руки. Надо очень любить город, чтобы так заботливо его отстроить, сложить заново разбитые каменья, вернуть старым домам их красоту.
На башне ратуши вновь утвердился сброшенный с ее вершины король Зигмунт Август. А ведь сама ратуша грозила вот-вот завалиться. Потребовалось немалое искусство, труд и любовь, чтобы вернуть ей нынешнее великолепие. И внутри истинный перл: Красный зал, а на его потолке старинный плафон с белым орлом, осеняющим своими крыльями город. С надписью-заверением: «Под крылами сими — преуспеяние». Так думали гданьщане, принимавшие у себя на протяжении нескольких столетий польских королей. А те приезжали, чтоб подтвердить единение Гданьска с Польшей и Польши с Гданьском.
Эта мудрая политика принесла плоды в будущем. Король Ян III Собеский
[15] назначил знаменитому польскому астроному Гевелию
[16] жалованье из своей шкатулки. А тот, составляя карту неба, назвал одно из созвездий Щитом Собеского. Так оно именовалось даже в ту пору, когда Польша исчезла с географической карты.
Сын гданьской земли поморянин Юзеф Выбицкий
[17] сложил песню легионов, которая и по сей день является национальным гимном: «Еще Польша…»
«Я появился на свет в родовом поместье Бендомин, — сообщает о себе Юзеф Выбицкий, — в пяти милях от Гданьска». На этой земле он учился. Она же привила ему любовь ко всему польскому, страсть к борьбе за независимость.
Десятки и десятки тысяч гданьщан на протяжении полутора столетий в духоте прусского бытия, в тисках гитлеровского террора сохраняли свою польскую сущность, расплачиваясь за это кровью. Их расстреливали, они умирали медленной смертью от голода, влачили под кнутом жалкое существование… Польский концлагерь Штутхоф, крематорий, земля с чешуйками недожженных костей — это все, что осталось от людей-мучеников.

А что сказать о погибших защитниках Гданьска? Ведь у них была возможность эвакуироваться, пока не прозвучали выстрелы, возвестившие начало второй мировой войны. Командир сказал им: «Кто хочет, может уйти…» А харцер
[18] Альф Личманский, глава гданьских харцеров, когда ему сообщили о грозящей опасности и посоветовали «отсидеться в тихом месте», ответил так: «Если все поляки покинут Гданьск, кто же засвидетельствует тогда его принадлежность Польше?» Гитлеровцы схватили его, пытали, расстреляли. Его мужество служит для нас напоминанием, обязательством.
Склоним головы. Пусть в минуту молчания у каждого из нас родится мысль о Польше, о великом общем труде, о терпеливой реконструкции истории нашего народа, о новом его облике, об осуществлении его намерений и мечтаний.
Вестерплатте
[19] — символ стойкости и героизма. Майор Сухарский и его немногочисленные солдаты… Смертоносные молнии, которые метал из тяжелых орудий линкор «Шлезвиг-Гольштейн», прибывший с «дружеским» визитом… Семь дней тяжелейшей обороны. Сто восемьдесят два защитника Вестерплатте против трех с половиной тысяч солдат, поддержанных шестьюдесятью пятью орудиями. Бомбардировки с воздуха. Пожары. Отражение наземных атак.
За несколько минут экскурсия обходит этот засаженный деревьями уголок порта. И его-то не могли взять немцы в течение недели, обладая таким преимуществом! Молодежь похмыкивает, и в этом презрение к захватчику.
Обелиск в честь героев Вестерплатте возвышается на холме. Изваянные из камня лица воинов глядят в сторону моря, они держат стражу — вооруженный Световит
[20].
Зайдите в одну из часовен собора Девы Марии и вы увидите, как хранится память о почти трех тысячах польских ксендзов, убитых защитниками Европы, культуртрегерами. Эти ксендзы погибли за то, что были поляками, сеяли в сердцах надежду…
Да знаете ли вы, что именно здесь боролись за Польшу словом польские писатели, именно здесь складывались картины создаваемого ими мира? Польскую книгу печатают в Гданьске вот уже пятьсот лет. Сколько же было у нее поклонников, если «Крестоносцев» Генрика Сенкевича издали одновременно в Варшаве и в Гданьске?
Сильны и благородны строки Стефана Жеромского, который, будь он жив, с радостью наблюдал бы за нами, как мы дышим соленым морским ветром. Это он изобразил Генрика Домбровского
[21], приветствующего Гданьск, освобожденный от пруссаков.
И еще стихотворение Ярослава Ивашкевича «Ода Гданьску», напечатанное перед самым началом второй мировой войны, в котором про Гданьск сказано:
Не Пястов ли корона
Над Вислою
Бессонной?
Когда Гданьск включили в состав Прусской провинции, в состав рейха, коммерческий пульс города упал, погрузочные работы замерли. Не помогли марши гитлерюгенда с барабанами и фанфарами, потрясающие огненными гривами факельные шествия, как бы спешащие поджечь Европу, весь мир… Молодежи убудет, жернова войны втянут ее в себя и перемелют. Вместо промышленных предприятий возникнет зловещая фабричка профессора Шпаннера, которую яркими красками опишет Зофья Налковская
[22], принявшая участие в расследовании преступлений гитлеризма. Бочки с расчлененными человеческими телами, котлы для перетапливания человеческого жира на мыло — это тоже приводящий в оцепенение эпизод из жизни оккупированного Гданьска.
В последние месяцы войны Гитлер велел защищать до последнего каждый клочок земли. Захваченной грабежом земли. Он обрекает поочередно города на уничтожение. Дивизии Второго Белорусского фронта обрушиваются на немцев, удерживающих Гданьск. И война возвращается туда, откуда брызнула на весь мир рекой крови и огня
[23].
Бои происходят на улицах, пылают старинные дома, разбитые огнем тяжелой артиллерии. Рука об руку сражаются с советскими солдатами солдаты Войска Польского. Танкисты бригады имени Героев Вестерплатте водружают на балтийском берегу польское знамя. Не впервые воины приносят свободу в этот город.
Отирая кулаком слезы, стекающие светлыми ручейками по их почерневшим от копоти лицам, наши солдаты поют перед сожженным Двором Артуса
[24] песню-присягу: «Не бросим землю, где наш род!»
[25] И сегодня в этой знакомой нам мелодии звучат отголоски того дня. Когда вызванивают куранты на башне Ратуши, мы обращаемся, пусть на минуту, мыслями к тем, кто вернул нам этот город…
Гданьск напоминал тогда разоренное кладбище. Требовалось немалое мужество, чтобы приехать сюда, большой энтузиазм и пылкое воображение, чтобы решить: здесь я начну новую жизнь. Но у молодежи все это было. Она работала и училась. В очищенных от обломков мастерских были пущены в ход первые станки, ожил первый вуз — Гданьский политехнический институт, студенты спали в ту пору вповалку в закопченных аудиториях. Сейчас в Гданьске шесть высших учебных заведений.
Из пучины того бедствия, которое гитлеризм обрушил на город, наша любовь вытащила его, воскресила давнюю его красоту. Гданьский Старый город родился заново одновременно с варшавским Старым городом. Постичь этого посещающим нас немцам не дано. Им не понять нашей гордости. Все, чем так восхищаются они, выросло из нашей воли и любви, мы им ничем не обязаны, сегодняшний Гданьск от фундаментов до шпилей на башнях — наш, только наш…
Говорить ли еще о могилах отцов? Именно они тот краеугольный камень, на который опирается наш дом, гудящий жизнью. Может, лучше спеть гимн торжествующему труду, рассказать о порте, о верфях, о нефтеперерабатывающем заводе? О простертых в сторону залива каменных объятиях Северного порта?
Гданьск умеет не только работать и учиться, но и отдыхать. Немало здесь прозвучало студенческих шуток, немало было спето забавных песенок, именно здесь сверкал своими блестками театрик Бим-Бом.
Здесь имеет успех музыкант, актер и писатель. Жители Гданьска с жадностью читают, книжек на них не напасешься. Интеллектуальная среда. Деятелей искусства тут награждают вычеканенной из меди Алой Розой — присуждают ее за творчество, в котором сочетается алое с белым
[26], за творчество, которое славит наш край и учит активно любить отечество.
Нет, не ждите от меня, чтоб я рассказал вам обо всем на двух-трех страницах. Мне хотелось поделиться лишь тем, что вдруг пришло в голову, тронуть звучащую в сердце струну. Чтоб вы увидели в Гданьске кусочек польской истории, увидели и новейшую историю народной Польши и будущее, которое зависит от смелости мысли и от труда, от мира, осеняющего наши достижения.
Польская Прибалтика разрослась, теперь мы можем дышать полной грудью холодным балтийским ветром от Щецина до Гданьска. Сбылись пророческие слова Мицкевича: «За Гданьск! Он был и будет нашим!»
[27] И вот он наш, он вернулся. Город польских орлов, извечный порт Королевства Польского, а сегодня — народной Польши.
На Золотых воротах латинская надпись предостерегает: «Согласием и малые Речи Посполитые вырастают, раздорами и большие рушатся».
Гданьск…
Не меньше, чем верфи, нефтезаводы, портовые сооружения, приковывают взор новые районы. Не только память отцов, камни мостовой, сцементированные пролитой кровью, священны для народа, священна и детская колыбель. Человек столь же незаметно сам врастает в историю, сколь незаметно ее творит.
Цель у нас одна: благо нашего народа, крепость стен общего дома, нашей Речи Посполитой. Дороги случаются разные, верю, что опыт и мудрость дадут нам, полякам, возможность выбрать общий путь. Знамя надежды — это мера ответственности тех, кто идет этим путем, порою сам того не замечая, не ставя этого себе в заслугу. Маршрут привычный: от дома до работы. Повседневный труд, активная любовь к нашей стране — вот что объединяет поляков.
Сейчас наши взоры как никогда обращаются к нашим друзьям, к той стране, которая лежит к востоку, к ее людям, к ее городам. И Гданьск смотрит дружеским взором на город-побратим Ленинград.
Перевод С. Свяцкого.

Эдгар Милевский
О чем рассказывают гданьские улочки
Знаете ли вы, сколько в Гданьске улиц? Сто? Двести? Триста? В Варшаве, говорят, две тысячи, в Гданьске — более восьмисот. Восемьсот названий, связанных с историей города, старых и новых, знаменитых и забытых, метких и забавных — от А до Я.
Есть, например, улица Матери Польши. И есть Отцовская. А также Сиротская. И рядышком… Забот.
Есть по-королевски роскошная Долгая улица и скромненькая Короткая, есть Узкая и Широкая, Малая и Великая, Нижняя и Верхняя, Близкая и Далекая, Снежная и Пляжная, Тихая, Глухая, Пустая, Грустная, а также Добрая, Милая, Приятная, Свойская и Веселая.
На углу Ясековой Долины, у въезда в город, светящаяся надпись возвещает туристам: «Гданьск — город цветов». В самом деле, поблизости от садов, парков, скверов, проходят улочки Пионовая, Вересковая, Анютиных Глазок, Эдельвейсов, Ландышевая, Незабудочная, а дальше улица Роз, Жасминовая, Лавандовая, Сиреневая, а также улицы Далии и Подсолнечника. И вдобавок Цветковая. Но это не спасло разноцветную рекламу от уничтожающей критики. Огромные затраты и… не благоухает. Вдобавок ко всему трубки подпортились и в один прекрасный вечер изумили инициаторов этого начинания такой фразой: «ГДАНЬСК — ГОРОД . . .ЕТОВ». Каких таких «етов»? Что вы на это скажете? В самый разгар сезона! На пляже все только и говорили об этом и смеялись до упаду.
В другой раз надпись сверкнула зловещим словом: «ГДАНЬСК — . .Р. . . . . . ОВ». На этот раз смеялись не все. Еще бы. Надпись сделалась неотъемлемой принадлежностью города. И тут она, казалось, вдруг вспомнила, что недавнее прошлое было не так прекрасно, что рядом с улицей Роз расположена Штутхофская.
Портновскую или Столярную вы найдете в каждом городе мира, но чтобы встретиться со старинными улицами Рыболовов, Мореходов, Сплавщиков, Каперов, Якорников, надо заглянуть в старый порт. Кто не посетит улицы Вислы и Балтийской улицы, Янтарной и Амбровой, Гребецкой и Парусной, Ластадии и Брабантской, Амбарной и Шкотовой, Гафельной улицы и улицы Дока, Килевщицкой и Бортовой, Рулевой и Катерной, Компасной и Мачтовой, Боцманской и Капитанской, улицы Кораблестроителей, Польской военно-морской, так вот, кто не посетит всех этих улиц, тот не познакомился с Гданьском. Здесь дуют шквальные ветры. Эхо разносит гул баркасных мастерских, здесь пахнет рыбой и морем… А если чего не хватает, так это давних таверн, похожих на кубрики парусных кораблей.
Как и пристало морской столице, у Яна из Кольна
[28] здесь тоже есть своя улочка. Разумеется, он не открыл Америки раньше Колумба, как того страстно желал сам Иоахим Лелевель
[29], но на отважных парусах вошел легендой в нашу литературу. Стоит спуститься на улочку Яна из Кольна и глянуть на Гданьскую судоверфь, как вспомнишь повести Деотимы
[30] и Василевской, Жеромского и Фениковского. Корпуса судов на наклонных стапелях хорошо видны с улицы, но главное — попасть на сам завод, когда там происходит торжественный спуск судна на воду.
Долго ждать не приходится. Еще бы, одна из ведущих верфей мира! Что ни неделя — праздник. Хозяева гостеприимны. О борт корабля разбивают бутылку шампанского, звучит привычная формула: «Плыви по океанам, славь имя польского корабельщика и честь морского флага…» Крестная мать плачет, проектировщикам вручают цветы, мастерам — премии, все взволнованы, а судно, слегка подрагивая, покачивается на волнах, и кажется, будто оно набирает веру в собственные силы перед ходовыми испытаниями.

Гданьск не был бы Гданьском, если б там не нашлось улочки Дантышека
[31]. Кто не знаком с историей нашего мореплавания, пусть знает, что Ян Дантышек — это Ян Дантискус, иначе говоря, Ян из Гданьска, тот самый, который в 1485 году играл еще в песочек на Гданьском пляже, чтоб сделать потом блестящую карьеру королевского секретаря. Он был экспертом по морским делам, первоклассным мореходом, знаменитым путешественником, дипломатом и поэтом-сатириком, и, что сохранило его имя для потомков, первым польским министром флота.
В те времена рыбу не разводили еще в аквариумах, не прятали под прилавок, не напихивали ею консервные банки, не замораживали, а сразу продавали свежий улов — кучами по пятнадцать, по шестьдесят штук, а то бочками или живьем в кадях — и этот центросбыт располагался на берегу Мотлавы. Боты и лодки причаливали прямо к Долгой набережной. Шкипера с сыновьями исчезали в пивных, а тещи с дочерьми принимались за торговлю. Рыба была важным элементом тогдашней жизни. Молока и икра. Весь Гданьск встречался на этом базаре. Уловы — главная тема для разговоров. Сегодня на Рыбном рынке живут писатели, актеры, художники, и только маленькая эмалированная табличка напоминает нам те далекие годы.
Не пройдешь без доброго слова мимо улочки Страковского, которому Гданьск во многом обязан своим неповторимым обликом. Благодаря удивительному стечению обстоятельств эта улочка проходит как раз вблизи Колонии красоты. Ян Страковский был в XVI веке старшиной цеха каменотесов и виртуозом-каменщиком. Он же дал городу и трех выдающихся строителей: сыновей Исайю и Ежи и внука Ефраима. Три поколения, едва ли не столетие гданьской архитектуры. Такая улочка вроде бы уже не улочка, а проспект.
Страковские жили на улице Святого духа, поблизости от Шопенгауэров — тех самых, что начинали хлебной торговлей, а кончили философией. Самый меланхоличный из всех мыслителей — тот самый, внедривший в умы пессимизм своим заявлением: «Если существует бог, то я не желаю быть на его месте, ибо вселенский стон разорвет мне сердце», — как раз он-то здесь и родился. Было это в тот самый день, когда городской советник Ян Упхаген сорвал с себя пестрое одеяние и золотые цепи, облачился в черную тогу и заперся в доме, потому что в Гданьск вступали пруссаки. Дом Упхагена вы найдете на Долгой, а его именем названа улочка рядом с парком, который он заложил.
Как не упомянуть улицу Фалька-Полонуса?
[32] А Даниеля Ходовецкого?
[33] Имя первого ищите в монографиях по изобразительному искусству, второго — в энциклопедиях, а их работы — в музеях. В XVII и XVIII веках не было более блистательных, более влюбленных в Гданьск художников. Многие писатели ощущают еще и сейчас городской пейзаж прошлого через призму их работ.
Пекари жили, разумеется, на Хлебницкой, но если желаешь что-то про них узнать, ступай на Котельниковую. Над порталом одного из домов изваянная в камне картина, там они как живые — слышится смех подмастерьев-пекарят и наставления пекаря. Барельеф представляет внутренность старой пекарни, вводит нас в мир тружеников тогдашнего Гданьска, едва ли не в самую печь. Стоит присмотреться и к дому, который одни называли аглицким, другие — ангельским. Некогда тут был склад английских сукон, затем — гостиница. Многие знаменитости дышали здесь атмосферой комфорта и красоты. Именно отсюда адъютант Костюшко Юлиан Урсын Немцевич выслал важные письма, Ядвига Деотима-Лущевская слагала здесь стихи, а Игнаций Крашевский написал даже повесть «Домик на Долгом рынке».
На Долгом рынке стоит вспомнить о другой гостинице — «Дю Нор», где жил Ян Матейко с женой и дочкой. А на улице Товия, 29, в гостеприимном доме Яна Линде, брата Самуэля
[34], составителя «Словаря польского языка», останавливался семнадцатилетний Фредерик Шопен.
Нет, пожалуй, в Польше города, где не было бы улицы Адама Мицкевича. Но знаете ли вы о том, что в Гданьске целый район Мицкевича? Улицы названы в честь его литературных героев: Альдоны, Гражины, Конрада Валленрода и Вайделота, пана Тадеуша и Телимены, Яцека Соплицы, Гервазия, Протазия, есть также улочка Янкеля. Популярности Мицкевича в Гданьске может равняться лишь популярность Сенкевича. Подумали не только о нем самом, но и о его героях — о Данусе, о Збышеке из Богданца. О Заглобе, который так нахваливал гданьскую водку, к сожалению, забыли. «Ух, шельмы», — сказал бы Заглоба, узнай он об этом.
Гданьск относится к числу тех городов нашей страны, которым перевалило за тысячу лет, которые сами рассказывают свою историю. Достаточно пройтись по улицам…
Вот Славянская и Рыбаря — это в память тех, кто основал много веков назад в устье Вислы рыбацкий поселок. Чуть дальше улица Храброго — первого князя этой земли, а рядом — Конрада Лечкова, гданьского бургомистра, убитого крестоносцами. Далее Грюнвальдская улица и улица Оливской битвы. Затем — Защитников Вестерплатте и Героев Гданьской почты. И наконец, Войска Польского и Советской Армии. Десять улиц — десять веков — в беглом обзоре целое тысячелетие.
Перевод С. Свяцкого.
Башни и ворота
Всякий слышал о Золотых воротах и о Зеленых, видел Соломенную башню и башню Лебедь. Но готов поспорить с жителями Гданьска: никто не перечислит всех башен и ворот. Если выиграл, прочтите, если проиграл… прочтите тоже. Из числа спорящих исключаю двоих: архитектора Ришарда Массальского и инженера Ежи Станкевича. Первый был хранителем гданьских памятников, второй — знаток средневековой архитектуры. Они знают больше моего.
Угловая башня, наверное, самая старая. Ее кирпич обожжен в 1343 году. Стоит начать с нее. Но давайте поднимемся сперва на башню Ратуши, вернее, на галерею ее шпиля. Среди тысячи гданьских курьезов есть и этот — в городе две ратуши: Ратуша Старого города на Коренной и Главного — на Долгой. Мы выбрали вторую, потому что шпиль у нее повыше. Простые башни не путайте с башнями-шпилями. Хоть тех и других без счету, но это разные сооружения. Из амбразуры башни виден только враг, а с галерейки шпиля — весь город как на ладони. Впрочем, это нам сейчас и надо — охватить одним взглядом целое.

Пять колец укреплений опоясывали когда-то пять частей города — Долгие сады, Амбарный остров, Старое предместье, Главный город и Старый город. Стены с тех пор рассыпались, даже ворота и башни сохранились не всюду. Об укреплениях Долгих садов повествуют только средневековые хроники. На Амбарном острове остались лишь столь же благодатные, сколь благозвучные Млечные кади. В Старом предместье сохранились фотогеничная Белая башня и Башня под срубом. Зато в Главном городе вам не хватит фотопленки. Это отнюдь не самый старый район города, но люди зовут его Старувкой. Его восстановление было наиболее значительным реставрационным предприятием послевоенной Европы. Перлы гданьской архитектуры! Шедевры готики, ренессанса, барокко сторожат десять здешних башен. Доступ к ним открывают десять ворот.
А Старый город сегодня самый молодой: современные деловые здания, силуэты стройных домов, а под ними — разноцветные огоньки Гданьской судоверфи. Нет и следа крепостных построек. Лишь кондуктор трамвая на остановке вблизи моста, прозванного Блуждателем, крикнет порою: «Оливские ворота». Ворота… Эхо старого бастиона.
А с Блуждателем и в самом деле блуждание. Мост поднимается над железнодорожной веткой, которая рассекла надвое самый старый в городе парк. Его аллейки спутались в романтическом беспорядке, и парк назвали сперва Лабиринтом, а потом Блуждателем. От парка ничего теперь не осталось, как и от Оливских ворот. Впрочем, так же, как и от ворот святого Иакова, находившихся поблизости. А были, верно, красивые, раз возводил их Ян Страковский. К тому же исторические. Под ними стоял некогда князь Пепе, он же военный министр Варшавского герцогства, он же наполеоновский маршал Юзеф Понятовский. Он приезжал на смотр польских полков гданьского гарнизона. За воротами, на обширной площади Наполеона, в день рождения императора, 15 сентября 1810 года, князь-министр принимал большой военный парад. Блестящая церемония. Когда по прошествии лет князь захлебнулся в водах Эльстера, а император умер на далеком острове, площадь была переименована. Разобрали и ворота. А поскольку гданьщане народ хозяйственный, то наиболее ценные фрагменты перенесли в иные уголки города: стройный шпиц на колокольню костела, нарядные медальоны на тюремную башню, а каменные львы, венчавшие фронтоны ворот, очутились на крыльце Двора Артуса. Из всего этого блуждания уцелело лишь название — Блуждатель.
Но вернемся к Угловой башне, которая до сегодняшнего дня стоит на углу Кобелевой. У этой улицы своя история — собачья. В старые добрые времена с наступлением сумерек из городской псарни вели по Кобелевой свору голодных собак на Амбарный остров. Собаки шли через подъемный мост, Коровьи ворота. Коровьи, ибо на рассвете через них же гнали коров на пастбище. На ночь ворота запирались, а отрезанный от города каналами Мотлавы Амбарный остров находился под охраной собак. И горе тому, кто забредал туда ночью. Бывали трагические происшествия, но поскольку жертвами оказывались пьяницы, бездомные бедняки или подозрительные личности, крутившиеся вблизи богатых складов, то это никого не задевало. Закон торговли был суров, и собаки служили надежными сторожами. Лишь случай с известным и всеми любимым виолончелистом Умбахом потряс город. Музыкант возвращался с праздника, где он, попивая винцо, играл на танцах. Когда он очутился на Амбарном, начали сгущаться сумерки. То ли он не услышал сигнала, по которому запирают ворота, то ли на него не обратили внимания стражники… А может, сон сморил его в закоулке? Каждый рассказывал потом свое. Короче, псы учуяли человека, и вся свора, щеря клыки, его окружила. Он хотел бежать, но споткнулся и упал, при этом виолончель… брякнула. Собаки навострили уши. Перепуганный насмерть музыкант мгновенно оценил свой шанс. Он прикрылся футляром, достал, пощипывая струны, смычок и заиграл менуэт, а потом полонез, а потом опять менуэт. Собаки расселись вокруг и сомкнули пасти, но стоило усталой руке опуститься, они завыли так пронзительно, что музыканту вновь пришлось схватиться за смычок… Играл он, пока не рассвело, то был самый ответственный концерт в его жизни. В конце концов музыка разбудила стражников и кого-то из горожан, и Умбаха, полуживого, спасли из западни. Происшествие с виолончелистом стало веским аргументом в пользу отказа от этого мрачного обычая. Собачьи ставки урезали, ворота укрепили.
Напротив Амбарного острова вдоль Долгой набережной Мотлавы расположено восемь ворот. Семь готических и одни в стиле ренессанса — Зеленые ворота. Перед ними когда-то и остановились сани итальянской принцессы Марии Людвиги Гонзаги. Будущую польскую королеву встречали королевич Карл Фердинанд и князь Альбрехт Станислав Радзивилл. В окнах Зеленых ворот сверкали брильянтовые диадемы и золотые митры. Стены и лестницы были убраны цветистыми коврами. На гданьских столах посвечивали гданьские серебряные приборы. Принцесса села пировать под приветственные клики нарядных рыцарей, толпившихся снаружи. Роскошь превзошла все виденное греками у персов — так по крайней мере говорили в ту пору в Гданьске и в Мантуе, в Варшаве и в Париже. Ныне в бывшей королевской резиденции, возрожденной усилиями гданьщан и искусством Яна Крамера, разместилось Управление реставрации памятников старины. В дворцовом зале расставлены кульманы, в покоях размещены мастерские. Уже четвертое десятилетие здесь кипит работа по воскрешению художественных ценностей Гданьска. Над уцелевшими после пожаров картинами, извлеченными из-под руин статуями, среди старых гравюр и книг хлопочут историки искусства и реставраторы, художники и резчики — целые коллективы трудолюбивых высокоодаренных специалистов. Мерило их успехов — возрождение Гданьска, и главное — восстановление интерьеров Ратуши Главного города. Именно отсюда, из окон Зеленых ворот, открывается единственная в своем роде панорама на Королевскую дорогу в старинный порт…
Никто не поверит, что в темных арках, близ башен портового канала никогда не сверкали ножи. Приведем одну историю, не похожую, впрочем, на разбойничью балладу. Осталось неизвестным, кем был тот шалопай, который в пьяной компании, хлебнув лишнего, проглотил то ли на спор, то ли ради шутки не более не менее как нож и понял вскоре, что ему не миновать смерти. Молва гласила, что этот безумец был личным другом короля. Надлежало, таким образом, сделать все возможное, чтобы спасти несчастного. Его отнесли к самому искусному гданьскому цирюльнику Даниелю Швабе, стяжавшему себе славу своим скальпелем. Но одно дело вскрыть нарыв, другое — разрезать желудок. Хирургия находилась в ту пору еще в пеленках, рискнуть же было необходимо. Не станем вдаваться в подробности этой операции, которую совершили в условиях, далеких от гигиены, в эпоху, не ведавшую анестезии. Нож извлекли, рана зажила, пациент прожил долгую жизнь, утратив, однако, часть своей пылкости. В историю медицины этот факт вписан под 1635 годом как первая удачная операция на желудке. Король Владислав IV приехал, чтоб лично убедиться в выздоровлении фаворита, и пожаловал гданьскому хирургу королевскую привилегию. Столь же сенсационной была операция на мочевом пузыре, произведенная пятьюдесятью годами ранее у семнадцатилетнего юноши, у которого удалили камень весом в триста шестьдесят граммов. Как под присягой показали свидетели, операцию сделал отец Даниеля Кшиштоф Швабе в Гданьске в 1597 году.
Все медицинские процедуры в Гданьске производились, как правило, в лавчонках наших доморощенных медиков или под открытым небом, порой в тени одной из башен, а то и под аркой ворот.
А теперь картинка черного юмора. Пыточная вместе с Тюремной башней. То ли башня, то ли ворота, короче, мрачный монстр средневековья. Глубокие подземелья, толстые стены, тяжеленные цепи — юдоль осужденных, царство палача. Говорят, неподалеку от Лондона был трактир, приобретший невероятную популярность, едва кабатчиком там сделался палач его королевского величества. Такое в Гданьске было немыслимо. В городских книгах значилось, что не только разговор с палачом, но даже прикосновение к его одежде на улице предосудительно. Палач был лишен привилегий, не имел гражданских прав. Ему запрещалось занимать какие бы то ни было должности и полагалось носить постоянно черное одеяние, дабы каждый мог его узнать издалека и обойти стороной. В костеле палачу разрешали молиться лишь в отведенном ему месте, жить — только в Пыточной. Мы, однако, можем рассмотреть его вблизи. В готических стенах Пыточной сохранились деревянные двери эпохи Возрождения. Искусный резчик изобразил на них человека атлетического сложения, рослого, с суровым взглядом, с пучком розог в карающей длани. Порка была наиболее популярным видом экзекуции, а упомянутые нами двери вели к позорному столбу. Приговоры собирали вблизи Пыточной жаждущие зрелищ толпы народа. Наивысшая мера наказания часто вызывала протест, даже опасные мятежи, зато обыкновенные проступки карались под взрывы хохота. Не смешон ли был в самом деле стареющий горожанин, изобличенный в интрижке с молодой шинкаркой и осужденный за прелюбодеяние на долгое сидение верхом на деревянном осле? А вот наказание за перебранку, нарушившую серьезность коммерческих сделок. Горластых торговок сажали в полые дубовые колоды, замыкали на железные засовы, оставляя отверстия лишь для голов и рук. Колоды ставили друг против друга, предоставляя женщинам возможность продолжать спор, лишив их зато возможности вырывать друг у друга волосы, что, разумеется, еще больше их распаляло. Их диспуты — расхождения на нервной почве, как остроумно характеризовал это современный нам сатирик Вех-Вехецкий, — продолжались часами к вящему удовольствию любопытствующей аудитории. Не всё, одним словом, было в средневековье угрюмым.
Порадуемся, однако, что сегодня в Пыточной устраивают лишь художественные выставки и
театрализованные вечера шекспировских сонетов.
Кто б мог подумать, что самая старая из гданьских башен — Угловая, от которой мы начали нашу прогулку, превратится со временем в пристанище молодых, станет Домом харцера.
Принимаясь за реставрацию столь большого комплекса архитектурных памятников, каким является Главный город, подумали и о нуждах сегодняшнего дня. Сформулирована программа, предусматривающая наиболее целесообразное использование исторических зданий и памятников в условиях современности. Вот перечень наиболее удачных объектов: археологический музей в Доме Родичей, морской музей в Журавле, Академия художеств в Арсенале, Морской институт в Золотом дворце, Союз архитекторов в подворье Святого Ежи и в Золотых воротах, Музей истории Гданьска в Ратуше Главного города. А также Дом харцера в Угловой башне. Дело, разумеется, не только в восстановлении, но и в адаптации. Рядом с Угловой башней приспособлены для нужд юного поколения два соседних объекта: Пивоваренная башня и башня Шульца, а также находящийся с ними рядом Городской двор, построенный в XVII веке Яном Страковским. Весь архитектурный ансамбль вместе с полукруглой дозорной башенкой восстановлен с величайшим уважением к древности, интерьеры зато полностью современные. Кинотеатр «Ватра», театр, столовая, гостиница, читальня, лекционные залы, мастерские, фото- и кинолаборатория, радиостанция — все для молодежи. Над домом реет флаг Гданьской Хоругви Союза польских харцеров, извещая ребят о том, что в этом доме они найдут друзей.
Перевод С. Свяцкого.
Мариацкая
На Мариацкой ощущаешь, что ты в Гданьске. На Мариацкой понимаешь, что архитектура — это искусство. На Мариацкой приобщаешься к красоте и живешь ею.
На одной из здешних террас вздыхала Деотима:
О Гданьск, прозрачными владеющий мирами,
О Гданьск, украшенный венками из гранита,
О Гданьск, ты в красоте явился перед нами:
Над изумрудного водой на галерее
Стоишь, глядишь, лицо ветрам открыто,
И под рукой твоей проходит с плеском вечность
[35].
Здесь звучал восторженный голос Виктора Гомулицкого
[36]:
А Гданьск? Прекрасней не бывало!
Я слышу к ночи в тишине
И песни звон, и звон бокала,
И поцелуи… И во мне,
О Гданьск, мой город, с тишиною
Любовь к тебе растет волною.
Здесь в порыве вдохновения кружил Юзеф Игнацы Крашевский
[37].
Вот его исполненные вдохновения слова:
Гданьск — город удивительно живописный. Формы его причудливы, всюду ощущаешь полет фантазии. Улицы узкие. Значительную их часть занимают крыльца-террасы, через которые жители входят в дома. Как и украшения над дверями, они представляют собой одну из характерных деталей городского пейзажа. Открытая терраса как бы выбегает ступенями на середину улицы и превращается в своего рода прихожую под открытым небом, оригинально убранную. Такие террасы подле каждого дома. Все друг на друга похожи, и каждая по-своему неповторима. Миниатюрные статуи, барельефы, пилястры, балясины, дождевые трубы с декоративной отделкой, ваяние и ковка — вот что составляет их прелесть.

Вымощенная камнем, изваянная резцом, Мариацкая улица — самая готическая, самая ренессансная, самая барочная из всех гданьских улочек. Пятьдесят два нарядных дома в парадном строю. Шпалеры порталов, фасадов, фронтонов и террас, именуемых предпорожьями, преддверьями, а также пропилеями на греческий манер и просто вступилищами — на славянский лад.
На Мариацкой сохранилась атмосфера старого Гданьска. Вслушаемся, как они перекликаются друг с другом — голоса коренной гданьщанки Иоанны Шопенгауэр и коренной варшавянки Ядвиги Деотимы-Лущевской:
…Мы решили, — пишет Деотима, — в соответствии с местным обычаем провести вечер на улице. Перед каждым домом сооружена открытая терраса, как правило, столь обширная, что на ней можно поставить четыре стола и удобно расположиться более чем дюжине персон. Каждая терраса обнесена балюстрадой, выточенной из камня, достаточно высокой и вместе с тем настолько низкой, чтоб можно было разговаривать стоя во весь рост с людьми, находящимися на соседних террасах. Создавая балюстраду, резчик явил чудеса фантазии — здесь и причудливые цветы, и морские символы, все это вплетено, впаяно в каменное кружево балясин. Отдельные террасы соприкасаются друг с другом, образуя с каждой стороны улицы как бы одну обширную террасу. Это создает некий восточный колорит.
…Во времена моей юности, — это уже Иоанна Шопенгауэр из средины XVIII века, — на большом крыльце с непринужденностью, ныне нам несвойственной, как бы на улице, протекала значительная часть семейной жизни. Не знаю, с чем их сравнить, чтоб дать хоть приблизительное представление об этих пропилеях, благодаря которым северный город приобретает облик южного. Нельзя все-таки назвать их балконами. Это скорей обширные террасы… В наше время стремление переделать все на современный лад угрожает им гибелью. Уже исчезли росшие вблизи домов каштаны с их широкими кронами, дававшие тень и прохладу и сулившие утомленному трудами гданьщанину милое отдохновение в кругу семьи или беседу с облокотившимся на ближайшие перила соседом. А каким местом для детских забав были эти террасы! Как безопасно и как удобно! Под присмотром матери, которая тут же шила или вязала. В этом тихом месте, используя мало-мальски сносную погоду, мы проводили долгие часы отдохновения.
С конца XVIII века извращенная мода и пришедшая в город бедность начинают вытеснять с городских улиц столь характерные для Гданьска террасы, которые все чаще уступают место банальному тротуару и расширенным за их счет мостовым.
…Вечерами, — добавляет Деотима, — когда жители выносят под открытое небо лампы, когда их белесые шары отбрасывают свой млечный свет на искусственно устроенные рощи, на собравшихся за столом людей, на крапчатые раковины, в которых разложены изысканные дары моря, на хрусталь и фарфор, где дымится чай, а главное, на изваянные искусной рукой мастера фасады домов, город кажется волшебной декорацией, извлеченной из театра.
Не помогли ни предостережения Крашевского, говорившего, что Гданьск, теряя свое главное украшение, теряет и свое лицо, ни громы и молнии, которые метал Тарновский
[38], заявлявший с горечью, что англичане, оценив достоинства террас, закупают их дюжинами, грузят на корабли и потом вставляют в качестве фрагментов в свои дворцы. Мало чему способствовали воспоминания Шопенгауэр, вздохи Деотимы, голоса многочисленных защитников красоты города. Террасы сохранились лишь кое-где; на Долгом Торге, на Пивной, на Широкой, но полностью их своеобразная двойная шпалера поражает нас нынче только на Мариацкой. И потому к ней с особой нежностью относятся все ценители Гданьска. Пиетет и любовь, помноженные на пережитое, вдохновили тех, кому довелось воскресить из военных развалин эту гданьскую улочку во всей ее красоте.
В восстановлении Мариацкой участвовали самые талантливые архитекторы и строители, а руководил работами Нестор польской архитектуры профессор Мариан Осинский — первый после освобождения декан архитектурного факультета Гданьского политехнического института. Возвращали домам рельефный их облик скульпторы такого масштаба, как Франчишек Душенько, Збигнев Эршковский, Ромуальд Фрейер, Зигмунт Кемпский, Зигфрид Корпальский, Альфонс Ласовский, Адам Смоляна, и вместе с ними целый коллектив мастеров-каменотесов. Один из них, Эдвард Стельмах, скажет потом про себя то, что думал каждый: «Я с радостью работал над камнем до изнеможения».
В самом начале 60-х годов генеральным проектировщиком фасадов Главного города был назначен воспитанник профессора Осинского, один из первых послевоенных выпускников архитектурного факультета Политехнического института Здислав Бара. У него была своя концепция Мариацкой. Он рассматривал ее как улицу воспоминаний, как одну из артерий старой городской жизни, и это дает нам возможность любоваться ее подлинным обликом.
Ее цветовую гамму, как бы имитирующую вековую патину, нашел художник Роман Шнайдер, который и живет и работает в своей мастерской на этой улице. Впрочем, не он один. Решением отцов города обширные вестибюли отстроенных домов и их светлые залы с доходящими до второго этажа ренессансными окнами переданы в качестве мастерских художникам, скульпторам, архитекторам и писателям.
В первом же угловом доме слева — если идти в сторону Мотлавы — находится Союз польских писателей и его кафе, получившее, конечно же, название «Литературного», где на почетном месте красуется следующая надпись:
С флисацких[39] песен, стародавних баллад и матросских преданий виется путеводною нитью по истории достославной Гданьской земли золотая пряжа польской литературы. А поелику польское писаное слово во всякую пору было близко сердцам наших сограждан, то ради 25-летнего юбилея Союза польских писателей на этой земле почтенные воеводские и городские советники распорядились поставить храмину для пишущей братии, которую им торжественно и препоручают.
Дано в Гданьске 21 декабря MCMLXXI.
Нетрудно догадаться, что этот написанный архаическим языком текст вышел из-под пера старейшего современного поэта Балтийского побережья, автора «Гданьской шкатулки» и «Рукописи из трактира «Под лососем» Франчишека Фениковского, который сам о себе сказал, что все написанные им книги — а написано им несколько десятков (общим тиражом около миллиона экземпляров) — связаны с морем и Поморьем. Обычно в «Литературном» собираются за столиками юные поэты со своими столь же юными музами. Но случается застать тут и весь цвет местной литературы — сорок драматургов, прозаиков, эссеистов, переводчиков, от Ежи Афанасьева до Збигнева Жакевича. Осенью в уютных интерьерах устраиваются творческие вечера, весной на террасах Мариацкой кипит людная книжная ярмарка, где писатели раздают читающей публике столь ценимые ею автографы.
Почти напротив клуб Ассоциации польских артистов театра и кино — художественно оформленный зал, превосходная кухня, открытый до полуночи бар. У гданьских актеров свое особое место в театральной жизни страны, а также на малом и большом экранах. Хозяином ежегодного Фестиваля польских художественных фильмов сделался Гданьск, а красота Мариацкой стала известна в мировом кино, она привлекает все новые съемочные группы заграничных кинокомпаний, отснявших на фоне этой улочки не один исторический, приключенческий, бытовой фильм.
Всего в двух шагах мастерская известного художника, одного из создателей творческих объединений в Поморье, бессменного ректора гданьской Академии художеств профессора Владислава Яцкевича. И рядом вновь мастерские, мастерские… Творческое наследие многих из этих мастеров ждет еще своей монографии, меж тем как работой по восстановлению Гданьска они внесли уже свой вклад в сокровищницу польского и европейского искусства.
Подвалы на Мариацкой заняты профессионалами иного профиля — золотых дел мастерами, ювелирами по янтарю, кузнецами, слесарями, кошельниками, чеканщиками… Они обосновались здесь еще тогда, когда подвалы были совсем не оборудованы и зачастую завалены обломками. Собственной фантазией — о труде и говорить не приходится — преобразили они их в достойные экскурсий мастерские. «Входить, однако, туда небезопасно, — написал один парижанин, — хочется все купить, все так красиво!» В самом деле, большая часть мастерских превратилась в артистические салоны, где вам предлагают неповторимые по своим узорам ювелирные изделия из серебра и янтаря, уникальные украшения из железа и кожи, наборы модной галантереи со старопольским орнаментом. Арабы, заглянув сюда, перестают, говорят, торговаться, а японцы засняли все досконально на кинопленку. Немалое удовлетворение дает оставленная путешествующими космополитами в памятной книге мастерской Мечислава Ружицкого запись: «Стоило проехать полмира, чтоб встретить мастера, который знает, что можно сделать из янтаря».
Прогулка по Мариацкой не наскучит. Вновь и вновь хочется пройтись по этой очаровательной улочке, такой небольшой и вместе с тем столь замечательной своими пропорциями, столь удивительной благодаря гениальной перспективе, открытой просветом Мариацких ворот и одновременно замкнутой монументальной громадой Мариацкого костела.
Манит рюмочка коньяку «Под голландцем», хочется освежиться стаканчиком сока на террасе «Мариацкого кафе». Но всего уютней и веселее в «Курантах» — клубе молодых почитателей Гданьска. Они сами его отделали — студенты и рабочие, — а потом приняли участие в восстановлении городских зданий, освежили и украсили террасы, улицы, набережные. Замыслы у них великолепные. А начали они с изучения родного города, пригласив в «Куранты» наиболее известных историков Гданьска. Благодаря их милой молодой ошибке удалось попасть туда и автору этих строк. Юные энтузиасты взялись за продажу кирпичиков-сувениров, с тем чтобы совместно со всей молодежью города собрать средства на памятник одному из наиболее образованных гданьских горожан — Гевелию. Очередным их деянием была замена эмалированных табличек с названиями улиц Главного города на таблички, выбитые в песчанике, которые ныне вызывают у всех такое восхищение. На них нет имен авторов, отметим же по крайней мере в этом очерке, что их проектировали студенты Гданьского художественного училища под руководством профессора Адама Смоляны. В «Курантах» молодежь устраивает кинопонедельники, театральные вторники, поэтические среды, музыкальные четверги и философские пятницы, а по субботам отсюда отправляются краеведческие экскурсии. На террасах Мариацкой организована для гданьщан и гостей города галерея молодых дарований. Выставки возникают спонтанно, они активизируются в периоды, свободные от работы и учебы, с закономерными перерывами на экзаменационные сессии. Студенты — зачинатели культурной жизни этой улицы, они же ее будущее.
В последнее время постоянными посетителями «Курантов» стали пловцы из гданьского клуба «Морж», а также спелеологи и альпинисты из клуба «Труймясто». Одни пропагандируют зимнее купание в Балтийском море, другие подготавливают первую гданьскую экспедицию в Гималаи. Зарабатывают на нее, совершая восхождения на шпиль Ратуши Главного города, где заменяют громоотвод и заканчивают консервацию циферблатов часов. У них за плечами восхождение на отвесные скалы Норвегии, покорение самых известных вершин перуанских Анд. Им хочется выше. Красота Мариацкой стимулирует высочайшие устремления.
Перевод С. Свяцкого.
Константы Ильдефонс Галчиньский
Песня о солдатах Вестерплатте[40]
Когда исполнилися дни
и смерть пришла к солдатам,
на небо строем шли они,
солдаты Вестерплатте.
(А в тот год было чудное лето.)
И громко пели: — Ничего,
что так болели раны,
зато на небо мы идем,
на райские поляны.
(А на земле в тот год было столько вереска на букеты.)
Не испугались мы врагов,
и вот, на небо взяты,
возносимся средь облаков,
солдаты Вестерплатте.
Кто вату не держал в ушах,
мог слышать приглушенный,
гудящий в тучах мерный шаг
Морского батальона.
И песню слышать мог: — Для нас
пора настала, братцы,
на райском вереске сейчас
под солнышком валяться.
Но вот унылым зимним днем,
тоскою злой объятым,
в Варшаву с неба мы сойдем,
солдаты Вестерплатте.
Перевод Л. Цывьяна.
Зигмунт Вуйчик
Жуток этот напев
1
В сущности, я не так уж много знал об этом человеке. Я отважно шагал по краковской улице Сенкевича. Мне сопутствовали старый друг и почти двадцатилетнее профессиональное безумие поисков интересных людей, интересных событий.
— Пан Александр Кулисевич?
Невысокий седоватый человек, стоящий в дверях, кивает. На его лице появляется едва заметная улыбка, как бы смешавшаяся с серой мглой. Впрочем, шел я сюда беседовать отнюдь не на веселые темы. Тесная прихожая дома старой постройки заставлена огромными шкафами. Голые стены комнаты, доходящая почти до аскетизма сдержанность, стремление избежать какой бы то ни было декоративности. «Неужели только так и можно сосуществовать с трагическим?» — мысленно спрашиваю я себя. Но времени на размышления нет. Пан Александр уже рассказывает, как в последнее время он проводит ночи:
— Когда все заснут, я просыпаюсь и, лежа в постели, диктую на магнитофон, вспоминаю, не забыл ли я чего-нибудь из времен лагерного ада. Ведь, несмотря на прекрасную память, я все-таки могу забыть. Соседи, наверно, думают, что я сошел с ума. А может, так оно и есть? Ведь тот мир был творением безумцев.
2
Рассказ об Александре Кулисевиче надо строить на его песнях, на его жизни. Песни эти не только искусство, но и документ. Они так чудовищно красноречивы, что действовали даже на бывших эсэсовцев в ФРГ, где неоднократно пел Кулисевич. Но прежде ему пришлось почти шесть лет подчиняться палачам. Не смиряясь с тем, что в мире стали потихоньку забывать о преследованиях, которым подвергался он и его товарищи, Александр Кулисевич взялся писать что-то наподобие мемуаров. Вот так он вспоминает свою лагерную трагедию:
«Арестовали меня в октябре 1939 года в Цешине. Мои однокашники, с которыми я встретился в тюрьме, уже тогда пытались сочинять стихи. Они уговаривали меня: «Алекс, ну попробуй, ведь в гимназии у тебя была отличная память». Я пытался запоминать, но, по правде говоря, не очень-то у меня это получалось: слишком уж сильны были впечатления первых дней после ареста. Лишь после того как я немножко хлебнул лагерных мытарств, после того как оказался в Берлине на Александерплац (знаменитая тюрьма с четырьмя подземными этажами, где истязали людей), память начала как-то защищаться и регистрировать все больше и больше. А впервые я использовал свои, может быть необычные, способности в концентрационном лагере Заксенхаузен, находившемся недалеко от Берлина. Было это в шестьдесят пятом бараке, где помещались заключенные из Люблина. Там в сочельник 1940 года известный поэт и выдающийся переводчик славянских литератур Казимеж Анджей Яворский, главный редактор литературного журнала «Камена», читал свое первое лагерное стихотворение. Я был страшно взволнован. Закрыл глаза и начал мысленно записывать:
С ветвей последний лист опал,
Последний облетел цветок,
Ноябрь вслед октябрю промчал,
Декабрьский снег на землю лег.
И глядя, как уходит тень,
Неколебимо верим мы,
Что близок, близок этот день,
Когда взломают дверь тюрьмы.
Вот так я запечатлел его в памяти. А вечером подошел к нарам, где лежал Казимеж Анджей, и прошептал ему на ухо все стихотворение. Как он был счастлив! И я понял: моя память может оказаться здесь просто необходимой. Ко мне обращались мои сотоварищи — поляки, немцы, чехи, русские и спрашивали: «Алекс, есть в твоем архиве свободное место?» Я закрывал глаза и отвечал: «Диктуй». А когда человек кончал читать, я ему говорил: «Приходи через три месяца — повторю слово в слово». Люди просто не могли поверить. Ведь то, что родилось в них, не погибнет, и это их потрясало.
Я работал на обувной фабрике и нередко, чтобы закрепить в памяти стихотворение, брал сапог и бормотал в голенище.
Эсэсовцы и капо считали, что я чокнутый. А это могло кончиться скверно: ненормальных отправляли в газовую печь. А я так набарматывал первые стихи, например те, в которых не было рифм; они очень трудны для запоминания. Вот, скажем, такой отрывок:
Когда я вернусь,
На далекой станции
Никто не будет меня ожидать,
И ничьи губы не шепнут мне:
«Я так тосковала…»
Вот так я читал наизусть каждый текст и сейчас, почти через сорок лет, могу повторять десятками страниц.
Потом наступили тяжелые времена. Мне казалось — я навсегда утрачу память. В 1941 году я был наказан: меня направили в так называемую Schuhwerkommando
[41], где мы должны были целыми днями маршировать взад-вперед на лагерном плацу. Нам выдавали солдатские сапоги — специально на номер больше или меньше, пичкали какими-то экспериментальными таблетками и проверяли на нас, как долго может выдержать армейский или эсэсовский сапог. Я решил повторять во время этой многочасовой маршировки все, что сумел запечатлеть в памяти. И опять начал бормотать, а поскольку мы ходили по пять человек в ряд, я попросил товарищей по этой муке, чтобы они позволили мне шагать в середине шеренги; рядом со мной маршировал молодой чех из Оломоуца по имени Ирка Малечек. Он был, как бы сказать, собирателем лагерной поэзии, но, бедняга, все записывал. Я хорошо говорил по-чешски, потому что ходил в школу в Карвине, а там чешский язык был обязательным предметом, и смог передать Малечку некоторые секреты, как лучше всего запоминать. Очень он мне был за это благодарен. Чтобы все это как-то разнообразить, я говорил Малечку, что мы идем к нему в Оломоуц. И вот мы считали километры от Берлина до Богумина, потом до Остравы, но не так-то легко было дойти до Богумина, хотя в фантазии все возможно, и километр за километром повторяли заученные нами польские и чешские стихи. Ирка пытался переводить польские на свой язык. Вдумайтесь, какой парадокс: несмотря на страшное унижение, на изможденность, человек укреплялся поэзией, набирался сил от того, что смог вобрать в себя, в свою память; это нас обоих и поддерживало. Благодаря этому мы сумели выжить в Schuhwerkommando. Хотя маршировал я в ней не так чтобы и долго, всего десять дней, но это было чудовищно — превратиться в автомат для проверки прочности эсэсовских сапог. Ирку Малечка, беднягу, впоследствии, когда он уже был в лагере, поймали на переводе моей поэмы «Притча о Лешеке Достойном и Чеславе Суетном». То была, сказал бы я, дидактическая поэма на тему двадцатилетия польско-чешских отношений, этакая взаимная исповедь двух наших народов. Эсэсовцы нашли фрагменты перевода, которые Малечек прятал в тюфяке, оправдаться он не сумел и отправился в Гросс-Розен, где его замучили. Ирка Малечек. Не забывайте о нем. Он тоже отдал жизнь за наше общее дело. Из неизвестных, анонимных собирателей поэзии, созданной в фашистском аду, очень мне близок учитель из Праги Йозеф Корвинек. Ему удалось выжить в Заксенхаузене, и он передал на волю много собраний лагерных стихов, написанных на польском и чешском языках; передавал он их достаточно необычным способом — запаковывал в резиновые мешочки, которые выносили из зоны в котле с супом для тех, кто освобождался из концлагеря, хотя это могло стоить им нового срока заключения, а то и смерти.

Никогда не забуду моего друга, семнадцатилетнего русского паренька из Горького Алексея Сазонова, хотя знакомство наше длилось не больше трех недель. Романтический Алексей был убежден, что ничто не сможет спасти его от смерти. Уже с конца осени 1941 года по ночам из лагеря уводили на расстрел тысячи советских военнопленных. До него долетал дым костров, на которых сжигали трупы, и он понимал, что смерть неизбежна. Я утешал Алексея: «Ты же работаешь, а на обувной фабрике пленных не расстреливают». А он молчал. Наш общий друг, бывший депутат чехословацкого парламента от коммунистов Ян Водичка, используя свои многочисленные знакомства, устроил так, чтобы Алексей стал работать под крышей, а не в грузчиках. И тогда случилось чудо: парень стал сочинять песенки. Он словно бы ожил. Первая была веселая, на мотив казачьей песни и называлась странно — «Шары-бары»; Алексей подскакивал: шары, шары, шары-бары. А следующую он посвятил своей давней юной подружке: песня называлась «Соня». Алексей очень смущался, что песня эта про любовь.
Я все их, как мог, записал в памяти. Да только русского языка я почти не знал. Поэтому я уже тогда старался мысленно переводить его песни на польский. Получалось у меня плохо, но записывать было нельзя. Это грозило пытками и смертью.
Последнюю свою песню Алексей Сазонов назвал, не знаю почему, «Гекатомба 1941 года». Я спросил: «Откуда ты знаешь это слово — гекатомба?» Наверно, слыхал где-нибудь. Страшная была песня. Вот как она начинается:
Дым, дым, дым надо мной,
черный дымит крематорий,
боль, боль, боль со мной,
в огонь швырнут меня скоро,
гей, гей, гей, бродяги,
все мы перед смертью наги.
Это было о смерти взаправду, а не песенка, чтобы растрогать публику. Поймите это. И не надо удивляться, что в последних строчках Алексей проклинал:
Бей, бей, бей, пусть удавит
вас, фашистские собаки.
У него все время было предчувствие смерти.
А через день Сазонова уже не было на обувной фабрике. Он оказался в изолированном бараке для военнопленных, но и оттуда сумел дать знать о себе.
Станислав Келлес-Крауз, деятель социалистической партии, который был лагерным врачом и отдавал все силы спасению заключенных и пленных, в тот же день передал мне тайком написанный по-русски фрагмент второй части «Гекатомбы». Она начиналась так:
Мама, мамочка, молю
сделать скорой смерть мою.
Сазонов написал ее на клочке, оторванном от бумажного мешка с цементом. Я решил любой ценой еще раз повидать Алексея. Он догадывался, что я собираю лагерную поэзию, а потом я и сам ему признался. Приближаться к баракам пленных было запрещено, но я все равно после вечерней поверки подкрался к разделявшему нас заграждению и стал думать, как бы подозвать кого-нибудь из сотен русских военнопленных. Но мне повезло. Через дыру в заборе я увидел, что около барака сидят несколько человек, а среди них полуживой, избитый Алексей. Я негромко позвал: «Сазонов! Это я, Алекс, поляк». Я хорошо помню: он пополз в мою сторону, хотел опереться рукой на лежащее бревно, но тут налетел сволочь немец, из тех, с зеленой нашивкой, из рецидивистов-уголовников, ударил Сазонова палкой и, ругаясь, стал пинать ногами. Поверьте, у меня навечно остались в памяти судорожно сжатые тонкие пальцы Алексея, по которым текла кровь. И его громкий крик «Алеша, ты только не забудь, не забудь!» Меня он звал Алешей. Боже мой, в ту ночь я не мог заснуть. «Гекатомбу» я перевел на польский и пел все время, пока сидел в этом проклятом Заксенхаузене.
А потом в апреле 1945 года нас вывели из Заксенхаузена, каждый получил по буханке хлеба, и начался марш смерти: мы шли почти две недели. Да. Тогда я думал, что из-за голода утрачу весь свой, как я его называл, внутренний архив. Да, да. Нас загнали в лес неподалеку от Витштока. Несколько тысяч живых скелетов — мужчин, женщин, детей; охранники окружили нас, и мы могли делать все, что вздумается. Эсэсовцы ржали: «Macht, was wir wollen!» — делайте, что хотите, лишь поскорее подыхайте.
Достаточно будет сказать, что кора на деревьях в лесу Витшток была обглодана на высоту 80—90 сантиметров, то есть докуда мог дотянуться человек, стоящий на коленях. Некоторые заключенные совершенно обезумели от голода. Это был подлинный ад. Марш смерти длился десять дней. На его пути осталось более 20 тысяч узников. А те, что еще были живы… Их (свыше 20 тысяч мужчин и женщин) оцепили в Витштокском лесу колючей проволокой, в течение пяти дней не давали ни крошки еды и великодушно дозволили подыхать. И там я подвел последний итог всему тому, чем загрузил свою память, отчаянно припоминая забытые строчки на нескольких языках. Я чувствовал, что постепенно угасаю. Однако память продолжала работать. Я старался оставаться собирателем последних стихов».
1 мая 1945 года советские танки перерезали дорогу Ораниенбург — Шверин и освободили тех, кто еще оставался в живых. И среди них Алекса Кулисевича.
Он был в тяжелом состоянии. Лежал в госпитале, врачи опасались за его жизнь. Они делали все, что было в их силах, объясняли: спасение зависит от него самого. Надо забыть все пережитое, не думать, не вспоминать — спасение только в этом. Как будто можно было не вспоминать!
А он хотел любой ценой сохранить для живых свои и чужие, доверенные ему, песни. Когда кулак бессилен, остаются мысль и слово. Память. Защита песней. Даже если весишь 35 килограммов и едва таскаешь ноги, а вокруг убивают людей всеми возможными способами: расстреливают, вешают, загоняют в газовую камеру, разбивают головы, забивают палками, душат, травят собаками… И он наперекор всему сочинял и читал товарищам по заключению:
Нельзя звать смерть и ждать конца…
Выше кулак, выше сердца.
Люди, обреченные на уничтожение, знающие, что их ждет неизбежная смерть, хотели оставить после себя какой-то след. И приносили Алексу единственное, что у них еще было, — слово. Песни.
«Есть в твоем архиве свободное место?»
Разве он мог им отказать?
«Диктуй», — отвечал он. И закрывал глаза. Заставлял себя представить большой чистый лист бумаги и «записывал» на нем все, что ему диктовали. «Записывал» по-польски вне зависимости от того, на каком это было языке. Возможно, неточно, приблизительно, но все равно по-польски, чтобы лучше запомнить. А потом «делал» перевод и шепотом повторял строчку за строчкой до тех пор, пока все продиктованное не уляжется навечно в память.
И там, в госпитале, в его памяти толпились все эти строчки и строфы, которые он не имел права унести с собой в могилу. Они оживали в горячечном бреду, лишали сна.
Эльжуня, маленькая узница Майданека, которой Алекс никогда не видел, подошла к его кровати и тихонько запела:
И пришла пора Эльжуне
Одной умирать,
Отца в Майданеке убили,
В Освенциме мать.
Это стихотворение, нацарапанное на грязном клочке бумаги, нашли подружки Эльжуни в кармане ее полосатой лагерной блузы. Прочитать удалось только первую строфу, все остальное было залито кровью. Кулисевичу рассказал об этом поляк, которого привезли из Майданека. «Запомни, Алекс!»
А «Хорал из ада» — песня его друга Леонарда, молодого варшавского поэта и журналиста!
Леонард был санитаром в концлагере. Многие узники обязаны ему жизнью. На глазах Леонарда врачи-эсэсовцы проводили эксперименты на заключенных, главным образом на советских военнопленных. Возбуждали тяжелые заражения крови. Определяли эффективные дозы быстродействующих ядовитых газов. С помощью боевых отравляющих веществ, в том числе иприта, вызывали ожоги, пробовали действие различных лекарств.

«Слушайте! Слушайте! Из ада рвется наш хорал! — писал Леонард. — Пусть спать не даст он палачам, из ада рвущийся хорал!»
И рефрен: «Тут люди мрут!.. Услышьте: люди тут!»
Но Леонард не услышал этой песни. Он слишком много знал, и эсэсовцы повесили его.
А стихотворение «Чахоточным», написанное Алексом по последней просьбе людей, «которым еще оставался почти час жизни»…
Среди предназначенных к ликвидации было несколько сотен молодых поляков, у которых для проформы заподозрили туберкулез.
— Я болтался утром около лагерного госпиталя, надеялся что-нибудь разнюхать, — рассказывает Алекс о создании этого стихотворения. — И тут сквозь проволочное заграждение ко мне протянул руку один из назначенных в печь — совсем еще юный Лешек Коморницкий (барак сорок семь) и шепнул: «Алекс, ты столько пел и писал… Напиши сейчас что-нибудь для нас. — Он тревожно оглянулся и продолжил: — Имей в виду, у нас не больше пятнадцати минут».
Вот так. «Когда кулак бессилен, остается мысль и слово», — повторяет Кулисевич. В лагере им оставалось слово. Алекс просто-напросто старался «запечатлеть в памяти» то, чему был свидетелем, что пережил. Хотел сохранить в себе «документ».
Таким документом стало его собственное слово. Слово, претворенное в песню. И строчки стихов. Вроде этого:
В Заксенхаузене, в рейхе
город мертвецов живых…
там в глухих домах-бараках
как хозяйка ходит смерть…
Алекс пел и свои и чужие песни — те, которые когда-то знал, и те, которые ему доверили здесь, в концлагере. Пел, где мог, в безопасных местах, куда приводили его товарищи по заключению. И в своем бараке, и в чужих. А людям, пользующимся его особым доверием, — на верхнем ярусе нар. Под самым небом, по которому — это видно было сквозь щели — «шарили бдительные гитлеровские прожекторы». Пел и в прачечной, и на складе обувной фабрики. Пел вечерами и ночами, когда в лагере не было эсэсовцев. Пел по-польски. Но чтобы его могли понять не только поляки, помогал себе жестом, мимикой, использовал мелодии других народов. Пел. И декламировал:
Нас не спрашивали:
— Виновен ты
Или, может быть, нет? —
И мы не спросим.
Нас не спрашивали:
— Мокро, когда в лицо тебе плюнут?
— Больно, когда тебя пнут? —
И мы не спросим.
Нас не спрашивали:
— Тебе четырнадцать или сорок?
— Не плачет ли по тебе мать?
— Не ждет ли ребенка твоя жена?
— Есть ли хлеб у твоих детей?
— Не разграблен ли твой дом? —
И мы не спросим.
Много позже Алекс включит это стихотворение в рукопись воспоминаний и напишет в примечаниях: «Угроза: «И мы не спросим» — не соответствует действительности. Мы спросили и Гёсса, и Кох, и даже Эйхмана»
[42].
Это стихотворение с коротким названием «Нет» знал весь лагерь. Его переводили чехи, итальянцы, норвежцы. Вместе с транспортами заключенных оно попало и в другие лагеря: его след обнаружен в Майданеке, в Освенциме. Видимо, не только для Алекса оно стало «выражением сконденсированной ненависти, груз которой люди годами подавляли в себе». То была «своеобразная психическая разрядка посредством безоружных, горьких слов».
3
— У вас до сих пор великолепная память. Как вы ее упражняли?
— Как упражнял? Это довольно необычная история.
Детство я провел в городке Карвина в Заользянском Шлёнске. Мне было лет восемь, я хотел пофорсить перед девочками и соорудил на крыше громоотвод. А там были электрические провода, я дотронулся до них, и меня ударило током. Карвина была этакая полудеревня-полугородок, и меня закопали в землю, чтобы, как тогда считали, из меня вытянуло электричество. Я, естественно, потерял сознание. И вот, представьте, прихожу я в себя и тела своего не вижу, только чувствую, что голова находится над землей. Ужасное ощущение. Я снова потерял сознание. А через несколько дней начал заикаться, не мог выговорить ни слова, особенно если оно начиналось с согласного, — давился. А потом вообще онемел. Для родителей это была трагедия. Каким-то чудом они добыли гипнотизера, который тогда выступал в Карвине и Остраве. То был румын Лукас Рооб — никогда не забуду его фамилию. Этот внешне невзрачный человек, обладавший тем не менее потрясающе сильной волей, внушил мне, сопляку, что я не должен заикаться. Но при этом мне нужно вести себя иначе, нежели всем остальным людям, которые думают и высказывают свои мысли. Я должен мгновенно написать то, что подумал, черными буквами на белом фоне и прочитать. Так я и делал. И это помогло.
Александр Кулисевич родился в 1918 году в Кракове, рос в музыкальной атмосфере, мечтал о карьере тенора и даже выступил в бельгийском фильме «Черные жаждут» (режиссер Артюр Шамозо), где пел вальс «Вспомни обо мне». Однако не посвятил себя музыке. Он изучал право, увлекся журналистикой, публиковал статьи в молодежных журналах, в частности в «Огниве» и «Глосе млодых». 23 октября 1939 года его арестовывают в Цешине. А вот что он рассказывает о своих музыкальных способностях:
— Если говорить о моей музыке, о музыкальном даре, то это у меня от мамы. Потом я посвятил ей много стихотворений и песен. Например, в лагере во время бомбардировки написал «Ноктюрн 1941»:
Славлю вас, птицы, летатели храбрые,
Мчитесь вы мимо юдоли проклятой,
В небе беззвездном черные ангелы,
Смерть возвещая, трепещут крылами.
Бог его знает, почему меня не расстреляли в Цешине. Ведь я был автором антинемецких, более того, направленных лично против Гитлера статей! Меня избили, вышибли зубы, но мне повезло: я не был казнен, а оказался в Заксенхаузене. Даже без пометки в бумагах, что надлежит со мной сделать. Об этом мне по секрету сообщил эсэсовец Рудольф Шинцер, мастер на обувной фабрике; он был из Вены и знал меня по афишам как артиста кабаре: я там выступал с художественным свистом. Да, даже и среди эсэсовцев попадались не потерявшие человеческого облика. К примеру, этот Шинцер ни разу никого не ударил, оставался порядочным человеком, и если бы после войны против него возбудили судебный процесс, думаю, все узники Заксенхаузена выступили бы в его защиту…
А музыкальность я унаследовал, как уже говорил, от матери… Я играю на скрипке, на флексатоне
[43] и пою, аккомпанируя на гитаре. Гитару я принес из Заксенхаузена; она кое-где уже ободрана, но зато какой у нее голос! Принадлежала она убитому голландскому еврею, гранильщику бриллиантов из Харлема. Это итальянский инструмент, его создатель — сицилиец Амадео Беллуджи жил в девятнадцатом веке. Я объехал с нею полсвета, в США мне предлагали за нее восемь тысяч долларов… Чистейший резонанс… Звучание струны не гаснет в течение сорока пяти секунд…
В концлагере стихи и песни Кулисевича нередко рождались под аккомпанемент этой гитары. Он вколачивал их в память строфу за строфой: ведь любой обнаруженный клочок бумаги был равнозначен смертному приговору. Бормотал все новые и новые стихи. Заглушал ими голод и чувство унижения, спасал человеческое достоинство. А вечерами выкрикивал свое отчаяние, боль, ненависть товарищам по заключению. Тогда вместе с Кулисевичем выступали гениальный мастер пантомимы Жан-Луи Барро, тенор парижской Гранд-Опера́ Андре Ларибуасьер, Тадеуш Фийевски… Алекс пел, чтобы поддержать мужество тех, кому дано было выжить в этом аду.
4
Многие песни, рожденные в Заксенхаузене, Алекс пел на мелодии шлягеров, с которыми когда-то выступал. Всем известные мотивчики не привлекали внимания тех, кому эти песни слышать не следовало. Ведь память сохраняет давние слова, и не так-то легко услышать за ними другие, новые.
— В сорок четвертом году я написал в Заксенхаузене на шлёнскую народную мелодию песню для Феликса Невидзёла «Парня в лагерь привезли». Феликс, шлёнский повстанец
[44], был арестован в двадцать первом году и приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже. Гинденбург заменил ему смертную казнь пожизненным заключением. Десять лет он просидел в одиночке, а всего провел в тюрьмах и лагерях двадцать четыре года! В тридцать третьем году ему сказали, что, если он согласится вступить в вермахт, его выпустят. Он отказался. Феликс работал на строительстве первых концлагерей, в том числе и Заксенхаузена, где и остался.
Я познакомился с ним в сорок втором году, когда он работал в рентгеновском кабинете. Там не было защиты от излучения, и, наверно, поэтому у Феликса развилась чахотка. Его вместе с транспортом больных вывезли в Берген-Бельзен, и там этот никому не известный польский мученик, повстанец, просидевший двадцать четыре года в немецких тюрьмах, умер с голоду. В Заксенхаузене я написал для него (к его великой радости) на шлёнском диалекте песню на старинную мелодию пятнадцатого века:
Ты не плачь, что заключенный я,
Но рыдай, не надо, девонька моя,
Я не стану немцем, лучше уж в тюрьму.
И от гада-шваба винтовку не возьму.
После войны я долго разыскивал его семью и в конце концов нашел знакомых и товарищей по восстанию. Через них я раздобыл метрику Невидзёла и узнал, как он буквально под носом у немцев перекрасил черного германского орла на памятнике фельдмаршалу Клейсту, превратив его в белого польского.
Кулисевич рассказывает, рассказывает. У него горят глаза. Сейчас он будет петь. Я включаю магнитофон. Нет, без магнитофона. Однако, снизойдя к моим просьбам, Алекс вытаскивает свой — он лучше, чище записывает. Встает с оттоманки, берет гитару. И раздается красивый, звучный голос. Этот голос не смогли убить. Когда в концлагере Александру Кулисевичу прививали дифтерит, чешский художник Йозеф Чапек (брат Карела Чапека) и немецкий санитар Вальтер Тате давали ему тайком противоядие… Его голос взлетает под потолок и обрушивается на наши головы. Пронизывающий голос, полный боли, слез, бунтарства. Птицы, щебечущие на весеннем дереве, внезапно улетают. Песня продолжается. В ней взрыв ненависти, в ней обвинение, взрыв жажды выжить и не забыть. Это хорал о людях, память о которых должна остаться вечно:
Из ада рвется наш хорал.
Пусть палачам уснуть не даст
из ада рвущийся хорал.
Внимание: здесь люди мрут,
их бьют, их вешают, их жгут.
Услышьте: люди тут.
Профессор Андре Гуйар из Бордо, бывший узник Заксенхаузена, так пишет в своих воспоминаниях:
«Два санитара ввели на сделанный из соломенного тюфяка подиум певца. Этот человек по имени Алекс был слеп. У него были желтые глазницы, веки слипались от гноя… Он был молод и ужасающе худ. Во время пения онугрожающе поднимал руку, грозил кулаком. Его голос то был полон безумной ненависти, то вдруг становился умоляющим и нежным, как плач обиженного ребенка. Люди смотрели на певца как на олицетворение мести. Несколько больных упали без чувств, у них была пена на губах».
Сейчас 1979 год, и люди уже не теряют чувств. Разве что только те, кто сам побывал в аду.
Нас, которые не побывали «там», безмерно угнетает даже чтение о гитлеровских зверствах или посещение выставок и музеев, им посвященных; мы бываем ошеломлены, когда слышим о лагерном или тюремном юморе. А ведь такой существовал и был необходим. Был противоядием, одной из форм борьбы.
Однако недостаточно только лишь знать об этом. Алекс энергично встает и подзывает нас к шкафам. Их тут целых шесть. Они занимают всю комнату. А хозяин ее спит на узенькой оттоманке за одним из них. Он открывает дверцы, демонстрирует ряды папок, пронумерованные тома, аккуратно разложенные документы. Это его архив, начатый тридцать пять лет назад.
Когда в июле 1945 года Алекс надиктовал стихи друзей и знакомых, их письма близким, воспоминания, это заняло 417 страниц машинописного текста. С тех пор он продолжает сбор материалов. Его архив растет из года в год. Сейчас в нем содержится:
свыше 100 000 машинописных и рукописных страниц с польскими стихами из 34 гитлеровских лагерей; это самое большое в мире собрание поэзии такого рода;
свыше 610 польских лагерных песен;
свыше 52 000 метров магнитофонной ленты с записями лагерных песен, сопровождаемых комментариями, сообщениями и т. д.;
свыше 800 папок с информационными материалами;
свыше 10 000 кадров микрофильмов;
свыше 800 репродукций и оригиналов лагерной живописи и графики;
свыше 1300 экспонатов, собранных для планирующегося музея Заксенхаузена;
свыше 200 лагерных песен других народов;
свыше 300 нотных записей польских лагерных песен и инструментальных произведений.
Все это старательно классифицировано, расставлено. Достаточно лишь протянуть руку.
О таких людях, как Александр Кулисевич, мало кто знает. Они не известны подросткам. В дни рождения и праздники никто не приходит к ним с цветами. Никто не вручает наград и орденов.
Так проходят годы. А он живет замкнуто у себя в комнате и лишь ежедневно ходит в библиотеку. Проверяет, собирает, классифицирует.
— Основа моего собрания, — объясняет он, — музыкальное творчество, подлинные песни, но есть и стихи, живопись и графика, история возникновения музыкальных и поэтических вечеров в лагерях, описания оркестров, ансамблей… Если говорить о фамилиях, упоминаемых в моем архиве, то их уже более четырех тысяч двухсот. Это фамилии композиторов, поэтов, исполнителей, певцов, декламаторов, причем не только поляков, но и немцев, чехов, словаков, русских, евреев, цыган, начиная с тридцать третьего года, с первых фашистских концлагерей.
5
Во времена, когда за каждое смелое слово платили жизнью, Кулисевич рисковал ею тысячи раз. Мы знаем, что от смерти его спасала песня. От нее он не отступался никогда. В его проникновенном, богатом, вибрирующем голосе сплетаются и угроза палачам, и стон обреченной на смерть жертвы. Вот и сейчас он поет. Мы сидим и потрясенно слушаем. Мой друг, родившийся после войны, замер, не шелохнется.
С глубоких вибрирующих тонов голос Алекса переходит в задушенный хрип жертвы, на горло которой наступил сапог эсэсовца. С нар, где лежат обессилевшие люди, раздаются крики, проклятия. Взлетают сжатые кулаки.
Следующая песня. Александр Кулисевич практически не дает отдыха своим голосовым связкам. Из лагеря он вынес неизлечимую болезнь Меньера. Через несколько лет он оглохнет. И знает об этом. Врачи предупредили, что пение ускорит катастрофу. Но он обязан петь, обязан нести правду про ад, «который люди создали для себе подобных».
«Колыбельная для сына». Колыбельная, которую поет сыну отец перед тем, как идти в газовую камеру.
«…Смерть нависла над тобой… Маму нынче застрелили, завтра папа в газ пойдет… Спи, мой мальчик. Вдруг сумеешь до такого дня дожить, когда Менгеле
[45] не сможет газом маленьких травить».
«Живые камни». О заключенных, которых живьем бросали в бетономешалки. «Нас не сожжет с тобою пламень, ведь мы с тобой живые камни». И сразу вслед за отчаянием — песни бунта, надежды, Гимн из Майданека, из Павяка, гимн героических женщин, «подопытных кроликов» из лагеря Равенсбрюк: «Ломай решетки, рви ограды, ворота разбивай!» Революционная песнь заключенных. И интернациональный гимн, который пели на шести языках в Заксенхаузене, Штутхофе, Дахау, Берген-Бельзене, Эбензее, Треблинке: «Звать к себе не смеем смерть — грозен, жуток наш напев!»
Александр Кулисевич говорит:
— Думаю, там, в лагере, моя песня, подобно куску хлеба, подобно обдуманному слову утешения, поддерживала в людях дух, помогала смотреть вперед.
И люди крепче верили, что выживут, хотя впереди были еще долгие месяцы голода и унижений. Но слова песни согревали, кормили, исцеляли и его самого, и других узников. Песня была бессмертна.
— Я в долгу у песни. Она поддерживала нас в самые тяжелые минуты. Спасла жизнь многим моим лагерным друзьям и даже нечто большее, чем жизнь, — чувство, что ты человек, сознание, что, несмотря ни на что, мы являемся людьми. Мне кажется, что тот, кто там не побывал, не в состоянии осознать многие всем известные, банальные и в то же время совершенно непонятные большинству истины. Я хочу облегчить людям постижение их и поэтому пою так, как пел в концлагере. И не боюсь, что меня заподозрят в натурализме. Я — подлинный, и подлинны мои песни.
Жуток этот напев. Бард трагедии миллионов занимается, впрочем, не только песнями. Он собирает стихи, рисунки, всевозможные документы, относящиеся к истории концентрационных лагерей. Вполне может возникнуть вопрос: «А не хотели бы мы забыть об этом?» Но забывать нельзя! Эти песни, родившиеся когда-то как проявление бунта и борьбы за человеческое достоинство, теперь становятся документом. И как свидетельства бесчеловечного времени должны быть сохранены и переданы тем, кто придет после нас, — в качестве предостережения.
Чтобы ни одно из этих бесценных свидетельств не пропало, Александр Кулисевич еще в 1972 году подготовил для Государственного музыкального издательства в Кракове более чем восемьсотстраничную рукопись «Польские концлагерные песни 1939—1945 годов». В ней собрано свыше 500 песен из 34 лагерей с комментариями, примечаниями, нотами, фотографиями уцелевших записей, биографиями авторов текстов и музыки, ссылками на архивы и библиографией. Как ни парадоксально, но рукопись и по сию пору лежит в издательстве.
— Сейчас я уже развалина, — грустно замечает Алекс, — но дыхание пока еще позволяет мне петь. А какой у меня был когда-то голос! Главный врач Заксенхаузена решил уничтожить его. Оберштурмбанфюрер СС Гейнц Баумкоттер трижды прививал мне дифтерит. Каждый раз он приходил проверить, каков эффект, а так как повредить голоса все равно не смог, в конце концов махнул рукой и сказал: «Ладно, пусть этот сукин сын поет».
В 1944 году Алекс служит «куклой» в команде «Хундецвинген». Эсэсовские овчарки учились на нем хватать человека за горло. Он заразился от больной собаки и на целых три месяца почти совершенно ослеп. В этот период родился жалобный призыв погибающих — уже цитированный «Хорал из ада», переведенный в лагере на шесть языков. В день поминовения умерших Алекс впервые исполняет одну из самых потрясающих своих песен «Распятый 1944».
— Эту историю рассказали мне в госпитале, когда я ослеп, французы, привезенные в лагерь. В маленьком селении Пресль недалеко от Ниццы эсэсовцы изнасиловали и убили мать, а ее трехлетнего сына распяли на дверях. Произошло это двадцатого июля сорок четвертого года, в день покушения на Гитлера. Фашисты сделали это от ярости, от злобы.
Распяли человеческого сына,
Распяли беззащитное дитя,
Гвоздями выкололи очи,
Разбили голову и вырвали язык,
И, умирая, увидала мать
Прибитые к дверям его ручонки.
Когда я исполнял эту песню в ФРГ, мне кричали, что это ложь, что я клевещу на немецкий народ. Но я знал, что это правда, мне рассказывали об этом, когда я был слепой, не только французы, и я во сне видел эту мать, ощущал ее руку на своем лице, слышал ее голос: «Ты должен помнить и обо мне!» И я знал, что это правда, что это действительно произошло, но, несмотря на многолетние розыски, главным образом во Франции, мне долго не удавалось найти даже упоминания об этой истории. И наконец я нашел — случайно: она была описана в актах Нюрнбергского процесса. С тех пор ни один немец не сможет обвинить меня в том, что я клевещу на его народ…
6
Голос Кулисевича звучит не только на улице Сенкевича в Кракове. Пан Александр показывает нам пластинки, вырезки из газет, фотокопии, кинокадры.
Еще в 1969 году Александр Кулисевич и его песни заинтересовали бывшего узника Заксенхаузена Андрея Сарапкина, а также Олега Хомякова и Иосифа Богуславского со Свердловской киностудии. Так родился сценарий черно-белого документального фильма «Песни борьбы и гнева», который снимался в Польше (в Кракове, Майданеке, Освенциме).
— Сценарий начинается с концертов: в Гейдельберге для студентов, которые не испугались угроз неонацистов; для итальянцев в Турине — этот концерт не был отменен, несмотря на то что под эстрадой обнаружили бомбу, подложенную неофашистами из Адидже; в Театре Ройял
[46] в Лондоне… Об огромном резонансе этих выступлений свидетельствуют пластинки, выпущенные в ФРГ и Италии, отзывы в прессе. После одного из таких концертов семилетняя девочка из ФРГ прислала мне благодарность. Ее привели на концерт лагерной песни, посадили в первый ряд. Ну, я сперва спел для нее немецкую песенку «Мамочка, как вырасту, я стану помогать тебе», а потом попросил отвести ее спать. А для немцев спел на тот же мотив лагерную колыбельную, колыбельную из ада:
Спи, мой маленький, без мамы
За колючей проволокой.
Нет ни молока, ни хлеба,
Смерть нависла над тобой.
Спи, усни, сынок избитый.
Ты живешь четвертый год.
Маму нынче застрелили,
Завтра папа в газ пойдет.
Спи, мой мальчик. Вдруг сумеешь
До такого дня дожить,
Когда Менгеле не будет
Газом маленьких травить.
Эта песенка была написана в сорок третьем году в Заксенхаузене и называется «Колыбельная для Биркенау»
[47]. Томаш Котарбиньский, преподаватель музыки из Познани, был привезен к нам, а его жену и троих детей отправили в Бжезинку. И хоть мы его отговаривали, он решил добиться перевода в Бжезинку. На прощание я написал колыбельную для его младшего сына Анджея, и он привез ее в Биркенау. Я слышал, что ее там пели, переделывали применительно к лагерным реалиям, но вот что стало с Котарбиньским, нашел ли он жену и детей, выжил ли, мне неизвестно.
В фильме бард был показан в своей антивоенной, антифашистской деятельности; вспоминалось там и о концертных выступлениях и журналистской работе предвоенных лет, которая и привела его в самом начале войны в Заксенхаузен. Кстати, созданию фильма способствовала и песня семнадцатилетнего красноармейца из Горького Алексея Сазонова «Гекатомба 1941», которая входит в постоянный репертуар Кулисевича.
Беседуя о фильмах, мы постоянно возвращаемся к зарождению его собрания песен. На эту тему пан Александр говорит охотнее всего:
— В каждом человеке, столько лет подвергавшемся издевательствам и унижениям, постепенно вызревало желание не только как-то пожаловаться, но и сообщить другим — на волю — о своих мучениях, чтобы тем или иным способом сохранить память о них. Некоторые заключенные, например, работавшие в Politische Abteilung
[48] и имевшие доступ к конкретным документам о массовом уничтожении людей, запоминали данные, тайком снимали копии и передавали их на свободу, а дальше конспиративными путями они доходили даже до радиостанций союзников. Конечно, это было великое дело — движение Сопротивления закладывало основу собрания документов о фашистских зверствах. Но у меня не было доступа ни в Politische Abteilung, ни даже в Schreibstube
[49]. Я был обычным, рядовым хефтлингом, то есть заключенным, — концлагерным пролетарием. Я ведь в Заксенхаузене не состоял ни на какой привилегированной должности.
Собирая в памяти все больше и больше стихотворений и песен, я чувствовал, что становлюсь необходим этим людям, несчастней которых нет под солнцем. Они ведь не составляли документов, тайных манифестов, списков убитых и отправленных в другие лагеря. Они были такими же пешками, как я сам. И выражали то, что их мучило. Порой их стихи оказывались чувствительным графоманством; сейчас кто-нибудь презрительно сказал бы: халтура; но и подлинные, истинные стихи порой были перенасыщены бальзамом надежды, а иные — мазохистски лишенными каких бы то ни было иллюзий, натуралистическими, святотатственными, безнадежными. А что ж вы хотите, если большинство авторов не имело ни малейшей уверенности, выйдут ли их произведения за колючую проволоку. Это обескураживало, мешало творить. И я своей, можно сказать, необычной памятью хотел дать им гарантию, что их поэзия сохранится. С их стихами я вбирал в себя тернии ненависти, горькую полынь унижения, безнадежность ежедневных мук, чистоту и сладость любовных признаний, плач по утраченному семейному счастью, по улыбкам детей, жар веры, мощь мятежа против нравственного убийства человечества. Диапазон тем был огромен.
Никогда, ни одному автору не дал я почувствовать, что он написал сентиментальную чушь. Но порой мне стоило немалых усилий повторить товарищу только что продиктованные им корявые, неуклюжие вирши. Однако я пришел к выводу, что содержание их важней, чем форма. Все стихотворения были одинаково близки мне, особенно те, что сочинены погибшими товарищами по лагерю. Они продолжают жить во мне.
С конца сорок первого года, когда я познакомился со множеством заключенных разных национальностей, я стал записывать в памяти чешские, немецкие и некоторые русские стихотворения. Ближе всего мне был чешский язык. Вот послушайте:
…Возвратите мне скорей
милый дом, жену, детей,
ибо торжества добра
подошла уже пора!
Это продиктовал мне Йозеф Чапек, великолепный художник, брат писателя Карела Чапека. В сорок пятом году он умер от голода в Берген-Бельзене. Сознание, что я становлюсь «международным» архивом, с каждым днем придавало мне все больше сил. Но приходилось быть очень осторожным и не особо похваляться своим собирательством. Ведь любой стукач мог меня погубить.
У меня все время было ощущение, что я превращаюсь в своеобразный дневник или записную книжку лагеря. И пока мои товарищи проклинали бесконечную поверку, я самозабвенно бормотал себе под нос, повторяя, к примеру, затверженный вчера «репертуар». Я был словно в трансе. Концлагерная реальность доходила до меня, как сквозь марлю. Я сказал себе, что обязан выжить. И когда во время бомбардировки я лежал на верхнем ярусе нар и в любой момент осколок мог пробить крышу, а следом меня, я вовсе не думал о возможной смерти — я работал над каким-нибудь фрагментом стихотворения. Вы не поверите, но в сорок пятом году, лежа в берлинском районе Лихтерфельде около бомбы с часовым механизмом, которая вот-вот могла взорваться (я был в команде бомбоискателей), я запоминал последние строки собственного стихотворения:
Благодарю тебя, Господи,
что убиваешь и разрываешь в клочья
не только рабов.
А после освобождения и госпиталя я почувствовал себя заново родившимся. Ни с того ни с сего начинал громко и радостно распевать, и, странное дело, не лагерные песни, а народные песенки вроде «Выгоняла Кася на лужок волов». Мне это тоже было запрещено — из-за легких. Удивительный был этот заново открывшийся мир.
А потом я стал ходить по разным столовкам для бывших узников концлагерей и, вместо того чтобы наворачивать как следует, расспрашивал о всяких выражениях, прозвищах, формулах предупреждения об опасности. У меня появилась новая мания: лагерный жаргон. Я инстинктивно чувствовал: все это надо немедленно собирать и регистрировать, так как «столовковый Вавилон» недолго продлится. Все разъедутся по домам, и потом уже ничего не выловишь. Естественно, у меня было немало неприятностей. Кое-кто ругался: «Алекс, дай спокойно поесть! Что ты пристаешь с этими лагерными словечками! Хватит с нас лагерей!»
Переписанные в госпитале стихи и песни я разложил в десять папок, каждое произведение было снабжено датой, краткой справкой о возникновении его и названием лагеря. Я записал также запавшие в память истории и факты, причем не обязательно связанные с музыкой. Так в июне сорок пятого года было положено начало моему архиву. В отдельной папке лежали по датам письма, которые я писал из концлагеря Заксенхаузен, в том числе и шифрованное письмо от сорок второго года. Я был страшно доволен, что хоть это сделал. Потом мне нужно было как-то устраиваться, и я на некоторое время отошел от собирательства. Но в начале сорок шестого года я услышал, что кое-кто из моих сотоварищей принялся собирать лагерную поэзию, и я занялся этим снова.
7
— А вот здесь моя переписка с женой бывшего президента Чехословакии Антонина Запотоцкого, умершего в пятьдесят седьмом году. В тридцать девятом — сорок пятом годах он тоже был узником Заксенхаузена, где мы и познакомились. С его женой Марией, бывшей узницей Равенсбрюка, меня связывала многолетняя дружба, и тут у меня множество писем от нее на самые разные темы; в них рассказы, пояснения, комментарии, многое разъясняющие в истории рабочего движения и судьбах старых коммунистов…
Но об этом, может, не стоит писать, — шутливо добавляет Александр Кулисевич, — а то как бы чехи не захотели, чтобы я отдал эти письма им, а я надеюсь передать все целиком Ягеллонской библиотеке
[50]. Сперва я подумывал о Национальной библиотеке в Варшаве, но будет лучше, если этот архив получит университетская библиотека города, ставшего мне родным. Отсюда недалеко и до Освенцима, с которым связана значительная часть собрания.
Творчество Александра Кулисевича широко известно во всем мире. Его песни путешествуют по свету уже с 1947 года.
Об успехах собирателя Алекса Кулисевича за границами Польши можно много писать; у нас же, к сожалению, о нем мало кто знает.
А ведь Александр Кулисевич получил имя «барда великой трагедии». В наше время, лишь иллюзорно далекое от тех лет, в эпоху, когда во множестве малых войн ежедневно гибнут люди, военные преступления совершаются буквально во всем мире; мы оказываемся бессильны перед ними, наша реакция из-за их обыденности притупляется. Про ад невозможно говорить шепотом. Алекс выбрал крик:
Подлое солнце, что же молчишь ты?
Видел я собственными глазами:
размозжили его головку о камень!
Смотрят в небо, сыночек, твои глаза,
и застывшая кричит в них слеза,
и повсюду, сыночек, твоя кровь!
А ты не прожил и трех годков…
Молодежь, увидевшая Кулисевича в передаче краковского телевидения, засыпала его письмами. Писали ученики средних школ.
Пан Александр показывает их письма с особой бережностью. Они — доказательство смысла его деятельности, его трудов, которым он посвятил всю жизнь. Он поднимается с оттоманки, берет в руки гитару. И внезапно превращается в другого человека, силы в нем удесятеряются. Он поет потрясающий «Хорал из ада»: «Из ада рвется наш хорал… Внимание: здесь люди мрут… Услышьте: люди тут…»
Перевод Л. Цывьяна.

Эдвард Куровский
Где мой дом?[51]
Я начал волноваться, когда выпал снег. Все говорили, что это последняя военная зима, что весной или летом наша армия возьмет Берлин. Военные действия уже шли на польской территории, на линии Вислы. Сообщения с фронта приходили сюда по нескольку раз в день, а не так, как в колхоз, от случая к случаю. Я решил, что уже пришло время мне включаться в войну. Прекрасно было бы сейчас летать над Польшей, бросать бомбы на фашистов и стрелять в них из пулемета, как они стреляли, летая над Хировом.
Мы часто возвращались в казармы промокшие до нитки. Облепленные снегом плащи были на несколько килограммов тяжелее, промокшие сапоги тоже. В казарме мы сушили на батареях центрального отопления брюки, радовались, что вместо портянок у нас уже есть носки. Со спящими рядом со мной солдатами я не имел возможности подружиться, потому что они были из других взводов и мы не встречались днем. Я постоянно искал Ваню и Кольку, мы с ними виделись несколько раз в день, на ходу обменивались несколькими словами, но даже вечером, после ужина, время было так расписано, что нам не удавалось спокойно поговорить.
— Ты написал письмо Ане? — спросил у меня как-то раз Колька, когда мы выходили из столовой.
— Даже два. И два получил.
— Как ты думаешь, когда нам дадут отпуск?
— Говорят, что весной.
Я соврал, сказав, что получил от Ани два письма. Пришло только одно, впрочем, как и от родителей, так что нельзя было обижаться на девушку. Аня писала мне официально, за что я на нее злился, хотя мое письмо к ней тоже было официальным, но ведь я солдат, мне неудобно. Другое дело она. А может, она стесняется военной цензуры?
Во время утренней физзарядки я спросил стоящего рядом курсанта, слышал ли он о том, что учеба в нашем училище должна быть сокращена.
— Летная практика длится всего лишь три месяца, — ответил он, — а эту теорию действительно можно было бы сократить.
— Боюсь, что на войну мы и так уже не успеем, — заметил другой курсант.
— Похоже, что нет, — ответил я, хотя еще не терял надежды.
— Те, кто постарше нас на год, уже летают на фронт, — включился в разговор третий.
— Им повезло.
— Опоздали мы, друг, на год, — снова сказал первый, делая повороты корпусом.
На стартовой полосе произошел несчастный случай. Раненный в воздушном бою летчик с трудом удерживал в воздухе свою машину несколько сотен километров. В полусознательном состоянии, потеряв ориентировку, он искал какой-нибудь аэродром. Увидев наш, он только спросил, советская ли это территория, а получив ответ, что да, не стал ждать разрешения на посадку, снизился, но ему не хватило взлетной полосы, он попал в снег и перекувырнулся.
Мы подбежали к лежащему кверху колесами самолету и вытащили окровавленного пилота. Мы были рады тому, что он жив. Его внесли в машину «Скорой помощи». Тут мне вспомнились слова отца о том, чтобы я берег себя и не погиб в последний день войны.
Взволнованный, я возвращался в казарму. На следующий день, с самого утра, я расспрашивал товарищей о раненом летчике. И успокоился только тогда, когда услышал, что он жив. Ведь я же знал, что на фронте самолеты вместе с летчиками разбиваются о землю, падают в воду, взрываются в воздухе, и считал это нормальным делом, а вчерашний случай принял так близко к сердцу. Почему?
В один из дней среди курсантов разошлась весть о том, что скоро начнутся практические занятия по пилотажу и для этого нас перебросят куда-то под Москву. Я был очень рад этому, потому что хотел увидеть столицу, а кроме того, письмо, отправленное в колхоз из Москвы, это не то, что из Тамбова.
Отъезд был назначен через несколько дней, занятия по двигателям и другие лекции были сокращены, некоторых курсантов еще раз направили на медицинское обследование. В чем там было дело, не знаю. Однако, когда вызвали меня, я немного испугался. Но почему не вызывают Ваню и Колю?
В кабинете за столом сидели несколько врачей. Под белыми халатами виднелись офицерские погоны. Я не знал, кем был разглядывающий мои документы симпатичный брюнет — подполковником или полковником. Но я начал беспокоиться, когда он, подавая своему коллеге мои бумаги, сказал «нет». Второй еще раз механически перелистал страницы и тоже отрицательно покачал головой. Я ожидал самого худшего.
Одеваясь, я пытался узнать у товарищей, слышали ли они такое же «нет». Они не обратили на это внимания, каждый делал то, что ему было велено.
— Послушай, — спросил я стоящего рядом курсанта, — что сказал доктор, просматривая твои документы?
— Ничего.
— А у меня он в чем-то засомневался.
— В чем он мог сомневаться? — пожал тот плечами.
Мы вышли из кабинета, чтобы освободить место для следующей группы. Я с беспокойством ждал, что будет дальше.
После обеда сержант, как обычно, собрал взвод. Когда мы построились, он сказал, что курсант Ковалик должен явиться к командиру. Поскольку я не сразу его понял, он крикнул:
— Ковалик, выйди из строя!
Я сделал положенные три шага вперед.
— Можете идти!
В секретариате мне дали запечатанный сургучом конверт, направление на распределительный пункт и сообщили, что через полчаса будет грузовик. И еще нужно сдать обмундирование. Я не тронулся с места, хотя сержант уже занялся другими.
— Зачем на распределительный? — спросил я, с трудом хватая воздух.
— Так решила комиссия. Поспешите — грузовик ждать не будет.
Я уже сдавал свой красивый мундир на склад, уже получал гражданскую одежду, а все еще никак не мог понять, в чем дело. В голове шумело, звенело в ушах. Я ужасно выглядел в своей короткой куртке, стоптанных башмаках и мятых брюках. Было непонятно, то ли это кошмарный сон, то ли печальная действительность. Я ждал, когда же кончится этот ужасный фильм, в зале загорится свет и я вернусь в реальный мир.
Я стоял в коридоре, не зная, что делать, а вернее ждал, когда кто-нибудь скажет: «Товарищ курсант, это ошибка». Наверняка ошибка, ведь я же хорошо учился, был послушным и дисциплинированным. Я должен стоять и ждать, мне нельзя далеко отходить. Не знаю, долго ли я так стоял, пока кто-то не крикнул мне в ухо:
— Что вы так стоите?
— Да я не понимаю…
— К начальнику школы, если не понимаете!
Начальник школы в это время как раз куда-то выходил. Я, должно быть, выглядел ужасно, потому что он вернулся со мной в кабинет и заглянул в мои бумаги.
— Дорогой мой, — сказал он, — вы поляк. И вероятно, знаете, что существует Войско Польское.
— Слышал об этом.
— Ну так вот, вы поедете в польскую армию.
А почему я не могу остаться здесь? Тут у меня друзья по школе, по комсомольской организации. Наши армии борются с общим врагом.
— Поляки идут в Войско Польское. Таков приказ начальства. В вашей армии тоже есть летная школа. Счастливого пути.
Я вышел, не очень понимая, что происходит, и наткнулся на Ваньку, который болтался в коридоре главного здания, словно чувствуя, что со мной делается что-то нехорошее.
— Прощай, — с трудом проговорил я.
— Что случилось? — Ваня был так удивлен, что шел за мной, о чем-то говорил и все время дергал меня за рукав.
Во дворе курсанты занимались строевой подготовкой. Вдруг из шеренги вышел Коля Муковнин.
— Володя! — крикнул он, неожиданно увидев меня в гражданской одежде. — Этого не может быть! Мы должны всё выяснить!
— Муковнин, становись в строй! — крикнул командир взвода. — Что это значит?
— Мой друг… Володя, обратись к начальству! Никуда не уезжай! Вечером увидимся.
— Эй! — крикнул солдат из грузовика. — Мы уже едем. Пешком пойдешь на распредпункт!
В глазах у меня потемнело, ноги стали ватными. Я никак не мог понять, почему в моей жизни произошел такой неожиданный поворот.
С вещмешком за плечами я догнал тронувшийся уже грузовик и влез в кузов. И так ехал молча, не разговаривая с ребятами, которые тоже возвращались на распределительный пункт. Я раздумывал над тем, куда теперь меня пошлют. Все равно куда, подумал я, лишь бы только не обратно в колхоз. Там уж стыда не оберешься.
* * *
Мне определили место на двухъярусной койке в многолюдном зале, в котором спали не только призывники, но и бывшие фронтовики, выздоравливающие, инвалиды, кое-кто на костылях, с несгибающимися ногами, с парализованными руками. Некоторых из этих людей переводили в другие части, некоторых направляли на отдых или домой.
Солдаты играли в карты, вспоминали фронтовую жизнь, ругались с обслуживающим персоналом из-за того, что им не нравится еда или что не хватает сахара для кипятка.
Я не мог спать, меня мучил вопрос «что дальше?», а когда приходил сон, то будили видения, мне снилось, что я снова нахожусь в авиачасти, куда-то бегу с Ваней, летаю, как будто бы я уже стал пилотом, неизвестно только, когда изучил искусство пилотажа, важно, что это уже в прошлом, я лечу в тыл врага и сбрасываю бомбы на вражеский город.
Мне было жаль, что я не попрощался с моими друзьями Ваней и Колей, но я оправдывался, что это не моя вина, я напишу им письмо, невозможно, чтобы мы с ними скоро не встретились, ведь только гора с горой не сходится.
Утром к нам пришел молодой солдат и спросил, есть ли тут кто-нибудь, кто умеет писать красками, рисовать, ну как бы художник, потому что надо украсить зал для концерта и сменить лозунги. Я вызвался, поскольку в школе неплохо делал стенные газеты. Мы пошли в декорационную мастерскую, я начал рисовать то, что мне велел сержант-художник, но не успел я закончить плакат, как меня вызвали к начальнику распредпункта.
— Фамилия? — спросил майор, глядя в мои бумаги.
Я назвал себя.
— Вольно. По документам видно, что вы поляк. А польский язык знаете?
— Конечно.
— Ну скажите что-нибудь по-польски.
Я сказал. Майор меня не понял, но поверил, что бумаги не врут.
— Я поляк, но очень хотел бы служить в советской авиации, — настаивал я. — Я хочу учиться в этой школе в Тамбове, там мои товарищи, я хочу вас попросить, чтобы меня послали обратно…
— Но ведь существует возрожденное Войско Польское.
— Я комсомолец, — продолжал я свое, — и ходил в советскую школу.
— Понимаю, но вы — польский гражданин. Народное Войско Польское тоже нуждается в кандидатах в пилоты. Я уверен, что в мундире польского солдата вы встретите своих советских друзей.
— Феликс Дзержинский тоже был поляком, но всю жизнь работал в СССР над укреплением Советской власти и мировой революции, — бодро произнес я.
— Тогда Польша не была независимой. А сейчас в своей стране вы сможете работать над укреплением международного революционного движения, — не остался в долгу майор.
У меня горели уши, перед глазами стояли огненные круги, которые удалялись и росли. Я чувствовал, что ноги подо мной подгибаются, ведь не мог же пол качаться.
— Мои родители живут в колхозе. Я хотел бы вернуться к ним как советский солдат.
— Ваши родители после войны поедут в Польшу.
— Я в любом случае вернусь в свой колхоз.
— Дружище, — сказал спокойно офицер, — не спорь со мной. У меня есть приказ. Я — солдат и ты — солдат, а солдат даже в мирное время должен выполнять приказы.
— Куда вы меня направите?
— В Люблин.
— В какую часть?
— Там находится ваш распределительный пункт. Счастливого пути.
Я вышел, думая о том, что в моей жизни все так неожиданно переменилось, как тогда, десятого февраля, когда в течение двух часов мы должны были покинуть наш дом, город, друзей. Вчера мечты о полетах, сегодня — путешествие в переполненном вагоне.
Я просмотрел все свои бумажки, которые мне дали. Там было направление на кухню за сухим пайком, а также талон на склад. Зачем мне идти на склад? — подумал я. За одеждой? Какой одеждой?
Кладовщик сказал мне, что у него нет никакой гражданской одежды, а одно лишь обмундирование, да и то поношенное.
— Ну так на кой оно мне?
— Как хочешь, — безразлично ответил кладовщик. — Начальник дал тебе талон, а там твое дело.
— Но зачем? — спросил я.
— Чтобы ты не ехал как оборванец. На тебе мятое гражданское тряпье, а ты солдат, — рассердился он.
— Я еду в польскую часть.
— Тем более ты должен прилично выглядеть. Ведь пока что ты солдат Красной Армии.
Я вынул свое направление. И действительно, там было написано:
«Направляем советского солдата, по национальности поляка, рядового Влодзимежа Ковалика в распоряжение…»
Кладовщик положил предо мной не новый, но вполне приличный, выстиранный и отглаженный мундир, шинель и чистое белье. Потом он начал выбирать сапоги, спросив, какой у меня размер.
— Зайди сюда и примерь сам, — в конце концов сказал он.
Скоро я вышел из распределительного пункта в мундире советского солдата. Часовой взял мой пропуск, а я подумал о сержанте-художнике, который сам теперь будет украшать зал.
* * *
На железнодорожном вокзале, без командира, без товарищей, я почувствовал себя одиноким. Мне казалось, что сейчас ко мне подойдет военный патруль и потребует предъявить документы.
Неожиданно на вокзале объявили поезд до Воронежа. Толпа женщин с детьми, с узлами на плечах и чемоданами в руках бросилась к выходу из зала ожидания. Еще час тому назад репродукторы сообщили, что скорый, едущий в этом направлении, прибудет в пятницу, т. е. через два дня, поэтому я решил ехать любым пассажирским в сторону Минска, а тут как раз появился скорый.
На путях было полно народу. Никто не искал подземного перехода, все перелезали через ограждения, через другие поезда, под вагонами товарных составов.
Довольно долго мы стояли на холоде на заснеженном перроне, вглядываясь вдаль, откуда ждали прихода поезда. Мороз был небольшой, всего несколько градусов, а воздух чистый. Когда я посмотрел в сторону, откуда должен был прийти поезд, мне показалось, что равнинам нет конца, что мой взгляд достигает Уральских гор. Даже глаза заболели оттого, что я долго смотрел, не идет ли поезд; то и дело мне казалось, будто я вижу маленькую, как муха, точку, но это только черные пятна прыгали у меня перед глазами. Я было подумал, что у меня не в порядке зрение.
Наконец прибыл поезд, такой обледеневший, словно он пробивал туннель в сугробах. Он появился как будто из-под снега, вот почему издали его было трудно обнаружить. На крыше вагонов лежал полуметровый слой снега, из-под которого почти не видны были вентиляционные трубы. Паровоз покрывали огромные сосульки, темно-зеленые вагоны потеряли свой цвет, они были грязными, обвешанными серыми людьми.
Стоящая на перроне толпа бросилась к закрытым на ключ вагонам, каждый из которых имел свою проводницу. Проводницы жестами объясняли через закрытые двери, что мест нет. Были забиты не только коридоры, но и переходы, соединяющие вагоны, и даже вагонные ступеньки. Люди просили, ругались, объясняли, что им надо ехать. Проводница впустила мать с ребенком и больше никого. Женщины, инвалиды войны возвращались в зал ожидания. Через несколько дней будет следующий поезд, может, тогда повезет.
Я сел на ступеньке закрытого на ключ вагона, рядом со мной мужчина в фуфайке. Проходящий мимо железнодорожный охранник велел слезть моему соседу, меня, как солдата, оставил. Мужчине он объяснил, что на ступеньках ехать запрещено, от холода у него замерзнут руки и он упадет. Когда охранник ушел, мужчина в фуфайке снова уселся рядом со мной. Охранник уже сгонял других, они послушно сходили, а потом снова возвращались.
Через несколько минут поезд тронулся. Во время поездки я вспомнил наше путешествие в дырявом вагоне из Красноуральска до Туры. Правда, тогда на улице было более тридцати градусов мороза, но у вагона, хоть и с выбитыми стеклами, все же оставались стены. Сейчас же несколько градусов мороза во время движения поезда превратилось градусов в двадцать, да еще с пургой. Ветер вдувал мне снежные хлопья под шапку и за воротник, продувал насквозь шинель. Руки и ноги у меня окостенели, я не чувствовал холода, а одну только боль. Повернувшись спиной к голове состава, я судорожно держался за железные поручни. Так вроде было получше. Боясь, что разожмутся закостеневшие руки, я привязал себя ремнем к металлической ручке. Когда я засыпал, ремень держал меня. А поезд несся с такой скоростью, что казалось — он вот-вот сойдет с рельсов.
Я поправил завязанную под подбородком шапку, проверил, не оторвалась ли у меня красная звездочка, и уселся поудобнее на ступеньке. Поезд шел через снежную пустыню, дышащую холодом, белые холмы сменяли друг друга так, словно я ехал на карусели. Время от времени можно было увидеть лошадь с деревянной дугой над головой, тянувшую сани, иногда охотник в тулупе шел через лес, а то вдруг церковь с луковичками куполов выглядывала из-под снега.
Через несколько часов мы въехали в вечернюю темноту. На снегу загорались огоньки погруженных в белые сугробы домиков. Я знал, что в этих избах тянет теплом от огромной печи, на которой лежит вся семья и щелкает семечки подсолнуха. В моем доме в Саликове тоже тепло. Отец, вернувшись из кузницы, греется, мать готовит щи. Они, наверное, думают, что их сын учится летать, ведь я об этом писал в последнем своем письме.
В этих домах тоже остались одни женщины и дети, думал я, при свете керосиновой лампы они читают письмо от отца или думают о том, почему же он так долго не пишет. Они едят пшенную кашу с подсолнечным маслом или снимают кожуру с вареной картошки, солят ее, мажут маслом или жарят на сковородке. С каким удовольствием я сейчас съел бы миску такой картошки!
Я не знаю, сколько времени мы уже едем, потому что у меня нет часов, но наверняка очень долго. Как узнать, сколько еще ехать? Вероятно, уже недалеко.
В вещмешке у меня хлеб и кусок выданного на распредпункте сала. Я не могу есть на морозе, руки не в состоянии что-либо удержать. На всех ступеньках сидят голодные люди и радуются тому, что едут. После многочисленных скитаний они возвращаются в родные места.
В воронежском зале ожидания была такая теснота, что негде было даже стоять, не говоря уже о том, чтобы сесть.
Неожиданно через стекло в дверях я увидел знакомого солдата и только спустя несколько секунд понял, что это я. Большая военная ушанка прикрыла мне голову и падала на глаза. В лохматом мехе надо лбом поблескивала красная звезда. Под маленьким чистым лицом торчал немного великоватый воротник военной шинели с погонами. Перед украшали пуговицы с серпом и молотом. Я так себе понравился, что не мог оторваться от стекла, но тут вспомнил, что на всех железнодорожных вокзалах имеются залы для солдат, отдельные воинские билетные кассы и продовольственные пункты.
В зале для военнослужащих я нашел даже место для лежания, конечно, на полу, между спящими солдатами. Я положил вещмешок под голову, и тепло усыпило меня.
Когда репродуктор объявил об отходе какого-то поезда, я проснулся. Часть солдат выбежала, вместо них пришли другие. Скоро в зале снова все успокоилось. Некоторые солдаты ели, другие курили, но это не мешало мне спать.
Я проснулся, но не мог открыть глаз, веки были тяжелыми, воспаленными. В зале стало тесно, я с трудом перевернулся на другой бок, лежащий рядом со мной парень кричал сквозь сон, чтобы я его не толкал. Мне было тепло, хорошо, я в этом блаженстве хотел оставаться как можно дольше, но голос репродуктора снова поднял множество людей.
А вдруг это мой поезд, неожиданно подумал я и, взяв вещмешок, двинулся вместе с толпой. Оказавшись на перроне, я узнал, что этот поезд идет в Москву.
Я огляделся по сторонам, ища кран с кипятком, и нашел его по большой очереди, которая все же довольно быстро двигалась. Горячая вода и кусок хлеба с салом тут же привели меня в прекрасное настроение. Я мог съесть весь мой запас еды, на воинском пункте мне опять выдадут новый паек.
К справочному бюро не было большой очереди, девушка в военной форме коротким «не знаю» быстро выпроваживала спрашивающих. Мне она сказала: «Где-то в среду», т. е. через два дня.
С зеленым военным вещмешком на плече я вышел в город, где на каждом шагу виднелись свежие следы войны. Все дома вокруг вокзала, которые я помнил со времени моего первого пребывания в этом городе вместе с родителями, были разрушены. Закопченные стены еще пахли дымом и порохом, мне казалось, что я слышу далекий грохот артиллерии.
На привокзальной площади, где когда-то были клумбы и газоны, лежат груды кирпичей. Главная улица очищена только на ширину проезда одной машины. Люди вынуждены отходить в руины, чтобы дать проезд автомобилям. На груды кирпичей и снега сыплются зеленые искры с дуги идущего трамвая.
Я сел в первый вагон. Никто не требовал от меня билета, военные имели право бесплатного проезда. Трамвай двигался по пустым улицам мимо сломанных деревьев, разбитых грузовиков, заваленных толстыми пластами грязного снега. Иногда развалины рухнувших домов так близко подходили к рельсам, что мне казалось, будто они закрывают проезд. Трамвай ехал по ущелью руин, чтобы тут же выбраться на широкое пространство уничтоженного парка. В вагоне не было ни дверей, ни стекол, поэтому веяло холодом морозного зимнего утра, но, несмотря на это, я чувствовал себя прекрасно. Я радовался тому, что нахожусь здесь, так близко от фронта, что почти по пятам преследую немцев. Скоро я их догоню. Из Люблина, куда меня направили, я наверняка увижу зарево войны. Мне хотелось, чтобы родители сейчас увидели меня, одинокого путешественника, солдата.
Трамвай на кольце повернул обратно, я вышел, увидев толпу людей. Оказалось, что это базар. Что может быть приятнее, чем ходить мимо лотков, рассматривать удивительные вещи, слушать, как торгуются покупатели с продавцами?
Когда я покупал пирожок с капустой, женщина с головой, закутанной в три платка, спросила меня, не на фронт ли я еду.
— Конечно! — сказал я гордо.
— Береги себя, сынок. Мой муж без ног вернулся. — Она рукой вытерла глаза. — Без обеих ног.
— Такой мальчишка — и на войну? — удивилась вторая.
Я не любил, когда обо мне кто-нибудь говорил «мальчишка». И поэтому ушел с базара, считая, что напрасно здесь трачу время.
— Товарищ солдат, — услышал я женский голос, когда входил в воинский зал ожидания; рядом со мной стояла девушка, поразительно похожая на Марусю из Саликова.
— Товарищ, — повторила девушка, — вы не в Киев едете?
— Да, а что?
Девушка схватила меня за рукав шинели.
— Есть поезд, который туда идет. Товарный.
— Ну и что?
— Вы не поедете? Много людей
едет этим поездом, потому что неизвестно, когда придет скорый.
— Откуда ты знаешь, что в Киев? — спросил я подозрительно, ибо не мог понять, зачем ей нужно, чтобы я ехал товарным.
— Я слышала, как вы спрашивали в справочном бюро.
— Я еду еще дальше, — ответил я.
— Куда?
— Военная тайна.
— Если вы решите ехать этим товарным, то возьмите меня с собой. Вас не выгонят, а меня заставят выйти. На этом товарном много военных едет. Завтра утром мы будем в Киеве.
— Завтра?
— Да. Он идет быстрее, чем пассажирский, а останавливается только на узловых станциях.
— Пожалуй, это неплохая мысль, — буркнул я и пошел на перрон.
— Ты знаешь, где стоит этот поезд? — спросил я идущую рядом девушку.
— Знаю. Но надо спешить, а то он уйдет.
Мы бежим через пути мимо разбитых вагонов, проходим рядом с составом сожженных цистерн, огромные разорванные бочки лежат на насыпи. Останавливаемся перед товарным поездом, но оказывается, что это еще не наш. Девушка нагнулась и потащила меня за собой. Она на четвереньках пролезла под вагоном, я за ней.
— Вот этот, видишь? Те двое тоже едут. Многие уже в него влезли. Попрятались.
Мы идем вдоль вагонов с углем, минуем загруженные сеном. Тут было бы прекрасно, но как туда попасть? Вагоны запломбированы. Следующая платформа с досками, за ней крытый вагон.
— Может, сюда?
Мы бежим, потому что около паровоза ходят люди, вероятно, сейчас поезд тронется. Вагон не запломбирован, я поднимаю тяжелый железный засов, девушка помогает мне открыть дверь, и мы залезаем внутрь. Девушка садится первой, ей трудно влезать, я хочу подсадить ее, но не решаюсь. Она подает мне руку.
Мы с грохотом задвигаем дверь и оказываемся в узком проходе между досками. В полумраке я вижу, что не все доски одинаковой длины, там, где лежат более короткие, видно свободное пространство. Я влезаю в него, девушка за мной.
— Здесь мы можем даже спать. Только бы доски на нас не упали.
— Наверняка не упадут, — успокаиваю я ее.
— Пока поезд стоит, они не упадут, но потом, когда начнет дергать… Ты когда-нибудь ездил на товарном? Знаешь, как поезд дергает?
Я не ответил, потому что услышал приближающиеся шаги. Неожиданно с треском отодвинулась дверь и мужской голос снаружи произнес:
— Вылезай!
Девушка посмотрела на меня.
— Скорее, чего ждешь! — железнодорожник кричал на девушку.
— Эта гражданка едет со мной, — сказал я спокойно.
— С вами. Ну хорошо. Больше там никого нет? Тогда с другой стороны вагона что-то зашевелилось.
Из-под досок вылезла мать с двумя детьми лет пяти и семи.
— А я на чем поеду в Киев? — спросила она железнодорожника. — Тебе легко говорить «вылезай».
— А если тебя доски придавят или ребенок замерзнет насмерть? Ну шевелись, а то сейчас поезд тронется.
Когда женщина с детьми вылезла, железнодорожник закрыл дверь и задвинул засов. Мы вздохнули с облегчением.
Скоро со стороны паровоза до нас донесся лязг трогающихся вагонов. Задвигались доски, на которых мы сидели, и какая-то сила потащила нас вперед, а потом бросила назад. Стальные колеса застучали, словно двигались по камням, зазвенели буфера, и поезд тронулся, набирая скорость. Ритмичный стук действовал усыпляюще.
— Спасибо тебе большое, — сказала девушка, — мне дали две недели отпуска, и я хотела узнать что-нибудь о матери и сестре, от них уже давно нет никаких известий. Не знаю даже, живы ли они.
— Наверняка живы, просто почта сейчас плохо работает, — утешил я ее. — Тебя как зовут?
Девушка не ответила. Положив голову на свою сумку, она уже спала. Так я и не узнал, как ее зовут и где она работает. Я не двигался, чтобы не разбудить девушку, хотя мне было неудобно, потому что ее рука лежала на моем колене. Потом заснул и я.
Неожиданно моя попутчица начала плакать. Я проснулся и спросил, что случилось.
— Где я? — Она пыталась хоть что-нибудь разглядеть в темноте.
— В поезде. Мы едем в Киев. Что тебе приснилось?
— Я видела мою маму, — девушка вытирала слезы со щек, — и мою сестру… их убили…
— Это значит, что они живы, — ответил я. — Сны объясняют наоборот.
— А я так расстроилась, ты себе представить не можешь. — Она облокотилась на мое плечо, а я ее обнял и ласково прижал к себе.
— Не волнуйся, ты со мной. Ничего с тобой не случится.
Так мы и дремали, обнявшись, то она на моей груди, то я на ее плече, а поезд шел, постукивая колесами, — медленнее, быстрее, иногда где-то останавливаясь.
В Киеве девушка поблагодарила меня, попрощалась и по путям побежала в сторону города.
* * *
Я был рад, что увижу Киев, ведь я столько о нем слышал. Говорили, что он красивее Москвы, будто бы только Ленинград и Тбилиси могут с ним сравниться. Я думал, что осмотрю его в обществе киевлянки, что мы вместе с ней поедем куда-нибудь, но девушка пропала. Как Киев выглядит? Когда его освободили?
Так я шел, думая обо всем этом, в сторону зала ожидания. Наш товарный поезд остановился в двух километрах от станции, так что я имел возможность осмотреть разбитые вагоны на путях, сломанный виадук, сожженные вокзальные склады, а также развалины близлежащих домов. Интересно, сильно ли разрушен город? Похожу-ка я по улицам, спрошу, где базар.
Подойдя к главному зданию вокзала, я увидел красные огни на зеленом пульмане — конец какого-то поезда. Неожиданно у меня забилось сердце, почти застучало — ведь это стоял скорый, идущий во Львов. Не раздумывая, я вскочил в первый попавшийся вагон, в коридоре которого нашел даже сидячее место на радиаторе. Тепло меня совершенно разморило, глаза сами закрывались. Я хотел спросить сидящего рядом моряка, когда мы будем во Львове, но он спал так крепко, что его невозможно было разбудить. Ладно, подожду проводницу. Все равно когда, важно, что у меня есть место, что я сижу, что еду.
Как только поезд тронулся, я сразу же заснул. А проснулся, когда он остановился, и снова заснул, когда поезд опять отправился в путь.
Не знаю, что это за станция, люди выходят, садятся, бегают по перрону. Знаю только, что я еду в толпе беженцев, возвращающихся в свои родные места. Устав от скитаний, люди спят где придется. На станциях суматоха, крики. Когда поезд трогается, в вагоне раздается храп. Двери в купе открыты, там людей как селедок в бочке, иногда раздается приглушенный крик ребенка и успокаивающий шепот матери.
Кто-то кашляет бесконечным, неприятным кашлем. Я снимаю со своего плеча голову спящей женщины, двигаю онемевшей рукой. Хочется пить, но где взять воду? У проводницы она есть, но как до нее добраться?
В грязные окна вагона заглядывает рассвет. Я встаю, смотрю в окно. Мы проезжаем мимо больших и маленьких станций, городов. Увидев руины, я пытаюсь представить себе, какие дома стояли здесь когда-то. Несмотря на раннее утро, люди лопатами убирают груды обломков. На разрушенной стене дома надпись «Sklep…»
[52] и затем провал.
Как же похожи разбитые города, думаю я, как же похожи воронки от бомб и искалеченные осколками люди!
Я снова заснул, прислонившись головой к окну, и мне приснился мой Хиров, и бедная деревенька Слохиня, и летний школьный лагерь Лозы. Я играл с ребятами в футбол в яме около железной дороги. Вместо ворот на траве лежали наши школьные учебники. Я стоял на воротах, а Казик Кендзерский бил пенальти. Мяч пролетел над моей головой, одни считали, что выше ворот, другие, что он попал в ворота. Был гол или нет?
Я проснулся во Львове. Раньше я его никогда не видел. Отец обещал, что мы когда-нибудь туда поедем, но я знаю, что у него не было денег. Он рассказывал мне о Львове и как железнодорожник восхищался прежде всего вокзалом. Он не успел показать мне этот город, началась война.
Я хожу по Львову в мундире советского солдата, с зеленым военным вещмешком на плече, слушаю разговоры людей, которые, однако, замолкают, когда я останавливаюсь возле них. Я не могу понять, почему. Неожиданно мимо проходит польский солдат с орлом на шапке. Настоящий польский солдат.
— Простите, — говорю я по-польски.
Он повернулся.
— В чем дело? — спросил солдат.
— Да нет, ничего, — ответил я, смутившись. Хотел на вас посмотреть, подумал я, но не сказал этого вслух. Первый раз за много лет вижу настоящего польского солдата.
Солдат ушел, вероятно, я показался ему подозрительным, а может, он спешил или у меня было слишком глупое выражение лица, чтобы со мной разговаривать.
Я купил в киоске мороженое и вернулся на вокзал. Поезд, идущий в Самбор, стоял на запасном пути за станцией. Он был даже не пассажирский, а смешанный. Три коротких двухосных пассажирских вагона и два товарных. В одном из вагонов сидели люди, но никто не знал, когда поезд отправится в путь, все надеялись, что сегодня. Неожиданно среди украинской речи я услышал людей, говоривших по-польски, и странная дрожь пробежала у меня по лицу. Поляки. Когда я подошел к ним, они умолкли. Разозлившись на них из-за того, что они приняли меня за русского, я перешел в другой конец старого австрийского вагона и сел на высокую деревянную скамейку рядом с женщинами, разговаривающими по-украински. Это были «польские» украинки, их язык немного отличался от языка киевлян. Они говорили вполголоса, чтобы я их не мог подслушать.
Неожиданно поезд тронулся. Вагон стучал, дергался, скрипел, подскакивал на стрелках. Когда же он вырвался из путаницы рельсов, то ускорил ход, однако скоро снова пошел медленнее и всю оставшуюся дорогу так и тащился среди полей, словно телега, оставляя за собой сожженные деревни, поломанные сады и остатки деревянных заборов.
Самбор. Видны совсем свежие следы войны, как будто фронт прошел здесь час назад. Только сейчас я заметил, что уже нет снега. Светит солнце, и на улице очень тепло, хотя зеленой травы еще нет. А ведь во Львове был снег. Какое сегодня число?.. Я совершенно потерял счет дням, даже не знаю, какой день сегодня. Хорошо еще, что месяц помню. Ну и год — 1945-й. Ранней весной я возвращаюсь в мой Хиров в мундире советского солдата.
Немногочисленные пассажиры пробитого пулями поезда выходят на пути. Проводника нет, никто не может сказать, куда он едет дальше. Мы спрашиваем об этом машиниста.
— Это от меня не зависит.
— А от кого?
— От начальника станции.
Мы идем к начальнику станции.
— В принципе у поезда здесь конечная остановка, но… сколько вас собирается ехать в Хиров?
— Человек десять.
— А некоторым нужен Пшемысль.
— В Пшемысль поезда еще не ходят. Прифронтовая зона. Посмотрим, примет ли Хиров.
— Позвоните, пан начальник. Помогите нам.
— Пять лет меня здесь не было, — сказал я. — Очень хочется увидеть свой родной город.
Начальник станции посмотрел на меня как-то странно.
— Вы из Хирова?
— Да.
— Там теперь мало что сохранилось.
— Хочу посмотреть на то, что осталось. А потом в Люблин. В польскую армию.
Он еще раз взглянул на меня, но ни о чем уже не спрашивал.
Поезд тронулся. Одноколейная линия крутится среди песков, словно боится задеть плоские белые домики. Здесь должна быть река, подумал я и увидел старые ивы. Это Стрвёнз? — удивился я и сердце сжалось у меня в груди. Когда-то он был побольше…
Поворот, разветвление, и вот уже предместья Хирова. Поезд идет вроде бы медленно, а все так стремительно приближается и убегает, что я не знаю, куда смотреть. Наш дом я увидел, когда мы уже проехали мимо.
Не знаю, почему поезд не пошел в Хиров, а повернул к предместью. Я вышел из вагона расстроенный, возбужденный — все происходило как во сне. Такое обыкновенное, что даже казалось ненастоящим.
Вот я стою перед двухэтажным зданием вокзала и смотрю на разрушенные домишки моего Хирова, на покрытую гарью тропинку, ведущую в школу, на стоящие друг против друга колокольни костела и церкви. Я подхожу к киоску, где продаются какие-то продукты, и прошу налить хлебного кваса, от волнения мне хочется пить. Держа в руке стакан желтой жидкости, я по-польски спрашиваю продавщицу о моих школьных товарищах, возможно, она кого-нибудь из них знает, но женщина молчит. Вряд ли она глухая, иначе не могла бы торговать в киоске.
— Где вы так хорошо научились говорить по-польски? — через какое-то время спросила она.
— По-польски? — удивился я.
— Ты думаешь, что я русского не узна́ю?
— Мундир на мне советский, но…
— По шапке, по носу, по всему узна́ю.
Меня окружила группа незнакомых мне людей, они слушали наш разговор, а вернее то, что подчеркнуто громко говорила продавщица, будто бы я напрасно притворяюсь поляком, ибо даже акцент у меня русский. Очень это меня, урожденного хировчанина, обидело. Я мечтал о том, чтобы сейчас встретить кого-нибудь из моих бывших товарищей и чтобы он сказал глупой бабе, кто я такой. Честно говоря, в значительной степени из-за нее у меня пропала симпатия к моему городку. Волнение превратилось в злость.
У железнодорожной насыпи я останавливаюсь. В этой яме мы после школы играли в футбол, было удобно, не надо было выбрасывать аутов, мяч сам отскакивал от стен. Казик, Манек, Тадек бегут к моим воротам, я выбегаю… Где они теперь?
Шагая в советском мундире с зеленым военным вещмешком на плече по посыпанной гравием дороге вдоль сожженных домов, я думаю о том, как же отличается сегодняшнее предместье Хирова от того, которое сохранилось в моей памяти. Уменьшилось, сжалось, посерело даже в тех местах, где его пощадили снаряды. Быстрый когда-то мельничный ручей стал грязной сточной канавой. Этой дорогой я шесть лет ходил в школу, а раньше еще год в детский сад для детей бедняков. Зимой в ботинках, а летом босиком. Осенью и весной в школу обутый, а из школы с башмаками на плече. Слева гора Радычь, за горой лес и бедная деревенька Волчья Дольна.
В конце Хировского предместья, в поле, между Лозами и Слохиней стоит мой дом. С бьющимся сердцем я иду пыльной тропинкой вдоль железнодорожного полотна. В этой пыли я шаркал босыми ногами, поднимая тучи мельчайшего песка, как настоящий автомобиль. Пыль оседала у меня на одежде, на лице. Кровь из разбитого пальца ноги я останавливал землей или песком, в зависимости от того, что было ближе. А когда утром перед школой выгонял корову, босые ступни краснели от холодной росы.
Мой дом, мой дворец, стоит сейчас серый и грустный. Как же он уменьшился за эти пять лет! Он не узнает меня, а ведь зимней порой согревал теплом своей печи. При свете керосиновой лампы с абажуром я решал задачи, учил историю и географию. С отцом мы играли в шахматы, а когда он был на службе, я на полу из кубиков сооружал домики, мосты, а иногда даже взрывал поезда.
Я заглядываю через окно в комнату — она тоже стала совсем другой. Даже двор меня не узнаёт. Там рос крыжовник, в который часто попадал набитый сеном мяч, тут был колодец с роликом. Я мечтал о том, чтобы у нас был колодец с воротом, но отец сделал с роликом. Но нет уже того столба с цепью. Сарай, в котором я прыгал с кучи соломы на глиняный пол и пугал кур, потому что любил смотреть, как они летают, был открыт. Около сарая в мае обычно летало множество майских жуков, мы с отцом прятались в сумерках под кустом, а когда они пролетали, ловили их шапками. Сидящий в кулаке майский жук щекотал, а когда я на него дул, растопыривал рога и готовился к полету.
Я постучал в дверь, хотя через окно никого в доме не было видно. И все же мне казалось, что в доме кто-то есть. Кто-то здесь живет. Может, он в поле? Может, на лугу? Вокруг дома поле было пустым, незасеянным. За полем ивы над мельничным ручьем, дальше развалины домов Слохини. Сожженные крыши. Я постучал еще раз, сильнее, эхом ответил сарай.
Влезу-ка я через чердак. Я должен попасть в свой дом. Дверь хлева была закрыта старым засовом. Я знал, как его открыть. Хлев был пуст, старый навоз свидетельствовал о том, что в нем давно уже не было коровы. Лестница, ведущая на крышу, была сломана. Я поставил другую, поменьше, которую вытащил из закута. На чердаке немного сена, какая-то одежда, меня она не интересует. На этом чердаке я когда-то сооружал себе убежище, тайники в сене, туннели. Часто вылезал в окно, взбирался на крышу. Сейчас я лезу через чердак со страхом. Вдруг здесь кто-нибудь прячется, еще выскочит на меня со штыком или револьвером, а у меня нет никакого оружия.
Осторожно открыв крышку, я по лестнице спустился в сени. Из сеней лесенка вела в подпол. Там стоял сундук. Время от времени отец доставал из него медали, военный мундир, солдатскую шапку и цветные мелки. Особенно мне нравились мелки: красный, голубой и зеленый. Иногда отец разрешал мне немного порисовать ими, но недолго. А мне так хотелось иметь постоянно эти мелки, писать ими, рисовать. Случалось, что по нескольку часов никого не было дома, мне хотелось самому откопать сундук, поиграть с вещами, лежащими в нем, но я боялся, что не успею спрятать его до возвращения родителей. Помню, как иногда я боролся с собой: откопать или нет?
В сенях чужая одежда, а вернее лохмотья. Дверь в кухню заставлена, а в чулан, в котором когда-то были закрома, не закрыта, а приперта ящиками изнутри, значит, там кто-то есть. Я начал сильно напирать на дверь и отодвинул ящик.
Неожиданно я услышал испуганный женский голос:
— Пане, я ничего…
— Отодвиньте эти сундуки, я хочу войти.
— А кто ты?.. Я ничего…
— Я здесь жил. Это мой дом.
— Я не могу открыть. Я больная. Умираю…
Старая женщина лежала на кровати, прикрытая несколькими рваными безрукавками. На голове у нее, похоже, было тоже платка три. Она говорила по-украински, вставляя польские слова.
— Я здесь жил до войны. А вы откуда?
— Из Гродовиц. Мой дом бандеровцы сожгли. К счастью, меня не было дома. Я убежала и спряталась здесь.
— Вы полька?.. Раз говорите по-польски.
— А… а где пан научился говорить по-польски, товарищ?..
— Я вам сказал, что я поляк.
— Пан… товарищ — поляк?
— Я здесь родился. В школу ходил.
— В Хирове?
— Да. В этом доме. Это мой родной дом.
— Так почему пан товарищ в советском мундире? Надо этот мундир снять. Там в сенях вы найдете гражданскую одежду. Бандеровцы не любят русских.
— А кого любят, немцев?
— А кто их там знает. Уже несколько раз приходили ночью. Весь дом перетрясли, а меня не нашли. Я молилась, богородица меня спасла. Сегодня ночью тоже, наверное, придут, тебе надо бежать, иначе убьют. Ты должен уйти еще до темноты, а то через предместье тебе не пройти. Всю оккупацию они здесь убивали людей. Поджигали избы и стреляли в бегущих. Директору школы отрезали язык за то, что он говорил о коммунизме.
— Флорианскому?
— Да. Люди нашли его в навозе без рук, без ног и без языка. Савицкую гранатой разорвали.
— Так ведь немцев уже нет.
— Я знаю. Но бандеровцы есть.
— А советские солдаты?
— Были, но пошли дальше, за немцами. А бандеровцы убежали в лес, но ночью приходят. Беги отсюда, я старая и больная, у меня нет сил бежать, да и некуда мне. А ты молодой, жалко тебя.
— Я не собираюсь сейчас здесь оставаться. Я хотел только посмотреть на свой дом.
— Так это твой дом?
— Да. Я здесь родился.
— Уезжай до темноты, а то тебя наверняка уже кто-нибудь заметил и дал знать в лес. Иди, я за тебя помолюсь.
С украинскими детьми я ходил тут в школу, но не играл с ними. Часто приходилось доказывать, кто сильнее. В классе и в школьном дворе мы дрались с Гребнем. Весь класс смотрел на нас. Ученики-поляки были на моей стороне. Украинцы — на стороне Гребня. Гребень был сильнее меня, но я держался. Иногда с синяками на лице я возвращался домой, однако не было случая, чтобы я убежал или отказался от драки, если он подставлял мне ногу. Возможно, Гребень стал теперь бандеровцем? Может, выстрелил бы в меня?.. И все же я хотел бы с ним встретиться. Я подумал, не пойти ли мне в Сушицу, где он когда-то жил, но потом решил, что сейчас нет смысла это делать. Но я, наверно, еще с ним встречусь.
Я вышел через главный вход и посмотрел на соломенные крыши Слохини — деревни, лежащей у подножия небольшой горы, за которой виднелась большая, покрытая лесом, Радычь. В этих лесах находится деревня моей бабушки Волчья Дольна. Бабушка живет в хате без бревенчатого потолка, с глиняным полом. Столько раз я ходил туда с отцом, через пихтовый лес, через ручей с чистой и всегда холодной водой. Я любил гулять с отцом по лесу, столько было в нем интересного!
Возвращаясь на станцию по почти пустынной дороге, идущей вдоль мельничного ручья, я заглядывал в окна домов моих давних школьных товарищей. Там жили незнакомые люди, которые ничего не слышали о бывших владельцах этих домов. Они разговаривали со мной по-украински, называли меня товарищем.
Неожиданно из-за одного дома вышла маленькая женщина со знакомым лицом. Поклонилась мне и спросила, не зовут ли меня Влодек Ковалик.
— Да, — ответил я и только тогда узнал мать Сташека Лазака; от молодой, всегда элегантно одетой женщины осталась одна лишь тень. Она похудела, поблекла, а висевшие на ней лохмотья производили жалкое впечатление. Несмотря на это, пани Лазакова была невозмутима.
— Ты один вернулся?
— Пока один.
— А родители? Живы они?
— Живы.
— Слава богу. Я видела, как ты шел в ту сторону. И решила подождать, когда увидела, что ты входишь в ваш дом. Ну как вам там жилось? Может, и трудновато было, но это большое счастье, что вас отсюда вывезли, иначе всех поубивали бы. Кого-кого, а вас первых бы замучили. Что мы здесь пережили за эти годы, вы там просто представить себе не могли. А что в Хирове и вокруг него делалось, трудно передать. Моего мужа убили на улице и весь день не давали забрать тело, так он и пролежал в крови. Кто к нему подходил — стреляли. Я убежала в лес, дом со всем добром оставила, теперь по углам живу… Возможно, вы там голодали, но по крайней мере были в безопасности, а у нас тут ни дня, ни часа спокойного…
— А Сташек, Янек?
— На фронте. Они в лесу скрывались. А когда пришла Красная Армия, ушли с ней. Сюда они уже не вернутся. Сказали, что поселятся где-нибудь на западе, а меня после войны заберут к себе. Ты хорошо выглядишь, тебе этот мундир к лицу, ну иди уж, иди, здесь опасно так стоять на дороге. Наверняка они за нами наблюдают.
— До свидания, пани Лазакова.
Возвращаясь на станцию, я думал об отце. «Помни, где твой дом», — повторял я его слова. Но где же на самом деле мой дом? Здесь или там, в Саликове?
Перевод Е. Невякина.

Анджей Пшипковский
Под нами Висла[53]
Двухмоторный «дуглас» ждет на краю полевого аэродрома. Приближаются сумерки, когда они садятся в него всей группой. Получено разрешение на старт, и машина рулит, подскакивая на неровностях почвы. Усиливается гул мотора, самолет разгоняется и мягко отрывается от земли. Они поднимаются на нужную высоту и летят прямо в темноту. Через какое-то время из кабины пилотов доносится:
— Внизу река Висла…
У Кароля начинает сильно биться сердце. Под ними Висла. Словно в ознаменование этого факта раздается грохот немецкой зенитной артиллерии. Летчик бросает машину вниз, потом снова набирает высоту. Самолет заваливается на правое крыло. На левое… Ну вот, наконец-то они выбираются из зоны зенитного огня, теперь самолет летит ровно.
Кароль прилип к окну, за которым стоит темнота. Во мраке ночи лежит под ним измученная земля. С каждой секундой он приближается сейчас к цели, неведомой и опасной. Они летят туда, чтобы хотя бы на секунду приблизить конец этой страшной войны, на одну-единственную секунду, когда уже не раздастся выстрел, направленный в голову брата, матери, отца…
В кабине холодно, но, несмотря на это, лоб Кароля покрыт капельками пота. Это замечает молодой советский лейтенант, выполняющий на борту самолета обязанности «кондуктора». Ведь именно он должен их сбросить, он отвечает за проведение десантной операции.
— Вы слышали, братцы, такую историю? Однажды шел старик лесом… — начинает он повествование о веселом деде. В тусклом свете лампочки Кароль видит, как Коля улыбается, Франек тоже кривит лицо и только у Володи сосредоточенное, словно отсутствующее выражение лица. Кароль заставляет себя слушать и пытается понять, о чем говорит офицер. Вот сейчас лейтенант подойдет к сути рассказа, через минуту он засмеется, но, услышав звуковой сигнал из кабины пилотов, вскакивает и исчезает за дверью. Тут же над выходом вспыхивает голубой свет: приготовиться!
Они поправляют парашютные лямки, закрепляют автоматы. Лейтенант открывает крышку люка. Они выстраиваются за ним, прицепленные страховым тросом к направляющей у потолка. Рядом на полу лежат приготовленные к сбрасыванию мешки. Их много. Кароль пересчитывает их глазами, но тут загорается красная лампочка: надо прыгать!
Первым летит вниз Коля, сразу же за ним Франек. Теперь уже и Кароль чувствует на плече руку «кондуктора». Пора!
Рывок, всё так, как во время тренировок, как там, над теми лесами, откуда ветер сносил их на аэродром. Под ним что-то темнеет, это должен быть лес, что-то белеет, это, вероятно, заснеженное озеро. Он еще в воздухе, у него есть время, над ним нарастающий гул двигателей «Дугласа», теперь, наверное, очередь за грузом, а только потом Володя… О боже, деревья… совсем рядом белый просвет, дотянуть не удастся, слишком уж они близко.
Треск ломающихся ветвей, по лицу чем-то хлестнуло, боль в локте и все кончено. Над ним спутанное полотнище, повисшее на сучьях, ноги висят в воздухе. До земли не меньше пяти метров. Кароль пытается подтянуться на лямках, но ему это не удается, слишком сильно болит локоть. Что делать? В течение ближайших десяти минут они должны найти друг друга и спрятать парашюты. Что делать, черт возьми? В ножнах на ремне есть финка, ею надо перерезать лямки… Он вынимает нож, перерезает одну лямку, берется за вторую, но неожиданно ему в голову приходит мысль, что парашют не удастся стащить с дерева. Полотнище, без сомнения, выдаст место их приземления.
Тихий свист с земли. Чувство огромной радости. Там кто-то свой, он поможет… Это Коля, уже слышен его голос: «Режь!..»
Голос Коли, его приказ, он ведь лучше знает, что надо делать. Быстрое движение ножа, последняя лямка лопается, и Кароль летит вниз. Треск ломающихся веток, тяжелое падение в снег.
Коля уже рядом, он помогает подняться.
— Цел?
Кароль ощупывает себя, еще не веря, что всё позади. В порядке, только вот эта боль в локте. Он кивает головой и показывает пальцем вверх.
— Ничего. Придется оставить. Нет времени, — говорит Коля.
— А Франек и Володя?
— Все хорошо. Собирают мешки. Идем, Кароль.
Коля идет первым, сразу же за ним следует Кароль. Всего несколько десятков метров отделяет их от опушки леса. Становится светлее, перед ними большая поверхность озера. Теперь все в сборе. Они делят между собой мешки, взваливают их на плечи и шагают вдоль берега. Куда? Коля ведет уверенно, не задумываясь. В полной тишине проходит полчаса, а может быть, и больше. Неожиданно перед ними появляется водная преграда. Речка, вернее ручей. Странно, вода в нем не замерзла, над водой стелется пар. Они останавливаются.
— Это с электростанции в Грейзевальде. Вода никогда не замерзает. Надо это использовать, соображаете?
Конечно, они понимают. Входят в реку, мелко, самое большее по колено. Теперь в лес, вверх по течению ручья…
— Не найдут, сволочи, — бормочет Коля, — не найдут.
Слышен только плеск воды. Идти тяжело, ноги вязнут в песке, нужно много усилий, чтобы не снизить темп. В излучине реки они останавливаются, Коля вынимает карту и какое-то время изучает ее. Уже светает.
— В километре отсюда есть мостик. Там мы выйдем из воды, — решает он.
И снова они идут по руслу ручья. Лес редеет, здесь он кончается. Теперь ручей бежит через холмистые поля. Вдруг до их слуха доносится гул автомобильного мотора. Коля приостанавливается и делает знак рукой остальным. Они, пригнувшись, прячутся в заросли безлистного лозняка у берега. Недалеко проходит какая-то дорога, скоро по ней может начаться движение, ведь уже слышен шум машины. Вот и она, приближается к реке, сбавляет скорость и въезжает на мостик. Проезжает, а ведь от моста до них — метров сто. В машине видны двое мужчин в черных мундирах. Сейчас достаточно, чтобы они только обернулись. Однако они не смотрят по сторонам, проезжают мимо. Кароль проглатывает слюну. Коля подает знак рукой — пора идти. Через минуту они уже у мостика. Дорога укатанная, снег утрамбован, здесь они наверняка не оставят следов, но сколько можно идти по дороге?
Коля, однако, не колеблется. Он поднимается на дорогу. На ней пока пусто, к тому же вокруг не видно каких-либо построек. Но ведь Коля знает, куда идет… Пока что им везет, вокруг никого нет. К счастью, в километре от моста был перекресток, там они сворачивают вправо, одна из дорог ведет их снова в лес. Они исчезают между деревьями в тот момент, когда до них доносится резкий гул самолета. Он летит низко, описывает круги над полем, потом направляется к месту их приземления.
— Ищут, — заметил Кароль.
— Ищут, — подтвердил Коля.
— Не заметили нас. Наверняка не заметили, — непонятно зачем убеждает своих товарищей Франек.
Но что же дальше? Мешки стали чертовски тяжелыми, от ног по всему телу идет холод, промокшие сапоги и брюки костенеют на морозе. Они останавливаются в густых зарослях тесно стоящих деревьев. Коля смотрит на часы. Без десяти восемь. Там, за линией фронта, каждый час ждут их сигнала. Коля кивает Володе, тот быстро развязывает мешок, вынимает из него радиостанцию и мгновенно подключает батареи. Коля забрасывает на дерево провод антенны, потом надевает наушники и регулирует настройку. Все посматривают на часы. Пора…
В эфир летят позывные, нет времени ждать подтверждения приема, поэтому Коля выстукивает условный сигнал, означающий: приземлились удачно и приступаем к выполнению задания.
Коля заканчивает передачу и настраивает аппарат на прием. Он улыбается, все это видят. Значит, их услышали.
Отлично. Они быстро запаковывают радиостанцию, помогают Володе закинуть мешок на спину — и снова в лес.
— Десять километров ходу, — говорит Коля. — До лесной сторожки.
Теперь они знают цель своего похода. Знают также, что находятся на земле врага. Но в двухстах километрах отсюда начинается территория, где живут поляки…
Лес становится гуще, дорога сужается, иногда проходит прямо под ветвями деревьев. Однако она хорошо укатана, похоже, давно не было снега. Значит, наверняка не останется никаких следов. Кароль чувствует пронизывающую боль в правом локте. «Черт побери, а если придется стрелять, — вяло проносится мысль, — если придется стрелять…»
Вдоль дороги тянется телефонная линия. Коля время от времени поглядывает на нее. Кароль понимает, что нужно сорвать эти провода, но не представляет себе, как это можно сделать. Ведь здесь Коля, он — командир. Ах эти чертовы сапоги, ноги в них деревенеют, несмотря на ходьбу. Зато лицо горит. Кароль наклоняется и с обочины дороги берет горсть снега. Потом прикладывает снег к лицу, облизывает губы. Это замечает Коля, подходит и спрашивает:
— Как твоя рука? Болит?
— Не очень. Лицо горит…
— Уже недалеко, Кароль. — Потом обращается к Володе: — Нужно сорвать эти провода, видишь?
Володя останавливается, молча склоняется над своим мешком и вынимает из него веревку. К концу веревки он привязывает камень, одним взмахом руки закидывает ее на провода, тянет, и провода лопаются. Потом сматывает веревку и прячет ее в мешок.
— Поторапливайся, надо идти дальше! — говорит ему Коля.
И снова они идут по дороге. Издалека доносится фырканье лошади. Коля останавливается, прислушивается. Жестом показывает направление: в лес. Они перескакивают канаву и скрываются за деревьями. В нескольких шагах от дороги видны заросли можжевельника. Под его прикрытием они ложатся на снег. Кароль прижимается лицом к снегу, Франек, коснувшись его плеча, дает ему кусок сахара. По дороге едет повозка. Правит лошадьми человек в зеленом мундире. Вероятно, лесник, думают они. Повозка проехала, но в тот момент, когда они поднимаются, слышен гул работающего автомобильного двигателя. И к тому же с той стороны, откуда ехал лесник. Коля сразу берется за карту. Эта дорога ведет к лесной сторожке, только к лесной сторожке, откуда же здесь машина? Сейчас она уже видна. Пикап без окон с характерными антеннами на крыше. Номера вермахта, в кабине солдат и офицер. Проезжают, слышен сигнал, который они подают повозке лесника, чтобы тот съехал в сторону.
— Хотели нас запеленговать, — замечает Володя.
— Сколько длилась передача, помнишь?
— Три минуты, Коля. Не больше.
— Не запеленговали, — заявляет Коля. — Пошли дальше.
Кароль с трудом поднимается, злясь на себя. Ведь это всего лишь локоть, ничего больше. Но откуда же такая тяжесть в ногах? Наверное, из-за мокрых сапог.
Теперь уже они идут не по дороге, а вдоль нее, по лесу. А если в лесной сторожке остались еще какие-нибудь немецкие солдаты?
Вот наконец и поляна. Перед ними лесничество. Жилой дом, сарай, двор. Никого не видно, но, несмотря на это, они долго еще выжидают, не осмеливаясь высунуть нос из леса. Во дворе собака, она беспокойно бегает, но не лает. Коля послюнявил палец и поднял его вверх, проверяя направление ветра. Правильно. Ветер дует со стороны лесничества, собака их не учует. В доме и вокруг него стоит тишина. Неужели лесник, которого они встретили по дороге, живет тут один? Нет, здесь все же кто-то есть. Закутанная в платок женщина выходит из дома и возвращается с охапкой дров. Есть ли тут кто-нибудь кроме нее? Ждать, нужно ждать; к счастью, похоже, что в этом лесу не ведется вырубка деревьев. Иначе остались бы какие-нибудь следы, были бы слышны голоса. Сразу же за хозяйственной постройкой, вероятно конюшней, под деревянной крышей стоит стог сена. Коля внимательно рассматривает его, ищет возможность незаметно подобраться к нему. Для этого нужно углубиться в лес, а потом подойти к постройкам с противоположной стороны. Но тогда собака…
— Дай свиную тушенку, — обращается Коля к Франеку, который отвечает за провиант. Франек вытаскивает из мешка гладкую банку, не имеющую никаких опознавательных знаков, и подает ее Коле.
Несколько ударов ножом — и банка открыта, ее содержимое Коля вытряхивает на кусок тряпки и, завернув, прячет в карман. Пустая банка снова возвращается в мешок. Теперь они спокойно выполняют то, что задумали, — подходят к стогу сена. Однако на снегу остаются следы, это беспокоит командира. Но другого выхода нет. Они уже у стога, который является хорошим прикрытием, — никто не может их увидеть со стороны построек. Снег вокруг стога утоптан, довольно много рассыпано сена. Похоже, отсюда хозяин берет сено для лошади. Это хорошо. Теперь они могут приступить к подготовке убежища. Слышен громкий лай собаки. Коля прерывает работу и высовывается из-за стога. В одной руке он держит мясо, в другой нож. Собака выскакивает из-за конюшни и мчится прямо на Колю. Неожиданно она останавливается прямо перед ним и как загипнотизированная, не сводя глаз, смотрит на вытянутую руку с тушенкой. Собака, ощетинившись, недоверчиво приближается, но уже не лает. Коля подсовывает ей под нос руку с пищей. Получилось, собака взяла еду из рук Коли и уже ластится к нему.
— Трудно поверить, — шепчет Франек. — Волшебник он, что ли?
Володя улыбается и начинает углублять дыру в стоге сена. Кароль видит, как собака лижет ладонь Коли. Потом ребята слышат решительный, хоть и произнесенный вполголоса приказ:
— Geh nach Hause, nach Hause…
[54]
Собака поджимает хвост и исчезает за углом конюшни. Возвращаясь, Коля прячет нож в карман. Володя забирается на стог и укладывает там сено, вынутое ими из середины, оставляя только часть, чтобы замаскировать им укрытие. Не проходит и получаса, как все влезают внутрь стога. Коля старательно уминает сено у входа, помня о вентиляционных каналах, через которые к тому же проникает немного света. Места мало, хотя над их головами осталось около метра свободного пространства. Они подкрепились — консервами и сгущенным молоком, после чего Коля внимательно осмотрел распухший локтевой сустав Кароля. Надавливает в нескольких местах руку, Кароль шипит от боли.
— Заткни-ка ему пасть, — велит командир Володе, но Кароль не дает себе заткнуть рот. Коля сильным ударом вправляет сустав на место. Кароля пронзает такая страшная боль, что он, боясь закричать, закусывает губы.
— Уже все. Молодец.
Коля плотно забинтовывает ему руку и в конце процедуры прописывает пациенту немного спирту, после которого тот перестает дрожать. Прикрытый пальто, Кароль мгновенно засыпает. Когда он через некоторое время открывает глаза, вокруг стоит темнота. Щупая вокруг себя рукой, он натыкается на кого-то, кто переворачивается на бок и спрашивает голосом Франека:
— Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно, — отвечает Кароль шепотом, говоря чистую правду. — Все здесь?
— Коли нет.
— Как это нет?
— Нет, и всё. Вышел. Не бойся, сейчас Володя нас охраняет, он сидит снаружи.
Как бы в подтверждение его слов слышится шорох сена и тихий голос Володи:
— Отдыхайте, ребята, пока есть время. Через час твоя очередь, Франек.
— Всё в порядке? — спрашивает Франек.
— В порядке, всё в порядке, ребята. Даже мороз не такой уж сильный.
Снова слышен шорох, это Володя поудобнее устраивается в сене. В стоге и снаружи стоит тишина.
— Ночь пройдет, а потом что, весь день будем сидеть в этом стоге? — вслух размышляет Кароль.
— Будем ждать Колю. Когда он вернется, все станет ясно, — отвечает Франек. — Рука не беспокоит?
Кароль шевелит пальцами. Немного больно, но пальцы слушаются, готовы к тому, чтобы нажимать на курок. Он говорит об этом Франеку и тут же замолкает, ибо снаружи раздаются тихие голоса. Да, это вернулся Коля. Снова шуршит сено, и голос командира:
— Выходите, ребята. Нам пора…
Они выбираются из сена, выскакивают, стряхивают с себя остатки сухой травы.
— Пересчитать мешки! Все? В порядке. Оружие и боеприпасы? Ну хорошо. Полночь, ребята. До рассвета семь часов. За эти семь часов мы должны отмахать километров тридцать к югу. Понимаете? Тридцать километров… Володя, последи за двором, встань там, за углом.
Володя пропадает в темноте. Коля так же тихо продолжает:
— С лесником вроде бы все в порядке. Но что-то мне здесь не нравится. Уж слишком он был обеспокоен обрывом телефонной линии. Говорит, что могут позвонить, а поскольку связи нет — приедут. Вся округа поставлена на ноги. Полиция, жандармерия лесничества… В полдень обнаружили место нашего приземления, парашюты. Облава лютует, но они не ожидали, что мы успеем в ясный день оторваться от них на такое расстояние. Тут пока спокойно, пеленгационная машина ничего не обнаружила, их отозвали в другой район… Я сказал леснику, что мы остаемся здесь на несколько дней, что у нас нет другого выхода. Он боится. Этот человек чертовски боится, хотя и взял у меня несколько тысяч марок… Одним словом, сматываемся отсюда, ребята. Всё взяли?
Тихим свистом он вызывает Володю. Все склоняются над снаряжением, помогают друг другу взвалить багаж на плечи. Каролю закрепляют мешок так, чтобы он не тревожил больной правой руки.
Люди отдохнули, теперь они готовы к дороге.
Они исчезают в лесу тихо, как призраки.
Я даже как-то не особенно и почувствовал эти километры ночного пути. Коля словно чутьем выбирал дорогу. Мы шли уверенно, как днем. Я был доволен собственным самочувствием, рука меня не беспокоила, и дрожи тоже не было. Я шел последним, ночь была не очень темная, так обычно бывает, когда лежит снег. Я видел перед собой спину Володи, широкую спину, обтянутую шинелью цвета feldgrau
[55]. У нас у всех были вермахтовские шинели и шапки, но зато никаких документов. В нашу задачу не входила легализация на земле врага, а можно сказать, что даже совсем наоборот… Мы надели эти мундиры только для того, чтобы не обращать на себя внимания случайно встреченных людей. Случайно встреченных, а сколько уже было неслучайных, которым приказали нас настичь и убить. И все же я предпочел бы, чтобы нас сбросили в моей родной Силезии, по крайней мере там я чувствовал бы себя увереннее.
Но ведь это недалеко. Слабое утешение, но все же… Не мы выбираем, а за нас выбирают. В штабе виднее… Почему-то эта фраза застряла в моей памяти, что в штабе виднее, и должен признаться, от этого мне стало как-то легче.
Раз так, то, вероятно, они знают, что и наше задание выполнимо. Ведь есть же такие, как, например, Володя, которые после подобных заданий возвращались… Вот так я и шел последним и обо всем этом думал. Мы проходили через поля, снова углублялись в лес и снова шли через поля. Тут не было больших лесных массивов, по дороге попадалось довольно много деревень, а в каждой деревне, известное дело, Volkssturm
[56]. Вообще-то территория густонаселенная, но не поляками. Полно отборных войск, немцы чувствуют себя здесь в безопасности, ведь фронт далеко, за Вислой… Все время нас вел Коля, он один знал, куда мы идем. Я вспотел от быстрой ходьбы. Было интересно, отказались ли немцы от облавы, и я гордился своими товарищами и собой, что нам удалось довольно далеко оторваться от места приземления, но не представлял себе, как-то не мог себе представить, что будет дальше. Может, вообще нехорошо в таких условиях себе что-либо представлять? Прошло уже несколько часов, небо начало проясняться, светало. Вероятно, мы были уже недалеко от того места, куда нас вел Коля, потому что мы остановились, а Коля склонился над картой. У него была довольная мина, когда он ее убирал. Согласно карте, мы находились в лесу, в небольшом лесу, и сейчас нам надо было выйти из него, чтобы, перемахнув через большое поле, исчезнуть снова в роще. Коля велел выдать нам по кусочку шоколада, сказав, что по-настоящему мы поедим через час, когда придем на место.
Лес оказался небольшим, это факт, но все же тут было несколько десятков гектаров деревьев, вдобавок густой подлесок, так что идти было трудновато. Но мы все же идем. Подходим к опушке, и вдруг — стоп. Коля падает на землю и жестом показывает нам, чтобы мы сделали то же самое. Помню, что вставал уже день, такой мокрый и грязный зимний день. Мы припали к земле. Перед нами не больше чем в трехстах-четырехстах метрах расставленные цепью вермахтовцы. Стоят. За ними видно какое-то движение, можно догадаться, что тут значительные силы врага. Вот оно как… Коля подает знак рукой, мы отползаем, а потом, когда нас скрывает чаща, встаем и почти бежим на противоположную сторону. Запыхавшиеся, мы добегаем до южной опушки леса,
снова припадаем к земле, картина та же самая, что и с севера. Плохо, черт возьми… Повторяем маневр, теперь на восток — и снова такая же картина.
Чувствую, что мне становится холодно, помню даже, как меня опять охватила дрожь. Смотрю на Колю — у него сжаты губы, на Франека — он чертовски бледен, на Володю — этот выглядит нормально, только глаза у него как-то странно поблескивают… Вот я так и смотрю на них, а все потому, что мне не хочется смотреть вперед. Я отдаю себе отчет в одном — это уже конец. Из этого котла нам ни за что не выбраться и придется погибнуть, прежде чем мы успеем хоть что-то сделать для Большой земли. То есть для себя. И произойдет это сейчас, через минуту…
Коля рукой показывает нам направление. Мы отходим в глубь леса. Там кладем наш груз на землю и маскируем его как умеем. Коля приказывает взять с собой только радиостанцию и батареи, а также оружие и боеприпасы. И больше ничего. Приходится оставить продовольствие и все, что еще там было… Правильно, ведь теперь это не имеет никакого значения. Приближается конец. Я перекрестился и мысленно попрощался с матерью и с моей землей. Вероятно, никто никогда не узнает, как и где мы погибли. Ничего не поделаешь. Так должно быть. Может показаться странным, что я не взбунтовался против такого приговора судьбы, но это так. В одно мгновение я примирился со смертью.
Франек стоит без движения, слегка наклонившись над мешком, который он положил на землю. Похоже, что ему жаль с ним расставаться. Вдруг я вижу, как он отводит предохранитель автомата и направляет ствол прямо себе в рот. Не успел я крикнуть, как Коля двинул его кулаком по лицу. Франек выпрямился и опустил руки. Автомат висел у него на груди.
— Дурак, ну какой же ты дурак, — тихо говорит Коля. — Успеешь еще погибнуть. Только не так, человече, не так…
Франек не отвечает. Он стоит и смотрит на мешок.
— Франек, сукин ты сын, — сказал я. — Сукин ты сын…
Тут он поднял голову и посмотрел на меня, а в глазах у него страшная тоска.
— Ладно, — говорит Коля, — лес есть лес, случаются разные чудеса. Недавно мне один мой знакомый рассказывал, как он оказался один, а вокруг целая рота гитлеровцев, прочесывающих лес. Ну и представьте себе, обошлось. Сидел парень на дереве и остался жив…
Я посмотрел на него с удивлением. Мы попали в котел, а ему охота байки рассказывать. Не спешит, каналья, а стоит и болтает!
Вдруг я вижу, что Франек поднимает голову, смотрит на всех нас и улыбается. Он явно улыбается Коле. Тот хлопнул его по плечу и говорит:
— Бери, что там у тебя, и в путь, ребята.
Володя взял себе больше всех. Радиостанцию, батареи, оружие и боеприпасы. У остальных только оружие, гранаты и боеприпасы, ну, я, конечно, отобрал у него батареи. Коля кивнул головой и снова пошел первым, к выходу из леса, в ту сторону, где мы еще не были. И был прав, в чем скоро мы смогли убедиться.
В том месте, где кончался наш лес, начинался довольно мелкий овраг, доходящий до соседнего леса, поросший кустами и низкими деревьями. По обеим его сторонам лежали поля. И Коля нашел выход из положения. Немцы окружали нас и с этой стороны, только тут они были где-то в километре. Вероятно, все еще ждали сигнала.
Пригнувшись, мы вбежали в овраг. В кустах Коля остановился и велел нам влезать в заросли. Мы прикрылись ветками, припорошили себя снегом… Лежим. Уже слышны голоса немцев. Они идут сюда, входят в овраг. Мимо проходит первая цепь, мы видим их, они от нас в нескольких метрах, отборные солдаты, один к одному… Проходят… Я чувствую, как громко стучит сердце и ладони становятся влажными. Посматриваю на Колю, у него сжаты губы. Он смотрит, в каком направлении пошла облава. Немцы выходят из оврага и расходятся в две стороны, это вижу и я… Какой же выход для нас из этого положения и есть ли он? Нас только четверо, а их?..
Проходит десять, а может, пятнадцать минут. Приближается следующая цепь, на этот раз уже не вермахт. Какие-то старики и инвалиды со старыми ружьями. Они идут не спеша, вроде бы посматривают по сторонам, но видно, что просто так, для порядка. И тоже проходят мимо нас… Коля шепотом отдает приказ: «Приготовить гранаты…»
Мы мгновенно вскакиваем, бросаем гранаты и снова падаем на землю, а потом бежим, бежим что есть силы. Я оборачиваюсь. Фольксштурмистов как смыло. Все залегли, правда, через какое-то время некоторые из них поднимаются, прицеливаются и начинают беспорядочно стрелять, а мы, согнувшись, всё бежим и бежим… Я вижу, как Коля останавливается, встает на колени и очередь за очередью посылает в тех, кто отважился стрелять, и они снова падают на землю. Мы помогаем командиру огнем своих автоматов и бежим дальше. И так, запыхавшись, добегаем до следующего леса.
Только бы те, вермахтовцы, не взяли нас снова в кольцо, думаю я. Им и в голову не пришло окружить и этот лес, они все еще продолжают прочесывать тот. Услышав стрельбу, они, конечно, тут же вернутся в овраг, и фольксштурмисты покажут им, куда мы побежали…
Мы мчимся через лес, только бы подальше от врага. Ящик с батареями мешает мне бежать, но я не могу его бросить, не могу подвести товарищей. Я весь мокрый от пота, но нельзя остановиться ни на минуту, не знаю, как долго еще придется так бежать, искать спасения… Неожиданно Коля останавливается. Прекращаем свой бег и мы. Я вижу лицо Коли, покрытое капельками пота. Он внимательно осматривает нас — мы задыхаемся от усталости, но никто из нас не пострадал. Я совсем забыл о беспокоящем меня локте, ведь игра идет по самой высшей ставке. Коля говорит:
— Три минуты отдыха.
Он сказал: «Три минуты отдыха» — так, словно мы тренировались на полигоне. Ничего не оставалось, как только присесть под деревом и свернуть себе самокрутку. Так мы стояли, онемев, и смотрели на командира, которому безоговорочно верили. Никто из нас не присел, никто не сказал ни слова. Коля вытер лицо и шею куском ткани, глубоко вздохнул и посмотрел вверх, как будто там искал приговор судьбы. Потом посмотрел на нас, улыбнулся и сказал:
— Пошли обратно.
Мы остолбенели. Как это — обратно?.. Мы должны капитулировать? Отказаться от спасения? Должны погибнуть, не выполнив задания?
Я не выдержал и сказал:
— Там верная смерть, а тут… тут по крайней мере мы все же в лесу…
Я чувствовал, как на меня смотрят Франек, Володя и Коля.
Никогда в жизни у меня не было так мало времени, чтобы высказать свою точку зрения. Франек дернул меня за рукав и сказал, четко выговаривая слова:
— Перестань валять дурака…
Коля уже двинулся в путь. У меня не было выбора. Я пошел за ним. За мной шли остальные.
У меня голова была переполнена различными предположениями. На этот раз мы не бежали, а шли быстрым шагом, точно в ту сторону, откуда только что прибыли. Я ничего не мог понять. Спустя некоторое время мы снова вышли на край леса, откуда был виден овраг, по которому мы недавно бежали. Мы внимательно осмотрели все вокруг. Не видно ни одного немца. Где-то далеко слышны выстрелы, потом наступает тишина. Согнувшись, мы вбегаем в овраг. И вскоре мы оказываемся в том лесу, из которого нам удалось уйти. А спустя несколько минут мы попадаем на то место, где, спрятанный под кустами, лежит — целый и невредимый — наш груз. Значит, они не дошли сюда, даже не верится!..
Мы присели на мешки, и тут Коля подозвал меня. Когда я склонился к нему, он спросил:
— Кароль, что бы ты сделал, если бы ты командовал облавой, а солдаты показали бы тебе на лес, в котором скрылись те, кого ты преследовал?
Я немного подумал, а потом ответил:
— Направил бы людей, чтобы они окружили место, где те укрылись, и отрезали дорогу для отступления.
— Правильно. Именно это они и сделали.
Мне стало стыдно.
— Извини, Коля, — пробормотал я, а он ответил своим обычным: ничего, ничего…
Ну, хорошо, подумал я, на этот раз нам повезло. Но надолго ли? На час, полтора? Нас только четверо, до Берлина несколько десятков километров, а до своих — несколько сотен. Нет, ничего у нас не выйдет. Нас послали на смерть, эти люди из штаба, где всегда видней…
— Ну, — говорит Коля, — пошли дальше.
Дальше? И вообще может ли быть это «дальше»? Мы берем наш груз и снова, навьюченные как мулы, тяжело шагаем по лесу. Куда? Господи, куда? Знает ли Коля об этом на самом деле?
Уже редеют деревья, виден конец леса и стоящий у леса одинокий домик. Коля внимательно осмотрел все вокруг. Ничего подозрительного не видно, только этот домик и поднимающийся из трубы дым. Ага, значит, сейчас мы войдем в этот домик.
Володя и Франек остаются, чтобы нас в случае необходимости прикрыть, а мы с Колей входим внутрь. Женщина вскрикнула и застыла, обернувшись с ложкой в руке, и так стояла у плиты, а от кастрюль поднимался пар. Коля направил автомат на дверь комнаты, откуда вышел мужчина в расстегнутой рубашке.
— Отдельный отряд Войска Польского, — сказал я по-немецки. — Кто еще находится в этом доме?
Глаза мужчины округлились от удивления и страха. Он сделал несколько шагов в нашу сторону, я заметил, что он хромает, но обходится без палки.
— Стой! — сказал я. — Кто еще есть в этом доме?
— Никого нет. Только жена и я.
— Врешь!
Он поднял руку, пытаясь заслониться от ожидаемого удара. А я и не собирался его бить. Я видел, как он испуган и как от страха трясется женщина.
Коля обыскал каждый закуток в кухне, комнатах и кладовке. Вскоре он вернулся и сказал им:
— Забирайтесь в чулан, — и показал им автоматом на кладовку. — Посидите там…
Они послушно вошли, Коля закрыл за ними дверь, но тут же снова зашел туда и вынес миску с яйцами и круг колбасы. Показав на варящуюся на плите пищу, он буркнул:
— Нам должно хватить. А теперь за работу…
Он позвал со двора ребят, видимо решив, что прикрытие нам не понадобится.
Мы прекрасно поели. Возможно, даже про запас. Затем Коля велел устроить помывку. Мы поставили два котла воды. Володя притащил из сеней лохань и давай… Получилась настоящая баня. Вымытые, отогревшиеся и сытые, мы перекидывались шутками, совершенно забыв о том, что облава на нас продолжается. За окнами кухни открывался довольно широкий вид на поля и вьющуюся в полутора километрах от нас дорогу. Движение на ней было небольшим, во всяком случае, ничего подозрительного не наблюдалось.
— Посидим тут до вечера, а потом в путь, товарищи, — решил Коля. — А пока ложитесь-ка и отдыхайте.
А сам он сел у окна и принялся как ни в чем не бывало пришивать пуговицу. Сидевшие в чулане хозяева вели себя довольно спокойно, они притихли как мыши за печкой.
Я немного вздремнул, а когда открыл глаза, то увидел стоящего на пороге кухни толстого господина в мундире фольксштурма и услышал Колю, который очень любезно приглашал его:
— Bitte schön. Пожалуйста, заходите…
Обалдевший толстяк с поднятыми руками послушно вошел и встал посредине комнаты.
— Откуда господин держит путь? — спрашивал Коля. — Отвечать, быстро!
— Я тут недалеко живу, в деревне.
— Как называется деревня?
— Мюленсдорф.
— Сколько жителей? Сколько человек в фольксштурме? Какое у вас оружие? Зачем сюда пришел? Принимал ли участие в облаве?
Коля спрашивал быстро, тот еле успевал отвечать, но отвечал добросовестно. Наконец Коля позволил ему опустить руки и втолкнул его в кладовку.
— Он пришел за яйцами… Хозяин ему обещал продать. Он не знает, продолжается ли облава. Слышите, он ничего не знает об облаве, он пришел за яйцами… Коля, я бы их всех…
— Оставь, Франек. Пока они сидят в чулане, а мы в этой комнате, нам ничто не угрожает. Нужно отдыхать, вечером в путь…
Я уже отдохнул, мне не хотелось больше лежать на полу на мягкой перине, поэтому я уступил свое место Коле, а сам сел у окна. Володя как всегда молча копался в радиостанции и проверял батареи. Конечно, сейчас не могло быть и речи о том, чтобы установить связь, это было бы равносильно самоубийству. Они там ждут нашего сигнала, рассчитывают на нас… А мы с момента приземления только и убегаем, и не может быть даже речи о выполнении задания, об определении сил врага. Да и удастся ли нам вообще что-нибудь здесь сделать? Я вижу дорогу через поле, по которой едет какая-то легковая машина. Через некоторое время в другом направлении движется запряженная двумя лошадьми подвода. Нормальное, обычное движение на проселочной дороге. Где-то там гитлеровцы прочесывают леса и рощи, проверяют дороги, а тут еще спокойно. Коля знает, что делает, и они там в штабе знают, черт возьми… Но что дальше? Что дальше? Сейчас все отдыхают, только Франек кричал, что он бы этих немцев… Вот именно, Коля должен что-то решить, похоже, нам придется их ликвидировать… Всего лишь несколько часов тому назад я и понятия не имел о существовании этих людей. Эта женщина и эти мужчины… Им чертовски не повезло, что мы сюда пришли. Они наши враги, мы находимся на земле врага, тут речь вовсе не идет о праве на жизнь для нас или о праве на жизнь вообще. Мы здесь для того, чтобы им вредить, чтобы готовящийся сейчас наш танковый удар был правильно рассчитан и точно направлен. Все это правда, но ведь они здесь живут трудом собственных рук, и видно, что дела у них идут не очень-то хорошо… Он инвалид, она при нем, к тому же сейчас смертельно перепугана… Коля велит их убить. Он командир, а мы прибыли сюда совсем не для того, чтобы кого-то жалеть.
Так мы дождались вечера, только время от времени сменяя часовых. Под вечер мы снова поджарили яичницу, подкрепились хлебом с колбасой, попили чаю из наших запасов, потому что не нашли его на кухне, ну и были готовы к походу. Приближалось время, когда мы покинем этот дом. Сытые и отдохнувшие, мы готовились в путь, словно на экскурсию. Я собрался раньше других и вышел во двор первым, чтобы не быть свидетелем…
Коля открыл дверь чулана, где находились немцы, и вошел внутрь. Я замер, стоя без движения и ожидая выстрелов. Володя флегматично прилаживал к спине радиостанцию. «Не забудет ли он батареи?» — подумал я озабоченно, лишь бы отвлечься от мысли о том, что происходит в доме. Однако выстрелов не было слышно. Коля вышел из кладовки и сказал:
— Готово. Можно идти…
— Ты убил их? — Я должен был задать ему этот вопрос.
— Нет. Они будут так сидеть до утра, а может и дольше. Я их связал, заткнул рты, да еще предупредил, что один из нас остается и если услышит хоть малейший шум, то будет стрелять по двери… Можете быть спокойны, они даже не шелохнутся.
— А если кто-нибудь сюда придет?
— Ночью? Очень сомневаюсь. А если даже и придет, то нам будет все равно…
Я с облегчением вздохнул и с уважением посмотрел на Колю. Как же я мог так плохо о нем подумать?
Мы вышли в темноту и снова оказались в лесу. В эту ночь мы прошли почти пятьдесят километров на восток и оказались на берегу Одры. Теперь мы были уверены в том, что на этот раз нам удалось вырваться из окружения.
Уже перед самым рассветом Володя связался с базой и передал сообщение о нашем выходе из окружения. Немедленно пришел ответ: «Хорошо, хорошо, мы рады, что вы смогли уйти, но что с заданием?»
Вырвавшись из окружения, страшно измученные, они укрылись в лесах недалеко от Одры — к счастью, у них были карты и этого района — и, построив из хвороста и снега убежище, проспали почти целые сутки, никем и ничем не потревоженные. На следующее утро Володя связался с базой и получил новое задание: наблюдать за движением поездов на линии Катовице — Вроцлав. В связи с этим им пришлось передвинуться поближе к железной дороге. Местность подходящая, лесистая, недалеко несколько озер. За движением нужно было наблюдать круглые сутки, поэтому Коля расставил всех по сменам. И работа пошла. По этой линии в основном шли военные транспорты, по нескольку десятков эшелонов в сутки. Наблюдения вести было нелегко, потому что приходилось считать перевозимые орудия, танки, определять численность людей и к тому же записывать обозначения воинских частей. Так они работали в течение нескольких дней, пока не пришел приказ заблокировать линию на двадцать четыре часа. На наблюдательном пункте остался Володя, а в это время Коля совещался с Франеком и Каролем.
— Это какие-нибудь шесть-семь километров на восток, — сказал Коля, показывая пальцем точку на карте. — Видите? Вот здесь… Мостик через ручей, по обеим сторонам лес. Проведем разведку еще сегодня, если все будет в порядке, ночью поставим мины и станем ждать.
— А куда предлагаешь скрыться потом, Коля? — спросил Франек. — Придут ремонтные поезда, вермахт, вероятно, снова проведет облаву…
— Проведет… Видите эту дорогу? Она не больше чем в двух километрах отсюда. Там мы оставим машину…
— Какую машину? — удивился Кароль.
— Автомобиль. И махнем на нем на запад. Нужно будет проехать километров пятьдесят.
Кароль посмотрел на Франека, а Франек перенес удивленный взгляд на Колю.
— Что значит автомобиль? Откуда мы его возьмем?
— Добудем. Пока его еще у нас нет, но к вечеру будет. Значит, действуем так: сначала разведка, потом минирование, захват машины, взрыв, и мы скрываемся.
Франек неспокойно зашевелился:
— Столько заданий для четырех человек?
— Вы считаете, что слишком много? А я вам говорю, что наша четверка стоит сорока человек. Или я не прав?
Все засмеялись. Колин оптимизм легко передался им. Ведь и они сами ждали чего-то большего, чем простой подсчет проходящих поездов.
— Мне почему-то кажется, что в штабе имеются для нас задания поинтереснее, — сказал Коля. — Сейчас я пойду в разведку, ты, Кароль, сменишь Володю, а Франек приготовит для всех нас ужин. К сожалению, снова холодный. Костер разводить нельзя.
— Ясно, Коля, — ответил Кароль. — Только у меня есть одно предложение, если можно. Ты командир, поэтому ты должен остаться. В разведку пошли меня…
— Кароль прав, — тут же вмешался Франек. — А я пойду сменю Володю.
Коля удивленно поднял брови.
— Что же это такое, черт возьми, я ведь уже сказал о своем решении. С каких это пор солдаты предлагают командиру изменить план? Может, мы здесь будем решать все вопросы при помощи голосования?
Коля сердился, но Кароль и Франек понимали, что на самом деле командир вовсе не был уж так возмущен, поэтому они попробовали еще разубедить его:
— Коля, ведь ты отвечаешь за выполнение задания и за нас тоже. Ты не имеешь права нас оставлять одних. Ты сам только что определил задание. Минирование, машина, отход и так далее. У тебя полно работы, так что…
Коля улыбнулся.
— Ты и вправду хочешь идти, Кароль?
Все же им удалось убедить командира. Кароль хлопнул его по плечу.
— Ты согласен?
И вот уже Кароль шагает лесом вдоль дороги. Странно, но в данный момент он не чувствовал, что находится среди врагов, а моментами ему даже казалось, будто он лесом идет к сторожке дяди, как это часто бывало в детстве. Деревья такие же и тот же снег… И солнце сверкает ярче от снежного покрова. Где-то вверху загудел самолет. Этот звук вернул его к действительности. Время от времени по дороге проезжали машины, и тогда он прятался. Правильно ли он идет? Ему казалось, что он отошел всего лишь на несколько десятков метров от вьющейся по лесу дороги, а сейчас ее уже вообще не было видно. Он посмотрел на компас — порядок, можно не возвращаться к дороге. Через минуту на лесной просеке, обозначающей русло ручья, перед ним показался мостик. Кароль подошел поближе и вскоре мог рассмотреть его несложную железобетонную конструкцию. Куда подложить мины? Без сомнения, в железнодорожное полотно, это легче всего, но нужно взорвать и сам мост. Он вошел в воду, лениво струящуюся между льдинами, и влез под мост. Под гладкой поверхностью цементной арки трудно что-либо укрепить. Он уже собрался выйти из-под моста, как услышал доносящийся издали глухой грохот. Вероятно, поезд. Нужно переждать. Грохот нарастал с востока. Вскоре поезд окажется перед внимательным взглядом наблюдателя. То есть Франека. Порядок. Глаза у Франека острые, он высмотрит все, что нужно. А если нет? Может, лучше выйти из-под мостика, встать за деревом и посчитать вагоны, посмотреть, какого рода груз он везет? Когда он вернется на базу, можно будет сравнить результаты наблюдения, это не помешает. Кароль быстро выскочил наверх и спрятался в стоящих недалеко от насыпи кустах. Вскоре показался поезд. Пассажирский, составленный из вагонов третьего класса. В окнах были видны забинтованные головы и руки. Санитарный поезд, везет раненых. Кароль считал вагоны, думая одновременно о том, сколько раненых помещается в одном вагоне. Восемнадцать вагонов. Ладно. Ничего интересного. После того как прошел поезд, он снова забрался под мостик. На этот раз Кароль высмотрел удобное для закладки заряда место. Кабель можно протянуть вдоль русла ручья… Нужно проверить, далеко ли от железнодорожного полотна находится дорога, есть ли вблизи какие-нибудь постройки. Отметив в памяти топографию места, он двинулся вдоль русла ручья. Вокруг все пусто, нигде не видно и следа человека. В конце концов он добрался до покрытой щебнем дороги. Осмотрелся, потом по ее обочине прошел сначала в одну сторону, затем в другую. Изучив карту, Кароль теперь знал, где расположено ближайшее селение. Деревня находилась на расстоянии восьми километров от пересекающего дорогу ручья. От железнодорожной линии до дороги — около одного километра. Отлично. Можно возвращаться и доложить Коле о результатах разведки.
— Хорошо, — ответил Коля, выслушав доклад Кароля. — Пока нам сопутствует удача. Теперь переберемся-ка поближе к мостику.
— А машина? — спросил Кароль.
— Будет и машина, — ответил спокойно Коля. — Время еще есть.
После возвращения Франека, который наблюдал за железной дорогой, группа двинулась в путь. Было уже темно, и Володя хотел связаться с базой, но Коля категорически запретил ему пользоваться радиостанцией. По прибытии на место они, не мешкая, занялись минированием железнодорожного пути. С работой управились за час, кабель протянули в соответствующее место, замаскировав все на случай, если акция в эту ночь не удастся. По приказу Коли у мостика остались Франек и Володя, а командир с Каролем исчезли в лесу.
— Остановим на шоссе первую попавшуюся машину, — сказал Коля. — У нас нет времени, понимаешь?
— Понимаю. Остановим, если надо.
— Мы должны пройти несколько километров, чтобы быть подальше от ручья.
Кароль согласился с командиром, у него не было других предложений.
— Стрелять только в крайнем случае. Мы должны все сделать тихо, без выстрелов. У тебя хороший немецкий акцент, машину остановишь один, а я буду тебя подстраховывать. Скажешь, что в двух километрах дальше по шоссе засели советские партизаны, что путь закрыт…
Спустя два часа они уже сидели, притаившись во мраке ночи у обочины шоссе. Кругом стояла тишина, так что вообще было не известно, дождутся ли они какой-нибудь машины. И все же им повезло. Издалека донеслось урчание мотора, а через минуту стали видны узкие полоски затемненных фар.
Кароль почувствовал на плече руку Коли.
— Пора. Давай!
Кароль встал на краю дороги, подняв руку. Видимо, водитель заметил его, потому что мотор перестал работать на высоких оборотах, машина начала тормозить и остановилась рядом с Каролем. Это был крытый брезентом пикап. Кароль рванул дверцу кабины и сказал вполголоса:
— В двух километрах отсюда находятся советские партизаны…
В ответ послышался испуганный мужской голос:
— O, mein Gott, что ты говоришь?!
— Да, красные уже здесь, — сказал Кароль и, обойдя спереди машину, открыл дверцу со стороны водителя. — Вылезай! — Свой приказ он подтвердил тем, что наставил на шофера ствол автомата. Из кабины выбрался довольно грузный мужчина.
— Руки вверх! — сказал Коля, который в этот момент появился у машины.
Немец поднял руки, Коля тщательно обыскал его и вытащил «вальтер». При свете фонарика Кароль просматривал документы пленного.
— Ты кто? — спросил Коля.
— Господа, у меня здесь недалеко хозяйство… Я крестьянин…
— А это? — подсунул ему под нос пистолет Коля. — Это тоже из твоего хозяйства?
— Господа…
Кароль произнес сдавленным шепотом:
— Коля, ну и мерзавец же он! Вот, прочитай!
Он подал Коле фонарик и документ, а сам приставил дуло пистолета к шее немца. Коля увидел удостоверение члена нацистской партии. Ах ты сволочь!
— Дело ясное! — сказал Коля. — Пойдешь с нами.
Они вошли в лес, и тут Коля ударил фашиста прикладом по голове.
Затем они прикрыли тело ветками и вернулись на шоссе. Машина сразу же завелась и покатила вперед. Они ехали молча. Кароль украдкой поглядывал на руки Коли, спокойно лежащие на руле.
— Ужасно, — проговорил Кароль и прикрыл лицо ладонью.
— Не мы его, так он нас… — ответил Коля. — Такая уж эта проклятая война…
Вскоре они подъехали к ручью. Кароль выскочил из кабины и начал искать место, где можно было съехать на обочину. Еще несколько метров — и машина оказалась в лесу. Уже шагая по дороге, они оглянулись. Нет, ночью никто машину не заметит. Даже едущий по шоссе автомобиль с зажженными фарами вряд ли сможет ее обнаружить.
В условленном месте они без труда нашли склонившихся над детонаторами Франека и Володю.
— Машина ждет, — сказал Коля. — А сейчас за работу… В десять пятнадцать должен пройти первый транспорт. Мимо нашего наблюдательного пункта он проходил в двадцать два одиннадцать, правда?
Володя подтвердил. Невольно все посмотрели на часы. Было около десяти.
— Проверю-ка я кабель, время еще есть, — решил Коля и, взяв в руку провод, исчез в темноте.
— Ну и нервы у него! — восхищенно произнес Франек. Кароль молча следил за стрелками часов. Время тянулось страшно медленно. Володя положил руку на плечо Каролю.
— Слышишь?
Кароль прислушался. Откуда-то издалека доносилось пыхтение паровоза.
— Тяжелый, — определил Володя, у которого был безошибочный слух. — Транспорт тянет. Черт побери, а где Коля?
Теперь уже отчетливо был слышен далекий гул. Поезд приближался, скоро его силуэт будет виден на фоне звездного неба. А Коли все не было…
— Я пойду, — сказал Кароль, но Володя схватил его за руку.
— Дурак! А если… то кто нас проведет к машине?
— Что ты, Володя?!
После этого никто уже не произнес ни слова, поезд был близко. Тут из темноты вынырнул Коля.
— В одном месте провод намок, я его исправил.
Они вздохнули с облегчением, теперь уже все были в сборе. Коля отошел на несколько шагов, лег на землю и поднял вверх руку.
— Видно?
— Видно…
— Так вот, взрывайте, когда я опущу руку.
Паровоз уже въезжает на мостик, его прекрасно видно на фоне неба. Появляются первые вагоны, а за ними платформы с тяжелыми танками. Теперь вся группа в страшном напряжении ждет сигнала Коли. А он еще не опускает руки. За платформами вкатываются крытые вагоны. Колина рука упала. Пора!
Вагоны в светящемся ореоле взлетели вверх, как будто подброшенные рукой исполина… В небо поднялся столб огня, раздался мощный взрыв. Один за другим взрывались вагоны, в воздухе свистели снаряды, куски стали и дерева.
— Бегом! — крикнул Коля.
Втянув головы в плечи, они бежали через лес под аккомпанемент продолжающихся взрывов и в адском сверкании сполохов.
Тяжело дыша, они добежали до дороги. Кароль первый нашел машину. За руль влезает Володя, рядом садится Коля и, пододвинувшись, оставляет место для Кароля. Франек залезает под брезент.
Володя крутит баранку, и вот машина уже на дороге. Она набирает скорость и мчится вперед. Помощь для транспорта должна прийти с противоположной стороны, там находится ближайший городок. Вдруг Коля как-то странно замирает. Кароль толкает его локтем, и командир стонет от боли.
— Ты ранен? Куда?
Машина подскакивает на выбоинах; Володя, внимательно следящий за дорогой, с беспокойством поворачивает голову.
— Все в порядке, — успокаивает их Коля. — Кароль, достань бинт…
Кароль тут же разрезает ему рукав. Колина рука выше локтя вся в крови. Посветив фонариком, Кароль находит рану. Он разрывает зубами бинт и перетягивает им предплечье раненого.
— Главное, чтобы кровь перестала идти, — говорит спокойно Коля. — Теперь все будет хорошо…
Кароль напряженно смотрит вперед. Они должны отъехать как можно дальше, ведь скоро все дороги будут перекрыты. Пока что они едут спокойно, где-то там, сзади, еще раздается грохот взрывов. Коля догадался, в каких вагонах были боеприпасы… Молодец. А теперь как можно дальше от этого места. Сколько уже они проехали? Двенадцать, пятнадцать километров, не больше…
Вдруг перед ними засветились красные огоньки. Володе приходится сбавить скорость.
— Приготовить оружие! — приказывает Коля и локтем здоровой руки выбивает дырку в слюдяном окошечке, отделяющем кабину от Франека. Кароль кричит:
— Приготовь оружие, Франек!
Все происходит мгновенно. На дороге стоят заграждения, маячат фигуры жандармов. Володя нажимает на тормоз, и в этот момент слышен Колин голос:
— Огонь!
Трещат автоматы Кароля и Франека. Володя жмет на газ, и машина врезается в заграждения. Готово! Дула автоматов разворачиваются и продолжают палить. Слышен скрежет пуль, разрывающих бок машины.
— Гааазу! — кричит Кароль. Володе не нужно этого повторять. Он выжимает из «опеля» все, что можно. Стрелка спидометра приближается к цифре сто двадцать…
— Удалось, — хрипло говорит Коля. — Никто не ранен?
— Нет!
— Франек!
— Я здесь!
— В порядке, молодцы… Володя, осталось еще минут пять езды. — Похоже, что Коля карту помнил наизусть, ибо ровно через пять минут автомобиль снова оказался в лесу.
— Останови!
Они выскочили из машины и столкнули ее в кювет.
— А теперь в лес! — следует очередная команда.
Они идут быстро, впереди Коля. Кароль прикидывает: сейчас одиннадцать, рассветет около семи, тогда обнаружат машину и начнется облава. Сколько можно пройти за ночь? Двадцать километров, не больше. Если Коле не станет хуже…
Он ускоряет шаг и, поравнявшись с командиром, спрашивает:
— Ну как, дойдешь?
— Если не дойду, то тебе первому скажу об этом, — отвечает Коля. — Отстань.
Они идут гуськом за командиром, в которого верят. Как раз сейчас Кароль думает об этом. Очень важно верить в кого-то. Да и вообще разве можно воевать, не доверяя друг другу? Без веры? Их присутствие здесь, на земле врага, очень нужно. И они об этом знают. Коля, Володя, Франек… А ведь у них немного шансов унести отсюда головы, может, один на сто, тысячу, десять тысяч…
Рубашки становятся мокрыми, пот бежит по спине. Через два часа Коля приказывает:
— Семь минут отдыха! Володя, радиостанцию!
Не прошло и минуты, как Володя начинает выстукивать свои точки и тире. Коля диктует ему очередное донесение. Как же это долго продолжается!.. Ну, а теперь прием. Коля берет один наушник. Володя записывает при свете фонарика, который держит Кароль. Телеграмма для них была короткой: «Благодарим. Поздравляем. Конец задания. Пробирайтесь на юго-восток. Фронт перейдете в Силезии».
Благодарим. Конец задания. Теперь можно сесть в поезд, лучше всего в экспресс, и на родину… Эх, жизнь! Пробираться на юго-восток. Скитаться ночами, как затравленные собаки. Перейти фронт. Боже мой, как легко писать такую телеграмму…
Фронт уже в Силезии. Быстро дело пошло, в один миг. В Силезии…
Володя свертывает антенну, укладывает радиостанцию, отключает аккумулятор.
— Она уже не понадобится? — спрашивает Коля. Володя на минуту задумывается.
— Нет. Жаль ее, но с таким грузом нам далеко не уйти…
Ну, теперь в путь. Они берут с собой все свои вещи. А радиостанцию уничтожат при первой возможности.
И группа двинулась дальше. Люди навьючены, идут тяжело дыша. Еще несколько километров, и перед ними заброшенная каменоломня, пруд на дне выработки. Коля решает: утопить!
С плеском погружаются радиостанция, аккумулятор, провода… И снова в путь. До рассвета еще далеко.
До рассвета еще далеко, а до своих еще дальше. День они проспали, зарывшись в снег в какой-то котловине. У Коли жар. Ночью опять нужно идти. Сколько им еще держаться? Есть ли предел человеческих возможностей?
Кончается продовольствие. Последнюю банку тушенки они съели через три дня после взрыва моста. Затаившись, они наблюдают за усилившимся движением на дорогах. Им приходится обходить стороной человеческое жилье. Карты и компас ведут их к цели. Уже слышен глухой гул орудий. Фронт близко, он все приближается. Где? Где он сегодня, а где будет завтра? Володя поймал курицу. Они делятся сырым мясом, потом еды уже больше нет. Пить тоже нечего, приходится сосать снег. Коля слабеет. Ночь они просидели в каком-то мелиорационном канале среди голых полей.
— Оставьте меня здесь, — говорит Коля.
— Да ты что! — протестует оскорбленный до глубины души Кароль.
— Я тебе обещал сказать, если не смогу идти…
— Так мы тебе поможем, понимаешь?
У них запеклись губы, провалились глаза. С каждым днем они теряют что-то из человеческого облика. Ночью тащатся то ли призраки, то ли люди. Но вот появляются первые терриконы и дым. Кароль выгребает яму, оставляет в ней товарищей, а сам идет на разведку. Если он не ошибается…
Кароль не ошибся. Он попадает в шахтерский поселок и слышит сначала издалека, а потом все ближе и ближе польскую речь. В темноте он стучит в дверь какого-то дома из красного закопченного кирпича.
— Mensch
[57], черт или кто ты? — Старый мужчина в подштанниках стоит перед Каролем.
— Пить! — шепчет Кароль и теряет сознание.
Не прошло и двух часов, как он снова крадется в сторону террикона с горячим молоком в термосе. Оно придаст им силы хотя бы для этого последнего броска.
На рассвете они сидят в чулане вместе с кроликами. Их клонит в сон, не мешает даже нарастающий гул артиллерии. В полдень сквозь щели в будке они замечают первого солдата с красной звездой, а тот, удивленный, кричит приближающемуся Каролю, у которого на шее болтается автомат:
— Руки вверх!
Кароль поднимает руки и улыбается во весь рот.
— Веди к командиру, сынок!
Все еще не могущий прийти в себя от удивления красноармеец забирает у него оружие и обыскивает карманы, а когда вытаскивает из них гранаты, становится совсем строгим.
— Ну, чертов немец… — бормочет он.
— Веди к командиру! — кричит сквозь смех и слезы Кароль.
Перевод Е. Невякина.

Франчишек Фениковский
Ночь над Черным морем
Земля увязла, как воз по оси,
в закате алом над дальним плесом,
а ночь купает коней на плесе,
ведет своих вороных по росам.
Развесила огоньки да блестки
(рой светлячков маячит и светит)
и на крестьянской своей повозке
в парную влажную темень едет.
Мы едем вместе. И звезды рядом
на конских шеях звенят-стрекочут
подобно тем бубенцам-цикадам,
в которых бьются сердечки ночи.
Во тьме плывет аромат медовый,
вздыхает море, ветрам открыто,
и лунным светом горят подковы,
и млечным шляхом стучат копыта.
Все мчатся кони, дорога вьется,
и ветер в гривах шумит густых…
Один из них любовью зовется,
зовется смертью второй из них.
Перевод М. Яснова.
Одра шумит по-польски
На запад наши танки пошли стеной, как волны,
в тумане проблистали, над кручами нависли.
За танками пехота идет от самой Волги,
грохочут переправы на Варте и на Висле.
Вдали земля родная — молчащая, святая,
запуганная смертью, грустящая по плугу, —
ждет, как всегда ждала нас, мечтать не уставая,
тянулась к нам сквозь пепел и огненную вьюгу.
Мы кровью окрестили и Щецин, и Кошалин,
могил немые жесты здесь каждому знакомы:
прах павших, что землею обугленной завален, —
краеугольный камень для завтрашнего дома…
Здесь будет горд крестьянин обильным урожаем,
здесь зазвучит повсюду язык любви и детства.
Стоим и плеску Одры, заслушавшись, внимаем…
Ты слышишь? Одра шепчет по-польски — наконец-то!
Перевод М. Яснова.
На развалинах Гданьска
Не выбежал, как прежде, не пошел навстречу,
вздымая к небу руки звонких колоколен…
В глазах одни руины. Сам себе перечу —
не верю им, хотя и верить приневолен.
Пустыня. Где о Польше даже камни пели
наперекор немецким вывескам и маршам, —
смердит дыханье смерти, и клубится пепел,
и смешаны осколки с пурпуром монаршим.
А с площади куда-то канул Зигмунт Август,
орлы, фонтан Нептуна покинув, улетели,
и смотрят бездны окон, клеенные накрест,
как берега Мотлавы покрывают тени.
Славянская святая ночь ко мне склонится,
шепнет мне: «Предрекали звезды встречу эту!..»
А над разбитым Гданьском вновь скользит зарница
и проплывает Щит Собеского
[58] к рассвету!
Перевод М. Яснова.
Погоня
Мой мир, мой свет, приют —
во мне, хоть я и с вами;
здесь столько лет поют
сирены над волнами,
а море до мажор —
ах, миг! — вздымает к небу;
бег туч и чаек хор;
и мне, как Рильке, мне бы
за этим мигом, вплавь,
рискуя всем, бросаться —
моя вторая явь,
где не снискать оваций.
Перевод М. Яснова.
Фуга Баха
I
Тяжко грохочут постолы —
ангелы сходят в долы.
Башня все выше, круче,
от взгляда прячется в тучи.
А я — безрассудный зодчий
в луженом лесу органа —
напев, точно бронза, прочный
ввысь возношу из хорала.
II
Хорал становится фугой,
башней, звонкой, упругой,
длинной трубой подзорной,
нацеленной в космос черный.
С вершины башни тонами,
как циркулем, измеряю
орбиты планет над нами
во тьме без конца и края.
III
Солнце пылает гаммой…
Жена зовет: «Иоганн мой!
Смеркается! Стынет ужин!..»
Не знает, как я закружен
планетами, как далек он —
мой путь, когда к домочадцам
в смешном парике высоком
приходится возвращаться.
Перевод М. Яснова.
Баллада об украденном блюде
Ветер скрипку берет влюбленно
и поет о родном-знакомом…
Ночь засохшею веткой клена
все поскрипывает над домом.
И свисает месяц цыганский,
отливающий изумрудом,
над искристым заливом Гданьским —
над серебряным краденым блюдом.
Ой, горька твоя, месяц, доля —
ветвь да посвист ветров гундосых…
Укатился в черное поле
старый воз на звездных колесах,
отпылало дымное пламя
на речном берегу, в лесу ли,
и уже не блестит серьгами
тень цыганки, стройной плясуньи.
Пела скрипка твоя счастливо,
вились тучи — конские гривы…
Что ж тебя серебром прельстило
это круглое блюдо залива?
Горный кряж во тьме шевелился,
как ручной медведь чернобокий, —
что ж залив тебе этот снился
под напев родника высокий?
И куда ж тебя заманили,
эх, цыган, далекие дали?
Темной ночью тебя схватили,
прямо с краденым и поймали.
И висишь ты на ветке клена,
ой, цыганский месяц зеленый!
А залив-то внизу — обманный:
не серебряный. Оловянный.
Перевод М. Яснова.
Бунт марионеток
Свистит на черных пальцах веток
лесной сквозняк, бредет кобылка,
и тащится по белу свету
в ночи цыганская кибитка.
Плетется под луною кляча,
укрыт театрик черной тенью,
директор спит, во мраке пряча
опасливые сновиденья.
Спит деревянный шут-повеса,
солдатик с саблей из дощечки,
и у красавицы принцессы
спит деревянное сердечко.
Солдат, и шут, и королевна —
они выходят из кибитки
плясать и плакать ежедневно
вслед за рукой, держащей нитки.
Из деревянных уст польется
чужая речь, и смех, и стоны…
«Вот так и есть. Все, как ведется», —
директор думает спросонок.
И все ж увидит он однажды,
как куклы вырвутся из нитей, —
сердца, засохшие от жажды,
о, как вы громко застучите!
И губы зацветут, как ветки
победоносною весною,
и двинутся марионетки
на притеснителя стеною,
и вывернет кибитку кляча,
и ветер засвистит от гнева…
И оживут, смеясь и плача,
сердца, восставшие из древа!
Перевод М. Яснова.
В рыбачьем порту
Только в сказке все бывает так:
белый дом, кот черный у порога,
на ступеньках с трубкою рыбак,
запах рыбы и закат Ван-Гога.
Тихо светит на воде мазут.
Нос баркаса к берегу притянут.
Скоро в море рыбаки уйдут,
лодки в сумрак, будто чайки, канут.
Не нарушит ночи огонек.
Сеть плеснет под сильными руками…
Будут чайка плыть да ветерок,
а не жаворонок надсудами.
Перевод С. Свяцкого.
Войцех Витковский
Сад
Вот, значит, она, его собственность, эта песчаная пустошь, на которой рожь, — даже во влажное лето — как недощипанная курица: там перышко, тут перышко, на которой картошка во влажное лето — и то величиной с орех: маленькая, чистенькая; пустошь, на которой торчит лишь кое-где осока, мать-и-мачеха и — символы убожества — столбики коровяка, а в ямках виднеются усохшие, как голодающие дети, анютины глазки.
Значит, ради этого столько лет без девушек, без ресторанов, жизнь в похожей на дупло комнатушке, потертые брюки. Да, ради этого. И он слышит, да, черт его побери, уже слышит, вскапывая с ожесточением сухую, всего на два-три сантиметра сероватую почву, как купаются в дожде деревья или как падает от заморозков в погожий день не дозревшее к сбору яблоко. А может, намеренно забытое, так, специально, как раз для того, чтоб оно свалилось — мягко, с благодарностью отдавая себя родившей его земле.
Он выпрямился, посмотрел по сторонам. Ветер шел темной рябью по озеру, и он снял шапку, поджидая, пока холодок не обвеет вспотевший лоб. Приятен в июльский день такой ветер.
С рожденной годами скитания заботливостью к вещам, которые должны служить ему дольше, чем другим, он снял пиджак, рубашку. Остался в одних только брюках, маленький, сухонький, кожа да кости. Дождался очередного дуновения, вздохнул и склонился над своим богатством, над этой своей землей.
Схватил обеими руками крайний кустик коровяка, вырвал, хлопнул корнями о землю, — посыпалась сероватая пыль, — отшвырнул прочь. Потом второй, третий. Рвал и бросал, пока не набралась пыльная желто-зеленая кучка. Вот она, черт побери, желчь этой земли!
Куда разумнее было бы все это запахать, но он в неистовстве задувал свечи коровяка на алтаре своей нищеты, складывал их кучками: потом все это можно будет собрать, смешать с песком, добавить еще кое-чего, и если поливать каждые два-три дня водой, то получится отличная земля. Он отделял добро от зла, богатство от бедности, плоть от горечи, как мясник отделяет желчь от печени. Поганая трава, надо ее выполоть, отучить эту землю родить коровяк.
Так он начал.
Потом поставил домик-будку в одну комнатенку, с железной печуркой, с кроватью, сундуком и пятью-шестью гвоздями в стене, чтоб развешивать на них свое барахло.
А потом купил жерди и принялся огораживать. Отделял этот свой песок от чужого, словно боялся, что ветер унесет у него из-под ног добытое счастье. Деревенские смотрели, как на цирк: парень-то тронутый.
А он неустанно творил почву, приносил ее основу в мешке на своих натруженных плечах — листья из леса, торф с приозерного болотца, — все, что под руку попадало; и ведрами таскал воду. Росли слои доброкачественного компоста. Он дружески брал землю в ладони, она уже не рассыпалась сероватой пылью, была мягкая, пахла прелью, хоть попадались частички еще не разложившихся растений, — капельку не поспела. Впрочем, неважно, поспеет. А пока надо ставить настоящий забор, с сеткой, на каменном основании, чтобы зайцы не погрызли деревьев. Срок для земли еще не настал, главное, чтоб было ее больше, как можно больше.
На четвертый год творенья он выкопал в песке первые ямы и наполнил их той самой почвой, которую вызвал к жизни усилием природы и сумасшедшим трудом своего тщедушного тела. Вкопал первые саженцы.
С каждым годом их прибывало, пока весь песок за сеткой не покрылся ажурной тенью молодых деревьев.
Первое цветение, первое плодоношение. Земля рассчитывалась за труды.
Он лежал в тени своей хибарки и смотрел, как стоят, утопая по колено в желтом люпине, деревья. То был сад. То была его земля. Наконец-то оплодотворенная — подкормленная люпином и навозом, — она стала родить.
Теперь у него вновь появилась возможность откладывать деньги, кстати, перед первым серьезным урожаем исчерпался остаток сбережений. Теперь он копил на дом.
И прежде чем первым снарядом взорвался сентябрь, вырос уже дом — на каменном фундаменте, двухэтажный. Великолепный, огромный. Пустой.
Он уже успел обставить с шиком две комнаты, успел еще, к досаде всей округи, привезти пианино. Начал подбирать на нем одним пальцем две-три популярных мелодии. Стал подумывать о жене, уже за сорок перевалило, время. А ему сватали то девку из небогатой семьи, сидящей на трех-четырех моргах, то нестарую еще вдовицу, — все будто сосны в поле, ростом не вышли, да крепкие, кряжистые: в ту пору его сад кое-что уже значил. Но невесты были ему не по вкусу. Он с уверенностью поглядывал на свои натруженные руки, проникаясь мыслью, что достоин лучшей жены, такой, которая будет настоящей хозяйкой в этих его хоромах. Успел послать еще матримониальное объявление в рубрику «Афродита соединяет счастливейших» и…
…Они явились, едва отгремел за лесом фронт. Посмотрели оценивающим взглядом, присвистнули при виде пианино и спросили, не было ли в роду немцев, а когда получили отрицательный ответ, дали по морде, подправили коленом и в чем был — raus!
[59]
А у него в глазах помутилось, едва из-под ног исчез чернозем, едва не стало над головой яблонь. Несколько дней он бесцельно бродил по округе. Не существовало ни земли, ни неба. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Если добрая душа давала ему кусок хлеба, кружку молока — ел, пил, не благодарил. И шел прочь. И все кружил около дома. В сумерках подходил ближе. У ворот стояли автомобили, из освещенных и распахнутых настежь окон доносился шумный говор, пианино под чьими-то негнущимися пальцами разрывало звуками тишину: победители веселились. Он не сумел бы объяснить, чего ищет, к чему стремится, но инстинкт сдерживал его, не давал подойти вплотную.

Он уже не существовал, потому что это была не его земля и не его небо. Это была ничья земля и ничье небо; ему не принадлежало то, что он сам создал, это вырвали у него из рук с легкостью, словно зажатый в кулаке для забавы прутик.
Однажды вечером кто-то положил ему руку на плечо. Он отскочил, словно поглаженная внезапно чужаком собака. Перед ним стоял добрый его знакомый: местный учитель. Как ребенка он взял его за руку и привел в свой дом. Так и жил он у учителя, не сознавая, что с ним происходит, пока тот, убедившись в бесплодности своих попыток ввести гостя в колею нормальной жизни, не передал его партизанам.
— Иди с ними, — сказал.
Ну он и пошел. Ему было все равно с кем и зачем идти; все вокруг так или иначе оставалось чужим.
— Что ты до войны-то делал, чудак? — спрашивал у него хорунжий.
— Сад делал, — отвечал он, срезая с картошки кожуру, потому что, как определил командир, ни на что другое, кроме кухни, он не годился.
— Как это «сад делал»? Садовником был, что ли?
— Какой из меня садовник! Сад делал, ну и был у меня сад. Дом построил, пианино купил.
Партизаны, гогоча, дали ему псевдоним «Сад».
— Теперь ты Сад, понимаешь? — терпеливо и обстоятельно втолковывал ему как дурачку хорунжий.
— Теперь ты Зад! — вторил отрядный остряк. — Редкий случай, не разберешь, где сад, а где зад!
— Да, я Сад, я всегда был Сад, — отзывался он с таким достоинством, что ответом ему было всеобщее ржание.
Но вот приехала Юзька — явка в Варшаве провалилась и ей пришлось удирать во все лопатки — Юзька, обильно наделенная женскими достоинствами, чуть потрепанная, язык как шило. Изголодавшиеся мужики, глядя на нее, облизывались, но стоило кому-нибудь из них подъехать, как тут же получал по морде и с правой и с левой руки, и притом довольно крепко. Тем все и кончалось.
— Саду хорошо, — ворчал ухажер с побитой физиономией, — ему наплевать, что такая девка в отряде объявилась. Наверно, стервец, там, в этом своем саду, одни деревья-самцы высаживал. Такому ни жарко ни холодно.
А Сад и в самом деле едва заметил женскую персону, потому что, хоть и состоял при кухне, не вникал в то, что происходит вдалеке от его дома.
Шли месяцы, даже годы. Сад понемногу освоился, но расстаться с ролью батальонного увальня ему было уже не под силу. И он смотрел на жизнь философски.
Юзька долго и беспощадно издевалась над Садом, — язык у нее был острый, как бритва, наточенная на Керцеляке
[60], — но когда она узнала, что Варшава превратилась в груду руин, что все близкие погибли, притихла, угасла; поплакала неделю-другую и… стала прикидывать, куда, собственно, ей теперь податься. А уже началось «январское» и от далеких разрывов с потолка землянок тонкой струйкой осыпался песок.
Она стала потихоньку наводить справки о ребятах из отряда, прибегая к безошибочному — поскольку спрос на нее был велик — методу: заставляла их по очереди присягать на распятии. Тот, который сказывался холостяком и обещал жениться на ней после войны, имел, как выяснялось, жену и детей; тот опять здорово зашибает, третий — бабник. Про Сада она не узнавала, не принимала его в расчет. Впрочем, о нем все равно ничего не знали: кто появился в отряде позже, дивился даже такому псевдониму.
Прежде чем они перешли линию фронта, у Юзьки было в запасе уже три надежных кандидата, три жениха, и каждый поклялся хранить тайну.
Отряд распустили. На прощание хорунжий дал Саду первое боевое задание, которое одному лишь ему во всем батальоне и можно было поручить с чистой совестью: отвезти Юзьку в Варшаву, поскольку та уперлась, что должна выяснить все на месте — а вдруг найдется какой-нибудь след, может, хоть похоронит родственников по-человечески.
Юзька весело распрощалась со своими женихами, обещая каждому к пасхе вернуться. Но в Варшаве она расклеилась. Сомнений не было — бомба разрушила не только дом, но и подвалы. Юзька сидела на развалинах и плакала в голос, по-бабьи. Сад пробовал было ее утешить, а потом сказал:
— Поедем ко мне, Юзька.
Она подняла лицо, полосатое от слез, отертых грязной рукой, и рассмеялась:
— Ой, Садик, ты уж скажешь…
— Почему бы нет, Юзька?
— Почему, почему… А что мне, Садик, там делать? Цветочки опылять на деревьях? Хорош и ты, мотылек, со мной рядом… Меня саму опылить бы надо. А ты, Садик… увалень какой-то… Да и годы.
Он весь сжался под обстрелом женского темперамента, жалко было смотреть.
— Ладно, потолкуем. Прожить-то с твоим садиком можно?
— Не с садиком, а с садом, — поспешно вставил он и, уже оправившись, горячо заговорил: — Это, знаете ли, не пустое место. Почти одни яблони. Хорошие деревья. До войны торговец из Варшавы приезжал за яблоками на грузовике…
— Ты дело говори: можно выжить или нет?
— В плохой год не пропадешь, в хороший — окупится.
— А мне, холера, все едино… Посмотрим, как там с твоим садом, Садик… Но если у тебя, холера, в войну деревья повырубали, халупу развалили и я зря туда тащусь… Боже тогда тебя храни!
И они отправились туда — шли, ехали… Впрочем, ей было все равно; в запасе оставалось еще три жениха, хоть одного да заставит сдержать слово. А он тащился ни жив ни мертв: а ну как вырубили? Странно, что в течение всех партизанских лет это ни разу не пришло ему в голову. Странно, он сам теперь удивлялся.
Майское солнышко припекало. Монотонно звенели жаворонки. Расстегнув пальто, они двигались в гору, узлы с каждым шагом становились все тяжелее. Юзька высматривала, где бы присесть; несколько километров песчаной дороги порядком ее измотали, но Сад, точно одержимый, почти бежал вверх по холму.
— Чего разогнался, псих?
— Вот за этой горкой, — просопел он.
— Ну и что из того, что за горкой? Прикажешь мне мчаться высунув язык?
Наконец вершина. Взору открывается пейзаж. Среди песчаных пустырей, скудных выгонов, чахлых лесочков на самом его дне озеро.
«Выкупаться бы», — думает девушка. Но ближе, на пологом склоне, ей является чудо: за обширным четырехугольником солидного забора ровные ряды цветущих яблонь и двухэтажный дом. Словно кто-то в пустыне выставил огромный букет цветов.
— Ты не набрехал, Садик. В самом деле кое-что есть, — говорит она, всматриваясь.
Но он уже ничего не слышит. Бежит, рвет на себя калитку, мчится между деревьями.
Из дома выходит, криво улыбаясь, учитель.
— Добрый день! Что за сюрприз! Так быстро… Как я рад!
Но он и этого не слышит. Ходит между яблоньками, осторожно притрагивается к цветам. Плачет. Наконец опускается на землю, прислоняется к стволу, закрывает глаза. Теперь сад, как большая пчела. Теперь рождается плод.
А там, у дороги, снова скрипит калитка. Входит Юзька. Она уже решила: «Сад будет мой».
Учитель кланяется ей в нерешительности. Что это еще за явление?
— А вы что тут делаете? Это не ваше.
— Я только караулю, уважаемая, чтоб не разворовали. И благодарность…
— Ладно, ладно, поблагодарить вас еще успеем. Хватит, накараулились. Мы уже вернулись.
— Мы?
— А что? Не нравится, да?
— Нет, нет, конечно… Я сейчас, сейчас выеду… надо только телегу, лошадь, чтобы вещи…
— Свои-то пожитки и на горбе унесете.
— Я попрошу…
— Проси, проси, сколько хочешь. Я еще проверю, как бы чего не пропало!
И сдержала слово. Только пианино недосчиталась. Но его немцы давным-давно вывезли. Юзька не желала этому верить, пока бедный учитель не притащил свидетелей из деревни, подтвердивших экспроприацию.
А Сад? Он жил. Он снова жил. Снова была у него под ногами своя земля — вся в бело-розовых лепестках, свое небо над головой, полное веток, цветущих и рождающих ровно столько, сколько впитали солнца и ветра. Была у него теперь и женщина, которой добивалось множество великолепных мужчин, а досталась она ему, увальню, впрочем, сперва следовало впитать в себя снова сад, надо было вернуться к себе так, будто ничего не произошло, будто так было всегда. А деревья, слегка уже запущенные, подросли, изменились. Это сразу бросалось в глаза: и потому все, что делала Юзька, было далеким, несущественным.
Итак, он является хозяином всего этого плодоносящего сада и отмеченного достатком дома, обширного, как шуба, скроенная с запасом на полноту, которая еще не обозначилась.
И на это ушла вся жизнь. Черт бы его побрал, если есть хоть какой-то смысл в трудах. Сад был для него всем, и в то же время благодаря саду он лишился всего. Словно панцирь на черепахе — и убежище и узилище одновременно — часть скелета. А он сам? Теперь он чувствовал: жизнь прошла мимо — зацепила, потормошила и бросила — прошла сторонкой. Еще пять лет назад он спиливал дряхлеющие деревья, когда замечал, что силы их покидают, что цветут хуже, что плоды мельче, и сажал новые, и делал прививки. Теперь он ими уже не занимался. Твердил: на мой век хватит, но, откровенно говоря, жаль ему было деревьев; столько лет они его кормили, были последними свидетелями его веры, силы, надежды, а теперь наступала старость.
Уже август. Папировка собрана, одно только дерево сгибается еще под тяжестью плодов. Время от времени перезрелое яблоко мягко падает в траву, и тогда ветка колеблется и вслед за первым падает обычно второе, третье. Много их гниет уже на земле. Когда проходили мимо харцеры, жившие в лагере у озера, он звал их пособирать яблоки, но они уехали несколько дней тому назад.
А эти почему не приезжают? Может причина кроется в нескольких словах телеграммы: «Я НАШЛА ОТЦА ДЛЯ АНИ. БАРБАРА»? Выходит, в этом году ему уже не взять Аню за ручку, не провести между деревьями? «Деда, дай папиловку», — просила девочка. И тогда он брал ее на руки, поднимал высоко, хоть и была тяжеловата, круглая как клецка:
— Сама выбери!
Крохотные неумелые еще ручонки хватали самое большое из ближних яблок и тянули к себе. Обычно сыпались и другие яблоки, обламывались листья и ветки. Любого бы за это выругал, но тут он только смеялся, повторяя:
— Ох, Аня, Аня, вредительница!
А девочка, надкусывая спелое яблоко, смотрела на него глазками, в которых была одна только радость. Рано утром, в рубашонке, еще босая, выбегала она из дому, попискивая от удовольствия, чувствуя, что мать бежит следом, мчалась к деду:
— Вледительница уже встала!
Выходит, и это в прошлом. А ведь он не натешился не то что внучкой, даже собственной дочерью, которая так и осталась для него едва ли не чужим ребенком. Когда по прошествии лет Барбара появилась тут снова, она вроде бы даже собиралась объяснить, кто она такая, потому что он вглядывался в нее, как в постороннего человека. Внимательно, испытующе. Совсем не похожа на мать, в особенности фигура — маленькая, хрупкая. А смотрел так оттого, что была в его душе обида на дочь, хоть он и упрекал себя втихомолку за эту обиду. Именно день ее рождения был, по существу, последним днем его брака.
Пока Юзька наводила в доме порядок, устраивалась, жизнь казалась еще сносной, хотя, откровенно сказать, не на такое он рассчитывал. Даже сама их свадьба застряла у него в памяти как заноза.
Свидетелями в костеле были учитель и его жена; они стояли у них за спиной с такими физиономиями, что бабы на скамьях прыскали со смеху и перешептывались, уразумев в чем дело. А ему словно кто нож в спину, Юзькины же озорные глаза — в разные стороны, еще бы, ведь то была ее сумасбродная затея. Он возражал, но разве Юзьку переспоришь?
На самой свадьбе, впрочем, народу было мало. Свидетели, вопреки приличиям, ушли первыми, а когда, ближе к полночи, молодая упилась до потери сознания, зажиточные мужики из деревни, — хоть во многих еще бутылях посвечивал самогон, поспешили удалиться, подгоняемые своими женушками. Что было делать? Он запихал Юзьку в постель, не обращая внимания на ее воистину партизанскую ругань и заверения, что она должна плясать до упаду на собственной свадьбе.
Когда на следующий день он сунулся было к ней с упреками, Юзька только буркнула в ответ:
— Дурак ты. Садик, какая девка по-трезвому полезет с тобой в постель?
Потом она заявляла, будто все случившееся кажется ей диким сном. «Кой дьявол заставил меня выходить замуж? Боже! И за кого? За Садика!» И т. д. и т. п. Садик, именно так, а не иначе она до самого конца его называла. И ни разу по имени. На людях официально — муж.
Но это бы все еще полгоря. Юзька была оборотистая, сама возила в Варшаву яблоки, брала хорошую цену. Но стоит только вернуться, как начинается: продай все к чертовой матери, поедем, она уже комнатенку на Праге
[61] присмотрела, пока обойдутся. Сперва полегоньку, потом начала настаивать. Он не отвечал, но чувствовалось: до него это вообще не доходит. Юзька орала:
— Фиг с ним, с твоим садом! Не желаю из-за этих твоих яблок в глуши закапываться. Боже ты мой милостивый, на всю жизнь в этих проклятущих песках! Там строят, там жизнь, а здесь что? Ну что, Садик, а? Какая у меня тут житуха?
Он не отвечал, тогда она плакала навзрыд и внезапно, отерев слезы, говорила:
— Садик, сволочь, если не одумаешься, я тебя брошу!
Примерно через два года, ранней весной, принялась вдруг как сумасшедшая за работу. Стала высаживать клубнику — вот где ходкое дело, что там твои яблочки. Он не слишком верил в эту ее затею, но радовался, видя, что она привязывается к месту. Копала как бешеная, а потом, внезапно побледнев, бросала лопату, прислонялась к стволу, тяжело дышала. Он просил:
— Оставь. Видно, это не для тебя.
Не действовало. Она не отвечала, только смотрела на него с упреком, в котором была ярость, и вновь принималась за работу. На третий день всадила лопату в средину раскопанной грядки и пошла в дом, и была в ней такая полная решимости злоба, что прошло немало времени, прежде чем он двинулся за ней следом. И стоило ему появиться:
— Чего уставился, никогда не видал, что ли?! Боже ты мой милостивый, да разве ты когда о чем догадаешься?
— А о чем мне до…
— О чем, о чем? Придурком прикидываешься! Рохля!.. Раз в неделю всего соизволит, а смотри, пожалуйста, какой прыткий!
— Не понимаю, Юзенька, чего это ты так вдруг… вроде бы ничего… а теперь… ну я старше тебя, конечно…
— Ну и что с того, что старше? Как раз то, что надо. Ты возрастом не прикрывайся! Может, еще войной прикроешься, а? Всю войну, стервец, картошку скреб, а тут, смотри, пожалуйста, товарищ по оружию, уважения к себе требует!
— Юзька, да что…
— Что, что, что! Ребеночка мне сделал, вот что! И даже не догадался, старый баран!
— Так…
— Заткнись! Смотрите, какой довольный, рожа сияет, чтоб тебя разорвало! Но не дождешься… Отмучаюсь, ничего не попишешь. Но не воображай, что буду торчать в этих твоих проклятущих песках да рожать ребятишек. Что нет, то нет!
По мере того как рос живот, Юзька пенилась все больше и ругалась все похабней. Потом вдруг поутихла, стала ластиться, приговаривая:
— Уедем отсюда, Садик!
А он был уже так запуган, так она его доняла, что сжимался весь при мысли о новом приступе ее злобы и слова застревали у него в глотке. Не дождавшись ответа, Юзька взрывалась, как мина замедленного действия.
А когда настала пора, когда согнули ее первые боли, а глаза расширились от страха, она метнула в него такую серию ругательств, что он бросился за акушеркой в чем был — в рубахе и в брюках, хоть приближался уже декабрь.
Новые крики боли и какие-то произносимые более человеческим голосом скороговоркой в промежутках проклятия… Длилось это всю ночь. Самую жуткую в его жизни.
Через несколько месяцев Юзька потащилась в деревню; вернулась с выстланными чем-то для тепла санями, забрала ребенка и оставила его с разинутым от изумления ртом.
— Привет, Садик! Если хочешь, ищи меня в Варшаве. — Произнесла это она спокойно, как ни в чем не бывало, словно уезжала на три-четыре дня, прощаясь с приятелем, а не с мужем.
Он ее отыскал, пожил немного вместе, уговаривал вернуться. Она была обходительна, вся какая-то новая, — он заметил эту ее перемену, когда она наклонялась над ребенком, — но возвращаться не пожелала.
Он попробовал было остаться в Варшаве, проработал несколько месяцев на стройке, но не мог, не мог! Не так даже давили стены, как ужасала все та же мысль: что с садом? Однажды апрельским днем он сказал, что поедет и взглянет, все ли в порядке. И вернулся осенью после сбора последних зимних сортов. С гордостью положил перед ней толстую пачку денег. Юзька швырнула их в кроватку, где барахтался ребенок:
— На, Басенька. А это твой папаша, поиграй с ним.
Он оскорбился, поехал к себе. Когда Барбаре было около четырех, они уже развелись. Он послал для дочки денег, но через несколько дней они вернулись обратно. Он попробовал еще. И опять то же самое. Не желала. Уперлась, что сама поднимет ребенка, раз ему сад дороже родной дочки.
Стоит ли удивляться, что он так пристально всматривался в Басю, когда та приехала к нему впервые, уже взрослая, восемнадцатилетняя выпускница школы.
— Я похоронила маму, — сказала она.
— Что?! А мне не сообщила?
— Когда мама шла в больницу, она сказала, чтоб тебе в случае чего… не сообщать…
— Почему?
Бася долго изворачивалась, но в конце концов он дознался. Когда девочке было четырнадцать, мать решила выйти второй раз замуж. Но жизнь не очень клеилась, потому что она не хотела иметь ребенка. Однако в конце концов уступила. И вот серьезнейшие осложнения. Умерла на операционном столе. Нет, ребенка тоже не спасли.
— Всего сорок лет, — вздохнула Бася. — Не повезло ей в жизни.
— И мне тоже, — несмело вставил отец.
— Напрасно, па-па, — она с трудом произнесла это слово, будто оно было английское, — ты над собой расчувствовался. Живется тебе тут, по-моему, не так уж плохо. Какой прекрасный сад!
— Да все из-за этого сада.
Она удивилась. Он объяснил. Теперь он все понял, все прояснилось за годы изнурительного труда в саду, когда он столько думал в одиночестве о Юзьке, о ребенке, которого навещал раз в несколько месяцев, потом все реже и реже. Даже не мог понять, любит ли он дочку, настолько мысль о девочке сливалась в его голове с воспоминаниями той ужасной ночи и с уходом жены, и потому в конце концов он предпочел исчезнуть с их горизонта.
Но где-то далеко от него жизнь меж тем шла своим чередом и сейчас. Увидав взрослую дочь, он вполне осознал это. И впервые посмотрел на сад оценивающим, трезвым взглядом.
Басе тоже не повезло. Правда, с помощью отца она кончила институт — славные то были годы, когда она приезжала на каникулы, — и вскоре вышла замуж. Через два года — развод. Он не любил зятя. Тот, словно фальшивое эхо Юзьки, все уговаривал его продать сад, купить участок где-нибудь на Окенте
[62], построить там виллу, тогда, мол, и там у отца будут плодовые деревья, без которых ему жизнь не в жизнь. И потому, он хоть и принял известие о разводе с грустью, но не впал в отчаяние, а задумался: не из-за сада ли это? Продай он его и купи виллу, может, Басин муж не ушел бы тогда от нее. Поделился этим с дочкой.
— Если только на это зарился, туда ему и дорога, — констатировала Бася кратко.
А теперь вот телеграмма. Опять она рискует. Есть ли в этом смысл? И тут он улыбнулся своим мыслям… «Тоже мне философ. Да ведь тебе, старый хрыч, важно совсем другое: будет или нет приезжать сюда Аня», — сказал он сам себе.
На темени холма, с которого Юзька впервые увидела сад, застрекотал по асфальтированной теперь дороге мопед. Знакомый человек в форме почтальона. Свернул к саду.
— Вам телеграмма. Распишитесь. Вот здесь!
Почтальон, молодой парень, с нетерпением и в то же время снисходительно наблюдал за стариком, который дрожащей рукой с трудом выводит на бумаге крупные каракули подписи, очки-то остались в доме.
СВАДЬБА В СУББОТУ, ПРИГЛАШАЕМ. БАРБАРА И РИШАРД, — выходит, не приедут.
С горечью глянул он на дерево, с которого осыпалась «папиловка». Ну, разумеется, когда он к ним поедет, он прихватит этих яблок, но Аня, увы, не сорвет их сама, «вледительница». Впрочем, яблоки уже перезрели, как ни вези, побьются, помнутся. Гнилушки, не яблоки!
Что у нас сегодня? Вторник. Выходит, еще несколько дней.
Все валилось у него из рук. Думал только об отъезде. С утра ходил на рыбалку, днем сидел в садовом кресле, в густой тени грецкого ореха, вечерами дремал у телевизора; иногда стряпал себе какую-нибудь ерунду, так, на скорую руку, чтоб не умереть с голоду.
В четверг, когда он возвращался с озера, — брел он медленно, потому что время приближалось к десяти и в жару ноги плохо двигались в гору, — он заметил какую-то необычную суматоху на пустоши рядом с садом. Остановился, всмотрелся, прикрыв от солнца ладонью лицо.
Геодезисты обмеряли не спеша пустырь — от его сада до рощицы, — а среди них крутился, явно без определенного дела, какой-то странный субъект: бородатый, в яркой рубашке. «Что за идиот покупает этот пустырь у Матысека? — подумал он невольно и удивился собственной мысли. — Нет, не может быть. Такой идиот был только один на свете: это я сам. Не выстроили б только тут какой-нибудь паскудной фабрики, — забеспокоился он вдруг. — Надо бы разузнать».
Он поел жареных окушков и уселся в кресле, наблюдая за деятельностью на пустыре. Бородач, видимо, его заметил, замахал рукой, поднял что-то с земли и направился к нему.
— Соседями будем. Водички не дадите?
— Вон кран.
— Кран?
— У меня насос.
— Хо-хо, вот устроился!
— Вы сказали: соседями будем.
— Да, я купил этот участок.
— Зачем?
— То есть как «зачем»? Вы смогли, а я не смогу?!
— Я совсем другое дело: я сад заложил.
— Вот и у меня точно такое же намерение.
— Вы что, рехнулись?
— Рехнулся?! Зачем вы сами себя обижаете?
— Себя обижаю?
— Вот именно. Сотворили такое чудо — желал бы я сделать хоть половину, — а другого человека, когда он хочет того же, считаете ненормальным.
Старик поднялся: он весь дрожал от возбуждения. А бородатый пил меж тем прямо через трубку, только кадык ходил ходуном.
— Отличная вода!
— Что вы мне там про воду! Не представляю, откуда вы про меня знаете. Да и неважно. Но знаете неточно. Все наизнанку. Чудо, вы говорите? Идите сюда, я вам покажу, чего я добился за сорок лет. Ну идите, идите!
Из будки, первой своей резиденции, а теперь склада с инструментами, он вынул лопату.
— Смотрите, вот чего я добился, — повторил он, раскапывая ямку между деревьями, — видите, как близко песок. Настоящей почвы и то, скажем прямо, жидковатой, на тридцать, от силы на тридцать пять сантиметров. Вот и посчитайте: сантиметр такой землицы в год — и все! Добавьте, правда, еще почву под деревьями, там глубже. Был ли в этом смысл, приятель? Вся жизнь ради такого клочка земли?!
— Не все можно сосчитать, измерить. Есть в этом более глубокий…
— Болтовня, чистейшая болтовня. Так может думать только тот, кто тут не сидел, не перепахал участка своими ногтями, не потерял ради этого… всего на свете. Действуйте так же, и вы превратитесь в подпорку для деревьев. Не они вас, а вы их будете подпирать. Сделаетесь в конце концов деревяшкой. Будете, как колышек, такой же одинокий. Ну, будет у вас сад, да, сад. Будут вами восхищаться, хвалить, может, еще приедет какой журналист и все это красиво опишет, красивей, чем в жизни, может, вы и сами еще в это на время поверите. Оставьте это, приятель! Жизни не жалко, что ли?
Он стал задыхаться, умолк. Бородач внимательно за ним наблюдал, но был все время спокоен. Старика это только подхлестнуло:
— Погляди на меня: во что я превратился? Старая развалина. А был я в твоем возрасте, когда сюда приехал.
— И в другом месте вы бы тоже состарились. Тут уж ничем не поможешь.
«Остряк-самоучка», — подумал с яростью старик и вновь перешел в нападение:
— У тебя что, профессии нету? Не можешь жить по-человечески, в городе? В Варшаве, например? Красивый город, я ездил туда несколько раз к внучке.
— А я как раз оттуда.
— Тогда уж совсем ничего не понимаю. Другой все на свете отдаст, только б жить в Варшаве, а он сюда, в эти пески. Не обижайтесь, но скажу: никогда не думал, что найдется другой такой псих, как я. Из столицы в эти пески! Да вы от скуки тут с ума сойдете. Взбрендило! Во всяком случае, от души желаю, чтоб это у вас прошло как можно скорее. Не пожалеете.
— Да разве угадаешь, буду или не буду жалеть? Выясним после. Может, каждую жизнь стоит пожалеть, может, каждая могла бы стать лучше, счастливее? Но у меня нет пока причин заламывать руки. Я художник. Про меня говорили: подает надежды, может, я еще и сейчас подаю.
— Что же, выходит, чтоб нарисовать три-четыре деревца, вы закладываете сад?
— Нет, не в том дело, — рассмеялся бородач, — впрочем, трудно сказать, может тот, кто сам посадил, лучше и нарисует? Вы ведь не знаете, да откуда вам и знать, — продолжал он, — что такое сегодня художник, во всяком случае, честный художник. Не в деньгах даже дело; если есть связи, знакомства, неплохо можно заработать. Я, например, за несколько лет заработал халтурами столько, что купил это поле, да еще кое-что на обзаведение хозяйством осталось. Суть в другом. Я просто перестал верить в то, что делал.
Выставка? Да, пожалуйста, выставка. Даже похвалили, больше, что-то купили. Еще одна выставка, и опять то же самое. И так можно до самой смерти. Только зачем? Если ты, друг, честный художник, ты побываешь на этой своей выставке как зритель, так, через несколько денечков после открытия, когда смолкли восторги коллег и всяких там баб-психопаток, и увидишь — пустота, в лучшем случае скучающие морды или парочки, которые оказали тебе честь посещением, потому что дождик, они не вникают в смысл твоих исканий, а ищут местечка, где б можно нацеловаться. Вот и спрашиваешь себя: зачем ты, собственно, этим занимаешься, не потому ли, случаем, что только одно это умеешь, что это твоя — смилуйся, боже! — профессия?
Старик рассмеялся.
— А здесь что? Другое, да? Посадишь саженцы, зацветут, начнут плодоносить. Продашь — проешь, купишь какую-нибудь тряпку, может, что отложишь. На следующий год опять продашь — купишь, проешь и так по кругу. Выращиваешь, чтоб одеться, наесться, иметь крышу над головой. Ведь это то же самое. Любит меня кто-то за эти яблоки, что ли? Какое там! Покупают, норовят урвать у деда побольше яблок, а дать поменьше.
— Знаю. Но ваша работа имеет другой смысл, она конкретная. Это меня и привлекает. В конце концов можно подсчитать: сколько собрал яблок, сколько людей этими яблоками накормил. Даже эту почву, вновь созданную почву, можно измерить.
— Сантиметр в год. Какие тут измерения?!
— А это немало. После вас что-то останется, наверняка останется: участок урожайной земли, прекрасный сад. А после меня — художника — что останется? Может, что-то и останется, а может, совсем ничего? Риск слишком велик. Кому хочется умирать банкротом?
— А, вот и приехали. Вы боитесь. Боитесь риска. Но вам его так и так не избежать. То, что вы тут затеяли, тоже большой риск. Может, и больше. Лучше гуляйте по Варшаве да думайте: я художник, но меня не понимают, а у меня полный порядок.
— Ну для такого дела я слишком честный.
— Таких еще не видывал. Попадаются?
— Разговор у нас непростой. Мне пора. Вон, ждут воды́.
Старик посмотрел ему вслед. «Устал от цивилизации, как это говорят по телевизору. Эхе-хе… Пройдет. Второго такого психа, как я, во всем мире не встретишь. А ведь надо же, разболтался-то как!»
Когда в пятницу он шел в магазинчик, бородач сбрасывал с фуры жерди для первой, примитивной еще, ограды. Он приветствовал его издалека, крикнув:
— А я все-таки остаюсь! Будут два колышка на этих песках!
Старик проорал в ответ:
— Сумасшедший вы, вот и все!
— Не страшно…
Больше он ничего не услышал: налетел ветер и зашумели ветки. По озеру темными полосами прошла рябь. Он снял шляпу, дождался прохладного дуновения. Глянул на художника: тот стоял, выпрямившись во весь рост, голый по пояс, и тоже чего-то ждал.
— Как я раньше… Идиот, псих, сумасшедший, — проворчал старик и нахлобучил на седую голову шляпу.
Перевод С. Свяцкого.
Ангина
1
Солнце побагровело, разбухло и двинулось огромным шаром над пляжем, всасывая в себя песок, из-под пальцев летели вверх его раскаленные зерна, между корчащимися в огне одеялами возникали огненные столбы кварца.
Она вскочила и, заслоняя глаза, бросилась сквозь сухой секущий дождь. Лихорадка влекла ее вверх. Она спешила, вне себя от страха, готовая к тому, что солнце оторвет ее от земли, засосет вместе с песком.
Она мчалась к морю. Стремительнее. Все стремительнее. Еще один прыжок. Во что бы то ни стало надо его совершить, оттолкнуться посильнее от грунта. Или она успеет в воду, или ее засосет солнце.
Вот она оттолкнулась от обжигающего песка и плюхнулась едва ли не в самую средину моря: влажная прохлада охватила все тело. Она открыла глаза. Она плыла в зеленоватой воде над самым дном. Ничто не мешало ей дышать, как рыбе, наоборот — она с наслаждением пила и пила воду.
«Вот я уже и рыба, — подумала она с радостью. — Нет, нет, еще мешает косичка. Сколько раз просила я маму, чтоб она разрешила мне обрезать волосы…»
Длинные стебли трав выстилали дно. Как лужайка под ветром…
«Лягу, отдохну и поплыву дальше, туда, где растут кораллы».
2
— Опять раскрылась. Может, ты, вместо того чтоб смотреть эту белиберду, займешься все-таки ребенком? Ведь мне не разорваться, надо еще достряпать обед, — проговорила она с раздражением, пытаясь с порога перекричать комментатора.
— Сейчас, сейчас, минуточку. Такой интересный матч…
— Что может быть вообще интересного в этой свалке, где все пинаются?
— Может, может. Прекрати кричать, я ничего не слышу.
— Не слышишь и не будешь слышать! — продолжала кипятиться супруга.
— Сестра с уколом еще не приходила? — попытался сменить он тему.
— Смотрите, пожалуйста, какой заботливый папочка! Ребенок там один, а он прилип к телевизору. Потому что матч интересный. Великий спортсмен нашелся. Живот себе перед телевизором отращиваешь, как дурак!
— Погоди, погоди! Сейчас кончится. Дай спокойно досмотреть!
Хлопнула дверь, жена вышла. Комментатор стрекотал все быстрее, пел все тоньше: «Мы выиграли, дорогие друзья, все-таки мы выиграли! Кто б мог подумать! Конец, игроки меняются футболками». Он выключил телевизор и на цыпочках, не заглядывая ради спокойствия на кухню, прошел прямо в комнату Каси.
Девочка спала, дыхание было неестественно глубокое, частое. Он осторожно коснулся горячего лба.
3
— Почему ты не даешь мне спать, дельфин? — спросила девочка, и пузырьки воздуха, весело звеня, вырвались изо рта и сверкающей полоской устремились вверх.
— Так ведь ты хотела доплыть до кораллов, — ответил дельфин, улыбаясь своей забавной мордочкой.
— Верно, я и забыла. А это далеко?
— Далеко.
— Не знаю, доплыву ли. Я больная.
— Здесь, в море, ты здоровая! Ты самая здоровая. Как рыба!
И они так расхохотались, что воздух устремился от них фонтаном к поверхности моря.
— Смотри, — сказала девочка, — здесь все наоборот. На земле фонтан — это вода в воздухе, а здесь — это воздух в воде.
— А ведь тоже красиво?
— Еще красивее. Поплыли.
— Когда устанешь, скажи, я позову черепаху. И осторожнее со скалами. Не напорись.
Они бодро плыли вперед. Дельфин то кувыркался, то пел тонюсеньким голоском, словно в горле у него была скрипка.
— А ты хорошо поешь, — сказала Кася. — И ты такой веселый. У тебя не бывает неприятностей?
— Даже если бывают, я не огорчаюсь.
— Какой ты славный! Хороший! Не уплывай от меня! Никогда не уплывай! Ладно?
— Не уплыву, только ты расплети косы. Зачем тебе эти рыбы-угри на голове?
— Нельзя. Я буду тогда как чучело.
— Кто так тебя называет?
— Мама. Извини меня, пожалуйста, но мне нельзя.
— В море все наоборот. Тут все можно.
— А ты никому не скажешь?
— Не скажу. Посмотри, посмотри, как красиво волосы плывут с тобой рядом.
— Словно развеваются на ветру.
— Словно полощутся в воде, — рассмеялся дельфин.
4
— Кася, Кася, — проснись, — говорит мама и трясет ее за плечо.
И море вдруг исчезает. Пляж, пылающий пляж! Ей хочется убежать с пляжа, вскочить с горячего песка.
Она рывком садится на постели. Над ней встревоженное лицо мамы: в руках посудное полотенце, захваченное в суматохе из кухни. Отец. Круглая лысая головка над большим животом. Если смотреть снизу, он похож на снеговика, в которого забыли вставить средину, — массивное основание и сразу крохотная головка. Какой папа смешной! «Ой-ой-ой!» — вскрикнула Кася в страхе. Между головами родителей появляется сверкающая игла, насаженная на шприц, и рука, которая держит этот шприц… Девочка сжалась под одеялом.
— Кася, надо сделать укол. — Это опять мама.
— Кася — большая умная девочка, она не боится. Это как комарик ужалит…
— Нет, как оса, — отзывается Кася, и ей так не хочется быть большой: хочется быть крошечной, такой, чтоб ее было не уколоть.
— Кася, ляг, пожалуйста, на животик, секундочка — и все в порядке. — Мама заговорила в тон сестре.
Кася больше не спорит.
— Не напрягайся, больно будет, — говорят ей, и она старается как может расслабиться, но едва игла прикоснулась к телу, все нервы, кажется, сосредоточились в одной точке.
Сестра с усилием вливает в эту точку содержимое шприца, и кусочек тела цепенеет, делается чужим, горит огнем.
Из глаз катятся на подушку слезы. А сверху доносится щебетание:
— Ну видишь, вот и все.
— Ты храбрая девочка, очень храбрая.
Кася не поворачивается, не отзывается, хотя ее накрывают одеялом, гладят — из-за слез она прячет глаза в подушке, а голос застревает в горле.
Отец провожает сестру до двери.
— Боже, как ты выглядишь! — удивляется вдруг мать. — Настоящее чучело! Зачем расплела косы? Сейчас приведу тебя в порядок.
— Не хочу, чтоб у меня были рыбы-угри, — отстраняется дочка и шипит от боли.
— Какие угри? Что ты болтаешь? Ах ты, моя температурка, ангинка ты моя милая, — рассиропилась меж тем мама. Но это не мешает ей, несмотря на сопротивление, приняться за прическу.
— Кастрюля, кажется, перекипела, — долетает из другой комнаты спокойный голос отца.
— О господи, мои клецки! — Мать срывается с места и мчится на кухню.
Девочка всовывает пальцы в волосы и торопливо распускает начало косички. Берет со стола зеркальце. Смотрит. Длинные, цвета верескового меда волосы, чуть волнистые от постоянного заплетания их в косички. Потом она ложится на подушку, а волосы распускает вокруг головы.
— Плывите вместе со мной, — шепчет она как можно тише.
— Ну, я тебе скажу, ты ненормальный! — доносится сердитый голос из кухни. — Слышит, что кипит, а сам ни с места. Мне приходится бежать от ребенка. Ноги у меня подкосятся, руки онемеют, и никому никакого до этого дела. Нет на мужчин никакой управы…
— Опять ты за свое?
— Опять, опять… Тебе говорить, все равно как об стенку горох.
— Ну так не говори.
— Вот именно. Тебе надо, чтоб я слова в своем доме не сказала. В самом деле, я только для домашней работы. Для беседы у тебя другие женщины, утонченные, рафинированные. Но они не стряпухи, как я! Каждая женщина, старый ты дурак, умеет себя показать за один час в кафе. А вот если б ее, как меня, сюда к кастрюлькам… Нет, они не такие дуры, они ищут таких, как ты, подержанных фраеров, чтоб их там угощали.
— Да замолчи наконец! Какая муха тебя укусила?
— Ничего меня не укусило. Ладно, больше я с тобой не разговариваю, пока сам не попросишь.
— Как бы не так, — вполголоса отозвался из комнаты отец, но гремевшая кастрюлями мать этого не услышала.
Тишина, тишина. Наконец тишина. Девочка вздыхает с облегчением, закрывает глаза. Уснуть, уснуть! Вернуться туда.
Пронзительный голос:
— Может вы, ваше сиятельство, пошевелитесь и отнесете хоть что-нибудь из кухни к столу?
— Ага, заговорила…
И пошло снова. Громкие голоса в кухне, хлопанье шлепанцев по коридору, громыханье кастрюль и тарелок…
«Неужели им не остановиться? Разве тут заснешь? Поплыву дальше. Как найти его в огромном море?!»
— Кася, съешь, пожалуйста, ложечку супа. — Мама поставила у кровати тарелку с чем-то протертым, безвкусным.
— Опять суп, — поморщилась девочка.
— Пожалуйста, не капризничай, сама знаешь, нормально глотать ты не можешь. И не нервируй меня. Чего стоит мне твой папаша!
Девочка лениво шевелит ложкой в тарелке. Делает глоточки, с трудом преодолевая сопротивление гортани.
В соседней комнате весело звякают столовые приборы.
— Даже съедобные! — За едой отец всегда готов поострить.
Тишина, только отголоски обеда. «Может, хоть раз в жизни не будут ссориться? Засну!»
— Странное дело, когда я возвращалась из универсама, мне показалось, что я
видела Войтовича в большом «фиате», в красном. А ведь у них сиренка.
— Была, да продали.
— Давно?
— Месяца два назад.
— И ты мне ничего не сказал?
— О чем тут говорить? Что кто-то дважды показал себя идиотом. Во-первых, купил сиренку, во-вторых — «Фиат-125». Ты знаешь, сколько он жрет бензина?
— Для тебя все идиоты, потому что ты один такой умный — лезешь в переполненный трамвай.
— Мое дело. А дурацких покупок делать не буду.
— Даже если будет на что…
— По-твоему, я должен надрываться на трех работах, как твой Войтович, лишь бы тебе вставить свою задницу в автомобиль? Не дождешься, дураков нет! Знал я таких, теперь цветочки нюхают снизу.
— А кто велит тебе надрываться? Зачем оригинальничать? Просто ты завидуешь, вот и все.
— Я? Завидую? Я?! — Забренчала отброшенная с силой вилка.
— Поосторожнее!
— Я завидую, я? Чему мне завидовать, ну чему? Этому ящику на колесах?
— Но на маленький «фиатик» ты копишь!
Кася зажала руками уши.
«Нет, никогда они не перестанут. Всегда что-нибудь найдется. Но я уже ничего не слышу. Меня здесь нет. Не хочу быть здесь. Подожди, дельфин, подожди, я сейчас приплыву».
5
— Где ты пропадала так долго, маленькая подруга?
— А, вот и ты… Как хорошо! Меня отозвали, утащили силой. Я не хотела.
— Ладно, не будем об этом.
— Мне и самой не хочется вспоминать, мне хочется слушать, как ты поешь.
— Пою… Не смущай меня.
— Прости, я не хотела… не думала…
— Ты заметила, что у нас все начинается с «не». Грустное начало. Погоди, погоди… Что у тебя с ногой? Наверно, сама не заметила, как расшиблась о скалу. Стой, я крикну черепаху.
Дельфин стал на хвост, и послышался протяжный зов:
— Черепаха, черепаха самая большая, сюда!
И вдруг, сверкая желтыми боками, появилась черепаха, большая, как бабушкина лохань.
— Садись, ух как прокатит! — весело уговаривал дельфин.
И они поплыли так быстро, что замелькали тени островов и кораблей. И было так тихо, так тихо, что девочка открыла рот — наглотаться впрок тишины.
— А теперь стой. Отдохни, друг черепаха, — проговорил дельфин. — Мы посетим музей. Вот, дорогая девочка, живые ископаемые, называются они мечехвосты.
— Знаю, знаю, это такие мисочки с ногами. Я видела в Гдыне, в аквариуме. О, погляди, один перевернулся на спину и мучается, перебирает лапками. Можно дотронуться до экспоната? Можно ему помочь?
— Можно, можно, ведь мы в море. Здесь, как известно, все наоборот.
— Знаешь, дельфин, я скажу тебе два слова на ухо, так, чтоб самая маленькая рыбка не услыхала: я ужасно не люблю музеев, в особенности где древности. Все такое скучное, а еще пиши про них интересные сочинения.
И они засмеялись тихо-тихо, так, чтоб даже самая маленькая рыбка…
— Давай поплывем на выставку цветов, — предложил дельфин.
— Да, да, к актиниям…
— Пожалуйста, в Актиниевку, уважаемое такси. Да ты не обижайся, дорогая черепаха: я пошутил.
Но черепаха, видимо, все-таки рассердилась, потому что помчала девочку круто вверх, да так, что та ударилась лицом о волну, а солнце жадно впилось ей в щеку.
6
— Ну, разумеется, суп остыл, а она опять дрыхнет, — с раздражением проговорила мать.
— Значит, не хочет есть, раз уснула, — попытался разрядить обстановку отец. — Кому охота есть при температуре?
— Тоже мне философ. Посидел бы лучше с ребенком да проследил, чем разводить ссоры.
— Так это я, по-твоему, развожу, я?..
— Опять начали… — прошептал ребенок.
— Что значит «начали»? — удивились родители, покрутили головами.
— Смеряй температуру. — Мать сует Касе под мышку холодный градусник.
А Кася очень не любит это прикосновение скользкого стекла к теплой коже.
— Папа, когда я буду здоровая, поедем в Гдыню смотреть аквариум?
— Мы ж там недавно были. Но раз хочешь, поедем.
— У тебя одни глупости в голове, только и норовишь вырваться из дому, — произносит женщина, обращаясь к мужу.
— Мама!
— Поезжайте, любуйтесь, чешите языками. Мне-то что… Посуду пора мыть. — И она вышла из комнаты.
— Если б там был дельфин… Настоящий живой дельфин, — мечтательно протянула Кася.
— С дельфинами сложно. Им нужен большой бассейн: такое маленькое море.
— Разве нельзя это море построить?
— В принципе можно, только очень дорого стоит. И потом быстро не построишь.
— Жаль! Я так люблю дельфинов!
— Любишь дельфинов?! Да ты что? Ты и в глаза живого дельфина не видела! Только по телевизору или в кино!
— Не только.
— А где?
— Не скажу.
— Ой, дочка, дочка, что ты болтаешь?! Дай-ка градусник. Тридцать восемь и семь. Немного упала! — крикнул он в сторону кухни.
— Ну и слава богу, — послышался сквозь шум воды голос матери. — Что ты там застрял, иди помоги вытереть посуду.
— Да у нас тут интересный разговор.
— Потом закончите. Хочешь отвертеться, а получается глупость.
— Пока, дельфинья подруга, пока! — Отец тяжело вздохнул и потащился словно на казнь.
7
— Что это так урчит?
— Это кит.
— Поплыли к киту, поплыли. Можно и без черепахи, раз обиделась, нога у меня почти зажила.
— Познакомься, это моя подруга.
— Очень приятно, — прогудел басом кит.
— Ого, какой огромный! Целая гора.
— Все меня так называют, даже скучно, — добродушно проурчал гигант.
— А не тесно тебе в море?
Кит и дельфин катались от смеха по волнам.
— Не смейтесь надо мной! Не смейтесь! — Девочка хотела топнуть ногой, но лишь вода забурлила вокруг.
— Верно, нечего смеяться, — отозвался дельфин. — Моя подруга прибыла сюда с суши, потому и заговорила про тесноту.
— Вот оно как, — заурчал кит, — в таком случае прошу прощения.
— Я тоже прошу прощения, — присоединился к нему дельфин. — Но скорее, скорее, до кораллов еще плыть да плыть.
И они двинулись в путь, через Медузово, где покачивались над ними большие прозрачные зонтики с фестонами по краям. Через Сардиново, где так блестели чешуйки, что рябило в глазах.
— Знаешь, дельфин, когда мы подплывали к Сардинову, я думала, что облако света упало в море, — сказала девочка, раздвигая рыбешку руками, словно колосья на пшеничном поле.
— Вон та тень под нами — это морская гора, на ней живут кораллы… — успел еще сказать дельфин.
8
В комнате темно, но сквозь стекла бьет с улицы синий свет ртутных ламп, и Кася видит, как вместе с родителями входит и медсестра. Рука отца притронулась к выключателю. Девочка зажмуривается изо всей силы, спасаясь от яркого света. А может, лучше притвориться, что спишь, может, они уйдут? Нет, ничего не получится. Звякнула коробочка медсестры. «Противный холодный денатурат», — думает девочка с отвращением.
— Ну-ну, дочка, не притворяйся. Вижу, что не спишь — жмуришь глаза. — Это голос мамы.
— Я ни капельки не притворяюсь. Я сплю.
Они смеются. Ничего не поделаешь, придется терпеть. Среди все того же щебетания о «храброй девочке» боль пронзает другую ягодицу.
Привычная суматоха в прихожей при выходе медсестры. А потом голос отца:
— Боже мой! Да ведь сейчас «Кобра»
[63], надо включить телик.
— Я тоже хочу смотреть, — отзывается Кася.
— Еще чего! «Кобру» ей, видите ли, подавай! И это при температуре! Вот твоя школа, распустил ребенка!
— Послушай, Галинка, — вкрадчиво вставляет отец, — давай посмотрим спокойно.
«А ну вас с вашей „Коброй“ и с вашими ссорами в придачу. Вернусь в море, к дельфину, там тихо, просторно, там даже кит помещается. — Но ей долго-долго не заснуть. — Ну и что мне теперь делать? Я так здорово выспалась, что спать больше не хочется, а ведь кораллы совсем-совсем близко».
Наконец девочка засыпает. Но море уже не вернулось. Она в школе, и тощий Фредек дергает ее за косы. «Проклятые косы, единственные во всей школе! Я хочу проснуться, очень хочу. Наконец-то!»
В комнате сероватый сумрак, свет ртутных ламп бьет сквозь занавески. В телевизоре ожесточенная перебранка, слышится выстрел, кто-то пронзительно вскрикивает, кто-то ломится в дверь. И конец. «Вы смотрели…» Щелкает выключатель.
— Не спишь? — удивляется мама.
— Не могу.
— Может, оно и лучше, смеряем температуру.
Опять холодное прикосновение стекла. Родители комментируют «Кобру».
— Тридцать семь и пять, — с триумфом говорит мама. — Еще два укола и ангины как не бывало.
— Я не хочу уколов. Хочу, чтоб у меня была ангина.
— Чтоб не ходить в школу?
— Нет, не поэтому.
— А почему?.. Молчишь? Опять какие-то фантазии? Может, опять расскажешь о рыбах-угрях на голове? Кончается твоя болезнь, но кончается и мое терпение. Садись, причешу.
Почти с ненавистью она следит за такими быстрыми, такими проворными пальцами мамы, которые заплетают ей волосы — теперь они уже не поплывут с ней рядом.
— О каких это угрях разговор? — заинтересовался отец.
— Да так… Бредила в жару. Назвала свои косички угрями.
— Тебе снилось море, доча? — допытывался отец.
— Снилось?.. Я в самом деле была в море. Все там видела. Разговаривала с дельфином, каталась на черепахе, была в гостях у кита, — говорит Кася быстро-быстро и плачет.
— Да, да, — ласково перебивает ее мать и укладывает на подушку, — хорошо: разговаривала, каталась, была в гостях. Но ведь ты сама понимаешь, это только от температуры, а температура у тебя, к счастью, падает.
— Совсем не от температуры и совсем не к счастью. Кораллы были так близко, а я не успела. Но если опять будет ангина, я еще доплыву.
— Слушай, — обращается мать к отцу, — надо с этим что-то делать. Хватит с нас ангин, хватит с нас температуры. Может, все-таки решиться и удалить миндалины?
— А если у человека нет миндалин, то у него не бывает ангины? — спрашивает девочка с беспокойством.
— Да, не бывает, — информирует ее отец, — тогда уж сразу воспаление легких. — Ну объясни, пожалуйста, — обращается он к матери, — зачем стращать ребенка этими миндалинами? Современная медицина…
— У современной медицины столько же ума, сколько у тебя, — парирует мать и, разозлившись, выходит из комнаты.
— Папа, мне не вырежут миндалины?
— Не вырежут, будь спокойна.
— И у меня будет еще ангина?
— Будем надеяться, что нет. Да ты спи. Нам тоже пора. Завтра на работу. Спокойной ночи.
Он уходит.
«Будем надеяться, что будет», — думает девочка, закрывает глаза и воображает, что потолок — это поверхность моря, что вот-вот из угла выглянет с улыбкой дельфин, скажет: «Здравствуй, подруга. Я ждал тебя». И они поплывут вместе к кораллам.
— Только бы не приснился Фредек, — сама себе говорит девочка и поскорей расплетает косы.
Перевод С. Свяцкого.
«Состариться достойно…»
Состариться достойно
как зверь
как птица
после которых
лазурь небес
и зелень трав
не поблекнут
И так прийти
как луч
мгновеньем света
И отойти
как утихает ветер
Перевод Н. Карповой.
Надежда
Есть лишь одна дорога —
всегда под гору
Есть только одна правда —
твой взгляд на жизнь
Есть только одна жизнь —
исполнение
Есть только одна надежда —
ты сам
И столько разочарований —
что вырос бы лес из них
И столько блужданий —
что можно увязнуть в болоте
И столько грусти —
что впору камнем стать
Но есть надежда —
ты сам —
твои усталые шаги
твой взгляд на жизнь
Перевод Н. Карповой.
«Так довольны они…»
Так довольны они
что их не настигнет
ни отчаянье ни счастье
и так защищены
что их не тронут
ни дождь ни ветер
ни мороз ни зной
ни наводненье
ни пожар
и так обожжены
их души
до блеска до глазури
что любовь
соскальзывает с них
как шарик ртути
Защищены довольны выжжены
утомлены
пристыженно плетутся
они за собственным столь драгоценным телом
носящим их фамилию и имя
Перевод Н. Карповой.
«А ты не удивляйся сын…»
А ты не удивляйся сын
что за тобой хожу
как по полю
по колкому жнивью.
А ты меня сыночек не ищи
я легкой тенью стала
на полоске
ничьей земли
Была твоим вместилищем
твоей едой и рукой
была тебе я глазом ухом кожей
из тебя и острою косой меня
не выкосят
Я стала яблоней
и яблоком качусь я по траве
Перевод Н. Карповой.
«Так только матери уплывших рыбаков…»
Так только матери уплывших рыбаков
на низких берегах
в песке увязнув
на цыпочки поднявшись
глядят за горизонт
высоко тянут шеи
Их защищает слой коры терпенья
они на ощупь знают ветер
и горький и соленый от штормов
они идут навстречу ветру
колючему как эти травы в дюнах
способные читать прибрежный ветер
Такой у женщин напряженный взгляд
что цепенеют тростники
твердеют волны
застывают птицы
И твердости в них столько
что моря уходят
они же остаются
на низких берегах
в песке увязнув
глядят за горизонт
высоко тянут шеи
Перевод Н. Карповой.
«Мы шли к себе…»
Мы шли к себе
под солнцем
и под тучей
бессмертные
И сомневаться в этом
я не смел
Шли под дождем
во тьме
в сверканье дня
сквозь зной
по праху вечному
по зелени зеленой
И заблудилась ты в высоких травах
В высоких заплуталась
Но верил я что где-то есть рука
заботливо она постелет травы
и мягкой сделает обратную дорогу
И вот сижу я на больничном стуле
и теплую ладонь твою целую
Я лишь на этот жест сейчас способен
на это лишь
Перевод Н. Карповой.
«Лес сущий в грибных дождях…»
Лес
сущий
в грибных дождях
в благовонном зное
в снегах
в ветрах
пока не отойду
все возвратив
твоим корням
Перевод Н. Карповой.
«Лес сущий во мне…»
как тебя выклинить
из асфальта
как тебя высоснить
под этим низким небом
стучу по твоей коре
лес —
отворись мне дерево
дерево отворись
да будешь лес
с дождем на листьях
с тревогой на шерсти звериной
и радостью нас окрыляй
Перевод Н. Карповой.

Мечислав Чиховский
Археология
Уйдет за вами то, что остается здесь:
с морского дна кусок колонны древней.
Иное время — и дела иные.
Береза шла, застыла за деревней.
Так смените и вы — и взгляд, и плоть, и кровь.
Черты лица возьмут те, что придут потом,
чтоб все лишь здесь происходило вновь —
здесь, где колонна, пыль, береза над плетнем.
Перевод И. Русецкого.
На оконном стекле
Лежат на разбитом окошке
росинки, словно холмы,
зари розоватой полоски,
и сосны торчат из них.
Ступай туда, если хочешь,
на все на четыре стороны.
Там сходят с ума кукушки,
и причитают во́роны.
Там лис, продираясь дебрями,
звезды на поле таскает,
там месяц в штанах серебряных
в речке ногами болтает.
Столько чудес, мне знакомых, —
возьми, если хочешь, немножко.
Рукой я сотру остальное,
ведь все это лишь на окошке.
Перевод И. Русецкого.
«Как комната пустая, память…»
Как комната пустая, память:
ты удаляешься, и тает
шагов твоих невнятный отзвук,
и нет тебя — недвижен воздух.
Цветок целуешь ты — он светится,
как Млечный Путь, сквозь мглу ночную.
Смотреть так могут только дети:
на мир, на свет — в судьбу людскую.
Перевод И. Русецкого.
Вариации на тему Есенина
Заново лес напиши — почернел он, —
по небу тростью пиши, по воде.
Золота, чуть серебра — и смело
лисьей тропой уйди вслед звезде.
Знаешь, бывают собачьи печали:
в стенку уткнуться, скулить безотрадно,
В поле стоит одинокая груша,
все позабыла — молитвы и травы.
Нету корзин из ивы — протерты,
дом в саду новый, кирпичные стены.
Знаешь, к живым возвращаться, как к мертвым, —
так на нас смотрят они смятенно.
Перевод И. Русецкого.
Отчизна
Боль утоляешь
единым касаньем
и заживляешь раны,
и оживляешь шрамы.
Мягкая, словно пух,
жесткая, словно меч.
Распевная, многоголосая.
Живая в слове и камне.
Высокая, словно колонна.
Белая,
словно солдатский бинт.
Побежденная и трагическая,
непокоренная,
словно знамя из крови и ран —
всех твоих битв.
Бесценная,
как честь и свобода,
свободная,
как человек, не таящий злобы.
Отпускающая наши грехи,
сокровенная и откровенная,
хлеб наш насущный дай нам
и ниспошли надежду, свободу
и мир на земле.
Перевод Л. Цывьяна.

Леслав Фурмага
Перевернутый сейнер
Женился поздно. Жена была вдвое моложе его. Вроде красивая, как все молоденькие жены пожилых. А у него уже чуб порядком седой, но — первая любовь, так он чуть ли не все чулки нейлоновые и мохеровые шарфики с датских островов собрал для своей прекрасной Иоланточки, даже завел моду домой поторапливаться из рейса, чего никогда прежде за ним не знали.
Недолго так было, ушла она от него как-то вдруг и без скандала, и только через некоторое время выяснилось, что он живет сам по себе, а она — с Коленем, тоже шкипером, только молодым и с другого сейнера. Дружки острили, что он ей приданое справил. С того времени Михалик людей сторонился, а если кто-то где-то ему по случаю пакость скажет, делал вид, что не слышит. Держал он себя в руках до того случая возле Борнхольма. В тот раз его было не узнать с самого выхода в море. Пьяным-пьян на борт явился. Кончилось печально и для сейнера, и для шкипера. Смягчающих обстоятельств не было. Кораблю, стянутому с мели, потребовался солидный ремонт, а разжалованный шкипер, молодухою наколотый, стал притчей во языцех. «Пей — кончишь, как Михалик», — судачил народ, а Михалик и вправду пил. Плохо ему было одному в квартире, шикарно отделанной когда-то для Иоланточки, ну и добывал он себе новое пустое счастье шашнями с бутылкой, а когда хотелось услышать дома женский голос, звал какую-нибудь деваху из порта. По пьянке часто говорил, что скучает, да, мол, по рыбе. Случалось, видели его и зимой, и летом возле воды, вертели пальцем у себя над ухом. Дескать, окончательно стронулся Михалик. Но с берега ему мало было моря, так он вернулся на сейнер, только не шкипером, а рыбаком, однако стоило сойти на берег — пил. Раз в хмельной компании зашел Марян Михалик в ресторан. И надо же — там в углу Колень сидит с Иоланточкой, и с ними еще двое шкиперов. Михалик наружно даже глазом не повел. Сели в другом конце зала. Он заказал с ходу литр водки. Иоланточка почуяла, видно, что будет драка, потому что сразу ушла. Когда в бутылке осталось на донышке, Марян пошел в буфет за добавкой. Прошел мимо столика, где шкипера сидели, поймал взгляд Коленя. И, не отводя своего, плюнул на пол. Тогда Колень вытянул ноги и дорогу ему загородил.
— Слушайте, вы, «шкипер», — говорит. — Вы не у себя дома, чтобы плеваться.
Тоже пьяный был.
— У меня дома если наплевано, так не кем-нибудь, падло, а тобой.
Шкипера, те аж со смеху прыснули, хотя момент был явно не для этого. А у них на столике прибор стоял свободный, тарелка для Иоланточки. У Маряна потемнело в глазах. Схватил он ту тарелку, размахнулся да как шваркнет ею об стол. Осколки фарфора, бутылок, рюмок так в зал и брызнули. Рыбаки за столиком с лиц водку и объедки вытирают. А Колень вскочил да как замахнется на Маряна! Но тот опередил и дал ему кулаком прямо в лицо.
Отлетел Колень и рухнул бы на пол, если бы не стена, на которой распластался. Изо рта кровь струйкой потекла. Бросился на Михалика, замахнулся и еще раз получил. Отскочил, но вернулся и ответил молниеносным ударом снизу в подбородок. Михалик хотел увернуться от следующего удара, поскользнулся на чем-то и упал. Хотел встать, но Колень подскочил и пнул его в лицо, потом в голову.
Марян замер на полу. Его дружки вскочили, но их опередили те, что с Коленем сидели, схватили Коленя за руки и оттащили в сторону. Был момент, всем в зале показалось, что Михалик мертвый, все притихли. Только Колень рвался к нему, как бешеный, и орал:
— Развалина, придурок пьяный, он до смерти не поднимется, как сейнер перевернутый! Так и будет работать на сто грамм!
Дрогнул Марян на полу, поднял голову, всю в кровище, оперся на руку, встал. Два шага сделал к Коленю и сказал медленно, цедя каждое слово:
— До следующей встречи, Колень. Попомни мое слово, мы еще встретимся.
Хотел он выйти, но пошатнулся и рухнул на пол. Потерял сознание. Вызвали «скорую». После этого случая он два месяца лежал в больнице. Сотрясение мозга было. Когда выздоровел, вернулся на сейнер. Полгода работал не сходя на берег. Водку пил, как все, а может, даже меньше.
Ходил он старшим рыбаком, но опыта шкиперского не жалел, знал места, знал приемы на всякую рыбу, штучки разные с тралами. Работал, как умел. И справлялся, причем его мало трогало, что шкиперский пай другому идет. Во время коротких перерывов между рейсами никто его в поселке не встречал, что он делал, неизвестно.
Через некоторое время стал он вторым шкипером, а как минул срок дисквалификации, ему снова сейнер дали.
В то лето сельдь шла как никогда, зима была бурная, штормовая, а следующее лето оказалось худое, сельдь ушла со старых мест, и сейнеры, как бродяги, рыскали с пустыми трюмами в неведомых водах. Новое пришло, старое ушло. И забыли люди, и про сейнер разбитый забыли, и про вражду двух мужчин.
Но дело Михалика и Коленя еще раз ожило в ту холодную осень, когда море поглотило еще одно судно.
В тот день под вечер радио Рейкьявика сообщило о сильном ветре и, когда ветер действительно задул, передало штормовое предупреждение. Марян все тралил и тралил. Чуть-чуть ему оставалось, чтобы набрать рыбы под завязку. И он хотел использовать время до последней минуты, чтобы трюм поплотнее набить. Другие сейнеры тем временем укрылись в гаванях. Когда Михалик объявил конец лова, море уже вовсю разгулялось. Шкипер пошел к берегу острова, нашел гавань, примерился ко входу, но корабль прыгал на волнах, будто сорванный буек, и риск был слишком велик. Тогда он вернулся в море, приказал закрепить груз, отыскал бухточку за мысом и решил переждать шторм. Были там, как у Христа за пазухой. А в открытом море бушевал ураган. Поздно ночью сквозь шум, разряды и обрывки английской мелодии по радио послышался человеческий голос. Последний зов на помощь с сейнера, черпнувшего воду бортом. Едва успели записать координаты, сейнер смолк и в репродукторе слышны были только шум и разряды, как прежде. Сам Михалик крутил верньеры, кричал в микрофон: «Я на приеме!» — и прислушивался, но ничего не услышал. Сейнер тонул в тридцати милях к норд-весту от их позиции. Тридцать миль к норд-весту! По лицу Михалика пробежала словно угрюмая усмешка, а может, это он молча выругался. Он знал, что с тех пор, как снова стал шкипером, Колень старался держаться подальше. Минуты не прошло — в помещениях штормующего сейнера зазвенели звонки тревоги, люди вскакивали, спросонья со спасательными жилетами в руках неслись на палубу, а увидев, что на качающемся сейнере все спокойно, одурело совались в рубку, и только там до них доходило, о чем речь.
За мысом ветрище схватил их за штормовые робы, принялся дергать как попало, темный и бешеный, плевался брызгами, цеплялся за двери и крышки люков, словно хотел их вырвать и открыть дорогу в недра корабля волнам, которые одна за другой с грохотом пробегали по палубе. Из черной массы воды вздымались гигантские движущиеся горы и обваливались на скачущую между ними фигурку суденышка. Люди лепились кто к чему, глаза на лбу, лица бледные. И раз за разом все ходуном ходило в жутких приступах тряски, когда взлетала над кипенью корма и винт начинал бить по гребню волны. Дробный грохот винта звучал так, словно сам корабль злобно хохочет.
Курс норд-вест — безумный курс, прямо по ветру. Часы смертельной опасности тянулись медленно. Хотя ураган непрерывно обдавал палубу горами воды, все всматривались в темное море впереди. Кто увидит первым, кто увидит людей? Несмотря на оглушительный шум, на корабле царила тишина. Такая тишина, что любой шепоток слышно. Крушение произошло где-то здесь. Шкипер с двумя рыбаками вышли на бак к прожектору. Раз за разом их окатывало ледяной водой, но они стояли. Вдруг рядом, совсем недалеко по правому борту, от черноты моря взвилась вверх ракета. Ее кровавый свет обозначил на волнах черный холм и прилепившиеся к нему человеческие фигуры. Сначала даже непонятно было, что это.
— За киль держатся, — сказал кто-то.
Ракета погасла, стали искать прожектором. Шкипер вслух пересчитал людей на перевернутом сейнере: один, два, три… шесть, семь… что-то мало.
Рулевой плавно повернул штурвал, точный разворот — и они подошли к терпящим бедствие с наветренной стороны. Оттуда замахали, закричали. Поближе не подойти, можно разбить свой сейнер о перевернутый, а тем огромные волны играют, как пустой картонкой. Один маневр, второй, третий, за борт пошли спасательные плотики и, подхваченные волнами, унеслись во тьму, и только один из них удалось подхватить кому-то из тех, на перевернутом. И снова маневры на бушующих волнах. Один подход, второй, третий. Терпящие бедствие кое-как сползают с перевернутого корабля, ловят брошенные им веревки и сети, цепляются друг за друга, силятся отплыть подальше от погибающего судна, которое, крутясь на волнах, в любой миг может обрушиться на них. В небе одна за другой вспыхивают ракеты, белые подвижные столбы прожекторных лучей обшаривают море. Заламывающиеся под их сиянием огромные плоскости воды поднимают человеческие силуэты с раскинутыми руками и по-лягушачьи раскоряченными ногами. Люди в бликах света, в ледяной воде существуют сейчас словно в нейтральной полосе между жизнью и смертью — идет спасательная операция.
Михалик стоит, зажав в горсти рукоять машинного телеграфа, и дергает ее то вперед, то назад. Полный вперед, полный назад, корпус от вибрации вот-вот рассыплется.
— Прямо по носу человек за бортом! — кричит кто-то.
Снова полный назад. Океан валится на головы, громит палубу, рвет людей с постов, разбрасывает по волнам потерпевших, грозится болтающимся на гребнях волн перевернутым судном.
— Если есть на свете ад, то не огненный, а водяной, — говорит кому-то Телесфор, младший рыбак с дипломом магистра романской филологии, которого привела на сейнер то ли романтика, то ли хорошая деньга — неизвестно. «Если есть на свете ад, то не огненный», — повторяет вслед за ним Михалик про себя и в этот момент видит: двое рыбаков вытаскивают на палубу первого из тех, что за бортом. Тот, бледный как смерть, дышит с трудом, только твердит: «Ой, люди! Ой, люди! Ой, люди!»
Передал шкипер телеграф старпому и бегом к релингу, а там второго вытаскивают, третьего, шестого…
Последним тащат Коленя, он за сеть держится и за веревочную лестницу, брошенные за борт. Уже за релинг цепляется, вот-вот дотянется до протянутых навстречу рук, и тут корабль прыгает, бьет человека бортом и швыряет вниз, но кто-то мертвой хваткой ловит Коленя за шиворот, миг висит он над бездной, потом опять хватается за сеть, и новая волна вместе с ним обрушивается на палубу. Вода, бурля промеж людей, вцепившихся во что попало, подхватывает Коленя и швыряет о рубку, подхватывает Михалика и еще кого-то и несет их всех на корму. Снова дифферент на нос, дифферент на корму, крен вправо, крен влево, и наконец будто миг тишины. Первым встает Михалик. Колень, зеленый, глаза ввалились, почти ничего не соображает, схватился за что-то и тоже встает, за рубку держится, дышит с хрипом, осматривается безумным взглядом и находит в темноте глаза Михалика. Встретились, глядят друг на друга. И обоим кажется, что море вдруг утихло.
— Где остальные твои люди? — спрашивает Михалик, а голос хриплый то ли от натуги, то ли от холода.
— Погибли, — отвечает Колень. — Погибли, — повторяет, помолчав. — У меня груз сместился, переворачивались медленно, то ли полчаса, то ли полвека, не знаю. На киль переползли по борту все. Их только потом смыло, троих, по очереди.
Осел Колень, но кто-то подхватил его и оттащил в кают-компанию.
Стали снимать с него робу — он зашипел и сомлел. Разрезали — а у него рука сломана и ребра. Сделали перевязку, уложили на койку. Бредил потом, все на палубу рвался…
Тем временем Михалик все кружил и кружил возле того места, прожектором море высвечивал, ракеты пускал, искал тех, за которыми припоздал, но так и не нашел. Перед носом, вот-вот напорешься, будто загривок кашалота, все маячил из пены и волн перевернутый сейнер. Смотрел Михалик на покинутое судно, и в голове толклось как бы воспоминание. «Перевернутый сейнер — добыча моря, — думал он. — Но бывает, очередная волна опять ставит корпус на киль. И человека, человека тоже может вот так поставить на ноги. И море так и сяк играет, и жизнь…»
Вздымаемые ветром волны посветлели, мутно забрезжил рассвет. День принес новые усиливающиеся порывы ветра, и море, выползшее из тьмы, показалось еще страшнее. Ураган крепчал, и шкипер перевел машинный телеграф на «малый вперед», штормуя против ветра в сторону острова…
Перевод А. Щербакова.
Не все идет на слом
Нетипичный причал, ржавый и грязный, железным ломом заваленный, и по нему петляют несколько легковых машин, огибая островерхие пирамиды из остатков корабельной обшивки. Мужчины в синей форме, кто-то в смокинге, дамы осторожно ставят ножки в хорошеньких тонких туфельках промеж груд железного лома. Общество скрывается в салонах машин. У причала остается опустевший корабль. Моросит осенний дождик, с воды тянет ветром, ветер то тут, то там теребит металлические лоскутья, поет в побуревших кучах ветхой железной листвы. В корпусе корабля гаснут круглые огни, где-то на дне рокочет небольшой агрегат, впрыскивая в медные жилы судна последний ручеек электроэнергии. Что-то еще постукивает, подрагивает, вращается…
В машинном отделении двое механиков копаются во внутренностях двигателя, стрелки манометров меланхолически показывают нули, притворяются, что никогда и не шевелились даже. Смотрю на этих двоих над вскрытым цилиндром паровой машины — пригнувшиеся, с большими ключами в руках, они похожи на полинезийских рыбаков, разделывающих сердце пойманного на крюк кита.
В узком коридоре вдоль борта кое-где зияют, как пасти, дыры, оставшиеся после демонтажа труб. В холле, прямо у входа с главного трапа, где красовался добротной чеканки медный барельеф — вид на старинный город в излучине реки, — осталось только пятно на стене. На мостике — застывший штурвал, чуть дальше — пустая глазница выклеванного радара…
Через приоткрытое окно сечет осенний дождь, внизу рокочет агрегат, что-то еще подрагивает, постукивает, вращается. В салоне на корме застаю стюардов, они моют бокалы после скромной церемонии. Шлепаю вниз по громыхающему трапу. Осенняя тьма, плотно подступившая к железному борту, притупляет взгляд.
Сразу за воротами на дороге стоит человек с дымящейся трубкой в зубах, красный комочек огня бросает отсвет на старческое лицо.
— Юстын? — окликаю я, удивленный.
— Ты тоже здесь? — отвечает он вопросом.
— Тоже, — говорю я ему.
Долгий миг он стоит передо мною, молчит. Мы вместе пускаемся в путь в сторону города.
— Ты что тут делаешь, али тебе дома душно? — спрашиваю я, потому что с какой стати человеку, который уже шесть лет на пенсии, бродить ночью среди этого скопища ржавого железа.
Он глядит на меня исподлобья, не отвечает. Гулко звучат наши шаги по бетонному настилу моста, внизу протока, в ее берега уперлись темные неподвижные корпуса пришвартованных судов. Кое-что вспомнилось, и я уже знаю, зачем принесло старика в дождь сюда, за тридцать километров от дома. Он словно угадывает мои мысли.
— Я ж на нем всю жизнь… — произносит он, оглядываясь туда, где за матовым занавесом моросящей тьмы маячит корпус корабля, словно отживший жук, прикованный к черному бархату музейной витринки.
— Ты на нем вроде бы дольше всех, — подтверждаю я.
— То-то и оно, — усмехается Юстын. — Я на него первым взошел еще на заводском стапеле, когда его крестили. Всем праздникам был праздник, а мы молоденькие, на уме одно: да на таком-то корабле весь свет будет наш! — хотя там, в Англии, во время войны…
Идем в сторону города, моросит, холодно, я воротник поднял, из этой глухомани до трамвайной остановки брести и брести.
— Я ж всю жизнь на нем, — помолчав, повторяет Юстын.
Ворошу поглубже память, должна там быть его история. Ведь знаю же его, знаю! Я застал его на корабле в те времена, когда он еще работал. Как все, кому есть что сказать, говорил он неохотно — бывало, слова не вытянешь. Юстын помнил времена, когда главной «достопримечательностью» Гдыни был курзал, красовавшийся в роще, среди лип и буков, там, где нынче продолжается улица Десятого Февраля, а на нынешней Свентоянской близкий шум прибоя сливался с шумом колосистой пшеничной нивы. Портом тогда был Курортный мол, и экзотикой представлялись пароходики, уточками сновавшие на Хель с туристами, жаждущими острых ощущений. Когда-то, уж добрых десять лет прошло с тех пор, не помню уж, на каком корабле это было, я растворял панцирь Юстыновой немногословности поганым, но крепким кубинским ромом, наполняя стаканы прямо из дубового бочонка. Ром лился ручьем, Юстынова речь — как всегда с запинкой… Нынче мы беседовали не в теплой каюте, бочонка рома, от которого развязывается язык, у меня не было, шел дождь, и стояла осенняя тьма. Но Юстын показался мне словоохотливей. Тяготило его что-то глубоко затаенное еще с давних времен. Приелась тихая пенсионерская судьба, нахлобучил он брезентовую, чуть не до дыр потертую штормовку, которой, быть может, помнились конвои на Мурманск времен войны, и за три десятка километров добрался сюда, а зачем, черт его знает. Мы брели по безлюдному мосту.
— Покуда Марысь был, мы корабль любили как-то по-семейному, а потом что-то сталкивало меня с этой коробки, сталкивало, а я держался, держался, и все тут. Кормовой трюм обходил, бывало, через машину, через камбуз пробирался, лишь бы стороной пройти, под ложечкой сосало, такая вот дурь заедала, — помолчав, продолжил Юстын.
Мы как раз спустились с моста на широкую дорогу, где-то вдали мигали городские огни.
— Славная была посудина, — не унимается он. — Помню, в первый же год посреди Атлантики машина стала, снег, ветер, борта и мачты обледенели, так что корабля не видно, качает коробку так, что впору по стенкам ходить, не по полу, ну, думаем, конец. Кто матерится, кто молится, кому что больше по душе в таких случаях. А мы в машинном по уши в смазке, морды о всякое железо покорябаны, подшипник в дейдвуде меняем. Шуга по палубе гуляет, в люки лезет, нет такого, что про себя привет последний семейству не послал. И выдержала коробка, не переломилась, килем не накрылась. Все как надо сделали, задышала машина, выровнялась коробка. Боцман, мужик бывалый, десять лет у голландцев ходил, — так он палубу поцеловал. Раз в жизни я такое видел, чтобы целовали не землю, а палубу. Тогда Марысь был еще совсем молокосос, я его привел на флот за год до войны, он на двадцать лет меня моложе был, холостой, ухаживал за одной в Тчеве, про моряцкую жизнь мечтал, ну, и эта Терезочка… Отец с матерью сказали: не возражают, чтобы самый младший шел на море, но только если, мол, я, самый старший, о брате позабочусь. Я заботился, пока можно было…
Это корабль выдающийся. Говорили, невезучий, да где ж он невезучий-то? Прихватит, бывало, — так он нос повыше и увертывался и от штормов, и от торпед, а от бомб у него словно сетка над палубой натянута была, не раз просто диву давались. Самолеты покидают бомбы под самый борт, отвалят прочь, а все твердят: «То ли под богом ходим, то ли черт выручает». Марысь, задрав нос, расхаживал: бомбы в воде, а коробке хоть бы хны. Верил в этот корабль. По третьему году войны совсем обнахалился, страх потерял. Мол, если сами себе не напортим, нам никто не напортит. Счастливый корабль, так и говорил. Я на этой коробке каждый закоулочек знаю. Подумай, двадцать лет, не сходя на берег. После войны привел его домой, и еще пятнадцать лет, не расставаясь, вместе плавали. В сорок первом крысы на нем развелись, а с чего — не понять, мы продовольствие редко-редко возили, всю войну исключительно хлопушки. Тысячами тонн хлопушки! Когда такой товар везешь и все время «юнкерсы» над топом и лодки под килем, бывало, одни кошмары снятся, чуть выдастся минутка кемарнуть. Говорю, везучий был корабль. Всего разок в него бомба попала, так и то потеха получилась. В носовой трюм попала, крышку пробила и взорвалась в грузе. А когда мы груз-то в порту принимали, оказалось, что боеприпасы слишком тяжелые, всё взять не сможем, так с ходу переиграли и набили носовой трюм мукой. И бомба угодила не в тол, а в муку пшеничную. На мостике, во всех каютах, в цистернах с водой, в топливе, в машинном, на камбузе, на юте — всё в жидком тесте. Откуда? Как бабахнуло, клянусь тебе, белый столб взлетел над кораблем, не то, что «юнкерсов» — бортов с полчаса не видели. Спасла нас мука.
А как-то раз шли между Англией и Ирландией, темнотища была, шеф карты спутал, и выехали мы на берег по низкой воде. Пакуй манатки. Отлив, штиль, стоим с дифферентом на корму, под нами скала трещит, давим ее своей тяжестью. Дождались прилива, выпрямилось судно, само сошло с мели и своим ходом в порт. Месяц в доке отстояли, взяли авиабомбы, взяли боекомплекты для танков — и снова в Мурманск…
Юстын смолк на полуслове, перевел дыхание. Идем дальше, молчим, ветер усилился, сечет дождем по лицам, бьет в грудь, ложиться приходится на него, чтобы пересилить и вперед идти.
Трудно дышится Юстыну, но рассказ продолжается.
— Я на нем двадцать лет. Каюты нет, в которой не пожил бы, разумеется, кроме капитанской и старпомовской. Марысь четыре года со мной ходил, молодой, но механик сильный был. В тот раз везли боеприпасы в ящиках, две с половиной тысячи тонн. Много… И еще полтора десятка тонн обмундирования в малом кормовом трюме. Ну, и в этих тряпках ни с того ни с сего задымило. И унюхал кто-то дым. Крик поднялся, а было это в двадцати милях к северу от норвежского берега. До Мурманска рукой подать, парни только-только после налетов дух перевели. Пожар в трюме! Тревога! И, как назло, снова налет. Лупят фрицы по конвою, какая-то баржа возле нас просто исчезла на глазах, словно в воздухе растаяла, только три дощечки на волнах и вонища. Был корабль — нет корабля, тоже взрывчатку вез. Строй поломался, два каких-то короба нам чуть борта не мнут, а тут дым. Боцман и второй помощник отвалили крышку, смотрим — горит. Двое и Марысь с ними хвать огнетушители, прыг в трюм на суконные кипы, давай их резиновыми сапогами раскидывать, а тут коробка как подскочит! Бомба рядом с бортом взорвалась. Рухнули кипы набок и отрезали тех, кто туда залез. И свежий воздух туда пошел, полтрюма мигом полыхнуло. Откуда ни возьмись — капитан. «Задраить трюм!» — кричит. «Там люди, капитан!» А он белый как стена. «Задраить трюм!» Скрежет, бум — купала крышка. Из щелей дым валит, кой-где пламя выхлестывает. А за переборкой, тик в тик рядом, как в сотах пчелиных, ящики с хлопушками: один, два, три, сто. Пламя гудит, и сквозь этот гул со стороны миделя слышно, как лупит кто-то в переборку. Те, что в трюме, знать дают: мол, живы, мол, в этой стороне пожара нет…
Юстын замедлил
шаг, поправил воротник, перевел дыхание.
— Знаешь, как бывает: минута, а тянется будто год, будто два, будто десять, и потом от нее в памяти больше остается, чем от десятка лет. Я тогда в проходе стоял и разом видел и отца, и мать, и мордашку Марысеву ребячью, клянусь тебе, даже песок видел, в котором он играл, когда уж я женатый был, и велосипед видел, что купил ему за свои матросские, и Терезочку его видел, хотя длилось это, наверное, не дольше чем секунду. Их спасать — пришлось бы отвалить в сторону тонны две тряпья и притом напустить воздуху в трюм. А пламени приглушенному только того и надо. Рванулся я к крышке, думаю: может, что-то еще можно сделать? «Что?» — кричит капитан, и тут кто-то сует мне в руки клапан рукава от выхлопа. Во рту сухо, горло мне перехватило. Не знаю, когда я сделал с этим рукавом то, что приказали. Помню, газ шипел, в клапане шуршало, шум огня в трюме все тише и стук в переборку тоже. Этими вот руками кишку держал, пихал ее туда, я… Погас пожар. «Юнкерсы» улетели, через день мы в Мурманск пришли…
Юстын замолк, молчу и я. Дождь, ветрище, а мы идем в сторону города.
— Медаль мне дали, я так и не надел ее ни разу, мне все казалось, что это за Марыся, — у самой трамвайной остановки снова отзывается Юстын. Он замедляет шаг, совсем дыхание сбито.
— Прочел вот в газете, что пришвартовали этот корабль на кладбище судов, что церемония прощания состоится и начнут его автогеном полосовать. И как толкнуло меня, старого, сюда, да охранник не пустил. «Кто таков?» — спрашивает. Пенсионер, говорю. «Чего вам тут надо, пенсионерам?» — говорит.
Старик махнул мне рукой и вскарабкался на подножку вагона. Ветер зашумел у меня в воротнике, я оглянулся. Вдали чернел еще силуэт парохода, в котором гасли последние искорки света.
Перевод А. Щербакова.
Краб
Каюты у нас дверь против двери, но я с ним за четыре полугодовых рейса по-людски и не посидел-то ни разу. И вот сижу, смотрю, как он возится возле иллюминатора, а у него над головой замер краб. «Зачем я зван?» — думаю. А краб уткнул в сеточку щетинистые лапы, то ли паучьи, то ли обезьяньи. Туловище похоже на раковину огромного моллюска, пасть крохотная, рахитичные усики, восемь лап, — и все это несущественные подробности по сравнению с парой клешней и частоколом драконьих зубцов. Крабу отведено место между иллюминатором и книжной полочкой. Уже три месяца краб тут, и сколько я ни заглядывал сюда за эти три месяца, каждый раз еще в коридоре думал: «Сейчас погляжу на краба».
И вот краб, как обычно, замер в своем узилище. А старик протирает бокальчики, похожие на распустившиеся тюльпаны. И притом старается сверх меры, как и тогда, когда занят делом. А дело он находит, как стая рыб, кочуя в океане, безошибочно отыскивает ничем не обозначенную дорогу. У нас много общих, связанных с работой занятий. Мы называем друг друга на «ты», но сквозь ватный слой служебного бесстрастия.
Покуда я в нем не разобрался, я только делал вид, что доверяю, но, разобравшись, стал бессовестно пользоваться его трудом, на разделку даже не заглядывая. А доверие он внушал. Когда рыба не шла и на слип выволакивало пустой трал, он все равно поджидал на разделке, чтобы минуты не упустить и — вдруг будет работа! — дать людям сигнал побудки. Заест, бывало, где-то — он сам все уладит. Тихо, жалоб нет, с какой стати мне вмешиваться?
Нынче, когда на тридцатое воскресенье рейса сеть ушла под палубу, разделка сияла, вылощенная, как дворцовый зал, близился берег, и я оказался в каюте напротив. Краб заделан под оргстекло, а мой старпом кончает полировать рюмки. И я его, мастера Гжегожа Зарубу, знаю вот уже два года, а он на этом корабле еще со времен, когда тот стоял на стапеле, они вместе уже семь календарей. Мне положено держаться тех, кто в каюте для высшего начальства пульки пишет, ему — поближе к рыбацкой ватаге. Мы с ним сочленены, как шкивы в машине, которые через ремень сообща чуют рабочий ритм, но один другого не касается. И вот я сижу и раздумываю: что ему нужно, зачем я зван и к чему все это празднество? Он молчит. Наливает в бокальчики коньяк, достает из шкафчика соленые орешки, мы выпиваем по глотку. Я смотрю на краба. Он смотрит на календарь.
— Две недели — и дома, — бесстрастно замечает он.
— Дома! Дома без нас больше чем полгода прошло, — бурчу я.
— Прошло… А быстрей, чем я думал, — говорит он, будто сам себе.
И я вдруг чувствую, что это не просто так сказано. Он переводит взгляд на иллюминатор, я нюхаю коньяк в бокальчике. И его молчание меня не стесняет. Пьем, думая каждый о своих делах. И единственное, что необъяснимым образом тревожит меня, так это чертов краб на стенке. Я снова взглядываю на него. Крупные оранжевые лангусты давно перестали привлекать мое внимание. Бывало, за день вместе с десятком тонн красного морского окуня из трала высыпались две, а то и три эти десятиножки, стригущие метровыми антеннами усов. Но краб, да такой здоровенный, здесь, на широте Дакара!..
— Домой везешь? — спрашиваю я, движением головы указывая на членистоногое.
— Ну, — старик добавил в бокальчики. Его тоже явно не стесняет наше общее молчание.
— Нездешний, — вслух размышляю я, разглядывая монстра со дна морского.
— Пришелец, — подтверждает он. — По дну Тихого океана две тысячи миль, уж не меньше, чапал, канал Панамский одолел, Карибское море, промеж Мартиникой и Тринидадом втиснулся и вот дополз через Атлантику сюда.
Встаю, подхожу к крабу. Вблизи он словно еще крупнее.
— Знаешь что? — ворчу. — Он меня раздражает. Может, это метафизика, но тебе не сдается, что он, падло, притащил с морского дна на клешне что-то не то.
Он внимательно глядит на меня.
— И тебе так сдается? — чопорно спрашивает он.
Я смеюсь. От души. Ни ему, ни мне, ни тем более нам вместе не пристало впадать в бабство, сопоставляя непривычный вид членистоногого со всеобщим на морях предрассудком по поводу крабов.
— У тебя был краб когда-нибудь? — все так же чопорно спрашивает он.
— Нет. Никогда ничего такого не заводил. Ни омара, ни лангусты, ни краба.
Он смотрит в иллюминатор, на море полный штиль, рябь забрасывает вверх солнечные блики, падающие обратно в воду. Вечереет, солнце наливается краснотой.
— А у меня был, — говорит он чуть свободней, словно сбросив чопорность. — Такой же, как этот. Тихоокеанский. Тоже полсвета по дну обошел и вернулся туда… Вместе с кораблем.
— Куда вернулся?
— На дно.
Краб на переборке в круглом стальном футляре еще крепче вцепился в нейлоновую сеточку, могло показаться, что весь он обратился в слух.
— Ты что, суеверный? — спрашиваю я, ведь я ничего о нем не знаю, кроме того, что он работящий мужик.
— Нет, я не суеверный.
— Так что же вышло с тем кораблем?
— Когда мне семь лет было, на лугу напал на меня козел. А у меня будто ноги отнялись. Он все ближе, лбище у меня перед носом, точно молот. А я смотрю на этот лбище, на рога торчащие, смотрю, смотрю… Когда из Пуцка в Гдыню листовки вез, угодил в облаву при посадке и рванул через пути. Перескочил через забор, а там немец. Огрел по морде, винторезом в грудь тычет, а мне этот козлиный лоб видится. Когда в сорок седьмом меня штормом из бухты в море вынесло и ночь настала, снова этот козлиный лоб перед глазами замаячил. Двадцать лет подряд так было. И вот в Северном море двадцать лет назад запутался в трале краб. Понравился мне, я его выдул, цапончиком побрызгал, расправил на сетке и повесил в кубрике. Шкипер увидел. «Сними и брось в море», — велел. «Мой краб, не выброшу!» — «Выбрось!» — «Не выброшу!» Висит краб. Народ на него косится, на меня косится. А работы было много, штиль полнейший, и что ни заброс, то трал битком набит. Вроде как краб счастье принес. Шкипер перестал ворчать, народ на меня больше не косится. Кончился рейс, кончился второй, штиль, рыбы больше, чем надо, заработки как никогда. И прижился краб в кубрике на стенке. Никто ни слова. Вышли по третьему заходу. И снова рыба прет. Выпили мы со шкипером, он и говорит: «Если в этот раз сойдет, значит, это чушь порют про крабов. И зря я верил: мол, что со дна, то и должно лежать на дне. Не те времена, когда черти на волнах качались». Рейс к концу, и тут вдруг дунуло как из пекла. В полчаса море заходило, будто воды в кислоту бухнули. Забурлило, брызги стеной. Белый шквал! Видал белый шквал? Я видал. В тот раз и видал. Шкипер хотел развернуть сейнерок носом к шквалу, а мы как раз на гребень сели, и болтануло кораблик, что игрушку елочную. Я в кубрике сидел, стул из-под задницы выскочил, пол стеной встал, стена потолком. Все с места сорвало, грохот пошел такой, будто вся тишина кончилась. Проехал я на брюхе в угол, перевернулся на спину и зажмурился, потому что прямо в лицо мне что-то шлеп, здоровенное. Уверен был, увижу сейчас козла своего. Открываю глаза, а надо мной краб свои клешни раскрыл… Сейнер на борту лежит, я на стене сижу, не знаю, на которой. А та стенка, на которой краб висел, теперь вместо потолка. Вскочил я, и тут свет погас и в кубрик вода как хлынет! Я ей навстречу по трапу. За поручень держусь. Соль очи ест. Зажмурился, на ощупь лезу. И никакой козлиный лоб мне не мерещится, только красное что-то перед глазами. Чую, тяжесть с плеч отвалила, открыл глаза, а я наполовину вишу из люка, а сейнер медленно переворачивается вместе со мною килем вверх. Спасательные круги сорваны, плотик сорван. Кричу — никто не отвечает… Пятеро так и утонуло. И шкипер утонул. Нас с плотика снял какой-то голландец. Двое нас там было, тот, второй, совсем молодой парень, так на море и не вернулся, сначала норку разводил, потом в шоферы подался, до сих пор за рулем. А я уже в больнице решил, что непременно еще раз заведу краба. За двадцать лет три штуки при мне с тралом вытаскивали. Два были здоровенные, один поменьше. Но не успевал я до них добраться, другие хватали и — за борт. То ли половчей меня были, то ли я не спешил, — впервые усмехнулся он и коснулся горлышком пузатой бутылки края бокальчика.
Стекло зазвенело, как тонкая струна.
— Сейчас рыба тоже хорошо идет, — буркнул я.
— Идет, только третьего рейса не будет, по крайней мере для меня.
— Что?
— Знаешь, зачем я тебя сюда зазвал? — добрался он наконец до сути дела.
— Слово чести, не знаю.
— И не догадаешься.
На этот раз тишина была томительна.
— Распить с тобой бутылку. Больше низачем.
Мне стало как-то не по себе. И впрямь я не догадался бы, он разобрался во мне лучше, чем я в нем.
— И еще сказать вот что. Когда тебя сюда назначили, я хотел перевестись. Прежний шеф старикан был, вроде меня, любитель во все нос совать. Совал, совал — бросил. Не дурак был, хоть и без твоих дипломов. Я и решил, что придет сопляк-переросток, чем больше все в порядке, тем усердней командовать будет, покрикивать, понимаешь, будто без него никто ни с чем не сладит. Два года прошло — ты на меня разочка зря не вякнул. Делал свое дело, а в мое не лез, словно тебя не было, а я-то боялся, ты явишься указывать, руководить, «спасать положение»… Знаешь, какую бутылку я хотел с тобой распить? Последнюю в жизни при рыбацком деле…
Я сижу в кресле, изумленный, словно языка лишился.
— Никак пить бросаешь? Или думаешь, мы ко дну пойдем? — выжимаю наконец из себя подобие шутки.
— Ни то, ни это. Полгода назад, как раз перед этим рейсом, вызвали меня в кадры, велели справки собирать для пенсионного дела. Понял?
Он прикусил губу, веки у него подрагивали над выцветшими серыми глазами. Потом он поднялся, выпрямился во весь рост, за спиной у него краб тихоокеанский, его собственность. Шагнул я к нему, почувствовал рукой пожатие его сильной руки, и, по-моему, мы обнялись еще и прильнули друг к другу, как будто мы потерпевшие крушение рыбаки, которых отыскали посреди моря.
Перевод А. Щербакова.

Анджей Гжиб
«Вечерний холодок в долине…»
Вечерний холодок в долине
проснулся месяц
глядит на пятна гнезд голубиных
высокая ночь
Гудит над прудами хор многозвучный
туман скользит в камышах
сверчок тихонько зовет кого-то
Побудем здесь еще чуть-чуть
Перевод И. Русецкого.
Тухольские боры
На древках сосен вымпел неба
от выстрела взметнулась сойка
яркий свет наискось хлестнул
эхо застыло во мху
Это воспоминанье
ведь не было нас в ту ночь
когда их пригнали всех пятерых
и каждому пулю в лоб
Лес укрыл трупы обнял корнями
стер ржавую кровь с висков
и вознес ее белой тучи орел
над колючим лесным пьедесталом
в иное время
Перевод И. Русецкого.
Мадонна
Мадонна Микеланджело
Мадонна с картона да Винчи
Мадонна Вита Ствоша
Мадонна у сельской дороги
Тысячи изображений
Миллиарды матерей
Женщины Рима Флоренции
И Освенцима
Не изваяния
Не картины
И не иконы
Матери
Мама — старушка моя вся в морщинах
Моя Мадонна
Перевод И. Русецкого.
Анджей Твердохлиб
На той стороне улицы
Та весна началась как обычно. И не было никаких надежд, будто она принесет с собой что-то новое. Но то новое, по-крайней мере для меня новое, казалось со стороны банальным.
Окно моей комнаты выходило на улицу, серую и неинтересную, как всегда в конце зимы. Всякий раз, когда я видел каменные дома на той стороне улицы, меня охватывала тоска. Стены были под стать улице — серые, грязные, обшарпанные. Прожив здесь три года и приобретя некоторый опыт, я знал, что через месяц их прикроет пышная зеленая листва растущего под моим окном каштана. Пока же голые ветки только нагнетали тоску.
Приближалась середина апреля. В домах на той стороне улицы уже распахивали окна, и с каждым днем открытых окон становилось все больше и больше. По утрам на подоконниках громоздились горы перин и подушек. Хозяйки делали предпраздничную уборку. Под вечер в окнах появлялись мужчины: глядя бездумно куда-то вдаль, они курили, временами вели неспешные соседские разговоры.
По внешнему виду я знал почти что всех. Раньше даже развлекался, стараясь отгадать, кто кем работает, чем интересуется. Они были для меня частью улицы, как, к примеру, забытая кем-то груда кирпичей перед домом номер двенадцать, газетный киоск или гипсовый Аполлон на крыше одного из домов, неизвестно откуда и зачем попавший туда.
Каждый день, вернувшись из консерватории, я, как и все мужчины, подходил к окну и тупо смотрел на улицу. Правда, недолго, времени было в обрез. Как-то в ясный, почти весенний день я заметил, что напротив, в старом четырехэтажном доме, прямо напротив моего окна, поселилась новая жиличка — девушка лет двадцати, а может и моложе. У нее были длинные каштановые волосы, а лицо как у кинозвезды, самой что ни на есть красивой. Как только она появлялась в окне, я бросал все дела и любовался ею. Говорю же, все выглядело банальным — ведь красивых девушек на свете сколько угодно. Даже пошловатым. Но в то же время и сентиментальным, поскольку я совершенно не намеревался заводить с ней шуры-муры.
Целую неделю потратил я, чтобы обратить на себя ее внимание — и при этом, опять же, без всякого намерения завлечь. Так, что-то вроде знакомства на расстоянии, какая-то ниточка. Мы обычно стояли каждый у своего окна, друг против друга, но ни разу, даже на мгновение, она не остановила на мне взгляд. Теряя терпение, я прибег к уловке. В эту пору дня я проигрывал различные упражнения для пальцев. А тут начал барабанить на пианино старые и новые шлягеры.
Сидя за пианино и поглядывая в окно, я подметил, что эта музыка ее заинтересовала, хотя для меня-то, студента третьего курса консерватории, это была никакая не музыка, так, глупость. На дворе уже сгущались сумерки, но я все же мог убедиться, что она слушает с удовольствием.
Я перестал играть и подошел к окну. Девушка с минуту смотрела на меня, потом улыбнулась и пробежала пальцами по подоконнику, как бы прося сыграть еще.
Я улыбнулся в ответ и, усевшись опять за пианино, начал играть «Гуантанамеру». Играл долго, с вариациями, минут, наверно, десять. Стало совсем темно, и я не мог видеть ее лица, но надеялся, даже был уверен, что она слушает.
Итак, со шлягеров начался новый этап, не менее банальный, чем предыдущий. Теперь каждый день, возвращаясь домой, я радовался, что снова увижу свою соседку. И каждый день, стоило ей подойти к окну, я выдавал часовой концерт. Начинал с «Гуантанамеры» — это было как бы нашим позывным — и кончал той же мелодией. Затем принимался за упражнения, ибо к своей учебе относился очень серьезно.
Комната у меня была паскудная; я и снял-то ее только из-за пианино. Инструмент был доведен до ручки, так что мне пришлось вложить немало своих средств и труда, пока я не привел его в более или менее приличное состояние. Хозяйка, змея, брала с меня за это пианино дополнительно по двести злотых в месяц.
Так прошло две недели. Знакомство наше все это время ограничивалось лишь обменом улыбками. И все шло хорошо. Но потом вмешался некий третий. Нет, это был не мужчина и вообще не человек. Третьим оказался каштан, что рос под моим окном.
Вначале на ветках проглянули почки. Они набухали день ото дня, становились все крупней и крупней и наконец начали лопаться. Из трещин выглянули пока еще слабые, светло-зеленые листочки, которые на глазах росли и темнели. Между нашими окнами повис плотный зеленый занавес.
Я вынужден был примириться с судьбой. От нашего немого флирта осталась только «Гуантанамера». Придя домой, я всегда играл ее. На этом и заканчивал свой концерт, так как не знал, стоит ли девушка у окна, слушает ли.
Каштан был безжалостен, и мне оставалось либо ждать до осени, либо самому пообрывать листья. Можно было еще полить мерзавца соляной кислотой, но, во-первых, где взять столько кислоты, а во-вторых, все-таки жаль было губить дерево.
Каждый день в восьмом часу вечера я отправлялся на работу — играл в оркестре ночного ресторана. Я прекрасно понимал, что халтурой порчу себе пальцы, но куда денешься, надо было заколачивать на кусок хлеба. После окончания средней музыкальной школы я не попал с первого захода в консерваторию и меня забрали в армию. Разумеется, там я был зачислен в музыкантскую команду и целых два года играл на какой-то дурацкой трубе. Это не вредило пальцам, а заодно я неплохо разработал свои легкие.
Итак, каждый вечер, выходя на работу, я поглядывал вверх. Если девушка была у окна, она, как прежде, улыбалась мне, однако все чаще я видел лишь пустой квадрат освещенного окна и край занавески. Несколько раз мне показалось, что там мелькнула тень, силуэт мужчины. Но может, это просто померещилось. Впрочем… Ведь сам-то я никогда ничего не предпринимал, чтобы это была моя тень.
И вот однажды она пришла в тот ресторан, где я играл. С ней был военный, летчик. Они заняли маленький столик на двоих, поблизости от танцевального круга. На ней было черное вечернее платье, и она выглядела еще красивей, чем в окне своей квартиры. При этом я имел возможность убедиться, что у нее очень стройная фигура.
Мне стало обидно. Я теперь пожалел, что не сделал решительного шага и ограничивался только тем, что играл «Гуантанамеру». Я упрекал себя и каштан. И ее также, в какой-то степени.
Она не заметила меня, хотя я неотрывно смотрел на нее. Неправда, что человек обязательно ощущает на себе чей-нибудь взгляд.
Мы как раз устроили перерыв — шеф раздавал ноты для дальнейшей программы. Точно в насмешку первым шло танго «Крошка моя, ты вернешься ко мне». Текст песни состряпал наш ударник и сам исполнял ее с микрофоном, что всегда вызывало у меня отвращение.
Но я не смел пикнуть, поскольку был в ансамбле самый молодой. Считалось, что меня тут держат из милости, а ударник к тому же был зятем руководителя.
Мы начали играть. Танцевальный круг быстро заполнили пары. Девушка с летчиком танцевали недалеко от оркестра. В какую-то минуту они оказались совсем рядом. Я увидел, что она заметила меня, узнала. На лице ее отразилось удивление, — она явно не ожидала такой встречи, что вполне понятно. Я отважился улыбнуться ей, кивнул. Она не ответила и после смотрела на меня уже холодно и равнодушно.
Я был смущен. В зале погасили огни, воцарился полумрак, подсвеченный голубым и розовым прожекторами. Кроме них горели только маленькие бра над столиками. Ударник запел свою песню, и хотя слова ее были очень наивными, создавалась приятная атмосфера. По лицам танцующих скользили цветные лучи, я ждал, когда снова зажгут свет, ждал, подарит ли она мне улыбку. Собственно, почему бы и нет? Ведь мы уже столько раз улыбались друг другу! Однако сейчас, видимо, было неуместно. Ночной ресторан, танцевальная площадка, возвышение для оркестра — совсем не то, что два окна на противоположных сторонах улицы. И никакого каштана.
Это танго я тебе дарю,
Для тебя одной я его пою… —
тянул ударник своим пропитым тенорком. Прямо около возвышения я увидел летчика и лицо девушки над его плечом. Она смотрела на меня так же, как минуту назад: равнодушно, но, пожалуй, с каким-то упреком… А может, мне это просто почудилось.
Я сбился с ритма. Шеф обернулся и рыкнул на меня. Я вынужден был от всего отключиться и аккомпанировать сосредоточенно, ибо подобные ошибки давали моим коллегам повод для язвительных насмешек. Следовавший затем слоу-фокс был моей композицией — конечно же, на слова ударника. В зале все еще царил полумрак. Девушка с летчиком уплыли куда-то вдаль — собственно, должны бы улететь — и смешались с толпой танцующих.
Я у окна стою, смотрю на темный сад,
Под легким ветерком там листья шелестят…
Этот текст мне нравился больше; во всяком случае, я относился к этой песне более снисходительно, возможно, потому, что сам написал музыку.
Мы закончили первое отделение. В зале зажегся свет. Я увидел, что моя пара направляется к своему столику. Проходя мимо, девушка даже не взглянула на меня, а подойдя к столику, поменялась местами с приятелем и теперь сидела ко мне спиной. Я не мог понять, что бы это значило, терялся в догадках. Наконец пришел к выводу, что она просто-напросто снобка, которая считает, что ей не к лицу водить знакомство с музыкантом из ресторана. Какая-нибудь студентка, будущий психолог или искусствовед. Ее постигло разочарование, и вот теперь она стыдится, что улыбалась мне через улицу.
Было уже около одиннадцати. К этому времени атмосфера в зале становилась обычно все более оживленной. Официанты в смокингах скользили между столиками, у посетителей начинало шуметь в голове. Раздавались взрывы смеха, громкие голоса, звон стекла, кто-то пытался петь. Выкатили столики с сигаретами и букетами цветов. В перерывах между танцами на площадке сбивались в кучку захмелевшие мужчины. Вышибала вел кого-то к гардеробу.
Девушка и летчик все время были заняты собой. Они даже пропустили несколько танцев. Я увидел, что официант принес им второй графинчик подкрашенной водки. Мне стало обидно — почему она так ведет себя? В конце концов раньше-то никогда не поворачивалась ко мне спиной. Я пошел в бар и хлопнул сто грамм. Барменша Гося держала для своих левую водку и продавала ее без наценки. Так что на сто грамм у меня хватило.
Мы закончили серию фокстротов. Я спрыгнул с эстрады и, лавируя между возвращающимися к своим столикам парами, опять зашел в бар. Здесь была толкучка, но Гося, заметив меня, взглянула вопросительно. Я поднял вверх два пальца, она подала мне две бутылки пива. Прихватив со служебного столика два стакана, я вернулся на эстраду. Как раз в эту минуту подошли девушка и летчик. Он вел ее под руку, красное лицо и пот на лбу говорили о том, что он уже здорово набрался.
Они обратились с каким-то вопросом к кларнетисту, лысеющему брюнету, которого обычно принимали за руководителя оркестра. В дополнение к лысине у него была еще представительная фигура и лицо мудреца-философа. А руководитель был по виду замухрышка, такой бледный ангелочек, — отсюда эта путаница. Я притворился, будто в данную минуту меня интересует исключительно пиво, даже повернулся к своему коллеге контрабасисту и предложил ему одну бутылку, которую он, конечно, взял. Мне хотелось тем самым отплатить девушке за ее равнодушие — своего рода месть, жалкая, но все же…
— Товарищ, дорогой, — сказал офицер, — вот моя приятельница пожелала, даже очень вас просит сыграть такую вещичку… «Гуантанамо» или что-то вроде того… Да? — спросил он девушку.
— Пан офицер, — опережая ее ответ, сказал я с достоинством. — Гуантанамо — это американская база на территории Кубы.
— Точно! Нам говорили это на занятиях.
Девушка подавила улыбку.
— Полагаю, — тем же тоном продолжал я, — что без вины виноватое «Гуантанамо» на самом деле называется «Гуантанамера». Не правда ли?
Я испытующе взглянул на нее. Она не выдержала, засмеялась и лишь потом, справившись с собой, утвердительно кивнула. Шеф услышал, что заказывали, и поспешил на выручку к кларнетисту.
— Очень сожалею, пан поручник, но этой вещи у нас в репертуаре нет, — сказал он, неплохо изобразив огорчение. — Можем вместо этого предложить «Хабанеру», «Кукарачу» и многое другое…
У летчика язык малость заплетался, но он, видно, был упрям и не желал никаких других вещей.
— «Гуантанамо!» Пардон, «Гуантанамера»! Правильно я назвал?
— Совершенно правильно, — похвалила его девушка. — Попытайся все же каким-нибудь образом убедить музыкантов. Думаю, однако, что эта вещь есть в их репертуаре.
Мы действительно не играли ее. Поручник вынул из кармана две сотенные и помахал ими перед лицом шефа. Тот с надеждой взглянул на меня.
— Сыграете, Юрек?
— Но, шеф, я же ее не играю, — солгал я.
— Я убеждена, что играете, — сказала девушка.
— Откуда ты знаешь? — удивился летчик.
Она не удостоила его ответом, глядя на меня хоть с иронией, но не без симпатии. Я заколебался.
— Сыграйте же, пан Юрек, — сказал летчик и снова показал нам свои две сотни, будто собаке кусок колбасы. Ударник ткнул меня в спину.
— Играй, не будь дураком, — заработаем на ужин. Известно же, что ты все можешь отбарабанить. Сыграем вчетвером с контрабасом и гитарой. Ну, пошли…
— Ладно, — снисходительно согласился я. — Сыграем, пожалуй. Гонорары принимает шеф. Оплата вперед.
— Да пускай вперед, — обрадовался летчик и отдал деньги шефу. — Договорились!
— У нас не спорят, — сказал я.
Я повернулся к гитаристу, взял тон. Остальные испарились — конечно, пошли в бар, но я был уверен, что они не пропьют все деньги, которые все-таки ведь заработал я. У нас такого не водилось. Девушка отправилась на свое место, потянув за собой офицера. Когда они сели, ударник махнул тарелками и исполнил туш на барабанах.
— Для прекрасной дамы в черном платье и пана поручника, — сказал он в микрофон, — мы сыграем сейчас «Гуантанамо», прошу прощения, «Гуантанамеру».
На площадку входили пары. Свет опять погас. Розовый луч прожектора медленно заскользил по залу. Наконец остановился на девушке и летчике. Наш осветитель, видимо, услышал, кто просил сыграть эту мелодию, а оказался настолько трезвым, что смог доставить им еще одно маленькое удовольствие. Розовый луч сопровождал их все время, пока они танцевали. Когда мы закончили играть, послышались аплодисменты. Поручник даже крикнул «Мало!», но мы не отозвались на его пожелание. Кому мало, тот должен еще раскошелиться.
Вернулся шеф и объявил большой антракт. Я пошел на кухню поужинать. Вскоре туда же пришли коллеги и предложили, чтобы я принес от Госи пол-литра. Руководитель дал мне две сотни, я сходил, принес. Я выпил свою долю, чем-то закусил и пошел к гардеробщику, моему доброму знакомому, который сегодня должен был дать мне ответ касательно уроков музыки для его племянницы. Это был очень порядочный человек, честно говоря, именно благодаря его протекции я получил место в этом кабаке. Перед гардеробом была толчея, какая-то компания только что явилась в ресторан. Я сел в кресло, закурил сигарету. И тут увидел выходившую из зала девушку. За ней шел летчик. Он держался хорошо, даже не пошатывался. Поискал в карманах номерок, нашел его наконец и стал проталкиваться к вешалке — довольно бесцеремонно. Значит, все же набрался.
Она остановилась у зеркала. Вынула из сумочки помаду, подкрасила губы. Поправила прическу. Я не знал, заметила она меня или нет. Во всяком случае мне показалось, что настроение у нее скверное.
Поручник вернулся, неся ее кожаное пальто и свою фуражку. Он помог ей одеться; сам же долго перед зеркалом прилаживал свой головной убор. В какой-то момент он заметил меня.
— До свидания, пан Юрек, — сказал он, широко улыбаясь и протягивая мне руку. — Очень было приятно… Вы отлично играете… Я, то есть мы, когда-нибудь еще зайдем сюда. Очень было приятно, — повторил он.
Я поднялся с кресла, мы пожали друг другу руки.
— До свидания, пан поручник. Мне тоже было очень приятно.
Он еще раз взглянул на себя в зеркало, поправил фуражку, потом повернулся к девушке.
— Ну а теперь к тебе, — сказал он таким тоном, будто это само собой разумелось. — Хорошо бы на извозчике, но вряд ли сейчас найдем. Возьмем такси…
Мы с девушкой взглянули друг на друга. Ни в моем, ни в ее взгляде не было иронии. Полное равнодушие.
— Прости, пожалуйста, но сегодня я поеду одна, — сказала она. — Не надо меня провожать, такси я найду.
Он просто онемел, и, прежде чем пришел в себя, ее уже и след простыл. Секунду он колебался — не догнать ли, потом махнул рукой.
— Не сегодня, так завтра…
Он попробовал еще запеть какую-то русскую песенку о летчиках, но оборвал себя на первых же словах. Фуражка у него сбилась на затылок, и выглядел он довольно потешно.
— Я возвращаюсь, — заявил он тоном человека, привыкшего приказывать другим, а может, и самому себе. — Кру-у-гом марш! Сыграйте мне еще раз это «Гуантанамо».
— «Гуантанамеру», — поправил я его. Он только махнул рукой.
— Как сказалось, так и сказалось, — пренебрежительно ответил он. — Очень красивая мелодия.
Второй раз за этот вечер мы играли «Гуантанамеру». Второй раз заработали двести злотых.
Перевод Р. Белло.
Засекреченный телефон
Он напечатал: «Обсуждался вопрос, обеспечено ли реальное выполнение плановых заданий. Были выявлены проблемы, которые еще следует решить. При этом подчеркивалось, что необходимо более эффективное…»
Зазвонил телефон. Он поднял трубку:
— Славинский, слушаю вас… Узнал, Владек. Привет. Вот как раз пишу. Да, помню, помню… Но ты уж займись ими сам. Ты же мой заместитель, решись на самостоятельные действия… При мне это трудновато? Ну-ну, не дерзи… Дай им по рюмке коньяку, кофе… Ведь такие визиты — чистая формальность. Главе преподнеси под конец наш значок, а остальным — по авторучке. Добро. А через два часа присылай курьера за материалом. Хотя нет… Сначала позвони. Привет.
Напечатал дальше: «…управление производством и организация труда, а также более эффективная работа каждого на своем месте».
— Может, кофе сварить? — раздался из другой комнаты голос жены.
— Ага, свари.
Зазвонил телефон.
— Слушаю… Да, Славинский… А, приветствую… Ну, не лебези, пожалуйста. Ты не мог меня видеть в этом году на трибуне, потому что я именно в те дни был за границей… В прошлом году — да… Сказал уже, не лебези… Слушай, ты не мог бы без этих ужимок? Да, да, знаю… Лично знаю. Посмотрим, что удастся сделать… Третий раз говорю — перестань лебезить! Видел меня по телевизору? Не один ты, несколько миллионов людей видело… Позвони. Завтра вечерком. Пока не за что. Привет.
Он положил трубку, вздохнул: «А-а-а-а-х…» Телефон зазвонил раньше, чем он успел занести руку над клавишами машинки. Взял трубку:
— Славинский, слушаю вас… Мне очень жаль, Ежи, но я никого не знаю в вытрезвителе… Пью, конечно, но стараюсь не перепить, чтоб меня не забрали… Ну я же сказал тебе, что ничем помочь не могу… Что?! В Управление внутренних дел? В комитет? А может, прямо министру? Послушай, вот что я тебе скажу: выпей бутылку и жизнь сразу покажется тебе веселей. Пока.
Вошла жена, неся чашку кофе.
— Сахар положила?
— Две ложечки.
— Спасибо.
Жена вышла. Он напечатал: «Были высказаны предложения по устранению недостатков».
Бросил печатать, поднял трубку и набрал номер. Удивился, что не занято. С другой стороны провода отозвался женский голос.
— Здравствуйте, Славинский вас горячо приветствует. Еще горячее приветствую и умоляю позволить мне две минутки поговорить с директором. Благодарю… Стефан? Привет, это Петр… А-а, все по-старому… Работа, работа… А ты как? Порядок. Слушай, Стефан, тут один мой приятель собрался в Югославию, а вы отказались выдать ему валюту… Каких-то несколько долларов. Устрой, пожалуйста, для тебя же это пустяк. А я некоторое время не буду критиковать на страницах своей газеты вашу фирму. Ну, скажем, с полгода… Шучу, понятно, но на хорошую чашку кофе можешь рассчитывать. Его зовут Губерт Вейман. К сожалению, с женой. Боится оставить ее одну… Порядок. Две хорошие чашки кофе и вечная благодарность. А как это должно выглядеть технически? Сейчас запишу… Да? Завтра от двенадцати до часа, к пани Ковальчик. Первый этаж, комната сто семь. Записал. Спасибо. Жму руку. Как-нибудь загляну. Привет!
Телефон зазвонил тут же. Прежде чем поднять трубку, он взял чашку, сделал глоток и снова вздохнул.
— Слушаю… Нет, вы ошиблись.
«Наконец хоть что-то приятное», — подумал он и снова стал печатать: «Добавим, что общественные аспекты развития и достижение намеченной цели…»
Вошла жена.
— Я — в магазин.
— Ну так и что?
— Поставила варить бульон. Минут через десять прикрути немного газ.
— Хорошо.
— Тебе что-нибудь надо купить?
— Сигарету и пачку лезвий.
«…в тех особых условиях, в которых находится наше народное хозяйство, были главными критериями оценок и предложений, высказываемых выступающими».
Телефон.
— Я слушаю… Помилуй, Ежи! Чего ты так переживаешь, что сообщат в учреждение? И без того всем известно, что ты пьешь и скандалишь. Нет… Прекрасно, что ты намерен с этим покончить, это никогда не поздно, но я в самом деле не могу… Выпил целую бутылку? И что? Все равно не заснул? Ну так выпей вторую и сам иди в вытрезвитель. Поговори с ними честно и откровенно. Привет.
С кухни послышалось шипение, кипящий бульон потушил газ. Он вскочил со стула, опрокинул чашку с остатками кофе. Влетел в кухню, выключил газ, попытался поднять кастрюлю с продолжавшим еще кипеть бульоном, обжег паром руку и зло выругался. Вернулся в комнату, вытер платком лужицу кофе, собрал осколки и выбросил их в корзину для бумаг. Потом туда же швырнул платок. Произнес внутренний монолог: «С ума сойти можно, черт возьми! Тут провод обрывают, а ей в магазин приспичило! А ты дергайся, да еще статью пиши. Осатанеть можно!»
Зазвонил телефон. Он недовольно заворчал и несколько секунд не брал трубку. Добавил еще несколько проклятий.
— Славинский… Да слышал, очень прискорбно… Да, да, жаль человека… Аллея заслуженных? А чем он, черт побери, это заслужил? Тем, что на переезде из-за его машины едва не полетел под откос поезд? Нет, нет, не хочу плохо говорить о покойнике, в конце концов катастрофа все же не произошла… Прежние заслуги? Извини, как-то не могу припомнить… Третья премия? В Кракове, семь лет тому назад? Ты что, за идиота меня принимаешь? Ах нет? Ну спасибо! Только знаешь что? Обратись-ка ты с этим к кому-нибудь другому.
Вернулась жена и с порога ринулась на кухню, учуяв, по-видимому, смрад от сбежавшего бульона. Потом вошла к нему в кабинет.
— Убежал-таки, — утвердительно сказала она.
— Ну убежал, так убежал.
— Тебя просто ни о чем нельзя попросить.
— Слушай, — миролюбиво ответил он. — Хоть ты не приставай ко мне сегодня, не то будет скандал. Видишь, сколько мне удалось написать? Полстраницы. А надо три.
— Я ничего тебе не говорю, но я же просила тебя…
— Просила… Я знаю, что просила.
— Вот твои папиросы.
— Спасибо.
Он не успел еще закурить, как снова зазвонил телефон.
— Славинский… Адрес сходится, а кто говорит? Ну, мы ведь уже столько раз это обсуждали. Я считаю, что данная форма учебы абсолютно устарела. Мы дублируем прессу, радио и телевидение, отнимаем у людей время… Ничего нового, считаю, не говорим… Хорошо, хорошо… Только по вашему настоятельному требованию. Хорошо. Всего самого доброго.
Напечатал полторы строки — телефонный звонок.
— Славинский… Адрес сходится, а кто говорит? Да? Ну, спасибо, пан управляющий… Я приятно удивлен и тронут… Да, да… Добро! Еще раз благодарю. До свидания.
— Галина!
— Что?
— Набирай воду! В кастрюли, в ванну, в чайник. Через полчаса отключат. Какая-то авария. Воды не будет до утра.
— Откуда ты знаешь?
— Звонил управляющий «Водоканала». Набирай воду, да скажи еще Яворским.
«Окончательное решение, а также предложения, которые будут направлены соответствующим комиссиям, предстоит еще подробно обсудить на следующем заседании в установленный срок, во втором квар…»
Телефон.
— Да… Нет, Владек, я еще не кончил. А ты уже отделался от них? Вот и хорошо. Видишь, как все просто? Так замечательно управился с иностранной делегацией, а боишься сам править рукописи. Никогда ты не станешь главным редактором! Даже и не хотел бы? Недостает тебе честолюбия. С чего бы это? Ну ладно. Читай… Так… так… так… Ну, это можно оставить… Подожди-ка, подожди… Вначале там слишком выспренно. Опусти весь первый абзац и начинай с середины… Так… Ну… Порядок. Стой! Слова: «любовь к природе» замени на «охрану естественной среды»… О господи! Я знаю, что это одно и то же, но теперь так говорят… Давай дальше. Это хорошо… Добро. Порядок. В таком виде пойдет. Позвони перед тем, как послать курьера. За это время…
Он положил трубку, потом вспомнил, что кое-чего своему заместителю недосказал, и набрал номер.
— Владек? Еще один вопрос. Забыл тебе сказать — пошли кого-нибудь к управляющему трестом «Водоканал», пусть возьмет у него интервью. Что значит — по какому случаю? Из кранов течет чистая вода, хлорки почти не ощущается. Мало этого? Ты меня не учи, отряди человека и все. Лучше сегодня же. Привет.
До следующего телефонного звонка он успел написать шесть строк. Затем вынужден был снять трубку:
— Славинский, слушаю… Да, да. Сейчас позову. Галина, тебя!
— Да…
— Перейди на другой аппарат и говори подольше. Хоть минуту покоя…
Он закурил сигарету и в течение целой спокойной минуты глядел на свою машинку с неподдельным отвращением. Вернулась жена.
— Это Юлия. Она не решилась помешать тебе, предпочла через меня. Спрашивает, не мог бы ты устроить для ее сына пропуск на искусственный каток.
— Могу.
— Она вечером еще позвонит.
— Ты просто не представляешь, как я рад.
Он вздохнул. В этом вздохе слышалось отчаяние. Жена с сочувствием посмотрела на него:
— Зачем ты поднимаешь трубку, если тебе надо работать?
— А откуда бы я узнал, что не будет воды?
— Ну да, но так ведь ты ничего не напишешь.
— Я должен отвечать, — сказал он. — Могут ведь сообщить что-нибудь действительно важное.
— Например?
— Что мне присудили премию Пулитцера, что свергли правительство в республике Кали…
— Мали.
— Все едино… Что зубриха в Беловежской пуще произвела на свет тройню, что некий мужественный соотечественник облетел вокруг света на воздушном шаре, что надвигается чудовищный циклон…
— Или что еще?
— Или что меня сняли.
— Постучи по дереву.
Он не был суеверен, но постучал три раза по краю стола. Потом несколько минут раздумывал, имело ли смысл стучать и не лучше ли… Не лучше ли было бы…
На этот раз он сумел напечатать только две строки. Пришлось взять трубку.
— Слушаю… Да, Славинский. А что, это в самом деле обязательно? Ну ладно. Скажите мне только, когда начнете запись…
Он откашлялся.
— Повышение культуры труда является делом огромной важности. Актуальность этой задачи вытекает из ускорения темпов общественного и хозяйственного развития. Понятие культуры труда складывается из многих элементов: это совокупность индивидуальных черт сотрудника. К примеру, уровень квалификации, высокая дисциплина, умение строить свои взаимоотношения с трудовым коллективом. Культура труда — это также четкая организация производственного процесса, хорошо отлаженная система взаимодействия всех звеньев. Нам еще много предстоит сделать. На данный момент мы не можем сказать, что использовали уже все резервы. Усилия наши следует умножать и развивать… Алло! Вы записали? Нет, меня не интересует, когда это пойдет в эфир, у меня нет времени слушать радио… И вам спасибо, до свидания.
Он напечатал еще три слова. Телефон.
— Славинский… Да, уважаемый коллега, помню… А как же… Прошу вас, не стесняйтесь… Да, я знаю, что те, кто вышел на пенсию несколько лет тому назад, ущемлены в финансовом отношении. Скоро должен выйти указ, который исправит это… Нет, прошу вас говорить откровенно… Добро. Золотой крест
[64] у вас есть? Очень хорошо. Мы войдем с ходатайством в Общество… Не за что. Предупреждаю только, что делается это не так скоро. Где ваши документы? Ну, речь идет о данных для внесения предложения… В Обществе? Наверняка? Не затруднит ли вас проверить это и все уточнить? Да, да… Обещаю. До свидания, уважаемый коллега.
Он набрал номер. Номер был занят. Он докурил сигарету и набрал еще раз.
— Алло! Вы меня слышите? Губерт, это ты? Что-то плохо тебя слышно. Это Славинский. Ну, я устроил тебе… Перестань лебезить, черт побери! Слушай: иди к ним завтра же. Комната сто семь, пани Ковальчик, да-да. Ковальчик… Ей сказано, сказано… Да! Еще два слова. Ты — член правления Общества? Гм… Зайди утром к себе на службу и напиши предложение о награждении орденом Стефана Сухоня… Его документы уже там. Заполни первую страницу и напиши обоснование. Не подписывай, только заполни… Почему ты, а не я? У меня
нет времени. Устраиваю обмен валюты для разных приятелей… Вот и хорошо, что понял. И не забудь — обоснование должно быть железным.
— Может, уже пообедаешь? — спросила жена. — Или подождем Марека и пообедаем вместе?
— Пообедаем вместе.
Их фокстерьер, по имени Голем, захотев прогуляться, применял трехступенчатую систему сигнализации. Сначала он скреб лапой ногу хозяина дома. Потом повизгивал, потом начинал выть. Был, правда, еще четвертый способ. Голем беспардонно выпускал струю на ковер посреди гостиной, — всегда на одном и том же месте. Сейчас он завывал. Славинский встал с кресла.
— Выйду с собакой, — сказал он жене, занятой приготовлением обеда. — Проветрюсь немного. А ты допиши страницу до конца.
— Я?
— Ты. Зря, что ли, кончала филфак? Повтори ту же самую мысль другими словами. Длинные предложения, много запятых, мало точек, несколько иностранных слов. А я пойду с собакой. Пошли, Голем!
Он шел по дорожке сквера, не думая ни о чем. Ему было хорошо. Вдруг послышался звонок.
— Славинский, слушаю… — громко и отчетливо сказал он. Какой-то десятилетний мальчуган объехал его на велосипеде. Славинскому и в голову не пришло засмеяться. Он даже немного погрустнел.
— Глупеет твой хозяин, Голем, — сказал он. — Нехорошо это, песик… Нехорошо.
Вернувшись, он увидел, что жена сидит за машинкой. Выражение лица ее было довольно неопределенное.
— Ну, повторила мысль? — спросил он.
— Нет. Там не было никакой мысли.
— Э, ты в этом не разбираешься, — сказал он без всякой обиды. Они жили вместе уже двадцать лет и всегда хорошо понимали друг друга. Она встала, он уселся на свое место. — Звонил кто-нибудь? — спросил он, прежде чем она ушла на кухню.
— Какой-то совершенно пьяный тип. Сожалел, что тебя нет, ему надо было о многом тебе сказать.
— Например?
— Что ты зазнался, что должность тебя испортила, что ты не хочешь помочь товарищам, хоть можешь, что его считаешь последним дерьмом, но уж если ты поскользнешься и упадешь, то он тебе еще добавит.
— Это Юрек Барчик, юрисконсульт. Провел сегодняшнюю ночь в вытрезвителе. Стыд его теперь гложет.
— Ну, приятного мало.
— Я тоже так думаю.
Жена вышла. Славинский напечатал полстроки, и, разумеется, зазвонил телефон. Час тому назад, беря трубку, он вздыхал, теперь готов был скрежетать зубами.
— Да. Да, я… Нет, у меня нет возможности, но я могу тебе отдать свой… Я не пойду, я уже в этом году был в театре. Когда эта премьера? Пригласительный билет, значит, лежит в редакции. Можешь его взять завтра, я скажу секретарше. Не за что.
— Ну что, повторил мысль? — спросила, заглянув в комнату, жена.
— Нет. Попробую изложить на бумаге несколько других мыслей. Тебя это удручает?
— Нет… Вот только раковина засорилась.
— Раковина засорилась… Зазвонил телефон.
— Чэ-кэ-пэ-эс слушает, добрый день, — сказал Славинский тоном профессионального администратора гостиницы. — Да? Ничего, ничего, всегда к вашим услугам, до свидания.
Он положил трубку.
— Ты чокнулся? — полюбопытствовала жена.
— Нет. Это — сокращенно — частная квартира Петра Славинского. Правильно?
— А если это было некое важное лицо?
— Звонка от важного лица я жду уже десять лет, — ответил он с беспощадной откровенностью. В его тоне послышалась горечь. — Налей-ка водочки.
Жена открыла бар, налила рюмку.
— И себе налей, — сказал он.
— Вечером мы едем к Витольду. Кому-то из нас нужно вести машину.
— Не поедем мы к Витольду. Из гостей всегда возвращаешься, навьюченный разными просьбами. Ортопедические ботинки для тети Кази. Два билета в спальный вагон до Закопане. Выцарапать из милиции водительские права дяди Михала. Добавочно выделить угля. Найти подходящего мужа для гончей Пегги, золотой медалистки. И так далее.
— Мне казалось, тебе это нравится.
— Что?!
— Что тебе это импонирует.
— Господи, как плохо ты меня знаешь!
Они выпили. Зазвонил телефон.
— Славинский, слушаю… — сказал он с неподдельным отчаянием. — Да, помню. Так ведь все вроде уже утряслось… Не может быть… Просто не могу поверить. Не может быть, чтобы из-за одного потерянного письма… Да нет, не волнуйтесь, пожалуйста… Не надо извиняться, говорите спокойно… Когда жеребьевка? А какой это кооператив? Фамилия председателя?.. Как? Кше… Кшели… Кшеплемский? Вы у него были? О господи! Вот у него на приеме надо было плакать, а не сейчас! Плакали? И ничего? Повторите еще раз его фамилию. Помедленней… Кшеп…лем…ский… Правильно? Хорошо, завтра я буду в редакции. Зайдите часов в одиннадцать. Ну ясно! Ясно, попробую. До свидания и не плачьте, пожалуйста.
Он положил трубку, позвал жену. Она налила две рюмки. Они выпили.
— Кшеп-Кшелп-Кшеплемский. Повтори.
— Кшеплемский, — повторила она без запинки, не выразив никакого удивления, хотя понятия не имела, о чем речь. Он посмотрел на нее с уважением.
— Возьми книгу и найди телефон жилищного кооператива «Будущность». Потом будем соединяться через секретаря.
— А что такое?
— Да одна бедолага из отдела городской хроники… Разведенная, с ребенком. От великой гордости оставила мужику квартиру, сама снимает комнату. Мы помогли ей получить ссуду, побыстрее вступить в кооператив. Завтра должна быть жеребьевка. Правление кооператива якобы послало ей письмо, чтобы она принесла какую-то бумажку, письма она не получила, а следующая жеребьевка через восемь месяцев.
Пока он рассказывал, жена листала телефонную книгу.
— «Будущность»?
— Ага. Звучит абсурдно, но именно так: «Будущность».
— Нашла.
Зазвонил телефон. Славинский взял трубку.
— Да. Да, приветствую… Написал повесть? Замечательно! Но скажи мне, черт подери, почему ты не написал статью о себестоимости продукции? Не хочу ничего слушать! Если послезавтра ты не положишь статью мне на стол, узнаешь на собственной шкуре, каким я могу быть зверем! Вот именно! Привет!
— Чего ты так кричишь?
— Потому что обозлился. Соединяй. Не забудь — Кшеплемский.
Она подошла поближе к телефону, набрала номер. Славинский налил себе рюмку, выпил.
— Алло! Кооператив «Будущность»?.. Здравствуйте, это из редакции «Слова». Главный редактор просит председателя кооператива Кшеплемского… Спасибо… Здравствуйте, я говорю с паном Кшеплемский? Это из редакции «Слова». С вами хочет поговорить главный редактор… Спасибо, соединяю… Пан редактор, председатель Кшеплемский у аппарата.
Она передала ему трубку.
— Алло-о-о! Здравствуйте, пан председатель. Славинский, из редакции «Слова»… Вы обо мне слышали? Очень приятно, я о вас тоже… Тут, знаете, вышла какая-то странная история с одной нашей сотрудницей… Послезавтра она должна была уже участвовать в жеребьевке, но не принесла какую-то бумажку и ее вычеркнули из списка… Да, да, только она не знала, что надо принести. Уведомление не дошло… Вы посылаете простым письмом? Признаюсь, очень удивлен, вы ведь понимаете, что значит для человека вопрос жилья… Ну да, но раз уж бумажка вам не была доставлена, можно было, наверно, послать повторно… Да… Ее зовут Ядвига Вуйчицкая… Журналистка… Ммм… Я не настаиваю, чтобы вы… Пан председатель, по вине почты женщина с ребенком получит квартиру на год позже. Ну на восемь месяцев, невелика разница! Ничего не можете сделать? Дорогой пан председатель… Знаете, как это произошло? Был список жильцов на этот корпус. Письмецо Вуйчицкой то ли было отослано, то ли нет… Позвольте уж мне докончить. Итак, документик к вам не поступил, вы этим моментально воспользовались и в список включили кого-то из следующего корпуса. Интересно, кого? Я не утверждаю, что это ваш знакомый, но у вас ведь, наверно, есть хоть небольшой персонал, а? Я не пугаю… Нет, пан председатель. Но я могу попросить проверить… Очень внимательно. Нет. Критическая статья, голос общественного мнения, народный контроль и разное другое… Будет проверено, кто, когда и почему оказался на месте Вуйчицкой под предлогом, что она не представила справку. Действительно ли на освободившееся место передвинулся первый из следующего списка или, может, кто-то другой. Ну и так далее… Да… Да… Да… Большое спасибо… Завтра около двенадцати, если позволите… Хорошо. Очень приятно было… Всего хорошего, пан председатель.
Он положил трубку, закурил сигарету и наполнил рюмки.
— Ну как? — спросила жена.
— Хорошо, что это небольшой кооператив, удалось припугнуть. Бывают среди этих председателей такие вельможи, что им и воевода не указ. Пообещал разобраться, но я уверен — сделает. Ох, что-то водка сегодня горькая!
— Не пей.
— Легко тебе говорить. Я еще только половину написал.
— Ну тогда пиши, пиши… Не буду тебе мешать. Только вот раковина…
Чтобы прочистить слив, потребовалось минут пятнадцать, потому что пришлось вывинтить патрубок и вытащить зацепом черный, вонючий комок.
— Спасибо, — сказала жена. — Можешь идти писать. Сними рубашку, а то… Посмотри-ка на рукава.
— Действительно, — сказал он, взглянув на рукава, где остались черные пятна. Он сменил рубашку, вернулся в кабинет, выпил еще одну рюмку и сел за машинку. Тут же зазвонил телефон.
— Сейчас, сейчас… Горит, что ли?
Он взял трубку.
— Да. Не надо, Владек! Не присылай. Ну, не написал еще… Обыкновенно, не успел и все. Как-то не клеится… Затор. Поставь на это место красивое фото. Памятник, восход солнца либо горный пейзаж. Только не зимний! Говорю тебе, старик, — затор. Отчет дадим послезавтра. Мне кто-нибудь звонил? Тьма? Прекрасно! Бася записывала? Порядок. Привет. До завтра! Буду прямо с утра.
Он отодвинул машинку на самый дальний край письменного стола и почувствовал себя счастливым. У двери прозвенел гонг, жена впустила почтальона.
— Приветствую вас, пан редактор, — поздоровался уважительно почтальон и стал расстегивать свою сумку.
— Здравствуйте, здравствуйте, пан Генек. Присаживайтесь. Выпьете рюмочку?
— С превеликим удовольствием… Пожалуйста, тут два заказных, вот извещение… Будьте добры, пан редактор, распишитесь… Вот тут. И тут еще, пожалуйста.
Славинский подписал. Они выпили.
— Тепловата водка, да?
— Тепловата, но по мне ничего, — ответил, поднимаясь, почтальон.
— Посидите еще немного, — ласково сказал Славинский, который в эту минуту готов был обнять весь мир, частицей которого сейчас несомненно являлся пан Генек. Зазвонил телефон.
— Славинский… Устроил Аллею заслуженных? Нет, нет… Очень рад и совсем не завидую, что ты, а не я… Когда? Завтра в три? Конечно, буду на похоронах. Добро. Пока.
— Кто-то умер? — спросил пан Генек.
— Ясное дело, раз хороним… Приятно побеседовать с вами. Ну, по второй?
Выпили по второй. Славинский впал в меланхолическое настроение с оттенком грусти.
— Неладно, неладно, пан Генек, — сказал он соответствующим этому настроению тоном. — Письма пропадают… Простые…
— Заказные тоже пропадают, — подтвердил пан Генек. — И бандероли. И телеграммы. И посылки. Но у меня — никогда.
— У вас никогда.
— Понабирали, пан редактор, на почту, прошу прощения, дерьма всякого или пенсионеров… Ползает такой по лестницам, адреса в голове не держит, бросит письмо не в тот ящик и конец…
— И конец! Ну, еще по одной.
Зазвонил телефон.
— Славинский… Ежи? Понимаю, что это ты… Перестань лаяться, идиот! Прекрати, слышишь? А впрочем, лайся, лайся… Еще… ну, еще… Гав, гав, гав!
Он положил трубку. Пан Генек вертелся на стуле, как бы в смущении.
— Пан редактор… Можно кое о чем вас спросить? Тут у меня такое дело…
— Слушаю, пан Генек, не стесняйтесь, — ободрил его Славинский.
— Мне полагается заменить велосипед… Уже год тому назад… Но у начальника нет лимита. На ремонт есть, а на замену — нет. А в моем велосипеде — вот, на котором езжу, — втулка на заднем колесе вышла из строя. Кручу, кручу, а он, велосипед, еле-еле тянет.
— Еле-еле, говорите? Так надо заменить!
— Уж что надо, то надо! Да на втулку в магазине чек не выписывают, только по безналичному… А бухгалтер не может по безналичному.
— Черт побери! — сказал Славинский. Ему очень хотелось помочь пану Генеку, но он знал, что чек и безналичный расчет — это все равно как небо и земля.
— Да еще светоотражатель с заднего колеса стащили, — пожаловался почтальон. — Милиция может привязаться.
— Попробуем помочь делу, — сказал Славинский. — Еще по одной? Сигарету?
— Только по одной, пан редактор. Адресаты ждут.
— Вас зовут… Генрик… Фамилия?
— Влодарчик, пан редактор. Генрик Влодарчик из двадцать второго почтового отделения. Работаю там вот уже почти двадцать лет.
Славинский огляделся, ища авторучку, но сразу не нашел, так что он придвинул машинку и тут же после слов «…следует в большей, чем до сих пор, степени идти навстречу» напечатал имя и фамилию: «Генрик Влодарчик, велосипед, втулка, светоотражатель, двадцать лет стажа».
Они выпили еще по одной, и почтальон ушел.
— Пообедаешь? — спросила жена. — А когда Марек вернется?
— Через полчаса.
— Я подожду.
В прихожей раздался звонок. Жена снова впустила пана Генека.
— Уж извините, пан редактор, но тут эти, из дорожной милиции… А я прошу прощения, рюмашку опрокинул, как бы чего не вышло…
— Нет вопроса. Ясное дело — поставьте велосипед здесь, в прихожей. Завтра заберете.
— Большое спасибо, пан редактор, большое спасибо. Вот, видите, светоотражателя нет.
— И правда нет, — подтвердил Славинский.
Почтальон поблагодарил его еще раз и ушел, теперь совсем. Славинский вернулся к письменному столу и сел, подперев кулаком подбородок.
— Может, поспишь? — спросила жена. — Ты очень устал.
— Да, да… Но тут еще одно дело…
Он снял трубку, набрал номер.
— Говорит Славинский, из редакции «Слова», — медленно и, как ему казалось, с достоинством произнес он. — Можно начальника на два слова?.. Спасибо… Эдвард? Привет, это Петр. Обнимаю, дружище… Слушай, я по поводу велосипеда… Не смейся, не смейся. Один твой подчиненный из-за этого страдает. Чувствует себя обойденным, начнет еще, чего доброго, терять письма… Простые. Даже заказные… Втулка сносилась, светоотражатель выкрутили… Генрик Влодарчик из двадцать второго почтового отделения… Не знаешь? Мой почтальон, да, да… Ну, выпил немного, но не пьян ведь… Что ты говоришь? В самом деле? Настоящее «Пльзеньское»? Ну, ясно! Ясно! Хе-хе-хе… И что еще? Ну, видишь! Не знаю, как тебя благодарить… Конечно! Жду! Привет! Он положил трубку, закурил сигарету.
— Галина! Надень какое-нибудь платье понарядней, причешись, подкрасься! Сейчас придет Эдек.
— Какой Эдек? — спросила, не скрывая удивления, жена.
— Начальник Управления связи Ходура. Ты с ним знакома, мы были раз где-то на рождество в одной компании.
Галина не могла вспомнить, кто такой Эдек.
— Он получил сегодня дюжину «Пльзеньского», не знает, с кем распить. Заодно посмотрит велосипед пана Генека, убедится, что я не шучу. Да, знаешь, что еще? Он обещает установить у нас в квартире телекс. Здорово, правда?
— Здорово, — сказала жена и пошла надевать платье понарядней.
Перевод Р. Белло.
Точка зрения
В субботу разозлился я как дьявол, потому что уже без четверти час, переодеваться пора, а тут зовет меня мастер и говорит, что надо, мол, остаться, поскольку срочная работа есть. «Работа, — говорю, — всегда есть, а у меня нынче билет на бокс. Олека оставьте или Юзека, я и так прошлую субботу оставался, а две недели назад в воскресенье весь день корячился».
Мастер разоряться начал, а я как не слышу, потому что меня криком не возьмешь. Сполоснул руки в керосине, обтер концами и шагом марш в умывалку. Он за мной бежит и кричит, что, если не нравится, могу, мол, с понедельника другую работу искать. У меня от злости даже в глазах потемнело, слыханное ли дело, пять лет я у него горбатился, и вот из-за одной сверхурочной валяй на улицу. Ну и отвечаю, что быть посему, что даже не с понедельника, а с завтрашнего дня, поскольку Кравчик с Мелецкой давно уговаривал меня к нему перейти, а такая работенка всюду найдется, даже получше имеется.
Притормозил он, притих, придержал меня за локоть, папиросой угостил.
— Не дури, Леон, — говорит. — «Бьюик» один поправить надо. Ты или не ты у меня по подвеске король? Надо тяги рихтануть, поскольку клиент маленько стукнул машину. С тобой Метек останется бампер править. Кинь глаз на тормоза, поскольку подтекают, и баранка заедает, так что тоже глянь. Вон машина на площадке, ты только полюбуйся.
Если со мной по-доброму, я всегда пожалуйста, так что вышли мы на площадку. Оно и к лучшему, что сва́риться кончили, поскольку Кравчик с Мелецкой — прохиндей почище моего мастера, а уж если по правде, вовсе он не уговаривал меня место менять. Вышли за ворота — стоит тачка. Низкая, черная, стекла широченные, лак такой, что залюбуешься. Не тачка — картина, и чуть худо мне не стало, когда смотрю, а передний бампер слева вдавлен почти на самый скат. Пижона, который такие машины бьет, я бы месяц на одних сухарях держал. Хорошо еще, он чудом фару не побил, о таких фарах у нас и не мечтали.
— «Бьюик»-восьмерка восемьдесят второго года, — говорю, поскольку «Мотор» каждую неделю от доски до доски читаю и в иностранных марках разбираюсь.
Мастер кивнул, гляжу — бампер трогает, будто перелом на собственной руке ищет. Прохиндей прохиндеем, но машины любит и разбирается в них получше многих.
— Чья? — спрашиваю.
— Музыканта одного. Шибовича. Нынче у него концерт в филармонии. Завтра ему в Варшаву, так что надо сделать.
— Где он ее сыскал?
— Он в Швеции живет, хотя вроде и поляк. Всемирно известный. Прибыл на месяц на конкурс.
— Ишь! — говорю и соображаю, что надо остаться. Не трогает меня, чья машина и что клиенту завтра гнать, но при такой игрушке и попотеть приятно и вдобавок кой-чему учишься. «Ладно, останусь», — говорю. Мастер поставил машину на яму, дал Метеку и мне чистые комбинезоны, чтобы мы обивку не попачкали, выдал английский комплект ключей, что редко из шкафа достает, и отсчитал по двести на брата авансом. И смылся.
Осмотрел я машину снизу. Левая тяга маленько погнута. Со стабилизатором хуже, поскольку задет, но тоже поправимо. Но днище грязью заросло. Метек пару раз тюкнул — мне все глаза запорошило. «Иди сюда, — говорю. — Помоги снять, потом я к верстаку стану, а ты лупи сколько влезет».
Спустился он в яму, взялись мы за рулевую трапецию. Снял я первый шаровой палец, а головка сухая и до того стерта, что не шаром, а яйцом каким-то. Как показал Метеку, так он за голову схватился. Пошли мы к свету, посмотрели палец — только переглянулись. Метек — кузовщик, не автослесарь, однако даже ему тошно смотреть.
— Клиент с годик не смазывал, — говорит.
— Год, не год, а месяцев восемь уж точно.
Плюнул Метек и помог мне снять второй палец. То же самое. А третий еще хуже: побежалостью пошел от перегрева, поскольку терся всухую. А мастер-то думал, что баранку от перекоса заедает.
Если по-честному, так пальцы вместе с гнездами надо менять, причем все, да где ж у нас достанешь пары к этой модели? А на спидометре шестидесяти тысяч нет. Следил бы за машиной — четыре по столько спокойно проехал бы. Да мое какое дело?
Что могу, то сделаю, а чудес не будет, не из чего.
Раскидали трапецию, помог я Метеку поддомкратить левый борт и снять колесо, чтобы до бампера изнутри добраться. Начал он жестянку править, а я взялся за тяги и за стабилизатор. И в темпе пошло, час какой-нибудь, и можно на место ставить, да Метек все тюк да тюк, и грязища в яму сыплется. Забрался я в салон и врубил приемник, поскольку вспомнил, что матч, на который у меня билет, транслировать будут. Поймал нашу станцию, чего-то про животных толковали, я дослушал. И тут говорят: трансляция бокса отменяется, будут передавать концерт из филармонии. Концерт Константы Шибовича.
Высказался я вслух, да так, что Метек тюкать перестал, в чем дело, спрашивает. Я объяснил, и он тоже не удержался, поскольку матч не какой-нибудь, а первенство второй лиги.
«Вот, — думаю, — мало того что из-за такого пижона приходится в субботу вкалывать, так он мне еще, как назло, будет по радио в уши класть!» И вырубил приемник. А Метек говорит: «Вруби. В машинах, — говорит, — он ни в зуб, так, может, играет прилично. Послушаем».
Сначала шум пошел, словно множество народу ходит и говорит, совсем как перед матчем, только потише. Потом примолкло и захлопали. Я даже на минуту забыл, что это не матч, так живо представилось, как выходят на ринг боксеры в халатах и вот-вот ударят в гонг. Но никакого гонга, только этот Шибович на пианино заиграл. Залез Метек в салон с той стороны, сидим и слушаем. Минуту слушаем, две, потом переглянулись, подмигнул мне Метек, и пошли мы дальше корячиться. Поскольку что это за музыка? Танец не танец, молитва не молитва, и на марш военный тоже не похоже. Только в ушах то загремит, то зазвенит, причем толком даже не насвищешь. Одним словом, влипли мы с этим Шибовичем.
Выправил Метек бампер даже без подогрева, взялся грунтовать. Полез и я, начал сборку, а клиент знай себе тренькает. Изредка примолкнет, а публика хлопает и «бис» кричит, будто увидела классный нокаут. Мыкаюсь я с пальцами, тавотом набиваю, гнезда поджимаю и музыканта этого себе представляю, как он стоит при пианино, руки поднял, сияет и кланяется. А публика знай кричит: «Бис!»
Кончаю сборку, а он все тренькает. Приволок я шприц, чтобы подвеску смазать, глядь — а все масленки запеклись! Все как одна! Ну что, взял ключи, выкрутил их и кинул в керосин, чтоб отмокли.
Антракт как раз был, и какой-то пижон ну выхвалять Шибовича! Мол, он еще до войны был в Варшаве профессор, потом от немцев на Запад сбежал. В Америке был, в Англии был, везде и всюду он был и ужасно знаменитый сделался. Но про Польшу не забыл и мечтает сюда вернуться навсегда.
«Пускай возвращается, — думаю. — Только «бьюик» свой либо расшибет, либо за год заездит. Тогда одна дорога — на биржу малолитражку с рук брать. Если деньги есть, с малолитражкой не трудно. С чем зарез, слева достать можно». Вижу, Метек тоже толковищу ту слушает, ну и сказал ему про малолитражку. Он кивнул: мол, если деньги есть, то и правка побоку, поскольку на малолитражке хочешь — кузов целиком меняй, хочешь — бампер, хочешь — маску, хочешь — багажник.
Похихикали мы над Шибовичем, и Метек говорит, что нынче всё, потому что грунт подсохнуть должен. Утром в пять придется прийти, зашлифовать грунт и лачком два раза брызнуть. «Ладно, — говорю, — я тоже в пять подойду, масленки на место поставлю, набью, ну и заодно с тормозами разберусь».
Отмылись мы, переоделись, закрыли мастерскую и ушли. От Метека до мастера почти рукой подать, так мы решили, что он зайдет и скажет, что да как, а я потопал на остановку. Сначала «семерку» ждал минут двадцать, потом доехал до вокзала и там пересел на «тройку». Проезжаем мимо филармонии, а тут как раз концерт кончился, народ вышел, на остановке толпа. Вмиг трамвай набился, все шикарно одетые и только про Шибовича толкуют. Мол, что за чудо-красота, другого такого на свете нету. Я в углу стою на площадке, а рядом такая дамочка примостилась, высокая, в манто и в шляпке. И все мужу толкует, какое чудо этот Шибович и вообще. Разозлился я на ее дурость.
— Тоже мне чудо! — говорю ей. — Посмотрели бы на его машину, так иначе запели бы.
Она брови вскинула и смотрит на меня, как на идиота.
— В чем дело? — спрашивает. — Какая машина?
— «Бьюик»-восьмерка. Шибовича машина. Бампер вдавлен, баранку не провернешь, а вы говорите — «чудо»! Пальцы чуть не сжег, бампер погнул, смазки нет…
— Вы кто? — спрашивает ее муж, толстый такой, в синем плаще, шарфик белый. А народ на площадке уши развесил и уже прыскать со смеху налаживается.
— Кто я? — говорю. — Автослесарь, что при машине этого вашего Шибовича лишнюю смену вкалывал. Вовсе он никакое не чудо.
Они как грохнут, мне даже неловко стало.
— Месяцев восемь смазку не менял, — говорю громко, чтобы этот смех перекричать. — Все масленки запеклись, а головки аж синие.
Думал, они перестанут смеяться, да где там! Вдобавок еще из вагона вопросы пошли, о чем речь, с площадки им объясняют без понятия, и грянул смех на весь трамвай. У той, в манто, гляжу, даже слезы в глазах, еще чуть — и вообще слюнями захлебнется.
Чувствую, я красный делаюсь, как рак, поскольку весь трамвай гогочет и пальцами на меня показывает. Растолкал я их, протиснулся к выходу и сошел на первой же остановке. Ох и разозлился я на этого Шибовича! Поскольку из-за него не только лишнюю смену пришлось гнуться, не только бока мне намяли в трамвае, так еще и дурацкого смеха под конец наслушался.
Перевод А. Щербакова.

Янина Сошиньская
Мечта семилетнего
Хочется мне
Чтоб наша автомашина
Сделалась кошкой
Пусть мурлычет у меня на коленях
И чтоб телевизор
сделался мамой
Пускай мне сказку
на ночь расскажет
Перевод С. Свяцкого.
«Я ношу в себе…»
Я ношу в себе
Два мира
Но они не смыкаются друг с другом
Это мудрость великая
И великая печаль
Не найти мне себя ни в одном из них
Вот какая в сердце трещина
Перевод С. Свяцкого.
Анджей Васькевич
Скажу о ладонях
Через разливы воздуха тела проносят женщины,
как будничные, трогательно хрупкие сосуды.
В рассвет, что скоро лопаться начнет от ранних ласточек,
они, как в церковь, входят. Тишина.
Пока твой час не пробил, скажу о терпеливости ладоней,
ладоней, на холоду застывших, собирающих картошку,
ладоней, как-то совестясь и просто умирающих,
хозяйке верных, как собаки.
Они готовы кинуться за каждою картошиной,
подруги неразлучные пригнувшейся спине,
ладони, о которых до конца и не доскажешь.
В рассвет, на холоду застывший, набухший молоком,
они вторгаются, неся всю тяжесть небосвода.
В ладонях женщины вся чуткость и вся верность,
присущие земле.
Перевод А. Щербакова.
Станислав Залуский
Эти звезды не блистают
Голяж стоял бледный, руки у него дрожали. Позади цех содрогался от грохота молотов о стальные листы, поблескивали огоньки сварки; впереди углом сходились заводские стены и валялся ржавый лом, сквозь который буйно проросла крапива. Зенек сидел на старом железном ящике, завалившемся в бурьян, и Голяж смотрел на него сверху. Видел, как у Зенека дрожат колени. «Тряпка, — со злостью думал он. — Барахло, что этот ящик».
Такого не случалось за весь срок его бригадирства. Голяж как раз шел от председателя заводского совета. Час назад его туда вызвали, и пришлось идти, хотя у него не в обычае оставлять своих во время смены. В комнате совета сидели секретарь завкома Союза социалистической молодежи, какой-то товарищ из воеводского комитета и молодой журналист с фотоаппаратом на ремешке через плечо. Они с торжественным видом объявили, что итоги соревнования подведены и через неделю на общезаводском собрании в честь Дня железнодорожника его бригаде, занявшей первое место по воеводству, будет вручен почетный вымпел и присвоено звание «Молодежная бригада социалистического труда». Говорили наперебой и хлопали его по плечу. Журналист сделал несколько снимков и обещал, что в одном из ближайших номеров газеты будет большая статья. Ошеломленный Голяж еле разобрался, кому первому ответить и руку пожать.
— Так я пошел, — сказал он, когда те на минуту примолкли.
Журналист проводил его до двери.
— Я на днях заскочу, — пообещал он. — Вы соберете своих ребят, и мы проведем коллективное интервью.
Гордый и обрадованный, возвращался Голяж в цех. Теперь все его мечты наверняка осуществятся, думалось ему. Он показал, на что способен. Он опередил всех. Через несколько дней он увидит в газете статью и свою фотографию на первой странице. Народ прочтет, начнут узнавать на улице, в трамвае, в кино. И будут шептаться: «Это Юзек Голяж» — так, как теперь шепчутся про кинозвезду или про боксера. На такую известность откликнется, не может не откликнуться оттуда, где решается его судьба.
Цех кишел рабочими, которые обстукивали остовы вагонов, меняли крепеж, ставили новые узлы. Голяж шел мимо рабочих постов. Тут захочешь, а новостью не поделишься. Человеческий голос без остатка тонет в жутком скрежете вспарываемого железа.
— Берегись! — Голяж собственного крика не услышал, но вовремя успел в прыжке дернуть Зенека за руку. Они оба отлетели в сторону, а стальная рама тележки весом в две тонны осела на каменный пол рядом с ними. Из будки, висящей под переплетом цеховой крыши, замаячило перепуганное лицо крановщика. Голяж поднял руку, дал понять, что все в порядке, пусть делает свое дело. И вывел Зенека из цеха.
Теперь он стоял над Зенеком, съежившимся на ящике, представляя себе, что было бы, вернись он двумя секундами позже или окажись в этот момент на другом конце сборочной линии. «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, успех слишком зависит от случая», — с ужасом затверживал он полученный урок. И все большая злость охватывала при виде раззявы, который чуть было не поставил крест на всех его планах.
— Зенек, что с тобой? То у тебя обморок, то под груз суешься.
Припомнилось, как несколько дней назад перед самым концом смены Зенек внезапно рухнул на пол и пришлось отливать его водой.
Зенек сидел не поднимая головы. Козырек старой грязной кепки закрывал его лоб и лицо.
— Уже устал? Четыре часа — и копыта на сторону. Думаешь, я не вижу, как у тебя машинка из рук валится? Что за мужик! Не справляешься на линии — ступай в контору задницу мозолить.
— Юзек, не серчай. Худо мне что-то нынче, кофе попить не успел. Сам знаешь, пока протиснешься к титану, перерыв кончился. Больше обольют, чем выпьешь.
— Если больной, иди к врачу.
— На черта мне врач? Курну — и на место.
— Какое место! Нам только несчастного случая на работе не хватало!
— Сам говорил, что надо нажать, чтобы знамя заработать.
— Знамя…
Голяж хотел сказать, что знамя, считай, уже их, но сдержался. И опять злость охватила его при мысли о том, как легко было похоронить плоды многомесячных усилий.
— Ты про знамя не болтай, — резко сказал он. — Знамена мужики зарабатывают, а не рохли. Ясно?
Зенек встал. Из-под козырька глянул на Голяжа, широко открыв глаза.
— Юзек, — сказал он. — Юзек! Ну что ты…
— Думал, вагоны в белых перчатках ремонтируют? Ошибаешься, браток. Мы за тебя вкалывать не будем.
— Ну как знаешь. — Зенек сцепил зубы, словно сдерживал слезы. — Если так…
Зенек отвернулся и побрел к проходной. Голяж проводил его взглядом, потом оглянулся в озаряемую вспышками автогена глубину цеха, где на одной из линий работала его бригада. Видно было, как ребята вьются возле ремонтируемых вагонов. Лучшая бригада предприятия. Он еще раз поискал взглядом Зенека, хотел его окликнуть, но тот уже скрылся где-то за углом. Голяж вернулся в цех и занял место Зенека. Поднял пневматический гайковерт, приставил к стенке вагона. Из-под взвизгнувшего винта посыпалась ржа.
В четырнадцать ноль-ноль взвыла сирена. Гром железа ненадолго стих, погасли горелки, завод примолк. Голяж передал линию второй смене, потом не спеша, старательно мыл руки и лицо. Когда он пришел в столовку, там было уже почти пусто. На приемном столе мойки громоздились горы тарелок с остатками супа и картошки, уборщицы собирали грязную посуду и вытирали столики. Он пообедал одним из последних. На весь завод снова запричитало мучимое железо. Он зашел в цех присмотреть, как там вторая смена. Известное дело, вечером надзор послабей, портачам одно искушение. Вагон, к которому месяц назад придрался техконтроль, выпустила именно вторая смена. Тогда он взял вину на себя, расплатился из своего кармана и сказал: «Парни! Еще раз такое повторится — вычту с каждого в двойном размере». Предпочел на первый раз не наказывать. Накажешь — отыграться захотят, вообразят: мол, разок не сошло, по второму сойдет — и снова халтуру слепят.
Когда он ушел с завода, было уже совсем темно. Ушедший из-под носа трамвай громыхал к дальнему концу улицы. Голяж пошел пешком в сторону центра. Не приходило на ум, что делать с остатком вечера. Шел и думал, что, может быть, это последние недели цыганской жизни. Шесть лет уже он был женат и все шесть лет жил отдельно от семьи. Он здесь, а жена с детьми у своей матери в уездном городишке. Считай, три часа на поезде, включая пересадку. Когда поженились, думали, что за год, за два накопят на вступление в кооператив. Мечтали о двухкомнатной с кухней и ванной. Но тут ребенок родился, жена бросила работу. Голяж гостил у них раз в неделю по воскресеньям. Когда второй родился, перестал откладывать деньги. Ясно было, что все равно ничего не выйдет. На заводе его заявление лежало в самом низу, под грудой других. Уже не очень верилось, что настанет день и заживут они вместе. «Но теперь-то что-то же сдвинется. Заводской совет, дирекция, журналист этот тоже чем-то помогут».
Он свернул на оживленную поперечную улицу. Купил в самообслуге хлеба и колбасы. Постоял перед кино, поглядел на фото. Касса закрыта, табличка висит: «На сегодня все билеты проданы». Следом приостановились две девицы в коротких юбочках. Захихикали, подтолкнули одна другую. Разинь рот — вмиг заарканят. Голяж покосился на их костистые коленки. Им овладело неясное тоскливое чувство. Он зажал покрепче под мышкой буханку хлеба и двинулся прочь по улице, сияющей неоновыми огнями.
Все жильцы уже были дома, он пришел последним. В однокомнатной квартирке с кухней их жило шестеро, все с одного завода, хотя из разных бригад и отделов. Хозяин квартиры года два назад развелся. Не захотел жить в одиночку, пустил к себе товарища. Сначала одного, потом двоих, троих. Через некоторое время вся квартира была заставлена кроватями. Еле хватало места для шкафа и непокрытого стола, за которым вечерами играли в карты, пили вино и писали письма. Не по душе Голяжу была эта комната. С ее обитателями, которые были значительно старше, он так и не сжился. Но выбора не было. Из двух зол предпочитают меньшее, а здесь было удобнее, чем в общежитии.
— Что там у тебя, Юзек? — спросил могучего сложения усач лет сорока, лежавший на кровати положа ноги на спинку. Он работал слесарем, как и Голяж. На завод пришел полтора десятка лет назад, почти во времена послевоенного восстановления. — Говорят, у тебя парня чуть не придавило.
— Зенек сунулся под тележку. Черт, еле выволок.
— Накрылось бы все соревнование.
— Само собой. Не только число вагонов в счет идет. Кончись все даже просто травмой, и того хватило бы.
— Что с Зенеком сделал? Слух идет, вы разругались.
— Велел ему к врачу сходить, а он обиделся. Мол, я его обратно на линию не пускаю. А что мне с такого? Ему лишь бы наряд закрыли, а кто вкалывать будет, его не касается. Не исправится — заявлю, чтобы уволили.
— А ты по душам с ним говорить не пробовал?
— Чего?
— Всему заводу видно, что с парнем что-то не то.
Голяж минуту подумал.
— А мое какое дело? Взрослый мужик, пусть сам о себе печется.
— Твое, не твое, а все-таки что с ним?
— Он на этот счет не распространяется.
— Ты когда-нибудь видел, как он завтракает?
— Нет.
— То-то. Вы за еду, а он в сторонку. Я разочек глянул — он всухомятку хлеб жует. Что-то не вяжется. Живет один, имеет под две тысячи в месяц, а колбасы купить не на что. Пьет, что ли?
— Не видел его пьяным. Ни на работе, ни на улице.
— Куда ж он, черт, деньги девает? На книжку кладет? Алименты платит? Ты, да чтоб не знал!
Голяж пожал плечами.
— Святой истинный крест, не кручу.
— Я одного такого знал, он пух с голода, копил на мотоцикл. Каждый грош откладывал. Накопил, заимел и гробанулся. Гнал, как бешеный, сотню в час — и в дерево. И в клочья. Полдня потом руки-ноги собирали.
— Не жрать, на мотоцикл копить — это глупости, — вмешался кто-то еще. — Иное дело, если на квартиру.
— На квартиру не накопишь, — понуро сказал Голяж. — Ни в одиночку, ни тем более женатый. Детки все съедят.
— Брось, Юзек, — сказал здоровяк. — Тебе первому дадут вне очереди. И еще заводской совет за тебя доплату внесет. Там таких, как ты, усердных любят.
— А Зенека спиши, — посоветовал другой. — Возьмешь вместо него кого-нибудь покрепче, чтобы вкалывал с утра до ночи.
Голяж встал и, чувствуя, как все смотрят ему вслед, молча пошел на кухню. Поставил кастрюльку под кран, наполнил водой наполовину, перенес на газ, чиркнул спичкой. Нарезая хлеб, думал, что насчет увольнения это уж слишком. Зенек свой в доску, это всем известно, и ни о чем таком речи быть не может. Мужик прав, завтра надо будет потолковать с глазу на глаз. Если парню и впрямь трудно, можно сходить в комитет ССМ
[65], а то и в партком. Человек из бригады Голяжа — теперь, поди-ка, с этим на заводе посчитаются.
Вода в кастрюльке закипела, и Голяж всыпал в кипяток ложки две ячменного кофе. Ужиная, думал о семье. До встречи с ней еще три дня. Он приедет в городок в субботу в одиннадцать вечера, тихо постучится. Хелена откроет. Они будут лежать в жаркой постели, разговаривая шепотом, чтобы дети не проснулись. Хелена прижмется, по ласке соскучилась, а у него глаза будут слипаться от усталости. Следующий день проведут вместе, возня с детьми, домашний обед, прогулка, вечером лягут пораньше. В два ночи он встанет, поцелует Хелену и уйдет так же тихо, как пришел…
Поужинав, он сполоснул кружку холодной водой и вернулся в комнату. Прежний разговор не возобновился. Двое уже похрапывали в подушку, остальные готовились ко сну. Ложились тут рано, общий будильник был поставлен на пять утра.
С высоты сцены Голяж смотрел в глубину зала. Перед ним был стол, покрытый красным сукном, а на столе стоял треугольный вымпел с вышитыми золотом буквами. Этот вымпел час назад вручил Голяжу представитель воеводского комитета ССМ. Они оба вышли на просцениум, залитый светом прожекторов, с одной стороны от них был стол президиума, с другой — зал, словно вымощенный сотнями голов. Представитель держал вымпел в левой руке, правой сжимал руку Голяжа и говорил. Говорил о трудовом соревновании, о роли молодежных бригад в развитии отечественной промышленности, о чести, которой удостоились сам Голяж, его бригада и все предприятие. Зал гремел аплодисментами. Громче всех хлопали те, кто сидел в президиуме. У Голяжа в ушах шумело. Он был горд и в то же время стеснялся, ему хотелось сбежать отсюда как можно быстрее. Когда ему позволили сесть на место, справа — главный инженер, слева — какой-то деятель из воеводства, он облегченно вздохнул. Теперь он потихоньку, прячась за вымпелом, искал в толпе лица товарищей. Насчитал все двадцать семь: обе смены в сборе. Не было только новичка, что пришел на место Зенека. То ли новичок вообще ушел с собрания, то ли Голяж еще не запомнил его в лицо и не смог узнать.
«Что там с Зенеком?» — думал он. Уже целую неделю этот вопрос не давал ему покоя. Забыл бы с радостью, да не шло из головы. Так и стояло перед глазами, как Зенек, пошатываясь, уходит с работы в чем был. «Даже в отдел кадров не зашел оформить увольнение. Исчез, как сквозь землю провалился».
Шум из зала возвестил, что собрание кончилось. У дверей при выходе закипела толчея. Голяж встал и взял вымпел, намереваясь вернуться к своим. Но путь загородил председатель заводского совета.
— Дайте-ка мне, — протянул он руку за вымпелом. Голяж глянул выжидательно. — Незачем его в цех тащить, перемажете.
— Хочу ребятам показать.
Голяж почувствовал обиду. Он считал вымпел своей собственностью. Думал отвезти его домой, похвалиться перед женой, детьми, тестем с тещей. Но ссориться с председателем тоже не хотелось. Ведь это прежде всего от председателя зависело, будет или нет квартира и когда.
— А приведите их ко мне. — Председатель глянул на часы. — Я еще побуду у себя с четверть часика. Заодно и сыщем почетное место для вашего вымпела.
Он пожал Голяжу руку и торопливо пошел за сцену к задней двери. Рабочие толпились у выхода. Голяж спустился к ним. Часть народа из его бригады уже разошлась, но ближайшие друзья поджидали.
— Ну что? Где флажок? — окружили они его.
— В заводском совете. Можно посмотреть. Председатель его себе на стол поставит.
— А с чего? Разве это он соревновался? — бросил сварщик Франек Волярский.
Голяж промолчал. Пожалуй, не следовало отдавать вымпел. Ребята переглядывались и не трогались с места. Кроме них, в зале почти никого уже не было, одни пустые сдвинутые стулья, словно тут прокатился шквал.
— Так что? — отозвался кто-то. — Сходим в совет?
— Клал я на ихний этот совет!
— Ты чего завелся, Михал?
— Осточертело все это!
— Пошли пожрем, — предложил заместитель Голяжа Сыльвестер Коса. — Может, к «Кривому Леону»?
От завода до ресторана было недалеко. Третьесортная забегаловка, которую обслуживали два официанта в грязных, заляпанных куртках; вместо гардероба по всему залу стояли вешалки, а столы под стеклом были застелены грязной бумагой. Весь вечер за стойкой хлопотал одноглазый буфетчик, обслуживая рабочих, приходивших сюда на кружку пива и маленькую. В воздухе вечно было сине от табачного дыма, но кормили здесь вкусно и обильно. Голяж и его товарищи повесили головные уборы на вешалку и заняли большой стол в углу. Плащей не сняли.
— По правде сказать, не очень-то нас нынче уважили, — отозвался тот, что недавно успокаивал Михала.
— Мало тебе флажка? — спросил Коса.
— Пара сотен тоже не помешала бы.
Голяж выпрямился за столом.
— Если речь о премии, имейте в виду, я всех в список включил, обе смены.
— Не о тебе речь, — сказал Волярский. — С тобой-то все ясно, ты сам не возьмешь, лишь бы другим досталось.
— Точно не считал, — сказал Голяж, — но, думаю, на всю бригаду кинут четыреста, если
не пятьсот.
— А вас двое. По две сотни на нос. Вот и все четыреста.
— И флажок в придачу.
— А шуму-то, шуму! Мол, про молодых в газетах пишут, а про старых нет, молодым все, а старым шиш. Посидел бы с нами, Юзек, в зале — наслушался бы, что за спиной толкуют.
— Не очень и пишут в газетах-то.
— Даже фотки твоей не дали.
— Теперь в газетах портреты передовиков не печатают, — сказал Коса. — У них другие звезды: актеры да спортсмены. Был бы Юзек чемпион по мордобою, вы б о нем уже сто раз читали.
К столику подошел официант, и Голяж заказал семь отбивных и семь кружек пива.
— Может, еще пол-литру? — предложил Волярский.
— Раз уж сели, то две. — Михал глянул на Голяжа.
— По сто, — сказал Голяж.
Официант ушел, а Голяж повернулся к Косе.
— Может, так и должно быть, — задумчиво сказал он. — Одним вкалывать, другим блистать.
— Квартиру тебе зажали.
— Может, и дадут. Нынче перед собранием я с председателем толковал. Говорит, дадут. Только неизвестно, когда и какую.
— Главное, не придавай значения, — сказал Волярский, потому что официант как раз принес стаканы с водкой.
— Я еще вот про что… — начал Голяж и умолк.
— Прошу прощения. — Официант жонглировал кружками с пенящимся пивом. На миг скрылся и вернулся с горкой тарелок на руке до локтя…
— А теперь куда? — спросил Коса, когда всё выпили и съели.
— Нынче в клубе вечер, — сказал Волярский. — Стоит заглянуть.
— Ни разу у нас в клубе не бывал. Там же хулиганье со всего района. Каждый вечер кого-нибудь на «скорой» увозят.
— Это раньше было. Теперь там новый директор, боксер из профессионалов. Он эту шатию гоняет, только хруст идет.
— Председатель приглашал, — отозвался Голяж. — Говорил, мол, вечер в нашу честь.
— Ишь липнет!
— Липнет не липнет, а заглянем. — Волярский отодвинул стул, поднялся.
При выходе рассчитались и вышли. На улице было темно. Из-за города с болот тянуло холодной сыростью. Прошли несколько кварталов.
— Здесь, — сказал Волярский.
Клуб был ярко освещен. Изнутри доносилась музыка. Поблизости маячило несколько мужских фигур. Кто-то топтался у окон, норовил заглянуть. Волярский дернул дверь.
— Заперто! — обронил кто-то.
— Постойте! — Волярский начал бить кулаком в дверь.
Никто не отворял. Волярский раз-другой ударил в дверь ногой. На пороге появился высокий мужчина.
— Что за шум? Милицию позвать?
— Мы на вечер пришли, — сказал Волярский.
— Членские билеты есть?
— Билеты? У кого-нибудь есть билет? — Они переглянулись и пожали плечами.
— Вход только для членов клуба, — объяснил мужчина. — Без членских билетов никого не пускаем.
Он хотел закрыть дверь, но Волярский поставил ногу на порог.
— Мы с завода, — сказал он.
— А мне наплевать. — Высокий тянул дверь на себя.
Кто-то помог Волярскому. Вдвоем они удержали дверь.
— Без хулиганства, а то пожалеете.
— Кто хулиганы? — взорвался Волярский. — Мы бригада социалистического труда! Мы флажок завоевали. Был на собрании? Юзека Голяжа видел в президиуме?
— Брось, — придержал Голяж товарища за локоть. — Пошли в другое место.
— Ты что, Юзек? Звал председатель или не звал?
— Да хрен ему в душу!
Голяж отвернулся и пошел вниз со ступенек перед клубом. Волярский попятился, и высокий, воспользовавшись этим, захлопнул дверь.
— Гад! — выругался Коса.
Они оставили дверь в покое и пошли за своим бригадиром. Совещались и спорили, где нынче можно повеселиться. Голяж остановился, подождал, покуда догонят.
— Двинули в «Европу», — коротко сказал он. — Один раз можно по случаю праздника.
И, не дожидаясь ответа, зашагал вперед во тьму.
— Юзек! — окликнул Коса. — Пошли на трамвай. Трамваем доедем.
— Нет!
Голяж шел решительным широким шагом. Он знал, что именно надо сделать, настала минута, которой он ждал целую неделю, хотя прежде все это рисовалось ему не так четко. Он свернул в переулок, едва освещаемый одним-единственным газовым фонарем. Заколебался было, потому что был тут всего однажды несколько месяцев тому назад. Товарищи шли следом в трех-четырех шагах. Они обогнули трехэтажный дом, кучи песка, битого кирпича и ломаных досок вокруг которого красноречиво говорили о затянувшемся ремонте. Голяж споткнулся о незаметно торчащий кирпич. Свет, падающий из окна, указал ему тропинку среди заборов. Теперь вспомнилось. Он пересек двор, прошел мимо сараев, где залаял цепной пес, и остановился перед нужным домом.
— Ты куда нас ведешь? — осторожно подошел Волярский.
— Здесь живет Зенек, — сказал Голяж, и никто не проронил в ответ ни звука…
Они молча поднялись по лестнице и остановились на площадке второго этажа. Здесь было темным-темно. Голяж зажег спичку и отыскал звонок.
— Жаль, флажок не с нами, — буркнул Коса.
Приоткрылась придерживаемая цепочкой дверь. В полоске света они увидели сморщенное старушечье личико.
— Вам к кому?
Голяж выступил вперед.
— Зенек дома?
— Нет.
Выцветшие глаза смотрели настороженно.
— Зенек Мазур. Знаете? С вагонного завода. Он здесь жил.
— Жил, да съехал. Пять дней уже как съехал.
Голяж перевел дыхание.
— А вы не знаете, куда?
— Он не сказал. Собрал манатки и ушел.
Старухе явно хотелось поскорей захлопнуть дверь.
— Извините, — сказал Голяж.
Дверь со стуком захлопнулась. На лестнице снова стало темно. Некоторое время все стояли не шевелясь. Голяж слышал дыхание товарищей. Лиц было не различить.
— Пошли?
Это был голос Косы.
Они спустились с лестницы и выбрались на улицу. Теперь Голяж шел в хвосте. Он не знал, когда и как они добрались до остановки. Слышался близящийся шум трамвая.
— Ну что? Едем веселиться? — робко спросил Михал.
— Езжайте без меня.
Голяжу показалось, что это не он, а кто-то другой сказал.
Рабочие неуверенно переглянулись.
— Да поздновато уже, — протянул Коса.
— Завтра к шести на работу…
Трамвай остановился. Кондуктор дал звонок. Вагон тронулся.
— Привет! — сказал Коса. — Я пошел домой…
Расходились по одному, по два. Голяж направился к себе. Вдруг за спиной послышались быстрые шаги. Он оглянулся. Это был Волярский. Голяж подождал его, и некоторое время они шли рядом.
— Не придавай значения, — сказал Волярский. — Ты тут ни при чем. Зенек сам виноват. Обижаться ему не на что.
— Да знаю… — Голяж с трудом подбирал слова. — Но видишь ли… Мне бы раньше сообразить… Ему что-то мешало… Бригадир не только о производстве должен думать. Потому что иначе…
— Да сыщем мы его! Не мог же он так и пропасть с концами. Узнаем адрес в паспортном столе.
— Все равно он не вернется. Уверен, что не вернется.
Голяж тряхнул головой и продолжал:
— Как о нем подумаю, так даже почти не обидно, что флажок увели, и что премию зажали, и что на вечер не пустили. Потому что когда сам хорош, уж чего с других-то требовать.
— Мне сворачивать, — неожиданно сказал Волярский. — Будь здоров, Юзек.
— Будь здоров.
Они пожали друг другу руки. Волярский заторопился по темной улице. Цокали о тротуар подковки у него на каблуках. Голяж не трогался с места до тех пор, пока отзвук шагов товарища не растворился в других каких-то звуках. А потом побрел к себе.
Перевод А. Щербакова.
Яцек Котлица
В стогу сена
Деля белый свет надвое
бредем туда
куда глаза глядят
как будто оказаться можно
всюду
И там где море огибает наши звезды вплавь
на в прах развеянном пляже
и на скошенном лугу
в стебельках еще некогда зеленой травы
которую
кто-то когда-то будто бы во сне
воскресил вокруг нас
в стогу покинутого сена
наткнулся на иголку твоей ресницы
и поранил ею безымянный палец
и в сердцах заклял навеки тебя и меня
чтобы свиделись мы когда-нибудь снова
в пекле развеянного памятью сена
и занялись без остатка собой
все мосты что сзади сжигая
без сожаленья без сожаленья
Перевод В. Максимова.
Эпизод
Австрийский поэт Райнер Мария Рильке
прибыл туда 16 июля 1898 года (дату сию
навеки запомнил достопочтенный билет)
объятый пылом своей поэзии
любовью к прекрасной госпоже Лу
очарованный суровостью окрестностей
(Сопотскому курорту всегда везло
на шальных гостей
поэтов женщин-недотрог игроков
ставящих на одну карту)
Он слышал топот забористого языка
как рыцарский галоп
а также скрежет кашубщизны
в славянском запеве
О Польше ни единого слова
Он пишет стихи о людях никому не ведомых
о холоде моря
о мраке звезд
о глубинах разлуки
о молчащих скрипках праотцев этой земли
неутомимых в деянии
Рильке возвращается в эти края еще раз
18 июня 1899 с проектом
раны в сердце
Прекрасной госпожой Лу драпирует
прохладцу угасших страстей
и остывший песочек пляжный
Поэт
покидает курорт 27 июня
того же года
дабы не возвратиться никогда
И след его
смытый волной
пропадает без вести
Перевод В. Максимова.
Колыбельная
Кончился день — вянут цветы в ладонях
возвращаются эха как меднокрылые птицы
в ритмы глаз твоих и дневные заботы
покатились из них осыпаясь в цветы
спи усни: колокола умолкают
падают наземь звуки бронзою застывая
коршун крылья раскинул и недвижимый замер
воздух черня опереньем
спи усни: луна расчесала хлеба и травы
на березах кора превращается в мрамор
поднял топор лесоруб и медленно опускает
у косарей из рук выпадают косы
мне пора пробуждать античные хоры
ночь светла словно клавиатура
Перевод Л. Цывьяна.
Там, где всегда
Даже если ты опоздаешь
на много долгих минут
и вовремя не придешь туда
где всегда
(запомни тот перекресток!)
если вдруг собьешься с дороги
по пути: если разлюбишь
и внезапно
в мимолетном недуге
без предупреждения оправдания повода
в середине жизни
не написав в письме
ничего
кроме привычной строки про любовь
и подписи — покинешь
и даже если не получу
письма от тебя
и не услышу из уст твоих —
выйду к тебе на свидание
Перевод Л. Цывьяна.
Экскурсия
Прошу сосредоточиться
и разинуть рты
где-то в этих местах
облака спрессованного света
Одежду лишнюю прошу оставить
нам предстоит изрядный
подъем в гору
чтобы все увидеть
нужно идти вверх
к белым кручам
где воздух разрежен
Это край удивительных известняковых гор
в которых месторождения
платины и золота
Ну а мостки ведут к подземным ямам
Перевод Н. Карповой.
Берег
Здесь — над морем своим
засмотрюсь поражаясь
птицам вплетенным
в прибрежный высокий тростник
словно открылись глаза
стали вдруг различаться
странствующие янтарной осенью
чайки что кружат над морем
чайки в воздухе чертят
белый огромный парус
и вот острокрылая птица
проносится мимо меня
Перевод Н. Карповой.
Икар — Сент-Экзюпери
Упал
в простреленном крыле дыра —
отверстая небесная глазница
Хлопал руками от стужи —
иней лежал в пещерах Ласко —
и рухнул
на живые колени металла
касаясь земли
виском со свежей сединой
Кружило его
и он накренился
к кривому зеркалу моря
со всплывшими рыбами
промелькнул
запрокинувшим голову в небо Икаром
двойником
легендарного летуна
словно ищущим в воздух
крылья
Перевод Н. Карповой.
Влодзимеж Антковяк
День на озере Грабовец
Узкая, новая, усыпанная гравием асфальтированная дорога змейкой виляла то вправо, то влево, ныряла с холма на холм, но все же упрямо стремилась вниз, туда, где в низине лежал Грабовец. Не доезжая до озера, перед последним спуском в низину виднелись развалины погорелой усадьбы какого-то немца и дикий, заброшенный сад с одичавшими деревьями, зарослями малины и несколькими десятками слив, не выродившимися в этом запустении и даже разросшимися; хотя за деревьями никто не ухаживал, они выжили и плодоносили не хуже прежнего. Паренек, съезжавший на велосипеде со склона, не крутил педали, чтобы велосипед как следует разогнался, потом тормознул и, сбавив возле сада скорость, свернул с асфальта на траву, лавируя между кротовинами и одичавшими яблонями и сливами. Остановился, положил велосипед и огляделся. Он был один. На несколько километров окрест ни души.
Паренек подошел к дереву, сорвал сливу, разломил и, вынув косточку, положил мякоть в рот. Деревья были фиолетовыми от плодов. Он сорвал еще пригоршню слив и вернулся к велосипеду. На руле висела сумка-планшет, на багажнике лежали свернутая дерматиновая куртка и пустой старый рюкзак без каркаса, но зато с укрепленным картоном дном, а к раме были привязаны бамбуковые удилища в холщовом, малость коротковатом чехле. Достав из сумки ситцевый мешок, затягивающийся шнурком, паренек вернулся к дереву и нарвал слив. Потом, повесив мешок на левое запястье, поднял велосипед, вывел его на асфальт и проехал еще несколько десятков метров, держа руль правой рукой.
В низине озеро подступало прямо к дороге, тут паренек затормозил и, опустив ноги с педалей на землю, засмотрелся на воду. Он стоял на правом, подветренном берегу; солнце светило справа, и под откосом — дальше берег повышался — можно найти славное местечко в тени старых деревьев, с просветами в тростнике, чтобы забросить удочку. Паренек слез с велосипеда и повел его по краю поля вверх, придерживая руль одной рукой. Поле было засеяно свеклой, но у тропинки попадалась брюква; паренек нагнулся, вырвал брюквину и понес ее, держа за ботву. Он нашел спуск к озеру и, упираясь каблуками в землю, свел велосипед, прислонил его к дереву, положил рядом брюквину и мешок со сливами и сразу же, поглядывая на воду, принялся отвязывать от рамы удилища. Все это он проделывал молча, без спешки и суеты. Став на колени, он собрал удилище, привязал леску, размотал ее с дощечки, прикрепил поплавок, потом достал из сумки завернутое в целлофан тесто, оторвал комочек, насадил на крючок и отправился с удочкой к берегу. Ветви деревьев нависали над водой, и удочка зацепилась за сук. Но паренек без труда освободил леску и уж дальше понес удочку наперевес. Он закинул ее, поплавок-гусинка стал вертикально и тут же дернулся, нырнул, но не ушел в глубину, не скрылся весь под водой, а вскоре снова замер. Паренек ждал, сжав губы. Потом осторожно поднял удочку и увидел пустой крючок. Насадил другой комочек теста, закинул, поплавок нырнул, и паренек подсек, уже чувствуя, что прозевал, что рыба ушла. Взял наживку побольше, и теперь поплавок долго неподвижно стоял в воде. Вдруг пошел вниз, паренек подсек и вытащил первую рыбу, плотвичку. Положив удочку на землю, он снял рыбешку с крючка, пошел к велосипеду и одной рукой распустил завязку мешка. Высыпал сливы на землю и положил в мешок рыбешку. Потом опустил мешок в воду, привязал шнурок к одной из ивовых рогаток, торчавших из мокрой земли, снова насадил комочек теста, закинул, положил удочку на рогатку и, посматривая на воду, принялся налаживать другую удочку. Эта была короче, с толстой жилкой, пробковым поплавком и крючком покрупнее; паренек решил наживить на нее червяка. Закинув удочку за прибрежный тростник, он положил ее на рогатку и стал следить за поплавками, иногда поглядывая на мешок, от которого по воде расходились тонкие, концентрические круги.
Солнце повисло над вершинами деревьев, и паренек сидел, опершись спиной о толстый ствол тополя. Он был босиком, без рубашки, штанины закатал до колен. В руке он держал сливы и ел их, стирая пальцами фиолетовую пыльцу. Две удочки лежали на рогатках, одна справа от просвета в тростнике, другая слева; между ними была воткнута в землю короткая бамбуковая донка с катушкой и колокольчиком на верхнем проводном кольце; за тростником становилось глубже, и леска донки почти отвесно уходила в воду. На длинной удочке тонкую леску сменила другая, потолще, да и поплавок теперь уже был не тот, а толстый, пробковый. В мешке плескалось несколько рыбешек, но все мелочь. Паренек ел сливы и поглядывал то на удочки, то на воду, то на противоположный берег. Тот берег был отлогий, открытый, поля подходили прямо к воде, и только в одном месте к озеру спускался неглубокий, заросший овражек. Где-то там давным-давно, еще в войну, дедушка паренька ночью закинул удочку и зацепил перемет. Дедушка вытащил его: на нескольких крючках извивалось девять большущих угрей. Паренек знал эту историю, дедушка рассказывал ее, а приезжая к ним, всегда ставил донку, надеясь, что ему опять повезет, и паренек тоже надеялся, хотя ему еще не доводилось поймать в этом озере угря.
Паренек встал, проверил крайние удочки, взял на палец леску донки, слегка потянул и подождал. Но все попусту, отзыва не было. Он дернул леску, и колокольчик звякнул. Паренек посмотрел на велосипед и вещи под деревом. Взял пустой рюкзак и пошел по тропинке вверх, потом свернул направо к асфальтовой дороге. Вдруг прямо из-под ног с шумом взлетела куропатка и, пролетев с десяток метров, опустилась в зарослях кустарника. Паренек замер и проводил ее взглядом. Потом, пригнувшись, стал красться туда, где затаилась птица. На склонах моренных холмов, на поле было множество валунов и камней, которые с давних пор никто не убирал, и паренек, свернув в поле, подобрал увесистый, килограмма в два, обломок песчаника и несколько камней поменьше, размером с яйцо. Дойдя до кустов, он притаился и напряг слух. Птица была в зарослях, и паренек услыхал ее. Куропатка издала какой-то похожий на кудахтанье звук, и паренек определил, где она сидит. Отложив камни поменьше, паренек обеими руками взял обломок песчаника, прикинул на глаз расстояние, прицелился. Потом бросил камень вверх, и тот, как снаряд из мортиры, упал в самую чащу, глухо ухнул о землю, и тут же, едва ли не с того самого места, куда упал камень, хлопая крыльями, с диким криком взлетела куропатка. Вдогонку, один за другим, полетели два камня, — паренек думал подбить птицу на лету, но промахнулся, и куропатка скрылась из виду. Паренек отряхнул руки. Сперва он промазал на каких-то несколько сантиметров; повези ему, упади камень малость в сторону, правее или левее, птица была бы готова. Он стоял и смотрел туда, где скрылась куропатка.
Оставалось еще несколько камней, и, выбрав три поудобнее, паренек взял один в правую, два в левую руку и пошел вперед, зорко осматриваясь по сторонам, чуть отставив правое плечо назад, чтобы в любую минуту быть готовым к броску. Но уже ни малейший шорох не нарушал тишины, у птицы не было пары, во всяком случае поблизости, у тропки, ее сородичей не оказалось.
Паренек выбрался на дорогу и выкинул камни. Зашел в сад и нарвал слив, сколько поместилось в рюкзак. Оставив его в тени на лужайке, попробовал малины, сорвал уродливое, все в черных пятнах яблоко, надкусил, но тут же выплюнул, а яблоко отшвырнул. Между двумя огромными липами он приметил каменные, заросшие травой ступени. В стволе одного дерева зияло дупло, из которого торчало несколько ржавых квадратных гвоздей. Паренек попытался вытащить их, но не тут-то было, гвозди вросли в дерево.
Паренек подобрал рюкзак, вернулся к озеру, чуть передохнул, походя проверил удочки, потом расстелил на земле куртку и лег. Солнце уже заглядывало под дерево, и поэтому паренек устроился не на берегу, а повыше на склоне, в тени. Было жарко, но не парило, и он не опасался грозы. Он съел хлеба с салом, закусил брюквой. Потом снова откинулся на куртку. Вдруг ему показалось, что поплавок правой удочки исчез, и он пошел проверить. Леска запуталась в тростниках, паренек несколько раз дернул, и наконец из воды выскочил виновник всего этого переполоха — маленький окушок. Паренек положил его в воду у берега, не снимая с крючка, и принялся рыться в мешке со снастями. В спичечном коробке у него был плетеный металлический поводок с тройником. Распрямив, он привязал его на ту удочку, на которую только что клюнул окушок. Закинул подальше за тростники и, держа удилище обеими руками, с минуту следил за подпрыгивающим поплавком. Живец был невелик и должен был быстро обессилеть, но паренек не стал дожидаться, укрепил удилище и спрятался в тень. Было жарко, паренек лежал под раскидистыми ветвями, решив переждать зной.
Дремал он недолго, но сон освежил его. Поплавки неподвижно стояли в воде. Солнце уже заглядывало под дерево, и паренек подвинулся повыше, но и здесь долго не усидел: тень быстро таяла. Он поднялся и сложил вещи на велосипед. Смотал удочки и привязал на раму толстыми концами к рулю. Справа на руль повесил мешок с рыбой, с которого капала вода. Вывел велосипед наверх и пошел вдоль поля, по тропинке, огибающей озеро. Тропа поднималась вверх, и пареньку пришлось вести велосипед обеими руками. Потом откос резко пошел вниз; с его гребня была видна зеленая болотистая лощина с врезавшимся в нее заросшим камышами заливчиком. Лощину рассекал узкий неглубокий ров. Там в высокой траве паслась косуля. Иногда она поднимала голову и оглядывалась вокруг. Шея у нее была прямо как у Клеопатры. Паренек, не решаясь пошевельнуться, следил за ней с гребня откоса; солнце стояло у него за спиной, так что она не могла его видеть. Косуля дошла до тропинки, пересекавшей ров, и теперь вся показалась из высокой травы. И тут стало ясно: она паслась с козленком. Детеныш был еще совсем маленький, и паренька подмывало, оставив удочки и вещи на траве, ринуться на велосипеде в ров, спугнуть косулю и поймать козленка. Косуля между тем поднималась вверх по тропке, и паренек удержался — животные шли в его сторону. Детеныш неуклюже скакал за матерью, его было едва видно, паренек заметил только кривоватые задние лапы да длиннющие уши. Стараясь не делать резких движений, он положил велосипед. Потом задержался взглядом на рюкзаке: он вытряхнет сливы. Мясо разрежет на куски, шкуру закопает. Насыплет поверх мяса сливы и так повезет домой. Паренек присел в траву возле тропинки. Животные медленно подходили все ближе, поднимаясь вверх по откосу. Тут паренька осенило: детеныш-то был совсем не козленком. Просто косуля и заяц паслись вместе. Да, сомнений уже не было. Паренек выпрямился. Первым его заметил заяц, затем косуля; она тут же сорвалась с места, за ней припустил заяц, и паренек быстро потерял их из виду. Косуля удирала длинными прыжками, время от времени подскакивая, словно на пружинах, и оглядываясь. Вскоре она скрылась в зарослях на том краю низины. Паренек поднял велосипед и осторожно свел его в лощину.
У того пологого берега дно понижалось постепенно, за тростником глубина была метра полтора, да и дальше немногим глубже. Паренек наладил поплавковую удочку, и за тростником один за другим начали брать окуньки, величиной с палец. Он бросал их за спину в траву, а когда клев прекратился, выбрал двух порезвее; наживив одного на донку, он размахнулся, что аж свистнуло, и тяжелое свинцовое грузило шлепнулось в воду метров за тридцать от берега; а другого окушка пустил на живца за заросли. Попробовал еще поудить на червяка, но уже не клевало; тогда он положил удилище на тростники, а сам укрылся в тень. Высокий берег напротив был как на ладони, и паренек видел то место, где рыбачил сначала; сейчас там кто-то был — на солнце поблескивала светлая бамбуковая удочка.
Паренек вытряхнул мокрых рыб из мешка на траву. Держал он их во влажных листьях. Он отнес улов к берегу и стал чистить, начав с самых крупных. Очистив окушков, он завернул их отдельно в лист лопуха. Потом поискал взглядом, нет ли где крапивы, нашел в овраге; обмотав руку платком, он сорвал несколько стеблей, сунул их в мешок, обрызнул водой, а потом положил рыбу.
Он сидел у оврага, от деревьев на воду уже ложились тени. На всякий случай паренек проверил удочки. Окунь на донке еще трепыхался; второй был мертв и ободран, и паренек понял, что прозевал поклевку. Живцов больше не было, и он насадил на тройник трех жирных червей. Сменил наживку и на поплавковой удочке, минуту-другую посидел рядом, прячась в тень. Оставив удочки, он собрал в овраге хворосту и развел костер. Когда от костра осталась кучка углей, паренек достал из бокового кармана рюкзака бульонный кубик, развернул обертку и натер им отложенных окушков. Нанизал их на прутики, воткнул прутья в землю так, чтобы рыбы оказались над углями. Пока они пеклись, вынул из рюкзака хлеб и огурец. Весь день он ничего не пил и теперь первым делом съел огурец, потом, сняв с прутиков рыбу, положил на хлеб. Снаружи окуни обуглились, но мясо под подгоревшей корочкой оказалось белым, сладким и легко отделялось от костей. В головах было немного сока, и он высосал его. Достал из рюкзака пригоршню слив и пошел к берегу.
Колокольчик на донке молчал, и паренек не стал даже ее проверять. Заменив объеденных червяков на поплавковых удочках, паренек присел рядом, придерживая удилище рукой. Клюнула плотва, и он пустил ее на живца. Потом попробовал удить на тесто и поймал еще немного мелких, в несколько сантиметров, плотвичек. Когда брать перестало, он поискал глазами поплавок удочки с живцом, но тот куда-то подевался. И тут он увидел, что леска уходит в сторону, в тростники. Конец удочки чуть согнулся, но паренек уже бежал к ней. Он подсек, подавшись всем телом назад, и из воды пулей выскочила щучка. Паренек всадил ей в голову нож и, не выпуская рукоятки, свободной рукой вытащил из пасти тройник. Пока щучка с торчащим из головы ножом скакала по траве, насадил нового живца. Поглядел на колокольчик донки, потянул на всякий случай леску, но сопротивления не почувствовал.
На солнечном берегу в просвете между тростниками показался рыбак. Паренек глянул на поплавки. Пошел вверх по оврагу, посматривая на склоны и кроны деревьев. Ничего интересного. Земля в овраге была перекопана там, где рыболовы искали дождевых червей. Паренек дошел до конца оврага и вернулся назад верхом, по северной стороне. Рожь уже желтела, и поначалу он хотел нарвать колосьев — сорвал один, сжал пальцами и из зерен выступило молочко. Паренек вернулся на берег и дочистил остаток улова. Смотал удочки и донку. Живец еще бился, окутанный, словно коконом, светло-зелеными водорослями. Он был не крупнее остальных, и паренек оценивающе поглядел на него; потом осторожно вытащил крючок из-под спинного плавника, просунул между жабрами и отпустил рыбешку. Привязал удилища к велосипеду, укрепил на багажнике рюкзак, повесил на руль сумку. Возвращался он по другому берегу. Тропинка в высокой траве вывела его на дорогу в том же месте, где он свернул с нее утром. Паренек толкал велосипед в гору и, проходя мимо сада, задержался, чтобы наполнить рюкзак сливами доверху.
Дело шло к вечеру, и из окон домов на теневой стороне улицы люди наблюдали за редкими прохожими и компаниями мальчишек и девчонок, торчавших около домов; с десяток потных ребятишек гоняло мяч на школьной спортплощадке, поглядывая на окна сторожа, который мог их отсюда прогнать. Паренек ехал вверх по улице. Вкатив во двор, он прислонил велосипед к стене, снял рюкзак и сумку и понес их на кухню. В большой, прохладной, открытой настежь кухне было два стола: у окна и у стены возле раковины. Тот, что у стены, был хозяйственный, там-то паренек и оставил свой улов. Рюкзак положил на пол. Потом прошел через анфиладу комнат, но, никого не найдя, вернулся в кухню и вышел в сад.
Мать занималась курами за беседкой; паренек остановился у куриной загородки и сорвал с перевешивающейся через ограду ветки несколько вишен. Тут мать заметила его и сказала:
— Пришел?
Паренек смотрел, как она загоняет кур в устроенный в беседке курятник.
— А я рыбы наловил, — сказал он. — Немного.
— Опять чистить твою мелочь.
— Все уже почищено.
— Обед на плите, — сказала мать.
— А что у нас сегодня?
— Паруха.
— Не люблю паруху.
— А ты вообще ничего не любишь. Больно ты, парень, привередливый.
— Я люблю картошку с соусом.
— Разок можешь и паруху поесть. Картошка с соусом будет в воскресенье.
Паренек выплюнул косточки; куры бросились к ним, но клевать не стали.
— Будь я королем, — сказал он, — так ел бы одну картошку с соусом да шоколад.
Он усмехнулся, и мать тоже улыбнулась. Паренек сказал:
— А я чуть куропатку не подбил.
— Чуть? — повторила мать. — Промазал небось?
— Так она, знаешь, в какой чаще сидела. Но я почти попал.
— В другой раз целься лучше.
— Еще косулю видал, — сказал паренек. — С зайцем на пару паслись. Я-то думал, она с детенышем. Уж того бы я словил.
— Завтра днем надо бы отцу помочь, — сказала мать.
— А где отец?
— Штукатурит на чердаке у майора. Ганка там присматривает, как бы его участковый не накрыл. Ходит вокруг да около, зараза. Я снесла отцу обед, так что видала. Все разнюхивает.
— А я слив привез.
— Много?
— Да с десять кило будет.
— Помощник ты у меня, — сказала мать. — Снесу торговке. Сейчас они по пять злотых кило, она мне даст по три. Значит, тридцать злотых.
— Так сама бы продала, — посоветовал паренек.
— У меня не выйдет. Не торговка я, — ответила мать с некоторым высокомерием.
— Тридцать злотых, — гордо произнес паренек. — Выходит, я сегодня на целых десять буханок хлеба заработал.
Перевод В. Линецкого.

Ян Пепка
«А я все тот же…»
А я все тот же
то бишь
удивленный
податливостью мостовой
по которой прошли
поколения
Я держу в руке
волшебную палочку
мерило тех лет
что минули
и тех что будут
и вовсе я не уверен
что все мне ведомое
не болит больше
чем болят подошвы мои
когда бреду я
берегом моря
по острым ракушкам
торчащим
из мокрого песка
Перевод В. Максимова.
«Не верю я капле…»
Не верю я капле
стекающей
что жить
ей столько
осталось
сколько до конца
стеклянной стежки
ведь она по пути
собирает
все полосочки света
скапливая себя
Перевод В. Максимова.
«Держал я кисть рябины…»
Держал я кисть рябины
в ладони
и пересчитывал капельки солнца
Берегом озера
возвращался день
с осенней прогулки
и птица с четок багряных
спугнутая
накликала закат
и небо задохнувшееся тишиною
ожидало
И боялся я
что все деревья
мои осенние мольбы
услышат
Перевод В. Максимова.
Верю
А я все верю
что твои волосы
это лещина
что прибежала
на берег озера
Отлетят птицы
а ты останешься
босая удивленная
Быть может
я превращу тебя
в туманную протоку
чтобы смогла до меня
доплыть ты
по сдвоенному небу
Перевод В. Максимова.
Кшиштоф Камиль Штольц
Воскресенье
Приличные люди
спокойно спят
через минуту
проснется их совесть
ласковым голосом
молвит:
воскресенье —
возможность убить время
Перевод Л. Цывьяна.
Слова
После
второй мировой войны
искалеченные слова
«правда» и
«милосердие»
утратили
патетическую самоуверенность
словно упавший человек
борется с собственной слабостью
гуманизм
мир
бинтует память
о расстрелянных
Перевод Л. Цывьяна.
Павшие солдаты
Когда под родимым небом
земля не родит
мы просыпаемся
в неизвестных могилах
во сне
кровоточат наши раны
как наяву
когда мы умирали
Перевод Л. Цывьяна.
Эдмунд Косяж
Старый знакомый
Еще в Ливерпуле мне сообщили, что в Лондоне мы возьмем на борт пассажира, некоего Владислава Ковальского. Нельзя сказать, что я обрадовался этому известию, но и поводов ворчать у меня не было: одна из шести пассажирских кают на моем сухогрузе как раз пустовала. Я, признаюсь, никогда особенно не интересовался своими пассажирами: после любезного приветствия и короткого разговора поручал их заботам своего хорошо вышколенного помощника. И на этот раз я, очевидно, поступил бы точно так же.
В Лондоне мы стояли недолго; среди уймы дел я даже не заметил, когда наш новый пассажир появился на борту. Потом я несколько часов проторчал на мостике, в легком тумане пробираясь сквозь толчею идущих самыми разными курсами судов. Только в Северном море, где-то на широте Грейт-Ярмута, я вспомнил о пассажире. Именно тогда его имя впервые навело меня на мысль о друге времен войны. С тем Владиславом Ковальским я познакомился в начале октября 1939 года в шотландском порту Метхил, куда прибыло из Бергена несколько наших кораблей. Не помню, был ли Ковальский членом экипажа какого-то из них или прямо в Метхиле завербовался на «Робур IV». Я тоже оказался на этом пароходе, скорее, случайно. С тех пор нас объединял не только общий кубрик, но и подлинная морская дружба. В течение двух лет мы были с ним как братья. Что еще можно сказать о фронтовой дружбе, испытанной непосильным порою трудом, бесконечными вахтами, постоянной угрозой нападения немецких подводных лодок и торпедных катеров, авиабомбами или подстерегающими в глубине тысячами мин? 20 августа 1941 года наш пароход, носивший уже новое название «Ченстохов», был торпедирован у восточного побережья Великобритании немецким катером и затонул; с тех пор с Владеком мы не виделись. Оба мы продолжали тяжелую флотскую службу, но уже на разных кораблях. Иногда до меня доходили скупые известия о нем. Под конец войны он, похоже, занялся политической деятельностью, однако наши дороги после памятного 20 августа 1941 года разошлись. На родину он, кажется, вернулся почти сразу, осенью 1945 года, тогда как я пробыл на чужбине еще два года. Доходили слухи, что он занимал какой-то видный пост в профсоюзах, вел партийную работу. Встречаться нам не приходилось.
Неужели здесь, на моем судне, я сейчас снова встречусь со старым знакомым, а быть может, все еще другом? Мне это казалось невероятным. Сколько Ковальских живет в Польше? Их, без сомнения, сотни, если не тысячи.
Чтобы удовлетворить свое любопытство и развеять сомнения, я решил, не откладывая, нанести визит новому пассажиру. И действительно, это был тот самый Ковальский. Его предупредили о посещении капитана, но он тоже не ожидал встретить меня. Мы оба были очень удивлены. Некоторое время мы стояли в дверях каюты, будто не веря своим глазам. Человек не замечает, как меняется со временем, а знакомые остаются в его памяти такими, какими он видел их когда-то. Годы состарили нас обоих. Волосы у Владека поредели, он похудел, стал как бы меньше, и только черты лица да выразительные большие глаза свидетельствовали о том, что это и в самом деле мой старый друг. И его, по-видимому, обуревали те же сомнения; он даже на секунду прикрыл глаза, словно припоминая что-то. А когда вновь взглянул на меня, глаза да и все его лицо светились радостью. Мы обнялись.
Я пригласил друга к себе в салон, где было куда просторнее, чем у него в каюте.
— Вижу, у тебя все идет отлично. Сплошные успехи, — неожиданно начал Владик, разглядывая стоящий у стены шкаф с кубками и многочисленными вымпелами за трудовые победы.
— Брось, ничего интересного.
— Ты все такой же скромный?
— Встретиться через столько лет! Кто бы мог подумать? — сменил я тему, улыбнувшись задумчиво и немного грустно.
— Да, я часто о тебе вспоминал, но во встречу уже не верил.
— Мир тесен, Владислав, а Польша еще теснее. До меня доходили слухи, что ты занимал довольно видные должности. Впрочем, гора с горой не сходится…
— А человек с человеком… Помню, как ты произнес эту пословицу двадцатого августа сорок первого года, когда «Ченстохов» затонул и наши пути разошлись. А как ты?
— Понемножку, как видишь. Болтаюсь по морям, скоро на пенсию. У меня жена, взрослые дети, двух внуков даже дождался, сносная квартира…
— Сын и дочка?
— Нет, два парня. Выше меня ростом. Один пошел по моим стопам, уже командует углерудовозом, а младший работает во внешней торговле. А у тебя?
— У меня никого. Живу один.
— Решил остаться холостяком? — рассмеялся я. — Тоже неплохо.
— Да нет…
— Вот я бы не смог.
— Не любишь одиночества?
— В сорок седьмом, едва вернувшись домой, я женился и не жалею. Придем в Гданьск, познакомлю.
— Буду очень рад. — Голос Владислава вдруг стал бесцветным. Заметив это, я внимательно посмотрел на него. Однако я не был уверен в правильности моей догадки, поэтому продолжал, но уже с несколько иным выражением лица: — Значит, говоришь, живешь один?
— Не будем об этом.
— Если огорчил, извини. Не хотел. — Я чуть виновато взглянул в лицо Владиславу.
— Ерунда.
Разговор прервался. Я не знал, что сказать. О чем говорить через столько лет? Я вглядывался в старого друга, пытаясь отыскать какую-нибудь новую тему для беседы.
— Чувствую, я невольно огорчил тебя. Прости… Прошло столько лет, мы так мало знаем друг о друге, — неуверенно заговорил я.
— Ничего, ничего, я сам виноват, — ответил Владислав; в его голосе появилась теплота: он явно извинялся за небольшое недоразумение.
— Все в порядке, — улыбнулся я. — Сейчас принесут обед, — решил я сменить тему.
— Януш, со времен войны мы страшно изменились, — одним духом вдруг выпалил Владислав, словно желая сбросить давящий на него груз.
— Ты так думаешь? — уклончиво спросил я, не зная, что имеет в виду гость.
— Да, слишком много пришлось нам пережить.
— Это верно, жизнь нас не очень-то баловала.
— И оставила на всех нас печать. На мне, на тебе, на всех, кто пережил те страшные годы.
— Печать войны, — повторил я задумчиво. — Наверное, ты прав.
— Я ее ощущаю.
— Да, тянется за нами это, тянется, — пришлось согласиться мне. — Стараешься жить сегодняшним днем, забыть о том ужасном времени и не можешь. А сегодняшний день, как назло, заставляет думать о тех годах. Деться некуда.
— Да, некуда. Сколько раз пробовал — все напрасно. Мне постоянно твердят: у тебя такой опыт, ты пережил войну, знаешь жизнь. А весь этот опыт гроша ломаного не стоит, только вниз тащит. Как привязанный к ногам балласт.
— Но на яхте или корабле без балласта в море не выйдешь: любой шквал перевернет тебя вверх дном. Трудно было бы без него пережить все повороты и бури истории. Уже после войны было время, когда я терял веру в людей, в идеалы. Взять хоть общественно-политический хаос последних лет и не менее жестокий кризис
[66]. А вот все же я жив, я — человек.
— Согласен. Этот балласт помог нам пережить самые трудные годы, — признал Владислав.
— Не только. Он дал нам нечто большее. Барометр.
— Барометр? — удивился Владислав.
— Не знаю, Владислав, как ты, а я — во всяком случае мне так кажется — издалека чувствую подлость, несправедливость, всякие свинства. Что-то внутри сидит, что не дает на них спокойно смотреть, заставляет протестовать. Это я и называю жизненным барометром.
— Пан капитан, обед готов, — прервал разговор появившийся в дверях стюард. Вскоре мы с Владиславом сидели за столом.
— Рюмку коньяку?
— На судне, в рабочее время? — притворился удивленным Владислав.
— Ну, ради гостя…
— Не откажусь, но если можно, то лучше стопку нашей «Выборовой». По старой военной привычке.
— Еще? — спросил я после первой.
— Нет, спасибо, разве что в Гданьске. Ты спрашивал, почему я живу один?
— Не спрашивал, просто так вышло, — произнес я, не зная, что ответить, чтобы не обидеть друга.
— У меня была жена, — начал Владислав изменившимся голосом, словно ему было неприятно об этом говорить. Потом
замолчал и взглянул на меня, ожидая моей реакции. Я подбодрил его понимающим взглядом.
— После войны я несколько лет отсидел в тюрьме.
— Значит, и ты тоже? — не скрывая удивления, воскликнул я. — До меня доходили слухи, что ты был важной шишкой, не то партийным, не то профсоюзным деятелем.
— Да, верно. Обвинения, которые мне предъявили, были сфабрикованы, но тогда врагами считали многих трезвомыслящих людей, видевших необходимость изменений в управлении, в хозяйстве, а прежде всего требовавших, чтобы к человеку относились как к полноценному члену общества. Я чистосердечно и открыто говорил об этом на самых высоких ступенях партийной и профсоюзной лестницы, однако нашлись люди, обвинившие меня в ревизионизме, каком-то уклоне и подрыве основ нашего строя. Многие из них потом покинули страну, многие перешли в оппозицию, которой еще недавно казалось, что она берет верх. Нужно ли называть имена этих людей? Суд поверил им. Из партийного работника я стал врагом и просидел почти четыре года.
— Я тоже сидел, — медленно проговорил я, вспоминая это тяжкое время. — Три года, семь месяцев и три дня.
— За что?
— До сих пор не знаю. Видимо, за то же, что и ты. Меня взяли прямо в порту, даже не успел поздороваться после рейса с семьей. Повели разговор о войне. Я же воевал на Западе. «Вернулся домой?» — спрашивает один из органов. «Вернулся», — отвечаю. «Специально?» — спрашивает дальше. «Специально и добровольно», — говорю. «А зачем?» Попробуй объясни такому, зачем ты вернулся домой.
— Не поверили?
— Какое там! Нашли какое-то доказательство виновности — и влепили срок. Девятьсот шестьдесят восемь недоспанных рассветов. Это было хуже торпед и бомб.
— Мне это тоже знакомо, Янек. Не хочу вспоминать. Это ушло в прошлое, хотя и сидит как заноза.
— Это тот же самый балласт или, если предпочитаешь, жизненный опыт.
— Ужас тех лет усугубился для меня тем, что их эхо отдалось позже.
— Да что ты?
— Вот именно. После реабилитации я снова, с еще большей энергией принялся за работу в партийном аппарате. Наступил декабрь семидесятого года. Я болезненнее, чем большинство моих товарищей по партии и партийной работе, пережил те трагические дни. Потом обновление, опять труднейшая партийная работа. В семьдесят шестом году — снова беспорядки; я встал на защиту рабочих. И вылетел из партии. Нет, не по своей воле. Билет я им ни за что не отдал бы. Его у меня забрали, причем то ли назло, то ли чтобы унизить, за два часа до торжественного собрания 22 июля
[67]. Настал август восьмидесятого года. На этот раз Солидарность. Меня заманивали в нее, предлагали доходные должности. Я отказался. А тут мне вернули партбилет. Вспомнили обо мне старые друзья, рабочие.
— Ты должен гордиться.
— Да, но только я потерял жену. Она сломалась. Не выдержали ее нервы этих поворотов. Поверила в некоторые идеалы Солидарности. По счастью, в идеалы, а не в представляющих эту организацию людей — их-то она слишком хорошо знала. А своим идеалам осталась верна. Не собираюсь отнимать их у нее. Они близки моим и, наверное, твоим тоже — это ведь законность и справедливость. Но в настоящее обновление она пока не верит. У нее-то в Лондоне я и был. Она хочет остаться там еще на некоторое время. А я чувствую, что потерял ее.
— Если она верит в эти идеалы, то обязательно вернется домой, к тебе, — как мог, утешил я друга.
— Эмиграция либо ломает людей, либо закаляет, делает их тверже в убеждениях. Как тюрьма.
— А ты, значит, домой?
— Мое место там. В Лондоне я пробыл только четыре дня. Нервы у меня порядком расшатались — вот я и решил попутешествовать морем, отдохнуть. Только не предполагал, что окажусь у тебя в гостях.
— И что ты собираешься делать дальше? О пенсии не подумываешь? Пора уступить место молодым.
— Может, ты и прав. Но ты ведь меня знаешь: неужели, по-твоему, выйдя на пенсию, я перестану работать, хотя бы на общественных началах?
— Да, для таких, как ты, прежде всего — благо других людей. Это твой идеал.
— Я тебе больше скажу. Если у человека такой идеал, то причиненное ему зло большой роли не играет. Мать может простить все своему ребенку, но и ребенок должен уметь жертвовать чем-то для матери и прощать ее.
— Поэтому оба мы и работаем, дорогой Владислав.
— И очевидно, будем работать еще долго. Но хватит разговоров на сегодня. У тебя свои обязанности, а мне нужно многое обдумать.
Обед со старым другом закончился; настроение у нас было не совсем обычное.
Перевод И. Русецкого.

Роман Ляндовский
Небо плачет
Она приходила каждый день вечером. Уже привыкнув, что он ждет, после дежурства на отделении находила свободное время и забирала его из палаты на террасу. Помогала перебраться с кровати на коляску и подвозила к самой балюстраде.
— Сегодня, Катя, нам наверняка посчастливится. — Он положил руку на ее маленькую ладонь.
— Не верю я вам, поручник. — Она убрала руку и тут же поправила манжет на рукаве белого халата, чтобы как-то сгладить неловкость. — Не верю, потому что слышала это уже много раз.
— Сегодня день Святого Лаврентия?
— Не знаю, может быть. Я не заглядывала в святцы.
— Десятое августа?
— Да.
— Ну тогда наверняка дождемся…
— Счастья! — после секундной паузы снисходительно добавила она и приветливо улыбнулась. Катя знала, что с больными надо быть уступчивой и доброжелательной. В данном случае трудности это не составляло; поручник из польской дивизии действительно был симпатичным и интересным. Другие медсестры завидовали ей из-за этого необычного знакомства и бесед на террасе теплыми вечерами. Поручник уже неделю рассказывал о странных явлениях, которые должны произойти в небе. Но пока ничего не происходило. Молчаливое ожидание затягивалось до полуночи. Она даже полюбила эти часы таинственного волнения, вызванного ожиданием.
Катя поправила одеяло на спинке коляски.
— О-о-о, замечательно. — Он поднял глаза. — Спасибо.
Они объяснялись на смеси двух языков и отлично понимали друг друга.
— Посмотри, — показал он рукой. — Видишь?
Ясное небо искрилось от звезд, таких ярких и таких близких, что, казалось, их можно было окликнуть, как давних знакомых. Поручник оживился. Из степи пахнуло зноем.
— Там, — обернулся он к девушке. — У конца Млечного Пути. Видишь?
— Что? — Катя пожала плечами.
— Чуть в сторону. — Он снова протянул руку. — Примерно на три пальца левее этой высокой сосны. Видишь? Несколько ярких звезд!
— Вижу, — с облегчением произнесла Катя.
— Это Персей. — Он удобнее устроился в коляске и снова нашел ладонь санитарки. Девушка хотела убрать руку, но поручник сильнее стиснул ее пальцы и кивком указал на ту часть неба, в которую они всматривались.
— Все-таки дождались, — прошептал он.
— Ой, правда, — чуть не вскрикнула Катя, потому что в этот момент от светлого облака звездной пыли оторвался метеорит. Он летел по дуге, за ним сорвался второй, светившийся чуть дольше.
— Персеиды отлетают от Персея.
— Ой! — Она положила другую руку на его плечо. — Еще один!
— Говорят, это слезы Святого Лаврентия. Или что небо плачет.
— Оно плачет?
— Да. К счастью.
Подняв головы и не шевелясь, они затаили дыхание, боясь нарушить тишину.
— Поручник, вон еще одна! А теперь сразу две звезды!
— Вижу, — ответил он уже совершенно спокойно. — Персей, возвращаясь с головой Медузы, увидел прикованную к скале Андромеду. Он освободил ее, и счастливые родители в награду отдали девушку ему в жены.
Катя молчала, но поручник знал, что она слушает его, хотя не все понимает из античной легенды.
— Ой, снова, — с улыбкой показала на еще одну падающую звезду. — Какая яркая!
— После смерти любящих супругов боги взяли их на небо, — вполголоса закончил поручник рассказ.
Яркие искры роями отрывались через каждые несколько секунд. Катя уже перестала громко восхищаться ими. Она молчала, словно ожидая услышать чудесную музыку падающих звезд. Однако надолго ее не хватило.
— А у Андромеды тоже есть своя звезда?
— Даже целое созвездие, — улыбнулся поручник. — Рядом с возлюбленным.
Девушка недоверчиво взглянула на него.
— Чуть ниже. — Поручник повел указательным пальцем вдоль темного контура сосны. — Перед Млечным Путем.
— Вижу, вижу. — В ответ на пожатие Катя слегка сдавила его плечо.
— Она отвечает Персею роем андроменид. Осенью, в конце ноября. В день Святого Валериана.
Девушка спросила почти шепотом:
— Она тоже плачет к счастью?
Поручник кивнул, почувствовав, что голос может его не послушаться.
На рассвете он проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо.
— Поручник! Проснитесь!
Он увидел над собой лицо Кати с большими испуганными глазами.
— Эвакуация! Госпиталь эвакуируется, — объяснила она. — Гитлеровцы прорвали линию обороны.
Она на ходу отдала распоряжения подбежавшим санитарам:
— Осторожней с ним. У него парализованы ноги.
— Так точно, сестра! — громко ответил солдат с носилками.
Катя избегала взгляда поручника. Он хотел ее подозвать, но не знал, как начать разговор, и поэтому только сжал губы. В коридоре, пока его несли, он сумел дотянуться до руки девушки.
— Катя!
Она упорно отворачивалась.
— Катя, не плачь! Помни, Персей освободит… — Он не успел договорить, потому что девушка вырвала руку и побежала по коридору.
— Ну, чего ждете! — рявкнул он на санитаров, злой оттого, что не учел простой вещи: беспомощный Персей с парализованными ногами не сможет освободить Андромеду.
Перевод В. Масальского.
Человек в клетчатой куртке
Самолет словно завис как раз на той высоте, которая дает ощущение покоя. Из динамиков лились раздольные звуки фортепианного концерта Рахманинова. Это была самая подходящая музыкальная иллюстрация для раскинувшейся внизу разноцветной и объемной карты бескрайней страны. Казалось, что эхо поющего рояля охватывает всю тайгу. Широкая музыкальная тема оттенками зеленого цвета обрисовывала линии рек. Удивительно было сознавать, что эти узенькие ленточки движутся, хоть этого и не видно. Медленно, очень медленно, но грозно несут свои воды. Однако журчание воды можно мысленно заменить музыкальным звуком. И этот вполне конкретный звук в свою очередь наполнит поток воображения…
Девушка, удобно устроившись в кресле, перебирала в памяти события, которые предшествовали ее путешествию. После долгих поисков, в которых ей помогала редакция журнала и адресное бюро, она узнала место его работы. А город ей уже был известен. И с того самого дня она почувствовала себя по-другому, будто исполнила давно тяготивший ее долг или сдала трудный экзамен, который до этого бесконечно откладывала.
Она наклонилась к окну. Бледно-серые облака редели, оставаясь где-то внизу, но они все еще концентрировали в себе лучи солнца, находившегося сзади. На дне синих ущелий лежала Земля с обломками громоздящихся плоскостей, наваленных поперек не то рыжих, не то желтых груд. Только потом в этом появилась какая-то закономерность. Урал… Все было так объемно, что можно было разглядеть мельчайшие детали этой природной карты.
Свою биографию она помнила с семи лет. Начиналась эта биография с детского дома. О том, что было раньше, она узнала либо от случайных, чужих людей, либо из рассказов очевидцев. Все вместе она пыталась соединить обрывками собственных воспоминаний. Припоминала самые трагические моменты: отец не вернулся с войны, мать погибла под обрушившимся во время бомбардировки перекрытием. Сама она уцелела чудом, — так потом говорили люди. Кажется, она плакала под развалинами. Ее услышал солдат с красной звездой на шапке. Он пролез в завал, вытащил оттуда девочку и отдал ее собравшимся зевакам. Спросил, как зовут ребенка, но никто не смог ему ответить, потому что никто не знал ее имени. Солдат помахал ей рукой и пошел дальше. А ее отдали в монастырский приют. Кто-то спросил у солдата его фамилию, записал на бумажке и вместе с ребенком передал этот листок в приют. Вот и все, что она знала, прежде чем начала поиски своего спасителя.
А под самолетом все уже было другое. Бескрайняя зеленая палитра медлительно открывала одну за другой свои краски: сочную, взрыхленную лучами солнца зелень, побуревшую, а то и серую шубу густых лесов, потрясающую тундровую мозаику, составленную из всех оттенков лилового цвета. А сверху висели огромные перистые наслоения ваты, разодранные по швам, или клубящиеся шары, безмерно раздутые и наполненные тишиной…
Между двумя воплощениями прекрасного — тем, что внизу, и тем, что внутри бело-голубого пространства, таилось третье измерение — пространство возбуждения и тревоги. Первый раз в жизни она летела на самолете, да к тому же так далеко! А тут еще эта постоянная оглядка на себя. Это ее мучило, временами нервировало. Хотя повода для беспокойства не было. Сосед спокойно дремал рядом. Он сел в Казани и ни на кого не обращал внимания. Сразу же принялся читать, а теперь «Литературная газета» мирно покоилась на его коленях.
Получив адрес, она долго искала в этих краях подругу — для переписки. Письма Тамары с каждым разом становились все длиннее и все сердечнее. Наконец Тамара прислала приглашение.
Красивая черноволосая восточная девушка в форме стюардессы прошла по салону. Каждого пассажира она одарила внимательным взглядом прекрасных глаз, уверенная в том, что все остальные женщины завидуют ее глазам, которые в прежние времена были таинственно скрыты под паранджой. Мелодичным голосом она объявила, что самолет заходит на посадку, поэтому необходимо погасить сигареты и пристегнуть ремни.
Потом внутри все сжалось, и самолет, чуть подпрыгнув, покатился по посадочной полосе.
В справочном бюро аэропорта она узнала, как проехать к строящемуся гидроузлу: на автобусе до конечной остановки.
Она говорила по-русски: не хотелось привлекать к себе внимания и одновременно не терпелось проверить свои познания в языке, которым она самостоятельно занималась целых два года.
— Придется подождать. — Вахтер сдвинул очки. — Через часок он пойдет со смены. А туда нельзя! Я не могу вас пустить.
— Как же я его узнаю?
— Когда выйдет, я вам его покажу.
Тяжелые экскаваторы с лязгом опорожняли полные ковши. Немного ниже самосвалы вываливали из кузовов камни, грохот которых заглушал шум воды. Еще дальше, за водохранилищем, стальные стрелы кранов носили огромные бетонные плиты.
Девушка сидела на поросшем травой склоне и вглядывалась в изменяющийся чуть ли не на глазах пейзаж. И одновременно думала о встрече, которой ждала столько лет! Что она скажет? Как начнет разговор? Пожалуй, без всякого вступления:
— Здравствуйте. Вы Егор Новиков? Я Мария Соколовская. Вы вытащили меня из-под развалин в сорок пятом году. Это было в Польше. Помните? Я приехала поблагодарить вас…
Стальные стрелы исчезали где-то в глубине, в провале за гигантской плотиной. После каждого возвращения стрелы рядом оживали маленькие оранжевые точки: яркие шлемы рабочих. С опозданием доходили какие-то выкрики, команды. Потом все накрыл протяжный звук сирены. Когда ее завывание умолкло, настала полная тишина.
Она вернулась к проходной, потому что со стройки начали выходить люди. Группами и поодиночке они появлялись из ворот.
— Вот он! — сообщил старик-вахтер. — Егор Павлович. Вы ведь о нем спрашивали? — Он ткнул рукой: — Вон тот, в клетчатой куртке.
Девушка пошла за ним. Через несколько метров она решилась. Быстро подошла, чтобы унять биение сердца.
— Извините…
Он обернулся. В глазах вопрос, седые косматые брови сошлись к переносице. В последний момент Мария вдруг испугалась.
— Я правильно иду на улицу Молодой Гвардии? — спросила она, проклиная себя за трусость.
— Нет, нет! — его голос прозвучал совсем обыденно. — Это в другом районе. Вам нужно на автобусе. Вторая остановка после памятника.
С минуту они стояли в неловком, тягостном для нее молчании, будто раздумывая над чем-то.
— Да, да! На улицу Молодой Гвардии лучше всего на автобусе, — повторил он, внимательно приглядываясь к девушке.
— Спасибо, — сказала она и побежала на остановку.
Найти Тамару оказалось совсем просто. Они сразу узнали друг друга, потому что в письмах обменялись фотографиями.
— Что с тобой? — Когда первое возбуждение от встречи прошло, Тамара повела гостью из прихожей в комнату. — Ты плакала!?
— Наверное, от ветра, — ответила Мария, уже зная, что завтра снова пойдет к проходной строительства.
Перевод В. Ермолы.
Напоминание
(Гданьск. 1945)
Гравюра. И на ней немые эти крики,
В шершавых линиях разрывы этих бомб,
Луна ущербная, глядящая в пролом, —
Она рассеяла неистовые блики.
Вот поднял длань мертвец — таков протест великий,
А пианист приник к фортепиано лбом.
Сгорел он… Но он жив и музыка как гром.
А голуби парят, и неподвижны лики.
Мир, черно-белый мир! Повсюду пепел лег.
Рояли собрались, им не вместиться в раме,
Бредут, как нищие, шевелят сотней ног.
Явились женщины с запавшими глазами,
Они концерта ждут, концерта этих дней.
Но реквием на вальс сменить всего трудней.
Перевод С. Свяцкого.
У моря
Бывает ли большая радость
Чем гнуться сосною качаться
На дюнах под ветром звучащим
Хоралами виолончелью
Сосна молодеет у моря
Не зря же соленые брызги
И солнечный луч на рассвете
В ней завязью зреют зеленой
Бывает ли что безмятежней
Чем в травах притихшая дюна
Под солнцем она согревает
Песчаное желтое чрево
А лица камней выцветают
Разглаженные легендой
Дыханием ветра в котором
Вся ширь весь напев окоема
Бывает ли что-то прекрасней
Чем моря и неба забавы
Когда приближаясь друг к другу
Они убегают от взора
Земли доброта породила
Кружение влаги прохладной
Сосна все душистей а в дюнах
Остался ступни отпечаток
Перевод С. Свяцкого.
Казимеж Радович
Боцман
Танкер уже давно оставил позади берега Европы, миновал Азорские острова и углубился, как говорится, в безмерные просторы океана. Атлантика в сентябре, а шел как раз именно этот месяц — тихого заката лета, обычно спокойна, и можно, если, конечно, повезет, перейти ее без лишних неприятностей. Не нужно крутиться на койке, чтобы как-то проспать ночь, за обедом жонглировать тарелкой, чтобы съесть суп, можно даже спокойно позагорать на палубе, когда океан едва рябит мелкой волной, а воздух еще теплый и небо ясное. Это если повезет. Если же нет, то сентябрь в Атлантическом океане — не самая лучшая пора для плавания. Любят по нему носиться тропические ураганы, которым фантазеры метеорологи присваивают девичьи имена. Ветры эти рождаются в каких-то своих гнездилищах у экватора, какое-то время кружат там, а потом набирают силу, двигаются на север, долетая нередко даже до побережья американской Новой Шотландии или Европы. Но чаще всего разгуливают где-нибудь в пустынных районах Центральной части океана и там заканчивают свое существование. Вот так они обычно себя ведут, но вообще-то постоянных, проторенных дорог у них нет, и странствуют они где вздумается. Бывает, притаятся в каком-нибудь месте, медлят или блуждают лениво, словно выжидая чего-то, и никто уже не обращает на них внимания, а они, учуяв лазейку в барьере высокого давления, внезапно выскакивают из своего укрытия и мчат, сметая все на своем пути, нападая на зазевавшиеся, слишком медлительные или не сумевшие увернуться от них корабли, которым в этот момент приходится довольно туго.
В столовой команды заканчивался ужин. Удобно развалившись в кресле, Зенон закуривал сигарету, когда кто-то принес известие, что появился ураган по имени «Антонина» и что он шел в их сторону. Зенон не спеша выпустил клуб дыма, на момент включился в разговор об этой «Антонине», который, впрочем, длился не более двух минут, ибо тема не вызвала особого интереса, и не обратил внимания на то, что боцман как-то слишком торопливо вышел из столовой. Не удивило его, когда он уже нес вахту и «маркони», как обычно, пришел с метеосводкой, и появление боцмана на мостике. Сменившись, Зенон от нечего делать заглянул в штурманскую, где «маркони» и «чиф» составляли синоптическую карту, а боцман, прислонившись к стене, наблюдал, как белый листок бумаги покрывается красными и синими линиями. Потом, когда карту повесили на доску, он еще долго ее разглядывал, а затем вышел, старательно, чтобы не хлопнула, прикрыв за собой дверь.
«Антонина» до них не дошла. Она резко повернула на запад, к Большим Антилам, наделала там переполоха и, наконец, разбилась об острова. Но с юга шел второй ураган, а у экватора собирался третий. Боцман регулярно поднимался на мостик, но Зенон не придавал этому значения. Он решил, что у пана Сильвестра, а друг друга они официально именовали «пан Зенон» и «пан Сильвестр», просто такая привычка, и ничего странного в этом не находил. Сам Зенон, как и большая часть команды, этими ураганами особо не интересовался. Боцман тоже о них специально не выпытывал. Иногда только, как бы мимоходом, заметит, что ветры все чаще топчутся на месте, и выйдет. А тем временем «Бетси» и «Клавдия» — такие имена получили новые ураганы — покинули свои гнездилища и, набирая скорость, двинулись на север. Зенон в столовой играл с мотористом в калапиту
[68], в углу резалась в бридж «кексовая» команда, а остальные — свободные от вахты матросы — сидели у приемника и слушали музыку. В этот момент с новым номером корабельной газетки вошел «маркони» и, вложив ее в скоросшиватель, сообщил, что дома прекрасная погода и люди еще ходят на пляж, а здесь «Бетси» затопила норвежский трамп
[69].
— Попал, бедняга, в самый центр этой дряни и через пятнадцать минут пошел ко дну. — «Маркони» положил скоросшиватель на столик у двери и добавил:
— Восемнадцать человек уже выловили, а остальных ищут.
Все посмотрели на радиста. Даже бриджисты в углу прервали игру — такое известие производит впечатление и на картежников. В столовой на мгновение стало тихо, и в этой тишине боцман спросил:
— Где это произошло? От нас далеко?
В этом вопросе тоже ничего особенного не было. Каждый мог так спросить, и Зенону было интересно, что ответит «маркони». Тот сообщил, что норвежец затонул почти в трехстах милях на юго-восток от них, и еще пояснил, что «Бетси» поворачивает на запад и, похоже, собирается пойти за «Антониной», в Карибское море.
— А третий ураган, — снова поинтересовался боцман, — эта «Клавдия»?
— Опять застряла, — ответил «маркони», — пока непонятно, куда пойдет.
Офицер ушел, бриджисты продолжили роббер, Зенон с мотористом вернулись к калапите, и только в группке, собравшейся у приемника, где сидел боцман, продолжали говорить о норвежцах, погибших при кораблекрушении, и о том, как это людям на Антилах не надоест жить в вечном страхе перед проклятыми ветрами. Зенон вполуха прислушивался к этому разговору, который вскоре перешел в спор. Спорили о том, кому приходится хуже — жителям стран, где происходят землетрясения, или обитателям островов, стоящих на пути ураганов и тайфунов. Из слов боцмана Зенон понял, что тот, если бы ему пришлось выбирать, предпочел бы, скорее, вулканическую местность.
— Там, по крайней мере, — говорил он, — проще спастись, а на эти острова вместе с ветром идет волна и все заливает. И куда бежать?
Не все сидящие у приемника разделяли мнение боцмана, но Зенон так и не дождался конца дискуссии — проиграв, он выложил на стол пачку сигарет и пошел спать. Однако после полуночи, вероятно часа в два, Зенон проснулся, верней, его разбудила сильная качка. Когда он засыпал, койка убаюкивающе покачивалась, а сейчас ее сильно болтало из стороны в сторону, и при одном из наиболее резких толчков его прижало к шкоту. Ударившись локтем, Зенон проснулся.
Каюта, вечером такая тихая и спокойная, теперь была наполнена самыми разными звуками: в тумбочке, у изголовья, звенели стаканы и бутылки, в ящике столика перекатывались карандаши, по полу с шумом ездил чемодан, а на рукомойнике лихо выплясывали баночка с кремом, помазок, зубная щетка и бритва. Все это среди глубокой ночи безумно грохотало и стучало, но моряцкие нервы Зенона выдерживали еще и не такое, поэтому он лишь поудобней улегся и доспал свои два часа до вахты. Только на мостике он понял, что вытворяет Атлантика.
На больших танкерах рубка расположена высоко, и волны редко достают до нее. Сейчас же по стеклам почти постоянно текла вода, а когда Зенон вышел на крыло мостика, чтобы посмотреть на приборе силу ветра, плотный и сильный поток воздуха чуть не оторвал ему голову. Океан, еще темный, гудел и бил по судну тяжелыми, медленно переваливающимися волнами. Все это было предвестием чего-то гораздо более серьезного, и Зенон не удивился, когда на рассвете увидел море все в белой пене. Яростно воющий ветер срывал ее с гребней волн, разносил по всей поверхности океана и белым этим покровом мял, давил водяные горы, которые все сильнее таранили борт их танкера.
В середине вахты на мостике появился «маркони», а спустя несколько минут пришел и боцман. Он был еще в пижаме и сразу отправился в штурманскую. Зенон видел, как, наклонившись над столом, боцман внимательно рассматривал синоптическую карту, на которую «маркони» наносил барическую ситуацию. Меж красных линий, обозначающих область высокого давления, к северу, словно жало, выдвигалось синее ядро низкого, и боцман, показывая на него пальцем, спросил:
— До нас дойдет?
Радист обозначил кружком положение корабля и утвердительно кивнул.
— Мчится, как экспресс. Часа через два-три он нам устроит хорошую трепку.
Они говорили о «Клавдии». Блуждающий где-то на юге, довольно далеко от них, ураган прорвался через заграждающий ему дорогу барьер высокого давления и стремительно ринулся на север, прямо на их танкер. Капитан, которого Зенону было приказано разбудить, сразу сменил курс и пытался, используя всю мощь судовых машин, уйти из опасного района, но «Клавдия» была быстрее. После полудня на анемометре уже не хватало делений, а на палубу танкера, тяжело переваливающегося с боку на бок, рушились высокие, как дом, и рычащие, как тысяча чертей, водяные горы. Корабль, весь облепленный пеной, с трудом взбирался на темно-синие хребты этих гор, сползал в зияющие глубоко внизу широкие расщелины и снова неустанно карабкался на следующую вершину. Боролся он мужественно, но не обошлось и без потерь. Ночью волны разбили одну из спасательных шлюпок, а на следующий день, когда то же самое стало грозить другой, команде, чтобы ее закрепить, пришлось выйти на палубу. И только тогда Зенон по-настоящему понял Сильвестра.
Он спустился за ним, потому что боцман обязан присутствовать при такой работе, и увидел Сильвестра, стоящего у койки. В этом, собственно, ничего необычного не было, но поза его сразу настораживала. Он вцепился пальцами в деревянный бортик койки и тупо глядел на лежащий на одеяле спасательный пояс. Понятно, существуют инструкции, согласно которым пробковый жилет должен находиться на видном месте или там, откуда его легко и быстро можно достать в случае тревоги, но известно также, как чаще всего выполняются подобные инструкции. Моряки обычно запихивают эти пояса в самые дальние углы и уж точно никогда не раскладывают на койке, чтобы глядеть на них словно баран на новые ворота. Именно так и смотрел Сильвестр на этот пояс; он даже не заметил, что Зенон вошел в каюту. Он мог не услышать стука двери, потому что в корабль била тысяча молотов, тысяча кулаков барабанила по его брюху, громыхая по железу так сильно, что звук открывшихся дверей полностью потонул в этом шуме. Поэтому боцман не изменил положения, не отошел от койки. Зенон молча поглядел на него и только через минуту, подойдя поближе, сказал:
— Пан боцман, вы нужны на шлюпочной палубе. «Чиф» вас ищет.
Сильвестр резко обернулся. Иногда о человеке говорят, что у него серое лицо или лицо его посерело. Зенон даже читал что-то похожее в книгах, но никогда ничего подобного не видел. Сейчас у боцмана именно такое лицо, он смотрел на Зенона широко открытыми, неподвижными глазами. Зенон в первую минуту подумал, что боцман не понял или не расслышал его слов. Поэтому повторил, что «чиф» приказал боцману выйти наверх, так как надо закрепить шлюпку. Теперь, кажется, до Сильвестра дошло, и лицо его как-то сморщилось, словно уменьшилось в размере, а глаза убежали куда-то в сторону.
— «Чиф»? — произнес он странным, сдавленным, а может, просто охрипшим голосом. — Скажите, сейчас буду.
Зенону больше нечего было делать в каюте боцмана, и хотя, возможно, у него возникли какие-то вопросы, он вышел, а Сильвестр действительно через три минуты появился на шлюпочной палубе и включился в общую работу. А работа была нелегкой. Сильно качало, и судно зачерпывало воду бортами. В такой ситуации каждый должен быть предельно внимательным и постоянно за что-то держаться: штормовая волна не шутит — смоет, слизнет человека — и привет, тут ему почти наверняка крышка, даже если он и в спасательном жилете. За несколько секунд его отнесет от корабля, и ищи ветра в-поле. На спасательном поясе, правда, есть свисток и даже лампочка, но кто услышит свист во время шторма, когда ревут волны и воет ветер; поэтому все были осторожны и Зенон, конечно, тоже. Однако он то и дело поглядывал на боцмана и раз поймал его застывший, остекленевший взгляд.
Они закончили и спускались с палубы, вернее, ретировались с нее, но Сильвестр не двигался с места. Он стоял, судорожно вцепившись в релинг, и словно загипнотизированный смотрел на океан. А там, переваливаясь, одна за другой шли ревущие горы, окружали корабль, хищно бросались на него, бились в борта. Сильвестр, продолжая изо всех сил держаться за поручень, не отрывал глаз от волн. И тогда Зенон вспомнил спасательный пояс на койке, тот разговор за обедом и все понял: боцман боялся…
Он стоял в глубине коридора, в теплом и тихом нутре, и, прислонившись к шкоту, курил. Несколько раз ему хотелось выйти на палубу и посмотреть, что делает боцман, но что-то удерживало его. Впрочем, Сильвестр вскоре появился и, не останавливаясь, спустился вниз. Да, из всего этого можно сочинить неплохую байку, чтобы потом рассказывать на других кораблях, но Зенону было не до шуток. Это очень мерзкая штука, когда подобное случается с человеком, а моряки знают — такое иногда бывает. Можно плавать годами — и ничего, все время ничего, как вдруг в один прекрасный момент приходит страх. И тогда все зависит от того, пройдет он или станет возвращаться. И если вернется, то плохо, хуже некуда. Надо изо всех сил держать себя в руках, потому что, если с этим не справишься, остается один путь: из порта — домой, под перину, к жене под юбку. На судно возвращаться незачем, потому что и сам не выдержишь и других можешь заразить. Это болезнь заразная. И если раньше Зенон этому не верил, то теперь убедился на собственной шкуре. Он заразился от боцмана, однако если Сильвестр боялся только ураганов, то у Зенона дела обстояли несколько хуже, хотя поначалу он об этом и не подозревал.
Да Зенон ничего не знал, ни о чем не догадывался. Так бывает, например, с больным туберкулезом. Мужик — кровь с молоком, думает, что он воплощение здоровья, а в легких уже пасется целое стадо этих, как их там, палочек. И однажды он чувствует первый укол, потом идет к врачу, решив, что, может, сердце начало немного пошаливать от водки, и только там ему раскрывают глаза.
Зенон вовсе не подозревал, что у него это уже начинается, и больше интересовался Сильвестром, чем собой. Но однажды, а произошло это уже в южной Атлантике, он сделал некое открытие. Все сидели после ужина в столовой и курили. Боцман был, конечно, тоже, и Зенон поглядывал на него, так как стало известно, что прогноз, который получил «маркони», очень плохой и ночью ожидается приличный шторм. Итак, Зенон смотрел на боцмана и раздумывал о том, что тот сейчас может чувствовать и о чем беспокоиться. И как-то так получилось, что, не желая смущать своим взглядом Сильвестра, он глянул вниз, якобы на свои ботинки. Хотел посмотреть на ботинки, а увидел кусочек пола между ними. В столовой пол был покрыт зеленым линолеумом очень приятного цвета, но когда Зенон задержал на нем взгляд, то внезапно осознал, что под линолеумом железо, под этим железом следующая палуба, дальше танки
[70], льяла
[71], затем дно корабля, а под этим дном…
Это было так, словно он почувствовал первый укол, словно в первый раз узнал о том, что́ находится под дном корабля и от чего его отделяют эти жалкие листы железа. Он смотрел на клочок пола между ногами, понимая все яснее, что под этим железом, там, более тысячи метров воды, что их корабль качается на этой страшной глубине, а сам он находится внутри, в закрытом тонкими бортами брюхе, и вдруг Зенон почувствовал, как на голове у него от страха зашевелились волосы.
В ту ночь он не мог заснуть. Его товарищ уже давно храпел на нижней койке, а он лежал с широко открытыми глазами и слушал первые звуки приближающегося шторма, первые мягкие удары поднимающейся волны и почти ощущал ее скользкое, холодное прикосновение. В каюте было абсолютно, почти до черноты темно, и в этой тьме взгляд притягивал еле различимый кружок иллюминатора. Время от времени на нем появлялись брызги. Зенон отворачивался, закрывал глаза, но через минуту открывал их снова и всматривался в круглое стекло. Так он боролся с собой больше часа, потом наконец осторожно спустил ноги вниз и слез с койки. Почти на цыпочках, чтобы не разбудить соседа, он подкрался к иллюминатору, занавесил его и опустил шторку. Немного полегчало. Зенон уже не видел, как вода ощупывает стекло, как пытается проникнуть внутрь корабля, но все равно продолжал думать об этом.
Вначале, если смотреть сверху, вода светло-зеленая. На самой поверхности она почти белая, дальше у нее появляется голубоватый оттенок. Глубже вода становится зеленовато-синей, потом все зеленее и, наконец, такой, будто в нее добавили чернил, а еще ниже — туши. Хорошей черной китайской туши. И там уже совершенно темно. Там темно и мрачно, как на суше никогда не бывает и быть не может. В воде, почти на поверхности, где еще светло, резвятся веселые дельфины, плавают большие и маленькие рыбы с такими мягкими губами, а в зеленеющей глубине, где густеет тьма, стоят, подрагивая плавниками, лупоглазые, с шипами на спине и с твердой, как железо, чешуей отвратительные чудовища, вьются скользкие осьминоги. Их длинные многометровые щупальца висят и лениво шевелятся в воде, однако в любую минуту они готовы напрячься, обвить чье-нибудь тело и жадно присосаться к нему. А еще ниже, на самом дне, растут ужасные леса бесцветных растений, неподвижно торчат волосатые лапы угрюмых деревьев, под которыми расстилаются бледные луга без цветов. Там уже не живет никто, там мертвая тишина и вечный покой. И в эту тишину, в эту тишину…
Когда Зенон представил себе эту картину, по спине забегали мурашки. В темной каюте ему почудилось морское дно, и при мысли, что он мог бы на нем оказаться, опуститься на ослизлый ил, в вонючую, липкую грязь, по которой на паучьих лапах ползают слепые крабы, жуткие пожиратели падали, его тело покрылось холодным потом. Перед его мысленным взором возникли их чудовищные тела, и Зенону вдруг ужасно захотелось услышать хоть какой-нибудь человеческий голос; он уже протянул руку, чтобы разбудить товарища, но вовремя овладел собой и не выдал своего состояния. Потом снова натянул одеяло до подбородка и тихо лежал, не пытаясь больше уснуть. Вслушиваясь в усиливающееся громыхание шторма, Зенон вдруг понял, что это красивое, быстрое и комфортабельное судно — ловушка, куда он попал без своего ведома и согласия, и нет никакой возможности выбраться отсюда.
Так прошла первая ночь после того, как Зенон почувствовал свою болезнь, и следующие были не лучше; страх не отпускал его и наваливался даже днем. Зенон все чаще посматривал на этот дурацкий линолеум в столовой, и иногда ему казалось, что это уже не пол, а морская вода и через минуту он погрузится в нее вместе со стулом и будет спускаться постепенно в темнеющую бездну до черного, страшного дна. Зенон начал проделывать со спасательным жилетом то же, что и Сильвестр. Он держал его всегда в ящике под койкой, а когда ложился спать, вынимал, чтобы в случае необходимости сразу надеть и, хотя бы так подстраховавшись, выскочить на палубу. Однако приходилось быть осторожным, чтобы никто этого не заметил, чтобы это не открылось — ведь тогда его жизнь на танкере станет невыносимой. Он не знал, как справился с этим боцман и догадывались ли о его болезни другие, но во всяком случае разговоров на эту тему не было. Не было, возможно, и потому, что Сильвестр плавал с этой командой уже долго и был своим. А Зенон все еще оставался новым, не прикипевшим к судну моряком, и если бы о нем такое узнали, то наверняка бы не простили: мало приятного иметь в команде человека, который вечно трясется от страха. Тем более что этот страх заразен, как тиф. Зенон помнил обо всем этом и постоянно следил за собой. Но однажды он все-таки не выдержал, сорвался и…
Это произошло на обратном пути. Они шли через Атлантику с полными танками бензина. Зенон прекрасно помнил по рассказам старых моряков, что в последнюю войну танкеры называли «зажигалками», или «кораблями вознесения». Если в судно попадала торпеда, оно сразу взрывалось, и вся команда прямо, без пересадок попадала в рай. Он знал об этом и, хотя теперь не нужно было всматриваться в море в поисках перископа, боялся, что кто-нибудь совершит оплошку, будет неосторожен и посудина вместе с командой взлетит в воздух. На танкере существуют специальные правила безопасности, глупостей здесь никто не делает, костер на палубе не разжигает, но люди сошли бы с ума, если бы постоянно думали о нефти или бензине, находящихся в танках. Однако Зенон думал об этом всегда, а мурашки бегали у него по спине, когда после обеда, завтрака или ужина все доставали сигареты и спички.
Сам он тоже был заядлым курильщиком, но теперь бросил и уговаривал других последовать его примеру, лицемерно приводя все аргументы против курения, какие только мог вспомнить. Он утверждал, что, после того как расстался с сигаретами, чувствует себя значительно лучше, бил себя в грудь, показывая, как ему прекрасно дышится теперь. С большим удовольствием он повыкидывал бы за борт все пачки «Честерфильда», «Уинстона» или «Морриса», а заодно и спички, но прямо ничего сказать не мог и лишь смотрел, как все вокруг дымят, поскольку в столовой курить разрешалось. Но однажды он все-таки не выдержал. На палубе какой-то матрос беззаботно попыхивал сигаретой; Зенон сначала оцепенел, а потом кинулся к нему, вырвал окурок, бросил за борт и заорал:
— Да я тебе, сволочь, все зубы… — и вдруг почувствовал на плече чью-то руку. Сзади стоял Сильвестр. Он пронзил Зенона бешеным взглядом и оттащил в сторону. Теперь боцман уже не называл Зенона «паном», а тряс его и кричал:
— Слушай, ты, сопляк, если ты сию же минуту не успокоишься, то я сам, понимаешь, сам расквашу тебе морду!
Боцман знал, что происходит с Зеноном. Все знал и сказал ему об этом. Они спустились в каюту к Сильвестру, и там он выложил всю правду. Зенон не стал отрицать, да и не было никакого смысла отрицать, но когда Сильвестр закончил, Зенон сказал, что плавал на многих кораблях, но никогда раньше ничего подобного у него не было и что заразился он как раз от боцмана. Зенон выпалил это ему прямо в лицо, но Сильвестр даже не пытался выкручиваться.
— Поэтому я с тобой и толкую, — сказал он, и на миг они стали как бы друзьями по несчастью. Так бывает, когда людей терзает одна и та же постыдная страсть, которая делает их чуждыми остальным и притягивает друг к другу, но отнюдь не обязательно рождает взаимную симпатию. Это было сближение, вызванное, скорее, необходимостью, и закончилось сразу же после разговора. Они не распили четвертинку, не расцеловались, просто боцман рассказал Зенону, как началась у него болезнь: однажды он тонул в Индийском океане и с тех пор боится штормов.
Сильвестр, глядя на шкот, мял в пальцах бумажный шарик. Зенон спросил его, почему же он не спишется с судна и не пойдет работать на берег. Это был бы самый простой выход.
— А ты уйдешь? — Боцман щелкнул пальцем, и шарик покатился на край стола. — Если у тебя получится, сообщи мне. С меня тогда бутылка.
В тот день Зенон был уверен, что спишется с корабля, но оказалось, что все не так просто. Он не смог решиться и снова пошел в море на этом же танкере, и снова начались фокусы со спасательным поясом. Время от времени он посматривал на боцмана, но Сильвестр вел себя так, словно ничего не знал о болезни Зенона, словно у того все в порядке. Возможно, боцман таким образом хотел дать понять, что разговор тот — дело прошлое, что его вообще не было и кто старое помянет… Он был с Зеноном сух, часто даже строг, разговаривал только по службе и ни в чем не делал поблажек.
Зенон предполагал, что боцману, наверное, стыдно за то признание, за ту минуту откровенности, и порой ему хотелось сказать что-нибудь дерзкое, оскорбительное, но Сильвестр держался на расстоянии и не допускал фамильярности и тем не менее не переставал интересоваться Зеноном, приглядывал за ним, потому что в критическую минуту оказался рядом, словно заранее знал, что будет нужен. Это случилось в Средиземном море. За Мальтой они попали в сильный шторм: Зенон лишь на мгновение потерял равновесие, поскользнулся на мокрой палубе, и в ту же секунду огромная волна обрушилась на корабль, подхватила его и понесла за борт. И тогда боцман прыгнул. Должно быть, ему было страшно, чертовски страшно, но он прыгнул в ревущее море. Зенон шел уже ко дну, когда боцман со спасательным кругом оказался рядом. Их вытащили
сцепившихся мертвой хваткой. После этого рейса Зенон все-таки списался на берег. Какое-то время он не плавал, а когда вернулся на флот, больше уже не встретился с Сильвестром. Однако Зенон навсегда запомнил своего боцмана, ибо это был самый смелый человек, какого он знал в жизни.
Перевод В. Масальского.
Станислав Гостковский
Боксер
Вижу я как по утрам
разминается он в роще как часами
тень свою в нокаут шлет и как
по-сиротски ждет трамвая со своей пузатой сумкой
под глазами синяки а над левой бровью пластырь
он всегда сосредоточен напряжен он весь в бою
с одиночеством своим
и со страхами своими
вижу как взбегает он
по ступенькам и на ринге
кланяется крестит грудь
и бросается в атаку
и отшатывается
и падает ничком
и до десяти над ним считают
и он сходит вниз под общий рев и свист
у меня такое чувство словно бой проигран мной
Перевод А. Щербакова.
Мы на устах
Весь мир говорит о нас
даже сейчас когда я пишу эти строки
в три утра когда грузчики внизу
волокут молочные бидоны а диктор
полушепотом говорит
что сегодня ожидается потепление
местами грозы
даже сейчас когда я прилепился
к листу бумаги когда я укрыт
в неприступном бункере стиха когда
по всем законам логики
моей жизни не грозит
опасность я все-таки
боюсь за грядущий день выстоим ли мы
останемся ли мы нацией когда мы у всех
на устах не расколемся ли мы
меж восходом и закатом
пополам а после будем
сожалеть
Перевод А. Щербакова.
Грибы
Чую
как после дождя
подступают грибы
к ладоням моим как дородные боровики
прихорашиваются чую
самой сутью своей теплые их тела
свежесть кожицы неторопливой ладонью
касаюсь каждого нерва считаю волоски
пересыпаю улыбки в зеленом зеркале
вересковой поляны наклоняюсь почти
до земли такой же прогретой
каплями счастья надежды росами леса
клубящегося окликами птиц пробужденного
мычаньем оленя
щебетом
живности которая делится
цветными снами от первых
лобзаний луны что ластится
словно волчица к молоденьким
побегам малины набрякшей
солнечной кровью только бери
как боровики
после дождя
Перевод А. Щербакова.
Автобус
С одного конца
на другой конец
взявши Павлика
на колени
так обоим нам
веселее
всё мотаемся
с наших морен к морю
с моря к нашим моренам
в шесть утра туда
в шесть вечера обратно
вечером Гданьск поприглядней
его неизменную пасмурность
оживляют огни машин
попутных и встречных
видимо так нам всю жизнь и носиться
из дому в детский сад
из детского сада домой
а те большие прожекторы
это портовые краны
а там вдали огонек
видишь который мигает
это маяк на Хеле
папа а папа
скажи почему в этом городе
солнца всю осень нету
может оно осталось
там где мы раньше жили
там где дедушка живет
где остался зеленый совочек
и большущий мяч
красный как луна над домом
где мы теперь живем
ну видишь ли Павлик
города они все разные
здесь у моря нам не везет
насчет солнца но скоро ты вырастешь
и тогда ты его увидишь
автобус таким и останется
а вот мы заживем веселей
я в это верю Павлик
особенно верю
сейчас
Перевод А. Щербакова.

Ежи Генрик Камровский
Не опуская рук
Способен ли ты еще
без раздражения
пожертвовать для кого-то несколькими важными
часами
бережно подать цветок
погладить ребенка
не позевывая
и без проклятий
подтереть на полу грязь
после ухода друзей
Можешь ли ты не опуская рук
ждать
любить ожидая
своей очереди в истории
— смерти которая совершится
наверняка в одиночестве
как смерть воробья
Можешь ли ты хотя бы
открыть дверь
не спросив: кто там
Перевод С. Свяцкого.
Покой
Матери
Ночь
как черная белка
мягкими лапками
колышет в веточках
безмятежный сон деревьев
Тишина
среди листвы повисла
пустым орехом
и ветер в дупле
засыпает
Туман
как паутина
оплетает спящих
беззвучным
небытием
Перевод С. Свяцкого.
Мариан Реняк
Операция «Визель»[72]
Стояла ранняя весна 1945 года. Келецкое воеводство уже было очищено от оккупантов, но война еще не кончилась, фронт продвигался к Берлину. В это время в окрестностях Сандомира и Вежбицы на уже освобожденной территории были сброшены группы вражеских парашютистов. Перелистывая архивные документы, я натолкнулся на пожелтевшие страницы показаний одного из них — Сулимчика. Он был командиром диверсионной группы.
Я отыскал записи, протоколы, план проведения операции. То тут, то там я натыкался на пробелы. О некоторых обстоятельствах нередко приходилось лишь догадываться. Создавалось впечатление, что у тех, кто вел это дело, не было времени на составление документов. Иногда они просто от руки записывали полученную информацию и все. Операция не имела даже цифрового обозначения, как это принято в контрразведке. Страна возвращалась к нормальной жизни, однако противники нового строя не собирались добровольно сходить с исторической сцены. Служба безопасности еще не окрепла, а уже надо было действовать, принимать решения…
Первый рапорт — всего несколько фраз о том, что в обозначенном цифрой районе с неизвестного самолета сброшена группа парашютистов. Сведения были получены от одного крестьянина. Видно, что рука неразборчиво подписавшегося автора больше привыкла к пистолету, чем к перу. Ведь тогда люди попадали на службу в органы безопасности прямо из партизан. Это были наиболее ценные работники, в любой ситуации они руководствовались собственным опытом.
На следующей странице я нашел уже умело составленный план местности и приказ обследовать район, отмеченный на карте треугольником: Сандомир — Завихост — Двикозы. Я старался восстановить дальнейший ход событий. Поиски в обозначенном районе не дали ожидаемых результатов. Однако сообщение крестьянина подтвердилось. В роще возле деревни Двикозы были найдены брошенные парашюты, идентичные с теми, что использовались в люфтваффе. Группа, ведущая поиски, тщательно осмотрела ближайшие окрестности. Местные жители ничего не видели, слышали только звук сильного взрыва. Нашли останки одного из парашютистов, приземлившегося на еще не разминированное поле.
Но все следы стер проливной дождь, а долгая весенняя ночь дала возможность диверсантам быстро покинуть место выброски. Они исчезли…
Советские войска приближались к Висле, в Варшаве повстанческие отряды вели ожесточенные бои. Первая танковая бригада вступила в бой на плацдарме в районе Студзянок, бригады Армии Людовой имени земли Келецкой и Свит проводили увенчавшуюся успехом операцию в окрестностях Илжи, а на юге страны проходила концентрация частей Народовых сил збройных — НСЗ. Главное командование НСЗ решило объединить свои разрозненные отряды. Так была сформирована Свентокшиская бригада
[73]. Во главе ее встал Богун, имя которого было покрыто позором уже в период оккупации Келецкой земли.
Свентокшиская бригада была самым сильным вооруженным отрядом НСЗ. В августе 1944 года главное командование Народовых сил збройных поставило перед Богуном две задачи. Первая: объединение распыленных частей НСЗ, действовавших в основном на территории Келецкого воеводства с целью более активной борьбы с отрядами Армии Людовой, советскими партизанами и демократическими подпольными организациями. И вторая задача — отвод Свентокшиской бригады с территорий, освобождаемых Красной Армией и народным Войском Польским. План этой операции руководство НСЗ согласовало с гитлеровским командованием.
11 августа 1944 года в маленьком местечке Ласоцин во Влошчевском повяте Келецкого воеводства в доме местного помещика встретились командиры отрядов, до сих пор действовавших самостоятельно.
Необычная это была встреча. Высокий худощавый мужчина в великолепно сидящем мундире с погонами подполковника принимал в барском кабинете своих новых подчиненных. Каждый представлялся, называя кличку: Якса, Зуб, Ежи, Степь, Русин, Бем, Лось, Рысь, Любич, Дымша. Некоторые из них уже к тому времени запятнали свои имена: Зуб — участием в чудовищных убийствах под Боровом, Рысь — переговорами с гестапо…
Подполковник Богун при всех регалиях произвел смотр выстроенных как на параде отлично вооруженных отрядов. Был жаркий летний день. Жители села радушно принимали «лесных». Любопытные крестьяне высыпали на улицу, только девушки прятались по дворам. Некоторых удивляли незнакомые знаки на мундирах партизан. Кто там разберет, что это за «лесные». Столько их уже побывало в селе! Но те приходили ночью, а эти действовали среди бела дня, были в одинаковом обмундировании и с однотипным оружием. Даже на первый взгляд они отличались от прежних партизан: на левом верхнем кармане у каждого был пришит образок с изображением богородицы, что вызывало доверие, особенно у пожилых, а на плече — фигурка ящерицы.
Подполковник Богун прочитал приказ об образовании Свентокшиской бригады, потом скомандовал «Вольно!» — и началось празднество. Эхо понесло далеко за село слова песни: «Эй, лети партизанская песня… тем, у кого слабое сердце, выкуй сильное и твердое как сталь…»
Новый командир в этот вечер не жалел водки, хмель ударял в буйные головы, и долго шумело село в ту августовскую ночь.
Вдалеке от семей,
вдалеке от близких
мы — польские солдаты
с гор Свентокшиских…
Поляки, подайте нам руку…
Пели и верили словам этой песни парни, которые присоединились к «лесным» только затем, чтобы бороться с немцами. Могли ли они тогда знать, куда поведет их подполковник Богун?
В тот же вечер командир бригады ознакомил узкий круг посвященных во все тайны членов штаба с новыми заданиями: положение на Восточном фронте вынуждало принять новую тактику. Концентрация отрядов НСЗ составляла лишь часть большого плана перехода на Запад.
— В данный момент нашим основным врагом являются коммунисты, — говорил Богун, — те, из-за Вислы, и местные, из Армии Людовой. Какие-либо попытки вступления в бой с немецкими частями недопустимы. Об этом с немцами достигнуто соответствующее соглашение.
…Двинулись на рассвете в полном боевом снаряжении. Поздно вечером дошли до села Радкув. Богун разместил свой штаб в старой усадьбе. Местный помещик гостеприимно принял господ офицеров.
Энсеэзовцы не теряли времени даром. Население Радкува и окрестных сел — Будок, Домбе, Хлевской Воли было известно своим сочувствием Армии Людовой. План операции разработал майор Зуб. Выполнение первого задания было поручено поручнику Дымше. Свентокшиская бригада начала действовать… В темноте подошли к деревне. Окружили кольцом. Обходили дом за домом. «Боже милостивый! Немцы! Убивают!» — раздавались отчаянные крики. Страшная ночь. Не щадили никого…
«…Началом их преступлений стала деревня Огарка. Дома арестованных были разгромлены. Потом провели карательную операцию «по немецкому методу» в селе Радкув. На другой день окружили село Будки, где арестовали Березу, которому сломали руки, а потом расстреляли. В селе Домбе арестовали около четырехсот человек. В селе Хлевска Воля арестовали поручника Стефана и его брата. В селе Хыча арестовали Камня, которого забили палками. После приведения приговоров в исполнение энсеэзовцы ушли…» —
докладывал Горбатый в рапорте командованию Армии Людовой.
Я нашел этот потрясающий документ в архиве, а за ним и другие.
Рапорт Тадека Бялого:
«…Состав отряда на 1 сентября 1944 года — 156 человек… После боя с НСЗ осталось 47 человек. Взятые в плен энсеэзовцами капрал Ян Паця из Вольброма и связная Крыся убиты ими. На другой день после боя под Жомбцем до нас добрались девять советских солдат, которые сообщили, что националисты повесили 32 их товарища, в том числе одну женщину. 29 поляков увели с собой. Их дальнейшая судьба неизвестна. Следует добавить, что цепь энсеэзовцев стояла в лесу, а другая, немцев, — около леса…»
Поручник Тадеуш Май-Локетек:
«Наши отряды направились в район боевых действий. Группа Урагана, действующая в Пекошове, вступила в бой с немецким гарнизоном… убито два офицера и много солдат, защищавшихся в кирпичном здании школы. Захвачено оружие, боеприпасы, документы и несколько комплектов обмундирования… 24 августа в 6.15 в районе Гнеждзиска (железнодорожная линия Кельце — Ченстохов) взорван состав… У врага большие потери в живой силе. У нас потерь не было…»
В тот самый час, когда проходила операция в районе Гнеждзиска, группа НСЗ под руководством Богуна в количестве трехсот человек напала на оставленных Ураганом больных и часть обоза с ездовыми — всего пять человек — в лесной сторожке в Фаниславице. Нападавшие убили лесника Возьняка и поручника Мацека, тяжело ранили рядового Лешека и увели с собой советского солдата из группы парашютистов…
Ослепительные лучи фар скользнули по ветвям деревьев и ярко осветили развилку дорог. Проселок вел отсюда прямо в лес. Ночь темная, августовская, жаркая. Гроза висела в воздухе. Свинцовые тучи плотно закрыли небо. Машина вынырнула из мрака на повороте.
— Не показывайся, он подойдет сам. Держи его на мушке. В случае чего стреляй первым, — приказал укрывшийся в гуще кустарника мужчина.
Свет фар полоснул по шоссе, машина показалась из-за пригорка. Водитель снизил скорость, медленно подъехал к проселочной дороге и остановился. Фары погасли, но двигатель продолжал работать. Человек, сидевший рядом с водителем, открыл дверцу и тихо просвистел несколько тактов песенки «Звезда Рио». Вокруг стояла абсолютная тишина. Мужчина беспокойно заерзал и еще раз повторил мелодию. Он ждал не выходя из машины, пока из непроницаемой темноты с обочины шоссе не услышал условленного ответа. Одновременно из рва показалась фигура закутанного в широкий плащ мужчины. В темноте блеснул ствол автомата, спрятанного под плащом. Человек подошел к машине, вскочил на подножку и подал знак, показывая, куда ехать. Водитель медленно двинулся вперед, свернул за нависшим над шоссе откосом направо. Автомобиль пару раз подскочил на рытвинах и исчез в густом лесу.
Машина медленно двигалась вперед. Человек в плаще показывал дорогу. Они проехали не больше километра. Еще одна короткая остановка, замаскированный пост охраны, обмен паролем, крутой поворот, и они оказались на небольшой поляне. Здесь под покровом ночи произошла тайная встреча. Их ждала группа вооруженных людей. К машине подошел только один, командир.
— Все в порядке, герр Том? — вполголоса спросил мужчина в кожаном пальто, выбираясь из машины.
— Так точно, герр Альтман
[74], — ответил Том.
— Скольких вы привели? — спросил Альтман, поправляя воротник кожаного пальто, которым он старался прикрыть знаки различия в петлицах гестаповского мундира.
— Девять человек, — ответил Том. — Об остальных позаботились мои люди.
Том подал знак ожидавшим в лесу. Они вывели из кустов девятерых со связанными за спиной руками. Под дулами пистолетов подвели их к машине. Лязгнуло оружие, несколько невидимых до сих пор силуэтов задвигались в кузове грузовика. Кто-то поднял брезентовый тент, опустил борт. Том торопил своих людей. Но конвой вдруг остановился. Небольшая заминка. Какой-то из пленных сопротивлялся. Глухой удар автоматным прикладом. Звук падающего на землю тела. Крепкое ругательство. Подбежал Том. Вытащил пистолет из кобуры. Сдавленным голосом отдал какой-то приказ. Двое конвойных схватили лежащего, подтащили его к машине, бросили, словно мешок, в темный кузов грузовика. Потом настала очередь следующих. Пленных погрузили одного за другим, забрасывая как колоды в кузов, прикрытый брезентом.
Человек в кожаном пальто подошел к командиру группы, люди которого уже отступили в кусты на краю поляны.
— Спасибо, герр Том, — бросил он на прощанье.
— До свидания, герр хауптштурмфюрер!
Операция длилась всего несколько минут. Альтман сел в машину. Грузовик двинулся к шоссе.
Вернувшись из ночной поездки, Альтман до утра не выходил из здания гестапо. Утром рапорт о первых допросах девяти привезенных им людей был готов. Он несколько раз прочел машинописный текст, затем набрал номер телефона своего шефа.
— Хайль Гитлер, герр штурмбанфюрер, — отрапортовал он и доложил, что группа Тома передала пленных коммунистов.
В документах операции «Визель» прибавился еще один, свидетельствующий о преступлениях оккупантов.
Приподнимем завесу истории. И увидим темную личность, которую называли Томом и люди Богуна, и люди из гестапо.
Кем он был, носящий эту кличку? Откуда появился? Где родился? Как попал в наиболее законспирированные звенья организации НСЗ? Никто не знал его прошлого, даже его фамилии.
Скупые сведения, собранные в архивах, не дают возможности раскрыть тайну до конца. Одни утверждают, что на самом деле Тома звали Герберт Юнг, что он был немцем и хорошо замаскированным агентом гитлеровской разведки, опытным провокатором, действовавшим в польских подпольных организациях. Последнее не подлежит сомнению.
Другие свидетели говорят, что его звали Ежи Аугустыняк. Третьи знали его как Калиновского. Какая версия верна? Впрочем, такое ли уж большое значение имеет фамилия?
Имя Тома стало известно с конца лета 1944 года. Он всегда участвовал в самых темных операциях фашистской разведки. Во время концентрации отрядов, входящих в состав Свентокшиской бригады, Том появился под Кельцами у Богуна. Он сотрудничал с группой, называемой «разведка К», которая занималась в НСЗ операциями — о них не знали даже многие руководители организации — по раскрытию и уничтожению левых сил и ликвидации демократических деятелей. Для этих целей использовались отряды «специального действия», почти не скрывавшие своего сотрудничества с гестапо.
Том действовал и в Ченстохове, где организовал великолепно замаскированную явку «специальной группы-2» отдела главного командования НСЗ. Здесь он, однако, выступал под другой личиной, его кличка была Густав.
Даже ближайшие соседи не догадывались, что находится в незаметном одиноко стоящем домике на Ясногурской улице в Ченстохове. Табличка с названием фирмы «Тифбаугезельшафт» создавала впечатление, что здесь находится какая-то горностроительная организация. Если бы даже кто-то случайно навестил «предприятие» в поисках работы, у него не было бы повода считать, что он попал не по адресу. Комната, в которой оказывался посетитель, была обставлена как обычная канцелярия. Там даже сидела «секретарша» и отваживала непрошеных клиентов. В этом хорошо законспирированном доме было несколько комнат и подвал, приспособленный под тюремные камеры. В доме происходили тайные встречи с офицерами гестапо, здесь обсуждались планы провокационных операций, сюда под покровом ночи привозили похищенных членов антифашистского подполья, которые позже бесследно исчезали, ликвидированные людьми Тома, или отправлялись в тюрьму зихерхайтсполицай
[75].
Группа Тома была хорошо засекречена. Намеченные жертвы похищались чаще всего ночью и увозились в неизвестном направлении. Поэтому трудно восстановить полный список совершенных преступлений. В подвале на Ясногурской улице были ликвидированы деятели Польской рабочей партии Пелчиньская, Вонсек, Оссовецкая, трупы убитых были закопаны в саду возле дома — резиденции Густава. Именно он отдал приказ ликвидировать члена ПРП Тадеуша Сегальского, а также дважды совершал покушение на активиста крестьянской партии Домб-Коцёла. Он сотрудничал и с высокопоставленным деятелем НСЗ шефом 2-го отдела гестапо Отмаром Вавжковичем по кличке Олесь, который в свою очередь действовал рука об руку с шефом гестапо Радомского округа Паулем Фуксом. Известно, что тот же Вавжкович инсценировал в Кракове якобы случайную смерть своего предшественника, бывшего шефа разведки НСЗ Хуберта, который сопротивлялся столь явному сотрудничеству с гестапо. Вавжкович содействовал и таинственным убийствам Людвика Видершаля, профессора Марцелия Хандельсмана, Галины Крахельской, Маковецкого…
Всюду, где подчиненные Богуну отряды Свентокшиской бригады нападали на партизанские отряды Гвардии Людовой и Армии Людовой или совершали карательные акции в селах, присутствовал Том, он был за кулисами каждой операции и забирал наиболее важных пленных, которые вслед за этим исчезали бесследно.
Много лет тому назад я как офицер польской контрразведки вместе с моими коллегами посвятил немало времени и сил поискам Тома. Мы шли по следу преступника, открывали все новые и новые его зверства, разговаривали с десятками людей, перелистали тысячи страниц архивов времен оккупации и более поздних, немало было оперативной работы, но нам не удалось найти Тома, он же Густав, он же Герберт Юнг. Он сбежал из Польши, когда Восточный фронт стал приближаться к Берлину. Следы вели на Запад…
Но в 1956 году, поздней осенью, мы еще раз вернулись к этому делу. Первая информация предвещала сенсацию. В органы безопасности в Катовицах явился некий Эрик Бурчик.
— Я был переводчиком в гестапо в Ченстохове, — заявил он. Проверили. Действительно, эта фамилия фигурировала в списке. После освобождения Бурчик как сквозь землю провалился. Считалось, что он погиб. Через несколько лет поиски его были прекращены. Тем временем Бурчик на «накопленные» во время оккупации средства одиннадцать лет укрывался в Забже и не высовывал носа из квартиры своих дальних родственников. Мнимая вдова гестаповца все это время жила одна и старательно поддерживала версию о гибели мужа в последние дни войны.
Эрик Бурчик дал подробные показания о своей работе во 2-м отделе ченстоховского гестапо. Он рассказал о совещаниях у гауптшарфюрера Кёнига, о тайной инструкции сотрудничать с НСЗ с целью раскрытия и ликвидации врагов фашизма, о том, что гестапо передавало НСЗ фамилии «установленных» коммунистов. Он даже припомнил некоторые подробности, рассказал, как из гестаповской тюрьмы выпустили арестованного члена НСЗ, который совершил нападение на ювелира. Шеф гестапо — видимо, благодаря вмешательству Тома — приказал освободить энсеэзовца, а для того чтобы замести следы, арестовали ограбленного ювелира. Эрик Бурчик знал также о тайных встречах на Ясногурской улице, но Тома сам не видел и не мог сказать о нем больше, чем мы тогда уже знали.
В декабре 1944 года каждый день приносил новые события. На Восточном фронте наступали советские войска. Все ближе грохотали орудия. Эхо артиллерийских залпов предвещало скорое освобождение. Красная Армия приступила к форсированию Вислы. Партизанские отряды движения Сопротивления на Келецкой земле поднялись на последний бой с гитлеровским агрессором, другие направлялись на восток, чтобы с оружием в руках пробиться через фронт, к свободе и соединиться с наступающими армиями.
Для Богуна слово «свобода» означало совсем другое. Штаб бригады был охвачен тревогой, страхом перед неминуемым возмездием за содеянные преступления. На что он мог рассчитывать перед лицом краха третьего рейха? На то, что удастся скрыть тайные убийства? Но стоит лишь вспомнить нападение на группу Армии Людовой в Жомбеце, засаду и массовое убийство партизан из отряда имени Бартоша Гловацкого, партизан Тадека Бялого и советских — Ивана Ивановича… Ключевск — переговоры Рыси с гестапо… массовые карательные акции… операции «специальной группы» Тома… «Тифбау»… Ченстохов…
Как избежать встречи с наступающими советскими и польскими войсками? На счету был каждый день. Единственное спасение от возмездия — бегство. Разведка НСЗ лихорадочно приступила к реализации плана эвакуации.
Был объявлен сигнал тревоги для всех отрядов НСЗ. Бригада концентрировалась в Мацеёве. В последнюю новогоднюю ночь на польской земле Богун отдал приказ отступать. Наступил решительный момент. Каждый задавал себе вопрос: остаться или покинуть родину? Те, кто до сих пор понятия не имел, кому служит Богун, почувствовали себя обманутыми. В отрядах все громче говорили о предательстве командования. Ширилось дезертирство. Люди исчезали поодиночке, целые взводы отказывались подчиняться. Личный состав уменьшился почти наполовину.
Богун не видел другого выхода и решил играть ва-банк. Приказ о подготовке к отступлению прозвучал ясно, без всякой двусмысленности. Командование не скрывало правды, поэтому открылись глаза даже у самых наивных, не знавших закулисных связей штаба. Ведь прежде Богун старательно заботился о том, чтобы создать видимость партизанской борьбы, провозглашая при каждом удобном случае, что Свентокшиская бригада — это группировка движения Сопротивления, только «другой окраски» и со «специальным заданием на будущее», поэтому пока что избегает непосредственных боев с немцами. И действительно, избегала, но только потому, что штаб тайно согласовывал действия бригады с немецким командованием. Единственная, мелкая, впрочем, стычка, которая произошла, когда отряды Богуна по ошибке наткнулись на колонну гитлеровских войск, была раздута в «бой под Гацовом».
Так можно ли удивляться, что правда потрясла даже тех, кто хоть немного разбирался в махинациях энсеэзовских «верхов». Да, приказ к отступлению означал просто бегство.
В морозную январскую ночь Свентокшиская бригада двинулась на Запад. Длинная вереница обозов потянулась в сторону реки Пилицы. Шли днем и ночью, без отдыха. Прислушивались к грохоту пушек на востоке. Радиостанция в Люблине сообщила о том, что советские дивизии прорвали фронт. Гитлеровцы лихорадочно подготавливали новую линию обороны. На Пилице остался лишь один невзорванный мост, под Жарновцем. У Богуна не оставалось выбора. Надо было как можно скорее оказаться за новой линией фронта. Переправа через реку отнимет слишком много времени. Близкие артиллерийские залпы и протяжный вой «катюш» наполняли страхом, заставляли спешить…
«…Ночью 13 января 1945 года передовые части бригады при подходе к мосту были остановлены Богуном. Было сделано несколько выстрелов сигнальными ракетами. Примерно через пятнадцать минут такие же ракеты взлетели с той стороны реки. Тогда на мост вышли Богун, Якса и Виктор. Через некоторое время прозвучал приказ продолжать движение. Бригаду ожидали проводники, молодые люди в штатском. Миновав мост и дойдя до центра населенного пункта, колонна повернула направо и наткнулась на заграждения из колючей проволоки. У прохода через укрепления стоял часовой — немецкий солдат. Возникло минутное замешательство, но часовой спокойно отошел в сторону, пропуская колонну. Тогда один из штатских, Том, провел бригаду через укрепления. Затем он и его люди исчезли…»
Это слова одного из очевидцев переправы через Пилицу. Я нашел его показания в архивных материалах и привожу их здесь дословно. То же самое говорили другие свидетели, некоторые из них шли с бригадой на Запад, а потом разными путями возвращались назад, в Польшу. Именно так выглядела горькая правда, которую изо всех сил старался скрыть Богун
[76].
В конце января 1945 года Свентокшиская бригада оказалась за новой линией фронта. Длинная колонна обозов, кавалерия и пехота теперь уже совершенно явно двигались на юго-запад вместе с отступающими частями гитлеровской армии.
Пока что бригада дошла до Зомбковиц и через Нижнюю Силезию направлялась в сторону еще оккупированной Чехословакии. Штаб Богуна совершенно подчинился гитлеровскому командованию. Связь между бригадой и немецкими властями осуществлял офицер для специальных поручений по фамилии Флор, ранее известный как Шиманьский. В Кельцах, в условиях «конспирации», лишь немногие посвященные догадывались, что он исполнял функцию связного между Богуном и шефом гестапо в Радоме. Сейчас он действовал совершенно открыто, согласовывал маршрут отступления, обеспечивал жильем во время остановок, менял оккупационные злотые на марки, снабжал бригаду продовольствием и поддерживал связь с Томом. Тот исчез вместе со своей охраной на плацдарме под Жарновцем и совершенно неожиданно присоединился к бригаде на стоянке под Зомбковицами. Как потом оказалось, «специальную группу» Тома, как особенно ценную для гестапо, немцы эвакуировали на грузовиках через Бреслау.
Том, как всегда, появился в тот момент, когда надо было выполнить особенно грязное задание. Разве немцы даром открыли путь отступления Богуну, не направив бригаду прямо в бой на Восточный фронт? Том приехал с готовым планом тайной операции. Абвер требовал ее немедленного выполнения. Том передал инструкции в ставку Богуна и проследил, чтобы приказ был выполнен незамедлительно. Немцы решили использовать энсеэзовцев для диверсий в тылу советских войск.
На следующий день после появления Тома отступающая бригада остановилась на отдых в окрестностях Валбжиха. Здесь на тайном совещании были выбраны кандидаты в первую группу парашютистов. Том занялся ими лично.
Группа состояла из шести человек: командир группы поручник Болеслав, Румба, Томек, Войтек и две связные. Кандидаты прошли ускоренный курс подготовки. Собственно говоря, это трудно было бы назвать курсом. Инспектора из абвера лихорадочно торопили. К этому их принуждала ситуация на театре военных действий. «Парашютисты», которые еще никогда не бывали в воздухе, были отвезены на аэродром люфтваффе. Парашюты должны были раскрыться автоматически.
13 февраля 1945 года диверсанты получили задание: вступить в контакт с отрядами НСЗ, возглавляемыми Рысью, Бемом и Яремой, которые не отступили с Богуном за линию фронта, а остались в Келецком воеводстве; передать им приказ немедленно приступить к диверсионной деятельности: парализовывать коммуникации советских войск, взрывать мосты, разрушать железнодорожные пути. Когда опустилась ночь, энсеэзовцы, снабженные оружием, радиопередатчиком и фальшивыми документами, поднялись в воздух на борту немецкого самолета Ю-52. Летчик взял курс в район Сандомира…
Тем временем Свентокшиская бригада продолжала двигаться форсированным маршем, направляясь в Судеты. Сообщения верховного командования вермахта день изо дня твердили о «запланированном отходе на заранее подготовленные позиции». Вести с фронта наводили панику.
А немецкие офицеры — связные абвера — снова требовали людей. И немедленно! Времени на переговоры уже нет, быстрее, черт побери! У Богуна не было выхода, он откупался живым товаром. В течение часа были выбраны люди для нескольких парашютных групп. В тот же вечер их увезли на машинах в неизвестном направлении.
Разведывательная команда номер 202. Так называлась часть абвера, временно размещенная в небольшом местечке Гросс-Фосек, куда и попали энсеэзовцы. Здесь последний раз видели Тома. Он появился в обществе гауптмана Вальтера и вместе с офицером абвера принял довольно многочисленную на этот раз группу кандидатов в диверсанты. Поблизости, в Лейтмеритце, организовали ускоренный инструктаж для радиотелеграфистов. Там обучались не только энсеэзовцы, но и украинские националисты — бандеровцы
[77], которых немцы готовили для переброски в советский тыл. Но это уже другая, не менее черная страница истории.
А был уже март 1945 года. Хорошо укрытый аэродром в не освобожденной еще части Чехословакии. На стартовой полосе юнкерсы люфтваффе, готовые к взлету. Экипажи самолетов нетерпеливо ожидают «пассажиров». Наконец они приехали. Рядом со стартовой полосой остановились два грузовика. Из них вышли гауптман Вальтер в мундире офицера СС, потом человек двадцать в полном снаряжении парашютистов. Вальтер представил немецким пилотам командира диверсионной группы — Сулимчика.
— Внимание! Все готовы? — крикнул немец.
— Так точно! — ответил кто-то из самолета.
— Внимание! Все готовы? — подхватил по-польски Сулимчик, обращаясь к энсеэзовцам, стоящим около машин.
— Так точно, пан капитан, — ответил голос из темноты.
— Внимание! — повторил Сулимчик. — Те, кого я вызову, полетят в первой группе. Яр, Рог, Артур, Дан… — называл он клички.
Вызванные по очереди подходили к гауптману СС.
— Дальше! К самолету! Живо! — торопил Вальтер.
— Остальные за мной! — скомандовал Сулимчик.
Диверсанты, разделенные на группы, подошли к самолетам. Шум работающих двигателей заглушал смесь польских и немецких слов — последние приказы. Гауптман Вальтер подождал, пока все диверсанты не исчезли в черных провалах люков юнкерсов…
Прекрасна была весна 1945 года. На краковском рынке жизнь бурлила, как перед войной. Цветочницы за разноцветными лотками расхваливали свой товар. Молодежь беззаботно высыпала на ежедневную прогулку по Плантам — краковским бульварам, а завсегдатаи вернулись к традиционному кофе под аркады Сукениц в кафе Новорольского. Город праздновал уже третий месяц освобождения от гитлеровской оккупации. Только бетонные столбы противотанковых заграждений, которые немцы, ошеломленные наступлением советских войск, не успели взорвать, напоминали о днях войны.
Именно в такой солнечный весенний день, 8 апреля 1945 года, когда бой часов с башни Мариацкого костела возвестил наступление полудня, в храме на четвертую справа скамейку присел невысокий рыжеватый блондин и осторожно огляделся. Через минуту рядом с ним появилась скромно одетая девушка.
— Пан Сулимчик? — спросила она почти шепотом.
— А вы кто? — нерешительно проговорил мужчина.
— Вам привет от Артура.
— Почему он сам не пришел? — спросил Сулимчик настороженно.
— Он ждет вас на Босацкой улице, давайте выйдем отсюда, по дороге я все вам объясню. Произошло нечто непредвиденное…
Сулимчик заколебался, как бы не зная, на что решиться. Он не спешил с ответом, приглядываясь к незнакомке. Потом оглянулся, обшарил взглядом костел. Храм был почти пуст, только в последнем ряду две старушки перебирали четки и вполголоса повторяли слова молитвы.
— Идем отсюда, — шепнула девушка и направилась к выходу. Мужчина с минуту помедлил, потом встал и пошел следом за ней. Они вышли через боковые двери на Мариацкую площадь, прошли в ворота у старинного костела Иезуитов, потом на Малый рынок, а затем повернули налево, на Шпитальную улицу.
Девушка взяла Сулимчика под руку. Они как раз проходили мимо кафе на углу. У входа стояли двое мужчин и решали вопрос: выпить ли еще четвертинку или уже хватит? Они внимательно взглянули на проходящую мимо пару и двинулись за ними, сохраняя определенную дистанцию.
— Мы должны выглядеть как можно естественней. Мужчина в обществе женщины гораздо меньше обращает на себя внимание. Ну скажите же мне что-нибудь приятное, — болтала девушка.
Сулимчик, однако, вел себя сдержанно.
— Почему Артур послал вас?
— Я его кузина и не могла отказать в этой небольшой услуге. Щерба провалился; правда, его арестовали совершенно случайно, но неизвестно, не сказал ли он чего. Артур решил, что будет безопаснее, если на встречу с вами пойду именно я. Ничего больше я не могу вам сказать, потому что сама ничего не знаю. Впрочем, через пару минут мы будем на месте, и Артур сам вам все объяснит.
— Как вы меня узнали?
— Если вы мне не верите, то мы можем разойтись на ближайшем перекрестке. — Девушка отпустила руку Сулимчика. Они как раз миновали кафе «Богема» и приближались к углу Шпитальной и Пиярской.
— Я этого не говорил. Но вы должны понять меня, я ведь даже не знаю, как вас зовут, — ответил Сулимчик и беспокойно посмотрел направо, вроде бы оглядев фронтон театра Словацкого, а на самом деле проверив, не идет ли кто за ними. Девушка тоже оглянулась и обменялась взглядами с двумя мужчинами, которые шли метрах в двадцати за ними по другой стороне улицы.
Сулимчик вместе с незнакомкой миновали перекресток и за крепостным валом старого Кракова свернули в тенистые аллеи Плантов.
— А что бы вам дало, если бы я представилась как Анна Пасиковская или Клосиньская? — спросила девушка.
— Дело не в этом, — буркнул Сулимчик.
— Артур очень хорошо описал вас и совершенно точно объяснил мне, на какой скамейке вы будете сидеть. У хорошего конспиратора должно быть шестое чувство.
Сулимчик остановился и закурил. В этот момент к нему подошел прохожий.
— Простите, нельзя ли попросить огонька?
Сулимчик не успел подать спички, потому что в ту же минуту рядом с ним выросли те двое «пьяниц» из кафе.
— Пан Сулимчик? — спросил один из них и, не ожидая ответа, сказал: — Служба безопасности, вы арестованы.
Вот так вместо явки Артура и Щербы командир парашютистов-диверсантов Сулимчик попал в кабинет следователя, офицера службы безопасности, где и встретил своих сообщников.
— Меня зовут Зигмунт Майковский, я родился двадцать четвертого июня двенадцатого года в Кельцах, живу в Скаржиску Каменней, на улице Дембовой, двадцать три, — отвечал Сулимчик на вопрос следователя.
— Я не спрашиваю об анкетных данных в фальшивых документах, которые дали вам ваши начальники из абвера, я спрашиваю о вашем настоящем имени, которое вписано в польскую метрическую книгу. Мне напомнить, что вы родились двадцать восьмого октября тысяча девятьсот двенадцатого года в Волянове, сын Александра? Говорить дальше или вы сами скажете правду? — спросил следователь.
Сулимчик сказал все. Он назвал членов обеих диверсионных групп, которые рассыпались в разные стороны сразу же после выброски. Впрочем, большинство их уже было задержано службой безопасности. Он описал место, где спрятал рюкзак, оружие и инструкции, касающиеся способов контакта с немецкой разведкой в Кельцах, назвал адреса «почтовых ящиков» в Енджееве и Сухеднёве, которыми еще не успел воспользоваться… Щерба, Артур и другие только дополнили показания своего командира.
Полевая радиостанция абвера не дождалась сигнала диверсионно-парашютных групп. Сулимчик не вступил в контакт с гауптманом Вальтером.
В архивах находится несколько томов с пожелтевшими от времени страницами, снабженных шифром И-I К/311/49, — дело Сулимчика. Приведу несколько фрагментов обоснования приговора апелляционного суда в Варшаве:
«Сулимчик… как командир роты так называемой Свентокшиской бригады действовал во вред Польскому государству… при отступлении вместе с немецкими войсками и под их защитой перед наступающими польской и советской армиями он вывел подчиненную ему роту на территорию Германии… преподавал топографию группе членов НСЗ в немецкой диверсионно-разведывательной школе, участвовал в подготовке первой группы для проведения диверсий в тылах борющихся польской и советской армий… был переправлен на немецком самолете в Польшу, где вместе с группой приземлился в окрестностях Сандомира, был арестован во время выполнения данного ему задания…»
Прокурор требовал смертной казни. Суд приговорил Сулимчика к пожизненному заключению. Я еще раз прочитал приговор и его обоснование, в котором мне запомнилась фраза:
«…Польский офицер, который после Освенцима, Майданека, разрушения Варшавы и убийства миллионов поляков решился на сотрудничество с немцами, не заслуживает менее сурового…»
* * *
Прошло много лет, и сейчас, вспоминая дела Свентокшиской бригады, все более ясно представляешь, что она была исключительным и нетипичным явлением на фоне польского вооруженного подполья периода оккупации, подполья столь разнородного как по политическим убеждениям, так и по методам вооруженной борьбы. Эта нетипичность выражалась в явном сотрудничестве с гитлеровцами.
В мае 1945 года части 2-й пехотной дивизии США под командованием генерала Робертсона дошли до места расположения Свентокшиской бригады. Уже был занят Берлин. Пал третий рейх. Пришло время рассчитаться за преступления времен оккупации.
Какая судьба ждала Богуна? Мог ли кто-нибудь предположить, что военные преступники уйдут от ответственности?
Однако политические интриги и торги на бирже разведывательных служб наперекор всем ожиданиям спасли бригаду от признания ее гитлеровской военной группировкой. Богун и его люди получили право политического убежища, что спасло их и от ответственности, и от плена. Мало этого! Свентокшиская бригада получила у американцев статус… «отряда, преследуемого Советами».
Богун охотно принял условия: свобода в обмен на обязательство продолжать борьбу против народной Польши, на этот раз на службе у американской разведки. Бригада получила обмундирование, оружие и
разместилась в американской оккупационной зоне Германии.
Польская военная миссия в Берлине потребовала от американских властей роспуска Свентокшиской бригады и выдачи Польше ее руководителя — Антония Домбровского, он же Шацкий, известного под кличкой Богун, как военного преступника. Однако на требования польской стороны последовал отказ. Американцы не могли официально противиться роспуску бригады, так как представленные доказательства совершенных Богуном и его людьми во время гитлеровской оккупации преступлений были неопровержимы.
Националистов снова переодели в другую форму и включили в наемные вспомогательные отряды американской армии — Охранную роту.
Свентокшиская бригада официально перестала существовать. Богун избежал ответственности, сменив покровителей.
Охранные роты в Регенсбурге и Нюрнберге стали центрами антипольских диверсий и долго еще служили американской разведке вербовочной базой диверсантов и шпионов, забрасываемых в Польшу.
Перевод Н. Плиско.
Об очерках А. Василевского
В начале 80-х годов народной Польше пришлось пережить глубокий социально-политический кризис — самый глубокий и самый опасный за все время ее существования. Подводя итог пережитому, Войцех Ярузельский так сказал об этом на X съезде Польской Объединенной рабочей партии:
«Кризис, который имел место вследствие ошибок стратегии истекшего десятилетия, поднявшаяся волна общественного недовольства, а также наступление паразитирующих на нем сил контрреволюции — все это совпало с серьезным обострением международной обстановки, с очередной попыткой империализма повернуть вспять ход истории.
За счет нашего народа, его руками они пытались использовать Польшу, чтобы подорвать соотношение сил в Европе, дестабилизировать ее мирное устройство.
Обстановка была драматически трудной».
Смелые и решительные действия народной власти, которая прибегла к чрезвычайным мерам, спасли страну от худшего — от гражданской войны и кровопролития, от развала государственных структур и экономического краха. Одновременно партия, учитывая ошибки прошлого, приступила к осуществлению политики социалистического обновления. Контрреволюция потерпела поражение. Кризис был преодолен. Но борьба с его последствиями во всех сферах жизни общества продолжается и должна будет продолжаться еще длительное время.
Кризисные годы вызвали замешательство и идейную дезориентацию в сознании значительной части польской общественности. Они привели также к оживлению некоторых застарелых, уходящих корнями в далекое прошлое предрассудков и иллюзий, которые издавна мешали реалистической и конструктивной оценке уроков исторического пути, пройденного страной, и перспектив ее дальнейшего развития. Обусловленная этими предрассудками политическая слепота правящих классов старой Польши не раз приводила к трагическим последствиям. Тем не менее они оказались живучими.
В бой против замшелых, но далеко не безобидных духовных традиций, исторических мифов и иллюзорных представлений и выступает в своих публицистических очерках, написанных в 1983—1984 годах, известный польский общественный деятель и публицист Анджей Василевский.
Достоинства этих умных и увлекательно написанных очерков говорят сами за себя. Советский читатель сумеет оценить и незаурядную эрудицию автора, и убедительность его аргументации, и блестящий литературный стиль. Трудные, подчас даже болезненные вопросы поставлены автором прямо, остро, нелицеприятно. Он беспощадно и вместе с тем тонко, без демагогических упрощений, раскрывает несостоятельность стереотипов, укоренившихся в умах и психологии определенных кругов польской общественности.
Очерки обращены к польскому читателю, знающему историю и современную жизнь своей страны. Поэтому автор не вдается в напоминания о том, что и без того известно. Что же касается читателя советского, то он не должен упускать из виду, что критикуемые автором дурные националистические, консервативные и анархистские традиции отнюдь не исчерпывали духовной жизни Польши последних столетий. Им всегда противостояла мощная демократическая, а затем и социалистическая и интернационалистская традиция, на которую сейчас опираются общественные силы, строящие, вопреки всем трудностям, социализм.
Читая очерки А. Василевского, мы начинаем лучше понимать те стороны развития братской социалистической страны, о которых у нас до сих пор писали явно недостаточно. А ведь именно это требование — больше и лучше знать друг о друге — поставлено сейчас в порядок дня. Недавно нам снова напомнила об этом подписанная в Москве Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры, выразившая стремление КПСС и ПОРП «способствовать духовному сближению народов, совместными усилиями формирующих социалистический образ жизни».
В. ЧУБИНСКИЙ,
доктор исторических наук
Анджей Василевский
Восток, Запад и Польша
Осенью 1982 года я несколько дней провел во Франкфурте-на-Майне, а точнее говоря, в выставочных павильонах книжной ярмарки, где среди лихорадочной суеты деловых людей, приехавших со всего мира, мне невольно пришлось столкнуться с осколками невеселой польской истории. Ее представляла группка ужасно нервничающих людей, которых какая-то невидимая рука бросала то туда, то сюда, а время от времени направляла к стенду с книгами из их родной страны. Тогда как из-под земли вырастал рослый представитель местных органов порядка и не допускающим возражений голосом информировал, что можно, а чего нельзя. Нервная компания на какой-то миг застывала, как загипнотизированная, и только усердные кивки голов свидетельствовали о том, что эти люди принимают поучения власти. Потом они делали свое дело. Однако там, где встречаются бизнесмены, царят законы строгой гармонии и порядка. Допускаются только транспаранты, листовки, позирование для общей фотографии, затем невидимая рука переносила группку на другое место.
Блеск ламп-вспышек при съемке общей фотографии раздражал местный персонал. Можно было услышать: «Десять добрых немецких марок для каждого из этих проклятых бездельников — ведь только после предъявления фотографий они получат деньги в кассе».
Я с болезненным вниманием смотрел на эти кружащиеся по свету осколки нашей невеселой истории. На фоне ярмарочного муравейника, в котором господствовал определенный универсальный тип делового человека, у нервничающей группки бросалась в глаза страсть к реквизитам: они напялили на себя подчеркнуто модные одежды с добавлением национальных цветов, гербов, эмблем и многочисленных амулетов.
Реакцию местных жителей лучше всего характеризует их собственное слово — Schadenfreude
[78]. Им нравилось, что такое случилось у их не очень-то серьезных соседей. Вдвойне они были довольны тем, что ничего подобного не могло произойти в их цивилизованном обществе. И значит, можно было гордиться собой, ибо в конце концов именно они оказались в роли тех, кто предоставляет политическое убежище и «свободу». Они были недовольны лишь тем, что предоставление убежища привело к загрязнению их приличного ландшафта. И снова им вспомнился афоризм Бисмарка о поляках — политиках в поэзии и поэтах в политике.
Одним словом, шумливые пришельцы расшевелили вековые пласты враждебности и корыстных планов, связанных с польскими делами, которые снова ожили в связи со сложившейся политической ситуацией. Как бы на это ни смотреть, но из поднятых на поверхность пластов не вышло ничего положительного. В теплых словечках по адресу романтической психики заключена какая-то скрытая ставка на безответственность, какое-то желание подзадорить национальное тщеславие, вслепую бросающееся в конфликты, в которые никто здравомыслящий и владеющий собой не стал бы ввязываться. Они хвалят милый их сердцу, а это значит отрицательный, стереотип поляка: это некто, держащийся за наивную, не совпадающую с мировым развитием традицию, пригодную лишь для того, чтобы на ее примере почувствовать зрелость собственной цивилизации.
Прибывшие на Майн люди в амулетах идеально соответствуют этому образу. Защитники моральных ценностей, которых можно легко использовать. Патриоты, которых можно купить за небольшие деньги. Апостолы свободы, падкие на мишуру. Эмиссары мира труда, захваливаемые миром собственников, ни один из которых не хотел бы иметь их в качестве своих работников, — и это все в море польских национальных цветов, символов мученичества, эмблем «распятой героической легенды». Никогда раньше польская традиция не была так безжалостно обнажена при таких двусмысленных рукоплесканиях зрительного зала.
Не следует посягать на традиции, но нельзя безвольно и некритически подчиняться исходящим из них импульсам. Общество, которое подчиняется им по инерции, идет не в ногу с прогрессом, отстает, становится неспособным к развитию. События 1980—1981 годов возродили уже присыпанные пеплом истории пласты племенных атавизмов и раздули эти тлеющие угли в безумный костер. Впавшие в экстаз люди вообразили, что в этом костре выплавляется какой-то поразительный и небывалый духовный материал, пригодный для строительства неизвестного еще миру общественного порядка. А это в который раз догорал огонь польского прошлого, не находящего себе места в современном мире. Где, в какой стране сегодняшней Европы можно, не рискуя показаться смешным, проповедовать веру в то, что мученичество народа будет вознаграждено заботящимися о нем сверхъестественными силами? Существует ли хоть одно развитое общество, которое уповает на чудесное вмешательство мистических факторов? Где еще, кроме Польши 80-х годов, для того чтобы уничтожить злые силы, будут прибегать к магическим обрядам возжигания свечек, укладывания на площадях крестов из цветов, к паломничеству? Где в таком масштабе возможен коллективный иррационализм, с непоколебимой уверенностью в том, что акт веры может изменить соотношение сил, законы экономики, принципы, влияющие на сферу политики?
Определить собственное место
В истории Польши нетрудно выявить закономерность, что мечта поляков сравняться с Западом по уровню цивилизации чаще всего осуществлялась тогда, когда Польша политически опиралась на Восток.
А в те периоды, когда стремление к западной цивилизации преображалось также и в политическую ориентацию — за счет политической изоляции от Востока, — жизнь в Польше дестабилизировалась, ухудшалась, становилась невыносимой, и нации часто угрожала смертельная опасность. Полякам никак не удается уяснить простую истину, что с пользой для себя усваивать достижения западной цивилизации им лучше всего в условиях политического союза с Востоком. Простейший импульс постоянно вызывает автоматическую реакцию: что стремление к благам цивилизации должно совпадать со стремлением политическим, что полезнее искать союзы там, где рождаются желанные блага.
Надо признать, что пребывание в условиях, в которых простейшие импульсы мышления обманчивы и фальшивы, серьезно осложняет коллективное существование. На уровне среднего человека всегда и везде доминируют простейшие рефлекторные ассоциации. Между тем интересы Польши требуют, чтобы уже на среднем уровне все могли совершать сложное умственное усилие. Для того чтобы понять интересы своего общества, обычный человек должен руководствоваться разумом, а не рефлекторным импульсом.
Известны народы, благополучие которых нарастало органически, согласно простейшим формам самородного коллективного сознания. Нашему самородному сознанию грозит шизофрения: в одну сторону его тянет миф о цивилизации, в другую — геополитическое положение. Это по сути дела с самого начала сознание несчастное, не умеющее трезво оценить свое место в мире, ибо считается, что наше географическое положение не дает возможности полякам претворить в жизнь свое стремление к цивилизации. Не принимается во внимание тот факт, что стремление к благам цивилизации успешнее всего реализовалось именно тогда, когда сохранялась политическая связь с Востоком.
Ощутимым недостатком польского исторического воспитания является то, что оно не довело до сознания среднего поляка эту закономерность, характерную для истории Польши. Наша историческая наука почти все свои усилия направила на то, чтобы выработать у нас сознание раздвоенное и несчастливое. С первых прочитанных исторических сочинений молодой поляк убеждается, что так или иначе, но в месте, где он родился, ничего хорошего его не ждет. Ибо, следуя голосу непреодолимой тоски, он обрекает себя на бесполезную борьбу или, принуждая себя к прозаическому труду, отрекается от лучшей части своей сущности. Все польское историческое воспитание выступает с позиций таких крайних противопоставлений. В нем звучит тоска по поводу упущенных возможностей, бесполезных судеб, потерянных поколений, быстро проходящих иллюзий, а также попыток утешиться самообманом при неизменной в веках безнадежности положения.

Основные идеи нашего исторического воспитания сформировались в период национального угнетения, и до сих пор они не в состоянии сбросить с себя наложенные тогда путы. По-прежнему противопоставляются борьба — труду, достоинство — трезвомыслию, честь — реалистическому взгляду на мир, слава — выгоде, неуловимые факторы — рационализму, хотя движущие силы, определяющие судьбы народов в конце XX века, полностью лишили смысла такого рода противопоставления. Замороженное в понятиях польского опыта XIX века польское историческое воспитание не дает нам беспристрастно взглянуть на наше прошлое. А «века говорят», что неврастеническая раздвоенность между Востоком и Западом появилась в польской психике сравнительно недавно, что эту неврастению постоянно питает увязшее в своей традиции воспитание.
Историко-философские идеи развития польского общества родились в XIX веке и до сегодняшнего дня не вышли за пределы понятий, разработанных народом, который был разделен на части и включен в чужие государственные организмы. И сейчас общепринятое понимание родной истории, привитое воспитанием, заставляет выбирать между здравым смыслом и чувством, трезвой мыслью и достоинством, трудом и подвигом — производными двух образов польской жизни под чужеземным господством. До сегодняшнего дня понимание родной истории проливает ложный свет на вопрос выбора между Востоком и Западом: восточная ориентация дает границы, обеспечивающие национальное существование, западная — желанный деловой порядок. Такая историко-философская концепция заставляет выбирать между жизнью безопасной, но не соответствующей требованиям цивилизации, и отвечающей условиям необходимого уровня развития, но смертельно опасной. Обрекаемое на подобный фатализм польское сознание мечется в муках выбора. Бросается в одну сторону — но вслепую, решается выбрать вторую — но не до конца. Ему не хватает надежной системы отсчета, позволяющей определить собственное положение.
Традиция Пястов[79] и традиция Ягеллонов[80]
Система отсчета, которую в польских умах закодировало воспитание, построенное на опыте одного только века истории Польши, является ошибочной, не позволяет правильно определить наше положение на карте современности.
Историческое образование, носящее имя Польша, рассматриваемое на всем протяжении своего тысячелетнего существования, обнаруживает другие закономерности развития, чем те, которые сложились в XIX веке.
Польша эпохи Пястов представляла такой вариант нашей истории, в котором неограниченная открытость на влияние западной цивилизации проходила без политической опоры на Восток. Для Мешко I
[81] не существовала проблема выбора. На восток от его государства простирался политический вакуум, на запад — наращивающая силы европейская цивилизация, питающаяся за счет наследства, оставленного Римской империей. То, что сделал Мешко I, мы сегодня назвали бы неожиданным открытием культурных границ без политической подстраховки. Это был чрезвычайно смелый, рискованный шаг, но в то же время необходимый. Открытие путей для широкой экспансии западной цивилизации ускорило историческое развитие польских земель, но одновременно стало началом постепенной потери западных земель, раздела и уничтожения молодого государства. Не из-за силы меча, а по законам цивилизаторской экспансии начался отход Польши от Одры. Через несколько сот лет Нижняя и Верхняя Силезия, хотя все еще и находящаяся под скипетром пястовских князей, политически уже тяготела к более развитым соседям. Заселение городов, согласно Магдебургскому праву
[82], поставило под угрозу главные центры государства Пястов. Владислав Локетек
[83], смело оказывавший сопротивление могуществу крестоносцев на поле битвы, чуть не стал жертвой внутренних цивилизаторов своего государства — взбунтовавшихся мещан под руководством войта Альберта. Всего лишь двух-трехмиллионная Польша с огромным напряжением сочетала необходимость поспевать за западной цивилизацией с защитой своей территории.
Поиск поддержки у единственных в то время потенциальных союзников — на юге у венгерских Анжу
[84] — давал слабую и недостаточную опору: только откладывал висящий над Польшей приговор.
Начатое после 1944 года восхваление Польши Пястов соответствовало эмоциям возвращения к границам по Одре, однако затушевывало осознание определенной закономерности польской истории. Польша Пястов была одинокой и в этом одиночестве обреченной на уменьшение своей территории, на постоянное вытеснение с запада и севера. Она не могла удержать сфер своего влияния.
Это понимала в XIV веке малопольская шляхта
[85], которая решилась на шаг, по своей смелости равный действиям Мешко I: посадить на трон христианской Польши по тогдашним понятиям варвара Ягелло
[86]. Этот второй в истории Польши выдающийся исторический акт был компенсацией первого. Он создавал, можно сказать, почти в последний момент политическую подстраховку для цивилизационной открытости, четырехсотлетнее существование которой позволило Польше значительно уменьшить отставание в культурной области, но грозило стереть ее с карты Европы. Эта подстраховка на несколько ближайших столетий уравновесила польскую историю, стала политической основой «золотого века», начатого переломом под Грюнвальдом
[87].
Понятие польско-литовской унии
[88] по сути дела запутывает фактическое содержание этого исторического события, ибо Литва была господствующей, но лишь небольшой частью огромной территории, с материальными ресурсами и людскими резервами которой заключала союз послепястовская Польша. По сути дела, это была первая попытка Польши политически опереться на Восток в борьбе за свое существование
[89].
Первые Ягеллоны не видели в польско-литовском союзе инструмента экспансии Короны
[90] на восточные территории. Наоборот, они внимательно следили, впрочем в собственных династических интересах, за тем, чтобы Корона оставалась Короной, а Литва Литвой. Экспансия Польши на Восток началась при последнем Ягеллоне
[91]. Но каноном польской политики сделал ее только первый из Вазов
[92], одновременно сумасшедший святоша и раб династических иллюзий, пытающийся через Москву найти путь к потерянной шведской короне.
Для сегодняшней Польши символическая родословная, ведущая свое начало из «пястовской идеи», является лишь частично верной — как родословная государства с границами по Одре. Но Пясты не смогли на ней удержаться. Не менее важной составной частью этой родословной является, по крайней мере, часть традиции ягеллонской Польши, которая при помощи заключенных союзов нашла возможности для своего существования.
Пястовская традиция — это традиция государства, в драматических конвульсиях борющегося за существование. Государства, которому не хватает сил, чтобы гнаться за прогрессом материальной цивилизации, и которое пытается поспевать за ним при помощи приведшей к опасным последствиям иностранной колонизации.
Видение современности через ягеллонскую традицию открывает более ясную историческую перспективу. Это традиция государства, которое, обеспечив свое место на земле благодаря естественным союзам, став свободным от вражды на своих границах и от собственных стремлений к завоеваниям, суверенным в отношениях с костелом и нечувствительным к диктату Рима, может впервые в своей истории добиться партнерских отношений с Западом, открыться — не опасаясь потерять собственное национальное самосознание — для равноправного партнерства в тогдашней культуре, с успехом и с большим размахом прививать образцы самой передовой по тем временам цивилизации.
Заимствованные у более развитых стран институты, учреждения и обычаи уже не грозили взорвать государство изнутри, не надо было опасаться сепаратистских стремлений непольских элементов, сужения границ и разложения национального самосознания. В это время образ мышления поляков был еще свободен от мегаломании, ханжества и неисправимого консерватизма, к которым позже привела польская экспансия на Восток. Наиболее творческое взаимодействие польской культуры с западной проходило не во времена Пястов, при которых Польша была только пассивным потребителем в области культуры, а при Ягеллонах. «Золотой век» польской культуры мог родиться только благодаря уже никогда не повторившемуся в будущем равновесию между Востоком и Западом. Контакты с наиболее развитыми центрами культуры и цивилизации стали в то время как никогда тесными, но это контакты страны, гордой своей самобытностью и уверенной в том, что она является равным партнером для любой страны мира.
Цена экспансии
«Золотой век» равновесия был нарушен не переходом в духовное рабство к Западу, а самоубийственным ростом мегаломании, связанным с экспансией на Восток. Почувствовав себя в этой части мира полновластным хозяином, поляк пришел к убеждению в своем совершенстве, закоснел в своих неизменных предрассудках и верованиях и перестал развиваться, в то время как остальной мир продолжал необыкновенно плодотворно преображаться. Тяжкий духовный ущерб нанесла Польше Контрреформация
[93] — идейное оружие ее господства на Востоке. Мыслящую голову человека эпохи Ренессанса она превратила в закрытую для мирового прогресса каменную башку, которую волновали только алчность и суеверие. Чтобы чувствовать себя законным властителем православного человеческого моря Украины и Белоруссии, поляк должен был фанатично уверовать в особую миссию польского народа, плотно закрыть свой дом перед всем, что он считал ересью, портящей его — самое совершенное творение провидения, презирать чужих, людей, по воле небес менее совершенных и не так обожаемых создателем. Польша Вазов, Польша далеко на восток простирающейся империи рождала человека, не способного поспевать за миром. Замкнувшиеся в хвастливом ханжестве, как в гробу, поляки все больше отставали от полных жизненной энергии народов.
Контакт с творческими импульсами культуры Запада исчезал по мере того, как в польские головы внедрялась идеология Оплота. Уж очень парадоксальная это цена, которую надо было платить за миссию защиты христианского Запада. Чем больше поляк проникался сознанием этой миссии, тем больше духовно отдалялся от Запада, тем более чуждой становилась ему европейская культура, тем большей диковинкой казался он на ее фоне.
Иначе и быть не могло, поскольку на Западе усиливался культ труда, рационализма и практицизма, а в Польше, гордящейся ролью его Оплота, — культ сабли, провидения и захваченной добычи. Польская Контрреформация, в отличие от церкви Лютера или Кальвина, отдавала предпочтение в заслугах перед богом не труду, а мечу, жертвенности и демонстрации фанатической веры. Стоит подчеркнуть еще раз: в большой степени именно Контрреформация внесла свой вклад в то, что пути польской культуры начали все больше расходиться с путями развития цивилизации Запада. Когда эта последняя все отчетливее становилась формацией циркуля, мер и весов, польская культура скатывалась к монокультуре мистических верований, воинской славы и мученических заслуг.
Римские католические инспирации культуры Оплота привели к тому, что питающие пристрастие к этим анахроническим образцам поляки чувствовали себя более западными, чем Запад: это они, а не испорченные, изнеженные, продавшиеся дьяволу немцы, англичане, французы были настоящими наследниками римско-христианских традиций.
Так полякам была привита склонность к иллюзиям, от которых они не избавились в течение многих столетий: поляки всегда являются хранителями этих славных традиций, всегда о них заботится какая-то ниспосланная самим провидением сила, они всегда покрыты славой каких-то героических заслуг на передовых рубежах. Суждения представителей Запада об этих странных рыцарях Оплота тоже, по сути дела, не изменились за прошедшие столетия. На фоне принципов, какими до сих пор руководствуются эти общества в собственной практике, хранители святых рубежей выглядят несколько архаично. Но если принять во внимание ту странную часть света, которую они представляют, поляки являются существами, достигшими относительно приличного уровня эволюции, так что в случае нужды их можно использовать.
Тогдашний поляк платил Западу такой же монетой. Будучи защитником христианской веры, поляк сверху вниз смотрел на тех, кого, как он считал, ему приходится прикрывать и защищать, а тем более на тех, кто из-за своей ереси скатился на нижнюю ступень человеческой иерархии. Все, что от них исходило, носило отпечаток чего-то дурного, заслуживало осмеяния как негероическое, нечистое, зачатое в грехе ереси. Образ мышления Оплота довел поляка до такого самообожания, что выработал у него иммунитет против влияния Запада. Это единственная в нашей истории идеология, полностью сама себя удовлетворяющая. Результаты такого положения вещей оказались плачевными во всех областях.
Метаморфозы иррационального мышления
Вскоре барьер, предохраняющий польскую психику от влияния Запада, пал, а склонность к созданию всякого рода невероятных мифов стала проявляться уже по отношению к презираемому до сих пор направлению. Это произошло в результате провала экспансии на Восток, ставшего для Польши настоящей катастрофой
[94]. Она в принципе не изменила философии Оплота, питающей образ мышления среднего человека, но грубо вырвала поляков из состояния самообожания и заставила их иначе взглянуть на Запад. Оказалось, что его армии, дворы, кабинеты начали постепенно принимать на себя роль ниспосланной самим провидением силы, призванной заботиться о польском народе, в то время как раньше эти силы непосредственно влияли на судьбы Польши из-за особой любви и опеки господа бога.
Впрочем, для большинства поляков эти два провидения так никогда четко и не разделились. Для просвещенных умов французский или английский кабинеты стали своего рода земным провидением, принимающим близко к сердцу судьбу Польши из общечеловеческих побуждений. А для простонародного образа мышления эти кабинеты были просто инструментом в руках милостивого бога. Так или иначе, но на этом этапе мифотворчества избавление Польши должно было прийти с Запада, которому полагалось спасать свой ослабевший Оплот.
Итак, вера поляков в провиденциальную роль Запада по отношению к Польше является трансформацией более ранней веры в распростертые над ней заботливые крылья сверхъестественных сил. Поэтому, несмотря на горький опыт, поляки так упорствуют в этом своем убеждении, хотя оно появилось не так уж давно. Первые эмиссары злополучной новой веры прибыли в Париж в конце XVIII века, не подозревая, что они дают начало иррациональной линии в польской политике. Эмиссары добивались помощи республиканской Франции для восставшей Польши. Эта неподготовленная и не имевшая успеха миссия не оказала серьезного влияния на польские умы. Настоящей колыбелью новой веры стала наполеоновская эпопея, сразу же наделившая ее взрывной силой. Курьезно, что политическая вера, определяющая ориентацию поляков на столетия, ведет свое начало от предательства союзников, невнимания, обманов, горечи и разочарований. От Кампоформио
[95], Люневиля
[96] и Тильзита
[97] до 1939 года
[98], по сути дела, продолжалась непрерывная полоса неизлечимых иллюзий у одной стороны и жестоких уроков реализма, которые давала другая.
Взрыв польского политического иррационализма, начало которому дал Бонапарт, почти в каждый период истории находил своего спасителя — в таких ничтожествах, как Луи-Наполеон, в расчетливых политических купцах вроде лорда Пальмерстона, в холодных игроках типа Уинстона Черчилля, не говоря уже о наиболее постыдных суррогатах провидения последнего времени.
Все это является доказательством того, что польский склад ума не берет, к сожалению, начала в эпохе Возрождения и что позднейшие усилия века Просвещения не смогли стереть наследства Контрреформации. Божественное заступничество, милостивые защитники, волшебное вмешательство покровительствующих сил, перемены судьбы, вызванные многочисленными жертвами, гекатомбы, приносимые для искупления, — все эти духовные атрибуты, которые были вложены в головы поляков XVII века, несмотря на различные метаморфозы, по существу сохранились до сегодняшнего дня и определяют странный характер польского образа мышления и реагирования.
Происхождение польской аномалии
Принято считать, что источником этой странности является романтизм, соединенный в польской истории с борьбой за национальную независимость, освященный самой дорогой для польского сердца легендой и поэтому так глубоко укоренившийся в характере поступков поляков. Этот диагноз касается лишь верхнего слоя и не замечает более старых пластов национальной психики. Отличие польского мышления от европейского стали наблюдать уже в XVII веке, вскоре после ухода со сцены нескольких поколений эпохи польского Ренессанса, представляющих универсальный для Европы тип человека той поры. Вот тогда-то иностранцам и начало бросаться в глаза духовное перерождение поляка, отличающее его от модели человека, доминирующей на Западе.
Там росла роль скептического ума — тут мистицизма, там критического познания — тут суеверия, там уважения к фактам — тут к фетишам, там очарованность новостью — тут культом прошлого, там трезвым расчетом — тут расчетом на чудеса.
Задолго до того как появился романтизм, все, что у нас вкладывалось в это понятие, было уже готово, хотя не велась еще борьба за независимость и не существовало повстанческой легенды. Если говорить об интеллектуальном порабощении с далеко идущими для культуры последствиями, то в нашем случае это была двухсотлетняя промывка мозгов, которая исключила Польшу из современного развития, а в наследство оставила лишь духовные аномалии.
Романтизм соединялся с освободительной борьбой и в истории многих других народов — венгров, греков или итальянцев. Но там, попав на психическую почву, не вспаханную до глубины Контрреформацией в ее наиболее наглом, тотальном издании, он принес иные духовные плоды: разжег эмоции освободительных устремлений, утвердил идеи свободолюбия, но в то же время не поднял волны мессианства, попирающей разум, труд, науку, трезвый расчет во имя мистической веры и святости, не контролируемого разумом чувства.
В нашей национальной мифологии романтизм занимает такое видное место, что следовало бы для нашего духовного здоровья взять из него все новое, динамичное, имеющее связь с миром и отбросить позорные пережитки контрреформации. Между тем усилия нынешних ревностных защитников романтизма идут в противоположном направлении: они пытаются забывать о романтической иронии, всестороннем критицизме, свежести взгляда, а на первый план выдвигают ханжеско-мессианский культ иррационализма. Для этих поборников высшим достижением романтизма было духовное кредо Барской конфедерации
[99], появившееся, когда еще не родились матери Мицкевичей, Словацких, Мохнацких
[100], но уже был готов весь набор мессианских атрибутов веры. Пророчества ксендза Марека
[101] более чем на шестьдесят лет опередили «Книги польского народа и польского пилигримства»
[102]. Факт, что в определенный период жизни подавленные несчастьем Мицкевич и Словацкий свалились в яму, в которой увязла Польша прошлого столетия, не лишает их величия, которое родилось не из духа пресного мистицизма, а от расширения польских горизонтов, от влияния на польские умы прогрессивных течений Европы.
Судьба загнала великих создателей польского романтизма на Запад, но не сделала его поклонниками. Только более поздняя легенда о Великой эмиграции
[103] отождествляла место их физического пребывания с политическим выбором. Великие романтики, за исключением Зигмунта Красиньского
[104], не приняли существовавшей на Западе модели жизни и не разделяли иллюзий по поводу ниспосланной самой судьбой роли тамошних государственных деятелей и кабинетов. Их прозорливость в этом отношении еще раз доказывает, что им ближе был аналитический ум, чем иррациональная эмоциональность. Они были вторым по счету польским поколением, которое свои надежды связало с помощью Запада и вторым, которое потерпело полное поражение. Если бы после подавления ноябрьского восстания
[105] последовало не страшное правление Паскевича, а великодушное царствование в стиле Александра I, немалая часть романтической эмиграции, вероятно, вернулась бы в Польшу и еще раз продолжила бы попытки Заенчеков и Любецких
[106], поскольку политические симпатии польских романтиков склонялись скорее к славянству. Зловещий дух царизма привел к тому, что это стало невозможным. И как Князевич с Домбровским
[107] безотчетно дали начало вере поляков в вооруженную помощь Запада, так Чарторыский
[108] в своем отеле «Лямбер» — вере в особую заботу западных кабинетов о благе польского народа.
Через сто лет, в трагические дни варшавского восстания
[109], я стоял в группе шестнадцатилетних мальчишек перед бравым подпоручником, который на наши вопросы с непоколебимой уверенностью отвечал, что уже через несколько дней на Банковой площади высадится английская бригада, которая разгромит немцев и задержит большевиков. В те дни несчастная и глупая идея, зародившаяся когда-то из самых лучших побуждений, выросла до масштаба трагифарса.
Опоздание стоит жизни
Девятнадцатый век преподнес Польше все наихудшие варианты истории, но даже в этих не самых благоприятных условиях подтвердилась рассматриваемая здесь закономерность. В этот роковой для Польши век дважды удалось высвободить энергию развития, направить отсталое польское хозяйство в погоню за ушедшими вперед развитыми странами. Первый период, продолжавшийся всего несколько лет, относится к временам Царства Польского, когда искусная и умело проводимая экономическая политика группы людей, объединившихся вокруг Любецкого, использует все козыри географического положения Польши, сделав из Царства одну из лучше всего управляемых и наиболее развитых стран тогдашней Европы.
Очередного шанса догнать уходящую вперед Европу пришлось ждать сорок лет, проведенных в экономическом оцепенении и духовном провинциализме. Этот шанс пришел вместе с отменой пошлин и открытием русского рынка для польских товаров, что стало стимулом как для усиленного развития промышленности, так и для наверстывания отставания в духовной жизни. Следует отметить, что эти хозяйственные реформы, предпринятые царским правительством с целью ликвидировать основы независимости польского национального организма, в скором времени стали самым важным условием пробуждения из летаргического состояния к активной жизни. Несмотря на деятельность апухтиных
[110], экономическое развитие восстанавливало прерванные контакты с мировой цивилизацией с той же закономерностью, с какой вооруженные восстания, опирающиеся на предполагаемую помощь Запада, ввергали страну в очередной раз в катастрофу и гордый своей доморощенностью провинциализм.
Наконец, и двадцатилетнее существование независимой Польши
[111], ничем не ограниченное в использовании милостей западных государственных деятелей — от Фоша до Чемберлена, — привело к тому, что, несмотря на самоотверженный труд народа, валовой национальный продукт оказался меньше достигнутого на тех же землях до 1914 года. Наиболее усердная в нашей истории прозападная ориентация не сделала из Польши цивилизованной страны по меркам Западной Европы. Наоборот, она обрекла ее на еще большую отсталость.
История межвоенной Польши в определенном смысле повторила опыт двухсот лет контрреформатской Речи Посполитой. В тот период она, выступая в роли Оплота, добровольно и с гордостью исключила себя из прогрессивных преобразований тогдашней Европы. И на этот раз, называя себя бастионом Запада, она отрезает себе путь к социальным реформам и строительству солидной экономической базы. Зато почти до оглупления раздувает культ внешних и вторичных признаков Европы: поверхностной цивилизации, культурных мод на потребу элите, демократии на словах, крикливых лозунгов передовой заставы «свободного» мира. Однако через столетия вновь присвоившая себе роль бастиона Польша могла себе позволить лишь европейские декорации, поставленные на запаршивевшую от убожества землю.
Что бы ни говорилось о польском государстве, возникшем из пепла в 1944 году, геополитические основы, на которых оно создавалось, кажутся в XX веке аналогичными тем, которые были характерны для Польши XV и XVI веков. Я пишу: «в XX веке», ибо во времена Ягеллонов Польша в союзе с Востоком была ведущей силой, а сегодня безвозвратно потеряла свое тогдашнее значение: впрочем, значение это было подарком истории, капризом необыкновенных и недолговечных обстоятельств, в которых западный сосед временно утратил свое могущество, а восточный сосед еще его не приобрел. Возродившееся через века сходство основных исторических факторов — общий отпор агрессору и гарантия безопасности в союзах с соседями — позволило благодаря этому быстро провести модернизацию страны. Из того, что действительно важно и является необходимым для существования развитых стран, четыре десятилетия ПНР принесли на польские земли больше, чем столетия Польши, выступающей в роли Оплота Запада. Только сейчас Польша смогла серьезно взяться за работу, чтобы наверстать упущенное. Как любая работа, выполняемая за предыдущие поколения, она была неблагодарной и не приносящей популярности. Но это была первая за много столетий с таким большим размахом проводимая работа для того, чтобы догнать других. Из-за чудовищности польского отставания провал или приостановка этой работы не может стать поражением лишь правительства, системы или строя. Это катастрофа для всего народа, независимо от того, что он сам по этому поводу знает или чувствует. В месте, где судьбой предназначено ему жить, он не может безнаказанно оказаться в роли опоздавшего в развитии. В этом месте Европы опоздание стоит жизни. Для народа оно не менее опасно, чем чужеземное насилие. Насилие ищет себе жертву среди отставших, а отставшие легко становятся добычей насилия.
Барочные источники «солидарностной» Польши
Романтическое, а скорее контрреформатское, восприятие исторической роли Польши, время от времени назойливо повторяющееся, отодвигает польское сознание в глубь анахронизмов, уже казавшихся странными на фоне Европы XVIII века, а сегодня придающих ему все признаки ненормальности.
Именно так следует назвать обращение в сегодняшних условиях к той исторической линии, из-за которой Польша все больше отставала от мира. Отставала, вызывая одновременно признание и презрение — в XVIII веке такое же, как сейчас. Признание вызвано экзотическим зрелищем, не совместимым с нормальным развитием мира. Презрение приходит с мыслью, что такое безрассудство может быть порождено лишь культурой, находящейся на более низком уровне развития. Только общество, которое до конца не впитало ни современного рационализма, ни трезвого расчета, присущего промышленной эре, может утешать себя верой в то, что благополучие народа является просто наградой за благородную жертву. Равно как и то, что пристрастие к символам мученичества свидетельствует о моральном подъеме общества, а обращение к предусмотрительности, трезвости и труду говорит о духовном упадке народа.
Дилемма благородной борьбы и прозаического труда созрела в польской психике намного раньше, чем она приобрела роль принципиального вопроса о выборе правильного пути для народа. Прежде чем наметился спор между романтизмом и позитивизмом
[112], еще в контрреформатской Польше отношение к труду как к обязанности хама и отношение к борьбе как к призванию рыцарей Оплота укоренилось так глубоко, как ни в одной другой стране Европы.
Это объясняет, почему ни в одной другой порабощенной стране Европы, имеющей судьбу, подобную судьбе Польши, борьба не искала для себя мученического ореола, а труд никогда не провозглашался изменой. Везде, кроме Польши, практицизм, называемый у нас позитивизмом, само собой понимался как естественный образ жизни народа. Борьбе, как правило, предшествовал трезвый расчет, а пантеоны национальной славы создавались из образцов мужества, а не мученичества.
В этом и заключается главное отличие польской модели воспитания. На
польской шкале мужество не имеет полной ценности, если не носит тернового венца. Необычайно мужественные люди, но с биографиями, лишенными жертвенности, остаются героями низшей категории, если вообще попадают в пантеон.
Польское понятие героизма было сформировано скорее не романтизмом, а барокко. В то же время терновый венец, такой важный на нашей шкале ценностей, не всегда венчал настоящее мужество: иногда безрассудную выходку, иногда эффектную видимость подвига, бывал он и придуманным приложением к малоинтересной биографии.
Барочная родословная польских образцов мужества вызывает пиетет к тому, что эффектно драматизировано в патетическом жесте, бьет в глаза болезненной экспрессией. Зато оставляет без внимания скромное, незаметное мужество.
Мужество в духе барокко нуждается в зрителях, выражающих восхищение и признание. На их глазах оно способно к необыкновенным порывам, но без них оно ненадежно и слабо. Это разновидность смелости, вызванной турнирным волнением, а не стойкостью, воспитанной длительным трудом.
У народов, формирующих свои образцы мужества на эпосе борьбы человека с природой, на примерах нелегкой жизни пионеров цивилизации, эффектные порывы ценятся невысоко. Они ценят стойкость без зрителей, не любят кандидатов на пальму мученичества. Эти народы не дают предпочтения культу лихой отваги, а формируют модель намного более мужественной, твердой и не боящейся трудностей личности.
Нужно в конце концов дать себе отчет в том, что источником нашей исключительности является не так называемый романтизм польской натуры, сросшийся с героизмом освободительной борьбы. Это удобное приукрашивание, а приукрашенные таким образом слабости охраняются как неприкосновенная духовная реликвия. Под благородным названием «романтизм» в качестве национальной святыни существует модель личности, построенная на отрицании идей Ренессанса и полном триумфе идей Контрреформации.
Беда в том, что эту модель личности, все больше отрывающейся от коллективного опыта, которым обогащается идущий вперед остальной мир, мы все чаще считаем солью этого мира, его защитницей и хранительницей.
Противоречие между фактической ролью мародера, который тащится в хвосте огромного шествия, и культивируемой мифом ролью самоотверженного форпоста, назначенного на эту роль из-за своих особых качеств, приводило польские умы в смятение, а в этом состоянии очень трудно делать трезвые выводы.
Доносившиеся с Запада ничего ему не стоящие призывы играть роль миссионера принимались с воодушевлением, поскольку они поднимали чувство собственного достоинства общества, которое в глубине души не так уж было уверено в себе. Для формирования польского сознания этот поток постоянных призывов имел двоякое значение. Он подтверждал не такую уж бесспорную мифологию Оплота авторитетом наиболее развитых стран, а кроме того, связывал чувством благодарности с теми, кто замечал наши скрытые достоинства.
В течение столетий самоуважение польского общества стало так зависеть от теплых словечек Запада, что без них оно не могло уже само себя оценить. И вот с этого момента поляки стали легко приходить в отчаяние, тем более что, кроме потока ничего не значащих призывов, в Польшу с Запада лилась река пренебрежения. Призывы возбуждающе действовали на дух форпоста, пренебрежение напоминало о стыдном статусе мародера. Получая с Запада два противоречащих друг другу импульса — один льстящий, а второй унижающий национальную гордость, — польское общественное мнение обратилось к своим старым схемам. Был сделан хитрый ход: лесть приняли за высокую оценку, полученную на международной арене за свои выдающиеся достоинства, а ответственности за унижения поляки как бы не несли, объяснив их пагубными внешними факторами. Не может же носитель такой высокой оценки по собственной вине быть мародером. И поэтому без колебаний был найден выход: вину за отставание Польши от Запада несет Восток.
Восток виноват в том, что поляк не утопает в роскоши и благах цивилизации, как швед, англичанин или голландец.
Такой подход толкает поляков в объятия Запада и окончательно делает чуждыми для них те качества, которым Запад обязан своим достатком. Всеобщий культ трудолюбия, разумность поведения в коллективе, предпочтение практического разума иррациональным эмоциям, спонтанное неодобрение проявлений общественной недисциплинированности, серьезное отношение к профессиональным обязанностям на каждом рабочем месте, уважение к общим ценностям, выражающимся в государственном строе, — все эти качества, завоеванные Западом без участия Польши в современную промышленную эпоху, польский способ мышления заменяет символом любви и веры.
Всю свою неподготовленность к созданию достатка по образцу зрелых и дисциплинированных народов поляки хотят восполнить любовным заклинанием, после которого произойдет волшебное превращение барочных миссионеров в миллионеров XX века.
Безрассудная вера в покровительственную роль Запада по отношению к Польше отдаляет время, когда польское общество созреет до уровня западной цивилизации. Ибо эта вера консервирует мышление и поведение, обособившее когда-то Польшу от Европы.
Возвращение Польши к универсальному опыту и включение ее в общее развитие цивилизации может произойти не при помощи политических альянсов с Западом, а через связь с огромной территорией, какой для польского кусочка земли является Восток.
Достаток и удобства цивилизации, на которые так жадно смотрит поляк, не перенесутся к нам волшебным образом, что бы ни говорили польские мифы о чудесном заступничестве. Добиться благосостояния можно только при помощи собственной зрелости, вопреки обременяющей еще польские умы архаичной и нелепой барочной мифологии.
Чтобы жить зажиточно, как англичанин и голландец, поляк должен сбросить с себя контрреформатскую шкуру, которой он в течение столетий оброс как плотным панцирем, не позволяющим развиваться и жить согласно потребностям организма.
Ренессансная Польша, для того чтобы сравняться с ритмом Европы, шла кружным путем. Сначала ей надо было найти богатого союзника на Востоке, чтобы иметь возможность спокойно и безопасно, с полным сознанием внутреннего равновесия, ускорить в выгодном для себя направлении связи с Западом. Логика истории не всегда совпадает с тем, что подсказывает рефлекторное мышление. Вопреки первому побуждению и сегодня путь к достижению уровня развитой цивилизации довольно сложен. Наверстать ощутимое материальное отставание, приобрести качества квалифицированного общества, способного создавать достаток, может только Польша, опирающаяся на социалистический Восток. Укореняясь в своей части мира, мы открываем перед собой перспективы развития, а следуя простому импульсу, мы остаемся во власти собственных предрассудков, не уверенные в том, какой будет жизнь на нашей собственной земле, а взамен получаем только импортные реквизиты.
Перевод Е. Невякина.
Народ и государство в период кризиса
В один из июльских дней 1982 года пани Кася, супруга столичного журналиста, называвшего себя интеллектуалом, сама тоже вкусившая сладость науки, сидела на террасе роскошной дачи, как полагалось в то время — в траурном наряде
[113], и, покачивая ногой, положенной на ногу, выпуская изо рта клубы табачного дыма, решала проблемы польской экономики. Рекомендации пани Каси были остры, как скальпель хирурга, и против них трудно было возразить. Впрочем, собравшееся на террасе общество, поблескивая то там, то тут траурной бижутерией, с одобрением воспринимало каждый ее приговор. Завод «Катовицы»
[114] разобрать, а его оборудование продать создаваемым в массовом порядке мелким предприятиям. Северный порт в Гданьске немедленно передать яхт-клубу, переоборудовав его в крупный центр водного спорта и с большой выгодой сдав в аренду скандинавам. Прервать строительство фабрики искусственных удобрений в Полицах, а крестьян обеспечить намного более полезным навозом, распределяемым в «запахонепроницаемых контейнерах», которые в обязательном порядке должны ежедневно наполнять миллионы горожан. Максимально развивать частное предпринимательство, одновременно соблюдая равные для всех доходы. Сформировать правительство под международным контролем в обмен на огромные иностранные кредиты.
Честно говоря, взгляды пани Каси не были оригинальными, их в предыдущем году широко излагала пресса, в частности в пламенных статьях сидевших на террасе интеллектуалов. Напоминаю об этом на всякий случай, ибо кому-нибудь может показаться, что, излагая советы пани Каси, я допускаю какие-нибудь неточности.
Так вот, хотя эти мысли были не оригинальными, а в высшей степени характерными, зафиксированными на страницах газет и журналов в дни и месяцы триумфального шествия «разума», теперь, в грусти и трауре, к ним снова возвращались как к достижениям независимой мысли.
На террасе пани Каси рождалось нечто вроде благородной республики духа, которая вопреки «ужасным репрессиям» и в соответствии «с велениями самых святых традиций» объявляет недействительным существующий в стране порядок и работает над развитием своей независимой мысли.
Истины, исповедуемые в этой республике, не подлежат обсуждению и не могут быть ошибочными, а самый лучший способ отличить не признанную еще правду от неправды — это разобраться в ее направлении — «за» она или «против» строя. Что бы ни было сказано или сделано «за», всегда будет возмутительным и неразумным, а «против» — захватывающим, гениальным и чудесным. Согласно этому основополагающему принципу, республике духа нет надобности проверять свои идеи на практике, она сама их создает и сама их утверждает, не нуждаясь в одобрении со стороны.
Поэтому в окружении пани Каси месяцами могут распространяться самые нелепые идеи и оценки, истинность которых никто не смеет проверить, а когда от обилия бессмыслицы им грозит компрометация, их покрывает заговор молчания, а затем сочиняются новые, курсирующие какое-то время. Потрясает эта способность вмиг забывать нелепицы, которые провозглашались еще вчера, и ничем не нарушаемая наивность придумывания новых идиотизмов.
Да и кто бы там мог сегодня вспомнить все эти нелепицы на экономические и международные, актуальные и исторические, политические и культурные темы, которые в последние несколько лет буквально заливали нашу общественную жизнь, возбуждая ее тут же лопающейся низкопробной сенсацией, возрождающейся назавтра в измененном виде. Именно благодаря завесе молчания, опускающейся над тем, что было и чего как будто и не было, — ибо никто этого не слышал и никто этого не помнит, — можно продолжать придумывать недолговечные бессмыслицы.
Это необычайно тяжкий кризисный недуг, практически не поддающийся лечению, поскольку он сам себя считает лекарством, которое должно вывести страну из тяжелого кризиса.
Предпосылки депрессии
Экономические кризисы всегда вызывают легкие или более тяжелые болезни сознания. Если к экономической депрессии добавляется фактор ничем не ограниченной агрессии против основ строя, а нарушения в хозяйственной сфере перерождаются в беспардонную политическую борьбу, сознание платит за это хронической болезнью, сопровождающейся множеством осложнений, зачастую более серьезных, чем сама причина.
В Польше скопился горючий материал как для экономического, так и для политического кризиса, а соединение этих двух элементов в одно смешанное взрывчатое вещество привело сознание в состояние хаоса, в котором легко рождались и рождаются карикатурные рецепты спасения Польши.
В суматохе мнений постепенно исчезает дисциплина логического мышления, которой люди обычно руководствуются в нормальное время, а расцветает примитивная демагогия, апеллирующая к обидам и предрассудкам. Это старая как мир закономерность кризисов, острота которых измеряется успехом демагогов.
В Польше больше, чем где-либо в другом месте, собралось экономических и политических кризисных предпосылок, ибо Польша была и остается страной с особо трудными условиями развития. Это одна из наиболее отсталых стран Европы, расположенная в невралгическом месте, где опоздание стоит особенно дорого, разрушенная страшной войной, после которой из скромного довоенного достояния осталось пропорционально меньше, чем в других странах; с приростом населения, за 40 послевоенных лет сделавшим ее Индией Европы, — с 24 до 37 миллионов, т. е. на 50 процентов (прирост почти равен населению Чехословакии).
Такие сложные хозяйственные проблемы в сочетании с таким приростом населения неизбежно должны были создавать экономическую напряженность, тем более что на индустриализацию страны как власти, так и народные массы пошли не имея опыта.
Поэтому среди развивающихся стран Европы Польша постоянно оставалась местом сравнительно самых больших трудностей и вызванных ими недовольств, низкого уровня жизни, сохраняющегося, несмотря на попытки властей удовлетворить непрерывно растущие потребности. Экономический потенциал рос, но не приносил таких результатов, какие имели страны с более умеренным приростом народонаселения.
Самую высокую степень трудности в экономической области обостряли еще и политические причины.
Польша вышла из войны политически расколотой, с кровоточащим фронтом гражданской полувойны
[115], оставившей разбереженные раны, с ожесточившейся политической эмиграцией, всеми возможными способами использующей оставшиеся после почти полуторавекового рабства
[116] обиды для ослабления новой народной власти. К этому надо добавить открытый в очередной раз вопрос взаимоотношений государства и костела, имеющий в Польше гораздо большее значение, чем в любой другой стране, многомиллионную диаспору поляков, уже одним своим существованием усиливающую тяготение к незадачливому нашему западничеству, нарушающую равновесие страны и в то же время из-за равнодушия к ее потребностям не приносящую Польше какой-либо ощутимой пользы, — этого достаточно, чтобы только что созданный государственный организм гнулся под бременем постоянно усиливающихся противоречий.
Ощутимое отставание Польши потребовало мобилизации всех сил для проведения хозяйственных преобразований страны, мобилизации, которую должна была провести центральная власть. Но как раз она была чужда политическим традициям нашего общества, которое недаром столетиями оказывало сопротивление идущим сверху распоряжениям, пытающимся наложить государственные повинности. Необыкновенная, если говорить о государстве с такой территорией, убогость королевских резиденций и дворцов и по сей день свидетельствует о ничтожности государственной казны в монархической Речи Посполитой. Центральная власть в Польше обычно была слабой, хилой и не очень влиятельной.
Как это случилось
Итак, политическая традиция не облегчила государству мобилизацию средств на хозяйственное развитие, а когда к тому же центральная власть обнаружила недостаточную компетентность, отсутствие здравого смысла и расточительство, с силой атавизма ожил конфликт между нуждами государственной казны и настроениями общества.
Призывам развивать экономику противостояли политические позиции людей, не верящих в осуществление этих планов, а чаще всего просто-напросто незрелых. Именно с того момента, когда порвалась связь между экономикой, которую олицетворяет государство, и настроениями широких слоев народа, началось пробуждение политических демонов, дремлющих со времени угасания гражданской полувойны.
Когда развеялись надежды
[117], разбуженные и поддерживаемые в течение трех десятилетий социалистическим государством при помощи экономической мобилизации, возникла идеальная возможность для тех, кто хотел возродить старые фронты борьбы. Грубая дискредитация хозяйственной работы, проводившейся в социалистической Польше, стала главным оружием тех, кто прокладывал себе путь возвращения на политическую сцену. Следовательно, ценой, которую платило польское общество за возрождение политической борьбы, было зачеркивание смысла собственного труда, абсурдное и бессистемное отрицание всего, что оно само создавало в течение десятилетий.
Чтобы на общественную арену могли вернуться политические призраки 1945 года, следовало уничтожить не только социализм, но и саму идею индустриализации Польши, а в результате — и современное мышление, обусловливающее в Польше исторический перелом, ставящее перед собой экономические задачи и организованно их выполняющее.
Атака на экономическое строительство социализма в то же время стала в Польше атакой на единственно реально существующую школу делового мышления, которая модернизировала польское общество.
Естественно, что это строительство также должно подвергаться неустанной модернизации. Однако те, кто хотел ликвидировать завод «Катовицы», были заинтересованы не в модернизации этого строительства, а в полном устранении его из жизни народа. А народу оставляли только веру в чудеса, погружение в экономическую безграмотность, украшенную только шутовством спасителей-любителей, выдумывающих необыкновенные комбинации на мировой хозяйственно-политической сцене.
Это означает радикальный поворот назад во всех областях коллективного мышления, утрату способности к логическим операциям, распространение ребячества и безответственности в качестве стиля общественной жизни, возвращение к архаическому мистицизму, триумф ханжества в поведении.
Все это в истории называется упадком нравов, мрачным коллапсом духовной жизни, хотя пока он продолжался, пока держал в рабстве умы современников, его называли оздоровительным движением. Пропасть между ликующим ощущением участников событий и действительно сыгранной ими ролью является теперь темой исторических исследований, пытающихся выяснить, как могло случиться, что бессмыслица, столь очевидная для потомков, могла со слепой верой приниматься значительной частью публики.
И сегодня нам необходимо ответить на вопрос: как случилось, что в центре Европы немалая часть образованных людей неожиданно до такой степени поглупела?
Механизм кризиса
Кризисы, как правило, оглупляют людей, что, в частности, произошло в несчастной Веймарской республике, где соединение мощных экономических потрясений с глубоко запавшими в душу националистическими комплексами на почве произошедшей якобы с народом несправедливости вызвало длительные симптомы безумия. Это было другое время и другие традиции, несопоставимы и их последствия для человечества, но безумный механизм кризиса, выводящий людей из состояния равновесия и толкающий их к невероятным поступкам, появляется как постоянная закономерность независимо от сходства или различия обстоятельств.
Решающее влияние на нарушения сознания в Польше имели, без сомнения, экономические потрясения, нарастающие все с большей силой, подчеркивающие очередные неудачи очередных штурмов на отсталую экономику.
Лихорадка ускорения, характерная для часто меняющегося в нашей стране руководства, которую, впрочем, нетрудно понять на фоне драматических дилемм страны, всякий раз приносила далекие от ожидаемых результаты, что вызывало постепенную компрометацию идеи индустриализации. Несмотря на постоянно появляющиеся надежды, мы никак не могли дождаться принципиального поворота в достижении высокого уровня жизни в стране.
Отсюда родился польский синдром несбыточности надежд, необъективный и несправедливый, ибо страна все же двигалась вперед, правда, слишком медленно по сравнению с амбициями общества. Оно требовало быстрого преображения, не желая в то же время переносить неизбежные при этом тяготы, что заставляло очередное руководство решать квадратуру круга. Самой большой ошибкой сменяющихся руководителей было создание видимости, что все трудности можно решить благодаря неисчерпаемым возможностям социалистического строя. Создавалась псевдосоциалистическая экономика чудес, которую научный социализм никогда не обещал.
Этим подкреплялось расхожее мнение, что социалистическое государство, взяв в свои руки власть, как бы подписало политический вексель на быструю и безболезненную цивилизацию страны. Неизбежный связанный с этим тяжкий труд, начатый с такого низкого уровня, а с другой стороны — очевидный факт, что капитализму пришлось бы также начинать со строительства тех же самых фабрик, шахт, верфей, металлургических заводов и электростанций и что он делал бы это намного жестче, не принимался в расчет в ситуации, в которой государство стояло в роли должника, а общество в роли кредитора.
В любой более или менее кризисный момент извлекался политический вексель с требованиями немедленной выплаты того, что только еще предстояло общими усилиями построить. Тем самым рождалось превратное представление, будто такого тяжкого труда можно было избежать при другом общественно-политическом строе.
Прокапиталистическая ориентация, за которую ратует политическая оппозиция, препятствует строительству в Польше того, что капитализм давно уже построил за счет таких усилий и жертв со стороны масс, о которых у нас никто не имеет понятия. Однако оппозиция никогда не признавалась в том, что, рекламируя достижения высокоиндустриализованного общества, она яростно борется против его трудного рождения в собственной стране.
Вот в чем причина крайнего оскудения польского сознания в кризисной ситуации с тех пор, как над его формированием начали работать такого рода лицемеры. Обольщая перспективой капитализма, используя в качестве примера высокоразвитые страны, они начали внушать, что все достигнутое благодаря индустриализации задержавшейся в развитии социалистической страны является ошибочным, плохим и ненужным. Уставшее от всего происходящего сознание они при помощи этой лжи пытались довести до состояния крайней неудовлетворенности, перечеркивая не только значение общенародного продолжающегося несколько десятилетий труда, но и любые дальнейшие попытки на этом пути.
Нельзя было причинить большее зло дезориентированному обществу, чем подбросив ему альтернативную идею, не только нереальную, но и совершенно иллюзорную, вместо того чтобы призвать его лучше продолжать начатую работу. В тот момент, когда все зависит от того, станет ли вышедшее из кризиса общество на достигнутом этапе развития более продуктивным, фальшивые советчики прельщают миражами автаркических чудес капитализма, тем самым расстраивая экономическое сознание общества и усугубляя его антипродуктивный коллапс.
Характерно, что оппозиция, ссылаясь на эффективность экономики и благосостояние привилегированных капиталистических стран, на польской почве старается разжигать наиболее непродуктивные традиции общества. Дело в том, что ей надо не преодолеть кризис, а заострить его.
С этой целью она обращается к классическим приемам любой кризисной демагогии, использующей период хаоса и слабости для культивирования нездоровых предрассудков и комплексов. Всегда можно найти какую-нибудь воображаемую обиду, какой-нибудь договор, оскорбляющий слепой национализм, какую-нибудь фигуру, олицетворяющую демоническое зло, якобы угрожающее будущности народа, — другими словами, всегда найдется достаточно такого рода химер, чтобы спекулирующие на кризисе демагоги могли начать свое грязное дело. В Польше они нашли такие залежи обид, которые берут свое начало во времена борьбы за независимость, и начали эксплуатировать эту заботливо сохраняемую в памяти традицию, извращая легенду о храбрых патриотах и затуманивая умы современников.
Даже странно, что польская интеллигенция, называющая себя хранительницей прогресса, по природе своей призванная выступать против темноты, фанатизма, предрассудков и предубеждений, в массе своей все еще не видит опасно поднимающегося мракобесия за обманчивым романтическим ореолом.
Безумие инсценировки
Преступной является попытка заронить в польском сознании ядовитые зерна уверенности в том, что сегодняшнее положение Польши — это копия ее положения в XIX веке. Отсюда, как утверждают подстрекатели, тот образ жизни народа, который был выработан в период национального угнетения, должен стать польской нормой и сегодня.
Это лейтмотив той бешеной обработки, которой подвергается польское общество.
Заморозить его коллективное мышление в стереотипах прошлого века, снова навязать ему психоз рабства, спихнуть в котел обид, который к тому же держат под постоянным давлением, — таковы психические предпосылки бесчисленных инсценировок, разыгрываемых на сцене повседневной жизни организаторами некончающегося спектакля.
В горячке инсценировки эти люди прибегли ко всем имеющимся повстанческо-мученическим реминисценциям сразу, ежедневно составляя панораму, иллюстрирующую борьбу польского народа с рабством. Тесно столпившись на созданной оппозицией сцене, одновременно плечом к плечу выступали спасающиеся от ссылки в Сибирь филоматы
[118] и девушки-связные, бегающие с сумкой по оккупированной фашистами Варшаве, дамы в трауре после январского восстания
[119] и жители Генерал-Губернаторства
[120], отказывающиеся здороваться с коллаборационистом, подхорунжие Ноябрьской ночи
[121] и гавроши с баррикад Варшавского восстания, эмиссары Великой эмиграции
[122] и тайные курьеры оккупационного подполья, мученики, готовые провести жизнь в казематах, и глашатаи польского слова в подпольных университетах
[123].
На сцене театрализованной жизни, на которой важны не факты, а роли, все это каким-то образом помещалось, хотя и не без некоторых невидимых на первый взгляд трудностей: ведь следовало обязательно соединить в одно целое изгладившиеся уже из памяти обиды эпохи разделов Польши со свежими ранами периода оккупации, но так, чтобы из этих воспоминаний пропали всякие следы агрессора с Запада.
С этой проблемой справились на удивление гладко, просто-напросто переставив памятные символы оккупации. Знак Польши, борющейся с немецким оккупантом, стал призывом к борьбе против «режима». Символическое «V» антигитлеровской коалиции подбросили мало что понимающим подросткам, милицию оскорбительно сравнивали с гестапо, доказывая этим свою подлость и глупость. Встречи в день поминовения усопших у могил погибших, молебны по любому случаю все чаще превращались в истерические мистерии, в которых над действительной памятью истории берет верх иррациональный мученический дух крестовых походов.
Проникшиеся «контрреформатским» духом проповедники с голосами, наполненными такой божественной сладостью, что кажется, будто они сейчас сами вознесутся на небо, совершают чудеса интерпретации, находя в текстах евангелия фрагменты, написанные явно с мыслью о современной Польше, о сатанинских силах, которые ее порабощают, и о тернистом пути воскрешения.
Могут сказать, что это языковая условность, служащая костелу на протяжении столетий и на первый взгляд не преследующая практических целей. Но это не так, ибо церковные проповеди, вырывающие слова из сакральных текстов и бросающие их, причем не всегда с чистыми намерениями, в ведущиеся в настоящий момент битвы, формируют популярные в массах стереотипы, крайне упрощенные, закрывающие парализованным ими умам доступ к более сложному пониманию мира. Достаточно, чтобы религиозные понятия спасения и проклятия, настоящей и ложной веры, посланников откровения и слуг сатаны, вечного блаженства и дьявольской кары были перенесены, так, как это делается, с высот религиозного обряда на земную юдоль, и тут же эти высокие проповеди о душе становятся тесной клеткой для умов.
Именно церковная парадигма
[124], поднятая в контрреформатской Польше до ранга господствующего и единственного учения, убила в польских умах любознательность и лишила их на многие столетия способности понимать изменения, происходящие в мире. И вот на карте современного мира мы снова становимся экзотической зоной, в которой сознание масс формируется учением костела, адаптированным для нужд текущей политики.
Не надо доказывать, что эти махинации, так же как безумные действия контрреформации прошедших столетий, не имеют ничего общего ни с доктриной костела, ни с ее практическим применением в странах Европы, ни, к счастью, с мышлением и деятельностью значительной части польских католиков.
Самозваная стража
Поскольку «контрреформатские» проповедники, с таким воодушевлением возвращающие нам статус экзотического уголка Европы, действуют прежде всего среди простых, нетребовательных умов, то среди людей с более высокими интеллектуальными запросами миссионерскую деятельность в этом же направлении ведет специальное светское подразделение, состоящее из лиц, одержимых романтизмом.
Не следует думать, что это объединение поклонников литературы, преданных любимой эпохе. Такое увлечение высокой традицией является здоровым и похвальным.
Хотя в подразделение, о котором идет речь, входят и ученые исследователи, вовсе не энтузиазм к изучению толкает их в коллектив единомышленников, а такое же чувство, какое проповедники испытывают по отношению к непосвященным.
Романтическое наследие привлекает их не как наследие великой литературной эпохи, а как национальное евангелие, догматы которого нерушимы под страхом анафемы и обязательны, пока Польша остается Польшей. Тем самым оно требует своего апостольства.
Дело дошло до создания специализирующегося в романтическом евангелии миссионерского общества, члены которого стоят на страже учения в качестве самых главных экзегетов
[125] и глашатаев. Это значит — в качестве наиболее компетентных специалистов по польскому характеру, познавших его самую чистую субстанцию и являющихся его эталоном.
Откровенно говоря, точно не известно, на чем основан духовный редут, охраняемый самозваной стражей. Следует просто принять в качестве аксиомы, что это крепость настоящего польского характера, в которой содержатся во веки веков нерушимые неуловимые факторы.
Поистине волшебная карьера этого несколько загадочного понятия лучше всего иллюстрирует, как действует вышеупомянутая крепость. Она использует своего рода заклинания, настолько неопределенные по своему содержанию, чтобы включить в них подходящие на сегодняшний день лозунги, а одновременно настолько величественные, чтобы представить их в виде предписаний свыше.
Ни в одной другой стране понятие это не значило так много, нигде не стало главным в политическом репертуаре. Кажется, Пилсудскому первому пришло в голову использовать неясное благородство, излучаемое словами «неуловимые факторы», и он широко ввел их в свой политический лексикон.
Обращение к вещам неуловимым, но окруженным ореолом святости, было характерным для его политики, лишенной по сути дела программных основ, функционирующей в сфере туманных и возвышенных чувств, играющей на склонности к героизации и на не разбуженном еще политическом сознании общества. Этой эмоционально-образной магме волшебные слова «неуловимые факторы» подходили идеально, создавая возвышенный волнующий ореол вокруг проводимых им, как правило, непонятных для большинства людей интриг.
Тот факт, что при исторической проверке 1939 года
[126] пришлось снова обратиться к трудноучитываемым факторам для защиты элементарных ценностей жизни и что народ с готовностью откликнулся на них, не мешает самому термину оставаться подходящим инструментом для игры в политически незрелом обществе.
История сама смахнула со сцены фальшивые игры, оставив на ней действительно первостепенные ценности. Однако сколько раз и прежде, и сейчас пытались внушить польскому народу, что к нерушимым «неуловимым факторам» относится его господство на восточных территориях с едва лишь тридцатипроцентным польским меньшинством, колонизация их с целью осуществления его цивилизаторской миссии. Одним словом, сколько раз, прикрываясь словами о защите духовных ценностей нации, пытались привить ему мораль Кали: если у Кали украсть корову — это плохо, а если Кали украдет корову — это хорошо.
Романтическое происхождение «неуловимых факторов» ни малейшим образом не помешало тому, что в руках фальшивых наследников они стали уже только инструментом манипуляций в области морали. В действительности мы имеем дело не с какой-то там защитой родной «крепости», а с изолгавшимся паразитизмом на все еще дающих прибыль в Польше владениях романтизма.
Как может выглядеть такой паразитизм и к каким моральным последствиям он ведет, пусть свидетельствует первый попавшийся мне фрагмент литературной продукции этого направления. Цитирую парижскую «Культуру»
[127] № 8 за 1984 год, из жалости не упоминая фамилии автора. Это фрагмент небольшой поэмы, имеющей название «Урок польской литературы».
Как медведь на раскаленном полу
рычи национальная мифология
что видишь позор Кордианов
они уже не падают без сознания
не прыгают выше штыков
а со штыками за спиной
окружают Совинских на Воле
в маленьком костеле у алтаря
калек с деревянной ногой
или следят за расстрелом Траугуттов
из автоматического полицейского оружия!
[128]
Оставим замечания по поводу графомании, приводящей патетический порыв пишущего к непредвиденным комическим эффектам. Концентрация графомании является результатом просто головокружительного усилия автора, пытающегося портрет сегодняшней Польши натянуть на мученическую схему с аксессуарами Польши прошлого века. Постоянно сомневаясь, верна ли аналогия, автор без удержу нагружает каждый сантиметр стихотворной строки Кордианами, Совинскими, Траугуттами, на нескольких страницах присутствует почти весь состав романтического пантеона.
Однако фальсификация тут зашла слишком далеко, и даже самый помраченный рассудок не может принять за чистую монету вымыслы о героях, заколотых штыками или расстреливаемых из пулеметов. Другие авторы, использующие для этой же цели богатство романтических легенд, знают, что лучше не доводить дело до крайности, что реальность разоблачает фальшивость аналогии, и поэтому они лишь ограничиваются туманными намеками.
Манипуляции с культурой
Идеальную возможность для такой обработки предоставляют в Польше проблемы культуры, ставшие зоной повышенной чувствительности, и нет ничего удивительного, что именно культура стала идеальной областью для манипуляций. Достаточно только дать понять, что, как и раньше в нашей несчастной истории, культура снова стала бастионом, сохраняющим находящиеся под угрозой польские моральные ценности, достаточно только намекнуть, что национальная субстанция в опасности, как немедленно оживут пласты враждебности и подозрительности, которая не нуждается в каких-либо доказательствах и готова застыть в эмоциональной предвзятости вопреки убедительным фактам.
Имеются еще и другие обстоятельства, позволяющие сделать из культуры чрезвычайно удобную область для политических инсинуаций. Правда, эти обстоятельства не имеют ничего общего с мнимым посягательством на национальные святыни, однако, преподносимые как таковые, они являются причиной дополнительной путаницы в головах.
К примеру, многие годы возможности для клеветнических вымыслов предоставляло пренебрежительное отношение к культуре ряда руководящих этой областью политиков, а также многих администраторов, деятельность которых в конце концов привела к тому, что к культуре стали относиться как к нежелательному ребенку, и в этой сфере возникли большие трудности. Нет смысла оправдывать политиков, но нет и оснований утверждать, что трудности в развитии культуры появились в результате дьявольски коварных замыслов, а не примитивного, родившегося на польской почве.
Трудности, которые сегодня стоят на пути развития культуры, имеют принципиально другой характер, чем те, которые мышления испытывала культура разделенного и лишенного собственной государственности народа. И все же, используя отсутствие четких критериев в рассуждениях о вопросах культуры, играя на давних и новых комплексах, пытаются создать между ними junctum
[129]; с помощью экзальтации и самонагнетающейся истерии вокруг сегодняшних проблем возбуждается такое же настроение героического отражения осады, которое было характерно для культуры периода разделов. Один за другим взлетают в небо фейерверки в защиту «неуловимых факторов», то и дело зажигаются искусственные огни инсценированных жестов и неумных декламаций — в доказательство того, что такой-то и такой-то стоят на страже, о чем они извещают Польшу и Европу.
Когда-то за это надо было дорого платить, подвергаться лишениям и страданиям. Демонстрация готовности посвятить себя интересам дела, свидетельствующая об искренности убеждений, подтверждала истинные добродетели. Однако в ситуации, в которой любое демонстрирование своих взглядов не только почти ничем не грозит, а наоборот — стало по многим причинам выгодным, появляются сомнения в искренности намерений. Готовность посвятить себя делу становится обманчивой, добродетель оборачивается ловкостью, лишения — планируемым барышом. Вместо славы, которая окружает борцов за святое дело, тем, кто создает видимость, достается лишь ее суррогат, но зато поданный в прекрасной упаковке. Это своего рода чванство. Оно выражает незыблемость позиции, базирующейся на двух аксиомах: на неколебимой уверенности, что демонстрирующие эти свои взгляды будут вознаграждены, а также на не менее твердой уверенности в том, что в существующих условиях борьба за принципы не является особо опасной.
Человек, проповедующий «неуловимые факторы», лишь изображает борьбу за благородное дело.
Симуляция героических добродетелей в выдуманных мученических ситуациях стала за короткое время модным приемом массового надувательства. Страшно подумать, что польская культура, неотъемлемой частью которой является разоблачающая самые хитрые обманы язвительная насмешка Виткация
[130] и Гомбровича
[131], которая создала столько защитных вакцин против заразных дурманов и позерского чванства, оказалась впервые за многие сотни лет запуганной, пассивной и беспомощной перед затопившей нас самой большой волной мифомании.
Сверхъестественность и исключительность
В морально-политической обстановке, сложившейся в Польше в последние годы, бесспорно возникли благоприятные условия для появления таких симулянтов, ибо их выроились целые тучи. Почему в других странах возникшая на конъюнктурной почве экзальтация не стала массовой, демонстрируемой торжественно и благоговейно?
Если мы задумаемся над этим комплексом не виданного нигде более поведения, то придем к выводу, что в нашем культурном наследии, в котором мы принимаем всё без исключения, сохраняется какая-то упрямая аномалия и что именно она формирует ненормальное отношение людей к жизни.
Я считаю, что этим страдающим инфантилизмом наследием, не встречающимся нигде вне нашей духовной традиции, является наследие, оставшееся от союза, заключенного между романтизмом и контрреформацией.
В других странах каждое из этих исторически созидательных направлений выступало отдельно, не сливаясь в один поток. И лишь в Польше эти направления частично объединились друг с другом, создав особую разновидность культуры. Романтизм окрасился религиозностью в типично контрреформатском духе, с культом обрядности, миссионерством, с набожным отношением к мифам и символам. В то время контрреформатский костел включил в свой словарь немало избитых романтических фраз, чтобы с их помощью непосредственно влиять на живую стихию политических эмоций.
Тем самым происходило, с одной стороны, низведение романтизма до роли примитивной национальной религии, а с другой — усиление политической активности костела, пользующегося романтической традицией для того, чтобы укрепить свое влияние на духовную жизнь народа. Ни одной европейской стране не приходится бороться с таким застывшим миром подсознательных понятий, с такой фаталистической инерцией рефлексов, какие оставил нам в наследство рожденный историей союз двух главенствующих в Польше мифологий.
Романтизм потерял в нем свою интеллектуальность, а костел усилился за счет романтичности. Так появилась подсознательная польская моральная норма, со временем превратившаяся в духовную окаменелость.
В этой полусветской, полурелигиозной смеси сверхъестественного с миссийностью миссийный фактор побуждает даже к самой бессмысленной активности, а фактор сверхъестественного обнадеживает, что все каким-то образом обойдется.
Миссийный фактор заставляет приписывать себе исключительную роль, позволяет легко впадать в слепую самоуверенность, возбуждает особое пристрастие к казуистическому морализированию. В свою очередь, фактор сверхъестественности рождает готовность верить в любые иллюзии, приводит к буйному расцвету легкомыслия, которое преподносится как наиболее благородный образец высокой жизненной позиции, а также к пренебрежительному отношению к благоразумию из-за присущей ему a priori
[132] осторожности.
Западничество и демонизм
Таким образом, незадачливое духовное наследие, восходящее частично к линии романтических предков, а частично к практике воинствующего костела, мы сделали символом нашего самосознания и с этим неприкосновенным напутствием решили отправиться за золотым руном к берегам промышленной цивилизации.
Независимо от того, какая форма государственного строя ждала бы нас на этом новом берегу, условно называемом индустриализацией, требующей модернизации, наше устаревшее самосознание в любом случае была бы слишком узким. Думаю даже, что
капиталистическая система поступила бы с ним без всякого снисхождения, не обращая особого внимания на весь этот шум о нерушимом наследии прошлого. Везде там, где в этой системе проходила модернизация, наследие прошлого подвергалось беспощадной коррозии, уничтожающей и устраняющей все, что не подходило к четкой работе новых механизмов. Проникающее всюду модернизационное давление уничтожило духовное наследие прошлого, формируя на его развалинах нужную ему индивидуальность.
Парадоксально, что именно социализм, относящийся, пожалуй, даже со слишком большим вниманием к каждому камешку из здания прошлого, постоянно прилагающий много стараний для поддержания слабнущих традиций, все время находится под огнем обвинений в том, что он уничтожает бесценное наследие.
Стоит заодно заметить, что рьяных стражей прошлого совершенно не шокирует урон, наносимый польской субстанции стандартизирующим воздействием бездуховных и пошлых шаблонов в области культуры, известным всем под именем американизации. Новоявленные прокуроры настроены только на «советизацию», на нее они сваливают все, что только им придет в голову или померещится.
Первое — тоталитаризм, как будто какая-нибудь страна смогла преодолеть вековую отсталость без централизованной власти, добивающейся накопления административными средствами, и как будто с момента основания эта система правления не подвергалась изменениям, ведущим ко все большим индивидуальным свободам, к более широкому участию общественности в жизни страны, сохраняя лишь часть первоначальных ограничений, которые только злобная страсть к очернительству может называть тоталитарными.
Следующий момент: низкое качество и производительность общественного труда, как будто другие страны той же самой системой не добивались более солидной работы, более высоких достижений и более высокого уровня жизни, что должно заставить мыслящих людей задуматься об отечественных источниках преследующей нас неорганизованности. И как будто своей доли ответственности за низкий уровень профессиональной этики не несли значительно более мягкие трудовые отношения, вытекающие из слишком широких социальных обязательств государства, чему в немалой степени способствовал неумеренный рост требований, в том числе подогреваемый теми же самыми критиками.
Никто не отрицает того факта, что обе проблемы, представленные здесь в качестве примера, являются основными для сегодняшней фазы развития страны. Дело в том, что вместо реальных проблем нам подсовывают злобные выдумки, которые уже неоднократно в нашей истории отравляли умы подстрекательскими упрощениями. Принимающее их общество поражалось параличом умственных центров, дающих возможность распознавать реально существующие в мире связи. Вместо картины страны, находящейся в бедственном положении из-за своей исторической отсталости, делающей огромные усилия, чтобы догнать потерянные столетия, со всеми, к сожалению, присущими спешке издержками, пытающейся укрепить свое место в мире после многовековой дестабилизации, то и дело прерываемой небытием; вместо действительной картины исторических возможностей, осуществляемых несмотря на сопротивление материи, парализованная психика рисует картину «советизированной» страны, вкладывая в вымышленное понятие все противоречия, которые она не понимает, все полученные в наследство внутренние слабости и удручающе убогое экономическое положение. Облегчение, которое при этом психика ощущает, является вредом, наносимым самому себе, ибо это облегчение похоже на то, какое дает наркотик, позволяющий сбросить с себя все заботы и погрузиться в омут безответственности.
Понятие «советизация» является уловкой занимающегося самообманом мышления, застывшего в архаическом уже стереотипе, бессильного перед проблемами современности и во всех своих бедах обвиняющего внешний фактор.
Разновидности мессианства
С давних пор каждый катастрофический оборот нашей истории вызывал немедленное возвращение мессианско-романтической легенды, которая с течением времени сама приводила к духовной катастрофе.
Уже первое появление легенды, получившей название барской конфедерации
[133], не предвещало ничего хорошего из-за своей двусмысленности. Это был порыв патриотизма в защиту свободы, но в то же время темный и слепой, опирающийся на идеи мракобесия.
С тех пор патриотизм можно сводить до уровня образцов Темнограда
[134], а мракобесие в ореоле патриотической легенды поднимается на недосягаемую высоту.
Но это — используя любимые слова наших летописцев — посев на будущее, все это буйно зацветет в независимой Польше. Пока продолжалась эпоха рабства, на первый план выдвигалась борьба с захватчиками, возводящая в ранг национальной святыни даже самые странные идеи, лишь бы они предпринимались с патриотическими намерениями. Мессианство в духе приходского учения о Польше как избраннице божественного провидения, возложенное на себя конфедератами, было воспринято великими поэтами-романтиками, которые подкрепили его своим авторитетом и сделали поэтическим каноном. Под накалом самых высоких страстей польскому патриотизму были привиты понятие Польши как Христа народов, невинно страдающей ради спасения мира, пристрастие к мученичеству, тем скорее ведущему к воскресению, чем больше будут страдания народа, вера в спасительную силу демонстративной жертвы, рано или поздно приводящей к чудесному изменению жестокой судьбы благодаря то ли пробудившейся совести человечества, то ли внеземной справедливости.
По прошествии времени и с изменением обстановки доктрины мессианства выдохлись, оставив, однако, в нашей психической структуре деформированные, но заметные следы. Это, с одной стороны, проявляющееся в различных формах чувство, что мировой историей полякам уготовано исключительное моральное предназначение, а с другой — склонность к иррациональной вере в чудеса, которые позволяют, несмотря на самые трудные препятствия, его выполнить.
Короче говоря, наша психическая структура независимо функционирует в замкнутом круге: исключительность осуществляется с помощью чудес, а чудеса еще больше подчеркивают исключительность.
Бессмысленность, подобно самосейке, бурно растет на нашем наследии. Кто сосчитает те вдохновенные декларации о наших моральных преимуществах и миссиях, о средиземноморском «мосте», ведущем на Восток, о направленных на нас глазах всего мира, о всеобщем восхищении непредвиденностью наших действий, на которые никто другой не мог бы решиться? О том, что для нас оскорбительна трезвая и расчетливая жизнь, что такая добродетель, как наша, не может не быть награждена, что так или иначе нас увенчает победный лавр, ибо масштаб неудач является, по сути дела, мерой моральной победы?
Эти маниакальные формы самоутешения были, на худой конец, оправданны в условиях крайнего несчастья народа, когда со всех сторон надвигалась гибель и не на что было надеяться. Фантазирование было в этих условиях адекватно безнадежности, а вытекающее из него поведение можно было простить огромным количеством жертв.
Сегодня же появление подобных курьезов выглядит только трагифарсом. Попытки вызвать психоз гибели и мессианства на фоне спокойных отношений, стремление к реформам добивающегося поддержки во всех слоях общества государства, попытки — скажем прямо, — совершенно для их авторов не опасные, а скорее очень выгодные, приводят сегодняшних лжепророков к пародированию стиля романтического поведения.
В связи с этим мне вспомнился забавный эпизод из недавнего прошлого, показывающий, каким непреодолимым может быть желание организовать романтический психоз.
Однажды ночью во время августовской забастовки на гданьской верфи
[135] бастующие написали соответствующие данному моменту стихи, поразительно совпадающие по словарному составу и тональности с поэтическим наследием мессианского направления. В кругах знатоков это вызвало огромное возбуждение, которое на памятном «конгрессе культуры»
[136] выразилось в специальном докладе. Был приведен в движение арсенал научных понятий, при помощи которых удалось «открыть», что под комбинезонами польских рабочих как бы в естественном состоянии сохраняются мессианские прототипы и формы, что гданьские судостроители в минуты душевного подъема самым естественным образом говорят на языке барских конфедератов, «Книг польского народа и польского пилигримства»
[137] и «Ангелли»
[138]. Это было бы открытие масштаба Лелевеля
[139], если бы не оставшееся в тени обстоятельство, что рождению самобытной поэзии способствовали посланцы местной кафедры полонистики, специализирующиеся в мессианстве, впрочем, они же были воспитанниками научной фирмы, которая подготовила вышеупомянутый доклад.
Быть может, во всем этом была рука провидения, желающего на примере показать, какой искусственной является мессианская пропаганда и к каким методам она прибегает, чтобы зацепиться за действительность.
После всего сказанного выше, пожалуй, можно определить общие законы, по которым действуют нынешние сторонники мессианства. Они начинают с создания видимости, что какое-то событие в жизни современной Польши по сути своей идентично происходившему в период разделов, чему обычно служит нагнетание атмосферы мученичества, насилия, оккупационных порядков и противопоставляемых им мессианских порывов. Затем переходят к следующему акту — экзальтации «извечным польским характером», застывшим раз и навсегда в том виде, в каком его сформировал синдром рабства. Конечная цель всей операции — противопоставить историческую Польшу как образец для подражания — современной Польше как фальшивой и незаконной.
Взрыв прошлого
Польшу историческую — хотя имеются в виду лишь некоторые эпизоды из ее истории — представляют в качестве антитезы и бросают в бой против Польши социалистической. Именно это я называю преступной операцией, совершаемой над польскими умами. То, что выдается за польский характер, единственный и неизменный, не имеет перспективы, погрязло в прошлом, обречено на вечную бесплодность, становится все более жалким, глухим и ожесточенным. А все, что может изменить польский характер, придать ему бо́льшую широту и свежесть, что может сделать его более современным, исключается из него как не получившее благословения предков.
Между прочим это не первый случай в нашей истории. Достаточно вспомнить, какую враждебность приверженцы сарматского духа
[140] испытывали ко всему, что не было исконно польским, с каким отвращением относились к «новинкам» эпохи Просвещения. Не первый раз в нашей истории патриотизм отождествляется с восторженно оберегаемым культом прошлого, а к переменам относятся как к чему-то чуждому, угрожающему «родной субстанции». Сейчас в роли исторического тормоза выступает реанимированный дух мессианства, пожалуй еще более опасный, чем дух сарматизма, ибо он функционирует в конце XX века, когда жизнь движется с космической скоростью и становится беспощадной к оставшимся позади.
Сегодня манипуляции над польскими умами заставляют их ненавидеть собственную современность и поклоняться идеализированному прошлому. Вызванное такими манипуляциями движение является лишь спазматическим движением назад, восстановлением в памяти обид и ран, а также погружением в самообожание, основанным на неодолимой страсти к мифотворчеству.
Движение, которое должно было стать движением к новому, оказалось, по сути дела, взрывом прошлого, словно уже само возвращение к тому, что было — если даже оно приносило лишь одни поражения, — является лучшим лекарством для нации. Восстанавливая со звоном колоколов исторический польский характер в том виде, каким он был в XIX веке, по сути дела зачеркивают уроки истории. Еще раз нашими спасителями должны были стать западные кабинеты с их, как всегда, незаменимой помощью, молитвы и отправляемые всем народом богослужения, поражающие бессмысленностью политические призывы, наивная надежда на новую мировую войну. Еще раз со слепым высокомерием было проигнорировано элементарное значение материального труда для достижения богатства и силы, отринут опыт развитых стран.
Только в результате неслыханного разброда в умах ускользает от внимания яркий парадокс, что движение, рожденное борьбой за благосостояние, за достойный жизненный уровень, возродило духовную традицию, которая этой цели служить не может, а может только ей высокомерно мешать.
И потому люди, подчиняющиеся волне традиционализма, впадают в шизофрению, требуя, с одной стороны, современного уровня и размаха нововведений, а с другой — запираясь в гробнице устаревших верований, не дающих возможности занять приличное место в мире.
Уже становится закономерностью, что, когда польские надежды связываются с Западом, традиционно рационалистичным, холодным и практичным, в польских головах происходит рецидив иррациональной традиции.
Западу нравится польское безрассудство, ибо он находит в нем развлечение или выгоду, но не настолько, чтобы его действительно уважать и ценить. Одного этого уже достаточно, чтобы наш соотечественник еще глубже скатывался в свой иррационализм. Вот почему контакты с Западом, вместо притока господствующей там трезвости, приносят, скорее, усиливающееся безрассудство.
Запад поддерживает в поляках то, что связано с прошлым и что у себя он давно уже искоренил. Конечно, он демонстрирует нам также новую технологию и новые достижения цивилизации, полученные как раз благодаря тому, что в течение многовековых усилий там распространился производственно-рациональный характер отношений. Но когда дело касается Польши, Запад хвалит те традиции, которые очень далеки от этого характера отношений. У нас все должно быть иррационально, бездумно и мученически, благосостояние мы можем вымолить только в церковных процессиях, а к свободе нам следует стремиться фанатично, не заботясь о практических и экономических проблемах.
Кто видел на парижской площади Инвалидов символическую мученическую могилку, оборудованную там эмигрантами при явной поддержке местных властей, тот может представить, как польскую тематику воспринимают на Западе. Вот на фоне пульсирующей жизни занятой своими делами метрополии стоит стилизованная под старину могилка, страдальчески суровая, печальная и бесхитростная, но при этом покрытая культовыми аксессуарами, символизирующая скрытую жизнь, а также лентами, демонстрирующими повстанческий дух
[141].
Трудно представить себе более отдаленные друг от друга миры, чем этот культово-мученический объект и его процветающее окружение. За первым стоит иррациональная традиция демонстраций мученичества как источника воскрешения, за вторым — столетия рациональных усилий, трезвого отбора целей и методов. Но факт, что именно в этом месте Европы, где родились картезианская ясность и точный расчет, выделили — как раз из холодной расчетливости — место для чудачества из Польши, свидетельствует о том, что эта разновидность польского характера еще больше погружается в бесплодный и грустный традиционализм.
Все, чем может похвастаться дух, который должен был сделать из Польши «вторую Японию», — это исступленный культ традиционализма и выхолащивание способности мыслить в масштабе будущего. Из духовных глубин этого движения распространяются такие вот мыслительные рефлексы: сейчас нет условий для того, чтобы что-то делать, а когда такие условия возникнут, мы будущее привезем себе из-за границы, где нас любят и все нам дадут; если, конечно, мы окажемся достойны этого, а достойные — значит, самые традиционные, ибо Запад именно за это нас и полюбил. Так вот, давайте демонстрировать нашу незыблемость эффектными жестами, протестами, церковными шествиями и миссиями, давайте соберем все силы в нашем традиционализме, ибо это наше самое большое богатство, наша заслуга перед провидением и Западом, а об остальном нам не следует беспокоиться.
Такова подсознательная философия микроба вышеупомянутого движения, независимо от того, ограничен ли у этого пройдохи кругозор базаром Ружицкого
[142], или он является непоколебимым приверженцем церковных истин, или профессором, греющимся в лучах научной славы, или писателем, выступающим, как правило, от имени народа. Для всех них, без различия пола и образования, вернейшую гарантию будущего может дать лишь погружение в национальную традицию, со всем багажом недостатков, фетишей и иллюзий, за верность которым мы получим награду в виде манны с западного неба.
Традиция и традиционализм
Само собой разумеется, что эти замечания не направлены против развития национальных традиций, составляющих наше историческое богатство, в отрыве от которого невозможно составлять проект любой реальной программы на будущее. Умное и дальновидное определение тех национальных особенностей, которые следует сохранить и ценить, свидетельствует о мудрости кормчих развития. И наконец, не вызывает сомнения, что без своего patrimonium
[143] народ просто-напросто не смог бы существовать и ничего сообща планировать.
Наше уважение к традициям не имеет отношения к традиционализму, который является формой выродившейся, фанатичной и агрессивной.
Критерием, позволяющим различить, что является традицией, достойной культивирования, а что — вредным традиционализмом, который стал ее дегенеративной формой, может стать способность традиционных образцов служить строительным материалом в возведении здания будущего.
Вообще всякое культивирование прошлого только тогда может иметь оздоровительное значение, когда его целью является не приостановление жизни, а наоборот, когда оно вписано в проект строительства будущего. Слепое уничтожение традиционных образцов ослабляет силы развития, растрачивая все ценное, что заключено в преемственности. Зато фанатичный традиционализм вообще парализует представление о будущем, демонстрируя в качестве конечной цели возвращение к тому, что уже было.
Распространение в Польше традиционализма с его мессианскими национальными заветами, безразлично, на примитивном или на ученом уровне, выметает из польской жизни мысль о будущем и вместо картины мобилизующего коллективные усилия конкретного завтра прививает иллюзию неизбежной награды.
Достаточно углубиться в массу написанных слов, разливающихся по страницам многих журналов, чтобы увидеть, как под лозунгом спасения всего польского, обеспечения ему достойного места в будущем распускает перья, красуется, токует и пыжится многократно скомпрометировавшее себя прошлое, предписывающее на все случаи жизни молитвы, героические порывы, демонстрации и страдания, как даже недавние «трезвые энтузиасты» строительства индустриальной Польши купаются сегодня в иллюзиях моральной победы, одержанной хотя бы ценой коллективного самоубийства.
Народы, отличающиеся творческой динамикой, ищут традиции духовных импульсов, а также того ценного, что дает им прошлое, и в то же время головы у них заняты проектированием будущего, десятками тысяч планов, которые на основе традиционных связей создают быстро развивающийся организм.
Чувство общности, опирающееся только на прошлое, может быть очень сильным, но одновременно только вегетативным и бесплодным, если его не питают своей энергией живительные замыслы на будущее.
Только те народы могут считать себя плодотворно и естественным образом сплоченными, которые в традиционную общность постоянно и с растущей динамикой вносят объединяющие элементы совместных начинаний.
Именно этим отличаются экономически высокоразвитые общества, ибо их объединяет не только традиция, но и гармонирующая с ней сила развития.
Ни в одной стране нет такой, как у нас, пропасти между традицией, отвлекающей от реальной цели и распыляющей силы, и неотложными проблемами жизни, взывающими к здравому смыслу, требующими скорейшего развития, современного подхода и дисциплины.
Страницы польского романтизма изобилуют прекрасными примерами активности, могущей в любую эпоху питать стремления и мысли, направленные в будущее. Это захватывающая энергия «Оды молодости»
[144], историческая прозорливость Словацкого
[145], вместе с Норвидом
[146] заложившего основы критического отношения к национальному сознанию, необычайная готовность служить коллективу как элементарной частице родины, апология народа, труда, долга, справедливости, дерзкого разрыва оков традиции, если она оказывалась реакционной.
Однако не эта романтическая открытость ко всему новому, а наоборот — судорожное цепляние за стереотипы, отход от здравомыслия к оглупляющему самообожанию, апология эффектной рисовки и презрение ко всему новому, не собирающему аплодисментов, — вот что хочет извлечь из наследия романтизма паразитирующая на нем легенда.
Мышление в категориях будущего
XX век оказался для нас суровым и жестоким не только из-за безумной и бурной истории, перебрасывающей Польшу из бытия в небытие, каждый раз при этом угрожающей физическому существованию народа. И не только потому, что нам пришлось наверстывать такое унизительное для нас отставание в эпоху самого большого технического развития, другими словами — как бы трудиться напрасно, ибо человечество в своей деятельности постоянно уходило вперед. И не только из-за того, что наш опыт — промышленный, технический, административный, системный — постоянно оказывался слишком слабым перед теми задачами, которые мы должны были решать на ходу, что неизбежно увеличивало и так немалые издержки, если принять во внимание наши возможности. И, словно этого было еще недостаточно, в нашем наследии оказалась субстанция, разлагающая совместные усилия.
Так необходимая каждому народу способность мысленно забегать в будущее и объединять вокруг него стремления, хотя бы интуитивные и инстинктивные, постоянно парализуется противодействием инфантильной наследственной субстанции, сохраняющей нелепую веру в то, что достаточно лишь доверить свою судьбу заботящимся о польском народе чудесным силам, которые где-то там за нас думают и действуют.
Поэтому в нашей исторической практике всякая более или менее серьезная попытка создать упорядоченное представление о будущем, опирающееся на дельный проект и привлечение массы сторонников, готовых к жертвам во имя намеченной цели, не находит отклика или встречается с непониманием. За исключением немногих светлых периодов, обычно никто не видел необходимости в перспективных начинаниях, проводящихся совместными усилиями и подчиненных планам на будущее.
Больше того — традиционный образ мышления принимал всякого рода проекты на будущее, требующие хоть какого-то усилия и исходящие либо от королевской власти, либо от дальновидных реформаторов, как посягательство на здравый порядок, проводимое для каких-то подозрительных целей чуждыми внешними элементами, которые хотят осуществить в польской жизни противоречащие ее природе изменения. Жизнь должна была идти по проторенной колее, а любая попытка изменить ее ход при помощи дальновидного государственного мышления квалифицировалась как вмешательство в естественный и лучший из возможных порядок. Эти обвинения часто объяснялись иностранным происхождением королей, но вряд ли их можно считать достаточно убедительными. Иноплеменные династии были в Европе явлением обычным, и во многих странах под иностранным скипетром проводились государственные реформы, не вызывающие протеста распаленных ура-патриотов.
Упоение собственным ура-патриотизмом и стремление звонить во все колокола из-за «новаций» вспыхивало у нас регулярно в тот момент, когда на привыкших к традиционному течению своевольной жизни поляков стремились наложить дополнительные обязанности, заставляли их думать о будущем и вовремя приложить совместные усилия для его осуществления.
Наше контрреформатское и романтическое наследие само по себе может родить только борьбу, да и то, как правило, без продуманного плана. Планирование преобразований через труд, через длительные и кропотливые усилия не укладывается в умах такого рода людей, закрытых для всех практических начинаний.
Кто бы ни остался на поле битвы в роли строителя жизни на развалинах, ему пришлось бы организовывать государство и экономику, другими словами — учиться иным принципам мышления, поддерживать иные взгляды и наклонности, чем те, которыми руководствовался романтический склад ума.
Этого не смогла сделать межвоенная Польша, что увеличило размеры катастрофы. Но ведь и она, столкнувшись, как молодое государство, с пагубным наследием прошедших веков, предпринимала усилия по формированию основ, опирающихся на ответственное и рациональное мышление, способное воспринимать действительность в категориях будущего, которое должно быть построено на реальных экономических и политических фактах, а также на правильной оценке общественных и международных отношений.
Это были только первые ростки мышления народа, организованного в государство. Тяготеющая над ним все это двадцатилетие легкомысленная и беспрограммная романтическая легенда была, по сути дела, лишь продолжением специфического образа национальной жизни в условиях отсутствия государственности в XIX веке. Правящий лагерь использовал ее для того, чтобы создавать у народа иллюзии, используя еще свежие бессмысленные эмоции. Ему в этом помогала легенда воскрешения польского государства из безумного, в романтическом духе, «подвига легионов»
[147], которые на самом деле были лишь ничего не значащей горсткой людей, не оказавшей никакого влияния на ход войны и лишь сыгравшей на необыкновенной конъюнктуре. Но именно версия о «подвиге» продлила жизнь романтическим сказкам и осложнила формирование в возрожденном государстве более зрелого типа сознания, соответствующего новому ответственному этапу существования народа. Продолжало доминировать мышление в категориях «подвига», приносящего чудотворные результаты, «исторической миссии», успех которой уже заранее гарантировался, могущества духа, заменяющего материальную силу, вдохновенной фантазии, на голову превосходящей трезвый расчет. Так, словно это все еще было время сумасшедших освободительных порывов, укрывающихся в лесах повстанческих отрядов, импровизированных отчаянных выступлений, бессилия, ищущего спасения в легендах и иллюзиях. А ведь все это происходило в период, когда государство, полностью распоряжавшееся своими ресурсами, для того чтобы использовать их целиком, должно было развивать практицизм, ставить на компетентность и трезвый расчет, укреплять идею хозяйствования в качестве самой реальной гарантии на будущее.
Но межвоенная Польша только начала реально мыслить о будущем. В рамках тогдашнего государства это направление представляли такие люди, как Еугениуш Квятковский
[148] или Станислав Грабский
[149], но официальная государственная идеология еще парила в облаках миссионерства. Торжественные заседания, празднества, школьные учебники, публикации, рекламирующие государственную доктрину, мероприятия, делающие ее доступной народу, неизменно пропагандировали чудодейственность и исключительность как таинственные, но надежные факторы, покровительствующие польской истории и обеспечивающие ей благоприятное решение всех проблем.
Сентябрьская катастрофа
[150] до основания потрясла здание этих отживших понятий, но ее последствия снова оказались половинчатыми. Жестокий урок конфронтации с историей ослабил упрямо поддерживаемые легенды, возбудил в широких кругах стремление пересмотреть иррациональные верования, на которые до сих пор опиралось общество, стимулировал поворот к трезвому мышлению, способствующий разумным программам левых сил. Однако, с другой стороны, оккупационная действительность с ее патетической борьбой не на жизнь, а на смерть, которая велась в условиях ужасной неволи, содействовала возвращению польского синдрома, соединяющего борьбу, веру и мученичество в систему коллективного мистического утешения.
Как только после сентябрьского краха господствовавшие в межвоенной Польше круги пришли в себя и восстановили свое идейное влияние, захватив как руководство подполья, так и действующие в эмиграции правительственные учреждения, жизнь, которая продолжалась в самых страшных условиях, снова окутали тучи мессианства. Отрезвляющий опыт сентября и вытекающий из него пересмотр представлений оказались недостаточными для того, чтобы освободиться от анахронизмов. Еще раз косная историческая мистика взяла верх над разумной мыслью о будущем, приведя к кульминационному несчастью во всей цепи национальных трагедий, к демонстративному самосожжению в героическом по сути варшавском восстании
[151].
Как юный участник этих событий я не мог поверить, что тот же самый образ мышления, который, казалось, был окончательно погребен под развалинами упавшего здания, еще раз встал у руля коллективной судьбы, чтобы управлять им с той же безответственностью. Мое чувство духовной неприязни по отношению к мессианствующим офицерам зародилось в ту пору, когда невозможно было не заметить бессмысленности, прячущейся под этой обманчивой оболочкой.
А когда сегодня, через сорок лет, очередная волна национальной мистики овладевает молодыми головами, нельзя не заметить, что над этим потрудились виновники цепи прежних катастроф, которые хотя и вынесли из них целыми головы, но ничему не научились.
Нужно иметь большую смелость, чтобы, как это они делают, объявлять трагическое варшавское восстание «моральной победой» польского народа, позволяющей сохранить «национальную субстанцию», — словно миллионный город с его накопленной в течение веков культурой, живущей в людях, вещах и строениях, являющейся квинтэссенцией всего нашего достояния, не был сам по себе именно этой наиболее прочной и неотвратимой субстанцией, которую нужно было хранить как зеницу ока, но которую привели к полному уничтожению — для того лишь, чтобы потрафить химерическим иллюзиям, не имеющим ни малейших шансов на успех.
Самосознание, но какое?
Этот пример показывает, на чем основано различие в понимании существа «национальной субстанции», различие с далеко идущими последствиями.
Для закоснелых традиционалистов, питающихся фанатической духовной смесью, состоящей из извращенной разновидности католицизма и шовинистических форм романтической традиции, «национальную субстанцию» составляют особенности польского характера, приобретенные при жизни десятка последних поколений, но при таком их отборе, чтобы можно было неопровержимо доказать, что всякая открытость на Восток является национальным предательством, а любая открытость на Запад — патриотическим долгом.
Такая догма не подлежит у них обсуждению, независимо от того, что происходило и происходит и где на самом деле в меняющемся мире открываются перспективы для судеб народа.
По мнению традиционалистов, Запад имеет полное право руководствоваться в политике собственными интересами, в том числе и тогда, когда они могут нанести нам вред, ибо трудно требовать, чтобы в политике чужие заботы были важнее собственных. Если же речь идет о политике Востока, то тут забота о собственных интересах считается проявлением беззакония и зла, противоречащим гуманным традициям человечества и подлежащим моральному осуждению.
Наши западники одобряют интересы Запада даже тогда, когда они для нас пагубны, и постоянно осуждают интересы Востока, даже тогда, когда они приносят нам несомненную пользу.
Самые ужасные беззакония и массовые бойни, которыми изобилует история Запада, находят в нашем поклоннике этой части света неизменно чуткого интерпретатора, философски осмысляющего прошлое и чувствующего нашу ничем не нарушаемую связь с именно так выглядевшей историей Запада. Но подобные исторические факты, случавшиеся в жизни Востока, рассматриваются с гневным воодушевлением, не слабеющим по прошествии столетий моральным осуждением и со страстным подчеркиванием собственной непохожести.
Наш западник — горячий моралист по отношению к Востоку и никогда свою моральную страсть не использует в противоположном направлении.
После пылких рассуждений этих же моралистов о варшавском восстании уже почти неизвестно, кто разрушил Варшаву. Если вчитаться в посвященные этому вопросу публикации, напечатанные, к примеру, в «Тыгоднике Повшехном»
[152], можно прийти к выводу, что если говорить честно, то ее сравняли с землей пришельцы с Востока.
Такое тщательно препарированное понимание национальной субстанции является ничем другим, как концепцией Польши — Оплота Запада, трансформированной в сферу духовности. Польский характер должен состоять из того и только из того, что исходит из наследственного культа Запада и претензий к Востоку.
Так понимаемый польский характер должен быть готов изгладить из памяти любые следы обид, которые нам причиняли пришельцы с Запада, даже самые страшные, а также все шрамы от разочарований, какие выпали на нашу долю с этой стороны.
Эту устаревшую «национальную субстанцию» надо послать на пенсию, полагающуюся ей уже с давних пор, и продолжать нашу историю с новой, такой, которая не обречет на бессмысленную гибель город и в то же время будет в состоянии строить зрелую государственность. Это субстанция в полном смысле слова отечественная, с пястовскими и ренессансными, просветительскими и рационалистическими корнями, которые в течение нескольких столетий вытеснялись постоянно возвращающимися волнами мессианства.
Они всегда были обусловлены либо разложением государственного организма и нарастающими в нем болезненными явлениями, либо ударами, обрушивающимися из заграницы и лишившими нас собственной государственности. Прогрессирующее с XVII века разложение, а затем разделы Польши, восстания и национальное угнетение привели к поискам спасения в мессианстве, хотя в период загнивания и упадка это было мессианство хвастливое и сарматское, гордящееся особым божьим покровительством над Речью Посполитой, которая славилась своей анархией, но в то же время была образцом веры и свободы, а позже, в период поражений и рабства, — мессианство отчаянное, провозглашающее из глубины национального падения особое предназначение Польши в спасительных планах небес.
Так вот, мессианство могло служить лишь апологетам приходящего в упадок государства или находящимся в отчаянном положении борцам за святое дело, но ни в коем случае не могло быть полезно архитекторам современной государственности как первой, так и второй половины XX века.
Если поляки хотели создавать государственный организм, способный удержаться на карте мира, им надо было организовать коллективный труд на основе разумных планов, создаваемых с мыслью о будущем, — а для этой цели полученная в наследство легенда могла быть только обузой. Польское государство, независимо от его политического строя, которое с таким багажом прошлого хотело бы конкурировать с другими в суровых условиях XX века, должно было бы полностью пересмотреть свое наследие и вместо иррациональных общественных привычек ввести противоположные критерии, концентрируя общественное внимание на вопросах экономики, промышленности, торговли, технологии, рациональных систем всеобщего воспитания, дисциплинирующих жизнь общественных учреждений и т. д.
Эфемерное существование межвоенного государства не позволило произвести более глубокие преобразования этого наследия в рамках буржуазного порядка, как это произошло в большинстве стран так называемой западной цивилизации.
Исторически необходимые изменения
История сделала так, что весь каторжный труд приспособления наших наследственных традиций к требованиям индустриализации и нуждам планирующего государства совпал с социалистическими преобразованиями. Это привело ко многим осложнениям, которые еще далеко не преодолены, но нас здесь интересует только одно обстоятельство. Факт, что исторически необходимые перемены происходили на почве новой государственности, к тому же строящейся в условиях острых внутренних и международных конфликтов, привел к тому, что консервативное сопротивление и нежелание изменить наследственные привычки могло рядиться в национальные одежды и выступать против нового строя.
Сделать это было легко, потому что традиции государственности не оставили глубоких следов в национальном наследии и с давних пор любая попытка перестройки представлялась как узурпаторство, устанавливающее absolutum dominium
[153]. Если не считать довольно далекой традиции монархического государства, функционирующего эффективно и четко, которая закончилась в Польше уже в XVI веке, более поздняя политическая традиция сводилась к сковыванию деятельности государства, если оно пыталось провести реформы, или к борьбе с иностранным правлением.
Произошла в конце концов такая метаморфоза, что преобразования, проводимые собственным государством во имя исторически необходимых целей, силами консервативного сопротивления представляются как преобразования, навязанные извне. Более того, чтобы парализовать государство, эти силы используют все политическое наследие, закодированное в польских умах уже в течение нескольких столетий.
В этом есть какое-то жестокое коварство истории, ведь под покровом романтических призывов, служащих когда-то национально-освободительной борьбе, народ сегодня толкают к тому, чтобы он стал Ираном Центральной Европы, жалким и непонятным очагом фанатизма, который уже невозможно встретить в развитых странах.
Так вот, нельзя быть фанатиком в этой части мира, и не правительство, а народ будет расплачиваться за погружение в слепое прошлое там, где необходимо особое обновляющее усилие.
История современной цивилизации убедительно доказывает, что она неосуществима без помощи государства и его организованного потенциала.
Кто в эту эпоху стремительного развития парализует и разрушает государство, тот лишает народ единственной возможности удержаться на поверхности истории.
И больше, чем в какое-либо другое время, государство сегодня необходимо народу для того, чтобы не отставать от других стран.
Я это пишу, ибо беззаботные дамы, занимающиеся насаждением мессианства, делают что могут, чтобы противопоставить государство народу или государство — родине. Так или иначе, но главная их задача — из мышления современных поляков вычеркнуть государство как первостепенный и незаменимый признак организованной нации.
«Народ должен находиться под присмотром миссионеров и ждать чудес, демонстрируя, насколько это возможно, свое отвращение к государственности». Если бы кто-нибудь хотел создать сатанинский план самоуничтожения какого-либо общества, он наверняка не смог бы придумать ничего лучшего. Впрочем, в нем нет ничего оригинального, еще Фридрих Великий (совместно с Екатериной II) придумал все это для уничтожения Польши руками ее слабоумных жителей, играя на их атавистических слабостях, развивая отвращение к центральной власти, парализуя попытки организовать сильное и объединяющее весь народ государство.
Позже, когда Польша была уже разделена, продолжателем этой хитрой тактики стал Бисмарк. Он умело разыгрывал повстанческую горячку, толкая поляков на непродуманные порывы и разжигая польско-русскую вражду.
Без особого труда можно и сегодня найти протоптанные дорожки, ведущие неразумных поляков в объятия этой лукавой политики. И сегодня заядлые традиционалисты, демонстрируя свою антипатию к государству, могут рассчитывать на ласку и разные формы деликатной поддержки у наследников Фридриха и Бисмарка, терпеливо выращивающих те же плоды в надежде на то, что они сами упадут и сгниют.
По сравнению с такой изощренной политической традицией, умеющей составлять планы на годы вперед, а ежедневно последовательно, терпеливо и дальновидно создавать для этого необходимые предпосылки, традиция народа, не любящего государственности и от этого якобы становящегося более сильным и чистым духом, является мыльным пузырем, могущим волновать только умы, не способные трезво мыслить.
И действительно, поразителен инфантилизм людей, недавно еще трезвых и разумных, которые попали в плен такого мышления. Невероятные идеи, с какими они вылезают, гениальные рецепты на любой случай, попытки, не стесняясь, перекраивать мировую систему, отводить от себя опасность при помощи заклинаний — все это свидетельствует об отсутствии дисциплины мышления и о ребяческом погружении в легенду.
Миссионерские нравы — анафемы и канонизации
Создание мифов стало основной формой психической и интеллектуальной жизни кругов, охваченных духом мессианства. Оно вытесняет нормальное мышление, приводя к тому, что любая сплетня или фантасмагория, даже самая вздорная и нелепая, находит некритичный и пылкий прием, причем независимо от уровня образования людей, свято в них верящих.
Ежедневные контакты этих людей сводятся к подогреванию друг у друга то возмущения, то возбуждения, чему, как правило, служат слухи. Есть ли в слухах правда — не имеет никакого значения, и напрасно было бы ее доискиваться, ибо правда может быть только двух видов — возмутительная или возбуждающая. Что не является одним или другим, не может быть правдой. А поскольку реальность чего-либо зависит исключительно от потребностей их миссионерской деятельности, заранее отвергающей любую истину, люди, которыми овладел дух мессианства, замыкаются в созданном ими мире.
Слух или мнение, однажды пущенное в обращение, никогда не подвергается сомнению в результате сопоставления с действительностью, а как бы становится вечным источником питания для двух основных видов эмоций. Стереться может, и чаще всего стирается, конкретное содержание сплетни, а то, ради чего она
рождается, остается в качестве неисчерпаемого горючего для подстегивания состояния возмущения. Все, о чем сплетничают, что проповедуют или пишут люди, живущие в миссионерских кругах, — всегда лишь эманация этих двух состояний.
Миссионеры, естественное нравственное состояние которых — вечное возмущение вкупе с исступленным восторгом, а соответственно и самые ужасные анафемы одновременно с шумными канонизациями, по этим причинам отрицательно относятся к государству.
Государство в глазах миссионеров является конкурентом, ибо стремится иметь собственную иерархию ценностей, определяемую той ответственностью, какую оно на себе несет. Другое дело, способно ли оно выполнить стоящие перед ним задачи. Кроме того, польское миссионерство либо потрясало устои государства, обычно настолько слабого и недееспособного, что оно вынуждено было ему бессильно повиноваться, либо, как это случилось после раздела Польши, когда система власти стала чуждой народу, становилось духовным заменителем государства, взяв на себя часть его прерогатив. Эту функцию оно выполняло совместно с искусством и литературой, которые, в свою очередь, по-своему пропитывались духом миссионерства, часто находящегося в непримиримом противоречии с религиозными канонами. Из этих источников, близких друг другу, хотя и не идентичных, вырастала традиция борьбы с государством как с грозным конкурентом.
В период, когда польский народ имел собственный государственный организм, это была бесславная и вредная ориентация, усиливающая ослабление страны. В период рабства, обогащенная национально-освободительным содержанием и включившая в себя различные направления прогрессивной мысли, она показала себя с другой стороны, внесла в нашу историю труды и деяния, без которых мы были бы намного беднее.
В межвоенные годы, оказавшись господствующей в государстве, частично в светском, частично в духовном виде, она стала тормозящим фактором, уменьшающим шансы народа в соревновании со странами, освободившимися от церковного влияния. Трагическим финалом этой ориентации, застывшей на уровне прошедших столетий, был жертвенный огонь варшавского восстания.
Попытки, которые предпринимаются сегодня для оживления призрака, блуждающего по нашей истории и приносящего гибель каждому польскому государству, попытки, направленные на то, чтобы еще раз парализовать его под предлогом борьбы с чужеземной властью, должны тревожить поляков. Ибо под похищенными символами, создавая видимость продолжения освободительной борьбы, их пытаются лишить исторического завоевания, каким является жизнь в суверенной стране. И что бы ни говорили, это незаменимое благо, о котором можно сказать словами поэта: «Тот дорожит тобой, как собственною кровью, кто потерял тебя!»
[154]
Независимо от того, что руководит действиями этих людей, ни во что не ставящих польскую государственность, — глупость, высокомерие, злой умысел или все эти факторы, вместе взятые, — они поступают безнравственно по отношению к идее независимости, на которую постоянно ссылаются, ибо подрывают суверенитет государства.
Как уже много раз происходило в нашей бесславной истории, они выступают за далеко идущую зависимость от своих западных хозяев, не считая ее предательством национальных интересов, а в то же время не признают польским государство, которое, исходя из абсолютно правильного понимания собственных интересов, связывает себя системой двусторонних отношений с Востоком, в корне меняющей характер традиционного польского влечения на Запад.
Так вот, отсутствие угрызений совести по отношению к одной стороне и инквизиторский подход к другой привели к полной аберрации всей их морально-политической бухгалтерии. Они открыто и бесстыдно игнорируют главную суть поступка, оценивая его в зависимости от того, за кого или против кого он направлен. Действия, которые общепринятые нормы считают позорными и вероломными, такие, как политическая продажность, нарушение элементарных принципов лояльности по отношению к государству, сознательное пасквилянтство, воспринимаются ими как поступки обычные, а иногда даже почетные, если они направлены против государства и согласованы с акциями Запада.
Аберрация в этой области дошла до того, что чем более позорным является политический поступок с общепринятой точки зрения, тем более безупречное моральное свидетельство немедленно выдается ему сторонниками вышеупомянутой ориентации.
С другой стороны, логичные и достойные начинания, предпринимаемые самым добросовестным образом в интересах составляющего одно целое народа и государства, обещающие обнадеживающие результаты, смешиваются с грязью инквизиторски настроенной чернью как отступнические и продажные.
Эти морально-политические манипуляции, с помощью которых пытаются повернуть национальное наследие против государственной формы существования народа, причиняют народу невозместимый ущерб, и их можно расценивать только как самое тяжкое преступление.
В период, требующий от каждого общества более высокого уровня организации, народ может себя продолжать только через государство, а государство как организационная форма его воли должно поддерживаться пониманием необходимости преемственности.
Кто выкапывает ненавистную пропасть между национальным самосознанием и формой, в которой оно может продолжаться, тот сталкивает народ с пути развития на уровень бесплодной этнической общины, становящейся бессильной и озлобленной, погружающейся во все большую безнадежность.
Кто внушает народу, что он не должен меняться, а все чувства ему следует отдать «самокультивированию», тот приговаривает его к историческому увяданию, к превращению в коллективный скансен
[155], питающийся одновременно гордостью и подаянием.
Национальное самосознание плохо сохраняется без обогащающего его развития, а развитие в настоящее время невозможно без собственной государственности.
Вовсе не те, кто постоянно воскуривает фимиам перед одними и теми же алтарями, способствуют сохранению национального самосознания. Постоять за себя оно может только будучи изменчивым, отвечающим требованиям времени. Современность бросает полякам вызов. Они должны отстоять свое государственное существование между Бугом, Одрой и Нысой при помощи современного хозяйствования, превратив свою страну в здоровый и сильный организм, приносящий удовлетворение его гражданам и высоко ценимый как партнер в своей, социалистической части мира.
Все, что способствует продвижению поляков вперед на этом пути, укрепляет их национальное самосознание. Все, что их с этого пути возвращает назад, делает их игрушкой в руках судьбы.
Чего стоит национальное самосознание людей, провозглашающих себя гордо светящимися алтарями родины, но в то же время избравших жизнь в зоне с более привлекательной валютой? Можно понять их влечение, но пусть они не лгут, что способствуют сохранению национальной субстанции. Национальную субстанцию умножают те, кто живет на тяжело заработанные злотые, может быть даже горькие и девальвированные.
Попытка избежать жизни в системе злотого, независимо от того, под видом внешней или внутренней, политической или экономической эмиграции она совершается, означает ослабление сил национального организма и поэтому лишает морального права выступать от его имени.
Между тем громче всего кричат о нем самые активные ловцы валют, с давних или недавних пор живущие в сфере, не зависящей от судьбы злотого. Свободные от забот по поводу его платежеспособности, удобно устроившиеся сбоку, они с презрением глядят на государство злотого, обвиняя его в непольском происхождении и освобождая себя от обязанности быть лояльным.
Быть или не быть?
Незначительное, сложившееся в результате исторических случайностей положение, которое занимает в польском сознании идея государственности, должно быть укреплено именно сейчас, независимо от той или иной формы государственного строя, поскольку это последний исторический момент, когда поляки могут наверстать свое опоздание, стать, как другие, народом государственным. Достичь равенства в этом смысле с другими народами, развивающими с давних пор государственную этику, — это сегодняшнее «быть или не быть» польского народа.
Он не попадет в качестве активного члена международного сообщества на страницы истории следующего века, если сопротивление традиционализма задержит развитие польской государственности.
Традиционализм внушает отвращение к государственности, заявляя, что она приведет к всеобщей бюрократической национализации, а национализация, в свою очередь, — к внешней зависимости. Он метит в воспаленные и больные места, но только для того, чтобы усилить боль и задержать процессы лечения.
История — это не универмаг, где можно свободно себе выбирать разные методы организации государства. Она для этого создает кратковременное стечение обстоятельств, молниеносно улетучивающиеся возможности, как при покупке в магазинах во время кризиса. История вообще является непрекращающимся кризисом, из которого целым выходит тот, кто умеет пользоваться недолгими и неповторяющимися оказиями.
Два раза в течение XX века история вернула Польше ее государственность. В первый раз она оказалась бурной и недолговечной, вторую нужно тем более уважать, несмотря на то, — а может быть, именно потому, — что она была создана не в результате широкого выбора в роскошном универмаге истории. Восстановление, а вернее строительство государственности в ее организаторско-хозяйственной форме история соединила в Польше с национализацией, и в общем-то вряд ли могло быть иначе. У нас было не скопление фабрик и капиталов, готовых к вложению, а сожженная и пустая равнина, на которой только благодаря вмешательству государства, сумевшего объединить усилия всего народа, можно было построить что-то с большим размахом.
Допущенные перегибы — национализация каждого клочка земли, идущее вслед за этим разрастание бюрократизма, вмешивающегося в любые детали, — со временем сделали заметной назойливость государства как всесильного аппарата, с чиновничьей бездушностью парализующего любую рождающуюся общественную инициативу.
Отвергая административную монополию правления как переходную и полностью выработанную, нельзя забывать, что без ее участия вообще не было бы зачатков промышленности, но прежде всего нельзя временные эксперименты, которые являются неизбежным этапом развития, использовать для пропаганды идеи антигосударственности.
История предопределила, что модернизация польского общества проходит вместе с развитием польской государственности, и эти процессы нельзя отделить друг от друга. Либо мы будем продолжать развивать их только вместе, либо придем к катастрофе.
Либо общество поддержит социалистическую государственность и вместе с ней будет развиваться до уровня современных форм коллективного существования, либо, парализуя ее, вернет себе роль потерянной и беспомощной массы, населяющей свою этническую территорию.
Стремление держаться в стороне от усилий государства, направленных на развитие своего потенциала, можно оценить как самообкрадывание общества, как лишение его единственного реального национального шанса.
Правда, случалось, что государство отталкивало от себя достойных и порядочных людей. История глупости в Польше имеет на своем счету не только мессианско-сарматское бессмыслие, но иногда и грубый обскурантизм власти. Однако фальшивым является подстрекательское мнение, что государство навязано полякам, а обскурантизм — его органическая черта.
Аппарат власти у нас был и будет отражать такой морально-интеллектуальный уровень, до которого дошло польское общество, решившее строить свое государство. Национальной драмой является не характер существующей власти, а факт, что постоянно мобилизуются силы для ограничения ее общественной базы, нарушения естественного отбора людей. На негативный подбор кадров имеют право жаловаться только те, кто признает характер государства. Нельзя одновременно стоять в стороне и сетовать, что внутри появляются неподходящие люди.
Если бы наши образованные круги проявляли большую солидарность с государством и были способны выдержать трудные испытания, государство, без сомнения, было бы более здоровым, совершенным и современным.
Кто вынуждает государство защищаться перед заговором внутренних и внешних врагов, тот не может предъявлять претензии к тому, что демократия развивается недостаточно быстро.
Солидарное стремление защитить государственность в самых широких кругах граждан — это элементарное условие того, чтобы в методах осуществления власти могли проходить позитивные изменения.
Государство может изменяться настолько, насколько созревает и меняется народ.
Исторической мистификацией является утверждение, что самыми здоровыми и стойкими были те общественно-государственные организмы, которые подчинялись стихийным влечениям своих граждан. Таким организмом была шляхетская Речь Посполитая, и тем, что в самом деле привело ее к гибели, было бессилие центральной государственной власти перед победившей ее стихией. Польское государство шляхты не успело вовремя и достаточно успешно изменить способ мышления консервативной массы, неспособной понять элементарные истины.
Везде там, где былые сообщества успешно организовывались в современные государства, государство становилось фактором, прививающим законы гражданского мышления и поведения. После короткого стажа межвоенных лет мы с опозданием начинаем учиться только в социалистической государственности.
Это государственность иного поколения, чем национальные государства прошлых столетий. Его от них отличает не только народный характер, но и то, что еще на заре своего существования оно заявило о принадлежности к наднациональному содружеству. И это не какая-то польская специфика. Это закон послевоенного устройства мира, в котором тип несблокированного государства сохраняется только на его периферии, в то время как на центральных политических путях сформировались противостоящие блоки. Сеть их внутренних связей тем сильнее, чем ближе они находятся к невралгической линии, разделяющей политические блоки. Старые определения государственной независимости потеряли свое значение в той же степени по отношению к Польше, в какой с противоположной стороны по отношению к ФРГ и другим «прифронтовым» странам Атлантического пакта.
Везде наблюдается та же самая зависимость внешних связей от солидарной политики блока при сохранении суверенитета на своей территории.
Традиционное понимание независимости стран становится относительным также и в результате экономических процессов, которые при капиталистической системе проникают через границы, как грунтовые воды с управляемыми приливами и отливами, усиливающими внешне незаметную зависимость. А в системе социалистической экономики они проходят в рамках плановой интеграции.
Мы вновь обрели государственность в мире, подверженном интеграции независимо от границ, в котором наиболее самостоятельные страны опоясаны густой сетью взаимозависимости, а суверенитет укрепляется прежде всего при помощи растущего экономического потенциала. Примером могут служить несколько стран, оккупированных после второй мировой войны и до сегодняшнего дня имеющих на своей территории иностранные базы, которые доставляют им все больше неприятностей. Так вот эти страны лишь благодаря своим экономическим достижениям принадлежат к числу крупнейших мировых держав — может быть, хоть этот пример чему-нибудь нас наконец научит.
Он должен, прежде всего, научить нас тому, что давние польские дилеммы, выступающие под все еще шелестящими знаменами романтической или позитивистской ориентации, являются анахронизмом в современном мире, а людям, которые хотят их снова инсценировать, место уже исключительно в музее восковых фигур.
Грустно смотреть на то, что фигуры, которые должны находиться в музеях среди экспонатов далекого прошлого, иногда благородного, а иногда и малопоучительного, как призраки возвращаются на общественную сцену.
С их помощью пытаются возродить давно уже заигранный репертуар, пользуясь тем, что польская психика имеет большое пристрастие к историческим привидениям, посылающим ей свои секретные депеши из глубины национальной истории.
Однако все эти выдающиеся исторические личности, покровительствующие в течение столетий нашим судьбам, вероятно, предпочли бы не оставлять ни одного слова и не совершать никакого подвига, если бы они могли увидеть, для каких жалких целей используется их patrimonium. Если бы Костюшко, Мицкевич или Словацкий узнали, что их наследие используется жульническим образом для того, чтобы уничтожить польскую государственность, вероятно, они предпочли бы не оставлять после себя ничего.
Ибо эти романтики несомненно смогли бы оценить, что значит государство с безопасными границами, само решающее вопрос о национальном и государственном устройстве на своей территории, сохраняющее национальную культуру и обеспечивающее народу статус хозяина, увеличивающее благосостояние и социальную справедливость, — они не позволили-бы предать такое государство, а любого толка мессианство выкинули бы на свалку.
Народу причиняют огромное зло, внушая ему, что его духовное наследие велит противиться его же собственной государственности, которой он добился с таким трудом. Мошенникам, которые увиваются вокруг этого дела, будущее когда-нибудь даст соответствующую оценку.
Никого не удовлетворяет ни сегодняшнее состояние государства, ни результаты, которых мы добились. Все, что написано выше, продиктовано переполняющей каждого человека болью, что дом, который мы сами строим, не стал еще домом, в котором приятно жить. Я разделяю многое из того, в чем его критикуют, но в то же время считаю, что если мы хотим сделать его более разумным, более соответствующим нашим запросам, нам нужно больше нормальных колесных мастеров, а меньше бесноватых фанфаронов и мистиков.
Ведь именно от работящих колесников вообще началась наша традиция, или, иначе говоря, национальное самосознание.
Перевод Е. Невякина.
ОБ АВТОРАХ
Анджей Твердохлиб — родился в 1936 г. Учился на механическом факультете Вроцлавского политехнического института. Дебютировал в 1959 г., прозаик, автор сценариев художественных и телевизионных фильмов. Издал более 10 книг: романов, сборников, повестей и рассказов. Лауреат премий Министерства культуры и искусства ПНР, Центрального совета профсоюзов и города Гданьска, член Главного правления и председатель Гданьского отделения Союза польских писателей.
Ярослав Ивашкевич (1894—1980) — выдающийся польский писатель, лауреат международной Ленинской премии, автор романов («Красные щиты», «Хвала и слава»), рассказов, воспоминаний, монографий о Ф. Шаляпине, И. С. Бахе, многочисленных книг стихотворений.
Войцех Жукровский — родился в 1916 г. Учился в Ягеллонском университете в Кракове, во время войны — участник антифашистского подполья, с 1944 г. — офицер Войска Польского, в 1953—1954 гг. — военный корреспондент во Вьетнаме. Один из самых популярных польских писателей. В 1943 г. в подполье издал первый сборник поэзии «Ржавчина». Автор многих романов, повестей, рассказов («Дни поражения», «Каменные скрижали», «Запах собачьей шерсти», «Счастливчик» и др.). Лауреат Государственных премий, награжден высшей польской наградой — орденом «Строитель народной Польши». Председатель Главного правления Союза польских писателей.
Эдгар Милевский — родился в 1927 г. в Гданьске, Окончил Варшавский университет, работал журналистом на Гданьском радио и на телевидении. Одиннадцать лет был главным редактором журнала «Литеры», затем директором гданьского издательства «Оссолинеум».
Константы Ильдефонс Галчиньский (1905—1953) — выдающийся польский поэт, автор ставших уже классическими поэтических произведений, в том числе поэм «Конец света» (1930 г.), «Ниобея» (1951 г.), «Вит Ствош» (1952 г.) и др.
Зигмунт Вуйчик — родился в 1935 г. Закончил исторический факультет Варшавского университета. Первые стихи опубликовал в 1959 г. Автор десяти поэтических и прозаических книг. Лауреат многих литературных премий ПНР. В настоящее время является заместителем председателя Главного правления Союза польских писателей.
Эдвард Куровский — родился в 1927 г. В 1940—1941 гг. находился в СССР. В 1944 г. вступил в ряды Красной Армии, с 1945 г. служил в Войске Польском. Закончил факультет педагогической психологии Вроцлавского университета. В 1949 г. опубликовал роман «Панкратов остров». Автор многих прозаических книг («Смерть боксера», «Шаги в одиночество», «Высокое небо» и др.).
Анджей Пшипковский — родился в 1930 г. Первые статьи опубликовал в 1960 г. Автор 17 романов и повестей («Где-то во Франции», «Нет завтра в Сен-Назере», «Танец марихуаны», «Одержимые»), член Национального совета культуры ПНР.
Франчишек Фениковский — родился в 1922 г. Закончил факультет польской филологии Познаньского университета. С 1948 г. живет в Гданьске. Работал редактором журнала «Рейсы», в течение нескольких лет был председателем Гданьского отделения Союза польских писателей. Первые стихи опубликовал в 1945 г. Автор многих поэтических и прозаических книг, пьес, критических статей.
Войцех Витковский — родился в 1939 г. Учился в Высшей педагогической школе в Гданьске, работал учителем, затем журналистом в еженедельнике гданьских кораблестроителей «Глос сточневца». В 1959 г. стихи В. Витковского впервые прозвучали по польскому радио. В 1966 г. вышла первая книга стихов «Гобелены и день». Является автором многих поэтических и прозаических книг.
Мечислав Чиховский — родился в 1931 г. Поэт и художник. Закончил живописный факультет Государственной высшей школы изобразительных искусств в Гданьске. Автор пяти поэтических сборников и ряда статей об искусстве.
Леслав Фурмага — родился в 1933 г. Закончил факультет морского рыболовства Высшей сельскохозяйственной школы в г. Щецине. Работал на рыболовных и научно-исследовательских судах. Преподавал в Высшем мореходном училище в Гдыне. Начал печататься в 1966 г. Прозаик, автор книг для детей и киносценариев. Выпустил в свет 7 книг, большинство из которых получили различные литературные премии.
Анджей Гжиб — родился в 1952 г. Закончил факультет польской филологии Гданьского университета. Автор трех поэтических книг: «Краем леса», «Близлежащий пейзаж» и «Всегда».
Янина Сошиньская — родилась в 1914 г. После второй мировой войны переехала в Гданьск. В течение многих лет работала учительницей, в настоящее время — на пенсии. Стихи начала писать в возрасте 58 лет. Первая книга «Забелить память» вышла в 1978 г. Автор трех поэтических сборников.
Анджей Васькевич — родился в 1941 г. Закончил факультет польской филологии Познаньского университета. Первые поэтические произведения опубликовал в 1961 г. Автор 15 книг стихов, прозы, критических и литературоведческих работ. Член Главного и Гданьского правлений Союза польских писателей.
Станислав Залуский — родился в 1929 г. Закончил факультет морского строительства Гданьского политехнического института. В 1960 г. вышла в свет его первая книга — сборник рассказов «След на асфальте». Является лауреатом различных литературных премий, автором многих прозаических книг, в том числе и для детей.
Яцек Котлица — родился в 1939 г. На Гданьском побережье живет с 1945 г. Автор поэтических сборников и романа «Вороний глаз».
Влодзимеж Антковяк — родился в 1946 г. Автор 4 прозаических и поэтических книг: «Я перехожу на стадион тех, которые тебя любили», «Однажды в вышине», «Зачем эти свисты», «Брат всех».
Ян Пепка — родился в 1926 г. Прозаик и поэт, автор нескольких романов и книг для детей. Стихи пишет по-польски и на кашубском наречии. Автор киносценариев, в кино выступал также в качестве актера. Является членом Национального совета культуры ПНР.
Кшиштоф Камиль Штольц — родился в 1951 г. Закончил факультет польской филологии Гданьского университета. Автор трех поэтических книг: «Больницы», «Реквием для поэта», «Ты сейчас существуешь». Занимается также литературной критикой.
Эдмунд Косяж — родился в 1929 г. В 1951 г. закончил офицерскую военно-морскую школу, тогда же начал писать рассказы. Закончил исторический факультет Торуньского университета. В 1960—1969 гг. работал в Главном штабе Военно-морского флота ПНР. С 1970 г. занимается литературным трудом, является автором многих книг о моряках, пишет киносценарии.
Роман Ляндовский — родился в 1937 г. Автор поэтических и прозаических книг. Роман «Приговор у всех святых», изданный в 1985 г. в Катовицах, получил первую премию на конкурсе, посвященном 40-летию народной Польши. По профессии библиотекарь, в настоящее время работает директором библиотеки в г. Тчеве.
Казимеж Радович — родился в 1931 г. Журналист, заместитель главного редактора Гданьского радио. Автор 7 книг (в том числе изданного в СССР романа о защитниках Вестерплатте в 1939 г.), пьес, кино- и телесценариев.
Станислав Гостковский — родился в 1948 г. Закончил факультет польской филологии Гданьского университета. Является автором трех поэтических сборников: «Не хороните меня живым», «Исключительно твой личный вопрос» и «Марш гладиаторов».
Ежи Генрик Камровский — родился в 1953 г. Автор двух поэтических сборников: «Приближение» и «Кто-то без или с множеством лиц».
Анджей Василевский — родился в 1928 г. Закончил факультет польской филологии Варшавского университета. В 1948 г. дебютировал рецензией на роман Я. Ивашкевича «Красные щиты». Литературовед, критик, публицист, общественный и партийный деятель. Автор многих книг («История польской литературы», «Цивилизация и литература», «Паспорт в Италию», «Восток, Запад и Польша» и др.).


Примечания
1
Одна из гданьских башен. (Здесь и далее примечания переводчиков.)
(обратно)
2
Местность в районе Гданьска.
(обратно)
3
Пясты — польская королевская династия, происходившая согласно преданию от вождя племени полян Пяста. Вначале Пясты были князьями, с 1025 года — королями.
(обратно)
4
Зигмунт Август (Сигизмунд II Август) (1520—1572) — польский король, способствовал развитию мореходства. Его статуя водружена на Ратушу Гданьска.
(обратно)
5
Иоанна Шопенгауэр — мать философа Артура Шопенгауэра (1788—1860), происходила из семьи зажиточных гданьских горожан, противница прусского господства в Гданьске.
(обратно)
6
Намек на изображение орла в польском гербе.
(обратно)
7
Мотлава — один из рукавов Вислы.
(обратно)
8
Радуня — приток Мотлавы.
(обратно)
9
Войцех (955—997) — епископ, пытался крестить жителей Балтийского побережья.
(обратно)
10
Болеслав Храбрый (967—1025) — польский князь, затем король (1025); при нем в Польше вводилось христианство.
(обратно)
11
Локетек (Локоток), Владислав (ок. 1260—1333) — польский князь, затем король Владислав I. Боролся с Тевтонским орденом, которому удалось завоевать Балтийское побережье.
(обратно)
12
Белый орел — герб Польши.
(обратно)
13
Так называемое «Королевство Польское» образовано в 1815 году, входило в состав Российской империи.
(обратно)
14
Имеется в виду период с 1772 по 1793 год, между первым и вторым разделами Польши.
(обратно)
15
Ян III Собеский — полководец и польский король (1674—1696).
(обратно)
16
Гевелий, Ян (1611—1687) — известный польский астроном.
(обратно)
17
Выбицкий, Юзеф (1747—1822) — поэт и политический деятель, автор польского национального гимна.
(обратно)
18
Харцеры — члены молодежной организации в довоенной Польше (1926—1939). В народной Польше были продолжены наиболее прогрессивные традиции харцерства. Ныне харцерская организация соответствует пионерской организации в СССР.
(обратно)
19
Вестерплатте — полуостров у входа в Гданьский порт, где до 1939 года размещался небольшой польский гарнизон.
(обратно)
20
Световит — языческое изваяние в виде столба с четырьмя ликами.
(обратно)
21
Домбровский, Ян Генрик (1755—1818) — генерал и политический деятель, в эпоху наполеоновских войн создатель польских легионов.
(обратно)
22
Налковская, Зофья (1884—1954) — польская писательница, автор сборника «Медальоны» о преступлениях немецкого фашизма.
(обратно)
23
Одним из первых объектов атаки немецких фашистов 1 сентября 1939 года был именно Гданьск.
(обратно)
24
Двор Артуса считается одним из красивейших особняков Гданьска.
(обратно)
25
На текст «Присяги» Марии Конопницкой.
(обратно)
26
Красное и белое — цвета польского национального флага.
(обратно)
27
Пан Тадеуш, IV, 823.
(обратно)
28
Ян из Кольна — легендарный польский мореход XV века; согласно некоторым предположениям, побывал в Америке раньше Христофора Колумба.
(обратно)
29
Лелевель, Иоахим (1786—1861) — известный польский историк и общественный деятель.
(обратно)
30
Деотима-Лущевская, Ядвига (1834—1908) — польская писательница.
(обратно)
31
Дантышек, Ян (1485—1548) — поэт и государственный деятель.
(обратно)
32
Фальк, Иеремиаш (1619—1670) — график и гравер.
(обратно)
33
Ходовецкий, Даниель (1729—1801) — художник.
(обратно)
34
Линде, Самуэль (1771—1847) — филолог, автор «Словаря польского языка».
(обратно)
35
Здесь и ниже — перевод С. Свяцкого.
(обратно)
36
Гомулицкий, Виктор (1848—1919) — польский писатель.
(обратно)
37
Крашевский, Юзеф Игнацы (1812—1887) — польский писатель.
(обратно)
38
Тарновский, Станислав (1837—1917) — историк литературы и общественный деятель.
(обратно)
39
Флисак — сплавщик.
(обратно)
40
Вестерплатте — полуостров у входа в Гданьский порт. 1—7 сентября 1939 года польский гарнизон Вестерплатте (182 человека) героически сражался с превосходящими силами немецко-фашистской армии и флота. В 1966 году на Вестерплатте установлен памятник участникам героической обороны.
(обратно)
41
Schuhwerkommando — команда по проверке износа обуви
(нем.).
(обратно)
42
Фашистские военные преступники — комендант Освенцима, надзирательница в женском концлагере, один из организаторов уничтожения евреев.
(обратно)
43
Язычковый ударный инструмент — стальная пластинка с прикрепленными к ней двумя шариками. Изобретен в 1920-х годах.
(обратно)
44
В 1919—1921 годах в Верхнем Шлёнске (Верхняя Силезия), оставленном по Версальскому мирному договору за Германией, произошли три восстания, участники которых боролись за присоединение Шлёнска к Польше.
(обратно)
45
Фашистский военный преступник, «врач-убийца», как его называли заключенные, проводивший в концлагерях опыты над людьми.
(обратно)
46
Театр Ройял Корт.
(обратно)
47
Биркенау — концлагерь, находившийся неподалеку от Освенцима. Польское название Биркенау — Бжезинка.
(обратно)
48
Politische Abteilung
(нем.) — политический отдел.
(обратно)
49
Schreibstube
(нем.) — канцелярия.
(обратно)
50
Имеется в виду библиотека Ягеллонского университета в Кракове.
(обратно)
51
Фрагмент автобиографической повести «Где мой дом?».
(обратно)
52
Sklep
(польск.) — магазин.
(обратно)
53
Фрагмент романа «Отступление».
(обратно)
54
Geh nach Hause, nach Hause…
(нем.) — Иди домой, домой…
(обратно)
55
Feldgrau
(нем.) — защитный.
(обратно)
56
Volkssturm
(нем.) — ополчение.
(обратно)
57
Mensch
(нем.) — человек.
(обратно)
58
Щит Собеского — бывшее название одного из созвездий.
(обратно)
59
Raus
(нем.) — вон!
(обратно)
60
Керцеляк — рынок в довоенной Варшаве.
(обратно)
61
Прага — одно из предместий (теперь районов) Варшавы.
(обратно)
62
Район Варшавы.
(обратно)
63
Серия детективных передач по польскому телевидению.
(обратно)
64
Одна из высших наград в ПНР.
(обратно)
65
ССМ — Союз социалистической молодежи.
(обратно)
66
Политико-экономический кризис 1980—1981 годов.
(обратно)
67
22 июля празднуется День возрождения Польши — образование Польской Народной Республики.
(обратно)
68
Игра в кости.
(обратно)
69
Судно для перевозки грузов по любым направлениям (не на определенных линиях).
(обратно)
70
Цистерны, баки в танкере, приспособленные для перевозки жидких грузов без тары.
(обратно)
71
Желоба вдоль судна в нижней части трюма для стекания воды.
(обратно)
72
Визель
(нем.) — ласка, увертливый хищный зверек.
(обратно)
73
Народове силы збройне (НСЗ) были образованы во время оккупации, в 1942 году, в результате объединения крайне правых организаций: довоенной фашистской группировки Национально-радикальный лагерь (НРЛ) и части Национальной военной организации, подчиненной шовинистической Национальной партии. Внутри НРЛ действовала строго засекреченная Польская организация (ПО). В ней было несколько степеней посвящения. Политический комитет ПО состоял из членов НРЛ высшей степени посвящения и фактически являлся руководителем всей организации, в которой позже были созданы также тайные ячейки военной организации, называемой «Союз ящериц». Члены тех же ячеек вошли в состав НСЗ.
В марте 1944 года заключен договор об объединении между главным командованием Армии Крайовой и командованием НСЗ.
Крайне правая часть организации отказалась подчиниться командованию Армии Крайовой и продолжала действовать самостоятельно, сформировав, в частности, Свентокшискую бригаду. Отряды так называемого «специального действия» совершили множество убийств деятелей ППР, бойцов Гвардии Людовой и Армии Людовой, радикальных деятелей Крестьянской партии, советских партизан и пленных, бежавших из гитлеровских лагерей.
Часть руководства НСЗ была тесно связана с гестапо. Гитлеровские власти старались использовать фашистские звенья организации для борьбы со всем польским движением Сопротивления. С этой целью шеф гестапо Радомского округа Пауль Фукс подготовил тайный план, зашифрованный в гестапо как «Операция „Визель“». При реализации этого плана была использована, в частности, Свентокшиская бригада.
(обратно)
74
Хауптштурмфюрер Альтман был во время гитлеровской оккупации шефом гестапо в Пётркове Трыбунальском и близким сотрудником Пауля Фукса. Фукс в то время, в частности, руководил непосредственно борьбой с польским движением Сопротивления (сектор IV A), а также разведкой и проникновением в ряды движения Сопротивления (сектор IV).
(обратно)
75
Полиция безопасности.
(обратно)
76
Позже, уже в Западной Германии, точнее в американской оккупационной зоне, по инициативе штаба Свентокшиской бригады была издана книжка безымянного автора «На марше и в бою», иллюстрированная фотографиями. Должен признаться, что не без труда, после долгих поисков, удалось мне раздобыть экземпляр этого «шедевра». Я был по меньшей мере шокирован цинизмом и наглостью автора, читая лживое описание «боевого пути» бригады под предводительством атамана-фашиста, особенно описания форсирования реки (ведь кое-что об этих событиях мне было известно и из других источников) и «героического прорыва» через линию немецкого фронта.
(обратно)
77
Степан Бандера был националистическим украинским деятелем. За участие в убийстве министра Б. Перацкого был приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением. В период гитлеровской оккупации Бандера сотрудничал с немцами. Был одним из руководителей организации украинских националистов. На территории Генерального губернаторства организовал Украинский легион, который использовался для борьбы против Советского Союза. В 1943—1944 годах был одним из руководителей Украинской повстанческой армии (УПА), боровшейся с советским и польским партизанским движением. УПА совершала массовые убийства поляков. Бандера в 1945 году сбежал в Западную Германию. Умер при невыясненных обстоятельствах в 1959 году в Мюнхене. После войны члены УПА использовались западными разведками для диверсионно-разведывательных акций против Польши и Советского Союза.
(обратно)
78
Schadenfreude
(нем.) — злорадство.
(обратно)
79
Династия первых польских королей, правящих с IX века до 1370 года.
(обратно)
80
Династия польских королей (1386—1572).
(обратно)
81
Мешко I (?—922) — первый исторически достоверный польский князь из династии Пястов. В правление Мешко I начало складываться польское государство. Ввел христианство (в 966 году) по латинскому образцу.
(обратно)
82
Магдебургское право — одна из наиболее известных систем феодального городского права — с конца XII века стало юридическим образом для германских, а затем польских городов.
(обратно)
83
Владислав I Локетек (ок. 1260—1333) — польский король с 1320 года.
(обратно)
84
Анжуйская династия — королевская династия в Англии (1154—1399), Южной Италии (1268—1442), Сицилии (1268—1282, номинально 1266—1302), Венгрии (1308—1387), Польше (1370—1382 и 1384—1385).
(обратно)
85
Малая Польша — историческая область Польши в бассейне верхнего и среднего течения Вислы с центром в Кракове.
(обратно)
86
Ягелло (Ягайло), Владислав (ок. 1350—1434) — великий князь Литовский, с 1386 года — польский король. Основатель династии Ягеллонов.
(обратно)
87
Грюнвальдская битва 15 июля 1410 года, окружение и разгром войск немецкого Тевтонского ордена польско-литовско-русской армией под командованием Владислава II
Ягелло.
(обратно)
88
Польско-литовская уния — союз Польши с Литвой в XIV—XV веках.
(обратно)
89
В состав Великого Княжества Литовского в XIII веке вошли западные и юго-западные русские земли.
(обратно)
90
Корона — польское королевство как часть польско-литовского государства.
(обратно)
91
Сигизмунд (Зигмунт) II Август (1520—1572) — польский король, вел войну с Иваном Грозным.
(обратно)
92
Ваза — шведская королевская династия, в 1587—1668 годах была на польском троне. Первый Ваза — Сигизмунд III (1566—1632) — вел польско-русские войны, захватил Смоленск, Чернигов и др.
(обратно)
93
Контрреформация — церковно-политическое движение в Европе середины XVI—XVII веков во главе с папством, направленное против Реформации. В Польше главную роль в Контрреформации играл орден иезуитов. В результате победы Контрреформации начались преследования представителей других религий, в том числе и православного украинского и белорусского населения. Именно в этот период по инициативе папства Польша была названа Оплотом католического христианства в Восточной Европе.
(обратно)
94
Постоянные войны с Россией, которые Речь Посполитая вела с конца XVI века, закончились в 1667 году подписанием мира в Андрусове. Россия вернула себе захваченные ранее поляками смоленские и черниговские земли, часть Украины вошла в состав Русского государства.
(обратно)
95
Кампоформио — местность на северо-востоке Италии, где в 1797 году был подписан договор, завершивший победоносную для республиканской Франции войну против Австрии Он не принес свободы Польше.
(обратно)
96
Люневиль — город в северо-восточной Франции, где в 1801 году после разгрома австрийских войск Наполеоном Бонапартом был заключен договор между Францией и Австрией.
(обратно)
97
Тильзит (в настоящее время — Советск) — город, в котором в 1807 году был заключен договор между Россией и Францией, согласно которому Россия соглашалась на создание Варшавского княжества, а также Францией и Пруссией.
(обратно)
98
1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. Буржуазная Польша, оставшаяся без поддержки своих западных союзников, была разбита фашистской Германией.
(обратно)
99
Барская конфедерация (1768—1772) — созданный в г. Бар вооруженный союз польской шляхты под лозунгом защиты «веры и свободы», провозглашающий возвращение к традициям религиозной нетерпимости.
(обратно)
100
Мицкевич, Адам (1798—1855) — великий польский поэт; Словацкий, Юлиуш (1809—1849) — великий польский поэт и драматург; Мохнацкий, Мауриций (1803 или 1804—1834) — польский критик и публицист, политический деятель, один из главных представителей шляхетской революционной мысли.
(обратно)
101
Ксендз Марек (Яндолович, Марек) (1713—1804) — один из руководителей Барской конфедерации; шляхта считала его чудотворцем и пророком.
(обратно)
102
«Книги польского народа и польского пилигримства» (1832) — поэтическо-публицистическое произведение А. Мицкевича в форме книги молитв, предназначенное для польских эмигрантов.
(обратно)
103
Великая эмиграция — польская политическая эмиграция после ноябрьского восстания 1830 года, названная так из-за выдающейся роли, которую она играла в политической и духовной жизни польского народа.
(обратно)
104
Красиньский, Зигмунт (1812—1859) — выдающийся польский поэт и драматург.
(обратно)
105
Ноябрьское восстание 1830 года в Польше.
(обратно)
106
Заенчек, Юзеф (1752—1826) — польский якобинец, затем генерал, наместник Царства Польского. Царство Польское — название части Польши, отошедшей к России по решению Венского конгресса (1814—1815). Имело автономию в рамках Российской империи, которой лишилось после подавления восстания 1830—1831 годов; Любецкий К. (1778—1846) — министр финансов в Царстве Польском.
(обратно)
107
Князевич, Кароль Отто (1762—1842) — генерал, участник восстания 1794 года, затем в польских легионах, сражающихся на стороне наполеоновской Франции; Домбровский Ян Генрик (1755—1818) — генерал, создатель польских легионов во Франции.
(обратно)
108
Чарторыский, Адам Ежи (1770—1861) — в 1802 году заместитель министра иностранных дел России, затем, с 1833 года, — в эмиграции во Франции.
(обратно)
109
Имеется в виду варшавское восстание против фашистских оккупантов в 1944 году.
(обратно)
110
Апухтин А. Л. (1822—1904) — русский начальник варшавского учебного округа (1879—1897), яростный русификатор польской школы.
(обратно)
111
Имеется в виду польское буржуазное государство, возникшее после первой мировой войны (1918—1939).
(обратно)
112
Польский позитивизм — идейное направление, развивавшееся в Польше в 1864—1890 годах (после разгрома январского восстания 1863 года). Проявлялся главным образом в публицистике (А. Свентоховский, Б. Прус, П. Хмелевский). Романтической, повстанческой идеологии противопоставлялся политический реализм, программа всестороннего экономического развития и просвещения народа.
(обратно)
113
В знак протеста против введения 13 декабря 1981 года военного положения часть оппозиционно настроенной польской интеллигенции пыталась носить траур «по Польше».
(обратно)
114
Самый крупный в ПНР металлургический завод, построенный с помощью Советского Союза.
(обратно)
115
В сентябре 1945 года польские реакционные силы создали подпольную организацию «Объединение свободы и независимости», которая начала диверсионную и террористическую деятельность против народной власти.
(обратно)
116
Территория Польши была разделена (три раздела — 1772, 1793, 1795 годов) между Пруссией, Австрией и Россией. В 1918 году Польша получила независимость.
(обратно)
117
Имеется в виду начавшийся в конце 70-х годов экономический кризис в Польше.
(обратно)
118
Члены тайного патриотического общества польской молодежи в 1817—1823 годах в Вильно.
(обратно)
119
Январское восстание 1863 года, жестоко подавленное царским правительством.
(обратно)
120
Часть оккупированной немецко-фашистскими войсками Польши.
(обратно)
121
Курсанты офицерского училища, нападением на Бельведерский дворец в Варшаве 30 ноября 1830 года начавшие восстание против царизма.
(обратно)
122
Эмиграция после восстания 1830—1831 годов в Польше.
(обратно)
123
Во время фашистской оккупации в Польше в ряде городов (Варшава, Краков и др.) действовали подпольные гимназии и университеты, в которых обучалась значительная часть польской молодежи.
(обратно)
124
Парадигма — пример из истории, взятый для доказательства, сравнения.
(обратно)
125
Экзегет — в Древней Греции — толкователь древних текстов и канонических религиозных книг.
(обратно)
126
Имеется в виду начало второй мировой войны.
(обратно)
127
Журнал, являющийся органом наиболее реакционной части польской эмиграции.
(обратно)
128
Кордиан — герой одноименной трагедии Юлиуша Словацкого; Совинский, Юзеф (1777—1831) — генерал, погиб при защите варшавского района Воля во время штурма царской армией Варшавы в 1831 году; Траугутт, Ромуальд (1826—1864) — генерал, руководитель январского восстания 1863 года, казнен в варшавской цитадели.
(обратно)
129
Junctum
(лат.) — здесь — связь.
(обратно)
130
Виткаций — псевдоним Станислава Игнацы Виткевича (1885—1939), известного польского писателя, художника, философа, теоретика искусства.
(обратно)
131
Гомбрович, Витольд (1904—1969) — польский писатель, автор сатирических и пародийных произведений, с 1939 года — в эмиграции.
(обратно)
132
A priori
(лат.) — независимо от опыта.
(обратно)
133
Барская конфедерация (1768—1772) — вооруженный союз польской шляхты, созданный в г. Бар под лозунгом защиты «веры и свободы», провозглашающий возвращение к традициям религиозной нетерпимости.
(обратно)
134
Темноград — город — символ религиозного мракобесия, придуманный и описанный известным польским публицистом и критиком Тадеушем Бой-Желенским (1874—1941).
(обратно)
135
Забастовка 1980 года.
(обратно)
136
«Конгресс культуры» проходил в декабре 1981 года, на нем антисоциалистические силы выступили с нападками на культуру народной Польши.
(обратно)
137
Книга поэтических и публицистических произведений А. Мицкевича, изданная в 1832 году в Париже.
(обратно)
138
Поэма Юлиуша Словацкого, написанная в 1837 году.
(обратно)
139
Лелевель, Иоахим (1786—1861) — польский историк и политический деятель, известен также как собиратель народных песен.
(обратно)
140
Сарматизм — направление в польской культуре XVI—XVIII веков, оказавшее огромное влияние на быт и нравы, характеризовалось неограниченной свободой шляхты, враждебностью ко всему иностранному, высокомерием, религиозной нетерпимостью.
(обратно)
141
Символическая могилка, сооруженная в Париже в 1982 году в честь распущенного польскими властями профобъединения «Солидарность».
(обратно)
142
Базар Ружицкого — варшавская барахолка.
(обратно)
143
Patrimonium
(лат.) — наследство, наследие.
(обратно)
144
«Ода молодости» — стихотворение А. Мицкевича, в котором он призывает польскую молодежь посвятить свою жизнь служению народу.
(обратно)
145
Словацкий, Юлиуш (1809—1849) — великий польский поэт.
(обратно)
146
Норвид, Циприан Камиль (1821—1883) — польский писатель, художник, скульптор.
(обратно)
147
Легионы — польские вооруженные формирования, созданные на территории Галиции в 1914 году Ю. Пилсудским для участия в первой мировой войне на стороне Австро-Венгрии и Германии.
(обратно)
148
Квятковский, Еугениуш (1888—1974) — инженер, политический деятель, инициатор создания порта в Гдыне и польского торгового флота.
(обратно)
149
Грабский, Станислав (1871—1949) — известный польский экономист, политический деятель.
(обратно)
150
Сентябрьская катастрофа — поражение Польши в войне с фашистской Германией в 1939 году.
(обратно)
151
Имеется в виду варшавское восстание 1944 года.
(обратно)
152
«Тыгодник Повшехны» — краковский католический еженедельник.
(обратно)
153
Absolutum dominium
(лат.) — абсолютная власть.
(обратно)
154
Мицкевич А. Пан Тадеуш.
(обратно)
155
Скансен
(шведск.) — первый в мире этнографический музей под открытым небом, основанный в 1891 году в стокгольмском парке Скансен. В настоящее время общепринятое название этнографического парка.
(обратно)
Оглавление
Два города
Ярослав Ивашкевич
Ода Гданьску
Войцех Жукровский
Гданьск
Эдгар Милевский
О чем рассказывают гданьские улочки
Башни и ворота
Мариацкая
Константы Ильдефонс Галчиньский
Песня о солдатах Вестерплатте[40]
Зигмунт Вуйчик
Жуток этот напев
Эдвард Куровский
Где мой дом?[51]
Анджей Пшипковский
Под нами Висла[53]
Франчишек Фениковский
Ночь над Черным морем
Одра шумит по-польски
На развалинах Гданьска
Погоня
Фуга Баха
Баллада об украденном блюде
Бунт марионеток
В рыбачьем порту
Войцех Витковский
Сад
Ангина
«Состариться достойно…»
Надежда
«Так довольны они…»
«А ты не удивляйся сын…»
«Так только матери уплывших рыбаков…»
«Мы шли к себе…»
«Лес сущий в грибных дождях…»
«Лес сущий во мне…»
Мечислав Чиховский
Археология
На оконном стекле
«Как комната пустая, память…»
Вариации на тему Есенина
Отчизна
Леслав Фурмага
Перевернутый сейнер
Не все идет на слом
Краб
Анджей Гжиб
«Вечерний холодок в долине…»
Тухольские боры
Мадонна
Анджей Твердохлиб
На той стороне улицы
Засекреченный телефон
Точка зрения
Янина Сошиньская
Мечта семилетнего
«Я ношу в себе…»
Анджей Васькевич
Скажу о ладонях
Станислав Залуский
Эти звезды не блистают
Яцек Котлица
В стогу сена
Эпизод
Колыбельная
Там, где всегда
Экскурсия
Берег
Икар — Сент-Экзюпери
Влодзимеж Антковяк
День на озере Грабовец
Ян Пепка
«А я все тот же…»
«Не верю я капле…»
«Держал я кисть рябины…»
Верю
Кшиштоф Камиль Штольц
Воскресенье
Слова
Павшие солдаты
Эдмунд Косяж
Старый знакомый
Роман Ляндовский
Небо плачет
Человек в клетчатой куртке
Напоминание
(Гданьск. 1945)
У моря
Казимеж Радович
Боцман
Станислав Гостковский
Боксер
Мы на устах
Грибы
Автобус
Ежи Генрик Камровский
Не опуская рук
Покой
Мариан Реняк
Операция «Визель»[72]
Об очерках А. Василевского
Анджей Василевский
Восток, Запад и Польша
Народ и государство в период кризиса
ОБ АВТОРАХ
*** Примечания ***




 Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.
Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.
Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.
Сборник, который Лениздат и ленинградские переводчики отдают в руки советских читателей, выходит в свет в год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно в Гданьске должна выйти антология произведений писателей Ленинграда. Цель сборника «Янтарное побережье» — способствовать укреплению дружбы между нашими народами, познакомить советского читателя с творчеством современных польских писателей, и в первую очередь с литераторами Гданьска — побратима Ленинграда. В нем представлены произведения классиков польской литературы К. И. Галчиньского, Я. Ивашкевича, рассказывается об истории нашего города, о совместной борьбе поляков и советских людей против общего врага — фашизма, о жизни современной Польши, о проблемах, которые полякам приходится решать сегодня. В частности, известный польский публицист А. Василевский пытается ответить на вопрос, что же привело к кризису в Польше в 1980—1981 годах.
Несколько слов о Гданьском отделении Союза польских писателей. Несмотря на то что наша организация невелика, у нас представлены все виды литературы. Поэзия, проза, кино- и теледраматургия, сценарии для радиопостановок, театральные пьесы. У нас активно работает группа писателей, широко известных и любимых за пределами Гданьского воеводства, публикующих свои произведения в центральных польских издательствах. Сборник «Янтарное побережье» познакомит советского читателя с нашими наиболее известными прозаиками и поэтами. Мы надеемся на тесное сотрудничество и верим, что того же хотят и наши ленинградские друзья. Не будем скрывать, что события 1980—1981 годов осложнили нашу литературную жизнь. Писательская организация раскололась, и пройдет немало времени, пока забудутся старые обиды. Ситуация, однако, постепенно нормализуется, многие начинают признавать ошибки, которые они совершили во время бурных событий этих лет.
Наши города связывает дружба. Так пусть дружба объединяет и писателей. Пусть литература займет во взаимных контактах городов свое законное место.
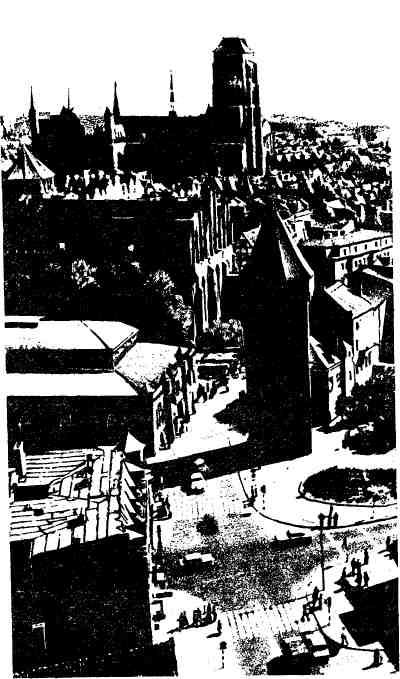

 А что сказать о погибших защитниках Гданьска? Ведь у них была возможность эвакуироваться, пока не прозвучали выстрелы, возвестившие начало второй мировой войны. Командир сказал им: «Кто хочет, может уйти…» А харцер[18] Альф Личманский, глава гданьских харцеров, когда ему сообщили о грозящей опасности и посоветовали «отсидеться в тихом месте», ответил так: «Если все поляки покинут Гданьск, кто же засвидетельствует тогда его принадлежность Польше?» Гитлеровцы схватили его, пытали, расстреляли. Его мужество служит для нас напоминанием, обязательством.
Склоним головы. Пусть в минуту молчания у каждого из нас родится мысль о Польше, о великом общем труде, о терпеливой реконструкции истории нашего народа, о новом его облике, об осуществлении его намерений и мечтаний.
Вестерплатте[19] — символ стойкости и героизма. Майор Сухарский и его немногочисленные солдаты… Смертоносные молнии, которые метал из тяжелых орудий линкор «Шлезвиг-Гольштейн», прибывший с «дружеским» визитом… Семь дней тяжелейшей обороны. Сто восемьдесят два защитника Вестерплатте против трех с половиной тысяч солдат, поддержанных шестьюдесятью пятью орудиями. Бомбардировки с воздуха. Пожары. Отражение наземных атак.
За несколько минут экскурсия обходит этот засаженный деревьями уголок порта. И его-то не могли взять немцы в течение недели, обладая таким преимуществом! Молодежь похмыкивает, и в этом презрение к захватчику.
Обелиск в честь героев Вестерплатте возвышается на холме. Изваянные из камня лица воинов глядят в сторону моря, они держат стражу — вооруженный Световит[20].
Зайдите в одну из часовен собора Девы Марии и вы увидите, как хранится память о почти трех тысячах польских ксендзов, убитых защитниками Европы, культуртрегерами. Эти ксендзы погибли за то, что были поляками, сеяли в сердцах надежду…
Да знаете ли вы, что именно здесь боролись за Польшу словом польские писатели, именно здесь складывались картины создаваемого ими мира? Польскую книгу печатают в Гданьске вот уже пятьсот лет. Сколько же было у нее поклонников, если «Крестоносцев» Генрика Сенкевича издали одновременно в Варшаве и в Гданьске?
Сильны и благородны строки Стефана Жеромского, который, будь он жив, с радостью наблюдал бы за нами, как мы дышим соленым морским ветром. Это он изобразил Генрика Домбровского[21], приветствующего Гданьск, освобожденный от пруссаков.
И еще стихотворение Ярослава Ивашкевича «Ода Гданьску», напечатанное перед самым началом второй мировой войны, в котором про Гданьск сказано:
А что сказать о погибших защитниках Гданьска? Ведь у них была возможность эвакуироваться, пока не прозвучали выстрелы, возвестившие начало второй мировой войны. Командир сказал им: «Кто хочет, может уйти…» А харцер[18] Альф Личманский, глава гданьских харцеров, когда ему сообщили о грозящей опасности и посоветовали «отсидеться в тихом месте», ответил так: «Если все поляки покинут Гданьск, кто же засвидетельствует тогда его принадлежность Польше?» Гитлеровцы схватили его, пытали, расстреляли. Его мужество служит для нас напоминанием, обязательством.
Склоним головы. Пусть в минуту молчания у каждого из нас родится мысль о Польше, о великом общем труде, о терпеливой реконструкции истории нашего народа, о новом его облике, об осуществлении его намерений и мечтаний.
Вестерплатте[19] — символ стойкости и героизма. Майор Сухарский и его немногочисленные солдаты… Смертоносные молнии, которые метал из тяжелых орудий линкор «Шлезвиг-Гольштейн», прибывший с «дружеским» визитом… Семь дней тяжелейшей обороны. Сто восемьдесят два защитника Вестерплатте против трех с половиной тысяч солдат, поддержанных шестьюдесятью пятью орудиями. Бомбардировки с воздуха. Пожары. Отражение наземных атак.
За несколько минут экскурсия обходит этот засаженный деревьями уголок порта. И его-то не могли взять немцы в течение недели, обладая таким преимуществом! Молодежь похмыкивает, и в этом презрение к захватчику.
Обелиск в честь героев Вестерплатте возвышается на холме. Изваянные из камня лица воинов глядят в сторону моря, они держат стражу — вооруженный Световит[20].
Зайдите в одну из часовен собора Девы Марии и вы увидите, как хранится память о почти трех тысячах польских ксендзов, убитых защитниками Европы, культуртрегерами. Эти ксендзы погибли за то, что были поляками, сеяли в сердцах надежду…
Да знаете ли вы, что именно здесь боролись за Польшу словом польские писатели, именно здесь складывались картины создаваемого ими мира? Польскую книгу печатают в Гданьске вот уже пятьсот лет. Сколько же было у нее поклонников, если «Крестоносцев» Генрика Сенкевича издали одновременно в Варшаве и в Гданьске?
Сильны и благородны строки Стефана Жеромского, который, будь он жив, с радостью наблюдал бы за нами, как мы дышим соленым морским ветром. Это он изобразил Генрика Домбровского[21], приветствующего Гданьск, освобожденный от пруссаков.
И еще стихотворение Ярослава Ивашкевича «Ода Гданьску», напечатанное перед самым началом второй мировой войны, в котором про Гданьск сказано:

 Гданьск не был бы Гданьском, если б там не нашлось улочки Дантышека[31]. Кто не знаком с историей нашего мореплавания, пусть знает, что Ян Дантышек — это Ян Дантискус, иначе говоря, Ян из Гданьска, тот самый, который в 1485 году играл еще в песочек на Гданьском пляже, чтоб сделать потом блестящую карьеру королевского секретаря. Он был экспертом по морским делам, первоклассным мореходом, знаменитым путешественником, дипломатом и поэтом-сатириком, и, что сохранило его имя для потомков, первым польским министром флота.
В те времена рыбу не разводили еще в аквариумах, не прятали под прилавок, не напихивали ею консервные банки, не замораживали, а сразу продавали свежий улов — кучами по пятнадцать, по шестьдесят штук, а то бочками или живьем в кадях — и этот центросбыт располагался на берегу Мотлавы. Боты и лодки причаливали прямо к Долгой набережной. Шкипера с сыновьями исчезали в пивных, а тещи с дочерьми принимались за торговлю. Рыба была важным элементом тогдашней жизни. Молока и икра. Весь Гданьск встречался на этом базаре. Уловы — главная тема для разговоров. Сегодня на Рыбном рынке живут писатели, актеры, художники, и только маленькая эмалированная табличка напоминает нам те далекие годы.
Не пройдешь без доброго слова мимо улочки Страковского, которому Гданьск во многом обязан своим неповторимым обликом. Благодаря удивительному стечению обстоятельств эта улочка проходит как раз вблизи Колонии красоты. Ян Страковский был в XVI веке старшиной цеха каменотесов и виртуозом-каменщиком. Он же дал городу и трех выдающихся строителей: сыновей Исайю и Ежи и внука Ефраима. Три поколения, едва ли не столетие гданьской архитектуры. Такая улочка вроде бы уже не улочка, а проспект.
Страковские жили на улице Святого духа, поблизости от Шопенгауэров — тех самых, что начинали хлебной торговлей, а кончили философией. Самый меланхоличный из всех мыслителей — тот самый, внедривший в умы пессимизм своим заявлением: «Если существует бог, то я не желаю быть на его месте, ибо вселенский стон разорвет мне сердце», — как раз он-то здесь и родился. Было это в тот самый день, когда городской советник Ян Упхаген сорвал с себя пестрое одеяние и золотые цепи, облачился в черную тогу и заперся в доме, потому что в Гданьск вступали пруссаки. Дом Упхагена вы найдете на Долгой, а его именем названа улочка рядом с парком, который он заложил.
Как не упомянуть улицу Фалька-Полонуса?[32] А Даниеля Ходовецкого?[33] Имя первого ищите в монографиях по изобразительному искусству, второго — в энциклопедиях, а их работы — в музеях. В XVII и XVIII веках не было более блистательных, более влюбленных в Гданьск художников. Многие писатели ощущают еще и сейчас городской пейзаж прошлого через призму их работ.
Пекари жили, разумеется, на Хлебницкой, но если желаешь что-то про них узнать, ступай на Котельниковую. Над порталом одного из домов изваянная в камне картина, там они как живые — слышится смех подмастерьев-пекарят и наставления пекаря. Барельеф представляет внутренность старой пекарни, вводит нас в мир тружеников тогдашнего Гданьска, едва ли не в самую печь. Стоит присмотреться и к дому, который одни называли аглицким, другие — ангельским. Некогда тут был склад английских сукон, затем — гостиница. Многие знаменитости дышали здесь атмосферой комфорта и красоты. Именно отсюда адъютант Костюшко Юлиан Урсын Немцевич выслал важные письма, Ядвига Деотима-Лущевская слагала здесь стихи, а Игнаций Крашевский написал даже повесть «Домик на Долгом рынке».
На Долгом рынке стоит вспомнить о другой гостинице — «Дю Нор», где жил Ян Матейко с женой и дочкой. А на улице Товия, 29, в гостеприимном доме Яна Линде, брата Самуэля[34], составителя «Словаря польского языка», останавливался семнадцатилетний Фредерик Шопен.
Нет, пожалуй, в Польше города, где не было бы улицы Адама Мицкевича. Но знаете ли вы о том, что в Гданьске целый район Мицкевича? Улицы названы в честь его литературных героев: Альдоны, Гражины, Конрада Валленрода и Вайделота, пана Тадеуша и Телимены, Яцека Соплицы, Гервазия, Протазия, есть также улочка Янкеля. Популярности Мицкевича в Гданьске может равняться лишь популярность Сенкевича. Подумали не только о нем самом, но и о его героях — о Данусе, о Збышеке из Богданца. О Заглобе, который так нахваливал гданьскую водку, к сожалению, забыли. «Ух, шельмы», — сказал бы Заглоба, узнай он об этом.
Гданьск относится к числу тех городов нашей страны, которым перевалило за тысячу лет, которые сами рассказывают свою историю. Достаточно пройтись по улицам…
Вот Славянская и Рыбаря — это в память тех, кто основал много веков назад в устье Вислы рыбацкий поселок. Чуть дальше улица Храброго — первого князя этой земли, а рядом — Конрада Лечкова, гданьского бургомистра, убитого крестоносцами. Далее Грюнвальдская улица и улица Оливской битвы. Затем — Защитников Вестерплатте и Героев Гданьской почты. И наконец, Войска Польского и Советской Армии. Десять улиц — десять веков — в беглом обзоре целое тысячелетие.
Гданьск не был бы Гданьском, если б там не нашлось улочки Дантышека[31]. Кто не знаком с историей нашего мореплавания, пусть знает, что Ян Дантышек — это Ян Дантискус, иначе говоря, Ян из Гданьска, тот самый, который в 1485 году играл еще в песочек на Гданьском пляже, чтоб сделать потом блестящую карьеру королевского секретаря. Он был экспертом по морским делам, первоклассным мореходом, знаменитым путешественником, дипломатом и поэтом-сатириком, и, что сохранило его имя для потомков, первым польским министром флота.
В те времена рыбу не разводили еще в аквариумах, не прятали под прилавок, не напихивали ею консервные банки, не замораживали, а сразу продавали свежий улов — кучами по пятнадцать, по шестьдесят штук, а то бочками или живьем в кадях — и этот центросбыт располагался на берегу Мотлавы. Боты и лодки причаливали прямо к Долгой набережной. Шкипера с сыновьями исчезали в пивных, а тещи с дочерьми принимались за торговлю. Рыба была важным элементом тогдашней жизни. Молока и икра. Весь Гданьск встречался на этом базаре. Уловы — главная тема для разговоров. Сегодня на Рыбном рынке живут писатели, актеры, художники, и только маленькая эмалированная табличка напоминает нам те далекие годы.
Не пройдешь без доброго слова мимо улочки Страковского, которому Гданьск во многом обязан своим неповторимым обликом. Благодаря удивительному стечению обстоятельств эта улочка проходит как раз вблизи Колонии красоты. Ян Страковский был в XVI веке старшиной цеха каменотесов и виртуозом-каменщиком. Он же дал городу и трех выдающихся строителей: сыновей Исайю и Ежи и внука Ефраима. Три поколения, едва ли не столетие гданьской архитектуры. Такая улочка вроде бы уже не улочка, а проспект.
Страковские жили на улице Святого духа, поблизости от Шопенгауэров — тех самых, что начинали хлебной торговлей, а кончили философией. Самый меланхоличный из всех мыслителей — тот самый, внедривший в умы пессимизм своим заявлением: «Если существует бог, то я не желаю быть на его месте, ибо вселенский стон разорвет мне сердце», — как раз он-то здесь и родился. Было это в тот самый день, когда городской советник Ян Упхаген сорвал с себя пестрое одеяние и золотые цепи, облачился в черную тогу и заперся в доме, потому что в Гданьск вступали пруссаки. Дом Упхагена вы найдете на Долгой, а его именем названа улочка рядом с парком, который он заложил.
Как не упомянуть улицу Фалька-Полонуса?[32] А Даниеля Ходовецкого?[33] Имя первого ищите в монографиях по изобразительному искусству, второго — в энциклопедиях, а их работы — в музеях. В XVII и XVIII веках не было более блистательных, более влюбленных в Гданьск художников. Многие писатели ощущают еще и сейчас городской пейзаж прошлого через призму их работ.
Пекари жили, разумеется, на Хлебницкой, но если желаешь что-то про них узнать, ступай на Котельниковую. Над порталом одного из домов изваянная в камне картина, там они как живые — слышится смех подмастерьев-пекарят и наставления пекаря. Барельеф представляет внутренность старой пекарни, вводит нас в мир тружеников тогдашнего Гданьска, едва ли не в самую печь. Стоит присмотреться и к дому, который одни называли аглицким, другие — ангельским. Некогда тут был склад английских сукон, затем — гостиница. Многие знаменитости дышали здесь атмосферой комфорта и красоты. Именно отсюда адъютант Костюшко Юлиан Урсын Немцевич выслал важные письма, Ядвига Деотима-Лущевская слагала здесь стихи, а Игнаций Крашевский написал даже повесть «Домик на Долгом рынке».
На Долгом рынке стоит вспомнить о другой гостинице — «Дю Нор», где жил Ян Матейко с женой и дочкой. А на улице Товия, 29, в гостеприимном доме Яна Линде, брата Самуэля[34], составителя «Словаря польского языка», останавливался семнадцатилетний Фредерик Шопен.
Нет, пожалуй, в Польше города, где не было бы улицы Адама Мицкевича. Но знаете ли вы о том, что в Гданьске целый район Мицкевича? Улицы названы в честь его литературных героев: Альдоны, Гражины, Конрада Валленрода и Вайделота, пана Тадеуша и Телимены, Яцека Соплицы, Гервазия, Протазия, есть также улочка Янкеля. Популярности Мицкевича в Гданьске может равняться лишь популярность Сенкевича. Подумали не только о нем самом, но и о его героях — о Данусе, о Збышеке из Богданца. О Заглобе, который так нахваливал гданьскую водку, к сожалению, забыли. «Ух, шельмы», — сказал бы Заглоба, узнай он об этом.
Гданьск относится к числу тех городов нашей страны, которым перевалило за тысячу лет, которые сами рассказывают свою историю. Достаточно пройтись по улицам…
Вот Славянская и Рыбаря — это в память тех, кто основал много веков назад в устье Вислы рыбацкий поселок. Чуть дальше улица Храброго — первого князя этой земли, а рядом — Конрада Лечкова, гданьского бургомистра, убитого крестоносцами. Далее Грюнвальдская улица и улица Оливской битвы. Затем — Защитников Вестерплатте и Героев Гданьской почты. И наконец, Войска Польского и Советской Армии. Десять улиц — десять веков — в беглом обзоре целое тысячелетие.
 Пять колец укреплений опоясывали когда-то пять частей города — Долгие сады, Амбарный остров, Старое предместье, Главный город и Старый город. Стены с тех пор рассыпались, даже ворота и башни сохранились не всюду. Об укреплениях Долгих садов повествуют только средневековые хроники. На Амбарном острове остались лишь столь же благодатные, сколь благозвучные Млечные кади. В Старом предместье сохранились фотогеничная Белая башня и Башня под срубом. Зато в Главном городе вам не хватит фотопленки. Это отнюдь не самый старый район города, но люди зовут его Старувкой. Его восстановление было наиболее значительным реставрационным предприятием послевоенной Европы. Перлы гданьской архитектуры! Шедевры готики, ренессанса, барокко сторожат десять здешних башен. Доступ к ним открывают десять ворот.
А Старый город сегодня самый молодой: современные деловые здания, силуэты стройных домов, а под ними — разноцветные огоньки Гданьской судоверфи. Нет и следа крепостных построек. Лишь кондуктор трамвая на остановке вблизи моста, прозванного Блуждателем, крикнет порою: «Оливские ворота». Ворота… Эхо старого бастиона.
А с Блуждателем и в самом деле блуждание. Мост поднимается над железнодорожной веткой, которая рассекла надвое самый старый в городе парк. Его аллейки спутались в романтическом беспорядке, и парк назвали сперва Лабиринтом, а потом Блуждателем. От парка ничего теперь не осталось, как и от Оливских ворот. Впрочем, так же, как и от ворот святого Иакова, находившихся поблизости. А были, верно, красивые, раз возводил их Ян Страковский. К тому же исторические. Под ними стоял некогда князь Пепе, он же военный министр Варшавского герцогства, он же наполеоновский маршал Юзеф Понятовский. Он приезжал на смотр польских полков гданьского гарнизона. За воротами, на обширной площади Наполеона, в день рождения императора, 15 сентября 1810 года, князь-министр принимал большой военный парад. Блестящая церемония. Когда по прошествии лет князь захлебнулся в водах Эльстера, а император умер на далеком острове, площадь была переименована. Разобрали и ворота. А поскольку гданьщане народ хозяйственный, то наиболее ценные фрагменты перенесли в иные уголки города: стройный шпиц на колокольню костела, нарядные медальоны на тюремную башню, а каменные львы, венчавшие фронтоны ворот, очутились на крыльце Двора Артуса. Из всего этого блуждания уцелело лишь название — Блуждатель.
Но вернемся к Угловой башне, которая до сегодняшнего дня стоит на углу Кобелевой. У этой улицы своя история — собачья. В старые добрые времена с наступлением сумерек из городской псарни вели по Кобелевой свору голодных собак на Амбарный остров. Собаки шли через подъемный мост, Коровьи ворота. Коровьи, ибо на рассвете через них же гнали коров на пастбище. На ночь ворота запирались, а отрезанный от города каналами Мотлавы Амбарный остров находился под охраной собак. И горе тому, кто забредал туда ночью. Бывали трагические происшествия, но поскольку жертвами оказывались пьяницы, бездомные бедняки или подозрительные личности, крутившиеся вблизи богатых складов, то это никого не задевало. Закон торговли был суров, и собаки служили надежными сторожами. Лишь случай с известным и всеми любимым виолончелистом Умбахом потряс город. Музыкант возвращался с праздника, где он, попивая винцо, играл на танцах. Когда он очутился на Амбарном, начали сгущаться сумерки. То ли он не услышал сигнала, по которому запирают ворота, то ли на него не обратили внимания стражники… А может, сон сморил его в закоулке? Каждый рассказывал потом свое. Короче, псы учуяли человека, и вся свора, щеря клыки, его окружила. Он хотел бежать, но споткнулся и упал, при этом виолончель… брякнула. Собаки навострили уши. Перепуганный насмерть музыкант мгновенно оценил свой шанс. Он прикрылся футляром, достал, пощипывая струны, смычок и заиграл менуэт, а потом полонез, а потом опять менуэт. Собаки расселись вокруг и сомкнули пасти, но стоило усталой руке опуститься, они завыли так пронзительно, что музыканту вновь пришлось схватиться за смычок… Играл он, пока не рассвело, то был самый ответственный концерт в его жизни. В конце концов музыка разбудила стражников и кого-то из горожан, и Умбаха, полуживого, спасли из западни. Происшествие с виолончелистом стало веским аргументом в пользу отказа от этого мрачного обычая. Собачьи ставки урезали, ворота укрепили.
Напротив Амбарного острова вдоль Долгой набережной Мотлавы расположено восемь ворот. Семь готических и одни в стиле ренессанса — Зеленые ворота. Перед ними когда-то и остановились сани итальянской принцессы Марии Людвиги Гонзаги. Будущую польскую королеву встречали королевич Карл Фердинанд и князь Альбрехт Станислав Радзивилл. В окнах Зеленых ворот сверкали брильянтовые диадемы и золотые митры. Стены и лестницы были убраны цветистыми коврами. На гданьских столах посвечивали гданьские серебряные приборы. Принцесса села пировать под приветственные клики нарядных рыцарей, толпившихся снаружи. Роскошь превзошла все виденное греками у персов — так по крайней мере говорили в ту пору в Гданьске и в Мантуе, в Варшаве и в Париже. Ныне в бывшей королевской резиденции, возрожденной усилиями гданьщан и искусством Яна Крамера, разместилось Управление реставрации памятников старины. В дворцовом зале расставлены кульманы, в покоях размещены мастерские. Уже четвертое десятилетие здесь кипит работа по воскрешению художественных ценностей Гданьска. Над уцелевшими после пожаров картинами, извлеченными из-под руин статуями, среди старых гравюр и книг хлопочут историки искусства и реставраторы, художники и резчики — целые коллективы трудолюбивых высокоодаренных специалистов. Мерило их успехов — возрождение Гданьска, и главное — восстановление интерьеров Ратуши Главного города. Именно отсюда, из окон Зеленых ворот, открывается единственная в своем роде панорама на Королевскую дорогу в старинный порт…
Пять колец укреплений опоясывали когда-то пять частей города — Долгие сады, Амбарный остров, Старое предместье, Главный город и Старый город. Стены с тех пор рассыпались, даже ворота и башни сохранились не всюду. Об укреплениях Долгих садов повествуют только средневековые хроники. На Амбарном острове остались лишь столь же благодатные, сколь благозвучные Млечные кади. В Старом предместье сохранились фотогеничная Белая башня и Башня под срубом. Зато в Главном городе вам не хватит фотопленки. Это отнюдь не самый старый район города, но люди зовут его Старувкой. Его восстановление было наиболее значительным реставрационным предприятием послевоенной Европы. Перлы гданьской архитектуры! Шедевры готики, ренессанса, барокко сторожат десять здешних башен. Доступ к ним открывают десять ворот.
А Старый город сегодня самый молодой: современные деловые здания, силуэты стройных домов, а под ними — разноцветные огоньки Гданьской судоверфи. Нет и следа крепостных построек. Лишь кондуктор трамвая на остановке вблизи моста, прозванного Блуждателем, крикнет порою: «Оливские ворота». Ворота… Эхо старого бастиона.
А с Блуждателем и в самом деле блуждание. Мост поднимается над железнодорожной веткой, которая рассекла надвое самый старый в городе парк. Его аллейки спутались в романтическом беспорядке, и парк назвали сперва Лабиринтом, а потом Блуждателем. От парка ничего теперь не осталось, как и от Оливских ворот. Впрочем, так же, как и от ворот святого Иакова, находившихся поблизости. А были, верно, красивые, раз возводил их Ян Страковский. К тому же исторические. Под ними стоял некогда князь Пепе, он же военный министр Варшавского герцогства, он же наполеоновский маршал Юзеф Понятовский. Он приезжал на смотр польских полков гданьского гарнизона. За воротами, на обширной площади Наполеона, в день рождения императора, 15 сентября 1810 года, князь-министр принимал большой военный парад. Блестящая церемония. Когда по прошествии лет князь захлебнулся в водах Эльстера, а император умер на далеком острове, площадь была переименована. Разобрали и ворота. А поскольку гданьщане народ хозяйственный, то наиболее ценные фрагменты перенесли в иные уголки города: стройный шпиц на колокольню костела, нарядные медальоны на тюремную башню, а каменные львы, венчавшие фронтоны ворот, очутились на крыльце Двора Артуса. Из всего этого блуждания уцелело лишь название — Блуждатель.
Но вернемся к Угловой башне, которая до сегодняшнего дня стоит на углу Кобелевой. У этой улицы своя история — собачья. В старые добрые времена с наступлением сумерек из городской псарни вели по Кобелевой свору голодных собак на Амбарный остров. Собаки шли через подъемный мост, Коровьи ворота. Коровьи, ибо на рассвете через них же гнали коров на пастбище. На ночь ворота запирались, а отрезанный от города каналами Мотлавы Амбарный остров находился под охраной собак. И горе тому, кто забредал туда ночью. Бывали трагические происшествия, но поскольку жертвами оказывались пьяницы, бездомные бедняки или подозрительные личности, крутившиеся вблизи богатых складов, то это никого не задевало. Закон торговли был суров, и собаки служили надежными сторожами. Лишь случай с известным и всеми любимым виолончелистом Умбахом потряс город. Музыкант возвращался с праздника, где он, попивая винцо, играл на танцах. Когда он очутился на Амбарном, начали сгущаться сумерки. То ли он не услышал сигнала, по которому запирают ворота, то ли на него не обратили внимания стражники… А может, сон сморил его в закоулке? Каждый рассказывал потом свое. Короче, псы учуяли человека, и вся свора, щеря клыки, его окружила. Он хотел бежать, но споткнулся и упал, при этом виолончель… брякнула. Собаки навострили уши. Перепуганный насмерть музыкант мгновенно оценил свой шанс. Он прикрылся футляром, достал, пощипывая струны, смычок и заиграл менуэт, а потом полонез, а потом опять менуэт. Собаки расселись вокруг и сомкнули пасти, но стоило усталой руке опуститься, они завыли так пронзительно, что музыканту вновь пришлось схватиться за смычок… Играл он, пока не рассвело, то был самый ответственный концерт в его жизни. В конце концов музыка разбудила стражников и кого-то из горожан, и Умбаха, полуживого, спасли из западни. Происшествие с виолончелистом стало веским аргументом в пользу отказа от этого мрачного обычая. Собачьи ставки урезали, ворота укрепили.
Напротив Амбарного острова вдоль Долгой набережной Мотлавы расположено восемь ворот. Семь готических и одни в стиле ренессанса — Зеленые ворота. Перед ними когда-то и остановились сани итальянской принцессы Марии Людвиги Гонзаги. Будущую польскую королеву встречали королевич Карл Фердинанд и князь Альбрехт Станислав Радзивилл. В окнах Зеленых ворот сверкали брильянтовые диадемы и золотые митры. Стены и лестницы были убраны цветистыми коврами. На гданьских столах посвечивали гданьские серебряные приборы. Принцесса села пировать под приветственные клики нарядных рыцарей, толпившихся снаружи. Роскошь превзошла все виденное греками у персов — так по крайней мере говорили в ту пору в Гданьске и в Мантуе, в Варшаве и в Париже. Ныне в бывшей королевской резиденции, возрожденной усилиями гданьщан и искусством Яна Крамера, разместилось Управление реставрации памятников старины. В дворцовом зале расставлены кульманы, в покоях размещены мастерские. Уже четвертое десятилетие здесь кипит работа по воскрешению художественных ценностей Гданьска. Над уцелевшими после пожаров картинами, извлеченными из-под руин статуями, среди старых гравюр и книг хлопочут историки искусства и реставраторы, художники и резчики — целые коллективы трудолюбивых высокоодаренных специалистов. Мерило их успехов — возрождение Гданьска, и главное — восстановление интерьеров Ратуши Главного города. Именно отсюда, из окон Зеленых ворот, открывается единственная в своем роде панорама на Королевскую дорогу в старинный порт…
 Вымощенная камнем, изваянная резцом, Мариацкая улица — самая готическая, самая ренессансная, самая барочная из всех гданьских улочек. Пятьдесят два нарядных дома в парадном строю. Шпалеры порталов, фасадов, фронтонов и террас, именуемых предпорожьями, преддверьями, а также пропилеями на греческий манер и просто вступилищами — на славянский лад.
На Мариацкой сохранилась атмосфера старого Гданьска. Вслушаемся, как они перекликаются друг с другом — голоса коренной гданьщанки Иоанны Шопенгауэр и коренной варшавянки Ядвиги Деотимы-Лущевской:
Вымощенная камнем, изваянная резцом, Мариацкая улица — самая готическая, самая ренессансная, самая барочная из всех гданьских улочек. Пятьдесят два нарядных дома в парадном строю. Шпалеры порталов, фасадов, фронтонов и террас, именуемых предпорожьями, преддверьями, а также пропилеями на греческий манер и просто вступилищами — на славянский лад.
На Мариацкой сохранилась атмосфера старого Гданьска. Вслушаемся, как они перекликаются друг с другом — голоса коренной гданьщанки Иоанны Шопенгауэр и коренной варшавянки Ядвиги Деотимы-Лущевской:
 Никогда не забуду моего друга, семнадцатилетнего русского паренька из Горького Алексея Сазонова, хотя знакомство наше длилось не больше трех недель. Романтический Алексей был убежден, что ничто не сможет спасти его от смерти. Уже с конца осени 1941 года по ночам из лагеря уводили на расстрел тысячи советских военнопленных. До него долетал дым костров, на которых сжигали трупы, и он понимал, что смерть неизбежна. Я утешал Алексея: «Ты же работаешь, а на обувной фабрике пленных не расстреливают». А он молчал. Наш общий друг, бывший депутат чехословацкого парламента от коммунистов Ян Водичка, используя свои многочисленные знакомства, устроил так, чтобы Алексей стал работать под крышей, а не в грузчиках. И тогда случилось чудо: парень стал сочинять песенки. Он словно бы ожил. Первая была веселая, на мотив казачьей песни и называлась странно — «Шары-бары»; Алексей подскакивал: шары, шары, шары-бары. А следующую он посвятил своей давней юной подружке: песня называлась «Соня». Алексей очень смущался, что песня эта про любовь.
Я все их, как мог, записал в памяти. Да только русского языка я почти не знал. Поэтому я уже тогда старался мысленно переводить его песни на польский. Получалось у меня плохо, но записывать было нельзя. Это грозило пытками и смертью.
Последнюю свою песню Алексей Сазонов назвал, не знаю почему, «Гекатомба 1941 года». Я спросил: «Откуда ты знаешь это слово — гекатомба?» Наверно, слыхал где-нибудь. Страшная была песня. Вот как она начинается:
Никогда не забуду моего друга, семнадцатилетнего русского паренька из Горького Алексея Сазонова, хотя знакомство наше длилось не больше трех недель. Романтический Алексей был убежден, что ничто не сможет спасти его от смерти. Уже с конца осени 1941 года по ночам из лагеря уводили на расстрел тысячи советских военнопленных. До него долетал дым костров, на которых сжигали трупы, и он понимал, что смерть неизбежна. Я утешал Алексея: «Ты же работаешь, а на обувной фабрике пленных не расстреливают». А он молчал. Наш общий друг, бывший депутат чехословацкого парламента от коммунистов Ян Водичка, используя свои многочисленные знакомства, устроил так, чтобы Алексей стал работать под крышей, а не в грузчиках. И тогда случилось чудо: парень стал сочинять песенки. Он словно бы ожил. Первая была веселая, на мотив казачьей песни и называлась странно — «Шары-бары»; Алексей подскакивал: шары, шары, шары-бары. А следующую он посвятил своей давней юной подружке: песня называлась «Соня». Алексей очень смущался, что песня эта про любовь.
Я все их, как мог, записал в памяти. Да только русского языка я почти не знал. Поэтому я уже тогда старался мысленно переводить его песни на польский. Получалось у меня плохо, но записывать было нельзя. Это грозило пытками и смертью.
Последнюю свою песню Алексей Сазонов назвал, не знаю почему, «Гекатомба 1941 года». Я спросил: «Откуда ты знаешь это слово — гекатомба?» Наверно, слыхал где-нибудь. Страшная была песня. Вот как она начинается:
 «Слушайте! Слушайте! Из ада рвется наш хорал! — писал Леонард. — Пусть спать не даст он палачам, из ада рвущийся хорал!»
И рефрен: «Тут люди мрут!.. Услышьте: люди тут!»
Но Леонард не услышал этой песни. Он слишком много знал, и эсэсовцы повесили его.
А стихотворение «Чахоточным», написанное Алексом по последней просьбе людей, «которым еще оставался почти час жизни»…
Среди предназначенных к ликвидации было несколько сотен молодых поляков, у которых для проформы заподозрили туберкулез.
— Я болтался утром около лагерного госпиталя, надеялся что-нибудь разнюхать, — рассказывает Алекс о создании этого стихотворения. — И тут сквозь проволочное заграждение ко мне протянул руку один из назначенных в печь — совсем еще юный Лешек Коморницкий (барак сорок семь) и шепнул: «Алекс, ты столько пел и писал… Напиши сейчас что-нибудь для нас. — Он тревожно оглянулся и продолжил: — Имей в виду, у нас не больше пятнадцати минут».
Вот так. «Когда кулак бессилен, остается мысль и слово», — повторяет Кулисевич. В лагере им оставалось слово. Алекс просто-напросто старался «запечатлеть в памяти» то, чему был свидетелем, что пережил. Хотел сохранить в себе «документ».
Таким документом стало его собственное слово. Слово, претворенное в песню. И строчки стихов. Вроде этого:
«Слушайте! Слушайте! Из ада рвется наш хорал! — писал Леонард. — Пусть спать не даст он палачам, из ада рвущийся хорал!»
И рефрен: «Тут люди мрут!.. Услышьте: люди тут!»
Но Леонард не услышал этой песни. Он слишком много знал, и эсэсовцы повесили его.
А стихотворение «Чахоточным», написанное Алексом по последней просьбе людей, «которым еще оставался почти час жизни»…
Среди предназначенных к ликвидации было несколько сотен молодых поляков, у которых для проформы заподозрили туберкулез.
— Я болтался утром около лагерного госпиталя, надеялся что-нибудь разнюхать, — рассказывает Алекс о создании этого стихотворения. — И тут сквозь проволочное заграждение ко мне протянул руку один из назначенных в печь — совсем еще юный Лешек Коморницкий (барак сорок семь) и шепнул: «Алекс, ты столько пел и писал… Напиши сейчас что-нибудь для нас. — Он тревожно оглянулся и продолжил: — Имей в виду, у нас не больше пятнадцати минут».
Вот так. «Когда кулак бессилен, остается мысль и слово», — повторяет Кулисевич. В лагере им оставалось слово. Алекс просто-напросто старался «запечатлеть в памяти» то, чему был свидетелем, что пережил. Хотел сохранить в себе «документ».
Таким документом стало его собственное слово. Слово, претворенное в песню. И строчки стихов. Вроде этого:



 Он уже не существовал, потому что это была не его земля и не его небо. Это была ничья земля и ничье небо; ему не принадлежало то, что он сам создал, это вырвали у него из рук с легкостью, словно зажатый в кулаке для забавы прутик.
Однажды вечером кто-то положил ему руку на плечо. Он отскочил, словно поглаженная внезапно чужаком собака. Перед ним стоял добрый его знакомый: местный учитель. Как ребенка он взял его за руку и привел в свой дом. Так и жил он у учителя, не сознавая, что с ним происходит, пока тот, убедившись в бесплодности своих попыток ввести гостя в колею нормальной жизни, не передал его партизанам.
— Иди с ними, — сказал.
Ну он и пошел. Ему было все равно с кем и зачем идти; все вокруг так или иначе оставалось чужим.
— Что ты до войны-то делал, чудак? — спрашивал у него хорунжий.
— Сад делал, — отвечал он, срезая с картошки кожуру, потому что, как определил командир, ни на что другое, кроме кухни, он не годился.
— Как это «сад делал»? Садовником был, что ли?
— Какой из меня садовник! Сад делал, ну и был у меня сад. Дом построил, пианино купил.
Партизаны, гогоча, дали ему псевдоним «Сад».
— Теперь ты Сад, понимаешь? — терпеливо и обстоятельно втолковывал ему как дурачку хорунжий.
— Теперь ты Зад! — вторил отрядный остряк. — Редкий случай, не разберешь, где сад, а где зад!
— Да, я Сад, я всегда был Сад, — отзывался он с таким достоинством, что ответом ему было всеобщее ржание.
Но вот приехала Юзька — явка в Варшаве провалилась и ей пришлось удирать во все лопатки — Юзька, обильно наделенная женскими достоинствами, чуть потрепанная, язык как шило. Изголодавшиеся мужики, глядя на нее, облизывались, но стоило кому-нибудь из них подъехать, как тут же получал по морде и с правой и с левой руки, и притом довольно крепко. Тем все и кончалось.
— Саду хорошо, — ворчал ухажер с побитой физиономией, — ему наплевать, что такая девка в отряде объявилась. Наверно, стервец, там, в этом своем саду, одни деревья-самцы высаживал. Такому ни жарко ни холодно.
А Сад и в самом деле едва заметил женскую персону, потому что, хоть и состоял при кухне, не вникал в то, что происходит вдалеке от его дома.
Шли месяцы, даже годы. Сад понемногу освоился, но расстаться с ролью батальонного увальня ему было уже не под силу. И он смотрел на жизнь философски.
Юзька долго и беспощадно издевалась над Садом, — язык у нее был острый, как бритва, наточенная на Керцеляке[60], — но когда она узнала, что Варшава превратилась в груду руин, что все близкие погибли, притихла, угасла; поплакала неделю-другую и… стала прикидывать, куда, собственно, ей теперь податься. А уже началось «январское» и от далеких разрывов с потолка землянок тонкой струйкой осыпался песок.
Она стала потихоньку наводить справки о ребятах из отряда, прибегая к безошибочному — поскольку спрос на нее был велик — методу: заставляла их по очереди присягать на распятии. Тот, который сказывался холостяком и обещал жениться на ней после войны, имел, как выяснялось, жену и детей; тот опять здорово зашибает, третий — бабник. Про Сада она не узнавала, не принимала его в расчет. Впрочем, о нем все равно ничего не знали: кто появился в отряде позже, дивился даже такому псевдониму.
Прежде чем они перешли линию фронта, у Юзьки было в запасе уже три надежных кандидата, три жениха, и каждый поклялся хранить тайну.
Отряд распустили. На прощание хорунжий дал Саду первое боевое задание, которое одному лишь ему во всем батальоне и можно было поручить с чистой совестью: отвезти Юзьку в Варшаву, поскольку та уперлась, что должна выяснить все на месте — а вдруг найдется какой-нибудь след, может, хоть похоронит родственников по-человечески.
Юзька весело распрощалась со своими женихами, обещая каждому к пасхе вернуться. Но в Варшаве она расклеилась. Сомнений не было — бомба разрушила не только дом, но и подвалы. Юзька сидела на развалинах и плакала в голос, по-бабьи. Сад пробовал было ее утешить, а потом сказал:
— Поедем ко мне, Юзька.
Она подняла лицо, полосатое от слез, отертых грязной рукой, и рассмеялась:
— Ой, Садик, ты уж скажешь…
— Почему бы нет, Юзька?
— Почему, почему… А что мне, Садик, там делать? Цветочки опылять на деревьях? Хорош и ты, мотылек, со мной рядом… Меня саму опылить бы надо. А ты, Садик… увалень какой-то… Да и годы.
Он весь сжался под обстрелом женского темперамента, жалко было смотреть.
— Ладно, потолкуем. Прожить-то с твоим садиком можно?
— Не с садиком, а с садом, — поспешно вставил он и, уже оправившись, горячо заговорил: — Это, знаете ли, не пустое место. Почти одни яблони. Хорошие деревья. До войны торговец из Варшавы приезжал за яблоками на грузовике…
— Ты дело говори: можно выжить или нет?
— В плохой год не пропадешь, в хороший — окупится.
— А мне, холера, все едино… Посмотрим, как там с твоим садом, Садик… Но если у тебя, холера, в войну деревья повырубали, халупу развалили и я зря туда тащусь… Боже тогда тебя храни!
И они отправились туда — шли, ехали… Впрочем, ей было все равно; в запасе оставалось еще три жениха, хоть одного да заставит сдержать слово. А он тащился ни жив ни мертв: а ну как вырубили? Странно, что в течение всех партизанских лет это ни разу не пришло ему в голову. Странно, он сам теперь удивлялся.
Майское солнышко припекало. Монотонно звенели жаворонки. Расстегнув пальто, они двигались в гору, узлы с каждым шагом становились все тяжелее. Юзька высматривала, где бы присесть; несколько километров песчаной дороги порядком ее измотали, но Сад, точно одержимый, почти бежал вверх по холму.
— Чего разогнался, псих?
— Вот за этой горкой, — просопел он.
— Ну и что из того, что за горкой? Прикажешь мне мчаться высунув язык?
Наконец вершина. Взору открывается пейзаж. Среди песчаных пустырей, скудных выгонов, чахлых лесочков на самом его дне озеро.
«Выкупаться бы», — думает девушка. Но ближе, на пологом склоне, ей является чудо: за обширным четырехугольником солидного забора ровные ряды цветущих яблонь и двухэтажный дом. Словно кто-то в пустыне выставил огромный букет цветов.
— Ты не набрехал, Садик. В самом деле кое-что есть, — говорит она, всматриваясь.
Но он уже ничего не слышит. Бежит, рвет на себя калитку, мчится между деревьями.
Из дома выходит, криво улыбаясь, учитель.
— Добрый день! Что за сюрприз! Так быстро… Как я рад!
Но он и этого не слышит. Ходит между яблоньками, осторожно притрагивается к цветам. Плачет. Наконец опускается на землю, прислоняется к стволу, закрывает глаза. Теперь сад, как большая пчела. Теперь рождается плод.
А там, у дороги, снова скрипит калитка. Входит Юзька. Она уже решила: «Сад будет мой».
Учитель кланяется ей в нерешительности. Что это еще за явление?
— А вы что тут делаете? Это не ваше.
— Я только караулю, уважаемая, чтоб не разворовали. И благодарность…
— Ладно, ладно, поблагодарить вас еще успеем. Хватит, накараулились. Мы уже вернулись.
— Мы?
— А что? Не нравится, да?
— Нет, нет, конечно… Я сейчас, сейчас выеду… надо только телегу, лошадь, чтобы вещи…
— Свои-то пожитки и на горбе унесете.
— Я попрошу…
— Проси, проси, сколько хочешь. Я еще проверю, как бы чего не пропало!
И сдержала слово. Только пианино недосчиталась. Но его немцы давным-давно вывезли. Юзька не желала этому верить, пока бедный учитель не притащил свидетелей из деревни, подтвердивших экспроприацию.
А Сад? Он жил. Он снова жил. Снова была у него под ногами своя земля — вся в бело-розовых лепестках, свое небо над головой, полное веток, цветущих и рождающих ровно столько, сколько впитали солнца и ветра. Была у него теперь и женщина, которой добивалось множество великолепных мужчин, а досталась она ему, увальню, впрочем, сперва следовало впитать в себя снова сад, надо было вернуться к себе так, будто ничего не произошло, будто так было всегда. А деревья, слегка уже запущенные, подросли, изменились. Это сразу бросалось в глаза: и потому все, что делала Юзька, было далеким, несущественным.
Итак, он является хозяином всего этого плодоносящего сада и отмеченного достатком дома, обширного, как шуба, скроенная с запасом на полноту, которая еще не обозначилась.
Он уже не существовал, потому что это была не его земля и не его небо. Это была ничья земля и ничье небо; ему не принадлежало то, что он сам создал, это вырвали у него из рук с легкостью, словно зажатый в кулаке для забавы прутик.
Однажды вечером кто-то положил ему руку на плечо. Он отскочил, словно поглаженная внезапно чужаком собака. Перед ним стоял добрый его знакомый: местный учитель. Как ребенка он взял его за руку и привел в свой дом. Так и жил он у учителя, не сознавая, что с ним происходит, пока тот, убедившись в бесплодности своих попыток ввести гостя в колею нормальной жизни, не передал его партизанам.
— Иди с ними, — сказал.
Ну он и пошел. Ему было все равно с кем и зачем идти; все вокруг так или иначе оставалось чужим.
— Что ты до войны-то делал, чудак? — спрашивал у него хорунжий.
— Сад делал, — отвечал он, срезая с картошки кожуру, потому что, как определил командир, ни на что другое, кроме кухни, он не годился.
— Как это «сад делал»? Садовником был, что ли?
— Какой из меня садовник! Сад делал, ну и был у меня сад. Дом построил, пианино купил.
Партизаны, гогоча, дали ему псевдоним «Сад».
— Теперь ты Сад, понимаешь? — терпеливо и обстоятельно втолковывал ему как дурачку хорунжий.
— Теперь ты Зад! — вторил отрядный остряк. — Редкий случай, не разберешь, где сад, а где зад!
— Да, я Сад, я всегда был Сад, — отзывался он с таким достоинством, что ответом ему было всеобщее ржание.
Но вот приехала Юзька — явка в Варшаве провалилась и ей пришлось удирать во все лопатки — Юзька, обильно наделенная женскими достоинствами, чуть потрепанная, язык как шило. Изголодавшиеся мужики, глядя на нее, облизывались, но стоило кому-нибудь из них подъехать, как тут же получал по морде и с правой и с левой руки, и притом довольно крепко. Тем все и кончалось.
— Саду хорошо, — ворчал ухажер с побитой физиономией, — ему наплевать, что такая девка в отряде объявилась. Наверно, стервец, там, в этом своем саду, одни деревья-самцы высаживал. Такому ни жарко ни холодно.
А Сад и в самом деле едва заметил женскую персону, потому что, хоть и состоял при кухне, не вникал в то, что происходит вдалеке от его дома.
Шли месяцы, даже годы. Сад понемногу освоился, но расстаться с ролью батальонного увальня ему было уже не под силу. И он смотрел на жизнь философски.
Юзька долго и беспощадно издевалась над Садом, — язык у нее был острый, как бритва, наточенная на Керцеляке[60], — но когда она узнала, что Варшава превратилась в груду руин, что все близкие погибли, притихла, угасла; поплакала неделю-другую и… стала прикидывать, куда, собственно, ей теперь податься. А уже началось «январское» и от далеких разрывов с потолка землянок тонкой струйкой осыпался песок.
Она стала потихоньку наводить справки о ребятах из отряда, прибегая к безошибочному — поскольку спрос на нее был велик — методу: заставляла их по очереди присягать на распятии. Тот, который сказывался холостяком и обещал жениться на ней после войны, имел, как выяснялось, жену и детей; тот опять здорово зашибает, третий — бабник. Про Сада она не узнавала, не принимала его в расчет. Впрочем, о нем все равно ничего не знали: кто появился в отряде позже, дивился даже такому псевдониму.
Прежде чем они перешли линию фронта, у Юзьки было в запасе уже три надежных кандидата, три жениха, и каждый поклялся хранить тайну.
Отряд распустили. На прощание хорунжий дал Саду первое боевое задание, которое одному лишь ему во всем батальоне и можно было поручить с чистой совестью: отвезти Юзьку в Варшаву, поскольку та уперлась, что должна выяснить все на месте — а вдруг найдется какой-нибудь след, может, хоть похоронит родственников по-человечески.
Юзька весело распрощалась со своими женихами, обещая каждому к пасхе вернуться. Но в Варшаве она расклеилась. Сомнений не было — бомба разрушила не только дом, но и подвалы. Юзька сидела на развалинах и плакала в голос, по-бабьи. Сад пробовал было ее утешить, а потом сказал:
— Поедем ко мне, Юзька.
Она подняла лицо, полосатое от слез, отертых грязной рукой, и рассмеялась:
— Ой, Садик, ты уж скажешь…
— Почему бы нет, Юзька?
— Почему, почему… А что мне, Садик, там делать? Цветочки опылять на деревьях? Хорош и ты, мотылек, со мной рядом… Меня саму опылить бы надо. А ты, Садик… увалень какой-то… Да и годы.
Он весь сжался под обстрелом женского темперамента, жалко было смотреть.
— Ладно, потолкуем. Прожить-то с твоим садиком можно?
— Не с садиком, а с садом, — поспешно вставил он и, уже оправившись, горячо заговорил: — Это, знаете ли, не пустое место. Почти одни яблони. Хорошие деревья. До войны торговец из Варшавы приезжал за яблоками на грузовике…
— Ты дело говори: можно выжить или нет?
— В плохой год не пропадешь, в хороший — окупится.
— А мне, холера, все едино… Посмотрим, как там с твоим садом, Садик… Но если у тебя, холера, в войну деревья повырубали, халупу развалили и я зря туда тащусь… Боже тогда тебя храни!
И они отправились туда — шли, ехали… Впрочем, ей было все равно; в запасе оставалось еще три жениха, хоть одного да заставит сдержать слово. А он тащился ни жив ни мертв: а ну как вырубили? Странно, что в течение всех партизанских лет это ни разу не пришло ему в голову. Странно, он сам теперь удивлялся.
Майское солнышко припекало. Монотонно звенели жаворонки. Расстегнув пальто, они двигались в гору, узлы с каждым шагом становились все тяжелее. Юзька высматривала, где бы присесть; несколько километров песчаной дороги порядком ее измотали, но Сад, точно одержимый, почти бежал вверх по холму.
— Чего разогнался, псих?
— Вот за этой горкой, — просопел он.
— Ну и что из того, что за горкой? Прикажешь мне мчаться высунув язык?
Наконец вершина. Взору открывается пейзаж. Среди песчаных пустырей, скудных выгонов, чахлых лесочков на самом его дне озеро.
«Выкупаться бы», — думает девушка. Но ближе, на пологом склоне, ей является чудо: за обширным четырехугольником солидного забора ровные ряды цветущих яблонь и двухэтажный дом. Словно кто-то в пустыне выставил огромный букет цветов.
— Ты не набрехал, Садик. В самом деле кое-что есть, — говорит она, всматриваясь.
Но он уже ничего не слышит. Бежит, рвет на себя калитку, мчится между деревьями.
Из дома выходит, криво улыбаясь, учитель.
— Добрый день! Что за сюрприз! Так быстро… Как я рад!
Но он и этого не слышит. Ходит между яблоньками, осторожно притрагивается к цветам. Плачет. Наконец опускается на землю, прислоняется к стволу, закрывает глаза. Теперь сад, как большая пчела. Теперь рождается плод.
А там, у дороги, снова скрипит калитка. Входит Юзька. Она уже решила: «Сад будет мой».
Учитель кланяется ей в нерешительности. Что это еще за явление?
— А вы что тут делаете? Это не ваше.
— Я только караулю, уважаемая, чтоб не разворовали. И благодарность…
— Ладно, ладно, поблагодарить вас еще успеем. Хватит, накараулились. Мы уже вернулись.
— Мы?
— А что? Не нравится, да?
— Нет, нет, конечно… Я сейчас, сейчас выеду… надо только телегу, лошадь, чтобы вещи…
— Свои-то пожитки и на горбе унесете.
— Я попрошу…
— Проси, проси, сколько хочешь. Я еще проверю, как бы чего не пропало!
И сдержала слово. Только пианино недосчиталась. Но его немцы давным-давно вывезли. Юзька не желала этому верить, пока бедный учитель не притащил свидетелей из деревни, подтвердивших экспроприацию.
А Сад? Он жил. Он снова жил. Снова была у него под ногами своя земля — вся в бело-розовых лепестках, свое небо над головой, полное веток, цветущих и рождающих ровно столько, сколько впитали солнца и ветра. Была у него теперь и женщина, которой добивалось множество великолепных мужчин, а досталась она ему, увальню, впрочем, сперва следовало впитать в себя снова сад, надо было вернуться к себе так, будто ничего не произошло, будто так было всегда. А деревья, слегка уже запущенные, подросли, изменились. Это сразу бросалось в глаза: и потому все, что делала Юзька, было далеким, несущественным.
Итак, он является хозяином всего этого плодоносящего сада и отмеченного достатком дома, обширного, как шуба, скроенная с запасом на полноту, которая еще не обозначилась.







 Основные идеи нашего исторического воспитания сформировались в период национального угнетения, и до сих пор они не в состоянии сбросить с себя наложенные тогда путы. По-прежнему противопоставляются борьба — труду, достоинство — трезвомыслию, честь — реалистическому взгляду на мир, слава — выгоде, неуловимые факторы — рационализму, хотя движущие силы, определяющие судьбы народов в конце XX века, полностью лишили смысла такого рода противопоставления. Замороженное в понятиях польского опыта XIX века польское историческое воспитание не дает нам беспристрастно взглянуть на наше прошлое. А «века говорят», что неврастеническая раздвоенность между Востоком и Западом появилась в польской психике сравнительно недавно, что эту неврастению постоянно питает увязшее в своей традиции воспитание.
Историко-философские идеи развития польского общества родились в XIX веке и до сегодняшнего дня не вышли за пределы понятий, разработанных народом, который был разделен на части и включен в чужие государственные организмы. И сейчас общепринятое понимание родной истории, привитое воспитанием, заставляет выбирать между здравым смыслом и чувством, трезвой мыслью и достоинством, трудом и подвигом — производными двух образов польской жизни под чужеземным господством. До сегодняшнего дня понимание родной истории проливает ложный свет на вопрос выбора между Востоком и Западом: восточная ориентация дает границы, обеспечивающие национальное существование, западная — желанный деловой порядок. Такая историко-философская концепция заставляет выбирать между жизнью безопасной, но не соответствующей требованиям цивилизации, и отвечающей условиям необходимого уровня развития, но смертельно опасной. Обрекаемое на подобный фатализм польское сознание мечется в муках выбора. Бросается в одну сторону — но вслепую, решается выбрать вторую — но не до конца. Ему не хватает надежной системы отсчета, позволяющей определить собственное положение.
Основные идеи нашего исторического воспитания сформировались в период национального угнетения, и до сих пор они не в состоянии сбросить с себя наложенные тогда путы. По-прежнему противопоставляются борьба — труду, достоинство — трезвомыслию, честь — реалистическому взгляду на мир, слава — выгоде, неуловимые факторы — рационализму, хотя движущие силы, определяющие судьбы народов в конце XX века, полностью лишили смысла такого рода противопоставления. Замороженное в понятиях польского опыта XIX века польское историческое воспитание не дает нам беспристрастно взглянуть на наше прошлое. А «века говорят», что неврастеническая раздвоенность между Востоком и Западом появилась в польской психике сравнительно недавно, что эту неврастению постоянно питает увязшее в своей традиции воспитание.
Историко-философские идеи развития польского общества родились в XIX веке и до сегодняшнего дня не вышли за пределы понятий, разработанных народом, который был разделен на части и включен в чужие государственные организмы. И сейчас общепринятое понимание родной истории, привитое воспитанием, заставляет выбирать между здравым смыслом и чувством, трезвой мыслью и достоинством, трудом и подвигом — производными двух образов польской жизни под чужеземным господством. До сегодняшнего дня понимание родной истории проливает ложный свет на вопрос выбора между Востоком и Западом: восточная ориентация дает границы, обеспечивающие национальное существование, западная — желанный деловой порядок. Такая историко-философская концепция заставляет выбирать между жизнью безопасной, но не соответствующей требованиям цивилизации, и отвечающей условиям необходимого уровня развития, но смертельно опасной. Обрекаемое на подобный фатализм польское сознание мечется в муках выбора. Бросается в одну сторону — но вслепую, решается выбрать вторую — но не до конца. Ему не хватает надежной системы отсчета, позволяющей определить собственное положение.

