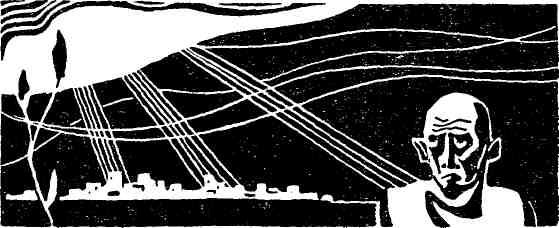Первый рассказ


ИВАН УХАНОВ

Родился в 1938 году в с. Дордаково Горьковской области. Служил в армии, затем работал на стройке, заводе, учился в средней школе, заочно кончил филологический факультет Оренбургского пединститута. Ныне — спецкор областной газеты «Южный Урал». Рассказы печатались в журналах «Наш современник», «Урал», в газете «Сельская жизнь».
МАМА, НЕ УМИРАЙ…

Автобус тащился по бесконечной хляби. То и дело его заносило, он становился поперек дороги и походил на раненого зверя, что устало огрызается от погони.
— Угораздило же меня в такую грязюку… — Сидящий рядом с Дымовым мужчина, стряхивая с фуражки воду, чертыхнулся. Автобус только что застрял в колдобине, и все ходили толкать его. Вывозились в глине, вымокли, и каждый удивлялся — почему люди едут именно сейчас, в эту беспросветную непогодь.
А дождь все лил и лил, густо и тяжело стуча по железной спине автобуса. От оконного стекла несло холодом, обдавало из щелей водяной пылью. Дымов дрожал всем телом и жалел, что в спешке забыл дома плащ. Неудачником, горемыкой видел он себя в эти часы-минуты: все складывалось плохо, против него.
Автобус сильно ударился обо что-то, осел и яростно, но бессильно задергался на месте. Дымов отвернулся к окну и неожиданно для себя заплакал. Слезы нежным теплом окатили щеки, посолили губы; Дымов не вытирал слезы, остро ощущая их забытый вкус; все вокруг — окна, одежда, лица — было мокро от дождя, и, наверно, никто не замечал, что он плачет. И кому было знать, что впереди, за толщей этих трудных километров, в осенней деревушке умирает мать Дымова и он торопится застать ее в живых. Ему надо сказать ей, как бесповоротно виноват он перед ней, как всегда хотел он любить ее, делать ей доброе, хорошее, и все недосуг было, руки не доходили — и вот уж поздно. С острой запоздалой болью и лаской он в мыслях обнимал ее сухонькую, старчески кроткую, целовал маленькое родное лицо — ничего такого не будет теперь в жизни… И раньше он не баловал мать вниманием, а она рядом была, суетливая, добрая, беззаветно любящая их, детей…
Память выхватила из тумана прошлого далекие, бедные времена: сидят они — Коля, Витя, Нина, он, Павлик, и самый старший из них тринадцатилетний Борис — за столом, на полу, на табуретках, а мать ходит с кастрюлей по кругу и разливает жидкую лапшу. С половничек оставит себе. Но все, кроме Бориса, бессовестно просят добавки. И мать делит остатки.
Мысли Дымова тянулись дальше, прощупывая его грустное детство. Он глядел в окно, на мокрое, слезящееся стекло, испорченное пучком трещин. «Камнем ударили и не пробили».
…И увидел вдруг такую же паучью сетку под ногами, услышал хрустко, коленцами расходящийся треск, дико-радостные крики мальчишек. Вот они ватагой, тесно, бегут по зеркалу пруда, молодой тонкий лед, искрясь трещинками, гнется зыбко, опасно, и они визжат от страха и отваги. Шарахаются по льду в жуткой удали, в сладостном риске — выдержит, не выдержит… Ледяная вода оглушила, ожгла, и он отчаянно заорал. А рядом тоже кричали и барахтались, обезумело лезли друг на друга. Хорошо помнит Дымов, как от крайних домов, с кручи метнулась к пруду женщина в одном платье, с непокрытой головой, протянула руки тонущим. А под ней обломилось, она ушла по плечи в воду, и он, Дымов, и остальные ребята бросились к ней, хватаясь за ее голову и шею, чуть не задушили ее, мать Дымова. Потом ему тепло, очень тепло было. Метался в жару, а мать горьким отваром да молоком кипяченым его поила. Не спала две ночи, а глаза ее не были сонными, потому что как же ей спать, если ему плохо. И, глядя на ее блестящие от слез и бессонницы глаза, он клялся себе, что, выздоровев, ответит матери нежной заботой, совершит ради нее несовершимое, станет слушаться ее во всем и любить, как никогда прежде.
Но после болезни все пошло по-старому: с ленцой шел он на зов матери, отлынивал, когда его просили сбегать в магазин за солью, натеребить корове сена, принести с погребка дров. Занятия эти были скучны и мелки. Желал он какого-то особого дела, случая, когда можно будет по-настоящему доказать матери свою любовь. Однако такого случая так и не подвернулось… Город, учеба в институте, женитьба вовсе отдали его от матери. Навещал он ее, вспоминал о ней все реже, в часы одиночества или когда бывало особо туго в жизни.
— Сволочь я, ну и сволочь же, — шептал Дымов, слушая надрывный визг буксующих колес. С глухой смутной ненавистью вспоминал братьев. Махнули в город братья. Только Нинка в селе придержалась, но с матерью не живет — вышла замуж за механика соседнего совхоза. И у всех дети. Нарожать нарожали, а нянчить, растить — кто-нибудь бы. На лето к матери везут: займись, дескать, внучатами, не скучай. Как будто и вправду есть у нее время на скуку, хотя и пенсионерка. Тут и коровенка, и овцы, куры, огород. И все это опять же для них, деток своих: то ли в праздник, то ли к приезду угостить, поддержать их, в городе за все деньги подавай, а тут — бери, ешь, вези — дармовое, свое… Хлопочет, крутится целыми днями, без отпусков и выходных. Трудится споро, любовно, без устали, робко мечтая переделать когда-нибудь все свои материнские дела и на недельку съездить в родные места, откуда прогнала война. Встретиться перед смертью с единственно уцелевшим старшим братом Григорием. И все никак не выкроит время: дети росли — куда от них поедешь! Выросли — хлопот и тревог прибавилось. А тут — внучат орава…
Автобус вырвался из лужи и поплыл вперед, оставляя позади затихающий дождь. «Давай, родной, давай, — молил Дымов, чувствуя, как мотор набирает разгонную силу. — Только успеть… Увидеть ее глаза. Мама! Подожди, не умирай! Я сделаю все… Ты будешь жить. Я подниму на ноги всех врачей, всю область».
Дымов звал кого-то сжалиться над ним, помочь. К черту работу, городскую текучку! Он возьмет отпуск, побудут с женой в деревне. Поживут, за хозяйством приглядят, пока мать съездит на родину, под Смоленск. Он купит ей билет в купе экспресса, проводит: «Поезжай, мама, вечная наша труженица и нянька, поезжай, милая!»
Представил и горько пожалел: такого не было, не получалось. Какой год уговариваются уважить мать. Но… зиму заняты, а нахлынет лето с отпусками, Дымовы — кто куда. Однако успеют малышей к матери свезти, чтобы руки себе развязать. И нынче Дымов все предусмотрел: загодя куплены путевки на сочинскую турбазу, отвезен в деревню Владик. «Мама, прости… Теперь ты не будешь нянчить, не будешь! Хочешь, вдвоем поедем на родную Смоленщину?»
Гул движения дробил мысли, они путались, их было много, трогательных и тревожных.
Дождь умаялся, стих. Небо посветлело, однако все вокруг оставалось угрюмым, неуютным. Слышалось, как жидко, киселем раздавливалась под колесами грязь. Темная сырая пашня, тянувшаяся за окном, наткнулась на жарко-рыжую рощицу старых берез, за которой толпились нахохлившиеся от дождя домики с тесовыми и шиферными крышами.
Дымов взбежал на качнувшееся от ветхости крыльцо, увидел, как оно грязно и густо услежено. С упавшим сердцем приткнулся к двери, страшась открыть ее. «Может, все кончено…» — подумал он и рванул скобу. Тепло и сухо пахнуло в лицо натопленной избой, подовым духом русской печи и свежеиспеченного хлеба.
— Папа! — окликнул Дымова свесившийся с печки Владик.
За приоткрытой занавеской круглился еще один детский затылок. Дымов не задержался, шагнул в горницу, увидел мать и сестру Нинку. Мать лежала на кровати, лицом к двери, глаза были закрыты. Одеяло на ее груди чуть взбугривалось, опадало. Дышит!
— Тиш-ш-ш, — зашипела Нинка, оглядывая Дымова. — Сними ботинки, грязь какая за тобой…
Дымов вернулся в сенцы, трясущимися руками развязал скользкие шнурки, стащил ботинки и, радуясь и злясь будничности Нинкиного голоса, прошлепал по полу босиком и сел на сундук, напротив сестры. Нинка плавно крутила ручку швейной машинки. Рядом лежало скомканное шитье из какого-то старья. Сердце Дымова стиснул острый стыд и жалость. С ненавистью к себе, к сестре и братьям глядел он сейчас на ворох этих обносков, на раздобревшее в замужестве тело Нинки, на ее круглые руки, ловко стригущие ножницами старое платье — ушивает для матери. Носи, мама, радуйся подарком! И так из года в год. Слиняла скатерть, поветшала кофта, поизносилось платье — все матери, в деревне сойдет, любому тряпью будет рада. С каким-то возмущенным изумлением глядел он сейчас на сестру: мыслимо ли вот так спокойно сидеть, уютно чиркать ножницами, быть глухобеспечной, когда срочно надо что-то делать, как-то изменять жизнь!
— Брось ты это барахло! — едким шепотом крикнул вдруг Дымов. — Как мама, что с мамой? Говори же…
Нинка со страхом взглянула на бледное лицо Дымова, на мокрый, в грязных брызгах костюм, заговорила сбивчиво, виновато:
— Приступ. Позавчера еще скрутил… а теперь — ничего. Вставать пробовала, но я не разрешила. Убралась, хлебы спекла, ребятишек накормила…
— Каких ребятишек?
— Наших. Чьих же? Владик, Мишутка мой…
— Наших! Детсад устроили тут. Почему твой Мишутка здесь? Что, дома места нет? Спровадила на шею матери. Ну? Или заработалась, заучилась? Разбедрилась вон как пышка…
— Господи, да что это? Как с цепи сорвался… Поглядите-ка, — глухо запричитала Нинка, готовая заплакать. — Видели: я спровадила… А ты? Твой-то где? И еще скажу, братик, коли так. Нашего тут и не слыхать, смирный. А с вашим Владиком сладу нет, что ни шаг, то пакость: в колодец лезет, в розетку пальцы тычет… Какие нервы надо! Сто рублей давай, не пошла бы к вам в няньки. Измучилась мать с ним, а тут хозяйство еще, скотина, огород… и кругом одна разрывается. А вам плевать! Избаловались в городе… Но нас уж извините, мы пока в совхозе не обзавелись яслями, это в городе их не счесть… А сюда везете.
— У меня же работа, диссертация, отпуск, — слабея голосом, сказал Дымов и уставился на свои босые ноги.
— У всех работа, — примирительно буркнула Нинка, встала со стула, вышла в переднюю. Вернулась, подала Дымову кружку, ломтик огурца. — Выпей с дороги. Посинел-то, сляжешь еще.
Дымов выпил, захрупал огурцом.
— Па-апа! — донесся из прихожей голос Владика. Дымов не шелохнулся.
Он не заметил, как мать открыла глаза, и вздрогнул, услышав ее голос.
— Павлуша… Как же… Озяб, Павлуша. Ах, батюшки, — тихо и радостно заволновалась она и задвигалась на постели, оглядывая и ощупывая себя. Дымов метнулся к кровати, присел на корточки, не зная что сказать, и заговорил горячо и нежно: «Не тревожься, мама, лежи, мама, мы все сделаем, мама», хотя не ведал, где и какие есть дела; ему хотелось говорить матери что-то утешительное, до сладкой боли хотелось произносить само слово «мама». Он глядел на ее жалкое своей худощавостью и бледностью лицо, легонько сжимал ей руку, чувствовал слабость ее тела, видел себя виновником ее слабости, болезни, и, как тогда, в детстве, душу его охватили жалость и любовь.
А мать уже приподнялась с подушки, обеспокоенно оглядывала избу, из окна — двор, горевала, что кругом не прибрано, что три дня лежания отлучили ее от домашних дел и она не смогла встретить гостей как надо, как всегда. Она извинялась даже за то, что больна, что на улице дождь: весной речкой прольет — капли не видно, осенью ситцем просеет — хоть ведром черпай. Такая неудачная погода к приезду сыновей! Потом вспомнила соседскую дочку Клавдию — почтальоншу, которая с испугу разослала всем Дымовым телеграммы: мать плоха, при смерти.
— Ну, егоза, людей-то как взбулгачила, — не то сожалея, не то радуясь, сказала мать и попросила у Нины платье. — Легче мне, ей-богу, вот взглянула на вас… Давай, доченька. Ну сама суди: стыд какой — гости в доме, а хозяйка на печи.
Нинка пробовала уговорить мать, потом достала ей теплое зимнее платье, подошла к кровати, велела Дымову на время выйти из комнаты.
В сенях Дымов надел на босу ногу тесные сухие калоши и шагнул во двор. Под навесом серыми валунами грудились овцы, а дальше, в приткнутом к избе сарайчике, стояла корова. Дверь сарая была открыта, и несло оттуда теплым запахом навоза, мокрого сена. Бродили по-вечернему тихие и осторожные куры, задумчиво вытягивая шеи, ступали в темноту сарая и искали нашест. Калоши тонули в клейкой грязи, и некуда было шагнуть.
По короткой мокрой лесенке Дымов взобрался на низкий чердак. Здесь было сумрачно и сыро, горько пахло березовыми вениками, развешанными над головой, из всех углов веяло шорохами и страхами, сказками и детством. Дымов увидел лыжу, когда-то обитую им жестью от консервной банки. Рядом висело ржавое, без спиц, колесо от велосипеда и крутой, словно коровьи рога, руль. Дымов подумал, что совсем недавно здесь текла его жизнь. Что-то он мастерил, переделывал, и эти, теперь никому не нужные, железки тогда ему очень годились. И оттого что они лежат так, как он оставил их, что их можно посмотреть, потрогать, в душе у него с новой силой вспыхнуло что-то горячее, светлое к дому, к матери.
Он представил, как выглядит эта щелястая, прогнившая крыша под ударами осенних дождей и ветров, как длинны своим одиночеством зимние вечера и ночи матери, как тяжко это одиночество, разбавленное заботами об овцах, курах, корове…
Слезая с чердака, Дымов глянул на стожок сена, обложенный со всех сторон горбылями. «Накосили, привезли… Сама? И навес кто-то починил», — подумал он и вспомнил прошлое лето, как они — Николай, Виктор и он, Павел, — с женами нагрянули сюда из города на два выходных дня. Отдохнуть и заодно помочь матери: навес, ворота, крышу починить. Как обычно, с момента их приезда жизнь в доме понеслась галопом… Точно заводная, мать не отходила от печки, пекла пироги с калиной, оладьи, ватрушки, радостно гремела заслонкой, ухватом. Нина не вылазила из баньки, что дымила без продыха в огороде, и возвращалась красная, в поту, с фляжкой крепчайшего самогона. Два дня пролетели незаметно: в сытых пьяных обедах, застольных шумных разговорах, плясках. Вдруг кто-то вспомнил про заборчик и крышу, и все азартно кинулись в чулан и сарай, искали гвозди, топоры, доски и шли во двор, хмельные, улыбчивые, умиленные всем происходящим. Жены покрикивали вслед: «Переоденьтесь!» Но переодеваться никто почему-то не хотел. Наслаждаясь белизной своих рубашек и городским видом, нежно и даже как-то жеманно брали в руки топор или пилу, садясь на доски, расстилали платочек, поминутно стряхивали с колен опилки, и работа превратилась в какую-то игру, которая на время отвлекла их от стола, дав возможность размяться, повеселиться в свое удовольствие. Не прошло и четверти часа, как из дома выбежала мать и, чуть не плача, призвала всех бросить работу, не позорить ее перед людьми: раз в году собрались вместе — и не посидеть, не поговорить, работой, скажут, задавила. Да провались она, работа! До самой смерти будет работа! Все легко и охотно согласились с ней, потому что и вправду очень уж неловко было им, праздничным и нарядным, возиться с гнилыми досками, ковырять старую крышу. Их ждал по-крестьянски незатейливый, но богатый стол.
И теперь починенный кем-то навес кольнул Дымова укором. Он вышел на крыльцо, присел на перила, вынул волглую пачку сигарет, спички, стал чиркать.
— Ай засырели, Павел Никитич? Что там… Накось мои, — услышал Дымов за спиной знакомый голос и оглянулся. Перед ним стоял дед Влас, извечный их сосед — высокий прямой старик без бороды и усов, а фуфайке и зимней шапке-ушанке.
— Здравствуй, дедушка! — оживился Дымов, принимая из мосластых, иссиня-красноватых пальцев теплый коробок. — Проходи, садись.
Тяжело и осторожно Влас поднялся по ступенькам, присел рядом.
— Ты, дедушка, послаб, гляжу, побледнел. А?
— Что так, то так, — согласно мотнул головой Влас. — Куда ж деваться? Выветрился. Это, поглядь, только земля всегда вон темная да небо голубое. А человек, он линяет, тускнеет…
Помолчали. Дымов мельком взглянул в серые, слезящиеся от старости глаза Власа, увидел в них крестики оконных рам и подумал, что когда-то в этих живых зеркальцах отражался и он, Дымов, сначала голозадым малышом, затем подростком, после юношей-студентом, что глаза эти ежедневно видят жизнь матери, дома, и поэтому им много известно. Дымову хотелось спросить о чем-то важном, о матери, но с языка машинально сорвалось привычное:
— Ну, как тут живете?
— А все так же… Помаленьку. Хлебушек ныне вволю, — сказал Влас и запнулся, припоминая новости. — Прошлой осенью Степан Дубнов помер, председатель наш. Да ты знал его. Одногодок твоему батьке. Они с Никитой и на войну вместе уходили. Вашего подбили, а Степан вывернулся. И вон еще до коих председательствовал! При нем и матери вашей все полегче было… А теперича новый, молодой у нас председатель, чужая как бы для него наша деревня. И Анастасия ему — что пустое место. У него интерес — рабочая сила, а мать — что? Отдала она свое, было время. А тут сердце… Вон как приступ гвозданул, индык я напужался, внучку послал вас оповестить… Что там она сейчас, мать?
— Ничего, лучше, — тихо сказал Дымов.
— Авось, полегчает… Так оно кругом. Обсмотришься: жизнь дает один только бог, а отымает всякая гадина. Жуть… Дружнее нам, людишкам, надоть друг за дружку цепляться… А мать у вас одна. Вы бы жалели ее, — в раздумье, с легкой укоризной говорил Влас. — Ведь одна-а! Ну? А на свете, поглядь, все купишь-достанешь, окромя отца-матери… Я вот и рад бы иной раз подмогнуть ей, да где тут… выветрился. Недели две, чай, навес налаживал. Скажи — куры нахохочутся, а в молодости иль, скажем, тебе вот сейчас это дело трех часов не займет. Верно?
— Понимаю. Спасибо, — сказал Дымов, бросил окурок и поник головой.
— Да оно бы еще туда-сюда, будь матерьял под рукой, — продолжал Влас. — Сарайчик хотел Анастасии намедни починить, крыша-то — видел? — из камыша, затрухлявилась, дождь начисто прошивает. И всего-то листиков двадцать шиферу надо, а поди ж найди. В колхозе есть матерьял, и вроде бы равноправие общее, а все одно скорее прошибает тот, что побойчее да к начальству ближе.
— Шифер будет. Завтра же пойду к председателю. Все сделаем, — твердо сказал Дымов.
Из проулка выскочил зеленый, ушлепанный грязью вездеход, подрулил к Дымову. Открылась дверца. На дорогу спрыгнул Виктор: высокий, длиннорукий, взглянул на дом и как-то слепо, неуверенно шагнул к крыльцу. Следом вышла жена Виктора Сашенька, толстая глазастая брюнетка, и младший Дымов — Николай, рослый, большеголовый, с лицом цвета бетона. Они подошли к ступенькам и замерли, уставившись на Дымова.
— Ничего матери-то вашей, легче, — кашлянув, буднично сказал дед Влас. — Сердце у нее…
— Мамочка! — воскликнула Сашенька, колыхнулась своим мощным телом и неуклюже зашлепала по ступенькам. Топая и поскальзываясь на грязных половицах, все шумно повалили в сени.
— Вот и говорю: сердце… — оставшись один, договаривал Влас. — Материно-то сердце в детках, а детское — в камне. — Он встал, сделался прямым и высоким, сошел с крыльца и зашагал к своему дому.
Часа через два Дымов потащил старика на семейный ужин.
— Нет, Павел Никитич, не пойду, — упрямился Влас. — Люди вы молодые… Чего мне там? Буду торчать средь вас, как пугало в горохе.
— Не обижай, дедунь… Ждут все. И на мать погляди. Встала, ходит мама! Она за тобой и послала.
— Коли так… К Анастасии я пойду, от ее зова грешно отказаться.
Дымов усадил Власа рядом с матерью, сам он за стол не сел. В клеенчатом фартуке вертелся с Нинкой на кухне, с готовностью исполняя каждое ее поручение: резал лук, мыл рюмки, лазил в погреб за солениями, подкидывал в печь дровишки. Ему нравилась эта веселая суета на виду у матери и родных, нравился их смех над его неопытностью в кухонных делах, он и сам улыбался всему, что видел и слышал. Пили с радости, что мама жива-невредима, пили с дороги, чтобы согреться, пили с устатку. Дымов ел мало, на бегу чувствовал оглушающий жар в жилах и с наслаждением отмечал, как скоро и хорошо пьянеет. Лишь дед Влас и мать не замечали спиртного, сидели, как святые, и лица их дышали счастьем. Дымов глядел на мать и все выискивал, какие сказать ей слова, чтобы она и все сидящие поняли, как он любит ее. Из какого-то трезвого кусочка его мозга прорывалась сквозь толкотню весело-пьяных мыслей нужная и верная, и Дымов норовил дать ей ход, развить, запомнить. Эта мысль несла в себе все высшее, светлое, чем полнилось растроганное сердце Дымова. Но хмель тупо тяжелил голову, не давал сделать эту мысль ясной, готовой для высказывания, и он же без удержу торопил высказаться. Дымов оглянул стол, лица, высоко поднял рюмку и громко, очень торжественно воскликнул:
— Товарищи!
Все повернулись к нему, притихли.
— Товарищи, я счастлив видеть вас и нашу дорогую маму за этим семейным столом… Вот она, мама наша! Вспомните, как она в войну осталась с нами одна. На руках пятеро, мал мала меньше. Всех она вырастила, воспитала, не растеряла ни одного… И все хорошее, что есть в нас теперь, за что нас, Дымовых, в обществе признают, — это все от нее, от нашей мамы…
Голос Дымова становился тише, четче. Слушая его, все задумчиво и отрезвело смотрели перед собой, и перед каждым зыбился холст памяти, мелькали картины прожитого. Мать глядела в лицо сыну, губы ее мелко, нервно дрожали, тянулись скривиться, и она прикрывала их уголком косынки.
— Всю жизнь она — для нас, а мы? — продолжал Дымов. — Увлеклись работой, рыбалками, женами. Да, да! А мама, единственная наша мама, — на задворках… Стыдно? Да, очень. Мама, прости нас! Береги себя, мама. Мы поможем, всегда будем… Сто лет счастья тебе, мама!
Дымов опрокинул рюмку, со стуком поставил ее на стол. Кто-то захлопал в ладоши, загалдели. Тинькнули стаканы.
— Да, сынки, да! Мать — оно… Жена, поглядь, для совета, теща для привета, а уж нет милей родимой матушки, — прослезившись, забормотал дед Влас, притянул к себе голову Павла Дымова, шепнул: — А ты шиферок-то, смотри…
Дымов радостно сграбастал старика, куда-то поцеловал его, затем поднялся для новой речи. Хотелось сказать что-то приятное, объединяющее всех, кто сидел за столом. Говорил он о том, что чаще надо вот так встречаться, видеть родных веселыми и добрыми, «дружнее цепляться друг за дружку», заботиться, помогать, потому что все в жизни сложно, взаимоблагодарно: вот он, инженер, делает машины, на которых ездит Виктор и еще тысячи других Викторов, а Николай строит дома, и в них живут тоже тысячи, Борис возит грузы в самолетах. На первый взгляд, у каждого свое дело, каждый работает себе, ради зарплаты или еще чего, и не печется о том, кому станет лучше, кто когда-нибудь получит пользу от вынутого кубометра земли, уложенного в стену кирпича. А это вовсе не так. Каждый взмах руки кузнеца, каждое движение рабочего превращаются когда-нибудь в добро, в общее добро для всех. И если каждый из них, Дымовых, будет делать по чуть-чуть для матери, то ничего не потеряет, и всем станет хорошо.
И еще он что-то говорил и видел, как его вежливо хотят остановить, потому что уж очень длинна и замысловата показалась его речь. Всем хотелось сиюминутной простоты, ясности, веселья. Дымов чувствовал, как намечающаяся ценная мысль о доброте, о матери, идущая из самых его глубин, ускользает все дальше, плавится в жарком тумане тела, в разговорном гуле сидящих за столом. Он слышал, как они ублажают мать, зовут ее жить в город. Звал мать и Николай. «А этот врет. Нажрался совсем, — подумал Дымов, слушая младшего брата. — У самого комната — на троих. Куда же мать тянет? Ах, длинногач?»
— …газ, вода разная: один кран вертанул — кипяток, другой — ключевая. Хотишь, ванну напусти и плавай, челюпахайся… Все под рукой: и баня, и колодец, и печка. Вот жизнь, мам! Ни дров, ни угля — ничего, а только знай вентили включай, — продолжал Николай, и цвета бетона лицо его потно и густо краснело.
— Нет, Колька, ты сиди, — возражал Виктор, более трезвый на вид, по-шоферски осмотрительный. — Живешь черт знает где. Словом, Черемушки. А я — в центре, пуп города. Кинотеатры, базар, цирк — все тут. И уж если решать…
Долго еще спорили, советовались, как устроить все лучшим образом, и только мать сидела совсем онемелая и улыбалась чему-то. За нее, при надобности, высказывался дед Влас, потому как «все у них с Настасьей заодно, всю дыханию ее он знает».
— Эт-то лучше б не затевать, — бурчал Влас, заслышав о переезде матери в город. — Тут у ней хозяйство, свой угол. А там чего она? Птичкой в клетке будет. Ешшо на какую сношку наскочит… Э-эх, сладко ли на цыпочках да вприглядку в чужом углу-то жить? Наслухались мы.
Дымов поддержал Власа и даже привел какую-то удачную пословицу насчет родного уголка, куда они соколиками слетаться будут. Стали говорить о помощи: чем и как облегчить одинокую старость матери. Дымов веско и деловито напомнил о шифере, который он достанет завтра же; еще он намерен потолковать с новым председателем, с этим гнусным верхоглядом, чтобы впредь тот знал, какие люди окружают его, кого он забывает и не ценит. А чтобы у мамы больше оставалось времени для покоя и отдыха, Дымов увезет своего хулиганистого Владика. Конечно, все это аванс, в будущем он устроит матери что-то более значительное…
Потом выпили. Сашенька, разомлевшая и румяная, откинулась к стенке стула, прищурила черные лупастые глаза и робко запела о бирюсинке. Все спохватились, что не пели еще, разом оборвали разговор и подхватили песню.
А Дымов засыпал, глаза его совсем ничего не видели, в носу горчили слезы, и, забываясь, он свалился на диван. Падая в легкую, затягивающую пустоту, он чувствовал на шее горячие, мягкие, точно блинчики, ладошки Владика и все рвался проснуться и сказать ему что-нибудь ласковое…
Легли поздно и проспали до полудня. Дымов открыл глаза и испугался, что в окне дневное солнце и надо что-то наверстывать. Он встал, вышел на кухню и попал в объятия Федора, рыжеватого, низкорослого крепыша. Нинкин муж был уже под хмельком, так как Нинка с утра раздобыла где-то четверть самогона. Бутыль стояла посередине кухонного стола, грозная и величавая, и твердо обещала веселый день. Федор приехал на тарантасе из соседнего села за Нинкой: без нее он как без рук.
Один за другим из горницы вышли Виктор, Николай, чуть погодя Сашенька. Словно что-то припоминая, все конфузливо потряхивали головами, заспанно улыбались.
— Вот уж и повскакали. В городе бегом да бегом, а тут куда спешить, — суетилась мать, подавая каждому свежие рушники.
— А Борис, авиатор наш, что ж не приехал? Высоко летает, кучерявый. Его и телеграммой, видно, не сразу достанешь, — гоготал Федор, кружа по кухне и мешая всем. — Но молодцы… Дружно, по-военному. Тревога! — и вот вы…
На загнетке сгрудились в два этажа сковородки, противни, чугунки. Пахло нежным варом молодой картошки, тушеной капустой, укропной мятой. Как только горница освободилась, мать и Нинка мигом перетащили все паренья-жаренья из кухни на раздвинутый поперек избы стол.
— Когда же успели настряпать это, мам?! — искренне подивился Дымов, вместе со всеми садясь за стол.
Мать совсем похорошела за ночь, худенькое лицо ее налилось тонким румянцем, держалась она молодцевато. И тяжелым сном вспомнился Дымову вчерашний день — дождь, автобус, дорога, острая тревога за мать. Теперь он тешился мыслью, что беда отступила, позади, что все пройдет, образуется, как вообще проходят и забываются в жизни всякие передряги. На душе была такая легкая радость, что хотелось бесконечно благодарить кого-то, любить. И уж очень к месту, к мыслям пришлись первая рюмка самогона и красный, ядрено растаявший во рту соленый помидор. После второй стало совсем хорошо, захотелось курева, разговору. Тараща голубые и уже бестолково-пьяные глаза, через стол к Дымову тянулся Федор.
— С шуриным-то ай не хошь? Городской, да?
Дымов, сопротивляясь, взял из чьих-то рук граненый стакан и с напускной брезгливостью уставился на него.
— По третьей, по третьей! — поддерживая мужа, призывала Нинка. — Закон: по третьей, а там кто как может… насиловать не станем.
Двумя емкими глотками Дымов осушил стакан и увидел перед собой частокол вилок с закусками, добродушную улыбку Федора, услышал его сочувствующий голос:
— Н-да, никак не идет, зараза, ты ее туда, а она еще дальше…
Засмеялись, и Дымов подумал, что с этим веселым крепышом Нинка никогда не пропадет, она и толстеет-то, верно, от его шуток и доброты. И вообще, куда бы ни глядел Дымов, что бы ни слушал, все кругом казалось понятным, устроенным, ласкало слух и глаз. Мило и безобидно выглядел на коленях матери Владик, было что-то уютное, умиротворяющее в его приятно-картавом лопотанье, в детском толковании окружающего, во всем этом извечном, святом содружестве ребенка и старого человека. Без внучка на руках мать представлялась обедневшей, лишенной чего-то: так шел к ее морщинам, кротости и доброте внучек. И Дымова опять потянуло произнести тост, выплеснуть во всеуслышание радостный настрой души. Но вдруг его словно холодком окатило: он вспомнил, что надо идти к председателю. Но идти за делом к незнакомому человеку пьяным — значит, наверняка все испортить. Дымову стало скверно. Он враждебно посмотрел на стол, на краснощекого Федора, ругнул себя: дурак, если бы не тот, последний стакан… Но кругом клубилось веселье, и Дымов принялся уговаривать себя: больше ни капли, охладею еще до вечера, сбегаю к председателю. И опять с упоением стал он глядеть на родных, ловить в голове новые мысли о матери, которая, может, занемогла в тоске по ним, детям и сразу налилась жизнью, расцвела при виде их.
Короток октябрьский день. С востока вместе с ветром надвинулся вечер, постриг солнце, слизал и растворил в бордовом сумраке его лучи, и оно холодным малиновым шаром затонуло в синих, точно застывшие волны, далеких холмах.
Федор глянул в окно, встал из-за стола и пошел запрягать лошадь. Велел Нинке поспешать собираться: ночью по такой грязюке не сладко ползти. Заторопились и Дымовы: дотемна надо успеть выехать на большак. Пуще всех хлопотала мать. Она уговаривала заночевать, надеялась, что так и будет, но все были непреклонны, всех где-то ждала работа, строгий порядок. Тогда ринулась она в чулан, оттуда — в погреб, тащила отовсюду яйца, помидоры, капустные вилки, стеклянные банки с желтым коровьим маслом и сметаной, белые пласты свиного сала, запорошенного солью и чесночной крошкой. Все это она торопливо совала в мешочки, в какие-то старые сумки, в газетные кульки.
— Ну зачем же, мама? Ну что вы… — виновато и благодарно ворковали сыновья.
Перед выходом из дома столпились вокруг стола, махнули еще по одной, допив остатки, — не пропадать же добру. Под ноги к Дымову подкатился откуда-то Владик, уцепился за штанину, захныкал.
— А ну, собирайся… Где пальтишко? — заботливо и строго сказал Дымов. — Вот разбойник, чуть без тебя не уехали.
— Как хотите, а детей не дам, — вдруг с несвойственной ей твердостью сказала мать. — Куда их на ночь глядя. Сами, помоги господи, доехали бы… Нет и нет!
— Не бойтесь, мама. Не такие мы пьяные. Вот я, например… и за рулем опять же я буду, — размахивал длинными руками Виктор, но его никто не слушал, и он потопал во двор заводить машину.
— Покрой голову, Витенька! Надует у окна-то… Не лето тебе. — Мать выбежала следом.
Басисто зафыркал мотор, нетерпеливо и резко прозвучали гудки, подстегнули, ускорили сборы. В последний раз оглянула мать сыновей и разом сникла, как-то уменьшилась вся, и вдруг беззвучно закашляла в платочек. Все тянулись к ней, обнимали, утешали и пятились к вездеходу, залезали в его темное нутро. И вот она, маленькая, плачущая, осталась на крыльце совсем одна. А за ее спиной, расплющив носы о стекло, глазели из окна на отъезжающих Мишутка и Владик. И Дымова пронзила вдруг жестокая отрезвляющая жалость, хотел он что-то сделать в этот последний миг, но тут его мягко качнуло, понесло.
— Слезь с сумки, медведь! Там же помидоры, — сердилась на кого-то впотьмах Сашенька.
Не набрав скорости, машина вдруг тупо и резко стала, словно наткнулась на что-то. Дымов высунулся в окошко и увидел Власа. Старик стоял без шапки, на его розовом черепе ветер трепал пучочки седых паутинок, забрасывал на лицо концы старого шарфа, которым была укутана его шея. Перемогая ветер и шум мотора, он кричал хрипло и слабо, давясь одышкой и кашлем:
— Шиферок, Павел Никитич! Шиферок-то как?
— Будет, дедунь! Сделаем. Я из города председателю напишу… Я ему!.. Он у меня… — с грозной улыбкой прощально потряс кулаком Дымов.
ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ

В ту весну я крепко простудился и попал в больницу. В палате нас было двое. Третья койка пустовала.
В больнице люди сближаются скоро, как в поезде дальнего следования. В течение дня мы как-то легко нашли общий язык, а вечером, приткнувшись лбами к холодному стеклу окна, смотрели на огни нашего районного городка и простуженными глотками мычали лирические мелодии.
Утром к нам из хирургического отделения перевели мрачно молчаливого, широкой кости мужчину. Он поздоровался, разделся, лег спиной к нам, завздыхал… В палату вошла Людмила Сергеевна. Улыбнулась, в прищуре густых ресниц вспыхнула горячая синева, и мы почему-то разом опустили глаза. Она подсела к Фомичу — так назвался новенький, — ладонью стала ощупывать его живот.
— Нет уж, не поможете. Помирать меня сюда привезли, — обреченно вздохнул Фомич, как в пустое место взглянул на врача, задумался на минуту и спокойно, с какой-то хозяйской расчетливостью добавил: — Оно ведь… умереть сегодня — страшно, а когда-нибудь — ничего. Э-эх, что там. Вволю наешься, да вволю не наживешься…
Людмила Сергеевна помолчала, послушала наши спины и груди. Уходя, посоветовала закрыть форточку: сырость, ветер. На дворе и вправду было невесело. С тяжелого, набухшего дождем неба косо по ветру падал мокрый снег, таял в холодных лужах. Мимо окна тащились прохожие, скучно шлепая по грязному тротуару. При одном взгляде на улицу прохватывал озноб. Выпадают же весной такие тошные дни!
После ужина мы легли, норовя забыться, уснуть. Ожесточенно ворочались с боку на бок. Сон не давался.
— Томитесь, хлопцы? — осторожно заговорил Фомич. — Терпеть надо. Сразу душу не выплюнешь. Это я о себе… Вам что! Жизнь впереди. А мне вот подошло время отпрягать…
— Куда там! Вы еще нас переживете, дядя. Для такой комплекции и сто лет — шутка, — с незлой завистью сказал Володя Ланеев, донельзя сухой и высокий парень с просторными залысинами на загорелом лбу, киномеханик районной кинолетучки.
— И пожил бы когда-нибудь, а теперь нет, — квело мотнул лохматой головой Фомич. — Нету, хлопцы… Аппетита нету. Пища, еда для меня нынче вроде бы тяжкой работы. А не евши, кто ж не помрет? Но, бывало, скажу вам, охоч я до жратвы был…
В молодости, как рассказал Фомич, — а теперь ему за полста, — обладал он недюжинной силой. В войну, случалось, впрягался вместо убитой лошади, один волок «сорокапятку» на огневую точку. О таких говорят: руками подковы гнет. А хвать, согнула болезнь его самого в подкову. По правде сказать, виною всему не болезнь, а другое. Помогал Фомич перестилать пол в конюшне, там жеребец и лягни его под печенку. В районную больницу привезли в беспамятстве и с колес — в операционную. Второй месяц Фомич в больнице, а сколько еще пробудет — никому не знать. Не зарастает шов в боку. Заморенный лежанием, бездельем, уколами, всяческими микстурами и не ведая конца этому, он, ранее не имевший дело с больницами, горько, смертельно затосковал, кусок ему не лез в горло. И теперь не один бок, «все нутро залилось болестью и такая-то слабость в теле, что дальше и некуда».
— Ну какой я работничек с эдакой прорехой? — неловко и жалко ухмыльнулся Фомич, бледными дрожащими пальцами ощупывая рану, заклеенную марлей. — И зачем жить тогда?..
Фомич поглядел на нас и, спохватившись, забасил:
— Извиняйте, хлопцы. Вы спать, а я с болячками своими… Оно так. Вы, вам… Молодым, как и здоровым, все здорово. Эх, что уж там… Спать будем, братцы.
В мягких тапочках по коридору прошлепала еще одна больничная ночь. С утра подсушенное морозцем небо опять размокло, продырявилось и снова вяло посыпал дождь, заплакали окна.
До обхода к Фомичу пришли. Через оконное стекло он долго и громко разговаривал с огромным, круглолицым, под стать себе мужиком, в плаще и помятой мокрой фуражке. Тот кричал ему что-то и, ежась от дождя, беззвучно хохотал. Казалось, он просто издевается над Фомичом: нельзя же так скалить зубы, разговаривая с больным человеком. Фомич с радостной хлопотливостью кричал в стекло:
— Ты зайди к Насте, понял? Возьми заклепки, в чулане они у меня. Скажи — я велел. Отдаст. На складе их сейчас — шиш. А разводной ключ у Гришки Валуева…
Человек в фуражке по-ротфронтовски потряс кулачищем и пропал. Фомич отошел от окна, сказал:
— Вот бугаина, видали? Ржет… Шуточки ему. Куда ты, дурень, помирать собрался, говорит. А для кого же мы твой посевной агрегат отремонтировали? В другой раз, дескать, перевода на тот свет попросишь — перечить не станем. А нынче — нетушки. Весна вон какая! Тушуется мой помощничек. Да и бригада, знаю, ждет.
— На перевязку. — В палату вошла Людмила Сергеевна, взглянула на Фомича. — Живо к сестре, в процедурную.
Фомич обвел нас в миг погрустневшими глазами и послушно, как цирковой медведь, потопал за врачом к выходу. Вскоре вернулся, тяжело, с мрачной торжественностью прошел к постели, лег. Обеими руками он прикованно держался за живот, словно за гранату со снятой чекой: отпусти руки — взорвется.
— Наклеечки все мажут. Сколько же стряпать так-то? Н-да. Брюхо не овчина, его не выворотишь… не заштопаешь.
В глазах Фомича — тоска, раздражение. Вдоль коек туда-сюда бесцельно, с какой-то упрямой ритмичностью болтался на неуклюже-длинных ногах Володя.
— Тебе не скучно там одному? — хмуро буркнул Фомич.
— Где? — не понял Володя.
— Наверху. Вон какой! Потолок задеваешь…
— Не твое дело. Какой есть, — огрызнулся Володя.
Стихли.
И стало тяжко от больной тишины. Перед вечером из коридора крикнули:
— Фомич, на выход! Жена пришла.
Минут пять он продолжал лежать с каменно-задумчивым лицом. Затем встал, грустно и измученно взглянул на нас:
— Ну, скажите, чего она ходит? Компотик, кефирчик таскает… пополам со слезами. И охи-ахи. К черту! Лучше бы Егор снова пришел да отматерил еще разок… не ко времени расхудился я, завалялся, как помет в опилках…
Вернулся Фомич еще более расстроенный, угрюмо хмыкнул:
— Вот выделывают, а? Путевку совхоз на меня затребовал. Сбагрить с глаз долой… Чтоб не мешался, значит. В санаторий засадить хотят. Не нужен стал, списывают… Пришла, обрадовала.
— Зря ты вопишь, Фомич, — сказал Володя, не отрываясь от книги. Он лежал поверх одеяла, в пижаме, удобно задрав длинные ноги на спинку кровати. — Тебя здесь лечат, ешь, пьешь задаром. И совхоз, видишь, не забывает. Путевочка — дело стоящее. И опять же задарма… Вот и лежал бы…
— Лежа не работают. Хорошо на печи пахать, да?!
— Не всегда же пахать, и поглядеть можно…
— Гляденьем сыт не будешь.
— Накормят, не беспокойся.
— Это ты приучен не беспокоиться о хлебе, киношник. Знай — кинцо покручивай. А что там — земля, как? Сеют ли, жнут — для тебя это мертвый интерес. А мы… Я, может, для того и живу на свете, чтобы эти два дела хорошо сделать…
— Сделают, посеют, — с беспощадным равнодушием буркнул Володя, словно речь шла о форточке, которую надо закрыть. Вдруг он приподнялся на локтях, отложил книгу, затараторил:
— Не выношу рыцарей. Запинается, а туда же — трактор, комбайн подавай ему, бригада ждет. Гер-рой. Только в кино да в книжках так выпендриваются. И вообще зачем это: то о смерти хнычет, тоску нагоняет, то в поле рвется, будто не обойдутся без него.
— Обойдутся, кто ж спорит. Обойдутся, — тихо, упавшим голосом пробасил Фомич и надуто и как-то бессмысленно уставился в лежавшие на коленях свои крупные, неузнаваемо бледные ладони. Потом снял пижаму и лег лицом к стенке.
Проснулись мы от яркого света. В окно напирали солнечные волны, глаза щурились от чего-то ослепительного голубого и желтого. На стенах колыхались радужные кружки. Фомич, одетый, гладко причесанный, сидел на стуле и смотрел в небо. Ласковое ожидание и грусть выражали его чуть запавшие, красноватые от бессонницы глаза. После завтрака он сказал мне:
— Пошли землю смотреть.
По лестнице мы поднялись на второй этаж, встали у окна, что выходило на запад. В глаза нам глянул молодой, начинающий зеленеть прибольничный садик. Голые ветви деревцев были усыпаны крохотными листочками, похожими на зеленых бабочек со сложенными крыльями. Фомич тихонько толкнул в плечо:
— Смотри. Да не туда. Подыми глаза-то.
За садиком, от асфальтовой дороги и до волнистого далекого горизонта размахнулось огромное иссиня-черное море пашни. Лишь кое-где тоненькими блинчиками белел на ней снег. Солнце славно припекало землю, и, напоенная дождем и водополицей, она искрилась и дышала голубоватым паром. Низом, сливаясь с пашней и поблескивая черным глянцем крыльев, с праздничным кагаканьем носились грачи.
— Вот оно как! — гордо тряхнул головой Фомич. И снова нахмурился. Я сказал ему, что работаю учителем в этом райцентре, а раньше, до учебы в институте, жил в колхозе, пахал, сеял и что поэтому понимаю его, хлебороба, сочувствую.
— Ладно, — нервно махнул рукой Фомич. — Та приходит с жалостью и ты… А меня бить надо. На фронте, помню, шалопаем считали того, кто перед крупным наступлением в госпиталь угождал…
В палате выставляли вторые, зимние, рамы. Плотно пригнанные к косяку, отсыревшие, они не поддавались усилиям двух нянечек. Фомич взял у одной из них топорик и ловко, легко вынул рамы из обоих окон. Осыпаемый «спасибами» женщин, напросился в помощники. Ушел с ними в соседнюю палату, но скоро вернулся, так как попался на глаза Людмиле Сергеевне.
— Ну, не тюрьма, а? Хуже. В тюрьме, слышь, работы не лишают, — возмущенно басил Фомич, а сам был весело взбудоражен, глаза его сверкали, нетерпеливо ладонями шмыгал он по коленкам, никак чесались они. За обедом он был шумливо разговорчив и на удивление голоден. Выйдя из столовой, полез на второй этаж землю смотреть.
Следующий день опять пришел веселым, солнечным. Ходячим больным разрешили погулять в садике. Мы бродили по теплому ковру из прошлогодних листьев, лежавшему на иглах молодой зелени. Освежающе-горький запах издавали волглая земля, юные деревца, курчавый житняк,
и кружилась тихонько голова от этой дивной свежести.
Около старой цветочной клумбы с лопатами и граблями хлопотали женщины в белых халатах. Фомич подошел к ним, громко и деловито поздоровался, шутливо отнял у одной лопату. В его руках лопата сделалась игрушечной, и, словно играючи, стал он копать ею сочный чернозем. Туда-сюда по грядке прошелся, присел, взял комочек земли, раскрошил на ладони, понюхал, улыбнулся:
— Самый раз… Горошком рассыпается. Нынче-завтра наши в поле попрут.
Кое-кто из больных белил деревья.
— Если вам так хочется, возьмите кисть или грабли, а лопату бросьте. — К Фомичу подошла Людмила Сергеевна, строго сдвинула по-мальчишечьи ровные брови, сгустилась синева в глазах. Как ребенка, прижал Фомич лопату к груди, хмуро сощурил веки, отшагнул назад, постоял и молча, осторожно копнул разок, другой…
— Дело ваше, — уходя, сказала Людмила Сергеевна. — Как же вы вылечитесь…
— А так! На живом все заживет. Засохнет как на собаке! — вызывающе-уверенно и весело крикнул ей вслед Фомич и с какой-то радостной яростью накинулся на землю. Я шел следом, граблями рыхлил грядку. Хорошо было вдыхать свежесть земли и воздуха, жить ощущением мускулов, чувствовать их забытую упругость, слизывать с губ соленую сухость пота. Блаженствовали и те, кто группками сидели за столиками на припеке, играя в шахматы и домино.
— Без хозяина земля круглая сиротинушка, — как прибаутку, повторял Фомич и все подравнивал, лелеял вскопанную грядку, бурчал ласково: — Вот так, милая, так, голубушка…
Широкое, доброе лицо его порозовело, на лбу и верхней губе сверкала росистая высыпь.
После обеда он лег на койку, снял с себя мокрую рубаху, прикрыл ею лицо, завздыхал сладко, удовлетворенно.
— Пахнет-то! Надо же…
— Повесь на солнышко — высохнет. Распыхтелся тут, — сказал Володя.
— Киношник, — насмешливо и устало хмыкнул Фомич и затих.
Глубокое, шумное, на полную мощь легких дыхание заполнило палату. И от этого дыхания и терпкого запаха здорового пота ожили в памяти и заструились живые картины: зеленый, веселый сенокос, жарко-текучее марево, серебристые фонтаны кузнечиков из-под ног, косцы в уютной тени берез, их глубокий мирный сон, в котором и богатырская ширь, и детская святость труженика. И временной нелепостью показалось мне наше пребывание в больнице. Верилось: завтра все изменится к лучшему, все станет иначе.
— Распыхтелся-то… Скажи, а? — сердито улыбнулся Володя и осторожно, чтобы не шумнули пружины, улегся в постель.
АДОЛЬФ ШУШАРИН

Родился в 1934 году в Мишкинском районе Курганской области. Журналист. Учится на 4-м курсе литературного института им. Горького, а до этого закончил горный техникум, работал в шахте, в экспедициях. Печатался в «Уральском следопыте», «РТ», центральных и местных газетах.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПОНТОН
…Началось строительство крупнейшего в Западной Сибири нефтепровода Усть-Балык — Омск, протяженностью 1000 километров.
(Из газет)

1. Приехали
Обь в этом месте круто заворачивала вправо к синеющему лесом материку. Черная таежная вода не поспевала за руслом. Она давила в берег, бугрилась медленно растекающимися блинами, упруго закручивалась и выталкивала грязную пену.
Берег над омутом откололся от основной земли и сполз боком к воде, утопив верхушки деревьев. Они стали расти из него в воду.
Под деревьями вода выкопала в дне яму, в которой всегда жили пять или шесть осетров. В начале осени все они ушли вверх по реке давать жизнь потомству. К ледоставу в яму вернулись двое, остальные запутались по дороге в неводах и пропали.
Эти двое остановились в яме на своих привычных местах, один — на самом дне, другой — немного повыше. Вода, ослабнув от удара в берег, сорила на них пищу, и они отъедались после трудной дороги.
Днем позже, 26 сентября, к берегу, повыше ямы, приткнулся буксир, а баржа, которую он тащил на поводке, проплыла ниже, но поводок не пустил, и она, описав дугу, сунулась в яр — прижало течением. На барже приплыла на новое место работы группа водолазов из экспедиционного отряда подводно-технических работ. Зимой к яме должен был выйти знаменитый нефтепровод, водолазам назначалось обеспечить переброску его через Обь.
Было холодно. С низовьев шел ветер, гнал волну против течения. Из трюма баржи со спиннингом в руках выбрался самый молодой из водолазов — Кузьмин Женька, бывший матрос. Он поежился и застучал сапогами по железной палубе к борту, оглядывая яр заинтересованными глазами.
Капитан буксира что-то кричал, но слышно было плохо — относил ветер, да Женька и не слушал, занятый своим делом.
— Главное — блесну не посадить! — сказал он, сделал короткий заброс вдоль ближней подтопленной осины — на пробу. Женька не дал блесне потонуть глубоко, чтобы не задела невидные в воде сучья, круто провел ее и вздохнул свободно. Он надеялся, что в корягах живут щуки, а вываживать рыбу рядом с опасным деревом было несподручно, могла уйти вместе с блесной.
Кузьмин продвинулся по борту левее к свободному месту на воде и бросил блесну еще раза три — в разные стороны. Чтобы выманить рыбу из засады, он вертел катушку рывками, блесенка то выскакивала к поверхности воды, то проваливалась, лениво сверкая.
На палубу обеспокоенный остановкой вылез начальник группы костистый старик Иван Прокопьевич Мочонкин, прозванный «Три Ниточки» за употребление одеколона в неизвестные Женьке безводочные годы. Оказывается, на пробках, которыми завинчиваются флаконы с одеколоном, имеется только по три нитки резьбы — не больше и не меньше. Три Ниточки был в шерстяном водолазном белье и шлепанцах без пяток на тощих ногах.
— Опять воду мутишь? — спросил Мочонкин, не дождался ответа и разрешил: — Давай, давай… Может, и поймаешь кого…
Женька Кузьмин молчал и не шевелился, потому что щука вывернулась из глуби под самым бортом, когда он вытянул блесну, да так и осталась столбом. Она озабоченно шевелила зелеными плавниками, дивилась пропаже пищи.
— Килограмма на три… — подсчитал Женька и заторопился, опасаясь, что Три Ниточки может напугать рыбу. Но Мочонкин не успел подойти к борту, щука развернулась колесом и ушла в темную воду.
— Однако, приехали. — Три Ниточки определился на местности и заорал капитану буксира, чтобы правил к другому берегу — ловчее выгружаться.
Кузьмин заторопился, наскоро обследовал блесну и швырнул ее метров на пять дальше места, где затаилась рыба. Выждал время, дал блесне утонуть, покрутил катушку и поймал-таки рыбину, дернулась. Вываживать ее время не было: буксир отваливал, Женька решил, что леска выдержит, подвел щуку к борту и, не дав нырнуть, выбросил плавным рывком под ноги Мочонкину. Щука отцепилась от крючка и запрыгала по железу палубы. Три Ниточки ловко отпнул ее от края, обронив шлепанец, похвалил рыбака и ушел в тепло.
Берег, где обосновались водолазы, был отлогим и сырым. Они выбрали место посуше, сволокли тягачом семь железных вагонов для жилья, выгрузили имущество и отпустили буксир.
Капитан отчалил без слова: до Омска ходу — неделя, а река не сегодня-завтра застынет.
«Зимовать во льду — хорошего нету, вот он и торопится!» — решил Три Ниточки.
Вместе с водолазами на берег слезли мотористы электрической станции, повариха Анюта, водитель Егоров и еще разный народ из обслуги.
Вагоны, построенные на деревянных санях, установили торцами к воде, чтобы ветром не так хватало, и выправили по шнурку. Вагон, где размещались клуб и столовая, определили между жилыми лицом к реке.
Когда дело с устройством закончилось, Три Ниточки позвал водолазов осмотреть реку. Они спустились к воде и, оставляя сырые следы, потоптались на песчаном закоске, куда выходила траншея, уже пробитая в дне реки земснарядом, прикинули что и как.
— Приперлись, а трассы и близко нету, — ворчал Толя Чернявский, царапая ногтем рыжую бороденку, ему не понравилось место.
— Сопливого вовремя целовать надо, — рассудительно заметил Три Ниточки, соображая, что не плохо бы перебросить конец с берега на берег, пока не остановилась река, но дело не состоится, троса не хватит.
— Отпускать надо корыто… — сказал Михайлов.
Земснаряд стоял шагов на двести ниже траншеи, уйти он не мог, хотя и сделал дело, а время припирало. Водолазы должны были принять его работу и составить бумагу.
Решили они, что тянуть не будут, а прямо завтра и обследуют траншею.
Водолазов в группе было трое. Кроме Женьки, Толя Чернявский и Михайлов, старшина, Все они отличались от остального народа каким-то неуловимым флотским щегольством, а Чернявский даже носил бородку для «интеллигентного вида».
Водолазы — элита, голой рукой не трогай. Держатся особняком от остального народа и живут не так тесно. Женя и старик Три Ниточки — в одной половине вагона, Михайлов и Чернявский — в другой, через тамбур. Три Ниточки направился с берега прямо домой, а подводники пошли к катеру проверить снаряжение для предстоящей работы.
Оборудование находилось в порядке, как ему и быть надлежало. Под вечер Кузьмин освободился, вспомнил про щуку, достал из ящика с инструментом окостенелую рыбину, засунутую туда при высадке с баржи, и подался на кухню, к Анюте.
С поварихой у Женьки образовались неясные отношения. Неясные, впрочем, они были только с одной стороны, Анюта давно без ума любила водолаза, а он все не мог решиться на главный шаг, хоть и тянуло его к поварихе, как лебедкой.
«Дьявол какой — не мычит, не телится, а баба извелась вся», — часто думал по этому поводу Три Ниточки, но встревать не хотел: сами разберутся — придет время.
Муж Анюты то ли утонул, то ли деревом зашибло на трассе, старик искал повариху, ему и порекомендовал молодую вдову знакомый начальник участка. С тех пор, года три уж, Анюта кочует с группой по рекам. Работа простая, готовит она только для водолазов, остальной народ питается самостоятельно, в каждом вагоне газовый баллон поставлен — вари, что хочешь. Но водолазов Три Ниточки бережет и держит для них повариху, чтобы не гробили напрасно здоровье сухой пищей.
Женька пришел на кухню и выложил мертвую рыбу. Ладную фигуру поварихи туго обхватывал спортивный костюм, подчеркивая выпуклости, Женьке это не понравилось, но говорить он ничего не стал — обидится еще.
— Может, поешь сразу, Женя? У меня все уж готово… — Анюта заботливо посмотрела на водолаза и загремела кастрюлями.
Женька подумал, что Три Ниточки все равно позже отправит его в столовую, не успокоится, и сел, не раздеваясь, за стол, хоть есть и не хотелось.
Повариха устроилась напротив, подперла ладошкой лицо и стала смотреть, как он ест.
— Рубашка у тебя несвежая, Женя…
«И как она видит все под полушубком?» — поразился водолаз, но спорить не стал.
— Женился бы, что ли? Смотреть некому за тобой… — искала подход повариха.
«На тебе только женись, — соображал Женька, с удовольствием разглядывая красивые Анютины губы, — не разженишься…»
2. Метель
Ночью забуранило. Снежная крупа хлестала по вагонам. Кричали лебеди, уходили с мерзлых озер.
Михайлов растолкал Женьку раным-рано. В вагоне было темно, электростанция еще не работала.
— Спят, сволочи! — ругался Женька на механиков. Он нащупал рюкзак и потащился босиком в комнату к старшине, там горела свечка, оглядеться можно было. Толя Чернявский сидел на кровати в одних трусах и качал сонной головой.
— Белья — по две пары, — командовал Михайлов. — Вода — лед.
— Нам бы твои заботы, — злился Женька. — Поднял — черти в кулачки не бьют!..
Чернявский одевался молчком, не проснулся еще. Пришла Анюта, принесла термос с чаем. «Жидкий опять», — подумал Женька.
— Крепкий — не думай, — сказала Анюта. — А свет сейчас дадут, я механиков разбудила.
Спираль в лампе слабо засветилась, а потом разгорелась и стала давать исправный свет.
Пришел моторист с катера, большой, сапоги до бедер — полкомнаты занял. Вытер снег на лице мазутной рукой и уставился на Михайлова.
— У тебя температуры нету?
— А что? — спросил Михайлов.
— Ты выйди, выйди, — посоветовал моторист. — Охолонь. Ты на реку погляди. Я же вас, как котят, утоплю и сам пузыри дам…
— Правда, Женечка, крутит — не видать ничего, — вставила Анюта, словно Женька тут был начальником, а не Михайлов. Старшина сурово взглянул на повариху, но промолчал, не до нее было.
Пошли на волю. Большой фонарь на электростанции еле светил, а до него и десяти шагов не было.
— Да, — сказал старшина Михайлов и больше ничего сказать не мог, потому что рот забило снегом.
Отошли за ветер, под стену, чтобы можно было дышать.
— Буря мглою небо кроет, — продекламировал Толя Чернявский, а Женька думал, он скажет, что вьюга смешала землю с небом. Женька рассердился, что не угадал.
— Накроешься и ты… — пообещал он Толе.
Из снега вышел капитан земснаряда, в шубе и фуражке с крабом, подошел к водолазам.
— Подпиши акт, — сказал он Михайлову. — Лебеди уходят…
Лебеди орали над самым вагоном, Женька задрал голову, но ничего не увидел.
— Пойдем старика будить, — позвал Михайлов капитана, и все полезли в вагон.
Три Ниточки прел в теплом белье под спальным мешком. На бритом лице морщины сдвинул, думал что-то во сне.
— Не узнаешь, Прокопьич? — капитан продвинулся вперед. — Лебеди уходят…
— Давай акт, — сказал Три Ниточки и сел на кровати. — А я уж думал — отплавал ты…
Три Ниточки расписался в бумаге и отдал ручку Михайлову, тот тоже расписался.
Капитан аккуратно свернул бумагу и спрятал в дальний карман, чтобы не промокла.
— Попробую протолкнуться, — сообщил он, пожал всем руки и пошел из вагона.
— Давай, — кивнул Три Ниточки, когда капитан ушел, — толкайся.
— А не подведет кэп? — забеспокоился Толя. — Оставил уступ — будем ковыряться, как на Баграсе.
— Подведет, — обнадежил Три Ниточки и полез в меховой мешок досыпать.
Михайлов и Толя ушли к себе, а Женька вышел наружу, посмотреть погоду. Стало посветлее, капитан земснаряда завел сирену, чтобы слышали, что он идет по реке.
— Вот садит! — сказал Женька насчет снега и плюнул в летящую у глаз белую стену.
«Ке-гек, ке-гек…» — гуси пролетели над самой головой, едва в вагон не шарахнули — прижало ветром. И лебеди кричали во всех концах, но близко не пролетали, шли стороной.
«Отдышутся на Оби, не сдохнут», — решил Женька.
В соседней комнате Михайлов воспитывал Толю Чернявского.
— Вы когда с Женей к нам прибыли? — спрашивал Михайлов.
— Весной. — Чернявский не ждал подвоха и улыбался.
— Стаж, что и говорить, — похвалил старшина. — Ты уж и про уступы знаешь, которые в траншее земснаряд может оставить. Специалист! Ну, а слыхал ты, к примеру, что Мочонкин с этим капитаном здесь уже вкалывали, когда тебя и на свете-то не было.
Опять пришла Анюта. «Спала бы, — подумал Женька, — мерзнет ходит…»
— Ребята спрашивают, как с работой? — сказала повариха. — Актировать день будут или что?
Женька пошел будить Три Ниточки, чтобы решал, как жить дальше.
Погода не дала работать три дня. Крутило, хоть не выходи. Три Ниточки все дни писал письма и отчеты, а Женька мучил транзистор, письма писать ему было некому.
— Снег пойди отгреби, — посоветовал на второй день Три Ниточки. — Не вылезем скоро.
Занятие Женьке понравилось: работай сколько хочешь — сыплет и сыплет. Он решил выходить каждый час, а в перерывах вступал со стариком в беседу.
— Детям пишете? — интересовался Женька.
— Им, — соглашался Три Ниточки и писал дальше.
Разговор на том заканчивался, и Женька ждал, когда придет время отбрасывать снег, смотрел на часы.
Как-то Три Ниточки разговорился и описал Женьке всех дочерей и сынов, кто где и чем занимается.
— Собрать бы как-нибудь всех, — мечтал Три Ниточки. — Дом есть в Николаеве…
— За чем дело стало? — спрашивал Женька.
— Где там, — вздыхал Три Ниточки. — Разве что помру — соберутся. А так — не собрать, однако…
Мочонкин надоел Женьке: пишет и пишет, под вечер Кузьмин решил сходить к Анюте, есть захотел и вспомнил.
В столовой поварихи не оказалось.
Женька стал пробираться к вагону, где жила Анюта, пришел и ткнулся вместо двери в сугроб, присыпало.
— Женя?! — обрадовалась повариха, когда он откопал ее. — Не могу выбраться… Ладно еще ребята с той стороны топят — тепло, а то бы замерзла вовсе. Стучала в стену — не слышат, тамбур там…
У Женьки запершило в горле, но он справился.
— Вечно у тебя — не как у людей. Везде двери внутрь ходят, а у тебя что?..
— А я-то при чем? — удивилась Анюта. — Как сделали, так и висят…
Женька ушел, решив, что переделает дверь, как утихнет погода.
Стихло ночью. Вызвездило, и тучи куда-то ушли.
— Пойду взгляну на реку, — придумал Три Ниточки и стал собираться.
Старик не спал, и Женька не спал — надоело.
— Пошли, — сказал Три Ниточки. — Тоже зря кровать давишь.
Снег замерз и скрипел, как хромовые сапоги. «В унты пора лезти, — думал Три Ниточки. — Зима». Старик опасался, что не успела дойти землеройка до места и жалел капитана, у того в Омске находилась семья.
Обь не встала. Черная вода шла в белых берегах, как прежде, только под берегом шуршал ледок, а дальше было все чисто.
Женька пригляделся внимательно:
— А река-то вроде горбатая?..
— Верно — горбатая. Воды много, а берега не пускают, вот и пучится на середке, — подтвердил Три Ниточки. — Пошли спать, ноги околели.
Когда пришли в вагон, старик сел на кровать и стал снимать сапоги. «А яма-то под тем берегом не иначе — осетриная, — думал он. — Трубу потянем — беспокойство рыбе…»
3. Аврал
Долго спать не пришлось, на реке завыла сирена.
«Кого еще принесло не ко времени?..» — думал Три Ниточки, вслушиваясь в тревожный звук.
Под окнами загомонили, и кто-то застучал в стену вагона, требовал просыпаться.
— Взяли моду — людей по ночам будить! — сказал Женька.
— Открой-ка! — приказал Три Ниточки. — Бурчишь, как старик.
Пропустив вперед маленькую женщину, в комнату прошел начальник всего экспедиционного отряда Назаров.
— Значит так, Прокопьевич, — начальник приступил к делу без лишних разговоров. Он сказал, что передумал ждать санную дорогу, потому что болота промерзнут неизвестно когда, и привез все нужное на баржах, которые следует разгрузить без промедления.
Незнакомая женщина села к столу и сняла с головы меховой башлык, обнаружив холодное без улыбки молодое лицо. Назаров сказал, что ее зовут Колесникова Нина Сергеевна, она — инженер и будет со своими людьми строить дюкер, который к весне надо перетащить через Обь.
— Я сейчас — в Сургут, оттуда в Москву, — сообщил Назаров. — Тулуп-у вас есть?
Три Ниточки втолкнул ревматические ноги в шлепанцы и пошел за начальником в тамбур. Перед вагоном скопились рабочие. Старик послал одного в склад за тулупом, а другому приказал бить в авральный колокол и будить людей.
— Да встали уж все, — остановил старика Толя Чернявский. — Как сказал поэт: «Не смешите меня…»
Вскоре доставили тулуп. Назаров простился со всеми и пошел к реке. Матрос, поджидавший его на берегу в лодке, подергал за шнур, завел мотор и оттолкнул посудину от берега. На чистой воде матрос дал газ.
Пока Женька и Три Ниточки собирались, инженер Колесникова Нина Сергеевна делала вид, что разглядывает картину на стене вагона, выдранную из «Огонька».
В проходе Три Ниточки придержал Женьку.
— Ты вот что… Не лезь там, куда не просят, не рыпайся. Железо таскать — ума не надо…
Нина Сергеевна усмехнулась.
— Смеху — мало, — обозлился старик, — пристукнет трубой, а твои жлобы в воду за них не полезут!
Инженерша холодно промолчала, а Женьке стало стыдно.
«Змея! — определил он. — Хоть и молодая».
Три Ниточки решил загладить резкие слова и помог Нине Сергеевне подняться на катер по ненадежному трапу.
— Отваливай! — приказал он механику.
Было еще темно, но разгрузка барж шла вовсю. Плавучий кран подавал трубы на берег. Трехпалубный толкач освещал место работы прожекторами. Тракторы таскали на берег железные дома и скарб.
Нина Сергеевна поставила в известность Три Ниточки, что решила остаться со своим народом ближе к трубам.
— Правильно, — сказал Толя Чернявский, стоявший неподалеку. — У вас своя компания, у нас своя компания…
Старик шуганул Чернявского работать. Водолазы пристроились было принимать на берегу трубы, но дело пришлось оставить, когда пакет труб, подтянутый с баржи, загремел в воду. Три Ниточки пришел и отстранил их от опасной работы.
— Таскайте поддоны в одно место, здесь без вас управятся, — распорядился старик.
Водолазы быстро сгрудили в кучу разбросанные по берегу сухие деревянные щиты, которые подкладывают под грузы, чтобы не бились о железо палубы, а больше работы не намечалось.
— Михайлов где? — спросил Женька.
— Дома остался, неважно, говорит, чувствую себя, — ответил Чернявский.
— Эй, борода! — закричал ему какой-то рабочий. — Пособи! — Рабочий толкал по слегам сварочный агрегат со второй баржи.
— Не хочу работать, друг, ни в малейшей дозе, — сказал сварщику Толя. — Я не трактор, я не плуг, я вам не бульдозер.
Сварщик засмеялся, водолазы помогли ему оттащить машину.
Давно рассветало, а прожекторы на толкаче продолжали гореть. Женька пошел сказать, чтобы не жгли зря огонь.
Капитан толкача убрал из прожекторов напряжение, а Женька спустился вниз в жилые помещения, нашел там одного живого человека и потребовал мел. Тот сходил в классную комнату, принес мел и подал Женьке. Человек был после трудной ночной вахты и не удивился.
Женька проскользнул боком по трапу с толкача на палубу баржи, где лежали трубы, зашел с другого конца, чтобы не мешать работе, и выбрал трубу почище. Женя Кузьмин знал из газет, что требуется писать на трубах, он достал мел, потер трубу рукавом, чтобы надпись лучше просматривалась, и написал большими печатными буквами «Труба тебе Аденауэр».
— Это хорошо, конечно, что вы читаете газеты… Только перед Аденауэром стоит поставить запятую, товарищ незаменимый водолаз, — сказала за спиной Женьки инженер Нина Сергеевна Колесникова. Она равнодушно осмотрела Кузьмина и пошла по своим делам дальше, подняв кверху подбородок.
Женька потихоньку убрался с баржи, но запятую в нужном месте поставил.
Трубу вскоре подняли и положили на берег. Первыми писанину обнаружили рабочие, которые принимали трубу, потом собрались другие.
Собрание разогнал старик Три Ниточки. К обеду баржи разгрузили. Караван, спугнув отдыхающих лебедей, отошел в Сургут.
— Дотянет, деваться ему некуда, — сказал водолазам знакомый сварщик, провожая судна глазами, и ушел отдыхать.
Реку затягивало на глазах. Рабочие Колесниковой разошлись по своим вагонам и стали топить печи.
— Есть хочу — ноги дрожат, — пожаловалась Нина Сергеевна старику. Они стояли и оглядывали измордованный берег. Под яром стучал дизельным сердцем катер, дожидался Три Ниточки.
— Устраивайтесь, — сказал Три Ниточки и пожал Нине Сергеевне руку. — Теперь уж до льда не увидимся.
Водолазный катер пошел к своему берегу в последний рейс.
4. Бандитская снасть
Обь остановилась, мороз покрыл воду коркой — пришло время. Дня три или четыре подводники утепляли вагоны и занимались хозяйством, ждали, пока лед закрепится.
Механики разгрузили катер, завели трос и вывезли тягачом на берег. Снизу под катер подложили лес, чтобы зимовал не на голой земле, хоть и тихоходный транспорт, а все равно — хранить надо.
— На охоту пойдем? — спросил Три Ниточки у Женьки, когда работы не стало.
Старик извлек из чехла облезлое ружье и заглянул в стволы, проверил — не завелась ли ржа.
— Императорская тулка! — объявил он Женьке. — Таких больше нет и не будет, одна осталась.
Женьке было все едино, поскольку охотой водолаз не интересовался, но ружье он, на всякий случай, похвалил: в вагоне сидеть не хотелось.
Они прошли по пойме немного, печатая в снегу следы, и завернули к тальниковой гриве. Тальники во всех направлениях были исполосованы дорогами крестиков, ясно обозначенных на снегу.
— Куропатки наследили, — объяснил Три Ниточки. — Раньше их живых коробами ловили.
Так они шли потихоньку вдоль тальников, пока Женька не обнаружил, что впереди по снегу продвигается пешим порядком белая птица.
«Ловко чешет, больная должно!» — Женька побежал, чтобы поймать птицу, но она полетела. Рядом с ней выпорхнули из снега похожие птицы и тут же дважды негромко стукнуло ружье старика — бук-бук! Как из игрушки.
Две птицы выпали из стаи и запрыгали по снегу, разбрасывая красные пятна, потом успокоились.
— Ты чего под ружье лезешь? — напустился на Женьку Три Ниточки.
— Поймать хотел.
— Поймаешь, когда привяжут, — засмеялся старик и велел подобрать мертвых птиц.
На белых перьях куропаток, где попали дробины, проступили сырые пятна. Женька потрогал их пальцем и понес птиц, захватив за шеи.
— Деревня тут была, браконьер один жил знакомый, — сказал Три Ниточки. — Помер должно…
За тальниками текла подо льдом речка.
— Ёган зовут, — объяснил Три Ниточки. — Река, значит, по-хантейски. Приток.
Деревня сохранилась. Домов десять-пятнадцать стояли вразброс, под сгнившими крышами. Ни дыма, ни человека, гниль и запустение, прикрытое снегом.
От крайнего дома полетели куропатки, и Три Ниточки аккуратно убил еще две, они упали под стеной.
— Люди-то где? — заволновался Женька.
— Кто их знает? — сказал Три Ниточки. — Может, дальше куда ушли, может, в город поехали. Всегда так — одно строят, другое разрушается. Поселков новых настроили — считать спутаешься…
Ни тропки, ни следа человечьего — в деревне.
«Умер, значит, или перекочевал хант в новое место», — подумал Три Ниточки без печали.
Но хант оказался на месте. На отшибе, ближе к реке, стоял квадратный дом из бревен, обставленный редким тыном. Над тыном чернел склад для хранения пищи, поднятый на сваи, чтобы не добрался случайный зверь. Внутри загородки виднелась печь, построенная из глины вперемежку с осокой, и стояла худая лошадь, ела из дровней сено.
Крыльца не имелось, под дверью лежали две пестрые остроухие собаки, которые не обратили на охотников никакого внимания и головы не подняли. Старик Три Ниточки перешагнул через собак, толкнул плечом дверь и ушел в темный провал.
Со света Женька ослеп на недолгое время и натолкнулся на железную бочку — печь, потом огляделся. Дом состоял из одной комнаты, хозяин сидел у печи на чурке, устроив на коленях больные руки, глядел на гостей узкими глазами. Ладоней у него не было, из рукавов выглядывали култышки, покрытые красной кожей.
— Не помер еще? — поздоровался Три Ниточки, прошел вперед и сел на лавку, а ружье устроил на столе.
— Живой! Чего сделается? — равнодушно сказал хант и подвигал вялыми щеками. Лицо у него было морщинистое, как старый гриб.
— Один живешь? — допытывался Три Ниточки.
— Зачем — один? Баба по воду пошел, чай пить надо.
Пришла старуха, села у печи на корточки, вынула из-за пояса нож и ловко настругала лучины, потом зажгла дрова и стала смотреть в огонь.
Женька огляделся: пол в избе был притрушен старой травой, на стене висели связки каких-то крючьев. Он потрогал один за острие и отдернул руку, лезвие легко впилось в кожу. Крючья связывал длинный шнур, они крепились на нем сантиметров через сорок один от другого и на каждом, ближе к уху, имелась пробка.
— Самоловы. Браконьерская, бандитская снасть! — объяснил Три Ниточки. — Спускают эту штуку под лед, она там вьется, как змея — поплавки тонуть не дают. Рыба интересуется, подходит. Крючок заденет — воткнулся, дернется — другой поймает. Если и уйдет — все равно сдохнет.
— Хорошая снасть, — невпопад подтвердил хант. — Без рыбы не будешь.
Старуха сидела у печи, как прежде, и глядела в огонь.
— Промышляешь? — дознавался Три Ниточки.
— Нет, вовсе худой стал. Старуха ходит мало-мало, — откликался хант.
— К сыновьям отчего не едешь?
— Поеду, — соглашался хозяин. — Весной поеду.
— Оба живы? — узнавал Три Ниточки.
— Нету. Один. В Вартовске живет.
— А другой?
— Бок дал, бок — взял, — терпеливо объяснял хант.
Расстались без сожаления. Старуха не шелохнулась, смотрела в огонь.
На снег после темной избы было больно глядеть, веки сами зажмуривались.
«Оттого у них глаза-то и прорезаны, как ножиком», — догадался Женька.
— Никудышный старик, — ворчал Три Ниточки. — Сколько лет знаю — все такой.
— Руки-то у него где? — спросил Женька.
— Отморозил… — равнодушно сказал Три Ниточки, думая о другом.
5. Под водой
Лед окреп. Утром, потемну, для водолазов приготовили место работы. На реку спустили дощатую будку с чугунной печкой, чтобы было где обогреться, и продолбили в трех местах лед, заготовили проруби. Одну сделали у самого берега, другую — метров на пятьдесят речнее, а третью — еще дальше — все на одной линии. Будку подвинули к средней проруби и оставили у самого края.
Водолазы в это время спали, их до времени не трогали. Три Ниточки поднял парней, когда развиднелось и можно было различать предметы.
Пока пили чай, Михайлов объяснял, что надо делать.
— Значит, от будки пойдешь к берегу, осмотришь траншею, возьмешь проводник и — обратно, — втолковывал он Женьке.
Проводник — тонкий и гибкий трос — был намотан у крайней проруби на ворот, чтобы легче разматывался, когда потянут. Он назначался для перетаскивания с берега на берег главного троса, который будет везти трубу.
«Проводник, так проводник…» — Женьке было все равно, что тащить.
Михайлов и Чернявский продували шланги и настраивали воздушную помпу, которая питала водолазов воздухом, а Женька сидел в будке рядом с печкой и неспешно одевался. Он надел два пуховых свитера и столько же штанов, натянул сверху комбинезон и стал обувать ноги. Сначала — простые носки, потом — носки из собачьей шкуры, после всего он натянул еще на каждую ногу по меховому чулку и стал шевелить пальцами, пробовать, как вышло. Получилось хорошо, тогда он снял с крюка легкий водолазный костюм из желтой резины и крикнул, чтобы шли помогать.
Явились трое — Чернявский, Михайлов и рабочий из подсобных. Женька втолкнул в костюм через горловину ноги, выправил штанины и поднялся посреди будки во всю высоту, а руки протянул по швам.
Костюм сжался гармошкой и еле прикрывал ноги, дальше его не пускала узкая горловина. Чернявский, Михайлов и подсобник взялись за нее руками с трех сторон и дернули разом, растянули тугую резину. Женька проворно присел и оказался одетым до шеи. Потом на него надели обувь и закрепили на ногах и груди пудовые грузы из свинца, чтобы вода не выталкивала наверх и можно было работать.
— Топай! — сказал старшина Михайлов, Женька подошел к проруби, сел на краю и спустил тяжелые ноги в воду.
Старшина обвязал его поперек веревкой, надел на голову шерстяную шапку, а сверху — медный колпак — шлем, от которого тянулись разные трубы. Колпак привернули к вороту на болты.
Михайлов приспособил себе на голову шлемофон и махнул рабочим рукой, чтобы гнали воздух.
— Как воздух, Женя? — проверил старшина обстановку.
— Нормально.
— Давай, двигай потихоньку!..
Женька нагнал в скафандр воздуху побольше, раздулся, как пузырь, слез в прорубь и поплавал недолго, проверил костюм, потом выпустил воздух и поплыл в темноту ногами вперед.
Было неглубоко. Он лег на дно животом и пощупал вокруг резиновой рукой. На дне лежал песок, а не ил, и Женька подумал, что работать будет удобнее.
— Чего молчишь? — спросил сверху Михайлов.
— Глухо, как в танке… — Женька прикинул, куда двигаться дальше, несильно толкнулся и поплыл наугад, потому что ничего не видел.
— Влево пошел, бери правее, — сказал Михайлов, наблюдая за веревкой.
Женька двинулся вправо и нащупал траншею — дно под рукой потерялось.
— Нашел! — сообщил он, нырнул в траншею до дна, узнал глубину. Было метров шесть — нормально.
— Теперь так, — распоряжался Михайлов. — К берегу двигайся по траншее, изучай ширину. Двенадцать метров полагается. Челноком иди.
Женька Кузьмин пошел по траншее челноком, Глаза он закрыл, потому что кругом была одна тьма.
Пока он там ползал, рабочие притащили на лед кабель от электрической станции и спустили в береговую прорубь лампу, чтобы водолаз видел, в каком месте брать проводник.
— Свет видишь? — спросил старшина Михайлов, когда все было готово.
Женька открыл глаза и заметил, что впереди желтеет пятно.
— Вижу, — сказал он, пришел к лампе, набрал под резину воздуха и выплыл в крайней проруби. Трос был привязан к железному пруту. Женька принял его из рук рабочего и опять ушел под воду. Но теперь в траншею он не полез, взял лом руками за оба конца и сообщил Михайлову, что приготовился. Обратно его везли на веревке.
— Темно, — пожаловался Женька Толе Чернявскому, когда скрутили медный колпак.
Около печки Женька присел, вытащил из рукавов руки. Ворот дернули, он поднялся и вылез из резиновой шкуры, сырой от пота.
— Только так, Женечка. Все — на ощупь, все — на ощупь, — веселился Толя. — Как под одеялом!
— Пятьдесят минут ходил! — сосчитал Михайлов, а Женька думал, что минут десять.
Толя Чернявский собрался тянуть трос дальше, а Женька лег на лавку и стал отдыхать, пока не заснул.
Разбудил его шум за стеной. И он пошел узнать, из-за чего сыр-бор.
Толя Чернявский лежал на боку рядом с прорубью, куда его выдернули веревкой, а Михайлов торопливо крутил болты, освобождая водолазу голову.
— Чего это с ним? — спросил Женька, но ему никто не ответил, и все стали смотреть на Чернявского, потому что старшина уже снял с него шлем.
— Ну?
— Да все нормально, — Толя побледнел, но пытайся говорить здраво. — Клапан, должно быть, заело…
— А я смотрю, давление на манометре лезет, — ввязался рабочий с помпы, — хотел сказать, а вы уж потащили…
— Воздух не пошел, — объяснил Женьке старшина.
Проверили клапан, но ничего не обнаружили.
— Давай шланг! — приказал старшина. — Он это барахлит…
Шланг отвинтили и прогнали сквозь него воздух. В подставленную к устью Женькину руку упал лепесток льда и тут же растаял.
— Все ясно! — сказал Женька и вытер мокрую руку о штаны.
— Продувать перед каждым погружением! — приказал старшина.
— Сходить за него? — спросил Женька.
— Не паникуй! — взъелся Михайлов. — Иди отсюда!
На другом берегу гудели тракторы, растаскивали на места трубы.
«Настырная баба, за месяц, гляди, дюкер изладит», — подумал Женька о Нине Сергеевне и пошел в будку, дела ему не находилось.
Через час благополучно возвратился Толя Чернявский.
— Все, мальчики. На сегодня — будет! — сказал Михайлов, когда Толю раздели. — Втягиваться надо постепенно…
В тот день водолазы прошли сто двадцать метров, а осталось до того берега еще больше километра.
— Как раз — до морковкина заговенья! — прикинул Женька.
6. Яма
К концу октября водолазы придвинулись к яру.
— Глаза боятся, а руки делают, — сказал Женьке по этому поводу старик Три Ниточки.
Лед окреп, по нему можно было теперь ездить тракторами и другими машинами. Водолазы похудели, хотя Три Ниточки держал их на особом пайке и всячески заботился о здоровье.
Дни стали короткими. Солнце в небе показывалось на какой-нибудь час и опять уходило на другую сторону земли. Водолазы уезжали и возвращались в потемках.
Несколько раз за все время бывала Нина Сергеевна, заходила к Михайлову и старику, советовалась насчет дюкера, а как-то заявилась к проруби, когда старшина находился в воде, и без малого час торчала на ветру.
Михайлов в последнее время привязался к лыжам и слонялся вечерами по много часов.
— Вес лишний решил сбросить, — объяснил он Толе Чернявскому свое поведение.
— Под воду больше ползай, — посоветовал Женька, случившийся при разговоре.
В общем, время шло, и дело шло незаметно тоже — трос тащили.
…В тот день с водолазами поехал старик Три Ниточки, опасался, не замыло ли под яром траншею.
Первым в яму собрался Михайлов, чтобы проверить обстановку и возможности работы. Пока его одевали, Женька лениво выбрасывал ледок из прорубей, заготовленных с вечера, а большие комки загонял лопатой под основной лед и отправлял плыть к морю. Ему взялся помогать старик Три Ниточки, чтобы не числиться без дела, и не мерзнуть напрасно.
Продвигаясь от отдушины к отдушине, они дошли до крайней, которая была сделана под самым яром, раскрошили лед и стали грести его наверх, как всегда.
— Веревка какая-то вмерзла, лопату цепляет, — Женька хотел перерубить ненужный шнурок, но старик остановил.
— Веревка? А ну-ка, покажи? — потребовал Три Ниточки.
Под яром было совсем темно, Три Ниточки поелозил по льду рукой, ничего не нашел и закричал рабочим, чтобы несли свет.
Лампу притащили и стало видно, что веревка идет от коряги, вмерзшей в лед под берегом, и скрывается в проруби.
— Кто поставил? — Три Ниточки оглядел подозрительно водолазов и подергал рукой за веревку.
— Чего поставил? — не понял Женька.
— Самолов, дурак, я спрашиваю, кто ставил? — взвинтился старик.
От будки подошел Михайлов поинтересоваться — отчего суматоха.
— Ты посмотри, что в твоих прорубях делается, — зашипел Три Ниточки. — Разбой!
— Тяните! — приказал старшина.
Женька и Толя Чернявский взялись за шнур, потянули и увидели первый крюк, потом второй, и Женька вспомнил, что видел похожие крючья в доме у ханта.
— Безрукий поставил, — сказал он. — Больше некому!
— Нет! — уперся Три Ниточки, он успокоился и стал мыслить здраво. — Безрукий здесь не посмеет…
— Что-то тяжелое тащится… Корягу, должно быть, захватили, — предположил Толя Чернявский.
— Увидишь ты ее, эту корягу… — пообещал Три Ниточки.
В прорубь боком вплыла мертвая черная рыба, Михайлов подхватил ее багром и выволок на лед.
— Осетр, — загрустил Три Ниточки и пошевелил рыбу ногой. — Старик. Их таких-то, может, десятка два на всю Обь осталось…
Водолазы склонились над мертвой рыбой. Наточенное железо исполосовало бока и брюхо осетра, в ранах серело мясо. Видно, он долго бился, пока не уснул, когда жало вошло в позвоночник.
— На акулу походит, только рот маленький, — определил Толя Чернявский.
Женька Кузьмин представил, как рвут в темноте крючья бока осетра и поморщился.
— За Колесниковой сходите, — попросил Три Ниточки, и какой-то рабочий молчком полез на яр.
Минут через двадцать пришла Нина Сергеевна.
— Узнайте, если из ваших кто, пусть заявление пишет, — сказал Три Ниточки.
Инженер молча кивнула. «Какую красоту загубили», — думала она, холодея от неясной тревоги.
Три Ниточки приказал отправить осетра на кухню и уехал, не дождавшись результатов осмотра траншеи.
— Чего бесится? — удивился Толя Чернявский, когда старик уехал. — Ну и что, осетр? Сам куропаток стреляет. Жить-то надо.
Женька сматывал самолов и ждал, что скажет Нина Сергеевна, а что дела она так не оставит — он догадывался.
Но разговор не состоялся, потому что старшина позвал Чернявского в будку, «тянуть резину».
— Женя, а вы могли напороться там на эту штуку? — задумчиво спросила инженерша, разглядывая крючья.
— Едва ли!
Нина Сергеевна пошла в будку, присела в уголке и стала смотреть, как готовят к спуску под воду Михайлова. Она сидела тихо, как мышь, никому не мешала и ничего не говорила.
На старшину натянули скафандр, навешали грузы, он вышел из будки и закрепил на поясе контрольную веревку. Инженерша тенью ходила рядом.
— Ты, как на похоронах!.. — рассердился старшина.
— Осторожнее, пожалуйста, Коля, — попросила Нина Сергеевна и улыбнулась, сдерживая тревогу.
«Ну — дела!» — Женька от неожиданности открыл рот, медленно осмысливая положение.
Чернявский надел шлемофон и помахал Женьке рукой: старшина требовал ломик с ручкой, которым водолазы пользовались при быстром течении.
В береговую прорубь, на место самолова, спустили лампу, старшина поплавал в проруби, стравил лишний воздух и ушел в воду. Вода в проруби закипела от пузырей, а потом утихла, когда водолаз сдвинулся в сторону.
— Глубоко?
Женька травил за старшиной веревку и шланги.
— Метров двенадцать! — сообщил он Нине Сергеевне, все еще удивляясь ее непонятному поведению.
Инженер ушла, определив, что под водой все идет, как следует, а Женьке никак нельзя было поговорить с Толей Чернявским, потому что уши у того были закрыты наушниками, и говори ни говори — слышать он не мог.
— Траншея не замыта, несет, правда, здорово, но работать можно, — сказал старшина, когда вылез на лед.
Очередь тащить трос была Женькина, он осмотрел его запас, кольцами приготовленный на льду рядом с прорубью, и пошел одеваться, затягивая дело, чтобы поговорить с Толей.
— А осетр, мальчики, в яме еще один есть! — второй раз в этот день ошарашил старшина Михайлов Женьку.
— Да ну-у? — не поверил Толя Чернявский.
— Берег подмыло, ниша вроде, — рассказывал старшина. — Там он и спасается, один остался. Сколько раз подходил, ткнет мордой в бок, потрется и обратно — в нишу. Думает, должно быть, что приятель объявился, рядом зовет стать. Крупнее покойника, с меня будет…
Женька ужом проскочил в скафандр.
— Ты осторожно с ним! — предупредил старшина. — Не пугай.
Проводник закрепили на ручке острого лома, Женька камнем ушел на дно, хотел двинуться без промедления к берегу, но вода опрокинула его на спину и потащила по неровному дну.
— Эй, держи! — заорал он, перевернулся на живот, воткнул в дно ломик и отдышался.
— Тебя оттащило! — обрисовали ему сверху положение и посоветовали идти влево.
— Прет — будь здоров! Пойди попробуй, — забурчал Женька, опасаясь вынимать из земли лом и удивляясь силе воды.
— Ты так делай, — советовал старшина, — втыкай лом, подбирай ноги, толкайся резко и снова втыкай. Понял?
Водолаз попробовал, получилось немного. Тихо, правда, но ничего — жить можно. Под берегом течение ослабло и последние несколько метров до лампы он
пролетел щукой, торопился к заветному месту.
«Где-то он тут…» — соображал Женька, посильнее всадив лом в дно под лампой, чтобы не вырвало мне пришлось делать напрасной работы.
Лампа освещала воду метра на полтора кругом себя, но в этом круге осетра не было, и Женька передвинулся к границе круга, ближе к берегу.
Осетр сам подошел к водолазу и потерся упругим телом о сырую резину. Женька погладил его и хотел обнять, но осетр дернулся недовольно и отошел ближе к свету.
— Вот медведь! Мишенька, Миша, — забормотал Женька и вытянулся рядом с осетром, чтобы тот думал, что он тоже рыба.
— Ты чего бормочешь? — спросил Михайлов.
— С Мишкой разговариваю, — откликнулся Женька, подталкивая осетра к лампе, чтобы лучше разглядеть и запомнить, но тот упирался.
— Имя, значит, придумал? — улыбнулся Михайлов и приказал поднять лом на поверхность.
Женька нашарил под лампой ломик, высунул из воды и спустился к осетру.
— Хлеба бы ему дать или картошки, — думал он вслух, поглаживая рыбину, пока не почувствовал, что веревка, привязанная к поясу, натянулась.
— Чайку, скажи Анюте, чтобы заварила покрепче, в другой раз вы с ним чайку похлебаете, — хохотал Толя Чернявский, пока друга раздевали.
Женька сделал вид, что обиделся.
Три Ниточки взволновался, когда ему передали новость, и наказал водолазам не тревожить осетра, пусть живет спокойно.
Браконьера доискаться не удалось, никто не хотел сознаваться. «И то сказать, — думал Три Ниточки, — кому охота на рожон-то переться».
Вечером Женька Кузьмин не утерпел и наведался к Толе, когда Михайлов «навострил лыжи», чтобы выяснить насчет старшины и Нины Сергеевны.
Толя знал не больше.
— Слышал, сварщики ее трепались, что якобы замужем она была дважды, но точно не знаю, — сказал Толя. — А что не подпускает к себе никого — факт. Один, говорят, совался — до сих пор кашляет…
7. Праздник
Приближались праздники. И большие — год был юбилейный. Три Ниточки посоветовался с Ниной Сергеевной и решил нарушить сухой закон, заведенный в группе им же самим.
— Собирайте по тройке с носа. Бутылка спирту — на двоих, — заявил он делегации, которая явилась к нему по этому поводу.
Старик сам отправился с деньгами в Сургут, чтобы не было соблазнов.
— Навезут — за неделю не вылакать, а делов — край непочатый, — обсказал он свое решение.
Пятого ноября вечером тягач остановился подле вагонов. Был он белый от буса и нагрелся в дальней дороге. Из тягача выбрался Три Ниточки и подождал, пока ему подадут из кабины вещи, закрытые твердой бумагой. Следом вышел человек в меховой одежде, товарищ Шульман.
— Товарищ Шульман прибыл из самой Москвы с управления отряда, бывшего ЭПРОНа, где товарищ числится инспектором отдела кадров, чтобы от имени администрации, месткома и т. д. поздравить рабочих оторванной от отряда группы с великим праздником! — торжественно высказался Три Ниточки.
— Ага! — сказал Женька Кузьмин. — Где жить будет?
— Проводи к мотористам, пусть всунут как-нибудь раскладушку, — сбавил тон Три Ниточки. Он велел доставить ящики со спиртом из вездехода в помещение, а томившемуся народу сказал, что разговор насчет спирта объявляется закрытым до следующего дня.
Вечером в комнате Михайлова собралось все начальство и товарищ Шульман. Старик Три Ниточки открыл производственное совещание по проведению надвигающегося мероприятия. Первой докладывала Анюта. Она сообщила, что малосольная осетринка тает во рту, а котлеты тоже готовы, только жарить осталось, чем она и будет заниматься с самого утра.
При упоминании об осетрине Три Ниточки загрустил, но вида не подал, а товарищ Шульман проглотил горячую слюну испросил мимоходом — нельзя ли, мол, килограммчика три-четыре-пять с собой в Москву захватить… Анюта разозлилась, но Три Ниточки сказал ей, чтобы не бузила зря, и заверил товарища Шульмана, что «сувенир» организуют как следует, не стыдно будет показать дома. Три Ниточки подумал и сказал Нине Сергеевне, чтобы прислала с утра женщину в помощь Анюте. Инженерша кивнула согласно, поскольку имела в своей группе несколько женщин-изолировщиц.
Долго обмозговывали, как бы собраться всем вместе, но от этой мысли пришлось отказаться, не было подходящего помещения. Порешили, что люди Нины Сергеевны будут отмечать праздники у себя, а водолазы — у себя.
— Но вы уж, пожалуйста, Нина Сергеевна, к нам в гости… — галантно заявил старик Три Ниточки.
— Приеду, конечно, — сказала инженерша. — Поздравлю своих и приеду…
«Еще бы… — подумал Женька Кузьмин. — Куда денешься?..»
Шестого работали весело, с подъемом, а к вечеру зашабашили — поступил приказ приготовляться. Женька отгладил штаны себе и старику Три Ниточки, выволок из чемодана роскошный канадский свитер и дело, можно считать, закончил.
В четыре часа старик Три Ниточки и инспектор товарищ Шульман отбыли поздравлять людей Нины Сергеевны. Отсутствовали они часа два или больше, за это время все успели собраться в общем вагоне, из которого предварительно удалили перегородку, затруднявшую передвижение из клуба в столовую.
Столы были накрыты, как полагается: осетрина, бутылки и графины с водой, чтобы запивать спирт — у кого слабое горло. Анюта стояла в дверях кухни, сильно довольная всеми, и улыбалась Женьке.
Женька Кузьмин и Толя Чернявский сидели за столом с механиками водолазного катера, а Михайлов находился за столом один, свободные места предназначались Нине Сергеевне, старику и инспектору товарищу Шульману.
— Чует мое сердце, Женя, — грустно сказал Толя Чернявский, — спать нам с тобой в одном мешочке… — И пошел за магнитофоном.
— Чего душу морят? — закричал механик электростанции. — Сил нету!..
Михайлов опомнился от задумчивости, поправил галстук на полосатой капроновой рубахе и махнул рукой.
— Кому уж очень невмоготу, по маленькой — можно!
Зазвякало стекло, но столы остались нетронутыми, сверкали чистотой, как раньше.
— Жуки! — восхитился Женька, соображая, откуда у парней могло образоваться питье, если Три Ниточки сам ездил за спиртом, и весь он стоял на столах нетронутый.
Толя Чернявский принес магнитофон и хотел включить его, но под окнами загремела гусеницами машина.
— Слава богу! — вздохнула Анюта и приготовилась рассматривать Нину Сергеевну, в чем одета и как.
Нина Сергеевна оказалась в белом вязаном платье, удобно облегающем маленькую фигуру, и Анюта немедленно решила купить себе такое же, хотя и понимала, что дело не в платье.
Когда все уселись, старик Три Ниточки сказал немного слов про Советскую власть и про то, что надо к весне — кровь из носу! — протянуть дюкер, чтобы замыло траншею талой водой, а то придется опять вызывать за большие деньги земснаряд.
Инспектор отдела кадров товарищ Шульман говорил долго: и про революцию, и про текущую международную обстановку, и про то, что коммунисты и комсомольцы должны вести за собой народ и быть застрельщика-ми в социалистическом соревновании.
«Господи, ну чего он тянет? — тосковала Анюта. — Ясно же все…»
Анюте не терпелось подать горячее и посидеть хоть немного рядом с Женькой, но инспектор товарищ Шульман стал читать праздничный приказ по отряду, подписанный Назаровым.
Приказ выслушали внимательно, поскольку речь шла не о всех людях вообще, а о них, подводниках.
Потом товарищ Шульман приступил к выдаче грамот.
Рабочие захлопали.
— Совсем забыл! — спохватился неожиданно Три Ниточки, вылез из-за стола и пошел на выход.
— Воду мутит старый! — усмехнулся Толя Чернявский.
Три Ниточки вернулся с пакетом и извлек три бутылки «Шампанского».
— Сухое! — ахнула Нина Сергеевна.
— Совсем забыл, — добрел Три Ниточки. — Специально вез. Подсаживайся, Анюта…
— Можно, я с ребятами, Иван Прокопьевич? — Анюта уже проталкивалась со своей табуреткой к Женьке.
Три Ниточки передал бутылку вина водолазам и подмигнул, чтобы делали все, как полагается.
Первый тост выпили за труд и дружбу. Толя и Женька пили чистый спирт, не разводили, так как Анюта уверяла, что чистый помогает от язвы желудка, и хотя у водолазов язвы до сих пор не обнаруживалось, они не спорили.
Столик руководства стоял рядом. Инспектор товарищ Шульман горячо убеждал старика Три Ниточки в чем-то важном, но тот не понимал и отрицательно мотал головой.
— Уезжать намылился, — сообщила водолазам Анюта, нехорошо оглядывая гладкое лицо товарища Шульмана.
— Людей там больше, Иван Прокопьевич, а руководителей никого нет, — проникновенно говорил инспектор. — Неудобно получается, всякое, знаете, могут сказать… Вы себе сидите, пожалуйста, а я уж поеду к ним.
— Да пусть он поедет, — неожиданно поддержала Шульмана Нина Сергеевна. — Ночевать вы можете у меня, — сказала она ему, как о деле решенном, — ключ вам дадут, раскладушка и матрац под кроватью, простыни в ящике.
— А вы? — изумился товарищ Шульман.
— Останусь у Анюты, — успокоила инженерша.
— Не знаю, не знаю… — сказал Три Ниточки, но возражать не стал.
Водитель вездехода Егоров надел в тамбуре тулуп прямо на рубаху и доставил товарища по назначению.
— Рабочие ему нужны… Как же! — фыркнула Анюта. — К девчонкам потащился, здесь-то не клюет.
— Очень может быть, — согласился Толя Чернявский.
— Придумали! — не поверил Женька. — Да его там парни измордуют — поглядеть не на что будет…
— Очень может быть, — вежливо согласился Толя Чернявский и с Женькой.
Кто по второй выпил, а кто по третьей — заговорили. Водолазы и Анюта ушли на кухню принести котлет, чтобы не сомлел народ прежде времени. Тарелок для котлет не было, не хватило, наваливали их в железные миски — сколько войдет, а сверху заливали крепкой подливкой.
— Работаете, Женечка? — заулыбалась инженерша Нина Сергеевна, когда водолаз устроил на стол начальства миску с котлетами.
— Приходится, — усмехнулся Женька.
В темном закутке кухни Анюта обхватила горячими руками Женькину шею, зашептала сердито:
— Да поцелуй ты меня хоть раз, черт такой…
Упругие груди поварихи жгли Женьку Кузьмина сквозь канадский свитер большим огнем, но бывший матрос крепился, потому что не решил еще, как ему быть. «Жена, дети… и прочее…», — размышлял он, стоя посреди кухни.
— Любви все возрасты покорны, — сказал Толя Чернявский, тихо явившийся в кухню. — Так?
— Так, так! — зашипела Анюта и выставила «поэта», снабдив котлетами. Котлеты еще имелись.
В вагоне пахло водкой и табаком. Женька вышел из кухни и открыл окно, отдышаться.
— Танцевать, танцевать! — потребовала Нина Сергеевна, веселая от хорошего праздника.
— Я — первый, — мрачно сказал Женька. — Раздвигай столы!
Партнерша танцевала хорошо, а Женька Кузьмин запинался, обдумывая, с чего начать разговор. Нина Сергеевна догадалась:
— Вы что-то хотите сказать, Женечка?
— Хочу, — сказал Женька. — Вы старшину давно знаете?
— Давно, Женечка. Всю жизнь, даже учились вместе, — беззаботно ответила Нина Сергеевна, ей было проще.
— Любите вы его?
— Люблю.
— А он вас?
— Думаю — да, Женечка…
Нине Сергеевне все было ясно на месяц вперед, не зря училась столько.
— А правда, что вы два раза замужем были? — докапывался Женька до серьезного.
Глаза у Нины Сергеевны стали холодными и серыми, как льдины.
«Поговорили…» — забеспокоился Женька, но инженерша простила его от полноты счастья.
— Что случилось, Женя?
Больше возможности не предоставлялось, и Женька Кузьмин нырнул, как в прорубь:
— Жениться хочу…
Не с кем было посоветоваться водолазу Кузьмину, родных у него не было. И Нина Сергеевна ничего не сказала, кроме того, что Анюта нравится ей очень.
«Она и мне нравится», — думал Женька, внимательно разглядывая грани на стакане.
Нина Сергеевна танцевала с Михайловым, даже издали Женька замечал, что живется ей хорошо. Он перевел взгляд на Анюту, которая кружилась с Толей Чернявским, сравнил ее с инженершей и успокоился, потому что Анюта понравилась ему больше.
— «Каждому свое…» — философствовал Женька, допивая шампанское из Анютиного стакана и не обращая никакого внимания на Толю, который маячил ему, чтобы не налегал на чужое.
Магнитофон охрип совсем и лента стала рваться.
Женька допел за него последнюю песню и хотел встать, но передумал и налил спирта, чтобы решить все, как следует.
Народ расходился допивать по домам, Анюта отозвала в сторону Нину Сергеевну и переговорила с ней, а старик Три Ниточки пошел медленно к себе в вагон, нагрузился до нормы.
Женька Кузьмин хотел тоже встать, но опять передумал, потому что ноги не повиновались. К нему подошла Анюта, прижалась к канадскому свитеру, облитому вином, и увела в неизвестном направлении.
— Анюта увела Женьку к себе, мне теперь негде спать, — доложила Михайлову информированная Нина Сергеевна.
— Будешь спать у меня, — улыбнулся Михайлов и погладил рукой маленькую голову инженерши.
— Ты думаешь — пора? — тихо спросила она.
Толя Чернявский не стал прислушиваться к чужим разговорам, пошел и тихонько, чтобы не обнаружил старик Три Ниточки, залез в спальный мешок на Женькиной кровати.
Часов в восемь его разбудил водитель Егоров.
— Слушай, — заторопился он, вроде Толя мог куда убежать, — явился там этот… Фонарь — во все рыло, требует, чтобы в Сургут вез, в Москву, говорит, полечу жаловаться…
— Товарищ Шульман?
— Ну! Говорит…
— Сбываются слова моего бывшего друга Жени Кузьмина! — поведал водителю Толя и полез с головой в мешок.
— Брось дурить! — увещевал водолаза Егоров. — Дело-то серьезное. Старика будить надо.
Три Ниточки поднял лохматую голову и поглядел вокруг невыспавшимися глазами. Егоров пересказал дело.
— Узнал — кто? — заинтересовался Три Ниточки и стал искать штаны, чтобы быть в надлежащем виде.
— Все знают, — сказал Егоров. — Он к бабам все лез, значит, а Васька, значит, его и утешил…
— Утешил… — передразнил Три Ниточки. — Вези сей же час этого Ваську.
Егоров поспешно убрался, а Три Ниточки подозрительно посмотрел на Толю Чернявского, но ничего не сказал, продолжал искать штаны.
Толя Чернявский притих на время и не смеялся.
— Достань кулек под твоей койкой, — потребовал старик.
Толя беспрекословно повиновался, потому что обстановка намечалась военная. Три Ниточки извлек из кулька бутылку с коньяком, налил полстакана, выпил и обнаружил штаны, висевшие на спинке кровати.
Вскоре Егоров привез Ваську.
— Доставил! — доложил он старику.
— Пусть побудет на воздухе, — решил Три Ниточки. — Зови товарища Шульмана.
Пришел инспектор товарищ Шульман с зеленым синяком во всю щеку и закрытым глазом. Он прикладывал к щеке снег, который таял и капал грязными слезами на холодный пол.
— Это хулиганство! — сказал товарищ Шульман. — Отправьте меня на аэродром, я не могу говорить… Я доложу…
— Мы разберемся, — успокоил товарища Три Ниточки. — Хулиганства мы терпеть не станем. Отвези Егоров товарища к самолету.
В комнату пришли Михайлов и Нина Сергеевна, не простившись, Шульман поспешил уйти, чтобы не показывать женщине свое лицо.
В дверь боком протиснулся Васька и остановился, дожидаясь решения. Три Ниточки грозно молчал.
— Чем ты его? — не выдержал Толя Чернявский.
— Булкой, — признался Васька, осматривая общество исподлобья.
Инженерша отвернулась к стене, а Толя, повизгивая, полез в мешок. Один Три Ниточки сохранял серьезность, потому что разве можно бить живого человека по лицу булкой?
— Я думал — помягче чем… — подлаживался Васька.
— Иди! — не выдержал Три Ниточки. — Амнистия тебе.
Нина Сергеевна откровенно хохотала, Толя Чернявский катался в мешке по полу, а Михайлов тихо мычал, чтобы сохранить достоинство.
Около вагона Васю поджидала Валька, виновница происшествия, вертлявая и молоденькая.
— Амнистия вышла, — объявил ей Вася. — Пошли.
— Я же говорила, я же говорила! — затрещала Валька, но сбилась с голоса, потому что мужчина шагал широко, не враз поспеешь.
— Сходи-ка, Толя, за Женькой, — сказал Три Ниточки, когда смех утих, и поглядел на Михайлова и инженершу. Нина Сергеевна встретила взгляд спокойно, а старшина насупился, опасаясь, что старик наговорит лишнего, но Три Ниточки молчал.
Чернявский, пока Анюта крутилась у зеркала, разъяснил помятому другу положение вещей.
— А я что говорил? — повернулся Женька к Анюте.
— Что же… — сказал старик Три Ниточки, когда все собрались и уселись за стол. — Церкви здесь нету, загсов тоже… Живите!
Три Ниточки вытер пальцами взмокшие неизвестно отчего глаза и выпил коньяк.
8. Дни и ночи
Снег в ту осень валился все время и к середине зимы засыпал вагоны водолазов до окон. Зайцы, в поисках пищи, прыгали с сугробов на крыши. Три Ниточки часто слышал над собой их осторожные прыжки и думал, что худо живется зверям, раз лезут куда ни попадя.
Ночи стояли по двадцать часов. Лед на реке не выдерживал мороза, лопался, разбрызгивая под снегом трещины. На небе ходили светлые немые столбы — отблески магнитных бурь и других природных неурядиц.
Нина Сергеевна иногда просыпалась в середине такой длинной ночи и слушала, как идут часы. Она пугалась тишины и жалась к Михайлову. «Хоть бы храпел уж…» — думала Нина Сергеевна, муж обнимал ее во сне, и она успокаивалась, засыпала.
Как-то утром подводников разбудили взрывы.
— Лед?..
Михайлов прислушался, ухнуло дважды — раз за разом.
— Трассовики подходят — просеку бьют, — понял старшина и спросил жену, как она жила одна, если боится всего.
— Так и жила, — объяснила Нина Сергеевна. — Проснешься ночью — тишина, как в могиле, даже собаки не лают. Ты не представляешь, как страшно…
К дюкеру вышли взрывники, за ними ехали бульдозеры и расталкивали по сторонам сбитые аммонитом деревья.
Взрывники работали по двое. Один продырявливал в корнях ломом дыру, а другой вставлял в нее заряд и зажигал шнур. Дерево прыгало вместе с корнями вверх и валилось головой в нужную сторону.
— Чистая работа! — одобрил Женька Кузьмин действия взрывников и договорился с ними, чтобы разбили под яром лед для прохода трубы.
Взрывники насыпали на лед немного взрывчатого материала и зажгли шнур, чтобы выкопать яму для главного взрыва. Осетр, спавший внизу, ощутил телом неприятный удар и попятился глубже в нишу от опасного места.
Взрывники готовили второй взрыв, но приехал Три Ниточки, отругал Женьку последними словами и прогнал взрывников. Они достали из ямы запал, а взрывчатку бросили и поехали дальше, сбивать деревья.
— Черт его знал? — оправдывался Женька.
— Бог рассудку не дал — беда неловко! — сердился Три Ниточки. — Плывет теперь твой Мишка вверх брюхом.
— Не должен бы… — жалел осетра Женька и сам себе не верил.
За бульдозерами по просеке пришли экскаваторы. Они шли друг за другом — три сразу, скребли мерзлоту роторами. За последним со дна готовой траншеи выступала вода, болото промерзло неглубоко, метра на два. Машины двигались тихо, нагревались от непосильной работы.
«Полтора года так едут… — размышлял Три Ниточки, наблюдая за экскаваторами. — Машины, и те устали…»
Экскаваторы оставили на земле след и ушли за реку, чтобы двигаться дальше к назначенному месту.
Три Ниточки в последние дни заторопил народ.
— Основная труба придет скоро, а мы — не у шубы рукав! — говорил старик и завел ночную работу.
Подводники теперь тоже работали на дюкере, обшивали заизолированную трубу досками. Чтобы не повредилась при движении, приворачивали на хомуты понтоны.
— Самое неприятное снимать их, когда протянут трубу, — рассказывал старшина Михайлов водолазам и тщательно мазал болты хомутов солидолом. — Бьют в лед, как из пушки, зацепит — поглядеть не на что будет…
Понтоны делали из тех же труб, обрезали кусок, заваривали дыру заглушками и укладывали поплавок сверху на основную трубу, чтобы не очень прогибалась в воде.
Понтонов было четырнадцать — труба над трубой, только верхняя с разрывами.
— Намаемся мы с этими поплавочками! — вздыхал Толя Чернявский и говорил Женьке, чтобы не туго заворачивал гайки.
Трубу повезли в марте, когда дни стали подлиннее и не так холодно. Три Ниточки известил начальство телеграммой и засел у лебедки рядом с полевым телефоном, чтобы передать указания на другой берег.
— С богом, стало быть, — сказал он, хотя в бога не верил.
Все свободные люди стояли на льду и смотрели на дюкер, опутанный канатом, толщиной в руку.
«Только бы не лопнул…» — думал Женька.
— Давай полегоньку, — сказал Три Ниточки в телефон лебедчикам охрипшим голосом.
Дюкер — длинная через всю реку труба — на другом берегу зашевелился и пополз незаметно по каткам к срубленному бульдозерами яру, чтобы уйти в прорубь и выплыть через несколько дней к многотонной лебедке, которая его тащила.
Труба шла легко, голова ее уже спустилась под лед, и старик остановил движение, чтобы осмотреть механизмы, работавшие под сильной нагрузкой.
Люди отдохнули ночью от нервного напряжения и утром снова взялись за работу. Лебедка заскрипела и натянула трос, но труба не двигалась.
— Стой! — приказал Три Ниточки. — Порвать трубу можно!..
«Упереться ей не во что, — размышляла Нина Сергеевна, она сидела у телефона рядом с трубой. — Шла свободно…»
— Трактором, может, толкнуть сзади? — предложила она выход.
Приехавшие корреспонденты приготовились, чтобы заснять движение трубы, но снимать было нечего.
— Давай, пожалуй! — сказал Три Ниточки в трубку Нине Сергеевне, холодея от нехороших предчувствий.
Дюкер подтолкнули вперед тракторами метра на два, трос ослаб, скрутился подо льдом петлей и порвался, когда пустили лебедку.
— Все верно! — сказал корреспондентам Три Ниточки, вздохнул и пошел в вагон, чтобы побыть одному.
Водолазы два дня искали концы, потом вытащили их на лед машинами и стянули петлей.
— Мишка-то живой? — спрашивала Женьку Анюта, когда он являлся ночью домой.
— Живой, чего ему сделается? — говорил Женька и засыпал с ложкой в руках, истощенный непосильной работой.
«Отлупили бы его чем-нибудь, чтобы ушел», — думала Анюта, раздевала и укладывала Женьку, а сама шла кормить голодных корреспондентов.
Корреспонденты были злые, ругались, что задерживается командировка, обещали прислать Анюте фотографии, чтобы лучше кормила, и записывали что-то в блокнотах. Анюта рассказала им про осетра, корреспонденты обрадовались, что водолазы сохраняют ценную рыбу, записали все в блокноты и уехали в тот же день, как труба вышла к лебедке.
Три Ниточки проводил корреспондентов и велел отдыхать всем четыре дня. Люди нагрели в тазах и другой подсобной посуде воду, смыли с себя трудовую грязь и стали отдыхать, кто как хотел.
— Куда мы теперь, Коля? — спрашивала Нина Сергеевна Михайлова, она трясла над электрической плитой короткими волосами, сушила после мытья.
Старшина лежал одетым на постели, читал книгу и не обратил на слова жены должного внимания.
— Куда-нибудь пошлют, — сказал старшина. — Понтоны еще сковырнуть надо…
Нина Сергеевна не стала больше беспокоить мужа: ей было все равно, куда ехать, только бы с ним, даже если и придется всю жизнь сушить голову над плитой.
Анюту тоже интересовал вопрос дальнейшей жизни, потому что женщины всегда любят, чтобы был постоянный дом и все, как у людей.
— Как сообщил нам начальник отдела транспорта нефти Министерства нефтяной промышленности СССР товарищ Ефремов, работы хватит, — сказал ей Женька и протянул газету, — читай.
«В перспективный план развития СССР внесена еще одна важная деталь. Закончены экономические расчеты, связанные со строительством крупнейшего нефтепровода Усть-Балык — Дальний Восток, протяженностью 6,5 тысячи километров…» — прочитала Анюта.
Водолаз Женька Кузьмин уже заразился бациллой бродячей жизни, и Анюта вздохнула, потому что куда иголка, туда и нитка…
Старик Мочонкин Иван Прокопьевич писал в это время письмо начальнику отряда Назарову в Москву, чтобы отпускал на пенсию.
«…За меня тебе искать никого не надо, — успокаивал начальника Мочонкин. — Нина Сергеевна показала себя настоящим работником, и деваться ей некуда, потому что вышла замуж за старшину водолазов Михайлова Н. И., которого ты тоже хорошо знаешь…»
«В Николаев поеду виноград разводить», — решил Три Ниточки. На неделе он сходил в деревню к ханту, чтобы сказать об отъезде и проститься навсегда, но браконьер выбыл. Дом стоял пустой и холодный.
9. Последний понтон
В марте водолазы стали снимать понтоны. Лед гудел на многие километры и трескался от тяжелых ударов.
Ошалевший осетр мотался по траншее, мешал работать.
— Подойдет и трется, как свинья, а у меня понтон на соплях держится! — ругался Толя Чернявский.
— Не троньте его! — предупреждал Михайлов. — Замор, вода горит, видал в прорубях, сколько малька дохлого? Вот и волнуется рыбина…
— Жить ему негде, — сообщал Женька заинтересованным людям. — Нишу-то завалили…
Четырнадцатый понтон достался Женьке.
— Смотри шланги! — предупредил Михайлов.
Женька спустился на дно, нашарил на понтоне хомут и стал крутить гайку.
«Жалко Три Ниточки, а куда денешься — старость не радость», — соображал он, прикидывая, что неплохо будет заявиться к старику в Николаев, когда выйдет отпуск.
Гайка сошла легко, болт был смазан. Женька подобрал шланги, чтобы не перерубило, достал из-под веревки на поясе кувалду и выбил болт. Обычно понтон, освобожденный от одного хомута, дергался и выскакивал из другого, сейчас он только приподнялся свободной стороной и остался на месте.
— Не идет, скотина. Заклинило! — сказал Женька.
— Попробуй кувалдой с другого конца, — предложил старшина.
Придерживая шланги, водолаз стал подвигаться к другому концу понтона, зажатому хомутом, и наткнулся на осетра.
— Иди-иди! — Женька ткнул осетра кувалдой, чтобы шел дальше от опасного места.
Осетр отошел немного и стал над понтоном. Водолаз продвинулся, чтобы удобнее было работать, и снова наткнулся на его упругое податливое тело.
— Дурак! — сказал Женька. — Раздавит, как муху. — Он отодвинул осетра рукой, но тот опять вернулся.
— Да ты что? — удивился Женька. Он машинально двигался вслед за осетром, отдаляя его от понтона.
Старшина Михайлов, оставив шлемофон, приказал рабочим долбить прорубь, чтобы спустить лампу. Он пошел показать место для проруби, но снизу ударило в ноги, лед загудел и стал давать трещины. Старшина побежал к наушникам.
— Жив? — закричал старшина, потому что Женька молчал.
Понтон вырвался внезапно. Женьку ударило, он перевернулся и почувствовал, как тело охватывает пронизывающий холод.
— Меня, кажется, заливает, — прошептал он.
Его подняли через тридцать секунд. Когда свернули шлем, оказалось, что вода наполнила скафандр и только. Воздушная подушка, образовавшаяся в шлеме, не пустила воду к лицу водолаза.
…Лед тронулся в мае. Шалые воды пришли с Алтая и замыли траншею песком и илом. Сравняли дно.
Следом за льдом подошел буксир с баржей, капитан, отдохнув за долгую зиму, был веселым и бодрым. Три Ниточки отбыл в Москву оформлять пенсию, а подводники погрузили все имущество на баржу и поехали на новую точку. Буксир шел медленно, Женька и Анюта стояли на палубе и смотрели на сглаженный разъезженный берег, пока его не закрыло мысом.
…Обь в этом месте круто загибает вправо, к синеющему лесом материку. Черная, таежная вода не поспевает за руслом. Она давит в берег, бугрится медленно растекающимися блинами и выталкивает грязную пену.
Река здесь выкопала в дне яму. Под толстым слоем песка в яме лежит труба, заботливо завернутая, чтобы не тронула ржа. По трубе идет нефть.
ВАЛЕРИЙ МЕНЬШИКОВ

Родился в 1939 году в поселке Стеклозавод, Курганской области. Окончил среднюю школу и железнодорожное училище.
Работает в газете «Молодой ленинец» и заочно учится в Уральском Государственном университете.
Рассказы печатались в журнале «Урал», а также в центральных и областных газетах.
ЛЕСНИК

Еще неделю назад листва красовалась ярким орнаментом, а сейчас лежала на земле черная, пожухлая. Лес стоял голый, сиротливый. Холодный ветер путался в мокрых ветвях, гнул их к земле. Вода была повсюду: в промозглом воздухе, в ватнике, под ногами.
— Черт побери, и угораздило же забраться в такую глухомань. Пару косачей и у деревни бы отыскал.
Я сердито сплюнул, стряхнул с козырька нависшие капли и двинулся дальше, в чащобу. Быстро темнело. Лес притих на мгновенье, и снова заворочался, застонал под шорох дождя. Перепрыгивать лужи уже не было смысла, и я равнодушно шагал напрямик. Лишь бы не стоять, не оставаться наедине со скрипящими стволами. Наконец согра кончилась. Неизвестно откуда под ноги подвернулась тропка, зазмеилась по откосу.
— Эвон куда меня занесло.
Поддерживая снизу двустволку, я огляделся. Где-то здесь прячется Сулимский зимник, а чуть дальше, за вышкой, Михеев кордон. Я почти побежал мимо поредевших деревьев. И правда, метрах в трехстах лежала дорога. Старая, затравеневшая, в блестках заполненных водой колдобин. Когда показалась вышка, совсем повеселел: недалеко до кордона. К тому же дождь успокоился, и лишь порывы ветра бросали в лицо холодные капли. Дорога растаяла за поворотом, в темноте спряталась. И вдруг над лесом пронесся крик. Жуткий, никогда не слыхал такого. Резануло тревогой по сердцу. Кто бы это мог быть?
Обеспокоенный, я пошел быстрее и, миновав поворот, увидел постройки. Крестовик со стайками-малухами притаился за высоким забором черной глыбой, огней не видно.
— Неуж дома нет?
И тут же себя успокоил.
— Куда ему деться. Сидит в такую непогодь на печи, кости пропаривает. Эх, сейчас бы соточки две и под тулуп.
С этими мыслями я толкнул мокрую калитку. Та, без скрипа, с трудом отошла. В ограде тихо, собак не слышно. Забились куда-то. Сквозь ставни кухонного окна пробилась желтая полоска света. Я повеселел.
— Дома! Живет же старый хрыч, хозяйство содержит. И как же это он один, без женщины справляется.
Я постучал в окно и по щербатому крылечку поднялся в сенки.
— Эге-ей, хозяин, принимай гостя, — с шумом переступил порог.
В кухне, освещенной семилинейной керосиновой лампой, тепло. На деревянных вешалках нехитрое одеяние Михея, ружье. Лавка, стол да два стула — вся обстановка.
— Ну и погодка, добрый хозяин собаку на подворье не выгонит, а нас нечистая по лесам носит, — щурясь на свет, пробасил я.
— Ты что, не рад, что ли?
Михей, что-то искавший в ящичке стола, распрямился. Лицо заросшее, в темных глазах тревога.
— Беда, Валерий, стряслась.
— Какая беда?
— Лосиха растелиться не может. Видно, телок не так пошел.
— Лосиха, говоришь, а что так поздно?
— Вот и сам дивлюсь. Зима на носу.
Снова над лесом раздался протяжный рев, так напугавший меня раньше. — Она?
— Она, бедная. Прирезать жалко, и так, как оставишь?
— Лежка-то где?
— В урочище. С километр отсюда будет. Может, подможешь? Вдвоем-то сподручнее. Хоть бы маленького спасти.
Я взглянул на свои заляпанные сапоги, запахнул промокший ватник.
— Идем, только тряпицу чистую прихвати да нож.
— Сготовил уже…
Едва мы вышли, как снова раздался знакомый крик. Михей торопливо и уверенно зашагал к черной опушке. В руке качался огонек «летучей мыши». Лес сразу же навалился темнотой, дохнул резким студеным порывом. Я постарался приспособиться к ходьбе лесника и не смог. Шаг у него широкий, легкий. Словно и нет за плечами пятидесяти трех лет. Видно, лес закалил, добавил крепости. Давно мы с ним дружим. И не только по охотничьей части. Люблю я людей простых и искренних, не скрытных нисколько. А он такой. К тому же добряк. Завсегда заезжему человеку рад. Может, одиночество сказалось. Как захоронил свою Фросю лет восемь назад, все один да один. Другая бабенка и пошла бы за него, да глуши лесной, тоски смертной боится. И его в поселок не сманишь. К лесу привык, да работа рядом. Разное про него говорят люди. Больше хорошее. Смеялись как-то, что стишки даже пишет. Спросить все хотел, да не решился. Неловко как-то смущать, дело-то ведь не старческое. Да и он словом не обмолвился о своем увлечении. Раз не хочет, к чему пытать. Зато о лесе и его обитателях может говорить часами. Что сказочник. Пепельную бороду в кулак зажмет и тихо, напевно рассказывает, будто мечтает. А то сам с собой заспорит. В безлюдье привычка эта родилась, с кем здесь поговоришь…
— Давай сюда, — услышал я хрипловатый голос Михея.
Он стоял у кустов, высокий, плечистый, в брезентовом дождевике. Рядом лежала лосиха. Увидев нас, она приподняла бугристую голову, попыталась подняться и не смогла. Повела помутневшими глазами в нашу сторону, на губах кровавая пена повисла. Мокрый бок судорожно заподрагивал.
— И надо же так случиться. Что делать-то будем, а?
Михей ласково провел ладонью по загривку, протянул мне фонарь.
— Держи!
— Нет, дай лучше я…
Обратно шли молча. Я освещал фонарем дорогу, а Михей тяжело ступал сзади. На плечах он нес лосенка. Метров через сто останавливались, менялись. А лес шумел. Ветер гнал стужу, выжимал из нас остатки тепла. Не согревала и ноша…
Дома, закутав лосенка в старую шубу, Михей положил его у печки.
— А ловко же ты его. Где наловчился-то?
— После армии приходилось.
— Ну и ну.
В глазах у него то гаснут, то вспыхивают озорные отсветы. Недавняя забота исчезла. Густые, в два пальца брови сбежались к переносью. Скуластое, широкое лицо при смехе становилось еще шире. Я тоже через силу улыбался, клонило ко сну.
— Давай спать, ноги не держат.
— Не-е. Сейчас долбанем с тобой по стакашку, а уж потом и ноги в потолок.
И, не глядя на мои протестующие жесты, он достал из-под лавки распочатую бутылку, разлил по стаканам.
— Ради такого случая, а? Ведь жизнь спасли. Давай, давай. За новорожденного…
Утром я проснулся с ощущением, что меня ожидает какое-то дело, и сразу же вспомнил:
— Лосенок! Как он?
В кухне его не было. Я оделся и вышел на крыльцо. Тысячами росных брызг ударило в глаза солнце, ослепило.
— Чего щуришься, иди крестника кормить.
Под тесовым навесом, расставив неокрепшие ноги, стоял лосенок. Он был с засохшими зализами на впалых боках. Рядом на коленках примостился Михей. В руках у него бутылка с соской, наполненная молоком.
— Где молока-то взял?
— В деревню сгонял. Боялся, не сгинул бы. Привез, а он, чертяка, никак приноровиться не может… Ну ты… лешак.
Михей зажал ему голову под мышку.
— Давай лей, а я держать буду…
Через полчаса, изрядно повозившись и вылив половину молока на землю, мы присели на крыльце. Закурили.
— Что делать с ним будешь?
— Мать навещу. Вот тебя провожу и наведаюсь. Может, и оклемалась.
— А если нет?
— Догляжу. Не впервой. Раз самца выходил. Совсем при смерти был. У реки, на перекате нашел, где рысь с тобой подстрелили. Лежит, обессилел. Рога в воде, песок кровью пропитался, на правой лопатке ранища в ладонь. Браконьеры жаканом звезданули.
Недели три траву носил. Йоду бутылку вымазал. Думал, окочурится, а нет, отлегчало. Выжил… Сейчас иногда встрену на просеке, узнает. Не боится.
— А кто ранил, не дознал?
— Не привелось, а то несдобровать бы. Столько злости в такой момент. Брата родного не пожалеешь.
Он зашел в сенки. Протянул мне ружье, патронташ. Свою двустволку закинул за плечо. Вынул из кармана кисет.
— Свернем на дорожку. Все веселей шагать будет.
В это время у леса хрипло с надрывом залаяли собаки.
— Опять поди зайчишку гоняют.
Лай приблизился. Я пошел к калитке, выглянул. У колодезного сруба стояла лосиха. Отбиваясь головой от собак, она жалобно мычала.
— А ну, вон! — закричал выбежавший следом Михей, отогнав скуливших собак, остановился рядом с лосихой.
— Сама пришла, голуба, ишь ты, история какая. Это же надо, а? Веди-ка его, пострела, сюда: мать свидание просит.
Лицо Михея стало по-детски радостным, из бороды синевой блеснули зубы. Я с трудом вытолкал за ограду лосенка. Увидев мать, он неуверенно засеменил к ней навстречу. Она опять призывно простонала.
— Вот она, жизнь-то, какая. За дите — на все готова. И людей не боится. Или сердцем чует: не тронут ее, не забидят.
Старик отвернулся, может, слезы скрывал. Лосенок тем временем под бок к лосихе толкнулся, поймал губами набухший сосок.
— Пойду я, дядя Михей.
— Ну ты заходи, заходи. Место я тут приметил. Глухариное. Позорюем. — Он, не глядя, сунул мне квадратную ладонь. — Так заходи.
— Ладно. На той неделе…
Я торопливо зашагал по колеистой дороге, солнце в спину уставилось, лес по сторонам притих, чистый, промытый дождем, весь в переливах света. Было немного грустно, почему и сам не знал. Около поворота я оглянулся, не стерпел. Лосиха уводила лосенка в лес. Она оборачивалась, ожидала, а когда он забегал сбоку и тянулся к соску, снова отходила на несколько метров. И так все ближе и ближе к опушке. Лесник стоял у колодца с непокрытой головой, вслед им смотрел. У ног вертелись две собачонки, окрика боялись. Лес тихо шумел, по-утреннему полный света и теней, где-то робко ударил дятел. Ему ответил второй, и пошла гулять вдоль дороги лесная морзянка.
НИКОЛАЙ ПЕРЕЖОГИН

Пережогин Николай Павлович. 1936 года рождения. Машинист локомотивного депо станции Челябинск. В 1968 году окончил Челябинский железнодорожный техникум.
ЧЕРНОТАЛОВСКИЙ СЛЕД

1
По гулкой осенней дороге примчался в деревню районный посланец с повестками райвоенкомата.
Одну из них получил колхозный председатель Иван Евдокимов. Взял бумажку, чуть жмуря глаза, прочитал: «Евдокимову Ивану Захаровичу… 12 ноября с. г. предлагаю Вам явиться… иметь при себе…» Помолчал. Потом проговорил:
— Ну что же, значит, на фронт… — Подумал: «А кого же вместо себя оставить? — потом нашелся: — Черноталова. Ну конечно же. Старик он толковый…»
Идя домой, Евдокимов остановил девчушку, лет шестнадцати, Феню Тряпицыну:
— Ты, Фенюшка, сбегай-ка за Егором Ивановичем. Пусть зайдет к нам.
— Черноталовым?
— За ним.
Евдокимов, невысокий, плотный, сидел дома, на своем обычном месте, за столом, в углу. Наливал в стаканы, говорил:
— Выпьем, женушка моя дорогая, и вы, сыновья разлюбезные, за то, чтобы все ладно вышло… Чтоб поставили мы фашизму этому огромный крест повсеместно… Чтоб было все, как у нас, русских, говорится, честь по чести!.. А вы того, не вешайте головы… Отца помните…
Не сводила глаз с лица Ивана жена, сокрушенно качая головой, скомканным платком утирала крупные слезы. Кашляли в кулаки, сидели по обе стороны отца сыновья-погодки.
Поднимал стакан Иван, пил. Содрогался, закусывал ровными, как один, грибочками.
И вот, сильно распахнув дверь, ввалился в избу высокий, сутулый Черноталов, поздоровался, опустился на лавку. Снял шапку, расстегнул на дубленом полушубке пуговицы.
Поднялась из-за стола Авдотья, пригласила Черноталова:
— Егор Иванович, милости просим… Чем богаты, тем и рады.
Старик поднял руки, замотал головой. Но Евдокимов сказал:
— При таком случае грешно не выпить… Садись, разговор будет. Надумал я, Егор Иванович, тебя в председатели предложить. Так что с тебя причитается!
— Ты всегда чего-нибудь да надумаешь, — игранул голубыми запавшими глазами Черноталов, опускаясь на табурет, за угол стола. Умолял «только маленечко». Пил тяжело, мученически морщась. Потом был разговор.
— Тут, Егор Иванович, большого ума-то и не надо, колхозными делами управлять, а вот изворачиваться умей. Умей — и все тут, — говорил Евдокимов, дымя папиросой. — Знаем, что в активе ты всегда состоял, одним из первых в колхоз вступил… А теперь, сам видишь, какое время идет. Бабы остаются. А они, как малые дети, ласку любят… Главное, следи, чтобы люди духом не пали!..
— Учи, учи, — улыбался Черноталов, поглаживая седые усы и бороду, — ты поучить можешь. Только, по-моему, так: ласка лаской, а дело делом. Баба — кошка. Ее погладь — она и замурлыкает, нежиться начнет. Так што тут палка о двух концах. Сам говоришь — война. Какой труд нужен?
— Тоже прав. Только с бабами, детишками «воюй» полегче. А то возвратимся и по-свойски разделаемся!..
Смеялись.
У конторы стояли запряженные двухконные брички.
Провожал Егор Иванович новобранцев до района. Сыновей у него не было. Но не однажды прослезился, прощаясь и целуясь с сельчанами. А потом стоял чуть в стороне, смотрел, как расстаются люди. Одни неистово обнимаются, другие молча смотрят один на другого. Третьи дают наказ. А вот еще пара — Тепловы. Черноталов посмотрел, зло отвернулся: «Тьфу, да и только! Как жили, так и расстаются: Лида к нему боком стоит, а Петр курит и ощеряется, как дурак!..»
До войны Тепловы расходились несколько раз. Петр уходил к другой, гнал жену из дому.
Потом было такое: высвобождались мужчины из цепких объятий, поднимались на машины. Женщины заголосили… Кашлял надсадисто, дрожащими руками расправлял бороду Черноталов. Увидел девчонку Тряпицыных, что с матерью провожала отца. Та уткнулась в угол брички, сильно плакала. Подошел к ней, стал сзади, положил руку на худенькую спину.
— Как жить-то будем, дядя Егор?! — выкрикивала она. — Как жить-то?
— Ну-ну, Фенюшка, перестань… Ее секретарем, помощником своим надумал ставить, а она… слезы… Ишь ты, пичуга ишо, а сознаешь… Наш брат, старики, остаются… А баб скоко?.. Да и вы, комсомолята, помогать станете… Так и будем жить. Как же более?
При возвращении в деревню старик накрыл ежившуюся от холода девчушку чьим-то тулупом, проговорил:
— В контору наведывайся, дочка. У тебя глаз поострее, да и какую бумагу написать — ты все посноровистее меня… Так што навещай.
2
И вот старик Черноталов стал председателем в этом «бабьем хозяйстве». Сено и солома остались невывезенными, а лучшее тягло ушло на фронт. Помощь? Откуда ее ждать? Глубокий тыл. Деревенька в сорок домов. И казалось приезжему: с чего бы это
вздумалось какому-то человеку срубить себе первый дом здесь, в лесной глухомани, за многие-многие версты в стороне от крупных селений — в пятидесяти от станции, в тридцати от района. Уж не беглый ли он был, не каторжный? Все может быть…
Сильно заносит снегом эту местность, надувает, строит за домами и пристроями огромные сугробы. Нелегко сюда пробраться в такое время пешеходу-страннику. Поздно встает зимнее унылое солнце. Но раньше солнца являлся в избу к хозяюшке Черноталов, требовал: «Выходи на работу».
Видел, как передником терла заплаканные глаза женщина, говорила:
— Их куда? Не видишь? Бычьи пузыри надутые, а не дети! Этот вон руку обварил!
— Опосля, баба, опосля!
— Когда опосля-то?
— Другие успевают! Пошто у тебя такое?
Выходил во двор, а там не лучше: заваленный снегом под самый навес. Проходы к стайке с коровой да к курятнику или овчарнику. Запустенье. Нет хозяина.
А идя в контору, видел, как в непочиненных валенках, пальцы да голые пятки наружу, бежит в школу мальчишка.
Отворачивался, тер кулаком глаз, хрипло матерился.
Придя в контору, став к окну, спиной к Фене, спрашивал:
— Скоко ишо у нас картошки осталось?
— Последний погреб распочали.
Поворачивался к ней, горячо говорил:
— Ты, дочка, помогай учительше. Нужны эти обеды в школе. Ну и пускай последний погреб. В суседнем колхозе займем… Хоть пустая похлебка, а все же…
Фене только скажи. Укутанная, нещадно потирая измазанный нос покрасневшей рукой, вела под уздцы лошадь, везла к школе мешок картошки.
И одна беда, когда ребенок рядом. А уже совсем иная, когда необходимо его, двенадцатилетнего, за тридцать верст увозить в район на учебу. Интернат, а большей частью — частная квартира. Многие дети не выдерживали, со слезами возвращались обратно. И тогда, а это случалось очень часто, сидели зиму на печи, босиком выскакивали на мороз за сени, по нужде, мальчишки. Не сознавали они того, что думал о них Черноталов. А тот был готов кричать криком, понимая, что стережет их в нетопленой избе, за игрой в бабки проклятая неграмотность в будущем!
3
Старший сын Евдокимовых, Евгений, школу бросил. Как ни уговаривали мать, Черноталов, ни в какую. Матери заявил:
— Сказал, не поеду и не поеду! Когда в животе бурчит, учеба на ум не идет!
Заплакала мать, уступила.
Евгений, ему в это время пошел уже семнадцатый год, угловатый, широкий в кости, говорил:
— Не сердись, мать. Но это тоже не дело — я такой верзила за партой сижу, а женщины надрываются.
— Перестань уж. Не стало отца, так и делаешь, что хочешь!
Спустя месяц, вечером, увидел Черноталов парня с Лидией Тепловой в переулке. Заметив Егора Ивановича, Лидия рванулась из объятий Евгения, накрыла вязаным платком лицо. Евдокимов закурил, отвернулся.
— Здорово живете, милушки, здорово! — поздоровался с ними председатель. — Приспособились?! Тьфу! Чего молчишь, будто в рот воды набрала?! Объявится Петро, все выложу, так и знай!.. Тот там страдает-мучается, а она тут — с ухажерами сопливыми!
— Не кипятись, Егор Иванович. Ты что, и тут хочешь поступить по-своему, по-председательски? А только вот что: рассказывай! Все рассказывай! Не боюсь! Он-то тоже там, небось, крутит вовсю! Отчего писем нет, а? Скажи!
— Дур-ра! Да он, может быть, в плену или в госпитале без памяти валяется!
— Знаю я эти госпитали! Тут ни одну, при случае, не оставлял не осчастлививши, а там и подавно!
— Тьфу, ругаться в попа грех!
— Тьфу и есть!
— А ты чего? — в упор подступил Черноталов к Евгению. — Другому жизнь топтать?! А ну, с глаз долой, паршивец ты этакий!
— Дядя Егор!
— Долой, пока не вырвал вон кол да не отходил как следует!.. Сопляк!
Разогнал тогда их старый председатель, но через два дня Феня сказала:
— Дядя Егор, они опять встречаются. Вчера Женька к ней заходил. Я ему: «Егору Ивановичу скажу», а он: «Идешь, так иди своей дорогой».
Черноталов понимал, что никто не осудит его, если он не вмешается в это дело. Но понимал также и то, что по деревне идут разговоры.
Вызвал к себе Евдокимова, закричал на него, затопал ногами:
— …Так ты — в свой нос?! Я тебе што говорил? Человек на фронте, а ты?! Вот так: или даешь мне слово, што бросишь ее, или я тебя отправлю на год на лесозаготовку!.. Я тебе дурные мысли выбью, сосунок!
Но, увидев, как неожиданно побледнел Евгений, как с готовностью дал слово не подходить более к Тепловой, в сознании неожиданно родилось: «Што-то тут не так получается!.. А если это у них до гробовой! Тогда как?!»
Никогда не предполагал даже, что так тяжело порою человек может переживать за поступки других. Сидел за столом, в раздумье передвигал с места на место костяшки на счетах.
Пришел в себя тогда, когда Феня, кашлянув, сидя за шкафом, напомнила о своем присутствии. Старик, спохватившись, повернулся к ней.
— Ты разве не ушла?
— Нет, Егор Иванович.
«Вот мельтешится рядом все время, слушает всякое!» — с досадой подумал о ней Черноталов, но, глядя на ее лицо, с конопатым вздернутым носиком, отходил душой, теплел сердцем. Да еще ее сочувствующий вопрос: «Тяжело, Егор Иванович?»
— Тяжело, дочка, — вздохнув, отвечал он. И, посидев немного, побарабанив пальцами по столу, говорил:
— М-да! Ну што же, пичуга, теперь на фермы пойдем?
— Пойдем, — с готовностью отвечала Феня и, семеня, поспешала за Черноталовым…
Евгения Черноталов решил отправить на курсы трактористов.
В деревне сорок домов, ничего не скроешь. А Лидия Теплова и не хотела скрывать. Огненно краснела голубоглазая, встречаясь с Евгением на улице, останавливалась.
— Здравствуй, Еня! Сегодня приходи, слышишь? Чего вчера не был?
Опускал голову Евгений, носком валенка водил по снегу.
— Извини, Лидок, но это… Может, правы люди — не надо нам с тобой встречаться… Нельзя же… Лучше я уеду отсюда!
Тянулась к нему, шептала:
— Уезжай! Ради бога, уезжай! — хватала за руку, жгучими глазами смотрела ему в глаза.
Потом долгие ночные часы металась в постели.
В темной, напоенной страшной тишиной избе до полночи не сомкнула глаз, думала о жизни. Было горько, обидно. Не выдержала одиночества, быстро оделась, убежала к матери в другой конец деревни.
Неожиданно родилась злость. Но странное дело: она не знала, на кого же ей стоит излить эту желчь — на Еньку или Черноталова? Или на Петра? На мужа Петра? Или… Или на войну?!
Сама просила Евгения уехать. А когда тот уехал, на нее вдруг напала невыносимая тоска. Не знала, куда деть себя, чем заняться особенно в длинный зимний вечер… Теперь-то она знала, на кого можно «спустить собаку» — отвести настрадавшуюся душу!
При встрече со стариком Черноталовым смерила его уничтожающим взглядом, криво улыбнулась:
— Все печетесь, Егор Иванович, будто свекор!
— Пошла ты от меня, бесстыжая, ругаться в попа грех!
— Грех, грех!.. Глупые вы люди — старики!.. А теперь послушай вот что: ты кто такой, что в чужую жизнь впутываешься?! Кто тебе, а не Еньке дал такое право, чтобы ты мог чье-то счастье ломать?! А?!.
Но когда наконец усмирила свое взыгравшее чувство Теплова, пришла к седоволосому председателю, расплакалась.
— Куда деться мне, куда?! Ты ж мою жизнь знаешь! Петька меня не любил!.. А тут еще, будь она проклята, война эта!.. Запуталась я!.. Где она, моя просека, в жизни? Где?!. Подскажи! Вот ты все наставляешь, советуешь! А что ты сделал, как мужик, чтоб не было ее, войны этой, всего того, что ползет от нее, как гаденыши от гадюки, а? Что?!
— Што я могу? Я — простой мужик, колхозный. И меня не спросят, ежели…
— То-то и оно, что не спросят! С бабами только воевать!
— Переставай давай. Вон идет кто-то.
Уходила Лидия понурая. Не было больше огня в ее глазах, так красившего ее лицо: предчувствие тяжелого налегло на душу, придавило. Вдовья жизнь! Суровое осуждение!
И вдруг ей пришло письмо от Петра. Потом еще и еще! В них он просил прощенья у жены за то, что жил с ней до войны не так, как бы стал жить сейчас, будь у него теперешний ум. Находил самые теплые слова, не скрывал, что пережил, передумал немало… По несколько раз на страницах письма называл ее любимой.
Лидия растерялась, окончательно не понимая, что же ей теперь делать.
4
Веселый был Черноталов, общительный. Любили женщины поговорить с ним напрямик, ворохнуть то, что мучило в военную жизнь каждую. Так было. Веяли семенной хлеб в колхозных амбарах, готовились к весне. Сидел, доглядывая, старичок Горохов с ружьем в руках, кричал: «А ну-ка положь! Положь, пока не попало как следует!» «У хлеба и без хлеба», — вздыхали женщины, но ухитрялись сыпануть зерно в валенки, в карманы мужских шаровар, что носили под юбками. И совесть мучила, и боялись наказания, но голодовали детишки!
Приходил Черноталов, как всегда, в сопровождении Фени.
Женщины, завидя их, смеялись, перешептывались: «Вон опять старый и малый идут!» Когда те подходили, наиболее смелая, вздохнув, нарочито громко просила:
— Фенюшка, голубушка, расскажи, как вы с Черноталовым племенного барана у татарина покупали? Хороший баран, породистый! Только один недостаток — двойню родил! — И сама заразительно хохотала.
Феня краснела, отворачивалась. Черноталов же, запрокидывая голову и придерживая шапку шубной рукавицей, хохотал тоже.
— Шут его знает, — говорил он, играя смеющимся правым глазом, левый в такое время закрывался совсем, — темно было, вот и попали впросак! А когда оказия случилась, ягнята эти появились, тут-то уж я на том пастухе выспался! Ты это кого же мне подсунул, разнесчастный дух? — спрашиваю его, а он: «Моя мал-мал пьяная была!.. Барашек молодой, рога маленькие!.. Брал бы твоя старый, тогда б не обознался!» Я ему: да ты, ругаться в попа грех, под монастырь меня подвел, перед всей деревней, как председателя, опозорил!.. А он: «Бывает, бывает… ага». Ну што ты с ним будешь делать?!.
Звонко смеялись женщины, приостанавливая работу, по-гусиному гоготал, трясясь всем телом, сидящий на пудовке старик Горохов. Тер влажные глаза вынутой из рукавицы рукой, выговаривал:
— Бес! Истинный бог, бес, а не старик!..
Уходил Черноталов со складов, бережно отряхивая валенок об валенок, чтобы не вынести на улицу ни зернышка.
На собрание народ шел охотно: где же более можно было услышать последние военные новости, посмотреть присланную каким-нибудь фронтовиком фотографию? Послушать, что тот пишет.
В конторе было обычно накурено: «хоть топор вешай». И сидит, бывало, смолящий нещадно старик Васянин — шуба да огромные валенки, крутит малюсенькой головой, без шапки, рассказывает:
— По лету дело было, ребята, по сибирскому, вольному. Раньше какие травы стояли? Идешь с косой, а они тебе в пояс кланяются. Ну и вот. Кошу, стараюсь. И на тебе, горе луковое, туча из-за Никиткина болота появилась, ну што тебе медведица темная. Глянул, дело плохо: середина белая — град!.. А потом — как сверканет да ударит, так земля, как куропатка в лапах у стервятника, трепыхается вся. Я — к шалашу. Там упал на четвереньки и давай молитвы придумывать. Вскоре опять как сгремит, аж внутри все позеленело разом! Потом — плеск, треск, да ка-а-ак мне ниже поясницы врежет!.. Думаю — все! Куды и молитвы подевались!.. И взвыл же я благим матом: эх, разъязви те в душу, знать-то убило!.. А што получилось?.. Осину расшипало, она меня суком и съездила!..
Хохотали старики, запрокидываясь и хлопая руками по коленкам, в ватных шароварах, просили рассказать еще. Но поднимался Черноталов, выжидающе смотрел на людей. Водворялась тишина.
— …Говорим теперь: немцы до Москвы добрались! Пусть!.. Нежданно, негаданно, как бандит, ночью, из-за угла можно ошарашить любого и спрятаться!.. Но только от честного, открытого боя им теперь не уйти!.. Не уйти, я вам говорю это!.. Мы как бьем? Не кроясь, не прятаясь, а прямо — в лоб! Так-то! Знай наших! Это соль сегодняшнего разговора, ругаться в попа грех!.. И дальше они не ступят, обрубили веревочку! Урал-батюшка за работу взялся! Запоют ишо немцы «матушку-репку» вот увидите! Помяните мое слово!.. Но это так. Военные дела наши. А што же здесь делается, в колхозе нашем? И выходит: неважно мы работаем, плохо!
— Да полно те, Егор Иванович!
— Погоди, Семен, не перебивай! Плохо! Ну и што из того, што все кругом снегом забухало? Што, я спрашиваю? Коров, лошадей кормить не надо стало?! Пошто без сена вчера возвратилась Евлампия Шубина? Пошто?
— Егор Иванович, — плаксиво отзывалась Шубина, — лошади по пузо, сама вся вымокла: от дороги около трех верст по такой целине! Измоталась! Из сил выбилась! Ведь говорила же! Говорила!
— Переставай! Надо, значит, надо! Кровь из носу, а выложись, наизнанку вывернись!.. Снег! А как наши фронтовики лежат в нем, стынут, кровью истекают?!. Штоб мне корм был!
— Да что я, мочи нет, а…
— Через мочь, баба, через мочь! Как же иначе?!
— Дядя Егор, а можно я с ней поеду? — неожиданно подскочив, крикнула Феня. — Я ей помогу!
Черноталов посмотрел на нее раздосадованным взглядом, пристукнул кулаком по столу:
— Цыц, пацанка!.. А ты, Лука, если через три дня дровни не окуешь, из кузницы взыграешь! Не я буду — устрою тебе это! Сам по ночам ковать стану, а тебя от должности отстраню, а район спроважу!
— От тебя ожидать можно, репей!..
Порою лишку горячился председатель, но пробивались к занесенным снегом по самые макушки копнам сена женщины, ремонтировался колхозный инвентарь. Понимал, что невыносимо трудно. А что делать?
И хоть цыкнул на Феню на собрании, а на другой день говорил ей:
— Ты, пичуга, извини меня за вчерашнее… — Потом уж более мягко: — Што же, дочка, поезжай. Помочь Евлампии надо.
Как пробивались они к этому стожку сена! Только свернули с мало-мальски накатанной дороги, как лошадь сразу же ухнулась в снег по самый живот. Торили на два раза дорогу. Потом в три раза понемногу возили сено к дороге. Лошадь затравленно хрипела, ложилась и, тараща налитые кровью глаза, билась головой об снег. «Милочка ты моя, — гладила ее по мокрой шее Феня, дергала за поводья. — Ну пойдем. Пойдем же!»
Возвратились в деревню ночью. Понуро свесив голову, тащилась саврасая кобылица, жалобно скрипели полозья. Придерживаясь за веревку, что перехватывала толстую жердь на возу, еле переставляла ноги Шубина.
Фене хотелось ей сказать что-нибудь ободряющее, но в горле пересохло, горело лицо, за день обожженное холодным сибирским ветром.
Черноталов их встретил за гумнами.
Шел сбоку, поддерживая вилами покосившийся на правую сторону воз. Молчал. Когда подъехали к базам, сказал:
— Айдате домой. Теперь без вас тут управимся. — Покрутил головой, глухо обронил: — Большое спасибо вам, девки… Сейчас же велю накидать, в первую очередь, молодняку…
Качал головой, видя, как пошли те, устало качаясь, потом принялся распрягать лошадь…
Как-то шел из конторы, услышал истошный крик. Увидел: бежит Тряпицына, мать Фени, как полоумная, в платье, в вязаных носках по целинному снегу. За огороды, к лесу, ударилась. Догадался: пришла похоронная. Прибежал на базы, вывел из первого стойла лошадь. Гнался долго. А когда женщина, обессилев, ничком упала в снег, остановил коня, спешился. Присел рядом. Плача у той не было. Был надсадный хрип. На колени припал старый, закричал:
— Анна! О детишках вспомни!.. Ты што, сиротами надумала их сделать?! А?!
Та приподнялась на руках. Разлохмаченные волосы. Опухшее лицо, нос, губы.
— Егор Иванович!.. Егор Иванович!
— Анна, крепись!.. Крепись!
С горем пополам взвалил женщину на спину лошади, привез в деревню.
В доме, когда уложил Тряпицыну на кровать, подозвал ее младшего сынишку, спросил: «А Феня где, Колятка?»
— Там, — мотнул тот головой в сторону горницы. Осторожно ступая, Черноталов прошел в комнату.
Увидел девчушку, сидящую в углу, под кустом фикуса. Всего пронзила невыразимая жалость. Мелькнула мысль: «В ее ли годы знать такое горе?» И, вспомнив, как она по-детски бескорыстно выполняла его любое поручение, неожиданно сделал для себя открытие: повзрослела не по годам его помощница только лишь из-за жизни, из-за войны… Так захотелось облегчить ее горе. А как? Подумал: «Закиснет… На слезы изойдет вместе с матерью… Надо с ней как со взрослой…» Переступил с ноги на ногу, проговорил:
— Ты, Фекла, завтра будь в конторе. Работа стоит. Скот не переписан… Через пару дней, опять же, зерно перевешивать начнем… писанины этой скоко?.. Так што завтра чуть свет приходи.
Феня в знак согласия мотала головой.
Постоял еще немного старый, одел шапку и направился к выходу.
5
Весеннее солнце встает, радостное, румяное, не то, что зимнее. Звонко говорит капель, тянет на улицу.
Зыбкий, только в это время года хорошо усматриваемый пар маревом колышется над огромной степью. Дрожит перехваченный им пополам лес. Волнует неугомонная трель трепещущегося в безоблачном небе жаворонка.
По вечеру в деревню вошел солдат. Он тяжело хромал. Пустовал правый рукав шинели. Это был Теплов.
Дом жены стоял на другом конце деревни, а материн — на этом. Да и устал Петр. Свернул к материному дому.
Мать встретила его с плачем. Но сразу почувствовал неладное солдат: не поспешила старая сбегать за его женой, не заводила о ней разговора. Не переставая причитать, раздевала сына. Закричала, поймав пустой рукав шинели. Потом, немного успокоясь, принялась накрывать на стол.
Петр тяжело опустился на лавку за стол, подпер единственной рукой подбородок.
А когда мать налила полный стакан припасенной на случай водки, то схватил его дрожащей рукой и с нескрываемым рвением принялся глотать жгучую жидкость. Закусил самую малость. Налил сам. Опять выпил. Долго крутил головой. Потом спросил, сильно шепелявя:
— Ну что, мать, гуляла жена-то?
— Петенька!
— Кто он? — потупился Теплов, отодвигая чашку с картофельной кашей.
— Меня пожалей! Только в избу зашел и о ней сразу!
— Мать!
— Евдокимовых! Молодой, а жеребец жеребцом! Мать не слушает! Теперь в районе, в МТС.
За голову схватился Петр, долго сидел неподвижно, молча. Наконец круто вскочил, схватил с крючка шинель. Напрасно умоляла мать подумать о себе, выкинуть Лидку из головы, «раз она такая».
В дом Лидии влетел в расстегнутой шинели и гимнастерке. Стал под полатями, широко расставив ноги. Дико горели глаза.
Ставила крынку с молоком в посудник Лидия. Увидела, уронила, разбила. Наклонилась. Но не собрала черепки и не распрямилась. Страшно побелев, потупилась.
— Петр Степаныч!.. Каюсь!
— Что?.. Заживо похоронила?!. Я кого спрашиваю?! Похоронила?! Зашибу!
Подступил к ней, схватил за волосы, запрокинул голову вверх лицом, увидел лихорадочный блеск от страха расширенных глаз. Выпустил волосы из руки, а потом сильно ударил. И еще, еще! Наконец тишину вспорол дикий визг…
Не сразу разглядел Петр того, кто встрял между ними. Когда разглядел, узнал Черноталова. Отпустил Лидию, ненавистным взглядом уставился в лицо Егора Ивановича.
— Уходи отсюда!
— Перестань, Петро!
— Убирайся подобру-поздорову!
— Перестань говорю!
— Да ты, горбулина старая!.. — схватил он за грудки Черноталова, поволок к выходу. Ногой ударил в дверь, выкинул в сени. Сильно полетел старый, спиной ударился о стену. Но тут же вбежал обратно, ударил шапкой об пол.
— Ты фронтовик али тюремщик какой? Ты што же это делаешь, подлец, а?! За што бабу бьешь! Ты у меня спроси, как она жила здесь: в одну упряжку с быком запрягалась и — на целый день на мороз!.. А как в логу чуть под лед не ушла вместе с лошадью?! Да и как ты до войны жил с ней?!
Пришел в себя Теплов. Железной клешней — единственной рукой — обхватил стояк чересполатницы, забился об него головой, заплакал.
Целый месяц Петр пил, старался избавиться от горя. Как-то встретил Евгения Евдокимова. Напал резко, остервенело. Сбил с ног… Потом, заведенный в контору, рвал рубаху, бил кулаком себя по гулкой груди, ревел:
— Хуже войны! В тысячу раз хуже войны она меня окалечила!.. Ну, был дураком в прошлом! Но зачем так?!. Никто, никто же на свете не знает, как я себя, там, терзал за то, что обижал ее! А она? Душу мне растоптала!..
Через неделю Черноталов помогал людям вытаскивать Петра из петли, откачивать.
Ожил фронтовик, долго не показывался на улице.
Как-то под вечер встретил старого, поздоровался.
— …Извини меня, Егор Иванович, смалодушничал.
— Чего уж там. Грех да беда с кем не бывает.
— Тебе спасибо. Спасибо за то, что помешал обернуться из фронтовика в преступника.
— Переставай. Не дело говоришь.
Разошлись они. Не знал Теплов, как ворохнул он своим «спасибо» старую, загрубелую, будто шубная овчина, что много-много зим ношенная, душу старика. Дня через два встретилась Лидия.
— Егор Иванович, не знаю что и говорить!
— А чего говорить-то?
То, что вместо отца ты: поругаешь и пожалеешь тут же… Душевный ты человек… Хоть в колхозном деле, хоть в человеческой душе, а незабываемый, хороший след оставляешь!
— Заладили! Старик, как и другие старики — крикливый, вредный… Што же касаемо вашего дела… Миритесь, да и делу конец. Перемелется, одним словом, мука будет.
Потом эту же мысль высказал и Петру.
— Думал уж, — отвечал тот, — только тебя обидеть придется: уедем отсюда. От людей стыд за жизнь подобную бабью, за свои постыдные выходки. Да и колхозник-то я таковский — куда меня пристроишь?
— Дело-то бы мы тебе подыскали. А люди, так не опасайся, понимают они. Зла тут тебе никто не желает.
— Спасибо. Но только уеду. Ты уж не неволь.
— Я и не неволю, откуда ты взял?.. Только не могу я, Петруха, смотреть на избу с заколоченными окнами, не могу — и все тут! Кажется мне, старому дураку, будто вымирает моя деревня и заходится от жалости сердце: скоко трудов, скоко сил за жизнь тут было вложено? Да и сам посуди, не обойтись без деревни. Хлеб испокон веков всему головой приходится. И как ты человека ни сряди, каким наукам ни обучи, а от хлебушка его не отучишь… Так уж создан человек. Так он должен и жизнь устраивать. А ты гляди, делай как знаешь.
И все-таки увез Теплов свою Лидию. Уехали жить на станцию.
6
Когда выехали поднимать пары, когда кинули во влажную землю первые зерна тракторные сеялки, приехал председатель к агрегату Евдокимова. Тот помялся, заговорил первым:
— Не ладится у меня что-то. Тарахтит, будто сотня порожних связанных банок…
— Ты мне этого не толкуй. Не надо было на ремонте лоботрясничать. А теперь так — простоишь, пеняй на себя!
— За Лидку мне простить не можешь, — вздохнул Евгений и, отвернувшись, посмотрел на сторону. — Я же вижу.
— Хорошо, што видишь, — глухо отозвался старик. Приблизился, выдохнул:
— Молодой ты, Женька, это так. Но на это скидки нет. Ты заведи себе в привычку и помни всю жизнь: уж коли надумал што сделать, то сначала обмозгуй, прикинь, што к чему получается… Как бы вот ты поступил, ежели, к слову, оженись, а с твоею законною женой стряслось подобное? Молчишь? То-то. На то человеку этот вот коробок с мозгами и приспособлен, чтобы соображать, прибрасывать… Ну да ладно. Отец-то што пишет?
— Пока все хорошо.
— Вот и порадовал. Когда у людей хорошо, то и у тебя на душе светлее навроде… Давай поезжай. Да гляди у меня, не балуй!
Мог быть строгим Егор Иванович. Но перед одним на свете был он слаб: увидит ватагу детишек, которых учительница часто водила в лес, остановит лошадь, вылезет из ходка.
— Опять вы будто наседка со своим выводком? — а сам потреплет по голове какого-нибудь мальчишку, сухим, в черных трещинах пальцем утрет тому нос. — Ишь ты, за зиму-то как вытянулся… Расти, парень, расти… Придет время, нужным человеком будешь!
Окинет детские головы взглядом, сгрустнет — или пожалеет их, или вспомнит свою нескладную жизнь, повернется, пойдет к ходку. Оттуда, не поворачиваясь, махнет рукой, мол ступайте, сам потихоньку сядет в ходок, поедет дальше…
С приходом весны у колхозного человека забот прибавляется. У председателя — тем более. Целыми днями мотался Черноталов, до полночи сидел с людьми в конторе. Усталый, тяжелый приходил домой.
— Изведешься, — говорила ему жена, — не доживешь своего.
— Доживу, — отзывался Егор Иванович. — Да и кто знает где оно, мое-то? Может, во всем этом, сегодняшнем, и запрятано… Ну, а если запрошусь в зеленую дубраву, горя мало: отжил, значит, как я понимаю, отмозолил людям глаза!
— Перестань! Вечно он до слез доймет!
Засыпал быстро. А по первому сполошному крику петуха вставал, одевался, умывался и уходил. С головой уходил в колхозную «работушку-заботушку».
Летом 1945 года, в разгар сенокоса, пригнал в поле на телеге мальчишка.
— Тетя Дуся, тетя Дуся! — кричал он Евдокимовой. — Айда в деревню!.. Дядя Иван с фронта пришел!
Неожиданно подкосились ноги у той, как стояла, с вилами в руках, так и села на рядок сена. Заплакала.
Вечером в доме Евдокимовых собрался народ «от мала до велика». Но солдатские глаза упорно разглядывали лица, хотели кого-то увидеть. Наконец Иван спросил жену:
— Что-то Черноталова не видно? Где он?
— Болеет, — ответила Авдотья, — зимой еще слег. Всю войну, можно сказать, на себе тащил, а теперь вот…
На другой день Евдокимов с женой пришел к Черноталову.
Старуха Егора Ивановича хлопотала возле печки, а около кровати больного сидела Феня.
Увидел старый солдата, прослезился.
— Ну вот и вернулся, орел?
Молча наклонился над ним Иван, помог сесть на подушках. Потом троекратно, по-русски, поцеловал Егора Ивановича в дрожащие губы.
В избе стояла тишина. Ни у мужчин, ни у женщин слова не шли. Слишком много чувств накопила душа каждого из них, слишком много…
ВЛАДИМИР КУРБАТОВ

Родился в 1928 году в Крыму. По профессии учитель.
Рассказы печатались в журналах «Юность», «Советский воин», «Уральской нови» и областных газетах «Челябинский рабочий» и «Комсомолец».
ДЕДОВА ГРУША

Мне запомнились отцовы истории, которые он рассказывал вечерами, сидя со старшими детьми под огромной грушей. Груша была необыкновенная. Теплый вечерний ветерок задумчиво перебирал ее листья, и мне иногда казалось, что это не отец рассказывает, а она, старая, плодовитая, дарившая нас маленькими, но очень сладкими медовыми плодами.
Село, в котором рос мой отец, было большое: четырнадцать километров в длину, семь в ширину. Семь приходов было в нем, а после коллективизации — семь колхозов. Стояло оно у днепровских плавней, на великом пути с севера на юг, протоптанном и копытами коней крымских орд и ватагами запорожцев, а потом мирными бричками чумаков, возивших из Крыма соль. Соляным шляхом звалась эта дорога, проходившая через село с поэтическим названием Малой Белозирки.
Шла весна 1920 года. Отгремели над селом лютые военные годы. Кто только не ломал ветвей в яблоневых и грушевых садах его: и беспутные махновцы, и лютые белые чеченцы, и кайзеровские немцы, как саранча, пожиравшие все на своем пути.
Отгремела война. Над селом опустились тихие вечера. Запели девчата. Парубки приосанились. Хмуро щурились богатые мужики: у молодых ветер в голове, а мы еще побачим, что будет.
Пришел с войны Сашко Грачик в буденовке с красной звездой. Соседские хлопчики бегали смотреть через тын на Сашка и его красную буденовку. «Бач, рогатка яка», — шептались хлопчики и до истомы завидовали парубку. Девчата тоже поглядывали на Сашка. Да и как было не поглядывать: видный парубок Грачик, стройный, с широкими бровями вразлет. Не глядела на парня только Галинка, дочка волостного писаря Бойко. «Що я комбеда не видела, голоштанника», — говорила она подружкам.
Не глядела на людях. А когда Сашко проходил мимо ее хаты, пристально разглядывала его из-за марлевой занавески. Не похож этот парень на знакомых ей парубков. Что-то было в нем свое, что он знал, а они не знали. Не знала и она, Галинка. А хотела знать. Вот потому и глядела из-за занавески.
Лунными вечерами сходилась молодежь с западной части села, кладбищенские, как их звали белозирцы, на Олесиной поляне, за околицей села: внизу Днипро, а вверху, над кручей кладбище. Песни пели, играли игры, а некоторые парочки спускались вниз, к теплым водам Днипра и, прячась в ивняке, целовались. А старый Днипро, кравший по ночам все звезды с неба, плескал доброй волной по камышовым заводям, и поцелуев не было слышно.
Ходила тогда Галинка с Василем, сыном дьякона из их прихода. И к Днипру спускалась с ним целоваться. Женихалась с Василем не по любви, а скорее из озорства, а может, и от скуки, а может, из-за того, чтобы другие парни не липли, — Василь был добрый, толстогубый и тихий, как теленок.
После возвращения Грачика Василь иногда приходил на Олесину поляну вместе с ним. Были они товарищами еще по приходской школе. Галинка видела, что ухватился Сашко за Василя, как черт за грешную душу. Все с ним о боге спорил и агитировал за комсомолию и комбедию. А Василь больше молчал и вздыхал. Слишком врос парень в старое да батька своего боялся: строг был дьякон.
Начиналось уже лето, а Сашко дивчины себе еще не выбрал. Правда, на селе его часто видели с Мотрей рябой, но дела у них были комсомольские — идейные, вот и ходили вместе. Да и то, Мотря была намного старше Сашка, в войну партизанила, а сейчас громко говорила: чего это она замужем не видела, какому-то паразиту галушки варить! Свирепая была девка — никак Сашку не пара.
Придет Сашко на Олесину поляну, поговорит с парнями, иногда поспорит. Попоет. Хороший голос у него. Мужественный и душевный. Особенно любил он: «…а я тебя аж до хатыночки сам на руках выднесу…» Когда услышала Галинка впервые, как пел Сашко, душно ей стало, задохнулась. Никогда с ней такого не бывало. Будто позвал ее с собой… Но он не звал.
Тихая была в этот вечер Галинка. Сидела у заводи, обхватив руками ноги, пригнув голову свою к коленям. Глядела на звезды, украденные с неба Днипром. И Василь был тихий. Он всегда был тихий. Потом обнял Галинку за плечи, сказал то ли всерьез, то ли шутя:
— Я больше всего на свете люблю тебя… и вареники с вишнями.
Посмотрела на него Галинка впервые всерьез. Да как! Обожгла глазами.
— Лопух ты, Василь, — вздохнула и встала.
А он и не заметил, как дивчина на него посмотрела.
— Завтра мы с Сашко в луга идем на сенокос. Может, придешь?
Усмехнулась Галинка.
— Может, и приду, — сказала и ушла от него, стремительная, гордая.
А утром, подоткнув полы своего сарафана, она спустилась в Черную балку, идя напрямки к луговине. Холодная роса приятно щекотала ноги, а тяжелевшие от влаги травы покорно ложились под Галинкиными ступнями, оставляя надолго ее след. Ох, хорошо утром, когда еще не взошло солнце, идти босиком по росе! И не думается ни о чем, и сердце не тревожат думы, и кажется, что сам ты растворяешься в прозрачных росах и врастаешь вместе с травами в теплый чернозем, дарящий живому и силу, и радость. Галинка быстро шла и улыбалась, и ноги ее до колен были мокрыми. Сейчас ей захотелось броситься грудью на траву и лицо омыть, как и ноги, росой. Громко смеясь, кинулась в травы, прижимая их к себе. Вся она вымокла. Платье прилипло к телу. Необъяснимая радость охватила ее. Она вскочила и побежала.
Выбежала из балки на широкую стежку и налетела прямо на парней. Шли Василь с Сашком в соломенных шляпах и с косами на плечах. Замерла Галинка. От неожиданности остановились и парни. Недвижимыми глазами смотрел Сашко на девку. Как будто впервые видел ее. Жгучие это были глаза. Загорелось у Галинки лицо. И она глядела на парня неотрывно, забыв о девичьей гордости.
— Вот и добре, что пришла. Это я ей вчера сказал, чтобы пошла с нами, — зашлепал губами Василь, объясняя Сашку появление Галинки.
— Тебя послушалась, Василю. Жинкой буду покорной, — сказала Галинка и пошла вперед, задумчиво наклоняя голову, осторожно ступая мокрыми ногами по пыльной дорожке.
Парни двинулись за нею.
Василь сиял и гордо косился на Сашка: вот мол какая у меня девка и красивая и покорная, сущий клад!
До луговины все трое не проронили ни слова. Бросили узелки с хлебом и салом в старом шалаше, сложенном из сухих, почерневших камышей; поднеси зажженный прут — вспыхнут, как свечка. Парни сняли рубашки и остались в шляпах и портках. Правили оселками косы… А Галинка, заплетая волосы, поглядывала на них. Сашко был выше и тоньше Василя. Мускулы на руках перекатывались под смуглой, почти цыганской кожей парня. Огромный лиловый шрам от пояса через смородиновый сосок пересекал грудь. Она подошла к парню и осторожно притронулась пальцем к зарубцевавшейся ране. Плечи парня дрогнули, как от удара, и руки обмякли.
— Что это у тебя? — спросила Галинка.
— Человече саблей побаловал, — нехотя ответил Сашко. И, может, впервые покраснел от застенчивости и девичьей ласки.
— Болит? — спросила Галинка.
Сашко отрицательно покачал головой и почему-то строго крикнул Василю:
— Пошли, а то роса сойдет!
А Галинка села около шалаша и, обхватив колени руками, зашептала:
— Ой, мамо, мамо, та я ж люблю его, комбедика, нецелованного, худобного!
А внизу луговины звенели косы, вздрагивали травы и молча, подкошенные, ложились на сырую землю.
Всходило солнце.
А вечером Галинка варила кулеш в старом котелке. Хлопцы лежали подле и курили высушенные на солнце и потертые в ладонях листики самосада, который был удушливее костерного дыма.
Кулеш вышел густым и жирным: крупу с салом варили. Дымком каша попахивала. Потом лежали на охапках сена у шалаша, сморенные дневной работой и пищей.
Василь сразу же уснул. Сквозь сон слышал только, как Галинка спрашивала Сашка:
— А какая же она, эта, коммуния? Под одним одеялом спать будут, что ли?
— Брешут это, — отвечал Сашко, — коммуния будет царством людской свободы. Забудут в ней о человеческих бедах. Все будут счастливы: и ты, и я, и весь трудовой люд.
— И Мотря рябая? — лукаво спросила Галинка. — Будто убогих и злых не будет?
— Мотря… подобреет она тогда, а доброта красит человека.
Проснулся Василь от дурного сна. Будто сидела у него на груди жаба и плакала человеческой слезой. Переел кулеша с салом, что ли? Галинки не было, Сашка тоже. Василь вылез из шалаша. Гасли последние звезды. Восток занимался светом. Вокруг тоже никого.
— Галинка-а-а! — закричал Василь.
Но никто не откликнулся.
Значит, Галинку увел Сашко. Не друг он, а вражина: девку сманил.
Тошно стало Василию. Поплелся обратно. Пошарил в шалаше. Нашел узелок. Поел сала с хлебом. И, обиженно чмокая губами, опять уснул. Спи, Василь, спи. В жизни зорек таких немного.
— Вставай, Василь, вставай, пора!
Над ним лицо Сашка с блескучими глазами. Не может проснуться Василь.
— Вставай, увалень, пора, — тормошит его друг.
И Галинка здесь, смеется звонко, радостно:
— Вставай, Василю!
Он слышит, как Сашко уже правит косу. Звенит и коса весело, остро, как Галинкин смех.
— Где была? — спрашивает у нее Василь.
— Я тебе не жинка, чтобы отчитываться.
— Галинка, — тянет с отчаянием Василь, — я ж люблю тебя!
— Ты и вареники с вишнями любишь, — смеется девка.
— Не смейся, Галю, я мужем буду, а Сашко в коммунию тебя запрет.
— А может, Сашко с коммунией мне люб больше дьяконовой хаты?
Зло бегают маленькие глазки Василя.
Не любит Галинка угроз, не любит и Василя.
— Постылый… — и отворачивается от парня.
На ночь ушел Василь в село. Его провожал Сашко. О чем они говорили, знает только набедовавшаяся за войну степь да глупые перепела, кричавшие с заходом солнца, что «спать пора», будто это — самое главное в жизни. Проспал Василь девку.
Вечерами мрачный ходил он по Олесиной поляне, а девчата хихикали.
— Василь, иди к нам, что мы, хуже Галинки? — В селе женихом он был видным.
А внизу, в ивняке, целовались Галинка с Сашком, целовались иногда на виду, бесстыжие, как две тени, бродили друг за другом. Но над ними не смеялись: одни Сашка уважали, другие побаивались.
Однажды веселую и грустную, насмешливую и улюлюкающую Олесину поляну охватила паника. Митрий Ляшко, проходя мимо кладбища, увидел привидение, ей-ей, оно бежало за ним. Несколько смельчаков приблизились к кладбищу и тоже видели, как что-то мельтешило промеж крестов.
Опустела поляна. Жившие у околицы боялись выходить из хат в поздний час.
И привидение осмелело. В полночь оно гуляло уже по Олесиной поляне. Парни с девчатами теперь не спускались по вечерам к Днепру. Хмурые, сидели парни у хат, курили крепкие цигарки, сплевывая сквозь зубы.
Сашко с Галинкой встречались теперь мельком. Иногда он подходил к Галинкиной хате и сидел с нею на скамеечке.
— Не сиди, не скалься с хлопцем, он тебе не пара. Иди матери помогать! — сейчас же раздавался крик.
Досадно было Сашку глядеть на парней, на их ленивый страх перед чертовщиной. Разве в коммунии, за которую дрался Сашко, будет место суевериям? И Сашко решился. Мотря, с партизанской хваткой, хлопнув Сашка по плечу, рубанула:
— Правильно, нечего идеи разводить. Ни один чертяка не устоит перед пролетарской пулей!
Когда сумерки сгустились, Сашко с Мотрей залегли у двух валунов, что издавна лежали у тропинки, ведущей от Олесиной поляны к кладбищу. Камнями-братками прозвали их на селе. Траурные процессии проходили мимо них многие и многие лета, и часто в скорбном бессилии опускались на эти камни люди, проводившие в последний путь своих близких.
Ночь была душной и темной. Звезды, и те куда-то попрятались. Было очень тихо. Молчала Мотря, молчал и Сашко. Жутковато стало. Но Сашко запомнил слова своего полкового комиссара, что нет в природе бога и нет черта, а есть Совесть человеческая, Правда человеческая и Труд человеческий, перед которыми навсегда отступит темнота. И лежал он здесь за эту Правду человеческую. Смелый ты, Сашко, парень, и смелая подруга твоя по идейности Мотря, которая, когда будет построена коммуния, попригожеет и подобреет.
А вдруг приведение не придет? Как быть тогда? Многие на селе знали, куда вы пошли. И не поверят вашей правде и не пойдут за вами к тому, куда вы ведете, скажут, что брехал все Сашко: и бог есть, и черт есть, а поп Пантелей — заместитель их на земле, его и слушать надо.
Но вот что-то забелело и двинулось от кладбищенских ворот вниз по тропинке. А может, померещилось Сашку?
— Не промахнись, хлопчик, идет проклятое, — выдохнула в лицо Сашку Мотря.
Сашко крепче сжал карабин.
Саженными шагами шло оно, огромное, белое, быстро спускаясь по тропинке, будто парубок спешил на свидание к дивчине своей на Олесину поляну. Но, приблизясь к валунам-братьям, привидение остановилось, тревожно закачалось и замерло. Может, и оно знало о комсомольской засаде, да отважилось своей кривдою побить Сашкову правду? Ой, не отступит Сашко перед чертом, как не отступил он под дулами ружей беляков, не тому учили его добрые люди.
— Стой! — крикнул Сашко не своим голосом. — Стой, стрелять буду!
Охнул в ночи карабин.
Привидение качнулось и рухнуло наземь.
Сашко, отбросив карабин, выскочил из-за валунов. В несколько прыжков он оказался у бьющегося тела, обернутого в белые простыни. Рядом валялись деревянные ходули. Сашко нагнулся и с силой отдернул белый холст. Показалась голова привидения. Сашко узнал Василя. Сопя, Василь поднялся с земли, освобождая ноги от холстины.
— Испугался, думал в меня стрелять будешь, — глухо сказал он Сашку.
А Сашко молчал. Так и стояли они друг перед другом: один высокий и тонкий, другой рыхлый, ссутулившийся.
— Гад ты, Василь! — наконец выговорил Сашко чужим для Василя голосом. — Собирай свою комедь, в село пойдем.
Подошла Мотря с карабином.
И пошли они втроем вниз по тропинке к селу. Впереди сурово молчавший Сашко, а за ним робко поспешавший Василь, неся в руках свою «комедь»: холстины с ходулями. Сзади шла Мотря.
Засмеяли Василя на селе. На люди теперь не показывался, Сидел в хате с отцом, «жития» читал.
А село тревожилось, радовалось. Из губкома бумагу прислали: Ленин землю дал! Декретом ее называли. Слышали мужики о декрете и раньше, еще когда под Деникиным да Махно были, слышали, ждали да все не верилось, сбудется ли? Вот и сбылось! Выходили в поля, рассматривали землю, прикрываясь от солнца ладонью. Землица ты наша, кормилица! И слово-то «Ленин» какое ласковое!
Собрались мужики на сходку. Комитетчики в центре. Пришли и почетные селяне, стояли насупившись, только бороды от волнения подрагивали.
— Кому поручим верховодить нарезкой? — спросил у собравшихся председатель Совета Семен Рачко, мужик длинный и худой, восторженно оглядывая всех. Был Семен безземельным и безлошадным. С четырнадцати лет мыкался по хуторам. Сегодня он пришел на сход, как на праздник — в расшитой рубахе.
— Сашка Грачика! — крикнул кто-то.
— Грачика, Грачика! — поддержали мужики. — Он парень бедовый!
Сашко, смущенный, стоял перед сходом.
— На том и порешили, Сашка Грачика изберем, — заключил Семен Рачко. — Сумел добре воевать за землю, сумеет и нарезать ее людям.
— Выходи на круг, слово тебе даем, Грачик!
Расступились мужики. Ждали, что скажет суровый парень в звездастом шлеме.
«Чего говорить-то им, мужикам?» — оробевши, думал Сашко. Не приходилось ему еще речи держать. И вдруг среди радостных мужицких лиц он увидел красную морду Данилы Борща, который нагло протиснулся вперед и буравил Сашка своим черным оком, второе-то бельмом поросло. Мать Сашка померла на свекольнике у Данилы. Доконал ее голодом и работой. Свиньи Данилины ели лучше, чем наймички. Придя с войны, не застал Сашко матери.
Не отрывая бешеных глаз от красной морды Данилы, Сашко крикнул:
— Все правильно, мужицкой стала земля! Нам ее пестовать теперь, чтобы не было в селах убогих и сирых, батраков и наймичек. Не дадут в обиду Советы трудовой люд.
Шаркнул глазом по мужицким лицам Данила и сник за чужими спинами.
Так ленинский Декрет о земле положил начало новой жизни белозирцев. Трудное это было начало.
Из уезда приехал землемер Карл Шварц, сухонький, белобрысый немец, очень спокойный, очень рассудительный.
— Ви не спешите, Гратшик, нарезка есть очень серьезный работа, — говорил он Сашку.
Рачко и Сашко согласились со Шварцем, что начать нужно с перемера всей земли.
Мужики ходили за землемером, иногда мешали ему, торопили:
— Не тяни, Карла, пахать скоро.
Лето подходило к концу. Дождей не было. Потемнела стерня на полях. Пылили дороги. Только вечера приносили прохладу. Темное небо освежало землю, увлажняло побуревшие травы. Неугомонно стрекотали кузнечики.
Сашку в эти последние дни лета не
хватало времени. Или дни стали короче? Он мотался то в уезд, то с Карлом на поля, то успокаивал мужиков, споривших о ближних и дальних участках, где шла нарезка земли. Его слушали, ему верили.
«Для мира порадей!» — говорили мужики.
И он «радел» до боли в суставах, до тошноты от голода — ел-то раз в день затерку, которую варила ему крестная.
— Изведешься, парень, вон глазищи одни остались, — качала головой она, глядя, как крестник уминает похлебку.
Вечерами, через огороды к нему прокрадывалась Галинка.
— Сокол ты мой! — шептала она.
В эти минуты он забывал обо всем. И было ему блаженно и покойно подле любимой.
А когда она уходила, Сашко находил узелок, в котором лежали пироги и яйца, сваренные вкрутую, или чистая рубашка.
Он всегда краснел, находя узелок, хоть в хате никого и не было.
Однажды поздно к нему пришел Василь.
— Здорово, Сашко! — Голос у Василя был неуверенный, робкий.
— Пришел? — спросил у него Сашко.
— Ага, — ответил тот.
— Ну, проходи в хату, хахаль кладбищенский.
Тот молча сел. Закурил.
— Не серчай на меня, Сашко. Сдуру совета послушался. Попугай, говорят, комбедовца. Осрамишь — от девки отвадишь. Может, из села уйдет комиссар бесштанный… А с Галинкой что, насильно мил не будешь… Да и не любила она меня. — И он глубоко вздохнул.
Опять молчали долго. Жаль было Василя, но Сашко рта не раскрыл. Разве жалостью поможешь? А Галинку он не отдаст никому на свете.
— Все дома сижу бате в угоду и слушаю его сладкие слова о боге и злые о людях, — опять заговорил Василь. — Тошно мне от них.
— Иди к людям. Это ведь от лени в кельи уходили. Не будь ледащим.
— Возьмете? — радостно вздрогнул Василь.
Сашко промолчал.
— Подойди завтра к Рачко. Ему писарь нужен.
— А старый Бойко?
В вопросе Василя была тревога и любопытство. Что скажет Сашко о будущем тесте?
— Бойко не будет людям помощник, не ту сторону тянет…
На прощанье пожали друг другу руки, крепко, по-мужски.
Об этом дне у Сашко осталось в памяти лишь то, что ноги его вдруг стали ватными, он как-то осел, а над ним сверкало огненное око Данилы Борща…
В полдник к Совету прибежали хлопчики с криком, что Данила «не допускает раздела» и кидается на всех с топором.
Рачко и Грачик поспешили на место. Шум был на меже свекольника Данилы. Он метался перед мужиками и кричал не своим голосом:
— Выди, зарублю!
— Ты что, власти не подчиняешься? — крикнул ему Рачко.
— Плевал я на вашу власть!
Мужики оробели. Никто не решался подойти к беснующемуся Даниле. Зарубит.
Сашко отделился от толпы и пошел прямо на Борща. «Не пресечешь его сейчас — другим повадку дашь», — думал он.
— Брось топор, кикимора, — спокойно приказал ему Сашко.
Данила растерялся и отступил на несколько шагов.
Мужики загалдели и двинулись за Сашком. Под ногами захрустела свекольная ботва.
От этого хруста Данилу как-то передернуло. Уставившись в лицо Сашка, он с храпом просипел:
— У, гад жилистый, звездастая башка! — и, неожиданно пригнувшись, метнул топор.
Несколько рук скрутили Данилу.
В глазах Сашка поплыло свекольное поле, запрыгали растерянные лица мужиков, и все это скрылось в лазоревых волнах. И он рухнул на Данилову межу, перечеркнув ее своим телом.
Очнулся он в своей хате. Окно было завешано, чтоб солнце глаза не слепило. День-то на дворе, наверное. Что же он дрыхнет?
Галинка встрепенулась:
— Лежи, милый, лежи, фельдшер велел.
Ее лицо, похудевшее, с синевой под глазами, радостно наклонилось над ним.
— Ты здесь? — спросил он, с трудом размыкая губы.
— Здесь, Сашко.
— Ну и добре.
И он опять закрывает глаза и уже ровно дышит, не выпуская ее пальцев из своей ослабевшей руки.
Сашко поправлялся быстро. И, пробуждаясь, всякий раз искал глазами Галинку: здесь ли она?
— Здесь ты? — улыбаясь, спрашивал он.
— Здесь, Сашко, здесь. Где же мне быть?
Он не знал, что она ушла от отца, ушла без ничего. Шла по улице к Сашковой хате, опустив руки, с непокорно поднятой головой. Шла к любимому. Кто ей помешает?! Ой, когда же такое было, люди, чтобы дочь состоятельных родителей без благословения или покаяния уходила из родного дома с неопущенной головой?! Никогда такого не было!
Галинка стала тихой, покорной. Улетели из глаз бесинки. Заботливо смотрела она на Сашка и просилась:
— Боюсь я здесь за тебя. Уйдем из села, Сашко. Свет велик, найдем свое счастье среди людей.
Он прижимал ее к себе, к своему казачьему сердцу.
— Счастья не ищут, Галинка, оно добывается. Здесь нам коммунию строить!
В эту необычную осень — время распашки освобожденной земли — они с Сашком посадили в своем сиротском дворе грушу — тоненькую веточку со слабым корешком.
Но самый неожиданный и замечательный в этой истории конец.
Сашко Грачик — живой человек: он мой дед. И Галинка, только не молодая уже, а старенькая и добрая — бабушка Ганя.
Я в детстве подходил к ней и тянул за юбку.
— Ты зачем стала старая? — спрашивал я, подозрительно глядя на нее.
— Сама не знаю, внучек, — смеялась бабушка и целовала меня почему-то в глаз.
— Ты скоро будешь опять молодой? — продолжал я.
— Нет, Мишенька, молодыми бывают только раз, — вздыхала бабушка и вновь принималась хлопотать у печи.
А я не верил ей. Конечно же, они с дедом опять будут молодыми и опять будут спускаться к Днепру, чтобы поглядеть на украденные им с неба звезды.
МИХАИЛ КЛИМЕНКО

Родился на станции Промышленной, Кемеровской области. В 1955 году закончил в городе Новосибирске техническую школу и в качестве электромонтажника высоковольтных подстанций был направлен на работу в Челябинск.
Печатался в сборнике «Фантастика-67» издательства «Молодая гвардия» и в журнале «Урал».
УСАДЬБА БЕЗУМНОГО КАМЕНОТЕСА
Фантастический рассказ
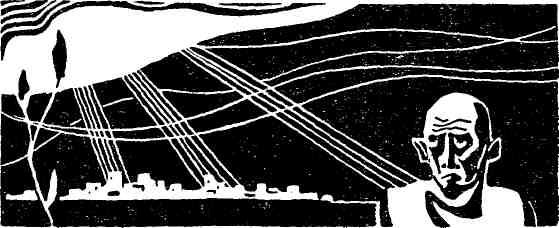
Шестого июля в ясный полдень над столицей небольшого государства исподволь померкло солнце.
Радио и телевидение, прервав свои программные передачи, предоставили эфир видным ученым, которые, поминутно сменяя друг друга, выступали сначала с комментариями, а потом с краткими успокоительными речами. Они объяснили, что прямо на их государство падает громадное небесное тело, очевидно, способное потрясти земной шар.
Над сумеречной столицей повеял холодный ветер. Зашумели, как закричали друг другу, деревья. Нарастала паника. Люди не знали, куда деться, что предпринять перед лицом небесной катастрофы.
Но вот на какое-то время над городом засветилось — робким бледным светом, как после грозы. Солнце показалось. Люди легко вздохнули: может, неведомое небесное тело пролетит мимо? Но опять, унося свет, солнце стало скрываться, и это ввергло людей в еще большую безнадежность.
В напряженном ожидании прошел час…
На южный край столицы и на прилегающие предместья опустилось, легко легло нечто площадью в несколько сотен квадратных километров. Очевидно, падая к земле, это нечто переворачивалось и то закрывало собой солнце, то открывало его. Это была тонкая, совершенно непрозрачная серая пленка, с каким-то едва уловимым лиловатым свечением изнутри.
Сразу же население города высыпало на улицы. Все были взволнованы и возбуждены. С замиранием сердца ждали, что с минуты на минуту появятся неизвестные существа с другой планеты. Каждый хотел увидеть их сам, любой ценой, сегодня.
Но никто не появлялся и не появился.
Касаясь крыш, высоких деревьев и труб, пленка накрыла собой треть города; далее, прогибаясь над рекой, уходила за горизонт, опускаясь на вершины парковых деревьев, повторяя склоны холмов и невысоких гор. В городе она кое-где краем свисала над тротуарами, и смельчаки могли разглядывать ее вблизи и трогать руками, покуда правительство не издало срочный декрет, запрещающий подходить к пленке слишком близко, тем более, трогать ее руками, или чем бы то ни было прикасаться к ней. Полицейские и войсковые подразделения оцепили обширную площадь по периметру пленки, дабы предотвратить возможность вредных ее воздействий. Население южной окраины срочно было эвакуировано в центральную и северную части города.
К вечеру уже весь мир знал о появлении на земле неведомого небесного тела.
Международная ассоциация космологических исследований впредь до того, как будет установлена природа пленки, предложила всем государствам неукоснительно соблюдать условия Соглашения о международном состоянии во время появления на Земле аппаратов внеземного происхождения или инопланетных существ. В эти периоды жизни безоговорочно запрещались конфликтные, в частности, военные действия во всех точках земного шара, всяческие акты, идущие во вред другим государствам, эксперименты и испытания, изменяющие природу литосферы, атмосферы и гидросферы.
А пока планета сосредоточивала внимание на поразительном явлении, научные силы небольшого капиталистического государства пытались установить природу и назначение серо-лилового листа. Не нарушая целостности пленки, ученые произвели необходимейшие измерения: ее толщины, прозрачности, упругости, площади и излучения.
Ночь, пришедшая неожиданно, для многих была сумбурной: и долгой и краткой. Гражданский аэропорт и военные аэродромы едва успевали принимать трансконтинентальные лайнеры. Как только возбужденные, внутренне взвинченные ученые, малоизвестные и с мировым именем, покидали борт, самолеты сразу же улетали в какой-нибудь ближайший аэропорт, чтоб дать возможность приземлиться другим.
Утром столица, неожиданная Мекка познаний, напоминала вавилонское столпотворение. Ученые, государственные деятели и военные, представители прессы, радио, телевидения, кинодеятели и кинолюбители переполнили город.
Был созван и начал работать всемирный симпозиум. Начались скрупулезные исследования и обобщение добытых фактов.
На следующий день, оттесняя изыскания чистых ученых, особое пристрастие и чрезвычайную причастность к неведомому телу проявили военные. В полдень в столицу прибыла незваная эскадрилья военного научно-экспериментального института, посланная государством-тиранозавром, и исследования приобрели скрытый, односторонний характер.
Этот второй день был ветреным и облачным. Во второй половине дня на горизонте, как грибы, взошли темные тучи (дождливый период давно уже должен был наступить). Перед началом грозы ветер посвежел. Матовый, серо-лиловый лист, как странное озеро, перекатывался ленивыми волнами; иногда поддуваемый снизу, высоко вздымался, будто упавший с корабля парус, вот-вот, казалось, готовый улететь с ветром. Стоявшие по границе всего листа полицейские и солдаты слышали слабый звенящий шум — шум морской раковины. Этот окутывающий, всесторонний шум, как прибой в ненастье, усыплял полицейских и солдат, едва не валил их с ног.
Чтобы пленку не унесло сильным ветром, к ее краям приклеили куски ткани с бечевками, и тысячи этих бечевок привязали к деревьям и камням. На возвышенные места с вертолетов набросили легкие проводники и заземлили их — тем самым предотвращался прямой удар молнии.
Гроза началась в четвертом часу, к счастью, слабая; почти без грома, но затяжная, не слабеющая от обильных излияний. Солдаты вошли под пленку и, зевая и переговариваясь, пережидали ненастье. Неожиданно благодушному их безделью пришел конец. Затянувшийся густой дождь бесчисленными потоками разливался по обширной непроницаемой пленке, достигавшей более шестисот квадратных километров. Вода стекала в многочисленные ее впадины, повторявшие неровности ландшафта. По всей поверхности пленки образовались большие и малые озера, вода ручьями переливалась из одного в другое и только в нескольких местах стекала на землю бурными потоками и низвергалась водопадами из случайных желобов. Больше всего ученых теперь беспокоили водяные провисы над низинами и среди крон обширного парка, национальной гордости республики. Вековые парковые деревья едва удерживали своими вершинами непомерной тяжести провисы. Все чаще слышался циклопический треск: где-то вершина гиганта не выдерживала напора и разламывалась, и тут же склонялись поверженными деревьями менее сильные.
Но не сохранение парка беспокоило сейчас людей, провисы угрожали целостности пленки.
Она, очевидно, была очень прочной, но едва ли могла выдержать критические скопления воды в десятки и сотни тонн. Пленку необходимо было спасти от разрывов. Солдат вооружили т-образными шестами, обитыми бархатом. Возглавляемые офицерами, солдаты группами бродили под этим обширным пологом и шестами приподнимали провисы, а потом в ослепительных лучах прожекторов перемещали их к краю пленки. Чаще же их усилия заканчивались тем, что несколько групп из разных мест сгоняли воду в одно, и это вдруг образовавшееся большое вымя, раскачиваясь над головой, готово было лопнуть и сотнями тонн воды обрушиться на людей. Многие провисы они не могли сдвинуть, до многих не доставали своими шестами. Бессмысленность затеи была совершенно очевидной, но работа упорно продолжалась. Появились танки военного научно-экспериментального института с гелиевыми шарами. Танки подъезжали под провис, с лебедки травили трос, и шары, стремясь вверх, иногда смещали воду в нужном направлении. Но шары не могли приподнять больше тонны воды и чаще скатывались по вымени. Пока продолжалась эта «игра в бильярд», военные из экспериментального института, «чтоб предотвратить огромные, непоправимые разрывы пленки», решили проколоть самый большой провис и тем дать возможность воде стечь через отверстие на землю. Хотя большинство ученых было против этого безосновательного акта, их протест и приглашение к разумному бездействию были жестко отклонены как неразумные: начинался период дождей, и военные не желали медлить.
В девятом часу вечера, когда дождь уже перестал лить и косые лучи заходящего солнца ворвались сбоку под лист и пронзили сумрак на краю леса, военные экспериментаторы привезли в низину, под «критическое вымя», грозно нависшее сверху, специальное бронебойное орудие. В 8 часов 32 минуты лаборанты на виду у многочисленных гражданских созерцателей выстрелили из бронебойной зенитки по безнадежному провису. Снаряд, к глубокому удивлению военных экспертов, срикошетил и поразил двух штатских, стоявших в приличном отдалении от лаборантов. Убитых немедленно на бронетранспортере увезли в город.
Пока специалисты обсуждали следующий необходимый шаг, пленка на шестой или седьмой минуте после выстрела бронебойки, до того неподвижная, стала содрогаться, приходя в судорожное, хаотическое движение. Исполинское скопление воды высоко над низиной угрожающе раскачивалось, вздымаясь и оседая все ниже. Там, на дрожащей поверхности пленки, вода из всех других провисов воссоединялась в единую тысячетонную массу и, поддерживаемая скрытым усилием, раскачивалась все сильнее, как некий гидравлический маятник. Он сокрушал вековые парковые деревья, как стальной шар сокрушает натыканные в пластилин спички. Хруст, ритмичный и бесконечный, как прибой, треск деревьев обратил людей в бегство. И только один артиллерист, забыв о себе, открыл по взбешенному вымени скоропалительную стрельбу из пресловутого бронебойного орудия. Лаборант-артиллерист просто не мог допустить мысли, что военное, специальное бронебойное орудие не в силах пробить эту пленку. Но серии выстрелов завершались всего лишь рядами ослепительных снарядных пятен. Маятник, величиной с океанский пароход, круша все, укатился в недосягаемую для прожекторов даль, вернулся по склону холма и вмял в землю брошенные автомобили, бронетранспортеры, несколько танков и бронебойное орудие.
Семнадцать дней, до 24 июля, вода, как ртутный шар, единой массой перекатывалась в пределах всего листа. По косвенному заключению, лес под пленкой был уничтожен, превращен в прах; южная окраина столицы, накрытая листом при его падении, разрушена, превращена в песок и пыль. Жертв больше не было. За несколько дней город совершенно опустел, его обитатели были переселены в провинции.
Все человечество размышляло о природе пленки: напряженно изыскивались способы воздействия на нее или способы избавления от нее. Заброшенными оказались насущные земные дела. Столкнувшись с недугом забвения настоятельных нужд, во многих странах прибегали к насильственному отвращению способных людей от бесконечных размышлений о неземном феномене, дабы заботы их отягощались еще и мыслями о сегодняшнем хлебе и детях…
Встревожившее всех событие произошло 29 июля. Во второй половине дня пленка снялась и с тысячетонным провисом, вновь пришедшим в движение, полетела низко над землей на юго-запад. За шесть дней, преследуемая летательными аппаратами слежения, обогнула земной шар и опустилась точно на прежнее место со спокойным водяным озером на поверхности.
К середине августа было решено: шестью дирижаблями попытаться поднять пленку и улететь с нею в пустыню Сахару и там оставить, прикрепив к специальному бетонному эллипсу. В худшем случае попытаться утопить ее в океане, закутав в специальную полимерную сеть, обрамленную балластными ядрами.
Безоблачным утром 16 сентября четыре фала, к которым сходилось множество тонких тросов, были прикреплены к четырем радиоуправляемым атомным дирижаблям.
Один за другим дирижабли стали набирать высоту: пленка должна была перемещаться в вертикальной плоскости, как увлекаемое древком знамя, чтобы предотвратить действие восходящих и нисходящих потоков воздуха. Когда получился перепад высоты, озеро рекой стекло с пленки. Дирижабли поднимались медленно, хотя собственный вес пленки, по подсчетам, равнялся только восьми-девяти тоннам. Впрочем, это никого не удивляло: было установлено, что она обладает — любой ее, даже небольшой, край — чрезвычайно выразительным сопротивлением к перемещению. Создавалось такое впечатление, что даже с незначительным увеличением скорости масса почти невесомого до перемещения края пленки начинала неограниченно возрастать.
К одиннадцати часам верхний дирижабль достиг пятикилометровой высоты. Все четыре аппарата едва удерживали пленку против слабого ветра. Подцепился пятый, пилотируемый дирижабль, с которого осуществлялось управление другими, и вся армада взяла курс на Сахару.
Этот парус молчаливо, как мираж в осеннем небе, едва плыл над землей. Люди безмолвно, облегченно вздыхая, провожали его к горизонту.
Когда вся система сместилась к скалистым вершинам гор, пленка своим нижним краем вдруг как-то непривычно быстро стала подниматься вверх. Пилотируемый дирижабль сбросил фал и, конусом разбрасывая водяной балласт, устремился вверх, улетая прочь. Было совершенно очевидно, что пленку поднимают отнюдь не восходящие потоки воздуха. Лист складывался вдвое, как крылья невообразимой бабочки. Четыре радиоуправляемых дирижабля по аварийному сигналу, как идущие ко дну корабли, уже падали вниз, чтобы увлечь за собой пленку и дать возможность спастись пилотам пятого. Но движения пленки были стремительны и четки как движения хищника, Бабочка сомкнула крылья и превратилась в веер. Все дирижабли оказались замкнутыми между ее сложенными крыльями. Недолго было видно, как в разных местах опускаются посреди веера несколько вздутий.
В полдень пленка, сложенная вдвое, возвратилась к городу, опустилась и легла на прежнее место, закрыв собою южную, разрушенную окраину столицы и все то пространство, где недавно шумел вековой парк, превращенный теперь в пустыню. Начались поиски дирижаблей. Коварный лист был тщательно осмотрен снизу и на вертолетах сверху, но дирижаблей не обнаружили. Очевидно, аппараты были заслоены: пленка сложилась вдвое и как бы растянулась до прежних размеров. Ее края пытались расщепить многими хитроумными способами, чтоб между слоями пробраться и спасти пилотов! Но ни одна виртуозная манипуляция успехом не завершилась. И кто бы полез между слоями?
Ветер беспорядочными волнами то прокатывался под пленкой, вздымая ее, то налетал на нее порывами сверху, как на безбрежное злаковое поле, прижимая ее волнистыми впадинами к земле. Куда исчезли аппараты и люди? Где и как их искать?
Стало другим отношение людей к этому непонятному, упавшему на Землю небесному телу. И этому были причины: люди не находили подступов к общению, взаимодействию с ним. Невозможно было установить, насколько разумны и последовательны побуждения и действия пленки. Никто не мог сказать, есть ли и насколько фундаментальна ее враждебность самой природе человеческого существа. Несомненной только была ее своеобычная целенаправленность, имеющая не ясные людям основания и назначения, отвечающие потребностям ее природы.
Тревога вселилась в людские души: не избежать в будущем встреч с космическими объектами, взаимопонимание с которыми будет исключено. И нужно будет, может, на горчайшем опыте, изыскивать все новые, каждый раз новые пути к преодолению одностороннего видения без взаимопонимания.
Прошло свыше трех лет с тех пор, как пленка своим появлением взбудоражила весь мир.
К месту, устрашающему, как лепрозорий, каменотес Херонимо Кинтана пришел в полдень. Этот престарелый человек за три года столько наслушался об этой твердой плесени и о скором насильственном переселении в Бразилию, что, наконец, решил сам посмотреть, из-за чего же хотят выселить тысячи людей. Кинтана вовсе не хотел уезжать в эту постылую Бразилию.
Он прошел через северную часть бывшей столицы. Город был заброшен. Безлюден, как в ненастье безлюдно кладбище. Но не пустынен: собаки, дикие коты и какие-то мелкие звери по временам пересекали раскаленные асфальты улиц, буйно заросшие по щелям и вдоль заброшенных многоэтажных домов. Херонимо пересек покинутую столицу и оказался на южной окраине, превращенной в песок и пыль. Он подошел к уходившей за горизонт плесени, остановился, словно на берегу лилового озера. Осторожно сжал колеблемый ветром край пленки в ладонях, как сжимают ткань в мануфактурной лавке: не мнется ли, и отошел в сторону. Он больше двух часов просидел поблизости на большом потрескавшемся камне. Перед вечером, съев то, что было в кармане, отправился домой.
Он вернулся в заброшенную столицу через три дня в полночь. Город заселили собаки, кошки и, возможно, какие-то дикие животные. От Херонимо шарахались или наискось пересекали путь темные комки, оборачиваясь, вперяли в него зеленеющие глазницы. Каменотес шел посредине улицы с фонарем, покрытым светонепроницаемым абажуром, чтобы не привлечь к себе внимания наблюдателей со сторожевых башен.
— Приятель, что ищешь? — окликнул его кто-то из темноты.
Кинтана остановился.
Кто-то невидимый подошел, нетерпеливо переспросил:
— Что вы ищете тут?
— А вы, вы кто такой?
— Я комендант этого города.
— А я каменотес Херонимо Кинтана.
— Каменотес. Я так и знал! Вы не собираетесь взрывать здесь что-нибудь?
— Да, собираюсь, но у меня нет пока водородной бомбы. Я потерял весь аппетит и сон: не знаю, где ее купить.
— Говорят, из-под полы можно купить в Гонконге. Но это далеко. Я вам напишу рекомендательное письмо к приятелю в Гондурас. Это ближе Гонконга, но вам, Херонимо, придется переплатить долларов тридцать. И не гонконгских! У вас есть сбережения?
— Конечно, есть. Но они не в долларах.
— Надо будет все свои сбережения перевести в доллары, потому что — зарубите себе, Херонимо Кинтана, это на носу! — вы решили купить водородную бомбу, а не макет виллы или этот их портативный, самонадувающийся спасательный пояс! И не электрическую грелку, черт вас побери! Ну, ладно. Сколько у вас наберется?
— Долларов пятнадцать.
— Мало. Я не ручаюсь, что когда ее вам привезут, вы не найдете на ней ни одного пятнышка ржавчины или у ней не будет погнут стабилизатор.
— Я могу собрать еще сорок долларов, если продать стол, кровать и некоторые другие вещи. Мне не нужно, чтоб этот стабилизатор был погнут.
— Вам нужно рискнуть.
— Вы правы, комендант.
— Посоветовались ли вы, наконец, с женой?
— Она не против. Наоборот, это она мне всегда говорит, что нам необходимо купить. Вы знаете, что без водородной бомбы дом все-таки не полная чаша. Кроме того, у меня подрастают дети. И скоро они потребуют, чтоб я купил им хотя бы по небольшой бомбочке. Дети есть дети.
— Да, да, Кинтана… А мои дети еще малы, и я хочу их научить управлять государством, пока еще не поздно. Как только я узнал, что столицу забросили, я приехал сюда. Не может же столица быть без присмотра.
— Вы правы, комендант. У вас добрая душа.
Незнакомец довольно долго молчал, потом сказал:
— Душа у меня действительно добрая, иначе бы один я тут жить не стал. Если бы моя жена согласилась здесь жить, я бы привез ее сюда вместе с детьми, всю ораву! Пусть бы дети вволю побегали по просторной квартире. А жене одной пыли хватило бы вытирать на целый день: семь комнат — не шутка! Но я бы сходил за ними на улицу, за этими олухами, и заставил бы их помогать матери. Как вы думаете, дети смогли бы привыкнуть к диким котам и собакам?
— Не знаю, — сказал Херонимо. — Смотря какие дети.
— Обыкновенные.
— Дети могут привыкнуть к чему угодно. Вы о них так говорите, будто не видели их лет десять.
— У меня их нет. И не было. Жены тоже не было. Дайте и мне закурить. Черт побери! Я не представился. Даниэль Триссино, профессия: ищу самого себя. Слушайте, вы не знаете, почему мне не везет? Конечно, не знаете! Это самая глубокая тайна, о которой мне когда-либо приходилось думать.
Херонимо протянул Даниэлю Триссино сигарету, зажег спичку. Он увидел, что мужчина чисто выбрит, сухопар.
— Три дня назад вы тут шлялись, — безразлично сказал Триссино. — Я видел. Что вы придумали?
— Вы, наверно, знаете, что на эту плесень в любую минуту могут бросить водородную бомбу. То есть, если она начнет выкидывать штучки. Вы знаете какие.
— Вот как!
— А нас будто бы на больших льготах будут переселять в Бразилию. Говорят, переселение уже началось. По-моему, нас просто продадут за проценты для заселения пампас и амазонских джунглей, говорят так. Вы знаете, могут сбросить даже четыре водородные бомбы, если потребуется. Но я уверен, это ерунда. Они с ней ничего не сделают. Я говорю об этой плесени. Если они сбросят бомбы, она всем нам покажет, почем жабьи лапки. Я им говорил, но каменотеса не хотят слушать. Им интересно посмотреть, что получится!
— Вы знаете, почему они с ней не могут справиться?
— Они слишком торопятся, вот почему!
— Откуда вы это знаете? — насторожился Триссино.
— Это из всего видно! И мне нужно успеть, пока нас не отвезли в порт и не погрузили. Я все сделаю сам. Мне в Бразилии нечего делать!
— Сеньор Кинтана, я приглашаю вас на чашку кофе. Здесь недалеко… О, вы подходящий человек, и вы не пожалеете. Вот увидите.
Херонимо согласился. Незнакомец поднял ведро с водой, и они пошли к центру города, фонарем освещая дорогу.
Они поднялись на третий этаж роскошного четырехэтажного дома. Триссино какой-то железкой сбил крюк, державший дверь изнутри, с ведром вошел в прихожую, щелкнул выключателем. Прошел в распахнутые двери и зажег люстры в других обширных комнатах. Все окна были зашторены плотными старыми гардинами. Неубранность и пыль царили повсюду.
— В городе есть электричество? — спросил Херонимо.
— Нет. Есть только в одной части этого дома и больше нигде. Мне немало пришлось полазить, пока я наткнулся на эту благодать. Электричество идет сюда по какому-то заброшенному кабелю. Компания с меня шкуру сдерет, если узнает, какой я расточитель.
Триссино включил электрическую плиту и поставил вскипятить воду, чтобы заварить кофе.
— Могу ли я на вас положиться? — спросил он Херонимо.
— Если вы затеяли грязное дело, то не надо.
— Мне нужен сообщник. Лучше сказать, верный товарищ в неуголовном деле.
— Ну, если так…
Триссино поднялся со скрипучего кресла и, чуть улыбаясь, подошел к кровати с высокой постелью, неаккуратно убранной, какой-то излишне пухлой. Он снизу, глубоко подсунув руки, приподнял и оттеснил постель к стене. Затем уперся в нее головой, а руками ловко снял с матраца большой лиловато-серый прямоугольник, состоявший из множества листов, распадавшихся по краям. Херонимо заметил, что на матраце, блестя чистым металлом, лежал какой-то многорычажный прибор, занимая полкровати. Он напоминал расплющенного краба. Триссино на вытянутых руках поднес кипу и положил на стол.
— Вы догадались? — улыбнулся он. Улыбка его была не из приятных.
— Вы это нарезали от плесени?
— Здесь уже 700 листов! Я работал над этим больше двух лет.
— Как вы ухитрились? Я слыхал, они ни одного кусочка не могли оторвать.
— Вон теми ножницами, — он кивнул на «краба». — А они действительно торопятся. С плесенью же нужно обращаться ласково, как с женщиной. И не торопиться! Эти ножницы сделаны по моему чертежу. Пришлось же мне поломать голову!
— Но это, наверное, открытие! Вам могут присвоить академическое звание.
— Открытие не это… Я подсчитал, сколько можно нарезать таких листов из всей пленки. Не меньше 35 миллионов! — Он пошел на кухню. — Но их можно делать меньше по объему, и это не пойдет во вред качеству.
Он вышел из кухни с мешком, сшитым из одного листа, с эллипсообразным обручем у раструба.
— Это страшное изделие, — спокойно сказал Триссино. — Мешки я шью специальными нитками. Работа дьявольски трудная. По полчаса сижу над двумя отверстиями. Когда я с горем пополам сшил первый, я захотел испытать его на прочность, ведь я же собирался их продавать! И вот посмотрите. Подержите мешок, но будьте осторожны.
— Триссино, что вы затеваете?
— Да не бойтесь вы! Снежок! Снежок! А, бездельник!
Комендант ушел в какие-то другие комнаты. Херонимо услышал стук падающей мебели. И тотчас же мимо него пронесся пушистый, белый кот и скрылся в противоположных комнатах. Триссино выбежал за ним следом.
— А, старый хитрец! Разрази меня парламент, он первый главарь в этом кошачьем сброде. Он все понимает, подлец. Трубочист! Где же этот волокита? Трубочист! Эти лодыри и бабники хотят, чтоб я их кормил. Ну пусть же лучше они станут…
Он ушел в боковую комнату, закрыв за собой дверь. Минут через пять вернулся с черным котом на руках.
— Теперь, Кинтана, крепче держите мешок за обруч.
Херонимо приподнял мешок повыше. Триссино взял кота за все четыре лапы, спиной свесив его над раструбом мешка. Кот мяукнул. Триссино разжал пальцы и поднял руки вверх. Кот полетел в мешок. Херонимо сразу же почувствовал, как мешок стал тяжелеть.
— Теперь слушайте.
Херонимо склонился над раструбом, заглядывая в пустоту. До него несколько секунд, все ослабевая, доносилось безнадежное мяуканье, будто кот мяукал, куда-то убегая. Одновременно мешок становился все легче и легче.
Триссино взял и положил мешок на стол, на кипу листов. Он похлопал по нижней части мешка, по средней, доходя легкими ударами до раструба, до лежащего на боку обруча.
— Кота нет, — развел он руками.
— Где же он? — пораженный спросил Кинтана.
— Если бы я знал.
— Вы убили его. Вы изверг, что ли? Могли бы вместо кота бросить башмак. Тут немало хламу. Комендант, выверните мешок.
— Ни в коем случае!!
— Выверните мешок.
— И не подумаю. Однажды я это уже сделал… Когда я сшил первый такой мешок и стал складывать в него свои лучшие вещи, которые надо было прихватить в дорогу, я почувствовал, что он будто и не наполняется. Я ничего не мог понять и сунул в него руку — вещей там не было! В мешке внизу не было стен и не было дна, не говоря уже о моих лучших вещах. Однако с внешней стороны никаких дыр в мешке тоже не было. Я стал его выворачивать, держа за раструб.
И чем больше выворачивал, тем труднее мне было это делать. Но я разозлился и непременно хотел вернуть свои вещи. И тут с мешка понесло, понесло красной глиняной пылью и ветром. Я ничего не мог понять, бросил мешок на стол и выбежал на улицу с засыпанными глазами. Я бродил по городу всю ночь, думал, но ничего не мог понять и придумать. Когда утром я поднялся на второй этаж того дома и открыл дверь квартиры, мне под ноги обрушилась волна сухой глины и песка. По всем комнатам в открытые двери надуло метровые барханы. Мешок лежал на столе, источая ветер и глиняный дым. Теперь этот дом до половины засыпан красной пылью. Стекла в окнах выдавило, пожалуй, там где-то разразилась буря. Красная пыль все течет и течет из окон, засыпая дом.
— Откуда эта пыль?
— Я же говорю: я наполовину вывернул мешок.
— Но откуда она взялась?
Триссино пожал плечами, задумался, потом продолжал:
— Надо бы пойти и отрезать два больших куска. Сшить два больших мешка. Взять один с собой и прыгнуть в другой мешок, который надо караулить, чтоб кто-нибудь не сложил его вдвое. Человек, который прыгнет туда, посмотрит, что там такое, все разузнает, а потом там спрыгнет в мешок, который он свернутым взял с собой. Может быть, он опять окажется здесь?
— Не кончили бы вы плохо. Как вы не боитесь спать на этих листах? — спросил Кинтана.
— Это же только заготовки! А, признаться, я привык. Вначале я ведь не знал, что за мешки получатся. Я думал, что неплохо заживу, открыв лавку по продаже этих мешков, материал ведь тонкий и прочный. А когда увидел, что в этих мешках все исчезает, меня едва не хватил удар: кто захочет купить мешок, в котором бесследно пропадают вещи! Я хандрил около месяца. К той поре я нарезал уже около полтысячи листов. Но как-то однажды меня осенило: ведь мешки в каждом доме могут служить вместо мусоропровода! Прошу внимания! Лучшая в мире помойная яма! Вся грязь, все нечистоты проваливаются бесследно! Если вы хотите надежно спрятать труп — купите мешок Даниэля Триссино! Беда только в том, что такой мешок быстро не перенесешь, начинаешь нести, и он сразу становится тяжелым, как сейф, но от того, что в него бросают, он не тяжелеет. Один у меня так и висит у обеденного стола, другой у кровати, бросаю в него окурки. Мешки по дорогой цене можно продавать заводам, которым некуда девать вредные отбросы. Или применить их для военных целей.
Они пошли на кухню и выпили крепкого кофе.
Во время продолжительной беседы Херонимо Кинтана всячески предостерегал Триссино от слишком неосторожных, может быть, опасных действий. В ответ на это Триссино разразился категорическим, непоколебимым заключением:
— Зато я буду богат! Мне надоели бананы! — он грубым, привычным движением руки смахнул банановые кожурки в мешок, висевший тут же. — Но не вздумайте, дон Херонимо, затеять свое дело с этими мешками. Вам спуску я не дам.
— Я не собираюсь вас выдавать, сеньор. Но я не хочу переселяться в Бразилию.
— При чем здесь Бразилия! Мы будем богаты и сможем жить в Европе!
— Все мои друзья тоже хотели бы избавиться от этой плесени. Они тоже не хотят в Бразилию.
— О, все надоели с этой Бразилией!
Даниэль Триссино вытащил из-под матраца свои хитроумные, блестящие ножницы, положил на прежнее место листы и надел шляпу.
— За ночь, — сердито сказал он, — мне удается отрезать только один лист. Адски медленная работа. Без помощника очень трудно. Вот сошью мешок, похожий на луковицу, тогда посмотрим! — угрожающе сказал он. — Если вам надоело нищенство — приходите. Мы с вами здорово поработаем. Видите: у меня все пальцы в мозолях.
Они вышли во двор.
— Желаю вам удачи, — сказал Триссино, — и будьте благоразумны. Даже если у вас заплетаются ноги, не пинайте себя.
— Я никогда не пинал себя, — ответил Херонимо и пошел своей дорогой, к южной окраине города.
На одной из полуразрушенных улиц он нашел притихший грузовик: как и было условлено, Мануэль ждал его.
— Я бы уже десять раз уехал, сеньор! — возмутился шофер, парень лет двадцати.
— Мануэль, за нервотрепку я тебе тоже заплачу.
— Неизвестно, сколько стоит нервотрепка.
— Не дороже, чем бензин, когда он горит.
— А, — неопределенно махнул Мануэль рукой. — Куда мы поедем?
— По этой плесени.
— А если она порвется под груженым грузовиком? За это я платить не собираюсь, сеньор, так и знайте. И черт знает, сколько она стоит!
— Мануэль, может, ты мне скажешь, сколько стоит бог или земной шар? Сколько стоит! Сколько стоит! Ты переставил глушитель?
— Да, переставил.
— Тогда в дорогу.
Грузовик в удобном месте въехал на пленку и с потушенными фарами покатил по пути, указываемому Херонимо, прочь от мяукающего города, к середине пленки. Километрах в четырех от края он остановился.
— Здесь самое удобное место, — сказал Херонимо. — Тут под этой плесенью течет река. Дождевая вода будет стекать по провису прямо над рекой.
— Где разгружаться?
— Здесь.
Херонимо взобрался в кузов, сбросил лопаты, подал Мануэлю большую канистру, наполненную водой, и три четырехметровых деревца — три осокоря с аккуратно, вместе с землей, выкопанными корнями. Шофер поднял кузов. Несколько тонн земли высыпалось на пленку.
— Это плодородная земля, — сказал Херонимо. — Я уверен, деревья и трава не зачахнут.
Они разгребли лопатами землю ровным слоем и треугольником высадили в нее три деревца — три осокоря. Потом Херонимо высеял семена диких трав, чтоб трава выросла и не давала дождю размывать землю, а ветру сдувать пыль.
— Когда деревья врастут в эту землю, — сказал Херонимо, — корни деревьев постепенно пробьют плесень и дойдут до настоящей земли. Ради жизни, Мануэль, корни пробьют все, даже дикий камень. На эту плесень нужно насыпать побольше земли и высадить много деревьев и посеять травы. Деревья своими корнями прикуют это наваждение к земле, и оно будет лежать на том месте, где оно хочет, пока его не засыплет вовсе и оно не скроется навсегда с глаз. А когда здесь будет лес, они, может, не захотят бросать сюда водородную бомбу.
— Поторапливайтесь, сеньор Кинтана! Ведь вы знаете, у меня дома беспокоятся дети и жена.
— Дети спят, Мануэль. Эту плесень хотели отвезти в Сахару, стреляли в нее, хотели утопить. Ничего не получается! Пусть уж она лежит в земле на том месте, где ей нравится. А мы будем жить там, где мы хотим. У себя дома. И пока нас всех не отправили в Бразилию, нам надо позаботиться о себе.
Они полили землю и благополучно укатили.
В следующий раз они приехали на грузовике только на четвертую ночь. Они привезли еще два кузова земли и несколько разных деревьев, чтобы здесь была роща и деревьям легче было вместе расти. Эту клумбу они обложили привезенными камнями и обсыпали щебнем, чтоб дождь не размыл ее и корни не остались бы без земли.
Херонимо Кинтана не знал, что дозорные давно их обнаружили со сторожевых башен: днем земля и деревья посреди серого однообразия были хорошо видны, а по ночам за ними наблюдали в инфракрасные телескопы, следили за каждым их движением. Из высоких сфер сразу же пришел приказ не трогать их: было интересно посмотреть, как отнесется пленка к этим двум добровольцам, развернувшим на ней какие-то странные работы.
Херонимо и Мануэль вернулись в заброшенный город перед утром. Херонимо решил заехать к самозваному коменданту. Он надеялся найти его где-нибудь на краю города, в темноте ночи режущего пленку, как осоку на берегу озера. Но нигде не нашел. Они поехали к его дому.
На долгий стук им не ответили. Херонимо железкой открыл внутренний крючок. Они вошли, зажгли свет. Херонимо сразу же бросилось в глаза, что кровати с ее пухлой постелью нет. Нигде не было ни мешков, ни листов, ни блистательных ножниц, ни их владельца.
— Сеньор Кинтана! — крикнул Мануэль из дальней комнаты.
— Что там?! — Кинтана бросился к нему. — Что такое, мальчик?
— Глядите: воздушный шар. Он висел под потолком, в том углу у двери.
— Это же мешок! — закричал Херонимо. — Луковицеобразный мешок! Комендант собирался его шить.
Мешок был похож на старинный воздушный шар около четырех метров в диаметре.
— Когда я вошел, он поплыл за мной, я свернул — и он свернул. Летает над головой. Он управляемый. Что с вами, сеньор Кинтана?
Бледный Херонимо поперхнулся и не нашел, что сказать. А мешок подлетал то к одному из них, то к другому, останавливаясь на миг у каждого над головой.
— Пляска смерти… — неопределенно сказал Херонимо. — Не подпускай его! Открой окна! То! — крикнул он и сам бросился открывать другое.
— Сеньор Кинтана, на улице вся плесень плывет сюда!
— Выбегай, Мануэль! Да в дверь же! Держи над собой руки!
Они выбежали вон из комнаты. Херонимо в приоткрытую дверь наблюдал за мешком. Только минут через пять мешок отлетел от двери. Минуя горящую люстру, он медленно-медленно подплыл к одному из открытых окон, полных утреннего света, и, увлекая за собой старые гардины, вылетел на улицу. Но тут же влетел в другое открытое окно и вылетел в первое… И так продолжалось без конца.
Они вышли на улицу.
Край пленки, который только недавно был далеко, на разрушенной южной окраине, колыхался теперь у самого дома, свисая с соседних крыш, розовея в утреннем свете. Пустынный город в этот час был небывало тих. Коты и собаки спали. Только птичьи голоса тонкими пунктирами прочерчивали тишину.
Мешок все еще летал из окна в окно. Мануэль ушел к своему грузовику и больше не напоминал о срочном отъезде, а Херонимо продолжал наблюдать за однообразным кружением мешка. Эта странная пляска продолжалась около двух часов. Шофер уже давно отъехал далеко в сторону и теперь копался в моторе, негромко постукивая.
И вот, наконец, мешок медленно полетел от окон. Он летел легко и невесомо — легко парил. Тем временем пленка, волнообразно колеблясь своим обширным краем, приближалась к нему. Вот будто по воле легкого ветра она к нему прикоснулась, один миг — и мешок воссоединился с пленкой, не оставив и следа.
Кинтана постоял еще несколько минут и бормоча побрел устало к грузовику. Где же теперь Даниэль Триссино, думал он, если луковицеобразный мешок поглотил его вместе с кроватью, спящего в своей пухлой постели?
Предчувствие чего-то грозного, какой-то всемирной катастрофы теперь постоянно, днем и ночью, преследовало Херонимо Кинтана, каменотеса, заболевшего заботой о других людях.
Дней через десять к нему в лачугу пришли какие-то инспекторы и долго, очень вежливо беседовали с ним, предупреждая о громадном риске, которому он подвергает себя. В этот же день Херонимо отправился к своим деревьям. До города его сопровождала толпа репортеров и любопытствующих. На протяжении всего пути
фотоаппараты и кинокамеры то и дело устремляли на него свои бесстрастные взоры, запоминая каждый его шаг.
Но из всех сопровождавших его только два репортера вступили вслед за ним на пленку и последовали к затерянному земляному острову. А потом нескоро их догнал еще третий — оператор с камерой, треногой и садовой лейкой, чуть наполненной водой.
Одинокий остров вызывающе зеленел вдали, как мираж среди лиловатой пустыни. На протяжении всего пути репортеры интервьюировали новоявленного земледельца, тут же фиксируя каждое его слово и жест всеми существующими репортерскими средствами, — и как он подходит к своему острову, «острову жизни», и как он волнуется за свое детище, рукой закрываясь от солнца.
Все деревья росли крепкими и свежими. Выросла трава — почти сплошь покрыла землю, скрепляя ее в единое целое.
Пока на острове все было прекрасно.
Оператор, принесший в лейке воды на донышке, попросил Херонимо Кинтана полить траву.
Кинтана вылил воду, и его запечатлели на пленку. Затем его попросили прополоть небольшой участок…
— А ну, уходите отсюда! Ну!!
Кинтана швырнул в репортеров лейку.
— Хватит тут толочься! — с негодованием сказал он. — Вам лишь бы снять с меня кино, чтобы другие только смотрели, и все! Перестаньте строчить! А теперь — слушайте! Для купли плодородного грунта и деревьев мне нужны деньги. Я свои истратил. С завтрашнего дня за мной будут шляться только те, кто будет в моем списке. Те, которые внесут деньги на перевозку земли и воды. И не вздумайте ловчить, сеньоры! Привет вашим хозяевам. Уходите!
Херонимо со дня на день ждал всеобщего несчастья. И потому торопился. Растрачивая полученные деньги, он привез еще триста тонн плодородной земли и высадил немало быстрорастущих деревьев и кустарников, а затем посредине рощи построил хижину, потому что все больше и больше времени ему приходилось проводить здесь.
Вполне понятно, что в затее стареющего каменотеса люди видели много безрассудного и смешного. Исстари известно, что в зрелом возрасте человеку подобает заниматься практическими и солидными делами. Все это так, но в глубине души каждого соотечественника теплилось и восхищение добровольным садовником, решившим растить деревья на неземном теле, восхищение, смешанное, однако, с чувством жалости.
Херонимо Кинтана не знал, что о нем было немало толков и в очень высоких сферах, что его после долгих дискуссий решили оставить в покое, дабы он продолжал это свое дело. Он даже не подозревал, что является «важным психологическим фактором и элементом всемирно важного стихийного эксперимента»! В высоких сферах решили подождать, пока не уничтожать пленку водородными взрывами.
Каменотес стал на грани битвы миров.
Проходили годы, и предчувствие всеобщей беды сменилось у Херонимо Кинтана ожиданием добровольной помощи от других людей. Он был уверен, что с ним рядом поселится, или будет приходить к нему еще кто-нибудь — ведь не один он в стране! — и они вместе станут заботиться о земляном острове, о траве и деревьях, пока вся плесень не скроется под землей и зеленой растительностью. Он был уверен, что к нему придут и он будет помогать им.
Но удивительное дело!
Как только среди людей где-нибудь заходит разговор о переселении в Бразилию и о пленке, готовой в любой миг прийти в движение и натворить бед, сейчас же вспоминают о Херонимо Кинтана, и тревога и беспокойство за будущее как бы растворяются. Кто-то из них сказал, что пока безумный каменотес работает в своей усадьбе, у нас легко на душе. С человеком, который это сказал, люди не спорят, потому что он странным образом прав. Но многие задают себе вопрос: безумен ли тот, кто сторожит наш сон? И не безумство ли равнодушно наблюдать за его работой? Иногда они говорят об этом и даже спорят.
Оглавление
ИВАН УХАНОВ
МАМА, НЕ УМИРАЙ…
ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ
АДОЛЬФ ШУШАРИН
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПОНТОН
ВАЛЕРИЙ МЕНЬШИКОВ
ЛЕСНИК
НИКОЛАЙ ПЕРЕЖОГИН
ЧЕРНОТАЛОВСКИЙ СЛЕД
ВЛАДИМИР КУРБАТОВ
ДЕДОВА ГРУША
МИХАИЛ КЛИМЕНКО
УСАДЬБА БЕЗУМНОГО КАМЕНОТЕСА
Фантастический рассказ